Вячеслав Белоусов Охота за призраком
Охота за призраком
Так это начиналось
Южная ночь черна и коротка.
Вот и эта — в кромешной тьме, на небе ни луны, ни звёздочки, только успела зловещая тень с двуствольным ружьём в лодке укрыться в зарослях чакана, а всплески летнего рассвета уже зацвели по воде, летящей в быстром течении стремительного речного потока.
Но тот, кто поспешил, успел. Приговоренные им к смерти только-только осторожно подбирались к засаде. Судьба и расчёт опытного ловца вели их в руки возмездия.
Словно призрак бударка с двумя силуэтами проскользнула в туманной дымке мимо стерегущего её охотника и развернулась против течения и едва приметных вешек, качающихся на плаву. Здесь, в этом заветном месте, начиналась одна из засекреченных снастей с гирляндой страшных стальных крючьев, предназначенных единственной рыбе на Каспии, получившей в народе особую привилегию именоваться «царской». В эти места не имел права доступа никто, обитающий поблизости на воде и суше. Но эти двое нарушили неписаный запрет, давно и сознательно они пренебрегли грозным табу, установленным однажды для всех и навсегда. И сейчас, не подозревающих ничего, их ждала расплата.
— Ликсеич, может, перекурим? Сколько плутали, пока нашли. Опять они их переставили. Руки ломит от вёсел, — кошачьим мягким голосом шепнула одна тень другой.
— Ты что, дурило, поспешать надо! — сердито одёрнул щуплого товарища названный Ликсеичем.
Был он громоздким, неуклюжим, словно медведь, занимал чуть ли не половину бударки.
— Глянь, рассвет нас нагоняет, — «медведь» вытянул лапу, — дай, там у тебя темляк был.
Не дождавшись, он оторвал голову от днища лодки, где что-то отыскивал и поднял её на товарища. Но тот, не видя его, выпучив глаза с раскрытым от ужаса ртом, уставился, тыча рукой ему за спину.
— Погодь, погодь! Что это? — шептали его трясущиеся губы.
Больше ничего произнести он не успел. Сзади «медведя» прогремел выстрел, оглушительный в мёртвой тишине ночи. Заряд обжёг плечо, распорол брезентовую куртку на щуплом и ворвался в грудную клетку любителя покурить, опрокинув его на спину.
«Медведь» сделал попытку развернуться в сторону звука и огня, но второй заряд с нечеловеческой силой ударил его в грудь. Ни испуга, ни боли он не почувствовал.
Спустя секунды один за другим те, что мгновения назад что-то замышляли, думали, разговаривали, тяжёлым грузом сорвались за борт лодки, выброшенные жёсткими цепкими клещами рук, и понеслись под водой ко дну навстречу вечности и тьме…
Возвращение в «Эдем»[1]
Ковшов бережно помог Зининой выбраться из нутра вертолёта, спуститься по лестнице в густую по колено зелень, отмахивая россыпь мошек и комаров. Стройная блондинка, совсем замолодившись в мужской компании, на последней ступеньке задержалась, будто задумалась, выбирая, кому отдать предпочтение из протянутых летунами рук и, блеснув изящными ножками, прыгнула в объятия Ковшова. Лётчики сделали вид или не заметили его ошалелую неловкость, Зинина же, благополучно перекочевав на землю, уже прикуривала папироску у сияющего белозубой улыбкой молоденького старлея адъютанта Даленко. Комиссар с прокурором области ещё висели в воздухе, они прибывали вторым вертолётом.
— Ковшов, ты никак грехов-то здесь понаоставлял? — крикнула Зинина, пересиливая шум не остановившихся ещё крыльев — винтов. — Не дают они тебе покоя, домой зовут.
— Друзей здесь оставил, Зоя Михайловна, — засмеялся Ковшов. — Они и держат.
Он всмотрелся в большую группу людей, поджидавших невдалеке вертолёты, разглядел среди милицейских и гражданских пиджаков радостно махавшего ему рукой долговязого Дынина. Там же синел мундир Боброва, мелькал Зябликов. Они прибыли к месту происшествия по воде значительно раньше городских, опередив военные «вертушки». Несколько катеров величаво покачивалось на волнах у берега острова.
Не успев приземлиться, высокое начальство, намаявшееся в жарких вертолётах и оглохшее от шума винтов, приняло демократическое решение: оперативную «пятиминутку» по поводу местного «чепе» провести тут же, на обласканной растительностью привлекательной лужайке. Комиссар отдал уже команду своим подчинённым, забегал-засуетился так и не прекращающий улыбаться его любезный адъютант, однако начинающуюся суматоху решительно прервал Каримов. Подполковник, заметно поседевший, высокий и поджарый, выделяющийся офицерской выправкой, лихо щёлкнул каблуками сапог, откозырял и широким жестом пригласил Даленко и Игорушкина пожаловать за ним в неприметную за высоким кустарником и чаканом избу, служившую приютом деревенских рыбаков. Как ни заманчива была зелёная и свежая поляна, но чистота и уют избы, вместительные её хоромы, крепкий деревянный стол с длинными рядами скамеек, а главное, прохлада и отсутствие мошкары оказались соблазнительней.
Пока размещался штаб, шли приготовления, Ковшов успел обняться с Ильей, пожать руки Боброву, пообщаться со многими знакомыми, поздороваться, переговорить. Из того, что ему было уже известно до полёта, из услышанных здесь суждений и реплик с достаточной очевидностью вырисовывалась картина ночного происшествия.
Неизвестные, вероятнее всего, не более двух-трёх человек, предприняли попытку похитить улов рыбаков, чем неоднократно занимались ранее, проверяя колхозные оханы[2] и ставные сети. Хозяева, отчаявшись, организовали охрану, на которую и наткнулись воры. В конфликтной ситуации один получил огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным. Его тело угодило в невод рыболовецкого звена сегодняшним днём во время первого замёта.
Вторая версия выглядела несколько иначе, но от первой отличалась единственно тем, что будто бы за сети рыбаков схлестнулись две шайки жуликов. В разборке стороны понесли потери. Одного из погибших поймали неводом. Ни жулики, ни охранники пока не установлены.
Начальник милиции тут же по получении сообщения проинформировал недавно назначенного в район первого секретаря райкома партии. Тот с ходу доложил Боронину в обком. «Сам» поднял на ноги областное начальство милиции и прокуратуры, что делал весьма редко, если ни в исключительных случаях. Заострил — путина набирает темпы, необходимо тщательно разобраться, найти виновных и обязательно пресечь любые попытки тормозить лов рыбы, надо оберечь рыбаков от всякого жулья и бандитов. Тем более, колхоз один из передовых рыбацких хозяйств, да и в области не из последних. Председатель колхоза — член обкома КПСС, ему следует оказать содействие.
Среди нашедшихся тут же комментаторов злые языки судачили, — новый и молодой секретарь райкома, хотя и был только назначен на должность, сумел враз привлечь к себе внимание «самого». Даже худую весть сообразил использовать с выгодой. Если убитый — жулик, а скорее всего, так оно и есть, секретарь уже замолвил словечко в защиту колхозного добра и члена обкома.
Ковшов помнил председателя колхоза. Он попытался отыскать его среди лиц, рассаживающихся на скамьях за большим столом. К своему удивлению, заметил рядом с Каримовым второго секретаря райкома партии, отвечающего за сельское хозяйство, ну и, естественно, за рыбодобычу в районе, но найти того, кого искал, не смог. Не таков был председатель колхоза, чтобы оказаться незамеченным, к скромным и застенчивым он никогда не относился, следовательно, его здесь попросту не было.
Между тем Зинина, устроившись поближе к прокурору области и разложив на столе блокноты, уже подавала знаки поторапливаться, кивая на занятое ему рядом с собой место. Ковшов отсалютовал вежливым отказом, он предпочёл соседство с местными оперативниками, которых представлял вездесущий Квашнин и невозмутимый аксакал районной уголовки майор Камиев. Опытный народ, они засели на вторые ряды, подальше от начальства.
Игорушкин, хмуро оглядывая рассаживающуюся и галдящую публику, кивал едва заметно знакомым, занятное любопытство мелькнуло у него, когда среди милицейских мундиров он остановился на Ковшове.
Даленко попытался поднять Каримова для доклада, но прокурор остановил его коротким жестом, расслабил чёрный галстук, жёстко стягивающий воротник белоснежной рубашки на его крепкой шее, и ещё раз оглядел сидящих за столом. Китель сковывал генералу его могучее тело, он повёл плечами, словно желая высвободиться. Зал был мал, а аудитории не так много, чтобы этот откровенный жест скованного гиганта остался незамеченным для всех. Слабонервные прижали головы в предчувствии треска рвущейся ткани кителя, но услышали глухой раздражённый рык прокурора:
— Я думаю, Маркел Тарасович начнёт, — тяжёло глядя исподлобья, выдавил из себя Игорушкин, — а начальник милиции дополнит при надобности. А, Маркел Тарасович?
И Боброва мгновенно подбросило вверх. Ковшову почему-то стало его жаль. Он, извинившись, потеснил впередисидящего соседа, выложил на стол фотоаппарат, вручённый ему в поездку криминалистом, но стол оказался совершенно пустым, даже Зинина невесть когда успела спрятать с его поверхности свои яркие блокнотики и застыла, поедая глазами прокурора области. Ковшов автоматически торопливо убрал фотоаппарат со стола на колени и легонько ткнул Квашнина:
— Где твои-то? Что-то никого из уголовки не вижу.
— Пока начальство в Филях совет держать будет, мои отпашут и отсеются, — с улыбкой шепнул ему капитан.
— Ну-ну. Посмотрим, что соберут.
— К концу совещания все и соберутся. Хочешь поучаствовать и послушать?
— Если начальники отпустят, не откажусь.
— В новом качестве, Данила Павлович, нескольким господам служить приходиться?
— Служим мы все, Пётр Иванович, одному господину, его величеству закону. Учил, учил я тебя, капитан, но, видно, быстро мои уроки из твоей головы выветриваются.
Так, беззлобно переругиваясь, коротали они время, дожидаясь начала совещания.
Между тем нехорошая тишина нависла над столом.
Ковшов силился понять, что значит в поведении Игорушкина эта столь заметная напускная жёсткость. Неужели прокурор решил спустить гнев за совершённое убийство, упрёки и поучения, выслушанные и проглоченные от партийного бонзы, на своего подчинённого? И сделать это в присутствии милиционеров, младших и по должности, и по званию! Показать, что он может быть жестче и круче своего коллеги милицейского, карать страшнее, нежели сам прославившейся этим комиссар!
Игорушкин, дожидаясь доклада от собиравшегося с мыслями и нервами Боброва, снова заскользил пустыми глазами по сидящим за столом. Кто-то обронил карандаш или ручку, предмет гулко ударился об пол. Никто не пошевелился. Ковшов ждал, когда Игорушкин упрётся взглядом в него, дождался и на этот раз не опустил глаз.
Прокурор области отвернулся, распахнул пиджак, перевёл глаза на адъютанта комиссара, одиноко торчащего посреди избы — ни у порога, ни за столом руководителей, неожиданно хмыкнул ему, вроде как изобразив улыбку, и сказал другим тоном:
— Что же ты согласился, мил-человек, нас с комиссаром со свежего воздуха в этакую бодягу загнать?
И не услышав ответа от оцепеневшего старлея, скинул с себя китель и бросил ему на руки.
— Ну-ка, брат, повесь где-нибудь, чтобы совсем не вымокло имущество от пота. Жарко у тебя, прокурор, — обернулся он затем к Боброву. — Давай, докладывай, что с климатом в районе твориться стало.
Стремительное изменение поведения Игорушкина, столь неожиданная игра с кителем, в особенности употребление в разговоре ставшего знаменитым выражения «бодяга», произвели должное впечатление. Сидящие за столом обмякли, расплылись в улыбках, задвигались, затолкали друг друга локтями. Когда же прозвучало слово «климат» с нарочитой модуляцией и ударением в произношении, над столом прогулялся откровенный смешок. Одни смеялись, зная причину, другие за компанию, а некоторые на нервной почве. Многим, даже комиссару, была известна морская страсть Боброва. Он крякнул и улыбнулся, поддержав внезапную доброжелательность прокурора области, и совещание началось, а затем поехало-покатилось по налаженной колее в набивших оскомину наставлениях, фразах и традиционных «примочках», когда те, кто выше по должности, всегда умны и правы, а исполнители спотыкаются на ясной дороге…
Однако главное от этой встречи уже надолго, если не навсегда, засело в сознании многих присутствующих — это был жёсткий рык прокурора области, в котором как бы случайно блеснуло остриё и неотвратимость дамоклова меча…
Капитан милиции Квашнин, заскучавший сразу через десять — пятнадцать минут после начала совещания, пробовал разглядывать собравшихся за столом, гадая, кто здесь из какого ведомства и чем может быть полезен, скоро утратил интерес к этому занятию и перешёл на изучение снастей и сетей, во множественном количестве развешанных на стене избы и хранившихся по углам. Потом он слегка подремал, а очнувшись от докучливых мух, толкнул локтем в бок Ковшова, который сосредоточенно делал пометки в своём блокноте время от времени.
— Данила Павлович, останешься сегодня с нами или уедешь с Бобровым в район?
— Я, может быть, сразу в город махну, — оживился Ковшов. — Ты не допускаешь такого развития событий? Эта деревенская жизнь — во, где у меня засела!
И он жестом отметил до каких частей тела достала его прежняя жизнь в районе. Судя по отметине, крестьянская доля оказалась памятной.
— Что мне у вас оставаться? Собственный резерв вы мобилизуете, соберётесь, и, как говорится, — вперёд и с песней! Завтра убийцы предстанут перед судом.
— Нет, Данила Павлович, хоть ты и начальство теперь, но позволь тебя поправить, в этом ты глубоко ошибаешься, — в тон Ковшову балагурил Квашнин. — Убийство преднамеренное, пока верный «висяк», по горячим следам не раскрыто, работы полно. И козе понятно, что вашей обворожительной блондинке Зининой ночевать здесь не в кость. «Бодяга» её с собой на крыльях увезёт. А тебя оставит. Боюсь не на один день. Комаров покормишь с нами. Учить нас, деревню, кто будет?
— На вас и Зябликова хватит, — лениво отпарировал Ковшов, хотя ещё задолго до того, как садился в вертолёт, считал вполне реальным шанс засесть в районе.
Не просто так покататься на «вертушке» взял его с собой Игорушкин вместе с Зининой. Зинина по форме положена генералу для выездов; старший следователь, есть старший следователь: зафиксировать убийство, собрать доказательства, что на поверхности лежат, тут же принять решение, если преступник установлен. Это и называется среди милицейских оперативников: «раскрыть преступление по горячим следам», даже в статистике графа отчётности такая есть. А в этом случае, что сейчас обсуждался, до раскрытия преступления семь вёрст да всё лесом.
— Что, не по плечам ноша? — завершил безобидное ехидство Ковшов. — Слабо вам с Зябликовым убийцу отыскать? Без городских-то ни тпру ни ну!
— А к чему же такой колхоз? Что вас понагнали на наши шеи? Зазря кормить никого не будем, — по-хозяйски стоял на своём неугомонный капитан милиции. — Небось одной ухи сожрёте не один котел!
— А что, и уха будет? — в свою очередь, шутил Ковшов. — С этого и надо было начинать.
Квашнин прыснул в кулак, давясь смехом.
— Тихо ты, — толкнул его Ковшов, — соседей разбудишь.
Между тем Бобров давно уже закончил доклад о происшествии. Каримов дополнил прокурора района немногим.
По существу, милиция ещё не успела развернуть настоящую оперативную розыскную работу по выяснению обстоятельств причинения телесных повреждений утопленнику. Скудная информация имелась и о личности. Опознали его как жителя соседнего села. Давний браконьер, был судим за скуп рыбы осетровых пород каким-то из районных судов. Отбывал наказание в местах лишения свободы. Освободившись, в селе проживал без семьи, но здесь, близ тони, мелькал часто, особенно с начала путины. В рыбацких звеньях не работал. К колхозу отношения не имел. Родственники его не объявлялись, да и рано ещё.
Подняли Дынина, представляющего ведомство Югорова, начальника областного Бюро судебно-медицинских экспертиз. Илья, выступающий сразу в двух новых качествах и прежде всего как эксперт, стал поначалу мямлить, покрываясь испариной и краснея, но когда дошёл наконец до результатов поверхностного осмотра трупа, заговорил нормальным человеческим языком. Ковшов облегчённо вздохнул — не успел получить патологоанатом внушение от прокурора области, хотя по лицу заметно было: начинал тот морщиться, словно от зубной боли.
Совсем плохо стало, когда слово дали секретарю райкома, беспокойно ёрзающему в белых штанах на скамейке рядом с Каримовым и словно в конвульсиях тянущему вверх руку, как только заканчивал говорить очередной выступающий.
— Камиев, — толкнул локтем неугомонный Квашнин своего задремавшего соседа майора, — очнись, дружище. Проспишь самое важное, сейчас он нас высоким удоям начнёт учить. Что ночью-то делал?
— Выполнял особое поручение Маркела Тарасовича, — нехотя открыл глаза, потянулся, ломая рот в сладкой зевоте, майор.
— Что за поручение? — полюбопытствовал Ковшов.
— Небось Бобров глушитель потерял где-нибудь на пароме от своей «победы», а его искать заставил, — съехидничал Квашнин.
— Тебе всё шутки, Пётр Иванович, — надулся Камиев. — Тут дело серьёзное. Маркел Тарасович опять оленя потерял. Уже вторые сутки бьюсь, найти не могу. Неудобно даже. Спросит сегодня, а у меня нечем утешить. Уж очень он расстраивается.
— Какого оленя? — удивился Ковшов.
— Да с «победы» его. На капоте привинченный был, фирменный знак «Волги». Дорогая вещь. Главное, редкая. В единственном экземпляре. — Камиев от души переживал. — Мне раньше видеть приходилось. Чистым серебром отливается!
— Разыгрываете, черти! — Ковшов не знал, верить — не верить.
С опереточной ситуацией не вязалось хмурое лицо нелюбителя шуток майора.
— Какие тут розыгрыши, Данила Павлович, — насупился ещё сильнее Камиев. — Я обещал найти. У меня в кусте ещё ничего не пропадало.
На так называемые «кусты», для удобства в оперативно-розыскной работе, Каримов, любитель всяческих творческих усовершенствований, ещё в первое время своего прихода в райотдел милиции, условно разделил всю территорию района. На каждый такой «куст» назначил старшими оперативниками наиболее опытных сыщиков. Как правило, люди, сюда назначенные, со временем переезжали постоянно жить на новое место с семьями. А затем и совсем приживались. Работе это заметно помогало. Такой начальник имел информацию со своего «куста», и люди, узнавая его ближе, больше доверяли милиции. Это были те же участковые, но рангом и обязанностями на голову выше. У майора Камиева в состав «куста» входили территории больших многонаселённых четырёх сёл. Сплошь рыбаки. До Каспия рукой подать. Меньше часа на лодке. Село, где располагалась база Камиева, когда-то в давние годы даже было районным центром.
— Ты, майор, сначала убийцу найди, а потом об оленьих рогах думай, — беззлобно схохмил Квашнин. — Рога тебе твоя жена Светка примастрячит.
За обидные выходки Квашнин, хотя и старший по должности, получил тумак в бок от подчинённого и на этом, удовлетворённый, успокоился. А Камиев повернулся к Ковшову и зашептал тому на ухо:
— Я тут с толком прихрапнул, Данила Павлович, у меня уже кое-какие соображения по этому убийству сосредоточились. Я вам доложу после этой «пятиминутки».
— Надо будет обсудить, — не возражал Ковшов.
— На троих? — опять очухался Квашнин.
— Не без этого, — Ковшов переместился на скамье, давая понять, что с шутками закончил и серьёзно взглянул на замначальника районной милиции. — Вы после этого совещания не разбегайтесь, собери, Пётр Иванович, своих ребят. Камиев, Зябликов будут нужны. Дождитесь меня. Я руководство провожу, и сядем покумекаем вместе, что делать. Ну а если улечу, не взыщите.
Секретарь райкома бодро рапортовал о положении сельского хозяйства в районе; действительно, упомянул о надоях на фермах и урожае на полях, уделил достойное место в этом колхозу «Маяк Ильича» и его дружному производственному коллективу, но под хмурым взглядом прокурора области, когда собрался перебираться к процентам вылова частиковых рыб, голос его всё-таки подвёл, стал сдавать и совсем осип. Пока докладчик искал воды на столе, чтобы промочить истерзанное соцрапортом горло, присутствующие передохнули, а он неожиданно сел и больше уже, судя по всему, вставать не собирался. Вид у него был тоже, как у всех, утомлённый, но довольный от исполненного долга.
Каримов вытолкнул было выступать инспектора по охране рыбных запасов кудрявого Игралиева, но его инициативу осадил повелительным взглядом комиссар.
Пар был выпущен. Силы докладчиков иссякли. Игорушкин начал подводить черту.
Любил ли сам прокурор области такие совещания? Испытывал ли к ним симпатии комиссар милиции? По выражению их лиц разобраться Ковшову было трудно. Они были великие артисты в этом деле и, конечно, большие профессионалы. Во всей этой бутафории, скорее всего, они свято верили одному — придать разгон и уверенность в своих силах подчинённому контингенту может только кнут, который дан им в руки. Кнутом была почти полная и безграничная власть, выраженная только что обоими начальниками в грозных речах и репликах.
Совещание закончилось. Офицеры и гражданская публика стоя освободили выход прокурору области и комиссару милиции, сопровождаемым Бобровым и Каримовым. За ними заспешили остальные, торопясь к свежему воздуху и под яркое солнце, направляющееся уже к горизонту. Ковшов, подталкиваемый локтями недавних земляков, вывалился на волю. Огляделся, народ не расходился, кучкуясь по знакомым и по служебным интересам.
Игорушкин, распрощавшись с Даленко, которого Каримов и секретарь райкома заботливо повели к белым катеркам на воде, остывал от совещания, лениво, в своей манере беседуя с Бобровым. Тот по обыкновению что-то живо рассказывал, размахивая руками. Рядом грустила Зинина, едва справляясь с желанием скрыться с глаз начальства и выкурить папироску. Лётчики вертолётных экипажей поджидали невдалеке. Маячил поблизости от Боброва следователь Зябликов с папкой в руках, готовый рапортовать по первой команде шефа. Тут же грустил Дынин, уныло посматривая на грузовик с утопленником, поджидавшим его. Ковшов кивнул эксперту, мол, задержись, и направился к прокурору области.
Явно устав от лихого повествования Боброва, Игорушкин обрадовано обернулся к Ковшову, хмыкнул добродушно, развёл руками и сказал, будто продолжая недосказанное за столом:
— Ну что? Задача ясна? Тебе и придётся раскрывать. Как говорится, здесь, главное, по горячим следам…
«Следов-то как раз и никаких», — в меланхолии автоматически подумал про себя Данила, но промолчал.
— …Ты формируешь на месте оперативную бригаду. С комиссаром и начальником милиции я согласовал. Отбери нужных людей. Все в твоём распоряжении. Вот, Маркел Тарасович, тоже твой теперь помощник будет. Поменялись местами, — опять хмыкнул Игорушкин, — то ты у него, теперь он у тебя в подчинении. Временном, временном, не радуйся особо…
Он, довольный каламбуром-шуткой, хлопнул по плечу Боброва, потом наградил таким же хлопком Ковшова.
— Мне докладывать регулярно, по мере поступления новостей. Дело на контроле в обкоме партии, — прокурор области многозначительно окинул взглядом обоих своих подчинённых — и прокурора района, и прокурора следственного отдела.
Ни улыбки, ни намека шутить и улыбаться на его лице уже не было видно. Но паузу особенно затягивать не стал. Неожиданно перевёл разговор на другое:
— Тут, Маркел Тарасович перекусить предложил, ты как, присоединишься?
Зинина незаметно толкнула задумавшегося Ковшова — соглашайся!
— Спасибо за приглашение, Николай Петрович, — опустил глаза Ковшов, — я хотел с экспертом ещё раз переговорить, ему труп везти надо. Испорчу вам аппетит.
— Ну давай, занимайся, — одобрил Игорушкин, — полагаю, к концу недели картину прояснить удастся. Мне комиссар сообщил, что тут начальника районного кагэбэ сменили. Его фамилия, кажется, Царапкин. Да, старший лейтенант госбезопасности Царапкин. Ты его тоже привлекай по мере необходимости. Без оперативной работы в этом случае мало что сделаешь. В общем, мобилизуй все силы. А я с его руководством эти вопросы решу.
Ковшов не уловил смысла сказанного. При чём здесь Комитет госбезопасности и этот Царапкин, сменивший Усыкина? Убийство, конечно, не бытовое, но к компетенции известного ведомства никакого отношения оно явно не имело. Однако прокурор области не позволял себе произносить лишних и тем более ненужных слов, а эти он произнёс. И сделал это не один на один, а в присутствии Боброва. Следовательно, если не понял намёка, надо будет подумать ещё…
— Где базироваться собираешься?
— Пока не решил, Николай Петрович.
— Я смотрю, ты с ребятами из райотдела всё совещание просидел… Это хорошо, что их не забываешь и они тебя помнят.
Ковшов слушал и не узнавал Игорушкина. Это был не тот человек, который в двух шагах отсюда только что проводил «пятиминутку», обернувшуюся жёсткой, но набившей оскомину показухой. В нём не было и признаков того, что господствовало за столом в избе и гнётом придавливало душу. Захотелось почесать затылок: в театре короля спектакль играет свита, а здесь перед ним, похоже, театр абсурда — король сам играет весь спектакль. И где он сам? Настоящий? Здесь, в разговоре с ним? Или там, властвующий за столом?
— Веди, Маркел Тарасович, — отвернулся тем временем прокурор области от Ковшова, — Зоя Михайловна, не отставай. Нам ещё лететь назад. Оглох я от этих погремушек. Максим Иванович, присоединяйтесь к нам!
Прокурор махнул рукой командиру вертолёта:
— Перекусить нас приглашают, уверяют, что на пустой желудок лететь хуже.
Неизвестно с чего повеселевший, Квашнин уже подходил к Ковшову с несколькими парнями в гражданской одежде. Опытный взгляд Ковшова без труда высмотрел служивую выправку здоровяков из «уголовки». Камиева среди них не наблюдалось, но знакомые лица быстро восстанавливались в памяти.
— Я что тебе говорил, Данила Павлович? — издалека ухмылялся Квашнин. — Тоска по родным краям сильнее тепла городской постели?
— Да, «дым Отечества нам сладок и приятен», — потянул носом Ковшов.
Воздух откровенно портился на глазах, насыщаясь запахом горелого дурственно-сладкого навоза.
— Не обращайте внимания, — успокоил его Квашнин, — забылась уже местная профилактика насекомых? Это рыбаки за избой кучу по ветру запалили. От комаров верное средство.
— Да уж, шефу к ухе как раз, — пробурчал больше для себя Ковшов и посочувствовал Зининой, — думаю, он здесь особенно не задержится. И Бобру напомнит потом не раз.
А сам, увлекая за собой Дынина и остальных, начал подыскивать место посвежее, уходя с ветра.
— Совещаний устраивать не будем. По сегодняшнему дню здесь разберёмся. Понял, Пётр Иванович, а то день заканчивается у вас, я смотрю, быстрее, нежели в городе. — Ковшов упёрся в капитана требовательным глазом командира.
— И не забудь, Данила Павлович, — ехидно не удержался от привычки вставлять комментарии Квашнин, — свет отключают на деревне с заходом солнца, после работаем только при лучине, как Арина Родионовна. И потом: где же кружка, чтоб сердцу было веселей!
— Помню. И кружку подымем, — остановил велеречивого капитана Ковшов. — Сегодня каждый работает по индивидуальной программе. Надеюсь, Пётр Иванович, ты ребят озаботил?
— Не сумлевайся. Мои орлы знают, что искать.
— Ну, вот и хорошо. Сейчас отправим Илью. Ему с трупом в грузовике на пароме плыть, а там ещё пиликать до райцентра. Засветло, думаю, доберёшься, — Ковшов повернулся к Дынину. — Но завтра к обеду, эксперт, мне нужна полная информация о результатах вскрытия. Сделаешь?
— Результаты будущего анатомирования я, Данила Павлович, вам и сейчас готов предварительно сообщить. Новых сведений, полагаю, к обеду добыть не удастся. Специальные исследования понадобятся. Это не меньше двух-трёх дней в моих условиях.
— Что же ты молчишь? Выкладывай, в чём определился, — поторопил друга Ковшов.
— Начну с этого, — Дынин протянул Ковшову чёрный пакет, — посмотри, это я с утра, когда труп осматривали, фотографии сделал. Вполне достаточные для опознании личности. Я попросил местному фотографу отвезти, чтобы отпечатал. Мальчишки на лодке успели туда-сюда сгонять. И приятель не подвел, пока совещание проходило, все успел сделать. Думаю, лишним не будет.
— Да, ты просто чудо, Илья Артурович! — похвалил Квашнин, разглядывая вместе с Ковшовым чёрно-белые фотоснимки утопленника.
Фотографии были великолепными по качеству, не для слабонервных — по содержанию, ибо, что может быть безобразнее гримас смерти? Как ни старался, видно, фотограф при запечатлении физиономии покойника по возможности привести черты лица в соответствии с первоисточником — у судебно-медицинских экспертов это называется «реставрировать внешность», — результаты были плачевны. На Ковшова со сверкающего глянца листа смотрела ужасная маска смерти.
— Я, пожалуй, от ухи сегодня воздержусь, — только и мог прокомментировать разочарованный Квашнин и сплюнул.
Но несколько штук «портретов» забрал у Ковшова, оставил себе, сунув в планшет, остальные бережно раздал другим оперативникам. Понадобятся при опросе рыбаков и деревенских.
Ковшов продолжал изучать «портрет», что-то в лице убитого его заинтересовало. Нет, несомненно, оно было незнакомо. Что-то другое… Лицо было необычное. Не серое. Западало в память. Да, именно. Своими характерными особенностями лица покойник сразу бросался в глаза и повисал в памяти. Покойный был сух, как палка, и это отразилось на измождённом, повидавшем многое лице. Отвислый большой нос, наверное, малиновый при жизни и чёрный сейчас, дополнял впечатление. И три безобразные бородавки под левым глазом.
«Ну что же, — подумал Ковшов, — легче будет предъявлять для опознания. Вряд ли найти похожую неотразимость».
— Ранение почти сквозное. Наверное, заряд из самодельной картечи сечка. Мужики, если настоящие охотники, только на кабана с такой ходят, — стал перечислять Дынин. — Скорее всего, задето сердце, мужчина скончался сразу, не мучился. До того, как в воду попал. Он и понять ничего не успел. А картечь могла остаться в лодке. Так что, первое, Данила Павлович, ищите лодку, может, повезёт, и дробь найдёте. А пока вот чем могу порадовать.
И Илья протянул две крупные дробинки из свинцовой проволоки.
— На спине убитого в брезентовой куртке чудом зацепились.
— Так, Пётр Иванович, помечай, — приостановив Дынина, Ковшов развернулся к Квашнину. — Понял задачу?
Квашнин быстро, как невиданную драгоценность, принял от эксперта дробь.
— Второе, — продолжал Дынин, — выстрел произведён с близкого расстояния. Такая картечь до семидесяти метров наповал валит, а в данном случае стреляли метров с десяти — пятнадцати, не дальше. Вероятнее всего, стрелявший находился перед убитым лицом к лицу… Пока всё.
— И за это спасибо, друг, — хлопнул Дынина по плечу Квашнин, спрятал дробинки в синий коробок и, обмотав платком, положил в нагрудный карман.
— Ну, орлы, усекли? — обратился он к оперативникам. — Искать пропавшую лодку и любителей кабанов.
— У Гнилого лодки не было… — начал один.
— У Дятла бударка имелась. Гнилого последнее время с Дятлом видели. В этой дыре без лодки не обойтись.
— Кончай с аббревиатурой, — пресёк начавшуюся полемику Квашнин, — называйте фамилии, имена. Клички не всем известны, запутаемся!
— А у этой братвы только клички и известны, имена и фамилии их все давно забыли, — развел руками крепыш из гражданских.
— Матков, народ может забыть, а ты такого права не имеешь, — по-отцовски наставительно поправил крепыша Квашнин, — продолжай, Саша.
— Утопленник, при жизни носивший кличку Гнилой, отчаянный был браконьер, — помолчав, собрался с мыслями Матков, — только этим и жил. Был судим городским судом. Там попался, взяли с икрой. Нам приходил запрос, когда шло следствие, но связей он не раскрыл, так всё и затихло. Сел один, надолго. Кто-то из этих мест явно подельником у него был. Но не Дятел. Этот только-только браконьерничать начинал.
— А где наш гвардеец Игралиев? — вдруг спохватился Квашнин. — Большой спец по охране рыбных запасов. Или он только рапортовать о рекордах горазд, а как эту шпану ловить, так его след пропал.
— Его Каримов с собой на катере увёз, — протянул кто-то из гражданских.
— Даленко сейчас обслуживает, — съехидничал другой.
— Так. Ясно, — оборвал Квашнин. — Все вопросы в письменном виде.
Любимая поговорка капитана была известна оперативникам и всем работникам райотдела, вспоминал неунывающий замнач о ней, когда ему было невтерпёж или наступали на мозоли.
— Давай, Саша, развивай свою мысль о Дятле.
— Вот у того фамилия точно Дятлов. Но он больше на медведя похож. Здоровенный бугай. Как его Гнилой обработал, диву даюсь. Но с тех пор, как Гнилой из колонии возвратился, прибрал он Дятла к рукам. Неразлучны они стали. Этот щуплый, но, как гнида, проворный, а тот косолапит за ним с вёслами по селу. Браконьерством промышляли, но не попадались ни разу. Не знаю, может, Игралиев ловил их по мелким делишкам.
— С Дятловым успели поработать?
— Не найду пока. Последний раз его в селе видели в конце прошлой недели. Вместе с Гнилым. С вечера на воду собирались. После этого Дятлов пропал, а Гнилого в неводе колхозники выловили.
Квашнин удовлетворенно щёлкнул пальцами:
— Вот вам верная наколка! Вместе они были. Если Дятлова не найдём, жди, когда всплывёт.
— Сейчас вода тёплая, пора уже всплыть, — подал голос Дынин, внимательно слушавший разговор оперативников, — тем более, если человек грузного телосложения.
— Течением пронесло, — констатировал Квашнин, — готовь, Данила Павлович, ориентировку в районы. Вдруг там поймают или где сам выплывет.
— Это за мной, — пометил себе Ковшов в блокноте, — а вы, Пётр Иванович, всё же поищите среди живых. Может, в городе объявится. Всё бывает. Это верная ниточка.
— Всё бывает, и на стене один раз ружьё стреляет, — раздался знакомый голос, из-за спин появился Камиев.
— А вы где пропадайте, майор? — без злобы, но суховато встретил его Квашнин. — На вашем участке мы топчемся битые полчаса, а вы разгуливаете.
— Виноват, товарищ замначальника райотдела милиции, — (не думал дурачиться, но получилось именно так) вытянулся опоздавший. — Отсутствовал по той же причине. Убийство раскрывал. Я тут делился с Данилой Павловичем одним соображением насчёт этого. Так что версию, можно сказать, проверял.
— Проверил?
— Проверил, товарищ капитан.
— Докладывай прокурору отдела.
— Версия, кажется, подтверждается, Данила Павлович.
— Вот как! — не удержался от восторга Ковшов.
— Да, дурили Игралиева рыбачки. Объяснения, что тот с них собрал и доложил начальнику, враньё чистой воды. Мне тогда ещё они подозрительными показались, когда на совещании их огласили…
— Склонен ты, майор, к аналитическому мышлению, — вставил Квашнин, — особливо, когда спишь на совещаниях. Надо сообщить об этом Каримову, чтобы распространил твой положительный опыт.
— Не верилось мне, — продолжал, не обращая внимания на ехидство капитана, Камиев, — вот не верил, и всё тут! Чтобы охраняли наши колхозники свои оханы с частиком да сети с мелюзгой. Кому они нужны? А уж чтобы смертоубийством за это мстить! Нет у меня в кусту таких лихоимцев. Есть один-два, но за частик ружья не подымут на человека, какой бы мразью тот не оказался.
Ковшов не перебивал.
— Вот я и пошёл, немножко потряс своего источника. Кумекает он мне, сети и оханы, что под частик стояли, неизвестные за компанию распотрошили. Не нужен он им был. Ничего не взято из сетей. Их особенно не потревожили. Один вид создали. Кто-то снасти под красную рыбу потрошил. И нарвались, раз смертью наказание понесли. Значит, здорово надоели эти потрошители.
— Это кто же тебе выдал? — заинтересовался Квашнин.
— Секретная информация, товарищ капитан, — в отместку громко сострил Камиев, — источник не подлежит разглашению.
Но тут же тихо шепнул ему:
— Спиридоныч, из второго рыбацкого звена.
— Маркин?
— Он.
— Ему верить можно. Он мужик справедливый. Всё-таки, майор, ты знаешь к кому идти выведывать. Как я про него сразу не вспомнил? Поощрить его надо, сексота твоего.
— Не сексот он! — вырвалось громко у Камиева. — Человек честный. Он облеплен коллективными молчунами, как ракушками, и боится сказать, чтобы из компании не выпасть, вороной белой не прослыть. Они же враз бойкот такой устроят, что сживут со света. Из деревни убегать придётся. И кто заправляет, верховодит ими, никогда не узнать. Всё шито-крыто. Прямо царство молчунов. Но они не равнодушные, они — себе на уме.
— Кажется, от бригадира всё идёт. От Жигунова, — вслух размышлял Квашнин, — мужик тот лихой стал. Особенно, как на Дашке Деньговой женился. Правая рука председателя колхоза как-никак теперь. Тут же изменился. Вольности позволяет, в рукоприкладстве на работе не раз замечался. Председатель его покрывает, а он беспредельничает. Колхозники молчат, а рыбаки, те совсем народ особенный. Сможет, сам сдачу даст, а нет, зубы выплюнет и злость копит, но дожидается своего часу. Только пока Тихон такую силу несёт, с ним сладу нет. Кстати, Матков, я тебя специально с совещания отпустил. Что удалось выяснить? Где отсутствовали Деньгов с Жигуновым?
— Председатель колхоза с бригадиром как в четверг укатили в город на свадьбу к родне, так и не вернулись вроде.
— Как это понимать, твоё «вроде»?
— Да, Дарья, жена Тихона, она тут крутилась возле избы, на совещание всё хотела попасть, а наши ребята её не пустили. Она им говорит, что одна в колхозе за начальство осталась, поэтому обязаны пропустить, но те ни в какую. Я к ней с расспросами подъехал: где мужик? что так долго задержался? не ревнует? Она хвост прищемила и враз дела нашла, в правление умчалась. Я кое с кем потолковал, в правление съездил. Она там и не была, домой, значит, заторопилась. А мальчишки у дома проговорились, что видели Тихона ещё вчера вечером. Они играли затемно, он как-то, крадучись, прошёл. Один приехал. И скрывается. Странные дела. На Тихона не похоже. Он с гулянки с громом возвращается, всё село слушает его молодецкую поступь. А тут трезвый, да ещё прошмыгнул. Знал, что большое начальство на происшествие приехало, на совещание не пошёл, хотя за председателя он обычно остаётся, да ещё, выходит, Дашку послал вынюхивать, высматривать…
— Ну, ты, Александр, целый детектив нам тут выстроил, — не дождавшись пока Матков остановится, почесал затылок Квашнин. — Всё это одни домыслы, которые при проверке могут оказаться твоей разбушевавшейся фантазией. Но проверить тщательно надо. Займитесь этим.
— Только у меня, Матков, к вам просьба, — вставил Ковшов. — Постарайтесь информацию, что соберёте, мне к полудню доложить. Я собираюсь сам с Жигуновым побеседовать, если председатель колхоза так и не появится. Кстати, Пётр Иванович, я полагаю, причины их отсутствия не забыли выяснить через городских оперативников? Связались с ними?
— Данила Павлович, у меня по этому поводу к тебе разговор будет. Не возражаешь? Свадьбу проверим. Здесь ещё одна закавыка начинается. Надо обмозговать. Давай я ребят сосредоточу сейчас и отпущу. Сам неподалёку сбегаю по своим источникам, — Квашнин подмигнул Камиеву, — а вечером вас найду, и раскинем планшеты. Как? Вопросы в письменном виде? Время, чувствую, уходит.
— Время уходит, вы правы, — согласился Ковшов.
Его не смутила внезапная поспешность заместителя начальника милиции перервать разговор на, казалось бы, важной теме. Квашнин был человеком дела, последней прозвучала необычная информация о бригадире рыбаков, Тихоне Жигунове и его странном поведении, так как близился вечер, а с ним и ночь, оперативная работа требовала внимание именно к этой, «тихой» части суток.
Ковшов распрощался с Дыниным и, оставшись с Камиевым и Зябликовым, перешёл с ними к столику близ избы, где внимательно стал изучать собранные следователем прокуратуры первичные материалы происшествия.
Хотя бумаг было и немного, он перечитывал их долго, внимательно, порою делая записи в блокноте. Зябликов с Камиевым устали ждать и отошли к берегу, Зябликов постоянно курил, Камиев думал о чём-то своём, затаённом. Разговора между ними не получалось.
Ковшов подозвал к себе обоих.
— Павел Иванович, — обратился он к Зябликову, — я изучил протоколы допросов колхозных рыбаков, никто из них нигде не говорит о том, что неизвестные выдёргивали их ставные сети и оханы, поставленные на ночь. Вы эти вопросы им не задавали?
— Мне утром с Дыниным была поставлена задача осмотреть труп тот, без рода и племени…
— Фамилия его Фирюлин Аким, а кличка Гнилой, — подсказал Камиев, вытащил из кармана фотографию погибшего и, вглядываясь в неё, продолжал: — Освободился из мест лишения с полгода назад. Помню, зимой пришёл ко мне отмечаться. Вытянуть из него мало удалось: в городе взяли с рыбой и икрой осетровых пород. По делу проходил один. По приговору суда получил три года, так как привлекался уже второй раз. И первый срок отбывал в колонии полтора года. Как я его ни гонял, так работать никуда не устроился. Жил один у сожительницы, старше его лет на десять. Он освободился, а через месяц её похоронил. Баба работящая была, не в пример ему. Тогда и прилип к Гнилому Дятлов. Всё они крутились на воде. У Дятлова бударка ходкая была. Но в колхозе не работали. То ли чурались, то ли Тихон их не подпускал к своим, в бригаду рыбацкую. Подозревал я, браконьерствуют они, но не попадались. Однако на какие-то шиши жили. Некогда было вплотную ими заняться. Дел по кусту невпроворот, до такой шелупони руки не достают. Но для Тихона Фирюлин особый был орешек. Рассказывал мне источник, гонял Жигунов всех прилипал с тоней, шугал своих рыбаков так, что чуть башки не отрывал. Бывало, и кулаком доставалось некоторым. Не без этого, а Акима не трогал, обходил. Но и свободы особой не давал. Вроде между ними какая-то верёвочка вилась… Знали они друг друга хорошо, но на людях держались чужаками. Хотя и вместе их никогда не видели. А председатель колхоза, Полиэфт Кондратьевич…
— Как ты сказал? — не удержался Зябликов, заинтересовавшийся услышанным именем.
— Полиэфт Кондратьевич Деньгов, — с расстановкой повторил майор. — Председатель колхоза этой весной перед ловом, как созывал общее собрание рыбаков, мне прямо задачу поставил: всех посторонних с тоней гнать, свои — не свои, чтобы и духу не было. Я тогда ему про Жигунова намекнул, мол, Тихон некоторым сам потакает, Фирюлин с Дятловым там у него ошиваются… Он при всех Тихону всыпал, тот и слова не сказал, всё проглотил, а только особенного рвения не проявил. И после этого оба там часто шастали.
— Интересно, интересно, — пометил себе в блокнот Ковшов и снова обратился к следователю прокуратуры: — Так что же, Павел Иванович, рыбаки говорят про сети? Были ли на них повреждения и где эти сети сейчас?
— Мне эти обстоятельства, Данила Павлович, стали известны только на совещании и вот от вас услышал, — опустил голову Зябликов, — поэтому вопросы рыбакам задавались только по обстоятельствам обнаружения трупа и так, общие…
— Слабовато… — задумчиво протянул Ковшов. — В документах, что здесь собраны, информации никакой, только оперативные сведения. Надо всё незамедлительно восполнить. Вам придётся до темноты этим заниматься. А мы с Камиевым поедем в село. При допросах акцентируйте внимание на информацию рыбака Маркина, но источника, сами знаете, не светить. Постарайтесь выяснить, где стояли эти колхозные сети и оханы. Если засветло успеете, надо выехать с рыбаками туда, зафиксировать место, обозначить на схеме, попытаться сделать осмотр. Возьмите мой фотоаппарат, только будьте осторожны на воде. Если что с ним случится, меня Черноборов убьёт. Встретимся в правлении колхоза.
— Данила Павлович, — тронул Ковшова за рукав Камиев, — можно я с ним? Меня рыбаки всё-таки лучше знают, да и на местности ориентируюсь, оханы и сети искать начнём.
— Я не возражаю, — кивнул Ковшов, увидев направляющегося к ним Квашнина, — мне до правления товарищ капитан компанию составит.
Правление колхоза встретило их пустыми коридорами и комнатами. В одноэтажном строении — фундамент каменный, изба деревянная, просторная пятистенка, крыша позеленевшая, наверху красный флаг, — сидел на ступеньках крыльца сторож. Отдыхал на ветерке. Рядом, как собака на длинном чёрном поводке, у его ног покоился громоздкий чёрный телефонный аппарат. Аппарат молчал. Рабочий день давно закончился. Сторож опасливо курил, но при приближении знакомого человека в милицейской форме, бережно затушил окурок в консервную банку и, тяжело покрякивая, сосредоточенно встал, приветствуя Квашнина. Ковшову он даже не кивнул. На вид ему можно было дать лет?.. Много, не догадаться.
— Здорово, Михеич! — приветствовал доблестного стража Квашнин. — Несёшь вахту?
— А куда она денется? — бодро удостоверила охрана. — Спозднился ты что-то, Иваныч, к нам. Начальство-то так и не было. Председатель в городе, а те, кто сегодня был, уже разбежались. Ты, никак, звонить в район хотел? Вот. Звони. Связь есть.
И охрана бескорыстно указала на аппарат.
— А что, Тихон не подходил? — протянул пачку сигарет сторожу Квашнин. — Он, я слыхал, давно со свадьбы возвратился.
— Ни слуху ни духу, — взял сигарету дед, но прикуривать не стал, сунул за ухо. — Дашка была. До последнего сидела, маялась. Всё ждала вас. Думала, из милиции кто придёт. Так и убежала коров доить, не дождавшись.
Он пытливо, подняв незрячие глаза из-под мохнатых бровей и огромной бесформенной фуражки, взглянул на заместителя начальника милиции:
— Чё-нибудь нашли?
— А куда они денутся? — в тон ему бодро ответил Квашнин. Снял фуражку, вытер платком пот на лысой своей впечатляющей голове и, в свою очередь, спросил деда: — Слушай, Михеич, вот ты, старый человек. Мудрый, я знаю. Скажи, почему у вас в деревне ни одного лысого нет. Все то лохматые-кудрявые, то бородатые-кудлатые. А я вот один из района к вам приехал и один лысый.
Охрана искала подвох. Смеяться не решалась.
— Я лысею, потому, что умный, Михеич, — выдал щедрый милиционер подсказку. — Поэтому злоумышленников, которые у вас завелись, я отыщу. Ты меня знаешь. А трудно будет, два генерала, что приезжали из города, мне вот помощника дали, — он величественно кивнул на Ковшова. — Так что, мужикам скажи, у нас с этим нет проблем. Я особенно жить у вас не собираюсь, но задержусь. Пока правды не найду, не уеду. Пусть потолкует народ, найти меня знаешь где. Понял? Все вопросы в письменном виде.
— Пётр Иванович, — засуетился сторож, он как-то весь посвежел от дрёмы после внезапной вспышки капитана, — может, Дашку позвать, я мигом сбегаю.
— Дашку, говоришь? — надел фуражку на голову Квашнин. — Давай нам Дашку. Стой! Так она же на дойке?
— Надысь, коровы-то уже подошли, — донеслось уже от удаляющейся охраны, — они, заразы, затемно к селу подходят.
Квашнин по-хозяйски взял телефонный аппарат, пригласил Ковшова в правление, устроился за столом в комнате с дощечкой, на которой было написано: «Совещательная».
— В район Боброву звонить не будете? — спросил устало. — Может, домой?
— Начальству докладывать нечего, — отмахнулся Ковшов, — а дома у меня пока нет, по квартирам с женой мотаемся, не до телефонов.
И пошел бродить по комнатам. Оказалось, он ошибся. Не всё было открыто и доступно. Двери с красными дощечками и белыми печатными буквами: «Председатель колхоза», «Бухгалтерия» и «Парторг» были закрыты на висячие замки.
Охрану пришлось ждать долго. Начинало смеркаться. Подошли Камиев и Зябликов. Дополнительной информации не принесли: рыбаки молчали. Зябликов, сославшись на недомогание, отпросившись у Ковшова, уехал в район с тем, чтобы утром возвратиться. Квашнин успел переговорить по телефону с дежурной частью райотдела, выяснить обстановку; позвонил в город, где ему доложили, что работа по заданию проводится, но пока результатов нет. На простом языке оперативников это означало: отстань, деревенский, своих забот хватает. Камиев засобирался идти на розыски сторожа, но тот наконец-то появился сам.
— Не нашёл Дашку-то, Иваныч, — досадливо огорчил он Квашнина, — и дом закрыт, света нет. Собаки только рядом брешут. Пошёл навстречу, думал, она корову отправилась искать, да возвратился. Темно уже. Пост свой на вас, дурак старый, бросил. Ругаете небось меня.
Квашнин молча созерцал пустую улицу деревни, на которой нет-нет, да появлялись толстобрюхие животные, с бестолковым видом бредущие домой. Не зная, как себя вести, страж опять поискал глаза милиционера, но тот прятал их под козырьком фуражки.
— А с чего ты взял, Иваныч, что Тихон вернулся? Не видел его никто. Я пока шёл, поспрашивал народ.
Квашнин, не удостоив его ответом, повернулся к Камиеву и Ковшову:
— Ну что, мужики, и нам почивать пора. День был долгий. Что скажешь, Данила Павлович?
— Пора, — буркнул Ковшов, явно имевший по этому предложению другое мнение.
Нерационально, а главное, почти безрезультатно отработан день. Ничего не удалось выяснить. Не блеснула ни одна мало-мальски разумная версия. Никаких следов. Даже неизвестно, что произошло? Где именно произошло? Туннель, по которому он пробирался с трудом и на ощупь, впереди беспросветен. Малейшие слухи, обнадёжившие было после предположений Маткова о странном возвращении из города бригадира рыбаков, и те, не разгоревшись, только что погасли.
— Ну, майор, выкладывай, куда нас намереваешься устроить на ночлег, — корыстным взглядом одарил Квашнин Камиева, — выказывай своё гостеприимство. Мы с Данилой Павловичем доступны. А у меня, без вранья, живот к рёбрам прирос от голодухи. За весь день во рту одна болтовня.
— Я вас, дорогие друзья, в моём самом замечательном схране размещу, — обстоятельный Камиев повёл Ковшова и Квашнина по остывающим деревенским улочкам. — Лучшего угла не пожелаете. Как в столице, Данила Павлович! Сущий «Англетер»!
— Ты, майор, когда там успел побывать? — недоумённо воскликнул Ковшов. — Ишь, куда занесло.
— Сынишка в школе учил уроки, а я слышал.
— Ну-ну. Поглядим на твою гостиницу, — без энтузиазма отреагировал Квашнин, — я тут на всякий случай тоже побеспокоился.
Капитан потряс свёртком, который всё это время не выпускал из рук:
— На вас, товарищ майор, надеялся, а сам не оплошал.
— Этим ты зря запасся, Пётр Иванович, куда идём, там этому давно беспощадная война объявлена. Дед Упырь зелья не признаёт, окромя целебного настоя трав.
— Вот те на! Он нас в монастырь женский определить собрался, Данила Павлович! И что это за Упырь непьющий?
— Уймись, Пётр Иванович. Упырь у нас вместо отшельника давно.
Они стояли перед утопающим в цветах и фруктовых деревьях добротным домом. Правление по сравнению с ним выглядело хибаркой того старче из сказки, который безропотно бегал к золотой рыбке по велению своей вздорной старухи.
— Вот тебе и Упырь! — не удержался Квашнин от восторга. — Какой дом отгрохал! И место чудесное.
— С местом не повезло, ты посмотри повнимательнее, капитан, — Камиев махнул на задние дворы.
Неприметные сразу за деревьями сада здесь, за домом, на открытой местности, ещё в не накрывшей деревню вечерней темноте на фоне тёмно-синего небосклона виднелись кресты кладбища.
— Что это у вас хоронят посреди деревни? — удивился Квашнин. — Да, соседство не из приятных…
— Кому понравится, — согласился Камиев, — а куда деваться? Захоронение образовалось, когда деревня с гулькин нос была. Считай с тридцатых годов. А потом они росли вместе, друг с другом. Вот и сравнялись. Пузырёву это место досталось. Но он, молодой был, бед не знал, не горевал.
— Пузырёв? Это кто же такой? Прямо не раскулаченный буржуй!
— А ты вспомни, Пётр Иванович, — напряг Квашнина майор, открывая незапертую калитку в палисадник, — не должен ты забыть семью Пузырёва.
— Толстяк с женой и девочкой? Девочка у него за весь район пела на концертах? — хлопнул себя по лбу Квашнин. — Талантливая девчушка. Помню, помню. Деньги у него водились. Крутился он из села в город постоянно. С председателем колхоза что-то они не поладили. Свои права ему качал.
— Пузырь к Деньгову ещё пацаном после института в главные специалисты пытался устроиться. Сам он городской. Вот и не прижился. Не нашли общее взаимопонимание, а потом совсем разодрались. Съел его Полиэфт Кондратьевич. Почти выгнал совсем. Но в области Пузыря поддержали: молодой специалист, да и родственники влиятельные нашлись. Он этот дом с их помощью построил, а пожить не пришлось, с ребёнком плохо стало. Жена у него слабенькая, всё болела. А когда забеременела вторым и родила в больнице с большим трудом девочку, совсем на тот свет засобиралась. Из больницы не вылезала. И ребёнок с ней, туда же. Пузырь по городским врачам побегал, все ноги отбил. Никто не берётся недуг лечить. Вот тогда и появился наш дед Упырь. Как его нашёл Пузырь, никому не ведомо. Дед-то давно в деревне куковал. Скромно жил. Травы собирал, ягоды; старушек, мальцов лечил. На ноги ставил. Ну и заработал славу знахаря — не знахаря, вроде что-то лекаря-отшельника. Наш врач больницы гонял его, ругал последними словами. Как начнёт лекции читать народу в клубе перед кино вечером, так тот у него прямо враг номер один…
— Сущий Лаврентий Палыч, — вставил само собой Квашнин.
— Чего-чего?
— Был один такой, враг народа.
— В деревне Упыря знали, как бывшего рыбака, но это давно было, после этого он отошёл от всех дел, на людях не мелькал, забывать его стали, — не обратил на подсказку внимания Камиев. — Это потом уже снова зауважали, когда чудо сотворил.
— Вылечил всё-таки больную? — не удержался от восхищения Ковшов.
— Вылечил так, словно вновь народилась! — в голосе Камиева звучал искренний восторг. — Обеих на ноги поставил! Пузырь после этого не знал, как его благодарить. А Упырь, — ничего не надо, я здоровьем не торгую. Чудной он какой-то. Не от мира. Говорят, в Бога верует. Но у нас церкви нет, была старая, чуть не сгорела ещё в революцию. Слышал, жгли тогда? Сейчас там барахло разное колхоз бережёт, ненужное свозят.
— А что Пузырь-то? — подтолкнул Камиева капитан.
— Пузырь правильно поступил. Молодец! — Камиев подошёл к окну, легко постучал по стеклу. — Отдал весь дом деду. Всё, как положено, бумаги дарственные оформил, хотя тот не соглашался. Живи, говорит, здесь. А сам девчат взял и в город укатил. Деньгов всё равно ему бы здесь жить не дал, да и девочку надо пристраивать к делу. Талант у неё. Голос как у Зыкиной, хотя сама и тощая, как скелет. Но вырастет. В отца, не в мать пошла. А Пузырь, он!.. Ты, помнишь, Иваныч, Пузыря?
Камиев попытался, разведя обе руки, изобразить объём, видимо, необъятного Пузыря, но затею свою, так и не осилив, прервал. Дверь дома отворилась. На пороге стоял старец, ростом в полдвери, седой, простоволосый, с аккуратной бородкой до груди, в светлой рубахе навыпуск до колен. Глаза, добрые и весёлые, улыбались. И сам он весь, как бы светился тёплым сиянием.
— Вот и хозяин, — представил майор. — Здорово, дед Ефим! Привёл гостей, как обещал.
Гости с нескрываемым любопытством откровенно разглядывали старца.
Тот не стеснялся, но и не ёрничал. Степенно оглядел уставших пришедших, остался доволен, учтиво поклонился.
— Входите, люди добрые, — и повёл за собой, приглашая в дом. — Жизнь провожу один, особливо мирские заботы не докучают, поэтому не зело обременён. Живому человеку, паче государеву служивому, рад. Вот Митрич меня ревностно балует.
Если по рассказам Камиева вполне материально обеспеченный Пузырёв не так давно покинул этот дом, то вся обстановка, аксессуары и современные безделушки, заполнявшие комнаты, определённо принадлежали прежнему владельцу и оставались нетронутыми на месте. Новыми и явно чужими здесь резали глаз несколько старых почерневших в золоте икон в углах и что-то пока неуловимое сразу. Казалось, это витало в воздухе невидимым присутствием и придавливало к полу. Ковшов силился понять, что это, но не получалось. Скорее всего, мешали голод, ощущение полного провала от дневной неудачи и усталость. Светло — не светло, а вечер приближался к девяти часам. С раннего утра на ногах и без крошки во рту. Удивительно, но в полной тишине, царившей в комнатах, Ковшов различил в ушах назойливый стрекот вертолёта. Звук, чудилось, не покидал организм. Наваждение какое-то, подумал он, с чего бы? И подставил руки под приятную освежающую струю воды из кувшина, заботливо поднесённого хозяином. По очереди, приходя в себя, умылись все, расселись по стульям, оглядываясь по сторонам.
Стол был накрыт в самой большой комнате, походившей более других на гостиную. Хозяин направился было закрывать ставни окон, но Камиев, именуемый старцем всё время почему-то «Митричем», остановил его со словами:
— Нам бояться некого, дед Ефим. Свет в деревне вот-вот отключат.
— Уже отключили, — поправил его старец.
— Тем более, закрывать не надо. Светлее будет.
Старец всё же отправился за лампой.
Кушаний и разносолов особых на столе не наблюдалось. Ковшов обратил внимание, что пища была растительного характера, за исключением двух-трёх горок варёных куриных яиц на тарелках и молока в двух огромных кувшинах. Остальное сплошь овощи и фрукты; даже давно сошедшая с прилавков городских базаров редиска здесь пучками красовалась рядом с зелёным луком и листами салата.
Квашнин вытянул нос в полнейшем недоумении и весь свой ужас излил на Камиева. Не переварив ещё странностей в разговорной речи и манерах старца, едва не свалившись от его обращений к майору «Митрич», он был безнадёжно повергнут эстетикой кулинарных лакомств. К чему, к чему, а к этому он был явно не готов.
— Ты куда нас привёл, чудило? — не выдержав, зашипел он на Камиева, как только старец скрылся в другой комнате. — Это же вегетарианский раскольник, Митрич ты казахский! У него не пожрать, не выпить!
И Квашнин сунул под нос сконфуженному майору потрёпанную древнюю книжицу, одиноко до этого покоившуюся на столе в углу под большой иконой, где хмурило брови в золочёном окладе свирепого вида взлохмаченное лицо:
— Читай!
На книжице проступали потертые буквы: «Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное».
Камиев в растерянности ничего ответить не успел, от книжки отшатнулся, даже в руки не взял, но тут с керосиновой зажжённой лампой явился хозяин, и Квашнин затих. Старец действовал на капитана, как удав на кролика.
— Усаживайтесь, гости дорогие. Не обессудьте. На столе всё, чем сам питаю телеса. Вас, знамо, этим не утолить. Митрич, помоги мне.
И вдвоём с Камиевым они вынесли с кухни большой деревянный поднос, на котором ещё обжигала теплом чугунная сковорода, сверкающая золотом поджаренных карасей.
Слов не нашлось от захватившего духа у Квашнина, вскочившего над столом; ошалело хлопнув ладонями, суетливо, но умело расчистив место на столе для сковороды тот засемафорил майору:
— Неси мой свёрток!
— Отведайте, сынки, моей настойки с травкой. Зело полезно животу и духу.
— А что, не откажемся, — переменившись в лице, подмигнул Ковшову Квашнин. — Присаживайся и ты с нами, отец.
— Воздержусь, — по-отечески погладил сидящего капитана по плечу старец. — За благость щедрот благодарствую. Не обессудьте. В другой раз.
— Так это же и есть тот самый раз, — не унимался Квашнин, — мы у вас денька два-три погостим. Садитесь к столу.
— Садись, дед Ефим, — присоединился «Митрич».
Старец не заставил себя упрашивать, из той же кухни принёс четырёхлитровую бутыль с густой жидкостью, вручил её Камиеву и аккуратно присел к столу, поправив бородку и перекрестив комнату со всеми присутствующими, кушанья на столе и себя.
Смущение и неловкость не успели загостить за столом, все быстро заговорили, расшумелись, похваливая лечебную настойку. Старец держал спину, не горбясь, в разговор гостей не встревал, только потчевал и подставлял то одно, то другое блюдо. Сам он едва пригубил рюмку. Милиционеры между тем, сняв кители, разговорились о делах минувших.
— Митрич, — уже не дурачась, а по примеру хозяина дёргал за рукав Камиева Ковшов, — тебе твой источник, когда идею о снастях и красной рыбе подсказал, не поведал, где эти снасти прячут?
— Нет, а что?
— Там, скорее всего, и есть место убийства. Так, Данила Павлович? — капитан обернулся к Ковшову.
Тот заинтересованно кивнул и продолжил:
— Вполне возможно, эти снасти и сейчас там маячат, если те, кому они понадобились, не выдернули их сами.
— Исключено! — живо возразил Квашнин. — Во-первых, для этого потребовалось бы очень много времени. Ночью с крючками опасно заниматься. Сам за них заденешь и на дно угодишь. А кроме того, если стрелявший один был, то в одиночку ни за что не осилит их вытащить.
— Один, два, — рассуждал Ковшов, — не в этом дело. Снасти — это опасная улика. Все рыбаки твердили Игралиеву, а потом и Зябликову, что неизвестными потревожены только их снасти под частиковую рыбу. А информация Маркина — парадокс. Врать ему нет причин. Он знает, перед кем ответ придётся держать, если что. А всё же сказал. Тот, кто снасти проверял, если он не деревенский…
— Я уточнил, Данила Павлович, — перебил Ковшова Квашнин, — чужих в деревне несколько дней уже не было. Мои ребята выяснить успели.
— Прекрасно, — сдержанно похвалил Ковшов. — Это ты для этого убегал?
— И для этого тоже, — хитро сощурился замначальника.
— Если гастролёров и чужих не было, а снасти остались стоять, значит, есть надежда, что тот, кто их ставил и не успел выдернуть, ближайшей ночью сделает попытку их вытащить.
— Точно! Вытаскивать полезут! — чуть не заорал Квашнин. — И не по жадности. Они знают: сегодня мы из-за совещания чёртова ничего сделать не успели, поэтому только завтра поплывём искать. А найдём снасти — найдём убийц!
За столом повисла тишина. Тишина, необходимая для осмысления внезапно в разговоре вспыхнувшей надежды. Вроде всё было утрачено. Никакого шанса на успех пробиться к истине. И на тебе! В этой комнате, за этим столом пришло озарение.
— Так! — лихорадочно потирая руки, задёргался-засуетился сразу Квашнин. Это уже был другой человек. Не дурашливый балагур «Иваныч», не рубаха-парень, лихой капитан, не какой-нибудь «замнач» со свёртком водки под мышкой, а главный сыщик, отвечающий по полной катушке за раскрытие убийств в районе. — Так! Если всё сойдётся, они придут сегодня. Это наш шанс! Кончай пировать, майор. Надо наших ребят полностью перестраивать на эту задачу. Занять берег до того, как туда бандиты сунутся. Заметят наше движение, не полезут.
Камиев был тоже возбуждён, но выглядел поспокойнее. Посмотрел на часы, сказал:
— Раньше полуночи они не двинутся. Время есть.
— Поспешай, поспешай, майор! — командовал Квашнин, стоя уже на пороге.
— Пётр Иванович, — остановил капитана Ковшов, — ты в этой гонке не забыл про бригадира?
— Ни в жизнь, Данила Павлович! — весело крикнул Квашнин, и дверь за ним закрылась.
Старец наблюдал за всем происходящим без удивления, без чувств, без движений. Он оставался сидеть в той же позе на стуле, всем своим видом отрешённо показывая отсутствие интереса. «Не беспокоят его мирские страсти, — подумалось Ковшову, — смотрит он на суету мирскую с высоты своих представлений о сути жизни, об истине, о совести, о долге. Выше наших мирских забот и тревог».
Старец как будто услышал его мысли, ожил, заговорил:
— Дошла до меня плохая весть. Оперёд вашего прихода Матрёна, соседка, прибегала, рече: грех в деревне великий! Смертоубийство?
— Застрелили из ружья.
— Нет прощения сим поступкам греховным… Разумею, не сыскан злодей?
— Не отыскан.
— Воздастся каждому по делам его. От нехристей сих грядёт разорение веры и закона. Найтить злодея надо. Митрич со товарищами сим занялись?
Ковшов кивнул.
— Господи, управи ум их и утверди сердца их на творение добрых дел, на скорый сыск греховодника… Горемыка убиенный тутошный или как?
Ковшов молча достал папку со своими бумагами, разложил на столе, отодвинув посуду, нашёл фотографию Фирюлина, протянул.
Старец долго изучал изображённое на фото лицо, искал в памяти знакомых. Что думал он: жалел, отчаивался, прощал грехи, как у них, верующих, водится? Просто размышлял в горести над судьбой несчастного?
— Лик его и в смерти печалит. В скудости жил он, Бога не знал и не чтил. Господи, прости его душу грешную…
Вместе со старцем они вдвоём прибрали на столе. Ковшов, сославшись на бессонницу, уселся за стол, разложив бумаги: протоколы, свои записи, схемы, строил бесчисленные версии, переживая за мотавшихся сейчас невесть где, на воде или на земле товарищей. Старец постелил ему тут же в гостиной на единственной кровати напротив трёх окон у стены. Сам ушёл в другую комнату.
Всё стихло.
Не пропадая совсем, но и не сверкая особо, мирно поедая керосин, мерцал язычок пламени за стеклом лампы, освещая круг на столе и задремавшего над ним человека.
Вдруг бесшумно, словно инородная масса, бесформенная тень тревожно надвинулась на среднее из трёх окон с улицы за стеклом. Сгусток этот замер, задвигался опять, остерегаясь, зашевелился, прижимаясь к стеклу, расползся по нему вверх и в стороны, приобретая очертания человеческой фигуры. Дождь или ветер пробежали по поверхности стекла, забарабанило, прерываясь и возобновляясь вновь. Звук настойчиво силился ворваться в дом, в комнату, внутрь.
Старец очнулся от дрёмы, он ещё не успел предаться сну, шорохи за окном и дрожь стекла разбудили его окончательно. Он привык жить один. Его давно уже мало что пугало. Да и что на земле могло устрашить человека, много лет сознательно и достойно готовящегося к смерти? Вечность открывала перед ним объятия. Господь Бог ждал его. Он смело дожидался своего часа. Теперь уже скоро. Но в стекло окна кто-то стучался!.. Или ему мерещилось?..
Осторожно поднявшись (в привычной темноте он ориентировался безошибочно), старец ступил на пол и вышел на порог гостиной.
В свете тусклого языка пламени керосиновой лампы отчётливо отпечаталось в окне белое лицо в ужасной гримасе с обезображенным носом и тремя бородавками под глазом! Выпученные навыкате глазные яблоки внимательно и злобно следили за каждым его движением, хищно скалились зубы в безумной усмешке! Это лицо старец не мог забыть. Только что он изучал его на фотографии. Оживший утопленник глядел на него в окно!
Вновь задребезжало стекло от ветра или под давлением рвущегося призрака, и старец рухнул навзничь, лишаясь чувств.
— Дьявол! Господи! Спаси и сохрани! — успел крикнуть он.
Ковшов вздрогнул и проснулся.
Огонёк беспокойно метался в лампе, затухая. На полу у порога бился в конвульсиях старец в светлом ночном одеянии, тыча руками в окно.
За окном — беспросветная темень. Гудел ветер так, что шум проникал в дом.
Стратегия и тактика
Леонид Боронин, аккуратный, тихий и подчёркнуто безразличный, не подымая головы, вёл совещание аппарата по подготовке предстоящего заседания бюро областного комитета партии.
Докладывал Ольшенский, но первый секретарь его почти не слушал. «Бог идеологии» давно уже говорил одно и то же с некоторым исключением, время от времени меняя тезисы с учётом обстановки и момента. А в общем-то — занимался тавтологией. Это злило первого секретаря, выводило из себя, но сделавшиеся обычными аппаратные рутина и камарилья приелись, и он терпел. В этот раз Ольшенский, инициатор предстоящего заседания бюро, вещал о неудовлетворительном положении дел в партийных организациях на местах, где ещё никак не могла наладиться активная работа по обсуждению и пропаганде решений состоявшегося недавно съезда партии.
— Пробуксовывает, как обычно, твоя система доведения до народа, до рядовых коммунистов наших идей, Павел Александрович, — медленно едва слышным голосом хмуро констатировал первый секретарь.
Это подстегнуло докладчика.
— Надо менять кадры, Леонид Александрович, — тут же нашёлся идеолог, — много ещё на местах непонимания важности момента. Расслабились. Сейчас как никогда очевидна постановка главной задачи — усиление воспитательной работы. Враг, в виде безграмотной беззаботности, я бы сказал, присутствует и в наших рядах. События в Чехословакии достаточно ярко показали, что в недрах стран, вставших на наш, социалистический путь развития, имеется благодатная почва для антисоветских сил.
Ольшенский заговорил печатным языком передовиц газеты «Правда»:
— Они не дремлют в противовес некоторым нашим дилетантам и могут дойти до контрреволюционных действий, что едва не проявилось в дружественной нашей стране Чехословакии. Нам следует усилить….
Боронин слушал велеречивые рассуждения Ольшенского и ещё ниже склонял голову в душившей его злобе. Нет, не Павел злил его и вызывал глухую досаду. Весь этот год, начавшись с надеждами на лучшее, опять как-то не заладился. Область не вписывалась, несмотря на все его усилия, в поставленные правительством задачи развития промышленности. Если быть откровенным перед собой: выручала, как обычно, и тянула вперёд только рыбодобыча. Но вечно выезжать рекордами по отлову рыбы на Волге и Каспии не в радость. Всю её быстро переведёшь. Он сам хорошо это понял, и от заумных речей и советов местных и столичных спецов-спасателей уже пухнут уши. Ради дела пошёл он на рокировку кадров. Энергичных мужиков переставил, сам каждого на бюро пытал, наставлял, утверждал. Повыгонять многих пришлось; не щадил, без жалости расставался с мудрецами, обросшими мхом и пахнущими плесенью вчерашних гнилых и безжизненных идей. Фантазёры хреновы! Вместе со своим лидером Никитой, задурившим им мозги утопическим коммунизмом. Собрался построить Хрущ беспроблемное общество, объявил по всему миру, что к 1980 году страна заживёт припеваючи под гармошку. О чём думал чудак, стуча башмаком по трибуне в ООН? Пустобрех! Не любил и не уважал таких людей Боронин. И работать пришлось при нём, и встречался, и лично знал, но эйфории тот клоун у него не вызывал. Вот Леонид Ильич, это да! Это совершенно другой человек. Это политик. А как раз ему, пряча глаза, пришлось расхлёбывать месиво полоумного хряка! На съезде, с которого только что вернулись, отрабатывали назад втихую умные мужики в ЦК, осознав давно, что выполнить хрущёвское обещание построить коммунизм к началу 80-го года, конечно, не удастся. Хорошо, что нет недостатка в умных головах в высшем эшелоне партийной власти, не все ещё в бонзы величественные обратились, тихо, доходчиво и убедительно разъясняли о достижении пока промежуточного рубежа — развитого социализма. Лукавство это, конечно. Шито белыми нитками. Но умный не скажет, а дурак не заметит. К тому же придумать сумели: за годы развития страны возникла новая историческая общность людей — советский народ.
Не велика мудрость, а к месту и по времени. И враз положение выправляет. Теперь Павел вон настаивает: формировать нового человека — одна из главных задач партии. И он прав. Но что-то в этот раз опять увлёкся, не туда понёс. Заводит его собственная речь, забывает, что он на аппаратном совещании в обкоме, а не на лекции в совпартшколе перед слушателями-мальчишками. А дела здесь действительно твориться стали серьёзные. Надо Марасёва подпрягать, чтобы у себя под носом разобрался с диссидентами. Слабину им дали. А те не замедлили учудить. Перед съездом опять на весь мир прополоскали. И как акцию продумали! Прямо целую операцию провели! Знали, что на съезде готовился доклад о расширении прав гражданина в стране, так европейские подлюки в самом конце февраля перед открытием съезда в Москве провели в Брюсселе еврейскую посиделку, назвали её для пущей важности «всемирной конференцией» и растрезвонили по всему свету, будто тяжко бедным мойшам в Союзе — и работы их лишают на почве национальной принадлежности, и отправлять культ не дают, и учиться не принимают, и выездам за границу чинят препятствия. «Правда» успела быстренько отреагировать, врезала по наглым мордасам ответным обращением, подписанным академиками, писателями, собратьями по крови и родству, так они всё же включили свою тайную пружину, палочку-выручалочку Сахарова, тот с письмом вылез к Брежневу, видите ли, ему лучше известно, как у нас евреям живётся… А тут этот хряк Хрущев совсем на пенсии с ума сходить стал, опубликовал в Америке какие-то свои запрещённые мемуары. Начал поучать, что страной править так же просто, как кукурузу растить…
Хотелось Боронину от досады и злобы плеваться, да куда же плевать, себе в карман? Ольшенского не остановить. Тот только-только набрал силу и красноречие. Хотя, что греха таить, говорить не умел, хотя и возглавлял одно из наиболее серьёзных направлений деятельности областной партийной организации: секретарь по идеологии, ученик «серого кардинала»[3], в отличие от своих великих просветителей марксистов-философов, на которых ссылался через каждые два слова, буквально плутал в лабиринте своих заумных мыслей, но к креслу был припаян намертво. Потому как главную линию партии давно усвоил крепко и с неё ни вправо ни влево не сворачивал, твёрдо направляя курс в кильватер с первым своим руководителем. Первого секретаря это вполне устраивало. От добра добра не ищут…
Так что Ольшенский в конце концов правильно закручивает гайки, каждому воздаст по заслугам, к кадрам следует относиться с двойным оптическим стеклом. А дурную овцу, вовремя узрев, из стада вон! Первый секретарь сделал себе пометку в блокнот, хотя на память грех жаловаться: «Переговорить с начальником управления КГБ»…
Боронин поднял голову, оглядел сидящих за столом. Рядом всё время куда-то порывавшийся встать, сорваться с места член бюро, председатель облисполкома Иван Думенков уже расползся по стулу локтями, начинал подремывать. Многие тоже не слушали докладчика, откровенно занимались своими мелкими заботами, только чтобы не заснуть и не в носу копаться. Писатель Шадров что-то рисовал в своей тетрадке, а, может, времени не тратя, новые странички к роману сочинял. «Утомляет всё же Ольшенский своими повторениями, — рассуждал Боронин. — Учит, как в школе». Вслушивался он в речь идеолога, морщился. Привыкший проповедовать, Павел начал за упокой, а когда закончит за здравие, пока догадаться невозможно.
Вот задремавший Иван Думенков совсем другой человек. Энергии в нём, словно в сжатой до предела пружине. Боронин легонько задел локтем товарища, тот мгновенно поправил локоть на столе, выпрямил спину, зорко, по-орлиному упёрся глазом в первого секретаря.
— Ты что это храпеть вздумал? — хмуро пошутил Боронин шёпотом. — Дурной пример подаёшь. Куда торопился?
— Совещание назначил у себя в облисполкоме по этой холере, будь она неладна, — наклонившись к уху секретаря, буркнул Думенков, — народ уже собраться должен, сидят ждут, а я тут штаны протираю.
— Ну ты это брось, Иван Григорьевич, штаны ты протираешь в другом месте. А здесь совещание обкома, — беззлобно поправил его Боронин больше для формы. — Сейчас закончим, останься, разговор есть.
Иван Думенков, мужик — кровь с молоком, председателем облисполкома был назначен недавно. Пензяк, из рабочих, молотобоец, с получением новой должности располнел, раздался в стороны и обмяк, но оставался настоящим бочонком с порохом, подожжёшь фитиль — взорвётся. Закончил рыбвтуз и в сельском районе вприпрыжку за несколько лет от рядового инженера моторной станции промчался до первого секретаря райкома партии. У себя в районе что только не творил — и ночной лов кильки на электросвет первым на Каспии затеял, и неводы ставные перекроил, все рыболовецкие тони механизировал, колхозы на ноги поставил. К сорока годам перестало ему хватать места в провинции, рвался наверх — в аппарат области. Он уже и депутатом Верховного Совета СССР избирался и вторым секретарём обкома побыл, но применительно к высоким постам, конечно, ещё мелковат, хотя в бой рвётся всегда и, главное, всё время с улыбающейся физиономией. Боронин даже завидовал втайне его успехам, а особенно здоровью и безудержному жизнелюбию. Ревновал к авторитету и власти. Люди к Думенкову липли, как будто мёдом обмазан был. Закрадывались уже мысли, — не подсидел бы, Пантагрюэль, не пора ли его выдавливать куда-то наверх из области, в другие регионы или в столицу, там была нужда в современных лидерах. В ораторском искусстве Иван себе равных уже не знал, этот размазня Ольшенский ему в подмётки не годился. Организаторскими способностями блистал: самого Косыгина убедил раскошелиться, обвешал того перспективами ужаса, болезней, вырождением населения Поволжья от возможной холеры, завалил историческими экскурсами чумных бунтов. Железный Алексей Николаевич кряхтел-кряхтел, а деньги выдал, раздавленный аргументами толстяка. Иван тогда не побоялся, к самому Брежневу обратился, но к Боронину в обком ни разу не прибежал за помощью. Всю черновую работу на себя взвалил, его, первого секретаря, втягивать не стал. Боронин, конечно, сам вмешался, вопрос важный, обком от таких болячек в стороне не остался и не остаётся. Как ни терпели, ни скрывали опасность от людей, — зачем лишний раз будоражить народ, — но город пришлось закрывать. Однако беда ликвидируется, всё начинает восстанавливаться, хотя в ЦК на него некоторые коситься стали. Как же первый секретарь допустил первобытную болезнь в области? Но что они знают об его проблемах, зажравшиеся чинуши, забравшиеся наверх? Куда ни кинь, везде они! Сколько раз просил денег посносить все эти развалюхи, в которых испокон веков на болотах люди маются и — удивительное дело — не ропщут! Построить хотя бы какое-нибудь человеческое жильё! Все поволжские деньги из государственной казны их сосед забирает. Это понятно, после войны тот город строится заново, но нельзя же столько времени за спиной быть у города-героя, хотя он ему и не чужой!..
Можно было бы этими заботами и Ивана поднапрячь. А что? Это его святое дело тоже: в равной мере, как и обком партии, облисполком несёт ответственность за строительство жилья в области и снос ветхих развалюх. Но Иван так рвётся пальму первенства перехватить! Стоит ему поручить решать эту проблему, и он враз в столицу помчится выбивать средства. У него уже имеется коммуникабельный товарищ, без мыла, как говорится, в любое отверстие проникнет, в любую дверь ключик подберёт. Связи с московскими верхами наладил давно; как в Верховный Совет Иван летит, так самолёт загружает; рассказывают, что не чурается сам коробки проверять, которые ему Лущенко подвозит. А обратно гостей везёт, несговорчивого Косыгина он на охоту и заманил. Алексей Николаевич жук опытный, мало куда выезжает последнее время, как Совет Министров возглавил, задницу поднимает от кресла редко. А охотился совсем в других краях. За компанию если и ездил, когда брал его с собой Леонид Ильич, и то в другие места, где не только обилие диких зверей, водоплавающей дичи, но и есть что посмотреть, например, древнюю архитектуру огромного Кирилло-Белозерского монастыря и Архимандритского корпуса, тут тебе и высокий лес, и чистый воздух. Его любимые места, всяк знает. Но сманил Косыгина в знойную степную глушь и прискаспийские ильменя[4] Иван, уговорил железного хранителя государственных денег. Сумел тогда и сейчас сумеет. Деньги выбьет, и с головы Боронина на свою опять лавры сорвёт и в этой проблеме. Нет, доверять ему нельзя. Уж лучше он сам как-нибудь обойдётся. Додолбит упрямого канцлера…
Боронин повернулся к Думенкову, тот снова безмятежно подрёмывал, но опять взор чужой уловил и тут же голову поднял, как ни в чём не бывало. Спросил взглядом, кивнув на неугомонного Ольшенского, монотонным голосом долбившего происки проклятых капиталистов и их приспешников: долго ли им ещё терпеть? Раз тот из своей страны выбрался и на загнивающий Запад перебрался, значит, скоро к финалу добредёт, также взглядом дал понять Думенкову первый секретарь, потерпим, дело нужное…
Совещание удалось свернуть ближе к вечеру, есть уже не хотелось. Думенков, как ему предложено было, остался, но сидеть не мог, словно выпущенный из конюшни застоявшийся жеребец, метался по кабинету. Боронин, как вёл совещание, так и остался на месте. Сидя в кресле за могучим столом, ему было легче управлять людьми и сдерживать массы, а в данный момент хотя бы этим чувствовать своё превосходство над председателем облисполкома. Думенков ничего подобного и в голове не держал. Он рвался к себе в кабинет, где его ожидал такой же стол, где заждались врачи-эпидемиологи, председатели райисполкомов и прочая челядь. Словно случайно замешкавшись, задержался Ольшенский, но Думенков уже не мог сдерживать нетерпения.
— Леонид Александрович, — остановился он перед первым секретарём, — ещё какая-нибудь беда на нашу голову свалилась?
— Что на нас с тобой, Иван Григорьевич, свалиться может? Что ты волнуешься, дорогой?
Ольшенский не проявлял неловкости и желания оставлять их наедине.
Боронин, не скрывая досады, кашлянул два раза, но ожидаемого эффекта его кашель не достиг. В конце концов, подумал первый секретарь, то, что меня интересует, действительно не составляет какую-то секретность, ну а бестактность Павлу он припомнит при случае.
— Ты утреннюю оперативную сводку от Даленко читал?
Думенков утвердительно кивнул головой:
— Два человека у Борданова пропали, одного выловили с огнестрельным ранением. Тебя это интересует, Леонид Александрович? Больше вроде ничего за последнюю неделю особенного не случилось.
— Это произошло в колхозе «Маяк Ильича», — утвердительно произнёс Боронин. — Как там наш член обкома, председатель колхоза выглядит? Ты должен знать, колхоз-то рыболовецкий?
— Как же, хорошо знаю Деньгова Полиэфта Кондратьевича, — оживился председатель облисполкома. — Я ещё, когда в районе работал, мои колхозы с ним тягались. Трудно его по уловам было обогнать. Крепкий мужик. Колхоз в его руках силу почуял. Да ты его забыл, что ли, Леонид Александрович?
Думенков любил вспомнить время, когда командовал комитетом партии в районе. Боевое было время, живое, сидеть в кабинетах не приходилось. Целыми днями на рыбацких тонях пропадали, жизнь ключом била.
— Вместе же с тобой притащили его в обком, беседовали, толковали, прежде чем выдвигать в члены обкома, — размахивая руками, возбуждённый Думенков стал похож на французского бунтовщика с баррикад.
— Прямо Дантон или Марат ты у нас, Иван Григорьевич, — тихо, не поднимая головы, скорее для себя, нежели для оратора, произнёс первый секретарь.
— А почему, Леонид Александрович, ты Деньгова со смертью этих рыбаков связываешь? — не понимая, остановился Думенков. — Ну погибли мужики, они ведь колхозниками не являлись, я сводку ту помню.
— Правильно. Память у тебя хорошая, Иван Григорьевич, не колхозники они, — в своей обычной манере тихо вёл разговор первый секретарь.
Думенков остывал, забыв о том, что торопился на важное совещание. Он давно считал себя равным первому секретарю, давно мог запросто говорить с ним на «ты», спорить, обсуждая проблемы хозяйственной деятельности, возражать, даже отстаивать своё мнение, но бывали мгновения, когда спина его вдруг холодела, как сейчас, и охватывал неведомый, несвойственный ему, сильному, энергичному, весёлому и жизнерадостному человеку животный страх.
Человек из кресла, только что дружески беседовавший с ним, медленно поднимал голову, а когда поднял, председатель облисполкома на высоком бледно-синем лбу увидел бесцветные глаза убийцы, с глубокой ненавистью пожиравшего его взглядом. Но это было только мгновение, глаза Боронина сверкнули и потухли.
— Иван Григорьевич, помнится, ты предложил кандидатуру Деньгова из всех других председателей колхозов. Одного из многих, — ещё тише сказал Боронин.
Думенков медленно приходил в себя, не соображая и не понимая, что с ним только что произошло.
— Мне его Лущенко Василий, председатель облрыбакколхозсоюза, советовал… Леонид Александрович, — тоже почему-то тихо пролепетал он, — я не понимаю, Леонид Александрович, при чём здесь Деньгов и утопленники?
— Я тоже пока не понимаю, — опустил голову первый секретарь, — утром позвонил Борданов из района. Начальник милиции доложил ему, что погибший и пропавший воровали рыбу из колхозных сетей и были наказаны за это… Кем-то…
— Нет, Леонид Александрович, Деньгов не тот человек, чтобы подобными мерами наводить порядок. К тому же Лущенко мне говорил, что председатель колхоза «Маяк Ильича» два дня с ним вместе гулял на свадьбе у родственника. Глеб Порфирьевич Зубов, главный врач, дочь свою замуж выдавал.
— Он, значит, гулял, а в колхозе смертоубийство? — вмешался в разговор Ольшенский, о котором совсем забыли и Боронин, и Думенков.
— Да что вы в самом деле! — пришёл в себя Думенков и, обретая былую уверенность, хлопнул обеими руками по полным бёдрам. — Жульё колхоз грабит, один подлец тонет, второй пропал без вести, а подозреваемым оказывается председатель колхоза, которого и на месте не было! Может, тот, кто убил, как раз и удрал с перепугу. Что нам гадать? А Лущенко абы кого рекомендовать не будет, Леонид Александрович. Он с человеком не один пуд соли съест, только потом за него голову может положить. Я Лущенко знаю. Я за него ручаюсь.
— Я послал на место убийства комиссара Даленко и прокурора области Игорушкина, чтобы разобрались, — не глядя на обоих, тихо сказал Боронин.
Думенков тихо опустился на стул, внимательно слушая первого секретаря. Тот даже не посмотрел в его сторону. Редкие, неопределённого цвета волосы торчали у него на макушке и висках. Казалось, Боронин слишком рано постарел или постоянная непосильная ноша, груз, с гигантскую плиту величиной, придавил его к земле. Сейчас он сидел, согнувшись под этой тяжестью, но первый и ходил в той же позе, словно придавленный, и представить его быстро идущим или бегущим Думенков не мог. И вдруг подумал: «А как он ведёт себя в постели с женой? Ведь у него есть дети, значит, он… Доступны ли ему обыкновенные человеческие удовольствия? Есть ли у него любовница?» Глядя на Лущенко, которого Думенков знал, как свои пять пальцев, на других сподвижников, председатель облисполкома, сам мужчина-жизнелюб, не гадал, определял точно — у этих мужиков есть подружки и не одна у некоторых, они знают, что с ними делать в постели. Но представить Боронина!.. Но Думенков увлёкся. Его вернул к действительности голос первого секретаря:
— К вечеру, думаю, Даленко доложит о результатах следствия…
— Не обольщайтесь, Леонид Александрович, — вмешался вдруг Ольшенский, — смею вас заверить, никого они не найдут.
— Что это вы так категорически против нашей народной милиции, Павел Александрович? — зло воскликнул Думенков.
Управление внутренних дел являлось подразделением, подчиняющимся не только начальству в столице, но и ему непосредственно, поэтому председатель облисполкома болезненно реагировал на любые замечания в этот адрес.
— Даленко — комиссар милиции третьего ранга, генерал. Держит планку раскрываемости по России высоко, не в пример некоторым регионам. В процентах показатели в прошлом году выросли…
— Да бросьте вы о своих показателях, любезный Иван Григорьевич, ради бога. Всё вы на проценты переводите. Воблу ваш Даленко до сих пор на балконе собственной квартиры вывешивает сушить, каждый горожанин по его балкону определяет, когда на низах её ловить начинают!
Боронин поднял бесцветные глаза на Думенкова. Тот открыл рот от удивления, словно рыба, выброшенная на берег, не зная, как парировать внезапную яростную выходку обычно невозмутимого Ольшенского, но так и не нашёлся, что ответить.
— Вы забыли, вероятно, как они мне шапку искали? — продолжал между тем идеолог.
— У вас пропала шапка? — спросил Думенков. — Когда?
— Украли, — просто поправил его Ольшенский. — Читал я зимой как обычно лекции в совпартшколе. Разделся внизу, на первом этаже в гардеробе. К обеду возвращаюсь одеваться, и что вы думаете?
Ольшенский обвёл слушателей величавым взором.
— Пальто выдали, а шапки нет.
— Вот история! — взмахнул руками Думенков и почему-то хохотнул.
— Мне, представьте, было не до смеха! — возмутился Ольшенский. — Рассказывать вам и то стыдно. В совпартшколе и шапку украли! Кому скажи — на смех поднимут. Но на дворе мороз двенадцать градусов. Не молод я уже, чтобы налегке без головного убора по улицам города шастать. Не тот возраст, сами понимаете…
— Нашла милиция шапку-то? — не дослушав, поинтересовался Думенков.
— Самый главный их приехал. Меня расспрашивать даже не стал. Под козырёк и кричит: «Сейчас отыщем!» Пузатый такой и громогласный.
— Лудонин вроде не кричит, — высказал вслух догадку Думенков, — и не пузатый он.
— Я потом слышал, что они его между собой «автобусом» звали.
— Странная фамилия. Нет таких в Управлении внутренних дел начальников. Я всех знаю, — озадачился председатель облисполкома.
— Значит, не всех изучил, Иван Григорьевич, — донеслось от стола, где сидел первый секретарь, — а шапку-то нашли всё-таки, Павел Александрович?
— Нашли, — кивнул Ольшенский, — нашли, как не найти. Вместе с жуликом! Я, правда, не дождался. Так и добежал до дома по морозу налегке. Но вечером доставили. Только моя, знаете, Леонид Александрович, пирожком была, пыжиковая такая, я её давно ношу, а эта норковая оказалась и новая совсем.
— Ну и что? — опешил Думенков.
У Боронина на лице тоже появилось какое-то подобие интереса.
— Вернул я им шапку.
— А вашу нашли?
— До сих пор в ожидании. Но я их уже не беспокою. Раздеваюсь теперь у заведующего в кабинете. А в гардеробе, Леонид Александрович, троих смотрящих поставил наш хозяйственник.
Думенков всё же засмеялся, Боронин не отреагировал никак.
— Пришли ко мне Лущенко, Иван Григорьевич, — напомнил он Думенкову, — он у тебя на совещании будет?
— А как же, Василий Дмитриевич уже давно заждался меня, наверное. Да и не один он. Но мы там не скоро закончим, Леонид Александрович. Может быть, его сразу подослать?
— Нет. Работайте. Я подожду. Сегодня мы много беседами да совещаниями занимались. Я задержусь вечерком, надо документы посмотреть. Пусть после подходит.
Было известно: если первый секретарь не был в командировке, в московской поездке, в разъездах по районам или по предприятиям, то из обкома он не выходил к служебному автомобилю раньше десяти или одиннадцати вечера. Сидеть в партийных аппаратах по ночам до утра давно уже стало немодным и необязательным, но Боронин находил для себя настоящее физическое удовольствие от своего кабинета. Если бы не новые порядки, заведённые ещё Никитой, он сидел бы в кабинете до утра, но понимал: не то время, начнут осуждать, и так за спиной молодые, видно, анекдоты травят или злословят. Провинциал, никогда не общавшийся со столичной политической элитой, к закату жизни обрёл он величие, когда рухнули идолы и вожди. Получив огромную власть, не знал, как ею пользоваться. Сподобиться молодым уже не мог, мешали традиции, тяжкий опыт прошлых ошибок, грехи юности. Взбрыкнуть стеснялся — осудят, тысячи глаз следят. Он не признавался самому себе, что привычка не поднимать глаз на собеседника появилась у него от боязни, что увидят в них зависть к тем, кто юн и беззаботен, свободен и радуется простым проявлениям обычной жизни. Его давил тяжкий крест власти. Давно, на протяжении десятка лет его не покидало чувство, что эта непосильная ноша не оставляет его по ночам. Ночь не давала ему никакого успокоения, женщины его не удовлетворяли, жена не интересовала, сон покинул насовсем с тех пор, как пришлось работать по ночам в тесных низких кабинетах райкомов под эгидой Великого вождя, которому предан был всегда и поклонялся сейчас втайне от всех, несмотря на трагедию, расколовшую страну на два, теперь уже навсегда враждебных друг другу лагеря… В особенно тяжкие для души дни он отдыхал, напиваясь вусмерть пьяным. Потом ужасно страдал, приходя в себя, напивался опять. Мозг отключался вместе со всеми страхами, страстями, переживаниями. Потом сам, без чьей-то подсказки, понял: в один страшный миг может сорваться в такую глубокую трясину, из которой не выбраться и его закалённому организму. Однажды он пришёл в себя на полу служебного кабинета и увидел рядом на ковре собственный «вальтер», подаренный ещё в Молдавии местным начальником милиции. С ужасом попытался вспомнить, как оказался на полу? Почему рядом оружие? Но не вспомнил даже того, как поднял первую рюмку…
Политической шалости у него не было: он не знал комсомольских рейдов, бесшабашности ночных вечеринок и посиделок, не щупал девок в отчаянных студенческих отрядах. С трибуны рукой не махал бушующей в праздничных неистовствах толпе, скорее отмахивался. Не было в нём помпезного вождизма. Он без лёгкости принял скипетр власти на голову, поэтому и страдал. Теперь уже и сам понимал — нести ношу придётся до конца, пока не случится страшное.
Леонид Боронин один сидел в кабинете. Поздний вечер за окном напомнил о себе включившимся вдруг электрическим светом в окнах облисполкома напротив. Он включать света у себя команды не давал. Послушная секретарша давно убежала домой, он не задерживал технических работников, когда сам засиживался допоздна.
Боронин подошёл к большому окну, отодвинул тяжёлую портьеру, выглянул через стекло на улицу. По улице торопился домой отслужившийся люд. Но скоро, поужинав, некоторые бывшие чиновники, заселившие дома на этой улице и обитающие поблизости от городского центра, появятся снова, кто с жёнами, кто с детьми, кто с собаками. Зарождалась мода заводить собак, чтобы они выгуливали своих хозяев, просиживающих дни в жарких кабинетах. А улице, он слышал от бойкой секретарши, присвоили именование то ли «улица утраченных надежд», то ли «разбившихся сердец». Забыл…
Боронин опять, в который раз, вернулся к запавшей в его голову ситуации.
Нет, происшедшее в колхозе его особенно не тревожило. Неинтересен был ему тот член областного комитета партии со странной фамилией Деньгов, председатель колхоза «Маяк Ильича». Но эту ситуацию можно умело использовать и повернуть против скакуна-кавалериста Думенкова. Советчик хренов подсовывал ему кадры из своих рыболовецких колхозов. Свалить этим Ивана не удастся, тот сразу почувствует угрозу. Вон как дёрнулся, поймав его неосторожный взгляд. Чует кошка, чьё мясо съела! Эта закавыка заставит его лишний раз хорошо раскинуть мозгами, кто настоящий хозяин в крае. Быстро станет искать места в Москве. А он ему тогда, словно ненароком, по старой дружбе подсобит туда перебраться. Подтолкнёт наверх. Тот только благодарить его будет за оказанную услугу. И помогать потом будет из столицы. А куда он денется? Обязан!..
Лущенко что-то не бежит. Этот тоже из молодых выскочек. Воспитанник Ивана, верный порученец. Наслышан о его делах. Но парень дело своё знает, служит верно, такие нужны. Уйдёт Иван, Лущенко понадобится, таких держать надо около себя, чтобы было на кого опереться, а при случае и приструнить недолго. Слабостей у этой братвы хватает, сами не замечая того, в капкан лезут. Ну да ладно… Задержал Лущенко что-то Иван, пора бы ему быть, да и комиссар не звонит. Запозднился Даленко в районе у Борданова…
Когда жизнью правит судьба…
Едва Квашнин, а за ним и Камиев выскочили из дома лекаря и освоились в темноте, капитан дёрнул товарища за рукав кителя:
— Слушай меня внимательно, майор. Замедли бег, а лучше остановись.
— Слушаю, Пётр Иванович.
— Тебя как по-нашему звать-величать?
— Меня всегда Жамалом звали. К отчеству мы, казахи, не привыкшие. А на русский язык я имя своё не переводил.
— Вот и правильно, майор. Жамал, это ближе к нашему Женьке. Но я тоже переиначивать родительские имена не любитель. Жамал, это даже лучше звучит. А меня зови Пётр. Мы с тобой сейчас должны быть, как братья, потому что под пули пойдём. И людей поведём.
— Слушаю, товарищ замначотдела!
— Жамал, брат, усваивай живей.
— Есть, Пётр Иванович!
— Уже лучше. Дальше само пойдёт. Привыкнешь. Я вот что маракую. Мне всё больше приходилось специализироваться по сухопутным капканам. Поэтому соображения свои изложу; ты, если что не так, поправляй, не стесняйся.
Камиев сосредоточенно кивнул:
— Поправлю, Петро.
— Молодчина, уроки на пользу! Остров за деревней стоит, ночным гостям его не миновать, там же они оханы разоряли. Советовался я с рыбаками: там и снасть ставить — места удобные и рыбе деваться некуда.
— Несколько лет назад в тех местах как раз бракаши и промышляли, — поддержал Камиев, — но со временем бригадир начал гонять их, даже местных. Маркин рассказывал: свирепость пуще нашего Игралиева проявлял.
— Что это его так забрало?
— А он же в общественниках у Игралиева стал ходить. Помогал с нарушителями правил рыболовства борьбу вести. Тот ему красную книжку торжественно вручил при всех на колхозном собрании. Вот и зарабатывает авторитет.
— Интересно, интересно… Значит, общественный помощник по охране рыбных запасов у нас Жигунов?
— Давно уже. Считай, командир на воде в этой деревне.
— Вот так… А ещё у тебя в кусту имеются такие активисты?
— По рыбе, кажись, нет, — почесал затылок Камиев, — есть две учительницы молоденькие по безнадзорным подросткам да дружинники обычные при клубах.
— А по рыбе, значит, нет?
— Да я же рыбой не занимаюсь, Пётр Иванович. Это забавы Игралиева. Каримов у нас строго следит за соблюдением полномочий. Не твоё, не суй носа в другие дела. Своё исполнять успевай. Не мешай соседу работать.
Квашнин вроде как слушал майора, а может, и нет, только не перебивал, дал высказаться до конца.
— А с островом ты правильно решил, Пётр Иванович, — продолжал Камиев, — здесь засаду ставить надо. Мимо него не пройти, если снасти там схоронены. А больше их и ставить негде, если с умом-то.
— Значит, расклад мой одобряешь?
— Другого места быть не должно.
— Тогда, будем считать, принято. Остров я беру на себя, подымаю Маткова, его ребят. Троих нас вполне хватит.
— Ты что же, меня не берёшь, Иваныч? Я эти места, почитай, брюхом с детства излазил. Знаю лучше всех, а ты меня в запас?
— Не обижайся, Жамал, — остудил пыл майора Квашнин твёрдым тоном, не допускающим прекословия, — убийцу мне взять надо. Мне самому, понимаешь? Рассказывать и объяснять почему, я не буду. Времени нет. Потом, если спросишь, ответ дам. Но не горюй. Твоя задача не легче моей.
Квашнин замолчал, посуровевшим взглядом впился в Камиева. От его обычной весёлости и благодушия не осталось и следа.
— Как тебе сказать доходчивее, чтобы ты понял… Я вот тут всё время голову ломал: зачем Данила Павлович свои суждения и подозрения раньше времени высказывает. Вдруг всё не так?
— Ты что же сомневаешься в Даниле Павловиче? Не веришь ему? — задохнувшись, вспылил майор.
— Да при чём здесь веришь — не веришь! — так же резко окоротил его Квашнин. — Глупость ты несёшь, майор! Открывать раньше времени версии свои не хочу, сомнения при себе держу. У него своё представление о случившемся, он из города человек. А у меня другое, я здешний. И хорошо, что мы думаем по-разному. Множество суждений, ещё в философии учить приходилось, обязательно в одну истину соберутся. Но проверять все надо, чтобы короче дорожка к правде была. Вот я с тобой своими мыслями поделюсь. Мы оба сыщики…
— Оперативные работники…
— Сыщики! Значит, всех подозревать должны!
— Окромя себя, — буркнул Камиев.
— Теоретически, и себя подозревать должны, если у нас с тобой стопроцентного алиби нет.
— Ну, Иваныч, извини! Понёс ты ахинею. Действует, видать, дедова настойка, — не выдержав, засмеялся Камиев. — Книжки всё это! Студенту какому простительно, Зябликову нашему, он только начинает. А тебя куда понесло, капитан?
— Слушай меня, — не обиделся Квашнин, — я сейчас перед тобой трезвее… всех каменных идолов с острова Пасхи. Что хочешь со мной делай, а влез в эту историю бригадир!
— Жигунов? Тихон? Ты же сам Маткову рот затыкал?
— Сейчас всё больше и больше убеждаюсь, что не обошлось без него, — Квашнин говорил не торопясь, сосредотачиваясь на каждом слове, — а если он при этих делах, шанса давать ему нельзя! Неспроста Дашка его хвостом вертела. Верю я нюху Маткова. Сашок в опытного сыщика растёт… Здесь Жигунов, в деревне. Залёг на дно. В доме прячется. А раз скрывается от милиции, всего от него ожидать следует. Значит, вылезет из норы. Днём отсиживался, теперь жди его ночью.
Квашнин упёрся в Камиева взглядом, заглянул в глубину его глаз.
— Поэтому оставайся, Жамал, дорогой мой друг, в деревне, стереги и жди Жигунова у самого дома. Но не бери сразу, если вылезет. Следи за ним до последнего, до самого конца. Брать его будем на острове.
— Думаешь, что причастен Жигунов к убийцам?
— Всё может быть. Позаботься заранее о лодке на всякий случай, к острову, знаешь, другой дороги, как по воде, нет. Поедет сети вытаскивать, там его и возьмём.
— Всё же как-то не верится…
— И думать нечего! — развеивал сомнения Камиева Квашнин. — Если не он лично будет, то без его рук не обошлось. Когда ещё Дашка делами колхозными интересовалась? А тут прибежала, целый день ждала, на совещание её, видите ли, пустите. Да кто она есть? Последнее начальство в колхозе осталось!.. Дашка — начальство? Когда такое было?..
Квашнин зло рассмеялся.
— Да и пацаны врать не станут. Несмышлёныши они, чтобы такое сочинить. Спрятался бригадир дома. Вот только зачем? Сидеть он без дела не будет. А ведь целый день просидел. Вынюхивает через Дашку. А поэтому прошу тебя, Жамал, если вылезет Жигунов из дома, ты не горячись, следи за ним осторожно. Не спугни. Всё дело загубишь. Я тебе его поручаю. Знаю, кроме тебя, старого сыщика, никто с этим делом не справится. А на острове я его встречу. Только имей в виду, брать будем на снастях, когда он их вытаскивать начнёт. Чтобы всё было у нас честь по чести. При вещественных доказательствах.
— Понял, Иваныч, — Камиев не пропускал ни одного слова. — Всё как надо сделаю. Не подведу.
— Вот и славненько, — хлопнул товарища по плечу капитан, — а теперь давай по местам. А то мне торопиться надо. Ещё Сашку Маткова поднимать да до острова шпарить.
— Иваныч! — крикнул Камиев ему уже в спину. — А если Жигунов не один будет? Со снастями одному ночью справиться тяжело и опасно.
— Так нам не привыкать, Жамал, — весело откликнулся Квашнин, — в лодке-то они всё равно в одной будут.
И капитан скрылся в темноте улицы, ориентируясь в потёмках так, словно всю жизнь здесь прожил.
— Ну и голова у нашего замнача, — одобрительно хмыкнул Камиев, — не башка, а дом Советов…
Квашнин нёсся к Маткову на всех парах. Давно ему не приходилось так бегать. Хорошо, что постоянно держал себя в форме, не давал организму зажиреть. Сам каждую неделю в спортзале терзал своё подтянутое тело и мускулатуру, не уходил домой по воскресным дням, не позанимавшись, а если работа позволяла, и в любой свободный вечер, пока не сменял пару маек, мокрых от пота. Занимался на совесть, от души и оперативников своих гонял, хотя гонять их особенно не приходилось, у его сыщиков спорт был на почётном месте. Один-два то ли шахматисты, то ли шашисты, быстро перебрались, кто в охрану, кто в гаишники. Там было повольней; некому было им под ремни кулаки засовывать, чтобы животы не росли.
Два раза старлею повторять надобности не было. Матков поспешил за шлюпкой, а Квашнин на переправу и к острову, дожидаться там. Время решало всё. Засиделись они у деда на пиршестве, пока в головах просветления не наступило. Конечно, всё может рухнуть, окажись их предположения неверными, но больно уж заманчивы были догадки, факты выстраивались в стройный ряд, образуя логически вразумительную версию. Не проверить её, не воспользоваться шансом, упустить — потом ругать и корить себя будешь всю жизнь.
Только когда устроился в укромном, удобном месте на острове у берега, так, что просматривалась вся равнинная гладь реки, когда подоспел, пыхтящий, как паровоз, Матков с двумя помощниками, Квашнин удовлетворённо успокоился, дал время перевести дух оперативникам, объяснил им задачу, расставляя по местам в засаде. Сам с Матковым залёг на небольшом холме, заросшем невысоким чаканом у воды. Отсюда открывалась вся панорама реки, необычно красивая при лунном свете.
— Около десяти? — спросил, устраиваясь в траву, Матков. — Не сожрали бы комары. Здесь этих злодеев тьма тьмущая.
— Одиннадцатый час пошёл, — взглянул на часы Квашнин. — Ты знаешь что, Сашок, сгонял бы к избе, там, конечно, нет никого, но проверь на всякий случай. Оглядись, вдруг что не так, или кто заночевать там остался.
Матков растворился в растительности острова и пропадал с полчаса. Возвратившись, доложил:
— Пусто, как в консервной банке, товарищ капитан. Я без проверки был уверен, по домам мужики будут сидеть. Пока убийцу не найдём.
— Что же ты такой пессимист, Сашок? — невесело пошутил Квашнин. — Не веришь в народ?
— Глухие здесь углы, Пётр Иванович. Я не раз пытался сознательность пробуждать у местных лбов. Бесполезно. Вот кто из молодых в город выбираются, те вроде светлеют, но их уже назад не заманить. Возвращаются только родственников проведать да на похороны родителей. Вымирает деревня, как ни пыжится председатель. А деньги жалеет, чтобы что-нибудь для деревни построить. Ни школы хорошей, ни клуба. Да, что там говорить! — Матков махнул рукой. — Вы сами видите.
— Везде так, — хмуро согласился Квашнин. — Я по районам в глубинках помотался. Насмотрелся. Одно и то же. На словах: надо строить светлое будущее, подымать отсталую деревню, а каждый председатель, как считал колхоз, совхоз своей вотчиной, так и долбит. Всё на себя тащит, свои, близкой родни интересы бережет. Лозунгами только прикрывается.
Продолжать разговор на эту тему Квашнину не хотелось, но и молчать душа не желала. Не привык его организм к долгому бездействию, тем более в такую ночь. Засады были ему не в новинку. В скольких он просидел, понервничал, пока не научился принимать их за должное, не переживать, а даже и дремать, дожидаясь нужного часа. Привык и всё делал скорее автоматически, по инерции. Неизвестность переставала быть тайной, задача стояла всегда конкретно, каждому отводилось своё место. От чёткого выполнения наступал результат. Неизвестности, что трепала нервы по первому разу так, что руки тряслись, не было, поэтому улетучился и страх.
Матков, посидев немного, начал кемарить. Квашнин отослал соседа проверить бойцов в засаде, а сам достал фляжку, наполненную ещё у деда в хате, хлебнул и уставился на речную гладь, задумавшись о событиях уходящего дня.
Решение он принял. Теперь задействованы все поднятые им сыщики. Камиев не спит, конечно, бодрствует и Ковшов. Что-то будет? Гоняясь за сомнительным, не упустить бы верное. Но здесь, если он не ошибся, промаха не будет. Остров перекрыт, Камиев засел у ворот бригадирской хаты. Других версий нет. Эта наиболее реальная на сегодняшний день. Душа его немножко успокоилась.
Сбоку плюхнулся в траву Матков, неслышно прокравшись у него за спиной.
— Райское место, товарищ капитан, подобрали мы на острове, — размечтался старлей, хмыкнув, — тут и девчонки не помешали бы.
— Нет, Сашок, — возразил Квашнин, — женщины в нашем деле одно несчастье.
— Что так категорично, товарищ капитан? — не унимал игривого настроения молодой. — У нас вполне гражданская, можно сказать, служба, они же и на фронтах отцам нашим ночи боевые коротать помогали.
— Эх, Сашок, не знаешь ты, как жизнь повернуть может, — Квашнин задумался, ушёл в себя, хлебнул из фляжки. — Никогда, друг мой, не додумаешься, не сможешь предположить. А она — ра-а-аз! И ты на спине, в углу с поднятыми лапками. А до этого вроде на коне был. Рассказать, что мне довелось испытать?
— Конечно, товарищ капитан! Быстрее время скоротаем.
— Ну слушай. Только не перебивай да глаз с реки не своди…
Квашнин помолчал, пригубил напиток и затянул печальный рассказ…
Красавчику и балагуру, душе любой компании, капитану милиции Петру Квашнину везло во всём. Прямо розовощёкий кудрявый (это когда ещё лейтенантом бегал) везунчик! Единственное: фатально не везло на женщин. Злой рок настойчиво преследовал его во всех делах со слабым полом, который, к его удивлению, оказывался весь как есть изворотливым, изощрённым в любовных интригах и других интимных вещах, стоило только открыть душу. Бескровные измены и поверхностный флирт подстерегали его ещё во времена учёбы в Высшей следственной школе, где четыре прекрасных года лейтенант Петруха Квашнин, не теряя времени даром, тоже отвечал коварными романчиками своим подружкам. Но до серьёзности пора не пришла, да и незачем было зазря будоражить душу.
Серьёзное началось потом. Но и тогда одно с другим не позволял себе путать. Поставил цель — в своей профессии достичь потолка. Раз выбрал милицию, — учился остервенело, грыз науку, что называется, зубами, получил образование вместе с красным дипломом. Возвратился домой, в город. Послали в один из дальних глухих районов. Но он не унывал. Пахал за двоих-троих, дождался своего. Заместитель начальника по оперчасти, как обычно в уголовке, попивал крепко. Подвернулся случай, приехали с проверкой, а тот никакой, из запоя два дня не выходит. Выгнали, предложили его место. Отказываться не было причин, во-первых, другого быстро найдут, во-вторых, никого не подсиживал Петро, должность сама свалилась вместе с новой звёздочкой, а замнача на пенсию добром проводили, в отставку ушёл по выслуге, парторгом место нашлось в каком-то колхозе.
— Знаешь, Сашок, я тебе так скажу, — Квашнин откинулся на спину, раскинул руки на тёплой мягкой траве, утонул глазами в бездонной россыпи звёзд, — в жизни у каждого из нас всё движется само собой, этапами. Я для себя это обозначил преградами — порогами. Не приходилось бывать на сибирских речках, по которым лес сплавляют? Вот как там. Течёт, течёт река, набирает силу, раздувает её мощь, задыхается она в тесных берегах, плотам некуда деваться, друг на друга налезают, наталкиваются, одни разбиваются, врезаясь в крутые каменные берега, ломаются, обращаясь в обломки, тонут, становясь опасными для всего живого подводными плавунами, и вдруг последнее тебе испытание — порог. Тут совсем круто! Сплошная мясорубка! Но тот, кто прошёл этот порог, перед ним открылось спокойное просторное водное царство: плыви, радуйся свободе обретённой, жизни, счастью. Но не забывайся! Не обольщайся! Всё обманчиво. Дальше становится опять тяжело, не заметишь, как предстанет новая преграда. Опять перед тобой порог! Новый! И ещё страшней. А ты расслабился. И тебя нет. А другой, который рот не открывал, продолжает плыть, борется — и вновь перед ним простор, свобода, наслаждение и покой… Опять плывём… А там новые пороги. Под воду уйдёшь, враз забудут. Никто руки не подаст. А всплывёшь, тотчас цветами путь тебе усеют. Одно тревожнее с каждым разом: успеешь почувствовать приближение нового порога или проспишь и очнёшься не там, куда душа размечталась.
Квашнин отхлебнул еще из фляжки, и, не отрывая глаз от неба, завершил:
— Но иногда начинает задевать тревога, а приплывёшь ли наконец в ту гавань, где эти пороги кончаются?.. Где можно спокойно вздохнуть…
— Грустная у вас концовка, Пётр Иванович, получилась, — вставил Матков.
— Так это, Сашок, только начало. Спутал ты, — засмеялся Квашнин, и от его тоски и следа не осталось. — У меня почему-то каждый такой порог намечался с очередной бабы. Немного их было, но бабы в каждом случае присутствовали. Каюсь, не всегда удавалось мне с ними выруливать от камней. Вот и тогда, как в песне пелось, на самой заре моей жизни, только начинал я осваиваться на должности зама спившегося, появилась у меня секретарша. Я особенно на неё внимания не обращал, а она крутиться вокруг стала. Ну, опытному глазу враз видно: если баба вокруг круги описывать начинает, то жди хлопот. Мне начальник намекнул: смотри, мол, не балуй, глаз не клади на кралю, она жена районного прокурора. А прокурора нам только назначили. Молодой мужик, ревнивый страсть. А дуре, видно, нравилось ему мозги пудрить. Я от неё сторонюсь, а она лезет. Смотрю, прокурор коситься начал, придёшь с какой-нибудь бумагой, ему всё не так. Я и так и сяк. Думаю: прийти самому, объяснить всё, как есть. Пусть переведут её от меня куда-нибудь. Место-то найдут бабе, как говорили: жена Цезаря вне подозрения должна быть.
— Это верный шаг, — согласился Матков. — А что дальше было, Пётр Иванович?
— Дальше? Ты про секретаршу-то?
— Про неё. Интересно.
— Тебе любопытство, а мне, Сашок, совсем плохо стало. Подпёрло, аж, некуда. Хоть на работу не выходи. А тут День милиции пришлось отмечать. Ну, как полагается, днём торжественные поздравления, собрания, а вечером все в клуб. Танцы для офицеров. Я с мужиками не удержался, выпил и не помню, как в клубе очутился, а идти не хотел и не думал. Она, дура, тут как тут, возьми и пригласи меня на вальс. Мужика-то её не было. Он потом появился. Ну танец я оттоптался кое-как и дёрнул оттуда домой, от беды подальше. Только этого уже хватило сполна. События, потом мне рассказывали, развивались так, что у Шекспира все трагедии бледнеют. Прокурор приревновал её ко мне и вечером гонять начал: избил до смерти, топором по голове ударил. Она без сознания свалилась. А он с испугу решил, что убил её. Убежал на чердак дома, дом-то частной постройки, долго мучился там и повесился. Вот тебе и конец всему!
Квашнин, видно, вспомнив всю трагедию, словно воочию увидев, смолк. Матков съёжился, слова боялся сказать.
— В районе переполох поднялся, — продолжал наконец Квашнин. — Пошли пересуды. Меня начальник чуть не под арест домашний засадил до завершения проверки. А проверку приехал проводить заместитель прокурора области, сам Тешиев Николай Трофимович. Слава о нём ещё тогда шла. Маленький мужичок, но шустрый. Во все тонкости вникает, докопаться до нутра норовит, старой закваски боец. Он и разобрался во всём. Сам труп осматривал. А прокурор записку, оказывается, оставил при себе. Сначала в суматохе её никто и не искал. Прокурор перед тем, как руки на себя наложить из-за того, что жену зарубил, написал просьбу в его смерти никого не винить, а в смерти жены виноват он сам… А она, стерва, жива оказалась! Очухалась в больнице, через месяц выписалась, как ни в чём не бывало… А меня из района начальник всё же попёр, в другой район перекинул. Только враз мордой в рядовые сыщики, назад в уголовку. Хорошо ещё Михаил Александрович Лудонин, наш отец родной, заступился. Потом я узнал, что ему удалось смягчить удар, а то пришлось бы и круче…
Квашнин хмыкнул, поднял голову, оглядел реку. Луна в небе гуляла; вовсю по реке ветер шуршал в камышах и чакане.
— Трудновато будет незамеченными мимо нас проскочить. Светло, как днём. Пойдут они вдоль камыша. Так что, Сашок, упреди ребят, чтобы сидели тихо. Себя чтобы не обнаружили.
— Сидят, как мыши, Пётр Иванович, мои орлы. Я им команду дал: опасного зверя ждём.
— Сам не зевай.
— Обижаете, Пётр Иванович, я одним ухом слушаю, а с воды глаз не спускаю.
— Не имеем мы права, Сашок, их упустить. Чую я, здесь они пойдут. Больше нет места. Завтра мы боронить реку будем, тряпочный телефон об этом уже весть донёс.
— Думаете, нескольких удальцов нам ждать?
— Ну не гурьбой, конечно, попрут, однако, полагаю, не меньше двух будет. Поднимать снасть с такими крючками при бешеном течении реки одному опасность страшная. На дно угодишь, если зазеваешься.
Они помолчали. Матков покашливал в кулак тихонько, нетерпеливо ждал продолжения от Квашнина. Тот сдерживался, вглядывался в камыши, посматривал на речку, но тишина убаюкивала, клонила к дремоте, и он наконец сказал:
— Вот так, Сашок, я первый раз на себе тот злобный рок бабского сглаза испытал. Зарёкся к ним не подходить на пушечный выстрел.
— А как же у нас в районе оказались, Пётр Иванович? Рассказывают мужики небылицы разные.
— Ты, Матков, любопытный больно. За речкой следи.
— Прошу извинения, товарищ капитан.
— Да ничего. Ты здесь ни при чём. Я сам ностальгией занялся. Теперь грех останавливаться на полдороге. Слушай дальше. Только языком не трепи. Развезло меня от бальзамчика Упыря. Чудный дед, однако.
— Упырёв Ефим? У которого вы остановились?
— Он самый. Глубоковерующий старичок. Аж спина мурашками пошла, когда крестить он всех начал в хате за ужином. У него, видать, женщин-то никогда не бывало. Не представляю его и разные шашни!
Матков прыснул в кулак:
— Старушки его уважают, хотя он и росточком в полметра. Не в этом, знать, главное.
— Вот видишь. Это сейчас в старости, а по молодости, думаешь, шустрый был? По глазам видать, глаза яркие. Всё впитывают, на всё внимание обращают. Жизнь он любил и сейчас любит, не зря старушки к нему тянутся.
Квашнин помолчал, порассуждал ещё о святом характере старца, возвратился к своим переживаниям:
— В городе жизнь совершенно другая, нежели в деревне, да и науку из той трагедии, которая меня едва не сгубила, я извлёк серьёзную, выводы для себя сделал. Решил, как подвернётся стоящая, враз женюсь. Нечего судьбу пытать. Так и поступил. Только опять не заладилось. Прошли медовые месяцы, я сразу донимать её стал насчёт детей. Чтобы всё, как положено и основательно, по-людски. А она, оказывается, не способная к зачатию и рождению детишек оказалась, у неё, врачи говорили, большие проблемы с этим были. Меня как серпом по тому месту… Я поначалу с ней кучу врачей объехал, они всё одно твердят. Как только до меня это окончательно дошло, охладел я к ней. Смотреть не могу. Мне серьёзная женщина была нужна. Свой дом хотелось, семью, всё, как у людей. Впереди ещё жить да жить, а тут такой облом в самом начале… К разводу дело пошло. А моя обиженной себя вообразила. Развода, говорит, не дам, куда ты, партийный, денешься, семью калечить тебе не позволит никто. Да ещё погуливать начала, чтобы мне, значит, досадить. Я её раз, два приструнил, она попивать стала и на кулаки нарываться, чтобы потом синяки афишировать: вот, мол, подлец какой, этот милиционер. После каждой разборки всё хуже и хуже обстановка нагнеталась. Я домой перестал ночевать ходить. Благо, работой завалили, город это тебе не деревня. Тут убийство за убийством, разбой за грабежом, а уж кражи до десятка за сутки, только успевай фиксировать. Я тогда мухлеванием не занимался, хотя учителя уже появлялись. Одним словом, зашился в работе, днём забежишь в столовую, в рот что-нибудь закинешь — и назад в горотдел. Там уже дежурка на очередной вызов ждёт, как скорая помощь. Летом беда и приключилась. Однажды домой приехал, в хате нет никого, а чую посторонний след. У нас, сыщиков, видно, как у собак-ищеек, действительно свой нюх, особый. Был кто-то другой в квартире, чужим мужиком пахнет, приметы в глаза лезут. Вроде не так полотенце моё лежит, опять же бритвенные принадлежности не промыты, а я насчёт этого аккуратный. Не знаю, но меня тогда сразу пот прошиб, как ударило. Люди охотно верят тому, чего желают. Вот и я решил для себя: она, стерва, совсем зарвалась, на моей постели чужого мужика принимает. Поймаю, обоих убью!.. И уж потом от этой мании, веришь, Сашок, проходу мне не было… И поймал, захватил обоих!
Матков аж вздрогнул от того, как вспыхнул его начальник при последней фразе. Голос изменился, злость обрел.
Почти выкрикнув последние фразы, Квашнин словно очнулся, узрел, что он не там, не в квартире несколько лет назад, а здесь, в полном одиночестве ночью на острове среди бурлящей реки, и остановился, вернулся в действительность. Голос его потерял живость, осип совсем.
— Её я трогать не стал. Едва открыл дверь, дал ей убежать. А фраер её таксистом оказался. Машина там же у дома стояла. Не думали они, не гадали, что я появлюсь к вечеру. Когда я разговор с ним повёл, он, не теряясь, выдал мне, что не первый раз гостит здесь. Я слушал, слушал его наглости, а с пушкой был, вытащил ствол и перед собой положил… Поначалу пару раз ему врезал, не без того… Потом спрашиваю: любишь её? Он молчит, лыбится, тебе, мол, какая разница до наших отношений, убивать будешь, — убивай. Я ему, — такой падалью руки марать не собираюсь. А самого разбирает, руки трясутся, хоть в карманы прячь! Он тоже весь в истерике, завелся. Кричит, что боишься, мент штопаный, стрелять-то не умеешь. Пушку для ворон носишь, отпугивать. Я ему, заткнись, мол, убью. Он хвать со стола яблоко, фрукты у них разложены были, на голову себе ставит. Стреляй, мне кричит, проверим твои способности. Я весь взбесился, себя не помню, не целясь навскидку и по яблоку. Всю обойму разрядил бы, только её там не было. В стволе один патрон оставался. Его и хватило. Он даже руки убрать не успел с башки. Заорал, за голову схватился. Мат-перемат, стонет, кричит, по полу катается. Я враз отрезвел. Не знаю, что делать. Стою посреди комнаты, в руке пистолет. Мужик на полу у постели вертится. Смотрю, у него кровь сквозь пальцы. Я к телефону, врачей вызывать. Он мне, как я номер набирать начал, кричит: «Положь трубку!» Я не пойму, не врублюсь; вроде в башку ему попал, а он разговаривает, значит, живой, не насмерть. Подковылял он к телефону, сам стал звонить. Приехали два другана его, тоже таксёры. Перебинтовали и увезли. Я до вечера в хате просидел, к ночи напился. Не помня себя, уснул. Утром звонят его дружки — всё, начальник, никуда не бегай, не трясись, Димка молчать решил, свою бабу уйми. Я им, мол, давайте встретимся, а они мне, — время придёт, сами найдём. Считай — ничего не было. Доктор обещает — заживёт, как на собаке, раз сразу Богу душу не отдал. Не знал он, что ты из ментов, стерва твоя ему мозги дурила, о тебе молчала. Живи спокойно.
Квашнин оторвал глаза от бездонного тёмного небосвода, глянул на водную гладь:
— Как там у нас?
— Всё тихо, Пётр Иванович, — заверил его Матков.
— Машка ко мне больше не вернулась. Знала, что не приму. Даже за вещами своими не пришла. Я сам потом собрал их и матери её сгрузил. Но пошла уже молва гулять. Правильно говорят: шила в мешке не утаишь. Дошло до анекдотов среди милиционеров, я сам как-то по пьяне проговорился. Одна сказка — на другую, вырос снежный ком, чуть ли не история про милицейского Вильгельма Теля. Меня начальство — в оборот. Я не дурак, сам на себя стучать не буду, хотя чуть было душу не открыл, но сдержался. Оказалось, действительно таксист тот из больницы выписался, подсылали к нему наших кадровиков из спецслужб, он отказался давать показания, говорит: несчастный случай, с ружьём баловался по пьяни. Я ему ухо чуть надорвал, а так на башке ничего не задел. Ну и конечно, историю болезни его никто не смотрел, раз заявления нет от больного, значит, и дела нет…
Квашнин помолчал и закончил свой необычный рассказ:
— А меня сюда к вам отправили только без майорских погон, которые в городе заработал; большую звёздочку — долой. Но что грустить, Сашок, их опять больше стало, целых четыре, как на небе сейчас перед нами… Вот так и не везло мне на порогах… А всё эти, будь они не ладны, бабы!
Квашнин потёр руки, пошлёпал себя по карманам, повертел в руках пустую фляжку:
— Ты, Сашок, конечно, запасся на ночь-то?
— Службу знаем, товарищ капитан, — лихо и весело вскочил Матков и полез за пазуху.
— Однако стоп! — одёрнул его Квашнин. — Глаза на воду… Вот где мне везёт! Смотри, появился, голубчик, заждались которого…
Вдоль тёмной стены камыша скользнула бесшумная лодка. На ней отчётливо в лунном свете просматривалась фигура единственного гребца за вёслами.
— Отчаянный чёрт… Один идёт. Ну, встретим… Давай, Сашок, команду ребятам, пусть пропускают его к нам. Там за ним сейчас Камиев должен показаться. Чтобы они майора за чужого не приняли.
— Майор Камиев?
— А ты как думал? Камиев убийцу ведёт из самой деревни, а может, и из дома. Я тебе не говорил, чтобы не накликать чего раньше времени. Суеверный я, Сашок, стал до ужаса после этих бабских штучек-дрючек. Примета появилась. Не обижайся.
— Какие обиды, товарищ капитан?..
— Ну и славненько. Давай, командуй пацанами. Они здесь останутся. Пусть нас ждут и Камиева, а мы с тобой на шлюпке за этим лодочником пойдём. Брать будем на снастях, когда он их снимать начнёт.
Матков пропал в темноте в береговых зарослях, только волны пошли от его мощного засидевшегося тела, и скоро возвратился.
Лодка с неизвестным гребцом миновала укрытие милиционеров на острове, проплыла дальше. Камиев не появился.
— Что-то случилось с Жамалом, — занервничал Квашнин, — а ждать больше нельзя. Пошли вдвоём. Лихо двигается этот дьявол. Не пропал бы с фарватера совсем. Терять из виду нам его нельзя, давай за мной!
Квашнин и Матков спрыгнули в заросли береговой растительности, и их фигуры, слившись с тёмной шлюпкой, устремились в погоню за уплывающей лодкой.
Прошли середину острова. Неизвестный не проявлял признаков тревоги или беспокойства, уверенно работал вёслами, заметно опередив преследователей, но шест, которым мощно толкался на корме шлюпки Матков, и вёсла Квашнина выровняли ситуацию. Затем Квашнин вынужден был шёпотом отдавать команду старлею умерить пыл, чтобы шумом и плеском воды не спугнуть неизвестного.
«Если пройдём остров и он не остановится, — подумал Квашнин, — придётся догонять беглеца и приступать к захвату, иначе выйдет на чистую воду и к нему не подберёшься…» Но домыслить он не успел. Лодка впереди замедлила ход, стала разворачиваться на течении, никем не управляемая.
Неизвестный, удобно устроившись в лодке, начал осторожно перебираться по снасти, аккуратно высвобождая её из воды и бережно укладывая на днище. Орудуя ножом, как бритвой, он иногда застревал на каком-нибудь страшном крючке, чтобы вырезать и освободить зацепившуюся величественную ещё некоторое время назад царственную рыбу, выбрасывая теперь её уже мёртвое тело в рвущуюся в быстром течении тёмную бездну реки. Рыба, ещё живая или уже загиблая, ему была не нужна. Его целью была снасть, — единственное свидетельство его причастности к событиям, не так давно происшедшим здесь, и он её по-хозяйски извлекал из воды. Работать ему было тяжело, неудобно и опасно. Ошибись — и острый крючок, злодейски вцепившись в руку, ногу, одежду, опрокинет и утащит на дно, где сам станешь кормом подводной живности. Однако неизвестный, рискуя жизнью каждую минуту, справлялся со снастью и с могучей силой реки.
Квашнин, наблюдая за ним, пытался различить в движениях, повадках, очертаниях фигуры знакомые приметы; ругал себя в который раз, что отказался от помощи Камиева. Майор, знавший в деревне каждую собаку, давно бы опознал злодея, а случись это, считай, полдела было бы сделано. Можно ли ожидать сопротивления от нарушителя, когда его наверняка узнали? Покличь его по имени за таким опасным занятием, и он сам подымет руки.
Между тем лодка с нарушителем благополучно вырвалась к середине реки; освещаемая луной, она и он, весь отдавшийся занятию, прибывали, как на ладони. Квашнин и Матков в чёрной береговой глуши чакана и камышей были неслышны и невидимы глазу. Момент самый подходящий.
— Саша, бери парад на себя, — шепнул Квашнин Маткову, осторожно извлекая из кобуры пистолет и снимая предохранитель, — у меня что-то голос сел.
Сырость реки изменила твёрдость его голоса, обильная влага появилась на лбу и бровях, застилала глаза. Второй раз в жизни ему представлялась необходимость стрелять по человеку, но рука и в этот раз не дрожала, а пот он тщательно обтёр со лба скомканной в твердом кулаке фуражкой.
— Эй, на лодке! — гаркнул изо всех сил Матков так, что, казалось, мегафон загулял по реке. — Суши вёсла! Стоять! Милиция!
И тут же Квашнин, снимая напряжение и для верности, остерёг преступника, пару раз пальнув в воздух.
Человек на лодке вскочил и замер, от едва заметного толчка ноги снасть тяжёлым комом упала за борт. Неизвестный уловил, что опасность грозит ему с берега, но засады ещё не видел. Паники и испуга в его действиях не наблюдалось. Он ожидал.
«Матёрый волчище, в штаны не наложил», — подумалось Квашнину.
— Не дури! — ещё громче крикнул Матков. — Давно в кольце у нас! Суши вёсла!
Квашнин для острастки лупанул из пистолета над лодкой. Если в лодке вор опытный, должен знать: все условности в отношении него милиция исполнила, теперь рыпнешься — и дырку в шкуре заработаешь сразу.
Демонстрируя покорность, человек опустился на дно лодки, не двигалась.
— Ну вот и славненько, — Квашнин сунул пистолет в кобуру, подхватил багор с днища, крикнул Маткову: — Давай, Саша, толкайся! Я его аккурат зацеплю.
И их шлюпка, подчиняясь сильным толчкам Маткова, ловко выскочила из тёмных береговых заводей и полетела по гладкой поверхности реки к её середине. Одновременно с этим кончилась игра в жмурки — неизвестный обрёл возможность видеть противника. Он подождал, оценивая ситуацию. Никакого кольца милицейского не было и в помине. Врагов двое, и оба они, не ведая того и уж, конечно, не желая, допустили роковую ошибку. В руках у них были деревяшки: багор и шест. И стояли они на шаткой шлюпке, мешая, а не помогая друг другу. Да и расстояние между лодкой и шлюпкой не такое, чтобы схватиться врукопашную, где преимущество будет на их стороне.
Оценив всё это, бандит перешёл к активным действиям.
— Ложись, Сашка! Ложись! — заорал что есть мочи, Квашнин, но упал сам, придавленный сверху свалившимся на него тяжёлым грузом старлея, и ткнулся в днище лодки, разбив в кровь нос.
В последнюю секунду он с ужасом для себя увидел, как у неизвестного невесть откуда в руках появилось ружьё. Подряд грохнули один выстрел за другим. Треск пошёл по шлюпке, дробь запрыгала над головой. Пробуя вывернуться из-под тяжёлого тела Маткова, Квашнин попытался выглянуть наверх, но сделать это было не под силу. Их шлюпка продолжала двигаться по инерции; неизвестный, видимо, перезаряжал оружие. Передышка длилась недолго, хватило времени Квашнину лишь дотянуться до кобуры и прогремели следующие два выстрела. Неизвестный крушил их шлюпку откровенно, уверенно и безнаказанно, не трогая милиционеров.
В ситуации, в которую угодили нападавшие, верх был уже у браконьера. Грохнули ещё два гибельных выстрела. Шлюпка совсем остановилась, не управляемая никем, она заскользила вниз по течению, удаляясь всё дальше и дальше по реке.
— Сашок, ты цел? — выдохнул Квашнин, почувствовав под собой воду, стремительно заполнявшую шлюпку.
Вода бурлила, но к её пугающему бульканью добавился ещё один звук. Этот звук нельзя было перепутать ни с чем. Заработал подвесной мотор. Откуда? Звук шёл от лодки нарушителя! Это конец… Его, прославленного капитана Квашнина, известного грозу шпаны, воров и бандюганов, провёл какой-то браконьер!
— Погоди! Рано нас хоронишь, сука! — услышал вдруг Квашнин голос Маткова.
Тот, распластавшись на корме тонущей шлюпки, медленно двигал длинным стволом в направлении запрыгавшей под шустрым руль-мотором браконьерской лодки. Квашнин затих, боясь малейшим звуком или движением помешать старлею. Грохнул, раскатившийся эхом по ночной реке, выстрел. Это было что-то внушительное, как если бы пушка вдруг ударила, неизвестно откуда появись. Снаряд, шелестя веером искр, вспарил в воздух, устремился к лодке и, настигнув её двигатель, врезался в металл с жадностью зверя. Мгновением позже ослепительная вспышка взрыва озарила окрестность, и то, что осталось от лодки, начал жадно поглощать огонь. Что творилось дальше, наблюдать было некогда, Квашнина привлёк тяжкий стон Маткова. Он бросился к тому, уже хлюпая в воде. Матков держался обеими руками за бедро.
— Слегка задело, Пётр Иванович, — будто извиняясь, оправдывался он, — пустяки.
— Дай-ка, я гляну, — Квашнин осторожно освободил рану от одежды. — Сейчас, дружище, всё будет, как в лучших домах Лондона.
В темноте, где глазом, а где на ощупь, он понял, что ранение ноги старшего лейтенанта не опасное. Вместо дроби кусок острой древесины, расщепленного выстрелом весла, глубоко врезался в бедро старлею, вызвал кровотечение и причинял страдание.
— Двигаться можешь? — с надеждой спросил Квашнин.
Матков, стиснув зубы, покачал головой.
— Придется её вытаскивать, — поглаживая громадную занозу, как ребёнка, нараспев протянул Квашнин и вдруг резким рывком, найдя удобное место на древесном осколке и цепко ухватив его рукой, рванул на себя.
— Ё моё!.. — задохнулся в крике старлей.
А Квашнин уже крепко обматывал ему рану порванной на себе форменной рубахой, приговаривая:
— Ты что же, бедолага, в него из ракетницы пальнул? Не надеялся из пистолета попасть, а?
— Так верней, товарищ капитан, — возразил старлей.
— Ну как теперь? Попробуешь подняться?
— Пожалуй, да, — Матков попытался встать, но упал, охнув и закрыв глаза.
— Однако… — заскрипел зубами Квашнин, — нам бы, Сашок, с тобой теперь до берега добраться. Пловец из меня не ахти.
Вода плескалась в тяжелевшей с каждой минутой посудине. Квашнин только теперь оглядел то, что осталось от их злосчастной лодки: зрелище было неутешительным, она едва держалась на поверхности воды.
Квашнин поморщился, не находя слов, сплюнул, бросил злой взор к месту взрыва. Кроме обломков, чадящих в ночи гарью и дымом, над водой ничего не было видно. Пропал и неизвестный.
Qualis dominus, talis et servus[5]
Чудная погода!
Прекрасный день!
И несказанно привлекательной казалась прогулка на воде под свежим ветерком, не случись оказии.
На пирсе, у аккуратного воздушного мостика на белый кораблик, дряхлая старуха перекрыла дорогу комиссару милиции, чуть не бросившись ему под ноги. Рванулся вперёд подполковник Каримов, остеречь непутёвую, но замер под повелительным жестом Даленко, застыл, окаменев.
— В чем дело, гражданка? — вперил в бабку жёсткий взгляд Каримов.
Та, ещё не остыв, поворачивалась то к одному, то к другому милиционеру; в звёздах на погонах она не разбиралась, поэтому полагалась на свою житейскую логику. Тот, который её чуть было не схватил в объятия, был ловчее, тонок и привлекательней. Но грозен. Второй — тяжелее на ногу и спит на ходу, но солиднее и с красными лампасами на штанах. Затесавшийся между ними прозрачный Соскин вообще её не интересовал.
Она ухватила комиссара за рукав мундира, не ошиблась.
— Миленький, я за своего Мишку просить хочу!
Даленко внимательно изучал просительницу, руку не одёргивал, ждал.
— Сынок мой с Фирюлиным Акимкой водился. Акимку-то выловили ловцы. Мово нет до сих пор. Живой он или как? Искать будете? Что делать-то?
Старуха, сухая, как ветка, лет семидесяти-восьмидесяти на вид, твёрдо передвигалась на собственных ногах, и увесистая клюка выше головы внушительно удерживалась ею в руке скорее от уличных собак, нежели для опоры.
— Товарищ комиссар, — уловил суть обращения Каримов, — это, скорее всего, мать Дятлова Михаила. По сведениям моих оперативников его видели с утопленником, вместе они при жизни браконьерничали.
Не останавливаясь, он повернулся к старухе:
— Поисками твоего сына мы уже занимаемся. В деревне находится сейчас участковый Суворин, обратись к нему. Напиши заявление. Знаешь своего участкового?
— Как же, знаем, — степенно отвечала бабка. — Он сегодня был у меня. Расспрашивал. И Камиев заглядывал. Но мне главного вашего надо увидеть. С Мишкой и лодка наша пропала, а что он без лодки? Где концы искать? В колхоз идти?
— Сына отыщем, мать, — заговорил комиссар, которого просительница так и не отпускала, — но тут дело непростое. Время понадобится, чтобы разобраться. Все вести у участкового спрашивай. А это… — Даленко кивнул в сторону вытянувшегося подполковника, — это ваш начальник милиции. Он и сообщит, как найдут.
Старуха понимающе закивала головой:
— Лодка совсем хорошая была, Мишка её весной только проконопатил, просмолил. Новая почти.
Комиссар был уже на катере, Соскин давно суетился в рубке капитана, Каримов запрыгнул на борт последним. Старухе действительно клюка нужна была для собак, одна неугомонная облаивала её до тех пор, пока лёгкий катерок не скрылся из вида.
Всю остальную дорогу до райкома молчали, один угрюмо, другой послушно; Соскин не интересен был никому. Комиссар, углублённый в себя, иногда справлялся у Каримова о каком-нибудь населённом пункте на берегу. Тот старался обстоятельно рассказывать, но что расскажешь о двух десятках изб? Обстановку в районе подполковник давно уже доложил, а говорить об убийстве?.. Какой смысл, когда ничего не ясно. Квашнин проинформирует, вероятнее всего, только к вечеру, если будут новые сведения.
— Странная какая-то эта стрельба, — вдруг проговорил комиссар. — В этой деревне когда последний раз убивали?
— Последнее убийство в районе было полтора года назад, а в этой деревне совсем ничего подобного не припомню. Здесь не город, товарищ комиссар.
— Патриархальная тишина, — процедил сквозь зубы Даленко, — спящее царство.
Они сидели вдвоём на корме шустрого катера, спрятавшись от ветра за капитанской рубкой; спустя час-полтора пути свежесть и прохлада превратились в опасность, и Каримов уговорил комиссара перебраться в эту часть корабля. В каютах и кубрике было душновато, к тому же особенно не поговоришь при посторонних. А поговорить с комиссаром Каримову очень хотелось. Он всё-таки не отчаивался услышать мнение начальства по поводу пойманного утопленника.
— Гастролёры городские не поделились с вашими местными бракашами, — ни к кому не обращаясь, выдавил из себя Даленко.
Каримов ловил каждую его фразу.
— У меня есть все основания полагать, что Дятлов тоже скоро обнаружится, — многозначительно вставил Каримов, так и не дождавшись продолжения от Даленко.
— Ты скажешь! У него есть основания… — откровенно хмыкнул комиссар и сплюнул за борт. — Мне задницу твоими основаниями подтирать! Завтра «самому» докладывать, а у тебя — основания…
Каримов прикусил язык.
— И думать нечего — на дне и второй! В низах, у моря сегодня-завтра его вылавливать. Искать на раскатах нужно, пошлю туда местных оперов и вертушку добавлю. Если не зацепится нигде, подтвердятся твои основания. — Даленко напряжённо хмыкнул, получился всхрап возмущённого могучего жеребца.
Каримов даже вздрогнул, продолжая ругать себя, — вот ляпнул! Но от своего отступать не собирался. Чуял, он на верном пути, только Даленко не успел ухватиться за его удачную находку.
— Я к чему говорю, товарищ комиссар, — снова начал он искать подходы к Даленко, когда тот успокоился, — отношения между этим утопленником и пропавшим Дятловым развивались не на мирной основе.
— Кончай ты свою дипломатию! — оборвал его Даленко. — Проще говори! Крутишь вокруг да около.
— Поколачивал утопшего Медведь.
Комиссар заинтересованно вгляделся в подчинённого, явно стараясь осмыслить услышанное.
— Медведь — это кличка Дятлова, — начал осторожно развивать удачную находку начальник райотдела. — Он с Фирюлиным дружбу водил только ради промысла, а так, в общении, не уважал его. Аким — уголовник, авторитетом в деревне не пользовался, хотя и отсидел в колонии за продажу краснухи. А может, как раз, что был судимый, поэтому и уважением не пользовался. Да и чужак он, в деревне так и не прижился, хотя бабу себе нашёл. Так городским его и считали, а за воровские замашки не терпели. В колхозе к работе его Деньгов так и не допустил, а Тихон Жигунов гонял его от рыбаков. Мне докладывали, что даже поколачивал он Фирюлина, когда тот на тони нос совал. Как-то избил, хоть в больницу вези, но я хода делу не дал — Аким заявление писать отказался. И от дружка его, Дятлова, Гнилому доставалось. И не раз. Вот какая интересная закавыка. Не всё у них миром было между собой.
— Ну это ещё не факт, — не улавливая, куда клонит Каримов, рассуждал комиссар. — По пьяне кому морду не набьёшь. А среди этой братвы, уголовников, какая может быть любовь и дружба? Они верх свой только кулаком и держат.
— Оперативники мои сейчас отрабатывают версию об их контактах, — хитро договаривал подполковник, — есть люди, которые видели и синяки, и побои после уроков, что устраивал Дятлов Фирюлину, товарищ комиссар. В больницу Аким не ходил, но грозился припомнить дружку при случае. Слышали люди эти его заявления. Медведь ничего не прощал.
— Слышали люди, говоришь?
— Я дал команду по всем дракам провести тщательные проверки и материалы представить следователю.
— Это очень важное обстоятельство и вполне вероятная версия, — уже более заинтересованно отреагировал комиссар и поощрительно хлопнул Каримова по плечу. — Ты, Равиль Исхакович, поручи ребяткам внимательно всё отработать. Браконьерством эти двое кормились на воде, разбойничали, здесь и смерть свою нашли, не поделив добычу.
— Медведю хлопнуть Гнилого раз плюнуть, — подхватил мысль комиссара Каримов, — у него вон лапища какая, человека угробить ему ничего не стоит. Не зря прозвище получил. Мне Квашнин докладывал: против Медведя никто в драках не вставал. Он только Тихона Жигунова опасался.
— Это какого же Жигунова? Звучала вроде его фамилия на совещании…
— Да, бригадир колхозных рыбаков, товарищ комиссар. Тихон Жигунов, зять председателя колхоза, Полиэфта Кондратьевича Деньгова.
— Он ещё и зять вашего члена обкома партии?
— Тот самый. Зять члена обкома, — уважительно подтвердил начальник милиции.
— А что имя какое-то странное? Не из старообрядцев?
— Что вы, товарищ комиссар! Деньгов вырос на Каспии. Семья — сплошь знатные ловцы, сам воевал, боевой фронтовик, в партию ещё до войны вступил. Колхоз в руках крепко держит, у Хансултанова на хорошем счету был всегда. И сейчас планку не опускает. План по рыбе всегда перевыполняет.
— Скорее всё так и было, как ты говоришь, — вернул комиссар Каримова к оборвавшейся теме разговора, — по пьянке ночью на почве вражды эти бандюганы вполне могли друг друга перестрелять. Врач, что утопленника осматривал, какое заключение дал? Пьяный был браконьер?
— Я что-то прослушал, товарищ комиссар. Мы с прокурором района увлеклись другой темой при обсуждении версий.
— Ты проследи за врачом. Пусть тщательно труп исследует при вскрытии. В воде, конечно, долго пролежал, но водка, если принимал, должна остаться.
— Свидетельскую базу проверим, товарищ комиссар, — отчеканил Каримов, — пили они оба, не просыхая. Пьяные были.
— Ну вот видишь, что получается при тщательном раскладе, — поучительно наставлял Даленко подполковника, — тебе и карты в руки.
— Будет исполнено, товарищ комиссар! — щёлкнул каблуками Каримов.
Катерок между тем подходил к пирсу, где толпились люди. Путешествие по воде завершилось.
— Ты посмотри-ка, — вглядываясь в людей на причале, усмехнулся комиссар, — кажется, нас встречает ваш первый секретарь.
— Точно, товарищ комиссар, — отчеканил Каримов, — Валерий Николаевич Борданов сам пожаловал вас встретить.
— Уважительный человек, — протянул Даленко, — как у тебя с ним?
— Полное взаимопонимание и порядок, товарищ комиссар.
— Держись. Не подведи меня. Прислушивайся. Новая метла… ты знаешь, учить не буду.
— Будет исполнено, товарищ комиссар!
— Ну, ладно, расслабься. Что заладил: комиссар, комиссар…
Катерок совсем уже подходил к причалу. Первый секретарь райкома партии Валерий Борданов издалека радушно улыбался комиссару, развёл в стороны руки, изображая желание обнять гостя.
— А что? — повернулся к начальнику милиции Даленко. — Молодец ты, с поездкой этой по воде правильно удумал! Воздух, прохлада. Не то, что вертухались мы с Игорушкиным в этой треклятой громыхалке, когда сюда летели! Действительно, и организму пользы много и делу. Голова-то как работает, будто у молодого от свежего воздуха! А насчет той версии о драках и стрельбе ты тщательно всё проверь.
И вдруг, уже направляясь к выходу с корабля, спохватился:
— А ружья-то у них имелись?
— Как же, в деревне и без нагана, — шутя, успокоил комиссара Каримов, понимающий всё и сразу, — такого у нас не бывает.
Недавно назначенный первый секретарь райкома партии Валерий Борданов недолго ломал голову, как и где встречать высшего руководителя управления внутренних дел области. Энергичный, как все молодые, ещё без комплексов, секретарь решил выехать на рыбокомбинат, пообщаться там с директором, с народом и там же встретить большого гостя, о котором с утра прожужжал ему все уши начальник милиции Каримов.
Они обнялись, комиссар возвышался глыбой, но секретаря это нисколько не смущало, руку гостя он испытал на твёрдость пожатием бывшего борца-перворазрядника так, что комиссар тоже проникся чувством мужского восхищения. Соскин за компанию прыгал тут же, подталкивая к комиссару знакомиться директора рыбокомбината.
— Петрович, — по-простому обратился к директору Борданов, — покажем гостю наши богатства?
— Как же не показать, Валерий Николаевич? — охотно засуетился директор. — Есть что посмотреть! Не в каждом районе так производство налажено, как у нас. Современная технология!
— Вот и показывай, — увлёк комиссара за директором секретарь, — удивляй начальство.
Из всего увиденного, чем удивлял директор гостей, комиссара впечатлил процесс умерщвления живых осетров перед помещением их на разделочный конвейер, когда здоровенный мужик в резине по пояс залезал в ванную, где металась беззащитная обезумевшая рыба, и здоровенной дубиной глушил осетров направо и налево. Рыба после сокрушительных ударов затихала, даже самая большая, и краснела на глазах.
«Вот почему её называют красной, — решил для себя комиссар. — В самом деле, любого по башке такой дубиной очакушить, враз от давления кровь по всему телу побежит».
Но секретарь попробовал развеять его догадку:
— Красной её, Александр Фёдорович, именуют в народе по старинному обычаю, когда всё удивительное, необычное, из ряда вон выходящее, люди именовали красным, то есть красивым, — втолковывал он комиссару. — Слышали, конечно, такие выражения: красное солнышко, красна девица. Рыба эта издревле рыбаками с Каспия доставлялась прямо к царскому столу. Поэтому её ещё называли царской.
Больше Даленко ничего смотреть не стал, от продолжения экскурсии отказался, сославшись на длинный день и усталость, и Борданов повёз его и Каримова в райком то ли обедать, то ли ужинать.
Только вытянув ноги в мягком кресле, откинув голову на удобную спинку и расслабившись, комиссар вернул себя в благостное расположение духа и в прохладном кабинете первого секретаря принялся слушать его рассуждения о проблемах района, насущных делах и те пе и те де… Они оба дождались приглашения к столу. Каримов пережидал время в кабинете Соскина, тот, как и подполковник, был некурящим и угощал его чаем с лимончиком для аппетита.
— Как скоро найдёте бандитов? — вдруг ни с того ни с сего оборвав рассуждения об особенностях вверенного ему района, спросил первый секретарь комиссара.
Комиссар не удивился вопросу, он был для него обычным, наверное, он его давно ждал. И мог бы сразу, не задумываясь, сказать что-нибудь формальное, ответить, что понадобится время, что люди работают, что версии проверяются, виновному не уйти от правосудия, всё разрешится по закону и справедливости. Но он, не отдавая отчёта самому себе — или раскрепостившись в непринуждённой обстановке, или переваривая для себя ошеломивший его конец чудесной рыбы под беспощадной дубиной палача — вдруг сказал:
— Слушай, Николаич, я тебе лучше анекдот расскажу. Анекдот древний, с большой бородой. Я ещё молодым был, в органах начинал работать, а его уже рассказывали.
— Ну-ну… — растерялся Борданов.
— Кражу как-то совершили в торговой лавке. Выехали начальник милиции и сыщик на место преступления. А жулик нахалюгой оказался. Не только всю выручку спёр, ценности унёс, товар в мешок упаковав, но от большого злодейства, изверг, залез на стол и нагадил. Ходят начальник с сыщиком по торговому залу, всё осматривают, всё записывают. Сыщик молодой, начинающий, только с учебной скамьи. Начальник ему пальцем показывает на взломанную дверцу сейфа, — фотографируй. Тот послушно фотографирует. Запиши. Тот записывает. Опиши следы, назначим экспертизу, поставим вопросы, эксперт сразу скажет, чем следы на сейфе оставлены, каков был у взломщика инструмент. «А скажет?» — вопрошает недоверчиво сыщик. «А куда денется?» Подходят к столу. Начальник на кучу дерьма показывает, — фотографируй. Опиши всё, как есть. Упакуй, направим на экспертизу. Эксперт осмотрит, анализы проведёт. «А что скажет?» — опережает молодой сыщик. «Скажет: чьё дерьмо, человека или животного». — «А ещё что?» — «Что тот жрал накануне, группу крови скажет, чем болел, может сказать». — «А фамилию скажет?» — «А куда он денется?»
Последнюю фразу анекдота комиссар закончил под оглушительный хохот секретаря. Тот по достоинству оценил непринуждённый юмор гостя. Комиссар секретарю определённо начинал нравиться так же, как секретарь комиссару.
— Это шутка, конечно, — посмеявшись, серьёзным тоном продолжал комиссар, — что ответить, Валерий Николаевич, на ваш вопрос? Убийство, а именно убийство там совершено, мы, конечно, раскроем. Уже есть наиболее вероятная рабочая версия. Она проверяется. Не сегодня завтра картина будет ясной. Вполне вероятно, что браконьеры, воруя рыбу у колхозников, не поделили добычу. Среди воров существовали распри. Один уголовник поколачивал другого. По пьянке дрались, ружья у них имелись. Тот, которому доставалось, всё время грозил расправиться при случае. Вот такой случай и представился. Но ружьё было и у его товарища. Они и свели свои давние счёты друг с другом.
— Я так и думал, Александр Фёдорович, — встрепенулся секретарь, ловивший каждое слово комиссара. — Наши колхозники ничего подобного не допустят! Я сразу Леониду Александровичу, когда звонил, сказал, что в «Маяке Ильича» убийц нет и быть не может. Там председатель колхоза Деньгов крепко хозяйство держит. Люди ему верят, идут за ним. Один из самых лучших колхозов в районе, передовик по рыбодобыче!
— Пока это рабочая версия, — между прочим, тихо вставил комиссар, — оперативники проверят. Я с Каримова не слезу, пока он мне не отчитается о раскрытии убийства.
— Равиль Исхакович своё дело знает, — сразу же поддакнул секретарь, — я, как только район принял, объехал с ним почти все хозяйства. И в благополучных побывал, и в неблагонадёжные заглянул. Знают Равиля Исхаковича люди. Он чуть ли ни с каждым за руку здоровается: и стар, и мал. Редкий человек.
— Большой профессионал, — кивнул комиссар, — немного, к сожалению, таких в районах. А в городе особенно не хватает таких кадров. Смена поколений грядёт. Стариков, что после войны пришли, уже отработавших своё, я заменил. Но отдельных, несмотря на возраст, оставил. Опора должна быть. Вот сейчас подбираю им замену в город. По районам езжу, ближе людей смотрю. В управлении на больших совещаниях они одинаково выглядят. За цифрами и отчётами дел не увидать. А лица, как говорил тот поэт, подавно не усмотришь. Как? Не поменять вам начальника милиции, Валерий Николаевич? Каримов давно уже место в штабе областного аппарата заслужил. Он в резерве на моего заместителя. Оперативной работой владеет так, что сам Лудонин позавидует!
Комиссар, закинув удочку и упомянув будто случайно фамилию Лудонина, лукавил. Он проверял первого секретаря на его знакомство с начальником областного отдела уголовного розыска. Лудонин, по его сведениям, пристально наблюдал за Каримовым, но ему, комиссару, сам ничего не докладывал. То ли считал преждевременным из-за отсутствия фактов, подтверждающих какую-то ему известную догадку, то ли полагал пока излишним, также по одной ему известной причине. Последнее настораживало комиссара, и в этот визит к первому секретарю он попробовал проверить свои наблюдения.
Борданов никоим образом не отреагировал на уловку гостя, повёл себя так, будто фамилия Лудонина для него ничего не означала. «Или в нём скрывается большой актер?» — подумал комиссар, выслушивая заверения секретаря о том, что район нуждается в Каримове, перевод его в город станет ощутимой потерей для районной милиции, и райком партии окажется без нужной поддержки.
Комиссар дал возможность секретарю себя уговорить насчёт подполковника, а сам закинул удочку второй раз, проверяя информацию, болячкой засевшей в его мозгу, спросил:
— Рыбокомбинат, Валерий Николаевич, у вас в районе действительно уникальный, только городскому уступает, а как насчёт баловства? Не шалят в цехах с икрой, не безобразничают? Если наших не хватает, я попрошу Карасёва, чтобы вновь назначенного начальника КГБ Царапкина подключил?
Борданова этот вопрос застал врасплох. Он явно не был готов к ответу. Поэтому заговорил о ничего не значащих проблемах, закавыках, а в конце концов упёрся в несущественные мелочи, такие, как пьянство среди сторожей, неудовлетворительную работу товарищеских судов в цехах и редкие рейды народных дружинников.
Комиссара это явно озадачило, но не более. Ясно было одно: Лудонин, бывая в этом районе, никого в свои дела не посвящал, а Каримов первого секретаря ещё не допустил к их общим тайнам. И правильно сделал. Не ослушался его совета. Значит, Каримов в очередной раз прошёл его проверку и действительно давно созрел, значит, пришло время, чтобы приблизить его к себе. Здесь, в этом благодатном районе, тоже нужен свой надёжный человек, — с этой мыслью отправился комиссар на ужин, приглашённый секретарём в отведённый кабинет в райкоме, где их уже поджидали нетерпеливый Соскин и чуткий Каримов.
— Автомобиль за вами подъехал, товарищ комиссар, — лихо доложил Каримов, — паром водитель удачно проскочил, не дожидаясь особо. Я связь поддерживаю. Но может быть, всё же заночуете здесь, товарищ комиссар?
— А и действительно! — подхватил секретарь. — Почему бы и не остаться, Александр Фёдорович? Посидим, потолкуем. Есть о чём поговорить. А то всё некогда, дела, проблемы… Вечно наша спешка! И не отвести душу!..
— Старуха застыдит, — отшутился комиссар, — привыкла она, что ночую всегда в своей постели.
— Нет правил без исключений, — усаживая комиссара за стол, присаживался рядом Борданов. — Мы отзвоним ей, я извинюсь, передам свои приглашения к нам в район приехать вместе с вами, отдохнуть с удочкой. Забыли, верно, когда отдыхали? Зачем на ночь глядя ехать? А утром с встающим солнышком по свежему ветерку на первом пароме…
— Не уговаривайте, Валерий Николаевич, — отнекивался комиссар, решивший все свои проблемы и сделав для себя выводы. — Утром надо будет докладывать Леониду Александровичу, — это был последний, прекращавший дискуссию, весомый аргумент.
Последовал обычный тост за хозяина, следом за гостя, вспомнили про «родную и несокрушимую милицию, в которой “наша служба и опасна и…”», ну и, конечно, на посошок не забыли…
Проводил Каримов начальство к последнему парому, а утром с усилием поднял раскалывающуюся от похмелья голову и на безуспешные попытки жены его разбудить, лишь невразумительно мычал. Галина, отчаявшись привести его в чувство, кричала в ухо:
— Дежурный звонит постоянно. Беда у нас!.. Петра Квашнина чуть не утопили, а лейтенанта в больницу повезли!
Особенности деревенского лунатизма
Майора милиции Жамала Камиева, ответственного за состояние общественного порядка среди населения на вверенной ему территории, условно обозначенной в приказе начальника милиции Каримова как «куст номер 3», разбуди ночью, он без особого напряга, только дай глаза водой взбодрить, безошибочно ответит, что ждать от запредельной шпаны Петьки Дрючкина завтра на танцах в сельском клубе, если дружинник Сивухин опять будет отсутствовать, когда выбьет последний передний зуб кладовщица Варька Хвостова своему муженьку — выпивохе Митрию, если тот в понедельник с дружбанами получит аванс в колхозе, и когда очередная инвентаризация поджидает беспечную буфетчицу Клавдию, если на днях опять открылся её пивной ларёк у рыбкоопского магазина, который он, майор милиции, недавно заставил закрыть.
Жамал Камиев, конечно, не был таким толстым и важным, как все собрания Большой Советской Энциклопедии, но у себя в кусту всё про всех знал. Тем более, не был для него террой инкогнита Тихон Жигунов — бригадир рыбацких звеньев колхоза «Маяк Ильича», правая рука самого председателя колхоза Деньгова Полиэфта Кондратьевич, а члена областного комитета КПСС.
Это сегодня Тихон такую важность и официальность приобрёл, а майор Камиев Жигунова знал задолго до того, как он бригадиром стал, и, больше того, гонял в юношестве этого балбеса с танцплощадки, чтобы пьяные дебоши учинить не мог, да и от верной тюрьмы, что греха таить, бывало, остерегал. Хотя, правильнее тут сказать: не майор заступался, а защитники важные находились у шалопая. Последний раз дело дошло до того, что вступился сам Полиэфт Кондратьевич, будущий Тишкин тесть. Вот как жизнь крутанула! Уступил тогда майор Камиев, хотя против души пришлось идти, а что делать? Председатель колхоза не только с ним беседу провёл, а для верности и самим Каримовым заручился, а тот удивляться начал: стоило майору дело заводить так далеко, чтобы сам член обкома к милиции на поклон пошёл? Хотя приятного и довольного вида Каримов тогда от майора не скрывал…
А теперь вот этого Тихона придётся сегодня ночью ему, майору Камиеву, стеречь. Не со всем, чем только что поделился с ним Квашнин, согласен был Камиев; есть у него сомнения в причастности шебутного бригадира к тому, что накануне произошло на реке, не верилось майору, не мог настолько опуститься Жигунов, что на мокрое дело пошёл, однако подозрений хватало.
Вот и огромный палисадник большого бригадирского дома. Недавно его отстроили Тихон с Дашкой. Деревья старые, тополя, что на земельном участке раньше были, оставили, не вырубили, а новые фруктовые, что со строительством дома понасажали, ещё дорасти до плодоношения не успели. Тихо во дворе. Собак Тихон не держал, особенно не запирались и ворота. Кого ему в деревне бояться? Собаку держать — лишние хлопоты. Майор постоял, присмотрелся. В доме никаких признаков света. Всё как вымерло. А может, не приехал хозяин? Ошиблись мальцы, заигрались. Что-нибудь напутали?.. Да нет. Не мог Матков промашку дать. Опытный оперативник. Насквозь видеть научился. Проверим, почесал затылок майор, задание получил — исполняй его.
Опытный солдат службу знает: не исключено ждать до рассвета, поэтому устраиваться надо основательно. Аккуратно прикрыв калитку, Камиев выбрал удобное место в обильных пахучих зарослях смородины, устроил лежанку перед фасадными окнами. Курить он не курил никогда, даже смолоду, поэтому поначалу присматривался с надеждой к тёмным окнам и прислушивался к шорохам, а потом занялся изучением рассыпавшейся над ним необъятной карты звёздного небосвода.
Тихон Жигунов хорошо известен майору Камиеву более всех из деревенских знаменитостей. Появился в поле зрения, когда школьная учительница первый раз пожаловалась на его бесконечные безобразия, а потом уже и сторожа колхозных полей грешить на него стали, как на зачинщика всех ночных покушений на овощную продукцию. Воспитательные беседы не получались у Камиева. Не находил он общего языка с мальцом, а инспектору детской комнаты не добраться было до глухой деревни. С матерью Жигунова Камиев встретился, только толку мало. Безотцовщиной рос пацан, мать для него уже утратила авторитет, да и строгости у неё не хватало. Однажды такое натворил сорванец в школе, что решил Камиев везти его в райотдел милиции, определять в спецшколу-интернат. Имелись такие в области для особо неисправимых несовершеннолетних, да остановил его Ефим Упырёв, командовавший в ту пору в колхозе рыбацким флотом. Знал Упырёв и родителя Тихона, раньше времени погибшего перед самой войной с немцами, и деда, с которым в ровесниках был Ефим и вместе в Каспий на лов не раз хаживал. Уважал мнение Упырёва майор, было за что. Его слова, если дело рыбацких проблем касалось, сам председатель колхоза никогда не оспаривал.
Рассказал тогда майору о семье мальчишки Упырёв такое, что заставило сурового милиционера повременить со своим решением. Послушал он Ефима, которого на него перепуганная мать навела, отступился, пожалел ещё раз мальца. Но и сам Упырёв пообещал взяться за шпанёнка, отбившегося от рук, и сделать из него человека. Взял Упырёв его к себе в помощники с весны, как каникулы начались, и до самой осени.
Вот это и изменило судьбу мальчишки, а так неизвестно, чем бы ещё тогда дело кончилось.
Жизнь Тихона текла безрадостно и невразумительно, как у сотни и тысячи его сверстников-бедолаг, родившихся в низовьях Волги в глухих рыбацких деревнях. С малых лет на воде в незамысловатых забавах, баловство рыбалкой, а там, чуть усы на губах, почти по-взрослому с приятелями в артелях, в колхозах, на промыслах.
В школу бегал в соседнюю деревню поболее населением, учился из-под палки, больше дрался, да «собакам хвосты крутил», как подлинно оценивала его повадки умудрённая бабка Маланья, которую Тишка так и не видел ни разу на ногах, её с печи сняли, лишь когда хоронить понесли.
Дед погиб раньше, о нём Тишка слышал истории, больше похожие на сказки, от той же бабки и матери. Отчаянный был дед, и смерть нашёл геройскую, как настоящий ловец. Страшная, штормовая буря проносилась над Каспием, мало кого из рыбаков, кто в это время на море был, дождались домой жёны, сёстры и родственники. Дед пропал без следа. И отца Тишка не видел совсем. Появился на свет после его гибели через полгода. Отец Трифон пошёл в родителя и мощью, и профессией, и судьбой. Зимой в январе 1941 года он отправился на зимний лов к морю. Считалось среди ловцов, что зимний лов прибыльнее летнего, однако на него охотников мало находилось: знали, сопряжён он не только с погодными трудностями, всякого рода лишениями, но и нередко с большой опасностью для жизни.
Часто приходилось отчаянным смельчакам проводить ночи под открытым небом, терпеть ненастье, стужу и голод. Но только устанавливали лютые морозы свою власть, а лёд крепчал так, что держал людей и их скарб, ватаги ловцов уезжали к морю на санках с провиантом — запасом на несколько дней и сбруей.
В это время, нагулявшись за год, рыба представляла наибольшую ценность. Нередко бывали случаи, рассказывал Упырёв Ефим, когда попадалась счастливчикам белуга более 50–70 пудов весом. Такую вытаскивали всей ватагой, очакушив, разрывали на части и выбагривали по частям. Но это, когда повезёт. А иной раз подымался шурбан — на расстоянии вытянутой руки не видать. Именно в такой миг может оторвать льдину, на которой находились рыбаки, и унести в открытое море. Случалось иной раз, отрывались льдины вёрст восемь в поперечнике. Носит их по морю, пока счастливый случай не прибьёт к берегу или ко льду. Если можно перескочить, не медля сигай, благодарить бога потом будешь, когда смертельная опасность минует, а не успеешь или вовсе не повезёт льда увидеть — прощайся с жизнью…
Так нашёл свою смерть отец Тишки Трифон и ещё несколько его верных и отчаянных товарищей-ловцов. Не улыбнулась им судьба, хоть и близка была надежда на спасение. Рядом с материковой льдиной кидали им верёвки с грузом рыбаки, спасатели с Упырёвым Ефимом во главе. Недалеки были и две бударки, поспешившие по воде и видимые глазу. Но трагическая торопливость натерпевшихся страху бедолаг сгубила всё дело. Ветер, не переставая, гнал волну, это-то и мешало бросаемым верёвкам с крючьями зацепиться за льдину. Смывало все, которым удавалось долететь. А когда несколько неудачников сгруппировалось на одном из концов льдины, опрометчиво пытаясь схватить спасительную верёвку, льдина зарылась в волнах, зачерпнула морской стихии, и смыло враз всех пятерых. Никто не вынырнул даже, на стужу и бурю силы напрочь исчерпали…
Как и дед, отец Тихона, без могилы на земле, канул со света, проглоченный морем. Не пришлось мальчугану их и глазом увидать, но таких в деревнях, как только началась война, было немало.
Зато летом среди рыбаков, помогая мужикам, вырос Тихон, окреп, возмужал. Возвратился домой осенью, встал в дверях родного дома, не узнала его мать. Сердце в груди обмерло, оборвалось, — муж, Трифон, ожил! Его косая сажень, его крутые плечи! Шальное обветренное загорелое лицо, волосы вразброд, глаза чёрные искрами жгут. Как сидела за рукоделием, так подняться не могла, ноги онемели, пока сын сам не подошёл, не обнял её неловко. Только от его прикосновения ещё больше расстроилось сердце матери. Вылитый отец! Запах даже от него идёт тот, родной, Трифона, давно забытый.
Вместо радости она в слезы. Всё! Не пущу более от дома! Двоих море забрало, этот при себе на суше останется! Что хочешь делай, в море не пойдёшь. Выбирай любое дело на земле, в колхозе рабочие руки в нужде. Не выдержит её сердце, если вновь что случится!
Тихон особенно перечить не стал, тем более кумир его, Упырёв, поговаривал, что сам тоже подумывает отойти от рыбацкого дела.
Механизация, новая, невиданная технология лова рыбы появились в колхозе, разговоры в правлении вестись стали для Упырёва мудрёные, непонятные. В его древних навыках, приметах, природном ловецком чутье особой нужды не стало. Видно было глазом, как портились взаимоотношения Ефима Упырёва с председателем; новые люди крутились вокруг Деньгова, их советы и поучения внимательно впитывал председатель колхоза. Да и стареть, болеть начал Ефим; с его рассудительностью, осторожностью места в колхозе ему не находилось, а времена изменились: планы, обязательства, рекорды одолевали Полиэфта Кондратьевича.
Бросив восьмой класс, Тихон прибился к мастерским тракторного парка колхоза, в слесари подался, техника манила его. Скоро освоил баранку крутить, ребята повзрослей обучили, дело оказалось нехитрым. А как оторвался от Упырёва, опять пошло-поехало. В мастерских у слесарей заказов полно, только успевай, жизнь особая, а к вечеру не расходятся, пока какое-нибудь событие не отметят. Поначалу Тихон приучался только в ларёк бегать за «красненькой», а вскоре и в компаниях место заслужил, с его оборотистым характером, смекалкой и умением постоять за себя сделать это оказалось нетрудно. Вечером мать не успевает встретить, засаленную робу сбросил и уже в деревенский клуб умчался, а там он совсем другой человек. Девчата оком зрят статного крепкого парня. Собрал такую же, как он, ватагу сорванцов, начал по вечерам в соседние сёла по клубам шастать. Там свои правила заводить. Вот тогда в поле зрения Камиева опять стал попадать Жигунов. И не кончилось бы это ничем хорошим для Тихона, так как не терпел Камиев бесчинства на вверенной ему территории, но пришла пора Жигунову служить в армии.
А после службы возвратившись, Тихон совсем изменился. Странный стал. Пить начал, как будто ужасное что произошло с ним на службе или последний час он свой доживает. А в пьянке не ведал сам, что творил.
Служил он во внутренних войсках, охранял заключённых, вот там и сподвигся свирепости и жестокости. Чуть выпьет, враз рубашку на груди рвёт и в морду первому попавшему, кто бы перед ним ни стоял. Терял разум, водка лишала рассудка. В пьяных драках бывал свиреп, матёрые мужики его сторонились, спасу не давал никому.
Однако проспится, идёт с извинениями или мать вперёд бежит с повинной, тюрьма верная грозит — бить не умел Тихон, случалось и до серьёзного доходило, во врачебной помощи попавшие под его руку нуждались.
Но руки, опять же золотые, выручали. Любую технику починить мог, с любой неисправностью в тракторе, в грузовике управлялся, словно нутром чуял, где закавыка. Давно бы загремел Тихон в места не столь отдалённые, да жалели его мать земляки, ценили ловкость и рабочую смекалку начальники, заступались.
Однако бдительный Камиев вольностей Жигунову не давал, информацию обо всех его подвигах имел и сведения собирал. Но так как потерпевшие к нему не являлись или молчали упорно, припираемые им к самой стенке, только редкий раз на Тихона за мелкое хулиганство протоколы составлял и на 5—10 суток административного ареста в район его возил. Так и длилось бы их тривиальное существование, постепенно приближаясь к очевидному закономерному итогу, как поезд к своей конечной станции — к длительной отсидке Тихона, не случись однажды такое, что в корне перевернуло всю судьбу Жигунова, а Камиева заставило долго ломать голову.
Что же это было?
Дикая случайность, неожиданно закончившаяся счастливым итогом?
Злой рок судьбы, обернувшийся вдруг улыбкой ангела, хранившего последнего из мужского рода Жигуновых?..
Не объяснить загадку…
А в реальной жизни ангел-спаситель оказался уставшим до одури и промёрзшим до костей милиционером. Жемал Камиев, промотавшийся весь рабочий день по участку в лёгкой, тогда ещё капитанской шинельке забрёл к ночи в деревню больше по наитию, нежели по служебной надобности.
Спроси у него сейчас — и не вспомнит, какая нужда занесла его сюда и как он оказался во дворе колхозного гаража поздней ночью в зимнюю морозную стужу. Ветер крепчал, гуляя распахнутыми воротами, скрипящими на всю округу, видимо, это и привлекло внимание бдительного капитана милиции. Тогда по привычке и заглянул он во двор, заметив безалаберность охраны. Сторожа не наблюдалось, в колхозе тот был один на деревню — и правление стеречь, и за гаражным двором пригляд вести, но охрана, как водилось, ещё засветло ворота железной проволокой за последним трактором закрутила и откурсировала к правлению. Там телефон как-никак, тепло и какой-никакой уют от ненастья. Кто же торчать на ветру будет в такую погоду, когда худой хозяин собаку из дома не выгонит?
Мог бы и так пройти сразу к правлению капитан Камиев, чтобы самому согреться и там остеречь ленивую охрану, но внимательный нрав заставил его войти внутрь гаражного двора, просмотреть, всё ли в порядке? Вот тут и приметил он приоткрытую дверь известного всем в колхозе зелёной краской окрашенного гаража. Шофёр председателя колхоза Ефрем Тюньков ставил в нём на ночь недавно купленный служебный автомобиль председателя «москвич». Степенный водитель Ефрем Тюньков, из городских, не деревенский. Переманил его к себе из больницы от родственника, главного врача больницы, председатель колхоза. Ефрем чем-то серьёзно прибаливал, местная природа, воздух и благостная тишь глубинки нужны были его организму. Вот и клюнул он на предложение Полиэфта Кондратьевича. Как колхоз машину купил, так враз и переехал. И жену перевёз, нашлась ей работа при почте. А с главным врачом они заранее сладились, хотя и не без сожаления тот с шофёром расставался, видно было, по живому режет. Всё это было известно Камиеву со слов самого Ефрема: не раз беседовал капитан с новым человеком из городских. Ефрем нравился ему сноровкой, деловитостью, машину знал назубок, вылизывал её, как сука щенка, мыл два раза в день. И не доводилось Камиеву видеть Тюнькова поблизости Клавкиного ларька, не употреблял Ефрем спиртного, правда, папироску изо рта не выпускал. Но какой это грех? Не бывает серьёзного мужика без какой-нибудь забавы. Одним словом, примерный шофёр!
А тут одиннадцатый час ночи, дверь почти открыта, и оттуда доносится едва уловимый шум работающего на холостых оборотах двигателя. Как бы не случилась беда! Мало ли трагических случаев бывало в районе и с опытными водителями, когда по пьянке или забывчивости оставались они в тесном помещении гаража при работающем двигателе автомобиля. Ядовитый газ действует незаметно, а скапливаясь, коварно убивает наповал, парализуя человеческий мозг.
Не обходя кучи снега и месива грязной жижи, напрямки пересёк Камиев открытое пространство двора от ворот до гаража.
Ефрем Тюньков мужик битый, таких вещей, чтобы машину в гараже без пригляда оставить, себе не позволит. Но и на старуху бывает… Не додумал своих мыслей Камиев.
У двери сарайчика на грязном снегу, невидимая снаружи, лежала неподвижная лохматая голова без шапки и при ней бесчувственное туловище распластавшегося человека.
Камиев судорожным рывком, рявкнув от досады и отчаяния, распахнул дверь, подхватил лежавшего и выбрался с ним на волю к свежему ветру. Не соображая, не отдавая себе отчёта, бросился назад к «москвичу» — там краем глаза узрел ранее на заднем сиденье ещё одну, такую же безжизненную голову. Распахнул дверцу, — точно.
— Дашка! — ахнул Камиев.
На заднем сиденье в распахнутом пальто и с вывалившейся наружу девичьей грудью лежало тело дочери председателя колхоза Дарьи Деньговой. Как тешилась она тайной любовью с дружком своим Тишкой Жигуновым, так и утратила чувства, а может быть, и жизнь. Сгрёб Камиев неподвижную девушку на руки и выбежал с нею прочь из страшной усыпальницы во двор.
Что делать в таких случаях? Какую оказывать помощь? Не учил этому капитана милиции Камиева никто и никогда. Метался он от одного тела к другому, действовал почти в беспамятстве и машинально, но больше всего это походило на уроки по оказанию помощи утопающим на воде. Верил в одно: главное — свежий воздух, которого стало достаточно. Молил о помощи всех, в кого веровал. И чудо случилось: девушка стала подавать признаки жизни, и Жигунов пришёл в себя следом. Его сильно затошнило и внутренности в кашле полезли наружу.
— Вот, стервец! И здесь без тебя не обошлось! — в сердцах ругнул Камиев задёргавшегося в кашле парня.
Так капитан Камиев поневоле стал вторым отцом обоих спасённых.
А далее совсем чудно развивались события.
Камиев недолго после того несчастного случая или счастливо завершившейся трагедии службу нёс, отправил его начальник милиции Каримов с двумя гвардейцами из рыбного отдела повышать профессиональные знания в городе. Спустя положенное время, уже ближе к весне, вернулся Камиев в район и тут же получил на погоны долгожданную большую звезду вместе с заветным званием майора. Сбылись мечты Жемала Камиева. С первым весенним теплом привели дела майора в колхоз «Маяк Ильича», вот тогда-то и узнал он ошеломившую его новость: стали Тихон Жигунов и Дарья Деньгова мужем и женой. Сыграл председатель колхоза им свадьбу, как только оправилась дочка от отравления, а Тихона примаком к себе в дом жить взял. Все сплетни по деревне, пересуды о происшедшем в гараже, не успев распространиться, пресечены были в корне. Неуёмные бабы на скамейках поначалу пытались языком трёп устраивать, но односельчанами он тут же и укрощался: молодые живут душа в душу, нечего лясы точить.
Тихона с тех пор словно подменили: из мастерских ушёл, с пьянкой завязал, будто не пил никогда, а вскоре назначил его председатель верховодить одним из трёх колхозных рыбацких звеньев. Осенью, когда к зимнему лову готовиться стали, Жигунов возглавил уже всю ватагу рыбаков в колхозе. Дело в его руках спорилось, дисциплину навёл, спрашивал со звеньевых строго, чуть ни каждую рыбину считал, вольности не позволял. Деньгов, сурово поначалу следивший за зятем, убедившись, что не ошибся, напряг снял, успокоился, стал доверять Тихону, самостоятельности тому прибавил. Немного времени прошло, а Жигунов уже подменять в кое-каких вопросах начал тестя, как-никак правая рука. Полиэфт Кондратьевич не ревновал, не поправлял родственника, даже если и замечал, что иногда перегибает тот палку. Чуял: старается Тихон ради него, ради колхозного общего интереса…
Щелкнула калитка за спиной майора Камиева, ударилась звонко от резкого нерасчётливого толчка об ворота, заскрипела вновь отворившись. Так и есть! Не зря несколько часов провалялся майор без дела в кустах смородины, начинающих сыреть от лёгкого тумана и влажности близкой речки. Мелькнула позади забора со двора долговязая мужская фигура.
«Тишка Жигунов, — безошибочно узнал бригадира рыбаков Камиев, — всё-таки здесь ты, бедолага, в доме отсиживался, не ошиблись Матков с Квашниным в своём предчувствии».
Как же он выскочил из дома? Дверь не отворялась. Скорее всего, через окно вылез на боковой стенке дома, потому и засёк его майор не сразу.
«Ну, теперь держись! Значит, не спится тебе по ночам, Тихон Жигунов, колхозный бригадир? От родной жены из тёплой постели выскочил ты в окно и заспешил по улице, аж след простыл. Куда же ты направился, заторопился?» — так рассуждал майор Камиев, выбравшись из палисадника и пустившись преследовать в темноте стремительно крадущуюся тень.
Друг за другом неслышно они миновали несколько улиц.
«Если сейчас свернёт направо и станет спускаться вниз по прямой, значит, всё сойдётся — Жигунов отправится к речке», — предположил Камиев. Однако произошло непредвиденное, бригадир развернулся на перекрёстке в противоположную сторону и начал подниматься в верхнюю часть села, что располагалась на пригорке. Там только правление находится, отметил про себя Камиев, гараж и больше ничего существенного не имеется. Может, кого из знакомых подымать собрался? До правления оставалась недолго. Сейчас всё определится.
Нет, не нуждался Жигунов в помощниках, путь его лежал к зданию правления колхоза, где, конечно, никого не наблюдалось. Доблестный сторож Михеич просматривал сны где-нибудь внутри конторы на скамейке в кабинете. «Вот здесь и понаблюдаем, что понадобилось бригадиру Жигунову поздно ночью в правлении колхоза», — решил Камиев, удобно пристроившись за углом здания.
Жигунов торкнулся в дверь, та не поддалась, оказавшись запертой изнутри. Побродив у входа в поисках подходящего предмета, ночной пришелец вскоре нашёл кусок проволоки и, просунув в щель, скинул накидной крючок. До Камиева донеслось, как тот глухо ударился о дерево, слетев с гнезда. Тень юркнула внутрь. Подождав некоторое время, Камиев осторожно приблизился к дверям, заглянул, прислушался; в потёмках внутри двигался человек, на ощупь отыскивая нужное ему помещение. Слышно было, как он открыл ещё одну дверь. Камиев проник следом в коридор, по стенке скользил в темноте. Силуэт Жигунова он увидел у окна в одном из кабинетов. Тот, пристроившись на подоконнике, стоял спиной к милиционеру, накручивая диск телефона.
«Звонить надумал, — недоумевал майор, — значит, весточка стоит того, чтобы тайком в полночь через всю деревню сюда добираться».
Он замер, весь напрягся, стараясь не пропустить ни одного слова.
— Алло! Алло! — напряжённо захрипел Жигунов в трубку и, видимо, получив ответ, перешёл на шёпот, недосягаемый до слуха Камиева.
Камиев не знал, что делать. Он не слышал, что говорил бригадир, и не мог понять, с кем тот ведёт разговор.
— Убийство у нас! Убийство! — донёсся до него вдруг громкий голос Жигунова, видимо, слышимость была плохая, поэтому приходилось кричать.
«Нет, так не пойдёт, надо менять тактику», — решился Камиев и сделал шаг вперёд.
— Гнилого убили ночью. Утром в неводе нашли, рыбакам нашим труп его попался… — торопливо кричал в трубку Жигунов и обмер, потеряв голос.
На плечо его, придавив к подоконнику, опустилась сзади тяжёлая и жёсткая рука.
— Наговорился, Тихон? Дай и людям поговорить! — Камиев аккуратно выгреб трубку телефона из руки обмякшего и покрывшегося потом бригадира. — Алло! Кому это ночью не спится?..
— Тихон, чёрт тебя подери! — неистовствовал голос в трубке так, что майору стало не по себе. — Хватит дурить! Кого убили? Кто? Ничего не пойму!..
— И я не пойму, — догадался подыграть неизвестному в трубке Камиев, силясь распознать голос, в котором послышались узнаваемые нотки, но на другом конце провода враз возникла тишина, а потом послышались короткие гудки отбоя.
Нет ничего хуже ночного звонка
Полиэфт Кондратьевич, как мужчина видный и человек при ответственной должности, много вольностей в личной жизни не позволял, но как положено, одну любовницу имел, и навещать её старался регулярно, наведываясь в город обычно перед выходными.
В четверг или в пятницу в обкоме или облисполкоме что-нибудь да происходило: конференция какая, заседание или просто совещание, на худой конец. От его Настасьи это было надёжным прикрытием. Хотя та давно уже не интересовалась постельными утехами, успокоилась, затихла её ревность, бесившая по молодости, блюла мужа, почти как народного вождя. Иногда после редких семейных гулянок, когда вполне недурственно пригубляла, проверяла скорее по привычке Полиэфта на полезность для женского пола.
А познакомил Полиэфта Кондратьевича с моложавой городской подружкой друг по обкому на последней партийной конференции. Её выбрали впервые в центральный областной партийный орган; знатная доярка, так же как и он, нуждалась в негласном партнёре, чтобы в областных партийных органах на бесконечных кворумах их скрепляло не только обыкновенное партийное единение, но и что-то личное, более цепкое. Бог идеологии, Павел Ольшенский, он же второй секретарь обкома партии, называл это внутренним единством, духовным родством, подразумевая под этим, конечно, своё. Его верная правая рука, инструктор Кочерыжкин и тоже Павел, куратор колхозов и совхозов и всего сельского хозяйства, в которое благодатной рекой вливалась рыбодобыча, обозначил это уверенно и проще: «Спайка». Некоторых от упрощений Кочерыжкина корежило, и они его сторонились, были такие из образованных и величавых, но народ попроще непосредственность и доступность ценил и к инструктору льнул, как случилось и с Полиэфтом. Кочерыжкин и свёл Полиэфта Кондратьевича с Ниночкой. Была она на десяток лет помоложе, но других свободных кандидатов среди мужчин ей уже не имелось. Кто нуждался в этом раньше, тот уже был охвачен заботой инструктора, поэтому выбирать Ниночке не приходилось, а Полиэфт Кондратьевич никогда не возражал, если положение обязывало. Народ в общественных формированиях обкома и облисполкома был пёстрый, некоторые близко к себе не подпускали, те давно уже считали себя «высшим элементом власти», держались обособленно, всегда мрачные, словно воз на них нагружен, озабоченные, недоступные ни близким, ни тем более тем, кто с улицы, и всегда в вечных поисках что-нибудь «рационализировать», «увеличивать», «повышать».
Полиэфт Кондратьевич особенно к таким не лез, даже сторонился. Каждому своё, по-деревенски рассуждал он, и той своры чурался, довольный уже достигнутым. На его век хватит, пусть другие выше прыгают.
Познакомившись ближе, держась своего брата: председателя колхоза, директора совхоза или бригадира какого, арбузника, Полиэфт, помня армейские заповеди, начал помаленьку расширять плацдарм и сдружился с писателем Митрием Шадровым. Нравились ему крестьянские манеры писателя, его мудрая бесхитростная мужицкая хватка. Шадров без приплода, надоев и центнеров, неизвестно каким образом затесавшийся в структурах обкома, «в саму партбюро проник», как высоко оценил его способности глазастый Кочерыжкин, всё знал, всё успевал, печатал ещё разные статьи и, говорят, даже толстые книжки. Ну и девка у него, оказывается, тоже была, правда не из резерва инструктора Кочерыжкина, как почти у всех; писатель держал её на стороне и никому не показывал. Книжник в таких делах предпочитал не лишним проявлять деликатность и осторожность.
Полиэфт Кондратьевич тоже поначалу прятался, скрывал от всех свои отношения с Ниночкой, даже от Глеба, своего дальнего родственника, а потом, когда вник про своих коллег и до сути допёр, — куда без этого? Здоровые же все мужики! Нельзя же с улицы собирать, за такую «аморалку» и попадают дурачки лопоухие, а потом партбилеты сдают. Завёл он тогда в городе квартиру укромную, там и стали встречаться они с Ниночкой день-два среди недели поначалу, а потом, свыкнувшись, — и реже. Он и воскресал, и вспоминал с ней буйные страсти молодости, а она быстро забывала навоз и дойку, коровьи сиськи и сепаратор. Со временем узнал о тайной страсти Полиэфта Кондратьевича Глеб, родственник и главный врач одной из психиатрических лечебниц. Прижимистый, как все главные врачи, давно превратившийся из лекаря в завхозы, он, представленный волоокой блондинке физкультурного телосложения, одобрил его выбор и тут же попросил запасной ключ, чтобы квартира часто не пустовала. Ниночке главный врач понравился, хотя она никогда не лечилась и вообще на здоровье не жаловалась; крепкая кость от сохи, она не без скоро приобретённого в обкомовских коридорах кокетства подала мускулистую руку для поцелуя слуге медицины, тот враз и обмер. Так был неофициально скреплён их тройственный союз, зародивший в отстрадавшей душе Полиэфта новые волнения. Но вскоре он ревновать отбросил. Глеб, конечно, ветреный субъект, но родственные чувства в нём всегда были превыше всего, тем более, нет-нет да и обеспечивал он главного врача различного рода редкими рыбными деликатесами или просто «краснухой». Что там греха таить, Глеб Порфирьевич Зубов украшал подарками Полиэфта не только свой стол, но и стол шефа в облздравотделе, а тот потчевал верхи из столицы. Так что Зубов Деньгову помехой не был, наоборот.
Полиэфт за накрытым столом царским жестом дал согласие родственнику и другу гостевать в квартире в будние дни, оставив за собой выходные дни и пятницу, которую Глеб сразу провозгласил «днём любви» на греческий, как он выразился, манер.
Но в этот раз, отгуляв у родственника на свадьбе, Полиэфт Кондратьевич нарушил традицию и, сказавшись на послезастольное недомогание, предупредил Глеба, что после свадьбы останется в городе. Все попытки главврача прибегнуть к медицинским способам восстановления его пошатнувшегося от «излишнего нарзана» организма Деньгов отверг, заверив, что обойдётся народными средствами и Ниночкиной помощью.
Полиэфт Кондратьевич боялся рассказать родственнику о главной причине его вынужденной задержки. Она была в другом, и никто не имел права её знать — Деньгов, председатель колхоза «Маяк Ильича», ждал телефонного звонка из деревни. Звонить ему должен был Тихон, уехавший со свадьбы раньше его, в воскресенье к вечеру. Но зять не звонил и не передавал вестей уже целый день.
Шёл двенадцатый час ночи понедельника, заканчивался пятый день, как они с бригадиром оставили колхоз под легкомысленные намёки правленцев и строгие напутствия обеих жён, а председатель колхоза засиживался в городе, потея в шёлковом халате нагишом.
Полиэфта Кондратьевича мучили недобрые предчувствия и тревоги. Что там произошло? Что могло помешать зятю всё исполнить, как уговорено? Продолжил Тихон пьянку, приехав в колхоз, и возомнил себя единственным хозяином? Просто запил, загуляв на старые дрожжи? Или случилось непредвиденное и страшное? Тогда тем более обязан был сообщить… Полиэфт Кондратьевич мог перезвонить в правление колхоза и сам, но, прождав весь день, особо не опасаясь, он затревожился только с вечера. А вечером или же ночью что же звонить в правление? Там сейчас один глуховатый дед Михеич, ему в бараний рог труби, не разбудишь до утра, а если и поднимется к звонку, ничего толком от него не добьёшься, только хлопот наживешь: всё село с дуру подымет, раз сам председатель среди ночи беспокоится.
Разные мысли лезли в голову Деньгову. Ниночка давно заснула. Полиэфт Кондратьевич тоже прилёг, потеряв всякую надежду — слишком поздний час, но только сон не шёл, даже не дремалось. В непреходящей в себя голове гудели ещё и аукались пьяные голоса, буйные пляски бесконечной свадьбы, будоражила тревога и неизвестность за пропавшего Тихона. Тот и машины за ним личной не прислал, колхозного «москвича», как уговаривались. Шофёр Ефремка Тюньков сам бы рассказал, что в деревне творится, раз звонить опасается.
Неслышно, оберегая покой Ниночки, поднялся Полиэфт с дивана, накинул подаренный ему подружкой зелёный мусульманский шёлковый халат, приятно холодивший горевшее тело, подошел к окну. Душно. Вышел на балкон, огляделся, вздохнув полной грудью свежий остывающий воздух.
Город не спал, наоборот, пустой в первый рабочий после выходных дней, он только теперь, казалось, просыпался, наливаясь огнями, словно молодецкой силой, взбадриваясь шумом и звоном транспорта и стайками молодёжи, забегавшими, засуетившимися на пересечениях улиц, у неуспевающих прикрываться дверей магазинов.
«Хрущёвка», приобретённая Деньговым, располагалась в пятиэтажке на набережной, недалеко от огромной гостиницы. С четвёртого этажа вид открывался великолепный, но сердце Полиэфта Кондратьевича не радовалось, а высота пугала. Поэтому на балкон он выходил редко, а с Ниночкой вообще не решался. Ему казалось, что там он уязвим, как на ладони, просматривается со всех сторон, сотни злых глаз следят за ним и, тыча пальцами, издеваются над его бесстыдством. Да и, если признаться самому себе, хотя и часто навещал город Полиэфт Кондратьевич, любви к нему не испытывал, ему чудилось и город платит ему тем же, что его всё время норовят одурачить, устроить какую-нибудь пакость. Чужим был город Деньгову, непонятным и пугающим, со множеством неизвестных лиц, сливающихся в одно расплывчатое прыгающее пятно — месиво, с отвратительной спешкой, со своими не щадящими правилами, не прощавшее промахов и беспечности. С ним всегда надо быть начеку. То ли дело в его деревне! Куда глаз ни кинь, всё знакомо, люди улыбаются приветливо, лишь завидя издали, глаза светятся. Даже около избы их правления колхоза дворняга по кличке Жулик и та радуется, хвостом не навертится, хотя и не уверена: бросишь ты ей кусок хлеба или пройдёшь равнодушно…
Затворил за собой балконную дверь, Полиэфт Кондратьевич сел за столик на кухне, плеснул в рюмку коньяка, выпил. Сразу, заучив где-то услышанное дурацкое правило, налил вторую, выпил, не закусывая, задумался, успокаиваясь. Тепло разливалось внутри, приятная истома закружила голову, накрыла тревогу. Вспомнились молодые годы.
Не рвался в председатели артели Деньгов; наоборот, кряхтел, пыхтел, как мог отнекивался, когда в первый раз в райисполком вызвали и уполномоченный по сельскому хозяйству начал златые горы сулить. Живым с фронта пришёл, не клятый, не мятый, не раненый, погулять хотелось, не женат, девок кругом море, каждая норовит сержантика молодого тяжёлой заждавшейся грудью опрокинуть. А председателем стань, тогда куда? Знамо, таких вольностей не положено, запрягайся в заботы, да ладно в свои, а то в чужие, где один чёрт и тот вряд ли сможет разобраться. Да и артели-то толком нет никакой, сплошь мальцы, деды и бабы. Мужиков раз-два — и обчёлся.
Но успокоиться ему особенно не дали, когда второй раз вызвали, быстро уломали, Деньгову и рта не дали раскрыть, он у него и не раскрывался особливо: напротив, начальник местного НКВД упёрся пытливым взглядом — какой спор? А уполномоченный ретиво уламывает, мол, поработаешь с год, а может, и меньше, артель в колхоз преобразовывать будем, тогда из города пришлют кандидатуру и останешься специалистом. А сейчас тебе всё в руки: потомственный ловец, с отцом по Каспию ходил, откуда боязнь у боевого гвардейца? Только надурил его, конечно, глазастый говорилка. Не нашлось желающих в их тмутаракань уху хлебать, избрали его председателем колхоза. Потом он какой-никакой опыт заимел, разбираться стал, душа загорелась, да и женился.
Недолго вольным воздухом дышал боец, окрутила его соседская дочь Настасья. Горячим телом одурманила и тут же забеременела, дура. Молодой председатель, как живот увидел у подруги, сразу — ша! Кончай вечерять допоздна, а уже поздно. Так и пришлось играть свадьбу. Но Полиэфт не был в обиде. Настасья его любила до бешенства. Никого у неё до него не было. Ребенок вскоре появился. Сама работящая. Чего ещё надо? Мог бы налететь голодный солдат и на худшую долю. Не жаловался, одним словом.
И в колхозе дела пошли. В артели труднее было…
Полиэфт Кондратьевич запахнул халат на голом теле, не вписывались его могучие тюленьи объёмы в шёлковую материю, выпирало на груди и животе, распахивалось; закурил сигарету, хлебнул коньяку, хмеля не чувствуя. Как прошлое начинал вспоминать иногда, обливалось всё чувствами, так порой забирало, что слезились глаза — видно, очки-то всё же заказать следует, икались тогда Полиэфту наставления заботливой жены.
Заладилось в его колхозе ещё и потому, что привык Полиэфт всё делать исправно, на совесть, раз взялся. А как повёз воз, кто же с тебя поклажу сбросит? Начальство в районе обращать внимание стало, помогать начали, то трактором, то другой техникой, как послушному и передовому. То собрание, когда председателем его избирали, он до сих пор помнит. Земляки-артельцы собрались, глянул — сплошь бабья рота да взвод мальцов-паршивцев, все с цигарками махры в зубах в пример чахлым, тоже дымящим под потолок глубокомысленным старцам. Мужиков здоровых по пальцам пересчитал. С фронта возвратившись, мало кто в деревне остался, в город перебраться успели правдами и неправдами, обмишурив вёрткого уполномоченного, там и осели. А тут присутствовали те, кто не сумел удрать, всё больше калеки, инвалиды без ноги, без руки, с метками войны.
Опереться не на кого особенно было. Костылиха первой помощницей была, да Ефим Упырёв. Дедом Упырём тот ещё не был, наоборот, самый молодой из старой гвардии. А вдова Костылева, крепкая лошадь-баба, Полиэфту вровень, из посыльных правления артели быстро обрядилась в счетовода-кассира, а потом над общим собранием руководство взяла и стала его верной правой рукой, хотя образования никого не имела; где головы не хватало, брала глоткой. Со своим делом справлялась, но звалась по-прежнему Костылихой — на деревне прозвища липки, как грязь, враз прилипают.
Ловецкому искусству Полиэфту учиться не было нужды, да и в помощниках он не нуждался. Однако Ефим Упырёв ему сильно тогда пригодился. Знал тот в совершенстве все ловецкие тайны, места обитания рыб, время их хода, повадки, все премудрости. С детства, рассказывали, такие особенности за ним наблюдались. Выйдут мальцы от безделья, бывало, подурачиться на поплавок или судака подёргать, ни у кого не клюёт, уже разбегаться начинают, а Ефим тут как тут — закинул удилище и начинает вытаскивать одного за другим, да каких! Такое везенье и до старости за ним сохранилось. Вот ему тогда и поручил Полиэфт ловецкое дело в артели. Сам-то тоже далеко не отлучался, но других забот полон рот, с утра как закрутится, к вечеру только присядет. А когда колхоз организовался, новый народ появился, молодые подросли, дед Ефим напрочь от всех дел отошёл. Как ни уговаривал, как ни грозил ему председатель, — наотрез. Когда совсем прижал его Полиэфт, тот больным прикинулся, да так натурально, что едва не помер в действительности. Или и напасть на него какая нашла? Иссох весь, словно икона на стенке у Костылихи. Отступился от него Деньгов, махнул рукой.
А дед покривлялся и начал сам болезных врачевать: где травами, где снадобьем, которое сам неизвестно по каким рецептам готовил, но только подымал людей, на ноги ставил совсем пропащих. Умирающую дочку Пузырёва и его жену со смертного ложа поднял. Это уже совсем недавно было, но и раньше творил чудеса неслыханные. И откуда у него это всё явилось? Не знал никто, а спрашивать боялись и стеснялись. Дед Ефим крутой нрав имел, ни с кем особенно не общался, жены, друзей не имел. Всю жизнь прожил в одиночестве и сейчас один век доживает.
Так и отстал от него Полиэфт. Ефим же Упырёв совсем в отшельники подался и в народе получил прозвище «дед Упырь».
Между тем телегу колхозную тащил Полиэфт всё увереннее и увереннее. Набирал силу вместе с хозяйством. Бремя легче, когда его несёшь с покорностью.
Но новые заботы сменяли прежние, и были они по-новому угловаты, остры и тяжки, а над некоторыми корпеть не хватало одной его головы, чтобы справиться.
Непросто давалось Полиэфту место в обкоме. Пристраивал его туда сам Хан, бывший первый секретарь райкома партии, недавно внезапно и не ко времени скончавшийся. Полиэфту пришлось напрячься, прежде чем его членом обкома сделали. Икру и рыбу подвозил нужным людям, как раз пригодился смышлёный водитель Ефремка Тюньков. Глеб Зубов тоже помог своими дальновидными советами и городскими связями.
С негласного ведома Полиэфта держал Глеб «диких ловцов» подле колхозных тоней. Те тайком промышляли «краснуху» для Зубова по особым случаям. А Полиэфт помалкивал, покрывал.
В колхозе всего этого делать несподручно. Тут, что при промысле поймано, враз учёту подлежит и на рыбокомбинат отправляется до каждого килограмма, а с воды тайком добывать, пока рыба ничья, люди надёжные нужны. Упырёв по его просьбе раза два справлялся с поручением, а потом остерёг председателя, упёрся, речи пламенные завел, откуда что взялось. Воровать, мол, не стану, государство никогда не грабил, грех на душу не возьму. Вот на этой почве и пошли у Деньгова с бригадиром рыбаков разногласия, а потом и полная драчка. Собственно, драчки никакой не было; понял Полиэфт: не свернуть Ефима, а раз так, усугублять ситуацию не стал. Выдал ему вольную, зачем себе и старому помощнику нервы трепать, это до добра не доведёт, и так тяжба затянулась. Не отпускал он ещё Ефима и по той причине, что надежней и верней человека рядом у него не оставалось из старой гвардии, а на молодых кого ставить опасался. Тишка Жигунов тогда ещё не в счёт был…
Не было бы счастья, да несчастье, как говорится, помогло. Случилась беда с дочерью. Дашка повода для беспокойства родителям не давала, всё под столом бегала, на коленки ему лезла, росла тихо, незаметно, словно мышка, училась в школе и вдруг стала взрослой.
Он сделал для себя это открытие случайно. Во время одной из редких ссор с женой. В пылу гнева закричал на Настасью, не помня себя, и вдруг увидел дочь, вставшую между ними, её большие недетские глаза. И очнулся, словно облили из ведра.
А потом выпускные хлопоты. Колхоз организовал поездку учителей и старшеклассников на экскурсию в город. Однако Дашка рассудила по-взрослому: в первый год после школы поступать в институт не решилась, а на второй не захотела. Настасья доложила ему, что дочь от всех таит мечту о медицинском институте, но туда большой конкурс, отличников и тех «срезают», поэтому лучше ей поработать где-нибудь в больнице, поблизости. С мнением женщин он согласился и пристроил дочку в соседнем селе в больницу медсестрой, та к этому времени медицинские курсы успела закончить. После этого Дарья для него снова пропала из поля зрения, пока не случилось несчастье в гараже, где её чуть было не угробил лоботряс Жигунов.
За Тихоном Полиэфт Кондратьевич наблюдал не один год. Наслышан был о его знаменитом деде, хорошо знал его отца, своего ровесника. А когда за пацаном начал присматривать по просьбе матери Ефим Упырёв и взял того к себе в ватагу, возражать не стал, хотя тот ещё несовершеннолетним бегал.
Бедовый шалопай, оценивал мальчишку Полиэфт, но есть в нём хорошее зерно — на подлость не горазд. Правда, в народе слух идёт: злой, даже диковат, однако кулаки пускает по делу, не терпит несправедливости и любит верховодить. Юнец быстро закрепился среди взрослых мужиков, не давал себя в обиду, а дело ловецкое осваивал ловко. Только вот после армии Жигунова от воды и промысла как отрезало, забросил тот рыбацкую ватагу, работать попросился в гаражные мастерские. В тракторах и грузовиках разбирался и там прижился. И забыл бы о Тишке председатель колхоза, других хлопот полон рот, но, известное дело: деревенская жизнь, вечером за ужином жена все события за день лучше радио докладывает, обо всех известных и неизвестных действующих лицах поведает. А буйный нрав Тихона Жигунова и его страсть к спиртному враз снискали известность и принесли дурную славу. Он и до армии в драках всегда замечался, где что ни случись, его первым в мордобойстве обвиняли. В сельский клуб чужаки забегать к местным девкам не осмеливались, пока с ним миром заранее не договаривались. Не раз и не два перед участковым Камиевым Деньгов ломал шапку, спасая парня от пятнадцати суток, а то и от тюрьмы. Тишку жалеть ему особенно не в надобность, но мать его прибегала, в ногах валялась, — защити, Полиэфт, ради памяти мужа, Трифона. А балбеса, в армии отслужившего, разве перевоспитать? Только нервы и время тратить. Отправлял Тишку тогда Полиэфт Кондратьевич на дальние сенокосы, от клуба, пьянки, драк и бабьих соблазнов подальше. При всех этих конфликтах, казалось бы, сближающих Деньгова с Жигуновым, необыкновенно далеки они были друг от друга, непреодолимые препятствия разделяли их, и, уж конечно, ничего между ними не было и не могло быть общего. Но в ту страшную зимнюю ночь, когда беда ворвалась в дом Полиэфта, оказались они ближе некуда. Убить его готов был Полиэфт, стереть с земли, растоптать, в тюрьме сгноить хотел, пока Камиев ему рассказывал, как он Дарью в кабине его «москвича» бесчувственную нашёл. Так, в гневе ещё не остывший, велел Камиеву притащить к нему того негодяя. Зелёный ещё весь, в себя не совсем пришедший, но на ногах стоял Тишка твёрдо, кудлатую голову только повесил. Наорал на него Деньгов, замахнулся, готовый прибить, но что-то удержало. Сел дух перевести, сердце у самого схватило.
А потом к утру, когда врачи успокоили — дочь отошла, сел, обдумал всё, позвал Настасью. Той его затея в штыки поначалу была принята. И руками замахала, в безумстве его обвинила, в рёв пустилась. А он велел Камиеву ещё раз парня привести. Глянули: красавец бугай-то! Они и не замечали. Чем не жених? А что делать? Такого позора платком не укрыть, в ладошке не зажать. Бабы завтра по деревне разнесут. По району пойдёт сплетня. Придумают, понаплетут чёрт-те что, насочиняют того, чего и не было! До районных властей дойдёт!
Полиэфт Кондратьевич с Камиевым тут же переговорил, чтобы молчал тот о случившемся, сам к Каримову съездил, тот всё уразумел, бумагам хода не дал, а самого Камиева отправил учиться в город на курсы. И прямиком к свадьбе. Никто не перечил. Молодые как будто только этого решения и ждали. Дашка, как выздоровела и на ноги встала, так и засветилась, от отца новость встретив. Свадьбу тихую сыграли, Тихон к ним в дом перебрался, а весной тесть его к морю отправил на «огнёвки», где тот затерялся до поздней осени. Закрепил за ним рыбацкое звено и забыл.
Тихон Жигунов урок тестя усвоил, шёлковым стал, про водку думать забыл, будто в рот никогда не брал, работал словно проклятый, планы по вылову рыбы перевыполнял, близко к себе никого не подпускал.
Вот тогда и подумал Полиэфт о больших делах. Доверить Тихону то, о чём даже себе не признавался в глубине души. Когда голову ломал: ставить карту на Жигунова или гнилой тот, мучила мысль, отцом завещанная, — в грязный кувшин что ни налей, оно непременно прокиснет. Пересилила его тогда убеждённость, что все недостатки зятя глазом видны, бесхитростны они, нет в них интриги и затаённости опасной, не играет тот за спиной. Если же Полиэфт сам строго следить будет за зятем да тёплая Дашка рядом притрётся, переборют они дурной нрав мужика. А нет, оторвёт ему тесть башку, жалеть не станет. И Камиев, и Каримов только того и ждут, когда он знак подаст, накопили на Тишку грехов, насобирали протоколов и актов, всё правление колхоза обклеить хватит. Это всё и выдал он Жигунову, когда затеял с ним разговор напрямки. Зять выслушал его, слова не сказал. Ему предложения тестя новыми и необычными почему-то не показались или вида не подал, не удивился. Но и испуга никакого не выразил.
Спросил только деловито: на кого можно положиться, чтобы поставить нелегальную добычу «краснухи» и икры на надёжную и постоянную основу. Здесь они уже общими усилиями принялись решать мудрёную закавыку. Перебрали всех мужиков из колхозной ватаги. Сошлись в одном: местных привлекать никакого резона нет, одна опасность и верный провал в будущем. Только беды наживёшь. Для лова и сбыта лучше найти умелых людей городских, никому не известных и в деревне не примелькавшихся, а если уж и приютить где-то поблизости, чтобы никто не догадывался, не знал, кроме их двоих — председателя и бригадира. Вот тут-то и понадобилась помощь Глеба Зубова. Тот нашёл нужных людей. От себя оторвал, жалился, но для общего дела снизошёл. Люди были послушные, но на первых порах неумелые. Недостатки устранил уже опосля Тихон. Направил по уму, что да как, сам показал, периодически устраивая ночные рейды на реку, а днём все эти люди занимались своим очевидным мирским трудом в деревне и колхозе. С год-два получалось всё тихо и как задумали. Но случилась опять незадача. Взяли в городе их человека с икрой. Тот, конечно, терпел поначалу, всё на себя брал, но потом стали поступать вести из «белого лебедя», что одному «за паровоза» ему идти всухую нежелательно, попросил помощи и вознаграждения. Ума хватило сразу не раскиснуть. Полиэфт Кондратьевич заспешил к Каримову, тот не подвёл, выручил опять. Успокоили бедолагу в следственном изоляторе, тот гарантиями заручился, взял всю вину на себя и, получив от суда заслуженное, отправился отбывать наказание в колонию. Вздохнул облегчённо Полиэфт, как всё устроилось, а Тихон, кажется, и не переживал особенно: что ему, за широкой спиной тестя? Беду отвести сумели, но год-два прошли, возвратился узник в деревню. Остепенился, бабу какую-то нашёл, стал с ней жить — и к Тихону за обещанным. Всё как есть получил, но не успокоился. Опять взять в дело начал просить. Только у Полиэфта правило железное — два раза в реку не войти. Раз на глаза милиции попался, нечего лезть с грязным рылом в чистое корыто, всё пойло замутишь. Дали ему отлуп, Тихон предложил даже морду набить или камень на шею да в реку — в Каспии не отыщется, по пути раки съедят. Но Полиэфт Кондратьевич и здесь настоял: честь по чести, ещё денег дать, если попросит, и чтобы с глаз долой, пусть в город возвращается. Нашла, однако, коса на камень, тот молодец от денег не отказался, а из деревни — ни в дугу. Там, объясняет, приткнуться негде, а здесь он уже обжился, бабу заимел, заботы появились, жизнь городская не влечёт. На этом и порешили, вроде спокойствие возвратилось. А как весна пришла, нечистая сила наладилась их сети и снасти красть вместе со всем уловом. Сети колхозные ради общей видимости тоже потрошили, а главной целью жулья были снасти с «краснухой». Деньгов послал Тихона к отщепенцу, а тот полное неведение изобразил: слыхом не слыхивал, видать ничего не видал. Тихон морду ему бить, тот, — бей, но за дело; он, мол, на зоне никого не продал и здесь не виноват ни в чём. Тогда и задумал Полиэфт Кондратьевич устроить эту проверку, благо свадьба у Глеба Зубова подвернулась… В этот день и решили засаду устроить…
Резкий телефонный звонок заставил вздрогнуть забывшегося в воспоминаниях Полиэфта Кондратьевича, вывернул, кажись, всё нутро, застучало сердце тревожно, забилось в недобром предчувствии.
Заработал наконец-то телефон, будь он трижды неладен! Сколько времени? Полиэфт глянул на циферблат. Ёлы-палы, четвёртый час ночи! Он поднял трубку — кричал Тихон. Голос его дрожал и пропадал от плохой связи. Важную весть сообщал Жигунов, — попался наконец злодей, и не один, а двое их оказалось.
— Кто такие? — успел спросить Деньгов, но в трубке вдруг всё смолкло, а затем грозный голос ляпнул такое, что побледнел Полиэфт: узнал он голос майора Камиева на другом конце провода, и трубка сама собой выпала у него из рук.
Разборки «ночных полётов»
— А я утверждаю, что Ефим Упырёв уверен: лицо человека в окне как две капли воды похоже на утопленника! Не свихнулся и не мог выдумать он эти бородавки под глазом! — кричал Ковшов в раскрытые рты притихших милиционеров.
Вместе с Квашниным и Камиевым втроём они уже около часа, закрывшись в кабинете ещё пустующего из-за раннего часа правления колхоза, обсуждали бурные события прошедшей ночи.
— Хорошо, хорошо, Данила Павлович, ты успокойся. Мы же не спорим, пусть будет так, как он считает, — в гражданской одежде с чужого плеча, сменив после ночных купаний вымокшую форму, Квашнин, обескураженный провалом засады, блистал неприличной лысиной, словно подсолнух в огороде, потеряв присущий ему антураж. — Но тогда ко всем чертям собачьим летит материализм, как говорил тот дед Щукарь. А призраки, задрав штаны, шастают у нас по деревне.
— Так и есть, — зло усмехнулся Камиев, — один в дом чуть было ни залез, всех до смерти напугал, второй двух мильтонов едва ни прихлопнул на речке.
— На дне реки тот, второй, рыб кормит, — огрызнулся уязвлённый Квашнин.
— Не знаю, не знаю… — не унимался Камиев.
— Ночка прошедшая нам задачки понаставила, — Ковшов развёл готовых сцепиться в перепалке милиционеров. — Не готовы мы оказались к такой атаке, а кое-где понадеялись, недооценив противника.
— Потому что не знаем ничего! Слепые, как котята малые, — опять прорвало Камиева. — Из-под носа упустить верного бракаша! Поймай мы его на речке, он бы нам глаза на многое открыл.
— Кабы знать, где падать, — донеслось от Квашнина.
— Пётр Иванович, так ты говоришь, состояние Маткова удовлетворительное? — спросил Ковшов.
— Состояние пока удовлетворительное, но ему требуется серьёзная квалифицированная помощь, а этого в нашем фельдшерском пункте не сделать. Надо везти его, Данила Павлович, или в район, или в город. Но в город ближе.
— Значит, отправляем Маткова в город, — тут же принял решение Ковшов. — Кто повезёт?
— Вопросов нет, найдём сопровождение из моих ребят.
— Вот-вот, а у меня к тому, кто повезёт, поручение будет, Пётр Иванович. Ты постарайся, чтобы обязательно исполнили.
— Слушаю, Данила Павлович.
— Смышлёного надо послать. Как Маткова сдаст врачам, пусть заглянет в контору ОИТУ, выяснит всё о Фирюлине: за что тот привлекался к уголовной ответственности, с кем проходил по делу, где отбывал наказание, а затем надо побывать и в колонии, всё о нём расспросить. Понимаешь, всё выяснить. Личное дело пусть полистает.
— Всё сделаем, Данила Павлович.
— Ну а теперь вернёмся к нашим призракам, — Ковшов забарабанил пальцами по столу. — Ты уверен, Пётр Иванович, что браконьер, открывший в вас стрельбу, утонул?
— Ну… — развёл руками Квашнин. — То, что он в воду свалился, как бензобак шарахнул и лодка загорелась, это точно. Своими глазами видел, хотя темновато было, но пламя яркое…
— А потом?
— Сгорело всё, что гореть могло, а он на воде больше не появлялся.
— Точно, что он не выплыл?
— Отвлекался я, Данила Павлович, меня Матков беспокоил больше, чем тот гад. Я и воду черпал, и шлюпку к берегу подгребал.
— Один задумал лавры собрать, — опять не сдержался Камиев, — дался тебе тот Тихон. Я возле него всю ночь просидел, сначала под окнами дома, а потом в правлении колхоза. Просчитался ты крепко со своими версиями, товарищ начальник!
— Да перестань ты меня травить! — взревел Квашнин. — Не режь по живому! Сам себе никогда не прощу… А если с Сашком что случится, сниму погоны. Уеду к чёртовой матери в Урюпинск пчёл разводить.
— Поздно спохватился, — упорствовал Камиев, — тебе Каримов сам их сорвёт.
— Данила Павлович, уймите вы его! — взмолился Квашнин.
— У нас выхода теперь нет, друзья мои, — тихо произнёс Ковшов, — кроме одного…
Он многозначительно поднял палец, и оба милиционера застыли, озирая его перст, как будто на нём был написан выход из лабиринта.
— Кроме одного. Нам следует найти или труп браконьера, или отыскать его среди живых.
Милиционеры молчали.
— Как первая, так и вторая задачи сложные. При таком сильном течении реки, в достаточно глубоком месте, чуть ли не на стрежне, достать со дна то неизвестное, что осталось после взрыва. Да ещё спустя?..
— Три-четыре часа… — уныло подсказал Квашнин.
— Но искать и боронить дно придётся, — твёрдо завершил Ковшов. — Причём участок обследования необходимо увеличить и начать ниже метров шестьсот-семьсот от того района, где всё случилось.
— Кроме того, поставить режаки[6] внизу за километр тоже ниже по течению и до самого дна, — подсказал Камиев.
— Ну вот, знаете, что делать. Мне вас не учить. Я думаю, Пётр Иванович, вам и карты в руки. Возглавьте эти работы. Ищите своего обидчика, которого упустили ночью.
Квашнин не поднимал головы, боясь встретить взгляд Камиева.
— А вам, товарищ майор, — Ковшов обратился к Камиеву, — задача предстоит не менее сложная: придётся искать неизвестного среди живых. Вы в деревне знаете всех, вас каждый знает. Значит, задача попроще. Я думаю, через ваше сито мышь не проскочит. Как? Знаете с кого начинать?
— Помаракуем, Данила Павлович, приглядимся, потом скажу. А Тихона вам сдаю? — напомнил о Жигунове Камиев. — Он у меня так и дежурит у телефона в правлении, только я к нему сторожа Михеича подсадил за компанию.
— С Жигуновым буду работать сам, — кивнул Ковшов. — Председатель колхоза к какому часу пообещал подъехать?
— Полиэфт Кондратьевич со второго раза сказал: как машина за ним придёт, так возвратится. Его убийство это здорово напугало. По голосу в трубке чувствовалось, дрожит весь.
— Ты не можешь без страшилок, — оживился Квашнин.
— Не мешает лишний раз. Больно затянулась у него свадебная карусель, — Камиев встал, заспешил к выходу, кивнув головой на Квашнина. — Я пойду, Данила Павлович, людей подымать. Ему всё-таки легче, — купайся в одном месте, а мне всю деревню на уши ставить.
Квашнин молча перенёс очередной укол, дождался, когда дверь за майором закроется, поднял глаза на Ковшова:
— Данила Павлович, мне надо колхозных рыбаков снимать с лова.
— Я эти вопросы решу с Жигуновым, а Деньгов подъедет, думаю, и он возражать не станет. Командуйте, Пётр Иванович.
— Ещё у меня вопрос, Данила Павлович, — задержался в дверях Квашнин.
— Слушаю.
— Вы действительно полагаете, что деду Упырю с перепугу ничего не привиделось ночью?
— Он производит впечатление здорового человека, Пётр Иванович, хотя и преклонного возраста. Я с ним очень тщательно беседовал. Испуган, конечно. Но в себя вполне пришёл. Твердит — лицо в окне и на фотографии, которую нам изготовил Дынин, одно и то же. Про бородавки даже вспомнил.
— Дались ему те бородавки…
— Зря вы их недооцениваете. Очень яркая примета.
— Что же нам делать с этим… с призраком, Данила Павлович? Если верить деду, что же тогда получается? Призрак объявился в деревне?
— Камиев отыщет. Это теперь его задача. А он, вы знаете, закоренелый материалист. Вам тоже поспешать надо. Многое теперь зависит от времени.
Квашнин открыл дверь.
— Пётр Иванович, — приостановил его вопрос Ковшова, — позвольте мне поинтересоваться, что это вы про пчёл урюпинских упоминали? Увлекаетесь мёдом?
— Кусают они злей, Данила Павлович, поэтому и мёд урюпинский слаще. А мне он нужней, чтобы дурные мозги мои укрепить, впредь лучше бестолковкой соображать, — с досадой сплюнул Квашнин, сверкнул лысиной и скрылся за дверью.
Страшная находка
…Как ни осторожно, ни продуманно выстроил свой диалог с Жигуновым Ковшов, бригадир настойчиво твердил на допросе одно и то же: был на свадьбе с Деньговым несколько дней у его знакомого в городе, уехал в воскресенье один, председатель колхоза задержался по делам, приехав, выпил и на старые дрожжи развезло снова, очнулся к ночи следующего дня, решил позвонить в город, спросить, когда за председателем прислать машину, заодно сказать об утопленнике, пойманном колхозными рыбаками.
Очень подходящее, не вызывающее никаких подозрений, житейское объяснение. На каверзный вопрос Ковшова: почему же жена, Дарья Полиэфтовна, никому не сказала, что он дома находится, Тихон не смутился. Прямо поднял глаза на прокурора следственного отдела, горько усмехнулся:
— А вы считаете, дочери председателя колхоза приятно мертвецки пьяного зятя на люди выказывать? Она, говорит, что хотела меня растолкать, да бросила никчёмное занятие.
Был Жигунов патлат, не брит и разил перегаром. Все аргументы и алиби на лице.
— А почему ночью так поздно звонить бегал в правление? Тестя не жалко будить было? — больше для формы поинтересовался Ковшов.
— Так я сообразил, что день проспал, а Полиэфту Кондратьевичу машину посылать надо было. Как пришёл в себя, Дашка рюмку налила, чтобы башка на место встала, и огорошила меня этим утопленником. Вот я и попёрся. А что ночь, что полночь — какая разница, председатель колхоза должен знать, что у него в колхозе творится.
Против таких доводов возразить было трудно.
— Фирюлина знали при жизни?
— Гнилого-то?
— Фирюлина Акима Ивановича, — поправил Жигунова прокурор.
— Да кто же его не знал? Гонял я его, козла, с тоней. Браконьер он отъявленный. И морду ему бил не раз, чтобы не лез к рыбакам. Работать по-людски не хотел.
— За что его судили?
— А кто его знает? Нам об этом никто не докладывал. В городе он попался: то ли с краснухой, то ли с икрой, так в народе говорят. Его поэтому Полиэфт Кондратьевич и велел гнать. Про покойников говорить плохо вроде не положено, но от него только воровства и ждали.
— А до судимости он у вас в колхозе работал?
— В колхозе он не работал никогда. Во всяком случае, при мне. А в деревне соседней, где он последнее время жил, мелькал, кажись. Я за ним особенно не приглядывал. Да и по молодости не до этого мне было. Я больше по девкам стрелял.
— Стрелял?
— Бегал.
— Вы, значит, коренной?
— Отсюда.
— Много людей новых в деревне появилось за последние года два-три? Может, в колхоз кто трудоустроился?
— Да я, товарищ следователь, не отдел кадров, чтобы всё знать. Если про рыбаков, я скажу. У меня вот в звеньях из городских один… Этот, как его? Маркин. Да ещё шофёр Полиэфта Кондратьевича Ефрем Тюньков. А остальных не знаю. С утра до вечера на работе, бабок поспрашивайте, они у нас прямо тряпочное радио, всё знают про всех.
В правлении начал собираться народ. Ковшов закончил допрос Жигунова, отпустил его, побеседовал с парторгом. Парторг говорил много, рассказывал о достижениях, рекордах, победах колхоза. Ковшов записывать его показания в протокол допроса не стал, допросил некоторых членов правления, а там появился наконец и сам председатель.
— Не успеешь выехать — и на тебе, враз в колхозе беда! — с порога протянув руку для приветствия, громко возвестил тот, знакомясь. — Пойдёмте в мой кабинет, а то здесь не дадут нам поговорить.
Он отпер замок своего кабинета, отворил широко дверь, пододвинул Ковшову стул к вместительному столу с бархатным красным покрывалом, распахнул окно на деревенскую улицу и, прежде чем сбросить пиджак на спинку своего стула, по привычке, наверное, поднял глаза на висевший на стене над его столом портрет Ленина, поправил ему уголок, что был ближе, то ли тот действительно за время его отсутствия покосился, то ли сверял свою жизнь под пристальным взором вождя.
Ему было жарко.
— Я и домой не забежал. Прямо сюда. Как будто догадывался, что вы меня ждёте.
— А разве Камиев с вами не разговаривал по телефону? — невинно поинтересовался Ковшов, тоже сняв пиджак.
— Да, говорил, конечно. Как не говорить! Но ночью с взбалмошной головой со сна что упомнишь!
— Убийство серьёзное у вас в деревне, Полиэфт Кондратьевич… — издалека начал Ковшов.
— Ничего подобного не было никогда, Данила Павлович. У нас больше мордобой из-за бабья и по пьянке, да браконьеры, будь они неладны, житья не дают. Гоняли мы их, гоняли, никакого толку, — завладевая инициативой, аккуратно расставлял слова собеседник, — всё лезут к рыбакам, а вот на тебе — дождались, к нашим оханам и сетям подбираться стали. Не хватает им рыбы в реке. Сцепились друг дружке глотки рвать!
— Вы не возражаете, Полиэфт Кондратьевич, я вас в качестве свидетеля по делу допрошу? — раскладывая перед собой протокол допроса, перервал его Ковшов. — Время нам дорого. Да и у вас забот, я вижу, хватает. Народ уже облепил. Как свадьба прошла? У кого гуляли? Родители довольны?
Деньгов сразу от этих вопросов слегка потерял скорость в разговоре, затормозил, не сразу смог перескочить с одного на другое.
— Да обычное дело, Данила Павлович, — запнувшись, выдавил из себя, подбирая слова, — свадьба как свадьба…
— А что так задержались? — не отставал Ковшов, вцепившись в растерявшегося Деньгова. — Колхозные дела побросали? В самый, так сказать, ответственный лов рыбы? Со мной тут парторг поделился вашими рекордами. Колхоз высокие обязательства взял. Перещеголяют вас друзья-соперники из других хозяйств области? Обгонят?
— Ну, два-три дня погоды не сделают, — начал приходить в себя Деньгов. — Обратно, Данила Павлович, дел накопилось в облисполкоме, в обкоме. Вам же известно, меня тут членом обкома партии избрали на областной партийной конференции. Второй год почитай.
— А у кого свадьба-то была, Полиэфт Кондратьевич?
— У родственника моего, главного врача больницы Зубова Глеба Порфирьевича. Жигунов был со мной. Я его, непутёвого, пораньше домой отправил. Чтобы, если что, присмотрел. Он уже опыт имеет в колхозных делах. Член правления. Все рыбаки в его кулаке. Но подкачала родня. Я с ним ещё разберусь. Мозги вправлю. Он уже давно в рюмку не заглядывал. Но, видно, на свадьбе слабину себе дал, перебрал. А домой приехал… Учудил, ночью в правление звонить пошёл. Дня ему мало оказалось.
Допрос председателя длился долго, сложно, томительно, но ожидаемого результата Ковшову не принёс. Деньгов, по сути, ничего нового не пояснил, не дал мало-мальских зацепок. Возможную причастность колхозных рыбаков к происшедшему категорически отрицал, а о браконьерских разборках между собой сказал уже рассеянно и неопределённо:
— Знаете, Данила Павлович, народ наш привык здесь жить посвободней, врать не буду, пользуется попустительством местных властей в сельском Совете и участкового. Тот совсем малец, молоко на губах, недавно его Каримов прислал. А Камиев редко у нас бывает… когда он заглянет?.. А меня нет, в обкоме дел много, каждую неделю приходится колхоз бросать на Жигунова, как пятница, так вызывают, а то и поболее. Конференции разные, пленумы…
— А вы бы подумали, Полиэфт Кондратьевич, нужно вам это? Может быть, людские дела в деревне, хозяйственные проблемы важнее, нежели городская болтовня? — закинул бесхитростную удочку Ковшов.
— Что вы, Данила Павлович? — аж привстал со стула председатель. — Не искушённый вы в наших партийных делах человек! Разве можно так о партии говорить? Одно другому только большую пользу несёт. Легче многие хозяйственные закавыки решать, когда там, наверху, бываешь, ну и, конечно, с большими партийными людьми общаешься. Обогащает!..
Деньгов даже руку в значительном жесте поднял, но под недоумённым взглядом прокурора опустил и почему-то застыдился, вспомнив Ниночку. Но тут же подумал: «Откуда ему знать», — помялся и продолжил:
— Люди у нас рассуждают, Данила Павлович, по— старому: на реке жить и ног не замочить? В меру всё делают: в город рыбу продавать, спекулировать не везут. Для себя ловят, на прокорм. Но появились уже и новые редкие экземпляры. Эти нигде работать не хотят, а жить желают припеваючи. Вот к примеру этот ваш утопленник. Он ведь сидел в тюряге за такие же делишки, потом к нам наведался. Крутился и на наших колхозных тонях. Я сам бригадиру приказал, чтобы гнал его в шею. Вот и долазился. Это, конечно, Данила Павлович, результат их разборок между собой. Не поделили злодеи колхозные оханы.
— Вероятнее всего, Полиэфт Кондратьевич, но убийство произошло при поднятии снастей, а не на колхозных оханах, — поправил Деньгова прокурор.
— Вот! Значит, они уже своё воровское добро не поделили. Один другого поймал! Второго злодея не нашли ещё?
Дверь кабинета председателя колхоза распахнулась от сильного толчка. На пороге стоял лысый торжествующий Квашнин.
— Нашли! — заорал он. — Нашли, Данила Павлович!
— Не томи, Пётр Иванович, — бросился к нему Ковшов. — Кого? Что нашли?
— Труп, — коротко рявкнул Квашнин и рухнул на стул против обомлевшего Деньгова, отдышался. — Как насчёт водички? Пить хочу, умираю!
По взмокшему лицу, блестевшей лысине и вздымающейся груди нельзя было ошибиться — всё расстояние от берега реки до правления колхоза тот промчался, как мальчишка на одном дыхании, не доверив эту новость никому.
— Звоните в район! Вызывайте Дынина. Как начали тралить, так почти враз и зацепили. В кундраках запутался, в чакане.
— Личность установили? — Ковшов сам невольно заразился безумной спешкой.
— Дятлов. И у этого, Данила Павлович, вся грудь разворочена зарядом дроби! Вместе с корягой, что за куртку зацепила, выволокли бедолагу. Найдутся в этом доме сердобольные люди? Водичка есть? Загорелся я совсем, пока до вас добрался.
Деньгов пришёл в себя, из графина налил Квашнину полный гранёный стакан воды. Обстановка подействовала и на него, руки председателя дрожали. Квашнин, герой дня, опрокинул стакан одним махом.
— Налейте ещё. Председатель колхоза передо мной, правильно я понимаю?
Деньгов кивнул молча, налил ещё один стакан. Квашнин без паузы опрокинул содержимое в себя. Вздохнул глубоко и развалился на стуле.
— А я заместитель начальника районного отдела милиции Квашнин Пётр Иванович. Спасибо за водичку. Полиэфт Кондратьевич, вы бы оставили нас на минутку. Нам с Данилой Павловичем один щекотливый вопросик обсудить требуется.
Деньгов поднялся тяжело, потолкался на месте, не привык, видно, к такому бесцеремонному обращению, взглянул на Ковшова. Тот оставил его вопрошающий взгляд без внимания. Послушно зашагал за дверь, буркнув:
— Я в бухгалтерии бумаги накопившиеся посмотрю.
— Данила Павлович, срочно надо Дынина вызывать! Пусть глянет второго утопленника, — глаза Квашнина снова горели азартным пламенем. — Я, конечно, не судебный эксперт, но сдаётся мне: стреляли в обоих из одного ружья. Та же картечь и почти так же в упор.
— Так-так, — заходил по кабинету Ковшов, — если ты не ошибаешься, Пётр Иванович, следовательно, стрелял один, а жертв оказалось двое.
— Он и по нам с Сашкой палил из той же пушки, — протянул руку с раскрытой ладонью Квашнин. — Вот, смотрите. Это я, Дынин простит, не утерпел. Только что наковырял несколько дробинок из груди покойника.
Ковшов принял от него и перенёс на белый лист бумаги к столу две крупные свинцовые посланницы смерти.
— А вот этих подружек сегодня утром в шлюпке, на которой мы с Матковым тонули, насобирал, — Квашнин аккуратно выложил из кармана брюк на другой лист бумаги ещё несколько штук крупной бесформенной дроби.
— А вот самый первый экспонат. Помните, нам его Дынин оставил? — Ковшов извлёк на свет спичечный коробок, бережно открыл его и поместил на третий белый лист два свинцовых неровных кусочка порубленной проволоки. — Самодельная, зараза!
Вместе с Ковшовым, голова к голове, они долго, перекладывая из рук в руки каждую, внимательно всматривались в дробинки.
— Всё же здесь нужны специальные исследования, Пётр Иванович, — оторвался наконец от стола Ковшов. — Но теперь это не проблема. Сегодня же пошлю Дынина к Югорову в город, там быстренько трассологический и химический анализы этой дроби организуют, завтра результат будет.
— Все три группы дроби надо сравнивать. Может быть, Камиев уже что-нибудь у местных в амбарах нашёл. Проволока, из которой эта самодельная дробь изготовлена, очень приметная, — потирал руки Квашнин.
— Пётр Иванович, не пугай удачу… Рано успех празднуешь. За два дня это у нас только первая ласточка, — охладил его пыл Ковшов. — Тебе ружьё этого охотника надо со дна поднять. Ружьё и при таком быстром течении далеко не снесёт. Ты же видел, как оно из его рук в воду выпало?
Квашнин рьяно двинул головой:
— Не приснилось же мне! От огня взрыва светлее дня тогда было.
— Вот поэтому вперёд — и с песней. По ружью, если найдёшь его на дне, мы охотника скорее вычислим.
— Как вы его назвали, Данила Павлович? — перебил Ковшова Квашнин.
— Твоего обидчика?
— Суку ту!
— Охотником, а что?
— Вот я и устрою теперь охоту на этого охотника! — шагнул к двери Квашнин. — А погоны сам сдам, если поганца не найду!
— Удачи тебе, капитан!
Следы на острове
Ковшов созвонился с Бобровым, поделился с ним событиями за ночь и тем, что удалось следствию добыть к этому часу, попросил срочно подослать Дынина и позвонить Игорушкину, — тот ждёт от него информации, но связь с городом из колхоза из рук вон плохая.
— Радости мало, оттого и лукавишь, Данила Павлович, — пошутил Бобров. — Ладно, выручу по старой памяти, прикрою. Но вечером сам Игорушкину звони.
— К вечеру вы у меня телефон вырывать из рук будете, чтобы шефа обрадовать, — грустно улыбнулся Ковшов и опустил трубку.
Хотелось есть. Ковшов отметил про себя, что аппетит у него появился после визита Квашнина. «Пойду-ка я, проведаю деда Ефима, — решил Ковшов, — всё равно Илье не меньше часа понадобится, чтобы сюда добраться».
Упырева он застал всё ещё лежащим в кровати, возле него хлопотала старушка-соседка.
— Матрёна поднимает меня на ноги. Здорово я давеча хлопнулся сдуру, Данила Павлович, — пожаловался старец Ковшову и тут же кликнул старушку: — Мотря! Покорми гостя. Чую, заночуете опять у меня, служивые?
— Заночуем, дед Ефим, — присел к столу Ковшов.
— Товарищей ваших что-то не зрю. Крепкому мужу полный живот ноги движет. Скажи им: нашим хлебом-солью пусть не чураются. Пусть приходят.
— Некогда. Дела, дед Ефим. Заняты они оба. Если освободятся, не иначе к вечеру. Нашли мы второго, — поделился Ковшов новостью.
И поймал себя на том, что чуть было не сказал «убиенного». Припало «старорежимное косноязычие» старца.
— Подняли со дна убитого. Оказался Михаилом Дятловым. При жизни с Фирюлиным Акимом они дружили. Не слыхали про таких?
— Мне Матрёна тут без вас вести деревенские разболтала. Сороки наши судачат — убиенные сии из соседней деревни. При мне в колхозе не зрил, отцов их тоже не ведал.
— Фирюлин судим был. Отбывал наказание в колонии за торговлю рыбой и икрой.
— Вот дела-то какие греховные! А нет ясности, кто на них руку поднял?
— У обоих огнестрельные ранения. Пока только это удалось установить, — принялся за угощения, принесённые Матрёной, Ковшов.
— Значит, из ружья обоих? — для себя уяснял дед.
— И в воде, похоже, вместе оказались, — подтвердил Ковшов.
— Из ружья… — старец закрыл глаза, словно заснул.
Ковшов не трогал больше Упырёва. Тот, несомненно, приходил в себя после ночного стресса. Рано утром, когда Ковшов отправлялся в правление, оставляя старика на попечение соседки, тот выглядел гораздо хуже. Сейчас тревоги его по поводу здоровья Упырёва улеглись.
«Насчёт виденного лица в окне поговорить бы надо», — колола Ковшова мысль. За этим главным образом и заглянул он к старцу, но посмотрел ещё раз на лежащего и передумал. Успеется, до вечера ещё время есть. Сейчас подъедет Илья, надо будет тщательно заниматься трупом Дятлова, визуально хотя бы проверить догадки Квашнина насчёт схожести дроби. А там от Камиева и Квашнина известий пора ждать. Вот тогда с Упырёвым ещё раз и побеседует. Пусть старец отдыхает.
Ковшов уже собирался было уходить, но задремавший вдруг проснулся. Зашевелился, поманил Ковшова слабой рукой к себе.
— Чужой это кто-то, — сказал он еле слышно, когда Ковшов пригнулся к нему, — не здешний. Наши все сплошь ловцы, они на зверя или птицу не зело добытчики. Ружья у нас не в почёте, не приживались на деревне… Душа у ловца особая… На человека ружья не поднимут никогда… Ищите злыдню среди пришлых…
И он снова закрыл глаза.
Илья Дынин дожидался Ковшова в правлении.
— Данила Павлович, — с места в карьер заспешил он, — я попрошу Петра Ивановича, чтобы он труп в фельдшерский пункт доставил после предварительного осмотра. В район не повезу, начну там с ним работать, дробь извлеку, чтобы вам сразу техническую и химическую экспертизы назначить. А тело потом в город повезём, к Югорову.
— Так и сделаем, Илья, — обнял приятеля Ковшов. — Знаешь, где Квашнин?
Дынин утвердительно кивнул головой.
— Я смотрю, Бобров тебе даже свою машину доверил, — Ковшов ещё на подходе к правлению колхоза приметил драгоценную радость прокурора района — служебную «победу». Без сверкающего оленя на капоте она нисколько не потеряла свое заносчивое величие. — Не пожалел Бобров свою красавицу?
— В райотделе милиции, как обычно, никакого транспорта не оказалось, — кивнул Дынин. — Каримов срочно куда-то выехал ещё с самого утра.
— У нас он не появлялся, — развёл руками Ковшов, — а по ситуации обязан был. Неужели в управление махнул?
— Вот Маркел Тарасович и разрешил мне автомобилем воспользоваться, но с одним условием, чтобы шофёр сразу назад возвращался. Со мной и Зябликов приехал, но он к Квашнину поторопился.
— Хорошо, Илья, езжай и ты. Начинайте осмотр с Зябликовым. Мне необходимо встретиться с Камиевым. Интересная информация имеется. Проверить надо.
Ковшов зашёл в правление, отыскал Деньгова. Председатель колхоза вершил дела в своём кабинете. Вокруг заседало почти всё правление. Не было только бригадира рыбаков Жигунова.
Увидев входящего Ковшова, Деньгов начал было разгонять помощников, парторга это не касалось, тот сидел накрепко, словно привинченный к стулу с гордой павлиньей головкой.
— Полиэфт Кондратьевич, — остановил активность председателя Ковшов, — мне ваши товарищи не помешают. Я хотел попросить машину на часок, мне по деревне проехаться надо, может быть, к вашим соседям, в другое село заглянуть, хотелось майора Камиева найти.
Деньгов переменился в лице, обескураженно опустил руки:
— Вот незадача! Рад бы выручить, дорогой Данила Павлович, но не смогу. Грузовик вам, конечно, не сгодится, а я свою легковушку в город отправил по делам. Тюньков теперь если только к вечеру будет.
— Ничего, сойдёт и грузовик, Полиэфт Кондратьевич, — успокоил председателя Ковшов, — я, когда у вас в районе работал, на каком только транспорте не поездил. Верблюдом вот только не приходилось, а так многие средства испытал. Но лучше всего, скажу вам, пролётка нравилась. Меня ребята в совхозе иногда баловали.
— Пролётка у нас редкость, а грузовик найду.
Однако ехать далеко Ковшову не пришлось. Камиев направлялся в правление колхоза сам и, увидев его в кабине автомашины, остановил грузовик посреди улицы. Вид у майора был замыленный, уставший и голодный. Но спину Камиев держал с гвардейской отвагой.
— Не меня разыскивать пустились, Данила Павлович? — приветствовал он Ковшова, спрыгнувшего с подножки автомобиля.
— Воздухом подышать захотелось. Засиделся я в правлении, — улыбнулся ему Ковшов. — Составьте компанию, товарищ майор, прогуляемся до нашего неудачника Квашнина.
— Видеть его не могу, философа-аналитика, — отмахнулся без злобы Камиев.
— А придётся, выудил он второго мертвяка, как обещал.
— Кто же это? Стрелок ночной?
— Нет. Дружок Фирюлина Акима.
— Медведь?
— Он самый. Дятлов Михаил.
— Значит, среди утопших моего нет, — медленно растягивая слова, уяснял для себя Камиев, — значит, теперь дело за мной… Среди живых тот, значит…
— Мы с Квашниным Охотником его окрестили. Капитан тоже, как и вы, крепко озадачился. Погоны свои на кон поставил.
— Я погоны ставить не собираюсь за такую сволочь. Дорого они мне достались, Данила Павлович. А Петру Иванычу ничего другого не остаётся. Каримов уже давно здесь должен быть, разборки начнёт проводить по поводу стрельбы на реке. Не похоже на него, чтобы он с такими вопросами задерживался.
— Я Боброву позвонил. Обстановку ему обрисовал. Думаю, он прокурора области толково проинформирует: Квашнин действовал правильно, по обстановке. Маркел Тарасович защитит, если что. А Игорушкин, если возникнут проблемы, в обиду тоже незаслуженно не даст ни прокурора, ни милиционера. Всем нужен сейчас результат… С Матковым бы всё обошлось. И вот времени у нас маловато остаётся.
Камиев слушал молча, не перебивал прокурора.
— Надо, товарищ майор, перекрыть выходы из деревни. Охотник должен быть здесь. Ему не резон нос высовывать. Но кто знает? Вдруг почует — по следам за ним идём — и рванёт.
— Уже перекрыл, Данила Павлович, — откликнулся Камиев. — Как расстались мы, людей своих поднял, рассредоточил. Никто не замеченным не выехал из деревни, а теперь и подавно. Полиэфт Кондратьевич машину свою в город погнал. Ефрем Тюньков что-то заторопился, а так никого не заметили.
— Рассказывал мне про свою машину председатель, — подтвердил Ковшов. — Поделись, майор, есть какие соображения по поводу нашего Охотника?
— Я не уверен, что он один, Данила Павлович.
— Согласен. Одному столько бед не натворить, будь ты о семи рук. Дробь Квашнин собрал всю, мне принёс — из трупов обоих и в шлюпке отыскал ту, которой палил в него неизвестный. Похоже, дробь из одного ружья, одного хозяина. Вся картечь — сечка.
— Мы с участковым Сувориным большую часть жителей деревни проверили. Наиболее приметных навестили, в дома заглянули, в амбары, лодки просмотрели. Народ смышлёный, понимает, не возмущается. Некоторые подсказывают, помощь предлагают.
— Это хорошо. Значит, зашевелился народ, проснулся.
— Ничего ещё интересного, Данила Павлович, капитан не выловил? Остатки сгоревшей бударки?.. Зацепиться бы за что живое?
— Сейчас вместе выясним. Но что даст кусок деревяшки? Мотор-то подвесной от взрыва разлетелся на мелкие кусочки. Я его нацелил ружье искать. Это важная улика.
— Ружьё найдём, полдела, считай, в кармане. Но мы и бударку распознаем, мужиков соберём, если доски от неё найдутся.
— Упырёв советовал особое внимание уделить приезжим, появившимся в деревне за год-два.
— Я участковому подсказал, чтобы их прежде сторожилов проверили. Мы со Степанычем условились, он должен сейчас тоже подойти к правлению, там подведём, так сказать, итоги. А вот и наш участковый, — Камиев махнул рукой в сторону старшего лейтенанта, вынырнувшего из переулка. — Степаныч! Давай к нам! Мы Квашнина проведать собираемся. Опередил он нас с новостями.
Участковый Степаныч, совсем молодой паренёк, вытер мокрый от пота лоб рукавом, сняв форменную фуражку, спадающую ему на глаза, приостановил Камиева за рукав:
— Товарищ майор, мне тоже кое-какие интересные сведения удалось добыть.
— Интересные, говоришь? — сверкнул глазами Камиев. — Везёт догоняющей смене, Данила Павлович, а? Ну поделись.
— Вы бабку Маланью Филипповну с улицы Рабочей, крайний двор почти на околице, знаете?
— Не припомню.
— Старичка она своего похоронила, участника обеих войн, деда Григория?
— Деда Григория? Фронтовика? Как же! Жаль. Крепкий был дедок. Всё про артиллерию пацанам рассказывал в школе. Артиллеристом в войну был.
— Вот Маланья Филипповна меня и озадачила. Не досчиталась она утром гуся.
— Что это она их считать собралась? Кто их в деревне считает?
— Да, поминки деду готовить задумала, пошла их загонять, чтобы отловить одного к столу. А их у неё всего-ничего. Сразу приметила недостачу. Послала соседских ребятишек в поиски.
Ковшов, особенно не обращавший внимания на разговор Камиева с участковым, прислушался, заинтересовавшись.
— Пацаны поискали, поискали, никакого гуся не нашли. У неё приметный был. С тряпочкой на лапке. Сама вязала. Побежали пацаны купаться, жарко стало.
Участковый рассказывал дотошно, уделяя внимание каждому обстоятельству, не пропуская ни одной мелкой детали. «Как учили в средней школе милиции», — подумал Ковшов, уставая от излишней мелочности.
— А купаются они на острове, внизу за деревней, там в старые времена жиротопка была.
— Ну, знаю этот остров, — Камиев тоже начинал терять терпение. — Веселей, Степаныч, заснёшь от твоих рапортов.
— Вот там они этого гуся и нашли.
— Ну и что? — открыл рот Камиев.
— Извиняюсь. Не гуся, а то, что от него осталось. Лапки с приметной тряпочкой.
— Прямо как в песне детской. Как это: «Жили у бабуси два весёлых гуся», — не удержался Ковшов.
— Ещё перья, да кости.
— Собаки или хорьки, а то и лисица могли задрать, — зло рассудил Камиев, раздосадованный занудством старшего лейтенанта, и надвинул ему на самый нос фуражку, из-под которой и так торчали одни уши участкового.
— Костёр рядом был. Жарили, похоже, птицу, — занялся высвобождением головы обиженный Степаныч.
— Ну это ерунда. Мальцы повзрослей балуют, — отрубил решительно Камиев. — Впервые, что ли? Каникулы у них, вот и походы устраивают. Вспомни свои годы.
— Я на острове побывал, товарищ майор…
— Искупаться вздумал. Поплавать захотелось?
— Костёр кто-то ногами тушил. Мальчишки все босиком бегают. А там обувь взрослого человека. Наши в галошах, да в сапогах, если рыбак. А на пепле подошва полуботинка.
Участковый оглядел посерьёзневших враз Камиева и Ковшова и подлил масла в огонь:
— В деревне в такой обуви никто не ходит.
— Кроме милиции, — уставившись на ноги милиционеров и собственные полуботинки, поддержал без улыбки участкового Ковшов.
— Заинтересовал ты меня, Степаныч. Как есть, ёкнуло что-то внутри. — Камиев остановился. — Что вы думаете, Данила Павлович?
— То же, что и вы, товарищ майор. Надо проверить.
— Ты по острову прошёлся? — затормошил участкового Камиев. — Осмотрел место вокруг костра?
— Так когда же, товарищ майор? Здесь условились встретиться с вами. К тому же я скумекал: один только спугну, если кто-то там скрывается. Остров немаленький, знаете. Укрыться есть где. Кустарник, деревья даже имеются. Жиротопка там раньше размещалась, строения кое-какие сохранились, землянки даже были. Мне как-то приходилось там бывать весной, как вода большая пошла. Уже не помню, по какой надобности.
— Степаныч, увлёкся опять? — прервал многоречивого участкового Камиев.
— Короче, если там кто-то есть, его надо обкладывать, а для этого народ понадобится, товарищ майор.
— Ты наговоришь… Откуда мне людей взять?
— Человек пять-шесть, не менее, чтобы весь остров осмотреть.
— Ну вот что, Степаныч, ты оставайся, с острова глаз не спускать. Организуй надёжных.
— На работе все, товарищ майор.
— Ладно. Пока светло, мальцов смышлёных покрепче организуй. Пусть для вида купаются на берегу, покрутятся там, одним словом. Сам не лезь. Не спугни. А к вечеру или раньше я поспею. Вернусь с людьми — осмотрим твой остров.
Суворин заторопился назад, Ковшов с Камиевым тоже изменили свой маршрут. Ковшов вспомнил, что Илья собирался исследование трупа после первичного осмотра продолжить в фельдшерском пункте, по времени он должен был уже находиться там.
— Квашнин, конечно, с экспертом, — согласился майор, — до берега пойдём — зря ноги бить будем.
Как они и предполагали, Квашнин встретил их на ступеньках приметной избушки с яркой, издали видной табличкой, на которой почему-то было написано: «Медпункт» и краснел крест. Вокруг него сидела хмурая усталая команда курильщиков. Тут же, перед крыльцом, скособочилась вековая деревянная тележка, два её деревянных растрескивавшихся колеса были оббиты железными ободами. Один Бог ведал, как это сооружение сохранилось, передвигалось и ещё могло служить людям. На ней, очевидно, и совершал свой последний путь по земле тот, над телом которого сейчас колдовал судебно-медицинский эксперт Дынин.
Процедура эта была не из приятных, поэтому желающих в послеполуденную жару наслаждаться вынужденными трудами эксперта не находилось. Квашнин поднялся к подошедшим, нехотя, вразнобой встала на ноги и вся его команда.
Все они, как и их печальный командир, в гражданской разномастной одежде выглядели больше похожими на бурлаков с картины, обычно ожидающей приезжего в сельской гостинице, голов не поднимали.
— Мои, остальные ещё там работают, дно тралят, — кивнул в сторону речки Квашнин. — Только больше ничего вытащить не удалось.
После долгого мрачного всеобщего молчания Квашнин опустился опять на крыльцо и совсем уже убитым голосом буркнул:
— Не достать такую мелочь, как ружьё, нашими снастями и якорями. Коряги, ботву и грязь со дна черпаем. Пустое занятие. Людей мучаем, а результаты — ноль.
— В таких делах водолаз нужен.
— С аквалангами хорошо… — послышались со всех сторон безрадостные советы.
— А где их взять?
— Пётр Иванович, покормить людей надо бы, — посмотрел в пустые глаза Квашнина Ковшов. — Я тут деда Ефима навещал, он приглашает. Солдат, поевши, бодрей службу чтит. И голова светлеет от мыслей.
Камиев голодными глазами оглядел соратников:
— Я и сам совсем забыл, Данила Павлович, что с утра крошки во рту не видел. Кстати, и не обед уже на дворе, день давно к вечеру, солнце, вон, на закат пошло. А кормёжку мы мигом организуем.
— Вот и займитесь этим, — Ковшов подозвал к себе Квашнина и Камиева. — Пётр Иванович, у тебя оперативники на берегу остались?
— Нет. Мои все здесь. Там двое помощников из деревенских.
— Дай общественникам до вечера отбой. Пусть отдохнут. Камиев объяснит тебе ситуацию в деталях. А в общем, я обоим вам ставлю вводную: деревня проверена вся, того, кого мы ищем, среди просеянных нет, из созданного нами оцепления никто проскочить не успел.
— Так точно, Данила Павлович, — подтвердил Камиев, — я вам докладывал, никто не ушёл, мои люди начеку.
— Участковый Суворин высказал подозрение о неизвестном на острове, что внизу по течению, за околицей деревни. Информация заслуживает внимания и выглядит достоверной. Суворин тревожить его не стал. Если там кто-то скрывается, это тот, кого мы ищем. Побежит он с острова сумерками. Сейчас там пацаны на берегу, остережётся он днём, да ещё при людях. Ну и участковый рядом на всякий случай. Если что, нарисуется, отобьёт охоту.
Квашнин задвигался, оживился. Каждое слово Ковшова он ловил, как свежий воздух хватает ртом измождённый путник.
— Одним словом, людей кормить, товарищи офицеры, и немедленно организовать кольцо вокруг острова. Чтобы ни с воды, ни с суши никаких просечек. Суворин заверил, что лодки на острове не видал, но чем чёрт не шутит. Следует исключить все варианты. Больше шанса не будет, Пётр Иванович. К темноте вся подготовка должна быть завершена, цепь замкнуть. Но сами на остров не лезем. Если до утра этот человек не предпримет попыток скрыться с острова, тогда с первыми лучами, как говорится, весь остров прочесать. Он, скорее всего, вооружён. Как стрелять умеет, испытано на собственной шкуре. Охотник — он охотник и есть.
Квашнин хотел что-то добавить, но сдержался, кашлянул в кулак.
— Предупредите людей: огонь открывать в исключительном случае. По уставу. Нам он нужен живым. Полагаю, разъяснять нет надобности. Он исполнитель. За его спиной — крупные люди. Если его потеряем, дело утратит всякую перспективу. Зверь этот опасный. Может подманить, проверить возможность засады разной хитростью. Разведёт костёр, к примеру.
— Вот его у костра и аккуратно накрыть, — хмыкнул Квашнин.
— Нам жертв не надо, хватит Маткова! — сухо отрезал Ковшов. — Но его брать всё же живым.
Камиев незаметно ткнул Квашнина кулаком в бок, вроде легонько, но капитан икнул и задумался, видимо, до глубины достали его предупреждения прокурора.
— Захватом командует капитан Квашнин, — вроде как вспомнив, совсем мельком добавил Ковшов. — Я останусь в фельдшерском пункте, дождусь Дынина. Теперь увидимся, скорее всего, утром. Я сам вас найду. Заночую у деда Ефима.
Капкан для призрака
Серебряный диск луны, поблуждав по фиолетовому небосклону между легкомысленными тучками, выкатился над притихшей деревней, осветил уснувшие дворы и улицы, заглянул ненароком в окошки остывающего от дневного зноя дома, стоявшего в густом окружении деревьев у самого кладбища. В доме, посреди комнаты, за большим столом тихо беседовали два молодых человека. Один, постарше, время от времени переворачивал листы бумаг, лежавших перед ним в нескольких аккуратных пачках, второй, с курчавой шевелюрой, в очках, откровенно сибаритствовал, закинув ногу на ногу и обе руки за голову, блаженно раскачиваясь на спинке стула. Мирно колыхались язычки пламени на трёх толстых свечах в деревянном светильнике, стоявшим перед ними.
После вечерней трапезы Матрёна, закончив возню возле заснувшего деда Ефима, убежала к себе в соседний дом, и приятели в уединении придавались отдыху и беседе, если можно назвать беседой разговор, когда один изредка, словно очнувшись, бросал слово, фразу, вопрос, а второй, размышляя о своём, молчал, а потом невпопад спрашивал вдруг сам. Впрочем, до поры до времени обоих устраивала такая манера общения, пока наконец Ковшов не скрёб бумаги в одну кучу и, поднявшись, не заходил по комнате.
Судебно-медицинский эксперт Дынин беспечно продолжал раскачиваться на стуле, отрешённо отдаваясь эйфории покоя.
Он чертовски устал за этот день. Он мчался на машине, чтобы успеть вовремя, хотя тот, к которому он спешил, ни в чём не нуждался, был далёк от мирских забот и не требовал к себе такого отношения. Спешка, нужная живым, его не касалась…
В жуткой духоте, изнуряющей жаре, пронзительной вони Дынин простоял на ногах оставшуюся часть дня, орудуя скальпелем и другими медицинскими приспособлениями над покойником и только к вечеру вышел на свежий воздух с отравленными внутренностями и ёкающим сердцем, голодный и обессиленный. Он имел полное право на этот отдых. Он его заслужил. И он блаженствовал.
Во время ужина они с Данилой немного выпили. Так, чуть-чуть. Матрёна по обыкновению поднесла гостям традиционную лечебную настойку деда Ефима. Это было неожиданно, но кстати. Оба не отказались. Если бы бабка не предложила, у Дынина был чистый медицинский спирт в заначке. У солдата — жезл маршала за спиной, ему, судебному эксперту, положен спирт. По простой причине — человек ночью должен спать. Этот сон без забот и сновидений завтра обернётся жизненной силой. Встать как ни в чём не бывало… И новый день, новые заботы.
Дынин не злоупотреблял. Этот этикет, заведённый неведомо кем, соблюдался исстари. Психика и организм судебного медика должны расслабляться, иначе быстро погибнут, слишком высок износ при здравом восприятии всего мелькающего в голове со скоростью экспресса. Самое уязвимое в человеческом организме — мозг, дрогнет он однажды, и распадётся связь разумного. Дед пугал его — не привыкни! Илья чувствовал и контролировал ситуацию — ещё не привык.
Вопрос, который задал Данила, смутил Илью и развеселил. Тот спросил о нечистой силе. Если быть точным, вопрос прозвучал так: «Ты веришь в привидения, Илья?» И как прикажите ответить?
Стул покачивался в тихом прелестном движении. Уютная пустая комната. Старец этот столетний, со смешной непривычной манерой спрашивать, разговаривать, общаться. Как будто вылез из учебника истории, со страницы о славянских язычниках. Седой, маленький, болезненный, похожий на сказочного гнома…
Но отвечать надо обстоятельно и определённо. Ясно и коротко: вопрос — ответ. Так что же спросил Данила?.. Поскрипывал, покачивается стул…
Пока Илья размышлял, переваривая услышанное, Ковшов, не дождавшись ответа, поднял стакан недопитой настойки и повторил:
— Слушай, светило районной медицины, как ты всё-таки относишься к призракам?
Вопрос был задан в лоб, вполне трезвым собеседником, поэтому нуждался в ответе с всесторонним и полным обоснованием.
— Призраки, привидения, вампиры, а в целом нечистая сила, — раскачиваясь на стуле, приступил Илья, — порождения человеческого невежества, людского страха перед необъяснимыми пока наукой природными явлениями и разного рода аномалиями, а в целом, мифологические сказочные существа. Устраивает тебя такая формулировка?
— Так-так, — констатировал Ковшов.
— Истоки их зарождения глубоки и неведомы.
— Ах, значит, пока ещё неведомы?
— Матерью ведьм, призраков и всей этой камарильи считается языческая богиня Луны Геката, страх перед ней в древние времена был так велик, что дожил до христианских времён.
— Чем же она так всех запугала?
— Она хранила ключи от ада! Мало вам этого? Греки дали ей имя Агриопы, в переводе буквально это означает «дикое лицо».
— Ого! — восхитился собеседник. — Видать, леденит душу её рожа!
Ковшов сказал и вспомнил вопли деда Ефима, упавшего на пол прошлой ночью. Всё тогда происходило на его глазах и выглядело вполне реально и естественно. Старец после, как он ни бился, ни отступал от своего, твердил, что воочию ему явилось видение в образе утопленника. Ничего этого, про видение утопшего, естественно, Дынин не знал, поэтому невозмутимо продолжал:
— Вид этой рожи, как вы осмелились выразиться, друг мой, говорят, останавливал движение крови в человеческом организме, страх валил наземь любое живое существо.
«И старец наш брякнулся, — подметил машинально Ковшов, — до сих пор в постели валяется».
— Появлялось чудовище не сразу, — актёрствуя, нагнетал обстановку рассказчик, — сначала душераздирающий волчий вой или свист оглашали окрестности, невероятной силы ураган сметал всё на своем пути, и холод сковывал тела и конечности живых тварей и людей. Гас свет, и мрак падал на землю. Тогда являлся этот дикий, бледный, ужасный лик!
— Лицо?
— Лик! Лицом это назвать было нельзя, ибо то, что появлялось, не имело никакого отношения к человеческому облику. Агриопу считали матерью всех ведьм и королевой призраков. Кормилась она свежей человеческой кровью и среди рода людского беззастенчиво предпочитала детей, забираясь к ним после полуночи в кроватки.
— Бр-р-р! — поморщился и сплюнул Ковшов, плеснув в стакан лечебную настойку из бутыли, оставленной рассеянной, а может, как раз заботливой Матрёной.
— Будешь? — протянул он Илье. — Ты помрачаешь мой рассудок такими ужасами, что без хмельного слушать страшновато.
— Пригублю, — не отказался тот и опять закачался на стуле. — Так вот, ведьма эта, она же королева и управительница всей нечисти, примерзкая Агриопа, размножала своё потомство с неуправляемой силой, бороться же с ним было почти бесполезно. Днём они все хоронились в заброшенных строениях, укрывались в замках, прятались в лесах и на болотах, а некоторые, вампиры, к примеру, взяли за моду ютиться в гробах на кладбищах, забираясь каждый раз в тело нового мертвяка и наслаждались его ещё не испорченной кровью.
— Не юродствуй, мурашки по телу бегут. Заканчивай свои лекции.
— Сам начал, теперь терпи, — хмыкнул Илья, веселясь. — Ночью не находилось смельчаков бороться с этой тварью. Спасал человека только свет. Хотя нет, вру. Люди пытались находить средства, оберегающие их от нечистой силы. Призраки, привидения… мне представляется, весь этот антураж из Европы корни имеет. У нас, в России, эти гады именовались попроще: вурдалаки, домовые, лешие. Там, у них, пострашней и пограндиозней, тебе не кажется?
— Не думаю, что вся эта погань заслуживает, чтобы её ещё по рангу расставлять.
— Не скажи. Тут своя подоплёка. Своя специфика и особенность. Я вот о средствах защиты, например, говорил. Так, в Англии народ пользовался маргаритками, цветки такие полевые маленькие, величали их «дневными глазками». Цветок этот отгонял разную нечистую мразь. Особенно ребятишек защищал. Носили с собой цветок папоротника, тот тоже в виде маленького солнышка с пятачок. Христиане пользовались для защиты клевером, у него лепесточки в виде крестика. Верили, что даже обычная корка хлеба несёт спасение. А путники, опасаясь, что нечистая сила застанет их в степи, на открытой местности, брали с собой посох обязательно из рябины. Ну и, конечно, верное укрытие и надёжный оплот, это церковь, храм, молитва, крест. А чтобы ведьмы и вампиры не забрались в тела покойников, умерших начинали оберегать сразу же после смерти. Отсюда идут все эти похоронные ритуалы, погребальные традиции, приметы… Тела умерших выставлялись напоказ на несколько дней в комнате, где все двери и окна плотно закрывались и завешивались, чтобы злые духи не пробрались к ним. Из комнаты выгонялись все животные и особенно гнали кошек. В скандинавских странах, в Норвегии, к примеру, однозначно верили в то, что нечистая сила проникает в жильё, превращаясь в кошку. Если кошка запрыгивала на покойника, значит, тот обязательно не затихнет и подымется из могилы, как ты его ни закапывай.
— То-то я заметил, что старушки и молодые женщины с неприязнью относятся к этим тварям, — пошутил Данила.
— В древности у некоторых народов считалось, что вампиры и ведьмы вообще предпочитают обитать в человеческом мире в женском облике. Преображаясь в обворожительных красавиц, они завлекали мужчин и детей, а ночью сосали кровь. Ночью творились все беды, ужасные таинства и трагедии. Люди верили, что ночь освобождает полчища могущественных существ, страшных, хитрых и неуловимых, несущих опасность человеку. Повелевала этой ночной нечистью красавица Лилит, порождённая с первых дней сотворения мира. Еврейские предания сообщают, будто Лилит, а по древнееврейскому языку — Лейлах, что означает ночь, была создана из пыли и предназначалась в жёны первому человеку, Адаму. Но что-то там не заладилось, то ли Адам изменил ей с Евой, то ли сама ужасно возгордилась, но только покинула она райский сад, поклявшись ужасной клятвой вечно мстить Адаму и всему его людскому потомству. Обратившись в рыжеволосую голубоглазую красавицу, она разила красотой легкомысленных мужиков, обольщала ласками и убивала в постели, насыщаясь их кровью. У южных славян, сплошь черноволосых и черноглазых, все рыжеволосые и голубоглазые подозревались в связях с нечистой силой и считались вампирами. На них устраивались настоящие гонения, организовывались преследования, и кончали они свою жизнь, как правило, на костре. Чтобы покончить с вампиром, его надо было обязательно сжечь заживо и развеять пепел по ветру или вбить в самое сердце осиновый кол.
— А почему обязательно осиновый? — спросил Ковшов.
— Осина каким-то образом привязана к этому делу, — замялся Илья, — везде в литературе обязательно соседствуют такие словосочетания: «осиновый кол», «покойник качается на осине». Смею тебя заверить, самоубийца если накладывал на себя руки и вешался, то обязательно положено ему было выбрать осину. И среди деревьев на кладбищах предпочитают расти именно осины. Что поделаешь? Мне представляется, всё идёт от особенности фольклора… Но что тебе далась эта осина? Мне кажется, Лейлах — ночь шабашей, тема более интересна! Дочери этого чудовища становились любовницами призраков. Но нечисть размножалась не только в собственных любовных общениях и оргиях. Превращения в вампира случалось и из умерших человеческих созданий. У всех народов это считалось проклятием. Проклятыми признавались все осуждённые на казнь за тяжкие преступления и грехи, к ним причисляли и всех тех, кто наложил на себя руки и совершал самоубийства. Этот грех церковью не отпускался, их не отпевали, не хоронили на кладбищах. Потом шли все некрещёные, дети, родившиеся на Рождество, все умершие без отпущения грехов, ну и эти… опять же рыжие… Впрочем, церковь по своему усмотрению могла проклясть и отлучить от церкви непонравившихся. Кончалось это, как правило, костром, публичной казнью. Но этим увлекалась инквизиция в Средневековье. Льва Толстого, ты знаешь, просто отлучили от церкви.
— Просветил, уважил, открыл глаза, — улыбнулся Ковшов.
— Ты знаешь, Данила, вроде всё это, конечно, как нас учили, народные сказки или европейским языком выражаясь, мифология и сплошь язычество, но…
— Так-так, давай, — раззадоривал приятеля Ковшов, — главное в любом рассказе, — правильно поставить точку. Жду. Гони финал!
— Финала, мой друг, не будет. Я предпочитаю в этой теме многоточие.
— Хорошо. Но не томи. Согласен и на многоточие. Это ведь те же точки, только во множественном числе.
— А ты не задумывался, почему в многоточии их всего три?
— Так… Сейчас, мне верится, ты затеешь повествование о сверхъестественных свойствах чисел, их влиянии на жизнь общества, человека и его судьбу? Не так ли? Вспомнишь родоначальника всей этой числовой мистики авторитетного Пифагора?
— Нет. Раз тебе это известно, нет нужды тратить время. Тем более, уже поздний час.
— Да уж… Как-нибудь в следующий раз. Ты давай ближе к обещанному. К финалу.
— Всё бы в этих сказках ничего. Вроде бы приходят они в сознание человека с детства, в ранние неразумные годы. В зрелом возрасте мы о них забываем. Воспитаны победившим атеизмом. Не до них. А в тяжёлые минуты жизни, в тяжкие времена, в несчастье, в трагедии, когда смерть прикасается, болезни душат, близкий друг, жена изменили, надежды обрушились… Когда приходит чёрная непреодолимая сила и душу посещает страх, ужас неизбежного, тогда другим становится беззаботный минуту назад герой. И вот тогда-то он начинает спать головой на юг, а не на север, где по преданию находится царство смерти, тогда смельчак наш будет разворачиваться, когда дорогу ему перебежит чёрная кошка, будет ставить башмаки у кровати так, чтобы носки указывали на улицу, будто хозяина нет дома, и он обманет нечистую силу. И прочее, прочее, прочее…
— Ладно, Илья, кончай весь этот бред, — перебил его Ковшов, — заканчивай свои фантастические инсинуации. Насобирал ужастики для детей.
— А что я сказал тебе особенного, мой друг? — вяло парировал Дынин.
Он уже лежал на кровати и дремал, закинув руки за голову.
— Конечно, всё это я вспомнил из литературы художественного толка, которую читывал в пору любознательного детства и романтической юности. Ты желал услышать — я поделился. Ты спросил — я ответил…
— Хорошо, почудили и достаточно, — быстро разделся и улёгся на кровать Ковшов, — я смотрю, ты уже храпеть собрался, а меня что-то сон покинул. Ни в одном глазу. Кошмары понарассказывал!..
— Кстати, — едва слышно, больше себе под нос, забубнил засыпая Дынин, — кстати, о кошмарах. Это тоже зловредные представители нечистой силы. В Англии, Германии, Франции их называли по-разному, но во всех их названиях присутствует один корень «мары». Это совпадает с англосаксонским словом «мар», что означает «душитель». По ночам полчища этих бесчинствующих маров — кошмаров забирались в дома, запрыгивали на спящих, лишали их сна или, наоборот, навевали им страшные сновидения. Греки эту тварь именовали «прыгунками». Так что смотри, Данила, опасайся, как бы к тебе такой прыгунок не забрался. Ты головой-то на юг лёг или на север?
— На юг, на юг, — ткнул слегка приятеля кулаком в бок Ковшов и заворочался на кровати, устраиваясь поудобнее. — Свечи тушить кто будет?
Илья не отвечал, чуть слышно посапывая.
«А шут с ним, вставать не хочется», — решил для себя Ковшов и, закрыв глаза, попытался заснуть. Но сон не шёл.
Ковшова между тем начали одолевать навязчивые мысли: правильно ли он поступил, что не рассказал Илье о видениях деда Ефима? Скорее всего, правильно. Тот бы до утра обосновывал или, наоборот, отвергал их природу и корни пережитками прошлого, предрассудками, психологическими стрессами или психическими отклонениями. А то ещё чего понаплёл бы. Камиев и Квашнин, те быстро, сразу, по-милицейски разрешили ситуацию, — приснился деду сон, вот он и поднял крик с перепугу. А испугаться было с чего — впервые в деревне людей убивают, да ещё в нос ему, пожилому человеку, страшные фотографии утопленников подсовывают. Тут у молодого ум за разум зайдёт, а что спросишь у древнего, выжившего из ума старика? Откуда появиться вдруг покойнику в окне, когда эксперт Дынин его вдоль и поперёк на столе ножом разделал, располосовал и в морг упрятал.
«Кстати, — вспомнил Ковшов, — я забыл спросить Илью, нашлись ли родственники Фирюлина? Не приезжал ли кто труп забрать для захоронения? Как же это я забыл? Ну, ладно, беда небольшая. Завтра успеется. Если Илья вчера только вскрытие закончил, то хоронить всё равно на третий день должны. Но эти три дня уже проходят или прошли?.. Если убили в ночь на понедельник, как и предполагается, то сегодня как раз…»
«Тьфу ты чёрт! — выругался Данила про себя. — Нашёл о чём думать! Голову ломать. Правильно говорил Илья, кошмары какие-то одолевают, мысли лезут нелепые».
Он повернулся на бок. Илья лежал к нему спиной, безмятежно спал, свернувшись, словно ребёнок в комок, подтянув длинные худые ноги к животу и подложив руку под щёку.
«Заморочил мне голову разными страшилками, а сам спит, как ни в чём не бывало, пушкой не разбудить», — позавидовал Данила и опять задумался, вернувшись к видениям деда Ефима.
Как ко всему этому относиться? Слушая старца, он сам, словно воочию, видел этого призрака, так живо и красочно описывал его дед. А отчего деду Ефиму кричать по ночам, призывать Бога, тыча руками в окно, молиться?
Он, Данила, тогда сидел за столом, не спал, только задремал слегка. И сам хорошо видел, как дед упал на пороге. А старик крепкий. Не полоумный, сумасшедший какой-нибудь. Не мог за минуты с ума сойти от приснившегося кошмара. Он и описывает тот призрак в деталях. Не просто страшилище какое-то. Внятно рассказывал, что видел глаза, нос противный и бородавки те безобразные. Не сколько-нибудь, а три штуки! Ну, допустим, видел он их на фотографии. Но не могла же враз его буйная сонная фантазия перенести их в явь. Без очков дед ходит до сих пор. И вдруг разглядел их ночью! Такого не придумать… Но за окном, когда Данила выскочил на улицу, никого не оказалось. И утром, как ни ползал под окнами у дома, он ничего не нашёл: ни царапин на стекле, ни следов обуви, ни подошв на траве. Правда, ночью дождь небольшой прошёл, но что-то всё равно должно было остаться, если был живой человек…
Сам дед и утром, и потом днём к разговору о призраке не возвращался. Предпочитал молча лежать в постели. Больным вроде не казался. Поначалу трясло его слегка, руки дрожали, но от врачебной помощи отказался. Данила предложил было ему таблетку валидола, больше у него ничего не было с собой, бабка Матрёна валерьянки принесла, но дед Ефим ничего не пожелал принимать. Попросил воды. Молоко ещё пил потом. Затих, уснув после разговора с Данилой. Даже с Матрёной не обсуждал свои видения.
Второй раз, когда Ковшов затеял с ним разговор, дед Ефим учуял, что Данила ему не верит, ответил коротко и внятно, что ничего не придумал, и больше на вопросы не реагировал, обидно поджав тонкие старческие губы. А потом совсем закрыл глаза и к стене отвернулся, попросив позвать к нему Матрёну. Вы, мол, мне не верите, но и отстаньте, люди добрые.
С тем и отступился от него Ковшов, не сделав для себя никакого вразумительного вывода.
С Камиевым и Квашниным тоже разговор на эту тему как-то не получился. Чудит дед, вот их мнение.
А теперь вот хотел Ковшов с Ильёй поговорить о видениях старца. Думал, ломал голову, как начать. Начал, да, видно, не с того. Не заладилось у него с самого начала. Неправильно построил беседу. Кто надоумил его о призраках, да о привидениях спрашивать? Открыл дискуссию о нечистой силе. Прямо диспут! Сам-то не верил в эту чепуху и бредни. Здесь надо было завести разговор иначе. Верить старцу или считать его поведение больной фантазией, навеянной дурным сном. Почва для этого имеется. Убийств в деревне отродясь не было. Упырёв о нём только услышал, ошеломлён на старости лет, а тут ещё страшная фотография с разбухшей в воде рожей утопленника. Рожа такая, что при жизни людей, наверное, днём пугала, а старцу столетнему во сне привиделась. Тут мёртвый вскочит и завопит от ужаса.
Павлов, великий физиолог, как объяснял все эти ночные кошмары, сны страшные и фантастические? Правильно он определял их природу! Сны — это невероятные ночные комбинации имевших место в обыденной жизни впечатлений и ситуаций, произведших сильное впечатление на человеческий мозг. Вот и все объяснения видениям деда Ефима. А тут о призраках, привидениях речь пошла с Ильёй… Сам поначудил, теперь расхлёбывай!..
Данила уже было успокоился, разложив всё по полочкам, развернулся на другой бок, спиной к приятелю, повернулся к окну.
Слабый шум и свист донеслись вдруг с улицы. Он напряг слух, приподнял голову. Свист раздавался из-за дома, со стороны кладбища.
Данила настороженно прислушался. Нет, ему не почудилось. Он ясно слышал протяжный зловещий свист. Или даже несколько таких неприятных тревожных звуков. Длинные и протяжные, напоминающие волчий вой. Определённо, они доносились с кладбища.
Илья между тем мирно спал. В доме не раздавалось ни звука. Не доносилось каких-либо шорохов и из комнаты, где отдыхал дед Ефим.
Что за чертовщина! Данила вертел головой, приподнялся с постели. Уж лучше бы он напился той лечебной настойки знахаря, да и спал бы давно, как Илья. Лежит, дрыхнет тот без задних ног. Разбудить его, пусть коротает ночь вместе с ним? Понарассказал ему сказок про ведьм, вампиров, призраков!.. Чёрт-те что! А сам храпит, дружок разлюбезный.
Хотя что его винить? Сам хорош! Надоумил приятеля, теперь бодрствуй до утра. Утром смеху будет, если рассказать…
Данила сел на кровати, начал поправлять сбившуюся постель, потянулся к подушке, поудобнее устроиться, чтобы снова попытаться заснуть и вдруг спина его похолодела.
Боковым зрением за спиной он заметил, как на оконное стекло надвинулась тень. Пламя на всех трёх свечках затрепетало, заполоскалось, словно на свечи дохнул кто-то невидимый. Холодея от ужаса, он почувствовал на спине ненавидящий пронизывающий его взгляд. Во рту пересохло. Внутри словно оборвалось. Руки и ноги омертвели. Пересилив себя, ломая шею, Ковшов обернулся к окну.
Широко раскрытыми глазами из чёрной темноты окна на него, не мигая, смотрело человеческое белое лицо. Это было лицо утопленника. Пламя свечей красными бликами мерцало в раскрытых глазницах мертвеца. Они злобно, со звериным интересом хищника изучали его. Рот покойника отвис нижней губой в страшной гримасе. А под глазом чернели отвратительные бородавки.
Переборов ужас, сделав нечеловеческое усилие, Данила сбросил оцепенение, вскочил с кровати на ноги, едва удержавшись, чтобы не упасть. Ноги почти не слушались, он их просто не чувствовал, а тело казалось чужим и не ориентировалось в пространстве. Но минутное замешательство уже покидало его, организм преодолел нахлынувший паралич, мозг заработал, отбросив ужас, леденящий душу.
За окном раздался шум, тень со стекла пропала, словно испугавшись, лицо исчезло.
Данила бросился в прихожую, схватился за дверную ручку, сдвинул, открыл засов. В то же мгновение тяжёлая дверь отворилась, будто сама собой и со страшной силой что-то мерзкое ударило в лицо и грудь. Из двери на него свалилось тело живого существа, человека или зверя, понять и увидеть он не успел, так как вместе с неизвестным свалился на пол…
Допрос нечистой силы
То, что происходило в этот предутренний час, в уголовно-процессуальном законодательстве именовалось предварительным допросом. Ковшов, Квашнин и Камиев — трое ревностных служителей богини, позволяющей себе вершить правосудие только с накрепко завязанными очами, наоборот, широко открыв три пары настороженных глаз, пытались добиться истины от странной замухрышки, забившейся от них в самый тёмный угол избы. В комнате кроме троих суровых вершителей допроса, устроившихся за столом, в позе пизанской башни у стены бодрствовал эксперт Дынин, ещё не совсем очухавшийся от сна, и старец Ефим Упырёв, перекочевавший из своей комнаты на кровать, где до него почивали гости. Он производил как раз вид здравый и свежеоживший. Те же три неяркие свечи тускло освещали мрачную картину.
Бывший представитель нечистой силы, он же бывший призрак и привидение, на деле оказавшийся зачуханным замухрышкой, по форме и содержанию выглядел маленьким и неказистым мужичком, который, вжавшись в угол, дрожал тщедушным телом и трусливо икал. Если присмотреться внимательно, что и делал Илья, тот лязгал от страха зубами. Несколько минут назад это существо было сброшено с Ковшова ворвавшимися вслед за ним милиционерами наземь, и теперь оно, перепуганное насмерть, ожидало своей печальной участи от здоровенных и явно разозлённых мужиков, кулаки которых не сулили ничего хорошего. Из всего этого Ковшов, поразмыслив, сделал вывод, что в избе нечистая сила оказалась не по своей воле, а преследуемая представителями доблестной милиции.
Квашнин, отметив лёгкое замешательство прокурора, ещё медленно ориентирующегося в ситуации после внезапного нападения, суматохи, возни и возгласов, взял инициативу в свои руки. Начал он с того, что, подойдя к замухрышке, размахнулся, но, сдерживая желание смазать того по роже, которую неизвестный заученно прикрывал лапищами, ухватил за ворот куртки и выволок к свету.
— Давай-ка, ночной гость, познакомимся поближе, коль ты в эту избу от нас забрался, — сурово произнес Квашнин, отдёрнул руки неизвестного от лица и отшатнулся.
Вскочил на ноги и невозмутимый майор Камиев. Ковшов отреагировал сдержаннее, но и по его спине побежали мурашки. Дынин враз отрезвел, а дед Ефим вскрикнул.
Замухрышка взирал на них белым изнеможенным лицом утопленника Фирюлина! Это были те же безжизненные в чёрных ямах глаза, опухший отвислый нос и три безобразные бородавки убитого Акима!
Дед Ефим закрестился, запричитал:
— Свят! Свят! Свят!
Видение не исчезало. И заикало снова, причём со страшной силой. Квашнин хлопнул бывшего призрака по спине. Тот свалился на колени и издал вполне человеческий всхлип.
— Ты кто, зараза? — первым пришёл в себя тот же Квашнин.
Существо попыталось заговорить, но вновь у него не получалось ничего вразумительного, в его лепетании и бормотании нельзя было различить членораздельную речь.
Квашнин отступился было после неудачных попыток, но, оглядевшись, ища помощи, заметил под столом на полу полупустую знакомую бутыль с жидкостью, лихо плеснул содержимое в стакан, развернул замухрышку к себе и влил ему в икающий рот упырёвского снадобья, отчего тот чуть было не поперхнулся. Но бдительный страж порядка заорал так, что бедолага едва не присел на колени:
— Говори, мать твою, кто ты есть! Ночь тебя ловим! По деревне гоняем, ноги все посбивали!
— Фирюлин я, — выговорил наконец внятно мужичок. — Питирим, брат убитого.
— Вот те на! — рухнул на кровать рядом со старцем Квашнин. — Откуда взялся?
— Второй день здесь мотаюсь, — заскулил мужичок. — Как прознал про гибель брата, враз из города примчался, у народа расспросил, что вы ищите убийцу. Вот гражданина прокурора увидеть не смог. Боялся я. Прятался, хоронился.
— Кто же тебя так напугал, чучело окаянное? Ты сам тут, я слышал, перепугал полдеревни. По ночам шастаешь, людям спать мешаешь. Гусей воруешь?
Мужик смолчал.
— Нет, вы посмотрите, — продолжал Квашнин, так и не дождавшись ответа. — Вылитый убитый! Как похож! Двойник, что ли?
— Близнецы мы, — опять заскулил мужик, — Аким старше меня на несколько минут. Почти вместе родились.
— Бывает же такое сходство… Ну, рассказывай.
— Гражданин начальник, — мужичок кивнул в сторону бутылки, — а нельзя ли ещё? Запарился я совсем. Чуть-чуть плеснуть от испуга. Никак в себя не приду.
— Наглеешь на глазах… — Квашнин взвесил содержимое бутылки взглядом, плеснул в стакан, протянул. — Когда драпал от нас по деревне, всех собак перепугал. Не слышал, как я тебе свистел? Почему не остановился?
— Так подстрелили бы, как зайца. И каюк, — утёр губы оживший покойник. — А мне умирать нельзя, пока прокурора не увижу.
Он поднял глаза и безошибочно потянулся к Ковшову.
— Узнал?
— Народ подсказал, что вы с прокурором у знахаря на постой встали.
— А про прокурора кто надоумил?
— Так городской я, наслышан.
— Ты давай не крути! Быстро, смотрю, очухался! Отвечай на вопросы, что задаю!
— Мне бы с гражданином прокурором поговорить.
— А я тебе что? Не закон?
— Закон-то закон, конечно, гражданин начальник, но вы, извиняюсь, милиция, я так вижу.
— Глазастый… Ты что меня гражданином величаешь, сидел, что ли?
— Отбывал наказание, гражданин начальник, но так, по мелочовке. Безвинного меня, извиняюсь…
— Старая песня. Все вы без вины по тюрьмам мыкаетесь.
— Я против вас ничего не имею. Только говорить буду с одним прокурором.
— Ах, мать твою! Настырный-то какой!..
— Пётр Иванович, угомонись, — остановил взорвавшегося от возмущения капитана милиции Ковшов, — вы пойдите-ка с майором поручите Суворину оцепление с острова не снимать, пока команды не подам. А я побеседую тут с…
— Фирюлин Питирим, гражданин прокурор, — услужливо подсказал мужичок.
Дынин тоже сунулся было к порогу, но Ковшов его остановил.
— Это судебный эксперт, который тело вашего брата вскрывал, — обратился он к Фирюлину, — может, к нему вопросы у вас будут?
— Пусть остаётся. И знахарь не помешает, — повернулся тот к деду Ефиму, быстро осваиваясь. — Напугал я вас той ночью. Извиняйте, ради Бога.
— Веруешь? — сурово глянул Упырёв.
Мужичок перекрестился.
— Я почему к вам с доверием, гражданин прокурор? Вы городские, местных порядков ещё не знаете, под ними не ходите, — боязливо начал мужичок.
— Отчего же, а Упырёв? — кивнул Ковшов на старца.
— Знахарь — особый человек. Он здешним не чета. О нём молва идет, будто его сам Тихон Жигунов боится и слушает, да и Полиэфт Деньгов опасается, — как о постороннем сказал о старце Фирюлин, не моргнув глазом.
— А при чём Жигунов? Какое отношение он имеет к вам и убийству вашего брата?
— Самое прямое и имеет! — резковато дёрнулся мужичок, и глаза его сверкнули. — Его рук это дело! Его и председателя колхоза. Больше некому…
— Фирюлин, мой вам совет, словами не разбрасываться. Я уполномочен прокурором области заниматься раскрытием этого преступления. Убит не только ваш брат, но и его знакомый, Дятлов Михаил.
— Так они и Медведя грохнули? — вскрикнул мужичок. — А я мыкался, искал, подумал, драпануть тот успел. Значит, убил и его Селим. Теперь очередь за мной…
— Спокойно. Я официальное лицо, — перервал его Ковшов, — с этой минуты усвойте — всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Это допрос.
— Знакомо, — махнул рукой Фирюлин. — Вы мастаки переворачивать. Но мне теперь терять нечего. Если Дятла кончили, значит, мне жить недолго осталось. Но я им так просто в рот не прыгну. Не сожрут они Питирима, подавятся!
— Вы по существу.
— А я что? Семечки грызть прибежал? Я на пулю, на ствол полез, чтобы вас видеть. Теперь от вас зависит, чья возьмёт!
Ковшов не перебивал, давая высказаться. Мужичок на глазах переставал казаться замухрышкой. Он выпрямился и вроде вырос ростом. Голос его с каждой минутой звучал отчетливее, а порой в прорвавшихся криках обозначались решительные нотки и откровенные требования.
— Наслышан я, гражданин прокурор, о наезде сюда начальства из области и главного вашего, поэтому и рвался сюда вас повидать. Без меня правды не найдёте. Теперь мы одной верёвкой повязаны. Я вам теперь ещё важнее, чем вы мне. Прошлой ночью порывался я до вас до самого дома добраться, в окно заглянул, но знахаря напугал. Да и сам напугался, что скрывать. Грохнулся он, упал, а я подумал, не умер ли? Ещё на меня повесите его смерть.
— Значит, это вы были? Вас увидел Упырёв ночью в окне?
— А то кого же? Не подумал я, что так напугать смогу. Забыл, что на брата похож. Да и мысли не было, что знает дед его.
— Не знаком до сей поры, — перекрестился Упырёв.
— Прощения просим, — поклонился ему Фирюлин. — Я уже потом, когда на острове хоронился, почуял, что за брата меня приняли, за покойника. Да поздно спохватился. А тогда, у окна, я сам здорово перетрухнул, врать не буду. Показалось мне, что Селим уже на хвосте у меня сидит. Вот и дёрнул на остров прятаться, да засветился там с этим гусем. Не жрал почти двое суток вот и подхватил его ненароком. Гусь мал совсем, так, утёнок…
— Кто тот человек? Что за Селим? Вы только что упомянули его.
— Смерть это братова, а попадись я, и моя будет. Осетин проклятый. Я от него на острове спрятался. Сумасшедший он. Ему под руку не попадайся. Любого положит ради хозяина. Тихон им верховодит. Если до рассвета взять его не успеете, натворит бед. Или упрёт в город. Там его не достать. Там у него схрон понадёжней будет.
Мужичок пугливо сжался, смолк.
— Продолжайте, продолжайте, Фирюлин, — подтолкнул замолкнувшего Ковшов. — Что вам известно о взаимоотношениях вашего брата с работниками колхоза?
— Брат, когда его замели в городе с «краснухой», подал весточку на волю, что за «паровоза» идти не собирается, всухую на нарах париться не желает. Да, и товар не его был. Икру и рыбу Тихон ему тарил, он только по городу её расфасовывал, по надёжным людям развозил. Когда весточка дошла, Тихон подтвердил, что в накладе брат не останется. Тогда братан всё на себя и навесил, а как отмотал срок, вернулся, расчёт сполна получил. Одно его не устраивало — не брали они его назад. Расплатились, мол, а к ним нельзя. Замазан, ментов наведёшь. Я братану твердил, — не обижайся, порядок такой. Он не дурак, понимал, но заедало его. Своей шкурой их спас, а они с ним деньгами расплатились. Аким, он такой, раз в башку что втемяшится, не выбьешь. У них чуть ли не на ножи выходило. Тихон, тот здоровенный, не попрёшь особенно, но Аким, хоть и ростом мал, а в драке хваткий. Попадало ему от Тихона, но он не отставал. А потом вдруг появился этот Селим, кавказец. Бешеный мужик. Он зубами глотку готов перегрызть за Тихона.
Мужичок снова поёжился, боязливо по сторонам зазыркал.
— Как-то встретил я Акима в городе, он рассказал: натравил Тихон на него кавказца, тот его чуть было не убил из ружья. После этого братан притих, в городе хотел остаться, но работы не нашёл. Вернулся опять в деревню. Баба у него там была, подыскал, на морду никакая, но всё, что мужику надо, сделает, накормит и обмоет. А потом, рассказывал, что сдружился с Медведем, здоровым мужиком. Видел я Медведя того, в город они вместе приезжали с Акимом. Действительно, настоящий медведь, с таким и против Тихона не страшно, и Селима усмирить можно.
Фирюлин опять осёкся и замолчал. Ковшов не спускал с него вопросительного взгляда.
— Здоровый мужик был, да, видать, не сладил и он против этого кавказца. Сдаётся мне, не просто Селим псих, как брат говорил, не простой он уголовник. За ним верёвка покрепче тянется. Не один, тот ещё узелок, но это не моя забота, вам, гражданин прокурор, разматывать. И Тихон, и председатель колхоза довольны им были.
— Вы что же, считаете, что Селим занимался сбытом икры и рыбы в городе вместо вашего брата?
— Нет. Ему это не поручалось. Больной он. Возил товар в город кто-то другой. Не моего ума дело. Селим снасти ставил и рыбу добывал. Он на людях не рисовался.
— А с чего вы взяли, что обо всём было известно председателю колхоза?
— Ну как же? — откровенно удивился наивности Ковшова Фирюлин. — Председатель и Тихон вдвоём всем делом и заправляли, два сапога — пара. Тихон без Кондратича ничего делать не мог. Спросите в деревне любого мальца, каждый знает, в чью дуду зять председателя дудит.
— А вам откуда это известно?
— Да брат рассказывал. Он на них двоих прежде работал до того, как сесть. На Тихона и Деньгова. С председателем, правда, напрямую не контачил, но Тихон завсегда на авторитет Деньгова ссылался. И срок братану в колонии отмерили до чудного; смилостивились только благодаря заступке Кондратича.
— А вам и это известно?
— Догадливым уродился. Жаль братана, я его уговаривал плюнуть на всё. В городе нам бы дело нашлось. Да сильно задел его за живое этот Селим, а брат обид не прощает. Всё своего часа дожидался. Но Бог не дал…
— Продолжайте, продолжайте, Фирюлин.
— А что продолжать? Я вам всё сказал, гражданин прокурор. Больше нечего. Брать вам надо Селима. Он вам всё и расскажет. Только сдаётся мне, он так просто в руки не дастся.
— Пока вы мне одни загадки загадываете, — оборвал его Ковшов. — Почему вы считает, что к убийству причастен Жигунов и этот не известный никому Селим? Где он скрывается, кстати?
— А я почём знаю? — взъерошился Фирюлин. — Тихон где-нибудь его от людей прячет, раз в деревне его никто не знает.
— Мне знамо место обитания вражины, — твёрдо и отчётливо в наступившей тишине вдруг вымолвил Упырёв.
Ковшов опешил. Дынин выпрямился. У Фирюлина, казалось, волосы поднялись на голове, сам он дёрнулся и принял позу легавой, застывшей при виде рябчика в кустах.
— По зову Тихона лечил я болезного чужака. Падучая у него случилась, — так же тихо пояснил Упырёв, — Селим не Селим, имя не знаю, но только чужак он. Не наших кровей. Хоронился в мазанке, за двором Тихона.
— Вот! Слыхали? Прав я. Брать его там надо! — выкрикнул Фирюлин.
— Илья! — обратился Ковшов к Дынину. — Зови Петра Ивановича и майора. Срочно!
Логово зверя
Низкую лачужку из камышовых стен, обмазанных когда-то глиной, бесшумно окружили на рассвете, когда розовые блики только-только потревожили горизонт на востоке.
— Не похоже, чтобы в этой развалюхе кто-либо обитал, — с сомнением покачал головой Квашнин, — ошибается Данила Павлович, непригодная она для жилья.
— Не Данила Павлович, а тот… двойник. Это Фирюлин наплёл про кавказца, — буркнул Камиев.
— Всех в деревне знаю, но ни про какого Селима отродясь на слыхал, — пожаловался и участковый Суворин.
— Откуда ему взяться? — сочувственно поддакнул Камиев. — Если верить этому… двойнику, выходит, кавказец целый год в деревне живёт. Днём его никто не видел. По ночам, значит, он промышляет. Кто же его поит, кормит?
— Да, чертовщина получается, — согласился Квашнин.
— Но твой-то дед Упырь ходил его лечить? Значит, он действительно существует! — толкнул в бок майора Квашнин, вытащил пистолет из кобуры, снял предохранитель. — Не сразу выдал знахарь про кавказца. Даже тебе о нём ничего не рассказывал.
— Да я с ним и словом не успел перекинуться, — возразил уязвлённый Камиев. — Все эти два дня мы носились, как угорелые. Не до этого было! В ту ночь и посидеть по-человечески не смогли. Ты, Иваныч, со своей идеей поднял всех на ноги. Ночь под окнами Тихона я без толку, считай… прокемарил.
— А Дарья-то, выходит, тоже знала про кавказца?
— Получается так. Не будет Тихон ради осетина какого-то сам варевом заниматься.
— Ну, братцы, кончай трёп! Возьмем, всё узнаем, — Квашнин оглядел милиционеров, скомандовал: — Суворин, держать окно! Майор, прикрывай!
Выбив ногой дверь, капитан влетел в строение с диким криком:
— Лежать! Перестреляю всех!
За ним ворвался Камиев. Два луча фонарика, судорожно запрыгав по полу, по стенам лачуги, не нашли ничего живого. Лишь перепуганная кошка с жутким мяуканьем выскочила у них из-под ног на улицу.
Третий лучик фонарика Суворина заскользил по жилищу, но глазастый Квашнин уже присел к неказистой печурке в углу и развёл огонь.
— А хозяин отсюда не так давно дёру дал, — заметил он. — Недооценили мы его. Но это уже что-то. Живой человек, похоже, здесь ютился. А то всё призраки, привидения да утопленники. Смотри сюда, майор!
Квашнин выволок на середину мазанки, поближе к огню, холщовый мешок, чем-то наполненный, и вытряхнул содержимое на пол. На многом, вывалившемся из мешка, задерживался взгляд, но капитан вдруг выхватил из кучи хлама неприметную вроде проволоку, отличающуюся от всякой другой своим необычным сечением — не круглым, а больше прямоугольным, и была она изготовлена из свинца.
Майор Камиев долго ещё её разглядывал под лучом своего фонарика, не доверяя огню из печки, а участковый Суворин достал из кармана перочинный ножик и распилил проволоку лезвием на кусочки.
— Вот вам и сечка, — прямо посреди мазанки уселся на пол Квашнин, — мы, друзья мои, находимся в гостях у Охотника. Только убийца нас ждать не пожелал.
Камиев озадаченно присел рядом за компанию.
— Суворин, ты погляди по углам, по стенам, может, ещё что найдёшь, — Квашнин всё ещё вертел в руках бесценный кусок свинчатки, — а мы с майором пока помаракуем.
— Он сегодня ещё здесь был, — со знанием дела, уверенно произнёс Камиев.
Квашнин поднял на него глаза.
— Я ковшик у бака с водой посмотрел. Вода в ковшике на дне осталась. Или пил, или вода ему зачем-то понадобилась.
— Похоже, — кивнул Квашнин.
— Жёг он чего-то в печке, товарищ капитан, — донеслось от участкового, который низко склонившись, разглядывал золу.
— Давай, давай, Суворин! Что там у тебя нашлось?
— Вот смотрите, товарищ капитан. Мне кажется, кусок оплавленного металла, — участковый осторожно вытащил из кучи пепла твёрдое вещество и на ладони поднёс Квашнину и Камиеву.
Квашнин принял в руки, повертел, передал товарищу. Камиев разглядывал остатки оплавленного металла долго. Суворин, устав ждать, вернулся к печурке, снова начал ворошить золу.
— Остатки оленя, которого Бобер с автомобиля потерял, — мрачно пошутил Квашнин. — Возьми, скажешь прокурору, это всё, что осталось от бедного животного.
— Пу-го-ви-ца, — по слогам произнёс вдруг Камиев. — Вот и кончики звёздочки остались. Солдатские рубашки такие были с медными круглыми пуговицами со звёздочками. Сам три года носил.
— Точно, пуговица! — выхватил кусочек металла из рук майора Квашнин. — Он рубашку свою в печке жёг, чтобы не нашли. А жёг он рубашку из-за того, что она у него в крови была. Это точно наш Охотник! Вот и начали сходиться концы с концами.
— Если мы у Охотника, то когда и как он успел улизнуть? — задумался Камиев и сердито глянул на участкового.
— Из деревни транспорт без досмотра не уходил. Мои ребята все машины проверяли. Я команду подал, мол, надо для дела, сам прокурор приказал, — уверенно отсек Суворин.
— А что Охотнику автотранспорт? — возразил Квашнин. — Такой и по воде горазд, и пешим ходом. Он от меня на речке в воду сиганул. Я решил, — всё! Готов! Так и сказал Даниле Павловичу, что на дно тот сгинул. И не вру. Я его точно больше не видел ни живым, ни мёртвым. А, выходит, он со дна выбрался, до берега доплыл и сюда к себе добрался. Залечил раны, какие были, рубаху с кровью сжёг и дёру дал.
— Опасный человек, — Камиев снял фуражку, протёр машинально пот внутри на ободочке. — Доставит он нам ещё хлопот.
— Его поймать надо, — вроде как напомнил Квашнин.
— Уже ушёл, — ругнулся Суворин. — Но не мог он так просто уйти. Как ему удалось? Везде дороги я перекрыл.
— Тихона задержать следует, — надел фуражку на голову Камиев. — Я с ним сам говорить буду. Он знать должен. Расскажет всё.
— Нет, погоди, — перебил майора Квашнин и внимательно посмотрел на участкового. — А ты, Суворин, забыл совсем… Прошла у тебя одна машина без досмотра.
— Не было такого, Пётр Иванович.
— Ну как же не было? Вспоминай. Ты сам мне говорил.
— Никак нет, товарищ заместитель начальника райотдела.
— Не горячись. Вспомни. Утром прошла машина председателя колхоза. Ефрем Тюньков на чём в город поехал? Его Деньгов послал! Ты осматривал машину?
— Никак нет, товарищ капитан! Что её осматривать? Её Полиэфт Кондратьевич лично отправил… к главному врачу… у которого на свадьбе гулял… Тому что-то понадобилось… — до участкового начал доходить смысл вопросов Квашнина, он побледнел и заморгал глазами.
— Это кто тебе понавешал лапшу на уши?
— Сам Ефрем и сказал… когда отъезжал.
— Вот этой машиной твой Ефрем Тюньков и вывез Охотника!
— Как? — присел Суворин.
— Вот так! — отрезал Квашнин. — Вернулся Тюньков домой из города?
— Вернулся уже, наверное. Спит небось.
— Пойдём к нему…
На что годятся психбольные
Брехали взбалмошные собаки, но деревня ещё спала, когда Квашнин, Камиев и Суворин оказались у нужного дома. Ефрем Тюньков, личный шофёр председателя колхоза, жил неподалеку от своего начальника в избе, брошенной одним из многих разочаровавшихся когда-то в деревенской идиллии мужиков, сменивших легкомысленную пыль сельских улиц на рациональную гарь городского асфальта. Мужик тот вместе с семьёй и скарбом перекочевал временно, обещая вернуться, поэтому продавать избу не стал, оставил её во вполне приличном виде, однако пропал навсегда и назад не показывался. Дом был добротным, хотя и простоял не один год без жильцов с забитыми крест-накрест досками, погрустневшими окнами. С предложения председателя колхоза и молчаливого согласия сельского Совета Тюньков в нём и поселился также временно, но потом прижился. Поначалу ничего не трогал, всё ждал настоящих хозяев, но через полгода махнул рукой и, послушав совета Полиэфта Кондратьевича, отчаялся на ремонт, который произвёл скоро и добротно, как всё, за что он по-настоящему брался. Дом враз расцвёл, зарадовал глаза и нового хозяина, и соседей, которым до кишок надоел разросшийся репейник и камыш в брошенном дворе.
Правда, новый жилец мужиком оказался некомпанейским. Вставал рано, домой приходил поздно. С соседями не общался, знакомств не искал. Работал без выходных. Но этому имелось объяснение — возил самого председателя колхоза. Тут уж, как говорится, о себе некогда думать. Его никто и не корил. Даже бабки на лавочках не находили в нем лакомый кусочек поломать свои сточившиеся зубы. Ефрем никому повода для пересудов не давал. Шофёр председателя — и на этом вся молва заканчивалась. Такая же репутация была и у его жены, которую никто никогда не видел и не слышал. Даже в магазинах отоваривался сам Тюньков. Пустили слух, что больную привез её Ефрем из города, в воздухе чистом нуждалась, но по весне у Тюньковых расцвели яблони, оставленные ещё прошлым хозяином, а женщина из дома так и не появлялась, даже на порог не показывалась. Со временем эти странности пришлой городской семьи перестали кого-то интересовать. Живут люди, дом преобразился, дым из трубы нет-нет да валит, а что ещё надо? У каждого своя жизнь. Обо всём этом участковому Суворину рассказала соседка, когда тот проходил по дворам, собирал по заданию Квашнина необходимую информацию.
Сейчас Суворин, как обычно, занялся охраной фасадных окон. Их в доме Тюнькова было много. Камиев по команде Квашнина перебрался во двор и устроился подле боковых окошек. Убедившись в их готовности, капитан взошёл на крыльцо и негромко постучал в дверь, решив не булгачить хозяев, помня увещевания участкового о мучениях Тюнькова с больной женой.
Ответа не последовало, но в доме зашевелились. Квашнин подождал терпеливо и постучал ещё раз, настойчивее, сильнее, громче.
Бесполезно. Не ответили. Голоса не подали. К двери никто не подходил. «И этого в доме нет», — подумал Квашнин и, нажав плечом на полотно двери, подёргал металлическую блестящую ручку. Дверь сдвинулась, но устояла.
— Милиция! Хозяева, открывайте! — крикнул Квашнин и основательно приналёг на дверь, та жалобно скрипнула, треснул внутренний засов, и Квашнин завалился внутрь.
Зазвенели вёдра, на которые он наскочил, обдав ему ноги холодной водой, грохнулась лавка за ведрами, что-то ещё упало перед ним, но капитан устоял, благо, прихожка, в которой он оказался, была невелика и позволила ему опереться на стену. Никто Квашнина не встречал. Но с улицы послышался откровенный шум, подхлестнувший его, и он рванулся внутрь дома. Одну комнату, кажется, кухню, проскочил мельком. Во второй, оказавшейся просторной и светлой, окно было распахнуто. Занавеска полоскалась на ветру. Мужик, раскорячившись на подоконнике, в трусах и в майке стоял с вздёрнутыми вверх худыми руками на полусогнутых волосатых ногах. Картина была нелепа и смешна.
Под окном бодро торжествовал Суворин с задранным к животу мужика пистолетом.
— Давай к нам, шалун, — снисходительно поманил мужика Квашнин, не опуская своего пистолета. — Что это ты с утра в окно прыгать задумал? Я же команды не давал.
Мужик, скукожившись на подоконнике, нерешительно раздумывал.
— Спускайся, Ефрем, — посочувствовал ему Квашнин. — В ногах правды нет. Чтой-то ты гостей без радости встречаешь? Напужался весь. Слезай. Устраивайся.
Тюньков, совсем сконфузившись, помялся близ окна, без особого задора спустился на пол, застрял посредине, словно в чужой комнате.
— Проходи, Ефрем, не стесняйся. У себя дома-то. Я, если и кусаюсь когда, то только от злости. Но ты же не будешь меня больше злить? А, Ефрем?..
Тюньков не подавал голоса, приходил в себя. Трусов и майки он явно начал стыдиться.
Однако человек с пистолетом не предлагал ему одеться, как и не предлагал сесть, поэтому ему ничего не оставалось, как стоять столбом и ждать своей участи. Квашнин между тем ловко закрыл окно, заглянул для убедительности во все комнаты и, плюхнувшись усталой спиной на редкий в такой провинции кричащий красками диван, только тогда принялся рассматривать торчащий перед ним живой монумент.
— А я всё боялся жену твою потревожить. Где хозяйка-то? — как ни в чём не бывало по-свойски спросил Квашнин.
— Нет её, — хмуро выдавил из себя Тюньков, — на прошлой неделе в город отвёз. Занемогла совсем. В больнице она.
— А потом к ней и дружка своего свёз, Селима, — весело вставил капитан, — тот тоже занемог?
— Приказали, повёз, — ответил Тюньков, но прикусил язык, примолк, поздно спохватившись.
— Это кто же приказал?
— Велели, отвёз.
— Кто велел?
— Тихон, кто ж ещё.
— А куда же ты его отвёз?
— Вы же знаете сами, в больницу.
— Знать-то я знаю. В какую?
— Псих же Селим. В психушку и велели его отвезти.
— А ты чего в окно рванул?
Тюнькова перемкнуло. Здесь ему требовалось время для ответа. Бессонная ночь, видно, давила на виски. Утренняя встряска перемешала всё в его голове. Суровый человек с пистолетом яростными вопросами загонял его в угол, не давал осмыслить ответы. Они выскакивали автоматической очередью, настигали, мешали придумывать небылицы; страх и предчувствие неизбежного ужасного краха ослепили разум Тюнькова.
— Кого напужался? Знал ведь, что мы придём? Знал? Говори! — заорал Квашнин.
В комнате, примостившись на стуле и прямо на раскрытой кровати, бесцеремонно уже расположились милиционеры. В одном Тюньков сразу разглядел участкового, второй тоже был ему знаком. Хмурый майор, оценивающе изучая тощую фигурку шофёра, нетерпеливо растирал кулаки один о другой.
— Мне б одеться… — начал Тюньков.
— Успеется! — жёстко оборвал его Квашнин. — Селим сам обоих бракашей грохнул? Или ты ему помогал?
— Рукой я их не трогал, товарищ начальник, вот те крест!
— Где же ты был? Сейчас будешь врать, что и не видел?
— Дак откуда? Он же ночью их там у снастей кончил, — выпалил и испугался Тюньков.
— Ах, Ефрем, Ефрем, с кем же ты связался, бедовая башка? Тихон Жигунов про убийства знал?
— Догадывался. Они с председателем поэтому и уехали из города на свадьбу.
— Вместе с председателем?
— С Полиэфтом Кондратьевичем. Но кто думал, что так всё обернётся? Тихон велел пугнуть Гнилого как следует, чтобы снасти не трогал. А тот, осетин бешеный, завёлся.
— Где же вы ружьё схоронили? — проверил Квашнин.
— А утопло оно прошлой ночью.
— Прошлой ночью, говоришь?
— По вашим милиционерам тот козёл стрельбу открыл. Вы же знаете. Не задел никого?
— А тебе откуда известно? Ты что с ним был в лодке?
— Я совсем башку не потерял, чтобы из-за рыбы под пули лезть…
— Кто поведал?
— Да он же и рассказал, Селим. Зверь и есть. Ночью видит и слышит, пуще зверя.
— А ты у него на подхвате?
— Нужен он мне… Псих сумасшедший. Я сам по себе.
— Ну, если сам по себе, — успокоился Квашнин, — вот давай и поговорим мирком обо всём обстоятельно и не торопясь. Ты присаживайся, Ефрем…
— Иванович, — тоскливо подсказал Тюньков.
— Присаживайся, Ефрем Иванович, — почти участливо указал на стул против себя Квашнин, — и рассказывай всё по порядку. Когда эти козлы начали ваши снасти проверять? Когда рыбу потрошить? Когда достали за живое Тихона?
— Так это долго рассказывать…
— А куда нам спешить? Ты убийцу отвёз в больницу?
— Отвёз.
— Ну и хорошо. Кому сообщил об этом?
— Жигунову.
— Полиэфт Кондратьевич тоже в курсе?
— А без него Селима в психушку и не приняли бы.
— Ну вот. Раз без него не приняли бы, значит, без него и не выпустят, — успокоил Тюнькова вдруг ставший заботливым Квашнин. — Чайком, может быть, побалуемся? Ты как, Ефрем?
— Да, можно, — безразлично махнул рукой Тюньков. — Чего уж теперь…
— Вот и славненько, — хмыкнул капитан милиции. — Суворин, организуй нам чайку да сгоняй за Данилой Павловичем. Ему интересно будет послушать… Так, значит, рассказал тебе Селим, как он бракашей грохнул?
— Я поначалу сам догадался, когда осетин вернулся под утро. А потом и от него кое-что слышал. Застал Селим Гнилого и Медведя прямо на наших снастях. Давно мы их выслеживали, да уходили они. Тихон кричал, торопил их схватить. Нас ругал. Селим ему поклялся: поймает — убьёт. В тот раз осетин ружьё с собой взял.
— А Селим этот, он что же, с тобой в этом доме жил?
— В основном — да. Иногда у себя ночевал, иногда к Тихону в мазанку ходил, прятался. Но это по особой нужде, а так здесь обитался.
— А жена твоя как же?
— А что жена? Она с месяц здесь всего и пожила-то, а потом занемогла совсем. Я её и отвёз назад. Вот тогда мы с ним и остались вдвоём.
— Не подошёл, выходит, климат жене?
— Болезнь серьёзная. Думали на природе и чистом воздухе полегчает…
— Это что же за болячка такая?
— Падучая…
— Падучая? Эпилепсия, что ли?
— Она.
— Чудно у тебя получилось! Твой дружок, Селим, падучей мучился. И жена тем же?
— В одной больнице и лежали, — мрачно подтвердил Тюньков, совсем поникнув головой, видно, способность осознавать происшедшее наконец в полной мере возвратилась к нему, но было уже поздно, он всё рассказал милиционерам и сейчас или горько сожалел, или, отчаявшись, летел в пропасть неизбежного возмездия, ни на что уже больше и не рассчитывая, не надеясь на снисхождение. — И я оттуда же. Нас всех троих Глеб Порфирьевич Деньгову отрядил.
— Кто же этот всемогущий добрый человек?
— Главврач психушки.
— А теперь, значит, опять он Селима затребовал?
— Это мне неведомо. Тихон велел свезти осетина назад, я и отвёз.
— Так, так. Рыбу-то здесь разделывали? — вдруг спохватился Квашнин.
— Осетин сам с ней возился. Меня не подпускал. А что ему ещё целыми днями делать? На койке вон валялся.
— Что-то не пойму… где мастырили? — оглядел пытливым глазом комнату Квашнин.
— И не найдёте, — криво усмехнулся Тюньков. — Кто же здесь, в чистой комнате, поганить будет? Провоняет всё. Не отмыть. В подвале он её разделывал. Тут жарко. Пропадет всё. А там, под полом, прохладно. И с глаз долой.
— Майор! — подмигнул Квашнин Камиеву, словно затевая весёлую игру. — Найдёшь подвал?
Камиев тяжело поднялся, играя желваками на лице, ощупал взглядом Тюнькова, тот тут же вскочил, вытянулся перед ним.
— Сиди, сиди, Ефрем, — успокоил его капитан. — Он сам найдёт подвал.
— Люк там, на кухне, под ковриком, — всё же заторопился с подсказками Тюньков.
— Понял, майор? — улыбнулся Квашнин Камиеву. — Действуй. А ты не трясись, Ефрем. Что же теперь волноваться? Теперь уже дело сделано. Теперь о будущем думать тебе надо. Продолжай, рассказывай. А то я кое-что записать хочу. Ты не возражаешь?
Тюньков обречённо отмахнулся головой, болтающейся на его тонкой шее, как на кукольном чучеле.
— Ну и хорошо. А нет, — все вопросы в письменном виде…
— Чего, чего писать? — не понял Тюньков.
— Ничего. Это я так, про себя…
Как рушатся идолы
Бобров метался по своему, ставшему вдруг маленькому кабинету, не находя места рукам, то размахивая ими в жестах возмущения, то хватаясь за голову, то бессмысленно схватывая со стола ручку, карандаши, разбросанные в беспорядке бумаги. Китель прокурорский распахнулся, лоб он не успевал утирать влажным уже платком. Бешено, но не освежая, вращал резиновые лопасти вентилятор.
Вдоль стен, спрятав ноги под стулья, сидели три милицейских офицера: Каримов, Квашнин, Камиев и двое гражданских: Зябликов и Царапкин. Начальник районного отделения КГБ, аккуратный тихий человек, не поднимая головы, постоянно бережно записывал в размещённый на коленях коричневый с кожаной коркой блокнотик. За столом сбоку Ковшов, то и дело перебиваемый Бобровым, заканчивал продолжительный доклад.
Со стены, нависая над прокурорским столом, за всей этой сценой наблюдал огромный в чёрной рамке на тёмном фоне портрет. С портрета укоризненно взирала большая голова с пронзительными глазами. Вождь вместе с прокурором возмущался, неистовствовал, но гром и молнии не разбрасывал, молчал. Но от этого никому легче не было.
— …При обыске у Тюнькова в подвале был обнаружен настоящий икорно-балычный цех со всеми причиндалами и разделочными приспособлениями, — докладывал Ковшов. — В двух холодильниках икра в банках заводской расфасовки, и даже в бутылях она хранилась… Изъяты куски паюсной икры в пакетах. Всего более ста килограммов.
— Уточнить количество икры нельзя? — донеслось от Царапкина.
— Сто двенадцать килограммов, — быстро отреагировал Квашнин.
— Очень много настоящей заводской тары… — продолжил Ковшов.
— Один в один! — опять вставил капитан и выхватил из кармана кителя яркую синюю этикетку консервной банки со знакомой всем надписью и картинкой. — И всё сплошь «икра паюсная, осетровая»!
Царапкин аккуратно зацепил бумажку, оглядел её, свернул и заложил в свой блокнотик. Квашнин было потянулся за ней к нему, но передумал.
— Преступная группа в составе Жигунова, Тюнькова и неизвестного по имени или кличке Селим действовала продолжительное время. Мы тут, — Ковшов взглянул на Квашнина, — ему свою кличку дали Охотник. Ранее в эту группу входил Фирюлин Аким по кличке Гнилой, занимавшийся сбытом готовой продукции в городе. После того, как его задержали и осудили, Деньгов, не без помощи Зубова, своего родственника, главного врача психиатрической больницы, вовлёк в общее дело вместо выбывшего двух новых людей из этой больницы. Одного трудоустроил личным шофёром, Тюнькова Ефрема. Помог приобрести ему дом. В подвале дома во время ремонта они смонтировали устройство для разделки и посола рыбы, изготовления и хранения икры, закатки банок. Одним словом, по-хозяйски подготовились.
— Не пойму я, Данила Павлович, — возвёл руки в потолок Бобров, — зачем они психов в опасное дело взяли?
Ковшов не успел ответить, его опередил Квашнин:
— Выбирать времени не было, а своих, местных, боялись привлекать. Риск большой. Деревенский мужик — он, конечно, скрытный, но нелегко его настроить на воровство. А тут же разбой открытый! Размах! К тому же городские люди — чужие. Сегодня здесь, а завтра — ищи ветра в поле. Психи, с них спроса никакого. В уголовно-процессуальном, так сказать плане, они законом особо защищены. К тому же психи — они психи и есть!.. Что с них взять? Больные на голову. Какая им вера? И к ответственности не привлечь… Ещё помучаемся с ними. Экспертизе их душевное состояние придётся определять. А самое главное — дешёвая рабсила. Уверен, ни Жигунов, ни председатель им рубля не давали от своего навара. Тюньков благодарен был, что дом задарма отхватил, второму уроду, осетину, вообще, по-моему, ничего не надо. Я вот кумекаю, Данила Павлович, этого осетина проверить тщательно следует. Думается мне, не из-за одной падучей он в психушке прячется. За ним тянется другой ещё, поопаснее след. В союзный розыск надо будет его занаряживать. Он с Кавказа не зря слинял.
— Личности всех троих нуждаются в глубокой проверке, — согласился Ковшов, — женщина, сожительница Тюнькова, тоже, скорее всего, не безупречна. Странно, что она быстро вернулась в больницу.
— Упрятали её назад, так как Селиму негде было ютиться. Вы же видели его нору в мазанке у Тихона. А здесь, чего ещё надо? Тепло и цех под полом. Лучше не придумаешь, — выпалил Квашнин.
— Данила Павлович, а что же Деньгов? Вы его успели допросить? — упёрся цепким взглядом в Ковшова прокурор.
— Я его допрашивал пока только сразу по возвращении из города, Маркел Тарасович. Он мне развёл чудеса про рекорды колхозные в молочной области и головную боль от свадьбы. Тихон Жигунов тоже было заупирался, но когда майор Камиев вытащил у него дома из подвала два куля паюсной икры по десять килограммов каждый, да Дарья, жена его, о Селиме и Тюнькове при нём всё рассказывать стала, он сдался. Я его и Тюнькова в КПЗ райотдела пока разместил, но увезу с собой в город, в следственный изолятор. Без обид, Равиль Исхакович, — взглянул Ковшов на начальника милиции, — но там мне сподручнее с ними работать и утечка информации будет исключена. Надёжней, одним словом.
— Кто бы мог подумать? — забегал снова по кабинету Бобров. — Деньгов, председатель колхоза!.. Член бюро райкома!.. Член обкома партии!.. Куда его понесло?.. Чего не хватало?..
— Да, тяжело будет падать, — беззаботно посочувствовал Квашнин, — однако причастность его к убийству доказать будет трудно.
— Жигунов категорически отрицает умысел на убийство Фирюлина и Дятлова, — соглашаясь, закивал головой и Ковшов. — Твердит на допросах, что догадывался, допускал, но не более того. Из Тюнькова тоже доказательств не вытянешь. Упёрся: не знает ничего об этом, а улик никаких. Остаётся один Охотник.
— Это ещё кто такой? — взмолился Бобров.
— Я же говорил, Маркел Тарасович, во время задержания в деревне мы так окрестили главного фигуранта по делу, убийцу браконьеров, осетина Селима, — Ковшов кивнул Квашнину. — Он, хотя и псих, однако человек отчаянный, все дела и понатворил. Петру Ивановичу есть чего вспомнить. Лодку, в которой он находился с Матковым, расстрелял, превратив в решето.
— Ничего не скажешь, — почесал затылок Квашнин, — стрелять он мастак. Но и за мной не заржавеет, Данила Павлович. Вы его задержание кому поручить собираетесь? Я сам пойду! Городские, если его возьмут, все сливки наши снимут… Мы пахали, пахали, а им ордена?
— Дело общее, Пётр Иванович, — одёрнул своего ретивого заместителя Каримов, впервые промолвивший слово во время всего заседания, — но ты прав. Данила Павлович, нам брать убийцу надо. По праву и по долгу. У нас в районе преступление совершено, мы его раскрыли, нам и преступника обезоружить. Тем более, сколько понатворил этот душегуб дел у нас в районе! Ни к чему других людей подставлять под пули. Вдруг Охотник этот вооружён? Мои ребята и завершат операцию по его аресту. Я сам её и возглавлю.
— Куда хватил! — остолбенел Бобров. — Я смотрю, Равиль Исхакович, тебе лавры героя опять покоя не дают. Ты опять укатишь, а мне завтра одному на бюро райкома первому секретарю отчёт давать? Не пойдёт! Я сегодня, когда с Данилой Павловичем Игорушкину докладывал, получил от него по шапке. Рта открыть мне не дал Петрович! Вместо благодарности за то, что убийство раскрыли, выволочку устроил… Как услышал, что председатель колхоза в убийстве замешан, так сбился с голоса. Ему теперь самому обком информировать! К Боронину идти!.. Спрашивает меня: как такое допустили? А я ничего ответить не могу…
В кабинете повисла напряжённая тишина. Бобров опустился на стул.
Заполнил возникшую паузу Ковшов:
— Равиль Исхакович, я в больницу думаю поехать сам. Мне главного врача, Зубова этого, очень хочется повидать, пока день не кончился. Узнать у него хочу, почему его психи на воле бегают и убийства совершают. А с собой возьму Петра Ивановича и майора Камиева.
Каримов вскинулся глазами на Ковшова, сверкнули в них злость и обида, но на Боброва глянул и опустил голову. Бобров же притих за своим столом, сидел, перебирал бумаги, скрывая чувства, только желваки на скулах перекатывались. Видимо, здорово досталось ему от прокурора области во время телефонного разговора, не скоро забудется.
— Вас же попрошу, Равиль Исхакович, — продолжил в гнетущей тишине Ковшов, — предупредить Лудонина чтобы установили наблюдение за больницей.
— Задача по наблюдению поставлена, из УВД подтвердили, работу по отслеживанию ситуации начали, — чётко рапортовал, побледнев, но сдержавшись, Каримов. — Сообщены им и приметы убийцы. Охотник находится в больнице. В случае попытки к бегству, других возможных фокусов, Лудонин меры примет, он по телефону передал вам наилучшие пожелания и просил не тревожиться.
— Михаил Александрович человек деликатный, — успокоился Ковшов и кивнул Квашнину и Камиеву: — Ну что, товарищи офицеры, вперёд и с песней?
Квашнин и Камиев радостно слетели со стульев.
Конец Охотника
Глеб Зубов, побагровев от злости и уже не в силах сдерживать себя, плюнул на отрепетированную интеллигентность и вышколенный годами лоск, которыми несказанно гордился и чтил, заорал, не оборачиваясь, за спину:
— Кого ещё там чёрт несёт? Я же учил, никогда не входить без стука и вызова!
Бутылку коньяка и рюмку он судорожно задвинул назад в сейф и грохнул дверкой так, что сам ошалел от дикого треска и звона.
— Занят я! Занят! Кто там ещё прётся? — Зубов повернул горевшее от бешенства лицо к ворвавшемуся в его неприкосновенный кабинет.
— Глеб Порфирьевич, — на пороге здоровенный верзила в недоумении развёл ручищи, словно два шлагбаума, — ты же приказал немедля докладывать, если что случится.
Зубов, благо отцу-матери, сам был под два метра ростом, но тот, кто осмелился нарушить его уединение, — мужичище с совершенно голым черепом — возвышался перед ним горой. Казалось, едва не подпирал потолок его кабинета. Могучее тело было упаковано в стерильно-белый халат, рукава которого закатаны по локоть, с распахнутой чуть ли не до пуза груди пёрла густая рыжая шерсть. Неприятен был его вид главному врачу и даже вызывал брезгливость, особенно огромадный, свисающий складками, живот. Но терпел он безобразного сатрапа, призванного держать в трепете больных и усмирять буйных психов.
— Чего тебе? — не отходил от гнева Зубов и полез снова в сейф за коньяком.
— А вот пить пока и не следует, Глеб Порфирьевич…
— Слушай, Кардинал, попридержи язык! — опять взорвался Зубов. — Распустил я вас! А то не посмотрю, что ты моей правой рукой считаешься. Я тебя породил, я тебя и убью!
— Всё помню, Глеб Порфирьевич, и деткам своим закажу, но только извиняюсь, послушайте меня, — сразу сменил тон верзила.
— Ну, давай, — Зубов с сожалением опять захлопнул дверь сейфа и плюхнулся в кожаное кресло. — Ты второй день мне уроки мудрости преподносишь. Подумать только! Бывший псих учит главврача… Кто посторонний послушает, засомневается: кто из нас кто?
Зубов зашёлся в нервном хохоте.
— Я что посмел-то, Глеб Порфирьевич. С утра, как привёз этого урода осетина Тюньков, поместил я его в одиночку…
— Ну и что? Буянит?
— Нет. Куда ему. Сидит, как суслик. Ни слова. Даже жрать не стал. Я пробовал с ним по душам. Он глазами сверкает, только зубами не цапает.
— Ты же знаешь, зверь всегда такой был. А тут застрелил двоих… Зверюга! Меня, сука, этими убийствами под монастырь подвёл! Не очухаюсь сам, что делать?
— Вот-вот! К обеду, когда вас не было, интересовались этим уродом.
— Кто? Кому он понадобился? — сорвался на крик Зубов и вскочил на ноги.
— Тихо, тихо, — замахал руками санитар, — я, подозреваю, звонили менты, но Вера Павловна, душа наивная, говорит, что представились ей будто из соцобеса.
— Она что, дура? Кому наш дикарь там нужен? Кто его там знает? У него документов-то почти нет!
— Вот и я так считаю. Прищемил ей язык, но поздно уже. Вас дожидался, чтобы сообщить, а здесь опять…
— Что ещё?
— Похоже, оцепили они больницу.
— Как оцепили? Кто?
— Милиция. Наружка у них есть. Служба такая. Их ещё топтунами называют. По следу пускают за людьми, когда нужно.
— Ты что несёшь, Кардинал? Прошлое своё вспомнил? Зачем больницу… — и, не докончив фразы, Зубов тяжело осел в кресло, выпучив глаза в страшной догадке.
— Да, да, Глеб Порфирьевич, — почти шёпотом и, от этого совсем пугая главврача, произнес санитар. — Урода они, осетина нашего, выследили. Он их на нас навёл.
— Не верю я. Полиэфт трясся, конечно, весь, когда рассказывал, как участковый с ним по телефону беседовал, но ни слова про убийцу не сказал. Не знают они ничего, с Деньговым бы так милиция не цацкалась. И Тюньков, когда привёз осетина, сказал бы мне сразу, что и как. А он тут же назад махнул, ни слова…
— Правильно, — тихо и мрачно согласился санитар, — утром они не знали, а к обеду проведали. Сами говорили: кому дикарь в соцобесе нужен? Он и на учёте никогда не стоял. Не знаю, кроме нашей больницы этот урод вообще значится где-нибудь среди живых?
Слова были сказаны. Медленно в наступившей зловещей тишине их смысл доходил до сознания главврача. Он дико зыркнул на санитара. Тот сам затаился — уловил ли главврач их значение?
— Ты что затеял, Кардинал? — пролепетал бледными губами Зубов.
— А нам другого не остаётся, — подтвердил тот.
— Погоди. Может, ты ошибаешься?
— Я уже полчаса за ментами шныряю, Глеб Порфирьевич, — прошипел, как змея, санитар и пригнулся к лицу Зубова.
Жирный подбородок его безобразно отвис, бороздами расползлось брюхо к самому полу.
— Двое ментов переодетых прикинулись простаками у главного входа, на «москвиче» капот задрали, в движке копаются, искру потеряли. Пойдёмте, из окна покажу.
— С чего ты решил, что это милиция?
— Я их нутром чую. За десять лет запах их у меня навсегда в печёнках залёг. Они, больше некому. А другие двое перекрыли заднюю калитку.
— Не нагоняй страху!
— Точно. Там скамейка у нас, за мусорным ящиком. Они схоронились. Друг друга меняют, вроде как случайные прохожие. Но меня не купишь. Я послал с мусором одного из психов наших пришибленных.
— Больного-то зачем?
— Да какой он больной? Так, придуривается больше. Только тот на скамейку сел покурить, менты сразу его облепили, вроде любопытствуют, а сами: «Кто да как?» Знакомы их прибамбасы. И морды у всех четверых гладкие.
— Аггравация у тебя прёт, Кардинал. Перепугал тебя осетин, — сопротивлялся до последнего Зубов, но уже совсем убитым голосом, и больше ища выход из угла, в который сам себя загнал.
— Пойдёмте, сами поглядите, Глеб Порфирьевич, на этих двоих, что у «москвича». У них на спинах пиджака горбы торчат.
— Ну и что?
— Так пушки там у них! Пистолеты! Менты это, сомневаться — только время зря тратить!
Последний аргумент сломил Зубова. Он, словно сомнамбула, продефилировал к сейфу, открыл в который раз дверку, налил рюмку коньяка, выпил, не закусив, оглядел своего собеседника, будто видел его в первый раз и наполнил рюмку снова.
— Хватит, хватит, Глеб Порфирьевич, — замахал своими шлагбаумами санитар. — Мне надо с вами один вопрос обсудить.
— Давай, — обречённо опустился в кресло Зубов, — обсуждай.
— Этот урод, осетин, у нас в больнице чем мучился?
— Epilepsia… grand mal… — хмелея на глазах, промямлил главврач.
— Глеб Порфирьевич, — забеспокоился, забегал вокруг него толстяк, — вы уж по-нашему. Мне не понять. Не заснули бы?
— С чего мне спать, дурак! — оборвал его Зубов, — Зубов всех вас взрежет и зашьёт! Налей ещё!..
— Глеб Порфирьевич, дорогой, — бегал возле него санитар, — не к месту вы это затеяли. Повременить надо!
Зубов медленно погружался в пьяное небытиё. После проведенной свадьбы он ещё не приходил в себя, каждый день заливая огромную дозу губительного алкоголя в организм, парализуя сознание, эмоции и теряя чувство опасности. Перебороть, осилить себя он уже не мог.
Свадьба, компанейский гульбан были только отправной точкой. Основное, главное и самое страшное, что заставляло тянуться к стакану, это безудержный страх, вселившийся в него с ночным сообщением Полиэфта Деньгова об убийствах двух человек, совершённых его подопечным эпилептиком Селимовым, выпрошенным у него Деньговым в деревню год-полтора назад на добычу «краснухи».
Дело рисковое, но поначалу, казалось, не грозило ничем, было беспроигрышным и, наоборот, сулило большие доходы. Психу самому ничем не мешало, припадки его затихали, пошли на убыль, за время стационарного пребывания в больнице тот заметно окреп, свежий воздух ему не вредил. А навар от тайного промысла главврач получал ощутимый. Деньгов обещал икру и рыбу привозить не наскоками, как раньше, а регулярно, каждый месяц и не по звонкам и просьбам.
Обещание свое председатель колхоза сдержал. Главврач зажил припеваючи. И на тебе, эта страшная осечка! Сумасшедший по натуре осетин, в больнице постоянно кидавшийся на Кардинала, не усмирил свой нрав и на воле. Застрелил надоевших конкурентов. По своей звериной задумке или по наказу Тихона, а то и самого Деньгова тот это сделал, Зубов не интересовался. Главное, всё было поначалу тихо. Осетину удалось скрыться и удачно замести следы, но псих опять влип в историю. Оставил всё же где-то свои кровавые следы. А Зубов, не подумав, спьяну или сдуру посоветовал Полиэфту привезти убийцу назад, в больницу. Вроде как под предлогом обострения болезни, чтобы спрятать от милиции. И вот насоветовал на свою задницу! Идиот! Нашёл себе приключений! Если бы психа взяли там, в деревне, Зубов остался бы в стороне. К нему не прицепиться ни ментам, ни прокурору! Эпилепсия — болезнь вечная. Ни один ещё не излечился. А что тот натворил на воле, это уже не его дело. Но убийца теперь у него, у Зубова в палате, на больничной койке! И выхода главный врач не находил, кроме…
Зубов запил сразу, как Деньгов ночью по телефону, сам трясясь от страха, рассказал ему про звонок участкового. Кажется, Камиева. Тот позвонил и сообщил, что рядом с ним Жигунов. И больше ничего! Приёмчики у них, у ментов поганых! А потом всё о свадьбе расспрашивал и уже в самом конце упомянул об убийстве. Как будто не ради этого звонил! Попросил, видите ли, поспешить председателя с возвращением! Вот, ломая голову над всем этим, Зубов и прилип тогда к бутылке. А потом заливал страх и пугающую неизвестность ежедневно.
— Глеб Порфирьевич! — заторопил его санитар.
— Ну что тебе, Кардинал? — как будто выбираясь из тяжёлого сна, открыл глаза Зубов, он засыпал в кресле.
— Глеб Порфирьевич, какой всё-таки диагноз у осетина?
— Нашёл, чем интересоваться… Эпилепсия. Сказал же я тебе. Припадки у него. В народе говорят, падучая. Болезнь самого Юлия Цезаря…
— Глеб Порфирьевич, дорогой, поподробнее симптомчики, последствия, приметы?..
— Какие приметы, дурак? — тяжело соображал летящий в пьяном забытьи главврач. — Приметы ему понадобились… Слушай… большие судорожные припадки… может упасть… прикусывает язык… упускает мочу… тахикардия… при этом может получить повреждения… сознание полностью выключается… потом теряет память…
И Зубов сам окончательно провалился в пьяный бред.
Но санитар в нём уже не нуждался. Он, сжимая огромные кулаки, нёсся на всех парах в развевающемся халате к палате того, которого они с Зубовым в разговоре между собой называли «осетином»…
* * *
— Наши стоят! — толкнул Квашнин локтем Ковшова. — Что им тут делать? Неужели всё же сами решили брать? Вот черти жадные!
У входа в психиатрическую больницу вдоль высокого забора один за другим жгли глаза жителей два сверкающих милицейских «газика» с синими полосками.
— Узнаю, — Квашнин нырнул к сержанту за рулём, быстро переговорил, пока Ковшов и Камиев приходили в себя, и подлетел к ним: — Лудонин здесь. Срочный вызов!
— Пошли! — потянулся в больницу Ковшов, внутренне уже готовый к любому исходу.
Едва они вошли в помещение, к ним заторопился дежуривший у дверей старший лейтенант.
Ковшов представился.
— Михаил Александрович Лудонин наверху, в палате, на месте происшествия. Проводить?
— Мы сами с ногами, старлей, — бросил ему Квашнин, поспевая за Ковшовым.
— Что случилось? — спросил у постового Камиев.
— Труп. Псих забился насмерть в припадке, — донеслось до Ковшова.
— Всё! Опоздали… — вскрикнул Квашнин.
Ковшов ускорил шаги, он чуть не бежал по узкому, тёмному коридору. Что же это ему напоминает? Где-то виделись уже такие мрачные, давящие омерзительные серые стены и потолки? И воздух тяжёлый, кажется, он десятками килограммов придавливает к полу. Ноги не слушаются, словно ватные. Что за чертовщина? Тюрьмой здесь за версту отдаёт!.. Вот что напоминает… Навстречу и вдоль стены попадались редкие безликие люди в серых халатах. Вот, кажется, и пришли. Впереди, перекрывая дорогу, вырос здоровенный детина, бесцеремонно напирая отвислым брюхом. Камиев взмахом руки отстранил толстяка в сторону. Тот услужливо влип в стену. Свет ударил в глаза. Ковшов невольно зажмурился, шагнул за порог.
— Рад видеть вас, Данила Павлович! — встретил его голос человека, стоявшего у окна.
Аккуратная причёска, интеллигентная фигура в элегантном чёрном костюме. Это был Лудонин, командующий всеми сыщиками в области.
— Я решил вызвать Югорова, вы не возражаете?
Посредине палаты, на полу, прямо перед Ковшовым кто-то лежал, накрытый белым покрывалом.
— Здравия желаю, товарищ полковник! — заорал за спиной Ковшова Квашнин.
— Здравствуйте, здравствуйте, Пётр Иванович, — последовал тихий ответ Лудонина, — давайте без реверансов.
— Что с ним? — кивнул на закрытого простынёй Ковшов.
— Все признаки гибели во время эпилептического припадка, Данила Павлович, — также без интонации проговорил Лудонин. — Вот и уголок нам главный санитар помог найти, об который больной смертельно травмировался.
Лудонин посторонился и опёрся о подоконник, острым углом выпирающий на Ковшова.
— Височком прямёхонько так и ударился… Если, конечно, не помог кто…
Огромная масса санитара отлепилась от стены и нависла над трупом, стащив с него покрывало.
— Бился в судорогах, бедолага… обмочился весь… язык прикусил… все признаки… эпилепсия… — толстяк уставился на Ковшова, поджав жабьи губы и въедливо изучая прокурора.
Ковшову противен был этот подозрительный взгляд и мерзкая уголовная физиономия толстяка. Его затошнило. Он повернулся и вышел из палаты, бросив на ходу:
— Я Константина Владимировича Югорова во дворе подожду.
Не помня себя, он шёл, не задерживался, очухался уже во дворе, на скамейке под большим тополем, где его уже поджидали Камиев и Квашнин. Неподалёку дымил сигаретой сержант, которому надоело сидеть в «козлике». Ковшов присел рядом, распахнул ворот рубахи. Свежий воздух ополоскал лицо.
— Не грусти, прокурор, — брякнул Квашнин. — Нам с тобой полбеды. Вот майору я не завидую.
— А мне-то что, — отмахнулся, как от мухи, Камиев, — я седьмая спица в колесе.
— Не скажи. Тебе ещё ответ перед Бобром держать… Оленя-то ему с машины ты так и не нашёл!
Диссиденты
Что было, то и будет; И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Книга Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме, глава 1.9Часть 1. Гений и тиран. Осень. 65 год нашей эры
Всю ночь лил дождь.
Его безлюдную, покинутую почти всеми Альбанскую виллу залило так, что он, сунувшись было в сад, не смог ступить и шагу; холодная вода, которую он всегда предпочитал тёплой, словно льдом остудила кожу и напугала стремительным натиском, сбивая с ног.
Дождь проливной, густой и гулкий не давал уснуть не одному ему. Металась на постели его верная маленькая и милая Паулина. Когда он заглянул в её покои, она, раскинувшись, тяжело стонала, но тут же пробудилась и обратила к нему сверкающий взор своих прекрасных преданных глаз:
— Анней, дорогой, что случилось?
Она не испугалась его ночного появления, не вскрикнула, не подала вида, хотя в свете факела, дрожавшего в его руке, лицо её блестело от непросохших слёз. Бедняжка, она чувствовала его тревоги и надвигающуюся беду, хотя ни о чём не спрашивала, переживая несчастье молча.
Он успокоил её, приласкал, погладил по голове, словно ребёнка несмышлёного, прижал к себе, как когда-то прижимал золотом отливающую кудрявую головку другого доверчивого и послушного дитя. Дитя, облечённого ныне великой властью и превратившегося в беспощадного монстра! Когда это было?
Его одурманенный бессонницей и ночными кошмарами мозг работал с трудом. С тех событий прошло чуть более полутора десятка лет, а кажется, будто минула целая вечность! Подростку с кудрявой головой, тогда ещё носившему имя Луций Доминиций Агенобарб и не сводившему с него глаз, было всего двенадцать лет. Премудрая мать, первая красавица Рима Агриппина среди сонма вельмож, кичившихся своей учёностью, выбрала в учителя и воспитатели своему малышу его, молодого оратора Луция Аннея Сенеку, преуспевающего писателя и философа, накануне затмившего в сенате искусством говорить её брата и императора, самого Калигулу.
Ярость и негодование властителя не знали предела, Калигула отдал приказ лишить жизни смутьяна, он не терпел соперников и не ведал поражений ни в чём. Но случай и болезнь спасли Сенеку, а поступок снискал триумф у народа, зависть раболепствующих врагов и заслужил внимание великолепной Агриппины. В силу женской участи долго оставаясь тенью своего коронованного брата, она всю свою жизнь жаждала высшей власти. Понимала, стать императрицей при живом брате, подозрительном и кровожадном Калигуле, ей не суждено. Единственная надежда — это её сын, её орлёнок, потерявший отца в двухлетнем возрасте. На него она поставила карту. Но мальчик рос без присмотра, а когда Калигула уличил её в малейшей неверности и отправил в ссылку, золотоволосый птенец остался совсем один. Безжалостный диктатор отлучил сына от матери, так он мстил ей, приручая несмышлёныша к себе и держа в качестве заложника. Попробуй она отважься на поступок, покушающийся на его единоличную власть, тотчас же не знающий жалости меч палача отсечёт голову орлёнку. Хотя нет, коварный Друз предпочитал с родственниками и авторитетными особами расправляться тайно, используя удавку и отраву.
Только, когда опасность миновала, Агриппина смогла возвратиться в Рим и сразу задумалась о судьбе сына и собственной заветной цели, которая не покидала её в изгнании. Мальчик совсем отвык от неё, подрастая дикарём, пугался темноты и людей, не мог связать двух слов. Ему срочно нужен был учитель, воспитатель. Такой, какие были у малолетних будущих правителей во все времена, как Аристотель у юного Александра, великого царя Македонии. Ей самой, сразу после возвращения активно занявшейся дворцовыми интригами, вопреки женским шалостям и слабостям, было не до сына. Среди наиболее известных она выбрала его, Сенеку, и он, особенно не раздумывая, согласился, хотя уйти с политической сцены в самом расцвете сил и стать учителем пусть у знатной особы, но опальной сестры Калигулы, небольшая честь.
Но Луций Анней Сенека смотрел в будущее и не просчитался. Агриппина добилась своего. Погрязший в кровавых заговорах, строя дворцовые ловушки, лишая жизни многих консулов и сенаторов, полководцев и богачей Рима, её брат, император Калигула, всё-таки пал жертвой заговорщиков, а она, его затаившаяся на время сестра, стала женой нового властителя Рима, императора Клавдия. Единственная в истории республики женщина, добившаяся звания августейшей особы, Агриппина, очень быстро уговорила мужа усыновить её златокудрого птенца.
Вот тогда всё и встало на свои места. По меньшей мере она, гордая мать, почти добившаяся своего, и он, честолюбивый наставник, вздохнули полной грудью, наслаждаясь предчувствием близкой победы…
Сенека прислонился к мраморной колонне и отшатнулся — от неё веяло могильным холодом. Факел из его руки едва не вывалился на каменный пол. Пламя металось под резкими порывами Нота[7], освещая небольшое пространство перед ним, убегающие вниз ступеньки утопали в бурлящей воде. Дальше разверзлась тьма, в которой мрачными пятнами проступали деревья сада да фиолетовое небо, застилаемое чёрными тучами.
По давней привычке, заведённой им с первых дней вынужденного затворничества в усадьбе, Сенека ежедневно перед сном подводил итоги. Но о каких итогах прожитого здесь могла идти речь вот уже на протяжении трёх лет? Изо дня в день одно и то же. Серые, бессодержательные будни. Помнится, несколько дней назад он, изловчившись, прихлопнул злющую муху на колене своей ноги, досаждавшую ему долгое время. Вот единственно мало-мальски приметное событие в его сегодняшней жизни.
Письма, названные им назидательными и нравоучительными, адресованные приятелю Луцилию, — главный и самый удачный литературный труд его жизни, — он давно завершил. Писать больше не хотел, да и не мог, знал, — ничего лучшего уже не создаст. Уберечь бы то, что удалось написать. Не так-то просто сохранить о себе память. Даже самым великим и то не под силу. Вон Клавдий. Не чета ему, простому философу. Бывший император не смог сохранить для потомства созданные научные труды. Мало кому было известно, но он-то, Луций Анней Сенека, достоверно знал от самой Агриппины и из других вполне надёжных источников, что покойный Клавдий, оказывается, много и плодотворно занимался писательским делом и историческими исследованиями. При колоссальной загруженности государственными проблемами, постоянно сыпавшимися на его многострадальную голову, Клавдий сумел написать многотомные истории своего Рима от седой древности до современности, историю непокорённого Карфагена, с которым Рим постоянно вёл жестокие войны и, наконец, победил; даже о себе автобиографию не забыл составить, но где это всё? Сменивший его Нерон одним махом предал забвению и бросил всё в огонь. Казалось, он жаждал уничтожить даже память об усыновившем его человеке, мало было погубленных родных детей… Британник отравлен, Октавия и Антония казнены.
Сенека сплюнул под ноги, засветив новый факел, в мутную воду за ступеньки лестницы бросил гаснущий, развернулся и, медленно передвигая непослушные, давно болевшие ноги, направился в дом, к своим покоям. Длинная тень, прыгая от колонны к колонне, скользя по полу, металась за ним.
Сколько событий промелькнуло пред его глазами! Сколько политических катастроф потрясли его Рим! Их с избытком хватило бы на несколько человеческих жизней, а выпало на его одну. И всё потому, что его судьба переплелась с судьбой этого золотоголового зверя…
Он вздрогнул от внезапно пронзившей его мысли. Где-то он писал об этом? Теперь уже не вспомнить, то ли в письмах Луцилию, то ли в наставлениях к ещё молодому императору, то ли себе в назидание… Красивая, удачная фраза, он не без удовольствия прошептал её старческими губами, редко теперь произносящими что-либо подобное:
— Судьба движет нами, уступай судьбе… первый день предсказывает день последний…
Он не ошибся как всегда. Еще тогда родились в нём эти слова. Подсознательно он угадал, что вся его дальнейшая жизнь, как только он примет предложение Агриппины сделать из её юнца доблестного мужа, будет неразрывно связана с этим человеком…
Луций Доминиций Агенобабр. Меднолобый
Такое имя мальчик, впоследствии обратившийся в зверя, получил при рождении и носил бы всегда, но стал для всех Тиберием Клавдием Нероном, едва лишь прикоснулась к нему могучая длань величественного императора Клавдия, усыновившего его. Если бы обладать способностью заглянуть в своё будущее! Если бы Клавдий обладал таким чудом! Бедный Клавдий! Он был требовательным к подчинённым, но беспристрастен; жесток к врагам, но справедлив, не отличаясь наивностью и не страдая излишней доверчивостью, старался не повторить роковой оплошности Гая Юлия Цезаря, легкомысленно пригревшего коварного Брута на своей груди. Тогда гадюка сожрала своего хозяина.
Клавдий свято запомнил этот урок и постарался оградить себя от любой случайности. Более того, такой охраны, какую он создал вокруг своей августейшей особы, не знали правители Рима. Даже устраивая празднества и пиры, он приказывал обыскивать приглашённых гостей, не делая скидок знатным вельможам и исключения женщинам. Мягкотелый с виду, размазня и увалень, как его окрестил в пору юности ещё сам Калигула, Клавдий лишь притворялся под личиной невежды и придурка, а когда облачился в тогу повелителя, редко проявлял милосердие. Его твёрдой рукой были отправлены на плаху три десятка неверных сенаторов и казнено более трёхсот смутьянов из сословий всадников.
Нет, Клавдий не был телком! Но где он, могучий муж? Правильно говорят древние, история ничему и никого не учит. Она трагически повторилась и надругалась над его судьбой. Тривиальный финал опустил занавес его жизни. Осмотрительный диктатор отравлен любимым блюдом за трапезой. В обманчивой покорности мальчишки и за любвеобильными ласками проказницы жены он не узрел коварных убийц.
Потомку Агенобабров было тогда всего семнадцать лет. Сенека наблюдал, как его воспитанник, его рыжеволосый ученик ликовал, плохо скрывая свои чувства, но, что греха таить, тогда строил большие планы и он сам, Сенека, его наставник и учитель. Потом всю оставшуюся жизнь стыдился и корил себя за слабость и честолюбие, но тогда поддался капризам юнца и его матери и разразился заказным критическим памфлетом, в котором безосновательно оскорбил покойника. А далее допустил совсем непростительный поступок. В очередном философском трактате о мудрости, который преподнёс Нерону, прозрачно намекнул, что, когда император управляет государством, опираясь на разум и опыт мудрых учителей, возраст не помеха.
Сейчас он не позволил бы себе и подумать об этом, но тогда…
Он был молод, полон надежд и высоких свершений. Он даже не вспомнил, что наступил на свою честь и потерял достоинство. Слава мудрого Аристотеля, воспитавшего великого Александра, завоевавшего весь мир, затмила ему разум. Кровь ударила в голову.
Теперь он проклинает себя за это. Но, увы, сделанного не исправить, прошлого не вернуть…
Тогда, купаясь в эйфории власти своего воспитанника, надевшего на золотые кудри императорский венец, Сенека пел гимны новому повелителю, надеясь, что тот не оставит его незамеченным. На первых порах почти всё так и было. Как они замыслили с неразлучным соратником, доблестным Афранием Буром, командиром преторианской гвардии…
Луций Анней Сенека тяжело опустился в любимое изящное кресло из слоновой кости, один из первых подарков Нерона после вступления во власть, задумался, забарабанил тонкими сухими пальцами по золотым холодным подлокотникам. Сон совсем покинул его.
Последние несколько месяцев он почти перестал отдыхать. И со временем научился не чувствовать усталости от бессонницы. Наоборот, промучившись всю ночь в воспоминаниях, мрачных видениях или грустной ностальгии, он встречал восход солнца с горячим, душившим его немощную больную душу восторгом, до слёз на глазах. Сладостный рассвет омывал его истерзанное в ночных муках сердце и рубцевал раны. Он оживал, заново рождаясь, чтобы вновь умирать следующей ненастной ночью. Но чудо! Он страстно ждал нового ночного бдения, чтобы опять листать страницы прожитого, радоваться и страдать. Этот навязчивый дурман одолевал его, словно неведомое зелье. Но что ему оставалось? Всё было там, в прошлом…
Днём ему становилось хуже. Во всех уголках опустевшей усадьбы, в зарослях сада, на тёмных аллеях, в затихших строениях он чуял беду. Порой за спиной ему слышались крадущиеся шаги. Интуиция никогда не подводила его. Опасность и страх крались за ним, прячась в лохмотьях темноты коварных закоулков.
Мучаясь в изгнании, однажды он не выдержал. Проклял неизвестность и взмолился о любом исходе, но только немедленном. Умаслив чванливого Нарцисса, которого ещё слушал деспот, он добился аудиенции у Нерона, отрёкся от всего нажитого в его пользу, поклялся в своей верности. Безвинный, он испрашивал прощения. Но меднорожий богатства не принял, а значит, затаил угрозу. Заверив, что не держит на него никакого зла, фактически дал понять, что жизнь бывшего наставника теперь ничего не стоит и ему следует считать лишь дни, когда приговор осуществится. Вернувшись в поместье, Сенека застыдился своей минутной слабости.
Великий Сенека не имеет права на трусость! В одном из своих писем к Луцилию он провозгласил: мы презираем тех, кто из боязни боли ни на что не отваживается и теряет мужество. Сказав это, он отсёк себе путь к иному образу жизни, к другому поведению, но вот непростительно дрогнул перед ничтожным тираном!..
Сенека впал в забытьё, прикрыл тяжёлые веки. Перед его сознанием заструились видения далёких дней детства и юности.
Посланный на землю богами, он пришёл в человеческом обличье к людям, родившись от матери и отца в гордом славном городе Кордове. Но угодил в самое тяжёлое и тревожное для республики время. Республика погибала, терзаемая тиранами в междоусобных сварах, а великие люди Рима ничего не могли с этим поделать. Один он, Луций Анней Сенека, знал, что следует предпринять. Но познал он это не сразу. Предшествовало этому длительное и настойчивое постижение истины. Его учителями были известные философы: стоик Аттал, пифагореец Сотион, киник Деметрий, Фабиан Папирий из школы Секстия Квинта. Но более всех Луций Анней ценил и уважал славного Посидония.
Он рано стал знаменит, а ворвавшись, словно свежий ветер к дремавшим старцам в сенат, ошеломил всех великолепием ораторского искусства, вызвав гнев и зависть Калигулы и едва не сложив по этой причине голову. Тогда над ним грянули первые раскаты грома…
Сенеку сразу полюбил народ, а женщины благоволили ему и сходили с ума от ревности. Тогда, при первом успехе, народ своим неистовым чувством мог погубить его, но спасла женская любовь, оказавшаяся более совершенной; наложница, не дающая проходу молодому оратору, вымолила у беснующегося Калигулы прощение, слукавив, будто выскочка оратор неизлечимо болен и скоро отправится в подземное царство из-за недуга. Плутовке, пользующейся покровительством тирана и ублажающей его ласками, не стоило особого труда выпросить поцелуями всего лишь одну человеческую жизнь.
Затем ненасытная Мессалина возжелала иметь его среди своих многочисленных любовников, но он, ещё неискушенный в амурных интригах, отказал её притязаниям и вновь едва не погиб. Нет ничего опасней отвергнутой женщины, а если это женщина к тому же обладает почти неограниченной властью, она становится сущей фурией.
Сгорая в пламени злобы, раздосадованная Мессалина обрекла его на смерть, ловко увлекла в капкан и обвинила в прелюбодеянии с опальной сестрой Калигулы Юлией Ливиллой. Лишь заступничество Клавдия спасло его тогда. Ему была оставлена возможность жить, но только в изгнании от императорского двора и Рима. Почти десять лет суждено было ему мучиться на Корсике.
Как страдал он в далёкой от столицы провинции! Как проклинал несправедливость всесильных! Как тяготил его несчастный рок! Конечно, он не терял зря времени. Работал над собой, занимался философией, писал сам, но все его помыслы были там, в славном Риме.
Наконец, ему удалось снискать прощение и милость сильных мира. Благодаря снизошедшей к его мольбам красавицы Агриппины Сенеке было пожаловано право возвратиться в родной дом. Но Агриппина никогда не занималась благотворительностью и никому не делала бескорыстных подарков. Она тут же сделала ему то самое предложение: стать учителем юного сына. Отказаться он не посмел. А когда проникся до конца замыслом Агриппины затмить Клавдия, понял, что относиться к обязанностям воспитателя и наставника следует с особым рвением и интересом. Обучение будущего властелина могло быть дорогой наверх не только для его воспитанника, но и его ступенькой к трону.
Похоже, судьба даровал ему шанс, который теперь нельзя упустить. Он думал, что воспитает из юнца настоящего мудрого правителя! Такого, которого давно ждал его Рим и который будет достоин его Рима!
Он взрастит Риму своего Великого Александра, нового покорителя Мира!
Так он тогда наивно мечтал…
Какой-то шорох за спиной насторожил Сенеку, заставил его приоткрыть глаза, обернуться. Нет, ему померещилось. Мыши или крысы, пользуясь отсутствием людей, осмелели и бесчинствуют в углах помещений. Оба светильника по бокам его кресла готовы были погаснуть. Вот они и обнаглели. Сенека не стал звать Паулину. Та, скорее всего, заснула. А его лекарь и друг Светоний, конечно, давно видит сны, залив страхи вином. Сенека последнее время всё чаще замечал за приятелем признаки этой болезни. Но не корил и не читал нотаций. Слабость духа легче пережить в дружбе с алкоголем.
Сенека вернулся в кресло, поменяв оба факела, и опять впал в забытьё воспоминаний.
В захватившей его эйфории творческого подъёма, засидевшись и протосковав в изгнании, он, Луций Анней Сенека, возвратившись в Рим, растоптал собственное философское назначение, забыл о тщеславии и весь пыл души и знания мудреца устремил единственной задаче — занятиям с золотокудрым несмышлёнышем.
Однако, начав учение, Сенека столкнулся с непреодолимыми трудностями. Он начал с малого, как всегда это делал, — решил построить с воспитанником общий духовный мир, чтобы затем незаметно включать туда тонкие интеллектуальные размышления, но скоро понял — путь закрыт. Юнец с недоступной душой, не ведающий авторитетов, зверьком скалил зубы, лишь только кто-то пытался пригладить ему непричёсанные взгляды и мысли или пробовал приручить.
Напрасно стремился Сенека создать с будущим правителем империи мир духовной близости. Подростку несвойственны были такие понятия. Он мыслил себя одним в лучах безграничной власти на престоле, куда его обязательно усадит мудрая мать. Она-то знает, что следует делать, не в пример губошлёпу философу, — так и сквозило в его выразительных взглядах и усмешках, которыми он обычно встречал начинания учителя. Его душа — запечатанная наглухо пещера, с грустью отметил тогда Сенека для себя и приступил к другому — учить того благородству.
Благородство — первооснова всех добрых человеческих чувств и поступков. И прежде всего оно зарождает нравственность. Он зашёл с этой стороны.
Но и здесь его поджидало разочарование.
Ученику, как окончательно убедился философ, недоставало приятных манер, которыми так легко завоевать авторитет, доверие и любовь. Но оказалось, в этих манерах тот и не нуждался. Повелитель мог позволить себе всё, что нравилось. Юнец не желал прогибаться даже перед своей матерью, сделавшей для него многое.
Это заметно остудило пыл философа. Он впал в уныние.
Хотя уроки его не были тягомотными и занудными, ученик впадал от них в сон, либо хамски превращал в посмешище. Как ни старался Сенека, он не смог круто изменить образ жизни, склад мысли и мировоззрение воспитанника. Тот не имел никакой тяги к подлинному знанию всех мудростей мира, тем более к науке построения государства и сущности принципов мудрой власти. Казалось бы, выросший без отца и, по существу, без матери, в силу своего возраста ученик должен был искать взрослого наставника, который помог бы ему справиться с пустотой и бессмыслицей, засевшими в его голове, подсказать истинную тропу к разумному существованию, но этого не произошло. У него к тому же напрочь отсутствовало естественное желание: внимательно слушать кого-либо. Он был себе на уме.
Не было у будущего правителя и страсти к различного рода умствованиям. Скрытая замкнутая натура его чуждалась больших чувств и романтики. Звуки арфы, которую он по настоянию матери, всё же брал время от времени в руки, были невыразительными, отражали глупые бредни его бесчувственной души.
Позже Сенека отметил, что ученику не присуще элементарное интеллектуальное любопытство. Тот быстро забывал истину и азбуку мудрости древних, которыми пытался его старательно пичкать добросовестный наставник.
Но это всё пришло к Сенеке потом, а тогда он начал с главного — учить воспитанника благородству древних. Благо, примеров в истории Рима было немало.
Муций Сцевола, без стона и муки сжегший себе руку на глазах вражеского царя Порсенны, показал тому несокрушимость римского духа. Отец и сын Деции пожертвовали собой, когда римлянам было предсказано, что должны погибнуть либо полководец, либо войско. Фабриций, поразивший Пирра Эпирского своей неподкупностью. Бесстрашный Регул, призвавший римлян воевать, вместо ведения мирных переговоров с врагом, вернувшийся добровольно в карфагенский плен, чтобы быть жестоко за это казнённым…
Известно, благородство — атрибут великих правителей. Как бы ни был велик властитель, сила его в корнях, в его связи с народом, — так считал Сенека и этому свято верил. Тот правитель, кто пренебрегал народом, долго не удерживался у трона. И таких примеров в истории его Рима тоже было множество.
Придерживаясь взглядов иной школы философов, Сенека всё-таки чтил Аристотеля единственным, кто преуспел в развитии учения о государстве. Его привлекали суждения учёного грека, что только в государстве личность завершает генезис своего политического развития, государство должно быть справедливым для каждого в равной степени, как для рядового гражданина, так и правителя. Идя дальше Аристотеля, Сенека назвал своё детище «bonum commune» — общее благо. Таким должно быть государство в идеале. Этому созданному идолу теперь посвящал рвение души, красноречие и искусство риторики Сенека, развивая выстраданные идеи о государстве общего блага, которое должен построить мудрый правитель. Это детище увековечит любого, кому удастся его построить, он подталкивал на великие свершения своего воспитанника. Но, увы, Нерон был глух и равнодушен к его речам и учению, более того, просто не понимал, о чём твердит Сенека и к чему устремил свои помыслы.
С ранних лет вокруг себя Нерон наблюдал иное: в кровавых схватках одни гибли на аренах цирков ради забавы других; власть, богатство и сила покоряли и уничтожали целые народы; брат ради трона готовил отраву брату, а жена убивала мужа. О какой справедливости и равенстве словословит и изводит свои силы глупый фанатик — его учитель? Ему неизвестны примеры, когда человек жил ради прихотей другого без принуждения или корысти. В этой науке скрывались и тайна, и коварство, — тут же определил ученик.
Тогда Сенека вновь пускался в тщательные рассуждения: его теория не претендует на всемирную значимость. Это формула для будущего великого воина. Величию Нерона не хватает опоры всего народа, но это возможно, когда Рим станет государством общего блага. Тогда Нерон будет непобедим, и ему не страшен никакой враг. Так произошло, когда Рим воевал с Карфагеном, и, хотя Ганнибал был, будто гидра о ста головах, Рим победил и срубил гидре головы…
Однако вопросов было больше, нежели ответов. Ученик заваливал ими учителя. Сенека не успевал находить убедительных аргументов, а когда они касались власти, тут же подвергались отрицанию категоричным учеником. Юнец и слушать не хотел, будто власть придётся делить с кем-то на равных. Он сразу вспоминал о Британнике и приходил в неистовство и ярость. Делить верховную власть с братом, каким бы благом ни казалось государство, он не хотел.
Однажды их занятия посетила Агриппина, торопившаяся по своим делам, но нашедшая минутку для любимого сына. Мельком услышав рассуждения учителя об общем благе и справедливости, она остановилась, потом задержалась, чтобы понять самой, а поняв, решительным жестом остановила философа и пресекла его злонамеренные измышления о каком-либо равенстве и равноправии. На этом учение юнца политике завершилось раз и навсегда.
Агриппина пришла к выводу: того, что удалось узнать мальцу о благородстве древних, об истории Рима и его повелителях, вполне достаточно. Государство — это прежде всего решительный, умный и благородный повелитель, держащий подчинённых в страхе, а богатых и благочестивых в покорности. Так рассуждала она. Её сын ничего другого тоже не должен был знать.
— Пусть Нерон займётся стихосложением, — повелела мудрая мать. — Будущий властелин должен уметь это делать. Стихи — привилегия богов, мой сын достоин владеть этим искусством. Политики и философии с него достаточно.
Так были пресечены попытки Сенеки создать из Рима его мечту, воплотить в жизнь фантазию о государстве общего блага. А как близка была цель!
К этому времени начали меняться взаимоотношения ученика с наставником. Сенека перестал существовать для того как философ — советник, человек больших знаний, идол. Оказалось, ученик создал свой мир, в котором, кроме него самого, никому не было места. И достаточно трезво смотрел на мир. Идиллии учителя о государстве всеобщего блага были не для него.
Потом Нерон возненавидит своего наставника за эти заумные бредни, так он их назовёт в один несчастный день, и до конца жизни будет мечтать, как отомстить умнику за одурачивание.
Но это будет спустя несколько лет, а тогда, после вмешательства матери, Нерон облегчённо и радостно вздохнул и предался нелепому стихоплетству, в чём так и не преуспел, пугая ближних бездарными куплетами и растрачивая неуёмную энергию здорового тела на лошадиные скачки на квадрильях. Увлёкшись этим, он сгоряча чуть было не свернул себе шею, но, к несчастью, этого боги ему не дали.
После этого неудавшийся воспитанник принялся за Британника и лихо сгубил брата, соперника в борьбе за трон. Британника он ненавидел. Ненавидела родного сына Клавдия и Агриппина. Вместе с юным правителем она и придумала тому смерть.
Свершилось. Юнец сел на трон, ведомый матерью, командиром гвардии преторианцев Бурром и им, Сенекой. Луций Анней сподобился и написал своему ученику тронную речь для одурачивания толстобрюхих в сенате. Конечно, Нерон выдал её за свою, но тот, кто умел слушать, определил автора и ядовито усмехался.
Первое время Нерону, конечно, нужны были мать и наставники. Агриппина, искушённая в дворцовых интригах, помогла разобраться среди знати, вельмож и фаворитов, Сенека — в вопросах внутренней и внешней политики, а Бурр — в стратегических военных проблемах. Потом, оглядевшись, юный император самостоятельно стал вершить свои коварные свирепые дела, напрочь забыв уроки и наставления учителей и матери.
Какое общее благо? Он не вспоминал бредни Сенеки и, казалось, наоборот, стремился совершать поступки и принимать решения вопреки его наставлениям о разумном, мудром и справедливом правителе. Силе он подчинил закон, ужасом и страхом заменил уважение, интригами и коварством растоптал справедливость, мудрость древних, учившую благородству, поверг в прах и забвение.
Молодой правитель нёс смерть всему, что связывало его с безрадостным прошлым. Скоро Сенеке суждено будет понять, что это относится не только к Британнику, но и к родной матери властителя.
Сенека ещё получал возможность говорить, но, увы, его голос уже не был слышен. Нерона мало интересовали рассуждения философа, особенно после того, как он с недоумением услышал, что между ним и Британником или другим кем-либо могут быть взаимопонимание и равенство. Он не терпел никого.
Вот тогда Сенека, ещё будучи рядом с правителем, всерьёз задумался вместе с Бурром, как им быть? Власть над юным повелителем ускользала из их рук. К этому времени Сенека уже навсегда расстался с мыслью построить с императором государство всеобщего благоденствия, основанное на принципах общего блага. Императора занимали дворцовые интриги, он увлёкся расправами и казнями.
Надо было что-то придумать и Сенеке с приятелем. Афраний Бурр не отличался гибкостью в измышлениях. Сенеку озарило: Нерону необходимо найти красавицу, от которой он был бы без ума, и с её помощью держать ускользающую возможность ещё как-то управлять юным правителем!
Все усилия завладеть Нероном посредством обучения завершились плачевно, цель не достигнута. Оставалась последняя попытка повлиять на него с помощью любвеобильной плутовки и как-то уцелеть при дворе.
К этому времени в юном императоре начали просыпаться низменные звериные инстинкты. Собрав свору знатных юнцов, таких же негодяев, Нерон по ночам выводил эту банду в город и учинял бесчинства, насилуя женщин. Как-то он напоролся на достойного мужа и получил неожиданный отпор. Возмущённый Юлий Монтан, сын сенатора, защищая свою жену, с которой прогуливался по парку, чуть было не свернул Нерону шею. Но тот чудом остался жив и уцелел, чтобы снова творить свои гнусные дела. Нерон заступника вычислил и, конечно, казнил, а его жену превратил в проститутку. Но ночные забавы бросил. Вот в это время Сенека, посоветовавшись с Афранием Бурром, и подсунул зверю приманку. Вольноотпущенница философа Актэ была прекрасна и обольстительна. Зверь впервые в жизни влюбился, заглотив крючок. Он стал послушным в руках плутовки и исполнял любые её желания, любую прихоть, которые диктовали ей Сенека и Бурр. Влияние Актэ на безумного любовника достигло такого предела, что тот возжелал жениться на ней и сделать её августейшей особой. Но вмешалась мать. Мудрая Агриппина давно проведала, что с сыном творится неладное, но ничего не могла поделать с его причудами. Она перестала быть для правителя авторитетом, более того, любая её попытка вмешаться в дела императора пресекались им. Когда мать начала осуждать его шашни с наглой безродной потаскушкой, неведомо откуда появившейся у трона, сын огрызнулся, по-волчьи оскалив зубы.
Агриппина, конечно, купалась в ареоле власти сына и даже втайне решала кое-какие свои вопросы, но это была маленькая ванная, а она жаждала открытого моря. Сын и мать стали помехой друг другу, а тут ещё чернушка-любовница! Агриппина не могла стерпеть это ничтожество и немедленно поплатилась сама — сын отправил её в изгнание, не моргнув глазом. Тогда Агриппина попыталась найти виновников её падения и уже добралась было до приятелей, но Сенека и Бурр вовремя почуяли смертельную опасность над головами. По их сценарию Актэ в очередной раз поплакалась Нерону на происки коварной Агриппины. Млеющий от страсти император решил проблему одним махом. Ему самому, словно кость в горле, осточертели интриги матери, даже в изгнании не оставлявшей его в покое. Он уничтожил её, послав убийц. Те, хотя и безалаберно, всё же сумели справиться с поручением.
Как ни опасался Сенека Агриппины, он не желал её смерти, поэтому пришёл в ужас. Его чувства разделял Бурр. И не они одни. Весь Рим стонал от ужасного коварства и безжалостности беспощадного зверя. Но никто не проронил ни слова и не подал вида. Они же с Бурром, содрогнувшись от того, как быстро гад пожрал свою породительницу гадюку, озаботились не на шутку. Уничтожив отчима, порешив всё его семейство, убив родную мать, Нерон не оставил и им надежды жить спокойно. Зверь избавлялся от своего прошлого, он менял личину.
Первым пал Афраний Бурр. Он всё ещё руководил гвардией преторианцев и был наиболее опасен императору, нежели философ и советник. В руках Бурра была охрана правителя, денно и нощно находившаяся поблизости. Вышколенная, проверенная им в многочисленных дворцовых передрягах гвардия беспрекословно подчинялась своему командиру. Неизвестно, кого бы она послушалась, дай ей приказ сам Афраний Бурр, а преданный сегодня, завтра он мог повернуть своих солдат в алых плащах на самого правителя. Заменив Бурра на молодого Софония Тигелина, Нерон отправил стареющего стратега в почётную отставку. Бурр встретил известие об удалении беспрекословно, спокойно, как и подобает благородному солдату. Он всё ещё верил, что безупречной долголетней службой заработал милость повелителя и спокойно скоротает время в семье среди детей и внуков до глубокой старости. Напрасно тешился идеалист фантазиями. Скоро, обвинённый в измене и заговоре, которые были придуманы самим Нероном, безвинный, оклеветанный позорной хулой доносчиков, благородный Бурр расстался с жизнью.
Сенеку до поры до времени спасала Актэ, пока не появился рядом с императором новый фаворит, этот проклятый красавчик Нарцисс. Злые языки шептали, что женоподобный красавчик заработал ближнее место у императора, ублажая того постельными утехами, но эти грязные слухи давно перестали смущать Нерона.
Настали времена, когда Нерона ничто и никто уже не могли удержать. Находиться с ним поблизости было смертельно опасно. И Сенека весть о своей отставке воспринял как спасение. Для услады последних лет он выпросил Альбанскую усадьбу. Вроде бы и при дворе, но всё же от дворцовых интриг и логова зверя его отделяли четыре тысячи шагов. Здесь он намеревался спокойно заняться любимой философией, предаться мыслям о вечном, готовить себя к неминуемой встрече с таинственным и неведомым, что зовётся смертью и началом другого существования его души, в которое он и верил, и сомневался.
Он не боялся того, что люди называли смертью и чему ужасались. Их пугал страх неведанного, ужас тайны. Они, слабые и немощные духом, теряли самообладание, страшились боли, наивно полагая, что смерть их всё же минует, настигнет другого, рядом стоящего, пусть даже близкого и родного существа. Так не хотелось им уходить из жизни в чёрное царство Аида[8]. Чудаки! Они обманывали сами себя короткой передышкой. Смерть неминуемо настигнет любого хитреца.
Только одно есть избавление от страха смерти. Надо постичь до глубины сознания, проникнуться, что смерть неизбежна! Можно соперничать только со временем, большего человеку не дано.
Тогда страх смерти исчезнет.
В этом была первая высшая мудрость, которую он постиг.
А вторая истина заключалась в том, что главная цель любого человека, а философа в особенности, — это уберечься от забвения. Поэтому-то тираны и диктаторы сжигали города, уничтожали книги, превращали в песок даже клочки цивилизации, несущие на себе память о прошлых великих делах и людях.
Так поступил Нерон с Клавдием, так мог он поступить и с ним, Сенекой. Забвение страшило Луция Аннея Сенеку больше всего, поэтому, поселившись в усадьбе, он сразу занялся приведением всех своих сочинений и мирских дел в порядок. Преданная Паулина тайком ото всех по ночам передавала упакованные в тюки свёртки его трудов надёжным друзьям, ученикам и последователям, те увозили, прятали. Мало осталось сподвижников, но тем, кто выжил, Сенека верил.
И всё же, занимаясь этим, Сенека в глубине души надеялся, что Нерон даст ему возможность умереть достойно естественной смертью.
С ним остался тот, кто его любил и к кому он сам был неравнодушен. Преданная Паулина Помпея, боготворившая его и следящая за каждым его жестом, как рабыня; опережая слуг, она угадывала его желания и немедленно исполняла. Верный лекарь, достойный собеседник и оппонент Светоний, долгими вечерними беседами скрадывающий его одиночество и развлекающий в бесконечных спорах об истине, — единственный ценитель его последних трудов.
Больше никого не осталось.
Лишние люди ему в усадьбе не нужны. Гостей он не приглашал и не ждал. Знал, к опальному придворному вряд ли кто осмелится наведаться, ибо каждое такое посещение будет расценено Нероном однозначно: смельчака, да и самого хозяина тут же обвинят в крамоле и заговоре. У Нерона повсюду прятались сотни соглядатаев и доносчиков. Он щедро оплачивал их поганый, но необходимый ему труд. Не скупился, ведь это компенсировалось во сто крат. Имущество заговорщиков, его близких и родных после казни шло в казну императора, разбрасывалось доносчикам. Так было со всеми, вставшими на дороге у Нерона или просто угодившими ему в немилость. Такая участь постигла родную мать императора. Этим завершил свой печальный итог его верный сподвижник бедняга — солдат Афраний…
Неужели такая же судьба уготована ему? Вот эта страшная мысль не давал покоя Луцию Аннею Сенеке, как только он переехал в усадьбу и, удалившись, занялся своими бренными делами.
Мудрый должен предвидеть всё и обязан предупредить возможную ловушку, если даже малейшая вероятность таковой имеется. Исключать коварство Нерона нельзя, тем более в положении изгнанника. Тогда надо действовать, рассуждал он. Если Нерона интересуют его несметные богатства, он откажется от них и передаст сам императору в его руки. Они ему всё равно не нужны, а этот благородный жест, может быть, вернёт тирану веру в истинные намерения философа отойти от дворцовых интриг и спокойно завершить жизненный путь в провинции.
Так он и поступил, хотя потом с дрожью в душе осознал, какую непоправимую ошибку он совершил из-за минутной душевной слабости.
Но что сделано, то сделано. Он с помощью Нарцисса вымолил у Нерона встречу, во время которой попытался возвратить ему все свои богатства и имущество. Собственно, драгоценные камни, изделия из золота, красивые безделушки и скульптуры, другие сокровища — всё это было подарками того же императора и других знатных именитых особ; ему они никогда не принадлежали и не прельщали. Сенека, как истинный мудрец, конечно, отдавал должное искусству ювелиров и мастеров, вложивших душу в изящные изделия, он ценил и понимал в этих сокровищах красоту, но инстинктивно опасался роскошества, так как знал, как тонка и мизерна грань между тем и другим. Красивое всегда дорого и вызывает зависть. Прекрасны великолепные дворцы, утопающие в неге и блаженстве, наполненные несметными драгоценностями. Велико искушение всем этим владеть, противна мысль с ним расстаться. Но где-то совсем рядом витает опасность — обратить эти чувства в страсть и сделать целью жизни. Он смог выстоять, поэтому сберёг и себя, и свою душу. Он не знал жадности, но, получая подарки от властителя, не имел права отказаться. Он чуждался накопительства и стяжательства, но богатство свалилось на него с плеч великих. Он чурался подарков, но возражать не мог. Так скопилось его несметное состояние, которому завидовали многие из царедворцев. Теперь оно, совершенно не нужное ему, могло обернуться его гибелью.
Нерон жаден, завистлив и ненасытен. Однажды столкнув, не остановится, а о его владениях наслышан от интриганов…
Взглянуть в глаза бывшему воспитаннику Сенеке так и не удалось. Нерон принял его, даже подал руку, изобразив подобие улыбки на неподвижном лице, и поинтересовался здоровьем, испросив, не привёз ли что-нибудь новенькое из философских изысканий, достойное императорского слуха. Принять же его богатства отказался. Более того, настойчивые просьбы бывшего сподвижника вызвали у него негодование. Император не нищий, сказал Нерон Сенеке, и достаточно богат, чтобы не принимать подачки…
Сенека вовремя ретировался, а потом долго корил себя за опрометчивый поступок. Тогда он убедился — участь его решена. Нерон не оставит его в покое.
И действительно, скоро начались новые доносы, облавы, аресты и казни. Один за другим уходили из жизни оклеветанные невинные вельможи, стратеги, сенаторы… Нерон добирался до него. Последние несколько месяцев богема, фавориты и знать Рима только и тешились, что перебирали на вакханальных пирушках имена новых заговорщиков, выявленных и изобличённых доблестным слугой императора Тигеллином. Возглавил их якобы Пизон.
Сенека хорошо помнил Гая Кальпурния Пизона. Это был отважный муж, доблестный лидер. Он действительно способен был повести за собой гвардейцев, армию и народ против ненавистного всем тирана, если бы захотел. Одобряя втайне его действия, Сенека всё-таки допускал, что это очередная выдумка самого Нерона, как часто им делалось.
Спустя некоторое время от верного человека из Рима Сенеке стало известно, что заговор действительно существовал. А когда привезший ему эту весть гость его покинул, из усадьбы сбежал повар, нанятый Паулиной накануне их переезда в поместье. Маленькая, простодушная Паулина, она не рассмотрела в мерзавце врага. Сам он, занятый другими домашними хлопотами, доверил ей набрать слуг в усадьбу, а вышло, что в их число прокрался подосланный шпион.
Это было началом конца. Сенека не сомневался, что повар — человек тайной службы Нерона, он видел гостя, возможно, подслушивал их беседы и поспешил с доносом в Рим.
Теперь оставалось ждать.
Вот эта мука и досаждала Сенеке последнее время. Он постоянно ждал прихода посланцев Нерона. Несомненно, он будет обвинён Нероном в заговоре, который возглавил Пизон. Шанс тирану представился. Он его не упустит…
Рассвет шевельнулся за спиной глубоко задумавшегося в кресле философа, первыми лучиками проникнув снаружи на потолок его покоев. Ночь покидала Сенеку, унося его многострадальные воспоминания. Он очнулся, пропали видения трагического прошлого. Но с ними не завершилась сама трагедия. Конец её ещё предстояло ждать.
Но ждать он уже не желал.
Дождь не прекратился, но затухал. Ему были прекрасно слышны удары разбивающихся капель о мраморные ступени лестницы, ведущей в сад. Дождь хорош в дорогу…
И он засобирался…
Чуткая Паулина, видно, как и он, потревоженная рассветом, дала о себе знать лёгкими шагами. Она поцеловала его жёсткую сухую щёку, прижалась трепещущей, жаждущей ласки грудью, её мягкие и нежные руки заскользили по его лицу, голове, опустились на плечи. Он оставался сидеть в кресле, она стояла за его спиной.
— Паулина, — чуть слышно спросил он, — хорошо тебе было со мной?
Женщина, не говоря ни слова, ещё крепче прижала его голову к своей груди.
— Не обижал ли я тебя невольно? — опять зашептали его потрескавшиеся губы.
— Дорогой, о чём ты говоришь? Я счастлива с тобой.
— Я благодарю тебя, — он потёрся щекой о её руку, словно мальчик с матерью. — Если я чем-то обидел тебя, прости.
— Милый, зачем ты это говоришь? — Паулина почувствовала неладное в муже, готова была расплакаться от нахлынувших на неё тревог. — Что ты задумал?
— Всё хорошо, Паулина, всё хорошо, — попытался успокоить он её. — Позови, дорогая, мне Светония…
— Я здесь, мой Анней, — приятель и собеседник во время ночных бдений, лекарь уже стоял в дверях покоев, не осмеливаясь потревожить их разговор. — Дождь не дал сомкнуть глаз не только вам, мои друзья. Мне, старику, всю ночь мерещились кошмары. Я уж обращался к вину, старый дурень, но лишь нажил новые боли в голове…
Светоний велеречив, если его не остановить, но это был единственный его недостаток.
— Светоний, будь любезен, приготовь мне тёплую ванну, — прервал его философ.
«Пора?» — не вымолвив слова, молниеносным взглядом спросил лекарь Сенеку.
«Пора», — так же молча, спокойным взглядом ответил ему тот.
Повторять два раза Светонию не было надобности, лекарь засуетился. Паулина обмерла, побледнела, упала на колени к ногам мужа и застонала, не смея рыдать под твёрдым взглядом философа, опустившего свою длань ей на голову. Так она и оставалась, поникшая, на полу, разверзнутая постигшим горем, пока Сенека не погрузил своё иссохшее худое тело в тёплую ласковую воду. Он скомандовал безмолвствующим, но стоящим наготове двум служанкам, и они унесли Паулину из покоев, чтобы привести её в чувство.
В мягкой неге воды душа философа начала успокаиваться, блаженное тепло разливалось по всему промёрзшему за ночь телу. Он невольно закрыл глаза от удовольствия. Как прекрасна жизнь! Эта мысль, всё разрушая, внезапно пронзила его, проникнув в мозг. Оказывается, и в тепле есть своя сладость, а он всю жизнь терзал себя сдержанностью и аскетизмом, отдавая предпочтение холоду. Правильно ли он жил, правильно ли поступал, исключив из своей жизни пресыщение удовольствиями, негу, блаженство? Сделав исключение только сладостной философии? Сенека встревожился, словно ужаленный дикой пчелой, пронзённый этой коварной мыслью. Он жил верно! Сомнения прочь! Конечно, как всякий смертный, он допускал порой ошибки, совершал поступки, за которые потом корил себя, но главную цель жизни соблюдал и только одной ей и подчинял свою жизнь.
Сумел ли он сделать то, ради чего родился? Где был пик его жизни или он наступит сейчас?
Может быть, там, когда он поразил сенат и затмил самого Калигулу пламенной речью?
Или же в нравственных письмах Луцилию достиг он совершенства?
А может, поймав дарованную ему небом гениальную мысль о справедливом государстве общего блага, войдёт он великим мудрецом и философом в память потомков?
Завершил ли он то дело, ради которого жил, чтобы увековечить своё имя в истории человечества?
А может, потомкам останутся его безуспешные попытки приспешничества перед кровавым Нероном, покорная служба этому зверю?
Или все будут рассказывать о его бесчисленных подарках, принимаемых от тирана, и несметных богатствах?
А может, память людская сохранит его красавцем обольстителем, от которого сходили с ума придворные дамы и даже великие из них, как Мессалина или Агриппина, пытавшиеся затащить его в постель?
Каждый человек, уходя из жизни, должен задать себе этот болезненный, нелицеприятный вопрос. Что он сумел сделать и будут ли его вспоминать близкие и друзья добрым словом или, наоборот, проклинать? Зачем ты появился на земле, человек? Ради чего жил?
Громкий плач за спиной вернул философа к действительности. В покои ворвалась его Паулина, бросилась к нему, прильнула к ванне.
— Анней, дорогой, что ты задумал? — сквозь рыдания прозвучал вопрос, хотя и остался без ответа, — она всё уже поняла.
Он опустил руку на её прекрасные рассыпавшиеся в беспорядке чёрные волосы. Паулина завладела его рукой, покрыла пальцы безумными поцелуями.
— Возьми меня с собой, дорогой, — взмолилась она. — Я не останусь одна в этой жизни. Нерон меня не пощадит.
— Он не посмеет тебя тронуть, милая, — попытался успокоить её Сенека.
— Он убьёт меня! Как поступил с женой и детьми Афрания Бурра и другими. Ты же знаешь. Он не оставляет свидетелей. Я хочу вместе с тобой. Не дам извергу насладиться казнью над нами!
— Нет, мой друг! Ты должна жить! Ты будешь жить! — не спеша, короткими жёсткими фразами философ попробовал прервать её стенания.
— Нет в мире сил, чтобы умилостивить этого зверя, — билась в плаче женщина. — Дорогой, я приготовилась к смерти. С тобой мне она не страшна. Возьми и меня туда.
— Нет, моя радость, я должен уйти один, — твёрдо произнёс Сенека, — хотя уйти с тобой вдвоём и для меня было бы большим счастьем.
Бедняжка Паулина разразилась новыми рыданиями.
— Друг мой, — обратился к ней снова философ. — Я прошу тебя остаться жить, чтобы исполнить мою последнюю просьбу. Никому, кроме тебя, доверить её я не могу.
Паулина смолкла, усилием воли сдержав плач.
— Ты единственная, кто сохранит все труды и сочинения моей жизни от Нерона. Именно это поможет тебе выжить. Нерон не тронет тебя, пока не выследит и не отыщет всё, что я создал и завещал человечеству. Опасайся его сыщиков и соглядатаев. Берегись его любезности и милостей. Он ничего не делает бескорыстно… Мне смерть не страшна. Я буду жить, если ты сохранишь мои труды. Мы будем жить с тобой тогда вечно. Помни это и берегись. А дни Нерона сочтены. Поверь мне, зверь закончит свои дни скоро, и конец его будет страшен!
Паулина безудержно рыдала.
Подошёл Светоний, поймал однозначный взгляд Сенеки.
— Я готов выполнить твою волю, Анней, — прошептали его губы.
Философ удовлетворенно кивнул, подал команду служанкам, те бросились к Паулине и, как та ни сопротивлялась, увлекли её из покоев.
— Приступай, мой друг, — повернулся Сенека к лекарю.
Искушённый в деликатных вопросах медицины, Светоний лёгким ласкательным движением тонких пальцев, в которых блеснула сталь лезвия, коснулся тела философа под коленками; тот, не почувствовав ни страха, ни боли, блаженно откинулся на подложенное услужливым помощником полотенце, упёрся головой в стенку ванны, закрыл глаза.
Вода медленно окрашивалась чёрно-красной кровью. Жизнь начала бег из его тела лениво, не спеша. Казалось, всегда послушная сердцу хозяина кровь не желала торопиться. Однако хозяин желал обратного.
Лекарь понаблюдал, задержавшись над ванной, и засуетился. Его искусство оказалось бессильным. Кровь не шла из вен иссохшего тела. Процесс мог затянуться, а вода быстро остывала в холодных покоях. Это грозило мучениями философу, а не блаженным избавлением. Но Сенека успокоил Светония. Будто уловив неладное, он очнулся, открыл глаза, взглянул на друга. Светоний, бессильный чем-то помочь, опустил голову. Философ его подбодрил едва заметной улыбкой, — ничего, дружище, я потерплю.
Между тем утро стремительно оповещало о своём приходе нахальными лучами солнца, ворвавшимися в покои и заплясавшими бликами на бледно-розовой водной поверхности в ванне. Дождь давно прекратился. День вступал в свои права.
Сенека забылся, казалось, задремал. Светоний дежурил поблизости…
Они пришли ближе к полудню.
Когда усадьба уже сияла в жарких ярких лучах беснующегося, истосковавшегося по людям за время дождей солнца, когда развеселились птицы, гоняясь друг за другом, когда всё вокруг радовалось жизни…
Они пришли.
Светоний потревожил сон Сенеки. Он сообщил, что центурион и два ликтора с лекарем появились у ворот усадьбы и направляются к вилле. Мальчишка от ворот, предупреждённый стражей, прибежал и рассказал об императорских посланцах. Центурион нёс смертный приговор, подписанный Нероном. Других причин для его посещения у них, конечно, не было. Лекарь шествовал следом, готовый привести приговор в исполнение.
Вот и всё…
Времени на раздумье не оставалось, а кровь всё-таки не спешила из ссохшихся вен; Сенека только чувствовал головокружение; его уже звало небо, но ещё держала земля. Он мыслил здраво и приказал принести ему яду, немедленно его приняв.
Но и яд был бессилен. Искушённый философ, закалённый в дворцовых интригах, так долго приучал свой организм к различного рода отравам, что организм привык к яду и мог жить ещё долгое время, а то и перебороть его.
Сенека огорченно уронил голову на грудь. Он должен умереть сам, не услышав позорной хулы и клеветнического приговора! Он не доставит радости тирану пасть от его руки!
Философ подозвал к себе Светония и попросил нож. Лезвие приятно ласкало пальцы холодной отрешённостью и сияло изяществом и холёной красотой. Он закрыл глаза на несколько секунд, собрал всю свою волю и резко вонзил остриё металла в вены на одной руке. Боли не почувствовал и успокоился — не зря учил других и себя тренировал. Переложив нож в другую руку, глубоко погрузил его в голубые жилки на другой…
Только после этого послушная его воле и усилиям жизнь заторопилась из тела…
Успокоившись, Сенека откинул потяжелевшую голову и закрыл глаза. Он успел сделать всё, что задумал.
Центурион вошёл в покои, величественно оглядел присутствующих суровым взором солдата, выкрикнул:
— Именем императора! — махнул было рукой ликторам, подавая команду огласить приговор, но застыл в жутком предчувствии.
Он опоздал.
Великий Луций Анней Сенека заснул навеки, счастливо улыбаясь…
Он победил тирана.
Часть 2. Злоумышленник с вокзала
Платон Ветушкин сразу приметил гражданина в длиннополом рыжем пальто и модном пыжике на голове. Шарф того же цвета смешно болтался у него на шее, до колен доставал — видно за километр без бинокля, что это провинциал косит под столичного.
Но, с другой стороны, стройную логику его умозаключений разбивал апельсиновый пыжик. Пыжиками выделялись люди солидные, если быть совсем точным: чиновники политической власти, люди государевы, высшие эшелоны. Косыгин, к примеру, этого головного убора зимой никогда не снимал, да и Леонид Ильич предпочитал надевать, когда на Мавзолее парады принимал, исключение делал только в случае сильных морозов.
Но тут, в Москве, давно весна, тепло вокруг, народ раздет, распахнут, можно сказать, а этот «апельсин» катится по вокзалу в пальто до пят, пыжике и шарфом закутан. И всё на нём рыжего цвета!
Платон быстро узрел «рыжего» и положил на него глаз. А потом, присмотревшись и понаблюдав, вовсе не выпускал его из вида.
Мужик, гражданин этот, выскочил на перрон Павелецкого вокзала из только что прибывшего с большим опозданием поволжского поезда. Этим поездом, следовавшим аж с самого Каспия, приезжал в столицу люд своеобразный, многонациональный и горластый, в куртках и плащах — с южных краёв, с кучей вещей, с сумками, а то и баулами, — гостинцы везли издали; пахнущий воблой и разными рыбными деликатесами. Отсюда они тащили домой мясо и колбасу и вообще мели с прилавков всё подряд, не хуже рязанских, ярославских и прочих «налётчиков» из городов, начинающихся сразу там, где кончалась Москва. Столица уже познала ужас их печенежских набегов, но ещё крепилась. Люди с этих поездов были идентичны, словно близнецы — серые мыши с мешками, стаи несунов. Этот же, вшивый интеллигент, как руганул его Ветушкин про себя, желтел апельсином.
Затем Платона заинтересовало и поведение приехавшего.
«Апельсин» одним из первых выбежал из вагона на перрон и быстрым шагом, чуть ли не бегом заспешил к щиту с расписанием движения электричек и поездов. Помаявшись там и что-то записав, он такой же рысью, путаясь в шарфе, возвратился к вагону, из которого уже высыпал народ, с трудом справляясь с толпой, взобрался назад и вышел обратно, совсем сразив Ветушкина. В руках «апельсин» нёс легкомысленный чемоданчик — портфель. И больше ничего!
«Странный гость столицы, — удивлялся старший лейтенант милиции. Такой экземпляр не только его заинтересует, это уж точно. Жульё вокзальное, видать, давно его вычислило! И уже пристроился какой-нибудь “банщик-байданщик”[9] к аппетитному чемоданчику… Надо спасать раззяву, — отметил про себя Платон, — а то кончится дело чистым висяком. А их у него на участке уже достаточно набралось!»
И старлей Ветушкин включился в обычную суету — охоту на подсадного, в которой роль наживки он уготовил беспечному «апельсину».
Но дальше события развивались не по его сценарию и, можно сказать, совсем необычным образом.
Пассажир купил в кассе, тут же на вокзале, билет и лёгким шагом направился в буфет. «Скорее всего, в обратную дорогу», — решил старший лейтенант.
«Ну вот, здесь может всё и кончиться», — замер у столика Платон, издали наблюдая ситуацию. По его подсчётам, если кто из воровской братвы и прицепился к «апельсину», то должен уже нарисоваться и ему, Ветушкину. Но знакомых из воровской вокзальной компании старший лейтенант не наблюдал. Неужели он ошибся, и такой колоритный клиент не вызвал интереса у карманников? Ни проворный жульман Косой, ни агрессивный Кореш, ни флегматичный с вечной папироской через губу Пенёк не висели на хвосте у приезжего. Тот между тем пережевал свой неказистый завтрак — забегаловочный бутерброд, не по-интеллигентски запил лимонадом из горла бутылки, сбегал в туалет и направился фланирующей походкой с вокзала.
Никакой охоты не получилось, и это обескуражило старшего лейтенанта. Он уже было настроился размяться, а тут — ни фига. День не заладился. Впрочем, о чём грусть? Других забот полно у опера железнодорожной милиции, дежурившего в этот весёлый весенний денёк на многолюдном пёстром вокзале.
Ветушкин проводил взглядом объект своего внимания и занялся было своими тривиальными полномочиями, но что-то его заставило насторожиться. Так и есть! Интуиция не подвела, рано он решил поставить точку. «Банщик» всё же нарисовался, а не заметило его бдительное око милиционера по той причине, что вор был незнаком Ветушкину, неказист и неприметен и, больше того, он вёл свою охоту за спиной оперативного работника. Только уже отвернувшись от «апельсина» и пройдя по инерции с десяток шагов, Платон краем глаза отметил для себя крадущуюся манеру шнырнувшей за приметным пассажиром фигуры в видавшей виды куртке.
Что за напасть? Нет, он не ошибся. Серый в куртке преследовал удаляющегося и, видно, специально намеревался совершить своё гнусное дело не на вокзале, при людях, а где-нибудь в тёмном проулке. «Это уже не мелкота вокзальная, — определился старший лейтенант, — эта фигура поболее будет. Не иначе, как дербанщик какой, рвач[10], вон как он за “апельсином” заколесил, глаз не сводит с чемоданчика».
Что же делать? Привлекать к охоте на вора другого опера не имело смысла. Пока он до дежурки добежит, пока объяснит задачу, то да сё, след от обоих простынет, Москва их поглотит в многоликих, несущихся навстречу друг другу людских потоках. В то же время он не успел никого на посту предупредить!
Ветушкин круто развернулся и понёсся за удалившимися уже на значительное расстояние жертвой и стервятником. «Хорошо, что одежда его так приметна», — промелькнуло у него само собой в мозгу, «апельсин» действительно ярко выделялся в невзрачной массе спешащих по улице пешеходов. Нет худа без добра!
Когда разрыв удалось сократить до безопасного, чтобы дербанщик не заметил расстояния, Платон перевёл дух и успокоился. Людской поток поредел, кончилась привокзальная толчея, вор не успел воспользоваться кишащей толпой, чтобы вырвать чемодан и незаметно затеряться среди гвалта и неразберихи, где каждый занят собой. Этого-то и боялся оперативник. Теперь впереди попадались отдельные прохожие, дети, собаки… Тревогу мог предвещать только очередной переулок, какой-нибудь встречный закуток или просто дыра в заборе. Но вор был нездешний, не из проворных, поэтому сам осматривался, озирался по сторонам, прежде чем решиться на рывок. А пока он изучал ситуацию, «апельсин» легкомысленно проскакивал очередную ловушку, сам не ведая, от какой беды он только что спасся. Но долго это продолжаться не могло.
Конечно, можно было поступить проще: не гоняться за двумя поспешающими людьми по Москве, а шугануть вора, остеречь раззяву и вернуться на пост к вокзалу. И кража предотвращена, и задача выполнена. Правда, вор не пойман, но так он же ничего не успел совершить предосудительного. А за преступные помыслы, тьфу, тьфу, давно перестали сажать. Платон Ветушкин не был пожилым человеком, но в милиции работал приличный срок, а так как в силу профессиональных качеств был любознательным и размышляющим, то помнил многое. К тому же на всю эту беготню он затратил много времени. А самое главное, им овладел азарт охотника, и остановиться он уже не мог.
Платон приостановился. Впереди очередной проулок. Сейчас это произойдёт. Он напрягся, готовясь успеть накрыть вора прямо на наживке, когда тот рванётся вырывать чемодан.
Но «апельсин» остановился. И развернулся. Застыл и жулик. Отпрянул к стене оперативник. «Апельсин» повертел беспечно головой, оглядел возвышающееся перед ним пятиэтажное жилое здание и резво юркнул в подъезд.
Старший лейтенант нагнулся к ботинку, проявляя повышенный интерес к разболтавшемуся шнурку, явно мешающему ходьбе. А затем, не торопясь, свернул в этот злосчастный переулок. Вор, тоже замешкавшись на мгновение от неожиданного выкрутаса жертвы, пришёл в себя и пошагал по улице вперед, как ни в чём не бывало.
Что случилось с приезжим? Он добрался до места назначения и благополучно сейчас стучится в долгожданную дверь?
Ветушкин решил подождать. Сейчас и сам уже не знал почему. Но спешить назад не было необходимости. Хочешь не хочешь, а час утрачен впустую. Теперь его интересовал только залётный ворюга. Тот тоже не спешил с окончательными выводами, видимо, его скребла досада на дешёвого фраера, так ловко ускользнувшего из рук. Дербанщик прошёл вдоль дома, приютился у дерева на скамейке, где кружилась стайка мальчишек, задымил папироской, оглядываясь по сторонам. Ветушкин затаился за углом дома, изредка выглядывая.
Нет, он не знал этого джентльмена удачи, рвач был с чужих краёв и, как отметила бы вокзальная братва криминалов, творил беспредел на их территории. Вор рисковал вдвойне: перед официальным законом, то есть милицией, и перед неофициальным, неписаным, воровским; и неизвестно, что было хуже и опаснее. Но он пренебрегал и тем, и другим. Значит, прижало. А следовательно, он сам опасен вдвойне, потому что не этого «апельсина», так другого грабанёт. Нет, определенно Платон нашёл излишние хлопоты. И чего он попёрся с поста? Стоял бы себе среди ошалелой от весны публики, выскакивающей из зелёных снующих туда-сюда вагончиков, глазел на приезжих девчонок…
Между тем дверь подъезда распахнулась. Из неё на улицу выкатился «апельсин» и, как заведённая игрушка, покатился к следующей пятиэтажке. Ни старший лейтенант, ни дежуривший вор не успели и глазом моргнуть, как «апельсин» закатился в подъезд другого дома.
«Ошибся квартирой? — размышлял Ветушкин. — Не похоже…»
Гость Москвы держал курс уверенно, будто корабль под всеми парусами по известному фарватеру.
Оставалось наблюдать.
«Апельсин» таким же образом побывал ещё в нескольких домах, заходя только в один подъезд. Он явно торопился.
Ситуация нагнеталась.
Первым не выдержал дербанщик. А философствующий над странностью поведения приезжего Платон прозевал его маневр.
Когда «апельсин» выскочил из очередного подъезда и направился к соседнему, вор бросился к нему, сшиб с ног, вырвал чемоданчик и рванул между домами к невзрачным постройкам, к безлюдью. «Апельсин» не пикнул, едва поднявшись на колени, в ужасе замахал руками. Он лишился дара речи от внезапного нападения. Пыжик его отлетел в сторону, пальто мешало ногам.
— Стой на месте, раззява! — только и крикнул старлей и помчался вслед за удиравшим. — Жди меня!
Но старт его оказался запоздалым, ноги не были столь молодыми, а задачи решались разные. Убегающий всегда в выигрыше перед догоняющим…
Так что Ветушкин, тяжело дыша, возвращался к тому месту, откуда начал безнадёжную погоню, неся лишь чемоданчик, который вор выбросил в тот момент, когда опер дико страшным голосом заорал:
— Стой! Стрелять буду!
Стрелять он, конечно, не собирался, будь даже у него пистолет. Нельзя стрелять по спасающемуся бегством мелкому вору, не представляющему никакой опасности для его милицейской жизни. Да и кто видел, что это милиционер преследует преступника? Был Платон, как и подобает опытному оперу, в гражданке, поэтому особой суматохи не поднял: так бегут друг за другом два мужика, один убегает, другой догоняет. Одним словом, лишних свидетелей не было, да и сочувствующих тоже.
Самое обидное и смешное ждало Платона впереди, когда он наконец дотопал до дома, откуда стартовал.
«Апельсина» и след простыл. Что бы это значило?
Но вся эта история только начиналась…
Платон раскрыл чемоданчик, присев на скамейку у дома, вгляделся в содержимое, повертел в руках бумажки и опешил…
Сюрприз с того света
Жить по законам взаимной любви — соблазнительная роскошь, пренебречь этим — желающего не найти.
Дело, наверное, в другом: мало кому удаётся даже непродолжительную часть своей удачной жизни или, если не повезло, — многострадального существования — воспользоваться этим.
Так фарисействовал на вольную тему замечтавшийся Данила Ковшов, глотая набившие оскомину замечания и очередные наставления на оперативной планёрке, носившей тривиальное наименование «пятиминутка».
«Пятиминутка» длилась уже более часа, но был понедельник, никуда не денешься, во всех государственных учреждениях он у служивых людей начинался с этого. Предмет пристального внимания Ковшова, маленький плотный человек с большой облысевшей головой, вжатой до предела в плечи, сидел за прямоугольным столом, монотонным голосом перебирая нить совещания, изредка, где положено, повышал или тушил модуляцию до шёпота. Усиливал он её, когда метал гром и молнии, шёпотом, доверительно заглядывая в глаза, когда произносил сокровенные фразы: «Необходимо ужесточить требования…» — «Спрос со следователей и прокуроров должен быть немедленным…» или «Тогда уж не взыщите…» и тому подобные знакомые словосочетания.
Аудитория — дюжина людей разного возраста с залысинами и, наоборот, с вызывающей кудрявой шевелюрой, мужского и женского пола, восседала вдоль стен на стульях вокруг грозного стола начальника по всему периметру серого кабинета, ничем не примечательного. Опытные и умудрённые заранее расположились, конечно, по сторонам, тем, кто помоложе, замешкавшимся и запоздавшим, пришлось иметь честь сидеть прямо за столом и зреть в упор пронизывающее око наставника.
Ковшов как раз и испытывал такую оказию, поскольку припозднился, пока добирался тремя автобусами до работы; но неловкость первых минут давно прошла, и теперь, затосковав от монотонных истин, он расслаблялся философствованием.
Итак, предмет его пристального внимания, он же его непосредственный начальник на эту роскошь — жить по законам взаимной любви — не только не мог рассчитывать, но и, скорее всего, не имел никакого права и даже шанса.
Люди, посещающие его в кабинете по служебной или личной надобности, выходили оттуда неудовлетворёнными или, хуже того, разозлёнными, порой с криками и угрозами. Одни из них были народом служивым, теми самыми «винтиками и болтиками государевой машины», занимающейся борьбой с преступностью, иначе говоря, операми, следователями, прокурорами и другими работниками правоохранительных органов; другая половина — народом сугубо цивильным и, если так можно выразиться, жертвами, попавшими в жернова этой машины и некоторым образом пострадавшими от неё.
Поэтому, если первая половина от хозяина этого кабинета выскакивала, словно ошпаренная кипятком, или вылетала, будто на метле бабы-яги, глотая обидные разносы за проколы и упущения в работе, из-за чего не удалось поймать грабителя или, хуже того, обезвредить убийцу; то вторая половина в большинстве своем уходила не торопясь, сердито хлопая дверью с открытым недовольством, угрожая жалобами к высшему начальству в Москву и, конечно, к самому Генеральному прокурору.
Причин так себя вести у них было предостаточно: один несколько лет не мог вернуть себе похищенное, другой жаждал возмездия за потерянных навсегда близких, третий длительное время не мог найти родственника, без вести пропавшего, четвёртый… четвёртый мечтал избавиться от злобствующего соседа. Бывали и такие. Не найдя помощи в решении своих болячек в милиции, суде и других местных органах власти и управления, они безошибочно знали, — надо идти к прокурору района, а не получив нужного ответа там — в этот кабинет. Во всех этих случаях, конечно, все они были озлоблены, взвинчены и у последнего порога чиновничьей конторы оказывались буквально в буйном состоянии. Поэтому хозяин кабинета лишь морщился от очередного хлопка двери, проглатывал незаслуженные оскорбления и обидные угрозы и вертел головой. От того, видимо, она у него и казалась всё время вдавленной в самые плечи, а шеи не виднелось вовсе, будто её не было от природы.
Но по-другому реагировать он не имел права. Он, может быть, и хлопнул бы сам кого-нибудь из этих самых «винтиков» и «болтиков» по одному месту, но кто позволит? Реагировать на все их крючковоротства, волокиту и более серьёзные выкрутасы он мог одним, предоставленным ему законом образом — писать бумаги их начальству в Управление, где комиссар милиции по-своему решал их судьбы: кого миловал, предупреждая очередным «последний раз», а с кого, как сидоров-старший с сидорова-младшего, драл три шкуры…
Своих же, непосредственных подчинённых, он подвергал инквизиции на утренних разборках каждый понедельник. А с кем справиться сам не мог согласно служебному положению, на тех шёл с докладом к «самому», к прокурору области. Но случалось это редко и сразу становилось ЧП местного масштаба…
Человек этот, хозяин кабинета, в котором припозднилась начавшаяся рано утром «пятиминутка», имел должность начальника следственного отдела прокуратуры области, носил звание старшего советника юстиции — Виктора Антоновича Колосухина. Как особа, несмотря ни на что, почитаемая среди следователей, заслужил у подчинённых аж две клички: «папа» и «железный канцлер» вроде как тот, известный Бисмарк.
Неподалёку от Ковшова ёрзал на стуле Яков Готляр, заядлый курильщик страдал отчаянно, не скрывая рвущихся из его клокочущего нутра нетерпеливых чувств. Никогда не знавший запаха табака и спиртного известный недотрога Павел Черноборов грустил скупо, меланхолично поглядывая в окно. «Томочка» и «Милочка» — Тамара Стернова с Милкой Углистой обстоятельно и язвительно обсуждали очередной наряд Зининой, «припёршейся на работу опять чёрт-те в чём»; остальные начинали слегка дремать, а забывшийся Сашок Толупанов, закинув ногу на ногу, уже почитывал свежий номер «Футбол-Хоккея», тайком разложив газету на коленке. Одним словом, повертел головой Ковшов по всей компании сослуживцев, всё шло своим обычным размеренным чередом.
Колосухин, уставший наконец и сам от традиционных трудов, всё же добросовестно дотянул до последних цитат своего талмуда, покоившегося перед ним аккуратной стопочкой листов, исписанных мелким почерком. Оглядел слушателей довольным и значительным взглядом, запнулся на нахальном Толупанове, мигом свернувшем газету, хмыкнул и, взглянув на часы, объявил совещание оконченным. Время было без пятнадцати минут одиннадцать, точно в одиннадцать ему следовало бежать к Игорушкину, докладывать обстановку и оперативную сводку о происшествиях по области за прошедшие выходные; пришла самая пора брать тайм-аут.
Курильщики рванули на балкон, Черноборов к себе на третий этаж в «преисподнюю», как именовали следователи между собой кабинет криминалистики за его надёжную отдалённость от высокого начальства, а женщины настроились продолжить свои беседы за чашкой кофе. Ковшов решил проведать старшего следователя Федонина и отправился к нему, к Павлу Никифоровичу по старой дружбе его всегда тянуло.
Времени у всех хватало — Колосухин от шефа по понедельникам никогда раньше обеда не выходил.
Старшие следователи Федонин и Зинина в отличие от прокуроров отдела согласно статусу и рангу подчинялись непосредственно Игорушкину, потому от такого рода совещаний были освобождены. Прокурор области сам устраивал с ними «посиделки», как окрестила эти мероприятия бойкая на язык Зоя Михайловна Зинина. Наделённые такими и другими особенными привилегиями, Федонин и Зинина важность своих особ скрывать не стремились, держались степенно и отдалённо, а порой, со слов кадровика Течулиной, уважавшей дворянский сленг, «манкировали» всеми. Игра в их поведении, конечно, присутствовала, но не ко всем это относилось. Фронтовиков, даже ниже их по должности и званию, старых своих друзей из районных прокуратур области они никогда не чурались, наоборот, когда тот или другой с оказией или по вызову прибывал в аппарат, тотчас тащили к себе в кабинеты, обнимали-оглаживали в объятиях, поили чаем, расспрашивали, старались оказать любую житейскую помощь. Немного их уже оставалось, уцелевших в мировой мясорубке Великой Отечественной; на зависть молодым дружбу свою они свято чтили и друг друга берегли.
Поначалу, первое время работы в аппарате, Ковшов на собственной шкуре испытал жёсткость, сухость и недоверие аборигенов, но печальной участи капитана Кука[11] миновал, хотя долго натыкался на «ёжики» Зининой, не особенно любезно открывавшей душу чужакам, да ещё из «молодых да ранних».
Но прошло и это. Ветер изуродовал нос Сфинксу в жарком Египте и сгладил стены пирамиды Хеопса; вода точит камни, превращая их в песок; скоро и Зинина с ним обвыклась, начала считать своим, хотя он так и не занял вакантное место курильщика в их тесном кругу.
Старшие следователи оказались на месте: Федонин с увлечением листал какую-то книжку, Зинина, как всегда, крутила папироску в длинных красивых пальцах, костюм на ней, броский, явно импортного производства — предмет недавнего обсуждения двух кумушек — изящно облегал её стройное сухое тело.
«Вот что значит одинокая женщина», — невольно залюбовался Ковшов. Уступая в возрасте, она непостижимым таинственным образом всегда брала верх над всеми женщинами аппарата. Что за этим скрывалось? Особая сексуальность этой очаровательной особы, умение украсить себя нарядами и побрякушками, природное благородство или, наоборот, стервозность? Неискушённый в подобного рода тонкостях, Ковшов особо голову над этим не ломал, никогда не чувствовал в этом необходимости, но, познакомившись с Зининой, сразу усвоил для себя одно присущее ей свойство. Умный или простак, молодой или старый, партийный лидер, профессор или работяга — особь противоположного пола для неё всегда оценивался одним мерилом — мужик он или так, только штаны носит. Крепость духа и тела она чуяла удивительным женским нутром за версту. Ради таких она творила с собой чудеса, желая нравиться им и кружить головы. И справлялась, надо сказать, не хуже, чем с самыми запутанными уголовными делами, что приходилось ей расследовать. Перед мужиками не лебезила, искала одного. Пока, правда, безрезультатно.
— Гляди, — поднял Федонин глаза на Ковшова, — наконец-то уважили, знакомый из Москвы прислал. Мемуары самого маршала. Год уже гоняюсь… У нас нет нигде, а, говорят, ещё в шестьдесят девятом году издали.
Ковшов хотел взять книгу, протянутую ему Федониным, но, заметив заинтересованный взгляд Зининой, галантно протянул ей блиставший глянцем обложки фолиант с золотыми буквами: «Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления». Зинина оценила жест кивком головы.
— Приятно иметь дело с настоящим кавалером, чёрт возьми, — расщедрилась на скупой комплимент она. — Эх, Ковшов, Ковшов, что же ты так поздно родился.
— Не повезло, Зоя Михайловна, — пожал плечами Ковшов.
— Да ладно тебе! Зоя Михайловна, Зоя Михайловна… — притворно обиделась Зинина. — Похвалила я тебя, а зря. Не можешь без намёков. Что ж я, такая старая? Паш, скажи…
— Кончай, Зойка, — одёрнул кокетку Федонин, — не задирай парня.
Зинина потеряла ко всему интерес, отвернулась к балкону, где Федонин зачем-то подвесил аккуратное зеркало в рамочке, заглянула в него, поправила причёску и бросила оттуда хмуровато:
— Я у Павла на очереди за этой книжкой, так что, Данила Павлович, занимай за мной, а то Яшка прибежит, опередит тебя.
— Яшка обязательно прибежит, но только не по этому поводу, — хитро улыбнулся Федонин.
— Опять с мужиком что-нибудь учудили?
— А ничего особенного. Сам напросился.
— Вы без шуточек не можете.
— Да не защищай ты его, Зойка. Сама знаешь этого жучка не хуже меня. Всё он перерабатывает больше всех… Вот мы с Толупанчиком и решили проверить его на вшивость.
— Что на этот раз?
— В пятницу засиделись. Ты же раньше убежала, а мы с Сашком запоздравлялись по случаю его юбилея. Одни мужики остались, вот Яшка и начал опять выступать по поводу того, кто больше всех в следственном отделе работает. Послушать его, так он один и пашет… Прямо и днём, и ночью, выходных не пропускает… Вот Данила не даст соврать…
Федонин не успел договорить, как дверь отворилась. На пороге стоял фигурант повествования, Яков Готляр, прокурор следственного отдела.
Федонин прикусил язык.
Все замолчали. Вопреки всем канонам вежливости, с виду этот эталон интеллигентности, Готляр почему-то предпочитал в любые кабинеты входить без стука. Даже к Игорушкину он сначала просовывал в приоткрытую дверь голову, затем спрашивал: «Можно?», — после чего входил, не стучась; видимо, родители не заложили в его гены нужную цифру кода.
Яков, почуяв к себе неестественно повышенный интерес, оглядел собравшихся и, не усмотрев ничего тревожного и предосудительного, остановил взгляд на книжке, которую всё ещё держал в руках Ковшов.
— Кто счастливчик? — воскликнул он, выхватив книжку. — Где купил? Мне говорили, в наших магазинах она ещё не появлялась. На складах в рыболовпотребсоюзе достал? Глазин одарил?
— Прямо пулемётная очередь. Засиделся, видать, на совещании-то, — недовольно пробурчал Федонин.
Ковшов хранил молчание. Зинина тоже не сочла нужным говорить.
— Мне рассказывали, что приврал там маршал. Ради того, чтобы мемуары издали, пошутил с историей. Не хотели книгу печатать, — тараторил Готляр, не обращая внимания на молчание. — Пришлось ему вспомнить то, чего не было на самом деле. Фронтовики не одобряют…
— Что же он приврал? — набычился Федонин.
— Да про расширение новороссийского плацдарма, что Малой землёй у них именовался, который Леонид Ильич Брежнев тогда оборонял…
— Ну и что?
— Советоваться, будто, хотел Жуков с Брежневым, специально для этого прилетел из Генштаба. Отобьётесь, мол, не отобьётесь своими силами от немчуры…
— Больше ему делать было нечего, как туда летать, — недовольно буркнул Федонин и насупился. — Маршал да к начальнику политотдела…
— Вот и говорят, что слукавил маршал ради выпуска книги, три года её издательство держало в подвалах.
— Врут всё! — отрезал Федонин. — Не станет Георгий Константинович мараться из-за этого!
— Не знаю, не знаю. Молва идёт. Чья книга-то?
— Ты поменьше на «барахолку» ходи, да слушай там разную брехню! А книга моя, — Федонин отобрал мемуары у Готляра и бесцеремонно опустился на стул, всем своим сосредоточенным видом давая понять, что разговор на эту тему закончен. — Сам не читал ещё.
Готляр как ни в чём не бывало крутанулся на высоких каблуках модельных ярких туфель, вопрошающе всмотрелся в Зинину, а затем в Ковшова.
— За мной будете, Яков Лазаревич, — понял его без слов Ковшов, — а я за Зоей Михайловной очередь за книгой застолбил.
— Не забудь, — Готляр вальяжно расположился на стуле, поближе к аквариуму, постучал по стеклу сбежавшимся к его пальцам рыбкам, откинулся на спинку, потянулся всем телом: — Ужасный день. С утра голова болит. Зой, у тебя никаких таблеток нет?
— Анальгин? — без интереса спросила Зинина.
— Нет. Не пойдёт. Чего-нибудь импортного, помягче.
— Ты Сонечке своей звони. У меня таких деликатесов нет. Я сплошь только наше потребляю, отечественное.
— Злоупотребил вчера? — с понятием посочувствовал Федонин. — Добавил после юбилея с Толупанчиком?
— Какой там! — замахал руками Готляр. — Ты же видел, Павел, какой портфель я домой попёр. Сашок помогал ещё его тащить. Из района привезли на утверждение обвинительное заключение, шеститомное дело об убийстве для направления в областной суд. Я его в пятницу недочитал. Вот и взял, как обычно, домой на выходные. Не отдыхал ни черта. Все мои гуляли, а я, как проклятый, дело изучал. Софья без меня в театр ходила.
— А чего давали? Премьера?
— Даже не спросил. Она пришла, легла, а я всё корпел.
— Прими моё искреннее сочувствие, — Федонин был непохоже заботлив.
Ковшов и Зинина, чуя подвох, но ещё ничего не понимая, напряглись.
— Нет, так работать нельзя, — продолжал жаловаться Готляр, — надо как-то подготовить Колосухина пересмотреть нагрузку. Одни пашут, не покладая рук, а другим вечные командировки в районы.
Готляр кольнул взглядом Ковшова.
— Везёт молодым, из одного района в другой, только успевай провожать…
— Да брось ты, Яшка, — укорила его Зинина, — тебя самого в командировку не выгонишь. Сонечка твоя все телефоны Колосухину оборвёт. Тебя же, ходока, от дома никуда отпускать нельзя!
— О чём шум и гам? — в кабинет ввалился Толупанов, усаживаясь рядом с Готляром. — Читали в «Футболе», какие чудеса наше «Торпедо» творит?
— Не ваше «Торпедо», а наш «Спартак», — Федонин слыл ярым болельщиком профсоюзной команды.
— Ну поехало, друзья-соперники собрались, теперь задолбят своим футболом. — Готляр не разделял страстей Толупанова и Федонина. — Пойду я к себе, дочитывать дело надо, сегодня шеф вечером на месте, может, удастся утвердить.
Федонин и Толупанов едва удержались от смеха, пока за Готляром не закрылась дверь.
— Ну и чего вы натворили? — Зинина тоже засобиралась к себе. — Что ржёте-то, как ненормальные?
— Подождите немного, — удержал её и поднимающегося Ковшова Федонин. — Сейчас он примчится. Мы с Сашком в пятницу, пока он по телефону со своей Сонькой трепался, вытащили все дела у него из портфеля…
— А разную макулатуру я ему туда подложил, — хохотал Толупанов, — а потом нёс портфель до автобусной остановки, пока не расстались. Он, оказывается, так ничего и не допёр!
— Тебя не было, так он нам тут сказки плел, как все выходные усердно потел, изучая все шесть томов. Аж голова у него, бедняги, вспухла. Жаловался нам. Таблетку у Зойки вон просил, — Федонин зашёлся в злом хохоте и открыл дверцу своего громадного сейфа.
На вместительных полках солидно белели шесть белых увесистых папок.
Дружный хохот слился с шумом захлопнувшейся от резкого толчка Федонина дверцы сейфа.
Когда веселье наконец улеглось, Зинина встала, по-кошачьи ловко изогнувшись, стрельнула окурком папиросы в большую напольную урну, занимавшую в кабинете почётный угол. Урна эта — давняя гордость владельца кабинета — была выполнена в форме чёрной кариатиды и отливала перламутром краски на выпуклой груди застывшей в камне божественной женщины.
— Жестокие у вас розыгрыши, мальчики, — пропела Зинина, — вы уж доигрывайте свой спектакль без меня, моралисты-воспитатели.
И исчезла за дверью, но дверь закрываться не пожелала. В проёме уже громоздилась долговязая фигура Черноборова.
— Данила Павлович, — упёрся взглядом в Ковшова прокурор-криминалист, — в вашей зоне чрезвычайная ситуация. Колосухин мне только что позвонил из приёмной шефа. Просил нас обоих срочно зайти к Игорушкину.
— Что за чепе? Он наговорит с перепугу… — попытался остановить Ковшова Федонин. — Убийство опять какое-нибудь? Подожди, Данила, сейчас Яшка прибежит.
— Труп расчленённый в районе, — сделал большие глаза Черноборов. — Фегосеев висит на проводе у шефа, Колосухин поэтому и звонил мне из приёмной, нигде Данилы Павловича найти не может.
Федонин огорчённо махнул рукой.
Ковшов с Черноборовым поспешили из кабинета. Навстречу им со скоростью курьерского поезда нёсся бушующий Готляр. Но пути их разминулись — они повернули на красную ковровую дорожку, ведущую в другую сторону.
Водитель тёмно-зелёного микроавтобуса — передвижной криминалистической лаборатории, лихо подрулив к подъезду здания районной прокуратуры, тормознул со всего ходу, распугав сельских собак и подняв облако дорожной пыли. По непререкаемому мнению шофёра машины Александра Тарашкина, именно так, стремительно и впечатляюще, должна прибывать на место происшествия его БМП — боевая машина прокуратуры. Оперативная группа: прокурор-криминалист Черноборов, прокурор следственного отдела Ковшов и судебно-медицинский эксперт Вячеслав Глотов, не заставив себя ждать, повылазили на волю. К ним по ступенькам уже сбегал прокурор района Виктор Фегосеев. Обычно степенный, неповоротливый, тяжеловатый, на твёрдых косолапых ногах, сейчас он летел, будто подгоняемый ветром.
— Долго добирались, — поздоровавшись, укорил он прибывших и запнулся, не зная, кому адресовать претензии, определяя старшего.
— Виктор Фёдорович, — Ковшов помог заметно взволнованному прокурору, — давайте к нам в машину, пока доедем до места, вы нас обо всём проинформируете.
— Да, да, конечно, — спохватился прокурор, выхватив свою фуражку с золотой кокардой из рук подоспевшей миловидной помощницы с петлицами юриста третьего класса, и полез на переднее сиденье к водителю. — Здесь недалеко, за райцентром, я дорогу буду показывать.
Когда уже выехали за село и свернули к лесонасаждениям вдоль реки, прокурор, подсказывающий Тарашкину то вправо, то влево или теперь сюда, повернулся к сидящим в салоне и крикнул:
— Простите покорно, Данила Павлович, я с этой находкой дьявольской про все забыл! Вы с час добирались?
— Да поболее, — важно опередил всех с ответом Тарашкин, — эксперта прождали.
— Время-то уже за полдень, а я перекусить вас не пригласил.
— Ничего, успеется, — успокоил прокурора Ковшов. — Сначала дело, а потом потеха, как говорится.
— Потехи теперь долго не видать, — покачал головой Фегосеев. — За всю мою работу в районе никогда таких происшествий не было. А после этой находки я аппетит навсегда потерял. Поэтому и вас спрашиваю, может, заедем, перекусите, а то, боюсь, вы меня недобрым словом вспоминать долго будете. А, Данила Павлович?
— Что мы, расчленённых трупов не видели? — без эмоций отреагировал невозмутимый Глотов, как и положено судмедэксперту. — Я считаю, зря время терять нет надобности.
Черноборов безмолвствовал, копаясь в портфеле и готовя фотоаппарат, несмотря на тряску в машине.
— Игорушкин рассказывал, что сюда выехал Лудонин с оперативной группой, — вступая в дебаты по поводу обеда, сказал Ковшов в спину Фегосеева. — Как нам с Михаилом Александровичем увидеться?
— А он там, на месте, — развернулся прокурор района. — Вас ждут с начальником райотдела милиции. А оперативники его с нашими уже занимаются, отрабатывают версии, что он поручил.
— Вот, вот. Пока мы едем, Виктор Фёдорович, вы нас в свои дела и посвятите.
— Ящик этот нашли случайно, — так и не надев фуражку, трясся на переднем сиденье прокурор. — Сегодня с утра мальчишки на речке купались. После половодья вода только спадать начала, и берег кое-где обнажился, а где обрушился. Ящик-то сам и вывалился. Пацаны ему крышку сбили, а там это самое… останки расчленённого трупа.
— Вы сами выезжали на место происшествия?
— Нет. Следователя своего нового послал. Но с начальником уголовного розыска, как положено… Она там покопалась с нашим медиком… Протокол осмотра привезла. Начальник милиции и оперативники сразу говорят: у нас такого случиться не могло. Все в один голос — ящик из города, а зарыли у нас, у берега. Вроде как земле предали умершего…
— Убитого, — поправил Ковшов.
— Ну да. Убитого, конечно.
— Да кто его в ящике в такую даль из города повезёт? И на чём? — засомневался возмущённый Черноборов.
— Вот я и говорю своим. Через пост госавтоинспекции, через городской мост, который день и ночь охраняется милицией, смельчаков везти такой груз не найдётся. А они мне твердят — на лодке привезли. А остальное по частям просто в воду выбросили. Или рыба съест да раки, или в море вынесет… Мы с начальником команду дали, полазали, поискали по дну. Ничего больше не нашли… Вот только этот ящик… с этим…
— Всё может быть, — рассудительно поддакнул Глотов. — Если труп в воде был долго, тем более расчленён по мелким частям, река в такую жару в момент все следы уничтожит. А что в ящике-то осталось? Что закопано было?
— Ужас, говорят, — прокурор развернулся снова, сделал страшные глаза, замахал руками.
— Ладно, посмотрим на месте, — понял Глотов и не стал дальше расспрашивать.
— Личность, конечно, не установили? — больше для формы, в продолжение разговора спросил Ковшов.
— Да что вы, Данила Павлович? Какая там личность! Это просто ужас какой-то! — опять запричитал прокурор. — Маска смерти! Так мне следователь мой сказала.
— Женщина у вас следователь, Виктор Фёдорович? — поинтересовался Глотов.
— Она самая, — опять повернулся Фегосеев. — Недавно наконец-то прислали. Я Игорушкину давно надоедал. Допёк. Ну он скомандовал, и Колосухин тут же нашёл, а то полгода найти не мог. Правда, молодая, опыта никакого. У нас до неё на два района один следователь работал. Тот мужик был опытный. Знаете, Данила Павлович, хороший следователь, Гопов его фамилия. Я его к себе хотел переманить. Какой там! У него семья, жильё, хозяйство…
— Значит, маска смерти, она сказала? — не то пошутил, не то подытожил Черноборов.
— Вот-вот! Первую неделю, как на работу вышла, и на тебе — подарочек! Тяжёлая рука. Если так пойдёт и дальше, лучше совсем от следователя отказаться. Раньше тихо у нас было, — переживал загрустивший прокурор.
— Романтичная она у вас особа, — не удержался Глотов.
— Какая там романтика! — всплеснул руками прокурор. — Вывернуло её всю ещё там, после осмотра. Медицинскую помощь оказывать пришлось.
Машина дёрнулась на очередной колдобине, всех тряхнуло. Тарашкин был невозмутим.
На несколько минут воцарилась тишина.
— Значит, ваши говорят, труп городской? — первым пришёл в себя от встряски Ковшов.
— Не наш.
— А вы, Виктор Фёдорович, не запросили в милиции сведения о без вести пропавших за последний месяц?
— Лудонин команду сразу дал, чтобы все дела подняли на пропавших, и велел участковым опросы по сёлам провести. Работаем в этом направлении. Всё-таки сомневаюсь я, Данила Павлович, всё у нас в районе было, но такое впервые. Я сразу Николаю Павловичу и решил позвонить.
— Привыкать надо, — донеслось из угла салона от Глотова, — урбанизация грядёт.
— Не спешили бы с этим, — заёрзал прокурор на сиденье, — до пенсии не доживёшь, если такие находки зачастят.
— Виктор Фёдорович, у вас места отбытия наказания имеются? — вернул из ностальгии прокурора Ковшов.
— Пока бог миловал…
— А осуждённых, отбывших наказание, много?
— Не без этого. Не считал. А где их нет?
— Следует организовать проверку среди лиц этой категории.
— Да, поработать придётся, Данила Павлович, мы уж тут с начальником милиции продумали. Только без города и вашей помощи не обойтись. Следователя настоящего и того нет! А вот и приехали…
Машина, ведомая Тарашкиным, опять совершив крутой вираж и лихой манёвр, как у подъезда райпрокуратуры, застыла перед небольшим холмом на опушке леска в нескольких метрах от крутого берега, обрывающегося к самой воде. Близ холмика суетилась группа людей, преимущественно в милицейской форме. В цивильном костюме выделялся Лудонин. Всегда уверенный в себе, неподвластный сомнениям и нервозности, сейчас удручённый, он сидел в отдалении на пеньке у березок в одиночестве и безрадостным взглядом изучал поверхность реки.
На холме, также в отчуждении, как саркофаг фараона, покоилось то, что Фегосеев назвал ящиком.
На приветствия приехавших Лудонин не зажёгся, поздоровался, подойдя, но сразу вновь возвратился к пеньку и меланхолично застыл на нём.
Вячеслав Глотов первым оказался у «саркофага». Ковшов помог ему поднять и отложить в сторону крышку. Увиденное заставило вздрогнуть, хотя он и готовился к самому худшему. Остановилось дыхание, медленно пятясь, сошёл он с холма вниз и только после этого перевёл дух. Здесь резкий зловонный запах из «саркофага» не раздражал слизистую носа и не душил сознание.
— Ты что? — толкнул его Черноборов.
— Вот почему погибали все, кто увлекался поисками Тутанхамона и прикасался к мумии, — философски заметил Ковшов. — Мне жить хочется. Пусть Слава расхлёбывает.
— Что, так гадко? — посочувствовал криминалист.
— Совершенно обглоданный череп. Весь в репьях каких-то, — поёжился Ковшов. — Я понимаю ту девочку — следователя. Ни глаз, ни ушей, ни рта. Зубы скалит, паразит!
— Видно, правильно она сказала?
— Да уж, — только и смог пробурчать Ковшов, — маска смерти, лучше не придумаешь. Опознать не удастся.
— Придётся выпаривать на спиртовках этого неудачника, — донёсся до них невозмутимый голос Глотова. — Поместим, что осталось от головки в кастрюльку на огонь, отварим-отпарим, всё ненужное отвалится, по голому черепу восстановим внешний облик бедного Йорика. Метод Михаила Михайловича Герасимова даёт беспроигрышный результат один к одному. Он Тамерлана — Великого Хромца так к жизни вернул. Залюбуетесь.
Эксперт подцепил череп, вытащил его на белый свет и, держа перед собой на вытянутых руках, в резиновых перчатках тщательно стал его рассматривать. Ковшов обратил внимание, что Глотов успел нацепить и респиратор.
— Череп, уважаемые прокуроры, — важно провозгласил Глотов, — имеет повреждения в области затылочной кости. Скорее всего, это был удар тяжёлым предметом с тупой твёрдой поверхностью. Конечно, кость нуждается в специальном тщательном исследовании, но вам же сейчас нужно моё мнение…
Он помолчал и после артистической паузы, больше рисуясь, но серьёзно закончил:
— Не боюсь и сейчас сказать: похоже, это был обух бытового топора. Так что ищите топор, уважаемые прокуроры.
Слабонервных эти манипуляции с черепом смутили. Фегосеев отодвинулся поближе к Лудонину, на самый бугор, к свежему речному ветерку.
— Павел Фёдорович, — потревожил Ковшов безмолвствующую статую криминалиста, — и тебя застолбило? Я припоминаю, в какой-то области уже подобное наблюдалось? Где, не подскажешь?
— Ну как же, — напряг память Черноборов, — приказ был… прокурора России Бориса Васильевича Кравцова… по городу Калинину.
— Вот-вот. Что за приказ?
— Тоже ящик там милиционеры нашли с головой…
— Ну и что?
— Зарыли…
— А потом?
— А потом всех повыгоняли с работы: и милиционеров, и прокуроров.
— Печально закончилась та история…
— А ты что вспомнил-то, Данила Павлович?
— Да так, тоска доняла. Поздно нам её закапывать.
— Шутки у тебя, прокурор…
— Ну что ж… тогда будем раскрывать.
Ланч цезарей
К концу недели накопилось столько незавершённых дел, что он долго ломал голову, чему отдать предпочтение.
Клавдия подождёт. Хотя, конечно, не виделись уже бессовестно давно, он не мог выкроить и два-три часа среди недели, а в прошлые выходные вообще проторчал в командировке за городом. Зазноба уже начинала откровенно дуться, звонила, укорять не смела, но намекала, не нашёл ли другую, помоложе. Не догадывалась, что бросить её он уже не мог, намертво прикипел душой…
Волновал старший сын Николай: опять его привезли поздно ночью из какого-то злачного места — кафе или ресторана. Напился с дружками так, что идти сам не мог; мать встретила сына, тайком уложила и к двери его кабинета прошлёпала, прислушиваясь, не дознался ли он. Всё покой его оберегает. Какая наивность! Разве шило в мешке утаишь? Эх, женщина, женщина, живёт с ним с молодых лет, а так мужа и не распознала. Или, может, как и он, вида не подаёт, смирилась…
А к сыну пора принимать серьёзные меры. Позорит его мальчишка! Нравоучительные беседы, что он с ним пытался проводить, ситуации не меняли, отбился совсем от рук. Нет, к нему методы графа Честерфилда[12] не подходят. Кулаком он не привык. Что же делать с сыном? Надо отдать его в жёсткие руки. Вот-вот. Как он раньше не подумал? В милицию его! Там форма, дисциплина, спрос. Перевоспитают, перелицуют… Надо всерьёз всё продумать. Не потерять бы пацана…
Утро выходного дня первый секретарь обкома партии Леонид Боронин в кои веки наконец встречал дома, только что отзавтракав в одиночестве и перейдя к себе в комнату-кабинет. В командировках, в бесконечных поездках по области он часто вспоминал родные пенаты, домашний уют, покой, а вот очутился у себя, проснулся — и на тебе, те же мысли в голове, одни и те же тревоги и заботы! И никуда от них не деться…
Последнее время достал телефонными звонками неугомонный Алексей Бойцов, директор окрепшего на глазах каракулеводческого степного совхоза. Далеко совхоз, на самой границе с Калмыкией, но дотошный Бойцов несколько раз приезжал, пытался пробиться лично к нему на приём, но не удавалось — напряжёнными были последние несколько недель. Видеться — виделись, а посидеть, поговорить, пообщаться по-человечески не получалось. А причина есть. Привёз наконец директор в хозяйство особую породу племенных овец, английских не английских, те в песках-то полупустыни и месяца не выдержат, а эти мало в чём уступали заграничным, но в жару — стойкие, в бескормицу — терпеливые. А главное, шерсть великолепная, соответствует мировым стандартам. Вот Бойцов и зовёт его погостить, похвалиться хочет. Поехать посмотреть, конечно, можно, но во что это обернётся, он знал. Знал и поэтому не торопился. Бойцов мужик волевой, крепкий. Первого секретаря райкома и председателя райисполкома авторитетом уже придавил. Те вида не подают, хорохорятся, но он-то приметил, да и заведующий отделом обкома по сельскому хозяйству Рефедин все уши прожужжал — оба они в кулаке директора.
Теперь Бойцов к нему ключики подбирает, орден хочет выклянчить. Рефедин поддерживает — заслужил мужик. Работает — себя не щадит, ну а других и подавно. Орден тот, конечно, получит. Но не более того. Уважал Боронин волевых руководителей. Ценил, но близко до души не подпускал никого. Он — тёртый калач. Как-то зарвался Бойцов, запанибратски при своих аксакалах на местном торжестве хлопнул по плечу первого секретаря обкома партии. Он, конечно, виду не подал, не дёрнулся, стерпел, но так глянул в глаза зарвавшемуся директору, что смельчак враз руку отдёрнул. Очухался. А то осмелел, вроде по-свойски, по-простецки…
Знакомы эти замашки. Все они, крепкие и нахальные, прут к одному. Во власть!
Власть любит крепких. Она, как баба красивая, выбирает не любого, но если положит на тебя глаз, держись мужик сам и её держи цепко, зевнёшь — улетит к другому.
Будет у Алексея Бойцова власть. Своего добьётся. Но укроти наглость! Знай меру и место…
Боронин поворошил ворох газет, накопившихся на столике за время его отсутствия, перевёл глаза на телефонный аппарат.
Ну что, к Бойцову махнуть? Нанести внеплановый визит? Одному. Не брать начинающего надоедать весельчака — балагура Ивана.
Думенкова он с некоторых пор невзлюбил, хотя везде они представлялись неразлучной парочкой, посмотреть со стороны — друзья не разлей вода. Больно уж баловала Ивана судьба, прямо на руках носила. Везунчик, одним словом. Толстел на глазах, колобком уже катался. Дорогу пока не перебегал, остерегался ещё по старой памяти, но уже на трибунах размахивал народу отечески, только шляпу в воздух не подкидывал…
Нет, ехать надо одному. Из райкомовских и райисполкомовских никого не брать. Свалиться к Бойцову, как снег на голову. Пообщаться по-простому, по-мужски. Заглянуть ему в душу. Чтобы тот не успел приготовиться, не смог собрать своих аксакалов. Те пользуются такими его приездами, вроде рады до смерти, никакой корысти, а после первой стопки за достарханом начинают жаловаться: и потребсоюзовские автолавки у них редко бывают, и товар хороший не везут, когда чабанам легковые автомобили продавать будут, нет того, нет этого… Успевай только записывать! Знают его слабость. Первый секретарь, если пообещает, никогда не обманет… И директор, сукин кот, тоже случая не упустит, начнёт просить, удочки закидывать. Свои проблемы решает с его помощью.
Уверен, на глазах у народа большой начальник не огорчит его гостеприимства. Умно всё обставляет. Заранее соберёт аксакалов с близких чабанских точек, из сёл молодцов, а вроде все случайно съехались. Те в национальных халатах, маскарады устраивают. Не любил этой зачуханной помпезности секретарь. Однако подобострастных поклонов отвергнуть не мог — как же, народ, — и мучился. Не общаться с миром нельзя. Первая заповедь партии — лидер должен идти в массы. Оборачивалось это общение обильным достарханом, а там, только первую стопку подняли — и пошло, поехало… Самый древний, убелённый сединами старец по обычаю брался за вываренную голову ягнёнка и, причитая, одаривал его глазом, чтобы всё в области видел, ухом, чтобы слышал, языком, чтобы лучше всех говорил, и… И за каждый его тост полагалось пить до дна. Иначе, кровно обидится народ казахский, дагестанский, чеченский, русский — все, кто верой и правдой на чабанских точках и в зной, и в холод несёт свою тяжкую ношу сельского труженика! Да, умеют тосты говорить аксакалы, а директор пуще всех!
Потом себя уж и не помнил, как всё завершалось, как провожали, как дома в постели оказывался. Приходил в себя утром следующего дня дома, с больной головой. Так и у Клавдии первый раз очутился. Не подумал тогда, чем это закончится, взял её с собой в совхоз. И продолжалось всё нормально, веселились, вспомнили о её скором дне рождения, поздравлять Бойцов стал. Он всё и затеял… а очухался на пуховых подушках, рядом её горячая, податливая, по-молодому крепкая грудь…
Вот откуда, оказывается, болезнь, привязанность сына к спиртному! Его кровь, его порода передалась…
Боронин отложил трубку телефона. Нет, звонить не будет! Не поедет в совхоз к Бойцову. Будет отдыхать. Просто, по-человечески отдыхать. Сыном займётся, в конце концов…
Он боялся своей губительной страсти. Не однажды думал, может, спасёт его лечение. Но как лечиться? Как ни берегись, ни секретничай, а этим гиппократам, будь они неладны, языки не отрежешь. Моисеич и тот вроде сам завоблздравотделом, всё время лебезит, горшки за ним таскает, божится родной мамой в преданности, а на каждом углу брешет по великому секрету о его болячках. И, главное, не ради злобствования, а от доброй души, только потому, чтобы всем ясно было, к какому столу он допущен, какая важная особа.
Боронин завидовал тем людям, кто мог сам справиться со своей бедой. А то, что это беда, он давно не сомневался. Страшная болезнь. Он победить её сам не мог. И не знал, что делать.
Вон тот же Андрей Котин. С виду не скажешь, а какой крепкий мужик! Тот просто решил свою проблему. Садятся за стол, ему застолье открывать, всё-таки председатель! Наливают один стакан — всем известны его принципы, он их подчинённым и друзьям вдолбил. Один стакан — и всё! Но, чтобы не придирались, — до краёв. Встаёт, открывает вечер, произносит тост, стакан опрокинет — и как отрезало. Больше не подходи.
Они и не суются. Знают его меру. И он на высоте: и дела решает, и с народом общаться успевает…
Нет. Решено. К Бойцову он не поедет. Более всего ему необходимо свидеться с Марасёвым. Новый начальник КГБ на днях возвратился из Москвы, пробыл там необычно долго. Когда по приезде докладывался накоротке, пояснил, что заучили их в столице, просил время для обстоятельного разговора выделить.
Вот он ему и выделит время. Сегодня. Ближе к полудню. Как это сейчас модным становится, как «загнивающие империалисты» говорят, пригласит его на ланч. Даст команду Сотову, пусть рыбалку организует, удочки готовит. Они вдвоём там тихо-мирно обо всём и потолкуют.
Когда Марасёв позвонил по телефону, он его особенно не расспрашивал. Примерно сам знал причины длительного пребывания на Лубянке и в ЦК партии, догадывался, какому уму-разуму там учили. Генеральный секретарь Леонид Брежнев не так давно пожертвовал верным своим товарищем Семичастным, погнал из чекистов в три шеи. И было за что! Нечего тому делать на Лубянке! Опозорил страну на весь мир! Заснул, рано познав величие, лишь только Никиту свалить успели. Вот и прозевал взбалмошную дочку великого когда-то вождя. Светлана Аллилуева и раньше не вселяла никакого доверия. Ещё при жизни отца с диссидентом-киношником связалась. Сталин его быстро отвадил, как проведал, а потом спуталась с индийцем. Какой из неё толк? За версту антисоветчиной несёт, а Семичастный, зная все эти штучки-дрючки, сжалился, отец родной нашёлся, пожаловал вертихвостку поездкой в Индию. Видите ли, муж у неё умер, по его желанию она должна развеять прах над Гангом. Они и расписаны-то официально не были, какая она жена этому Синкху? Как только в Индии оказалась, сразу чекистам лапшу на уши начала вешать, вместо обещанного месяца два там проболталась, а потом, сбежав от приставленного персонала, объявилась в американском посольстве и попросила политического убежища! От кого, спрашивается? От своих, русских? Впрочем, какая он русская… Грузинка, конечно. Но родина-то у неё одна, советская! Стыд и совесть забыла! Как только за «бугром» оказалась, так и вылила дерьмо на страну и отца не пощадила. Его больше всех дёгтем измазала. «Письма» её начал передавать американский «Голос Свободы». Подумать только, назвала их «письма к другу», прямо изуверка!
Он сам, как-то ночью засидевшись, слышал трансляцию. Оказывается, она эти письма ещё в 1963 году писать начала в Жуковке, недалеко от Москвы. Видать, тогда ещё у неё мысли водились удрать к американцам, а тут случай представился. Куда КГБ смотрел?
Боронин накрутил на диске телефона номер Сотова. Хозяйственник обкома, как верный солдат на посту, мгновенно ответил бодрым голосом на другом конце провода. Вот мужик, засветилась единственная лампочка радости в хмурой душе первого секретаря, ночью позвони — тот же итог будет! Службу несёт не на живот, но на совесть. И всегда у него информация про всё и про всех самая свежая. Как будто за дверьми у каждого стоял, о ком ни спроси.
Услышав команду подготовить выезд двоих на рыбалку, Сотов так же бодро заверил — всё будет сделано.
Посидев, подумав, Боронин вернулся к своим невесёлым мыслям.
Бегство Аллилуевой «за бугор», тиражирование её книжки на западном радио вдохновили диссидентов. Они и так особенно не унимались в своём лае, а тут с ума просто посходили. Протесты в виде демонстраций на Красной площади устраивать начали, открытые письма писать в ЦК, голодовки организовали, а недавно совсем обнаглели — комитет свой создали по защите прав. Ладно бы, мелочь пузатая, студенты, безработные да евреи, рвущиеся на свою долгожданную родину, о чём везде твердят. А то ведь их возглавили люди непростые… Авторитетные в стране и на Западе: Солженицын, которому французы организовали нобелевское лауреатство, академик Сахаров, братцы Медведевы. Что ни лидер, то имя! Хочешь не хочешь, приходится реагировать. Вновь назначенный руководитель КГБ Юрий Андропов вроде все адекватные меры принимает, не то что предшественник его, а порядка мало пока. И суды над распоясавшимися антисоветчиками провёл, а эффект обратный пошёл по стране. Какая-то невиданная волна сопротивления ощущается, как мина замедленного действия.
Да ещё свои помогают! Или теперь уже бывшие свои? Вслед за книжкой дочери Сталина Никита Хрущёв с помощью сына переправил за границу свои мемуары, в ноябре семидесятого года американцы на весь свет раструбили, что публиковать их начинают. Куда ни кинь, везде клин!
Нет, он, конечно, прав. Комитетчикам области больше внимания следует уделять. Не перекладывать на плечи помощников. Они важности дела не понимают. Прозевали пятьдесят шестой год и хрущёвский двадцатый съезд, теперь Леонид Ильич пытается восстановить порушенное, а не так всё просто. Глотнул народ чумной воздух анархии, переиначили диссиденты его по-своему, «воздухом свободы», «оттепелью» назвали. Толпа любит такие лозунги, её хлебом не корми, дай в дерьме великих личностей покопаться. Счастья лучшего нет, дай почуять, что на небе тоже в грехах замешаны пуще их, простых смертных!
Боронин, к своему стыду, попробовал вспомнить и вспомнил, что вопросы взаимодействия и контроля за деятельностью Комитета госбезопасности уже давно не были предметом обсуждения на совещаниях или в бюро обкома, а ведь это его круг функциональных обязанностей. Он куратор Комитета, а бывал у них только на празднованиях дня чекиста, а то иногда вместо себя посылал кого-нибудь из помощников. Увлёкся сельским хозяйством, задумал «российский огород» создать в Поволжье. Дело нужное, но не во вред главному. Надо брать чекистов в свои руки и крепко держать. Слабинка до добра не доведёт!..
Первый секретарь обкома не мог похвастаться уловом — рыбак из него был никудышный. Но каким тогда по сравнению с ним выглядел этот усатик с потным лицом и блестящей лысиной? Не лезло ни в какие ворота! Смех один.
Глава чекистов только на фотографиях грозный, но удочки в глаза никогда не видел. Поэтому общение с ней доставляло ему сплошные муки, а окружающим угрозу и опасность. Он быстро взмок от неудачных попыток забросить спиннинг, которым наградил его секретарь, — лучший не пожалел из последних московских приобретений! А несколько раз едва не зацепив Боронина, ещё больше смутился и загрустил, опустив руки. Услышав в ответ искренний и добродушный смешок, мученик приобрёл естественный вид, сокрушаясь, извинился за своё бессилие, предложил купаться.
Боронин ему компанию не составил. Он ещё для купания не созрел, да и не любил купаться в такую раннюю пору, когда, несмотря на жару, вода здесь, на быстрине, жгла холодом. Но и возражать не стал. Кому-то надо было развести костерок, похлопотать у стола, развёрнутого тут же на мягкой зелёной травке, подготовить общение.
Он решил отказаться от присутствия любых посторонних. Необходимо было пообщаться с Марасёвым наедине. Люди Сотова давно уже оборудовали им местечко отдыха в уютном уголке близ воды и тихо удалились. Котелок на треноге поджидал только спички, на коврике покоились аккуратно разложенные рыбацкие разносолы. Всё было исполнено без каких-либо его наставлений и указаний, без суеты и праздности. Обычная его трапеза, которую наизусть знали люди Сотова. Казалось, и тот незримо присутствовал здесь и чётко командовал.
Пока Марасёв на отдалённой косе завезённого сюда речного песка фыркал и дельфинил у берега, секретарь блаженствовал со спиннингом. В умелых руках эта снасть — незаменимое средство отдохнуть, покуражиться и отвести душу. А если ещё и рыба идёт, потеха превращается в настоящее счастье. Жара ещё не подступила, поэтому ему несказанно везло. Рыба не давала скучать.
Удачное утро! Настроение поднималось.
Он увлёкся. Забыл про домашние тревоги, дела, Марасёва, про всё на свете. Становилось жарко, пот застилал глаза — давно за собой подобного азарта не замечал. Утёр взмокший лоб рукавом.
Марасёв уже вылез на берег, прилёг на песке, глядя в небо, загорал. Боронин разогнул затёкшую спину, почувствовал ломоту в кистях рук.
Ещё несколько раз закинул спиннинг по инерции. Нет. Всё. Как отрезало. С жарой рыба ушла. Покинула его удача. Так бывает на воде. Его величество случай. Теперь до вечера… Пока солнце к горизонту не покатится. Можно и к костерку.
Он крикнул, помахал рукой Марасёву. Тот мигом засобирался, словно только и ждал его сигнала. Секретарь поднял якорь, направил лодку к берегу. Всё же начальник КГБ опередил его, успел запалить огонь под котелком, снять покрывало с закуски, помог выволочь лодку на берег, чтобы не унесло течением.
Уху по деревянным мискам секретарь разливал сам и стопку за удачный лов и приятный отдых поднял первым. Дал понять — чекист здесь гость.
Под навесом у стремительно рвущегося к морю потока было приятно от прохлады, от свежего ветерка. Разговорились. Как обычно, начали с погоды — летний день действительно на редкость удался. И жара терпима, в прошлые годы к этому времени бывало и покруче. Марасёв незаметно коснулся погоды в столице, и тут же разговор переместился на дела, на его поездку, на совещание. Как кадровый чекист, он, перейдя на язык службы, враз заговорил кратко, конкретно, без эмоций. Чувствовалась школа. Боронину это понравилось. Он ценил профессионалов, уважал тех, кто отдавал предпочтение содержанию, а не форме. Собеседник его как-то удивительно преобразился. И маленькие, неказистые поначалу, усики на его лице приобрели нужную значимость и место.
— Андропов серьёзно обеспокоен ситуацией в стране, — завладел нитью беседы Марасёв, — после той злосчастной стрельбы у Боровицких ворот[13] он обозначил главным направлением деятельности наших органов по нормализации положения в Союзе борьбу с диссидентством. Арестован и привлечён к ответственности их самый оголтелый лидер Буковский, за решёткой в психиатрической больнице отъявленная горлопанка, считающая себя поэтессой, вздорная баба Горбаневская, предполагается нанести окончательный удар по осиному гнезду, сооружённому Солженицыным и Сахаровым.
— Давно пора, давно пора, — кивал головой Боронин. — Бесчинства этой банды не знают ни совести, ни предела.
— Я бы назвал это, Леонид Александрович, накалом настоящей политической войны, — твёрдо отрубил Марасёв, — движение диссидентов приобрело организованный, целенаправленный и управляемый Западом характер. Период случайных вспышек, единичное недовольство действием государственных органов и власти, индивидуальных эксцессов канул в прошлое. Выступления лидеров диссидентов продуманы, тщательно подготовлены и, несомненно, финансируются оттуда.
Марасёв показал рукой в сторону, куда начал склоняться солнечный диск.
— Их «голоса» в Европе мгновенно оповещают мир о малейших наших выпадах против диссидентского движения. Но они и здесь, у нас, обнаглели совсем. Мало того, что забрасывают периодически столицу и центры республик различного рода листовками, воззваниями и обращениями к властям, в ЦК, они сумели организовать самиздат бюллетеня, который регулярно выпускают и завозят по регионам, нелегально распространяют среди студентов, на больших предприятиях, подбрасывают в жилые дома. Пишут там политические гадости о произволе в психушках…
Боронин слушал, молчал и багровел. Засевшая в голове с утра мигрень, недовольство всем на свете и даже самим собой, вроде исчезнувшие во время рыбалки, настойчиво с каждым броским словом этого голого человека, разлёгшегося в вальяжной позе напротив, с каждой его фразой, с каждым велеречивым жестом поднимались из глубины нутра и рвались к голове. Голова терпела, но грозила взрывом.
Расфуфыренные усики Марасёва усиливали неприязнь. Откуда такая спесь? Как он умело поставил себя выше всех и смотрит на все эти прорехи власти со стороны? Он сам вроде и ни при чём! Его здесь вроде и не было! Он, как Илья Муромец, на печи сидел, сил набирался. А кругом олухи!
Но как красноречиво говорит! Лучше бы молчал. Стратег с бумажкой для задницы!
— А вы-то куда смотрели? Где вы были! — первый секретарь не выдержал и не узнал своего голоса.
Впервые он заорал.
Марасёв потерял дар речи.
— Что же вы бессилие своё показываете перед гнусными отщепенцами! Листовками вас закидали, страну позорят, а вы перепугались. Демократию развели, чёрт вас подрал! Вот она вам и бьёт по морде! Сталина нет. При нём о таких вещах и думать не смели!
Голос первого секретаря пресёкся, но только на мгновение. Злоба душила его. Водка и гнев ударили в голову.
— Писателей хреновых, щелкопёров, как их Гоголь называл, у себя усмирить не можете, за бугор выдворяете. Думаете, они оттуда помоями поливать нас перестанут? Ещё хлеще лай, вражеские их «голоса» наши станции не успевают глушить. Всё новые и новые рождаются. Евреев не пускаете? Какой от них прок? Так и так утекут. Этот народ особый, с ним не стоит такими упрощёнными методами. Наоборот, открыть двери — пусть тикают. Они умные, быстро там оботрутся и назад попросятся. Артисты, писаки! Кому они там нужны? Это у нас их слушают, на бис принимают, в идолов превращают, а там им критика быстро наскучит. А себя критиковать буржуи не позволят. Платить перестанут — и всё. А кому нужен нищий?
Первый секретарь чувствовал, что перебирает. Круто завернул. Но его понесло. Прорвало, как говорится. Он уже понимал, что Марасёв здесь не при чём. Он слишком маленький человек для масштабов той категории чиновников в столице, затеявших весь этот каламбур в политике и режиме. Один замахнулся и, не подумав, ударил. Другим расхлёбывать. А дважды в одну и ту же воду не войдёшь.
Боронин смолк. Резко оборвал свою речь. Так же резко, как и начал. Нагнулся к коврику, налил стопку, опрокинул в себя, развернулся, отошёл от костра, от столбом застывшего начальника КГБ к самому берегу.
Марасёв не знал, как себя вести, что делать, что говорить? Продвинулся вслед за секретарем, не спуская глаз с его затылка.
Боронин махнул рукой то ли ему, то ли жестом отчаяния завершив сказанное, но стоять рядом с человеком в одних трусах не пожелал и зашагал по берегу — туда и обратно, размеренно раскачиваясь.
— У нас-то в области листовок не было?
— Мне докладывали, что-то появлялось среди студентов. Подбрасывали в аудитории…
— В каком институте? В техникуме?
— В институте… Принесли какую-то галиматью, бредни сумасшедшего… студенты нашли… в столах…
— Бредни? Что конкретно?
— Что-то про Ленина излагалось… про липовые премии…
— При чём тут Ленин и премии? Вы разобрались? Нашли автора?
— Нет конечно. Невозможно определить. Почерк едва разборчив. Содержание — бред психически больного человека. Я даже не стал вам докладывать.
— Вот это зря… Разберитесь. Автора надо найти. Доложите мне результаты лично.
— Так точно!
— И больше ничего подобного?
— Вроде нет…
— Как понимать ваше «вроде»? Вы уверены, что в области нет диссидентов? Кстати, я вас перебил. Что вы там говорили про эти, как их… бюллетени?
— Они их назвали «Хроники»[14]…
— Хроники? Интересно. Где-то я уже слышал… Подожди. Да, испанский писатель Проспер Мериме. Романтик. У него была книжка «Хроники времен царствования Карла». Значит, они свои хроники придумали. Такие же романтичные?
— Никак нет. В основном, это записки о ситуации в наших местах лишения свободы, тюрьмах… Тема их лидера, Солженицына. Его конёк — лагеря. Он теперь сотворил новые труды: «Раковый корпус», «В круге первом», переправил на Запад и там опубликовал.
— У нас эти чёртовы хроники не объявлялись?
— Никак нет.
— И больше ничего?
— Вроде нет.
— Уверены?
— По официальной информации, нет ничего.
— А в милиции?
— Не располагаю, Леонид Александрович. Это не наша компетенция.
— Я чувствую, вам не докладывали о фашистской свастике, которой пол-Кремля разрисовано было?
— Свастика на Кремле?
— Вот-вот! А вам ничего неизвестно… Нет у вас никакого контакта с милицией! Так работать нельзя. За ночь разрисовали масляной краской стены Кремля и дома быта «Кристалл», надпись сделали: «Смерть коммунистам!»
Марасёв почувствовал, как земля убегает из-под ног, покачнулся.
Как же его подвели заместители, не доложили ни о чём перед встречей с первым секретарём! Или сами ничего не знали? Но этого не могло быть, оперативная сводка-то из Управления внутренних дел каждое утро в КГБ доставляется. И он дважды на день из Москвы звонил. Упустили тогда сообщить ему и теперь забыли. Ну он разберётся! Он даст всем дрозда! Надолго запомнят, как начальника подставлять!
— …Милиционеры рано утром всё стереть успели, отмыли, пока народ появился, — донёсся, словно сквозь туман, до него голос Боронина. — Позвонил в дежурку случайный прохожий. Но найти эту сволочь так и не смогли до сих пор. Во всяком случае, мне не докладывал никто.
Боронин в упор уставился на Марасёва — милиция молчит, прокурор молчит, а вы даже и слыхом не слышали. Вот картина!
Он хлопнул себя по бёдрам.
Марасёв, подстёгнутый этим жестом, словно кнутом, вытянулся в струнку, хотя и был в одних трусах. Про это он сейчас, кажется, меньше всего помнил.
— Бестолочи! — гонял воздух первый секретарь. — В милиции вообще считают, что это пьяный хулиган какой-то или мальчишки сопливые шалят. Но вы-то, надеюсь, понимаете, что это не шалость?
— Так точно, товарищ первый секретарь обкома партии!
— И главное, не только милиционеры так легкомысленно относятся к подобного рода фактам. Мои секретари в райкомах точно так же беспечны. — Боронин развернулся и зашагал вдоль берега. — Мне как-то Каряжин, председатель парткомиссии, рассказывал. Звонит ему один из городских секретарей, совета просит. Пришёл посетитель, понёс ахинею — Ленина мы не ценим, оказывается. Его дед у нас похоронен, а памятник неказистый, почёта должного нет, народ совсем не знает рода Ульяновых. Выложил ему на стол свой проект мраморного мавзолея. Ни дать, ни взять, местный Щусев[15]!
Боронин фыркнул, остановился, развернулся и зашагал той же дорожкой назад.
— …А от того антисоветчиной несёт за версту! Секретарь его выпроводил, а у Каряжина спрашивает, правильно ли он с психом поступил? Я Каряжину сам вопрос задал: что он тому посоветовал? Так Каряжин мне знаешь что ответил?
Боронин остановился перед начальником КГБ, заглянул в глаза. Тот молчал. В лице ни одной мысли, ни любопытства, полное смущение и растерянность.
— Он посоветовал ему пинка под зад дать. Вот что мне ответил сам председатель парткомиссии — партийного суда над членами партии! Он этому антисоветчику даже значения не придал… Вот какая беспечность среди всех нас! Вы понимаете?
Марасёв покорно кивнул.
— Не так мы борьбу ведём с инакомыслящими. Не все среди них враги, но большинство. Не на Запад их выдворять следует, чтобы они оттуда безнаказанно помоями нас обливали и книжки там строчили. Тюрем у нас достаточно. Пусть в них и гниют. Молчаливы будут и всегда под рукой. Специально внесены недавно изменения в Уголовный кодекс. Теперь есть специальная статья. Что ещё думать? Она должна работать, а ведь не работает[16]. Есть в области уголовные дела этой категории, скажите мне?
Марасёв не знал, что ответить. Уголовных дел этой категории во вверенном ему учреждении не имелось, оперативные материалы были какие-то, но следователи собирались ещё до его поездки в Москву обсудить их в прокуратуре области и определиться, можно ли возбуждать уголовные дела, есть ли судебная перспектива. Стоит ли овчинка выделки? Окончательный результат ему не был известен.
— Опять вы молчите? Не знаете? Хорошо, не выкручивайтесь… А я вам сам скажу… — Боронин опять зашагал по берегу и опять через несколько шагов возвратился. — Нет у вас таких уголовных дел! Нет ни у вас, ни у прокурора! Ну а в милиции и подавно. Там художника того никак поймать не могут. А если повезёт и ненароком поймают, то по мелкому хулиганству пятнадцать суток дадут. И такое учудят. У них ума хватит…
Боронин опять осуждающе махнул рукой и, развернувшись, отправился в очередной променад по прибрежной травке.
Со стороны это, наверное, выглядело смешно и нелепо. Два мужика только что дружески беседовали в тенёчке под навесом и вдруг выскочили на солнце к воде. Один, возбуждённо вышагивающий вдоль кромки берега, метал громы и молнии, второй, в трусах по колено, навытяжку застыл столбом и слушал, не проронив ни слова.
Видимо, Боронин или устал от поучений, или начал понимать нелепость и комизм ситуации, только сейчас обратив внимание на голого человека, уже полчаса поедающего его глазами. До него наконец дошло, что перед ним стоит чекист, полковник, начальник областного управления КГБ. «Не пацан! Сам виноват, — подумал первый секретарь, — попался под горячую руку. А главное, что не спроси, ничего не знает. Как с таким этих диссидентов ловить?»
— Что стоите? Садитесь, — бросил он не глядя. — До конца следующей недели разберитесь во всём. Я в пятницу планирую у вас в Управлении совещание по этому поводу провести. Пригласите прокурора области. Соберите всех начальников отделов. Чтоб ясность была.
Майор Серков начинает: «е2—е4»[17]
Майор Серков со своими серыми стальными глазами, отточенными интеллигентными манерами и голубой сединой на висках хорошо смотрелся, особенно, когда надевал форму. Но и в «гражданке» он сражал сердца женщин наповал. Сам Серков, как и полагается офицеру госбезопасности, был давно женат, придерживался на службе и в личной жизни аскетических правил, хотя почему-то среди хорошо знавших его людей слыл сибаритом. Возможно, этому способствовала небольшая иллюстрация в рамочке, появившаяся на его служебном столе сразу после возвращения из «командировки» в Народную демократическую республику Йемен. На шикарной копии картины Гюстава Моро трепетали две красавицы, ласкающие чудных белых лошадей с длинными острыми рогами на лбах. Женщины были до неприличия обнажены, грациозны, а сказочные животные назывались единорогами.
Майор Серков выгодно отличался от своего закадычного друга, майора Казачка, черноголового весёлого хохла, начальника пятого отделения.
Жизнь требовала жертв и жаждала авантюризма после чудовищного разноса, учинённого накануне сотрудникам идеологического и следственного отделов, которые как раз и возглавляли друзья-приятели. Поэтому и собрались они сегодня в кабинете Тараса Казачка, удручённые и злые. Выкурив по сигарете у открытого окна, выходящего на кипящую эмоциями и летним оптимизмом улицу Светлова, майоры сосредоточенно уставились друг на друга, погрузившись в невесёлые мысли.
Было от чего.
В статистических отчётах и того, и другого действительно не было ни одной галочки, подтверждающей какую-нибудь активность их работы по борьбе с антисоветскими проявлениями местного населения, да и залётного контингента тоже. Беспощадная критика начальника КГБ Марасёва была не столько жестока и обидна, сколько справедлива.
Первым ожил Серков. Он мыслил гибче, глубже, подтверждая свою непререкаемую славу лучшего шахматиста среди сотрудников управления.
— Ну что, мой друг, — вежливо начал он, — начнём с классической схемы «е2—е4». Это начало всегда вело к победе белых.
— Не понял? — сощурил глаза на товарища Тарас Казачок. — Всегда и везде мы были красными?
— Думай, стратег, включайся. Мне представляется, тебе сегодня следует к твоим студентам отправиться, проведать их. Помнишь того, который теорией государства «общего блага» увлекался? Ты рассказывал, что он твоего Дворникова веселил?
— «Сенека», что ли?
— Он самый. И кто его кличкой такой наградил?
— Студенты — народ изощрённый. Больно уж тот задолбал всех цитатами этого римлянина. Сейчас, погоди, дай вспомнить…
— Напрягись, напрягись, друг мой.
— Вот, пожалуйста, не ты один кладезь мудрости…
— Давай, давай. Похвастай.
— Судьба движет нами, уступай судьбе! — выдал, поднатужившись, Казачок.
— Отлично! — зааплодировал без иронии Серков.
— Только в одном мы не можем упрекнуть жизнь… Она никого не держит против воли… Тебе нравится жизнь? Живи. Не нравится? Можешь вернуться туда, откуда пришёл…[18]
— Мрачновато. Но к месту, — одобрил Серков. — Это нам с тобой грозит, если ни одного диссидента не поймаем.
— Вивери милитаре эст![19] — вконец ошарашил друга Казачок.
— Это ещё что? — удивился Серков.
— Жизнь надо проводить в борьбе! — отчеканил Тарас. — Знать надо, майор. Этот девиз, похоже, может стать и нашим с тобой лозунгом на сегодняшний день.
— Лучше не скажешь, — поддержал друга Серков. — Откуда это всё у тебя? Ты меня, право, сразил познаниями.
— Это всё — известные изречения того древнего мудреца из Рима. Сенека ими бредил и императора Нерона доставал. — Казачок покопался в ящиках стола, вытащил папку с бумагами, открыл, полистал. — Запомнил я из отчётных записок, что мне недавно представил лейтенант Дворников. Он по моему поручению студентов с факультета истории в институте отрабатывал. Ему тоже приглянулся студент, на Сенеке помешанный, вот он подробный отчёт-фолиант и настрочил. Я им зачитывался долгими бессонными ночами…
— Занятный экземпляр, — задумался Серков. — Как фамилия студента?
— Сейчас посмотрю, — Казачок опять ткнулся в раскрытую папку. — Сейчас… Погоди… Вот, нашёл. Фамилия его знатная — Шальнов.
— Шальнов? Интересно…
— У него отец — кандидат наук. Преподает сам. Кстати, тоже философию. Читает диамат, истмат, историю КПСС.
— Наш человек.
— Наш до мозга костей.
— А сын, значит, увлекается древними греками, судьбой и государством общего благоденствия?
— Ты немножко перепутал, Валентин. Сенека не грек, он из Рима.
— Один хрен.
— Ты прав.
— Вот что я тебе скажу, мой друг. Займусь-ка я тем художником, которым Марасёв нас сегодня пугал. Пойду в управление, покопаюсь в милицейских материалах о художествах этого Пикассо. Может быть, они уже нашли его. Встречусь. Побеседую.
— Не дворянское это дело…
— Не скажи. Раз шеф задачу поставил, надо всё отработать. А ты уж попытай этого Шальнова. Чем тот занят? У них как раз сессия идёт, страда студенческая. Вот и поинтересуйся идеологической жизнью молодёжи. Да и поручи ребятам, чтобы встретились с Каряжиным, нашли того психа, который мавзолей у нас затевает строить.
— Ты думаешь, будет какой-то толк?
— В нашем безрадостном деле только ноги и кормят…
На том они и расстались.
Майор Валентин Серков с присущими ему аккуратностью и собранностью начал свою деятельность в УВД с тщательного изучения журналов сводок о происшествиях по области за два последних года. Он доложился руководству УВД, объяснил причину визита и, получив «добро», удобно устроился в кабинете своего давнего приятеля, бывшего работника их управления, а ныне начальника нового отдела в высшем аппарате областной милиции подполковника Шабазьянца.
Шабазьянц обрадовался старому другу, предложил по этому случаю коньячку, бутылку которого мигом достал из вместительного несгораемого сейфа, но Серков отказался, сославшись на ответственное поручение шефа. Посидели, поболтали, порассуждали об изменившихся временах и занудствах новых служебных стен, Шабазьянц вскоре убежал, оставив ключи, а Серков, успокоившись, открыл настежь окно, завалился с ногами на шикарный диван приятеля, поставив пепельницу на пол, закурил и погрузился в чтение невесёлых детективов местного пошиба.
Материал профессионального интереса не представлял, больше носил познавательный характер. Убийства, изнасилования, самоубийства — листал странички Серков — пропавшие без вести, обнаружение трупов, кражи, грабежи, прочая бытовая и уличная мелочовка…
Начинало надоедать, но время ещё позволяло поработать.
Он встал, походил по кабинету, размял затёкшие ноги. Кабинет при детальном осмотре ничем не напоминал своего хозяина. Жизнерадостный, полный энергии и отваги, неудержимый Шабазьянц, любимчик женщин и стариков, в прежней жизни до перехода на новую должность в милицию всегда был окружён молодыми людьми (он вёл этот сектор), смехом и яркими красками. Его кабинет в здании на улице Светлова всегда шумел молодёжью, стены были увешаны живописными изображениями горы Арарат, а стол завален душистыми цветами, будь то зима на дворе или осень.
Здесь же об Арарате, кроме бутылки армянского коньяка, которую обиженный хозяин забыл на столе, не напоминало ничего, а вместо живописных картин маячил одноцветный портрет настороженного вождя мировой революции.
Зря я так с Гамлетом, укорил себя Серков, несладко ему здесь, по всему видно. Ни за что огорчил приятеля. Тот к нему всем сердцем, а он его Марасёвым стращать стал. Добросовестный и бескорыстный армянин покинул их контору не по своей воле, а по указанию начальства: укреплять Министерство охраны общественного порядка чекистами решил аж Президиум страны. Шабазьянц тогда отказывался всеми правдами и неправдами, но его сманили погонами подполковника, и он сдался, хотя поначалу каждую неделю забегал в здание на улицу Светлова с бутылкой солнечного напитка. Так же радушно звал друзей отдыхать на лето к себе в сказочную Армению.
Мысли, навеянные грустным кабинетом, отвлекли от служебных забот; совсем расхотелось заниматься сводками, изучать эти трафаретные рапортички: убит, зарезан, ограблен, найден труп, повесился, объявлен розыск…
Серков без прежнего энтузиазма прилёг на диван, оставив фолиант с оперативной информацией на полу, затянулся душистой импортной сигаретой.
Вся эта размахнувшаяся по всей стране война на идеологическом фронте, о которой сосредоточенно заговорили с десяток лет назад, его за живое не трогала, а если быть совсем правдивым, он, как ни пытался, до конца не мог осмыслить её истинность и необходимость в той форме, как она велась.
Чекистом он стал не враз, наоборот, было время, когда и не представлял, что подобное может случиться. Военный сирота, сибиряк, комсомолец, пограничник, заканчивающий срочную службу, он был приглашён однажды командиром заставы на беседу с представителем округа. Так он, грезивший историческим факультетом и Древним Римом, попал в высшее учебное заведение КГБ вместо заветной студенческой скамьи и латинских манускриптов.
Но там, где он оказался, изучали не только историю и английский язык, которым он уже сносно владел; прежде всего налегали на восточные языки, которые пришлось выбирать, и, конечно, профессиональные дисциплины. Он выбрал арабский и язык народа, создавший христианство — религию мира. И не ошибся. После солдатских будней учёбе отдался с душой и страстью, так что спустя несколько лет, с блеском пройдя сито экзаменов, а затем стажировку в столице, судьбой был выброшен в таинственную романтику неведомых восточных стран.
Там романтика кончилась сразу по прибытии, но служба не удручала.
За границей перед сотрудниками советских органов обозначалась чёткая, ясная, строго очерченная программа действий, поведения и, можно сказать, образа жизни. Как задачи, так и территории были определены конкретными параметрами. Враг или противник, именуемый по обстоятельствам, известен, средства и методы борьбы до простого ясны. От и до. Чёрное и белое. Начало и конец. Единственное, что принималось с трудом, это жара и постоянная нехватка воды, опасность кишечных заболеваний и мучения от их последствий, ну и, конечно, перебои в общении с женским полом. Если от жары спасали укрытие и дребезжащие, словно тракторы, холодильники, от инфекций — таблетки, то от недостатка третьего ничего не спасало.
Однажды, в мае 1964 года, ему подфартило. По болезни — опять же жуткое расстройство желудка — свалился командир подразделения, вместо выбывшего начальника он угодил на шикарный теплоход «Армения», на котором огромная советская делегация под началом бывшего тогда руководителем государства и партии Никиты Хрущёва беззастенчиво и бесстрашно отправилась в путешествие к Древнему Египту.
Серков чудно провёл тогда время, служба была отдыхом и сплошным праздником. Ему посчастливилось увидеть последнее из сохранившихся семи чудес света — пирамиды в Гизе и Великого Сфинкса, а по завершении «командировки» он был представлен к награждению орденом самого Гамаля Абдель Насера и поощрён благодарностью отечественного руководства. Его ждали повышение в звании, в должности, новые командировки и поездки. Но вдруг всё внезапно оборвалось. Жизнь любит расставлять капканы там, где их никогда не ждёшь.
Поздней весной ещё 1963 года по обвинению в предательстве, измене родине и шпионаже Семичастный арестовал и предал публичному суду полковника Государственного разведывательного управления Олега Пеньковского. Для всех чекистов страны это был страшный удар. Если крах Сталина, позор Берии и других мелких сошек как-то чекисты пережили… Вроде вместе со всем народом, вроде сами были в подчинении, сами страдали… А этот был из современных, из молодых, из кадровых, их косточкой и их кровью!
Трагедия угнетала, но главное началось потом, после расстрела… Пошли инспекции, проверки, разбирательства… По указанию Семичастного, по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись», подвергали сомнению деятельность любого офицера, служба которого тем или иным образом соприкасалась с предателем. К несчастью Серкова, в одной незначительной короткой поездке тот оказался рядом.
Его особенно и не проверяли тогда. Слишком высоки были авторитет и заработанное к тому времени доверие. Его просто переместили.
Южный город, в котором он очутился, здание на улице Светлова, стали его конечным адресом в личном служебном деле. Он просился на родину, в Свердловск, но там вакансий не нашлось.
Не меняя профессии, пришлось примеряться к новой специализации. Следственный участок был ближе. Но привыкнуть к «гражданке» никак не мог. Здесь всё было другим. Свою страну с её организацией деятельности местных чекистских органов он не знал. А многое не понимал, рассуждая всё ещё так, как учили там, за границей. Появлялось новое ощущение, которое Серков запрятывал в глубины сознания, потому что побаивался поначалу — некоторые принципы и методы работы с населением он не принимал. Его жизненный опыт, служба, знания того, что было неизвестно обывателю, и того, чего большинству знать совсем не положено, сыграли с ним злую шутку. Надо было уходить в отставку, но он всё как-то откладывал…
С Шабазьянцем, в кабинете которого он сейчас коротал время, они сошлись сразу, видимо, их сблизило то, что оба не были местными, оба служили за границей, оба прошли через жернова незаслуженной кары. Правда, у Гамлета были субъективные причины вынужденного перемещения: «за бугром» у него не заладилось с молодой женой. Шабазьянц приревновал её к сослуживцу и попал в историю. Дело, начавшееся житейской потасовкой, для обоих чуть не обернулось позорной отставкой. Но начальство сжалилось — и тот, и другой имели заслуги, у Гамлета к тому же отец служил в ЦК Армении, поэтому всё завершилось вполне благополучно, если не считать, что ответственный родитель затаил на провинившегося сына обиду и видеть его дома не захотел.
С Шабазьянцем Серкову было хорошо, они не задавали друг другу глупых вопросов, не расспрашивали о личном, то есть в душу не лезли, не философствовали на посторонние темы — о будущем, об истине, о вечном…
Шабазьянц быстро женился второй раз, и они дружили уже семьями. Но потом Гамлета осчастливили милицейским назначением, видеться они стали реже, отношения похолодели, но не умерли, а встречи были радостными. Они, непьющие, напивались оба, как сорвавшиеся алкаши.
А в этот раз…
Да, обидел он, конечно, Гамлета. Что говорить, приятель ищет забвения, где-нибудь распекая подчинённых, что-то не спешит возвращаться… Ничего, остынет, прибежит. Серков глянул на торжествующую на столе бутылку коньяка, та не покачнулась. Ждала своей участи. «Жди, жди», — сказал ей Серков и зашелестел листами оперативных сводок.
Ему понадобилось ещё около двух часов, чтобы додолбить начатое до конца. То, о чём выкрикивал Марасёв на совещании, было там, где и положено быть.
Вот эта злосчастная информация… Серков дважды внимательно прочитал донесение. Как же его без интереса оставили оперативники управления Комитета? Удивительное дело! Они объяснили, что приняли за обычное хулиганство, и посчитали — милиция сама разберётся… Да, дела… А может, их смутило и насторожило, что правонарушитель не был установлен? Это ближе к истине. Вот разгильдяи! Но это уже заботы начальства. Ему бы свои проблемы разрешить. Сводка гласила:
«Утром… в центре города… на стенах ряда жилых домов и торговых зданий, а также на стенах Кремля прохожим замечены были размалёванные коричневой краской фашистские свастики. Их насчитывалось более тридцати штук. Также на стене Кремля имелась надпись, выполненная той же краской: “Смерть коммунистам!”
Принимаются меры к установлению правонарушителя, привлечению его к ответственности. Надписи уничтожены до массового выхода населения на улицы города…»
«Истинно, милицейский колорит подачи информации, — оценил прочитанное Серков. — Полный нуль, но какой оптимизм взгляда в будущее!»
Надо было заняться поиском концов, но Шабазьянц проявлял полное равнодушие к товарищу. Серков набрал по телефону дежурного, попросил найти подполковника. Ждать ему пришлось долго — Гамлет коварно мстил за обиду и наслаждался мщением. Этим чувством так и была наполнена его физиономия, когда он наконец появился.
Серков быстро исправил ошибку и взмолился:
— Дорогой, сколько я могу тебя дожидаться? Издеваешься, да?
И он кивнул на коньяк.
Этим он мгновенно искупил вину и получил прощение.
Когда гвалт по поводу инцидента улёгся и друзья, выпив по второй — за встречу и по третьей — за здоровье друг друга, успокоились, закурив по сигаретке, Шабазьянц поинтересовался:
— На кой шут понадобилось генералу гонять тебя в дежурную часть? Неужели действительно ему нужен тот пьянчуга, что разукрасил Кремль? Что ему серьёзных дел не хватает?
— Дел хватает. Не заводись, — степенно остановил горячего приятеля Серков. — Никак ему обиды не простишь за свой уход?
— Э, дорогой! — Шабазьянц вскочил на ноги. — При чём здесь мой уход? Каждый должен заниматься своим делом. Нам — пьяницы и общественный порядок! Вам — шпионы!
— Не горячись. — Серков отошёл к окну, дал товарищу успокоиться. — Раз поручил мне, значит, понадобился ему этот художник. Кстати, нашли его твои милиционеры?
— Почём я знаю, дорогой? — развёл руки подполковник. — Я эту службу и не курирую вовсе. Хочешь, спрошу у Лудонина? Нет. Думаю, он тоже такими мелочами заниматься не будет. Скорее всего, материал направили в райотдел милиции. Там и искать концы надо. Где это было?
— В центре города. Вот сводка.
— Кировский район… Сейчас найду по телефону начальника. Он тебе всё выдаст. Что тебя интересует.
— Фамилия интересует.
— Получишь и фамилию, и имя, и отчество, — уверенно успокоил друга Шабазьянц.
Начальника райотдела на месте не оказалось. Дежурный доложил, что тот выехал на место происшествия — в районе обнаружен труп с телесными повреждениями.
— Вот видишь, — обернулся к Серкову Шабазьянц, — люди делом заняты. Убийство в городе, а вам мелкий хулиган понадобился!
— Слушай, Гамлет, дружище, — затянул Серков. — Давай, выручай! Я сегодня хотел все точки расставить. И так день целый угробил. Свяжись с заместителем. Выяснить надо про этого Пикассо.
— Гамлет, мой друг, своё дело знает, — оживился подполковник. — Гамлет расшибётся, а из-под земли тебе достанет и Пикассо, и микассо. Ты что, уснул? Наливай ещё, дорогой!
…Ни Пикассо, ни микассо в тот день друзьям разыскать не удалось. Более того, вызванный в кабинет и прибывший по требованию Шабазьянца заместитель начальника райотдела, грузный усталый капитан милиции, по виду и возрасту — два дня до пенсии осталось, вытянувшись у двери, дрожащим голосом доложил подполковнику, что неизвестный так и остаётся по сей день неизвестным, то есть неустановленным, но меры по его розыску, конечно, предпринимаются, несмотря на три нераскрытых умышленных убийства, двенадцать грабежей и большое количество краж. Числа их он перед большим начальством назвать поостерёгся.
— А у вас ещё что-либо подобное в районе случалось? Материалов аналогичного содержания не поступало? — безнадёжно поинтересовавшись больше для проформы, нежели для интереса, задал вопрос не вмешивавшийся в шумный диалог двух милиционеров Серков.
Заместитель начальника наморщил лоб.
— У нас ничего такого не было. Это впервые, товарищ…
— Майор госбезопасности, — подсказал Шабазьянц.
Заместитель начальника онемел и застыл.
— Майор! Майор перед тобой! — подтвердил, повысив голос Шабазьянц. — Только из госбезопасности! Ясно? Будут они тут у нас шантрапой заниматься… Ты знаешь, кого ищем, капитан? Понимать должен! А ты мне тут сказки про убийства нераскрытые рассказываешь… Оправдываешь своё безделье! До сих пор преступник на воле бегает! Сейчас другие ворота где-нибудь разрисует…
Шабазьянц не закончил, осознав нелепость своей тирады, но не смутился, а стукнул кулаком от избытка своего армянского характера по столу.
Бутылка покачнулась и упала. Она была пуста, но Серков ловко её подхватил и опустил на пол.
В повисшей мёртвой тишине голос ожившего замнача, так и стоявшего навытяжку у дверей кабинета, был внятен и разборчив:
— У нас не было, а вот на днях розыскную ориентировку из столицы получили, я участковых и уголовный розыск знакомил, думаю, она как раз интерес для вас представляет.
— Что за ориентировка? — в один голос выпалили друзья.
— Она при мне. Вечером хотел показать ночным патрульным, а утром тем, кого сегодня не удалось ознакомить.
— Давай сюда, — пригласил Шабазьянц замнача за стол. — Присаживайся, капитан. В ногах правды нет. Показывай.
В ориентировке значилось, что несколькими днями назад в столице в районе Павелецкого вокзала во время нападения на пассажира, прибывшего поездом «Астрахань — Москва», неизвестным преступником путём ограбления похищен чемодан жёлтого цвета. Преступник скрылся. Потерпевший отбыл в неизвестном направлении, не дождавшись возвращения похищенного. На месте нападения осталась шапка рыжего цвета. В чемодане вещи, бумаги. Руководству всех милицейских региональных структур предлагалось принять меры по установлению личности подозреваемого и потерпевшего и сообщить в линейный отдел. Тут же приводились приметы обоих.
— Ну и что, капитан? — не понял ничего Шабазьянц. — Ты что нам опять с майором головы морочишь? Что тут для него интересного?
— А вот что! — даже привстал от важности замнач и, вытащив из того же кармана кителя вдвое сложенный лист бумаги, развернул перед носом подполковника.
Серков тоже потянулся к листку.
Листок ничем особенным не поразил на первый взгляд ни его, ни тем более Шабазьянца. Только внимательно вглядевшись в фотокопию, Серков прочитал начало рукописного текста: «Внимание всем гражданам СССР! Мы объявляем решительную и беспощадную войну врагам, предавшим дело великого Ленина…»
В конце листа стремительно летела вместо подписи строка: «Смерть коммунистам!»
Кто ищет, тот всегда…
Как только Тарас Казачок попадал в студенческие заведения, в толкотню, в шумную весёлую суету молодых здоровых тел, разноцветных, разномастных, один на другого не похожих, но каждый — апломб и личность, — он впадал в ностальгию и вспоминал альма-матер, Воронежский университет и…
И грезил наяву.
Педагог по профессии, комсомольский вожак по призванию, чекист по приказу, Тарас стеснялся приглашать друзей по службе в дом, так как дом его был завален всем тем, что отражало его истинную сущность и копилось годами: дедом — учителем от бога, отцом и матерью — учителями по подражанию старшему, им самим — учителем по сердцу и душе. Все комнаты, кроме кухни, были завалены книжками, и ни одна из них не напоминала о его нынешней профессии и «героических буднях».
Был он учителем, а теперь вот стал чекистом.
И длилось это «недоразумение» почти одиннадцать лет.
Но Любанька, жена его верная, знала, что когда-нибудь это всё кончится. И муж вернётся…
А пока…
Тарас Казачок поводил носом для продления удовольствия, пока декан его не застукал, побродил-послонялся по длинным коридорам, по этажам. Даже пиджак, как некоторые из молодых, заломил назад с плеч и… очнулся на третьем этаже. А навстречу ему поспешал, сторонясь препятствий, тот, к кому он, собственно, и стремился — руководитель исторического факультета Иван Максимович Петров.
Пока Казачок плутал, блаженствуя, декану уже, конечно, доложили о его визите, тот сообщил ректору — и кончился свободный полёт. Тарас смутился, не знал, куда деваться. Не успел он пообщаться с народом.
Можно было, конечно, соблюсти традицию — вначале заявиться к начальству. Но попади к ректору, сколько времени потеряешь, а узнать что-нибудь из жизни «низшего звена» вряд ли удастся. Так, общие словеса да лозунги.
— Я на секунду, Иван Максимович, — потрепал Казачок по плечу декана. — Уже убегаю. Извиняйте.
— К Николаю Константиновичу зайдёте?
— Нет-нет, — поднял руки Казачок. — Отзвонишь ему. Меня уже нет.
— Ректор мне не простит…
— Ничего. Вали на меня все шишки.
— Тарас Иванович, вы же знаете, Николай Константинович любит во всём порядок. Достанется мне, — заканючил декан.
— Иван, давай без церемоний. Действительно, я спешу. Объяснишь потом.
— Тогда чем обязан?
— Вот это другой разговор. Мне Сенека твой нужен.
— Сенека?
— Ну да. Студент тот. Ты мне рассказывал. Дворников все уши прожужжал?
Они всё-таки зашли в кабинет Петрова. Декан услужливо пододвинул стул гостю, сам плюхнулся рядом.
— Кофе, Тарас Иванович?
— Не можешь ты, Иван, без этого. Говорю же, нет времени совсем.
— Видимся раз в год, — обиделся Петров, — и всё на бегу.
— Как раз в год? А Дворников мой у тебя неделю загорал? Быстро ты нас забываешь!
— Так это ж Яков Евгеньевич, — декан поправил на Казачке пиджак. — Как? Кофейку нам Нэлечка сообразит?
— Жарко. Кофе не хочу. Угости водичкой.
— Нэлечка! — крикнул Петров за стенку и для верности стукнул слегка рукой.
На пороге выросло длинноногое, почти голое существо. Как оно разместило свои прелести в то, что, наверное, называлось юбкой и кофтой, Тарас представить не мог.
— Нэля Иосифовна, — застеснялся её притягательности декан, — принесите нам с Тарасом Ивановичем водички.
— «Боржоми»? — улыбнулась Тарасу девица.
— «Боржоми», Тарас Иванович? — повторил галантно Петров.
— Сгодится, — махнул рукой Казачок и скинул пиджак, — только похолодней.
Блондинка, не торопясь, развернулась, статью не уступая ничуть океанскому лайнеру «Украина». Со спины ещё аппетитней. Майор едва не забыл, зачем он здесь. Но это было лишь минутное замешательство. Петров напомнил ему о себе и вернул к жизни:
— Значит, Дворников вам рассказывал о Шальнове?
— Да. Мне с ним потолковать надо.
— К сожалению, Тарас Иванович… — развёл руки декан.
— Что случилось?
— Нет Шальнова в институте.
— Заболел?
— Сессия идет полным ходом. А он пропал.
— Как пропал?
— Отца его, Шальнова Дмитрия Гавриловича, не знаете?
— Дворников вроде что-то говорил. Да, Серков мне о нём рассказывал.
— Слышали, конечно… Не могли не знать. Кандидат наук. Преподаёт в соседнем вузе марксистскую философию и историю партии. Я его к себе на кафедру хотел пригласить. Но он отказался. Там у себя, конечно, он без пяти минут… а я здесь ему… Одним словом…
— Так что же случилось с его сыном? — поторопил декана Тарас.
— Позвонил мне Дмитрий Гаврилович. Спросил о сыне. Говорит, утром убежал в институт и не возвратился. У них вроде накануне ссора произошла из-за матери. Он предположил, не уехал ли сын к ней. В Иркутск.
— В Иркутск? Не ближний свет… А что же, они раздельно проживают?
— Развелись давно. Сын ещё маленьким был. По большому счёту, бросила она их. Сына Дмитрий Гаврилович один воспитывал. Долгая история. Я толком не знаю. Он сам из-за этого больше не женился.
— А сын с матерью не общался?
— Запретил ему отец. Да и она-то особенно не старалась. Впрочем, не знаю я, Тарас Иванович. Не до этого, сами понимаете. У нас не школа.
— Да, да… Когда же это случилось?
— Не понял? Развод, что ли?
— Да нет. Когда сын уехал?
— Ну не знаю, Тарас Иванович. Отец позвонил неделю-полторы назад. А потом был у нас в институте, заходил ко мне. Искал друзей сына, хотел с ними поговорить, выяснить… Умный мальчик. Интересный. Авторитетом пользовался. А тут? Что случилось?
Нэлечка, мелькнув смелым декольте, проплыла мимо Тараса, элегантно поставила на стол раскрытую бутылку «Боржоми» и два стакана на подносе. Он жадно плеснул воду в стакан, залпом осушил. Нэлечка исчезла, как мираж, за дверью.
— Весна, юность, романтика? — предположил Казачок. — За Урал потянуло пацана. Байкал посмотреть, с матерью повидаться. Это бывает в таком возрасте… У них это называется «переоценкой ценностей». Отец надоел своими мудростями, захотелось глотка свободы.
— Да, это у них бывает, — поддакнул декан, — молодёжь сейчас пошла — глаз да глаз нужен.
— Как обстановка в институте?
— Да вроде всё нормально. Сессию переживаем как обычно.
— Иван Максимович, ты мне адресок их дай. Забегу я к Шальновым. Может, вернулся пропащий.
— Объявился бы, — засомневался декан и закричал за стенку: — Нэлечка!
— Как наш брат, студент? Какие знания показывает на экзаменах? Чем живёт, о чём думает?
— Студент как всегда бодр, Тарас Иванович. Его, вы знаете, никакая сессия не страшит. Ему бы только знать, какой экзамен завтра сдавать, — декан хмыкнул в кулак незлобиво. — Не то, что нам доставалось. Напоены. Накормлены. Сейчас зачеты подгоняем. У некоторых «хвосты». Обычная обстановка. А там экзамены.
— Кружки по интересам? — вдруг вставил Казачок.
— Какие кружки? Бог с вами, Тарас Иванович! Не до этого им.
— Самодеятельность? Самиздат? — не унимался гость.
— Какая самодеятельность? Про всё забыли. Самая горячая пора наступает. А ещё что-то вы спросили? Я не понял.
— Самиздат. Не слышали?
Декан упёрся непонимающим взглядом в Казачка. Кроме недоумения в его глазах, Тарас, как ни пытался, ничего не разглядел.
— Газету, как положено, на каждом курсе издают, — зная, что чекист просто так странных вопросов задавать не станет, медленно проговорил Петров. — Висят ещё на стенках. Не готов сказать, за какой месяц. Должно быть, первомайские… Нет. Ко Дню Победы…
— Стенгазета — это дело нужное. Это печатный орган молодёжи. Средство, так сказать, массовой информации. А не слышали часом о так называемых «Хрониках»? Не залетали к вам такие листочки?
Некстати в дверях появилась Нэлечка.
— Нэля Иосифовна, дайте нам домашний адрес студента Шальнова. Телефон, если имеется.
Петров дождался, пока секретарша выплывет за дверь, повернулся к чекисту.
— Тарас Иванович, будьте любезны, просветите, что за хроники?
— Листовочки диссидентские, — Казачок ещё налил себе водички, так же залпом выпил. — Не появлялись?
Петров даже вскочил на ноги, замахал руками:
— Только этого добра не хватало!
— А что, есть другое добро, что вас допекло? — не моргнул глазом Тарас.
— Что вы! Что вы, Тарас Иванович! — Петров ещё больше разволновался. — Сглазите! От одной сессии голова кругом идёт! Дмитрий Гаврилович со своим пропавшим сыном покоя лишил. А тут вы с какими-то листовками! Я слышал краем уха, что в Москве безобразничают. Но у нас-то, я надеюсь, всё пока спокойно?
— Вот-вот. Пока. Не замечали среди своих? Фрондисты не появлялись?
— Слова-то какие! Во Франции, помнится, политическое движение было…
— Память тебя, Иван, не подводит. Не приведи, как говорится, чтобы до нас докатилось.
— Неужели всё так страшно?
— Не паникуй. Но Юрий Владимирович в ЦК информацию давно направил…[20]
— Вот даже как?..
— Привыкай. Не теряй, как говорится, бдительности.
— Страшные вещи говоришь, Тарас Иванович.
— Знаю тебя, поэтому и говорю. Предупреждаю, так сказать. После ввода наших войск в Чехословакию всё обострилось. Митинговать полезли. На Красной площади завозились. Да слышал небось, Иван? Всё гудело.
Петров, конечно, слышал, но вида не показывал, пожимал плечами, возмущался, переспрашивал. Тарас не стал настаивать, что не верит в наивность декана. Пусть себе ломается.
— Ну, меры к ним, конечно, приняли. Какие положено, по закону. Некоторые унялись, в Израиль укатили. А эти остались. Бюллетень о нарушениях прав советского человека начали выпускать. Самиздатом. Назвали их «Хрониками».
— Вот оно что? — взмахнул руками декан. — А к нам-то зачем, Тарас Иванович? Что, подозрения есть? У нас они появились?
— Пока информацией такой не располагаем, — буркнул Казачок. — Но руку на пульсе держать следует.
Петров замер, вытянулся, уставился на чекиста. Страшная догадка зародилась в его голове. Взмокла сразу рубашка на спине.
Тарас понял его по-своему. Спросил:
— Что, Иван? О чём вспомнил? Говори. Не стесняйся.
— Вы думаете, Тарас Иванович, в этом деле замешан Шальнов?
— В каком деле? Ты что несёшь?
— Листовки эти?
— Так ты же говоришь, у вас ничего не было? Никаких листовок?
— Не было…
— Ну?
— А что же вы его ищете?
— Тьфу ты! — чуть не выругался Тарас. — Вот так у нас тридцать седьмой год и появился!
Декан совсем потерялся, не знал, что делать, что сказать.
— Нужен мне твой студент. Пообщаться с ним хотел. Может, нам подойдёт. Голова у него светлая. Дворников мне о нём рассказывал. Адрес его ты мне дашь или нет?
— Нэля Иосифовна! — подскочил к двери декан.
Завладев наконец листочком с адресом, Казачок распрощался с Петровым и выскочил из дверей института. «Вот так хорошее начинание становится в тягость из-за одного зануды», — руганул про себя Тарас декана.
И всё-таки на улице было неплохо. Тарас встряхнулся, словно дворняга, залежавшаяся в подворотне и решившая размяться. Свежий ветерок ополаскивал лицо. Он сбросил пиджак и закинул его на плечо. Всё вокруг бежало, шумело, радовалось весне, хотя тени от деревьев и зданий заметно удлинились и жаркий шар, отгуляв по небосводу, стал заметно клониться в сторону Волги. Туда Тарасу и надо было держать путь.
Хотелось есть. Он взглянул на часы и охнул, не заметил, как добрых три часа проваландался с Петровым. Но надо было поспешать. Если повезёт и удастся застать Шальнова-старшего, а возможно, и сына, то рабочий день этим и закончится. Задачи, поставленные на вторую половину дня, он тогда решит, не надо будет дёргаться ещё и завтра. С утра придётся — нож острый под сердце — садиться за писанину и высасывать из пальца докладную записку начальнику управления к совещанию, которое Марасёв запланировал на пятницу. Писать да ещё обязательно выступление готовить — генерал обязательно его вытащит на трибуну отчитываться о проделанной работе. Хошь не хошь, а никуда не деться, сам первый секретарь в кои веки пожалует к ним в контору. Так просто Боронин такие мероприятия не проводит: раз он заявится, значит, жди назиданий и взбучки. Последний раз видели его на профессиональном празднике, да ещё как-то приезжал представлять нового начальника, а так — редко даже на годовых итоговых совещаниях бывал. Его больше проблемы промышленности и сельского хозяйства достают. И это, наверное, правильно, решил для себя Тарас, по всем его данным, именно там и были наибольшие прорехи в экономике области, а значит, тут и надо упираться первому секретарю обкома партии.
Дом, куда так спешил Казачок, находился в новом районе застройки, недалеко от стадиона. Хороший район, звонкий от детских голосов, весёлый от новосёлов, зелёный от многочисленных деревьев, и до берега Волги рукой подать. Повезло людям, поселившимся в пятиэтажных и семиэтажных зданиях, и институт рядом — пешком пройтись — одно удовольствие.
Тарас, крутя головой направо и налево, принялся отыскивать нужное здание. Путаницу доставляла новая нумерация домов, раньше их из-за малого наличия считали один за другим, теперь они были рассыпаны, как грибы в буйной хаотичности, и поэтому приобрели приставки к номерам в виде ещё неосвоенных наименований: «корпус два», «корпус три» и так далее. Поиски затянулись. К тому же Тарасу покоя не давали «нули» в статотчётах, которыми тыкал им под нос Марасёв.
Хорошо ещё, что он незадолго до этого рассредоточил своих оперативников в вузы и техникумы. В наиболее солидные гуманитарные — Дворникова, своего зама, направил. Тот постарался, собрал богатый материал, есть над чем поразмыслить, проанализировать, идеологическую справку составить. Общая картина сомнений не вызывает, положительную оценку политическая обстановка среди молодёжи, обучающейся в вузах, безусловно, заслуживает. А конкретные примеры, как раз ими собраны. Мало вот помощников, на которых можно постоянно опираться чекистам, они подобрали. Можно было бы и побольше. Нет, секретари партийных, комсомольских «первичек» — это само собой разумеется, не в них дело, не хватает рядовых. Вот таких, как этот «Сенека», то есть Шальнов-младший.
Казачок сразу отметил, как затрясся, заволновался Серков, когда он ему об этом студенте рассказывать начал. Почуял, что «запеленговать» такого толкового, да ещё мыслящего парня — это удача и перспективная «единица» на будущее. До окончания института тот постоянно «нарабатывать информацию» будет, а после окончания сама судьба повелит бегом в Комитет — готовый оперативный работник для управления госбезопасности. Нет, не успеет Валентин заарканить пацана. Не даст он ему верного помощника[21] в отдел, хотя и товарищ ему Серков. Но дружба дружбой, а сахарок… Да и нет в этом какой-либо несправедливости или корысти. Дворников открыл студента, а он первым глаз на него положил, так что не обидится Серков, ишь, навострил уши, разведчик!
Поэтому-то Казачок так и помчался, не теряя ни минуты, из управления в институт. Он знал, Серкову форы давать нельзя. Успех из рук улетучится, как дым. Тот ещё перехватчик!
А мальчишка действительно толковый, такой как раз его отделу необходим. Сам во многом разбирается, много знает, начитан, прекрасно учится. Это хорошо, что рассуждает о проблемах сам, не повторяет за чужими, словно попугай. За собой способен повести. Лидер, хотя и есть один недостаток. Дворников рассказывал, «Сенека» не в отца пошёл, в мать, наверное, хотя её никто не видел. Отец пацана — фронтовик, кадровый, можно сказать, партиец. Не только по мозгам и душе. Всю жизнь так прожил и других теперь учит. Сам воспитал себе смену! Такому мальцу как раз к ним в контору. Истинный чекист получится! Но червоточина была в другом. Хилый здоровьем «Сенека». Отец, расписывал ему Дворников, в молодости, видать, исполином былинным был, а сын — тень его. Если к спорту не пристрастить, сгодится только на аналитическую работу. Тоже, конечно, пригодится, но хотелось бы по полному раскладу…
Казачок замечтался, наткнувшись на обломки кирпичей, попавших под ноги, чуть не упал, но удержался.
С помощью двух юрких пацанов ему наконец удалось отыскать нужный дом. Тарас почти бегом поднялся на третий этаж, нажал на белую кнопку звонка. Дверь долго не открывалась. Не слышно было и шагов за ней. Ничего удивительного нет. Отец, вполне возможно, ещё читает лекции в институте, к тому же у них тоже экзаменационная пора началась, а юнец ещё не возвратился из путешествий…
Дверь скрипнула и приоткрылась. По тому, как это произошло, Тарас догадался, что хозяин квартиры давно изучал его через глазок, прежде чем принять решение: впустить или, не отвечая, неслышно отойти. Это слегка насторожило.
В темноте дверного проёма, в образовавшуюся щель хозяина почти не было видно, лишь силуэт громоздкой мужской фигуры подтверждал, что там стоит человек. Силуэт безмолвствовал. Не спрашивая, не шевелясь.
— Гостей не ждёте? — беззаботно толкнулся в дверь Тарас.
Ни звука. Как будто и не было вопроса.
— Я к вам, Дмитрий Гаврилович. Петров с истфака до вас дозвонился?
— От Петрова? — скорее фраза возвратилась к Тарасу из тёмной комнаты, отразившись эхом от затаившихся стен, нежели её произнёс человек.
— Майор госбезопасности Казачок, — Тарас протянул в темноту раскрытое удостоверение, но, поняв, что там его не разглядеть, отошёл от двери на шаг и повернул красные корочки к свету. — Вот удостоверение. Войти-то можно?
Щёлкнул выключатель. Дверь приоткрылась шире, тусклый электрический свет упал на лицо человека. Тарас невольно отпрянул назад. Было это лицо безумца или тяжело больного измождённого человека. На бескровной серой маске чёрными впадинами зияли глазницы со сверкающими из глубины зрачками затравленного существа.
«Или пьян до беспамятства, или болен тяжко? — мелькнула у Тараса мысль. — Что же Иван меня не предупредил? Вот влип. Мальчишка пропал, вот он и мучается».
А вслух произнёс:
— Дмитрий Гаврилович, у вас всё нормально? Помощь не нужна?
— Заходите, — то же глухое эхо прозвучало в ответ, человек тяжело развернулся, вяло, неуверенно ступая, исчез из прихожки, растворившись в глубине квартиры.
Спиртным не разило, не ощущалось и запаха лекарств. Давила затхлость давно не проветриваемого холостяцкого жилища, едкий дух переполненного общего вагона. Его затошнило, он двинулся за хозяином с единственным желанием — поскорее довести начатое до конца и, конечно, распахнуть окно, впустить в помещение свежий воздух. Первая комната, в которой он оказался, тонула в полумраке, свет едва проникал сквозь закрытые шторы на единственном окне. Казачок хотел было их раздвинуть и уже двинулся вперёд, но его остановил всё тот же глухой неживой голос:
— Не надо. Я включу лампу.
Действительно, раздался щелчок, и засветился глазок ночника над диваном, где и разместилась громоздкая фигура.
Хозяин безмолвствовал, не спрашивая ничего, не приглашая сесть, не объясняя причин недружелюбного приёма. Казалось, он ждал объяснений от гостя. Его нисколько не удивило посещение человека с неординарным удостоверением. «Он сильно болен», — ещё раз отметил для себя Казачок и огляделся. Комната не была маленькой, но в тесную она превратилась благодаря своим владельцам. Кроме огромного, почти во всю стену дивана, в середине стоял большой круглый стол; но это ещё не всё: у окна высился другой стол квадратной формы, где горками громоздились книжки и прочая масса мелких предметов, среди которых наиболее различимой была настольная лампа. Видимо, это был рабочий стол хозяина, где он занимался после института. Вдоль стен до самого потолка выстроились добротные, крепкие книжные шкафы. Комната имела вторую дверь, которая была приоткрыта, оттуда струился солнечный свет и свежий воздух. Там была жизнь. «Должно быть, комната сына», — решил для себя Казачок.
Пауза затягивалась. Приглашения присесть он так и не дождался, поэтому ещё раз представился:
— Майор областного управления госбезопасности Казачок… — Тарас поискал глазами удобный стул. — Дмитрий Гаврилович, вы здоровы, помощь не требуется?
— Я полагаю, вы не за этим сюда прибыли, — человек на диване пошевелился. — Не меня спасать…
Тарас счёл нужным промолчать, нежели дискутировать по поводу причин своего прихода.
— Раз пришли, спрашивайте. Я вполне здоров, чтобы отвечать.
— Я только что от Петрова. Был на кафедре. Иван Максимович рассказал, что у вас сын пропал?
В комнате опять повисла пауза.
— С каких пор мальчишками стал интересоваться Комитет безопасности страны?
Казачок ждал завершения фразы, но Шальнов закашлялся, захрипел, задёргался всем своим громоздким телом на диване так, что тот жалобно заскрипел.
— Мой сын что-то совершил противозаконное? — наконец донеслось с дивана.
— Не думаю, — Тарас всё же сел на стул, выбрав один из стоящих близ круглого стола. — Мне о вашем сыне ничего предосудительного неизвестно. Скорее, наоборот. Петров характеризует его способным студентом. Он сказал, что ваш сын перестал посещать занятия в институте… А вы сами были у декана, разыскивали его…
Тарас остановился, вгляделся в человека на диване, но ничего, кроме тёмной непроницаемой маски вместо лица, различить не смог.
— Дмитрий Гаврилович, вы меня извините, но позвольте я открою вот эту дверь. Воздуха не хватает, дышать нечем. Да и вам лучше будет. Вы, если что, прикройтесь чем-нибудь. Одеялом, что ли? Уж больно душно здесь у вас.
Тарас, пока всё это говорил, встал, схватился за спасительную дверь в комнату сына Шальнова. Дышать действительно было трудно в густом застое спрессованной затхлости. Он распахнул дверь, не дождавшись ответа.
В комнату вместе с дневным светом ворвалась волна свежести. Тарас шумно с облегчением вздохнул. Удивительно, но на диване его выходка протестов не вызвала. Даже, наоборот, Тарасу показалось, что и там настроение как будто изменилось.
— Зачем же он вам понадобился? — вопрос прозвучал настойчиво и даже требовательно.
Таким тоном Шальнов-старший, видимо, разговаривал со студентами. Строгий дядька, невольно зауважал его Казачок, гоняет, наверное, пацанов почем зря. У такого зачёт на халяву не сдашь. Хотя, строгость для таких наук, которые он преподаёт, необходима, это не география какая-нибудь или ботаника. История коммунистической партии!
Тарас свободнее уселся за круглый стол, вглядываясь в окружающее с возрастающим интересом. При ярком дневном свете мерзопакость ощущений исчезла, предметы и вещи обрели свои очертания и ясность, даже лицо Шальнова-старшего перестало внушать тревогу. Да, оно было необычайно бледно, безрадостно, но это было лицо нормального, сильно состарившегося человека. Лоб, щёки, рот, шея — всё разрисовано, исчерчено морщинами, но откуда взяться красоте при таком возрасте? Шальнов-старший изучал гостя внимательно и настороженно. Он ждал ответа, а не дождавшись, спросил снова:
— Вам что-нибудь известно об Антоне?
— Сколько дней его уже нет? — Тарас не любил вопросов, ему нравилось самому их задавать, профессия — не попрёшь.
— Третья неделя пошла.
— У вас есть какие-нибудь предположения?
— Не знаю… Не склонен гадать… Не думал…
— Как так? Ваш сын пропал, а вы?
— Нет. Я, конечно, имел предположения. Поделился ими с Иваном Максимовичем…
Дверь затворилась. Видимо, самопроизвольно, тут же ослаб ветерок. Тарас встрепенулся.
— Я с вашего разрешения? — он встал и направился к двери.
— Да, да. Вы пройдите в комнату Антона. Там окно. Откройте его и закрепите как следует. А то так и будет болтаться… — Шальнов-старший попытался приподняться с дивана, но махнул рукой.
Он оживал на глазах. Свежий воздух, свет, а может быть, и гость с некоторых пор стали действовать на него явно благотворно.
Комната сына разительно отличалась от отцовской. Мебели здесь почти не было, возможно, поэтому она казалась просторной и привлекательной. Койка, столик, над ним маленькая фотография в деревянной самодельной рамке. Со снимка смотрела смеющаяся девочка-девушка. Тарас нагнулся, вгляделся. Нет, это была взрослая женщина, но очень красивая и до детскости молодая. Это и есть «изменщица», понял Тарас. Он открыл и укрепил захлопнувшееся от ветра окно и заторопился назад, но замер. Вещь, явно выпадающая из ансамбля предметов, составляющих эту комнату, заставила его остановиться. В углу прислонённый к стене стоял на длинных ножках видавший виды мольберт. На полу рядом лежала пустая бутылка из-под красного вина. Вино давно вытекло, если запах и был когда-то, то улетучился, пролитое темнело пятнами. Тарас развернул подрамник к себе. Мрачная акварель предстала ему.
Это был берег реки. Чёрный холм возвышался, притягивая глаз. Внизу тёмная стремительная вода. Вверху предгрозовое чёрно-синее небо без единого просвета. Несколько белых тонких берёзок, покосившихся от ветра, совсем с краю, и пеньки спиленных деревьев.
Ни кисти, ни красок, ни других принадлежностей автора-живописца. Мольберт и мрачная акварель чужими были в этой светлой, пронизанной солнцем, комнате…
— Я предполагаю, сын уехал к матери, — встретил возвратившегося Казачка хозяин. — Антон давно интересовался, где она, как? Но я не спешил рассказывать. Не хотел бередить ему душу. Он матери почти не видел… Не знает…
— Сессию завалит, — констатировал Казачок. — Вот молодость, что творит… Не вовремя.
Он присел за стол, огляделся. Порядка в комнате, конечно, не было. Но и скандального безобразия тоже не наблюдалось. Гнетущую обстановку создавали темнота и поведение хозяина на первых порах. Сейчас, при свете, всё переменилось. Квадратный стол действительно был завален, но это были солидные фолианты, рукописи, стопки бумаг, блокноты, толстенные книги в кожаных переплётах. В шкафах алели красные корочки сочинений Владимира Ильича Ленина с золотыми буквами на переплётах, чёрным цветом мерцали тома Карла Маркса, синел Энгельс. Тарас привстал, ему показалось, что он ошибся. В одном из шкафов на книжной полке он различил с десяток сочинений Иосифа Сталина.
— Да, ругайте старика, — торжественно выпрямился на диване Шальнов. — Оставил. Не сжёг. Более того, иногда открываю.
Казачку хорошо были известно: все сочинения и политические труды бывшего Генерального секретаря Коммунистической партии, маршала и диктатора Иосифа Сталина-Джугашвили после хрущёвских съездов партии запретили, изъяли и приказали уничтожить. У Шальнова они хранились без утайки, на видном месте. Но, по правде сказать, Тарас не был уверен, не завалялось ли несколько таких книжек и у него в шкафах. Увиденное он оставил без комментариев, лишь пометил себе — надо найти время, перебрать свою домашнюю библиотеку.
— Не послушался я Никиту Сергеевича, — приняв молчание Казачка за одобрение, продолжил Шальнов. — Не согласен, что всё так плохо было. Но то всё — вот здесь!
Шальнов ударил себя в грудь.
— Перед студентами я этого говорить не имею права. Только в рамках программы. Устав партии знаю и чту.
Шальнов куда-то заглянул, то ли под диван, то ли в свой рабочий стол. В руке у него появился бронзовый бюст усатого вождя.
— И это тоже сохранил! Мы вместе с ним воевали и фашистскую гадину уничтожили! Куда от этого денешься? Его заслуга. Под Москвой враг стоял. За горло взял. Если бы не он… А тут, на тебе, взять и забыть? Мы с ним умрём! Для моего поколения он — идол!
«Что это старичок захорохорился?» — подумал Казачок. Похоже было, что Шальнов ему исповедовался. Тарас наблюдал с интересом и тревогой — не свихнулся ли родитель в отчаянии от побега сына.
Между тем Шальнов успокоился, аккуратно засунул бронзовый бюст туда, откуда тот появился, тяжело опустился на диван.
— Вы жене писали о сыне? — поинтересовался Тарас.
— Писал. Телеграмму дал.
— И что?
— Пока ничего.
Шальнов внимательно уставился на Тараса, тому даже неприятно стало от его тяжёлого сверлящего взгляда.
— Вот, в милицию хочу заявить об исчезновении сына, — не то спрашивая, не то утверждая, сказал он. — Всё-таки времени много уже прошло?
— Можно и заявить, — поддержал Казачок. — Сколько поездом до Иркутска?
— Вам и это известно?
— Петров рассказывал. Я же вам говорил.
— До Иркутска далеко. Я там не был. Но ответа на телеграмму пока не получил.
Тарас взглянул на часы.
— Может, чайком я вас угощу, — тут же сделал попытку подняться с дивана Шальнов.
— Нет-нет! — замахал руками Тарас. — Я и так у вас засиделся. Побегу.
— А зачем приходили-то? — уже в дверях напомнил хозяин. — Что мой сын натворил?
— Всё нормально. Увидеть хотел. Побеседовать. Он у нас на положительном счету. Третий курс заканчивает ваш Антон?
— Третий.
— Ну вот. Должны понимать. Пора думать о будущем. О профессии. Но это, когда он вернётся, — Тарас заговорщицки поднёс палец к губам. — Вы тогда мне знать дадите. Через декана Петрова, договорились?
— Будет сделано, — прозвучал ответ.
И дверь захлопнулась.
Голгофа[22]
«Апельсин», он же Гришка непутёвый, он же начальник пожарной части номер двенадцать Григорий Поликарпович Бушуев, конечно, без шапки, рыжее тонкое пальто в охапке под мышкой — дома-то уже давно жара, это в столицах морозы — упёрся носом в заветную дверь на четвёртом этаже и нажал белую кнопку звонка.
— Тамарочка! — не утерпев, заколотил он в дверь. — Тамарчик! Открывай! Встречай, вернулся твой долгожданный!
Дверь не только не шелохнулась, за ней не раздалось ни звука, ни шороха.
— На базар убежала, — успокоил себя Григорий. — Придёт, а я уже дома.
Гриша покрутился на одной ноге, попрыгал (на вокзале решил не бежать в туалет, чтобы вонь домой не нести на подошвах), разыскал в кармане ключик, отпер дверь, ввалился.
Всё же хорошо в доме! Как это поэт писал — и дым отечества нам сладок и приятен. Точно. Куда ещё лучше? Лучше не сказать!
Он бросил пальто в угол, скинул туфли, пробежал в туалет и, успокоившись, зашагал в комнаты. Чуть меньше недели его не было, а душе кажется — месяц! Он бросил лёгкое тело в ободранное любимое кресло, огляделся.
Нет. Что-то здесь случилось без него? Он не узнавал квартиры.
По комнатам гулял ветер.
Всё было разбросано в хаотичном беспорядке, ящики шкафов открыты, бесстыже оголились столы от скатертей, которые так любила менять каждый месяц Тамара. Сейчас их вовсе не было. И вообще, внимательно завершив визуальный осмотр, Григорий отметил одну закономерность: пропало всё, что составляло «радость существования» его подруги, как любила она говорить — её наряды, её причиндалы вроде косметики, парфюмерии и бижутерии. В конечном счёте и её след.
Григорий заспешил в свой уголок. В периоды особого душевного вдохновения и подъёма подруга грозилась устроить там особый акт возмездия. Но беспокоился он зря. Его стол был не тронут. Печатная машинка в футляре, стопка книжек, папки с бумагами, кипы чистых листов, канцелярские принадлежности. Всё оставалось в сохранности и порядке, как он оставил перед отъездом. Даже любимая фотка сохранилась на столе. Григорий взял её в руки, полюбовался. Всем хорош Григорий Поликарпович Бушуев! Нравилась ему фотография! Как на постаменте, он запечатлён у могилы деда Ленина — Николая Васильевича Ульянова и его родственников. Внизу по надгробью надпись: «Восстановлено в октябре 1957 года». Хорошо его сумел схватить фотограф. Он стоял с взлохмаченными ветром волосами в «ленинградке» с устремлённым вперёд взором! Единственное, что не устраивало — он был изображён на фотке молодым и летом. Жаркое тогда было лето, и он отправился на кладбище в легкомысленной рубашке с коротким рукавом. Надо было надеть шляпу, костюм чёрный и такой же галстук. Ну да ладно, успокоил себя Григорий, установил рамочку на прежнее место — в центре стола, успеется ещё.
Он полазил в столе, покопался, проверил заветные места. Копирки, катушки для лент печатной машинки, записи в толстых общих тетрадках с набросками статей, изречений, отдельных мыслей, образцы текстов для открыток, комплекты самих открыток, карта области с его пометками красным карандашом, карта страны с такими же красными крыжиками и крестиками, различные фотографии, записные книжки… Всё в порядке!
Нет. Зря он плохо подумал о подруге, Тамарчик, хотя баба и бешеная стала последнее время, но обстоятельность сохранила. Мудрая баба. Концов не рвала.
Григорий ещё раз обошёл квартиру, заглянул на балкон, открыл «тёщину комнату» — кладовку.
Хорошая была на первых порах Тамарка, послушная и ласковая, но оказалась больно ревнивой.
Она отбила его у Светки и, видать, по собственному бабьему опыту опасалась, как бы подобное не случилось с ней. Поэтому каждую его промашку, каждую шалость с другими лицами женского пола воспринимала однозначно — бурно и непримиримо — в штыки. Стоило Григорию пригласить на танец какую-нибудь проказницу во время общего застолья или другим каким-то образом оказать излишнее внимание даме, вида она, конечно, на людях не показывала, а дома напоминала, а то и устраивала сцены. Григория поначалу это забавляло, скрашивало их семейную серость — они особенно по гостям не ходили. Он принимал её сердитые укоры и намёки на лёгкий беззаботный флирт с другими женщинами как обычную бабью привередливость и рассуждал про себя: ругает, значит, любит. Даже гордился. Но когда сцены начали приобретать стабильный рецидив, он взвился. В возникшем конфликте заработал почему-то от разъярённой подруги приставку «непутёвый» к своему имени, которой та награждала его теперь во время подобного рода размолвок и разборок.
Само собой, они как-то перестали бывать в гостях, хотя их приглашали по-прежнему. Григорий был весёлым, говорливым мужиком в компаниях, а Тамарка считалась шикарной бабой.
Он принял это без сожалений и полагал: необоснованная ревность потеряла почву. Теперь всё перетрётся-перемелется. Какие ему бабы? Он и не думал о них. Других забот хватает. Не до этого. Его жизнь с некоторых пор заполнена большим делом, если бы кто знал! Да и не любитель он был до бабьих подолов. Не ходок по натуре, так просто, форму мужскую поддерживал, а с Тамаркой у него получилось по сущей случайности. Приятель по работе позвал на юбилей, Светка весь вечер не танцевала, за столом с подружками просидела, а они с Тамаркой оторвались. Увидел он её неприкрытую грудь, позволяющий взгляд и сомлел, спьяну телефончик спросил. Забыл потом про него, а она сама позвонила, напомнила. Встретились у неё — квартира однокомнатная. И пошло-поехало. Светка-то обвыклась с ним. У неё другие проблемы начались. Он и не догадывался, потом она ему выдала как-то, когда уже разъезжаться стали. Ей и мужика в то время не надо было, лечилась она. А он тогда отлёживался на чужих подушках. Так и получилось всё само собой.
Но то, что начала творить Тамарка, войдя в его неприкасаемую свободную жизнь, забеспокоило Григория. Ни за что ни про что обвиняя его в неверности, она теперь каждую задержку на работе, каждое позднее возвращение домой превращала в коварную измену. Без причин, без доказательств, сдуру. Следить начала, что он на работе делает, где бывает, когда она звонит, или, наоборот, почему телефон занят долго бывает. А каждая пылинка-соринка на его майке или рубашке, волос на костюме объявлялись коварным предательством. Драться полезла однажды, со зла напившись. Вообще с ума баба стала сходить. И Григорий задумался. Не совершил ли он ошибку, поторопившись со Светкой; та на его легкомысленные проказы, если и бывали, смотрела сквозь пальцы: мужик он и есть мужик, по-житейски, одним словом. Его отлучки из дома, поездки регулярные то в Москву, то в Ленинград, то ещё куда, не проверяла, встречала как должное — совещание, значит, совещание, а как же иначе, муж-то не простой человек, пожарную часть возглавляет, учение и всё такое каждый раз требуются. Покорно собирала Григория в дорогу, укладывала любимый его чемоданчик…
Да, чемоданчик… Сердце у Григория защемило. Расстался он с любимым чемоданчиком, растяпа. Разомлел у вокзала, ворюга какой-то выхватил. Хорошо хоть то, что документы, билеты и деньги он по привычке при себе держал, а то не на что было и возвращаться. Как это произошло, Григорий и тогда, когда на поезде назад ехал, и сейчас осмыслить не мог. Всегда внимательный, осторожный в таких поездках, собранный, действующий по разработанной самим же программе, он вдруг расслабился. Не иначе, как тепло, весна и какое-то праздничное настроение всему виной. Его словно накрыло. Он удачно посетил несколько домов; в подъездах никого не оказалось, и почтовые ящики в основном без замков были. Почти всю «корреспонденцию», над которой работал не одну бессонную ночь, без проблем разместил по намеченной схеме. Оставалась самая малость — и на тебе! Когда ворюга толкнул его, выхватив чемодан, он растерялся, а когда опомнился, того и след простыл. Мужик какой-то, прохожий, крикнул ему что-то и погнался за бандюгой. Да разве ему догнать? С чемоданом пропала шапка. Хорошее было приобретение. Светка ещё купила. Говорила, что идёт, солидность и всё такое… Вот и украли у него последнюю память.
Григорий почувствовал пустоту в животе, вспомнил, что ничего не ел с самой столицы. В поезде аппетита не было, угнетала утрата чемодана, другие тревоги мучили, а в дом вошёл — Тамаркины фокусы всё отодвинули на второй план. Он пошёл на кухню, полез в холодильник. Все же Тамарка оставила себе пути для возвращения, мосты не сожгла — в холодильнике было всё, чтобы утолить голод.
Он жадно принялся уничтожать припасы. Что ни говори, а Тамарка баба обстоятельная, житейской мудрости ей не занимать, знает, чем мужика взять, не чета Светке. На других мужиков, как с ним встречаться стала, глаза не клала, а главное — готовить умела и кормила так, что он начал заметно поправляться. А что ему, некапризному мужику, ещё надо? Пришёл домой с работы, всё тихо-спокойно, стол накрыт, жена ждёт. Отдохни, отмокни от службы и занимайся своим делом. А дело у него было. Можно сказать, дело всей его жизни. Григорий его от всех скрывал. Сам себя боялся, когда его делал. Это была его сокровенная тайна, которую доверить достойному или достойной он пока не мог. Светка на это сама не посягала, хотя, видно было, иногда ей хотелось спросить, а вот Тамарка оказалась другой. Не спрашивая, не задавая вопросов, она истолковывала по-своему. В тайне мужа заподозрила одну опасность — зазноба появилась на стороне. Ночи допоздна сидел, в кровать не торопился, а его поездки, как только он заикался, встречала чернее тучи. Первая — в Москву прошла более-менее, вторая — в Одессу тоже благополучно, в Ленинград он уезжал, уже не зная, кто его будет встречать, так как истерику она закатила ему задолго до расставания, лишь с постели поднялись. Ну а вот в эту, последнюю, совсем хлопнула дверью.
«Нет, — рассуждал Григорий, насытившись и откинувшись в благостной истоме на спинку стула, — Тамарка — это не преданная Сахарову Боннэр, и не Наталья Горбаневская. На костёр, на плаху, в тюрьму за ним не пойдет. Да и вообще поймёт ли его дело, не осудит ли? А вдруг сама побежит, как узнает, в Комитет заявлять гэбэшникам?»
Нет надобности посвящать её в святая святых после её-то фокусов, диких сцен ревности. К тому же и сбежала она. Что это он размечтался? Они ведь и не расписывались с Томкой, так сошлись и жили. Детей нет. И не нужны ни ей, ни ему. Нет, он, бывало, заикался по первой. Но, услышав один раз категорическую отповедь, оставил тему навсегда. А надо бы последователя, помощника. Сын не помешал бы в делах.
На деревянной раме окна, посередине, булавкой приколотый болтался листок бумаги. Не бросился сразу в глаза. Не до этого было. Есть хотелось. А вот теперь враз заметил, оказывается, на самом видном месте Тамарка позаботилась пришпандорить. Не могла она ничего не оставить, просто так удрать!
Григорий открепил листок. Из тетрадки вырвала Тамарка. На листке её почерком несколько слов: «Я от тебя ушла! Понадоблюсь — найдёшь! Тебе повестка в ящике».
И всё.
Вот те на! Он нашёл в прихожей тапочки, сбегал к почтовому ящику. Там действительно дожидалась повестка. Ему предлагалось явиться в районный отдел милиции. Сегодня. Его уже ждут там, и время уже прошло. Надо было в десять утра.
Ноги почему-то обмякли, ватными сделались. Он чувствовал, когда-никогда, но это случится. Он попадётся. Заметут его с этими занятиями. Кончится плохо.
Нетвёрдо ступая, поднялся по ступенькам в квартиру, дверь так и не запер, когда бежал к ящику.
Зачем он понадобился милиции?
Григорий опустился в кресло. Надо взять себя в руки. Почему он сразу испугался милиции? Его вызывают за тем, чтобы… Почему он так испугался? Ладони вспотели. Спина перестала держать тело. Что это с ним? Тогда бросить всё надо! Бежать! Начинать где-нибудь в глуши новую жизнь. И забыть. Забыть всё сразу и навсегда. Картошку где-нибудь в Тамбове выращивать и рыбу удить. Нет. Бежать ему некуда. Будь, что будет. Он пойдёт и… И всё расскажет. В конце концов много не дадут. Ну, отсидит год-два… Выйдет. И тогда уже картошку будет сажать и рыбу удить.
В милиции Бушуева никто не ждал. Участковый, который повестку выписал, не дождавшись, уехал, просил передать, что будет позже. Недовольным тоном обо всём этом Бушуеву поведал скучающий дежурный. Это обескуражило Григория. Он не знал, что думать, как себя вести? Если с ним в игрушки играть решили, проследить, один он или ему помогают, то не на того напали. Ну-ну, поиграйте в кошки-мышки… Последите, походите по следам… Его, правда, что-то знобило. Но истерики от него не дождутся. Он где-то читал о подобных приёмчиках у сыщиков. Довести жертву до того, чтобы она сама прибежала к палачу и, раскаявшись, призналась во всех грехах. Где же ему это встречалось, чтобы жертва перед возмездием ноги палачу целовала? У Достоевского? Ну, конечно, у Достоевского! Он же родоначальник криминального российского романа. Судебный следователь Порфирий Петрович так доконал несостоявшегося Наполеона, нищего студента Раскольникова, что тот во всём признался, покаялся и в обморок упал. И его также хотят за нос поводить. Поиздеваться над ним. Нет! Он не позволит!
Бушуев заторопился по длинному коридору к выходу, обходя вытянутые ноги посетителей, устроившихся вдоль стены. Пусть ловят. Он ждать не будет никого!
Когда он уже открывал дверь, дежурный лениво бросил ему в спину:
— Вы зря уходите. Сейчас Сергеев будет, подъезжает уже. Передали ему по рации.
И Бушуев остановился, будто его окатили холодной водой. Замер, обернулся на замечание милиционера, поискал глазами ближайшее пустое место на скамейке и сел. Чувствовал он себя прескверно, даже тошнило, но рядом сидящая старушка что-то говорила то ли ему, то ли сама себе о том, что жить совсем трудно стало, невестка злючая заела, сын-пентюх у неё в подметках сидит, сосед-шофёр песком весь двор завалил, деревья её поломал, милиция спит, за порядком не смотрит.
— А ты, сынок, что волнуешься? Что бледный? Жена довела небось змеюка? — дёргала она Бушуева за рукав время от времени.
Бушуев под её повторяющиеся причитания постепенно пришёл в себя, ожил и стал ждать. Он даже задремал.
Участковый капитан милиции Сергеев в грязных, замазанных глиной сапогах похлопал его легонько по плечу, нагнувшись участливо, негромко окликнул:
— Григорий Поликарпович? Заждались? Я извиняюсь, конечно. Пройдёмте со мной.
Бушуев очнулся. Поднял голову. Спина участкового в кожаной форменной куртке уже удалялась. Он поднялся, заспешил следом. Вот чёрт! В поезде из-за этой нервотрёпки глаз не сомкнул, а здесь развезло.
В кабинете участкового было жарко, душно и солнечно. Им обоим стало невтерпёж. Сергеев куртку скинул ещё по ходу, до дверей кабинета не дойдя, Бушуев осторожно снял пиджак, едва устроился на стуле прямо перед маленьким столом участкового. Повернуться негде. Кабинет был таких размеров, что Бушуев сразу упёрся глазами в строгие очи капитана милиции. Тот покряхтел, задвигал ящиками стола, один выдвинул, второй, наконец, нашёл, что искал.
— Григорий Поликарпович, это что же такое? Положительный со всех сторон, можно сказать, человек, а соседям жить не даёте? — поднял он строгие глаза на Григория.
Бушуев молчал, соображая.
— Ваши соседи вторую жалобу на вас написали. Не даёте вы им покоя. Сыроваровы напротив вас проживают?
Бушуев не знал, не ведал, кто такие Сыроваровы, но кивнул.
— Вот Варвара Никифоровна Сыроварова просит принять к вам меры, больно допоздна вы с женой покой её нарушаете, — подбирая слова, участковый скучно изучал Бушуева. — Не даёте спать после девяти часов вечера. Что будем делать, Григорий Поликарпович?
Бушуев молчал.
— Я к вам забегал, хотел на месте переговорить, побеседовать. Пожилые люди, они, конечно, беспокойный народ. Но мы-то молодые. Уважать вроде надо как-то их покой.
Язык, наверное, был у Григория, но воспользоваться им у него никак не получалось. Все мысли были другого рода.
— Я собрал материал. Пока вас не было, с вашей женой встретился. Она категорически всё отрицает. Но вы-то, Григорий Поликарпович, — начальник пожарной части, человек серьёзной профессии, руководитель. Сами людей воспитываете. Зачем вам лишние хлопоты?
Бушуев закивал согласно головой.
— Вот и я говорю. Никому не нужна лишняя головная боль. У меня сегодня на участке две кражи на улице Серафимовича. Мотаюсь полдня. Шпана своя же, чую. А нет фактов! Что мне, заниматься больше нечем, только вами?
— Я извиняюсь, — нашёл вдруг что сказать Бушуев, — больше соседка к вам обращаться не будет.
— Не сомневался, Григорий Поликарпович, в вашей сознательности, — развёл руками участковый, — отлично. И все хлопоты.
— Как её фамилия?
— Жалобщицы-то?
— Соседки?
— Сыроварова Варвара Никифоровна.
— Напротив нас, говорите?
— Напротив.
— Не будет больше никаких обращений, товарищ участковый.
— Ну вот и хорошо.
— Никто к вам обращаться не будет.
— Не сомневаюсь, Григорий Поликарпович. Вы объяснение мне быстренько накатайте. Ну, опишите там, что да как. На почве семейных неурядиц. И добавьте, что подобного больше не допустите.
Бушуев написал, не задумываясь, не стараясь, одним махом. Написал, что взбрело в голову. Вспомнил последнюю сцену — и придумывать не пришлось. Завершил так, как велел участковый: расписался, поставил число.
Назад он возвращался, не помня себя. Летел на крыльях.
А зря. Его история только начиналась…
Участковый, капитан Сергеев, в милиции проработал не один год. И выговоры хватал, и приказы с благодарностью в личном деле имелись. Чего было больше, он не считал. Но объяснения Григория Поликарповича Бушуева, начальника пожарной части номер 12, жильца квартиры, на которую поступила жалоба гражданки Сыроваровой Варвары Никифоровны, пенсионерки 72 лет, он прочитал от начала до последней буквы. А пока читал, шевеля губами, пока вдавался в причины неправильного поведения одного соседа по отношению к другому, хотел уже было бросить листки в ящик стола, но что-то остерёгся. Остерёгся и напрягся. Знакомыми показались ему буквы в объяснении. Размашистый, быстро бегущий вперёд почерк. Стремительный наклон. Взрывной. Тревожный. Где-то встречались ему эти буквы. Маленькие, а глаза режут. Будто сигнал какой подают.
Сергеев полез во внутренний карман кителя, достал свернутые вчетверо два листа. Это была вчерашняя оперативная ориентировка, переданная на разводе всем участковым заместителем начальника районного отдела милиции капитаном Донченко. Степан Иванович обратил тогда особое внимание всех на то, что ориентировка эта, скорее всего, не милицейская, ищут, скорее всего, другие органы автора этих листовок. Ну а милиции поручили, чтобы большой объём охватить. Расширить, так сказать, поиск…
Сергеев аккуратно разложил, разгладил на столе перед собой листовку с ориентировки со словами «смерть коммунистам!», рядом припечатал объяснение, только что написанное Бушуевым.
Мать честная! Почерк был один и тот же. Буква в букву. Бегали они перед глазами, как сумасшедшие…
Лёд и пламень
Человек на диване зашевелился, нервно закашлялся, задыхаясь. Нет, он не спал и не пытался. Он не мог заснуть уже несколько суток. А теперь боялся одного — сойти с ума. Несколько дней и ночей его сознание терзали события того трагического дня, начавшегося светло и беззаботно…
Сын вбежал, распахнув дверь настежь, разгоряченный, взъерошенный, как обычно, будто за ним гнались.
— Антон! — крикнул он сыну. — Устал тебя учить! Что ты словно оглашенный? Третий курс заканчиваешь, а серьёзности никакой.
Сын пронёсся к дивану, бросил сумку с книжками, нырнул на кухню, где он строгал редиску в салатницу, налил из-под крана воды в кружку, взахлёб выпил.
— На экспресс опаздываешь?
— Есть хочу — умираю!
— Ну, это понятно.
— Хорошо, пап, что ты дома. Что у нас сегодня на обед?
— Не лезь с грязными руками. Потерпи.
— Ты сегодня меня опередил.
— Зачёты быстро принял. И поздравь меня — без хвостов.
— Все сдали? Не верится. Про тебя, знаешь, какая слава среди студентов гуляет?
— Ну-ну, выкладывай. Рази наповал.
— А не обидишься?
— Чего уж там. Приму, синэ ира эт студио[23].
— Чтобы тройку у тебя получить, надо в праздник родиться. Ребята дрожат, с первого раза мало кому удаётся сдать.
— Ну, это когда экзамен, а на зачётах я требования снижаю.
— Рассказывают, будто ты классику марксизма признаёшь гениальной, свои познания в ней оцениваешь только на «четвёрку», а уж нашему брату, студенту, выше «трояка» не ставишь.
— Твои бурсаки нафантазируют, — усмехнулся он, — хотя истина доступна всем, мои ученики ещё слабы в её познании. Но всё идёт от учителя. Во всём виновата школа. Видно, я плохо их учу, а в наказание за это на экзаменах пожинаю плоды.
Он был рассеян. Не настроен на серьёзные разговоры, какие они порой затевали с сыном ни с того ни с сего. Зачёты всё-таки утомили его, отняли нервы и энергию с утра. Он подвинул салатницу Антону, сам уставился в окно:
— Котлеты попробуй. Вот, сподобился сегодня.
— А может быть, учение твоё не отвечает истине? А, отец? Не допускаешь этого?
Вопрос застал его врасплох. Это был вопрос оттуда, из прошлого, из недоговоренного. Когда он свалился от болезни… Он даже растерялся от неожиданности.
— Погоди, Антон. О таких вещах нельзя всуе…
— Ты что же, не готов поспорить, что правда и истина не единая суть?
— Ну почему же, у меня найдутся аргументы… но…
— Тогда в чём дело? Я жду их.
— И кто же у вас в институте пропагандирует такую философию?
— Ну нет. Это запрещённый приём, пап. Если ты считаешь, что вопрос не корректен или плох, то я тебе скажу — плохим поступкам учатся без учителя[24]. Но разве в этом главное? Мне представляется, суть в другом: истина и правда, что есть что?
— Слушай, Антон, тебя что-то понесло. Давай спокойно перекусим. А потом поговорим.
— А я уже сыт, пап, — Антон вышел из кухни с чашкой кофе в руках, — котлеты тебе удались. А в остальном ты пока проигрываешь…
— Не понял?
— Я возвращаю тебя к началу — о соответствии правды истине. К тому, с чего мы начали.
— Прессингуешь, студент. Ну подожди, — он запихнул котлету в рот, пожевал без вкуса и аппетита, чем-то запил, потянулся тоже за кофе; диалог затягивался, а он так мечтал залечь на диван, последние дни как-то не высыпался, что-то мешало.
— Я всё к тому же, отец, — Антон вернулся, подвёл почти вплотную свои — её, Нинины, зелёные глаза к нему в упор и, заглянув в глубину, сказал тихо и проникновенно: — Всему, чему ты там в институте учишь, пап, ты сам веришь?
— Подожди! В чём ты меня подозреваешь? Я ничего не пойму… Как это, веришь не веришь? Это моё. Ты понимаешь, это надо! Меня так учили! Я этим жил! И живу!
Он взорвался от негодования, упёрся глазами в Антона.
Мальчишка! Как он смеет!
Глаза Антона были чужими. Колючие ёжики жгли лоб в лоб. Он погасил огонь своих. В тех ранних спорах и дискуссиях, которые они затевали, обходилось без накала и аффекта. Хотя сын не признавал авторитетов — что делать, он сам его научил — ему удавалось почти всегда побеждать. Брал вверх Шальнов-старший за счёт общей эрудиции, логических ловушек, к тому же Антон ещё не был силён в проблемных суждениях, не охватывал их целиком. Не хватало ему кругозора, знаний, и он сдавался. Теперь в поведении сына чувствовались изменения, он был настроен агрессивно. Новые огоньки светились в его глазах. Незнакомые и злые.
— Я не спрашиваю тебя, отец, смотришь ли ты кинофильмы, читаешь ли газеты, слушаешь ли радио? Ты всё это, конечно, делаешь. Но как ты всё это аккумулируешь?
— Чего? Чего?
— Своё мнение?
— Хватит, Антон! Не устраивай детский сад. Что-то у нас не получается разговор. Передёргиваешь ты. И потом… Устал я сегодня. Давай после поговорим, если есть проблемы.
— Как скажешь, пап. Я как-то, наоборот, зарядился. Хотелось с тобой объясниться. Тем более настроился… И всё же. Если можешь, то хотя бы коротко скажи — ты с кем? Мне это очень важно.
Шальнов зажмурился, как от удара. Вопроса он не ждал, но в глубине сознания давно тревожила мысль — если он с сыном начал вести эти философские игры, то отвечать на подобного рода вопросы ему придётся. Антон должен был их задать, он чувствовал в сыне это желание. Отрицание авторитетов, нигилизм свойственен молодости, он сам прошёл через это. Но подсознательно оттягивал этот день. А он пришёл. И, как обычно, нежданно-негаданно…
Он явно был не готов к серьёзному разговору на эту тему. Наверное, начать ему надо было самому. Продумать всё обстоятельно, расставить всё по своим местам, подготовить аргументы. Так, как он готовил свои лекции перед студентами. Антон, конечно, не аудитория, с ним надо доверительней, мягче, откровеннее. Сын имел право на это. Многое им вдвоём пришлось пережить… Он должен когда-то услышать всё об отце, о Нине, всю их семейную историю от и до сегодняшнего дня.
В обойму новых преподавателей он попал сразу после 39-го года, когда почти всех прежних, некоторых ещё с дореволюционным багажом, «зачистили», повыгоняв или посадив в тюрьмы. В университете копали глубже, посрывали головы многим видным учёным и ведущим преподавателям нескольких кафедр. Но и у них в институте буран пронёсся: пустоты и бреши потом заделывались не один год, желающих занять опустевшие места не находилось.
Ему предложили портфель на кафедре не сразу, отпугивала молодость и отсутствие опыта, он, как тогда шутили, «бегал в приготовишках». Но Шальнов согласился не раздумывая, когда его кандидатуру выдвинула комсомольская ячейка. Погрузился с головой в науку, но тут война.
Винтовку никогда в руках не держал, профессии не имел, поэтому определили его в политработники. Воевал как все. Пять лет топтал сапоги по России, по Европе, а когда у многих война закончилась в Берлине, он побывал ещё на Дальнем Востоке.
Вот там почуял: как ни страшен немец, а японский камикадзе страшней. Солдаты, одержимые идеями невиданного восточного фанатизма, шли на верную смерть ради безумных идей величия, разбивались в самолетах, падая с ними наземь, приковывали себя цепями, сгорали заживо, обливаясь бензином, обвязывали себя минами и сотнями бросались под танки противника.
Воевал Шальнов в пехоте и все эти ужасы видел собственными глазами, испытал на своей шкуре, так как самому не раз приходилось поднимать в атаку испытанных в боях с немцами солдат, а здесь терявшихся, испуганных, сходивших с ума от страха.
Война Молотовым была объявлена 8 августа; в середине месяца сначала император-микадо Хирохито по радио объявил, что Япония войну уже проиграла, а через три дня советские радиостанции приняли ноту Квантунской армии о капитуляции. И всё было бы хорошо, не будь событий на скалистых высотах «Верблюд» и «Острая». Событий, участником которых был Шальнов и забыть не мог, как ни пытался и ни желал. Высоты были усилены экскартпами[25], многочисленными рядами проволочных заграждений на металлических кольях. Огневые точки японцы вырубали в гранитных скалах. Железобетонные доты имели стены толщиной в полтора метра. В дотах сидели прикованные цепями к пулемётам смертники. Настоящие камикадзе обходились без цепей. Когда в японский гарнизон на высоту «Острая» был направлен парламентёр из местных китайских жителей, вышедший японский поручик отрубил ему самурайским мечом голову. Отказавшись от капитуляции, обороняющиеся приняли смерть.
Высшее советское командование пожалело солдат, отвоевавших своё и уцелевших в жерновах мясорубки в России и Европе. Доты подвергли бомбардировке из тяжёлых орудий и самоходок, подкатившихся незаметно ночью. Уцелевших и продолжавших сопротивление подрывали ящиками с толом, заливали бензином и поджигали, чтобы уберечь своих от лишних жертв. После боёв в подземных казематах были обнаружены трупы полутысячи японских солдат и офицеров, рядом с ними сотни две трупов женщин и детей, членов семей японских военнослужащих. Часть женщин была вооружена гранатами, винтовками и холодным оружием. Позорному плену все они предпочли смерть.
Там, в боях на высоте «Острая», Шальнов получил тяжёлое ранение в голову, от которого едва не умер. Очнулся среди белых простыней на операционном столе, но это было только начало, потом ещё перенёс несколько операций, пока окончательно не пришёл в себя в военном госпитале Владивостока. Здесь пришлось ему вылёживать и залечивать раны несколько месяцев. Сильным головным болям, последствиям ранения, казалось, не будет конца. Он уже потерял надежду вернуться к нормальной, здоровой жизни, но появилась Нина. Она навещала госпиталь вместе с бригадой артистов местного театра. Они познакомились, и он не заметил, как быстро пошёл на поправку. А может быть, пришло время ему выздоравливать.
Почему-то сразу стал мечтать, как привезёт её домой, покажет матери красавицу из далёких восточных краёв.
По России ехали, словно в сказке, а оказались в родном городе — лучше бы не возвращались. Нине всё опротивело сразу. Она спать перестала. Или это поначалу разница во времени дала знать? Нет. Месяц-два прошли, а ничего не изменилось. Только хуже стало её поведение. Шальнов чуял, что до добра это не доведёт, а когда она сказала, что уезжает, он не знал, что возразить. Мать умерла через полгода, как они приехали, помощников переубедить жену у него не было. С Антоном разрешилось само собой — он его просто не отдал.
В институте тоже поначалу не ладилось. Друзей он растерял на войне, а возвратившись, приобрёл завистников, интриганов и откровенных врагов. Измена Нины едва не подкосила его, он ударился в крайность — запил. Опять возвратились ужасные головные боли. Нина, хотя и была значительно моложе, была для него и опорой, и радостью, и надеждой. Свет в окошке — лучше и не скажешь. Что удержало тогда от полного падения: сын или ректор, тоже фронтовик, Шальнов не гадал. Ректор относился к нему по-старому. Помня заслуги боевого офицера, политработника, не стал распекать, читать нотации, пригласил его к себе. Как-то ненавязчиво перетряхнул душу, попенял на отсутствие мужского достоинства, и Шальнов очнулся.
С уходом Нины женщины перестали для него существовать. Всю страсть души он вкладывал в институт и сына. От него Антону передалось увлечение литературой, а из книг, как и он, сын предпочёл историческую тематику. К восьмому классу интерес его конкретизировался, сын бредил историей древних цивилизаций, всерьёз зачитываясь первоисточниками о возникновении государств и культуры в Египте, Греции, Риме. Литературу отец таскал сыну из институтской библиотеки. Когда источник иссяк, Шальнов, познакомившись к этому времени с Петровым из университета, брал фолианты отцов мудрости из домашних хранилищ Ивана Максимовича. Так Антон познал учения почти всех известных школ античных философов. Петров жадничал, книги в чужие руки давать не любил и не давал, делая исключение только для коллеги и приятеля.
Однажды, отец с удивлением отметил, как сын поправил его, цитировавшего Питтака[26]. Это случилось, когда Антон только поступил на первый курс института. Они обсуждали, как повелось, какие-то философские учения, беседа приобрела характер спора и впору уже было вооружаться первоисточниками. Он запутался, Антон ему возразил, он взвился, впервые услышав, чтобы ему перечили. В запале выкрикнул фразу:
— Не стать руководителем не только государства, но и кафедры в институте, если не добьёшься повиновения. Так считал ещё Питтак из Древней Греции. И он был прав!
Антон тогда улыбнулся отцу и поправил его:
— Не становись начальником, пока не научился повиноваться.
— Разве? — переспросил он.
— Если ты имеешь в виду Питтака из Миттилен, то эту фразу предписывают ему.
Он не придал этому большого значения. Конечно, спор был безалаберным, так, больше просветительский характер носил, он приятно восхитился познаниями сына, но перепроверил потом и себя, и его, убедился — Антон не ошибался. Спустя некоторое время он уже не сомневался — Антон всерьёз занялся изучением философии, а вместе с нею и политическими учениями. Сын рос на глазах. Шальнов почувствовал его превосходство в знании античных школ, а римского Сенеку тот цитировал без запинок и к месту, и для красного словца.
Ещё раз они заспорили, разбираясь в сути многочисленных учений о государстве. Беседа началась, конечно, с обсуждения современных проблем, но на его изречения и цитаты классиков марксизма сын начал апеллировать суждениями древних и всё закрутилось вокруг Платона, Аристотеля и Сенеки, взгляды которых были давно туманны отцу, и он поднял руки, но, не сдаваясь окончательно, упрекнул сына в том, что тот применяет ораторское искусство древних, нежели факты, а попросту занимается словоблудием. Антон не возмутился, не высказал обид, только заметно побледнел:
— Я возвращаю тебя к Питакку из Митилен, отец, раз уж ты однажды на него сослался.
Он опешил, но смолчал.
— Если помнишь, египетский царь прислал тому жертвенное животное с просьбой отрезать лучший и худший кусок. Питтак отрезал язык и велел отвезти его обратно царю.
— Не зарывайся! — одёрнул сына Шальнов.
— Ничего подобного, отец. Ты меня неправильно воспринимаешь. Питтак дал понять царю, что язык — причина и добрых, и злых человеческих дел.
Шальнов тогда поначалу всё-таки обиделся на мальчишку — издеваться над отцом вздумал, сопляк! Слышал бы кто из студентов, на смех подняли бы. Что он себе позволяет? Вот воспитал балбеса себе на шею! Но потом помудрствовал, поразмышлял… А что особенного произошло? Парень растёт, мыслит трезво и мудро. Имеет свои убеждения и отстаивает их. Делает это порой неуклюже, жёстко, не щадит и отца. Но стоит ли на это дуться? Может, лучше самому подналечь на эту треклятую философию древних греков, восстановить забытое, изучить как следует заново. И утереть молодого?
Но благие намерения так и остались мечтами. Суета, институт, житейские заботы — постепенно все его желания подтянуть знания стёрлись из памяти. Жизнь стремительно мчалась вперёд и менялась на глазах.
Давно за окнами института отбурлила взбалмошная волна энтузиазма и свежести, вселившаяся в людей с приходом к власти нового партийного лидера Никиты Хрущёва, а в институте всё ещё прятались по углам подозрительность и недоверие, настороженный холод стоял в глазах преподавателей, не забывших прошлое и опасающихся перемен. Шальнов привык к стабильности, к раз и навсегда установленному распорядку, где всё определенно, размеренно; всему свой черёд: утверждённый на весь год цикл учебной программы, расписание лекций, графики приёма зачётов и семинаров, ежеквартальные конференции, итоговые совещания на кафедре… Всё чинно, известно, солидно. Но это было в институте, на кафедре, которой он руководил. Долгое время также спокойно и размеренно протекала их жизнь с сыном.
А вот за институтом и стенами их квартиры что-то настораживало и пугало. Шальнов не переставал удивляться и никак не мог привыкнуть к непредсказуемости. С некоторых пор утром нельзя было предугадать, чем завершится день и когда вообще попадёшь домой. Всё чаще и чаще его начали приглашать то в райком партии, то в райсовет на различного рода совещания, собрания по поводу принятия всевозможных соцобязательств: то обсуждались происки империалистов на Кубе, в Египте, в странах ближнего и дальнего зарубежья, то готовились письма и поручения в защиту развивающихся народов в Африке, то обвинять надо было стиляг, писателей или художников, а однажды Шальнова-старшего едва не выбрали начальником народной дружины всего района, вспомнив про его боевые заслуги, ордена и медали. Потом настало время бороться с Америкой, и, хотя обсуждались проблемы улучшения обеспечения населения товарами первой необходимости, его вытаскивали в райисполком и учили, как перегнать американцев по мясу, молоку, шерсти и яйцам в два, а то и в три раза.
Глупости было много, но суматохи больше. Пустозвонство, как он окрестил про себя это времяпровождение, отнимало силы, портило нервы, мешало главному — учебному процессу на кафедре. Он не мог не видеть двуличности всего происходящего. Много орали вокруг, мало кто занимался делом. Но попробуй возразить — здравый голос сразу тонул в мутной воде обвинений «в непонимании серьёзности политического момента», а то и в более серьёзных грехах. Ярлыки наклеивали тут же и тащили бедолаг отмываться на профсоюзные и другие собрания рангом выше. Кругом правила общественность. Со всеми «происками загнивающего капитализма» и приспешниками, «примкнувшими к ним», боролись всем миром. Шальнову припомнился случай, когда один из молодых преподавателей на собрании по поводу гонки с Америкой неосторожно высказался про события в Рязани, где первый секретарь обкома, так и не обогнав её по мясу, пустил пулю в лоб[27]. Но смельчака тут же стащили с трибуны, а потом он добровольно подал заявление и пропал из института бесследно.
Шальнов о таких опрометчивых поступках давно забыл и думать. Время расставит само всё по своим местам. Он хорошо это знал. Поэтому занимался своим делом, несмотря ни на что, хотя поведение Антона последнее время стало его серьёзно беспокоить. С некоторых пор он заметил, что сын увлёкся прослушиванием ночных бредней у радиоприёмника. Собирались к нему на эти посиделки его друзья-однокурсники, засиживались допоздна. Но вели себя тихо, ему не мешали, и он не придавал им значения. Но как-то заглянув в комнату сына, присоединился к собравшимся. Антон смутился, переключил станцию, но он успел услышать несколько фраз и сразу понял — студенты слушали «голос Свободы».
Шальнов опешил, не сразу сообразил, как поступить; сделав вид, что ничего не понял, вышел из комнаты от притихших сразу ребят. Те быстро разошлись. Шёл второй час ночи, но Шальнов, помучившись, всё же решил не откладывать разговор.
— Что это значит? — как только закрылась дверь за последним студентом, он ворвался к сыну.
Тот не ложился, догадываясь, что отец придёт объясняться.
— Что это значит?! — не помня себя, закричал Шальнов, но уже не спрашивая, а зверея. — Тебе не хватает официальной информации из наших отечественных источников? Ты не читаешь газет, не видишь, что делается вокруг?
Антон молчал, он впервые видел отца в таком диком состоянии, не поднимаясь, сидел на кровати, широко открытыми глазами следя за каждым его движением.
Шальнова пронзила сильная головная боль, вернулась старая болезнь. Он схватился за голову обеими руками, присел рядом с сыном, боль постепенно отступала, он обнял его за плечи:
— Антон, дорогой, — с трудом подыскивая слова, заглянул ему в глаза, — ты же слышал, конечно? Не верю, что не знаешь! Запрещается слушать эти поганые «голоса». Это враги. Их глушат наши станции. То, что когда-то отменили обязательную регистрацию радиоприёмников, ещё ничего не значит[28]. Что тебе надо? Что ты хочешь узнать у них?
— Правду, отец, — тихо произнёс сын.
— Правду? — взорвался снова Шальнов. — Какую правду? Ты думаешь, эти отщепенцы пичкают нас сколь-нибудь достоверной информацией? Какая правда тебе нужна от врагов народа, от белогвардейцев, от беглых эмигрантов? Да знаешь ли ты, что всё это целенаправленная пропаганда американцев? За этой станцией в Европе скрывается ЦРУ с миллионами долларов! Правда сознательно искажается, клевета подаётся с привкусом правды!
Антон пытался что-то возразить отцу, но Шальнова уже нельзя было остановить. Его сын, его детище, его надежда, в которого он вложил себя самого, в которого так верил, отдал всю свою жизнь, его предал! Глупый мальчишка! В своих романтических представлениях о жизни, наглотавшись учений утопистов Древнего мира, разомлел от их демократических рассуждениях о свободе личности, о праве… Он всё перепутал! Игра в философские сказки заманила несмышлёныша в опасную ловушку. Он спутал жизнь с красивыми сказками!
Но виноват в этом, конечно, и он сам, отец. Надо было внимательней приглядываться к сыну, к его друзьям. Они давно уже устроили в его квартире уютное тихое гнёздышко. Собираются ночами. Спорят там до хрипоты. Что-то обсуждают. А ему всё невдомек заглянуть к ним, послушать, присоединиться к разговорам. Оказывается, они за спиной у него, историка коммунистической партии, заведующего кафедрой марксизма, рассуждают на вражеские темы, слушают эту диссидентскую мразь!
Шальнова трясло.
— Ты, конечно, был мал, наверное, не слышал, чем кончились подобные вашим забавы в МГУ?
Антон явно не понимал, о чём спрашивает отец.
— Не передавали вам «голоса», куда ведёт эта игра у радиоприёмников?
— О чём ты?
— О чём я? Конечно, им это не выгодно. Они об этом вещать вам не будут. Хотя перевернут, передёрнут всё и нас же снова обвинят. Им это не впервой. А произошло, мой дорогой сын, в Московском университете страшное. Там тоже любопытные нашлись вроде вас, голубчиков. Правда, рангом повыше. Мальчишки от большого ума, аспиранты, ассистенты кафедры марксизма, наслушавшись дури из западных радиоприёмников, занялись писательскими трудами. Листовки додумались сочинять. Видите ли, по их мнению, страна наша, оказывается, помехой стала для прогресса всей мировой цивилизации. Вот до чего додумались, стервецы!
— Ты считаешь, они были неправы?
— И ты ещё задаёшь мне этот вопрос? Дуралей! И они идиоты! Знаешь, чем они кончили?
— Могу только догадываться. Попёрли их из университета?
— Нет, дружок! Ошибаешься. За такое отвечают по всей строгости нашего закона.
— Что ещё можно придумать?
— Знать надо, будущий историк! А не знаешь, так у меня спросил бы. Осудили их всех. И не просто осудили, а ответ они держали по статье об уголовной ответственности за антисоветскую деятельность. В тюрьмах сейчас коротают, додумывают свои несогласия с нашей политикой.
— Ты считаешь, с ними поступили справедливо?
— А ты как думаешь?
— Я считаю, нет. За мысли не наказывают. Это принцип уголовного права. Так учат ещё древние.
— Ах, учат древние! Нет, дружок. Ты глубоко ошибаешься. Это не мысли, это антисоветская деятельность. Они листовки распространяли. Другим людям головы дурили, призывы рассылали. Они покушались на устои государственной власти!
— Время рассудит, кто прав…
— Время? Ты хочешь сказать, время их оправдает?
Антон поднялся с кровати. Не по-детски, по-взрослому взглянул ему в глаза. Шальнову стало не по себе. Видно, не убедил он сына.
— А ты знаешь, чем обернулись забавы этих молодых правдолюбцев для их родных, близких, друзей и даже просто знакомых?
Сын молчал.
— Не знаешь! И тебя это не интересует, я вижу. А их повыгоняли отовсюду. Работы лишили. Имя добрых людей они потеряли. Авторитет отщепенцев приобрели. Словно от прокажённых, от них шарахаться начали.
Шальнов задохнулся от возмущения, махнул рукой, присел усталый и разбитый.
— А были все нормальные люди… Ты желаешь моей гибели. Мне, участнику войны, своему родному отцу… Об этом ты подумал? Позора на свою седую голову я не переживу.
Приступ сильной головной боли прервал его речь, он обхватил голову обеими руками, теряя сознания, сполз с кровати на пол.
«Конец», — мелькнула последняя здравая мысль, и свет померк.
Но тогда смерть пощадила его. Микроинсульт — был диагноз врачей. Возвратившись с больничной койки через месяц, он по настоянию медиков взял отпуск, а потом пришла пора каникул, и он всё лето провел дома. Постепенно здоровье возвращалось, он начал увереннее ходить, к осени совсем окреп и приступил к занятиям в институте. Попросил было освободить его от обязанностей завкафедрой, но ректор, снизив нагрузки, уговорил повременить, подготовить замену. Он согласился, чуя — здоровье восстанавливается. Только на первых порах слегка ещё волочил правую ногу при ходьбе. Со временем прошло и это.
О происшедшем ни он, ни сын не вспоминали. В дом к ним теперь никто не ходил, лишь Петров иногда навещал по праздникам. Антон берёг его здоровье, щадил, избегал близкого общения и прежних откровенных разговоров не заводил. Вообще он как-то меньше стал бывать дома, пропадая в институте или у приятелей. Порой возвращался за полночь, в таких случаях Шальнов притворялся спящим, даже подыгрывал себе храпом.
Но он прекрасно понимал, должно что-то между ними произойти, так просто это не закончится. Они не договорили тогда с сыном, свалил приступ.
И вот этот день наступил. Антон сам начал разговор. Видимо, что-то произошло, накопилось; прервалась игра в молчанку.
Антон ждал ответа, давно отставив чашку из-под кофе, застыв перед ним, задумавшимся, плутавшим в воспоминаниях.
Долгое молчание отца встревожило сына.
— Ты не желаешь со мной говорить?
Шальнов устало поднял тяжёлую голову.
— Отчего же? Я ждал этого разговора. Он должен был состояться. Врать не стану, мне представлялось, всё будет по-другому. Но раз ты жаждешь, будь по-твоему.
Антон пытался что-то возразить, но Шальнов остановил его вялым жестом руки.
— Ты, кажется, спросил у меня — с кем я? Мне думается, ты подразумеваешь, как я отношусь к тому, что вы той ночью слушали с юнцами у нас в квартире? Тебя интересует моё отношение к тому, что вещают американские поганцы на радио «Свобода»?
Антон чуть дёрнулся, но замер под его мрачным взглядом.
— Так вот. Ты мог меня об этом не спрашивать. Самому надо было догадаться. Я не хамелеон — и нашим, и вашим хвостом крутить. Я не с ними. Надо быть идиотом, чтобы хотя бы подумать об этом…
Шальнов смерил сына взглядом. Нелепая тщедушная фигура того показалась ему сейчас убогой и виноватой, как у набедокурившего мальчишки.
— Да, их сочинения заманчивы, как раз для таких слюнтяев, как ты и твои друзья. Измышления они копируют под истину, факты умело фальсифицируют, но от этого мерзопакостная ложь не становится правдой.
Шальнов специально подыскивал неприятные слова и, словно гвозди в доску, размеренно и безжалостно вбивал их в сына. Неведомое ранее чувство овладело им. Чем ниже у Антона опускалась голова от его фраз, тем болезненно-сладостное наслаждение он испытывал. Он убивал в сыне то, чужое, что завладело с некоторых пор его сознанием. Пусть с запозданием, но он должен низвергнуть возникшие в голове сбившегося с пути мальчишки вредные сомнения.
— Поэтому я всё-таки отвечу на твой вопрос. Если ты и тот, кто за тобой стоит, не одумаетесь, я не стану спрашивать тебя, с кем ты? Я скажу тебе — ты против нас! Не против меня, декана факультета Петрова Ивана Максимовича… Ты против нашей страны! А это, друг мой, страшная участь. Никому ещё не удавалось нам противостоять! Тем более… Какой-то там…
Шальнов остановился, подыскивая и не находя нужного слова. Но так и не нашёл, а может, посчитал лишним тужиться. Скользнул по сыну взглядом и опять вяло махнул рукой. Гнев, ярость и запал покинули его, пока он говорил. Слишком мелка была цель.
— На что ты надеешься, отец?
— Что? — он недоумённо поднял глаза на мальчишку, задавшего этот вопрос. Птенец ещё не оперившийся, раздраконенный им, смел ему возражать.
— Всё, что ты сейчас сказал, — шапкозакидательство. Не более того. Ты, как все сторонники вашей утопии, не утруждайте себя защищать и аргументировать созданную вашими учителями-классиками доктрину. Считаете излишним. По вашему мнению, она непогрешима. Однако те, что наверху, уже сомневаются. А вы, оловянные солдатики, сражаетесь с «ведьмами» и сгораете в огне. Тебе же известно, что попытка построить «светлое будущее» у коммунистов завалилась. Это очевидно. На последнем съезде вашей партии рядовым коммунистам замазывали глаза. Лепить новую сказку стали, сочинив миф о «развитом социализме». Ты же всё это прекрасно понимаешь, отец? Что ты молчишь? С обещаниями Никиты Сергеевича о скором построении коммунистического общества не получается у вас… Ваши вожди, как герои из пьесы Беккета, которого они травят! А он-то, оказывается, прав.
— Что ты мелешь, мальчишка? Ты подменяешь общее частным. Было налицо авантюрное заявление выскочки лидера. Субъективное пустозвонство! Партия его поправила.
— Значит, как что не получилось, так ваша партия враз объявляет неудачника авантюристом? А когда губили жизни сотен тысяч инакомыслящих или просто неугодных, объявляя их врагами народа, так у них снова нашёлся виновником только один! Тебе не кажется, отец, что налицо закономерная тенденция? Всё валить на одного и оставлять его козлом отпущения? Уголовные замашки. Прямо банда какая-то!
— Молчи, щенок! Что ты себе позволяешь?
Антон будто не слышал окрика.
— Удивляет другое, отец. Лидеры партии не собираются делать каких-либо выводов. Или вечная болезнь слепоты обуяла всех, кого ставят у власти? Ну натворил Хрущёв бед. Прокляли они его. Выгнали. Хорошо, не распяли, как при Сталине. Но зачем новому лидеру творить ещё большие гадости?
Шальнова давно уже била нервная дрожь. Он едва сдерживался, чтобы силой не унять наглеца. Тот обрушил на него столько неожиданной информации и так яростно кричал, что он опешил, не зная, как реагировать. Многое он уже слышал, о некотором знал, ещё о большем догадывался. Но сам не оценивал, не принимал всё за чистую монету. Переживал про себя, но молчал, терпел — не ему решать. А этот желторотый юнец смеет его обвинять чуть ли ни во всех смертных грехах! Его, отца, учёного-историка, заведующего кафедрой истории коммунистической партии, истории марксизма, тот шпынял и оскорблял, словно бил ногами! А главное, посягнул на святое! На партию!
— Попёрли Рокоссовского из Польши, но Хрущёв танками там «свободу» хвалёную стал наводить! Мирное население постреляли, утихомирили! Месяц прошёл — то же самое в Венгрии! Только в Будапеште уже танками живых людей давить стали!
— Это были враги!
— А в Праге? Была необходимость Брежневу в Чехословакии повторять Хрущёва? Что же это за свобода получается, если она на крови людей замешана? У коммунистов свобода лишь на лозунгах, да для них самих! И то не для всех!
— Это борьба идеологий! В чехословацких событиях, как и в трагедии венгров, были замешаны американцы! Если не мы, там были бы они!
— Это обыкновенный фашизм, отец. Только фашизм не Гитлера, а наш, советский! Фашизм, не признающий ничего иного, кроме собственных принципов и постулатов! О какой свободе можно говорить? О каких демократических началах?..
Договорить сын не успел. Пощёчина отца ослепила его, отбросила к стенке. Ещё страшнее ударили слова:
— Сволочь! Как ты смеешь? Пошёл вон!
Шальнов ещё не пришёл в себя, а дверь за сыном с треском захлопнулась, и тяжкая тишина повисла в квартире.
— Мерзавец! Как он быстро набрался этого дерьма! — Шальнов бросился в комнату сына, схватил радиоприёмник, швырнул его на пол и в бешенстве растоптал. Он убивал ненавистную гадину, змеем проникшую в семейную тихую когда-то жизнь, царившую в их доме.
Антона не было до поздней ночи. Шальнов уже перестал ждать, задремал, так и не раздевшись, на диване, но сразу очнулся, услышав, как щёлкнул замок на входной двери. Она открылась, привычно скрипнув, неуверенные шаги смутили его — сын так никогда не ходил. Тот всё время куда-то спешил, торопился, словно боясь опоздать. Это был чужой человек, но где он взял ключи от их квартиры?
Шальнов насторожился, открыл глаза. Опять боль, беспощадная, страшная, вернулась к нему, ведь чуть только отдышался, пришёл в себя от ссоры с сыном. Тогда он выпил несколько таблеток, не помогло. Он полез в холодильник, достал оставшуюся нетронутой ещё с новогодних праздников запотевшую бутылку водки, плеснул в стакан.
Голова горела, раскалывалась. Выпив, не почувствовал вкуса, ощутив лишь приятный холод. Отступило. Он лёг на диван. Потом вставал несколько раз, пил, пока от содержимого бутылки ничего не осталось. Заснул. А теперь вот среди ночи его разбудил скрип двери.
В прихожей уже горел свет. Шальнов всмотрелся в маячившую у входа в зал фигуру. Нет. Это не чужак. Это был его сын. Но с ним явно что-то произошло. Похоже, он едва держится на ногах… и этот гнусный запах алкоголя, резкий и неприятный… Антон никогда не пил спиртного.
Фигура медленно, на ощупь двигалась к нему, пробираясь через стулья, стол, к дивану.
Сын не пошёл в свою комнату, что-то заставило его поступить иначе. Это тревожило и пугало. Он остановился, не дойдя до дивана несколько шагов.
— Я знаю, ты не спишь… — трудно связывая слова, медленно выговорил сын. — Мне не хочется беспокоить тебя, но мы опять не договорили.
Шальнов не хотел двигаться, вставать, всё начинать сначала.
— Ложись, Антон. Поздно. Мне плохо, — выдавил он из себя.
— Нет, в разговоре должна быть точка… Ты должен знать… Я её поставил!
— Что ещё? Что ещё ты сделал? — Шальнов, пересилив себя, приподнялся, сел, оглядел сына.
Вид того был ужасен. Он, мертвецки пьяный, держался в вертикальном положении только за счёт мебели, на которую, как мог, опирался. Перемазанный весь грязью, костюм в чудовищных пятнах коричнево-чёрной краски завершали впечатление.
— Где ты был? — уставился Шальнов на сына. — Что ещё случилось?
Сильная головная боль опять сдавила виски. «Как бы не грохнуться опять, как в тот раз, — мелькнула мысль, — надо уложить сына спать».
— Что произошло? Ты можешь мне объяснить? Почему ты в краске? Вы что там с друзьями от слушания радио перекинулись на живопись от безделья?
— Я один, отец… Один, не пытай меня про сообщников… Их нет… Я один всё сделал…
— Что ты ещё натворил?
— Я сделал то, что должен был сделать только я сам… — отрешённым, безразличным голосом произнёс сын, шатаясь.
— О, чёрт возьми! — схватился Шальнов за голову. — Говори же!
Сын, похоже, уже плохо соображал, стремительно погружаясь в забытьё от домашнего тепла.
— Говори! — Шальнов в предчувствии пугающей неведомой беды вскочил на ноги, схватил сына за отвороты пиджака, начал трясти, приводя в сознание.
— Завтра утром весь город поймёт, кто виноват во всём… Завтра все увидят…
— Что ты мелешь? О чём ты?
— Фашиствующие коммунисты терзают страну, а ты их покрываешь… Но завтра все поймут…
— Откуда на тебе краска? Ты что делал?
— Этой краской исписан весь город! Завтра утром ты увидишь всё сам…
— Что ты сделал? Не молчи!
— Красные фашисты не должны существовать! Не имеют права нас дурачить!
— Бред какой-то… — тряс сына Шальнов. — Ты своими лозунгами расписал весь город?
Ужасная догадка наконец дошла до его сознания.
— Ты что, воззвания свои на стенах написал? Говори, идиот! Что ты молчишь, мерзавец?
— Да, отец, я это сделал… На нашем Кремле… Пусть все видят…
— Безумец! Что ты натворил? — Шальнов с силой отшвырнул сына от себя.
Тот, опрокидывая стол, стулья, всё, что препятствовало его полёту к стенке, влепился в каменную недвижимую преграду и грохнулся на пол. Тело расползлось, размазалось, застыло, больше не двигаясь. Алая струйка крови выползала из-под головы, заструилась на пол, нашла углубление, образовала лужицу, которая сразу почернела.
Шальнов всё ещё стоял, не двигаясь, тупо смотрел пред собой. Разум покидал его. Потом он зачем-то сплюнул. Плевок не получился. Слюна тягуче потянулась изо рта, раскачиваясь, словно пыталась вернуться назад. Он размашисто утёр её ладонью. Потом долго изучал свои огромные ладони, зачем-то сложил в один огромный кулак и хрустнул пальцами. Сухой треск нарушил мёртвую тишину квартиры. Он вышел на балкон, опустил голову вниз к чернеющему асфальту. Разламывалась от боли голова. Он рванулся к холодильнику. Водки не было.
Когда он возвратился к сыну и наклонился над ним, тела уже коснулся холод смерти. Но Шальнов вряд ли осознал всё то, что произошло. Всё, что делалось им потом, происходило помимо его осознания.
Он, словно сомнамбула с чужим разумом внутри, засуетился возле трупа: рычал, стонал с ножом в руках, по пояс в крови, гремел молотком, сколачивая ящики, затем таскал их к берегу Волги и там грузил в лодку; куда-то плыл, заведя мотор. По пути выбрасывал ящики, короба… Гнал лодку… Дальше, дальше, прочь от проклятого города… Пришёл в себя или очнулся, когда в лодке остался один-единственный заветный ящик.
«Я не отдам всего сына реке», — безумный мозг лихорадила одна-единственная мысль.
Шальнов направил лодку к высокому обрывистому берегу с берёзками на возвышении. Он приметил это место в просыпающемся от тумана рассвете. Вот здесь и упокоится навеки его Антошка, а он будет его навещать…
Финита ля комедь[29]
Кто не без греха?
Как чесались руки уговорить прокурора области отдать в управление дело на этого негодяя-антисоветчика! Он уже было договорился о встрече с Игорушкиным и день назначили, но случай уберёг.
Вот, позвольте посмотреть, сам отщепенец просит, чтобы уголовное расследование проводилось у них, в Комитете госбезопасности, а не в областной прокуратурой. Спасли всё же выдержка и мудрость, не придётся ему в ножки прокурору кланяться.
Так рассуждал про себя начальник управления Комитета госбезопасности Марасёв, накручивая в нетерпении диск телефона, набирая номер начальника следственного отдела областной прокуратуры Колосухина. Но телефон вот уже длительное время отвечал короткими гудками. Колосухин с кем-то непростительно долго разговаривал, и это бесило. По внутреннему аппарату связи Марасёв набрал майора Серкова:
— Валентин Степанович, зайдите ко мне и захвати письмо…
— Бушуева?
— Антисоветчика этого.
— Есть!
Не прошло и пяти минут, а стройный красавец, щёлкнув каблуками, вытянулся перед столом.
— Что он там пишет-то? — кивнув майору на стул возле приставного столика, спросил Марасёв. — Напомни, я в следственный отдел облпрокуратуры звоню.
— Вот послушайте, товарищ генерал, — Серков развернул перед собой несколько помятых листков в клетку, исписанных мелким неразборчивым почерком.
Он попытался прочитать, но никак не мог справиться с замысловатыми буквами и, очевидно, с ещё более непонятными словами. Так и не разобрав ничего, кроме отдельных бессвязных фраз, Серков поднял голову на начальника и выпалил:
— В общем, жалуется на прокурорских работников. Считает, что они закон нарушают. Полагает, что дело мы должны расследовать, а не они. Просит передать дело в Комитет госбезопасности по подследственности.
— Но у нас же это?.. Измена Родине, шпионаж, теракты? Смертная казнь за это предусмотрена… Он не больной?
— Здоров, товарищ генерал.
— А что это он?
— Встретиться необходимо с ним, товарищ генерал. Поговорить. Понаблюдать. Вам бы, как я докладывал, пока попросить у Игорушкина разрешение на беседу с арестованным. Чтобы в жалобе его разобраться. А там видно будет.
— Точно, псих! Разве здоровый человек будет на себя такие обвинения брать? Подумать только! Чтобы в наше время!..
— Здоров он, товарищ генерал. Я наводил справки в психиатрическом диспансере. На учёте у них не значится и не значился. До ареста начальником пожарной части работал. На хорошем счету. Единственное — велеречив.
— Что-что?
— Болтлив.
— Потому и антисоветчик.
— Мною в следственном изоляторе справки наведены. Никаких аномалий в поведении за ним не наблюдалось. На первых порах после ареста перепуган был здорово, вёл себя, как мышь, ни звука, ни слова. А потом обвык, обтёрся, записал, засыпал всех просьбами, ходатайствами, прошениями разными.
— Не понравилось обхождение?
— Не понравилось. Он внимания начал к себе требовать. То ему не так, то не этак. Ни дать ни взять, «народоволец» выискался! Борец за права униженных и оскорблённых! Бороду, «декабрист» вшивый, отрастил… Одним словом, выдал начальнику «белого лебедя», что не место ему с шелупонью разной сидеть, хулиганьём, ворами, мокрушниками. Он, мол, птица другого полета. На Ковшова стал жалобы катать.
— Это кто такой?
— Прокурор следственного отдела. Ему Игорушкин поручил следствие по этому делу.
— Встречался с ним?
— Нет ещё, Анатолий Павлович. Ждал вашей команды. Вы же решили переговорить по этому поводу с прокурором области?
— Собирался, — почесал за ухом генерал, — а вот сейчас тебя послушал… Сомнения меня берут. Псих он настоящий, этот Бушуев. Намучаемся мы с ним. На нас жалобы катать начнёт. Это такая порода людей. Я их знаю. Сутяжники. Запишут — не отмоешься… А с другой стороны…
Марасёв озарился, расцвел в мечтательной улыбке:
— Валентин Степанович, нам бы как раз это дело самим окончить да в суд направить! Будет, что сказать и Леониду Александровичу, а?
— До пятницы никак не успеть, — тоскливо затянул Серков.
— Да нет! Какой там до пятницы! Я что же, не понимаю? Но уже будет, о чём говорить. Дело, мол, возбудили, следствие проводим…
— Экспертиза понадобится, товарищ генерал, — сразу упредил всё более мрачнеющий майор, — может месяц только на неё уйти.
— Попросим врачей. Кто там у них главный? Масин?
— Вроде он.
— Попросим его, мужик крепкий, наш. Я его знаю. За недельку сделает.
— Если дураком признают, дело прекратить придётся.
— Но это уже забота суда, насколько я помню?
— Так точно, товарищ генерал!
— Ну так в чём дело? Ещё проще. Признают дураком, в психушке будет париться, а не в тюрьме. Пусть лечат. Какие проблемы? — Марасёв крутанул ещё раз диск телефона, тот вновь ответил «занято».
— Никак я к Колосухину не пробьюсь. Слушай, всё равно официальный запрос для разрешения потребуется на беседу с… как его?
— Бушуев, товарищ генерал.
— С Бушуевым. Ты подготовь запрос, я подпишу, и беги в прокуратуру. Поговори там с Виктором Антоновичем, со следователем этим. Жалобу покажи. Они разрешение, конечно, дадут. А потом доложишь.
— Есть!
— Ну и исполняй. Не трать время-то, а то сижу, телефон кручу, сгорит скоро…
В прокуратуре области у кабинета Колосухина Серков столкнулся с Казачком. Тот, раскланявшись с кадровичкой, удивился и обрадовался неожиданной встрече с приятелем. Лишь только Течулина отошла, он заинтересованно ткнул локтем Серкова:
— Валентин Степанович, вы, случаем, не мой хлеб сюда пожаловали кушать?
— Нет, не твой. Хуже, — хмуро съехидничал Серков. — Я чую, ты опять кадры у прокуратуры переманиваешь. А, хитрая лиса? Но у меня миссия, должен сказать, не лучше. Мне поручено собрать масло с их хлеба.
— Не понял?
— Генерал послал договориться дело у них забрать к нашему производству.
— Резон?
— Антисоветчик попался.
— Вот как! Это удача. Нам бы как раз к встрече с Борониным не помешало. Правильное решение.
— И ты туда же.
— А кто ещё?
— Вы с нашим начальником оба как в воду глядите. Расхлёбывать-то мне придётся. Я справки наводил. Этот Бушуев не такой простоватый, каким кажется. Мне Ковшов рассказывал, что он с ним поначалу полный контакт на допросах установил. И признал тот всё, а сам жалобу потом нам накатал. Что-то с психикой у него не в порядке.
— Ну, это ерунда, ты его быстро обломаешь. Тем более, сам к нам просится.
— Мы никого не ломаем, Тарас Иванович. Прошли те времена. Мы допрашиваем в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса. Ты эти замашки кончай!
— Что это с тобой? Шутки перестал понимать, Степаныч. Что случилось?
— Я мнение генерала разделяю, дело нам не помешает, даже козыри даст к совещанию, но что-то не по душе мне эта скотина-антисоветчик. Лепит он себя под вождя, а на деле — гнида, правильно прокурор квалифицировал его действия по статье сто девяностой прим[30]. Мелкая шавка! Только тявкать и способен.
— Ты брось. Я, конечно, не силён, сто девяностая статья у него или какая другая. Это тебе лучше знать, ты следственник, но Марасёв прав, дело надо забирать к нам, а в суде разберутся. Если что, переквалифицируют обвинение с одной статьи на другую. Беда невелика. И нам для авторитета, и этому гаду рот закроем. Я правильно понял, он об этом сам жалобу накатал?
— Ты просто ясновидец, — опять съехидничал Серков, — не зря на идеологии сидишь, сквозь стены видишь.
— Вот поэтому бери меня с собой к Колосухину. Я его давно знаю. И он со мной в ладах. Если что, я его уговорю дело нам сбросить. Договорились?
— Пойдём, если тебе больше делать нечего, — махнул рукой Серков.
Колосухин, не успели Серков и Казачок к нему войти и объяснить причину визита, тут же вызвал Ковшова и, пока тот добирался, начал читать жалобу арестованного. Мучился он с ней так же, как недавно Серков в кабинете у Марасёва.
— Вот почерк, — бурчал начальник следственного отдела, теребя бумажку, переворачивая, разглаживая и порой поднося почти к носу. — Я сам выезжал на обыск к этому антисоветчику. Брал Ковшова с собой. Вроде нормальный мужик… а пишет чёрт те что! Пожарный, кажется?
— Пожарный, — закивал Серков, — но больно занудный. Если так и пожары тушил, то понятно, почему у нас город постоянно горел.
Наконец, не сумев прочитать ни слова, Колосухин бросил бесполезное занятие, поднял глаза на майоров.
— Что он пишет-то?
В дверь, постучав, аккуратно вошёл Ковшов:
— Присаживайтесь, Данила Павлович. — Колосухин встал, прошёлся по кабинету, приоткрыл окно. — Вот жара прёт! Дышать нечем. Открывай не открывай — бесполезно.
— В этом году лето жаркое обещали. — Ковшов уселся к столу на свободный стул, дождавшись, когда Колосухин возвратится на своё место, сказал: — Слушаю, Виктор Антонович.
— Жалобу на тебя накатал твой подопечный. Ты с ним философские беседы проводишь, а он на тебя ксиву в Комитет настрочил. Обвинение предъявил ему?
— А как же, на второй день после обыска и задержания, как и говорили.
— Сто девяностую прим?
— Правильно. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй, — утвердительно кивнул Ковшов. — Что заслужил, то и схлопочет.
— А Бушуев требует себе статью построже… пострашнее… семидесятую! Считает, занижаем мы его заслуги перед Уголовным кодексом.
— Ну и дурак! Какая у него антисоветская агитация? Там умысел на подрыв государства необходим. А он — мелочь пузатая. Под авторитетного диссидента косить решил?
— Вот он и жалуется на тебя. А жалобу послал им, — Колосухин кивнул на майоров. — За уголовным делом пришли товарищи.
— Так я что? Я хоть сейчас. Уже побежал. Баба с возу…
— Погоди, погоди! Обрадовался!
— В суде, если что, всё равно перейдут с одной статьи на другую. С высшей статьи на низшую можно. Наказание по статье сто девяностой незначительно, по семидесятой — до червонца.
— Да, потеха… — покачал головой Колосухин, закряхтел в кресле, заёжился. — Зачем ему больше сидеть понадобилось?
— Да не об этом он думает, Виктор Антонович, — Ковшов оглядел Серкова и Казачка. — Мне известно, что товарищи из Комитета уже интересовались его здоровьем.
— Это я проверял, — подтвердил Серков.
— Так вот. Он совершенно здоров. А поступает так потому, что размечтался о лаврах. Решил славу великого мученика себе создать. За правду пострадать. На костёр советской инквизиции взойти.
— Это ещё что? — удивился Колосухин. — Откуда у вас, Данила Павлович, такие цитаты?
— Это не мои. Это заявления Бушуева. Я же вам показывал его письма, которые он по городам рассылал и разбрасывал в Москве, Киеве, Ленинграде. При обыске у него то же самое было изъято. Под трафарет он их изготавливал. Вы же видели, Виктор Антонович, при обыске? Кучи их изъяли.
— Не читал полностью. У него почерк — глаза испортишь.
— Я тоже помучился. Экспертам дал. Они полный текст восстановили. Что он там только не насочинял! И смех и слёзы. Фотографию помните? У деда Ленина на могилке запечатлелся. Не иначе, для потомков себя готовил.
— Вы всё же психиатрическую экспертизу ему проведите. Больно уж замашки у него нездоровые.
— Уже позаботился. Пока амбулаторную назначил, а если необходимость будет, подумаем о стационарной.
— Вот так, друзья мои, — развёл руками Колосухин, обратившись к Серкову и Казачку. — Годится вам такой подарок? Забирайте. Мы противиться не будем. Пока результатов экспертизы нет, Бушуев считается здоровым и может отвечать на все вопросы предварительного следствия. Статьи уголовные, которые он считает возможным оспорить, по своим юридическим составам пограничные. Нами предъявлено обвинение ему по статье сто девяностой прим, преступление это менее опасное, нежели то, на которое он замахнулся. Чем он руководствуется? Трудно делать какой-либо вывод. Если он заявление о передаче дела по подследственности сделал, его следует рассмотреть, но решать этот вопрос будет прокурор области, то есть мы. Настаиваете — мы дело вам отдадим. У Ковшова работы и так хватает. Кроме текучки да этого дела Николай Петрович ему убийство замысловатое поручил. Черноборов, криминалист наш, тоже пыхтит уже пятый месяц с делом на работников милиции. Про Федонина и Зинину и не говорю, они завалены по уши. Так что нам резона держать у себя лишние дела нет никакого. Будете брать, — готовьте письмо, прилагайте жалобу обвиняемого, мы быстро рассмотрим. Время тянуть не станем.
— А я принёс уже, вот, — Серков приподнялся, протянул Колосухину бумагу. — Только пока вы его обсуждать будете, разрешите нам поработать с арестованным.
— Это что вы имеете в виду?
— Встретиться с обвиняемым в тюрьме, побеседовать по поводу его обращения…
— А не откажется он после этих встреч от ваших услуг, Валентин Степанович? — Колосухин хитро блеснул глазами.
— Ну если откажется, так беда невелика. Вы же сами говорите, суд точки ставить будет.
— Суд-то суд, но уж если в суде согласятся с мнением этого?..
— Бушуева, — подсказал Ковшов.
— …Тогда возвратят дело на дополнительное расследование, — закончил Колосухин. — Опять нам придётся кашу расхлёбывать, а дело вам передавать.
— Ну, раз подлюга сам просит, — рубанул рукой молчавший всё время Казачок, — так отдавайте дело нам, Виктор Антонович, и нечего из-за мрази головы ломать.
— Ладно, беседуйте с арестованным, — согласился Колосухин. — Данила Павлович, выдайте майору Серкову разрешение на встречу, а мы пока ситуацию обсудим, согласуем с Петровичем. Я думаю, он особо возражать не станет. Хотя, дело политическое… Как считаешь, Данила Павлович?
— Политики здесь мало, больше чванства и дури у этого типа, — высказался Ковшов. — Бушуев, конечно, физически здоров, адекватен, но крыша у него явно сдвинулась, он мечтает прославиться. Великим пожарным стать не удалось, вот он в декабристы и подался.
— Октябристы — декабристы, одна хрень, — выругался Казачок. — Антисоветчик!
Уходя, Ковшов пропустил вперёд работников Комитета, а Колосухину, обернувшись, сказал:
— Мелкая это птица. Не вытянет он на семидесятую. В областном суде в штаны наложит, когда его в клетке привезут и объявят, что десять лет грозит.
— Зато убедится — закрытый рот помогает сохранить зубы. Так, кажется, говорится в народе? Ему эта наука не повредит, — глаза Колосухина были серы и холодны.
Ковшов провёл гостей в кабинет, где кроме него обитали ещё три прокурора следственного отдела, но присутствовал лишь один. Толупанов лениво листал газету и тоскливо поглядывал в окно — до обеда оставалось ещё много времени. Вошедшим он несказанно обрадовался, а когда Ковшов к тому же на него внушительно глянул, враз удалился, якобы обуреваемый желанием покурить на улице.
Стол Ковшова был завален бумагами, но он их решительно сдвинул в сторону, усадил Серкова и Казачка напротив и полез в сейф. В сейфе, громадном и видавшим виды, с облезлой светло-зелёной краской на боках, тоже было тесно. Ковшов начал вынимать его содержимое прямо на стол. От неловкого движения, когда Ковшов извлекал тяжёлый громоздкий бронзовый бюст Сталина, куча выложенных бумаг, уголовных дел и папок рассыпалась по полу. Разлетелись, как колода карт, чёрно-белые крупные фотографии. Ковшов чертыхнулся. Поставил бюст на стол и принялся их собирать. Серков и Казачок дружно засуетились рядом. Когда авральные работы закончились, майор Казачок, с озабоченным видом разглядывавший бюст Сталина, пристально вгляделся в фотографии, подобранные им с пола. Потом с тем же, но уже возросшим интересом попросил фотографии у Серкова и даже заглянул в руки Ковшову.
— Ты что это, Тарас? — одёрнул приятеля Серков. — Что это тебя затрясло? Трупов расчленённых никогда не приводилось видеть?
— Фотографии того самого убийства, о котором Колосухин говорил? — спросил Серков Ковшова, так и не дождавшись от Казачка никакого ответа.
Ковшов кивнул и потянулся к Казачку, взять у того оставшиеся фотографии. Но тот, неестественно остолбенев, не сводил взгляда с бронзового бюста на столе.
— Откуда это у вас, Данила Павлович? — наконец выдавил он.
— Тоже по убийству. Вещественное доказательство. Полагаю, это орудие убийства.
— Я, кажется, этот бюст уже видел. Совсем недавно.
— Видели? Где же? — спросил Ковшов и вместе с опешившим Серковым уставился на бледного Казачка.
— И фотографии мне эти знакомы, — Казачок растерянно перебирал в руках чёрно-белые снимки, — вот этот, этот, этот. Я видел эти места.
— Смотрите сюда! — Ковшов извлёк из сейфа свёрнутый кусок акварели и развернул его на столе.
— Точно! Он самый! — не удержался Казачок. — Это пейзаж из квартиры Шальнова, историка института. Что это значит?
— Убил Шальнов своего сына, — тяжело произнёс Ковшов. — А это всё следы его трудов.
Ковшов присел к сейфу, бережно стал укладывать в бездонное нутро бумаги, фолианты уголовных дел, бюст, свёрток с акварелью, фотографии.
Казачок и Серков тупо молчали, каждый осмысливал услышанное и увиденное по-своему.
— А вы что же, Тарас Иванович, знакомы были с Дмитрием Гавриловичем Шальновым? — закрыв сейф и усевшись за столом, Ковшов внимательно посмотрел на майора.
— Да, познакомился вот, — кивнул тот, всё ещё не приходя в себя, — на днях.
— Дома у него были?
— Там и видел эту картину. Обрыв, опушка и берёзки над рекой…
Казачок, потерявшись совсем, взглянул на Серкова, тот пребывал в прежнем состоянии столбняка.
— То-то он мне странным каким-то показался, — начал Казачок, — комната запертая, воздух затхлый, как в могиле. Когда же он его и за что, Данила Павлович?
— Следствие только началось. Но со дня смерти прошла неделя-две, а то и больше. Эксперты ещё не дали заключения. Отсчёт, видимо, следует вести с того дня, как Антон Шальнов перестал посещать занятия в институте.
— А отец мне сказки рассказывал, будто сын к матери удрал после ссоры… — выпалил Казачок, к которому начали возвращаться ощущения, а вместе с ними и рассудок. — Врал, паразит! Признался он, Данила Павлович?
— Шальнов Дмитрий Гаврилович находится в психиатрической больнице с тяжёлым расстройством сознания, — отвернулся от Казачка и Серкова к окну Ковшов и замолчал.
Желания вести разговоры по делу у него явно не имелось. Он казался утомлённым, мрачно изучал ветки клёна, царапающие под ветром стёкла окон. В повисшей тишине все трое долго слушали скрежет живого по неживому.
— Но как же вы его установили? — не сдержался опять Казачок.
— Сам пришёл.
— Безумный?
— Он акварель написал, чтобы место захоронения останков трупа не забыть. Ещё, видимо, что-то соображал…
— Вот как!
— А приехав туда, стал раскапывать труп… Вернее, последнее, что от него осталось… Голову. Другие части тела раньше в воду выбросил.
— Что это его проняло?
— Голову не нашёл. Мы её раньше оттуда забрали, сразу после обнаружения мальчишками…
— А он?
— Вот тогда Дмитрий Гаврилович, видно, окончательно рассудка и лишился. Он весь холм перерыл. Копал землю, пока его там не заметили, участковому сообщили, тот его и задержал.
— Буянил небось?
— Участковый спрашивает: «Ты кого, отец, здесь ищешь?» А тот отвечает: «Сын здесь мой. Под берёзками я его положил…»
Примечания
1
Эдем — в библейской мифологии страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения, синоним рая.
(обратно)2
Сеть для ловли белуг (каспийск.).
(обратно)3
«Серым кардиналом» за глаза называли второго человека в ЦК КПСС после Л. Брежнева — М. Суслова.
(обратно)4
Ильмень — так на юго-востоке европейской части России называют небольшое зарастающее тростником и камышом озеро, как правило, расположенное в дельтах больших рек.
(обратно)5
Каков господин, таков и слуга (лат.).
(обратно)6
Режак — вид одностенной плавной сети; употребляется на Волге и ее притоках, тотчас после полой воды.
(обратно)7
Сенека в своих литературных произведениях упоминает о пяти ветрах, среди них холодный северный Борей, влажный южный Нот.
(обратно)8
Аид — в греческой мифологии царство мертвых, Аид — бог подземного мира и царства мёртвых.
(обратно)9
Банщик, байданщик (воровской жаргон) — вокзальный вор.
(обратно)10
Дербанщик, рвач (жарг.) — вор, выхватывающий вещи из рук жертвы и скрывающийся бегством.
(обратно)11
Джеймс Кук (1728–1779) — английский мореплаватель, трижды обогнувший Землю. Убит и съеден людоедами с Гавайских островов.
(обратно)12
Филипп Дорнер Стенхоп, граф Честерфилд (1694–1773) — английский писатель, прославился «Письмами к сыну», книгой — кодексом воспитания.
(обратно)13
22.01.1969 г. во время чествования в Москве космонавтов А. Елисеева, В. Шаталова, Б. Волынова и Е. Хрунова при въезде кортежа в Кремль переодетый в милицейскую форму младший лейтенант Советской армии В. Ильин открыл прицельный огонь по автомобилю «Чайка», полагая, что там находится Л. Брежнев. Тот не пострадал, так как ехал в другой машине.
(обратно)14
30.04.1968 г. в нескольких экземплярах вышел первый самоиздатовский бюллетень «Хроники текущих событий», представляющий гласности факты нарушения прав человека в СССР.
(обратно)15
Щусев А.В. (1873–1949) — архитектор. По его проекту, в частности, построен Мавзолей В.И. Ленина в Москве (1924–1930 гг.).
(обратно)16
Президиум Верховного Совета РСФСР 16.09.1966 г. принял Указ о внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР. Он дополнялся статьей 190-1, 190-2, 190-3: «систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и «активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный строй». Согласно этим дополнениям человека можно было посадить в тюрьму на 3 года. Основанием служило и распространение «ложных измышлений» в письменной, печатной форме.
(обратно)17
«е2—е4» — в шахматах так начинается наиболее популярная «испанская партия», которая обычно завершается победой белых.
(обратно)18
Считается, что эти фразы и цитаты принадлежат римскому философу Аннею Луцию Сенеке (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.), представителю стоицизма.
(обратно)19
Vivere militare est (лат.) — Жить — значит бороться. Выражение А.Л. Сенеки.
(обратно)20
В августе 1967 г. Председатель КГБ Ю.В. Андропов направил в ЦК КПСС информацию «об антиобщественных выступлениях», в котором ставил в известность руководителей партии, что в Москве из числа «фрондирующей молодёжи» предпринимаются попытки спровоцировать антиобщественные выступления с демагогическими требованиями свободы демонстраций, митингов и т. п.
(обратно)21
«Верный помощник» — общественный осведомитель.
(обратно)22
Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором по христианскому преданию был распят Иисус Христос. Слово «Голгофа» — синоним мученичества.
(обратно)23
Sina ira et studio (лат.) — без гнева и пристрастия.
(обратно)24
«Плохим поступкам учимся без учителя» — изречение, предписываемое философу Л.А. Сенеке.
(обратно)25
Экскартп (франц.) — противотанковое земляное укрепление.
(обратно)26
У истоков предфилософии стояли гениальные Гомер и Орфей, исторические личности — Гесиод, Ферекид и Эпименид. Вплотную подошли к философии так называемые «семь мудрецов». Эти слова стоят в кавычках, по той причине, что мудрецов было значительно больше. В разное время в это понятие включали различных мудрецов: в общей сложности фигурировало 17 имён в различных комбинациях. Во всех комбинациях упоминался Питтак из Митилен (около 650–580 гг. до н. э.).
(обратно)27
В мае 1957 года на совещании сельхозработников в Ленинграде Н.С. Хрущев выдвинул знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку» и предложил за три года утроить производство мяса по стране. Лозунг был подхвачен. Первый секретарь Рязанского обкома партии А. Ларионов обещал у себя в области увеличить производство мяса в три раза за один год. Ещё не успев выполнить обязательства, Ларионов стал Героем Социалистического Труда, а область была награждена орденом Ленина. Ларионов полностью забил весь скот в своей области, а также закупленный в соседних областях. Он рассчитывал, что до раскрытия махинаций его перемесят на высшую должность в ЦК КПСС, но афера была раскрыта, в 1959 году у рязанцев не осталось ни скота, ни денег на его приобретение. К концу 1960 года катастрофу скрывать уже было невозможно, и Ларионов покончил жизнь самоубийством.
(обратно)28
В августе 1961 года в СССР отменена обязательная регистрация населением радиоприёмников и телевизоров.
(обратно)29
Искаженное от finita la comedia (итал.) — окончена комедия.
(обратно)30
Статья 190-1 УК РСФСР введена Указом Президиума Совета РСФСР 16.09.1965 г., предусматривала уголовную ответственность в виде наказания лишения свободы до трёх лет за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. С ней граничила статья 70 УК РСФСР, отнесённая к особо опасным государственным преступлениям и предусматривающая более тяжкое наказание за антисоветскую агитацию и пропаганду (санкция по данной статье предусматривала лишение свободы до 7 лет, а по ч. 2 до 10 лет лишения свободы). От ст. 190-1 ст. 70 отличалась повышенной опасностью, так как преследовала цель подрыва или ослабления основ советской власти и, естественно, более тяжким наказанием.
(обратно)

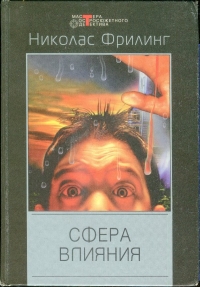



![Служба - дни и ночи [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/560471/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Охота за призраком», Вячеслав Павлович Белоусов
Всего 0 комментариев