Вячеслав Белоусов Красные пинкертоны
Посвящается маме, Татьяне Андреевне, и отцу, Павлу Илларионовичу, молодость которых выпала на это страшное и удивительное время
Историческая наука — это вечный, никогда не прекращающийся спор, так как предмет её — безбрежный океан жизни, тайны сотен миллионов людских душ. Кто из историков возьмёт на себя право сказать: «Я понял их» и загасить свечу на пути к ускользающей истине? Как писал французский писатель Андре Жид: «Доверяйте тому, кто ищет истину, а не тому, кто её уже нашёл».
Иногда мне кажется даже, что историческая наука и не в состоянии понять прошлое, «объяснить» революцию, что без великого нашего литературного наследия сделать это ей просто не под силу. Со школьных лет мы знали: «Революции — локомотивы истории», «революция 1905 года — генеральная репетиция Великого Октября», «Февральская революция — пролог Октября», а затем — «триумфальное шествие Советской власти». Потом наши познания расширились: «Рабочий класс — авангард и гегемон революции», «крестьянство — союзник пролетариата», «партия — организатор и руководитель революционного движения…». Эти и другие трафаретные понятия, часть которых выражалась в форме сомнительных литературных метафор, «укладывали», «упаковывали» драматическую историю революции в схему, обструганную, как бревно для телеграфного столба. И что же удивительного в том, что оно стало превращаться в труху, как только начали приоткрываться оцинкованные двери спецхранов и на свет божий извлекли ранее «запретные книги»? Кого виним мы в этом, к чему ищем коварных «очернителей» нашей истории? По делам нашим воздаётся нам…
Г. Иоффе, доктор исторических наук. «Читая „Архив русской революции“»Часть первая. Речные пираты
I
Как тюрьму ни назови: исправительный дом, следственный изолятор или «Белый лебедь», тюрьма так тюрьмой и останется…
Народ местный затосковал: долго в «Белом лебеде» промурыжат. А поначалу слушок пролетел, будто верха подгоняют здешнее начальство, и потому те глубоко копать не станут, выгоды никакой. Но на днях взяли сразу четверых или пятерых пиджаков — конторских финансистов, к нам отношения не имевших, и совсем непонятная сплетня пролетела: обещают прислать мудрёных зуботык из краевой прокуратуры, аж с Саратова. Прибудет несколько человек вроде как на подмогу нашим, астраханским.
Сенька Голопуз, здешний проныра и тот ещё хмырь, разнюхал к вечеру, что самого Борисова их главный снарядит. То ли по наши души, то ли с конторскими крысами возиться, ну и в горячке попёр:
— Вона каки людишки понаедут! Залётные пинкертоны! Эти мелюзгой не мараются! Полетят пух да перья!
А сам с меня на Китайца глазки так и перекидывает, так и жмурится, будто кот на сметану. И потом к Панкрату Грибову, старосте нашему по камере, чуть не в ножки клонится, как тот?
— С тебя, паршивого, даже блохи дёру дали! — под общий хохот рявкнул на него Гриб, грохнул об пол деревяшкой, что у него вместо ноги. — Потому как драть с тебя, окромя синих рёбер, нечего, — и поддел клюкой Сеньку под тощий зад.
Паникёра он, конечно, усмирил на глазах у всех и настроение поднял, только переборщил, подумалось мне, давно и я, и Китаец приметили, что подсматривал да подслушивал за нами с первых дней Голопуз по заданию старосты. Мы ведь среди их братвы, словно две белые вороны: как ни прикидывались охламонами, по мелочи угодившими в тюгулёвку, арапа заправить не удалось. Поэтому Сенька так и крутился рядом, так и ловил любой шанс выведать что-нибудь о нас, но, получив пинка, припух, забился в угол, хотя надолго его не хватило. Зачухались, зашушукались подле него мужики. Кто-то голос подал, копать, мол, начнут заново да основательней, тогда уж точно без мордобоя не обойтись. Слышали некоторые, что Борисов не только большой спец и на голову горазд, он и кулачищем пудовым приложиться не прочь, у него не застрянет, потому как он не интеллигентик вшивый, а ищейка пролетарских кровей. Митяю Горбатому рассказывали, будто имеет Борисов лютую привычку при допросе револьвер совать в ноздрю нашему брату, для убедительности намерений мимо твоего уха норовит пальнуть в стенку, чтоб крошкой каменной обдало. Это для пущей строгости или когда в сердцах. А там уж сам думай…
При общем унынии от этих известий Панкрат снова своей деревяшкой забухал, болтовню в углах приглушил. И от себя добавил, не те, мол, времена, не при царе-кровопийце и жандармах сосуществует наш брат. А потом совсем ни к месту ляпнул, вон, мол, Иван Иванович Легкодимов из старорежимного сыска к нынешним товарищам легавым перекинулся, а разве чего себе позволяет?
— Дед и прежде такого не терпел, — поддержали его одобрительными возгласами. Царского сыскаря Ивана Легкодимова, среди урок прозванного Дедом, чувствовалось, многие знали, поэтому приободрились, да и Голопуз сразу стих.
Только нам с Китайцем не понравилось. Чего это, с каких сладостей Панкрат на Ивана Легкодимова разговоры перевёл? Мне в драчку лезть не хотелось, смекнул я: бузу неслучайно пройдоха Панкрат заварил. А Китаец задёргался весь, глазками так и засверкал. Однако вовремя я Сеньку Голопуза, оказавшегося опять подле нас, приметил. Ткнул дружка в бок, чтобы помалкивал, а самого червь гложет: Легкодимова себе в защитники Панкрат зачислил неспроста. Конечно, Иван — авторитет среди урок, поговаривают, чуть ли не вторая рука нынешнего начальства уголовки, только дела-то у него последнее время идут не блестяще. Совсем плохи дела старого сыскаря у товарищей в угро, и не знать об этом Панкрат не мог. А если так, зачем братве лукавит? Дух подымает таким манером против нас двоих, чужаков?
Не сдержался я, глянул на старосту, но и он метнул мне взор. Словно полыхнул. Чего уж тут… Поняли мы друг друга. Отвернулся я к стенке и затих, сделав вид, что сон одолевает. А до сна ли было? Мысли тревожные и без того голову буравили, от слетевшихся новостей она совсем в круг пошла.
Старший следователь краевой прокуратуры, товарищ Борисов, хотя и не виделись мы никогда, — давнишний знакомый. Нечего сказать, личность заметная, такого зазря к нам в пески, в тьмутаракань не погонят. Глупостей, конечно, наговаривают урки: не из тех он, чтобы рукоприкладством заниматься. Заливает и Горбатый про его пролетарство, от рабочего класса, если что и имеет товарищ Борисов, так одну фамилию и косоворотку простецкую, а вместо кулачищ у него ручки впору лайковым перчаткам. Выдумки всё, на нарах сочинённые от скуки, как и прочая безалаберщина. Однако то, что в нашем городе он объявился неслучайно, у меня сомнений не было. Наоборот, обречённость, поедавшая нутро, как сюда забрался, ещё большей тошнотой аукнулась в желудке и тоска защемила такая!..
Тот товарищ Борисов года два, а то и поболе, с начальником уголовки всей республики Николаевским дотошно отлавливали удальцов, промышлявших лихим ремеслом на матушке Волге от Жигулей до Астрахани. Называли удальцов в народе по-разному: от «привидений», «водяных чертей» до «речных пиратов», а в оперативных сводках сыскарей именовались они бандитами и налётчиками, убийцами и грабителями пароходов и грузовых посудин, перевозивших по рекам имущество промышленников да торгашей, ценности банкиров да конторщиков и других особ серьёзных. Процветало это ремесло долго, дерзко и безнаказанно, пока местные олухи, руки посбив от неудач, не обратились за помощью в Москву. До самого наркома дошло, вот и устроили серьёзную облаву на вольных людишек. Пока в секрете операция держалась, успели многих отловить. Под Самарой особая удача выпала легавым: взяли атамана нашего Жорку вместе с подружкой Серафимой, только она красотой особой славилась и будто куда-то сгинула, в Таганку его уже одного привезли. Ну а мы, уцелевшие, врассыпную кто куда. Очистив Жигули, добрались сыскари до Саратова и вот, если Сеньке Голопузу верить, их путь теперь сюда лежит. Зубатыка с верхов, какой-то прокурор Эрлих, в газетке местной расхвастался, будто полсотни наших жиганов уже держат в Матросской тишине, в расход пустят, лишь последних дособирают на низах. Со всеми разом желают покончить товарищи одним столичным судом судить, так как урки в разных губерниях промышляли. Закон, конечно, ими придуман. Только исстари на Руси велось — атамана в клетку и прокатить по всей стране, чтоб потом принародно на плахе лютой казни придать. Мало что изменилось после царя-дракона, однако, думается мне, товарищ Эрлих загнул.
Казнят теперь действительно, раздувая пожар в газетках да среди публики, но расстреливают втихую во дворах тюрем. И насчёт скорого конца воровской слободы закавыка у товарищей вышла: рассыпался лихой народец в низах Волги, по речушкам да протокам схоронился, рано прокукарекали. Кто попрятался по своим щелям, а кого уберегли те, кто и раньше о нас заботился. Про Серафиму мелькнуло, что объявилась она уже с комиссаром каким-то под ручку. А вору куда? На любое готов, сам и в тюгулевку забьётся, лишь бы облаву пересидеть. Одно смущает: от сыскарей уйти хитра задачка, но выполнима, а вот куда от своих спрятаться? От тех, кто так же, как ты, всю жизнь промышлял вроде Панкрата и его братвы, а теперь чужаком тебя объявил и на свою территорию не пущает, чтобы шкуру собственную спасти.
Понимали мы с Китайцем, почему Панкрат на нас косится с первых дней и слежку Сеньке поручил. Только и мы не лыком шиты. И у нас против старосты камушек за пазухой. Одноногий жиган не из тех, за кого себя выдаёт. С самарских краёв малява успела до нас долететь, что нездешний он, корни его тоже жигулёвские и делишки остались такие, о которых сыскарям только шепни. Под чьей-то мохнатой лапой промышлял лихим ремеслом. Поэтому цел до сих пор. А в тюрягу засел, как и мы с Китайцем, передышку взять. Впрочем, имелся ещё и другой вариант: деревяшку вместо ноги недавно ему пришлось прицепить. Случилось это после того, как едва не сдох он от заразы да газовой гангрены в болотах, где с Чёрной маской, лихим самарским налётчиком, хоронился от обложивших их легавых. Кассу приличную на рыбзаводе взяли, а ног унести не смогли, вот и кормились лягушками в трясине. Как уцелел Панкрат, один он знает, только рта не откроет, хоть тесак суй меж клыков. А вот братва, что с Чёрной маской пряталась, вся канула в небытие. Сам-то Черная маска сдался, и шлёпнули его скоро, а Панкрата след затерялся. Звали его тогда, конечно, не Панкратом Грибовым, но прошло время и объявился в «Белом лебеде» староста с деревяшкой вместо ноги и той же рожей. Имел тот староста великий воровской багаж, а на нарах парился по пустяку — срезал якобы сумку у раззявы-нэпманши. Сенька Голопуз не знал, куда морду прятать, когда Китайцу эту сказочку впаривал. Китаец над ней язвил и плевался неделю, но я его успокоил. Шут с ним. У нас своих забот полон рот, к чему чужими грузиться?
А сам Панкрат, кумекал я, больше хорохорится. Стар он и слаб. Да и житьё на болоте здорово его подкосило. Сколько гложет меня глазищами, а вспомнить не может. Конечно, в обросшем бородищей да усами здоровенном бугае, каким я стал, трудно узнать юнца из уличной шайки, но я-то его приметил сразу, а уж как малява с Жигулей прилетела, больше не сомневался.
Слаб, слаб одноногий, думалось мне, не годится он в старосты. Надо нам с Китайцем перевернуть в камере порядок в свою сторону, о другом смотрящем за камерой подумать…
Поутихло слегка, задремал уже было и я, только чую — пихнул меня кто-то в бок. Скосил глаз, не оборачиваясь — кому не пропасть! — Сенька Голопуз моргает, подобравшись. Сойди, мол, к Панкрату, требует. Я время выждал — не следует поганцу думать, будто по первой команде на цырлах к нему понесусь. А напротив Китаец будто похрапывает, но шевельнул слегка ресницами — прикрою. Зевая, не торопясь, я поплёлся на променад до параши, а уж потом к старосте присел. Тот смолил махру, с деревяшкой возился, отстёгивал её у самого бедра.
— Газеткой разжился? — спрашивает.
— Сон перебил, — сунул я ему скомканный ком газетки. — Хватит? Или припёрло всерьёз. У меня ещё половинка имеется.
— Снабжают? — он бережно начал разглаживать листок. — На две-три закрутки хватит, а ты её на дерьмо!
— Заботятся люди, помнят и навещают.
— Да это же «Коммунист»! — крякнул староста.
— Газетка, она газетка и есть.
— С такими газетками в отхожие места не ходят, — зажмурил он один глаз, а другим в меня впился. — Иль не боишься легавых? То-то я смотрю особняком ты с желтомазым держисся. Или над башкой крыша надёжная?
— А мы неграмотные. Названий не читаем, когда самокрутки мастырим.
— И чего же тут прописано? — будто не слушая, разглядывал староста уцелевшие печатные колонки. — Ба! Да здесь же товарищ Турин собственной персоной! А вот и его верный помощничек Камытин рядышком! Знакомы мусора?
— А что?
— Ты читай! «Десять лет на тяжёлом посту, — медленно разобрал Панкрат заголовок и заторопился дальше. — Сегодня исполняется десять лет службы в уголовном розыске начальника губрозыска товарища В.Е. Турина и его помощника…» Ты что же? — руки его задрожали. — Играть в бирюльки со мной?
— Я ж говорю, неграмотный.
— Врёшь, сукин сын!
— А ты не сучи! — я враз изменил выражение лица. — Дело есть — будет разговор, а нет — ищи, кому не спится.
Мы долго поедали друг друга глазами.
— Весть имеешь насчёт Деда? — наконец змеей прошипел он.
Мне норова не занимать, но вздрогнул я, не сдержавшись. Больно уж злой огонёк горел в его зрачках, да и сам староста только зубами не щёлкал. А главное, про Ивана Легкодимова речь повёл, значит, решил действовать. Ну что же, подумалось мне, пора так пора, а то играем в кошки-мышки…
II
В ту ночь все спали плохо. Кто-то дохал в углу, надрывая лёгкие, стонал и вскрикивал Сенька Голопуз. Горбатый, самый близкий к нему на нарах, растолкал его, повизгивая, стращал чем-то. Потом гаркнул староста, и вроде все поутихли. Но утро началось и того хуже — с диких воплей.
Я очухался, когда крик ещё давил уши и, продрав глаза, успел заметить в свете тусклой лампочки метнувшегося с нар Панкрата. На одной ноге староста доскакал до бесновавшегося Горбатого и одним ударом кулака свалил Митяя. Вопль как взлетел, так и оборвался. Щуплое тело уродца завертелось юлой, влепилось в стенку, обмякло и сползло. Зажимая разбитый рот, он замычал, дико замахал свободной культей в сторону параши. Там кто-то неестественно громоздился. Как ни орал Панкрат, ни осаживал всех на места, подскочив сам к двери камеры и барабаня караульным, многие сорвались с нар.
Несладкая открылась им картина: над отхожим местом громоздилось тело Сеньки Голопуза, ткнувшегося носом чуть ли ни в самое дерьмо. В горячке кто-то схватил его за свалявшиеся космы и отвалил тело на спину. Тогда все и отпрянули — в левом боку шестёрки[1] торчала рукоятка заточки…
III
Короток век вора. Вор, пока молод, зависит от удачи. А не выскочил в авторитеты, когда фартило, ложись под пику или гноись в шестёрках. Сенька Голопуз последнее время перебивался на самом дне, в тюрьме прилип к Панкрату, того и вызвали на допрос первым, лишь санитары уволокли тело. Мурыжили Панкрата почти до полудня, а потом взялись по очереди за остальных, но нас с Китайцем не трогали. Занимались этим тюремные сыскари. Их было двое, не справлялись. Китайца выкрикнули только под вечер, и он пропал. Давно скомандовали отбой, но в камере не думали спать, шушукались, жались возле старосты. Тот отмалчивался, тискал свою деревяшку. Мне предстояло готовиться на допрос в ночь…
IV
До самого утра вызова я так и не дождался. Объявили кормёжку. Про случившееся и про Китайца больше не заикались. Спросить не у кого, без того все косились на меня и сторонились, словно прокажённого. Староста откровенно воротил от меня голову, а других гонял и орал по пустякам. Когда в мёртвой тишине закончили жевать и урки потянулись с пустыми мисками к глазку в двери, надзиратель объявил, что в наказание за происшедшее все лишены прогулки на неделю. Недовольная ругань снова посыпалась в мою сторону. Впрочем, меня это меньше всего угнетало, мучили мысли о дружке. Что с ним? Китайцу убивать Голопуза не было никакой надобности. Если и имелась, хватило бы ума поделиться намерениями со мной и не совершать этого в камере таким варварским способом. Паскудный конец собственному прислужнику и соглядатаю, несомненно, учинил Панкрат. Сенька уже ни к чёрту не годился, мы с Китайцем чуяли его за версту, из тех, кто обитали в камере, были и похитрей, а заточку, что в его боку оказалась, я сам не раз видел в руках старосты. Хоронясь, он устранял ею неполадки в своей деревяшке и ловко прятал потом от возможных шмонов[2]. Кончил Панкрат своего гадёныша, догадывался я, чтобы обвинить потом в убийстве нас с Китайцем. Взять хотя бы последние наши переговоры, на которые Панкрат меня пригласил и которые закончились плачевно. Я сразу дал понять старосте, что прогибаться под него нам с дружком нет нужды, наоборот, намекнул про его прежние делишки с Чёрной маской и странное спасение, когда его подельников, не задумываясь, к стенке поставили. Панкрата сразу покорёжило, чем он себя и выдал. Получалось, убийством Голопуза он объявил нам войну… Не ожидал я такой прыти от старосты, ругал теперь себя за опрометчивость: старый упырь оказался проворнее и сметливей. Ему хватило несколько часов, чтобы организовать злодейскую подставу. Я винил одного себя в заварившейся катавасии. Китаец поплатился за моё ухарство, Панкрат пошёл ва-банк и не успокоится, пока не покончит со мной. Корил я себя нещадно и за другую ошибку — во время ночной стрелки[3] не выведал у старосты, где мы с дружком перебежали ему дорожку. Врагов он учуял в нас давно, подлость готовил тщательно. Выбрал в жертву ненужного ему слюнтяя и первым нанёс коварный удар.
Всё сходилось в моём философствовании, пока другая ужасная догадка не пронзила мозг — за старостой может стоять более значительная и властная фигура! Этот человек нам с Китайцем неизвестен, скорее всего, он не из «Белого Лебедя», а за его пределами обитает. Неужели он из одной конторы с Борисовым?!
Так или иначе, теперь передо мной стояли две задачи: уберечься самому и не оказаться мертвяком у параши, подобно Голопузу да найти таинственного хозяина Панкрата. Ничем другим помочь своему дружку я не мог. Оставалось надеяться, что и он не спасует.
Вспомнил я день, когда встретились мы с Китайцем, и слегка отлегло от сердца — не из таких он, чтобы сдать товарища…
V
Было это несколько лет назад, но память хранит ту встречу, будто вчера виделись.
Под лапу нового хозяина и крышевателя Дилижанса я угодил, дёрнув от лягавых из Самары. Но один ему был никуда не годный. Дилижанс нашёл мне проворного напарника. Раньше я про таких желторожих и шустрых не слышал никогда. Сунулся к Прохору Курагину, верному шептуну Дилижанса: зачем нам мартышка понадобилась, а старик отвёл в сторону и посоветовал при новичке не называть его так, китаец, хоть и мал, но коряв, а по форточкам да иллюминаторам пароходным шнырять лучшего спеца не найти. Наказал язык прикусить, а делать, что велено. Новичку, как водится, проверку следовало пройти. Случалось, братва лихая попадалась, но на баб падкая. В нашем деле — это лишние хлопоты, из-за них и гибли по собственной слабости.
Ну, как положено, раз мой подопечный, приглядеть за ним поручили мне. Был он неразговорчив, держался обособленно, по утрам разогревался до пота гирями и как обезьяна прыгал по стенкам, пытаясь пяткой своротить дубовый дверной косяк. Это зарядка — гимнастика у них такая, джиу-джитсу называется; я попробовал за ним повторять — ничего не вышло, кости не те, не гнутся. А вообще на глаза ему не лез. Он откликался на кликуху Китаец, как и назвал его приведший Курагин, а настоящего имени его не знал никто.
Поначалу наладил Прохор к нему задрыг, велел насчёт баб проверить. Китаец тощ, но жилистый, отрядил он ему двух. Девки видные, бока гладкие и дело своё знают, но тот не клюнул и водяры не коснулся, выставил обеих через пять минут. Дверь чуть в щепки не разлетелась, так он с ними простился. Нацмен, смекнул я с опозданием, у них с этим строго, ну а Дилижансу Прохор потом объяснялся: шкет желторожий, видать, калека скрытный, вот две обученные кобылки и не смогли его пронять! Дилижанс хмыкнул и заторопил заканчивать с проверкой, упрекнув за некачественный женский контингент.
Следующим звеном были Лёвик Коновал и Адам Ямгурчевский — оба из цирковых борцов, среди своих их кликали «ломом подпоясанными». Я заикнулся, что покалечут Китайца бугаи, но Дилижанс цыкнул — не в приказчики нанимаем желторожего, и Прохор, вручив Китайцу деньжат, обозначил забегаловку. Задачка Китайца выглядела простой: заказать столик и выпивку, да ждаться «гостей», которые найдут его сами, и перетереть с ними одну закавыку. Но выпал новый конфуз. Лёвику он сломал нос, а Адаму повредил что-то в паху, и того с неделю наша ведунья бабка Чара выхаживала. На этом дрессировка Китайца кончилась, допустили его к делу…
* * *
Вот тогда и пришла наша с Китайцем пора, да и тошно уже становилось — заклевал Курагин. «Откармливаю, будто на убой, — бухтел он по утрам, появляясь со жраньём в сарае, где мы в основном обитали. — Пьют да жрут, а толку не видать. И будет ли?» Говорил он о нас в третьем лице, как о скотине, выдерживаемой на убой или на продажу, впрочем, особенно не усердствовал, видать, знал и другое, поэтому больше язык держал за зубами, побаиваясь нас обоих и особенно сторонясь меня. Сарай же на ночь припирал дрыном и ночами вставал, обхаживая двор кругом. Не раз слышал я его грудной кашель, когда самому не спалось. Ворочался и Китаец…
Засидевшись от безделья, вдвоём мы лихо взяли несколько подвод рыбопромышленников, устроив засады в разных местах. Лёд только встал, и на санях нам удавалось без особых хлопот появляться внезапно и незаметно. Везло или ловко у нас получалось в паре, но обходилось без особой стрельбы, а главное — без крови. Обозники разбегались сами, бросая и ружья, и поклажу, и лошадей. У страха глаза велики, а в темноте не разобрать, двое нас или целая ватага разбойников. Добычей распоряжался Курагин, засветло угоняя телеги и лошадей в известное только ему место. Мы заваливались на сеновал в сарае с припёртой дверью, как обычно, и дрыхли до вечера, а то и всю ночь, если работы не было. Находил её нам, понятное дело, Курагин, но и он перед этим укатывал надолго в город, встречаясь, наверное, с Дилижансом.
Странная эта личность — Дилижанс. Он будто чудом уцелел с тех давних царских ещё времён. Лыс, пузат непомерно, но лёгок на ногу, как и на язык. Порхает и чирикает. Даже в зиму носит светлые старомодные тройки и штиблеты, надраенные так, что в них можно смотреться. И манеры, и голос — бывший владелец публичных домов — ласков и упредителен. Я всё допытывался у Курагина про его хозяина, но тот отфыркивался, как спесивая лошадь, всё время ему было не до меня. А однажды зло бросил:
— Отстань! Если б не знал ничего про твою рожу, подумал бы, что в уголовке служишь. Корней его звать. Корней Аркадьевич, а семья его сплошь музыкальная. И его этому учили. То ли на скрипача али на рояле. А он человеком стал. Вона кем управляет.
— Урками, что ли?
— Ты ещё кому ляпни, тебе язык-то быстро укоротят!
Впрочем, о Дилижансе это я так, без интереса. Нам его видеть не было надобности, и мы его, понятное дело, не особенно интересовали. Всё бы так и шло, если б ни одна закавыка: у Китайца сразу как-то не заладилось с винтарём. Прохор ему обрезы не раз менял, объяснял часами, разбирая и собирая механизм, но, будто издеваясь, оружие Китайцу не подчинялось. То оно выстреливало у него в руках само собой без всякой причины, то заедал курок или случались осечки в самый неподходящий момент. После одной из таких осечек Китаец в сердцах во время нападения бросил обрез на снег, выхватив из тулупа железяку, напоминавшую веер, едва не отрубил вздумавшему сопротивляться обознику руку. Несчастный выронил ружьё и без чувств свалился на подводу. Пришлось нам перевязывать его, чтобы не истёк кровью, везти к первому попавшемуся на берегу домику, где мы и бросили его у ворот, побарабанив в закрытые ставни.
С того случая одарил я Китайца своей двустволкой, никогда меня не подводившей, а про обозника, не сговариваясь, мы от Курагина утаили.
* * *
Зима между тем свирепела.
На Волге стужа лютая да ещё с диким ветром из года в год не редкость. Но в предновогодний месяц творилось несусветное. По ночам лёд трещал так, что пугал случайных прохожих, припозднившихся из города и перебегавших речку, барахтаясь в намётанных сугробах.
В очередной засаде мы оба здорово околели, хотя и бросили под себя драную овчину, выделенную Курагиным. Я-то ещё пригублял время от времени из припрятанного флакона, а Китаец совсем пропал. Синий нос его сосулькой торчал из собачьего малахая, но губы кривил и отмахивался, отказываясь от самогонки.
Засада устраивалась вторую ночь, в разных местах, последний раз мы удачно разместились в камышах на неприметном островке, миновать который обозникам никак нельзя. А толку никакого! Кондратия Хлебникова, знатного рыбопромышленника, подводы которого мы караулили, будто предупредили.
— Профукали… продрыхли… — матерился пуще обычного Курагин, прикативший за нами под утро на телеге. Он зло кашлял, нещадно стегая кобылу, то и дело оборачиваясь, лез своей красной физиономией почти вплотную, обнюхивая и подозрительно оглядывая каждого, но в основном косился на меня. — Новый год на носу, ужель Кондратий Варфоломеевич Хлебников изменил привычке радовать городских людишек своими разносолами? В ресторанах «Аркадия» да «Модерн» небось заждались.
— Зачем ему ночью тайком корячиться? — огрызался я. — Он среди бела дня заранее кого надо было объехал. И вручил подарочки под звон бокалов.
— Калякай мне! — коробило Прохора. — Такую снедь на царский стол не грешно! Это тебе не килька, не хвосты вашим да нашим! Не кулёчки праздничные! Он новогодние заказы по ресторанам развозит. А с них знаешь, сколь поимеет? Другим купчишкам да дельцам за год не срубить!
— Нам не до жиру! Живот к позвоночнику примёрз. Звенит нутро от холодрыги. Стопку бы поднёс.
— Доедем до сарая, хлебнешь своё! — Курагин аж задохнулся от злости. — Да ты, я чую, и без того хорош. Рожа твоя, Красавчик, мне не нравится. Хватил опять?
Красавчиком меня прозвали давно за пару шрамов во всё лицо. Как глаза уцелели, неведомо. Штопавший меня в тюремной лечебке лепило не уставал удивляться. Но заросло как на собаке, а кличку я возненавидел и глотку бросался перегрызть, если забывался кто.
— Не дождёшься, когда я сдохну? — схватил я Прохора за грудки и чуть не вытряхнул из тулупа.
— Да что ты! Что ты, шальной! — перепугался он. — Дружок твой вона молчит…
— И его надолго не хватит. Ещё одна такая засада на голом льду и останется от нас хрен да маленько!
— Мне зачем шумишь?.. — залепетал Прохор. — Корнею Аркадьевичу докладывай.
— Он думал, прежде чем в такой култук нас отправлять?
— Ты это… И его критиковать?
— Чужие места! — оттолкнул я от себя коновода. — На верную погибель нас сюда загнали.
— Да что с тобой, Павлуш? Остервенел словно. Откуда чужие?
— Люди Бороды нас ущучили! — выдохнул я в его рожу. — И не с таким вооружением, что у нас. С винтарями настоящими. У легавых видел? Налетела давеча банда и очухаться не успели. Кончили бы на месте, не сыграй я под дурачка.
— А чего молчал?
— Пригрозили по первой, чтоб уносили ноги, если жизнь дорога. Галдят, что их это промысел и баста!
— Унюхали, значит, — растянул губы в презрительной усмешке Прохор и шапку на затылок толкнул. — Объявились! Ну наконец-то!
— А ты знал? — оскалился я. — Чего лыбишься? Поминки бы уже справлял по нам. Их несколько рож! И главный какой-то Борода. Не уприди я Китайца, неизвестно, чем дело бы обернулось.
— А про Бороду откуда весть имеешь? — не придал он моим словам никакого значения.
— Кликали так его подельники.
— При вас? — не поверил он.
— Вгорячах… А чего скрывать-то? За атамана он у них.
— А выглядит как?
— Чего пытаешь-то? Не на допросе.
— Говори, раз интересуюсь, — изменился в лице Прохор, а глазищами так и ест.
— Ну, с бородой… — отвернулся я.
— Бороды разные.
— Культурная бородка. Буржуйская. И усы.
— А ты не ошибся?
— Да он мне так по морде смазал, что век не забыть, — сплюнул я от душившей злобы. — Теперь должок за мной. Кровью смоет, если встретимся.
— Это по-нашему, — крякнул Прохор и по плечу меня похлопал, но враз унялся, как я покосился. — Значит, погнали вас с островка?
— Пригрозили.
— И подводы Хлебникова их добыча?
— Ту добычу ещё ухватить надо! — заскрежетал я зубами.
— Завтра поглядим, чей островок-то, — утёр хлюпающий нос Прохор. — Завтра померимся за добычу.
— Тебе откуда знать, что подводы будут? Купец Хлебников лично позвонил?
— Звонил, звонил, — снова хлюпнул он носом. — По тряпочному телефону. Новости Корнею Аркадьевичу сам докладывать будешь. За эту весть он с тобой стопку подымет. И не одну, если дело выгорит.
* * *
Завертелось, загорелось дело, только выгорело не так. К Корнею Прохор меня не повёз, тот собственной персоной к полудню пожаловал. Мы отсыпались с Китайцем, нас разбулгачили — и к нему. А во дворе Курагина уже несколько новых рож, одна другой краше. Обрезы не прячут, готовятся, злые, как черти.
Из всех уркаганов я знал лишь Коновала. Он подмигнул, хотел что-то сказать, вроде как поздравить с чем-то, но Прохор уже тащил нас с Китайцем наверх, в дом, на второй этаж, где Дилижанс учинил настоящий допрос. Был он не один: лицом к окну, к нам спиной, в кресле сидел неизвестный, по-военному коротко стриженный черноволосый мужчина. Чувствовалась значимость большая в его прямой спине, хотя он ни разу не обернулся. Задавал вопросы редко и тихим голосом, Дилижанс при этом замолкал и старался не двигаться по комнате, пока тот не заканчивал фраз.
— На этот раз лёгкой прогулки не получится, — шепнул я Китайцу, когда нас отпустили. — Ночка светлой будет от пальбы. Вон сколько братвы нагнали.
— Уважают они бородатого, — Китаец попытался изобразить улыбку, которая показалась мне волчьим оскалом, и лицо его желтое обычно, вроде как почернело. Не видел никогда я его таким.
— Ты свой веер захвати. Пригодится.
Он не ответил.
— Поклясться могу, не очень-то поверил нам их главный, — пытался всё же я его разговорить, мне после того допроса самому было не по себе. — Интересовал военного Борода. И рост, и привычки, и цвет глаз. Я что ему в глаза заглядывал? Ночью-то? Под дулом ствола?
Но Китаец молчал. Он и вообще не говорлив, а теперь словно язык проглотил. Проклиная всё на свете, я принялся драить свой наган. Он всегда при мне, потому что в ближнем бою удобен. Китаец тоже повертел в руках двустволку, а увидев, как я потею, словно опомнившись, вытащил свой веер и принялся за него. Работа ему предстояла осторожная и аккуратная, каждое сверкающее перо в смертоносном опахале могло ужалить, и он пыхтел от усилий.
— Мы теперь с тобой за приманку будем, — напомнил я ему. — После нападения драпать к берегу станем, где основная наша братва схоронится… Ну и правило знаешь: друг от друга ни на шаг и спина к спине.
Он мрачно кивнул, так и не открыв рта. И когда Прохор по обыкновению привёз нас к островку и укатил, оставив, тоже не проронил ни слова.
Замаскировавшись в сугробе и выложив перед собой оружие, мы молчали. Говорить было не о чем, оставалось ждать. Высилось над нами звёздное небо, тишь резала уши, и малейший звук, летя по льду из бог весть какой дали, отдавался барабанным боем в сердце.
Стук подков услышали разом. Без команды расползлись от дороги по обе стороны, пропуская подводы между собой, замерли, поджидая. Подвод оказалось три. Когда поравнялась первая, я выскочил перед мордой лошади, заорал и, не дожидаясь, пальнул вверх, опасаясь, что у Китайца что-нибудь не заладится. Но тут же дважды грохнуло позади третьей подводы, это у Китайца сработало. «Только почему из обоих стволов?» — с опозданием ударило мне по мозгам.
Обозники слетели с телег, утонув в сугробах. Получалось, как по маслу. Запрыгнув на лошадь, я погнал первую телегу к берегу, где поджидала по договорённости остальная братва. Но, словно почуяв неладное, оглянулся: Китаец возился с отставшими телегами. Шарахнулась от выстрелов вторая кобыла, и он мыкался, подтягивая к ней третью с поклажей.
— Давай, мать твою! — заорал я ему. — Догоняй!
Но тут выскочили всадники. Откуда их принесло, я не заметил. Но это были не наши. Пуля просвистела мимо уха, загрохотало и справа, и слева, лошадь моя взвилась вверх и понесла. Я упал, сильно ударился, очухался от острой боли в ноге и, когда попытался подняться, рухнул, словно подкошенный. Очнулся, вокруг никого, стрельба велась у последней телеги. «Вот и пригодится наган», — мелькнула тоскливая радость и, закусив губу, чтобы не застонать, я пополз на выстрелы. Два всадника кружили возле перевёрнутой телеги, упавшая лошадь хрипела, где-то в поклаже прятался Китаец. К нему они и подбирались, должно быть, забыв про меня, остальные унеслись за канувшей поклажей. Мне оставалось уже метров десять, когда всё кончилось. Китаец угрохал всё-таки одного, но второй стоял над ним, упираясь винтарём в грудь и что-то орал, благословляя в последний путь или упиваясь удачей. Откуда-то с берега доносилась сумасшедшая перестрелка.
Ползти я не мог, силы кончились. Револьвер дрожал в руках и, целясь, я молил Бога, чтобы не дал потерять сознание: над Китайцем стоял сам Борода! Я узнал его по визгливому крику; ухоженная бородка вздрагивала в лунном свете при каждом его вопле. Одно мешало стрелять, не укладываясь в моей голове, — на Бороде была милицейская форма!
— Скотина! — визжал он. — Я же простил! Отпустил с дружком прошлый раз!
Он оглядел вокруг себя навороченное: трупы лошадей, убитого товарища, перевёрнутые повозки:
— Здесь тебя кончу!
Щёлкнул затвор его винтаря. Но я нажал на курок раньше.
Под мат, проклятья и стоны полуживой Китаец тащил меня на себе по снегу. Потом силы оставили его, и лунный свет поблёк для нас обоих.
* * *
Наткнулся на нас Коновал, когда, отчаявшись, все уже бросили поиски, да и опасно становилось — рассветало.
Оказывается, полз Китаец совсем не в ту сторону и достались бы наши грешные тела волкам или одичавшим собакам, если б не Коновал.
— Ты мой должник, — заскочил он в сарай, за ним показалась и бабка Чара, выхаживавшая нас. — Примешь для промыва нутра? Эта ведьма заморит вас отварами да мазями, — украдкой он вытащил бутылку самогонки. — А моё средство верное!
Но распахнулась дверь шире, и в сопровождении Прохора возникла фигура Дилижанса. Толстяк, держа в руках шляпу, нагибал лысую голову, чтобы не задеть притолоку и паутину, свисавшую тут и там. Прохор старался забежать вперёд, выгоняя Коновала, но наш спаситель смылся сам, знал своё место.
— На ноги, на ноги, орлы! — бодро гаркнул Дилижанс, остановившись в нескольких метрах от нас.
Неприглядная обстановка, грязь и запахи лечебных настоек явно смущали его, не скрывая, он брезгливо морщился.
— Залежались, — поддакнул Прохор, не разгибая спины. — Балует их старуха.
— Пора, пора! — помахал перед нашими глазами ручкой в перчатке Дилижанс. — Готовлю вам интересную работёнку, орлы. Опоздаете, другим достанется.
И он заспешил на свежий воздух, Прохор, кашляя, успел опередить его и распахнул дверь.
— Сука! — процедил сквозь зубы Коновал, появляясь из темноты угла. Он, оказывается, и не думал уходить, спрятавшись в углу, и снова сунул мне водяру. — Ну что, примешь?
Я покачал головой, распухший язык всё ещё мешал говорить.
— Тогда, может, покуришь?
С его помощью я кое-как приподнялся, нога не разгибалась, старуха еще раньше пришпандорила к ней дрын.
— Как дитя, право, — хмыкнул Коновал, кряхтя, взвалил меня на спину и сволок к двери. — На сеновале курить нельзя. Прохор припрётся, хай подымет. Он пожара пуще смерти боится.
Мы осторожно закурили, приоткрыв дверь, и тут же услышали голоса. Дилижанс, стоя посреди двора, о чём-то выспрашивал Курагина, тот лебезил, только задницу ему не лизал.
— Так кто же кого из них тащил? — допытывался Дилижанс.
— А шут их знает, Корней Аркадьевич. Коновалу разве можно верить? Он вечно пьян.
— Говорю же, сука! — не вытерпел Коновал и рванулся в дверь, но я его удержал.
— Если Китаец, откуда в нём силы взялись? Тощий, как гвоздь.
— Красавчик, конечно. Не сомневайтесь, Корней Аркадьевич. Красавчик — бугай вон какой!
— Не скажи. Желторожий — мужик жилистый.
— Мартышка и есть мартышка… Лучше б сдох! Нам теперь в нем надобности никакой, не до пароходов…
— Ты о чем, старик?
— Может, я шепну Чаре, ведьме нашей?
— Это как?
— Назад, на тот свет, возвернёт. Она легка на руку, лишь прикажите.
— Отравить, что ли?
— И не заметит никто. Уснёт желторожий, и все концы.
— Ах ты, чёрт! — Дилижанс задохнулся дымом. — Чего городишь, старый хрыч?
— Как скажете…
— Они ж это?.. Герои! Теперь они мне знаешь как нужны? Братва только о них трёп и ведёт! Это ж какой пример нашим молодцам! Урки про них сказки такие разведут!..
— Эти умеют…
— Ты газетки-то читаешь, старик?
— Газетки? — хихикнул Прохор. — Зачем они нам. Жива была моя бабка, сходила с ума, а мне не до них.
— Перековывать тебя надо! — захохотал Дилижанс. — Товарищи повсюду о чистке заговорили, нам об этом тоже следует подумать. А что? В ногу со временем поспевать надо. Я их по-свойски наградить думал.
— Без этого не обойтись.
— Орлы-то наши, знаешь, как своим подвигом Ваську подняли?
— Василия Евлампиевича?
— Читал бы газетки, не спрашивал. Вот, послушай, — он захрустел бумагой, — «…за ликвидацию банды атамана Бороды, длительное время свирепствовавшей близ города и грабившей обозы рыбопромышленников, представлены к почётным грамотам»… — он прервался, прокашлялся. — Это лишнее. Вот: «…сам атаман коварным и обманным способом проник в ряды нашей Красной милиции, поэтому долгое время был неуловим и ему удавалось вершить свои чёрные дела»… — Дилижанс поперхнулся, сплюнул, кашлянул, прочищая горло, сипловато пожаловался. — Всё у этих газетчиков в одной куче, пока до главного доберёшься… Вот: «Своей энергией, повседневным упорным трудом товарищ Турин честно выполнял все задания Советского Правительства, чем оправдал высокое звание Красного Пинкертона».
— Кого, кого?
— Уровень повышай, старик, — захохотал Дилижанс. — Вот тебе и Васька-божок! От самого товарища Полякова ему поздравления! Большой человек в губисполкоме! У них это, знаешь!.. — Он крякнул и продолжил: — «…Крепче держи Красное Знамя Труда, товарищ! Пусть оно ярко горит назло капиталистам и на великую радость пролетариям Земного Шара!» Но то бумага. А Василия нашего ещё и по службе продвинули. Теперь он ого-го!
— Вона, значит, куда дотянулся…
— Вознёсся, старик. Вознёсся. — Дилижанс высморкался. — А за тех двоих молодцов теперь ты в ответе. И ведьме своей скажи, чтоб ни-ни!
— Да упаси Бог! Я что же… Как вами велено будет.
— Через неделю чтоб оба на ногах были. А встанут — ко мне.
Хлопнула калитка во дворе. Коновал затушил окурки и свой, и мой в собственной огромной лапище, бережно перетащил меня на сеновал.
— Так, — потрепал он меня за волосы, — Красные пинкертоны, значит…
Развернулся и ушёл.
Тем закончилась наша встреча с Китайцем, впрочем, что я мелю, так началось наше дальнейшее содружество.
VI
Не надо большого ума догадаться, что последовало дальше. Вонючка, новая шестёрка Панкрата, утром уже рассвистел, что Китайца увезли из «Белого лебедя». Взялись за него якобы настоящие сыскари из уголовки. Прикид следовал очевидный: моего дружка будут раскручивать на убийство Голопуза, а на всякий случай подвесят с дюжину дохлых кражонок, числящихся нераскрытыми, или какой-нибудь гоп-стоп[4] завалящий. Это нормально, значит, назад из конторы раньше недели его не возвернут.
Раз меня оставили в покое сыскари, смекал я, местными разборками в камере займётся сам Панкрат. Я у него теперь, как кость в горле. Вонючку ко мне он уже приставил, тот мозолит глаза, отрабатывает усердно, но я пока сдерживаюсь.
Панкрату, конечно, также понадобится время подыскать заплечных дел мастеров, чтобы толково и без хлопот посадить меня на перо[5]. Закавыка у него серьёзная, рассуждал я, уныло хлебая обеденную баланду и карауля из-под бровей каждого подозрительного из сокамерников. В этой своре отчаянных урок, желающих заработать на моей шкуре, достаточно, но одноногий подыскивал таких, чтоб без промаха. Поэтому я тоже с интересом прикидывал охотников по свою душу. Набиралось с пяток, реальных отмежёвывалось мною трое: Халява — уж больно он в деньгах нуждался, проигрывая в карты, задолжал многим. Ловок с финкой управляться, как-то по злобе метнул заточку в Ваньку Крысу, обвинив того в мухлеже при раздаче, пол-уха ему отхватил, а железяка, пролетев метра два, впилась в стену чуть ни на четверть. Вот это удар так удар: стенка не деревянная, а каменная! Халява завалит за один взмах, если не уследить, уворачиваться поздно будет. Он поджар и ловок на ноги, не ходит, а стелется полусогнувшись, словно лиса в курятнике, и звука шагов не слыхать.
Второй, без всяких сомнений, Валет. Черноусому брюнету с былой белогвардейской статью на балах с дамочками танцевать, а он в задрипанной шинели на нарах прохлаждается. Но главное — его глаза, в них запала такая идиотская печаль, что лучше не заглядывать. Поговаривали, он с придурью, был на фронте в Первую мировую контужен, не обошлось и без лечебницы для психбольных. Но не все верили: после Гражданской многие лепили горбатого, напуская на себя разного. Псих этот был опасен непредсказуемостью. Ну и третий — Дантист. Про натуру его нетрудно догадаться. Кличка подчёркивала его увлечённость: изощрён в жестокостях и пытках. Просто садист. Он прославился ещё в банде Ворона, кости которого давно сгнили. Рассказывали, что Дантист и своих провинившихся не щадил. Кочевал из одной кодлы в другую, вожаки брали его на роль палача. Редкая профессия, но нужная…
Конечно, к тем дням, о которых рассказ ведётся, Дантист постарел, сетовали, пыл не тот и прыти поубавилось, однако смельчака открыто сказать это не находилось.
Глаз на ушлую троицу я положил не зря, Панкрат с некоторых пор приблизил их к себе, снизошёл староста, так сказать, до личного общения. Наблюдая, я убедился, что одноногий ведёт с ними тайные переговоры.
Одним словом, перестал я спать по ночам. Днём клевал носом, а с отбоем старался глаз не смыкать. Раньше Китаец мне спину берёг, а я — ему, теперь каждый шорох поблизости мог быть смертельным. Однако, хотя и дублёные у меня нутро и шкура, а без сна долго не продержаться, да и ждать в драке первого удара — верная погибель, поэтому, подумал я, подумал и однажды в самом начале очередного обеда опрокинул, будто невзначай, содержимое своей миски на рожу Халявы. Я его первым выбрал, больно уж он посматривать стал со значением, будто выбирая место на моём теле; как ни обернусь, он пялится и тут же спешит отвернуться. Всё с улыбочкой ядовитой. Точно гадюка! Голову прижмёт и буркалы жёлтые прячет.
Миска товарная была, увесистая, а главное, ровно пропечаталась на его физиономии, мало что кашей зенки ему залепила, нос свернула на бок, ну и зубы затерялись бы под ногами, если б Халява их вовремя не проглотил вместе с хлынувшей кровью. Ногой-то можно было не трогать, но живот безобразный он отрастил, так свисал, что грех было его уже не поправить… Он и успокоился на полу. Первенький из троицы.
Так я угодил в сундук. Кто там не был, не советую торопиться; мне-то по нужде пришлось туда лезть, карцер похлеще, чем в подвалах Бутырки: без окошка, под ногами тьма крыс и вонь от прогнившей влаги. Как нос ни затыкай, а дышать чем-то надо. Выбирать не приходилось, зато я там всласть выспался в первые сутки. Но благость попортили крысы, затеяли настоящую охоту за моими ногами. Подёргался я, повоевал и с тоской подумал, что больше недели не стерпеть, останусь без башмаков, а там и без пальцев. Спас вертухай[6], весть от барина[7] принёс, что наградил он меня всего тремя сутками, и я успокоился — перекантуюсь, в камеру возвернусь, а там видно будет.
VII
Но потревожили меня раньше.
Накануне, измучившись от крысиной возни и визга, задумал я на них облаву. Свет в сундуке горел постоянно, определиться когда день, а когда спать пора, невозможно, я ориентировался на глазок надзирателя — хлопнет он, просунут в окошко кружку воды и корку хлеба, значит, приняв харч, пора укладываться, заматывать ноги поплотней разным барахлом, что, может, когда-то и называлось одеялом, укрывать на всякий случай и голову. Бывало, крысы шастали и по ней, пока дрыхнешь и не проснёшься от их допеканий. Но продолжалась идиллия недолго. Надоели им передышки или запах хлеба раздражал (им-то не доставалось ни крошки), но крысы изменили тактику и завели постоянную возню вокруг моих ног, желая испробовать их на вкус. Причём с некоторых пор я заметил, что количество их увеличилось. Тлевшая под высоким потолком мизерная лампочка, хотя и была залеплена чёрной от погибших мух паутиной, однако свет чудом пробивался, и мне удалось приметить среди огромной стаи озверевшего вожака. Это было чёрное мерзкое чудовище, размерами и повадками напоминавшее ехидну с продолговатой пастью и щёткой острых мелких резцов. Хвост превышал его вдвое, волочился, и порой чудовище щёлкало им, как хороший пастух кнутом. Так это было на самом деле или мерцающий свет чудил надо мной, однако выстрелы, издаваемые хвостом, перепутать с другим шумом было невозможно, поэтому впервые стало мне по-настоящему не по себе. «Не привели ли эти твари своего матёрого вожака, чтобы поставить последнюю точку?» — подумалось, и подвальный холод, до того продиравший до самых костей, вдруг исчез, а я изрядно пропотел. Страшилище было окрещено мною Шушарой, и сразу же повело коварное наступление. Прячась так, чтобы я не видел, оно каким-то образом забиралось в тёмных углах по булыжникам вверх, выше моих нар, и внезапно пикировало оттуда на гору тряпья, под которой я выдерживал оборону. Продумано было хитро: вгрызалась Шушара своими клыками глубоко, разбрасывая всё и пытаясь добраться до моего тела. Тяжко пришлось уже от первой её атаки. Опомнившись, я попытался её схватить, но шерсть выскользнула из моих пальцев, она улизнула. Я снова затаился, но её смутили отпор и мои ухищрения. Шушара придумала новую подлость и теперь обрушилась на меня сверху уже с другой стены. Подготовившись, я тут же вскочил на ноги, но зверю вновь удалось удрать, при этом у меня был прокушен башмак и едва ни задет большой палец правой ноги. Он уже был у неё в пасти, но ударом второй ноги я сбросил тварь с нар и, спрыгнув вниз, стал топтать и давить всю смердящую и визжащую стаю. К моему разочарованию, Шушара удрала, хотя ей тоже досталось. Двух или трёх её подружек я безжалостно размазал по полу, и теперь передвигаться в камере следовало осторожно, чтобы самому не поскользнуться в месиве их останков и не грохнуться. Вони прибавилось, но вертухай лишь расхохотался на все мои просьбы выделить швабру и воду, чтобы хоть как-то зачистить пол.
— Воюешь? — хрипел он в глазок, наслаждаясь зрелищем и не открывая двери. — Давай, давай. Это тебе в качестве тренировки. И меньше дрыхнуть станешь, а то потолок трясётся от твоего храпа.
Крысы убрались, зализывая раны и справляя тризну по усопшим. Удивительно, но, когда через некоторое время с опаской я поднялся и отправился по нужде, трупы раздавленных тварей отсутствовали.
«Они утаскивают их в норы и пожирают!» — затошнило меня. Что-то ещё раз изменилось в моём сознании — мне почему-то представилась наиболее уязвимая нижняя часть моего тела, бедные мои худые конечности, в которые вгрызаются клыки этой паскудной Шушары. А вот уже и целые полчища этих мерзких тварей цепляются в меня, хрустят мои кости, ручьём льётся кровь и всё моё нижнее составляющее со смаком пожирается ими!..
Треск перемалываемых челюстями костей был так естественен и натурален, что я вздрогнул и больно ударился головой о булыжники. Это вернуло меня к действительности, треск или посторонний неосторожный шум мне не почудился. К двери карцера кто-то подбирался, и её уже пробовали осторожно открыть. Вертухай так не ходит, смекнул я. Это-то и заставило меня насторожиться. Вертухай топает так, что его можно услышать за версту, он или сам боится один шастать по коридорам каземата, либо окриком предупреждает заранее о своём появлении, чтобы разбудить меня. Значит?..
На всякий случай, чтобы не сразу заметили, я на своём месте на нарах быстро сбил кучку тряпья, изобразив спящего, а сам примостился в углу под дверью. Чем чёрт не шутит?!
Скрипнул ключ в дверях, хотя чувствовалось, его изрядно смазали. Заскрипела бы и дверь, но её приоткрыли очень осторожно и медленно. Внутрь просунулась голова. Долго прислушивался её владелец.
— Дрыхнет? — с нетерпением спросил тот, кто был сзади, так как голова вертелась в разные стороны, насколько позволяла щель и молчала.
— Не видно ни черта! Тут такая вонь и темень…
— Дрыхнет?
— Да не напирайте вы, Панкрат Семёнович! — прогневался Халява, шепелявя.
Я наконец узнал его голос. «А вторым выходит, староста припёрся на экскурсию, — смекнул я, — зачем же я им в сундуке-то понадобился?»
— Дырявь его, пока дрыхнет! — голос старосты подрагивал от нетерпения. — Не приведи господи, проснётся. Бугай он здоровый.
— Да не слышно, чтоб храпел…
— Ну и чего?
— Силантий, вертухай-то, успокаивал, что храпит лишенец, когда спит… Что-то тут не так…
— Здорово он тебя миской по башке шарахнул! До сих пор гляжу, в себя не придёшь. Или струсил?
— Да погоди, дай прислушаться.
— Чего тут слушать! — дверь распахнулась под напором старосты. — Дай-ка шило. Я его, падлу, насажу, и не шевельнётся.
— Нет уж, позвольте… — решился Халява. — Мои зубы дорого ему обойдутся!
И с этими словами он нырнул в карцер, бросился на гору тряпья и всадил руку в самую глубину.
Встать ему уже не удалось. Я навалился на него всей своей массой сзади, схватил обеими руками голову и дубасил ею железную раму нар до тех пор, пока не почувствовал, как треснул его черепок. А потом обернулся к старосте. Одноногий, как застыл от неожиданности в дверях, так и стоял столбом, всё ещё недоумевая. Я сбил его с ног, помня опасность его острой деревяшки, и стал месить его тело ногами, как только что топтал крыс. Видно, я был в совершенном бешенстве или совсем без понятия от ненависти: я плясал на нём, не слыша ни хруста его костей, ни его воплей, ни окриков подбежавшего вертухая. Что-то тяжёлое ударило меня промеж глаз. Наверное, это была связка ключей. Сознание покинуло меня…
Когда я очухался, не двигаясь и приоткрыв один глаз (второй был залит кровью), в карцере переговаривались уже двое вертухаев. Тот, который опрокинул меня с ног, возился у тела Халявы.
— Ей-богу, насмерть! Вот мать его! — матерился он. — Весь череп ему раскроил, падла!
Его напарника больше волновало другое, он пнул меня ногой:
— Ты глянь на этого. Сам-то не угрохал Красавчика? Ключами-то, кажись, лоб ему разбил, — он лениво нагнулся, брезгливо поднял связку здоровущих ключей, долго обтирал их от крови, потом принялся за свои руки.
— А хрен с ним! — ткнулся мой обидчик к телу одноногого. — Глянь, он и Панкрата укокошил…
— Не может быть!
— Не дышит и этот.
— Ты грудь, грудь его послушай!
— Да я уже перемазался весь! Тут каша сплошная, а не грудная клетка. Истоптал ему рёбра этот слон.
— Чего же делать будем? — брезгливый выпрямился и опёрся о косяк. — До конца вахты часа два. Натворил ты делов, Силантий Ферапонтович. Дались тебе серебреники этого Иуды, — он пнул ногой теперь уже старосту.
— Ежели бы серебро! Бумага! А ты про свою долю забыл?
— Ты мне сунул-то кукиш! — сплюнул на тело одноногого брезгливый. — Договаривались насчёт одного Красавчика? Ты же сам обещал, повесят лишенцы этого бугая и назад?.. Объявим чистое самоубийство… А что мы имеем теперь?
— Что имеем?
— Три трупа! Я под этим не подписывался.
— Подписывался не подписывался, теперь поздно рассуждать. Задним умом все горазды, Степан Ефремыч. Что ж, заложишь меня?
— Подумать треба…
— Накину я тебе долю.
— А прокурор добавит.
— Да брось сопли распускать! Впервой, что ли? Не обижу.
— Сколько?
— Да всё, что одноногий собрал, тебе и отдам.
— Ну всё-то ни к чему, — потёр руки брезгливый.
— Вот и спасибочки!
— Теперь и лепиле нашему подкинуть придётся…
— Соломонычу-то?
— А как же! Кто бумаги будет мастырить?
— Резонно. Ну так что? Поволокли, что ли?
— Бери первого за химот, а я уж ногами займусь. Тяжёлый, бля, задрыга!
Они уволокли тело старосты, потом пришли за Халявой, я изображал дохляка до последнего. Лишь когда надо мной нагнулась санитарка, и тюремный врач разорвал куртку на груди, я открыл глаз.
— Господи! — отшатнулась санитарка. — Моисей Соломонович! Он живой!
Обоих вертухаев рядом уже не было.
VIII
Штопать меня не пришлось и из больнички выперли мигом, лишь перепуганный лепило вызвал местных сыскарей. Те, разнюхав про старосту и Халяву, собравшихся устроить мне самосуд в карцере под видом самоубийства, затряслись сами и начали ни свет ни заря трезвонить барину. Скандальчик не скандальчик, а заварил я им прецедент непредвиденного масштаба. С перепугу они перестали меня замечать, творили и трепали такое, чему ни глаза, ни уши мои никогда бы не поверили, но меня больше интересовала собственная шкура. С виду выглядело всё довольно пристойно — чистая самооборона, а вот уж как среди ночи мимо вертухаев ко мне пробрались два матёрых зэка, это их дело. Так рассуждал я, стрельнув мимоходом у одного из сыскарей папироску. Тот вгорячах не пожадничал, а когда под самое утро заявился барин и стал наедине выпытывать в собственном кабинете, мне перепало и настоящего чая в настоящей татарской расписной чашке, и не одна ароматная папироска. Взлохмаченный и красный от всего услышанного начальничек щурил узкие глазки, раздувал щёки, правда, сахарку не предложил, но попроси я его, — подали бы и сахару.
Почти после каждого моего слова он хватался за трубку телефонного аппарата, но в нерешительности опускал руку. Так длилось с полчаса, пока я не замолчал, затем он вызвал заместителя, тот велел меня вывести из кабинета и ещё полчаса за стеной они кричали друг на друга. Потом неожиданно стихло, зам выскочил, хлопнув дверью, я уже начал думать, что про меня забыли и смелее пытался раскрутить на курево молоденького конвоира, но приехали из уголовки и меня увезли в свою контору.
В уголовке — малина. Там в камере предварительного заключения мне всё раем показалось. Среди прочей шпаны я сразу уснул, но скоро был разбужен, и меня повели наверх. Много не добавят, не горевал я, когда обойдя стул, на который меня усадили, к допросу приступил агент первой категории, назвавшийся Петриковым. Так он представился, лишь я заикнулся о папироске, а скоро я и про чай забыл, едва ускользая и увёртываясь от молний, которые полетели из проницательных глаз слуги пролетарского возмездия. Мне стало скучновато; за окном, куда тянулась моя шея, происходили гораздо интереснее события, но после настойчивого совета поберечь её для карающего меча сурового суда, я сник. Крути не крути, а на что я надеялся? Угодил-то туда же, откуда чудом выбрался. Почище, конечно, одеты эти сыскари, слова подбирают, кадры особые, а суть одна. В общем, бился агент Петриков надо мной весь оставшийся световой день и ночью спать не дали. Не успел я по-настоящему провалиться в сладкое забытьё, меня растолкали, привезли куда-то. Снова повели наверх по широким лестницам. И здесь коридоры пустые и никого, кроме часовых. И здесь зашторенные наглухо окна, и что там, за ними, попробуй догадайся. Впрочем, ни на что уже не надеясь, я ни о чём и не думал, жалел об одном — поспать не дали. За несколько дней после убийства Голопуза я, кажется, и в весе добрую половину потерял, и в росте убавился, и ноги не слушались меня, и голова ничего не соображала. Приморился Красавчик, только бы уснуть!..
Там, куда меня привели, света почти не было. Лампа на столе упиралась светящимся колпаком в пол, оставляя всё остальное пространство почти в кромешной темноте. И не было никого. Стол пуст. Но так лишь казалось. Это со света глаза мои утратили способность видеть. Я зажмурился, продолжая стоять. Чувствуя, что караульный ушёл, слегка открыл глаза. Проступили силуэты. Если лампу прикрыть ладонью, что я и проделал, можно было рассмотреть человека у другой стены. Он неподвижно стоял у приоткрытого окна, из которого веяло ветерком и свежестью. Мужчина курил, не оборачиваясь ко мне.
— Как кличут? — донеслось до меня.
— Красавчик, но мне не очень нравится.
— Другого имени не заслужил?
Я промолчал.
— За рожу?
Я проглотил и это.
— Послушать, что про тебя рассказывают, так тебя сам сатана спасает.
— Может, и он.
— Так бы и нарекли.
— Есть ещё время.
— Уверен?
— А что нам, уркам бездомным?
— Кому прибедняешься?
— А мне откуда знать? Вели — не объявили.
— Зубаст… А вот умён ли?
— А вы проверьте.
Мужчина развернулся, затушил папироску в пепельницу на столе, сел, отодвинув далеко стул, и закинул ногу на ногу. Его лицо по-прежнему оставалось в темноте, но кое-что под ярким лучом лампы я различил. Это был офицер высокого милицейского ранга. В парадной белой форме с орденом или почётным знаком на груди. Худ и невысок, быстр и даже резок, а голос жёсткий, с особым выговором каждого слова, будто он их подбирал, прежде чем произнести. Но это всё я уяснил потом, а сначала он лишь мелькнул причёской, когда садился, пригнув голову, не смог скрыть чёрных волнистых волос и широкой, мощной груди. Такой грудной клетки не спрятать, если и стараться будешь, такая только у волжских грузчиков. Но философствовать да рассуждать было некогда, я лишь успевал отвечать на его неожиданные вопросы.
— Как же обоих сокамерников завалил? — усмехнулся он.
— Жить хотелось.
— А от вертухаев как спасся?
— Мертвяком притворился, им не до меня было.
— Значит, схитрил?
— В бою кулак не главное.
— Не первых на это берёшь?
— Что вы, начальник!..
— Мы здесь одни.
— Хотелось бы верить.
— Моего слова недостаточно?
— Я вас даже не вижу.
— Васька-божок. Слыхал про такого?
— Не приходилось. Чудно больно. Вроде в милиции находимся.
— Врёшь! — он поднялся и снова отошёл от стола к окну, закурил. — Кончай крутить! Бороду ты завалил?
— В газетках читал. Хвалили милицию. В начальники кто-то выскочил за счёт того Бороды.
— Ну хватит дурака разыгрывать! — вспылил он. — Или ты следователя Борисова так напугался, что до сих пор трясёшься? Так я не Борисов.
Во мне всё перевернулось, но я промолчал.
— Забыл Жигулёвские горы? Про пароход «Серебряные глазки» да девку по имени Серафима? А она ведь, Красавчик, на тебя виды имела!
Эти слова, произнесённые громче обычного, зло и с дрожью, обрушились на меня градом. Словно булыжник за булыжником и всё на мою бедную голову: Жигули! «Серебряные глазки»! Серафима!.. Крякнул я, не удержавшись, заскрежетал зубами, а он опередил тише и глаже:
— Да не кидайся ты волком! Глянь, аж волосы на голове дыбом. Про Серафиму это я так. Сам её давно не видел, но по оперативным данным близко она где-то. Ущучили её в Саратове, как бросила спившегося комиссара. Того в тюгулевку за растрату, потом к стенке за связь с воровкой, а она хвостом следы замела. Но ты-то помнишь, у неё не задержится. Скоро у нас, на низах объявится.
— Вы, начальничек, мастер до сказок, — всё же запустил я свою наживку. — Про всё-то вам известно, только, гляжу, лица своего так и не открываете. Всё-то вы в тенёчек, за свет…
— Хватит, хватит клоунаду мне устраивать, — отмахнулся он лениво. — Зачем тебе моё лицо? Не видел ты его никогда и не надо пока. Ну а если не дурак, насмотришься, погоди, надоест ещё. Одно ответь — не забыл Стёпку Нагорного?..
Вот тут я вздрогнул второй раз.
— По кличке Штырь?..
Из тех, кто знал человека с этой кличкой, по моим расчётам, осталось в живых хрен да маленько: я, Серафима, Тимоха Саратовский… Вот, пожалуй, и вся компания. Остальные, если не по тюрьмам свои семь копеек[8] дожидаются, то догнивают в земле их косточки или сожрали раки да рыбы.
— Не забыл, вижу. Давно получил от него на тебя маляву. Отписана она была, сам понимаешь, не на бумаге, бумаге — грош цена. Поэтому потерпеть тебе пришлось, прежде чем сюда попал и разговор со мной имеешь. Но ты мужик тёртый, понял, надеюсь, что мы тебя не слишком утюжили, поблажки давали. А то, что помытариться пришлось, сам виноват. Были у меня сомнения насчёт тебя. Чего теперь скрывать? Поэтому и пришлось тебе всю горькую, так сказать, чашу испытаний хлебнуть. А как ты хотел? Сам же и нагородил! С Бородой переборщил. Он у нас под колпаком ходил, мы его совсем не тем макаром в оборот должны были брать, а ты что натворил? Не следовало с ним так жёстко. Без смерти, без крови надо такие дела решать, мы бы его перековали, обратили бы в нашу веру. А ты шлёп пулю в лоб… Так всех можно перестрелять. Не метод это в нашей внутренней борьбе. Чистка — да, но следом перековка, а не террор. Другое время. Чуешь?..
Я плохо понимал, что он имел в виду и что втолковывал. Казалось, забыл он совсем про меня и беседовал сам с собой или себя убеждал.
— Не так уж был и плох Борода, — задумался он. — Не так плох, как казался. С головой дружил, а в нашем деле это многого стоит. Жаль!
Резко хлопнув ладонью по крышке стола, он двинул ею, будто смахивал крошки:
— Что было, не вернуть! Навредил тебе, конечно, дружок твой, Китаец.
— Он жив? — невольно вырвалось у меня.
— Жив, жив. Но разговор не о нём сейчас пойдёт. А времени у нас мало. И так я с тобой провозился. Тут, брат, осторожнее… тоже глаза и уши имеются.
Я молчал, переваривая всё, на меня свалившееся, на моём месте другим заниматься — только портить.
— Сам чуешь, выхода у тебя нет, — он пробарабанил марш пальцами по крышке стола, бравурности в такте не улавливалось, наоборот, тоска. — Тебе или лезть опять на нары и ждать добавки за старосту и тех негодяев, или…
— Прежде заточку в спину, — процедил я, не дослушав.
— Не исключаю…
— А самооборона? — заикнулся я.
— Заткнись! — прошипел он так, будто крикнул. — Добавят лет пять! Хочешь?
Чего он от меня добивается, не понимал я. Чего ждёт? Столько времени на меня потратил, чтобы сообщить вот это…
— Уж лучше в крысятник! — захрипел я. — Шушара в два счёта укокошит!
Он не проронил ни слова. Глядел, как я беснуюсь, молчал и постукивал пальцами по крышке. Истерика моя пропала сама собой.
— Водички не подать, псих?
— Закурить бы…
— И я не прочь.
Он каким-то ловким, неуловимым движением швырнул мне пачку папирос:
— Возьми на память.
Я, вытаращив глаза, поймал.
— Часовой! — позвал он чуть громче, а когда тот появился, кивнул на меня. — Прикурить!
Ароматная пачка грела мне грудь в дальнем кармане, когда сунулся я к легавому с припрятанной папироской молоденького конвоира.
— Предлагаю другое, — сказал он, будто не прерывался наш прежний разговор. — Пойдёшь агентом ко мне?
Я чуть не проглотил обжёгшую губы папироску.
— Да-да. В доблестную Красную милицию. Как любит говорить наш мудрый товарищ Поляков, будем делать из несознательного элемента бесстрашного советского пинкертона.
Он помолчал, дожидаясь моей реакции, но мне сказать было нечего, я находился в состоянии полной прострации.
— Фамилию тебе подыщем вместе с легендой, — продолжал он, не дождавшись от меня ни слова. — Вызубришь, чтобы от зубов отскакивало. Внешность изменим. Оброс ты до безобразия. Похудеть придётся, сядешь на сухари и воду.
— И не слезал…
— Вот-вот, — не расслышал он, увлёкшись. — Засуну тебя в самый отдалённый район, где макар телят не пас. На время, на время, конечно. Наберёшься опыта. А как понадобишься, возьму.
Мне хотелось спросить, но я не успел.
— Теперь последнее, — он подёргал себя за чуб. — Мои люди, понимаешь, мои!.. будут называть тебя?.. — он приостановился, — так… Красавчиком ты был. Умерло с этим. После того как крыс одолел, да двух хорьков на тот свет отправил, наш Петриков тебя везунчиком окрестил. Везунчик, как?.. Подходит?
Я повертел головой.
— Не нравится. А что? Нормальная агентурная кличка.
Я совсем поморщился, оставаясь всё ещё на полдороге: верить во всё происходящее или молчать очумело.
— Вижу, не нравится. А имя должно нравиться, — он не ждал, он уже рассуждал сам с собой. — В нашем деле имя, как знамя. Вот что! Назову-ка я тебя Ангелом. Каково? Немножко из того, старого, так сказать, мира, но… Хочешь не хочешь, а имя это ближе к тебе лепится. В Жигулях ты атамана почти спас. Серафиму, красавицу нашу, сберёг, Бороду с моей дороги убрал — вон сколько плюсов. Паршивцев в карцере на тот свет отправить тебе сам Господь помог. Кто же ты? Ангел и есть!
Он недолго что-то писал за столом, потом ткнул кулаком в стенку, бросив мне на ходу:
— Заместитель мой. Мой, понял?
Слово «мой» он произнёс два раза. А мне два раза ничего повторять не надо. Я кивнул.
Вошёл кряжистый офицер, взял протянутый листок. Со спины я его сразу узнал, с Дилижансом он меня допрашивал про Бороду.
— Принимай пополнение.
— Василий Евлампиевич?..
— Оденешь, обуешь, оформишь и сам отвезёшь Серафимовичу.
— Василий Евлампиевич, с таким прицепом? Два покойника за ним!
— Оформляй так, чтобы ни один комар! — перебил он. — И побрить немедленно. Вообще поработай над его внешностью. Надо спрятать на время.
— Такого громилу?
— Повторить? Чтоб через час в городе не было! В село его.
— Есть, — вытянулся тот.
— Всё, после договорим.
Ко мне он так и не подошёл. И руки не подал. И слова не сказал. Да и лица его я так в тот раз и не увидел…
Часть вторая. Красные пинкертоны
I
Что понимал в женщинах этот плюгавенький, неряшливый до брезгливости человечек? Что о них мог знать?..
Василий Петрович Странников икнул, слегка качнулся на нетвёрдых ногах, но устоял и уколол хмурым взглядом не в меру расшумевшегося Глазкина. Заместитель губернского прокурора и в трезвом состоянии отличался велеречивостью, а теперь, под изрядным хмельком, да после интимных волнений, что называется, поплыл-поехал. Из дверей дома на крыльцо они высыпались гурьбой, хотя и старались соблюдать степенность. После долгого застолья, жарких объятий в укромных альковах, дурманящего запаха горячих до влажности женских тел полуночная тишина и свежесть близкой набережной приятно расслабляли и успокаивали. Все обмякли, остывая, но только не расходившийся прокурор. Он замыкал компанию, затеял целовать ручки Татьяне Андреевне, несравненной хозяйке, спустившейся их проводить, но его занесло при поклоне и, если бы не перила да подоспевший сластолюбец Иорин, быть бы ему в кустах под оградой.
«А ведь этот прокуроришка сегодня представлен мною самому Константину Стрельникову! — покоробило опять Странникова. — Крупному магнату! Богатейшему на низах рыбопромышленнику! Константин, конечно, разберётся, что к чему. Но этот-то, каков субчик! Сам умолял организовать встречу, непременно в узком кругу, а ухайдакался раньше всех! Да и поведением отличился скабрезным. Едва не испортил настроение, хотя постарались в этот раз хозяйка и её девушки, не ударили в грязь лицом. Всё мило, пристойно, кабинетик на четверых отделили; цветочки излишне, конечно, но простительны, Константин, правда, морщился. Зато потом с уютными комнатками каждому не подкачали. Ему досталась с жёлтой бархатной обивкой стен. Знает Андреевна его вкус, и Верочка была чудна и упредительна. Само совершенство!»
Он приметил краем глаза — Стрельникову подобрали Зиночку: «Тоже ничего блондинка и по нраву Константину, хозяйке, пришлось подсуетиться, но не подвела, успела. Томные, нежные блондинки нарасхват. Капризны, чертовки, но так что ж поделаешь? Черноволосые вампирки, да ещё с тёмными волосками на ногах — бр-р! — не для него. От них коробит, словно кошки нетерпеливы и жадны. Им всё сразу. Не успеешь слова сказать, расслабиться, а им бы так и наброситься. Хотя…»
Странников поковырялся в зубах, сплюнул прилипшую к зубам куриную кожицу, отвернулся от Глазкина: «А ведь этот гадёныш мог вполне расстроить всю идиллию. Как Алексееву вогнал в краску! Язык без костей. Приплёл ни с того ни с сего французского писаку, сифилитика Мопассана! И ядовито объявил, отчего тот загнулся! Всем проафишировал про болезнь. Бедная Андреевна не знала, куда глаза деть, хорошо Стрельников не промах, нашёлся, перевёл всё в шутку. Но каков прохвост Глазкин! Где и когда вычитал? В туалете начальной школы, прячась от надзирателя?.. Чёрт те что! Мопассана ли ему цитировать, когда у самого свадьба на носу! Для этого понадобился ли Стрельников с торговыми возможностями? Нэпман известен всему Поволжью, в Астрахань наезжает ради контроля. Свои магазины имеет здесь, в Саратове, в Самаре. В Москве недавно открыл, да такой, что всех баб свёл с ума. Женским бельём стал торговать чуть ли ни из самого Парижа! Этими самыми панталонами да пеньюарами. Мария, жена родная, давно утратившая интерес ко всему, и она заговорила про заморские штучки, уши прожужжала мужу — достань, мол, подивиться. И смех, и слёзы… А невеста у Глазкина не из простых. Тоже, видно, грезит о столичных нарядах ну и, понятное дело, хлопочет по разносолам на праздничные столы. Поэтому ей Стрельников и понадобился, она женишка своего на это сподобила».
Слышал Странников о породистой прокурорской кобылке, приятель Гришка Задов в своё время выдвинул её в качестве исполнительницы на главную роль в весёлом водевильчике. Красива, но Странникову не понравилась — писклява и манерна, таких в театре пруд пруди. К тому же брюнетка, а Гришка будто забыл, как секретарь к ним относится. «А главное — Задов давно объездил кобылку сам, когда репетировал, — усмехнулся Странников. — А где Гришка пенку снял, там уже делать нечего».
Странникова снова качнуло, он и сам понимал теперь, что его развезло. Обычно он крепился до прихода девушек, держался. Но тут рядышком с ним Константин Стрельников устроился за столом, а у того душа жаркая, один тост, второй, да всё подливает и подливает до полной. Он моргал Иорину, но пройдоха не уследил.
«Да, дела… — опёрся Странников на перила, — перебрал лишку. А Глазкин, хлюст, значит, клюнул на артисточку… Знает, у неё отец — важная персона. В торговом отделе столоначальником значится. Кряхтят и стонут от него рыбопромышленники, гребёт с них деньжата, когда с просьбами суются. Вестимо, Стрельников на поклон к нему не ходит, но всё это до поры до времени, а коснётся — будущий зятёк подсобит…
А в театре со временем невеста Глазкина перестала появляться. Выходит, жених запретил ей эксперименты на подмостках. Запретил… Но, как говорится, запретил одно, она другие увеселения найдёт…»
— Василий Петрович, я вас провожу, — перебил ему мысли вертящийся подле Иорин.
— А где Константин Михеич? — оглянулся Странников. — Что-то не видать его?
— Так они вон… С Павлом Тимофеевичем Глазкиным секретничают.
— С Павлушкой?
— Отделились. Вы на крылечке размечтались, они и раскланялись.
— Раскланялись?
— Расцеловались.
— Ну раз так…
— Я вас тоже окликал, задумались вы.
— Да воздух-то какой! — нашёлся он, отвернулся от Иорина, да и от прокурора со Стрельниковым. — Воздух какой! А, Игорёк? Засмотрелся я на небо звёздное, а они, значит…
— Торопился Павел Тимофеевич. Он, по всей очевидности, пригласил Константина Михеевича в ещё какое-то заведение?
— Это проказник-то наш? Жених?
— Он.
— Что за бред ты несёшь!
— Я краешком уха слышал, будто звал он Константина Михеевича квартирки Тамары Павловны проведать.
— Александровой? Проститутки этой?
— И про квартирку Мерзининой был разговор.
— Вот как! Притонов им захотелось!
— Дело вкуса, Василий Петрович, — изобразил улыбку Иорин. — Они ведь высокие материи взялись обсуждать.
— Материи? Это ж на какие высокие материи их понесло, голубчик? Мало им Татьяна Андреевна угождала?
— Госпожу Домонтович, извиняюсь, упоминали.
— Кого-кого? — Странников аж приостановился.
С помощью Иорина он минутой раньше сошёл с крыльца, и теперь они шествовали вдоль улицы, направляясь к портовому саду, недалеко от которого проживал секретарь губкома.
— Может, я и ослышался, но они про нездешнюю дамочку вели разговор, — не сдавался Иорин. — У них в Саратове общие корни, земляки они, оказывается.
— Вот даже как! — крякнул Странников. — Везёт стряпчему. Сам Стрельников в земляках оказался. Ценней знакомства не найти! Ну, держись теперь, Константин Михееич! То-то Павлушка рвался до него. Теперь не успокоится, пока не выпотрошит наизнанку.
— Так вам он и обязан…
— Мне? Зря ты, Игорёк. Язык у тебя, гляжу, длинный…
— Да я не в этом смысле, Василий Петрович! — изменилось лицо лизоблюда. — Я в смысле…
— А я в том самом смысле! — посуровел Странников. — Я не посмотрю, что Мария моя тебе покровительствует. Ишь, примостился! Чем берёшь старушек?
— Да какая же она старушка, Василий Петрович? Дама бальзаковского возраста!
— Поговори… бабий угодник…
— Да я, Василий Петрович, и ни мыслишки какой…
— Чего?! В три шеи погоню! Забыл, кто перед тобой? Перед тобой ответственный секретарь всего губкома! Щенок!..
— Василий Петрович!..
— Язык-то прищеми, а то сам прижгу. А дамочку ту как они именовали?
— Александрой! Александрой Михайловной, кажется.
— Кажется, — передразнил Странников и усмехнулся, успокоившись. — В мире одна Александра Домонтович была. И имя её…
— Умерла?
— Стыдно, молодой человек! Не знать таких женщин!.. Замуж вышла! И зваться стала Коллонтай Александрой Михайловной. Первая и единственная в правительстве Советской России! Валькирия революции! Вот как прозвали её наши враги… Впрочем, и друзья. И она этого заслужила. Нарком призрения! Женсовет в государстве создала!
— Что-то друзья наши про неё в другом смысле упоминали, Василий Петрович, — ехидно ухмыльнулся Иорин, заботливо беря Странникова под локоток, и они не спеша проследовали дальше. — Интересовали их, я бы сказал, совсем иные её увлечения.
— Мужики, что ли?
— Как сказать… Не то, чтобы…
— Эх ты, лягушачья душа! И мнения своего боишься. А вот Александру Михайловну это не пугает, — он задумался, напряг память, но сказывалось выпитое спиртное. — Вполне возможно. Увлекались ею великие мужи, и она увлекалась.
— Они её сравнивали с нашей Венокуровой. Тоже женсоветом руководит.
— Ну-ну! — пригрозил Странников, выдернул руку, поводил большим пальцем под носом спутника. — Опять зарываешься! Не позволю!
— А я и не заикался, Василий Петрович, — уже смелее не уступал тот. — Куда нам? Катерина Сергеевна Венокурова — сущий ангел против того, что Павел Тимофеевич насчёт Валькирии той размышлял.
— Давай, выкладывай всё как есть, — споткнулся Странников, но Иорин его удержал. — Выкладывай, выкладывай. Не бойся.
— Про эрос у них разговоры велись.
— Про эрос? Ты не перепутал ничего? — снова споткнулся Странников, ноги его заметно заплетались, да и языком он стал владеть хуже, с трудом собирая фразы. — Эрос? Это же бог любви, болван.
— Знамо дело.
— Так что же шепчешь на ухо? Никакой крамолы не нахожу.
— С Эросом они Валькирию и упоминали.
— Глупости какие-то!
— Могу поклясться!
— Глупости молодости, я хотел сказать, — приостановился Странников, неведомой силой его привалило к забору, и лёгкий Иорин не смог с ним справиться: ни оторвать, ни двигаться дальше не получалось.
— Не интересуетесь вы, молодёжь, ничем, — продолжал между тем Странников, делая мудрое выражение лица. — А надо читать и книги, и газеты. Алексея Максимовича, конечно, в первую очередь, но и эту самую Валькирию. Мысли у неё тогда были бурными, потому как сама молода и горяча. Насчёт того самого Эроса пролетарского она, естественно, опережает время. Но насчёт стакана воды — права. Слышал небось её теорию про стакан воды? — Странников упёрся в грудь Иорину. — Слышал, спрашиваю?
— Слышал, как не слышать…
— Врёшь, голубчик, ничего ты не знаешь. Я б этой женщине за одну такую фразу памятник поставил! Это как суметь! Дай-ка, дай-ка мне вспомнить… Мне, мол, в свободном обществе удовлетворить половую потребность, как стакан воды выпить! А, каково? Искренно и откровенно. Я — за стакан любви! Ясно тебе?
— Так точно!
— Ты не остри. Думаешь, я пьян?
— Что вы, Василий Петрович!..
— То-то! И поверь мне, разбирающемуся в философии человеку, её мысли найдут практическое подтверждение. Будущее за мировым пролетариатом. Любовь должна быть свободной. И отдаваться любви надо легко, словно опрокинуть в себя стакан воды. Вот что она провозгласила!
— Надо почитать, — восхитился Иорин.
— Почитай, почитай, голубчик, — кивнул Странников. — Сам Дыбенко[9] по ней страдает! Кстати, где мы находимся? Почему топчемся на месте? А это что за забор?..
— Выходит, вот с кого наша Венокурова пример берёт! — восхищался Иорин, съедаемый откровением.
— Ты — бестолочь, чтобы разобраться, — бурчал Странников. — Читал бы больше, нежели к Алексеевой-то нырять.
— Так я туда, ежели при вас. А так ни ногой…
— Прошу прощения, господа хорошие! — оборвал их разговор внезапно появившийся мужчина в милицейской форме.
Следовало бы упомянуть, что наблюдал он за ними уже добрых десять — пятнадцать минут, пока не убедился, что состояние обоих не позволит им выбраться из злосчастного закутка в заборе, куда они непонятным образом завалились. Один физически не мог, другой не соображал, как это сделать.
Впрочем, милиционер их нисколько не смутил, а Иорин, наоборот, обрадовался помощнику, поманил его ближе и рукой, и мимикой лица, на мгновение потеряв дар речи от неожиданности.
— Предъявите документы! — не был настроен на мирный лад страж порядка. — Кто такие?
— А ты кто такой? — явно не в силах поднять глаза, с трудом выговорил Странников.
— Агент губернского розыска Ковригин, — представился тот с довольно грозным видом.
— А я Странников! Слыхал? — качнулся навстречу Странников. — Дерзить мне вздумал?.. Скажи своему начальнику, чтоб посадил тебя под арест.
— Что?! — выкатил тот глаза на лоб.
— Скажи, скажи, товарищ Ковригин, — миролюбиво подёргал за рукав милиционера Иорин. — Василия Петровича надо слушаться. Это не просто человек, это сам ответственный секретарь губкома! Только сначала помоги мне довести его куда-нибудь присесть. Тут портовый сад недалеко был. Посидим с ним на ветерочке. Обдует с Волги, и всё будет нормальненько. А то Мария Яковлевна, супруга его, разволнуется. Ну, давай, помогай!
И они вдвоём, подхватив под руки третьего, предприняли попытку достичь предполагаемой цели. Милиционер, видимо, растерялся от бесцеремонной наглости обоих да и стерёгся возможной важности персон, поэтому старался добросовестно. Попытка им удалась, до портового сада действительно оказалось рукой подать.
— И меня не знаешь? — спросил милиционера Иорин, когда они закурили, оказавшись на скамейке; Странников уже похрапывал в серёдке.
— Наш? — сомневаясь, всмотрелся агент, сообразив, что лучше поменьше задавать вопросов.
— Нет. Гражданский я, — хмыкнул Иорин, пустил струю дыма в лицо любопытствующему. — Но из учреждения. — И, неопределённо откинув голову назад, поправил съехавший галстук.
— Справитесь теперь сами?
— Здесь близко.
— Тогда я пошёл? — начал прощаться агент.
— Давай, — Иорин занялся стряхиванием пепла, угодившего на пиджак Странникова. — Грязь — не грязь?.. Не вижу. Резко весна взялась. Развезло…
— Зима холодной была, — махнул рукой агент. — Может, всё же помочь?
— Ты смотри про его распоряжение не забудь, — напомнил вслед Иорин. — Доложи начальнику про арест. А то наш строг.
— Так точно!
— Ну пока.
И они расстались.
Красивое место — портовый сад. Жаль, почти нет электрического освещения. Висели поначалу кое-где на столбах фонари, но побило камнями хулиганьё. Обновили лампочки — снова та же картина. Больше не пытались — темнота друг молодежи. Теперь редко какой прохожий забредал сюда в позднее время погулять, да ещё с девушкой. От Волги сбегает главная кудрявая аллея, но это летом кудрявая и зелёная, а сейчас кустарник только-только оживал. Середина сада — точь-в-точь молодая рощица. Почти у калитки начинается озерцо, заботливо огороженное когда-то красивым заборчиком. Но теперь забор уродлив, местами повыдернут и поломан. Тут же уснувшая речушка с переброшенным через неё мостом, заброшенным и заросшим паутиной. Сейчас сад пуст и тих, настоящее хранилище чужих тайн. Иорин поёжился, но не от страха, от прохлады. Его здесь знала каждая дворняга. Если только кто заезжий. Но откуда быть чужому в их маленьком городке? Появись — уже на виду.
Он докурил вторую папироску, зашвырнул ловким щелчком окурок. Тот, описав красивую искристую дугу, опустился где-то в темноте. Подремал рядом с безмятежно похрапывающим соседом, выкурил ещё парочку и тем же манером избавился от окурков. «Пожалуй, пора будить да трогаться, — подумал он, взглянув на часы, — ещё мал-мал — и Мария Яковлевна начнёт волноваться». Опыт никогда не подводил его в таких случаях.
— А кто же этот кавалерчик, занял наше любимое местечко? — раздался вдруг у него за спиной нагловатый пьяный голос.
— Разинь зенки, братан! — забасил второй. — Их здесь двое.
— Баба?
— Если бы. Кажись, боровок.
Иорин оглянулся. Под развесистым деревом маячили три чёрные тени.
— Косой? — присматриваясь к очертаниям того, кто поменьше, спросил он.
— На тебя намекает, Паук? — пожаловался один другому.
— Оскорбляет, кореш, — добавил другой.
У коротышки действительно отсутствовал один глаз, его закрывала повязка. Только теперь, присмотревшись при выскочившей словно специально из ветвей луне, Иорин понял, что ошибся. Знакомых среди троих не было.
— Граждане-товарищи, — переходя на их язык, поднялся он со скамейки. — Шли бы вы своей дорожкой, мы, местные, люди гостеприимные, если в чём нужда, выручим.
— Он нас стращает, Паучок, — опять встрял неугомонный, и в руке его блеснуло лезвие финки.
— Не лезь, Жёлудь! — оборвал коротышка верзилу, похоже, несмотря на рост и тщедушный вид, он был в этой троице за старшего.
— А чё кипиш подымает? — подал голос молчаливый с дрыном в руке. — Дай-ка я пощупаю боровка, что на лавочке дремлет. И разойдёмся чин-чинарём.
Он змейкой нырнул к Странникову, но Иорин изловчился и ударом ноги отбросил его на землю:
— Не сметь, мразь!
— Он дерётся, Паучок, — придурковато запищал упавший и задрыгал ногами, не подымаясь.
Иорин скривил губы, было не до шуток: у коротышки тоже что-то блеснуло в руке, Иорин напрягся, но охнул, не уследив, покачнулся от острой боли в плече: достала всё же его финка верзилы. Уже падая, он услышал сквозь звон в ушах сухие щелчки револьверных выстрелов и крики: «Стоять! Руки в гору! Башки продырявлю к чертям собачьим, если с места тронетесь!»
II
Не нравился ему этот город, хоть умри! Когда втемяшилось в душу пронзительное чувство неприязни, он и вспомнить теперь не мог. Последние дни работы в Саратовском комитете чудный звон обещаний близкого назначения в столицу заласкал слух, но перебежал дорогу Герка Протасов из идеологического отдела, тоже ходивший в выдвиженцах на повышение, а ему угодило в этот город: убрали прежнего секретаря губкома Муравьёва, сумевшего за два года наломать дров, срочно требовалось выправлять положение.
«Участок ответственный, — твердили наставления, — губерния сложная, многонациональная, но ты справишься и потом… лучше начинать с самостоятельной работы, нежели хотя бы и в столице, а по отделам ошиваться… К тому же места исторические, вольница Разина, Каспий под носом! Где ещё увидишь?»
Приехал поздней осенью и поразился — грязь несусветная и холодрыга да с таким ветром, что на вокзале чуть уши не оторвало, вдобавок унесло шляпу, за которой пришлось бегать на общую потеху… Так вся осень и прошла, зато летом жара до пятидесяти градусов. Воздух такой, рот открывать не хочется, только верблюды и выдерживают.
Но главное — народ злой. Вот уж действительно многонациональная губерния, не пересчитать, и каждый своё. А все прут в губком.
Подымись хоть в шесть, кипятился Странников, вышагивая по пустующей улице, и припрись в губком в самую рань, галдящая толпа уже осаждает двери. Жаждут его перехватить. Прячься — не поможет. Раньше были ещё горлопанистей, теперь пожиже и мельче. Но всё равно тошно их видеть. Особенно сегодня.
Он невольно приостановился. Поганый день у него сегодня. Много накопилось с прошлого, а главное — надо разобраться со вчерашним вечером. Странно всё закончилось, подозрительно непредсказуемо. А может, непредсказуемо только для него одного?..
Странников полез за папиросами и долго не мог отыскать пачку трясущимися руками — вчерашнее давало знать, а похмелиться не решился, да и Мария гвалт подняла. Из дома он почти убежал, только б не слышать её нравоучений.
Отыскать курево не удалось, видно, второпях оставил на столе, когда завтракали. И спросить не у кого, пусто на улице. Хоть умри, так желанна затяжка! Совсем отчаявшись, он вдруг наткнулся во внутреннем кармане на портсигар. Чёрт! Забыл, ведь Мария подарила на днях эту дорогую штуковину, не успел привыкнуть, вот и вытряхивал карманы пиджака в бесполезных поисках. Закурил, задохнулся вгорячах, но прокашлялся, и после второй затяжки голова закружилась, затуманилась. Полегчало.
Глянул вперёд — ждут неугомонные черти у подъезда! За три квартала толпа видна. И ведь так стало только с его приездом! Поначалу Странников восхищался, вдохновляла его эта картина. Считал, это и есть та самая всё сметающая, неукротимая энергия масс. Её бы в нужное русло. Ей правильное направление дать. Цель высокую обозначить. Порыв! Размах! Сама удача летит в руки. Дерзай, ответственный секретарь губкома!
И он подпрыгивал тогда от нетерпения, взлетал, а не входил на ступеньки. Душа рвалась и вширь, и ввысь: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови!» Он прирождённый оратор и трибун. Это знали наверху. Его ценили: такой способен повести за собой хоть на край света.
К этим чувствам присоединялось ещё одно, сугубо личное, даже тщеславное, однако так ли оно и личное? Он его не стеснялся и причислял к собственным успехам: переборол, переплюнул своего предшественника, того толпами не встречали. Теперь повержен бывший секретарь губкома Муравьёв, пакостит исподтишка, при случае палки вставляет, остерегаясь. И те, кто тёрся с ним бок о бок, носы повесили, ему, Странникову, победные марши трубят, задницу лижут, лишь в их сторону взор соизволит бросить. Боятся вылететь из губкома к чёртовой матери! А он умнее оказался, не дождались от него чапаевского разгрома, по-иному поступил, лишь раскусил ситуацию.
Двух месяцев… Какой там! Двух недель хватило, чтобы заметил он, как изменилась атмосфера в толпе у губкома. Его речи стали слушать. Про своё, конечно, пытались орать — на хрена нужна была им мировая буржуазия, вселенские обещания. Им дай хлеба и жильё, свет и воду, грязь с улиц убери, ворьё и проституток. Иным был их зуд, далёк от всемирных масштабов. А ведь рядышком маячил губисполком, где кудесничал его соратник и одновременно соперник, хитромудрый Мина Львович Арестов. Вроде и ближе, родней этой толпе, а сторонились казачка, понимали: у Странникова власть, он способен разрешить их беды и закавыки. Не особо они велики… рычага сиракузского мудреца не требовавшие, но месяцами и годами копившиеся, не разрешаемые прежней властью. Он эту грязь вмиг выпер.
Странников замедлил шаг, прикуривая вторую папироску, расходилась душа от воспоминаний. Да и не так уж давно это было, чтобы забыть.
Повытряхивал он своих работничков из кабинетов и кресел на улицы, для начала заставил дежурить у крыльца и разбираться вместо него с жалобщиками, заодно и внимать то, о чём шумят, кумекают. Вон их тени мелькают на самом крыльце. Приметные, в первых рядах те самые. Приказал он им не только доходить до сути, но и свои проколы, собственное дерьмо убирать. А всего страшней — его встречать поутру вместе с крикунами и выслушивать в глаза правду-матку. Нерадивцев не щадил, выставлял напоказ народу, учил с кого шкуру драть.
Поступал так не по злобе. Опасался, чтобы не пришлось самому плеваться, как пришлось Муравьёву.
Ехидная усмешка пробежала по тонким его губам: чего-чего, а после тех мер шум покатился, непрошибаемые и те перестали кичиться, поняли: глаз Странникова зорок, скор на выводы и жесток он на расправу, хотя с виду мягкотел и интеллигентен. Пусть теперь шушукаются меж собой по углам, что пустобрёх он, сластолюбец, гарем развёл среди артисточек, с евреями в институте богему завёл, балясы точит, бегами увлёкся. Пусть посудачат за его спиной недоумки о его легкомысленных пороках. Сильным там, наверху, куда и он, дай бог, доберётся, тоже присущи некоторые слабости, которых они не стесняются. Переделать древнюю мудрость, так она звонче зазвучит — Цезарь вне подозрений! А его шалости по сравнению с проделками тех, наверху, — сущая потеха…
Докуривая и успокаиваясь, он остановился на перекрёстке в надежде отыскать урну, не подымалась рука швырнуть чинарик на мостовую. Не единожды гонял он хозяйственника, но толстолобому, словно о стену горох его поучения. Одно твердит — это задача исполкомовских, знает, пройдоха, о его антипатиях к Арестову, пользуется ситуацией. Низка культурка людей, а город тонет в грязи. Поморщился, покрутив головой впустую, так и раздавил окурок каблуком. И пока зло глядел под ноги, опять ударила мысль о вчерашнем…
Как закончился вечер в доме свиданий у Алексеевой, он помнил с трудом. Свёл его на крылечко Игорёк Иорин, а далее в сознании пусто. Отрубило. Кое-что услышал от Марии. Утром жена с трудом растолкала его к положенному часу, а за чаем охала и ахала, причитая, что принёс его на себе незнакомый милиционер. Разместил на диване в прихожке и умчался, повинившись, спешил куда-то. Дуре остановить бы служивого, расспросить. Не барана приволок! Должен знать многое тот человек, да не дал бог разум бабе.
Всё бы ничего, не сказать, чтобы Странников особо опасался, но служивый — лицо подчинённое. Побежит к начальнику милиции, часу не пройдёт, узнает Опущенников, а он — известная рыбка, человечек Мины Львовича, ему непременно и сольёт. Копит на него компромат Мина, в глаза никогда не скажет и в столицу пока не стучит, но кто поручится, что будет завтра? Ножа жди в спину.
Вот по этой причине, пренебрегая головной болью, ранним часом Странников торопился в губком. Звонить домой Опущенникову не имело смысла, до рабочего времени тот булгачить Арестова не станет по пустякам, а раньше девяти-десяти сам Мина в губисполком не заявляется. Не по душе ему хозяйственную телегу тянуть. Его размах привлекает. Тоже мечтает о столице.
Толпу секретарь миновал успешно, подоспевший заворг Мейц отвлёк бросившуюся, как к отцу родному, старуху с полоумными глазами, кстати, рядышком оказался инструктор губкома Умнов, бочком оттеснил горланящего работягу, тянувшегося с бумажкой. Бумажку он взял, извинившись, что торопится, а там уже и дверь перед носом дежурный распахнул ему одному, не подошло ещё время остальным, а Мейц уже разъяснял народу про предстоящую конференцию, доклады. Мейц раньше других ущучил тактику своего нового начальника.
Потом уже у себя в кабинете, среди знакомого вороха бумаг на столе, не заладилось — долго не мог дозвониться до милиции, там разглаживали зады на совещании.
III
Вкушая заумные нотации, поматывал, словно лошадь от слепней поникшей головой Турин. Изредка, при особо обидных фразах, вздрагивал, поедал злыми глазами сидевшего напротив человека. Не останавливаясь, без выражения, тот растопырил костлявые локти, налёг впалой грудью на кисти рук и твердил, твердил, твердил почти одно и то же. И не было видно ни конца, ни края этой нервотрёпке. Исподлобья оглядывая рядком восседавших милиционеров разного ранга и должностей, он покашливал, прочищая горло, избегал задерживаться взглядом на ком-то отдельно. А те, словно по команде, шумными выдохами размеренно пускали дым папирос под стол, себе в ноги, кряхтели и ёрзали на скрипящих хилых табуретках.
«Ну зачем ты меня при них? — метались, сгорали в мозгу Турина молнии гнева. — Ну что при слюнтяях этих костеришь! С кем равняешь?!»
Когда-то прежний начальник, крикун и трибун Хумарьянц любил устраивать подобные разносы. Комиссар-армянин гонял лоботрясов принародно в наказание нерадивым. Но в любых случаях, в совсем сволочных провалах при подчинённых начальство не трогал, при низших на высших по званию не замахивался. А ведь чего-чего, а поорать умел! И гвоздил революционными политическими лозунгами, к которым ближе лежала его душа не профессионала, но бывшего подпольщика-марксиста. Однако канцелярской терминологии был далёк, не то, что эта бумажная размазня, даже обматерить смелости не наберётся!..
Вторую или третью папироску прикуривал у соседа Турин. Не добирался до конца, мял в сердцах, обжигая пальцы. Давил в осколке артиллерийского снаряда, пепельницей служившей курильщикам. На столе начальника милиции эта безделушка стала реликвией после зловещих событий позднего лета восемнадцатого года.
Смотрел на осколок Турин, вертел в руках, вспоминал то грозное время.
Угодил этот осколок сюда, ворвавшись смертоносным снарядом в августовский денёк, когда весь город стоял на ушах. Изъятие хлеба у голодающего населения и принудительная мобилизация в Красную армию подтолкнули недовольных к открытому вооружённому бунту. Но разорвавшийся снаряд никому вреда не причинил. Основательно разметав милицейскую контору, грохнул оглушительно, никого не тронув: всё начальство городской милиции с самим Иваном Бугаевым, петушком носившим фуражку на правом ухе, арестовано было до этого собственными же милиционерами. Под стражу взяли и комиссара-трибуна Хумарьянца, сдался и председатель губисполкома Лепатов, не захотел умирать за новую власть и бравый военком Соскин, задрав дрожащие руки. Вся верхушка оказалась тогда в подвалах бывшего подполковника Маркевича, возглавившего бунт.
Суток хватило на переворот. Заговорщики действовали умно, как Ильич учил: захватили почту, телеграф, выпустили урок из тюрьмы.
И дрогнули тогда многие уцелевшие, а вот эта бумажная душа Опущенников, который сейчас направо и налево его долбит, — Турин поднял глаза на человека, осипшего от непрестанной говорильни, — не дрогнул и возвернул едва не ускользнувшую советскую власть.
Начал с деревни своей, с Никольского, и не позволил размахнуться взбунтовавшимся. Жестоко пресёк попытки в своём уезде, наладил связь с таким же смельчаком в Сасыколях, нашёл непокорных в городе.
Тех же суток ему хватило, чтобы свернуть шею врагу.
Не обошлось без счастливого случая — подоспели военные моряки.
Удача ласкает смельчаков, победа осыпает лаврами: Опущенников был усажен самим Свердловым в кресло начальника губернской милиции, канул в немилость трибун-армянин Хумарьянц. После такого блестящего начала, казалось бы, герою-победителю все дороги наверх распахнуты, но… Турин, покривившись лицом, хмыкнул, подпёр голову кулаком, — изменился Опущенников в другую сторону, не сумев удержать жар-птицу, завяз в местных дрязгах, а нагрянули нынешние времена, завертелись, облепили его воротилы новой экономической политики, совсем растерялся начальничек… Как говорится, ни рыба ни мясо…
Турин впился взглядом в Опущенникова, вон он водит носом по листку, что разгладил перед собой, чешет, не переставая. Чему учит его и других? Шпарит по бумажке, сочинённой ещё комиссаром-демократом, бестолковым крикуном, ни черта не разбиравшимся в том, как бороться с урками, как гноить нечисть. А ведь Ленин провозгласил лозунг — очистить государство от преступного элемента.
Ну а этот губошлёп!.. Что он им талдычит? Слушать тошно: «Никто не может быть задержан более чем на 24 часа… Стрельба на улицах возможна лишь в исключительных случаях… милиционер должен стараться не причинить вреда гражданам!..» Каким гражданам? Ворам, грабителям и мокрушникам?
— Василий Евлампиевич! — услышал Турин словно сквозь пелену голос Опущенникова, — Василий Евлампиевич!
— Заснул? — ткнул его в бок сосед.
Турин лениво поднялся, словно действительно дремал.
— А ваш агент… этот… как его?..
— Ковригин.
— Да-да. А ваш агент Ковригин знал инструкцию? Ведь он угрохал трёх человек!
— Так точно, товарищ начальник! Знал. Поэтому и стрелял.
— Сомневаюсь.
— Оборонялся он. Нападавших трое было. — Турин оглядел присутствующих, словно убеждая их, а не бюрократа, председательствующего за столом.
Присутствующие засмолили папиросы злее, дыму в кабинете прибавилось. Даже скучавшие ранее и действительно дремавшие были сейчас на стороне провинившегося и, не скрывая, поддерживали Турина. Он подметил это и повеселел.
— Оружия при убитых не оказалось, — сомневался начальник.
— А кто его искал? Моих ребят туда не допускают! — буркнул Турин.
— Мне доложили…
— Бандиты выбросить стволы могли. Обычно так и поступают, если прищучить.
— Финка была у одного да ножи у остальных.
— А смит-вессон, что нашли у моста?
— Он от трупов далеко оказался.
— Выходит, ствол Ковригин им подбросил?
— Не знаю, подбросил, обронил кто… Я вынужден издать приказ о служебной проверке происшедшего. После и решу по закону или нет применено оружие вашим сотрудником. Надо ли было лишать жизни трёх граждан.
— Трёх бандитов, — пробурчал Турин. — Их личности уже установлены. Это гастролёры из Ростова. Все судимы ранее. И не один раз.
— Ковригина от должности отстранить, — будто не слыша, продолжал начальник. — Найдите ему занятие другого рода. И пусть сдаст табельное оружие.
— У меня другой работы нет. Метлу дам. Пусть улицы метёт.
По залу пробежали и ропот, и смешки.
— В портовый садик отправьте. С метлой-то ему сподручнее.
— Уркоганов метлой не погнать, — дерзил, не сдерживаясь, Турин. — А там их целое лежбище.
— Вы же и распустили.
— Моё дело раскрывать да ловить.
— Вот что! — прихлопнул рукой по столу начальник и приподнялся. Такое случалось не часто. — Василий Евлампиевич, ваши заслуги известны, однако никому не позволено!..
— Товарищ начальник! — в открывшуюся дверь кабинета заглянул взволнованный дежурный.
— Что у вас? — развернулся к нему Опущенников.
— Там звонят.
— Я же просил во время совещания меня не беспокоить!
— Там из губкома!
— Скажите, я перезвоню сам, как только закончу совещание.
— Там из приёмной секретаря губкома…
— Кто?!
— Наверное, Странников… — не совсем уверенно подсказал Турин.
— Василий Петрович? А он с какой стати? — начальник метнул вгляд в Турина.
— Меня, наверное, не нашёл, вот вам и звонит, — лениво поморщился начальник розыска.
— Вас? Его интересует убийство трёх бандитов?
— Не думаю. А впрочем, чем чёрт не шутит.
— С каких пор уголовники стали интересовать секретаря губкома? Вы что-то не договариваете, Василий Евлампиевич? В парке бандитом был ранен гражданин, которого Ковригин в больницу водил… Он не имеет отношение к губкому?
— После перевязки чуть дёру не дал, — хмыкнул Турин. — Просил, чтобы фамилия его нигде не фигурировала.
— Вот-вот! — насторожился начальник. — Он как раз и может быть из губкома. Как его фамилия?
— Иорин его фамилия.
— Имелся у них такой человек…
— Этот Иорин, извините, предпочитал дамочек лёгкого поведения, а не партийные кабинеты.
— А что ж тогда Василий Петрович? — поджал губы начальник в недоумении. — Почему звонит?
— Думаю, из-за Ковригина.
— Ничего не понимаю.
— Вчера вечером, до происшествия, мой Ковригин остановил Странникова и задумал проверить его документы.
— Зачем?
— Ну… — пожал плечами Турин. — Померещилось что-то ему. Ковригин первый день как из деревни выбрался, форму новую приехал получать. Перестарался… наломал дров.
— Вон оно как!
— Секретарь сказал, чтобы я под арест его посадил.
— Вот видите!
Турин пожал плечами, теперь голова его повисла без гордыни.
— Надеюсь, арестовали шаромыжника?
— Сидит.
— А чего со мной тягомотину разводите?
Турин отвернулся к двери, которая снова открылась, на пороге возник всё тот же дежурный, только теперь уже с лицом краснее помидора и весь взлохмаченный, словно его оттаскали за уши.
— Товарищ начальник! — выпалил он. — Ответственный секретарь губкома требует вас к себе!
— Дождались… — Опущенников махнул милиционерам расходиться и поспешил к двери.
— Ефим Петрович, — заикнулся Турин. — Может, мне с вами?
— Вам? — приостановился тот, оглядел с ног до головы Турина. — С какой стати?
Турин приблизился и шепнул:
— В парке Странников был, только спал он…
— Так что же ты мне сразу не объяснил?! — побелел от гнева начальник.
— Ну буду же я при всех рассказывать, — не смутился тот. — Ну что? Идти с вами?
— Пойдём. Сам отвечать будешь. А потом с тобой отдельно поговорю!
До губкома добрались скоро. Опущенников утихомирил волнение и в кабинет Странникова вошёл один, оставив Турина дожидаться в приёмной.
— Как обстановка? — вместо приветствия пронзил его строгим взглядом ответственный секретарь.
— Обычная, — не моргнул начальник милиции и выпалил: — С десяток кражонок, грабёж нераскрытый… но мы работаем, триста литров самогона хлопцы припёрли с Трусова, ну и мелочь — проститутки, малолетки бомбили вагоны на вокзале… В общем, как всегда.
Странников не проронил ни слова, выжидал.
— Спасибо ещё раз за подаренную машину, товарищ секретарь. В угро не нарадуются. Теперь с преступным элементом скорее пойдёт, — затоптался Опущенников, не находя продолжения.
— Ты вот что, — перебил Странников, — благодарить губком не надо. Губком улавливает главные болячки, язвы буржуазного прошлого. Я больнице в машине отказал, потому что изучаю ситуацию. На нынешнем этапе, когда ошалевший от открывшихся возможностей нэпман прёт к спекуляции, забрасывает нерадивых аппаратчиков взятками, кому как ни нашим красным пинкертонам нужна скорость, а?
— Так точно, товарищ!..
— Ты мне ответь про другое, — опять перебил Странников. — Когда в угро научатся заботиться о…
— Недоразуменьице случилось! — опередил Опущенников. — Из деревни агент тот. Прибыл получать форму, задержался и вот… Вам попался.
— Где он?
— Сидит, — Опущенников прищёлкнул каблуками. — Турин взял под арест провинившегося. Тот сам и доложил, как вами велено было.
— Значит, сидит?.. А что доложил? — изучал подозрительным взглядом Странников бледное лицо начальника, постепенно успокаиваясь.
— Учим, учим их, — бурчал между тем тот, отворачивая голову. — Мало толку. Видел ведь, что человек солидный перед ним, что оказия вышла, ну прояви смекалку — проводи до дома… Нет у молодых понятия.
— Ну, это лишнее… до дома пьяных водить.
— Ничего, посидит, поймёт. Всё им подозрительные элементы мерещатся.
— Новичок, говоришь?
— Года не работает… Да у вас в приёмной сам Турин дожидается, — Опущенников оживился, раскусив, что вызов ему ничем не грозит. — Если надобность имеется, он подробненько всё объяснит…
Странников отмахнулся:
— Какая надобность…
— Извиниться за своих олухов хотел, — выпалил уже совсем радостно Опущенников. — Пригласить, Василий Петрович?
— Ну давайте, — лениво потянулся секретарь. — Пусть зайдёт. Только предупредите, чтоб недолго. У меня конференция на носу…
— Тогда я прощаюсь, — Опущенников вытер вспотевший лоб.
— Занимайтесь, занимайтесь. Преступность распоясалась, а вы с пустяками возитесь. Я вот в докладе задам вам перцу!
— Примем все меры! — смиренно развернулся тот и заспешил к двери.
IV
Их встречу и дальнейшее сближение не назвать случайностью. Не только сама судьба вела их друг к другу. И не только дело, которым каждый занимался. В натуре обоих, в самой глубине сидел, что называется, бес, противившийся порой ступать обыденно, идти правильной, проторенной дорожкой, делать как все, приказано — исполнять. Азарт противоречия, противоборства, делать по-своему, жить не как остальные, довлел над их разумом и, как ни старались они это скрывать, выскакивал тот бесёнок наружу и ставил в тупик и их, и окружающих. Сами того не ведая, они, тщеславные, желающие достичь невиданных высот в карьере, во всём, за что брались всерьёз, были отчаянными авантюристами, им ближе был поиск, нежели достижение цели, драка, а не победа, любовная тайная страсть, но не семья, хотя обстоятельства порой были выше их.
Познакомились они так. Турин в очередной раз отличился. Вместе с подчинёнными был представлен к награде. И было за что: в Царицыне из тюрьмы бежало пятеро опасных бандитов, главари Крот и Носик вооружились револьверами, отобрав у охраны. До Астрахани бандиты добрались без особых приключений. Не щадя стреляли и детей, и хозяев, приютивших на ночлег, а в городе, используя наводку, учинили налёт на банк, но угодили в ловушку, устроенную Туриным. Как ни отстреливались, а взял он их живыми и с деньгами. Можно было на месте к стенке — и все дела, но начальник губрозыска проливать кровь запретил, бурчал, — расстреляют, после суда.
Тем и закончился лихой побег Крота. Весть о его кончине мигом облетела преступный мир. Не замедлили, передали оттуда: нажил Турин кровников! А тот посмеивался: «Грозился волк медведю».
Вручать награды начальство приурочило к юбилею губрозыска. Прибыл для этого сам Странников, прихватив с собой председателя губисполкома. Так они и встретились. После пламенных речей гостей пригласили за скромный стол и секретарь губкома сам усадил Турина рядом с собой по правую руку.
Потом Задову, приятелю из театра, с восхищением рассказывал, с каким необыкновенным человеком виделся.
— Мартин Иден! — слушал и посмеивался артист, развалившись в кабинете на диване. — Морской волк! Только сухопутный. Глаза — серая сталь! Грудь боксёра! Бицепсы циркового борца и загадочен, как сам Шерлок Холмс!
— Ты его не видел! — горячился Странников. — Вот познакомлю!.. Руки только береги.
— Кусается?
— Когда поздравлял, он так сжал, я едва не вскрикнул. И идеями своими поделился. У него свой кумир, французский сыщик в мозгу застрял, новый метод изобрёл бороться с преступниками их же силой. Вербовал на свою сторону, зачислял в агенты и с их помощью шайки и банды отлавливал. Париж очистил от преступного мира! Не слыхал про такие чудеса?
— Я ворьём не интересуюсь, — брезгливо морщился Задов. — У меня музы.
— А мы договорились встретиться по этому поводу. Я ещё послушаю его предложения. Идея того стоит.
— Смотри, заведёт он тебя в подвалы нашего города. Что с урками станешь делать? Растерял ты спортивную форму со своими докладами да совещаниями, — хохотал артист. — Кстати, скоро бега. Не забыл? Я подыскал тебе каурую.
— А сам, значит, опять на Мираже? Снова обскакать собираешься?
Поговорили и забыли… Следующий раз секретарь поздравлял Турина на полугодовом совещании: показатели губрозыска украшали работу всего управления.
Потом Странникова пригласили в милицию на торжество по случаю вручения первой машины. Автомобиль был американский, кажется, «форд», повидавший многое, прежде чем привезли его по железной дороге из столицы. Опущенников советовался, кому передать, секретарь, не задумываясь, крикнул в трубку аппарата:
— Конечно, Турину! Губрозыск на высоте, недавно отмечали. Я сам приду поздравлять. Это же событие!
Вот тогда он и познакомил заслуженного артиста Григория Задова с лучшим сыщиком Поволжья. Он представил их друг другу полушутя-полусерьёзно и имел на это полное право. В том, что Задову в своё время присвоили звание, его хлопоты были определяющими, а в том, чтобы Турин стал вхож в их тесную компанию, имелась у Странникова своя нужда. Когда однажды зашла речь об интригах Арестова, Задов с присущей ему наглой непосредственностью, не моргнув глазом, подметил:
— У тебя готовый человек в руках, а ты мучаешься, как свернуть шею этому зарвавшемуся казачку Арестову.
— Кого ты имеешь в виду? — удивился Странников.
— Сталь в глазах, проницателен, как Шерлок Холмс, и кроток на язык.
— Турин?
— Вот тебе готовый начальник милиции. Опущенников вял и инертен, всеми потрохами подчинён Мине Львовичу. Отправь его куда-нибудь на повышение. В Калугу, Кострому, Казань… Подальше. Своё он заслужил, подавил бунт. Надеюсь, больше его услуги не понадобятся.
— А что, это мысль! — оживился Странников. — Надо отдать должное, в таких делах ты незаменим. Чем отблагодарить? Ещё раз проиграть тебе на бегах?
— Меня не обогнать! — заржал Задов. — Мой Мираж — птица!
И поднял большой палец вверх.
— Тогда, может быть, подарить тебе мою Венокурову?
— Слишком идейна, — скривил губы артист. — И тяжела на подъём, чтобы завести, надо споить ей бутылки три шампанского. Но вместо постели она взапрётся на стол танцевать. Помнишь, что вытворяла в прошлый раз?
Они расхохотались. Вспомнить было чего.
— У неё сестрёнка есть, — заговорщицки сощурил глаза Странников. — Венокурова никак не подыщет ей уютное местечко.
— Для работы? Смешно. Кем?
— Ну… Сам понимаешь. Девица на выданье, а свет её не знает.
— Давай её ко мне в театр.
— Погоди с театром, — посерьёзнел Странников. — Мы вот решили с тобой за Турина. Ему девица нужна необыкновенная. И чтоб не была замечена в легкомыслии. Понимаешь?
— Он что же, не мужик? Сам не найдет?
— Не мерь каждого на свой аршин.
— Остроумно, — обиделся Задов. — Женат твой Турин?
— Не знаю.
— Вот давай с этого и начнём. Я устрою в театре небольшой сабантуйчик по случаю какой-нибудь премьеры. И пригласим всех. Турина и обеих сестёр в том числе.
— Я бы не хотел видеть старшую, — возразил Странников. — Испортились отношения. Надоедлива. И распустилась.
— Но младшую без старшей не заманить. Ты же сам только что лекцию мне прочитал.
— Хорошо, хорошо, — замахал руками тот. — Решай сам. Только не увлекайся. Чем меньше публики в таких случаях, тем лучше.
Так было достигнуто соглашение, но его сорвал Турин. Пообещав, он не явился. Накануне ночью на одной из рыбацких тоней было убито пять человек, среди которых оказались женщина и девочка. Турин без предупреждений умчался туда.
С тех пор они не виделись. А сейчас Турин сидел у Странникова в приёмной и дожидался вызова.
V
Странников сам распахнул дверь, сам вышел в приёмную, раскрыл объятия:
— Что же ты здесь штаны протираешь?
Турин вскочил со стула, взял под козырёк, браво щёлкнул каблуками; тонкий, поджарый, он вытянулся стрункой. «Красавец, чертяка!» — впервые подметил и позавидовал секретарь, обнял как родного:
— Сколько не виделись? Проходи.
Он подтолкнул замешкавшегося Турина вперёд в кабинет, бросил секретарше:
— Чаю! И ко мне никого!
А Турина как долгожданного гостя довёл до кожаного дивана, на котором позволял сиживать не каждому, развернул лицом к себе, ещё раз заглянул в глаза, положив руки на плечи, и чуть не силком усадил:
— Отдыхай, сыщик. Набегался? Что в Икряном-то случилось?
Турин расслабился, бухнулся без всякой опаски на диван и утонул, провалившись чуть ли не по уши.
— Моего предшественника наследство, — съехидствовал секретарь. — Специально мебель не трогаю с места до очередного съезда. Диван только из другой комнаты перетащить велел. Кабинет великоват, а диван две задачи решает. Москвичи были, чертыхались, когда на нём прыгали, а мне чего? Пусть стоит. История. Я его держу под особ исключительных. Вот вроде тебя…
— А я чем отличился? — Турин, потеряв надежду выбраться, смирился, сорвал фуражку, непокорный чуб упал на глаза.
— Начальников губрозыска у меня ещё не бывало… Так что там в Икряном?
— Бандиты матёрые, — Турин потряхивал головой, забрасывая волосы назад с глаз, они не слушались, — пятерых уложили.
— А ты нам такой вечер испортил, — мягко и почти миролюбиво перебил его секретарь. — Гриша сварганил чудную премьерку. Лучших актрис труппы выставил…
Он потёр ладони, окинув кабинет взглядом, будто отыскивая ещё какую редкость, которой явно не хватало:
— Бандиты, говоришь?
— За кассиром следом шли. Он зарплату в рыбацкую артель вёз. Большие деньги.
— Как же прозевали?
— Был наган у него.
— Что наган?.. Сколько нападавших?
— Двое.
— Вот она, наша беспечность! А вы куда глядели? Учить надо банковских работников.
— Мы?.. — невольно вырвалось у Турина.
— Я чаю просил! — зло крикнул в дверь Странников.
— Банк нас не предупредил. Тут ещё разбираться надо, — выдавил из себя Турин, чувствуя, как влажнеет лоб.
— Сколько, говоришь, денег?
— Две тысячи.
— Ого-го! Знаешь, сколько я получаю? — Странников поймал на себе удивлённые глаза Турина, махнул рукой. — Сколько корова стоит?
— Корова?
— Удивил? Впрочем, откуда тебе знать.
— Максимум — тридцать рублей.
— Вот! Две тысячи — это же несколько отличных стад! Подкосили бы крестьянское хозяйство целого района.
Внесли чай. Секретарше помогала матрона посерьёзнее и помрачней.
— Ариадна Яковлевна! — укоризненно покачал головой Странников. — Не часто у меня гости, надо бы повеселей, повеселей.
— Одну минутку, Василий Петрович, одну минутку, — извинялась та, суетясь, неприязненно косилась на милиционера.
Турин смутился, хотел снова встать, но опять его попытка не увенчалась успехом.
— Так что же там у вас? — не замечая его неловкости, Странников положил руку ему на плечо и совсем прижал к дивану, пресекая дальнейшие попытки.
— Убили кассира.
— А мне Опущенников докладывал… вроде и про женщин?
— Затемно добрался кассир до тони, рыбаки на радостях, что деньги привёз, выпивку на стол. Он и заночевал, утром на трезвую голову думал раздать деньги.
— Вот разгильдяй!
— Всех спящих в той хибаре, где кассир остановился, и порешили, — кивнул Турин, — видно, кто-то проснулся. Может, шум пытались поднять. Всех мужиков с кассиром и повариху с дочкой. Пятерых.
— Звереет враг. Не знаешь, откуда ждать. И нет им помех.
— Да что вы! Поймали уже. Может, другой есть повод серчать на нас, Василий Петрович?
— Ничего, ничего. Это я так. В сердцах. — Странников дождался, пока они останутся одни, широким жестом указал на накрытый столик, который матрона придвинула к дивану напротив Турина, чем совсем лишила его возможности двигаться. Потом приставил себе стул, пододвинул чашку с чаем, но пить не стал; щёлкнув портсигаром, он достал папиросу и, закинув ногу на ногу, закурил, подмигнув Турину как ни в чём не бывало:
— А Задов обиделся на тебя. Нельзя, говорит, связываться с сыщиком-то.
— Простите, Василий Петрович.
— И Олечка ждала. Наобещал ей Гриша золотые горы. Такое про тебя рассказывал!
— Извиняюсь. Служба.
— Он слово своё сдержал. Такая красавица! Лучшая в труппе! Прима-актриса! А ты?.. Жаль, жаль.
— Исправлюсь, товарищ секретарь губкома!
— Забудь. Чего уж… Но впредь учти — первый раз Задов тебя простил, а второй раз и мне у него билетика для тебя не выпросить.
Шутил ли секретарь, обижался ли всерьёз, Турин так и не разобрался, но былой теплоты, как раньше при вручении награды или автомобиля, он не чувствовал, это тревожило и не давало покоя.
— А ты чай-то пей. Курить не предлагаю.
— Что-нибудь случилось, Василий Петрович? — Турин коснулся чашки, подул на чай. — Конференция придавила? Беспокоят?
— Беспокоят? — прищурился тот. — Есть тревога да другого рода.
Турин дёрнулся, ожёгшись, но Странников заметил:
— Не только у вас ловят, сажают, судят…
— Да что же случилось, Василий Петрович? Я своих ребят подыму на ноги. Вы только скажите.
— Значит, арестовал ты того? — оборвал секретарь губкома, придвинув лицо вплотную.
— Кого?
— Того… агента своего.
— Ковригина?
— Ну тебе лучше знать.
— Арестовал, Василий Петрович, но я за него головой ручаюсь! — попытался подняться с дивана Турин.
— Сиди. И никогда ни за кого не ручайся. Тоже мне, начальник губрозыска! — Странников похлопал его по колену. — Понял, надеюсь, загадку этого дивана?.. Мягко сидеть, но трудно подняться, впрочем, может, это и не единственное его достоинство. Или недостаток?.. Что-то я запутался. А ты-то чего молчишь? Не пугайся. Я же без претензий. Про вчерашний вечер расскажи.
— Василий Петрович, там такое могло случиться… — побледнел Турин.
— А милиция что же? — хмыкнул Странников. — Руки опустили?
— Бандиты Иорина убить могли! А вы с ним рядышком были!
— Ты мне без намеков… без намеков… Мне ясность нужна!
И Турин подробно и, тщательно подбирая слова, рассказал всё.
— В какой больнице Иорин? — поспешил спросить секретарь.
— В моём кабинете. Заперт.
— Что?
— Я его на ключ. И предупредил.
— Его же ранили?
— Не опасно.
— А врачи?
— Хирург смотрел. Его я ещё ночью отвёз домой, как помощь оказал. Хороший специалист, мужик с понятием.
— А Опущенников?
— Ну что вы, Василий Петрович?.. — с хитринкой улыбнулся Турин. — Единственный свидетель — ваша жена. Ковригин сообразительный агент, он и ей ни слова.
— Знаю, знаю, — потёр лоб Странников, — иначе я бы не выглядел таким здоровеньким. Умеет она портить настроение, — он, конечно, попытался сострить, но у него не очень получилось, глаза выдавали: стыла тоска, но секретарь встряхнулся. — Да что мне лукавить, чёрт возьми! Не помню я ничего, вот тебя и пытаю!
— Агента я наказал, — успокоил Турин, отхлебнул из чашки. — Трое суток будет в кабинете сидеть под арестом, как вы и приказали. Отдохнёт. Заодно Иорина посторожит.
— Вы что же? Держать Иорина под арестом собрались?
— У нас комнаты есть. Он, кстати, не женат. Никто не потревожится.
— А на работе?
— А вы ничего не знаете?
— Что? Что ещё я должен знать?!
— При Татьяне Алексеевой Иорин, если так можно выразиться, при том доме свиданий ошивается. А ведь инструктор губкома!
— Ну, это уж оставь мне… — поморщился Странников. — Задов — пройдоха! Ах, Гришка, Гришка!.. Затащил меня туда, а сам смылся!
— Значит, вы об Иорине ничего не знали?
— Ну-ну! Вы меня не допрашивайте!
— Извините, Василий Петрович, профессиональная привычка.
— Чтоб впредь не слышал, — буркнул секретарь. — А Гришка хорош! Он у меня попрыгает!.. Артист из погорелого театра!
Помолчали.
— Значит, Опущенникову ничего не известно? — успокоился Странников.
— Инструкцию нам читал, собрал всех и наяривал.
— Инструкцию? Чего это он?
— Хумарьянцу делать было нечего, вот тот и сочинял — философствовал… Как вам это нравится, Василий Петрович?.. Ночью не допрашивать без особой нужды, оружие не применять?..
— Вредная бумага по нынешним временам. Ты мне её отыщи при случае.
— Принесу.
— Вообще-то этот Хумарьянц много чего намудрил-намутил в своё время, теперь банями в Баку командует. Что ты его вдруг вспомнил?
— Так я ж про инструкцию! Если б мой Ковригин на секунду не успел пушку выхватить, отдыхал бы Иорин в деревянном ящике.
— Ты мне сегодня прямо Америку открываешь.
— Если б не Ковригин, не знаю, что могло приключиться и с вами.
Странников хмуро скосился на Турина, но возражать не стал.
— Есть версии случившемуся? — спросил после тяжёлого молчания.
— А тут какую версию не выстраивай, Василий Петрович, — будто ждал этого вопроса Турин, — три матёрых бандита навеки успокоены Ковригиным. Перестарался, возможно, но это с какой точки поглядеть. Два уцелевших, по-моему, стоят трёх трупов матёрых преступников?
Он многозначительно глянул на секретаря.
— Признался мне Ковригин, — доверительно тут же продолжал Турин, — он думал, конец Иорину, да вы ещё рядом в таком положении… Поэтому и палил без разбора.
— Ты всё-таки скажи, что сам думаешь про эту историю?
— Меры приняты: ничего не просочилось, — загнул палец тот. — Хирург?.. Он записей никаких не делал, — загнул второй палец. — А больше опасаться некого.
— Не допускаешь?
— Чего?
— Чего-чего! — не сдержался Странников. — Нападения на меня!
Турин вскочил и вытянулся перед секретарём:
— А основания?
— Теракт! Какие тебе ещё нужны основания?
Явно не ожидая такого оборота, начальник розыска лихорадочно соображал, что ответить, его растерянность выдавало заметное подрагивание пальцев рук.
— Что? По-твоему я не фигура?
— Подумайте, Василий Петрович, сколько народу всполошится, если вылезет наружу… — наконец начал он приходить в себя.
— Какой народ? Чего ты мелешь? Мне наплевать!
— Я имел в виду, если начальство съедется. Не наше. Ваше. Из Москвы. Ведь обязательно пришлют проверять, если всё так представить.
Странников переменился в лице.
— А те орлы копать станут глубоко, — развивал мысль Турин. — Из пальца высосут, если и ничего не найдут.
— Как не найдут? А бандиты? — пробовал возражать секретарь.
— Залётная братва. Сплошь уголовники. Такие в политику носа не суют. Кошелёк — вот их мечта.
— Уверен?
Турин как-то особо, по-воровски поддел ногтём пальца зуб, искусно при этом щёлкнув.
— Зуб дам.
— Стопроцентной уверенности и у меня, конечно, нет… — секретарь хлебнул чаю. — Но в одном ты прав — вороны слетятся. Задолбят.
— И копаться начнут, до исподнего доберутся. Зачем вам это надо, Василий Петрович?
— А я сказал, что надо?
— Арестова опасаетесь? — тихо, вскользь, подкинул догадку Турин.
— Мину? Нет-нет! — замахал руками Странников. — Если мы когда и грызёмся с ним, то по пустякам. А тебе откуда известно?
Он настороженно скосился на сыщика.
— Не за деньги работаю.
Странникова пробил кашель, словно его прорвало. Турин сунулся с чашкой чая, но секретарь оттолкнул, закрыл рот платком и затих.
— Мина — мелкий интриган, — наконец послышался из-под платка его голос. — Ему б в столицу да повыше. А моё кресло ему и на хрен не нужно.
— А проверить надо, — будто приказал себе Турин, — если доверите. Я аккуратно.
— Займись, только осторожно. У Арестова своих везде понатыкано. И в губрозыске небось не один сидит.
— У меня нет, — резко произнес Турин.
Странников, выпрямив спину, спрятал платок.
— Уверен?
— Голову на отсечение.
— Слушай, что у тебя за выражения? Зубом поручаешься, теперь вот головой, — поморщился Странников. — Думаешь, так всё и прокатит? А если я возьму вот и потребую другого наказания твоему герою?
Турин так и застыл:
— Ковригину?
— Отдай его мне, — вдруг попросил секретарь. — Коль он жизнь мне спас, пусть и раскручивает всё остальное, что заварил. Мы с тобой версии строим, головы ломаем, пусть он это делает. Меня охраняет, а заодно вынюхивает.
— А Опущенников?
— Его посвящать нельзя.
— А с причиной перевода как?
— Какого ещё перевода? — зло дёрнулся секретарь. — Агент твой зарвался, приставал на улице к солидным гражданам без оснований… Ты его за это под арестом держишь?
— Извиняюсь. Не сообразил сразу. Но я его наказал, а вы в губком возьмёте… Как понимать?
— Пустяки. Набирайся мудрости. Он заявление тебе подаст, а у меня нехватка шофёров. Мне машину прислали на днях. Стоит, пылится. Мейнц уже представлял свои кандидатуры. Управлять-то умеет машиной твой знаменитый Ковригин?
— Ради этого научится, — опустил голову Турин, пряча ликующие глаза. — Только у меня встречное, так сказать, предложение, Василий Петрович.
— Валяй.
— Ковригин у вас сразу засветится. Мейнца вашего я знаю, проницательный гусь.
— Орготдел!
— Не поможете ли ещё одним человечком? Он на все руки, хоть двор мести, хоть трубы чистить и к тому же приметен. На него сразу все станут пялиться, а Ковригин незаметно тихим сапом приживётся.
— Не калека случаем? — поморщился Странников. — У меня, брат, подбор! Требования к кадрам.
— Свой в доску! — улыбнулся Турин. — Бывший боец интернациональной бригады. Он у меня в шикарном кабаке тише воды ниже травы, вынюхивает, что на самом дне делается.
— К себе что не берёшь?
— На особом положении.
— Ну, надеюсь, не африканец? А то мои бабы разбегутся.
— Китаец. Но у него давно русская фамилия и по-нашему шпарит — не отличить.
— Ну, не знаю…
— Им с Ковригиным вместе легче будет, — упрашивал Турин. — А сыграют они роли, будь спок.
— Опять ты за свой жаргон? Не переделать тебя, Турин.
— Я постараюсь, Василий Петрович. И передайте товарищу Задову, билетики его жду с нетерпением.
— Погоди, Василий Евлампиевич, — доверительно обратился секретарь к Турину, глаза отвел, чувствовалось, что неприятный разговор затеял напоследок, — задержись… Я тут, заинтересовавшись твоей персоной, поручил заворготделом товарищу Мейнцу подобрать материалы… Так сказать, в биографии твоей покопаться…
Турин застыл, не мигая. Странников, словно клещами вытаскивал из себя каждую фразу:
— Ты не обижайся, будто не доверяю тебе или подозреваю в чём-то. Есть у моего Мейнца возможность, не привлекая, так сказать, чужих глаз… В общем, понимаешь… Помнишь разговор наш про опыт некоего француза воров в уголовном сыске использовать для большего, так сказать, успеха? Кто тебя надоумил про то?
Турин хмыкнул зло, расплылся в деланой хитровато-легкомысленной улыбке:
— Машину же обмывали, Василий Петрович. Бесценный подарок милицейскому розыску с вашего плеча! Самому стыдно до сих пор, прихватил тогда лишка, ну и болтал спьяну. Сам, ей-богу, не помню.
— Ты меня за лоха не держи! — грубо одёрнул его Странников. — Раз спрашиваю, значит, заинтересовался я не просто так.
— Ваш Мейнц давно уже принюхивается к розыскному отделу. Особенно, как Легкодимовым там запахло. Не там контру ищет, а не знает — подскажу.
— Отвечать будешь?
— Кто же вас интересует конкретно, товарищ секретарь губкома? — задиристо, но стараясь сдерживаться, пробурчал Турин. — Каторжник Эжен Видок, на котором клейма негде ставить было, в 1810 году сам заявился в полицейскую префектуру Парижа и, проклиная прошлую жизнь, предложил способ избавить город от кишащих уголовников? Так он умер давно.
— Юродствуешь? — у Странникова налилось лицо краской.
— В те ужасные времена разгула преступности ему всё-таки удалось убедить чиновников и поверить в принцип: «Только преступник может побороть преступление», — продолжал Турин. — Его внедрили в банду и дали двух агентов. Двух агентов на весь Париж! А он больше и не просил, но через год у него на связи их было уже два десятка, а за решётки он упрятал около тысячи отъявленных убийц, разбойников, воров, мошенников и содержателей притонов. По существу, он очистил город от нечисти, как и обещал.
— Сказки плетёшь? Прямо Андерсен: дудочкой крыс свёл в море.
— Этот великий сыщик основал во Франции организацию под названием «Безопасность», ставшую знаменитой на весь мир «Сюртэ» — зародыш криминальной полиции. Так же начали работать с уголовниками во многих странах, и успех не заставил ждать.
— Однако преступность одолеть не удалось, — буркнул Странников.
— Он научил профессионально подходить к вопросам борьбы с этим злом и совсем не виноват, что все политические системы порождают почву и условия для человеческих гнусностей с большей скоростью. Против Маркса не попрёшь.
— Ну вот. Сам и поднял руки.
— Как сказать…
— Пытаешься по-прежнему экспериментировать? Признайся.
— Кто позволит?
— А Мейнц мне докладывал, что с ворами вовсю якшаешься. За какие подвиги они тебя Васькой-божком прозвали?
— Василий Петрович, вы накажите товарищу Мейнцу подальше держаться от различных дурно пахнущих помоек, где он привык собирать гадости да товарищу Трубкину докладывать в ГПУ. Строчат они одинаковые на меня пасквили, хотя бы друг у друга не списывали!
— Ты не зарывайся, не зарывайся, герой-одиночка… — крякнул Странников, но уже потухшим голосом, по-свойски пожурил. — Ишь, Робин Гуд! Узнают твои, которые наверху сидят, по головке не погладят за эти прогрессивные начинания. В три шеи погонят, а то и покруче завернут. В России уже слышали про одного такого экспериментатора — Каина-христопродавца, он воров собирал для выведывания разных тайн среди своих же… Свои же и повесили, которые повыше были.
— Они всё могут, так как наверху, — не скис Турин. — А по поводу вашего замечания о воровской кличке моей, Василий Петрович, у Трубкина поболее будет информации. Знают там меня, начиная с царских времён, когда шестнадцатилетним пацаном добывал деньги для подпольных газет. Но до настоящего боевика не дорос, в кутузках часто сиживал, а после разгрома большевиков в первую революцию, объявлен был опасным преступником, и отправили бы меня на каторгу, но повезло улизнуть в Америку. Опять же не без пользы; могу похвастать: с товарищами Бухариным, Воровским и другими там познакомился. Многие тогда там ховались, пока амнистия не грянула от господина Керенского.
— Чего ж с рядовых в милиции начинал?
— Мест не было, — отвернулся Турин и затих. — Заняты были.
— Да ты без юмора не можешь!.. Повозила жизнь носом?
— Хлебнул с избытком…
Они помолчали.
— Ну вот что, Василий Евлампиевич, — кашлянул в кулак Странников. — Мешать тебе в твоих профессиональных опытах не стану. Но и знать ничего не знаю. Разговора не было, забыли. Все последствия и возможные промахи под твою ответственность. Иди, работай.
— Есть, идти работать!
— И чтоб этот?..
— Ковригин Егор?
— Чтоб шофёр Ковригин завтра приступил к исполнению новых обязанностей. С китайцем повременим пока. Ты Ковригина подучи в городе, обмой, оботри, снабди информацией, пусть приглядится. А недельки через три-четыре посмотрим и китайца.
— Оба — моя находка. Скрывать не имею права, — прямо в глаза секретарю выпалил Турин.
— Думал, я не догадался? — прищурился Странников. — Но их дальнейшим перевоспитанием сам займусь. Теперь моими крестниками станут.
VI
Над «Счастливой подковой» полно звёзд. Высыпали, выбежали, будто на смотр их пригласили, на представление. Запрокинул голову вверх актёр Григорий Иванович Задов, не налюбуется. Сияющего небосвода хватило бы да вот этой жёлтой проказницы двурогой, докатившейся до самой ажурной крыши изысканного ресторанчика, но упёрся на её пути в небо кованый столб с тремя фонарями под колпаками в вензелях, и зацепилась за них луна-девица игривым рожком, словно ножкой, не двинуться теперь, не развернуться. Попалась шалунья. Заливает светом веранду, на которой устроились двое, блаженствуют, откинувшись на спинки мягких кресел.
Ресторанчик этот особый, только для своих. Вокруг ни шума, ни суеты, ни допёка. Кроме них: сухощавого, строго одетого Дьяконова да актёра в обычном его наряде — длинном плаще и старомодной шляпе — никого, даже столиков пустующих не видно. Только тихая томная мелодия льётся на головы откуда-то сверху и порой всплеснёт волна, качнув всё заведение и прижав его к берегу.
Низенький официантик в расписной рубахе навыпуск с пояском скользнул за их спинами, подкрался на цыпочках, не сказал, прошептал на ухо Дьяконову, боясь потревожить его покой:
— Не извольте-с горячего?
— Как, Григорий Иванович? — поинтересовался с некоторой важностью тот, подняв серые внимательные глазки на актёра.
— Рано, — выпустил в воздух колечко дыма, актёр затянулся ароматной сигаретой, любуясь, запустил вверх ещё два таких же друг за другом, подмигнул ждущему официантику. — Принеси-ка, голубчик, нам ещё севрюжинки отварной да икорку с блинчиками. Чтобы икорка холодком отдавала, а блинчики язык огнём жгли. Люблю, грешник, крайности. В этих крайностях да излишествах, не поверишь, любезный мой Валентин Сергеевич, вся моя суть и трагедия.
Он небрежно стряхнул пепел с сигареты через перила в воду, покрутил окурок перед собой, засмотревшись, как разгорается огонёк, и вдруг мягким щелчком зашвырнул его по высокой дуге туда же.
— Вот и завершилось мгновение этой искры. Погорела, посветила, попользовался ею кто-то и… — с ностальгией в голосе произнёс он. — Так и мы… Рок завершил, что Бог сулил…
Не закончив фразы, актёр ухватил улетающего за дверь официантика и, тыча пальцем, кивнул на пустой графинчик. — И наполни до краёв. Я сегодня в особом расположении духа. Впрочем, смени его совсем. Что ты вздумал нас, словно юнцов, из такого сосудика потчевать, китайская твоя рожа?
Сказал он ласково безобидно, что официантик без слов поклонился, виноватая улыбка мелькнула на тонких губах, жёлтая маска лица изобразила нижайшую покорность.
А актёр захохотал, собой довольный, сбросил шляпу, замахал ею над головой, крикнув во всю мощь необъятных внутренностей, будто голубей гонял:
— Хорошо-то как! Эй-ей-ей!
Эхом прокатился его мощный, прямо-таки разбойничий клич по затихшей реке, пролетел, прогудел по водной глади до островка напротив и, отразившись, рассыпался.
— Перепугаете всех, Григорий Иванович, — пригнул от неожиданности Дьяконов аккуратно стриженную головку к столику и даже прикрыл уши обеими ладошками, на лице его выступили и изумление, и неподдельный испуг, который он постарался скрыть. — Кругом народу на берегу, в пивнушках да в кабаках!..
— Что нам ночь, Валюха?! Для артиста ночь есть время творческое, пора терзаний ищущего сердца, познания себя. Вы вот, чиновничьи душонки, не знаете, не ведаете, что это такое. Что есть судьба артиста? Вам бы до постели добраться да дрыхать. У вас же перед глазёнками цифирки скачут, одни банкноты на уме. Да чтоб не общучил кто. А мы?.. Мы о вечном!.. Об истине вселенской печёмся! Наставить вас на путь истинный наша задача и мечта.
— Нам и церкви хватает.
— А ходите ли вы в храмы? Сомневаюсь я. Да и нет уж их. Порушили. Театры для вас, заблудших, открыли. К ним путь.
— Деньжата считаем не ради собственной прихоти, ради государства переживаем, Григорий Иванович, — лениво и наставительно забубнил собеседник. — К нам теперь требования ого-го!
— Дурачишься? — грубовато засмеялся, загоготал артист, раскинув руки от нахлынувших чувств. — Ну, признайся! Иудушку Головлёва или Плюшкина изобразил? Получается у тебя, почти поверил, — он потянулся через столик, хлопнул приятеля по плечу. — Хорошо про деньги сказал! Пойдёшь ко мне? Пьеску сварганим на манер Островского. Да что стариков булгачить! Новых полно, аверченки, зощенки разные объявились, дюжину ножей им в спину! У тебя, Валюш, ей-ей пойдёт. А если я тобой займусь!.. Да ещё по системе Станиславского!..
— Нет уж, увольте, — не подыграл тот, обиделся. — По молодости в шекспиры метят. Вы уж им крутите головы.
— Ну-ну! И чего тебе обижаться? — ещё раз попытался похлопать его артист, но тот отстранился, да и повела хмель в сторону, промахнулся Задов, ухватился за край столика, чтобы не свалиться и чуть не перевернул его; вовремя подскочил проворный официантик, будто тут и стоял, подхватил стол одной рукой, второй — артиста, и воцарилось статус-кво.
— Ай, молодец! Откуда ты примчался? — оттолкнул усаживающего его официантика Задов. — Ишь, глазастый! А водка где? — И развернулся к собеседнику: — Ты не обижайся на меня, Валентин Сергеевич, не обижайся. Я тебя понимаю. Зачем тебе мой театр, мои марионетки? У тебя своего такого добра хватает. А ты среди них высота непомерная.
Тот слушал молча, не перебивал, видно, остывал от обиды.
— Ты — вершина у нас в городе средь всех этих людишек финансовых и торговых! — с пафосом произнёс артист.
— Ну что вы, Григорий Иванович, — заёрзал в кресле тот, довольный, поджимая губы, на лице его не выразилось ни кокетства, ни зазнайства, он принимал хвалу некстати быстро опьяневшего артиста, кривясь и воровато оглядываясь по сторонам. — Всем вам обязан. Как такое забыть. Всем только вам.
— Да я не об этом! — вознёс вдруг артист руки вверх театральным жестом, как проснувшийся вулкан издал рык, из глотки только пламя не полыхнуло. — Не спорь со мной! Ты у нас действительно величина! Заместитель заведующего торговым отделом! Звучит-то как! Сам Дьяконов! Вон куда занёсся наш Валюха!
— Ну полно, полно, — пригнул тот голову к столику, теперь уже совсем пугливо. — Чего же шум подымать? Не велика шишка… заместитель…
— Прекословить мне? — не то шутил, не то разыгрался в роли артист, не снижая тона. — Попков-то твой — начальничек формальный, за столом постоянно не сидит. По командировкам шастает. В Саратов каждую неделю билеты заказывает. А командуешь всем ты! Я, брат, знаю!.. Вот мы его и пропишем в высшие начальники. А городу настоящий заведующий нужен. Чтоб на месте был каждый день. Да что его искать? Вот ты передо мной! Аль не справишься?
Дьяконов привстал от неожиданного предложения и потерял дар речи.
— Испугался?
— Да чего уж… Обязанностей, конечно, великовато, но получалось без него… Да что там! Справлюсь, конечно. Благодарю за доверие.
— Нет! Ты всё же ответь! Кого ж ты испугался? — не на шутку расходился Задов, его понесло, он играл уже другую роль. — Китайца желтокожего? Лакея этого или его хозяина Корнея? Сказать тебе, кто в этой «Подкове» всем заправляет? Да ты и сам слышал небось. Только делаешь вид, что неизвестно.
— Не надо. Ни к чему, — забеспокоился Дьяконов и, протестуя, ладошки к губам прижал. — Что нам до них, Григорий Иванович? Мы отдохнуть сюда заглянули. Посидели — и нет нас.
— Э, стоп! С Дилижансом у тебя, Валюш, так не выгорит! Знать тебе, Валентин Сергеевич, надо всё. Давно мы в одной колее, поэтому лучше знать, чем думать чёрт те что, головёнку, как страус в песок прятать и потёмок пугаться. Ты ступил на дорожку опасную, но не трясись заранее, выведем, если что. Не бросим. Сам вот только не лезь в дерьмо, тянет тебя туда недуром, смотри, увязнешь по самые уши и не заметишь.
Дьяконов, утратив дар речи, не сводил с артиста глаз, пытался понять.
— Ну-ну. Не дрейфь, — хмыкнул Задов. — Спустил я на тебя кобеля?.. По делам твоим. Не думал, что слаб на расправу. Ты привыкай, голубчик. У тебя впереди и не такое может быть.
— Григорий Иванович, да за что? Помилуйте, не заслужил.
— Не заслужил? — вскинулся артист. — А на какие шиши такой домище разбухал у всех на виду! Не поленился я, не поверил, сам прокатился посмотреть. Потом рассказал Василию Петровичу, тот глаза таращит: соседский-то вдвое меньше твоего, не дом, а дворец с палатами у тебя! Соображаешь, что творишь?
— Сломать дом-то?
— Чего уж теперь. Ещё больше сплетен родишь, — Задов вроде как протрезвел, посуровел лицом, кулаком по столу пристукнул, укоризненно покачал головой. — И к Дилижансу меня пригласил… В «Аркадию», значит, побоялся, там публики полно, там на глазах… Как же! Замзава да с актёришкой водку вкушают…
Дьяконов не находил себе места.
— Бываешь там?
— Редко.
— С женой небось?
— Ага.
— Лоботрясов своих, Авдеева, Попугайчика и остальную свору с собой берешь? К чему тебе сопровождающие? Ты — будущий начальник. Гони их от себя!
— Что вы, Григорий Иванович! И не брал никогда.
— Часто там твои крохоборы выкидывают фортеля. Особенно этот?.. Ходит между столами и у рыбопромышленников на водку клянчит!
— Чернушкин, подлец? Я его сгною!
— Не горячись. Пусть сам уйдёт. Эта же гнида потом на тебя писать станет. Не куда-нибудь… в Кремль!
Дьяконов вздрогнул, закрыл лицо руками.
— А кто не знает в городе Дилижанса? — будто сам с собой разговаривал Задов. — Он и кличку заработал, что под всех ложился, подвозил-отвозил, девиц поставлял. Шельма ещё та! Ты бы Лёвку спросил. Общаешься же с ним. Узилевский Лев Наумович — дока по этой части. У него информация на каждого. Он на нас с тобой биографии напишет — это же руководитель, официальный представитель всех частников в бюро сырьевой и биржевой конвенций. Вот! Выразитель, так сказать, воли и желаний всех нэпманов в стенах государственных учреждений.
Дьяконов исподлобья приглядывался к Задову. Куда делись пьяные чудачества сидящего напротив человека? Он преобразился в строгого учителя, требовательного наставника, безжалостного судью. Вот и разгадай актёра, где играет очередной фарс, а где стегает плёткой желчных замечаний.
— Кстати, а где наши официальные лица? — вдруг с одного на другое перескочил Задов. — Ни Лёвки, ни Макса не наблюдается, а время назначенное давно прошло? Заблудились, разыскивая «Подкову»? Им, конечно, ближе кабачок мадам Мерзликиной да салон дамочки Александровой… Где они? Я просил пригласить их на нашу ассамблею.
Замзав смутился, но нашёл в себе смелость промямлить:
— Мне представлялось, Григорий Иванович, что присутствие этих особ нежелательно. Тем более Гладченко. Поэтому не пригласил.
— Ага! — торжествуя, воскликнул артист, не удержался от охватившего его возбуждения, выскочил из кресла и с необыкновенной прытью для, казалось бы, недавно пьяного вдрызг человека, оббежал вокруг столика, прихлопнул по плечу растерявшегося Дьяконова. — Значит, коснулась тебя длань божья! Господь просветил! А я ведь, голубчик, специально тебя проверял. — Он наклонился к Дьяконову и зашептал на ушко: — Я, Валюш, загадывал, хватит у тебя ума не привести сюда Максима Яковлевича Гладченко, вождя местных аферистов, великого специалиста по взяткам и спаиванию государственных людишек? Как же ты сам догадался?
Дьяконов отстранился, обиженно поджал губы, встать собрался, но Задов ласково, но твёрдо усадил его назад, даже пригнул голову к крышке стола да так, что тот не смел шевельнуться.
— Как же ты Макса забыл?.. Он же в твой торготдел ногой дверь открывает, твои охламоны дорожку перед ним метут, не забывая в карманы его заглядывать — полны ли они деньжатами? Им несёт иль опять мимо, всё начальничку!.. Тебе!
Дьяконов попытался дёрнуться, но рука Задова была тяжела, и пикнуть не сумел.
— Когда Макс у тебя, они все завистливо перешёптываются: «Хлеб пришёл!» А? Не то я говорю? С вывороченными карманами от тебя вываливается и не он один! Солдатовы к тебе зачастили, Пётр у них за главного, чуть не лобызается с тобой. За какие шиши ему скидки да лучшие условия по рыбодобыче? Молчишь?.. А ты не пригласил их со мной встретиться… Я бы выспросил у братцев, за что им скидки великие да привилегия особая?
— Григорий Иванович! — высвободился наконец из-под тяжкой длани замзав. — Кто ж такую гнусность плетет на меня!..
— Не сметь! — гаркнул артист, гром его голоса снова полетел по речке. — Не сметь мне врать! Голову оторву!
Дьяконову всё же удалось соскользнуть с кресла, он упал на колени перед Задовым, схватил его за руки:
— Кляните! Ругайте! Всё снесу! Только простите. Без ума творил, бес попутал.
— Вот… — обмяк актёр. — Ты подымись, подымись. Неча в ногах-то валяться.
— Эти гнусные твари в душу забираются и глазом не успеешь моргнуть, — тарабанил, захлёбываясь, замзав. — Отвернёшься, а они уже свёрток в карман суют. А то моду взяли деньги в бумаги прятать. Выбежит, бывало, из кабинета, глянь на место, где он сидел, а под кипой — пакет. И не догнать его.
— Ладно, — махнул рукой актёр, брезгливо отворачиваясь. — Они хватки на такие проделки. С ними ухо и глаз только держи.
Он будто доигрывал свою роль, расслабился, нелепо и безрадостно хлопнул по своей шляпе.
— Бог мой! — взмолился замзав. — Неужели и Василию Петровичу известно?
— Ты, голубчик, наивное существо, — усмехнулся артист. — Вскружил успех голову. Солдатовы да Гладченко, Штейнбергеры да Блохи, Ситниковы да Кантеры — это не просто знатные рыбопромышленники, это великие комбинаторы, хищники. Им палец в рот не клади. А у вас от их ласк глазки разгорелись. Натан да Хасан, Абрам да Евсей тюрьмы не боятся, им не привыкать, да они ведь за спину твою и спрячутся. Тебе же карманы деньжатами набивали. С тебя спрос.
При последних словах Дьяконов сжался.
Выскочил официантик, будто ничего не замечая, наполнил рюмки уже из нового графина.
— Горячее подавать? — уставился на Задова.
— А тебя кто по-нашему дрессировал? — ухватил его за поясок артист, пытаясь заглянуть в глаза. — Дилижанса выкормыш?
Только щёлки глаз узкие, ничего не разглядеть; китаец молчал, дежурно улыбаясь, будто ничего не понимая.
— Вот скажу Корнею, чтоб выгнал тебя и перестанешь улыбаться, — устало хмыкнул Задов и крикнул вслед убегающему, не замечая поставленных уже рюмок. — Ты водки нам принесёшь, рожа жёлтая?
Развернулся к Дьяконову, помолчал, дожидаясь, когда тот очухается.
— Тоска, — хмыкнул Задов. — Мавр сделал своё дело, но, кажется, переборщил. Не вызвать ли больничку. Эй! — окликнул он замзава. — Так и быть, научу я тебя, что надо делать.
— Григорий Иванович, век благодарен буду! — оживился тот и уши навострил, как собачонка.
— Любит Странников тебя, дурачка, — поднял свою рюмку Задов и опрокинул залпом. — Поэтому и усадил в кресло начальника отдела. А долг платежом красен.
— Да я!..
— Самому сообразить надо было, — наставительно и почти ласково продолжил артист. — А ты дождался, что поучать пришлось. А?.. Кумекаешь?
— Да мне только слово!..
— И без слов догадайся, — из графинчика плеснул Задов, не дожидаясь официанта, да тот и не спешил появляться, будто чуя важность беседы, тайно прислушивался у двери.
Артист выпил ещё.
— На днях бега начинаются. Слышал небось?
— Нет.
— Что ж ты, афиш не читаешь? Везде расклеены? Сезон открывается, вот дурачок! В чём твой интерес? Бабы?
— Что вы!
— И водки не пьёшь…
— Нам голова чистая нужна.
— Ну да, понимаю, — поджал губы Задов. — Насчёт головы ты вовремя заметил. Если б ещё она у тебя поумней была.
— Обижаете, Григорий Иванович, — осторожненько продвинул по столу к нему ладошку замзав.
— Что это? — широко раскрыл глаза артист, дурачась.
— Сувенирчик к бегам, — неуверенно произнёс тот и приподнял ладошку.
Под ней оказался приличный свёрток с деньгами.
— С отдачей. Мне просто так не надо, — быстро заграбастал деньги Задов. — Я в первом забеге не участвую. Я со второго начну. Но с таким сувениром уверен, выигрыш мой.
— А Василий Петрович? — подтолкнул таким же образом следующий свёрток замзав.
— Он ещё не решил. У него конференция на носу, — забирая и эти деньги, ответил Задов. — С лошадью загвоздка. Московские лошади, не наши. А вот если Табун-Аральских привезут, тогда да! Тогда, может, и я в первом заезде решусь на своём Миражике. Ты давай приходи, Валюш.
— Непременно, — возликовал тот.
Влетел официант с подносом, но Задов замахал на него руками:
— Засиделись мы. Пролётку вызвал?
— Стоит, — нагнул тот голову.
— Хоть здесь угодил, — покосился на китайца Задов и стал прощаться с Дьяконовым. — Ты меня прости, Валентин Сергеевич, мне ещё в одно место надобно успеть. Сам понимаешь: женщины не любят, когда кавалеры опаздывают.
VII
Вторые сутки губком лихорадило.
Впускали не всех, лишь по вызовам, по запискам, своих. Заворготделом Мейнц сидел с лицом китайского императора на телефонах, отвечал один на все звонки. Виной всему была подготовка доклада на конференцию, с докладом зашивались.
По обыкновению его собирал воедино из частей товарищ Таскаев. Заведующие отделами и другие ответственные лица писали в своей части составные блоки, из которых второй секретарь творил единое целое и представлял товарищу Странникову для ревизии, замечаний и оценки.
Обычно работа эта начиналась загодя, копились бумаги с нужными фразами, цитатами вождей, вырезками из газет, откладывались брошюры, некоторые умудрялись подыскивать под тему стишки посерьёзней и поавторитетней, но мимо Странникова они не проскакивали, как и прочая мелочь. Странников ко времени общей читки «болванки» доклада набирал особую форму — был жесток и непримирим.
Работал каждый по-своему, кое-кто запирался в кабинете, кто-то оставался вечерами, отключали телефоны, гении диктовали секретаршам на ходу. Но таких было мало. И всё же месяца хватало, чтобы со спокойной совестью вручить товарищу Мейнцу свой кусок для предварительной проверки.
Второй этап наступал с Таскаева. Этот работал только вечерами, только с запертой изнутри дверью и телефонными звонками мучил и допекал каждого, в писанине которого сомневался хоть на грамм. Особенно противны были его звонки ближе к полуночи, но тот вызывал к себе несчастного, даже не интересуясь, где он его застал и в котором часу суток. Больше всех мучился финансист, который считал, что в этом хитроумном занятии разбирается лучше Таскаева. Спор рождал перепалку, заканчивающуюся скандалом, после одного из них, когда нарушили сроки, Странников приказал финансисту подписывать свой отчёт единолично под персональную ответственность. В крайкоме одобрили новинку, и воцарился мир.
Так, с его приходом в губком, сложилась процедура с докладами. Но в этот раз неожиданно забуксовал Таскаев. Долго провозился со стыковкой блоков, тормозил с цитатами, меняя одну на другую, и даже советовался с товарищем Распятовым, завом по идеологии, в чём ранее никогда не замечался. Основания были — только что пережили очередные вылазки троцкистов, Зиновьев с Каменевым заварили кашу по НЭПу из-за отношений к середняку, в которой трудно было сразу разобраться; чёткие рекомендации из Центра запаздывали, на местах приходилось додумываться самим.
Открытие конференции было объявлено на вторник еще месяца за три, но наступила последняя суббота, о докладе ни слуху ни духу, и у многих аппаратчиков сложилось мнение: горит всё синим пламенем! Такого ещё не бывало!
Однако к полудню Таскаев распахнул дверь кабинета ответственного секретаря и застыл на пороге. От природы кудряв, теперь он был взлохмачен и прямо-таки озарён неземным сиянием. Обеими руками прижимал заветную папку к животу.
Странников долго глядел на него из-под густых бровей: ни «войдите», ни «садитесь», загасил папироску в пепельницу, где окурков высилась целая гора, вызвал звонком секретаршу и мрачно сказал:
— Я дождусь, когда эту гадость кто-нибудь догадается убрать? Дышать нечем!
Сам подошёл к открытой форточке, настежь распахнул окно, кинув за спину не то онемевшему Таскаеву, не то оробевшей секретарше:
— Через пятнадцать минут всех авторов сия политического труда ко мне! Подготовиться к читке проекта.
И заложил руки за спину, не оборачиваясь. Жест был красноречив. Таскаев с секретаршей вылетели из кабинета, чудом не столкнувшись.
Зал заполнился раньше и замер в напряженном ожидание. Весть о плохом настроении ответственного секретаря молнией облетела всех, каждый, ткнувшись в свой блок писанины, отыскивал грех; финансист с ехидной улыбочкой в позе сфинкса устроился отдельно в углу, отгородившись от остальных. Докладчик Таскаев топтался в центре зала, не решаясь присесть, искоса бросал взгляды в спину Странникова, тот так и курил у окна, никого не замечая.
Разрядил обстановку Мейнц. Ему забыли сообщить о начале, и секретарша, всплеснув руками, понеслась за ним, тот вбежал, споткнулся о порог, едва не упав и успев вцепиться в Таскаева. Нервный смешок зародился среди сидящих, но тут же смолк, а двое так и стояли, обнявшись и извиняясь друг перед другом.
— Начнём? — оборвал идиллию ответственный секретарь, облокотившись на подоконник, так и отделяясь от всех. — Цирк да и только!
Специально или забывшись, он позиционировал себя остальным; первым это заметил Распятов, толкнул ногой под столом Мейнца, тот вздумал возразить, но Странников, словно следил за всеми, пресек:
— Опоздание, надеюсь, восполним качеством содержания? Прошу!
Таскаев дрожащим голосом начал читать. Обычно в таких случаях он снимал очки, так как, волнуясь, потел; очки съезжали на нос и не помогали ему, а мешали. Толстыми стёклами они уродовали и без того пухлое асимметричное его лицо, и он мучился вдвойне, зная это. Видел без очков он очень плохо, поэтому лист с текстом держал перед самым носом и пальцем водил по строчкам. Но к этому давно привыкли; никто не обращал внимания на знакомые фразы начала, формальные обязательные строки, тихий голос докладчика, бубнящую монотонность. Таскаев не трибун, не Странников, он — вжившийся в должность вечно второго, рядовой чиновник: не прошло и двух минут, как нервный накал спал, его перестали слушать и некоторые смежили веки. Нет! Никто и не думал дремать, но многих клонило ко сну после стольких треволнений.
— Читал? — вдруг спросил ответственный секретарь Таскаева.
Все вздрогнули вместе с докладчиком, не поняв вопроса.
— Что?
— Вот это?.. — Странников выпрямился. — Только что вы произнесли?..
Таскаев сбился, палец его соскочил с нужной строки и сейчас лихорадочно искал потерянную фразу.
— Ну! У вас там про какой-то «Шум»?..
— Сейчас, сейчас, — засмущался ещё более докладчик, но совладать с собой не мог.
— «Шум эпохи»! — подсказал кто-то. — Мелькала такая заметка в нашем «Коммунисте».
— Нет. Я «Коммунистом» не пользовался, — пролепетал докладчик. — Там вечно что-нибудь путают.
— Зря вы так, — обиделся тут же Распятов, идеолог и куратор местных газет. — Сами перепутали, так не пеняйте на других.
— Вот! Я вам нашёл, — никто не заметил, как Странников подошёл к докладчику и резко ткнул пальцем в текст: — «Философия эпохи»! Есть статья с таким названием, а у вас какой-то «Шум эпохи»?..
— Да-да, — стушевался Таскаев, — я же говорю, в нашем «Коммунисте» обязательно перепутают.
— Не может быть! — привстал Распятов. — Вы, наверное, пользовались «Вестником Советов». Так это печатный орган Арестова.
— Нет-нет. Я его даже не просматриваю.
— Неважно, — оборвал спор ответственный секретарь. — Я спросил, читали ли вы эту статью?
Таскаев поник головой.
— Ну как же? Раз на неё ссылаетесь? — Странников покачал головой, поджал губы, отошёл к окну, закурил. — Раз её цитируете, значит, должны быть вооружены. Вы её поняли?
Всё это время каждый в зале поедал глазами бедного докладчика и старался вспомнить, не из его ли блока вычерпал Таскаев эту злосчастную статейку? А докладчик разволновался так, что ему было не до воспоминаний. Единственное, что он мог наконец промямлить:
— В «Ленинградской правде», кажется, печаталась… Кто-то её мне подсунул… из командировки привёз. Но я не вчитывался особо. Времени не было.
— И хорошо, что не читали! — вдруг громко сказал Странников. — Я бы вас врагом партии объявил, скажи вы мне обратное. Вредная газета. А статья опасная. Чуждая пролетариату. Уничтожена она была, лишь её выпустил Зиновьев. В «Философии эпохи» он снова партию втягивает во вредную дискуссию. Сколько мы их пережили! Троцкистам едва глотки закрыли, да не совсем. Умники за новое взялись!
Трибун умело ораторствовал, не то, что предыдущий мямля, зал замер, а напуганные аппаратчики, сжавшись, невольно пригнули головы к столам, не смея шевельнуться. Давно не видели ответственного секретаря таким.
— Не ожидал я от вас, товарищ Таскаев, подобных перлов! Чем захватила вас философия этих двурушников? Вы разделяете взгляды Каменева и Зиновьева?
— Что вы, Василий Петрович… — шептали бледные губы Таскаева. — Вам хорошо известна моя позиция. Я верный ленинец. В партии с революции.
— А кто же эту мерзость влепил в доклад?
Таскаев изо всех сил вцепился в крышку стола, чтобы не упасть.
— Это всё от вашей бестолковости! Читаете что ни попадя! Распятов мне тут докладывал, вы и зарубежной литературой интересуетесь?.. Читаете какие-то их журналы?..
— Только выпуски Коминтерна…
— А в Коминтерне кто? Забыли? Тот же Зиновьев! Хитрая лиса вместе с Каменевым. Они ещё и Надежду Константиновну Крупскую с верного пути пытаются сбить. Слышали, чуть к себе её не переманили? Верная подруга и соратница Ильича вдруг запела с их слов! И ведь на что эти враги покушаются! Им, видите ли, не нравится, как руководит партией Генеральный секретарь товарищ Сталин! Вы только послушайте, что брехал Каменев на съезде!..
Ответственный секретарь расстегнул пуговицу нагрудного кармана светлого кителя, бережно извлёк вчетверо сложенные листы печатного текста и, оглядев зал, не без гнева, прочитал: «Я пришёл к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя!..»[10]
Эффект был таков, что в зале все вскочили на ноги. Распятов первым закричал: «Долой!» Мейнц пищал: «Давно их в шею!» Остальные угрожающе топали ногами: «Смерть врагам революции! Сталина не отдадим!»
— Спокойно, товарищи! — поднял руку Странников. — Отщепенцы получили должный отпор. И мы не позволим, чтоб их желания, подобно ядовитым змеям, расползались и жалили наших товарищей. Коллектив у нас крепкий. А Таскаев, я думаю, уже понял, в какую канаву угодил.
Таскаев безмолвствовал и покачивал головой, словно от тяжёлого удара.
— Кто же вас сподвиг на эту статейку, Таскаев? — понаблюдав за ним, спросил ответственный секретарь. — Неужели в наших рядах прячутся гадюки? Товарищ Мейнц, вы что скажете?
— Есть, товарищ ответственный секретарь! — выскочил из-за стола и побежал к Странникову заворготделом. — Есть, к сожалению такие.
— Плохо! Очень плохо! Допускаете проникновение чуждого элемента в наши стройные ряды, — смерил его хмурым взглядом Странников. — Проведите проверку, как это могло случиться, и доложите мне.
— Будет сделано. У нас скоро чистка намечается…
— До чистки всё выясните, — секретарь сел за стол на место Таскаева, не приглашая садиться остальных, но они тут же сгрудились возле него, оттесняя бывшего докладчика за спины. — В связи с происшедшим, — продолжал Странников, — предлагаю конференцию перенести на два дня. Доклад поручаю переработать товарищам Мейнцу и Распятову. Справитесь, товарищи?
Он обернулся, отыскивая, оба уже стояли навытяжку рядом, идеолог — с левой стороны, организатор — по правую руку. Странников поднял голову:
— А то, вишь ты, нашлись умники, которым единоначалие не по нраву! Далеко удочки закинули. Замыслили расколоть наши плотные ряды…
— Я предлагаю не переносить конференцию, товарищ ответственный секретарь, — вдруг выпалил Мейнц.
— Почему? — откинулся на спинку стула Странников.
— Весь аппарат сейчас же сядет устранять упущения Таскаева. — Мейнц высоко держал голову, а грудь его прямо-таки бугрилась от вдохновения. — Мы с товарищем Распятовым не подведём. Доклад будет готов к сроку!
— Вот это по-нашему, по-большевистски! — поднявшись, обнял его Странников. — Я в вас никогда не сомневался.
VIII
В кабинете у Странникова разрывались звонками телефоны, несколько раз забегала секретарша с выпученными глазами, но он зло отмахивался, гнал, не давая открыть рта. Мейнц и Распятов, вместе и поодиночке возникая, ожидали приёма с пачками бумаг, ответственный секретарь никого не принимал. При галстуке и в пиджаке, закинув руки за голову, он уже несколько часов метался на продавленном диване, курил папиросу за папиросой, гася окурки в пепельницу, перемещенную на пол.
Он дотошно перемалывал недавнюю историю с незадавшимся докладом, лихорадочно тасуя ситуацию то одними, то другими фактами, домысливая варианты возможных последствий. Что хорошего можно было выжать из поганой и опасной катавасии, вольно или невольно устроенной вторым секретарём, которому он поручил такое важное дело? Главное, тот уже не раз справлялся с подобного рода заданиями, своевременно выходил с честью: его писанина к различным мероприятиям, пленумам, активам, кворумам, совещаниям не отличалась, конечно, красками, глубокими мыслями или сочными эпитетами, но была добротна, соответствовала политическим течениям, насыщена дельными призывами и подобранными по смыслу лозунгами. Единственным недостатком страдал Таскаев — волокитчик и тяготел к объёмам трудов. Но из большого легче сделать малое, и Странников правил, не стесняясь, вычёркивал повторения, замысловатые выверты, философские измышления, кроил направо и налево. От этого писанина выигрывала, короткие фразы звучали строже и звонче, звали вперёд, мысли становились яснее, так как ответственный секретарь был приучен к краткости и определённости. «Да» и «нет» предпочитал «мне кажется» и занудному «мне представляется». За таким туманом никакой позиции и лица автора. Творения Таскаева после его обработки превращались в пламенные острые речи трибуна. А в этот раз? От опуса за версту несло вредительством!
С другой стороны, ну какой к чёрту Таскаев вредитель-оппозиционер? Простой дурак! Ему по глупости подсунули непроверенный материал, второпях состряпанный кем-то из подчинённых клерков, и он, зашиваясь, не вникнув, включил его в общий текст. Так могло быть. Если так?.. Если так, то всё достаточно просто — один осёл пошёл дорожкой другого с закрытыми зенками! Выпороть обоих и забыть как дурное недоразумение. Мало их было, недоумков, неумех и глупых писак! Скольких он выгнал сразу, лихо ораторствовавших, но не умевших слепить двух слов на бумаге! Аппаратчик — прежде всего бумаготворческая личность. Допустим, что здесь как раз такой вариант, тогда погнать Таскаева из вторых секретарей в какой-нибудь глухой район на перековку, поручить дохлое хозяйство или под чистку подвести?.. Под чистку! Это будет выглядеть очень принципиально, и в крайкоме не посмеют заартачиться. У Таскаева, кажется, там и нет никого, чтобы глотку за него драл да смог защитить?..
Но если заведомо вредные идейки собраны умышленно и втиснуты не дураком, а кем-то со злой целью опорочить его, Странникова, то… Ведь это ему надо было читать такую мерзость на конференции!.. Потом никто уже не стал бы разбираться, кто автор, шкуру драли бы с того, кто с трибуны на весь зал вредные тезисы бросал, призывал против партии, против Сталина!..
От гнева секретаря перекосило, голова совсем пошла кругом. Он едва сдерживался. Однако артачилась и ещё билась холодная мысль, зачем это делать Таскаеву, который с первых дней носил за ним портфель на всех партийных кворумах, с его голоса пел и не мыслил ни шага в сторону, а ведь были стычки! Таскаев всегда дрался за его установки и неуклонно отстаивал их. Вернее и преданней исполнителя не было.
Выходит, Таскаева самого подставили. Человека, к которому он испытывал полное доверие, использовали против него! Вот дела… Его даже прошиб холодный пот. Да тут попахивает настоящим антипартийным заговором! Подкопом под ответственного секретаря губкома!
Странникову вспомнились вдруг бессонные ночи и волнительные дни, когда в Москве решался вопрос о возможности его назначения. Вспомнились те величественные апартаменты, в которые он был приглашён, впервые попав в столицу. Вступив тогда на порог, переполненный гордостью, восторгом и другими романтичными чувствами, он был подавлен мрачностью и могильной тишиной, царившей вокруг него. Особенно давил на психику высокий и длинный коридор.
Стараясь бороться с подкатившей к сердцу волной необъяснимой тревоги и холода, не чувствуя за собой никаких провинностей, невольно он выговорил пришедшие на ум строки:
Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу…[11]Опередивший его провожатый не оборачивался и не умерял широкого шага, и он, озираясь, пустился его догонять, тщетно ещё надеясь встретить хоть какую живую душу. Пуст был коридор.
Робость не только смутила его, она сковывала движения и мысли. То, что приготовился высказать, — заветное, главное, напрочь вылетело из головы, только нутро подсасывал страх, подавляющий волю, мешавший дышать полной грудью, и сомнения, мучившие его раньше, ожили и заметались в мозгу.
Не хватало воздуха — вот что остро почувствовал он.
Провожатый впереди, грохоча, печатал сапогами по паркету, Странников, боясь поскользнуться, едва поспевал за ним, всё время стараясь угодить в ногу. Не удавалось. Косясь на стены, он отмечал, что отсутствовали стулья и скамейки для посетителей. Ему рассказывали, что они исчезли, лишь заявился, рекомендованный Молотовым[12], новый заведующий организационно-распорядительным отделом ЦК партии Лазарь Каганович, еврей из многодетной бедной семьи сапожника с Украины.
Готовясь и стараясь не ударить в грязь лицом, Странников постарался разузнать о нём как можно больше и немало подивился. Грязные сплетни отмёл, но и того, что осталось, хватило, чтобы понять незаурядность этого политика.
Лазарь не любил людей, а их толпы ужасно боялся с малолетства, наслышавшись от матери о черносотенцах и страшных еврейских погромах. Потом, спустя много времени, встав сам у власти, научился, не гнушаясь и не мучаясь совестью, губить тысячи безвинных, взбираясь на трибуны, бросать оттуда призывы беспощадно уничтожать «врагов народа», как это было на той же Украине, куда он был послан Сталиным. И не делил их по нациям, русскими те были, евреями или украинцами.
Лазарь не умел говорить красиво, как Троцкий или Киров, не любил втолковывать долго и нудно, как Ленин или Каменев, но короткими, ёмкими фразами научился зажигать массы; безграмотный, угадывал главное интуитивно и умел повести за собой.
В Гомеле, узнав об Октябрьском перевороте, он без лишних слов организовал большевиков и захватил власть, чем сразу заявил о себе. А потом, окунувшись с головой в революцию, мотался по всей стране, куда кидало руководство, всегда добиваясь своего, прослыл незаменимым исполнителем, пока судьба ни свела его с Молотовым. Этот человек и вывел его в верхние эшелоны партийной власти, помогая подыматься по головам недотёп и неумех, то есть по лестнице партийной иерархии.
Но идолом для Лазаря Молотов не стал. Кавказец Сталин, бывший боевик, грабитель банков, добывавший Ленину деньги для газет и других партийных нужд, жёсткий и решительный Коба завоевал его сердце и разум.
После того как Сталин оттеснил соперников и утвердился рядом с Лениным, Лазарь проникся к нему ещё большими чувствами и начал пробивать дорогу только к нему, невзирая на то, что кавказец недолюбливал евреев во власти и главным своим врагом считал Троцкого, хотя до поры до времени тщательно скрывал это.
Оказавшись наконец с помощью Молотова в одной команде со Сталиным, Лазарь сделал всё, чтобы бывший кумир без его согласия не принимал ни одного ответственного решения и доверил ему ключи от самой тайной двери собственных кладовых — руководство всеми кадровыми вопросами в партии и в стране.
Именно в ту пору, перед назначением на пост ответственного секретаря губкома, Странников впервые и побывал в том коридоре, а потом в кабинете, увидел и услышал Лазаря воочию и блестяще прошёл чистилище.
Сталин, Молотов и Каганович как раз начали процесс очищения от старой гвардии партийцев. «От старых пердунов освобождаемся», — откровенно посмеивался Каганович в разговоре, имея в виду и затесавшихся во время великого переворота в ряды большевиков откровенных врагов — эсеров, эсдеков, кадетов, меньшевиков и прочих, и прочих, прилипших к победителям, как мелкая рыбёшка к большому хищнику. А вместе с этой нечистью Сталин очищался и от своих опасных соперников — от большевиков настоящих, мешающихся под ногами. Таких тоже хватало, к ним требовался особый подход и умение, которых Лазарю было не занимать — Кобу он понимал без слов, достаточно было пристального взгляда того на очередную жертву.
Отбирал Лазарь молодых и преданных, готовых беспрекословно выполнять любой приказ, идти вперёд за вождём, не сомневаясь и не оглядываясь в прошлое, а главное — не знавших о прошлом всей правды.
Молотов недолго маячил над Лазарем, стараясь контролировать и поправлять, помеху эту Каганович устранил скоро и по всем вопросам напрямую стал выходить лично на Сталина.
При той первой встрече Лазарь впечатлил Странникова. Могучее телосложение, высокий рост, густые волосы на лбу и борода свидетельствовали о недюжинном здоровье, не портил лица мясистый нос, нависающий над усами, а прозорливые миндалевидные глаза пронизывали насквозь. Неуютно чувствовал себя Странников под шилом этого взгляда, казалось, он как бабочку пришпиливал его к спинке стула, не давая шевельнуться, горло перехватывали спазмы, не скоро он освоился и начал внятно отвечать на вопросы. Но говорил, что думал, что накопилось, не таясь, и Лазарю понравился юркий кандидат. В конце разговора он твёрдо пожал ему руку и, благословляя на большие дела, в шутку или всерьёз пообещал заглянуть при случае. Оказывается, моря он тоже никогда не видел, а о чудесной и здоровущей «красной рыбе», рождающейся из мизерной чёрной икры, впервые услышал от Кирова и долго не мог поверить.
Возвращаясь домой и трясясь в поезде, не в силах заснуть от впечатлений, Странников и сам дивился необычной судьбе этого человека, грубого, невежественного и почти безграмотного, сумевшего забраться так высоко во власть и, чем больше думал, тем сильнее им овладевали негодование и зависть, что он родился позже, что упустил время романтичного и авантюрного периода революции, когда поступок, один миг могли решить и решали судьбу не только личности, а целого народа и огромной страны. Действительность, окружающая суета в партийном аппарате в его глазах выглядели теперь мещанским стремлением переродившихся чинуш обставлять себя привилегиями, плести коварные интриги, заканчивающиеся нередко печально. Ему, начитанному, проницательному и вообще-то, как сам считал, интеллигентному человеку, всё это претило, он называл это «вознёй пауков в банке, поедавших друг друга». Но вступив в эту лодку, понимал он, в шаткую лодку, несущуюся по мощной реке жизни, он уже из неё не выберется, а если попытается, то свернёт шею и, оказавшись на дне, не увидит ни одной протянутой руки, наоборот, услышит возгласы злорадства по поводу освободившегося места.
Так чего же философствовать впустую? — будоражили его новые мысли — пока всё получается, надо двигаться вперёд; удел гадалок дурачить сомневающихся, ему, ленинцу и марксисту, заказан путь в одном направлении… как пишется на плакатах — до самого того светлого дня!
…Паровоз медленно тянулся от станции к станции, безделье мучило и надоедало, снова и снова всё повторялось… Тогда и пришла на ум никчёмная историйка о бедном английском антикваре, безумно мечтавшем разбогатеть. Тот подумывал, а не закрыть ли ему лавку, не приносящую, кроме хлопот, никакого дохода, но заглянул однажды на огонёк слуга знаменитого лорда-миллионщика. Тот собрал все диковины мира, но как истинный фанатик мечтал о какой-то чудной штуковине в единственном экземпляре. Не задумываясь, антиквар преподнёс лорду в подарок редкую коллекцию своих марок, которой так дорожил, что никогда не выставлял на продажу. А на следующий день он был приглашён в апартаменты богатея, принят и вознаграждён по-царски.
Пожертвовав самым дорогим, антиквар скоро стал приятелем лорда и благодаря его помощи разбогател так, что всемирно прославился.
Лазарь, ломал голову Странников, марками не интересовался и про антиквариат вряд ли что-нибудь соображал, но страсть имел, и жажда власти грызла его душу!
Он вспомнил, как разгорелись глаза Лазаря во время его рассказов о чудной рыбе, что водится только на Каспии, о сказочном цветке лотосе, возвращающем мужскую силу и молодость, а женщинам — красоту. Конечно, вгорячах наплёл он много, даже про Хлебникова упомянул, но, видно, некстати, добавил, что тот прославился стихами не только в Поволжье, а по всей России и стал прозываться Председателем земного шара.
— Сумасшедший! — махнул рукой Лазарь и рассмеялся.
— Нет. Поэт, — не смутился Странников. — Наш, пролетарский.
Но сам уже каялся, понимая, что не туда его занесло.
— С восторгом воспел революцию в своих стихах, — закончил без прежнего пафоса.
— Демьяна Бедного читай, — оборвал его Каганович. — Выступал со стишками перед солдатами в войсках. Те сразу в бой рвались. А этот?.. Прочесть что-нибудь можешь из его виршей?
Странников растерялся, напряг память, но ничего толкового не вспомнилось, с трудом выговорил первое пришедшее в голову:
Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы. И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты», Да будет народ государем…[13]И смолк, забыв дальше.
— А что? Правильно! — Лазарь даже кулаком по стулу пристукнул. — Пролетарский, наш стихоплёт! И подкован верно! Про бабу голую только зачем? Ты ему подскажи. А насчёт председательства земным шаром загнул. Народ — да, народ наш стал государем, ему помочь устоять, не свернуть в сторону под влиянием разной контры! Быть нашему народу государем всего мира, попомни моё слово. Ты, надеюсь, сам-то не сомневаешься? — и глянул пронзительно. — Время не тратишь на стишки? Рыбкой не увлекаешься?
— Что вы, товарищ Каганович! — смутился Странников.
— Как у вас там насчёт сомневающихся в наших победах?
— Из щелей пытаются укусить, — выпалил в горячке Странников, — Киров с Атарбековым в 1919 году чистку навели, опасных кончили, остались ошмётки.
— Ретивых усмиряй сразу. И не раздумывай, — Лазарь зло сверкнул глазами. — Троцкисты затаились у нас под боком. С них глаз не спускай! Их вычистить из наших рядов непростая задача.
Этими наставлениями закончилась встреча, а Странников долго ещё перемалывал все детали и чуть ли не каждое слово Кагановича. Что запомнилось, записал в специально заведённой для себя тетрадке.
Месяц не прошёл, возникла надобность поездки в Москву, и Странников, загрузившись дарами Каспия, с замирающим сердцем отправился в путь. Знал, что самого Лазаря ему не застать, тот по поручению Сталина пребывал на Украине, Странников, тайно радуясь этому обстоятельству, нагрянул к его помощнику, а затем по совету того заглянул и на квартиру хозяина. Мария, жена Кагановича, поначалу удивившись, разговорилась, подарки приняла, напоила чаем, и они расстались довольные друг другом. С трепетом ждал он реакции Лазаря, но её не последовало; позвонил помощник, пожурил, чтобы впредь предупреждал о визитах, и объяснил, как быстрее найти его в аппарате. Странников ругал себя и радовался, что легко отделался, однако продолжение имело место. На одном из совещаний Каганович выступал перед активом секретарей. Странников рискнул и отправил ему записку с вопросом по теме, ответа не последовало, но помощник отыскал его и передал приглашение Лазаря навестить вечером.
Так между ними зародились новые отношения, близкие и доверительные, а дары Каспия Странников, уже не беспокоясь, переправлял поездом со знакомыми непосредственно помощнику. У Лазаря на квартире почти не бывал, пока тот сам не позвонил, предложив зайти. Странников в это время жил в гостинице, командировка завершалась, и от привезённых сувениров почти ничего не осталось, но он запихнул в портфель всё, чем был ещё богат, и помчался на встречу, не чуя под собой ног. Лазарь накрыл стол скромно, но на столе сиял коньяк…
Со временем Странников понял, что при всех его стараниях и даже помощи Лазаря, до Сталина из медвежьего угла на Каспии ему не дотянуться. Организовав в 1923 году себе выборы в Генеральные секретари партии, тот совсем отдалился, окружил себя невиданной охраной преданных волкодавов из ГПУ, создал тайный кабинет избранных и практически стал недоступен. Везде ему мерещились враги и предатели.
Странникова пока устраивала должность в отдалённой губернии, он продолжал оставаться в партийной обойме на выдвижение, был полновластным хозяином у себя, но постепенно транжирил высокие амбиции, топя разочарование и тоску в спиртном, в женщинах и в боях местного значения с нарождающимися как грибы выскочками. Опасных врагов и конкурентов хватало, политические отщепенцы сюсюкались по углам. Трубкин, местный начальник ГПУ, портил показатели, постепенно спиваясь.
Странников всеми возможностями удерживал отношения с Кагановичем, скрывал их даже от жены и следил за каждым успехом или неудачей Лазаря, переживая больше, чем за себя.
Лазарь не гнушался им, не отталкивал, он умел ценить преданность и старался отвечать отеческим вниманием, а порой и дельными советами.
Из всей пятёрки, тесно окружавшей Сталина, получившей негласное наименование его «тайного кабинета» — Орджоникидзе, Киров, Ворошилов, Молотов и Каганович, Лазарь был ближе всех к вождю, и Странникову представлялось, что связь его с фаворитом тоже надёжная. Следовательно, умилялся он, ставка его сделана верно.
Однако время шло, и Лазарь менялся. Заметно стало даже по внешнему виду. Поредел волос на голове, Каганович сбрил бороду, оставив усы, располнел и вместо френча и сапог облачился в светлый просторный костюм зарубежного производства; бросив курить папиросы, он завёл сначала трубку, такую же короткую, как у вождя, и пускал дым в лицо ближайшему собеседнику, не смущаясь, а подозрительно прищуриваясь.
Странников давно сделал для себя выводы, что Сталин не был антисемитом. Ненавидя Троцкого, понимал, что рядом с ним должны быть «свои евреи», и отдавал явное предпочтение Кагановичу, который тоже выработал для себя особую тактику поведения. Если запанибратскими отношениями с любимцем партии Кировым Лазарь откровенно бравировал, с Орджоникидзе обнимался, а Молотова похлопывал по плечу, то Микояну свысока подавал руку, а Никиту Хрущёва, хотя тот и следовал за ним неустанно по должностной лестнице, держал, как щенка на поводке. И эти лица ценили его, признавали превосходство, не замышляли каверз и интриг. Лазарь мгновенно чуял, откуда дует ветер, и мог нанести упреждающий удар такой силы, что любому бы не поздоровилось.
Лишь с Ворошиловым у них был особый стиль общения. Климент Ефремович под Царицыном бывал в критических военных передрягах с Кобой, нанюхались вместе с порохом славы и горечь поражений. После смерти Ленина, не сговариваясь, ненужное и позорное в истории партии принялись затирать. Лазарь об этом знал, но вида не подавал, с Ворошиловым держался строго в официальных рамках, не позволял себе расшаркиваться перед ним, как другие, и тем более лебезить.
Кроме Троцкого ещё двое держали дистанцию против этого «кабинета»: Каменев и Зиновьев. Сложилось это противостояние издавна, ещё при Ленине, но известный миротворец пытался сдерживать хотя бы в высших эшелонах откровенные стычки и драки, сглаживал, как мог, неприязненную полемику по партийным разногласиям. «Ему так мечталось создать единую и неделимую… подчиняющуюся одному вожаку могучую стаю… Однако не сбылись мечты великого романтика и фантазёра, не удалось сгондобить и видимость дружбы. Он сам не раз вступал в драчки с обоими безголовыми жидами… — делился Лазарь со Странниковым в минуты особых откровений. — Этим вшивым теоретикам, Каменеву и Зировьеву, представлялось, что они смотрят дальше всех… Выскочки, каких поискать!»
Консолидируя усилия, постепенно Каменев и Зиновьев, один в Москве, второй в Ленинграде, сформировали вокруг себя серьёзную оппозицию Сталину, обвиняя его главным образом в узурпаторстве власти и неправильном курсе партии, вопреки заветам Ленина. Тихо, не афишируя особо, незаметно к ним примкнула Крупская, затаившая обиду на Кобу. Крупская ненавидела его, имея на то серьёзные основания. Незадолго до смерти вождя Коба её грубо оскорбил, да так, что умиравший потребовал от Сталина незамедлительных извинений, угрожая не подать руки. Коба, скрепя сердце, попросил прощения, но Крупская на съезде во всеуслышание заявила о пресловутой тяге Сталина к диктатуре вопреки ленинскому завету о коллективном разрешении главных партийных вопросов. Крупскую освистали, но шум пошёл, и её вызвали на заседание «кабинета», где Лазарь дал ей укорот, напомнив, что Ленину она не жена, а лишь партийная подруга, которых у того было множество — Стасова[14], Арманд[15] и даже Землячка[16], поэтому без проблем она может быть заменена партией. Для Крупской этого намека было достаточно, чтобы впредь замолчать с разоблачениями, она прекрасно понимала, что устами Лазаря говорит Коба.
Странников замечал, как метался между теми и другими молодой Бухарин, не забывший, что сам Ленин питал к нему симпатии, порой бузотёрил, пописывал фрондерские статейки, будоража юные умы, но реальной опасности не представлял. Стоило Кобе пригрозить пальцем, легкомысленный проказник забирался под лавку и поджимал хвост.
Внимательно следя за интригами в высшем эшелоне партийной власти, Странников всё больше и больше задумывался. Заметные кризисные катаклизмы, противостояние Сталина и Троцкого должны были однажды завершиться грандиозной сварой. Пока чаша клонилась в пользу Сталина, фактически руководившего партией посредством «кабинета» и чёткого, цепкого его аппарата. Троцкий, Каменев и Зиновьев представлялись чужеродными осколками, про Зиновьева откровенно говорили — начнись какая заварушка, он первым перебежит на сторону тех, кто посильней, а Лев Давидович постепенно утрачивал одну позицию за другой. Напряжение нарастало.
…История с собственным докладом на предстоящей конференции не забывалась, всё больше и больше нервничал Странников, — звенья одной цепи, только местного масштаба. Трубкин в ГПУ утратил нюх, а троцкисты, свив гнездо у него под носом, а может быть, и в самом губкоме, активизировали замыслы и осмелились действовать открыто! Взять хотя бы такой фортель: конференция, как обычно, заранее назначена на вторник, наступила суббота, там и воскресенье на носу, а по всему городу развешены, расклеены, бьют в глаза обывателям вместо боевых лозунгов и плакатов пёстрые никчёмные афишки:
Открытие бегов и скачек! Спешите все!
В перерыве новая музыкально-художественная клоунада!
На злобу дня!
Бега в воскресенье. То есть завтра. Зная его страсть к бегам, кто-то беспроигрышно просчитал, что в субботу второпях он не вчитается в содержание из-за позднего представления доклада или совсем махнёт на него рукой — раньше-то пролетало; в воскресенье, конечно, будет не до этого из-за бегов и скачек, а в понедельник — естественное дело — после такого веселья и балагана — ни к чему не годная голова, поэтому во вторник доклад реально проскакивает в таком виде, как изготовлен. А это чудовищный провал! Будут из крайкома, пресса! Вот он, конец карьеры, если не хуже…
Ему вспомнилось выступление Сталина на одном из последних активов московской партийной организации о работе очередного пленума ЦК и ЦКК. Мелькало во всех газетах. Как обычно, вождь говорил о максимальной бдительности. Кругом враги. Нельзя расслабляться ни на секунду. Расслабившиеся превращаются в зевак и сами становятся врагами. Им нет никакой пощады! Если твой партийный товарищ забылся, дай знать. Не можешь — сообщи другим способом, напиши! Так ты спасёшь партию. Тогда он не особенно придал значения новым тезисам, прозвучавшим вполне недвусмысленно. А ведь теперь они касаются прежде всего его!
В дверь настойчиво постучали, секретарша бы так не решилась, ну а уж Мейнц с Распятовым и подавно. Кто бы это мог быть? Странников поднялся, привёл себя в надлежащий вид, с пепельницей в руках подошёл к окну, распахнул его. Свежий воздух ворвался в кабинет, ударил в лицо, разбросал бумаги на столе, посыпались на пол и окурки.
— Войдите! — обернулся он.
На пороге с горькой укоризной в лице обмахивался шляпой Задов. Слов он не говорил. Всё было написано на его исстрадавшейся физиономии.
— Пробился? — поморщился Странников, но тёплое чувство к товарищу взяло верх, внутри словно что-то шелохнулось, он приободрился, сочувствие, так и лившееся из глаз приятеля, смягчило душу, откатила тревога.
— Артисты шумною толпою… — начал тихо и торжественно Задов, пританцовывая и помахивая шляпой, — препоны тяжкие прорвали и, в ноги ваши преклоняясь, молят единственное — выслушать без гнева.
— Садись, артист, — кивнул ему Странников на диван. — С гранатой шёл, как матрос Железняк?
— С улыбкой, — обнял его Задов, похлопал по плечу. — Что, затянулся субботний вечерок? А город гуляет. Произошло трагическое?
— Сволочи!
— Однако? Что я слышу из уст ответственного секретаря?
— Сволочи затесались!
— Ну, этим не удивить. Я тебе, Васенька, давно твержу. Гони ты их!..
— Кого?
— Каждого третьего — не ошибёшься.
— Не знаю, не знаю, дорогой…
— Это уже плохо. Я как-то с одним еврейчиком разговорился, врачом, так он мне шептал, что каждый второй комсомолец сифилисом заражён. А молодых партийцев после смерти Ильича вы чохом принимали. Надо было бы медкомиссию сообразить, — и он расхохотался. — Ты разреши мне присесть. Там, у дверей, кроме твоей Наташки, давно нет никого, но устал я, ей-богу, её упрашивать. Не пущала. Говорит, очень сердит. Да вели чаю подать. Ссохлось всё внутри. Я ведь до тебя у Таскаева сидел с полчаса. Тот совсем угнетён и раздавлен. Это ты его так? Я ему про чай, а он дрожит, как мой Мираж перед стартом! Чем так напугал? Сыграл роль призрака датского короля?
— Таскаев раззяву сотворил!.. — Странников распорядился насчёт чая, залпом выпил первым, не разобравшись, горяч ли, с сахаром или без. Потянулся за вторым, но Задов свой стакан успел прижать к груди.
— Может, шкафчик откроем? — посочувствовал артист и кивнул на шкаф. — Я бы не прочь коньячка. Какие теперь серьёзные дела могут быть?
— Хозяйничай, — без энтузиазма согласился Странников, — только по маленькой.
— По маленькой, по маленькой, чем поят лошадей, — пропел Задов. — Дверь-то прикрыть на ключ?
— Сегодня никто не осмелится.
Они выпили и сразу повторили.
Задов скинул плащ, аккуратно пристроил на шкаф шляпу, вздыхая, растянулся на диване:
— Ну и денёчек мне достался. Извини, столько перенёс, пока до тебя добирался. Пытал, пытал Таскаева, но он мне так и ни слова. Больше от Распятова и Мейнца выведал. Голов не отрывают, строчат. Накрутил ты им хвосты. Что с докладом? Действительно, всё так плохо?
— Что они тебе напели?
— Немногословны. Сегодня, мол, всё и поправят. Они уже прибегали с проектами, но ты был не в духе. Наташа не пустила. Рвались советоваться.
Как-то незаметно из кармана собственного плаща Задов вытащил вторую бутылку. Странников пробовал возражать, попытка не удалась, Задов заговорил о своём Мираже, а за него не выпить — горько обидеть хозяина. Выпили.
Прошлогодние бега, завершавшие сезон, к несчастью, оказались безрадостными для ответственного секретаря, а Задов на Мираже, заработав главный приз, сбил большой куш. В конюшне они отметили победу с загонщиками и, как обычно, заспорили. Зорька, которой управлял Странников, оступилась на самом финише, и секретарь обвинил во всём Артёмыча — не проследил как следует за лошадью; слово за слово, загонщику досталось по зубам, тот не стерпел, и Задов едва растащил опьяневших драчунов. Всё бы ладно, что на бегах между мужиками не случается? Но нашлась гадюка, рассвистела о драке, полетели сплетни одна другой краше. Ответственный секретарь сделал выводы, заявив артисту, что с бегами закончит окончательно и бесповоротно.
— Садись на моего Миража — уговаривал Задов. — Приз твой!
— Сказал — отрубил. Теперь навеки, — секретарь (чернее тучи) отвернулся к окну.
— Ну, будешь за меня болеть, — подтолкнул его локтем приятель. — Слово надо держать, а поэтому собирайся, нам поспешать надо.
— Куда? Я сегодня задержусь. Пока доклад ни принесут, я из губкома ни ногой.
— Погоди, а слово? Забыл про сегодняшний вечер? Тебя, мой друг, совсем заколобродило от доклада. Как было приказано, я банкет организовал в театре по случаю открытия сезона. Тесная компания. Ты не участвуешь в бегах, значит, приз мне добывать, вот и отметим открытие сезона. Пригласил всех наших, Турина не забыл, с Оленькой увидятся наконец. Этот… зампрокурора Глазкин очень хотел тебя видеть, у него поездка в столицу намечается, чуть в ноги не кланялся, с невестой припрётся. Им надо с тобой о чём-то переговорить. Ну и остальные приличные люди…
— Что ж ты мне не напомнил?
— Так твой приказ! — Задов обнял застывшего в задумчивости приятеля. — Без тебя всё развалится. А ты не понял, зачем я к тебе так настырно пробивался? Чуял, что какая-нибудь петрушка тебя закрутит. Да брось ты всё! В понедельник ещё целый день. Вывернешь всем кишки, докопаешься.
Аргументы были весомы, Странников махнул рукой, и друзья направились к двери.
IX
Наверху тихо играли Грига.
Музыка лилась из приоткрытого окна второго этажа, где царил полумрак. «В банкетном зале кто-то уединился. Ишь, народец, ни культурки, ни терпежу! Жрут, наверное, шампанское и нас костерят», — пробежав по окнам намётанным глазом издалека, определился Задов, но Странникову ни слова, а ближе подошли, выросшего перед ними швейцара пожурил сердито:
— Я же предупреждал, Самсоныч, чтобы инкогнито!
— Инкогнито — не инкогнито, а все давно собрались, Иваныч. Некоторые заявились и без приглашений, — ворчливо пожаловался высокий худой жердь в несвежем цилиндре на затылке. — Только и спрашивают, будет ли Василий Петрович? Ждут-с только их.
— Дамы?
— Этих хватает. Госпожа Венокурова собственной персоной. И с собой привела какую-то лярву, прости меня Господи…
— Отменная дисциплина! — заглушая, перебил недотёпу артист и затеребил секретаря. — Вот видите, Василий Петрович… А вы упирались! — Он пробовал подальше отпихнуть швейцара, путавшего ему карты излишней болтливостью, пропустил вперёд себя Странникова. — Что бы я делал без вас?
— Водку б кушал, — хмуро бросил тот, прекрасно слышавший весь диалог, а кроме того, вынужденный застрять в дверях.
Переусердствовав, Самсоныч низко поклонился, и котелок без удержу скатился с его лысой головы под ноги секретарю губкома. Нагнувшись и шаря в потёмках — фонарей велено было не зажигать, — швейцар перекрыл весь проход собой, как шлагбаумом, и не выпрямился, пока сообразительный Задов не сунул ему кулак в бок. Тот крякнул и тут же встал столбом.
— Менять тебя надо, старый хрыч! — Задов от злости чуть не вцепился зубами в его волосатое ухо. — Плохая примета, осёл! Учишь, учишь вас, а всё прахом!
Прямо за порогом к Странникову бросились три полуобнажённые девицы в белых, почти прозрачных хитонах на греческий лад. Старшая, прима-актриса, вручила букет цветов, чмокнула в обе щеки и повисла на правой его руке. Дублёрша помоложе что-то игриво прошептала в ушко, томно прижавшись грудью, и завладела его левой рукой. А свеженькой, совсем из молоденьких и запоздавшей от кротости, достался его длинноватый, но благородный нос, куда она пухленькими губами и запечатлела свой знак почтения. Это прикосновение особенно очаровало секретаря и ещё долго потом чесалось, напоминая о невинном создании.
Однако Задов быстро и бесцеремонно разрушил пастораль и высвободил гостя из цепких женских объятий. Он поспешил подхватить его под локоть и попытался увлечь в фойе, так как узрел неподалёку более опасную угрозу. С трепетом прижавшись друг к дружке, поджидали своей очереди сёстры Венокуровы, больше напоминающие млеющих от чувств лесбиянок. Поговаривали, что они обе увлекались кокаином, но, видимо, шло это больше от злых языков.
Брюнетка, Катерина Сергеевна, строго надломив дуги бровей, с трагическим укором обмахивала веером пылающую физиономию. Она была слегка выпивши, и с трудом скрываемый гнев съедал естественную бледность лица вместе со слоем пудры. Блондинка Стефания, наоборот, млела в неистовом восторге, но выглядела пьяней. Возможно, это внутренняя страсть поедала её, мешая стоять неподвижно, и она раскачивалась в прозрачной тунике небесного цвета, давно уже готовая парить, парить, парить…
— Ты что же затеял, старый сводник? — склонился к Задову Странников. — Похоже, они собираются устроить мне балет? Я не вынесу, да и удержат ли столы? Тащи уж тогда всех их на сцену. Устроим бега перед завтрашним открытием сезона.
— В банкетный зал, господа! — не отвечая и строя загадочные гримасы, увлекал за собой наверх по лестнице Задов. — В банкетный зал! Мы все сгораем от нетерпения, нас ждёт великолепное представление!
— Вот прохвост! Хотя бы предупредил! — ругался секретарь, едва поспевая за артистом. — Твердил о бегах, а устроил бабьи скачки! — Изловчившись, он успел всё-таки ухватить Задова за полу пиджака. — Моя тоже в общей упряжке танцорок? — спросил он. — К чему потеха? Катерина, старая кляча, может грохнуться. Не стоит её добивать, Григорий. И вообще почему она здесь? Мы же договорились совсем о другом!
— Ваша проникла чуть ли ни тайком, — оправдывался Задов весь в прострации и экстазе. — Мне ничего не известно, кроме того, что ревность не знает ни преград, ни запоров. Но бенефис Стефании! Младшенькой! Как вы её находите, кстати?
— Разденется, поглядим, — секретарь пребывал не в духе, он даже полез было за папиросами, выражая явное недовольство приятелю. — Чёрт знает что… Ты забыл напомнить швейцару, чтоб обнесли по маленькой у дверей! Все на взводе, едва видят друг друга, а мы ни в одном глазу!.. Да, наверху у тебя что?
— Что? — беспечно переспросил артист.
— Бедлам! Не слышишь рояля?
В банкетном зале наверху, куда призывал всех Задов, по-прежнему всё ещё страдал рояль по Григу.
— Это сюрприз, но вы посмотрите сюда, — нацеливал Задов секретаря на Стефанию, она явно ему приглянулась. — Какое у неё имя? Как это прекрасно! Стефания — это же венец всему! Я сейчас её вам представлю. Она вся порхает, я боюсь, её подхватит кто-нибудь глазастенький, и она улетит.
Задов попытался в общей суете подманить блондинку, они уже переглядывались, и он помахивал ей ладошкой, подзывая, но за младшенькой двинулась старшая.
— Пропали! — сник Странников (от брошенных поклонниц опытный ловелас не терпел намёков на какие-либо объяснения). Не зная, куда деваться, он вдруг приметил Турина, скромно подпиравшего стойку вместе с курносенькой девицей, и попытался присоединиться к ним, но, словно каменный гость, из полумрака фойе перед ним возник заместитель губернского прокурора. И секретарь обрадовался Глазкину, вцепился в него обеими руками, будто в драгоценного родственника.
— Павел Тимофеевич, и вы здесь! А мне брехал кто-то, что в Москву собирались? — выпалил он первое пришедшее на ум.
— В понедельник, — произнёс тот без выражения радости. — На неделю.
— Что ж? Учёба? Совещание?
Тот отрицательно покачал головой.
— Неужели новое назначение?
— Всё может быть…
— Так это же славно! Это отметить надо! — загорелся секретарь и поискал Задова, но тот уже оживлённо беседовал со Стефанией, бесстрашно оттирая старшую сестру.
Прокурор же производил странное впечатление: отвечал коротко и невпопад, то и дело оглядывался, явно кого-то поджидая. Казалось, до этого он сторожил Странникова и, ухватив обе его руки, не собирался отпускать. Но теперь взгляд его то и дело устремлялся наверх к банкетному залу.
«Что за чертовщина! — постепенно накалялся гневом Странников. — Что за вечер сегодня? Сплошные недоразумения! Кажись, этот олух свою невесту где-то потерял, а собирался её со мной свести? Плутовка от него сбежала и забавляется наверху? Но с кем же?»
И действительно, словно прослышав про его догадку, либо по какому другому знаку грустная музыка наверху резко оборвалась, раздался стук упавшего на паркет стула и вниз по лестнице, прыгая через несколько ступенек, пронеслось женское создание в белом.
— Осторожно! — расступились все.
— Осторожно! — испугался и Странников, вырвался от Глазкина и раскрыл объятия, ибо безумное существо неслось прямо на него.
— Ах! — замер зал и все на лестнице. Странников зажмурил глаза, приготовившись к неизбежному столкновению. Но все волновались зря: девица удачно рассчитала траекторию пируэта и плавно упала ему на грудь.
Сцена впечатлила и поразила. Всё затихло. Забылись дерзость, внезапность, испуг, никто не подумал о нахальстве, всех поразили расчёт, интрига, а главное — удивительный финал.
Слетевшая птицей с лестницы девица была пластична и легка, Странников даже не качнулся, её рука между тем обвила его шею и лёгкие волосы разметались на груди. Нежный поцелуй в щёку не смутил секретаря, повидавшего многое и пережившего не такое.
Если бы окружающие не знали обоих, не видели, что рядом улыбался жених, можно было бы подумать о разном. Но не успели нечистые мыслишки зародиться в самых испорченных мозгах, как Задов пробасил с лицом ликующего режиссёра:
— Вот и свершилось! Вот и явилась к нам долгожданная прима-балерина, — он схватил девицу за руку и поцеловал, упав на колено. — Павлине гип-гип-ура! Ура! Ура!
И зал мужскими голосами трижды повторил за ним эти возгласы, впрочем, ничего совершенно не понимая.
А артист продолжал:
— Господа! Поздравляю всех с рождением новой актрисы! Как я уговаривал её! Как я ходил за ней по пятам, клянча и унижаясь! Но этот жестокий страж!.. — Задов ткнул пальцем в грудь прокурора. — Этот жёстокий тиран был против! Любуйся публика, и трепещи! Какой талант едва не оказался зарыт в землю!
Странников озирался, не совсем уютно чувствуя себя в уготовленной ему роли, и бросал колкие взгляды на приятеля. Глазкин пыжился, вздымая грудь, и как ни в чём не бывало улыбался обрушившимся со всех сторон аплодисментам. Счастьем пылало и лицо Павлины. А ещё через мгновение все бросились в банкетный зал наполнять бокалы брызжущим в потолок шампанским. Никто и не заметил в этой толчее у рояля успевшего прикрыться тяжёлой портьерой нового военного комиссара, недавно сменившего старика Соскина. Никто, кроме позже всех поднявшегося в банкетный зал начальника губрозыска Турина. Но кому до него было дело, ведь круг ликующих расступился и воцарилась одна Стефания. Страстно вскидывая в танце белые ноги из-под туники небесного цвета, она завладела жадными взорами всех.
X
Странникова, конечно, не привлекали шампанское и вся эта сумасшедшая эйфория вокруг начавшегося необычного на его взгляд танца, хотя взлетали с шумом пробки под потолок и ароматная пена лилась рекой. Он поставил цель не упустить из виду режиссёра всего этого, проворного Задова, желая добиться от него объяснений по многим накопившимся вопросам. Однако, приметив водку в центре стола, потянулся к ней — горло его давно пересохло от приветственных речей, дискуссий и лобзаний. Но чья-то услужливая и твёрдая рука протягивала ему уже наполненную рюмку.
— Добрый вечер, Василий Петрович, — смущённо произнёс Турин, — мы так и не смогли пообщаться. Здесь такая суета. А это моя Вероника, — и он слегка подтолкнул вперёд зардевшуюся курносенькую.
— Очень приятно. Как вам у нас? С непривычки, наверное, смущаетесь? — Странников опрокинул рюмку и потянулся к селёдке, с утра после истории с докладом ему и мысли не приходили о еде, а теперь всё нутро взыграло, требуя насыщения.
— Я в этих танцах, тем более таких, откровенно признаться, не понимаю ни бельмеса, — начал и запнулся Турин, подымая рюмку. — Вот, может, Вероника?
— Всему мы обязаны американцам, — бесцеремонно, как на партийном собрании, вступилась та, но под пристальным взглядом секретаря покраснела и вслед за Туриным пригубила водку, лизнув кусочек лимона. Лимон её вдохновил, и она закончила смелее: — Однако я не нахожу их вульгарными, как некоторые. Многое зависит от артиста, если танцор вполне морально подкован…
Турин незаметно подтолкнул её, и она запнулась.
— Мы все так считаем, — откуда-то донёсся голос Задова, и тут же появился он сам. — Анатолий Васильевич Луначарский, уже будучи наркомом просвещения, не испугался пригласить в революционную Россию великую актрису зажечь огонь культуры в сердцах и душах молодых.
— Ну, понесло агитатора, — подмигнул Странников Турину, чтобы тот не забывал наполнять рюмки, казавшиеся ему слишком маленькими среди большого количества бутылок на столе. — Его теперь не остановить.
— Сам Станиславский чуть не влюбился в неё, едва увидев! — продолжал рассыпать восторги Задов.
— О ком вы? — широко раскрыла глаза Вероника, следя за танцем неистовой Стефании.
— О великой Айседоре Дункан, конечно, — проследил за ней Задов. — А ведь нашей Стефании, которой вы сейчас любуетесь, ещё девочкой посчастливилось брать у неё уроки. Тогда Айседора открыла свою школу и некоторое время преподавала технику танца всем желающим девушкам и детям.
— Но почему на ней туника? Это же греческая одежда, а Дункан совершенно с другого континента?
— Красота, милая Вероника. Здесь царит красота! Простите, но вы женщина, а нас, мужчин, шокирует откровенный эрос, прозрачность лёгких покровов, за которыми подозреваешь чудесные телеса и ножки, бёдра, грудь! Взлетающие, зовущие и недосягаемые!
— Прервись, циничный старикашка! — оборвал его Странников. — Дай людям самим постичь суть бытия и прелесть наслаждения. Кстати, плесни-ка в наши рюмочки, моё горло пересыхает, лишь водка пролетает через него.
Он выпил, не дожидаясь остальных и, оглядев хмурым взглядом, заметил:
— Видел я твою американку в Кремле. И её первое выступление перед толпами поклонников. Собралось их великое множество. Знатные, между прочим, люди. Персоны!.. Должен заметить, не всех она очаровала, как ты расписываешь. Бульварными прыжками испуганной антилопы назвал кто-то её арт-танцульки.
— Московская публика известна своими холодными приёмами, — возразил артист. — Но Есенин именно после того выступления влюбился в неё с первого взгляда, а Станиславский…
— Стар твой Станиславский! — бесцеремонно перебил его Странников. — Поэтому млел пред молодостью и красотой. По столице долго сплетня ходила: жена изобличила его в привязанности к танцорке и пошутила, что та мечтает записать его в очередь своих престарелых женихов. Он тут же дал дёру.
Вероника расхохоталась, Турин тактично отвернулся.
— А волна-то покатилась по России! — Задов наслаждался длящимся представлением, не отводя глаз от Стефании. — Наши передовые женщины, последовательницы чудесного танца, уже посредством женсоветов вовлекают в искусство молодые дарования. Мы не прочь приспособить наш зимний театр, взялась бы за это Катерина Сергеевна Венокурова…
Произнеся это имя, Задов опомнился и едва не поперхнулся, но Странников плохо слушал его, поедая селёдку, и никоим образом не отреагировал.
— Впрочем, Зимний театр наш не годится, — затараторил вдохновлённый артист. — Мы со Стефанией посягнём на Аркадию. Летний театр будет как раз. Там столько помещений! Я верю, и вы, Василий Петрович, проникнитесь нашим прожектом, приложите руку к возрождению танца на астраханской земле!..
А танцовщица действительно сотворила чудо. Она заканчивала, и общему ликованию, казалось, не будет предела. Задов рванулся было к героине, но жёсткая рука ухватила его за воротник, и знакомый голос произнёс над самым ухом:
— Нет, задержись и ответь, несносный фигляр, что всё это значит?
— Давайте сначала выпьем за удавшийся праздник! За нашу бенефистку! — попробовал вывернуться Задов. — Вы можете гордиться, Василий Петрович! Это первая ласточка, с которой возродится наш новый театр. Как знать? А вдруг посчастливится затмить славу самого Ла-Скала? Мы на пороге этого. Дожить бы до великих дней!
— Но ты-то уж точно не доживёшь, — прощаясь с Туровым и его подружкой, Странников аккуратно, но настойчиво поволок приятеля от стола в тёмный уголок, где грустил рояль.
— Кончай наконец свой трёп, — едва сдерживался секретарь, когда они остались одни, хлопнул кулаком по крышке инструмента. — Объясни мне, зачем ты снова связался с хитромудрой еврейкой и её женихастым прокурором? Ну про прыгающую наркоманку я всё вроде уяснил. Тут у тебя свой интерес появился. А Глазкин со своей кикиморой зачем понадобились? Какую аферу ты вновь задумал?
— Василий Петрович, помилуйте, я вам всё сейчас объясню… — залепетал артист.
— Что им в этот раз понадобилось от меня и с какого боку прицепился ты? — не унимался секретарь. — Сказать по правде, не ожидал я от тебя такого. Преображаешься на глазах, Гриша. Мы — приятели, но ты порой злоупотребляешь моим терпением. Я креплюсь, креплюсь, но!..
— Прости! — обнял Странникова актёр, минута — и, казалось, он зарыдает. — И не вини своего старого товарища. Послушай только, в какую трясину их засосала судьба! Ах, Господи! Ты знаешь, почему они тянут со свадьбой?
— Мне б их заботы! — сплюнул Странников с досады.
— Не протянуть им руки сейчас — большой грех. А ты меня знаешь, Василий. У меня тонкая натура. Я не прощу себе, если пройду мимо. Умирать буду, но!..
— Не стони! — оборвал его секретарь. — Говори толком. Знакомы мне твои фортеля и выкрутасы. Знал всё, когда ещё утром в губком ко мне припёрся?
— Что ты! Что ты! Совсем меня с дерьмом равняешь! Чем я так провинился?
— Да ладно уж… Говори! — Странников раскрыл портсигар и закурил. — И поспеши, не то слетит сюда опять вся эта мошкара, облепит, рта не раскроешь.
— Глазкин едет в Москву! — выпалил тот.
— Слышал уже.
— Но его никто не вызывал.
— Вот это уже интересно…
— И, конечно, никакого назначения на высшую должность ему не светит.
— Постой! Об этом конкретного разговора не было. Он что-то промямлил, не то за назначением едет, не то… Одним словом, не уловил я.
— С тобой такого разговора не было, — твёрдо отчеканил Задов, — верно.
— Значит, будет?
— Враньё! — Задов преображался на глазах. — Наоборот. Арёл, губернский прокурор, собирается возбудить против него уголовное дело.
— Дело? Против своего заместителя!
— И хочет взять под стражу.
— За какие коврижки?
— За взятку. Поймал Арёл Глазкина с поличным.
— Вот как!.. Ну что ж, может, и поделом. Предчувствовал я, что этим закончатся фокусы прокуроришки. Свести меня просил с рыбопромышленниками. Трясти их к свадьбе собирался. Наглец, каких поискать! — Странников в охватившей злобе, не помня себя, застучал кулаком по роялю.
— Тише, Василий Петрович! Тише, прошу тебя, успокойся, — нагнулся над ним Задов. — Уйми гордыню и гнев.
— Когда его сватали к нам из другой области в заместители, — твердил секретарь, не реагируя, — он враз мне не понравился. Глазки так и бегают, а он их прячет. Жуликоват.
— Ну теперь-то что об этом говорить, Васенька, — ухватил за руки совсем разгневанного секретаря Задов и даже опустился перед ним на колени. — Теперь он наш. Давно. Свой. Негоже своего в пасть бросать чужим наймитам. Арёл как заявился, так свои порядки начал устанавливать, земляков к себе переманивать. А тем что надо? Работать?.. С преступностью бороться?.. Все, как один, стали крохоборством заниматься, своих людишек везде расставлять да карманы набивать, а наших в шею. Подумать только, со своих же взятки берут при устройстве на работу в прокуратуру, да ещё посмеиваются — отработаешь, мол, если голова на плечах, а не шляпа. Бывало когда такое?.. Вот наш Павел Тимофеевич и попал в число первых. Подожди, будет и продолжение. Если Глазкина отдадим, судилище учинят и нам конец не за горами. Помяни моё слово.
— Тяжко тебя слушать…
— Арёл-то уже и на тебя замахивался тайком.
— На меня?
— А ты спроси Павла Тимофеевича, он тебе такого про Арла расскажет!.. Специально, паразит, заманил Глазкина в ловушку, нэпмана ему подсунул с деньжатами. И были бы деньги большие! Мелочовка! А тому к свадьбе — приправа, вот и клюнул.
— Дела…
— С наших начал, — уже возмущался, а не умолял Задов. — Поэтому Павел Тимофеевич и мчится в Москву, хочет опередить Арла. Есть у него там свои людишки, только без вашего, Василий Петрович, звоночка куда следует, не обойтись.
Странников молчал, сжав губы, сочувствия или сожаления на его лице уловить было трудно. Зубы поскрипывали, да голову опустил секретарь.
— Разве я тебя просил когда? — затянул плаксивым тоном Задов. — Сделай милость, Василий Петрович… Что для тебя один звонок? Я, как узнал, и про бега забыл думать. Мигом всё расстроилось. Все планы. Это здесь я козлом скакал, веселился… Трагическую, можно сказать, роль играл.
— Расстроился, говоришь? — Странников закурил папироску. — А признайся, сукин сын, ее прыжок мне на грудь не ты организовал? Твои штучки!
Заметив друзей, направился к ним Турин, но секретарь дал ему короткую отмашку, мол, возвратимся к столу скоро, не беспокойся.
— Вот и у Турина, наверное, дело ко мне, — поморщился он, — тоже что-то сказать желает или попросить. Всем я нужен.
— Да какие у него дела, — хлюпал Задов носом. — У него радость со всех сторон. Он вон на новой машине с кралей прикатил. Сам за рулём… А вручил, между прочим, ему её ты за служебные заслуги…
— Объезжает! — ухмыльнулся секретарь.
— Моей Оленькой побрезговал, легавый!
— Не обижайся. У Турина свои люди. Девица-то его, заметил, как шпарит политическими тезисами, не иначе особый кадр. Значит, по службе с ним, голова ты садовая!
— За нами выслеживает на банкете, — съязвил Задов.
— Дурак! Кто посмеет за мной следить?
— Вынюхивала всё равно.
— Я Опущенникову хвост прищемил! — секретарь сжал кулак. — Турин теперь наш человек. А Опущенникова я отправлю повыше, тогда у нас там ещё один дружок будет, а не противник.
— Вот это правильно, Васенька, — погладил его по плечу Задов.
— Ты меня не поглаживай! — дёрнулся под его рукой секретарь. — Я это не люблю. Учить меня будешь! Я вот слушал тебя, слушал, а ведь всего ты так и не договариваешь.
— Как так? — побледнел тот.
— Невесте прокурора мне на грудь броситься ты придумал?.. Только опять не ври.
— Не моя инициатива, вот вам крест, Василий Петрович! — И Задов перекрестился. — Сам хотел покаяться, да не успел.
— Да тебе креститься, только грешить, — хмыкнул тот пренебрежительно.
— Просит она беседы… встречи с тобой наедине… — Задов замялся, подбирая слова. — Аудиенции желает.
— Сама?
— И Павел Тимофеевич намекал прямым, можно сказать, текстом.
— Невесты ему не жаль? — уставился Странников на приятеля и пожал плечами. — Не по себе как-то даже… Всякое бывало, но чтобы жених своей возлюбленной… Помнится, во времена феодализма господин имел право первой ночи. Прямо, дикости древней истории Глазкин мне устроил. Ради каких же собственных благ? Что он за это попросит? Не знаешь, старый плут?
— Ну это уж их дело, — отвернулся Задов. — Мне велено просить вас… А, с другой стороны, прижмёт, так и не такое сотворишь.
— По собственной шкуре судишь?
— Да что ты меня-то пытаешь, Василий Петрович! — взмолился артист. — Ну виноват я перед тобой кругом. Но покаялся же… Ждёт она тебя сегодня.
— Сегодня?.. Торопятся оба. Знать, совсем приперло.
— Ехать же Павлу Тимофеевичу в Москву на днях! Ему бы хотелось заранее знать насчёт вашего мнения… о встрече с Павлиной ну и это… насчёт звоночка по поводу свары с Арлом…
— Где она будет?
— В моём кабинетике. Вы там бывали. Уютный уголок.
— Старый развратник…
— Жизнь заставляет.
— Во сколько?
— Она даст вам знать… как начнут расходиться.
— Ты уж тогда сам на дверях подежурь, — сдвинул брови Странников. — Вдруг эти двое, жених с невестой, ещё что-нибудь удумали.
— Да что вы, Василий Петрович!
— От этой парочки всего можно ждать. Смотри, чтобы ни одна мразь туда не сунулась и не догадалась!
— Разве можно, Василий Петрович…
XI
Странников не раз бывал в тайном кабинетике артиста. Всё здесь подчёркивало вкус владельца, его аккуратность, склонность к маленьким, но приятным излишествам и главное — служило тому, ради чего он был обустроен и засекречен.
Кожаный диван жёсткий, без малейшего намёка на скрип, но с мягким тёплым покрывалом, изящная форточка, до которой легко дотянуться с ложа и прикрыть при надобности без всяких усилий, торшер, музыкальный аппарат с набором пластинок, в глубине изящный маленький душ на одного человека с зеркалом во всю стену и огромная картина напротив дивана. Всё полотно закрывал страстный зад пышной красавицы, но повернувшись будто невзначай, шалунья грозила пальчиком каждому, кто слишком задерживал на ней свой любопытствующий глаз.
Странников даже помнил запах, царивший в той комнате, но, когда он приоткрыл дверь, всё забыл, его окружили новые ароматы и в полумраке горячие голые руки обхватили его, а жаркие губы впились до боли.
XII
Когда они прощались, форточку раскачивал предутренний просыпающийся ветерок; в банкетном зале царила могильная тишина.
— Мне здесь понравилось, — зевнула она сладко, прищурилась на картину и, упёршись пальчиком в откровенно призывающий зад натурщицы, задумалась. — Где-то я её уже видела… Не с Сенного рынка? У Сурина?..
— Не знаю, — он уже стоял в дверях.
— Теперь я жду тебя к себе в гости, — шепнула она, целуя жарким медленным поцелуем.
Рот её по-прежнему источал аромат и свежесть молодости. И вообще у него сильно изменилось представление об этой девочке. Она пленила его своей непосредственностью, за ночь научила такому, о чём он и не догадывался, оставаясь при этом неназойливой и желанной. Он разглядел её ближе, она не уступала телом и статью ни Стефании, ни другим молодым, попадавшим в его сферу, была не по-женски мудра от взгляда на мужчин до представлений о жизни. Глаза плавились жгучим огнём, но в них он видел только страсть к любовным наслаждениям и, удовлетворяя их, заметно устал, как не уставал уже давно.
— Придёшь? — повторила она свой вопрос без тревоги и обычной женской ревности, уверенная в положительном ответе.
— Как пойдут дела… — не отказал он, но и не дал ей повода для превосходства, хотя в уме лихорадочно подсчитывал: «Понедельник — занят, вторник — конференция на весь день, среда — выезд в район на актив, четверг?.. что у меня в четверг?.. приём чекистов вместе с Трубкиным, у того накопилась масса вопросов». Оставалась пятница… По греческому календарю это день любви, но кто знает, что ещё произойдёт за неделю, она заполнена настолько, что он забыл про бега! Выбрать бы время, не участвовать, но глянуть хоть одним глазом! И вот ещё, чёрт!.. В пятницу его ждут в мединституте, профессор Телятников напоминал, звонил несколько раз. Там какое-то торжество… он обещал быть…
— Значит, придёшь? — не отпускала она его.
— Дам знать. Твой Пашка-то точно на неделю собрался в столицу?
— Как пойдут дела, — ответила она ему, подразнивая и приманивая, приоткрыла покрывало, выставив нахальную ножку.
Но он уже был сыт и только покачал головой.
— Он собирался заехать в Саратов, — посерьёзнела она, — навестить родичей, стариков.
— Сообщит тебе-то о приезде?
— Он воспитанный мужчина, — улыбнулась она, — всегда предупреждает.
— В Саратове у нас тоже большое совещание намечается.
— Когда?
— Обещали, как только проведём конференцию.
— Тебе обязательно быть?
— А как же, — произнёс он со значением и вдруг спросил: — Когда свадьба-то? Пригласишь?
— Обязательно. Такой гость украсит любой праздник, но теперь всё зависит от тебя, мой котик. Не забудь дозвониться насчёт Павла до своего дружка в столице, и ты узнаешь первым о моём решении.
«А она не так проста, — подумал Странников, выходя, — крутит прокуроришкой, как вздумается. Зря я её принимал за пустышку».
Его поджидал автомобиль, в котором восседал за баранкой Ковригин.
— Не уснул? — окликнул его секретарь, располагаясь рядом, в этот раз вместе они ехали впервые. — Как машина? Освоил?
— В один миг! — лихо козырнул водитель; взревел мотор. — Куда прикажете?
— К Марии Яковлевне, дружище. Куда же ещё, пока не рассвело, — и обернулся, заметив включившиеся позади фары. — А это кто нас сопровождает?
— Василий Евлампиевич, — подсказал Ковригин весело. — Не доверяет мне. Говорит, первая поездка. Проводит нас до вашего дома.
— Заботливый, значит! — похвалил Странников с азартом давнего наездника. — Спасибо. Только зачем всё это? Если ты не совсем уверен, позволь-ка я тебя подменю.
Не допуская возражений, он спихнул растерявшегося Ковригина, захлопнул за ним дверцу, усевшись на его место, завладев баранкой.
— Товарищ ответственный секретарь! — пробовал бежать за медленно ещё движущимся автомобилем Ковригин. — Я в полной боевой форме. Не сомневайтесь.
— Погоди! — прервал Странников, его разбирали и хмель, оставшаяся с буйной ночи, и удаль, перехватившая грудь. — Проверим твоего начальника, на что он способен.
И секретарь махнул рукой Турину, призывая его поравняться, а когда тот подъехал, крикнул, усмехаясь:
— Хочу поглядеть, на что годишься за рулём. Принимаешь вызов?
— Пожалуйста, у меня опыт профессиональный, — ничего не подозревая, кивнул тот. — Ковригина я к себе заберу пока?
— Забирай. Не бежать же ему.
— А что вы предлагаете?
— Наперегонки? Боишься проиграть?
— Темно уже, Василий Петрович, — возразил тот сухо. — Улицы наши сплошь без света, да и колдобин полно.
— А фары на что?
— Я этот район знаю. Здесь торговый народ до света подымается. За взрослыми детишки бегут. Вдруг что…
— Глянь, — ткнул вперёд рукой секретарь. — Собаки и те дрыхнут. А мы с тобой прокатим по одной улочке. До первого перекрёстка?
— Ну, если до первого, — усмехнулся Турин.
— Догоняй!
Турин глазом не успел моргнуть, как автомобиль секретаря рванулся вперёд. Сам он плавно двинулся следом, успокаивая Ковригина, что гоняться не собирается, мол, позабавится секретарь и остынет, по канавам особенно не разгонишься. Да и прохожих действительно не видно.
Но автомобиль секретаря набирал и набирал скорость. Они уже миновали улицу, свернули на другую, третью, а Странников не думал останавливаться, лишь оборачивался изредка, кричал, подбадривая и подтрунивая.
Турин поджал губы, прибавил скорость.
— Надо перегнать его, товарищ командир, а то попадём в историю, — посерьёзнел и Ковригин. — Приметил я запах от него, да и на глаз видать — пьян.
— Приметил он… — передразнил Турин. — Ты, Ангел, раньше бы мозги свои включал, когда руль ему передавал.
— Выпихнул он меня!
— Молчи уж, — Турину на одном из крутых поворотов удалось почти догнать автомобиль секретаря, но тот, погрозив ему пальцем, крикнул:
— Я вам устрою смотр боевой подготовки! Ишь, бойцы советской милиции!
И автомобиль под его управлением унёсся вперёд.
— Может, остановиться совсем? — предложил Ковригин. — Сделать вид, что сломались? Увидит, сам затормозит. Тут мы его и придержим.
— Этот не затормозит, — качнул головой Турин и лицо его закаменело. — Этого только обогнать. До своего дома так мчаться и будет. Удила закусил. Знаю я. Страсть у него беговая. Не уступит.
— Тогда гони, Василий Евлампиевич, — напрягся и Ковригин.
Турин дал газу, и к концу следующей улицы оба автомобиля поравнялись.
— Василий Петрович! — замахал рукой Турин. — Остановитесь! Люд базарный затемно спешат места занимать. Не наскочить бы на кого!
— Пошугаем их, как кур! — захохотал Странников, но сбросил скорость. — Ладно. Уговорил. Тут до мостика недалеко. Сейчас развернёмся за поворотом, и я приторможу.
И действительно, автомобиль секретаря юркнул в поворот, скрылся за углом, но тут же послышались удар, дикий крик и скрежет врезавшегося во что-то металла.
Глуша мотор, Турин на ходу выскочил из машины, устоял на ногах и, не помня себя, понёсся к злосчастному переулку. До него было метров пять. Ковригин старался не отставать. Когда они были уже у цели, из переулка выбежал Странников, отчаянно размахивающий руками. Он пронёсся мимо, словно их не заметил. Следом неслась толпа, готовая разорвать в клочья любого.
Турин, выхватив наган, выстрелил несколько раз вверх. Толпа рассыпалась. Остался громоздкий мужчина. Сжимая обеими руками палку, он молча надвигался на начальника губрозыска. Турин снова выстрелил вверх и крикнул:
— Стоять всем! — обернулся к Ковригину — Ну, Ангел, пришла, кажись, твоя пора.
— Я здесь, Василий Евлампиевич, — попробовал тот его загородить, доставая револьвер.
— Не то, — отстранил его рукой Турин. — Спасай секретаря.
— Как спасать? — удивился Ковригин.
— Ты за рулём той машины был. Понял?
— Понял, Василий Евлампиевич, понял, — начал тот соображать.
— Увози его отсюда на моей машине, самосуда я не допущу. Разберусь сам. — Он поднял руку и громко произнёс: — Кто пострадавший? Я начальник уголовного розыска!
— Там! — махнул назад азиат палкой. — Там мой мальчик! Его машина сбила! А этот убежать хотел.
— Никто не убежит! Разберёмся! — шагнул вперёд Турин, не выпуская оружия. — Давай назад! Веди к ребенку, может, жив. — А Ковригину шепнул: — Дуй до милиции, да привези наших ребят из отдела.
XIII
Историю с аварией можно было замять сразу, но мальчик скончался, до больницы не довезли.
Вёз его сам Турин вместе с плачущим отцом на новенькой машине, которой так и не удалось догнать Странникова. До прибытия Ковригина с бойцами Турин урегулировал конфликт, если не считать плачущих женщин в чёрных накидках у ободранных, без единого деревца глиняных землянок, где и произошла трагедия. Ковригин упал в ноги отцу, тот молча пнул его ногой, и Турин скомандовал, чтобы шофёр поблизости не мельтешил. Фамилия секретаря губкома нигде и никем не произносилась.
А потом перед Опущенниковым, метавшим гром и молнии, Турин маячил, вытянувшись струной и поедал его глазами, а Ковригин понуро мучился над листом с объяснениями. Они ему никак не давались.
— Турин! — взвизгнул, потеряв терпение, бегавший по кабинету из угла в угол Опущенников. — Ты бы хоть подсказал своему олуху, как писать нужно. Сумел человека угробить, умей и ответ держать.
— Одну минутку, товарищ начальник, — подсел Турин к Ковригину. — Ну, чего у тебя не катит?
— Да не получается ничего! — бросил ручку тот. — Никогда не писал этих объяснений. С чего начинать, чем заканчивать?
— Спокойнее, чудак, — подтолкнул его плечом Турин. — Нет ничего проще. Слушай внимательно и строчи, а я диктовать буду.
— Они у тебя все такие оболтусы? — ругался Опущенников. — Набрал архаровцев! Этот чем занимался?
— Ездил, вы хотели спросить?
— Ну ездил, чёрт его подери!
— Значился охранником ответственного секретаря губкома, — Турин со значением взглянул на Опущенникова и добавил: — После того нападения на Иорина, если не забыли, считается также личным водителем Странникова.
— По приказу?
— Вы подписывали.
— Не помню. Всё у нас как-то в спешке… Иорин как?
— Жив, здоров.
— А те?..
— Как и положено, — развёл руки в стороны начальник губрозыска. — Все три бандита в земле сырой. По заслугам и в соответствии с законом.
— Хм, — подпёр кулаком нос Опущенников и дёрнул себя за ухо.
— Да не терзайте вы себе мозги, Ефим Петрович, — Турин привстал, закончив диктовать. — Тем более, уезжая. Персючонок, сам виноват, на перекрёсток вылетел, удирая от папаши, который его на рынок спозаранку гнал, вот и угодил под колёса. У шофёра и мгновения не было, чтобы затормозить. Пацанов нарожали инородцы, присмотра никакого, они же, как кошки, носятся туда-сюда. Потерпевший претензий не имеет. С отцом я вопросы все решил.
— Решил?
— Понятливый мужик. Мы в отделе собрали гроши, оказали материальную помощь родственникам. Довольны. На похороны выделил милицейский оркестр.
— Я ещё тебя не назначил исполняющим, — прищурился Опущенников. — Никак не дождёшься, когда укачу?
— Извиняюсь, за вас распорядился. Покойники не ждут.
— С оркестром переборщил.
— Уберём. Пришлю гражданских.
— Он мусульманин, говоришь?
— Персюк.
— Там музыка совсем не желательна. Они его в покрывало и бегом, чтобы до заката солнца успеть земле предать.
— Точно… Как же я обмишурился! — хлопнул себя по лбу Турин. — Закрутился совсем. Ну да ничего, подскажу Сунцову, он всё исправит.
— Сунцову?
— Второй день там дежурит на всякий случай.
— Китаец, что ли?
— Ну да, Ван-Сун. Он за своего уже в губкоме. Быстро в образ вжился, паршивец.
— Что докладывает про аварию?
— А ничего. Обстановка нормальная. С недовольными работа проведена. На советскую милицию обид нет. Со спокойной душой можете уезжать, Ефим Петрович.
— Писать жалобы потом начнут. Это сейчас они тише воды, ниже травы. Некстати всё это… Ох некстати!
— Примем соответствующие меры. До вас эти жалобы не докатятся.
— Турин! — Опущенников хлопнул ладонью по столу. — Гляжу я на тебя — на все вопросы готов ответ. Или ты горбатого лепишь с кондачка?
— В розыске волокита вредна, товарищ начальник.
— Чего?
— Дураков не люблю, — тихо буркнул Турин.
— Я в столицу собираюсь, о чём тебе хорошо известно, придётся обстановку докладывать? Этот случай очень меня беспокоит.
— Всё обойдётся, а вас с повышением, Ефим Петрович.
— Неизвестно ничего. В какую-нибудь тьмутаракань ушлют…
— У вас заслуги такие, что не посмеют.
— Я ему про Фому, а он про Ерёму! Происшествие с мальчишкой всех на уши поставит!
— Да им наверху до этого, что ли? Тем более, повторяю, официально установлено прокуратурой, что имел место несчастный случай. Прокурор Арёл и постановление отписал по этому поводу.
— Мне бы бумагу.
— Я сейчас пошлю своих. Принесут.
— Познакомился с прокурором-то поближе? Как он тебе?
— Требовательный.
— А мне что-то не показался…
— Он на всех поначалу нагонял страх. А потом ничего.
— Да ты успел подружиться с ним?
— На убийство выезжали вместе, а там быстро человека познаёшь.
— Ну-ну. Значит, постановление добудешь?
— Считайте, у вас в кармане, Ефим Петрович.
— Так… — задумался Опущенников и кивнул на Ковригина. — Что с этим делать? Его же наказывать надо, мальчишку-то сгубил?
— А гоните его к чёртовой матери! Что он тут вообще ошивается? — с беззаботным видом выпалил Турин. — Он за Странниковым значится, пусть тот и кумекает.
— Сам приказ подпишешь, — ухватился за последнюю фразу тот. — Я сегодня отбываю, исполнение обязанностей возлагаю на тебя, тебе и отписываться за всё.
— Будет исполнено! — вытянулся Турин. — Василия Петровича вы сами известите об отъезде или?..
— Уже согласовал.
— Тогда попозже я позвоню сам Странникову насчёт Ковригина?
— Ты бы лучше сбегал сейчас, Василий Евлампиевич, пока я здесь. Если что не так, найдёшь меня дома, поезд вечером отходит.
— Я вас понял, товарищ начальник.
— Ну с Богом! — махнул рукой Опущенников куда-то в пол без интереса в лице.
Они скучно обнялись.
Не прошло и получаса, как Турин постучался в дверь приёмной секретаря губкома.
— Василий Петрович вас ждёт, проходите, — открыла ему дверь кабинета секретарша. Однако, шагнув внутрь, Турин оказался в пустом помещении.
— Отлучился. Бывает, — не смутилась секретарша. — Значит, кто-то вас опередил, но он велел ждать. Может, хотите чаю?
Турин отказался, а секретарша быстро ушла, так как совсем близко ему почудился тихий женский голос и смех.
«Такого ещё не бывало, — задумался Турин, — этим поступком Странников после всего случившегося даёт понять, что полностью мне доверяет. А я бы скрыл от него тайную комнату, если б она имелась?..» Домыслить он не успел, неслышно отворилась незаметная дверца за креслом ответственного секретаря, и он, пригибая голову, без смущения и неловкости предстал перед начальником губрозыска. Они уже несколько раз переговаривались по телефону с утра по поводу отъезда Опущенникова, но эти короткие, мелкие фразы, похожие на намёки, объясняющего конца не имели, а Турин жаждал большого, ясного разговора, рассчитывая, что Странников всё же не забудет добра и своих обещаний. На всякий случай он тоже пришёл не с пустыми руками — заготовил предложение о выселении семьи погибшего ребёнка на Восток, поближе к Узбекистану, убрал другие шероховатости автоаварии, подчистив так, что комар носа не подточит. Были у него и другие задумки, с которыми он не спешил, но помнил и перебирал в мыслях, пока бежал в губком.
— Ну как? Проводил? — присев к столу и, пригласив сесть рядом, спросил Странников рассеянно.
— Распрощались.
— Ковригин куда пропал?
— Объяснения писал.
— Ты его не трожь. Мне оставь. Я уже к нему привык. Хороший мужик.
— Как скажете, Василий Петрович.
— Теперь будем ждать, кого вместо Опущенникова назначат? — откинулся секретарь на спинку кресла.
— С этим тянуть не станут, — сохраняя безразличие на лице, сказал Турин. — Желающих на освободившуюся должность хватает.
— Давай без лукавства, — скрипнул зубами секретарь. — Тебе надо здесь командовать! Заслужил! И я добьюсь! А пока исполняй обязанности! — Он приподнялся, вскочил и Турин, секретарь крепко пожал ему руку. — Рассусоливать обо всём остальном не будем. У меня вот какая к тебе необычная просьба…
— Я бы сначала хотел?.. — заикнулся тот.
— Благодарности потом.
— Я о мальчишке…
— Что? О каком мальчишке?
— Отец пожелал уехать отсюда… События печальные, то, сё, — сочинял Турин на ходу.
— Пусть едет. Мы его не держим.
— Ясно.
— Ты присядь, присядь. У меня ведь к тебе дело необычное. Я бы сказал, сверхсекретное. Чаю будешь?
— Не откажусь.
И за чаем Странников подробно, в деталях, рассказал Турину всю позорную историю с докладом.
— Мейнц с Распятовым доклад уже перелопатили. Теперь зазвучит как надо. Я его два раза тоже пробежал. На конференции услышишь, но гложет меня одна закавыка.
— Что такое, Василий Петрович?
— Подлецов не терплю при себе! — хлопнул по крышке стола секретарь. — Дурачка Таскаева кто-то здорово подставил, а с ним и меня замыслил свалить. Отыскать негодяя, как ни пытался, не смог. Я его изничтожу, суку! Но ГПУ привлекать не хочу, Трубкин начнёт копаться, кишки все выест, а дело толком не решит. Не везёт мне на помощников, хоть расшибись!
— А Ковригина подключить?
— Не справится.
— Я ему в помощь Сунцова дам. Помните, я делал предложения вам насчёт него? Цепкий работник.
— Китаец…
— А что? Пусть он займётся аппаратной связью.
— Чем?
— У вас внутренняя связь с отделами существует?
— Трубкин всё обещал, да никак монтировать не начнёт. Весь в своих делах.
— Вот и поручите Мейнцу. Прикрепите к нему Сунцова. Командующему орготделом как раз по теме.
— Но и твой китаец все разговоры будет прослушивать!
— Наш китаец, Василий Петрович, — осторожно поправил его Турин. — Всю информацию он будет докладывать лично вам.
— И тебе…
— Ну, без этого не обойтись, — не смутился Турин. — Врать не стану. Но со мной она и умрёт.
— Хорошо! — недолго думая, рубанул рукой воздух секретарь. — Нас с тобой за эти несколько дней повязало так, что сомневаться в тебе уже поздно. Но учти! Малейший прокол!.. Или до меня докатится какая информация!..
— Никаких проколов, товарищ ответственный секретарь губкома! — Турин вытянулся во весь рост и щёлкнул каблуками. — Ни одна шельма не подберётся, не то, чтобы враг!
— Ладно, ладно. Может, выпьешь?
— Не откажусь.
Странников нажал невидимую кнопку под крышкой стола, и тут же влетела секретарша. Не говоря ни слова, он кивнул ей за спину на шкаф. Через минуту они потягивали коньяк, молчали, и каждый думал о своём.
— Слушай, Василий Евлампиевич, а может, я тебе старый доклад покажу? — прервал молчание секретарь.
Турин насторожился, отставил рюмку.
— Глянь на него профессиональным взглядом. Нюх-то у тебя есть. Может, ты без китайца сам вычислишь паршивого червяка? Оторвал бы я башку ему к чёртовой матери и точку на этом поставил.
Турин поднял брови.
— Не люблю я все эти прослушки, — Странников поморщился.
— Давайте, гляну, — согласился Турин.
— Наталья! — приказал Странников секретарше, когда та заглянула к ним. — Найди-ка тот доклад Таскаева. Он, наверное, у него и валяется где-нибудь. Неси его.
— И Таскаева пригласить?
— Зачем он нам… — Странников долил коньяк в опустевшие рюмки. — Лимончика ещё не найдётся?
— Минуточку, Василий Петрович, — исчезла секретарша за дверью.
— Обученный у вас контингент, — не удержался от комплимента Турин.
— Заведешь свой не хуже. Потерпи.
— Вашими бы устами…
Они чокнулись.
Но выпить не успели. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел Таскаев без очков, с безумными глазами:
— Василий Петрович! Доклад пропал!
— Как пропал? — Странников схватил бедолагу за плечи и затряс так, что Турин забеспокоился за жизнь второго секретаря.
— Похитили, — пролепетал Таскаев.
Часть третья. Чёрный платок
I
Полпред частного сектора местных рыбопромышленников Лёвка Узилевский, возвратившись из поездки, привёз дурную весть: Попкова переводят на повышение, до Москвы дотянулся проныра. Его место займёт Васька Дьяконов, другой кандидатуры на пост заведующего торготделом не обсуждалось.
— А значит?.. — ловя каждое слово, разевали рты Заславские Хацкель и Николашка, Фраткин Самуил и Кантер Эмиль, Креснянский Евсей и прочие господа хорошие, помельче рыбопромышленники, облепившие Лёвку тесной гурьбой и набившиеся по этому поводу в контору фирмы «Перворосрыба».
Лёвка сел, горькую гримасу состряпав:
— А значит, дураку понятно… Валька, и раньше заправлявший всем, превратит ручей текущих в его карманы податей в речку, а то и в ревущий поток. Открывай деловой человек мошну ширше, деньжата швырять придётся направо и налево. Дьяконов удержу и так не знал, а теперь совсем укорота не будет.
— Только братьев Солдатовых и признаёт! — не стерпев, выкрикнул кто-то.
— Пётр у них заправляет, — буркнул один.
— Пётр любит крупную игру, — тут же поддал огня в костёр перепалки другой. — На карту тыщи швыряет. Вот и выигрывает!
— Все эти тыщи в карманах Дьяконова да Авдеева оседают! — разгоралось пламя. — А те за это — льготы да услуги лучше обычных.
— И ты ставь! Чего не ставишь? Робеешь против них?
— А где взять?
— Если б гуртом, со всех собрать!
— Кто даст на всех? Ищи дураков! Каждый на себя одеяло тянет.
— Вот и не каркай!
Гвалт поднялся не на шутку. Не ассамблея деловых людей, не коалиция, а сходка горлопанов. Лёвка поморщился, в лице перекосился — всегда с этим народом так, поднял руку. Вроде стихло мал-мал, но грызлись в углах, зубы скалили неугомонные.
— Тише там! — прикрикнули на них.
Льва Наумовича Узилевского не то чтобы уважали безмерно, ценили за его способности вести диалоги с властями. Лёвкой кликали между собой, близок был, доступен для каждого и внимания на грубые фамильярности не обращал, к любому подход имел.
— В Саратове, откель я намедни возвернулся, встреча была доверительная, — зашептал Узилевский. — Комиссия их заслушивала.
— Обоих к себе требовали? — переспрашивали те, что дальше.
— А как же? Обоих! Одного на повышение, другого вместо него, — возмущались те, что поближе недогадливостью задних. — Тише вы!
— Попков уже в должности заместителя уполномоченного Наркомторга по нашему краю просил Валентина Сергеевича особливо не трогать братьев Солдатовых… — продолжал также доверительно Узилевский, — ну и ещё пару-тройку лиц.
— Кого это? Кого ещё? Почему? — закричали, запрыгали, возмущаясь, остальные. — Мало всё братьям! И так более остальных хапают! И поблажки им, и скидки, и условия особые! Что ж творится-то?
— Ребята они крупные! — объявил со значением Узилевский и оглядел всех, медленно и тяжело, так, что присели, смолкнув, наиболее горячие.
Тишина воцарилась, слышно, как муха билась в стекло. Рвалась дурная, не зная, что на дворе к ночи уже холод лютый заворачивает, день бы прожить не удалось, выпусти кто наружу. Но сердобольный нашёлся, прицелился, ловко прижал ногтем к стеклу. Щёлк! И снова тишина пуще прежней…
— С братьями Солдатовыми лучше не связываться, да и обсуждать их — боком выйдет! Были недовольные когда-то да сгинули без следа.
— Что же делать? — пискнул кто-то в углу за спинами.
— Жили до этого, — размышляли другие, — не сгинем и далее.
— А если письмецо заслать? — опять подал голос писклявый.
— Какое письмецо? — вытянув шею, попытался углядеть советчика Узилевский. — Кому? Куда?
— Известно. В органы. В ГПУ. В милицию-то, знамо дело, бесполезно.
— Сам писать будешь? — бросил наугад Узилевский, не обнаружив советчика.
— Найдутся. Накатают.
Кто-то нервно хихикнул, не выдержав, или просто поперхнулся. Смешок тут же и замер, не найдя поддержки.
— Писаку и упекут, дурило! — здраво рассудил кто-то. — И правильно сделают!
— Оно, конечно, но что ж тогда? — не унимался писклявый.
— Да кто ты там?! — приподнялся Узилевский, ошалев от безуспешных попыток разглядеть дотошного.
— Да шут с ним, с дураком! — встал известный рыбодобытчик бородач Чубатов. — Надо попробовать к Мине Львовичу. А, Лев Наумович? Он прислушается, ежели вы собственной персоной да осторожненько. Без намёков, вот здесь прозвучавших. Ни за кого-то одного, а за общину нашу, за конвенцию! И по сути. Без этих, грязных нелепостей!
— Да! — словно прорвалось, выдохнули и остальные многие. — За общество! Это добрые намерения, степенные подходы! И без намёков! Дрязги-то кому нужны!
— Мина Львович в этом деле не заступник, — отрезал Узилевский. — Он пробовал хлопотать за наши квоты. Увеличить просил. Одёрнули органы сверху.
— Это как же?
— А вот так! Частный капитал — не государственный. И я ходил к нему тогда… Не любитель он влезать теперь в эти дела.
— А Солдатова Петруху, помнится, принимал! — язвительно крикнул кто-то.
— Петруха без мыла куда хошь втиснется! — ответил тот же Чубатов, нахлобучивая шапку и подымаясь.
— Я не видел, — отшутился с кислой миной Узилевский, тоже давая понять, что разговор пора заканчивать.
— К Василию Петровичу надо бы вам попробовать, Лев Наумович, к Странникову, — осторожно посоветовал бородач Серёгин. — Не одному, конечно, с делегацией, людей подобрать солидных. Как говорится, с багажом этих самых…
— С каким ещё багажом? — возмутился теперь уже Узилевский. — Назначение состоялось, Попков — в Саратове, Дьяконов Валентин — тут, все вопросы решены, а лясы точить по пустякам ответственный секретарь губкома со мной не станет. Ни делегация не выручит, ни багаж. Да и какой к чертям багаж?.. Погонит к тому же Дьяконову в торговый, к Аданову в налоговый или ещё хуже — к тому придурку Вассерштейну, век бы его не видать!
— Ты не горячись, Лев Наумович, — Антон Нартов, тоже известный рыбодобытчик. — Ты к Василию Петровичу сразу не суйся, прежде к артисту ходы подбери, к Задову Григорию. Он мужик свойский. И вхож, говорят, в те кабинеты.
— Учить меня будут! — Лёвка обе руки запустил в длинные волосья на голове. — Задов, конечно, мужик умный и толковый. Не зря, что артист. Да только он ведь непростой, каким кажется. К нему подход надо найти.
— Да что ж мы не понимаем? — переглянулись приятели. — Мы поможем, — оглядели они обступивших их рыбопромышленников и торговцев. — Как, господа хорошие, согласны?
— Отчего ж не помочь, ради доброго дела? — затеребили бороды ближние, полезли за бумажниками, да и дальние зачесали лохматые затылки. — Дело стоящее, своё.
И зал загудел одобрительно.
— Странникова нет в городе, — покачал головой Узилевский. — Видел я его в Саратове. Совещание у них большое. Не только организационные вопросы, всего наворочено. Опять же эти… дискуссии пошли. Вернётся неизвестно когда.
— А нам не на пожар…
— Подождём…
— Наше дело такое… Ты только уважь, Лев Наумович, постарайся…
— Свои полномочия знаю, — крякнул, подводя черту Узилевский.
Поднялись расходиться, но Узилевский задержался, с портфельчиком своим завозился на столе, незаметно для остальных мигнул Нартову:
— Антон Семёныч, как поживаешь-то? Детки, жинка?
— Забот полон рот.
— Не видно тебя. Раньше забегал. Справляешься с заботами-то?
— А мы их, как тот сом, глотаем, не разжёвывая.
— Что это за жид у вас за спинами верещал? Я так и не разглядел. Из новых, что ли?
— Писака-то любопытный?
— Вот-вот.
— А с чего ты взял, Лев Наумович, что он из наших? За спинами там их!.. Понаехали с разных мест. Я тут встретил одного, разговорились, так он с Украины. А тот, что верещал, насчёт писанины, кажись, Штейнберг или Лихомер. Ты должен его знать…
— Не помню что-то… Ты его укороти, Антон Семёнович, а то дойдёт до Васьки-божка, сам знаешь…
— К чему же до Василия Евлампиевича допускать, Лев Наумович? Разве мы не люди? Сами образумим дурачка.
— Ну и ладненько. Привет жинке. Стряпает она у тебя чудно!.. Сколько прошло с того раза, а помнится.
— Так забегай, Наумыч, всегда рады.
— Забегу, забегу. Как раз и… — не договорив, Лёвка загадочно подмигнул, — расскажешь про успехи. Своих-то обойди к тому времени. И этого… Лихомера не забудь.
II
Странников действительно уже не первую неделю пропадал в Саратове. На затянувшемся, как обычно, совещании их небольшую губернскую делегацию контролировал опытный в таких делах Мейнц, а ответственный секретарь, сразу по приезде обежав начальство, где следовало отчитаться, доложил обстановку, кого надо проведал, порадовав сувенирами, и даже с трибуны умудрился изложить собственные взгляды и соображения в первые два дня, но на третий совершенно случайно встретил в гостинице молодую особу в шляпке под тёмной вуалью. Собственно, он застал её поздно вечером в своём номере поджидавшей, и уже после этого в зале совещаний не появлялся, усердно отмечаемый верным Мейнцем и поднимавшим за него руку при голосовании.
Конечно, это была Павлина.
Приехала, с ее слов, дожидаться жениха, чтобы окончательно обговорить все свадебные вопросы, но тот из столицы не звонил и по неизвестным причинам задерживался в Москве. Квартирку из двух комнат она сняла сама в укромном домике большого сада. Старый особняк в то же время удобно располагался близ центра, за зимним театром, и в первый же вечер Странников и Павлина страстно отметили встречу.
Теперь свободное время Павлина проводила здесь, хозяйка квартиры бегала в магазины, на рынок и обеспечивала необходимым. Бывшая актриса, она скоро нашла общий язык со Странниковым и порой, злоупотребляя, засиживалась с ним и Павлиной до позднего часа. Она хорошо пела, пыталась удивить их танцами, декламировала стихи из тех, уже ушедших времён Серебряного века. Но это когда перебирала винца. Странникову нравилось её аристократическое обхождение, выворачивали душу забытые романсы. Подыгрывая себе на стареньком видавшем виды рояле, Аграфена Валериановна вполне сохранившись, притягивала его, когда хрипловатым, но ещё обаятельным голосом запевала к месту и в настроение:
Никогда не прощайся со мной. Уходя, поцелуй меня взглядом. И тогда ты останешься рядом, Ощущаемый мною одной. Будет миг — упадёт небосвод, Опрокинется чаша Вселенной, И планета, всегда неизменный, Остановит свой медленный ход. Мы с тобой побываем тогда Совершенно в другом измеренье. И откроется высшее зрение, Замерцает на небе звезда[17].Он, перехватив лишку, не в силах сдерживаться, судорожно метался по залу, аплодируя, восклицая; пушистый жирный кот, обычно засыпавший под пение хозяйки, испуганно удирал на кухню, обиженно мяуча, а он в каком-то трансе становился на колени перед актрисой и, беря её руки в свои, допытывался:
— Как мило! Только женщина так может расшевелить душу! Она сильно любила! Ну смилуйтесь, скажите — да?
— Ах, мой дружок, — кокетничала актриса и, забавляясь, мучила его. — Сколько лет… Сколько золотых лет пролетело! Разве может запомнить всё легкомысленная женская память?..
И Павлине нравились её пения. Поначалу. Она даже пыталась нерешительно танцевать, порхая по залу под их голоса, когда они увлекались над роялем. Но странное дело, с некоторых пор её хватало ненадолго, она незаметно перекочёвывала в кресло, подливала себе в рюмочку, прикладывалась к сигарете и тихо дремала, попивая, а порой даже засыпала, покачивая головкой в такт музыки.
Так было и в тот раз. Они вместе отужинали, Аграфена Валериановна присела к роялю. Это был его любимый романс. Со временем он заучил слова наизусть и иногда осмеливался подпевать актрисе. В этот вечер он снова увлёкся. Музыка очаровывала его, слова пронизывали душу, и он забылся, опустился на колени и взял руки актрисы в свои.
Голос певицы, хрипловатый и сладостный, лился на него словно с небес, лишая разума, осторожности и подчиняя чувствам, которых он давно не испытывал:
Прикоснись ко мне губами, Только глаз не открывай. Бог сегодня будет с нами И тропу укажет в рай. Небеса откроют двери В неопознанную даль. Ветерок, расправив веер, Синевы качнёт вуаль. Выйдут ангелы навстречу Нас крылами одарить Для того, чтоб стало легче Возноситься и парить[18].Опустив руки с клавиш, актриса склонила голову к нему на плечо, заглянула в лицо зелёными завлекающими очами и загадочно улыбнулась. Теряя себя, он ответил на улыбку, но всё же нашёл силы оглянуться на Павлину. Та уже дремала в кресле и даже посапывала во сне, откинув назад голову. Тонкие чувственные пальцы актрисы коснулись пуговиц на груди его рубашки, и, поднявшись, она увлекла его за собой из залы на кухню, продолжая ослеплять обольстительной улыбкой. Не чувствуя ничего, кроме страстного желания, потеряв контроль, он двигался за ней, словно сомнамбула. Как пахли её душистые волосы! Как влекло каждое движение тела! Их губы слились уже на пороге, а поцелуй затянулся так, что заломило зубы. Но вдруг он почувствовал, как она обмякла и стала выскальзывать из его рук. Он напрягал последние силы, но не смог удержать тяжёлое её тело. Она некрасиво распласталась прямо у его ног, широко раскинув руки и ноги, слабо стонала. В горячке он рванулся к ней, подсовывая руку под голову, с испугом заглядывая в лицо. Глаза её были закрыты, но стиснутые губы ослабли, рот приоткрылся, и она тяжело задышала. Странников с трудом выдохнул сам, соображая, что же случилось, однако долго ломать голову ему не пришлось — дама откровенно захрапела!..
Не было сомнений — перед ним лежала опьяневшая до беспамятства женщина! Вот влип… Как ненавидел эту женщину он теперь! С брезгливостью оглядел разметавшееся перед ним только что прекрасное тело от расстёгнутого на груди платья до обнажённых бёдер. Бывшая актриса пренебрегала нижним бельём, и вся её истерзанная безжалостным временем нижняя часть тела теперь претила, а не влекла.
— Поистине прав был мудрец, — прошептал Странников, — что наступает миг, когда вспоминаешь о Боге.
— Быстро же надоело тебе молодое, — Павлина, ядовито усмехаясь, стояла в дверях с сигаретой в руке. — На бабу потянуло?
— Уйди! — почти простонал он, одёрнул платье на актрисе и попытался подняться, но не успел. Отбросив сигарету, Павлина впилась ему в губы, и поцелуй этот отдавал укусом змеи.
Он вырвался.
— Неужели я хуже? — простонала девица, ударившись о косяк двери, но удержалась на ногах.
— Прости, — опомнился он. — У нас ничего не было. Ей стало дурно, она упала, я попробовал помочь.
— И поволок её на кухню?
— Ну не в спальню же на постель… — пробормотал он, чуя идиотство всей этой ситуации, возмущаясь и собой, и заснувшей женщиной, и всем на свете. Кстати, он заметил, что оправдывается, чего никогда себе не позволял. И перед кем? Перед этой фурией, забывшей о женихе, бросившей всё, приехавшей сюда, чтобы вцепиться в него снова, как в тот раз! И врущей ему сейчас про высокие чувства!.. Все её признания казались теперь ему неестественными, пронизанными враньём! И, конечно, она всё это подстроила сама… Прикинувшись уснувшей, она демонстративно следила за ним, ждала момента!.. И актрису она подговорила. Вероятно, они знают друг друга давно. Павлина родом из Саратова, бредила с детства театром, значит, не могла не знать Аграфену, удивительно быстро она нашла эту тайную квартирку! Не с одним ним, наверное, встречалась здесь. Небось и дуралея Глазкина здесь оплела. То-то прокурор не спешит возвращаться! Ждёт, когда она его вызовет звонком, сообщит, что идиот секретарь втюрился в неё, полностью в её власти, и они могут делать с ним всё, что задумали!.. А задумали они, конечно, немало, и он уже начал выполнять их планы: отговорил губернского прокурора Арла возбуждать уголовное дело против взяточника-жениха, в Москву звонил, знакомых напряг, чтобы мер не принимали… Теперь Глазкин там гуляет на радостях и заявится сюда, как только плутовка сластолюбивая даст знать… Ах юная интриганка! Да она просто настоящая куртизанка… Как искусно сплетена ею паутина, в которую он влип!..
Странников буравил ее злыми глазами, изуверские мысли мщения будоражили его расходившуюся фантазию. Но он сдерживался. В таких ситуациях, когда противник — женщина, лучше помолчать, разгадать её коварные замыслы полностью. Можно даже прикинуться виноватым, испуганным, недогадливым.
— Котик, — Павлина внезапно преобразилась и даже смилостивилась прильнуть к нему, обвила шею руками. — Всё выглядело так нелепо, согласись. Что я могла разобрать, внезапно проснувшись?.. Пойми и ты женщину, безумную от чувств.
Он нехотя ответил на поцелуй — решил играть до конца.
— Вот и забудем это недоразумение, — она изобразила улыбку. — И я понимаю тебя, даже если ты и немножко слукавил, — пальчиками она игриво пощекотала его щёку. — Аграфена Валериановна — чудная женщина. Она ещё способна очаровывать. И я не скрываю, тоже попала под её влияние.
Недоумение охватило его — не понять женщин! Только что гром и молнии, минуты не прошло — она стелется лисой.
— Возраст, конечно, — поправилась она, — но что возраст? Любви все возрасты покорны! Вон, Гёте!..
— Его предметом была девчонка, ты перепутала, милочка.
— Ну не сердись, котик. Я же сумела очаровать тебя. Ну, поцелуй меня.
Остывая от собственных подозрений, гнева и злобы, забывая их и зажигаясь от ласк и обволакивающего тепла её тела, он крепче обнял её — чертовка была обворожительна и путала все его дикие фантазии. Срывая друг с друга одежды, сплетаясь как две змеи, они достигли спальни и упали в постель, забыв обо всём. Ночь они впервые провели в квартире Аграфены. Уже под утро, сквозь сон, чуткий слух Павлины уловил посторонний шум у входных дверей, почти неслышные шаги, нерешительно приблизившиеся к некрепко запахнутой двери. Чуть скрипнула половица, и ей в унисон слабо подпели старые петли приоткрываемой двери в заветный альков.
«Вот ненасытная ведьма! — лениво, не подымая век, подумала Павлина, — Не удалось ей вчера полакомиться, так утром заглянула облизнуться…»
С порога долго кто-то любовался их голыми телами, бесстыдно раскинувшимися на кровати. «Любуйся, любуйся! Что тебе больше остаётся? — не открывая глаз, Павлина, изогнувшись, прильнула к Странникову и томно закинула ногу на его бедро, прикрывая срам. — На это тебе глазеть ни к чему».
Для натуральности чувств она замурлыкала, как довольная кошка. Подействовало моментально: шаги удалились.
Когда наконец они проснулись и поднялись, в квартире не было никого. Актриса пропала на весь день, видимо, переживала случившееся. Откланялся и Странников, сославшись на совещание.
III
Однако, однако, однако…
Однако даже наслаждаясь ворованными чувствами, любовники всегда беспечны. За это и расплачиваются.
Вот и в тот раз, прежде чем до изнеможения предаваться всю ночь страстным наслаждениям, Павлине надо было бы подумать о мерах предосторожности!.. Почуяв шум у входных дверей комнаты, не поленилась бы подняться!.. Или по крайней мере открыла бы глаза!..
Тогда бы она узрела с ужасом, что неизвестно каким образом проникнув в квартиру, у порога застыл мужчина. Лицо его скрывали шляпа и полумрак. Заскрежетав зубами от гнева и ревности, незнакомец готов был броситься к любовникам, беспечным в сморившем их сне, но остановился. Что-то сдерживало его, хотя заметно было — весь он дрожал. Немая сцена длилась несколько минут, пока бесстыжее голое тело женщины не шевельнулось. Незнакомец отпрянул. Но тревога оказалась напрасной: любовники спали крепким сном. Подождав несколько секунд, убедившись в их ровном дыхании, он сделал осторожный шаг, другой, третий назад, развернулся и принялся обследовать квартиру, начав с гостиной. Не зажигая света и пользуясь лишь рассветным полумраком, незнакомец задержался у стола с остывшими яствами и питьём, высмотрел бутылку, сделал из неё несколько глотков и сунул в карман. На кухне он несколько минут вслушивался в тихое похрапывание раскинувшейся на полу бывшей актрисы. Ждал ли он её пробуждения или обдумывал план дальнейших своих действий, трудно было догадаться, так как, заметно успокоившись, он вёл себя крайне осторожно, и лицо его сохраняло теперь непроницаемое выражение. Наконец, приняв решение, он вытащил платок, развернул на ладони и, поднеся ко рту спящей, потряс её за плечо. Неописуемый ужас полыхнул в глазах актрисы, когда она очнулась и разразилась бы диким криком, если бы он мгновенно не закрыл ей рот платком.
— Не пугайтесь! — предупредил он её гадливым шёпотом. — Я вас не трону, если будете молчать. Молчать сейчас и после! Понятно?
Она таращила от ужаса глаза, попыталась вскрикнуть, но он втолкнул ей платок в рот ещё глубже, и жертва стала задыхаться.
— Подохнешь, подлая сводница! — сдавил он ей горло.
Актриса захрипела и смолкла. Он ослабил руку, похлопал по щекам и тут же угрожающе занёс кулак над её головой:
— Молчать, если дорога жизнь!
Актриса замерла.
— Вы меня знаете, Аграфена Валериановна, я своим словом дорожу, — продолжил он спокойнее.
Молчание было ему ответом.
— Не бойтесь. Ни Павлину, ни её дружка я не тронул и пальцем. Бог им судья. Сейчас я уйду, но возьму с вас клятву.
Актриса испуганно заморгала в ответ, соглашаясь на все условия.
— Вы умная женщина, я в этом не сомневаюсь, — изобразил он мрачную улыбку. — Я потребую от вас самую малость. После моего ухода вы сразу покинете этот дом. Ясно?
Актриса кивнула головой, видно было, что она пришла в себя и уже здраво оценивала обстановку.
— Не вздумайте со мной играть в игры или не выполнить того, что я прикажу, — отчеканил он жёстко. — Вы знаете, кто я такой и каковы мои возможности. От меня не скроетесь нигде!
Женщина жалостливо простонала.
— А требования мои ничтожны, — сменив тон, продолжал он. — Вы никогда не видели меня здесь. Об остальном, в том числе и любовных связях ваших квартирантов, можете говорить, что вздумается, даже правду, но!.. Но только тем, кто уполномочен будет вас спрашивать об этом. Ясно? И не вздумайте трепать лишнего!
Он снова взмахнул рукой, и она в страхе зажмурилась.
— Отсутствовать здесь вы должны столько, сколько я потребую. Когда необходимость сия отпадёт, — злодейская улыбка исказила его бледное лицо, — я сам дам вам знать. У вас есть подруга. Я знаю. У неё и укройтесь. Придумайте причину и не высовывайте носа, если хотите жить.
Актриса закрыла глаза в молчаливом согласии, а когда открыла их, никого поблизости не было. Только платок, который он впопыхах забыл, сжимала она в своей руке. Платок был чёрным, храня резкий неприятный запах пота.
IV
За что в губрозыске Абрама Зельмановича Шика между собой прозвали не Бертильоном в честь знаменитого основателя уголовной антропологии, а именно уменьшительно-ласкательно Бертильончиком, теперь уже мало кто помнил. Пошло это якобы от Деда — Ивана Ивановича Легкодимова, больше других посвящённого в историю такой заковыристой науки, как криминалистика, и лучше остальных знавшего Абрама Шика по совместной службе ещё при проклятом царизме. Он его и за собой поманил в народную милицию, когда пришла пора выбирать жить или загибаться от голода. Так, во всяком случае, накоротке, между суматошными сборами, объяснил любопытствующим Ковригину и Сунцову начальник губрозыска Турин. Философствовать да разглагольствовать особо времени у него не было, вечером уходил поезд. Турин отбывал в Саратов, срочно вызванный туда по непредвиденным обстоятельствам секретарем губкома.
Укладывая в портфель самое необходимое, Турин добавил, что, несмотря на преклонный возраст, в профессиональных качествах Шика он не сомневается, иначе не рекомендовал бы им взять его в помощники для более быстрого и успешного выполнения задания по обезвреживанию замаскировавшегося в губкоме врага, едва не подведшего под монастырь самого товарища Странникова.
Сообразительный Ковригин тут же подбросил идейку, что прозвища типа Бертильончик — Лимончик и так далее имеют известные корни — воровские и подмигнул Сунцову, мол, Шик в молодые годы физическую убогость, прогрессирующую с годами, компенсировал недюжинным умом и промышлял в интеллектуальных сферах — занимался фальшивомонетничеством, подделкой документов и другими финансовыми аферами, даже скупал краденое. Такие люди на вес золота, даже медвежатники[19] или отпетые мокрушники[20], никого не признававшие выше себя, пестовали их и оберегали, потому как распорядиться награбленным собственного серого вещества не доставало. Но Турин его одёрнул, присел перекурить, как ни торопился, и незаметно для себя разоткровенничался.
По его словам, если Абраму Зельмановичу Шику и пришлось нарушить закон, то случилось это один раз за всю его долгую криминальную практику. Было это уже в то время, когда сам Турин, будучи в чине младшего агента губрозыска, без устали, впрочем, и без особого успеха гонялся за отпетым бандитом и убийцей Зубом. Гонялся за этим головорезом, конечно, не один он, весь губрозыск стоял на ушах, но примечали бандита именно на его участке, где, обнаглев, тот и последнее злодейство совершил, вырезав семью богатого нэпмана и обчистив его квартиру. Турин спать перестал, напал было на след негодяя, но взять живым того не удалось. Ворвавшимся ночью в квартиру, где залёг Зуб, достался лишь его труп с обезображенным до неузнаваемости лицом. По фигуре, наколкам и одежде его опознали подельники и сожительница, но смущала Турина странная закавыка: до костей почти срезана была кожа на пальцах обеих рук убитого, да и кто его отправил на тот свет, установить не удалось. Гуляла версия, будто свои это сделали, дескать, за дела бесовские да сволочной характер.
Начальство успокоилось, и злодейства прекратились, а Турина знобило — не верилось ему в простой конец отпетого мерзавца. Не мог попасться на удочку своих Зуб, да и у тех смелости бы не хватило его кончить; убить, может, и убил бы кто, но чтобы уродовать?! Дружков у Зуба — куча, взялись бы мстить, полилась бы ручьём кровь воровская… А здесь тишь да гладь.
Вот и выручил тогда Абрам Шик Турина. Нашёл он ему патологоанатома, давнего своего товарища, уговорил, давно не практиковавшего, сделать эксгумацию трупа и попытаться идентифицировать личность убитого по отпечаткам пальцев. В картотеке розыска их имелось предостаточно. Требовалось отыскать пригодный для этого кусочек кожи на пальцах покойника, хотя тело и было уже предано земле. Начальство ни в какую! Турин дошёл до самого Хумарьянца, но тот его выгнал из кабинета. Вот и нарушили тогда они закон. Но не зря! Откопали ночью труп, а медик сотворил чудо: не Зуб оказался в гробу, а его верный подельник, его и изуродовал до неузнаваемости главарь.
Так Абрам Шик спас репутацию Турина, иначе подметать бы ему улицы ещё с той поры.
А сам Зуб скоро попался из-за дурости. Устроил гулянку — воскрешение отмечал. За столом, среди пьянствующей публики, выставив пушку[21], заставил его Турин тянуть лапы в гору, но не дался бандит живьём, вышиб оконную раму, выбросился со второго этажа и, угодив на булыжники головой, разбился.
— Досталось вам? — спросил Ковригин.
— Больше сам мучился, что живым не удалось взять, — буркнул Турин. — Однако засиделись мы с воспоминаниями. Абрам Зельманович вас в губкоме дожидается. Он уже оборудовал там местечко. Мейнца сейчас нет. Обратитесь к Распятову, чтоб найти старика.
Шика искать не пришлось, тот, полусогнувшись, маячил у чёрного входа в губком и покуривал папиросу, с удовольствием пуская колечки дыма.
— Чем же он так умаялся, что нас встречать вылез? — усмехнулся Ковригин.
— Боится, чтоб не потерялись, — в розыске Сунцов стал разговорчивей.
Ещё издали Шик замахал рукой.
— Чудаковатый старикан, — покачал головой Ковригин. — Ему лет сто? Чего его держат?
— Технарь он. Не понял?
— Что ж молодого не найти?
Сунцов пожал плечами:
— Молодой сакуре, чтобы зацвести, знаешь, сколько расти надо?
Уважительно поклонившись и пожав руки, Шик всё же спросил:
— От Василия Евлампиевича?
— А вы ещё кого-то дожидаетесь? — хмыкнул Ковригин.
— Пожалуйте за мной, господа хорошие, — развернулся старикан и, шаркая подошвами несуразно великоватых туфель, увлёк их в подвал, мимоходом заметив Ковригину: — Царской болезнью страдаю, молодой человек. Подагра, слыхали? При Николашке прицепилась зараза, пальцы ног в шишках и торчат во все стороны. Мучаюсь всю жизнь.
Ковригин только крякнул и больше живую реликвию царского сыска старался не только не разглядывать, а опасался на него дышать. Вёл их агент в кочегарку, занимавшую почти весь подвал губкома. Согнувшись, юркнул в маленькую дверцу и поманил к себе:
— Прошу в аппаратную.
— Ничего не пойму! — на ухо Сунцову шептал Ковригин, которому пришлось туго в узком проходе. — Какую сверхсекретную аппаратуру можно разместить в этой мышиной норе?
Втроём разместиться здесь было трудно, но Шик присел на табуретку, а им кивнул в угол, где оказалась удобная ниша, на полу которой виднелись остатки собачьей шкуры. Все стены и потолок обвивали чёрные провода, словно ядовитые змеи, к которым нельзя было прикасаться, о чём тут же остерёг хозяин, бодро объявив:
— Принимайте рабочее место, молодцы.
— И что же нам делать?
— А ничего. Главное — не заснуть, поэтому дежурить будете по очереди.
— Здесь и спать?! — дёрнулся от возмущения Ковригин, но тут же присел, так как голова его упёрлась в сплетение проводов на потолке. — Задохнёшься же?
— А я палочку вот приспособил, — Шик приоткрыл ею и тут же захлопнул форточку напротив себя. — Не пользуюсь. От двух лёгких одно осталось, берегу. А вам рекомендую, так как выходить отсюда без особой надобности нежелательно.
— Ну, попали! — горько охнул Ковригин. — Мне камера с Шушарой теперь раем кажется.
— Всё внимание на эту панель, — Шик ткнул перед собой пальцем, засветилась маленькая лампочка. — Товарищ Распятов? — спросил Шик и прильнул к панели.
— Кто это? Распятов у аппарата! — послышался из неизвестности далёкий голос.
— Это губрозыск, здравствуйте, — Шик улыбнулся неизвестно чему. — Извиняюсь, проверка.
— Вы бы лучше доклад искали, чем проверять, — раздражённо ответил голос и смолк.
— Этим и занимаемся, — согласился с ним Шик и повернулся. — Важного человека разрешено беспокоить только в исключительных случаях. — Ясно?
— А что делать-то? — не терпелось Ковригину.
— А ничего, — довольный собой, Шик чуть не подпрыгнул на табуретке. — Распятов, наверное, и нужный человек в губкоме, но он болтун. Вот, убедитесь сами, господа хорошие, — и сунул китайцу наушники.
— Он ругает нас! — вслушиваясь в разговор, поддакнул Сунцов. — Выставляет ослами какой-то дамочке.
— Секретарше, — махнул рукой Шик, — дам высокого ранга этот чиновник опасается. А эту, Сонечку, иногда щиплет за бока, но не более.
— И это всё, что удалось вам выяснить здесь за неделю? Хороши темпы! — Ковригин сплюнул с досады.
— Аппаратура пущена недавно, — обиделся старичок, поджав губы. — Заметьте, аналогов нет. К тому же здесь всё-таки губком! Всё остальное время ушло на монтаж, наладку…
— Извините…
— Я вас понимаю, — с грустной улыбкой продолжал Шик, — молодость всегда торопится, это естественно. Я сам когда-то…
Но досказать ему не дал Сунцов.
— Глядите! — сунулся он к панели, где заметался огонёк сигнала.
— Слушайте! — нажал кнопку Шик. — На вас же аппарат!
— Она разговаривает с женщиной, — прошептал Сунцов. — Называет её Стефанией.
— Это новая работница, — кивнул Шик. — На днях принята. Венокурова-младшая. И пользуется ужасной популярностью у всех.
Он повернулся к Ковригину, считая его за старшего, и доверительно пожаловался:
— Ей звонят мужчины со стороны. А ведь ещё товарищ Мейнц уверял меня, что в губкоме запрещены разговоры на посторонние темы.
— Бабы! — коротко рассудил Ковригин.
— Э, нет, — погрозил пальчиком Шик. — Я слушал те беседы, они наводят на странные мысли.
— Турина нашего обсуждают, — продолжая слушать, вытаращил глаза на Ковригина Сунцов. — Сонечка сообщила этой Стефании, что Василий Евлампиевич выезжает в Саратов!
— Да-да, Сонечка тоже хорошая болтушка, — закивал головой Шик. — Турин звонил товарищу Распятову, уведомил его о вызове в Саратов. Сказал, что пробудет там несколько дней. За себя оставляет Камытина.
— Чёрт возьми! — выругался Ковригин. — Это же тряпочный телефон! Секретную информацию обсуждают какие-то дамочки…
— Вот! А я что вам говорил! — тут же поддакнул Шик. — Это наводит на странные мысли.
— Подозрительные, я бы сказал! — рявкнул Ковригин.
— Тише, — оборвал их Сунцов. — Эта Стефания звонит теперь какой-то Катерине.
— Это её сестра, — подсказал Шик, — они часто перезваниваются. Катерина Венокурова — председатель женсовета.
— Шишка! — буркнул насмешливо Ковригин. — Но телефон установили не для этого.
— Она передала номер вагона, — прошептал Сунцов и, стащив наушники с головы, вытер вспотевший лоб.
— Чего? Какой ещё номер? — насторожился Ковригин. — Ты толком можешь объяснить?
— Что вам не ясно, молодой человек? — вмешался Шик. — Выпытав у беспечной секретарши, эта подлая женщина всё сообщила сестре.
— Каким вагоном Турин едет в Саратов?! — вскричал Ковригин.
— Ну конечно.
— И зачем это ей?
— Не иначе кто-то поедет следить за Туриным, — устал объяснять Шик, прикрыв глаза.
— Но зачем? Скажите мне, зачем, раз уж вы всё знаете наперёд!
— Я знаю одно: вам следует поспешить на вокзал, — совсем тихо сказал старичок. — Но упаси вас Бог предпринимать какие-то экстренные меры. Вы просто выясните, кто из знакомых сядет в один поезд с Василием Евлампиевичем… А после дадите ему знать.
— Венокурова?.. — рванувшись к дверям, обернулся Ковригин.
Но Шик только пожал плечами.
V
На перроне в Саратове Турина встретил сам Странников. Был он бледен, сильно взволнован и, увлекая начальника губрозыска к поджидавшему автомобилю, на ходу бросил:
— В гостиницу, где остановилась наша делегация, не поедем. Я тебя в ресторанчик здесь один… скромненький. Не возражаешь?
И предложил устроиться на заднем сиденье.
— Что произошло? — спросил Турин.
— Потом! Всё потом! — ответственный секретарь многозначительно кивнул на шофёра и схватился за голову.
Они домчались до места почти молча. Скорее из вежливости Странников лишь поинтересовался:
— Как доехали?
— Нормально, — Турин не сводил с него встревоженных глаз. — Заметили, как мелькнула на вокзале Венокурова Екатерина?..
— Екатерина?! — вскинулся Странников и до боли вцепился в руку Турина.
— Она, — осторожно попытался высвободиться тот. — Но в вагонах я её не заметил.
— Эта сука ещё та! — сжал губы секретарь. — И вас обвела вокруг пальца… Спряталась где-нибудь. Сюда она прикатила неслучайно. Вот что я скажу.
Турин смолчал, но реакция Странникова его поразила.
— Вы её плохо знаете, — он прикрыл рукой рот, — непременно отправилась прямиком в нашу гостиницу. Разнюхивать. Эта ведьма чует запах крови!
— Что вы говорите, Василий Петрович? — Турин старался сохранять спокойствие. — Что же всё-таки случилось?
— Убийство! — прижавшись к нему, зашептал на ухо Странников. — Или самоубийство! Впрочем, в этом, конечно, разберутся. Это не самое главное. Давайте помолчим, мне плохо.
— Может, остановимся? — рванулся к шофёру Турин.
— Что вы? Ни в коем случае… — оборвал его секретарь, а обернувшемуся шофёру махнул: — Гони, гони!
— Но кого? — не унимался Турин.
— Павлину мою удавили, — прошептал Странников, закрыл глаза и в изнеможении отвалился на спинку сиденья.
Больше он не проронил ни слова, как ни пытался его разговорить начальник губрозыска.
Ресторан оказался на отшибе. Старое двухэтажное здание, обшарпанные стены навивали брезгливость, но Турин решил, что сейчас им лучшего и не надо.
— Водки! — только вошли, приказал подскочившему официанту Странников. — И уголок потише. А ты отпусти водителя, — кивнул он Турину. — У приятеля машину попрошу. Доберёмся потом сами.
— Есть отдельный номерок, — ставя графин на стол, поклонился официант.
— Веди!
Турин шагал, замыкая процессию и приглядываясь к посетителям. Публики было мало, и ей было явно не до них.
Номер, под стать заведению, поражал дряхлостью и запущенностью, но диван и два кресла оказались вполне качественными и даже чистыми, соринки официант лихо смахнул, разлил из графинчика водку по рюмкам и удалился. Турин задержался у двери, прислушался к его затихающим шагам, прижал её плотней.
— Ты ничего такого не думай, — жадно выпил водки секретарь. — Я к убийству не причастен.
— А почему вы решили, что убийство? Сами вроде только что обмолвились о другом.
— Никто ничего не знает! — Странников потянулся опять к водке.
— Тем более…
— На допрос вызывают. Вот и трясёт всего. Ждал твоего приезда, как Бога! Не приучен, — он осклабился, — показания давать. А теперь вот придётся…
Он опрокинул следующую рюмку, упал в кресло и закрыл глаза.
— Успокойтесь, Василий Петрович, — выбирал место, куда бы примоститься, Турин. — Я прибыл, и вам нечего бояться.
— Давай помянем её! — вскочив, словно в лихорадке тот, схватил рюмку, она дрожала в его руке. — Павлинки больше нет… Кому понадобилась её жизнь?
Он опрокинул в себя водку, словно воду, не закусил, наполнил и выпил ещё, вливал в рот, торопясь утолить сжигавшую его жажду.
Турин наконец спохватился, удержал его руку.
— Достаточно. Вы спьянитесь.
— С утра крошки не проглотил, — повалился тот снова в кресло, закрывая глаза. — А следователь, наверное, думает, что это я её удавил… Он думает, что я и есть убийца, Василий Евлампиевич! Вот в чём дело…
— Почему вы так считаете?
— Почему?.. Потому что я был с ней! Потому, что видел её живой последним…
— Кто-нибудь может подтвердить?
Странников молчал, безумно вращая глазами.
— Вас видели вместе накануне?
— Не знаю! — вскочил на ноги секретарь и заметался по тесной комнате, натыкаясь на углы мебели. — Видели? А как же! Конечно, видели… Я же не человек-невидимка! Ну что уставились на меня? Я с ней спал! Жил здесь как с женой! В каком-то доме… Она сняла квартиру. Там и умерла моя Павлинка…
— Это ещё не доказательство, — дождавшись конца истерики, начал Турин как можно спокойнее, одновременно подыскивая место, чтобы всё-таки сесть; свою рюмку он так и поставил на стол.
А когда наконец устроился, поднял глаза на секретаря, замер: Странников горько плакал, не скрывая слёз.
VI
Ситуация грозила стать неуправляемой, Турин растерялся, чтобы только не молчать, спросил:
— Куда вас вызывают?
— Что? — Странников, словно очнулся, полез за платком, пристыженный минутной слабостью, начал рыться в карманах в поисках папирос.
— Когда вам надо быть в прокуратуре и у кого?
— В прокуратуре? — Странников уставился на начальника губрозыска, словно тот произнёс нечто ужасное. — С чего вы взяли?
— Покажите мне повестку о вызове.
— Никакой повестки! Что вы говорите?
Турин откинулся на спинку кресла в замешательстве. Ответ секретаря поразил его до такой степени, что он потерял над собой контроль, а это редко случалось.
— Мейнц мне позвонил. — Странников закурил и тяжело закашлялся, словно больной. Иногда сквозь этот тяжкий неестественный нервный кашель ему удавалось всё же выдавливать отдельные фразы. — Он в курсе… куда… зачем… к кому…
Турин постарался взять себя в руки. Он поднялся, заказал горячего чая, холодных закусок и, пододвинув кресло поближе к Странникову, как можно доверительнее произнёс:
— Дорогой, Василий Петрович, чтобы вам помочь (надеюсь, я за этим сюда и вызван), мне необходимо знать все подробности случившегося. С Мейнцем я побеседую сам. Думаю, мы найдём общий язык. От вас мне хотелось бы услышать правду… насколько вы мне её доверите.
Принесли чай. Не сговариваясь, они оба потянулись за стаканами.
— Мне нет нужды врать, — схватив стакан, скривившись от горячего и отодвинув его от себя, Странников полез за новой папироской, закурил, подняв глаза на Турина, долго и тяжело изучал его лицо. — Что ж врать? Когда над пропастью оказался.
— Ну-ну, Василий Петрович, — ободрил его Турин, — мне кажется, не всё так страшно.
— Не страшно?.. Ну слушайте. Только не перебивайте, иначе я собьюсь и потеряю желание… — он горько хмыкнул, — исповедоваться сыщику.
Турин покривился, лицо его налилось краской, но он не шелохнулся, только пальцы рук крепче вцепились в подлокотники кресла.
— Эту женщину принёс сюда, сам дьявол, — хмуро начал секретарь. — После того раза, вы помните глупую затею Задова с бенефисом в театре, мы почти не виделись. Но первая близость, её тело запалили меня. И всё же, словно чувствуя, что к хорошему это не приведёт, что они затевают какую-то коварную и дерзкую игру вместе с женихом, я игнорировал её предложение о новой встрече. Подвернулось совещание в Саратове, на которое мне можно было бы и не ехать, но я умчался, лишь бы её близость и доступность не соблазнили меня на опрометчивый шаг. И что же? Через день или два по приезде, я наткнулся на неё в нашей гостинице. Благо, что нас не заметили вместе. Мейнц, словно привязанный ходил за мной по пятам, но и он прозевал. Эта сука, вы её видели, Венокурова, примчалась сюда, словно по его зову! Они затеяли на меня облаву! Вам не кажется?
— Не отвлекайтесь, Василий Петрович, всё это потом, всё потом…
— Я плюнул на совещание, перекинул дела на Мейнца, соврал ему, что встретил старую знакомую, развлекусь несколько дней…
— А?.. — открыл было рот Турин.
— Он сам забавляется здесь по вечерам не хуже меня. С кем-то из нашей делегации. Я застал их однажды в номере… — он помолчал. — Доверить дела на него у меня были все основания. Я же в этом Саратове провёл почти всю свою жизнь, дорогой Василий Евлампиевич!.. Сколько всего здесь было!.. — Странников постепенно преобразился, рассказывая, но при последних словах откинулся на спинку кресла и даже улыбнулся мечтательно, вспоминая.
— И я действительно перебрался к давней знакомой Тамаре, — подмигнул он Турину. — Она одинока, сохранила свежесть. Должен же я был где-то нормально питаться, отдыхать! А Тамара такая милая женщина и совсем не забыла меня.
Он глянул на графинчик с водкой, но Турин непроизвольно поморщился, и секретарь вернулся к своему рассказу.
— Когда в квартире Павлины мы расставались утром, она предупредила, что о следующей встрече даст знать сама.
— Почему?
— Якобы мог приехать жених, — Странников криво усмехнулся. — Вы знаете, этот прокуроришка укатил в столицу и пропал. Потом вроде позвонил, что собирается скоро быть.
— И приехал?
— Нет. Впрочем, теперь я не знаю, — Странников снова закурил. — Я не ходил на совещания. Тамара умеет создавать рай, и я проводил время у неё, дожидаясь вестей от Павлины.
— Каким образом?
— Я дал ей телефон Тамары.
— Дали ей телефон Тамары?
— Но вместо неё затрезвонил Мейнц. Он и сообщил о смерти.
— Мне нужны подробности, Василий Петрович. Что он вам рассказал?
— Как что? Я же вам говорил?
— Подробности… Вспомните ваш разговор с Мейнцем.
— Ему позвонили из местных органов как к руководителю нашей делегации. Деликатно поинтересовались, не заболел ли кто?.. Все ли женщины посещают совещание?
— Что?
— Вот-вот, Мейнц тоже поначалу поразился. Тогда и спросили, не пропала ли женщина из делегации?
— Так-так…
— Ну а когда назвали фамилию Павлины, Мейнц, естественно… Ему предложили прислать людей на опознание, но болван затрезвонил мне. Кого слать?.. Самому? Я поручил Мейнцу ехать лично и держать язык за зубами.
— Значит, вы не были на месте происшествия?
— Что вы?! Конечно нет. Я был разбит диким сообщением. Её нашли повешенной в пустой квартире, где мы обычно встречались.
— Вы сказали «повешенной»?
— Господи, не придирайтесь к словам! Я ничего не знаю! Но с чего бы ей убивать себя? Мы мило расстались. Она вся была в предчувствии новых встреч, так нежна…
— Кстати, почему она оказалась в квартире одна? Хозяйка проживала отдельно?
— Она обычно покидала нас утром, а к вечеру возвращалась. И в тот раз, когда мы проснулись, её уже не было.
— Так что же объясняет она?
— Ну откуда мне это знать, милейший Василий Евлампиевич! — возмутился Странников. — Ваш допрос становится прямо-таки пристрастным! Уж не подозреваете ли и вы меня?
— Извините.
— Ничего, ничего… Это я погорячился. А ведь знаете, Мейнц мне недавно звонил и сообщил, что Аграфена Валериановна тоже пропала.
— Хозяйка?
— Ну да. Бывшая актриса, хозяйка квартиры. Её никак не найдут.
— Какие у неё были взаимоотношения с покойной?
— Замечательные! — выпалил, не задумываясь, Странников. — Это такая женщина! — произнеся это, он вдруг переменился в лице.
— Что-то вас смутило? Кого-нибудь подозреваете?
— Не знаю… Имеет ли сие отношение к случившемуся?..
— Имеет! Сейчас малейшая деталь, ничтожная на первый взгляд нелепость имеют значение.
— Накануне той последней ночи, — начал Странников с отчаянной решимостью, — у нас с Аграфеной имел место казус. Пользуясь моим опьянением, она сманила меня на кухню, ну и мы… Нет-нет! Не подумайте что худого! Она так замечательно пела романс про поцелуй, что мне захотелось её расцеловать. Влетела Павлина и закатила сцену ревности, хотя, клянусь вам, Василий Евлампиевич, ничего такого не было.
— Выходит, у хозяйки были основания, — задумчиво констатировал Турин. — После этого она пропала из дома… Кто же обнаружил труп?
— Соседка Аграфены. Случайно зашла проведать актрису и наткнулась на труп Павлины. — Странников поник и съёжился. — Но Аграфена Валериановна на такое не способна… Убить? Нет! Не могу в это поверить…
— А не было ли у Павлины других знакомых в Саратове? — допытывался Турин. — К кому она приехала?
— К родителям Глазкина, жениха своего, так, во всяком случае, она мне объяснила. И потом, Василий Евлампиевич, подумайте, дорогой, неужели умная дама откроет свои тайны?
— Но она не жила у его родителей?
— Нет конечно. Она навещала их, интересовалась Павлом.
— Вы уверены?
— Вы самому себе-то когда-нибудь верите, Василий Евлампиевич? — горько хмыкнул Странников.
— А Глазкин, значит, так и не приехал… Странно всё это.
— Мейнц информировал меня, что руководство следственных органов дало телеграмму в Москву о его вызове.
— Так-так… И родителям сообщили?
— Надеюсь. У вас кончились вопросы? Я устал.
— Пока всё, — в задумчивости произнёс Турин, — но есть пожелание, Василий Петрович.
— Какое?
— Как я понял, вами следственные органы совершенно не интересовались?
— Нет, но…
— И о ваших связях с покойной здесь никому не известно?
— Актриса… хозяйка знает, но ей не известны ни фамилия, ни моя должность… — Странников с надеждой ловил каждое слово начальника губрозыска, казалось, теперь он понимал, куда тот клонит.
— Я посоветовал бы вам, Василий Петрович, при такой ситуации срочно выехать в Астрахань. Если можно, сегодня же. Показания с вас я снял. Этого достаточно.
— Вечером будет поезд, — вскочил тот с кресла. — Я обязательно уеду. Эта обстановка меня убивает. Если бы не Тамара, не знаю, как обошёлся бы я без доктора.
— Вот и прекрасненько. Все криминальные тонкости, если не возражаете, я возьму на себя. В местном розыске у меня есть знакомые ребятки, а старый друг лучше новых двух.
— Вот за это спасибо, Василий Евлампиевич, я на вас так надеюсь! — пожал руку Турину Странников. — С нетерпением буду ждать вестей.
— Служу трудовому народу! — без улыбки ответил тот.
— Придумать что-нибудь для Мейнца? — заглянул ему в глаза секретарь. — Болезнь жены, срочный вызов или?..
— Ничего не надо, — успокоил его Турин. — Я сам всё ему объясню. А вечером встретимся на перроне. Пусть только вас никто не провожает.
— А кому? Тамарка если привяжется…
— И её не надо.
VII
Не беспокоя высокое начальство, Турин позвонил в местный розыск давнему знакомому Андрею Шорохову и, поведав насчёт собственного интереса, попросил помощи.
— И за этим ты прикатил? — поначалу порадовавшись приезду приятеля, удивился тот. — У нас сейчас такая горячка, что и захоти я, ни одного агента в отделе не найти. С машиной выручу, если тебе куда прокатиться, а с людьми — извини. К тому же дамочек, накладывающих на себя руки по любви да по ревности, пруд пруди. Небось кокаинчиком забавлялась? Или чего похуже?..
— Чего похуже, — посетовал Турин.
— Особа-то авторитетная?
— Считай, угадал с первого раза — невеста заместителя губернского прокурора, только я тебе не говорил, а ты ничего не слышал.
— Ну, невеста — это ещё не жена, — хмыкнул тот. — Любовница!
— Сколько тебя знаю, а привыкнуть не могу, Андрей Иванович, цепкая у тебя хватка. Ещё и полдела не сделал, а расколол.
— Ладно. Что заладил — Андрей Иванович, да Андрей Иванович? Просить будешь?
— Есть намерения, — замялся Турин.
— В курсе я этого случая, Василий, — хмыкнул Шорохов. — Помогал краевому аппарату кое-какие материалы собирать, выделил из отдела им двух ребят, но решение окончательное они сами принимали. Не нашли криминала. Полный нуль. Так что успокойся. Версия была, что дамочка из состава вашей делегации, что на совещание по наводнению приехала, веселый образ жизни вела. Ты-то сам слыхал об этом совещании?
— Краем уха.
— Услышишь ещё. Вот вернутся ваши делегаты — ошарашат. Наводнение грозит Поволжью. Особенно вам достанется как самому опасному участку на Волге. Вы же на тридцать метров ниже уровня? В самой яме. Туда вода и рванёт.
— Ничего. У нас плавать умеют.
— Я бы не шутил. Слухи такие, что вода может бед натворить великих.
— Ты давай ближе к теме, Андрей Иванович. До мая ещё дожить надо.
— Ну, по делу, так по делу… — замялся тот. — Ездил я к руководителю вашей делегации, интересовался насчёт той дамочки. По паспорту она приехала к нам как раз к началу совещания. Важный он у вас, этот Роберт Янович Мейнц, на козе не подъедешь, еле уговорил его прибыть на опознание. Заладил одно — с нашими делегатками, мол, ничего подобного не может произойти, а когда привёз я его в морг, он в обморок и упал.
— Чего же это он испугался?
— Минут двадцать откачивали, а как очухался, то толком я из него ничего и не выбил. Единственное, признал её, фамилию подтвердил, уверял, что из хорошей семьи она, но про жениха-прокурора ни слова.
— Откуда ему об этом знать, это дело деликатное, — прервал его Турин. — А при нём дамочек не было, Андрей Иванович? Не брал никого он в морг на опознание?
— Нет. Один был.
— И насчёт хозяйки квартиры хотел я тебя побеспокоить.
— Хозяйка нашлась, живёт у бывшей своей прислуги на другом конце города, — сообщил Шорохов. — Неразговорчивой оказалась. С ней мои хлопцы бились несколько часов, лепечет, что про любовника ничего не знала, не видела его. Врёт, конечно. А что с актрисой поделаешь, она в годах… таблетки глотала, то и дело. Хлопцы смекнули, не быть бы второму трупу, и оставили её в покое. Испугалась до смерти, когда они сообщили ей о самоубийстве квартирантки. Доктора пришлось вызывать актрисе-то.
— Погоди, Андрей Иванович, а вот про любовника покойницы ты мне не говорил? — встревожился Турин. — Что за любовник? Откуда?
— Соседка наплела, хотя и видела его мельком, — без особого интереса отмахнулся тот.
— И что ж она калякала?
— Ну что соседка скажет?.. Больше фантазий! Седой, богатый… Они же по одёжке судят. В возрасте, одним словом. Еле ковылял, однако, сильно выпимши, может… К тому же родня какая-нибудь, а не любовник. Припёрся поболтать.
— Установили его?
— Привязчивый ты, Турин… Ну, допустим, сняла эта дамочка, ради больших денег, богатого пельменя, ему её губить какая надобность? Подумай сам. У него сил только и хватит, прости господи, её удовлетворить, а не то что повесить! Там девка — кровь с молоком! Она б его сама прибила на месте.
— Значит, не нашли поклонника?
— Ну не нашли… А кому это нужно?
— Нет, я так, — успокоился Турин, а сам подумал: «Слышал бы Странников про себя такое!.. Несдобровать бы Иванычу. А с другой стороны, Василий Петрович к подружке своей трезвым-то, видать, не являлся, вот и выглядел не лучшим образом. Само собой, соседка подрисовала из зависти».
— Ты чего примолк? — поинтересовался Шорохов. — Иссяк интерес?
— Адресочком у тебя не разживусь?
— Артистка нужна или соседка?
— Артистка.
— Дак она ж в больнице небось!
— После допросов твоих хлопцев? Хороши дуболомы…
— Ну вот, Василий Евлампиевич! — обиделся приятель. — К тебе всем сердцем, а ты задом!.. По нашим данным артистка так и не возвратилась в квартиру, у прислуги проживает. Вдвоём спокойнее. Сильно перепугалась. Хлопцам моим обещала возвернуться только после похорон квартирантки.
— Когда похороны?
— Родителей ее ждём. С ними тоже задержка. Телеграмму им выслали, однако ни слуху ни духу.
— Пожилые оба, — подсказал Турин, — может, сами на жениха надеются: из столицы завернет сюда, захватит тело домой хоронить.
— Значит, будем ждать жениха.
— Ты вот что, Иваныч, — попросил Турин. — Мне машинку бы с утра завтра пораньше?..
— Свою выделю, не переживай. Шофёр город знает, как свои пять пальцев. С ветерком прокатишься.
— К актрисе до обеда хотел сгонять, управлюсь, как думаешь?
— Считай автомобиль в твоём распоряжении, даю на весь день.
— И ещё одна просьбица… Ты уж не обессудь. Мне бы актик о вскрытии с заключением медиков?..
— Вали в кучу, магарыч всё равно за тобой, — отшутился Шорохов.
— Да хоть сейчас! Я тут неподалёку устроился. Не забыл?
— Навещу на днях.
— За полночь ждать?
— Раз знаешь, зачем спрашиваешь?
И они расхохотались.
VIII
От встречи с Мейнцем Турин ожидал многого, однако попасть в зал заседания ему не удалось. Поспешая, он рассчитывал вызвать заворготделом с совещания запиской, пообщаться накоротке в первом из подвернувшихся свободных кабинетов и бежать дальше — забот хватало. Но проход в зал ему преградил ретивый бугай из бдительных бывших пожарных или хозяйственников, мобилизованных для такого ответственного дела. Не желая представляться, Турин на ходу сочинил бдительному дежурному легенду про опоздание с перерыва из-за болей в животе, но страж порядка, смерив его подозрительным взглядом, не шелохнулся и потребовал мандат делегата. Непредвиденную осечку Турин, последние десять лет не снимавший формы, объяснил гражданским костюмом, в спешке взятом на прокат у своего зама Камытина, но бугай не уступал. Проклиная всё на свете, Турин разругался с дежурным и уж полез было за служебным удостоверением, но вовремя опомнился. Взяв себя в руки, вышел на улицу и уселся неподалёку от здания на скамеечке под липами, матюгая бюрократов и приводя в порядок совсем расшатавшиеся нервы. Выкурив несколько папирос, в конце концов он пришёл к выводу: что бог ни делает — всё к лучшему. Ему действительно расхотелось встречаться в такой обстановке с заворготделом губкома, к тому же, как известно, теперь ставшим фактически руководителем делегации и, конечно, восседавшим сейчас с важной физиономией в президиуме. Хорош бы он был, заявись туда со скандалом! Турин зло сплёвывал от нахлынувших досады и презрения, словно отрезвляясь. Забыл, зачем сюда прибыл? Как же! Начальник великий прикатил загадки в один момент разгадывать, а его по носу дворник какой-то отщёлкал!..
В сердцах раздавил каблуком очередной окурок, от папирос уже першило нутро, огляделся.
Дежурный бугай, выйдя покурить, тоже поглядывал в его сторону не без интереса. Рядом с ним маячил какой-то старик в пенсне и с клюшкой. Таращась сквозь стёкла и тряся бородой, он что-то поддакивал возмущённому верзиле. Они явно обсуждали его недавнюю выходку. «Эта сука ещё начнёт фамилией моей допытываться, — горячась, смекнул Турин. — Старичок-то из крайкома, видать, консультант какой-нибудь, ишь растрясся бородёнкой! А тому трезору выслужиться надо, доложит начальству про сачкующих делегатов, приплетёт, чего не было, ради собственной задницы. Герой!..»
Он решил прогуляться по аллеям парка. Походив, попинав листву, выкурив ещё пару папиросок, возвратился к скамейке. Совещание не закончилось, хотя заметно вечерело и времени у него оставалось в обрез. «Этот чинуша от меня и завтра никуда не денется, — рассуждал Турин по поводу Мейнца, — а вот Странников укатит в Астрахань и, конечно, обидится, не дождавшись, а ведь сам же его просил…» Между тем ему предстояла ещё одна непростая встреча, и опаздывать было никак нельзя.
Круто развернувшись, Турин пересёк дорогу и успел запрыгнуть на подножку громыхающего трамвая.
IX
Лихим хлопчиком соскочил он с площадки ещё не остановившегося трамвая и, пробежав по инерции, свернул в переулок к невзрачной пивнушке за углом. Два крепыша в кепочках на затылках, не сговариваясь, повернули к нему настороженные лица.
— Опля! Вот он я! — выкрикнул Турин, изображая что-то вроде вульгарного танца с приплясом, на два па его как раз хватило. Не вынимая рук из карманов, он подмигнул старшему:
— Не узнаёшь, Тимоха?
— Опаздываешь, начальничек, — скривил тот недовольную гримасу. — Полчаса на сквозняке торчим[22].
Парнишка помоложе, но покрепче, заходил за спину Турину, но тот, беззаботно ухмыляясь, уже налетел грудью на Тимоху и, не давая опомниться, затараторил-забубнил:
— С поезда — на ногах, пятки в кровь, угостили бы пивком старого дружка, нежели корить.
Он прижался вплотную к Тимохе, совсем растерявшемуся, и затискал его в объятиях:
— Не чаял, братан, тебя увидеть! Значится, мой драгоценный друган Кольчуга тебе разговоры вести поручил?
— Какой базар? Занемог Кольчуга, — буркнул тот, не проявляя радости, отмахиваясь, но успевать за Туриным ему не удавалось.
Тот неуловимыми прикосновениями обшарил внутренности его куртки и выхватил финку, сверкнувшую змеиным жалом. Играючи закрутив её в пальцах правой руки, Турин совсем развеселился:
— Это для кого ж такой бейбут[23], Тимох? Не обходишься ты без игрушек. Каким был, таким и остался.
— Ты чего творишь?! — ощерился бандит, отскочив в замешательстве, у его приятеля вмиг озверела физиономия, и он угрожающе сунул руку в карман.
— На кого охота, братаны? — Турин продолжал улыбаться, но в глазах его запрыгали злые бесенята, и сам он запружинил на носочках туфель в нетерпении. — Чирей на заднице Кольчугу свалил? Так и сказал бы он мне сразу. Только не верится, Кольчугу дубиной не угробить. А с вами, шавками, дел иметь не собираюсь, — он сплюнул под ноги пыжившемуся молодому, — на кой чёрт мне с вами лясы точить?
Оба пригнулись, готовые броситься на него, ожидая удобного момента, но Турин согнал фальшивую улыбку с лица, одарил Тимоху уничтожающим взглядом и небрежным броском вернул финку.
— Не желает помочь ваш пахан, так бы и ответил. Чего икру метал? Вы здесь, похоже, забыли Штыря? Так я шепну ему при случае, как встречают земляков в Саратове.
Имя, произнесённое в сердцах Туриным, возымело на обоих бандитов магическое действие. С них пыл слетел в считанные секунды, и боевая ярость обратилась растерянностью. Переглянулись, смешавшись, а Тимоха даже шею вытянул в большом изумлении:
— Погоди… Божок! Погоди, Василий Евлампиевич…
— Чего уж годить!
— Кольчуге ж малява пришла, что отпрыгнулся[24] ты без согласия общества, легавым заделался и нашим браткам, урками, того… тюряги конопатишь.
— Кто тебе пролаял, шавка, что без согласия общества? — огрызнулся, не моргнув, Турин. — Не по твоей башке такие дела. Кольчуге передай, чтоб спросил тех, кто его повыше, раз сомневается. А у меня времени в обрез. Если веры мне нет, убирайтесь к чёртовой матери, но пеняйте на себя! А готовы помочь, двигайте за мной, — и он шагнул к пивнушке. — У меня горло пересохло от пустой болтовни. Там поговорим, надеюсь, место удобное.
Не сговариваясь, оба, как побитые дворняги, поспешили за Туриным.
X
На вокзал теперь Турин безнадёжно опаздывал и надеялся на одно — по какой-нибудь счастливой случайности поезд прибудет на станцию с опозданием, либо его задержат с отправлением здесь. Должно же ему повезти хотя бы в завершении этих хлопотных суток, которым не виделось ни конца ни края.
Паровоз стоял под парами, и ёкнуло сердце — есть на небесах неизвестный святой покровитель и для сыщиков. Хорошего да могучего не выделил Зевс, верховодивший там ещё до Христа, но в сыскном деле, конечно, и в те времена нуждались, был же у вояк Марс, у охотников — Артемида, у любовников — Венера, даже пьянчужки и те своего Бахуса почитали, поэтому сыщиков тоже обнести не могли при раздаче. Не известен никому, но зачем ему популярность, тем более известность, сыщик должен быть невидим, неслышим, неуловим, одним словом, его сплошь должны окружать тайны. Рассмеявшись своим мыслям и довольный чудной, но вполне подходящей догадке, Турин глянул на небо, желая удостовериться, не подмигивает ли ему с небес его покровитель, выручивший с поездом, но тёмное небо висло над ним и даже луна не удосужилась выкатиться полюбоваться, посветить суетящимся отъезжающим людишкам.
А народу на перроне действительно было больше, чем муравьёв на потревоженной куче. Неслись в разные стороны, сталкивались, бранились, но всё без зла, до драк не доходило — спешили кругом, паровоз никого ждать не будет.
Вспомнив наставления Странникова, что дождётся тот его в середине состава у ресторанного вагона, Турин заработал локтями. По понятным причинам выбрал место секретарь неслучайно, и Турину предстояло изрядно попотеть. Но это была конкретность, скрывающая житейский смысл — не рыскать в поисках по всему перрону. И всё же, как он ни старался, далась ему желанная цель с большими усилиями — плотная двигавшаяся человеческая стена сбивала дыхание, а надо было ещё и продвигаться вперёд. Перрон пестрел мешочниками, что уж они везли в своих необъятных баулах, догадаться было невозможно, но добра своего носильщикам не доверяли, да и те вряд бы пробились в такой толчее.
«В крайнем случае запрыгну в ближайший вагон, если поезд тронется, — лихорадочно оглядывался по сторонам Турин, не теряя надежды, — пробегусь по составу, ресторан уже близко, а говорить-то нам с ним особенно не о чём, ничего особенного я не накопал, молодчики Кольчуги заработают только сегодня ночью, пошукают среди урок, может, будет какой навар насчёт убийцы, а сам Странников вряд ли новенького сообщит. Главное — встретиться, как договорились, в противном случае обидеться может секретарь. А после выпрыгну на малом ходу где-нибудь на повороте…»
Но совершать подвиги Турину не пришлось, паровоз посвистывал, пыхтел, обдавал баламутившуюся толпу парком, но не трогался, и он наконец добрался до нужного вагона. Протиснулся к проводнику, сунул ему краешек удостоверения и сумел влезть на несколько ступенек, откуда, с трудом отдышавшись, начал разглядывать народ, отыскивая высокую, бросающуюся в глаза фигуру ответственного секретаря.
Поблизости, в радиусе нескольких вагонов, ничего подобного не наблюдалось. Турин не поверил себе, ещё пристальнее и как можно спокойнее вглядывался в каждого более-менее приметного мужчину, искал знакомое лицо. Но тщетно! Странникова не было. Он нагнулся к проводнику, перекрикивая шум, спросил:
— Ресторан рядом?
— Да чего ж вам туда? — удивился тот. — Вон он, рядышком. Только рано ещё. Закрыт. Вот тронется состав, я попрошу, если нутро горит.
— Горит, горит, батя, нутро, — выругался Турин. — Только не по той причине, что думаешь. Товарища увидеть надо. Договорились здесь. Не спрашивали милицию?
— Слава те Господи! — чуть не перекрестился тот. — И без того голова кругом идёт. Сам видишь, дорогой товарищ, что творится!
«Странников бы спросил про меня, непременно спросил», — переживал Турин.
Пропуская мимо себя матерящихся, рвущихся в вагон людей, повиснув на краешке лестницы, он обшаривал толпу снова и снова насколько хватало глаз, но секретаря не наблюдалось среди опоздавших, не было его и среди провожавших. Получалось так, что никто не ждал Турина на перроне.
«Выходит что же, не поехал Василий Петрович? — мелькали новые мысли. — Что ещё могло приключиться? С билетом у него проблем быть не могло. Тамара задержала?.. Да нет! Хватит с секретаря и того, что пережил. А не потревожил ли его Шорохов? — эта мысль была совсем шальная, но, осенив Турина, она сразу засела в голове. Он очень хорошо знал своего друга, дотошного в сыскном деле, каких поискать днём с огнём. — Зря я его растревожил своими расспросами да догадками, — каялся и ругал сам себя Турин. — Я ж вывел его на версию о любовнике. Андрей Иванович на лету за неё ухватился. С чужих глаз истина всегда виднее, вот его и раззадорило. Ох, не к добру это! Не послал бы он своих молодцов снова к актрисе, а та возьми и расколись, выдай им всё про Василия Петровича. После этого отыскать Странникова Шорохову раз плюнуть. Он и начальству краевому нос утрёт. Странников-то сразу перед Шороховым размякнет. Это с виду он грозен, а на расправу слаб. Вспомнишь, как он удирал от толпы, мальчишку-персюка угробив, весь его дутый героизм к чертям собачьим разлетается. Смех и горе!.. Наговорит с перепугу Шорохову такого, чего и не делал никогда…»
Турин похолодел от этих мыслей, а паровоз, подав гудок, дёрнул между тем вагоны, дёрнул второй раз, и они потихоньку-полегоньку покатились, поскрипывая, постукивая по рельсам.
— Прощевайте, дорогой товарищ, — подтолкнул его, жалеючи, проводник, встав рядом. — Так и не пришёл ваш дружок?
— Успеха! — махнул рукой Турин, соскочив на перрон.
Он шёл и, не веря, заглядывал в окошки, мелькавшие перед ним. Лица Странникова не появлялось.
«Да нет, нет оснований особенно переживать, — пробовал успокаивать он себя. — Странников не убивал Павлину. Ну, наговорит сто вёрст лесом. Шорохов-то не дурак, поймёт, с кем имеет дело, накручивать не станет, а завтра я сам подскочу. К Мейнцу надо попасть сегодня. Пусть Тамаре позвонит. Сегодня всё и прояснится, нечего гадать!»
Турин доехал на трамвае до той же остановки, с которой отправился в путь, здание издали выделялось светящимися окнами, но народ уже высыпал на улицу и делегаты, группками собираясь вокруг своих руководителей, продолжали обсуждать различные темы. Соскочив с подножки и закурив, он прошёл к пустовавшей знакомой скамейке и, присев, начал высматривать Мейнца. Заворготделом находился недалеко, в окружении нескольких женщин и мужчин, забрасывавших его вопросами. Из долетавших до него фраз Турин догадался, что разговор шёл о предстоящем наводнении. Стараясь оставаться незамеченным, он приблизился к кучке людей, облепившей Мейнца. Тот азартно убеждал особо волновавшихся, что властью будут приняты меры по предотвращению нежелательных последствий. До Турина долетели гневные его слова:
— Ничего страшного не случится! Город от беляков отстояли в Гражданскую войну, не дадим затонуть и теперь. Любое паникёрство делегаты должны пресекать, а вас самих приходится успокаивать. Давайте крепить наши ряды, товарищи!
— Выступить бы Василию Петровичу завтра! — кричали ему. — Попросил бы он для нашей губернии средств. Не помешало бы.
— Своих сил может не хватить! Пусть попросит!
— Странникова подымайте! Хватит ему болеть!
Последний призыв бойкой делегатки вызвал смех у некоторых, женщины зашушукались между собой и откровенно развеселились. «Все его похождения знают, заразы! — подумал Мейнц. — И про шашни с этой Тамаркой им уже, наверное, известно».
— Странников срочно выехал в Астрахань, — подняв руку, Мейнц пресёк галдёж. — Не стал дожидаться Василий Петрович окончания совещания, поехал мобилизовывать население, чтобы достойно встретить стихию, организовывать новую обваловку города и населённых пунктов, устранять слабые места. Да и на низах народ надо убедить перебраться на бугры вместе с крупным скотом и другой живностью.
— Вот и правильно! — посыпались советы уже со стороны мужчин. — А мы здесь штаны протираем! Надо заканчивать! Ехать всем! Нечего ждать!
Мейнц опять поднял руку:
— Совещание подходит к концу. Получим задание, товарищи, и организованно все отправимся. Нельзя допускать анархии.
«Значит, Странников всё же уехал… Что же случилось? — задумался Турин. — Дождусь Мейнца, расспрошу его сам».
И он, прислонившись к дереву, полез за папироской.
Ждать и томиться ему почти не пришлось, уставшие и наговорившиеся делегаты потянулись в гостиницу. Не спешил уходить только Мейнц. Он устало обменялся несколькими фразами с таким же, как он, руководителем другой группы делегатов, искоса следя за уходящими, а затем, когда из вида скрылся последний, сухо распрощавшись с собеседником, развернулся и отправился к трамвайной остановке. «Что бы это значило? — удивился Турин. — К последнему трамваю намылился наш ответственный товарищ? Куда это его на ночь глядя понесло?»
Осторожно он двинулся следом, не переставая гадать: «Странников рассказывал о донжуанских проделках своего помощника, однако то было в гостинице. К кому же теперь отправился этот неугомонный?»
Желающих укатить трамваем набралось предостаточно. Предоставив Мейнцу возможность протиснуться вперёд, Турин незамеченным обосновался на задней площадке. Заворготделом проехал две или три остановки и начал пробиваться выходить. Народу вывалилось немало, но улица, на которой они оказались вдвоём, плохо освещалась, и Турину не составило труда незаметно следовать за торопящимся заворготделом. У выделявшегося размерами особняка с фонарём над входными дверьми Мейнц остановился, позвонил и неожиданно оглянулся. Спас Турина высокий тополь, за который он успел юркнуть. Между тем Мейнца в доме поджидали. Засветилось несколько окон, дверь распахнулась, и Турин чуть не ахнул от удивления: на пороге стояла Катерина Венокурова в легкомысленной прозрачной накидке, наброшенной на ночную сорочку.
— Припозднился сегодня, дорогой, — поцеловав заворготделом, она пропустила его вперёд.
— Столько вопросов, Катенька! Столько проблем! — юркнул тот внутрь дома и дверь захлопнулась.
— Мать честная… — не верил своим глазам Турин. — Чего же это творится?
XI
После убийства Павлины, оставшись один на один с тайной её гибели, Странников перепугался не на шутку. Забросив заседания в комиссии по наводнению, за бутылкой водки и в объятиях Тамарки он искал забытьё и избавление от мучений, но покоя не обрёл. Как в пьяном бреду помнил: вроде разыскал его примчавшийся будто из Москвы Глазкин, вёл какие-то разговоры насчет гибели невесты, делился своими догадками, но он ничего не понимал из его заумных бредней, отмахивался от прокурора; тот, наконец, пропал, словно и не появлялся. Он винил во всем водку.
Здравая мысль, ещё державшаяся в его голове, тревожила возможностью глубокого запоя, тогда и родилась другая — вызвать в Саратов Турина: начальник губрозыска ему предан, несомненно, имеет знакомых среди местных ищеек, он поможет решить проблему.
Перепоручив приехавшему Турину заботы о причинах гибели невесты Глазкина, будто свалив тяжкий груз с плеч, Странников в тот же день напился, уснул на плече сердобольной подружки и проспал до самого утра. Очнувшись и вспомнив про поезд, про напрасно прождавшего его на вокзале Турина, он расстроился снова и, запохмелявшись уже надолго, отошёл от пьяного угара лишь на третьи сутки к ночи. Восстанавливаясь рассолом и примочками Тамарки, заснуть уже не смог. Глядя с ненавистью, как та беспечно захрапела, лишь отвернулась спиной, он вскочил на ноги, заметался по комнатам, не зажигая света в темноте и натыкаясь на мебель, пока не затих подле окна. Распахнув форточку и глотнув свежего воздуха, нашёл папиросы и не мог накуриться. Так и просидел до самого утра — его тревожила собственная судьба и ситуация, в которую он влип. Завистники и враги постараются разнести слухи и, конечно, извратят всё так, что худшего не придумать. Ладно бы брехали здесь, всё станет известно дома, но благодаря этой сволочи Венокуровой с её связями грязная молва быстро достигнет источников в верхах, а там и до высшего партийного эшелона докатится. Тогда ему несдобровать, да что там! Тогда ему просто не сносить головы!
Действовать следовало немедленно и решительно! Надо самому срочно ехать в Москву, падать в ножки помощнику Лазаря и решать проблему!
Теперь, поумнев от свалившихся забот, он продумал до мелочей все детали своего будто бы делового визита в столицу. Позвонив и доложив помощнику о своём скором приезде в Москву по хозяйственному вопросу, больше не заикнулся ни о чём. Напомнил, что едет из Саратова, поэтому без сувениров. Он не просился к Лазарю на приём, тем более — домой на ужин. Промолчав, пожелал удачи, стал прощаться, но помощник перебил его, сообщив, что Каганович сам на месте и желает с ним говорить.
Странников затаил дыхание. Лазарь, как обычно, прокашлялся и, не здороваясь, приказал немедленно выезжать к нему. Этого Странников, научившийся извлекать уроки из неудач и поражений, только и дожидался.
XII
Пропьянствовав и потеряв почти неделю, он теперь лихорадочно бросился навёрстывать упущенное.
Накупив ворох газет на вокзале и разместившись в вагоне, Странников заказал несколько стаканов чая, принялся за них. Интересовался передовицами и статейками с первых двух страниц. Вчитывался, пытаясь ухватить главное, снова и снова анализируя прочитанное, старался понять, что произошло нового в затянувшемся противостоянии двух партийных лидеров — Сталина и Троцкого. Он чуял недоброе, жгло от строчек газет накалом борьбы и бурей, готовой вот-вот разразиться.
Это ещё более расстраивало. Ночью сон его не свалил. Покачиваясь и трясясь на полке, — машинист, видно, порядком запаздывая, гнал паровоз, не снижая скорости даже на перегонах, — Странников мучился, ворочался с боку на бок, невольно перемалывал заново всё, что ему было известно о нескончаемой сваре двух вождей, захватившей теперь уже всю партию без остатка.
Думать было о чём.
Отношения Кобы[25] и Бронштейна[26] не заладились сразу, антагонизм возник задолго до того, как эти два известных в партии человека встретились воочию и не подали друг другу рук. Обострились — после смерти Ленина. Разные ползли слухи: что Ленина угробили врачи — евреи и немцы, война с которыми была свежа в памяти. «Доверить такого великого человека фрицам! — шумели по базарам. — Когда ж видано было, чтобы вождя добровольно отдавали под нож лютому врагу? Не иначе измена! И кто же до такого мог додуматься?» Другие болтали, будто вождь сам принял яд, чтобы не мучиться от сильных головных болей, а яд будто выпросила для него Крупская, которая вовсе не жена, а подруга и прислуга, приставленная к больному вместо сиделки. Самому Сталину и передала просьбу Ильича секретной запиской, так как больного давно отстранили от дел, вывезли тайно из Кремля и держали до самой смерти в какой-то деревушке, не подпуская никого, даже надёжных его товарищей: Ворошилова, Будённого да Калинина. Сталин, мол, командовал, грузин, он яд подсунул, избавив от мучений. Эта чушь с долями правды вперемежку гуляла по людским низам, баламутила умы. Тех, кто разносил её, хватали агенты ГПУ, и Трубкин сам допрашивал. Он перестал спать ночами, выискивая сочинителей или тайную организацию, но попадались ущербные, а то и совсем полоумные. Сажал всех без разбору и скидок, каждое утро докладывая Странникову возрастающее количество врагов народа.
Посерьёзнее разговоры Странников сам слышал от достойных людей в краевом партийном аппарате, сообщалось это туманными намёками, без ссылок на источники, но иначе как сплетнями назвать их тоже было нельзя. Шептали, что Троцкий, затаив обиду на Сталина, создал оппозицию и начал тайную войну. Естественно, он и есть автор всех измышлений, а мстил грузину за то, что тот нагло обвёл его вокруг пальца с той самой гибелью Ильича.
Коварным способом Сталин использовал будто бы трагическую кончину вождя для достижения своей цели — занять его место; зная о близкой смерти, а возможно, и готовя ему безболезненную смерть, о чём тот действительно просил, организовал заседание Политбюро, на котором ни с того ни с сего вдруг лично высказал озабоченность состоянием здоровья Льва Давидовича, погоревав над тем, не потерять бы партии сразу обоих бойцов и предложил, — как оказалось, за несколько дней до смерти Ленина! — отправить Троцкого с женой лечиться в Сухум.
Что такое ехать в Сухум во время диких январских морозов, используя проклинаемую всеми железную дорогу? Это смерти подобно! Троцкий действительно температурил, уже не имел личного бронированного поезда, и рассчитывать на комфорт и прежние блага ему не приходилось. Герой Гражданской войны и создатель победоносной Красной армии рядовым пассажиром должен был отправиться в плачевное путешествие — с глаз долой. А доберётся ли живым до места — одному Богу известно. Льва Давидовича грызла неведомая болячка, температура не спадала, но возразить Политбюро он не мог, вслед за Сталиным все дружно подняли руки, один Лазарь Каганович без сочувствия улыбнулся бедному еврею, но руку свою задрал выше остальных. Если раньше он тайно сочувствовал Троцкому, то пора эта давно канула, всякие отношения с ним он прекратил. Рука помощи тонущему вредна, она удлинит агонию, рассуждал Лазарь, нужен камень на шею, и он, не задумываясь, его накинул.
Не успел Троцкий с женой добраться до Сухума, как Сталин огорошил его телеграммой о смерти вождя, а когда тот в ответ выразил горячее желание ехать назад и присутствовать на похоронах, ему последовал изуверский ответ, что выезжать нет нужды, не успеет. Сталин врал заклятому врагу — если бы Троцкому было разрешено выехать, он успел бы — похороны Ленина состоялись позже объявленной Сталиным даты.
Сталин попросту запер врага в углу, опасаясь его присутствия на грандиозных похоронах, которые организовал, дабы поразить весь мир своей любовью к ушедшему навеки. И ведь кинокамеры действительно снимали слёзы на глазах железного Кобы, произносящего слова клятвы у гроба. Он сделал своё дело, прекрасно зная правило — кто хоронит вождя, тот занимает его место. Он сознавал и то, что появись Троцкий возле гроба и скажи так, как он один умел говорить, не только равнодушные, но враги устроили бы ему овации, вознесли на руки и провозгласили бы своим идолом.
Троцкий прознал про коварную интригу Кобы спустя несколько дней, когда по радио началась трансляция похорон и загудели протяжными голосами тысячи заводов и фабрик, поездов и пароходов. Попискивали и в отрезанном от всего мира Сухуми. Потом уже, мучаясь на лежаке у моря, Лев понял, что салютовали не только умершему, но и утвердившемуся на троне новому вождю. Подводилась черта и под его собственной дальнейшей карьерой. Там, на пляже, он уже поджидал верных сталинских волкодавов, посланных нанести ему смертельную рану, но Коба дрогнул, он ещё опасался открыто покончить с раненым Львом. Он знал, что многие делали ставку на врага, а значит, — верили ему.
И действительно, в Сухум полетели телеграммы с сочувствием, с соболезнованиями по случаю смерти Ленина. Крупская и та решилась, не испугавшись ненавистного ей грузина. Потеряв поддержку Ленина, товарища и соратника, она утратила всякую надежду на защиту от своры, возглавляемой Кобой, и теперь в Троцком видела политика, за которого могла уцепиться и спастись. Ей вдруг вспомнилось, как дружески похваливал Льва Давидовича Ильич, прочитав за месяц до своей смерти его бесценное письмо, которое в дальнейшем оказало большую услугу в борьбе с Кобой.
С той же целью Троцкому высказали сочувствия вечные оппозиционеры большевиков: Каменев и Зиновьев. С Каменевым, к которому попал текст утаённого Сталиным завещания Ленина, они придали его содержание гласности. Текст переписывался от руки, перепечатывался на пишущих машинках сотнями мятежных добровольцев и тайно распространялся прежде всего среди молодёжи. Те, в свою очередь, под видом листовок разбрасывали их на заводах и фабриках, в учебных заведениях. Известна древняя мудрость — ничто так быстро не становится явным, как тайное; ничто не желается так горячо, как запрещённое. Камень был брошен в воду и родил огромные волны.
Агенты ГПУ сбились с ног, но бороться с этим было бесполезно. Загоревшись лёгким пламенем, эта борьба грозила полыхнуть настоящим пожаром. Текст завещания обсуждался уже на тысячах тайных собраниях, а ведь партии предстоял очередной съезд, и теперь уже никто не мог твёрдо сказать с уверенностью, устоит ли Генсек, как и чем всё закончится. Троцкий давал понять, что он готов открыто драться со Сталиным, хотя Сталин уже погнал его из военных министров, передав пост молодому Фрунзе.
Но вдруг Коба впервые дрогнул.
В письме Ленина съезду, получившем название «завещание», вождь ясно высказался, что Сталин не достоин возглавлять партию из-за грубости и других, несовместимых с должностью Генерального секретаря качеств характера, что следует избрать другого, но кого, чётко не обозначил, дав характеристики многим претендентам. Подразумевать можно было и Троцкого, и Кирова, и даже Фрунзе.
Сталин изменился. Его было не узнать. Практически он перестал выступать публично. Странникову однажды повезло, он сумел пробиться до Лазаря и прямо спросить его, что происходит, как действовать? Тот, дико захохотав, назвал «завещание» чудовищной провокацией, вражеской брехнёй, и заявил, что партия найдёт достойный ответ вылазке противника. Вскоре из того же источника в окружном аппарате дошли слухи, что Сталин повёл себя совсем неадекватно и якобы высказался на Политбюро, что отказывается от полномочий Генсека, раз ему не доверяют и подозревают в грязных махинациях. В эти дни Странникову посчастливилось быть в столице, и вечером он отправился к Лазарю домой. Тот не выразил особой радости, но встретил по-прежнему доброжелательно. Пока беседа шла о делах на Каспии и Волге, хозяин демонстрировал любезность, Мария угощала чаем, но только Странников заикнулся про злополучный отказ Сталина, Лазарь взвился в гневе и почти выкрикнул, притопнув ногой: «Наглая ложь! Как ты, верный нашему делу товарищ, мог в такое поверить? Подобные грязные вымыслы следует выжигать калёным железом! У тебя начальник ГПУ мух не ловит! Упрячь его за решётку! Понял?» — «Так точно», — ответил он. «А насчёт Иосифа скажу так, — неистовал Лазарь, — даже если бы он и подумал, ты понимаешь?.. Только подумал об этом, мы бы не дали ему вымолвить таких слов! Назад дороги нет. Поганую оппозицию и зарвавшегося жида Троцкого я сам расстреляю, как это делал на Украине с непокорными хохлами!»
Вечер этим и закончился, Странников заспешил восвояси, Мария выбежала с кухни, ничего не понимая, но дверь за ним уже захлопнулась.
XIII
И вот он наконец снова в Москве! Тот же коридор. Он опять шёл, волнуясь и печатая шаг за сопровождающим, старался не отставать. Замерла спина впереди, и рука офицера уже готова была коснуться ручки двери, как она сама распахнулась и Каганович вырос на пороге:
— Разворачивайся! — без приветствия бросил он Странникову. — Поедешь со мной.
Уже в длинном чёрном лимузине, устроившись на заднем сиденье и отгородившись от водителя надёжной перегородкой, он усмехнулся побледневшему от недобрых предчувствий Странникову:
— К Иосифу! Задурил кацо!
Такого начала ещё не было, да и сам Каганович выглядел необычно, всегда спокойный и вальяжный, теперь он едва сдерживался и гнал шофёра по улицам с предельной скоростью, хотя до Кремля было рукой подать.
— Совсем задурил, понимаешь? — как-то даже с грузинским акцентом получалось у него, вертевшего в руках чётки, мелькавшие в его сильных руках и готовые разорваться и разлететься, отчего Странникову совсем стало не по себе.
— Заявление решил сделать наш гордец! И это перед самым важным моментом! Подумать только… Достали его эти твари, Троцкий, Каменев и Зиновьев! Опять он хочет подать заявление об уходе с поста! Ну, прямо, мальчишество!
— А может, это ход? — робко заикнулся Странников.
— Какой ход? Какой ещё ход? Это в Одессе дед Моня может себе позволить сделать ход к соседке Саре. И то тайком, когда все уснут, а не в открытую! А нашему грозному Кобе?.. Кто ему дорогу перебежал? Эти грязные шавки? Нет, он заболел. Я бы посоветовал ему понаблюдаться у врача… Если бы две головы имел, а не одну… Нет, это никуда не годится!..
Странников начал догадываться, о чём речь, но помалкивал. Лазарь был в таком состоянии, что скажи слово, угоди невпопад — несдобровать.
— И ведь не единственный этот срыв… Нервы! В прошлый раз мы его пристыдили. Удержали. Теперь вот снова!..
И осёкся, пронзил глазами Странникова:
— Что вытаращился на меня? Вспомнил тот разговор? Врал я тебе? Так?..
Странников готов был провалиться.
— Ты что же, хотел, чтобы я признался тебе в слабости нашего великого Сталина?
Последняя фраза не была похожа на издёвку. Лазарь почти выкрикнул её.
— Проявил он тогда слабость. Живой всё-таки человек. С кем не бывает? Но понял заблуждение, поставили мы его на место… — Лазарь замолчал, но чувства его не стихали. — Слушай! Куда ему уходить? Тогда не следовало бы и начинать! Закручивать такую мировую круговерть! Правильно я говорю?
И снова акцент пробился в его эмоциональном неудержимом всплеске.
— Чтобы Троцкий и Каменев Россией правили? Евреи не помнят, когда государство своё потеряли, а тут им готовенькое подай! Они его в два счёта растащат, если раньше не продадут!
Странников совсем съёжился, всякое ему приходилось видеть и слышать от Лазаря, но всё это было впервые.
— Ты говоришь, это ход? — вдруг спросил тот, словно опомнился. — Нас проверить? Мы — его верные товарищи — десятки, сотни раз проверены. И не так, а кровью! — Лазарь помолчал, выдохнул последнее: — Это невозможно.
И отвернулся, коснулся лба, потёр, словно снимая раскаливший его пыл:
— А впрочем, почему и нет?.. Коба может себе всё позволить… Почему перед решающим боем не проверить кое-кого?.. Это правильный шаг!
Он повернулся к Странникову, прищурил один глаз, подытожил:
— Слушай, а ты не так прост, каким кажешься. Извини, конечно, не то хотел сказать… Толково мыслишь, вот с чем хотелось тебя поздравить.
И он пожал ему руку:
— Не ошибся я в тебе. Правильно подметил — проверяет нас Коба. Вот и узнает, кто и про что тайно помышляет. А вдруг найдётся умник, клюнет и попросится на его место, а? Верно рассудил, дорогой!
И опять этот знакомый акцент — новое в речи. Лазарь поразил Странникова, и он передёрнул плечами, боясь ошибиться.
— Конечно, опасность велика, — продолжал Лазарь. — Дураком надо быть, чтобы на это клюнуть. Коба слово сказал, Коба его и назад заберёт, а предатель — на ладони. Коба его и прихлопнет!
Дальше ехали молча. Лазарь покашливал, дёргал чётки, Странников ждал момента, чтобы заикнуться о себе.
— Я тебя зачем везу-то?.. — уставился Лазарь вдруг на Странникова. — Соображаешь?
— Не совсем, Лазарь Моисеевич.
— Иосиф любит поговорить с людьми из глубинки. Ему это в большую радость. Он чует, что там творится, но это его домыслы, а ему хочется услышать из первых уст. Понимаешь? Не часто теперь ему выезжать удаётся самому. Тоскует он, на нас гнев срывает. И эта неуверенность вот такими выходками завершается… Спрашивать тебя будет, догадываешься, как отвечать надо?
Странников неуверенно кивнул.
— Ты веселей, веселей! Нос-то подыми! Сейчас ему важно бодрость увидеть в вас, которые там, в глубинке. Не оплошай.
Странников почувствовал, как запотевают грудь и спина, всего так и обдало испариной, понял, что пришло его время, и он выпалил:
— Лазарь Моисеевич, у меня на службе накопились кое-какие вопросы, хотелось с вами посоветоваться.
— Потом, — бодро сверкнул тот глазами. — Все твои вопросы разрешим. Не о том думаешь, секретарь. Чего покраснел, как рак? Смелей, каспиец! Последний гвоздь забьём в гроб поганого троцкизма и погуляем на славу! Приеду к тебе. Удочку найдёшь от всех забот расслабиться да рыбку ту, чудную, половить? Я же Кирову о тебе рассказал, а он позавидовал, просил с собой его захватить. Смеялся, мол, был там, но ловить приходилось не рыбку, а контру.
Странников открыл было рот, но сказать ничего не успел, автомобиль въехал в Кремль, солдат козырнул перед воротами.
XIV
У дверей приёмной Лазарь обернулся к нему:
— Не отставай. Поскрёбышев[27] будет спрашивать, скажешь — со мной.
Странников плотно сжал губы, его почему-то била мелкая дрожь.
В приёмной никого не было, только крепкий лысый человек, сразу не замеченный, поднялся от дальнего столика, пошёл навстречу Кагановичу.
— Я первый? — расплылся в улыбке Лазарь.
— Как всегда.
— Один? — кивнул Каганович на дверь.
Поскрёбышев повернулся к Странникову:
— А это кто с вами? Он знает?
— А-а-а… — махнул рукой Каганович, уже не оглядываясь и открывая дверь кабинета. — Рыбак с Каспия. Мой подарок Иосифу Виссарионовичу. Пусть подивится.
Поскрёбышев покорно склонил голову.
— Давай, давай! — потянул Каганович застывшего Странникова за собой так, что тот едва не споткнулся. — Некогда прохлаждаться. Сейчас нагрянут опоздавшие, а мы уже тут. Потом не до тебя будет товарищу Сталину.
И он почти дёрнул его за собой за порог кабинета, где у окна, к ним спиной, будто в тумане, маячила фигурка коротконогого хозяина, покуривающего трубку.
— Вот, Иосиф Виссарионович, гостя тебе привёл! — подтолкнул Лазарь Странников вперёд, когда они подошли ближе. — Получай тёпленького. Ты же любишь из глубинки. С Каспия. Секретарь губкома товарищ Странников.
— Здравствуйте, — вынув трубку изо рта и сделав несколько коротких шажков, протянул руку Сталин. — Не шутит Лазарь Моисеевич? Он у нас большой шутник. Сегодня приехали?
— Не до шуток! — вмешался Каганович. Он обежал их кругом, примериваясь к графину с водой на столе. — Горю весь, так торопился! Выпью стаканчик?
Сталин продолжал оглядывать Странникова, высвободив руку и слегка потирая её другой. У Странникова заметно подрагивали ноги.
— Два дня в столице, товарищ Сталин, — выдавил наконец он из себя.
— До Каспия мне добраться не удалось, — Сталин затянулся трубкой, пуская дым тонкой струйкой, поморщился. — В Царицыне мы с Климентом Ефремовичем задержались… Но отпор врагу дали. Достойный отпор! — он подтвердил слова лёгким движением руки, согнутой в локте.
— И коварным троцкистам отпор дадим, товарищ Сталин! — выпалил, не помня себя, Странников, осёкся и щёлкнул зачем-то каблуками по-военному.
— Служил?
— Так точно!
— Ты его спроси, спроси, Иосиф Виссарионович! — подскочил ближе Лазарь со стаканом в одной руке и с графином в другой. — Как у него на Волге с троцкистами? Он ведь не в пример нам с тобой разогнал их всех к чертям собачьим!
— Сергей Миронович Киров головы главным срубил ещё в девятнадцатом, — опять щёлкнул каблуками Странников. — Нам не оставил почти ни одного. Так, мелочь пузатая. Не высовываются.
— Ты не стучи каблуками-то, не греми, — захохотал Каганович и дружески хлопнул Странникова по плечу. — И отсюда мы их скоро погоним. По всей стране. Не распугай их сапогами раньше времени. Нас без дела оставишь.
Вслед за Кагановичем криво усмехнулся и Сталин, не спуская прищуренных глаз с гостя:
— Чем озадачена партийная организация в Поволжье, товарищ Странников?
— Наводнением! — не задумываясь, гаркнул тот.
Сталин с Кагановичем переглянулись.
— Чем? — переспросил Сталин, явно озадаченный неожиданным ответом. — Мне не докладывали.
— За советом в столицу прибыл, товарищ Сталин. Боимся, что своих средств не хватит на обваловку города и населённых пунктов на низах. Большая вода ожидается.
— Деньги не главное. Деньги найдём, — покачал головой Сталин, выражение его лица стало жёстким, зло сверкнули жёлтые зрачки глаз. — Народ подымайте. Сплотить его надо вокруг партии, тогда никакая стихия не страшна.
— Так точно, товарищ Сталин.
— А как у нас в Москве с этим? — повернулся Сталин к Кагановичу. — Почему я ничего не знаю?
— Москве такое не грозит, Иосиф Виссарионович, — с Лазаря вмиг слетело благодушие, осторожно вернув графин на место, он застыл, даже вытянулся, словно ждал команды.
— Ты Поскрёбышеву подскажи, чтобы к вечеру по этому вопросу обстановку доложил, — косо глянул Сталин на Кагановича. — Увлеклись мы троцкистской мразью, про людей, про жизнь в стране забыли, а она летит… Как с рыбой, товарищ Странников? Не прижимают вас кустари да частники, условия не диктуют?
— Все годы уловы на должном уровне, товарищ Сталин, — Странников наконец-то сумел глубоко вздохнуть и почувствовать облегчение. — Частника держим в кулаке.
— В кулаке?.. — Сталин задумался. — А ведь каламбур получился. Мы у себя как раз тоже проблемы кулака решаем. Не найдём согласия, как отличать кулака от середняка, а середняка от нашего друга — бедняка. А вы, значит, просто решаете задачу: кулака — в кулак?
Сталин криво усмехнулся, затянулся трубкой, покачал головой:
— В кулаке его держать надо, только не придушите раньше времени. Кулак да крупный частник нам ещё нужны, скажем так, — капиталы их необходимы стране. Перегибать ни к чему. Это курс Ильича.
— Так точно, товарищ Сталин! — Странников снова по-солдатски вытянулся.
На пороге кабинета неслышно появился Микоян, нерешительно замер:
— Разрешите, товарищ Сталин?
— Вот, — ткнул трубкой тот в сторону Странникова, — Лазарь порадовал нас гостем с Каспия. Хорошие вести привёз товарищ.
— С Кавказа? — встрепенулся Микоян.
— С Волги, — поправил Лазарь. — Ты уж и обрадовался.
— Крепка, говорит, партийная дисциплина на местах, — не то сомневаясь, не то подтверждая, тихо, будто разговаривая сам с собой, Сталин пытливо перекидывал взгляд с Кагановича на Микояна. — Получается, только в центре у нас разболтались паршивцы! Как же мы допустили?..
Заглянул в дверь Молотов, за ним маячила фигура Ворошилова.
— Заходите, заходите, товарищи, — вяло махнул им трубкой Сталин. — Долго запрягаете, но как раз вовремя поспели, — он протянул Странникову руку. — До свидания, товарищ Странников. Привет большевикам Волги и Каспия. В своё время товарищ Киров отстоял ваш город от белогвардейщины и мятежников, не сомневаюсь, что справитесь и вы с природной стихией. А когда справитесь, дайте знать.
— Спасибо, товарищ Сталин!
— И чтобы у вас там не было других забот, кроме природных катаклизмов.
Странников собрался ещё что-то сказать, заверить, поблагодарить, но Лазарь уже подталкивал его к двери:
— Позвони, как домой доберёшься, — шепнул он, похлопывая по плечу. — Молодец, дорогой, всё в точку.
XV
Как и обещал Шорохов, машина подъехала рано и слабо пиликнула. Турин, уже занимавшийся в одних трусах гимнастикой, высунулся в распахнутое окно, махнул шофёру рукой и полез под холодный душ.
Ночью спать ему почти не пришлось. Добросовестно отдежурив под дверьми особняка до трёх часов и укрепив сомнения насчёт заворготделом, он пешком отправился назад, поплутал переулками, сокращая путь, выбрался на трамвайные рельсы и, добравшись до гостиничного номера, не раздеваясь, свалился на койку, заснув сном праведника, исполнившего свой долг.
Короткое ночное забытьё избавило от мысленных мучений, дало передышку. Прыгая под душем, он чувствовал, как тело и мозг оживают, набирают свежесть, бодрость и ясность мышления. Парадокс: холод, именно холод воды распалял, словно огнём, остывшую за ночь твердь материи его организма.
Выскочив из-под душа, он докрасна растёрся полотенцем и, быстро одевшись, запихивая в рот на ходу бутерброд, запрыгал по лестнице вниз к машине. Однако на первом этаже едва не споткнулся: лениво беседуя с дежурным, у стойки поджидал его крепыш, запомнившийся по встрече у пивной. Не моргнув глазом, Турин прошёл мимо, но в тамбуре приостановился у самых дверей и зло зашипел нагнавшему его посыльному:
— Вы что, с ума посходили?! Условились же с Тимохой о месте встречи? Или случилось что?
— Случилось да не по нашей вине, Василий Евлампиевич, — подморгнул тот странно, помолчал, будто раздумывал, как лучше преподнести неприятное известие, но тут хлопнула входная дверь и мимо них, смеясь, пробежала веселящаяся пара. Проводив ее подозрительным взглядом, крепыш выпалил:
— Хвостик за вами приметили.
— Хвостик?
— Уж и не знаю, как поделикатнее… — скорчил вор физиономию. — Нас, извиняюсь, мусора, легавые, наседки[28] пасут, а за вами кто приглядывает?
— Бульдоги из ГПУ, — хмуро пошутил Турин.
— Господь с вами!
— Толком-то чего, говори?
— Прицепился вчерась к вам вёрткий интеллигентик. С бородкой, пенсне на носу, а из себя калеку корчил — клюшку из руки не выпускал.
— В тех клюшках пику обычно прячут, — насторожился Турин.
— Знамо дело. Но когда наших учуял за своей спиной, дёру дал и про клюшку забыл. Зайцем выпрыгнул из капкана.
— С бородкой и в пенсне?
— С тёмными стёклами.
— Видел и я такого.
— У здания совещания к вам прицепился, когда оно закончилось.
— И как же вы его упустили? — казалось, Турина не смутила и не напугала весть, досадовал он на то, что не пойман соглядатай.
— С трамвая ночью на остановке вы вывалились, за гражданином приметным проследовали, а хвост — за вами. Наши орлы переждали, народа поменьше стало, нашим бы ещё тормознуться, а они затеяли брать его в первом переулке.
— Значит, спугнули… А ведь хвост этот многое должен знать. И сам он, как личность, очень даже большой интерес представляет!
— Наша вина.
— Черти бестолковые! — выругался Турин вгорячах. — Вот и исправляйте! Плохую весть ты мне принёс, ох, плохую… На Востоке султан за подобное язык вырезал. Слыхал?
— Что ж теперь?.. А лучше б, если смолчали?
— Феодализмом заниматься не стану, однако Кольчуге передай, чтоб снял бульдога с моего хвоста, но он мне живым нужен. Завтра такая возможность может представиться. Этот гад так просто не успокоится, но сегодня у вас отгул, сегодня я на личном транспорте, ему меня не догнать. Понял?
— Я эту сволочь своими бы руками!..
— Живым, только живым! Пусть Кольчуга постарается. А сейчас задержись здесь, пока меня увезут. Ни к чему, чтоб местные сыскари нас рядышком видели. И так ты нарисовался.
— Вы про керюху того? — кивнул посыльный в сторону дежурного за стенкой. — Этот наш, его опасаться не надо. Он здесь при вас теперь будет.
— Караулить, значит?
— Бережёного бог бережёт.
— Ну-ну, — похлопал Турин по плечу крепыша. — А за актрисой приглядываете, как просил?
— Сам Тимоха глаз не спускает.
— Вон он где, — хмыкнул Турин. — Передавай привет.
И он выбежал на улицу. Шофёр покуривал у автомобиля, но тут же притушил окурок каблуком, ловко отворил дверцу на заднее сиденье.
— Как звать? — здороваясь, улыбнулся Турин.
— Володя.
— Невелик твой пассажир, Володя, дай-ка я рядом с тобой примощусь, — попытался было Турин перебраться на переднее сиденье.
— Не положено, Василий Евлампиевич, — шофёра словно подменили, он сухо добавил: — Шорохов приказал. Нам рядись не рядись, а и срисуют не большая беда. А вы гость. Вас велено беречь от неприятностей.
«Если б знал Шорохов про вчерашний хвост… — сжался Турин, — да про моих здешних братков-помощников!..»
— Куда ехать, знаешь? — подмигнул он шофёру.
— С актрисы велено начать.
— Верно. Этой встречи я как раз больше всего дожидаюсь.
— Мы мигом, — молодцевато крутанув руль, шофёр рванул автомобиль с места в карьер.
Когда остановились у неприметного домика в общем неказистом ряду таких же строений, Турин не спешил покидать машину, поджидая Тимоху. Должен же был тот объявиться или дать знать о себе каким-то другим скрытым способом. Однако не дождался, вместо этого на порог вышла старушка простоволосая, с вязаным платком на плечах.
— Вам не Аграфену свет Валериановну? — спросила она, испуганно оглядываясь.
— Стравинскую, — кивнул Турин, подошёл поближе, улыбнулся, раскрыл перед ней удостоверение. — Наши товарищи встречались с ней по поводу известных событий, но возникла ещё одна надобность.
Удостоверение произвело впечатление, старушка сжалась вся, и, не подхвати её вовремя Турин, не обошлось бы без хлопот.
— А Глашеньку, мил человек, только что я проводила, — подняла она испуганные глаза. — Сиднем целыми днями сидела, шагу из дома не ступала, как велено было. А с час назад иль поболе мальчонка с запиской прибёг. Засобиралась она и велела ждать к обеду.
— Записка? Что там было сказано? — Турина прострелила старая болезнь: от таких известий каждый раз его поясницу словно продувало насквозь, будь он хоть в самой что ни есть тёплой комнате.
— Да я ж и не видела, милок. Но обрадовалась она, всплакнула даже, что кончились её муки. В церковь поехала. Тут недалеко трамваем. На кладбище церковь-то у нас.
— Вы ничего не путаете? — напрягся Турин. — Чему радоваться, если на кладбище ехать?
— Так поймали вроде убийцу? — всплеснула старушка руками. — Аль вам не знать? Вот и переберётся она от меня к себе на квартирку. Поэтому и радовалась, а всплакнулось ей по покойнице, молода та была и смерть приняла неизвестно за что…
— В церковь свечки ставить поехала?.. — с трудом старался переварить известие Турин. — Или ещё зачем?
— Вот те раз, прости меня Господи! — запричитала старушка, начиная сердиться. — Запиской туда её вызвали, сколь повторять.
— Запиской?
— Я ж час твержу — мальчонка прибёг, она и собралась. Враз оделась, будто только и ждала этого.
— Насчёт похорон, может быть?
— Вот уж не знаю, только на похороны так не торопятся.
— Знаешь, где здесь кладбище? — развернулся Турин к шофёру, чувствуя, что добиться большего ему не удастся.
— Да в миг, — кивнул тот, заводя двигатель, — вдоль трамвайного пути, конечно, добираться не скоро. Часа полтора кружить да на горки взбираться, а мы короче дорожку отыщем.
Пока петляя, мчались по тихим улочкам, несколько раз переезжая рельсы, Турин обдумывал своё.
Из сообщений Шорохова следовало: опечатали агенты квартиру, где нашли покойную, по той причине, что хозяйка её, актриса Аграфена Стравинская, перепугавшись, временно отказалась там жить, дожидаясь похорон. Ничего необычного в этом Шорохов, да и сам Турин не находили: актриса — пожилая женщина, какая блажь ни придёт ей в голову? К тому же проживала одна, в квартиру регулярно пускала жильцов, но не из простой публики, старалась выбирать себе под стать. Вот Френкель, к примеру. Во-первых, они, конечно, знали друг друга ранее, Френкель родом из Саратова, здесь проживала и занималась при том театре, где актриса играла. Возможно, Аграфена Валериановна знала и семью Глазкина, как-никак жених Павлины — заместитель губернского прокурора. Это же фигура! И Френкель, вероятно, делилась своими проблемами со Стравинской, даже просто по-бабьи между ними, конечно, велись разговоры. То есть, гадал Турин, бывшая актриса знала о намерениях квартирантки выйти замуж за прокурора, но тем не менее ей пришлось стать свидетельницей тайных встреч молодой жилички с пожилым любовником. Неважно, какое впечатление он произвёл на соседку, та из зависти или сослепу разного могла наговорить, но известно, что посещал Павлину не кто иной, как Странников, и Стравинская видела его неоднократно, хотя якобы оставляла квартиру до вечера. В день убийства, уйдя утром, она дома больше не появилась. У прислуги её нашли агенты, сообщили о происшедшем. Страх?.. А может, естественное чувство вины и боязнь ответственности?.. Конечно, она не убивала Френкель, физических сил не хватило бы и повода нет, не владела же Френкель миллионами или драгоценностями… Нет, Стравинская — не убийца, Шорохов бы сразу учуял и упрятал бы актрису в исправдом на время следствия. Но ничего подобного не случилось. Шорохов рассказывал ему, что на всякий случай устанавливал за актрисой слежку, а через два-три дня снял: дамочка носа из дома прислуги не высовывала, да и к ней никто не наведывался. Прислуга никакого интереса не представляла. Скорее всего, бабка связана с актрисой с молодых лет. Убирала по дому, хозяйство вела, но, когда актриса отошла от сцены, нужда в прислуге отпала, и Стравинская её выпроводила: накладно держать лишний рот, когда сама вынуждена зарабатывать не талантом и поклонниками, а собственной жилплощадью.
Обдумывая всё это, Турин представил себе старуху в платке и длинном платье, крякнул, вспомнив, как та засерчала.
«Бабка-то ещё смышлёная! Как она его пропесочила насчёт свечек, да о мальчишке с запиской! Стоп! Вот она, отправная точка! Записка! — Турина осенило. — Вот оно, недостающее звено!»
— Подъезжаем, Василий Евлампиевич, — глянул на него шофёр с улыбкой.
— Ничего, ничего, Володь, — улыбнулся ему в ответ Турин. — Задремал я слегка.
А сам ухватился за ускользающую мысль: «Конечно, актрисе известно об убийстве гораздо больше. Может быть, она была невольной свидетельницей происшедшего или второстепенным участником, просто могла слышать из достоверного источника, а теперь связана с автором записки обязательством молчать?.. Этот человек и поставил условие: как только убийцу обезвредят, её вынужденное заточение кончится… Но кто этот человек?»
На этом месте Турина заклинило: «А убийца где? Он не найден… Впрочем, не найден официальными органами. Даже наоборот, те поставили твёрдую точку в расследовании: их вывод — Френкель наложила на себя руки… Тогда от кого записка? Кто-то отыскал мерзавца, расправился с ним и пригласил актрису в церковь поставить свечки за обоих убиенных?..»
Получалась явная чертовщина, отчего у Турина снова разболелась голова, тупая боль стиснула затылок, и он принялся растирать его, вздыхая и морщась: не получалось у него ничего в этом чужом городе Саратове, осталась его удача дома, никакого просвета не видать в загадочном и страшном убийстве невесты Глазкина…
— Что с вами, Василий Евлампиевич? — притормозил водитель.
— Не спал почти, — посетовал Турин. — Вот и достают старые болячки. Этой голове-то, знаешь, сколько доставалось… — он поскрёб затылок.
— От уголовной мрази? — засочувствовал тот.
— И от неё, но больше от начальства, — хмыкнул Турин, — так что, если станешь большим начальником, не обижай нашего брата.
Они засмеялись. Боль постепенно стихала, он откинулся на сиденье.
— Что это там за сборище? — встревожился вдруг шофёр. — Трамваи встречные… Не столкнулись ли? Народ валит из дверей!
Турина так и бросило к стеклу. Впереди действительно творилось из ряда вон выходящее. Один вагон, почти пустой, стоял на остановке. Встречный с другого пути только что замер, и из него с шумом и гамом вываливался народ, поспешая вперёд на рельсы, где собралась уже большая толпа.
Турин попробовал открыть дверь, хотя автомобиль ещё не остановился.
— Василий Евлампиевич, куда вы? Под колёса угодите! — зашумел шофёр.
— Так тормози, чёрт тебя подери! — выругался тот и, как он один умел, всё-таки выпрыгнул и свернул к толпе.
— Доехали, считай, — водитель догнал его и кричал, будто извиняясь. — Церковь-то вон она! И кладбище за путями. Рядом ворота! Выходит, у кладбища и сбили бедолагу. Водителям тут маята. Старики туда-сюда. С остановки на остановку. А эти гоняют, как шальные!
— Да замолчи ты! — оборвал его Турин. — Беду накликаешь!
XVI
Растолкав орущую толпу и холодея, увидел Турин первым Тимоху. Тот, сидя на рельсах перед пустым трамваем, корчился от боли, раскачивая голову и дико матерясь между стонами, поддерживал левой рукой безжизненную правую, согнутую в локте. Расползалось на одежде кровавое пятно.
— Тимофей! Жив! — бросился к нему Турин, присел рядом, прижал его голову к груди, крикнул подскочившему шофёру. — Володя, тащи из машины всё! Бинты бы, жгут, шину надо!
Но тот застыл столбом, словно и не слышал.
— Какого чёрта?! — выругался Турин. — Давай быстрей! Каждая минута дорога!
— Глядите! — шофёр таращился вниз, тыча рукой под самый трамвай.
Из-под железного брюха вагона высовывались недвижимые женские ноги.
— Что? Кто?! — вскрикнул Турин, боясь догадаться.
— Похоже, женщина, — нервно подрагивая, шофёр пятился назад, нагибался то и дело, стараясь разглядеть.
Но Турин уже знал, кто там. Не владея собой, он по-звериному зарычал, заскрежетал зубами.
— Упустил я суку! Упустил! — кусал губы Тимоха. — Он столкнул её под вагон. Сам ужом в сторону. Я его за рукав схватил. Удержать хотел. А он рванул так, что я на рельсы вылетел. Руки своей чуть ни лишился…
— Перелом у тебя, не скули, — оборвал его бормотание Турин. — Как с башкой?
— Гудит. Ударился, пока катился.
— Сто лет жить будешь, — сплюнул Турин. — Как же ты её проворонил, Тимоха? — Турин приподнялся, крикнул зычно. — Отошли бы, граждане, нечем дышать человеку. Врача, случаем, нет?
Толпа отступала нехотя. Врача не оказалось. Лицо Тимохи бледнело на глазах.
— Володя! — позвал исчезнувшего шофёра Турин. — Где копаешься?
— Здесь я, — протиснулся к Турину водитель. — Шину искал, вот! — он протянул кусок доски.
— Водки бы, — пожаловался Тимоха.
— Нельзя, вдруг у тебя сотрясение мозга. Ты говори что-нибудь, а то сознание потеряешь. — Шофёр ловко наложил жгут выше локтя, принялся бинтовать.
— Ты доску, что притащил, подложи, — подсказал ему Турин. — Я руку перенесу на неё, а потом запеленаешь покрепче.
Тимоха вскрикивал, но бодрился:
— Гадом буду, глаз не спускал с актрисы, а его упустил… Он же из-за спины моей выскочил. Я и глазом не успел моргнуть.
— Выходит, он пас её от самого дома, а ты и ни ухом ни рылом!..
— Не видел хвоста.
— Башкой чаще крутить надо было! — ругнулся Турин. — Доверил я козлу капусту…
— Готово, Василий Евлампиевич, — водитель закончил перевязку.
— Собирай добровольцев, Володя, — Турин полез за папиросами. — Пусть оцепят место происшествия. Сам отвезёшь гражданина Савельева в ближайшую больницу и дуй оттуда за Шороховым. Сюда его вези.
— Я ему из больницы отзвоню, чтобы время не терять.
— Верно. А я здесь пока покомандую, организую охрану объекта.
— Товарищи! — кинулся водитель в толпу. — Помогите больного донести в машину.
— Тебя сейчас увезут, — нагнулся тем временем Турин к Тимохе, — шофёр расспрашивать станет да и потом милиции понадобишься, лишнего-то не болтай.
Тимоха кивнул, говорить ему стало совсем трудно после только что закончившихся мытарств с повреждённой рукой.
— Вали на меня, — торопился Турин, — скажи, что я просил Кольчугу помочь последить за актрисой. А зачем — тебе знать не велено. Понял? Про сволочь, которая женщину под трамвай столкнула, мы с тобой вдвоём потолкуем. Потом. Навещу я тебя скоро.
Тимоха сжал губы.
— Давай, братан! Ни слова лишнего!
— Век воли не видать, Василий Евлампиевич! — закрыл тот глаза.
XVII
Шорохов прикатил, когда Турин успел уже выявить очевидцев, поговорить с водителями обоих трамваев и, отогнав лишнюю публику, надоедавшую расспросами и подсказками, покуривал, сидя на рельсах подле тех самых ног. Ему бы отойти, выбрать другое место, в конце концов устроиться в каком-нибудь из пустых вагонов, но поделать с собой ничего не мог. Казалось бы, железный, сотканный весь из одних жил Турин, всегда невозмутимый начальник губрозыска, теперь ругал себя последними словами, корил и мучился. Ему в таком состоянии ничего не стоило вручную откатить этот проклятый трамвай с тела пострадавшей, помочь бы добровольцы нашлись, но он отправил их в оцепление, чтобы толпа не подпирала и не мешала ему работать одному.
Вагоны прибывали один за другим и становились в грустные цепочки по обе стороны, высаживая недовольных пассажиров, которым надо было ещё ехать и ехать. Но узнав причину, они лезли вперёд, увеличивая толпу, охали и ахали, плакали и ругали трамвайщиков, которым Турин приказал держаться к нему ближе, чтобы не поколотила разъярённая толпа.
Мучаясь от собственного бессилия и навороченных ошибок, и Турин готов был сделать многое, чтобы только не видеть этих ног, но сдвинуть хоть один камешек здесь не имел права — изменилась бы картина преступления, а этого позволить себе не мог ни один грамотный сыщик. Ему всё чудились крики Тимохи. В горячке, обрывками тот обрисовал происшедшее верно, совпадало оно с тем, что запомнили и выявленные свидетели, опрошенные Туриным: Стравинская хотела пересечь железнодорожные пути в то время, когда на подходе был встречный трамвай. Прыгать через рельсы — потеха молодым, а пожилому человеку — мучение. В возникшей толчее актрису кто-то подтолкнул, и она упала прямо под вагон. Видели люди, как бросился в погоню Тимоха за виновником и схватил уже было убегавшего за рукав, но тот вырвался и скрылся, а Тимоха замелькал кувырком по рельсам, чудом сам уцелел.
— Вот такие дела, Андрей Иванович, — закончил безрадостное своё повествование Турин, притушил окурок прямо себе в ладонь, сунул его в карман и поднял глаза на Шорохова.
Тот стоял чужим, хмуро разглядывал обоих вагоновожатых, ёжившихся под его взглядом.
— Пожинай плоды своих трудов, герой, — нагнувшись, буркнул ему в ухо Шорохов. — Только нечего сидеть да мне плакаться. Я нищим не подаю. Включайся в осмотр.
Турин молча протянул ему листки с объяснениями Тимохи, очевидцев, схему, которую он набросал.
— В курсе, — коротко просмотрел их тот, — мне Володя успел кое-что объяснить.
— Как там Тимоха?
— Жив твой уголовник. Что с ним станется? Сотрясением головного мозга и переломом руки отделался. Здорово ты с братвой этой сдружился! Давно знаешь?
Турин пожал плечами.
— А я тебе, значит, не авторитет?
— Да не злись, Андрей.
— А я всё не верил про твои методы борьбы с преступностью. Прославился ты привлечением урок к нашим делам? Результаты имеешь такие же? Или всё же похвалиться есть чем?
— Да послушай же, наконец! — сорвался, не сдержавшись, Турин и схватил за плечо Шорохова. — Не поверил я твоей версии о самоубийстве Павлины Френкель. Сразу не поверил! И не скрывал, если помнишь, наш первый разговор. Конфетная выдумка какая-то!
— Что?
— Сладкая слишком. А сомнениями от её сладости полон рот, так, что тошнит. Поэтому попросил машину. Ты же догадывался, зачем она мне понадобилась. Не дамочек катать, поэтому Володьку ко мне приставил. Смышлёный паренёк. Ну а Тимоха?.. Там, на дне, людские души тоже имеются, зря ты так о нём, да и лучше нас они кое-что видят, нам с тобой вовек не углядеть.
— Вижу вот! — в сердцах ткнул Шорохов на ноги актрисы.
— Противозаконного они ничего не творили, а у Тимохи Савельева осечка вышла. Задержи он сволочь, Стравинскую на тот свет спровадившую, мы с тобой теперь бы многое знали.
— Мы с тобой пока в полном дерьме! — оборвал его Шорохов. — И мне это очень не нравится.
Тон его был однозначен: понять не желал и за своё готов драться.
— Я сюда не только этих захватил, — он махнул на медицинскую карету с молоденьким экспертом, бодро выпрыгнувшим с чемоданчиком, и двух агентов, уже замелькавших среди толпы. — Сейчас следователь прокуратуры подъедет. Ты о нём, наверное, слышал. Тит Нилыч Городецкий! Тот ещё дока! Про конфетки-то забудешь сразу, как увидишь его. Солоно станет. Да, чуть не забыл, гость намеревался с ним быть, тебе очень знакомый.
— Гость?
— Объявился женишок! — раздражённо огрызнулся Шорохов. — Не успел прикатить, а меня заездил уже, пытал и насчёт тебя.
— Откуда ему известно, что я здесь?
— Это уж ты у него спрашивай. Дотошный! — Шорохов подозвал агента и передал ему бумаги Турина. — Вот по этому списку и объяснениям найдите людей…
— Они вон, подле трамвайщиков, — подсказал Турин.
— И побеседуйте с ними с глазу на глаз. Кстати, водителям трамваев уделите особое внимание. Где у них бельма были? Тряхните как следует. Но не при толпе, их и без вас измордуют, слышишь, как орут!
— Я уже с ними беседовал, другого они не скажут, — вмешался снова Турин.
— Ты, Василий Евлампиевич, лицо неофициальное, — хмыкнул Шорохов. — У нас в гостях, как тот Садко на дне морском. Забыл, увлёкшись?
Турин счел промолчать.
— Найдите добровольцев, чтобы вагон откатить. Да побыстрей разворачивайтесь, пора начинать осмотр места происшествия. — Шорохов кинул взгляд на Турина. — Тебя включать в протокол?
— Как считаешь нужным, — мрачно буркнул тот. — Значит, объявился наконец товарищ Глазкин?
— Объявился, объявился! — сплюнул Шорохов, протянул распахнутый портсигар. — Закуривай. Я тебя всё же в протокол включать не буду. Для понятого ты не годишься из-за ясных причин, а от официальных лиц сейчас и без тебя некуда будет деться. Глазкин с собой, наверное, всю краевую прокуратуру притаранит.
Они закурили, отвернувшись друг от друга, каждый думал о своём. Однако следователь прокуратуры прибыл без Глазкина и без ожидаемого окружения, а на вопрос Шорохова сообщил густым басом, что замгубпрокурора поехал в морг и до вечера будет занят организацией похорон, которые сам же и назначил на полдень следующих суток. Якобы родители невесты серьезно заболели, выехать не могут и согласны на похороны здесь. Вот он и примчался как угорелый.
— Отказались, значит, везти её к себе? — спросил Шорохов.
— На Глазкина надеялись. Сами-то старые для такого дела, — следователь кашлянул, поморщившись то ли от крепкого табака, то ли от своих мыслей. — Но и молодому хлопотно гроб по железной дороге везти. В копеечку станет, и тело покойницы портится на глазах.
— Мне от них досталось, — облегчённо вздохнул и пожаловался следователю Шорохов. — Забросали телеграммами. А ведь доброе дело делал — ждал этого Глазкина, шут его подери, а он прискакал, нахамил и собак на меня спустил!
— Твори добро, без кнута не останешься, — зычно захохотал Тит Нилыч, выглядевший на фоне суетливого, перетянутого портупеей, с пистолетом на боку тонкого Шорохова, довольно импозантно.
Следователь был с бородкой, толст и высок в богатом тёплом на подкладке плаще, широкополой тёмной шляпе и с зонтиком, которым он то упирался в землю, то небрежно набрасывал на руку. Во рту его дымилась трубка. Следом, отстав на шажок, неотступно следовал его помощник с большим кожаным чёрным портфелем, казалось, готовый вмиг раскрыть его по приказу начальства, выхватить перо из-за уха и строчить, строчить, строчить… Конечно, никакого пера за ухом у помощника не было, но Турин готов был поклясться, что видел его собственными глазами — ему уже на всё было наплевать.
— Городецкий! — Следователь, словно спохватившись, протянул руку Турину, а Шорохову бросил через плечо: — Тот самый ваш знакомый?.. Фома неверующий?
— Он самый.
— Не признаёте, значит, самоубийства? — упёр руки в боки толстяк и бесцеремонно уставился на Турина. — Славненько, славненько… А ведь все мы по молодости грешили этим из-за причины любовных страстей. И в петлю лезли, и стрелялись… Ладно простые муравьи, но и великие личности этим баловались! Горький наш, то бишь Алексей Максимыч, Пушкин, Лермонтов…
— Перебрал, Тит Нилыч, — рассмеялся Шорохов, — дворяне-то на дуэли погибель искали.
— Ты Александра Сергеевича имеешь в виду? — взъярился прямо-таки Городецкий. — Не спорь со мной! Я лучше знаю. Страсть это моя. Я о нём всё перелопатил, всё перечитал; ты зайди ко мне как-нибудь, я тебе такое покажу! Из-за безысходной любви Сашенька, гений наш, отправился на дуэль. Честь свою защищать. А куда ему против офицера? Вот и получается, что шёл на самоубийство.
— Ну, если в этом смысле… — махнул рукой Шорохов.
— Погоди, погоди! — Городецкий, видно, только раззадорился, он давно вынул изо рта трубку. — Ещё один наш идол, тоже Сашенька, он, правда, подобно Есенину, рук на себя не накладывал, но мечтал!.. Мечтал об этом постоянно! А это был тоже гений! Сам Блок! Вспомни только его рассуждения о блистающей привлекательности самой мысли о самоубийстве, о двойниках, которые будто живут в нас. Их в каждом — минимум два. Послушай вот:
И заколдован был сей круг: Свои словечки и привычки, Над всем чужим — всегда кавычки, И даже иногда — испуг…[29]Шорохов, скривившись, не к месту захлопал в ладоши. Городецкий кивнул ему, небрежно благодаря, а Турина спросил:
— Увлекались?
— Словоблудие всё это, — буркнул Турин. — Не знаю. Не читал.
— А возражаете…
— Мнение своё имею.
— Теперь, Андрей Иванович, — покачал головой следователь, потеряв всякий интерес к Турину, — теперь, как я понял, без уголовного дела-то не обойтись, — он пожевал толстыми губами и добавил: — Если, конечно, тому Савельеву, как это?.. Тимофею… ничего не привиделось.
— Ну, знаете!.. — у Шорохова задёргалась щека.
— А с другой стороны, — затянувшись трубкой и выпустив дым, Городецкий глубокомысленно опустил вниз очи, — захоронят они покойницу, за эксгумацией дело станет. Хлопотно… Родители согласия не дадут.
— У нас актик имеется, Тит Нилыч! — бурно отреагировал Шорохов и скосил глаза на Турина. — Это официальный медицинский документ, между прочим, а не фантазии какого-то уголовника!
— Уголовника? — сощурил следователь глазки и подозрительно смерил начальника губрозыска с ног до головы.
— Савельев Тихон Спиридонович, он же Тихон, Громило, Молчун и так далее, — старательно начал Шорохов, — не буду утомлять вас перечислением всех его кличек, судим несколько раз, бежал, находился в розыске…
— Клейма негде ставить?
— Совершенно верно.
— Однако… — Городецкий ещё раз обозрел Турина, поджал губы, но Турин решил не вмешиваться в их диалог и даже поотстал.
Не ожидал он от Шорохова таких откровенно запрещённых ходов. «Хотя, — подумалось ему сразу, — чего тут необыкновенного? Шорохов не блефовал, он вёл открытую и честную игру, отстаивал свою версию, не из-за спины наносил удар, а на глазах, специально разыгрывал интригу при опытном следователе, которому придётся вести уголовное дело, если оно будет возбуждено».
— Я полагаю, — остановился Городецкий перед трамваем, из-под которого всё ещё выглядывали ноги погибшей, — пора оттаскивать это страшилище, — он столкнул на затылок шляпу, чтобы лучше было видеть, ткнул вперёд пальцем. — Всё-таки какая ужасная смерть досталась бедняжке! Поглядим, как же она смогла туда угодить? А насчёт уголовного дела, Андрей Иванович, ещё следует подумать. Я посоветуюсь с Глазкиным. Павел Тимофеевич — мужчина здравомыслящий, а старичкам, родителям его невесты, видно, всё равно… дочери нет, она, я слышал, с ними и не проживала, так, порхала с ветки на ветку… Конечно, замгубпрокурора — партия заманчивая, но, увы, не судьба… А его мнение, как-никак жениха, хотя и бывшего, многое значит. Я беседовал с ним только что, горе его безутешно. Нужны ли ему дополнительные страдания? Эксгумация, скажу я вам, это!.. Пережить одно, потом такое…
Он усердно задымил трубкой.
Тем временем по команде Шорохова агенты и добровольцы приступили к вагону. То, что предстало глазам, было ужасно: растерзанное, исковерканное месиво из костей и крови смешалось с песком и пылью, обратившись в грязь. Каким образом уцелели ступни высовывавшихся ног, оставалось гадать. Толпа ахнула и подалась назад.
— Может, в морге эксперт произведёт полный осмотр трупа? — отвернулся Шорохов, зажимая нос. — А сейчас пусть продиктует помощнику общую картину. Мы-то стерпим, народ к чему стращать?
— Я не возражаю, — откликнулся Городецкий.
— Записка у неё должна быть, — осмелился вмешаться Турин. — Мальчишка якобы принёс. Поэтому она и отправилась в эту поездку.
— Записка? Какая записка, голубчик? — следователь, словно впервые увидел Турина. — Откуда?
— Ещё одна полоумная! — в сердцах сплюнул Шорохов. — Бабка, прислуга актрисы, подружкой ей считалась. Она этому Савельеву и наговорила про какую-то записку.
— Ошибаетесь, Андрей Иванович, — поправил Турин, — об этой записке лично мне было сказано.
— Что ж? Допрашивать тебя будем? — вывернулся к нему Шорохов и впервые по-настоящему зло сверкнул глазами.
Турин смолчал.
— Милейший, — обратился Городецкий к медику, облачавшемуся в халат, резиновые перчатки и готовому ко всему. — Вам не составит труда как-то попытаться посмотреть там… у неё? — он ткнул концом зонтика наугад перед собой.
— Можно. Почему нельзя, — будто ожидая этой команды, молодцеватый эскулап двинулся вперёд.
Следователь принялся раскуривать потухшую трубку и незаметно отошёл к жавшимся в толпе понятым. Кто-то услужливо подставил ему чурбачок, он присел, поблагодарив, помощник застыл на часах рядом, к ним перебрался и Шорохов, лишь Турин оставался где и был — в двух шагах от ног раздавленной.
— Нет никакой записки, — повернул к нему лицо медик.
— Нет? — крикнул следователь издалека.
Медик поднял окровавленные перчатки и помахал ими, растопырив пальцы.
— А откуда ей быть, товарищи? — сердито подал голос Шорохов. — Дамочки все свои причиндалы хранят в сумках. Однако никакой сумки при осмотре не найдено.
— Украли небось если и была! — нашёлся смельчак из толпы и спрятался за спины.
— Народа-то сколь побывало! — подхватили сочувствующие. — Пока милицию дождёшься…
— Хорошо труп цел! — уже горланили соскучившиеся любители поострить. — Кладбище-то рядом!
— Молчать! — гаркнул Шорохов, метнув взор в толпу. — Шутники нашлись… Поточите языки в другом месте. У меня есть для желающих.
Толпа послушно притихла.
— Сумки у неё, скорее всего, не было, — заглянул в глаза медику Турин. — Торопилась она. А записка?.. Раз в карманах одежды нет, посмотреть бы… Женщины иногда их прячут на груди. Попытайтесь, пожалуйста.
— Что там ещё? — заспешил к ним Шорохов.
— Я попробую, — развернулся медик, возвращаясь к останкам.
— Ты что здесь распоряжаешься? — подлетел Шорохов. — Чего ты всё вынюхиваешь? Не успокоишься никак? Неприятности ищешь?
— Андрей Иванович! Голубчик! — окликнул его Городецкий, видимо, не разобравшись в происходящем. — Вы бы шли сюда. Диктовать будете протокольчик. Чего ж время терять? Сенечка мой готов.
— Иди! — ожёг Турин приятеля глазом. — Зовут тебя. Помощник следователя уже и перо из-за уха выцарапал. Вмиг всё и сострочите.
— Ты потише, потише! — совсем вскипел Шорохов. — Не ерепенься! Какое ещё перо? Ум за разум поехал? Свихнулся ты на почве своих подозрений. Ничем не подкреплённых, кстати.
— Однако тут что-то имеется, — прерывая их ругань, внезапно приподнялся от тела молодой эскулап и, вытянув руку, протянул им зажатую двумя его пальцами шнурок, на котором болтался мизерных размеров мешочек.
Он был перемазан кровью и крепко стянут у основания тонкой нитью. За эту нить и доставил медик свою находку к носам удивлённых сыщиков.
— Извиняюсь, пришлось разрезать нитку, — смущался медик. — Но зато проще будет раскрыть сей тайник.
— Так разверните же! Что копаетесь? — за спинами Турина и Шорохова уже маячила могучая фигура Городецкого. — Там могут быть и драгоценности. Сенечка! — крикнул он помощнику. — Нам понадобится ёмкость.
— Откуда? — поморщился Шорохов. — Бедняга не шиковала. Квартирой кормилась.
— Не скажите, Андрей Иванович, — сощурился Городецкий, — не скажите. Женщины — существа загадочные и скрытные. Порой…
Договорить он не успел, смолк и застыл в недоумении: медик извлёк из мешочка сложенный в несколько раз мужской платок. О том, что это именно мужской платок, свидетельствовали его великоватые размеры и, кроме того, был он прост, без каких-либо излишеств и рисунков, а также совершенно чёрным.
— Сергей Антонович, — Турин слегка коснулся медика, — инициалов вышитых, других меток на нем не наблюдается?
— Совершенно чист, но влажен, — ответил эксперт.
— Тебя повози под трамваем, взмокнешь, пожалуй, — крякнул Шорохов. — Чей же платок? На женский явно не похож…Ухажера прошлых лет? На память хранила? Но почему влажен, от чьих слез?
— Ошибаетесь, Андрей Иванович, — не смутился воспрянувший эскулап. — Можно предположить, что его использовали вместо кляпа.
— Это как понимать? В рот совали, чтобы кто-то не орал? — не удержался Шорохов.
— Думаю, сможем поэксперементировать, — медик протянул платок Городецкому. — Назначите экспертизу, Тит Нилович, поставите вопросы в постановлении, будем исследовать.
— Сенечка! — позвал Городецкий.
Подскочил помощник, щёлкнул замком портфеля, и платок вместе с мешочком упали в стерильный бумажный пакет, а затем исчезли в необъятном чреве портфеля, провожаемые тоскливым взглядом Турина.
— Канитель всё это! — махнул рукой Шорохов. — Актрисы все на одно лицо, сплошь эмоциональные натуры. Сколько у них нашего брата, поклонников! Дарят всякую пакость. От безделушек до алмазов. А кто-то из скупердяев вовсе платочком отделался. — Он повернулся к Турину: — Ну а ты что скажешь, оппонент непримиримый?
— А что мне говорить? — грустно хмыкнул Турин. — Вам здесь решать. Я завтра на похороны заявлюсь, соболезнования прокурору выскажу и укачу восвояси. Устал я… Забыл, как спят по-настоящему.
XVIII
Куда ни глянь, всё черным-черно.
В зловеще поблёскивающих влажных плащах, куртках, накидках и люди вокруг не люди, а мрачные неземные существа — чёрное вороньё под непрекращающимся промозглым дождём. Нахохлившись, не подымая голов, движутся одна за другой похоронные процессии. Большой город Саратов. Мрачный. Ещё тяжелей на душе от того, что и тучи чёрные, грозовые, как нависли над кладбищем, так и грудятся, не уходят. Ни одного светлого пятнышка! Вот грянет гроза, так грянет! Не поздоровится живым.
Турин не поехал на вынос. Не знал, откуда начнётся печальное шествие, Глазкин в дом своих родителей гроб невесты не повез, а в морге Турин так и не побывал, хотя и собирался. Теперь вообще нужды не было. Мимо кладбища всё равно не пронесут, подумал он, вот и приплёлся за час раньше к воротам, но время пришло, а знакомых лиц не мелькнуло.
Накурился досыта, продрог основательно, ну и мыслей разных перегонял в голове великое множество. Мудрые-то не мучили, лезла в голову всякая чертовщина, неизвестно из каких тёмных углов его сознания выбираясь. С самого утра будоражил старый обычай: самоубийц не хоронят на кладбище, за оградой кладут грешников, наложивших на себя руки. Он даже не выдержал, в гараж Володе позвонил, но тот успокоил, сообщив, что Глазкин разрулил все препоны и положат бывшую его невесту на том же кладбище, подле которого Стравинскую Аграфену Валериановну трамвай задавил.
Шорохову звонить Турин не стал, раскололась их дружба на мелкие осколки, да и была ли она? Коснулась беда, проверила, и вышло, что не было между ними ничего, кроме служебного знакомства да совместных выпивок. Стоял Турин у ворот кладбища, мок под дождём и, чтобы совсем не рехнуться от тоски, считал людей в медленно движущейся процессии, выискивая своих. «У артистки тоже никого на белом свете не осталось, — пощипывало на душе, когда вспомнил и Стравинскую. — Не объявятся дальние родственники, не соизволят помочь бывшие поклонники, так и закопают где-нибудь в уголке без торжеств, без почёта, без креста, дощечку приколотят с номерком, и нет блиставшей когда-то прекрасной лицедейки. Замкнётся круг…»
Легковой автомобиль привлёк его внимание. Он въехал в ворота, высунулся Глазкин с переднего сиденья и помахал ему, приглашая. За автомобилем остановился грузовик с оградой, деревянным крестом и закрытым гробом. Четверо работяг сидели на крышке. Турин втиснулся в автомобиль Глазкина на заднее сиденье, знакомых не оказалось, но он поздоровался.
— Вот так и бьёт нас жизнь, Василий Евлампиевич, — лишь тронулся автомобиль, повернулся к нему замгубпрокурора, был он выпивши, но слегка. — Мчался увидеть живую, а приехал к мёртвой.
— Примите мои глубокие соболезнования, Павел Тимофеевич, — опустил глаза Турин.
— А Мейнц-то, Мейнц каков! — вспылил вдруг замгубпрокурора. — Звонил же ему! Просил я его задержать отъезд делегатов. Земляки всё же! Знали её многие. Можно же было не афишировать насчёт самоубийства. Тихо, по-человечески увезли бы в Астрахань и похоронили бы. Нет, скотина! Приказа ему не дадено!
— Уехал, значит, Роберт Янович? — осторожно раскурил папироску Турин. — Как-то мы с ним тоже особенно не пообщались.
— Подлец! Он меня больше не интересовал.
— Вы его простите, Павел Тимофеевич, ему перед Странниковым ответ держать за делегатов. А там народ разный. Выпьют, разгуляются, не собрать потом.
— Но как же! — не унимался тот. — Порешал бы я все эти вопросы с Василием Петровичем. Меня бы он понял.
— Василий Петрович приболел, как узнал о случившемся. Тут же уехал, вызвав сюда меня, чтобы докладывал ему о развитии событий. — Турин приоткрыл окошко, чтобы не смущать пассажиров дымом. — Он и вас, кажется, предупредил?
Пустышку эту закинул Турин Глазкину наугад, проверить замгубпрокурора, как тот отреагирует. Конечно, Странников никаких звонков по этому поводу в Москву не делал, но сыщик есть сыщик, сработала интуиция, и удочка была заброшена на всякий случай.
— Спасибо ему, что вас поднял, — Глазкин, ткнув рукой в стекло, подсказал шофёру, как ехать к небольшому домику, где размещалось кладбищенское начальство. — Сбегай, Коль, спроси номер участка, яма-то готова должна быть, а я что-то забыл в этой суматохе. Взмок весь.
Шофёр убежал, а Глазкин откинулся на спинку сиденья, достал из кармана платок и начал вытирать пот, обильно струившийся по его лицу.
— Досталось вам, не приведи любому, — посочувствовал Турин и остолбенел, не отводя от этого платка глаз.
— Вы бы рассказали мне, Василий Евлампиевич, — повернулся к нему Глазкин, не переставая обтирать платком лоб, щеки, шею, — не накрутили ли они с этим самоубийством? Павлинка моя оптимисткой была. Как ей могла прийти в голову такая шальная мысль? Не ссорились мы. И свадьба — на носу.
Турин молчал, горло перехватило: в руках у замгубпрокурора был чёрный платок! Чёрный платок таких же размеров, как тот, с груди раздавленной артистки! Ни рисунка на нём, ни цветных разводов, ни клеточек, ни кружочков… Ни пятнышка. Точь-в-точь!
«Что за чёрт! Уж не схожу ли я с ума? — не знал, что и думать Турин. — Придёт же в голову такое! Мало ли чёрных платков у мужиков? Не станут же они красоваться красными, жёлтыми, голубыми, вышитыми или с вензелями?.. Чёрные самые распространённые платки… они же и немаркие. Вон, у меня в кармане небось такой же?..»
Он сунул руку в карман и выгреб замусоленный уже, давно нуждавшийся в стирке светлый комок:
— Вот чёрт!..
— Василий Евлампиевич! — потянулся тем временем к нему Глазкин, выводя из замешательства и тыча тем самым платком в плечо. — Не заболели, случаем? Климат здесь не наш. Доставалось вам небось?
От его платка дурно пахло. Потлив был замгубпрокурора. Чрезмерно.
— Так как вы насчёт местных следователей? Не ошиблись они? Не накрутили чего?
— Следователи со стажем, — буркнул Турин, проглотив наконец комок в горле. — Городецкий, тот, кажется, всю жизнь только этим и занимался.
— А вот и не угадали, — хихикнул Глазкин, — из адвокатов он. Ещё царских. Но голова! Ему сам Плевако, может быть, ровесник. Но каков, а? Уважают его, берегут.
— Опыта у них обоих достаточно.
— Мне тоже понравились. Шорохов больно ершист, — не к месту весело хмыкнул Глазкин, отвернувшись и успокоившись, — но дело своё знает. И копает глубоко.
Прибежал шофёр, процессия тронулась, сзади уже покрикивали недовольные.
Часть четвёртая. Корнет Копытов и королева воров
I
Парочка эта не запечатлелась. Мелькнула. Участковый надзиратель[30] Корней Ширинкин вроде опытный служака, а докладывая Камытину, терялся, гасил глаза в пол, почесывал затылок — вся информация, что добыл, выглядела сплошной лабудой[31] да и вычерпал он её у барахольщика[32] Гнусавого с Криуш. А это публика известная.
Забулдыга Гнусавый попался в который раз и, выпутываясь, мог наплести сто вёрст, как говорится, и всё лесом, но надзирателю положено отчитываться по участку каждую неделю, вот Ширинкин и потел.
— Тебе самому-то всё это как? — лениво перебил его исполняющий обязанности начальника губрозыска Камытин. — Или мелешь, Емеля, не просеивая?
Ширинкина не так просто сбить с толку, он твердил своё, и получалось складно: Гнусавый приметил академика[33] под ручку с зазнобой, выходящими за полночь из плавучего ресторанчика «Богема». Пьяненькие оба были, певичка напевала. Ширинкин наблюдал сценку незамеченным у деревца. Подлетела к парочке летняя пролётка, в ней два дюжих молодца, одинаковых с лица. И след простыл, только выкатился следом едва держащийся на ногах пьяненький артист Задов, чертыхнулся, сплюнул в пыль и свалился бы, не подхвати его Гнусавый. Задов — личность известная не только театралам и дамочкам, Гнусавый обратно его проводил и от артиста узнал, что отыграться не дал ему заезжий гастролер, однако певичка пообещала заглянуть в театр, спеть что-нибудь на досуге. Голос у неё чудный, это Ширинкин сам слышал.
— В балагане пела? — с недоверием переспросил Камытин.
— В ресторан я не заглядывал, — смутился участковый, — а вот когда выходили они, довелось чуть-чуть услыхать голос. Приятный: век не забыть. В той «Богеме» только артисты и собираются! — удивился неосведомлённостью начальства Ширинкин. — В карты режутся, песняка выдают под гитару или рояль да стишками балуются, особо, когда развезёт совсем.
— Бывал?
— Ни в коем разе! Только по долгу службы заглядывал, — не моргнул глазом Ширинкин. — Опосля я Гнусавого тряхнул, думал, подчистил он пьяненького артиста. Однако не врал Задов: действительно опустошил его карманы катала[34].
После такого доклада плевался Ширинкин, так как тут же получил от начальства чёткий наказ парочку отловить, привлечь Гнусавого в помощники для поиска и в театр регулярно наведываться, вдруг объявится певичка. Долго ещё корил Камытин участкового, что упустил он крупного вора, потому как выходило, что заезжий катала — гость редкий в их городе, а такой по мелочи в глубинку закатываться не станет. Имелся, а может, и имеется у него здесь большой интерес.
— Кралю его уж больно расхваливал Гнусавый, — вспоминал Ширинкин, огорчаясь собственному промаху.
— А сам-то видел?
— В шляпе она была, не разглядеть в темноте.
— Гнусавого твоего и свинья, если отмыть, зачарует, — хмыкнул Камытин и отвернулся, его уже интересовал поджидавший своей очереди с отчетом участковый надзиратель Матвей Потеев, скучавший в коридоре.
А парочка с тех пор словно сквозь землю провалилась, но Ширинкин радовался: видно, укатила в другие края, побогаче да полюдней. Чем в их углах обогатишься?
II
Уже на перроне вокзала, не торопясь спрыгивать с лестницы вагона и разглядывая галдящую волнующуюся публику встречающих, Турин цепким взглядом выудил продирающихся к нему двух суровых с виду молодцов, одетых в кожаное. За их спинами незаметным выглядел шофёр Витёк со смущённой улыбкой на грустном озабоченном лице.
От мрачных физиономий этих двух шарахались в стороны даже носильщики. Низко опущены были их головы в надвинутых на твёрдые лбы фуражках, изредка высвёркивали злостью глаза, когда покрикивали на особо неуступчивых. Хохол Нетребко, спец кадрового отдела, добрался до Турина первым, он и приветствовал вполголоса начальника губрозыска.
— Без радости встречаешь, Степан Тарасович, — пожал его жёсткую руку Турин, кивнул агенту Геллеру, Витьку успел подмигнуть краем глаза и даже шутливо толкнул в плечо:
— А ты, что нос повесил? Случилось чего?
Витёк, прибившийся к слесарям из беспризорников и пригретый ими за великую любовь к автотехнике, незаметно вырос в лихого водилу, и Турин, получив автомобиль, оставил его в гараже шофёром, понравился ему трудолюбивый, неунывающий юнец.
— С вашим отъездом, Василий Евлампиевич, будто сглазили их, — забасил здоровенный Нетребко и совсем оттеснил шофёра могучим плечом. — Нема причин для гарной пляски. Второе убийство зависает, вилы им в бок! И считай толком ни по одному не видать просвета.
— Хлопцы ночей не спят! — из-за плеча спеца пробился Витёк. — Задержанный Хребтов начал давать показания по первому убийству. А поручить бы его допрос Легкодимову, Иван Иванович из него многое выпотрошить смог бы. Он Хребта ещё по царским временам помнит.
— Тебе откуда знать? — припустился на него Нетребко. — Мелет тебе Марик всякую ерунду! Вот они как работают, Василий Евлампиевич! Налицо утечка информации. С такими разве чего раскроешь?
— Паша Марик Хребта на повинную склонил, — тщетно пробивался шофёр к Турину.
— Уголовник Хребтов заговорил недавно, а убийство в начале недели было, — грубо оборвал его Нетребко и взгромоздил спину бугром так, что щупленький шофёр за ним совсем пропал из вида. — Камытин сомневается. Больше выдумает Хребет. Настоящие следы заметает. Одним словом, швах дело! А с Легкодимовым носитесь, словно с дырявой торбой, ни памяти у него, ни толку!
— Товарищ Нетребко! — упрекнул Турин. — Это что за тон? Прекратить! — нахмурился, гневом пахнуло от него на молодцов. — И гурьбой зачем припёрлись меня встречать? Агенты, мать вашу!.. Вырядились, словно на парад… За версту видать невооружённым глазом!.. Работали бы, чем свару передо мной устраивать! Какого шута здесь?
— Приказ Камытина, — смутился Нетребко, а Геллер сразу спрятался за его спину. — Вас встретить велел, а после на вокзале урок прошнурить… по всем направлениям с целью раскрытия убийства.
— Вот и вкалывайте, любезные. Мои баулы тащить нет надобности за их отсутствием, — он сорвал с головы изрядно надоевшую шляпу, распахнул болтающийся на исхудавшем теле пиджак. — Я не за барахлом катался! Видите, в чём красуюсь?
Агенты, сопя, затоптались с ноги на ногу.
— Учить вас? — не успокаивался Турин. — Камытин плачет, людей ему не хватает… А вы болтаетесь, как дерьмо в проруби! Я вас займу работой! Забудете, как бумажки со стола на стол перекладывать. Где Камытин, спрашиваю?
— Пётр Петрович три часа назад сам вывез группу на убийство, — высунулся из-за плеча побагровевшего от взбучки Нетребко юркий Геллер.
— Ещё одно?
— Ночное. Профессора Брауха застрелили в собственной квартире.
— Брауха? Франца Генриховича?
— Из мединститута.
На них начали обращать внимание, любопытные оборачивались на громкие голоса, навострив уши. Турин резко отодвинул громоздкого Нетребко в сторону и двинулся вперёд:
— Где машина?
— Как обычно, Василий Евлампиевич, — Витёк уже пробивал ему дорогу, ужом втискиваясь в толпу и расталкивая любопытных.
«Не рядовое это убийство, — метались в голове Турина мысли, — настоящее чрезвычайное происшествие! Профессор Браух дружбу водил со Странниковым, в мединституте, помнится, выступил инициатором посвящения ответственного секретаря губкома в почётные ректоры. Его идея! Семь шкур спустит секретарь, как узнает про убийство… Да и узнал уже наверняка! Ехать к нему сейчас же?.. Или сначала выяснить все обстоятельства убийства?.. Начнёт спрашивать про детали, причины — засыпешься… А если к тому же Камытин упустил убийцу?.. Нет, поспешить надо на место, встретить зама, выяснить подробности и, если мелькнёт малейшая зацепка, напрячь всех сыщиков, чтобы не болтались попусту, как эти двое. Главное в первые часы — ухватить след, ухватить его, пока горячий, зацепиться, а к Странникову успеется, Странникову он всё объяснит»…
— Ребята обрадовались вашему возвращению, Василий Евлампиевич, — не замечая, что на начальнике лица нет, щебетал Витёк, не переставая. — Только о вас и говорят. Дурачок нашёлся, слух пустил, будто вас в Саратов на повышение решили взять?.. Поэтому и придержали там…
Турин едва не споткнулся от такой глупости, а шофёр, любопытствуя и пятясь, заглядывал ему в глаза, пытался отыскать ответ.
«А ведь мальчишка в меня верит… Думает, приехал — все беды разлетятся сами собой и убийцы найдутся. Ишь, как приплясывает! Ах, Витёк, наивная ты душа! — Турин только теперь заметил, что, как смял шляпу в кулак, так и комкает. Досадуя, он ткнул её в карман пиджака и только тогда спохватился — верный конец пришёл головному убору. Вскинул глаза на шофёра, но Витёк с улыбкой до ушей ничего не замечал, и Турину подумалось: — Ну а кому же расхлёбывать все, что здесь приключилось, как не мне?.. К раздаче как раз и подоспел. Будто специально торопился, и сердце рвалось, видно, чувствовало беду. Ночью этой и убили Брауха…»
И уяснив вдруг для себя всю серьезность ситуации, почувствовал он, как покидают его суматошная тревога и гнев, взвинтившие там, на вокзале, как просветлело и напряглось сознание, настраивая весь его организм к сопротивлению, на поиск если не успеха, то выхода из тупика.
— В Саратов на повышение, значит? — ещё весь там, в своих мыслях, переспросил он Витька и не смог не улыбнуться ему в ответ, чувствуя на себе его прямо-таки собачьи глаза, искрящиеся преданностью и восторгом. — А ведь это ты, Витёк, всё и выдумал! Сознайся, ты брехню пустил?
— Нет! Они, дураки! — рассмеялся тот, захлёбываясь и не скрывая разбирающего его веселья. — Ляпин первым сочинил муру. И ведь никто и не засомневался. Никто!
— Я вот уши надеру, — не в силах побороть смех, подмигнул ему Турин. — И язык укорочу, — но удержаться уже не мог, губы сами разъезжались. — И на какую же должность ты меня сосватал? Небось в комиссары?
А смех уже сотрясал их обоих от чудовищной этой нелепости, видно, нервы, захлёстывавшие через край минутами ранее при встрече, теперь разметавшись, освободили психику обоих, и они захохотали неестественно громко и безудержно.
— У нас только об этом и велись разговоры, — Витёк, не сводя теперь глаз с начальника, схватил его за рукав и, косясь по сторонам, быстрей потащил к автомобилю.
— Знаешь, Витёк, — не сопротивлялся Турин, — историю я когда-то слышал. Крепость осадил грозный шах и никак не мог её одолеть. Дважды посылал шпионов, они твердят — плачут осаждённые, пора штурм начинать. А тот запрещает — вот когда смеяться начнут, тогда самый раз. Тогда ни сил, ни надежды уже не останется…
— Наших так просто не взять! — хлопнул себя по коленке шофёр.
— Вот черти! — всё ещё не успокаивался Турин, — Такое придумать… Это от безделья. От безделья не иначе. И находятся же хохмачи!
Но ругательство прозвучало довольно ласкательно, с такой неожиданной для Витька нежностью, что шофёр и сам отпустил на этот счёт лихую завертушку, но нахмурил тут же брови Турин и буркнул:
— Ростом в комиссары я не вышел, а Саратову гвардейцы требуются. Куда нам.
И смолк так же внезапно, как развеселился. Остальное время, пока добирались до автомобиля, лишь покачивал головой, недоумевая, а когда распахнул дверцу и уселся на сиденье, произнёс с укором.
— Это что же получается? Без меня не умеете? Не научил я вас, значит?.. Тогда не только в Саратов, отсюда погонят в три шеи.
— Кнута ждут, — оставаясь в добродушном настроении, добавил и Витёк.
— А я вот разберусь! — погрозил пальцем Турин. — Гони на квартиру Брауха. Осмотр-то не завершили, конечно?
— Там хоромы такие, за сутки не обойти, — с места дал по газам шофёр и рванул вперёд автомобиль. — А Нетребко вам напраслину плёл, Василий Евлампиевич, он на Легкодимова взъелся.
— Вот пусть и гуляет по вокзалу, — не обернулся тот. — Лучше работать будет, чем интригами заниматься. До Легкодимова ему расти да расти.
— Прибаливал последние дни Иван Иванович, — погрустнел Витёк. — С лёгкими у него беда. Несколько дней отлёживался. Я ему про врачей заикнулся, в больницу, мол, свожу, Камытин и не заметит, он ни в какую. Залечат, говорит. У него своё средство на каждую болячку.
— Ну и как?
— Вышел сегодня. Покачивало, но на своих двоих. Сейчас на квартире у Брауха с нашими.
— И что же они там окопались? — вскинулся опять Турин. — Сиднем успеха не достичь.
— У Камытина своя стратегия, — улыбнулся Витёк. — Поговорка у него, сами знаете: плясать от печки.
— Стратег!
— Паша Маврик накопал кое-что, — доверительно продолжал тем временем шофёр. — Только не желает слушать его Пётр Петрович. В больших сомнениях, как обычно. Заведёшь, говорит, со своим наполеоновским размахом. Иван Иванович Легкодимов втолковывал ему насчёт шмона по воровским хазам[35]. Не решается Камытин затевать его без вас.
— Хватит, — перебил его Турин. — Зря не трещи. Разберёмся. Брауха жаль. Знал я его. Чего к нему полезли? Брать там нечего, одни книжки. Кому помешал врач еврей? Здесь какая-то круговерть…
— Вот, — протянул ему свежий номер газеты шофёр. — Купил на вокзале, пока поезда дожидался. Полдня не прошло, а пацанва уже по всему городу растаскивает. Непонятно, зачем нужен розыск, если писакам про убийство всё известно?
— Дай-ка, — ухватил листок Турин. — Чего манежил-то всё это время? Прессу тут же читать надо. Тогда помогает.
Большим жирным шрифтом с листка таращились броские строчки, обрамлённые тревожной рамкой:
К убийству проф. Брауха. Подробности убийства
Вчера поздно вечером профессор Браух был в необычайно хорошем настроении. По словам соседей и старухи прислуги, служившей у него более 5-ти лет, смеялся, шутил и даже, что с ним раньше не бывало, насвистывал какие-то весёлые песенки. В половине одиннадцатого в передней раздался звонок. Прислуга с разрешения профессора впустила неизвестного человека, всё время старавшегося скрыть своё лицо и державшегося к ней спиной. Старуха доложила профессору о просителе, ожидавшем в коридоре, который ведёт в приёмную, а сама ушла на кухню.
Профессор, выйдя из кабинета к неизвестному, спросил его: «В чём дело?»
Неизвестный повышенным тоном что-то неразборчиво сказал. Профессор ответил ему тем же. Затем прислуга услышала два оглушительных выстрела и упала в обморок. Пришла она в себя, когда в коридоре были какие-то люди. Приняв их за бандитов, она подняла крик, когда соседи её успокоили, старуха, сбиваясь, рассказала, что видела, и вновь потеряла сознание.
Преступник скрылся, оставив дверь открытой, которой соседи и воспользовались, они же вызвали врача и милицию.
Смерть профессора Брауха наступила от ранения из револьвера в левую сторону груди, что констатировала прибывшая по вызову милиция.
Следствие об этом загадочном убийстве ведётся чрезвычайно энергично.
Подробности и о мотивах, приведших к убийству Ф.Г. Брауха, будут сообщены нами дополнительно.
— Странная писанина, — нахмурился Турин, закончив чтение и отбросив листок. — И с чего ты взял, что газетчикам убийца уже известен? Трепач всё же ты, Витёк. Пора из тебя человека делать, пока не испортился совсем за баранкой. Думаю, в помощниках сыщика тебе надо побегать. Есть у тебя дружок Маврик, смышлёный агент, поручу ему, тогда и языком болтать некогда будет.
— А я и без газеты скумекал, — беззаботно хмыкнул шофёр. — Чо голову ломать?
— Между строк читаешь?
— Тут всё проще. Старуха же видела убийцу, впустила его, значит, знала или запомнила, прислуга всегда глазаста. Тем более старая еврейка, мимо такой таракан не прошмыгнёт. К нашему Легкодимову её приведут, он ей пару вопросиков насчёт примет — и готово дело, Иван Иванович тут же имя или кличку убийцы выдаст. Берите тёпленького! — и Витёк рассмеялся, довольный собой. — А в сыщики я давно сам прошусь у нашего спеца Нетребко. Только упёрся хохол, не берёт.
— Потому и не берёт, что не так язык у тебя подвешен и насчёт извилин слабовато. Ты хотя бы почитал на досуге чего-нибудь про дедукцию, книжки про знаменитых следопытов. Слышал про Кожаного чулка, Старка Монро, Ле Кока[36]?
— Павел Маврик без всякой дедукции обходится и сказок не уважает, — надул губы шофёр.
— Чудак ты, Витёк. — Турин снова взял в руки газетный листок, пробежал мельком, задержал глаза на заинтересовавшей его фразе, заметно помрачнел и спросил: — Кто ночью наших на место происшествия отвозил?
— Воробьёв Пал Палыч. Его Камытин поднял. У меня задание было вас утром встретить, но поезд задержался, сами знаете, Нетребко звонил, ему сообщили, что прибытие ожидается к полудню, ну я и дежурил у отдела.
— Выходит, на месте убийства сам не был?
— Да откуда же мне.
— По газетке судишь?..
— А что? Врут?
— Не то, чтобы врут, — Турин скомкал листок от досады. — Факты не стыкуются.
— Как так?
— А ты учись рассуждать, а не глотать прочитанное. Статью для газеты, конечно, Камытин надиктовал.
— Зачем?
— Я с Камытиным десять лет отпахал. Изучил его методу как свои пять пальцев. Был такой приём у сыщиков, когда ситуация исключительная, надо сбить бандитов с толку. Теперь такие штучки редки, но когда случай особый, используют некоторые.
— Это как же? Убийцу-то?.. Он только ржать от такой статейки будет.
— Пусть поржёт до поры до времени. Не заметит, как в капкан угодит. И ещё делается это для широкой публики.
— А народу враньё зачем?
— Уловка, а не враньё, — поправил его Турин. — Вынужденный приём. Например, чтобы не посеять панику среди людей.
— Что-то я не совсем понимаю.
— Поймешь, когда вникать станешь, чудная голова.
Шофёр пожал плечами:
— Нетребко намекал на фамильные драгоценности профессора…
— Бывал я у него, — закурил папироску Турин, задымил в приспущенное стекло. — Драгоценностями там не пахло. Книгу он большую писал про свои врачебные секреты. Порой ночи просиживал… Деньжата, конечно, могли и водиться. Прислуга убийцу видела, может, даже и не раз, поэтому и впустила в приёмную. А теперь раскинь умишком: какой мокрушник, расстреляв хозяина и обобрав квартиру, оставит в живых свидетелей?
— Выходит, снова тю-тю? — повесил нос шофёр.
— Ты гони, гони, Витёк, — положил ему руку на плечо Турин. — Придёт ещё твоя пора понимать. Психология нашего Петра Петровича непредсказуема. Может, я в чём-то и ошибаюсь.
III
Пётр Петрович Камытин был несказанно рад появлению начальника, тем более, что его корявые толстые пальцы наконец-то выцарапали из неподдающегося дубового плинтуса штуковину, ради которой, всё проклиная, он ползал на животе по паркету в этом тёмном углу уже битый час без передыха. Зажав добытую драгоценность в кулаке и никак своих чувств не выдав, он так и продолжал лежать на боку, наслаждаясь удачей, и лишь слегка повернул голову к порогу, где в любимой своей позе — руки в боки застыл Турин, только что стремительным рывком вбежавший по лестнице. Орлиным взором окидывал он открывшуюся жуткую картину: в распахнутых настежь дверях гулял ветер по взломанным и выдернутым наружу полкам и ящикам шкафов с их содержимым, разбросанным в беспорядке на полу. В полной своей сиротской неприглядности выглядели остатки разграбленного имущества, навсегда брошенные не по своей, по злодейской воле заботливыми когда-то хозяевами на поругание чужакам. От самих хозяев остались на полу лишь два неуклюжих очертания их тел, нанесённых мелом, в приёмной — под большим треснувшим зеркалом, да на кухне — у самой плиты.
— С приездом, Евлампиевич! — стащив фуражку с лысого затылка и обтерев ею пот с взмокшего лица, Камытин, крякнув, вывернул своё необъятное тело и уселся на паркете, с наслаждением вытянув затёкшие ноги. — А мы уже начали думать — останешься там навсегда.
— Не думать вам было велено, а работать! — без зла, но строго отреагировал начальник. Не замечая зама под ногами и не меняя позы, он по-прежнему крутил головой по разорённой квартире, выискивая то, о чём другие, может быть, и не догадывались.
Бесцеремонное и дикое надругательство всегда претило ему и поражало душу. Вот и сейчас гнев приливал к вискам, и он, теряя контроль над собой, скрежетал зубами, с трудом подавляя мстительные порывы. Не раз такое вставало перед его глазами, казалось бы, и привыкнуть уже пора, научиться сдерживать себя, а не мог.
— Что ищем? — мрачно и не без укора прозвучал его голос в мёртвой тишине. — Вчерашний день?
И будто по команде, на шум и его голос из разных комнат с поникшими головами, пряча глаза, один за другим потянулись агенты, выстраивались рядком перед ним. Тяжело поднялся Камытин и замер слева первым, повернув к нему лицо; примкнул плечом к заместителю лучший розыскник длиннорукий Ляпин; подбежал замешкавшийся медик Сытин Митя в замаранном, как обычно, кровью сером халате — недавно, наверное, трупы отправивший в морг и разрисовавший пол мелом; оружейник, специалист по механизмам Рытин, поправлявший то и дело съезжавшие на длинный нос великоватые круглые очки; замкнул жидкий рядок бледный Легкодимов. Он появился последним, возник бесшумно, как призрак, выскользнув из скрипнувшей петлями двери кабинета профессора, незаметный за спинами сыщиков. Вскинув глаза на Турина, он кивнул, приветствуя без обычной улыбки и тихо забормотал в оправдание стоящему рядом Рытину:
— Вот шут возьми! В кабинете покойника увлёкся. И не слыхать ничего. У него там всего разного… Глаза разбегаются. Франц Генрихович Браух — голова! Ни морфина, ни кокаина, ни-ни… Выходит, за деньгами приходили.
— Кокаин — это баловство, а вот морфин!.. — шёпотом ответил Рытин и толкнул соседа плечом, чтоб унялся.
— Медицина, знаете ли… Для разных целей возможно… — не умолкал тот. — Он ведь приём на дому вёл. Ещё в мои годы практиковать начал. Публика, конечно, соответствующая, не нынешней чета.
— Да уж.
Наконец и они угомонились. Но Турин не спешил.
Так и стояли молча ещё несколько минут: агенты — глаза в пол, словно нашкодившая пацанва, переминаясь с ноги на ногу, Камытин — виновато покашливая, приехавший начальник — напряженно выжидая.
— Построился народ для разбора? — угрюмо хмыкнул, раздумывая, Турин и попытался заглянуть каждому в глаза. — Готовы?
Дружное сопение носов и почёсывание затылков было ему ответом, чувствовалось общее настроение — будто друг к другу в карман залезли.
— Два нераскрытых убийства в моё отсутствие… — покачал головой Турин. — Похвастался мне про вас на вокзале Нетребко… Премию недавно выдали… аж автомобиль!..
— Есть кое-какие соображения, Василий Евлампиевич, — словно за разрешением взглянув на Камытина, затянул Легкодимов.
— Что? Не слышу! — нарочито напряг ухо Турин. — Выходит, меня специально поджидали? Явился начальничек — вот тебе подарочек!
— Версия реальная, — в поддержку Легкодимова сделал шаг вперёд и Рытин, волнуясь, смахнул надоевшие очки с носа и измазал маслом лицо.
— Факты мне, а не версии! — отрубил Турин. — Вам известны мои требования. Пётр Петрович, вы что-то помалкиваете? Статейку никчёмную в газету тиснули! Кого обвести вокруг пальца собрались?
— Есть факты, — протянул ему раскрытую ладонь Камытин.
На ладони перекатывалась, поблёскивала необычная гильза от патрона.
— Зря газетчику сбрехали, что стреляли из нагана, — поморщился Рытин, разглядывая гильзу.
— А кто знал? — отмахнулся Камытин. — Надо же что-то говорить!
— Ладно, — бережно принял гильзу от Камытина Турин, — забудем. Кстати, в газетке напечатано не про наган, а револьвер. Хотя это почти одно и то же. А эта штучка, пожалуй, не из нашего, а из американского оружия.
— Да… штучка не российская. Редкая, я бы сказал, злодейка, — так и пытался выхватить у Турина гильзу оружейник Рытин.
— Могу, конечно, ошибаться, но сия зараза, похоже, выпущена из кольта[37].
— Точно! — словно прозрел оружейник. — Кольт и есть! И гадать не надо: 45-го калибра, модель 1917 года, шесть патронов в барабане как один.
— Кольтом нравилось орудовать Мишке Кривому, — тут же начал рассуждать Легкодимов. — После того как Серж Иркутский выбил ему глаз в пьяной драке, Мишка только кольтом и пользовался: скорострельная пушка, наповал зараз многих можно было покромсать.
— Мишка Кривой? — Камытин так весь и задрожал, предчувствуя удачу.
— Но Кривой в отсидке второй год. Если только бежал? — огорчил его Легкодимов, поджав губы. — И он наркотой не увлекался. Его побрякушки привлекали. У Брауха кроме белой лошади[38], конечно, водились накопления, даже о золотишке и камушках мне мои докладывали, но сколько ни подсылал я людишек пошарить всерьёз, впустую возвращались. Глыбко и хитро он их прятал. Ходили слухи — в тайнике специальном хоронятся они у него. Это всем хонурикам[39] известно.
— Выходит за этим добром и наведывались! — у Рытина от азарта зачесались руки. — Да не нашли ничего. Вы, ребятки, поглядите после них как следует, а за мной не заржавеет, любой тайник вскрою, любой сейф!
— Был еще такой Стремжбицкий Яков, — осторожно перекатил гильзу с ладони Турина на свою Легкодимов и залюбовался, как великой драгоценностью, — он ценил такие вещицы, но сынок польского князька скуп был безмерно, такими патронами без дела не стрелял. И до такого баловства, чтобы по люстрам палить, никогда бы не опустился, а люстры бы снял и увёз с собой, чем лишнее внимание привлекать. — Легкодимов повёл глазами по потолку, указал на осколки на паркете и в кучах мусора. — Ни одного светильника не оставил злодей. Ишь, Робин Гуд нашёлся! Словно издевался или балагурил со зла. Во всех комнатах люстры вдрызг разнёс. Знавал я еще одного такого красавчика при Николашке Кровавом. Привычка у него была гасить свечи из револьвера. Салют устраивал после удачного нападения. Но людей он щадил. Старуху бы не тронул без особой нужды.
— Кто таков? — у Турина голос сорвался от нетерпения.
— Была бы цела картотека на тех уголовников, Василий Евлампиевич… — поджал губы Легкодимов. — Но после переворота февральского да амнистии уголовников господином Керенским[40] уничтожили многое, не подумав. Я вот теперь пытаюсь восстановить утраченное с помощью нашей молодёжи, Ляпин, Маврик помогают, но похвастать особо нечем. А тот красавчик в Таганку[41] загремел, недолго на свободе порадовался, с тех пор про него ни слуху ни духу.
— Значит, сгинул… — опечалился Турин. — Хотя насчет отдельных деталей совершенного преступления нам с вами, Иван Иванович, надо будет ещё потолковать.
— Золото здесь искали — верный след к рабочей версии, — загорячился Камытин, тыча пальцем в Рытина. — Гильзу оставляю вам, но чтобы заключение было у меня на столе к вечеру. И всех скупщиков желтого металла прошерстить следует.
— Я работы прибавлю, — вмешался и медик, — думаю, извлеку из тела Брауха пару штук таких же.
— Посмотрим, — кивнул Рытин, пряча гильзу в пакет.
— Маврика дать ему в помощь, — Турин огляделся. — Что-то я его не вижу?
— Он по моему поручению отлучился, — коснулся рукава Турина Легкодимов. — Василий Евлампиевич, я тоже хотел переговорить по важному вопросу.
— А чего ждать? — резво откликнулся тот и развернулся к Камытину. — Пётр Петрович, вы продолжайте, командуйте здесь. Раз тела уже в морге, с экспертизой Сытину следовало бы поспешить. А от тебя, сам понимаешь, жду полную картину, что тут без меня было.
— К ночи?
— Как получится, — подбадривая, похлопал его по плечу Турин и усмехнулся, заторопившись в кабинет профессора вслед за Легкодимовым. — Кому не спится в ночь глухую?
— Знаем, — хмыкнул совсем невесело заместитель и фуражку надвинул на голову до ушей. — Паша Маврик в этом направлении как раз занимается.
— Как? Как ты сказал? — вскинул брови начальник губрозыска. — В этом направлении?
— Так точно!
— Очень удачная формулировка однако, — покосился на зама Турин. — Где-то я уже её слышал.
— Агент Маврик работает по врачам и больницам, — отрапортовал Камытин, — это версия Ивана Ивановича. Он объяснит, я надеюсь.
IV
— Случайно газетками не баловались сегодня, Василий Евлампиевич?.. На вокзале-то?.. — кряхтя, Легкодимов согнулся, с трудом давались ему шаги, с облегчением опустился он в лёгкое кресло-качалку у раскрытого книжного шкафа. Вздохнул, потянулся к шкафу, словно почитать собрался, кивнул Турину на высокий жёсткий стул. — Присаживайтесь, профессора Франца Генриховича место.
— Газетками? — в недоумении продолжал стоять и озираться по сторонам начальник губрозыска. — Я же рассказывал Камытину… Клочок со статейкой из нашего «Коммуниста» сберёг Витёк, шофёр мой, тем и довольствовался. А что, имеется ещё какое чтиво по этому поводу?
Вопрос старого сыщика застал его врасплох, но больше поразила окружающая обстановка: кроме стола да шкафа, ничего не имелось, на столе рядками высились аккуратные столбики бумаги, книги, брошюры и рукописи, медицинские документы, о назначении которых можно было только догадываться. Не в пример разрухе, царившей в квартире, здесь господствовали относительный порядок, если не считать похрустывающего стекла разбитой люстры под ногами. И едкий запах неизвестного происхождения давал о себе знать, несмотря на распахнутую форточку.
Турин с непривычки зажал нос платком, покосился на Легкодимова: что за аромат? Но того привлекли книжки в шкафу, он, казалось, отыскивал там что-то с большим интересом.
— Вы здесь, гляжу, похозяйничали? — осторожно прошёл и сел к столу Турин, стараясь ничего не смахнуть. — А о каких газетках вы вели речь?
— Разных, — оторвался от шкафа Легкодимов. — Кроме «Коммуниста», конечно. «Правду», например?
— «Правду»? — Турин повёл плечами. — Это слишком серьёзная советчица. Сплошь политика. На неё время требуется. А у сыщика где его взять?
— Значит, батенька, «Правдой» не интересуетесь? — не отставал Легкодимов.
— Интересуюсь, конечно, — Турин кольнул его взглядом, будто прицениваясь. — Времени, говорю, маловато для глубокого прочтения. Я, знаете ли, как мой Витёк, всё меж строк улавливаю. Так быстрей и удобней. Владимир Ильич, кстати, только так и читывал их. Рассказывали, соберёт Надежда Константиновна груду газетного брахла, а ему одной минуты хватает во всём разобраться. Вертикальное чтение, слышали, наверное?
Легкодимов понимал, что разыгрывает его начальник, но некоторые слова звучали задиристо, будто его самого проверял Турин, не доверяя главного.
— Меня больше привлекает смешное, где про криминал да детективные истории, — откровенно хмыкнул Турин, тем и закончив.
— Представляется мне, что скоро запущена будет дрянная интрижка в газетах, — Легкодимов всё-таки решился досказать своё. — С особым, конечно, умыслом. И заденет она больших людей в нашем городе.
— Кому и о ком брехать? — лениво возразил Турин, коснувшись бумаг на столе и делая вид, что они больше занимают его. — Теперь врать — опасная затея.
— Опасная? Не скажите…
— Раньше вольности ещё позволялись, а сейчас губком за всем следит. По шапке враз схлопочут даже за грамматические ляпсусы, а уж касательно политических эксцессов!..
— Значит, не допускаете? — с хитрецой обернулся старый сыщик.
— Иван Иванович, чувствую, вы решили меня доконать. — Турин насторожился, куда девалась улыбка в глазах. — Ещё один сюрприз подготовили? Признавайтесь.
— Давненько не виделись, накопилось… — не смутился тот. — Не сбрасывайте со счетов старческую блажь.
— Ну, хорошо. Я догадываюсь, что вы желаете разведать… Моё отношение к этой истории? Извольте. Профессор Браух слыл личностью известной, если не знаменитой, в медицинских кругах пользовался большим авторитетом. Общаться с ним считали за честь многие наши руководители. Были у него влиятельные люди в столице и не только по врачебной и научной деятельности. Сам Василий Петрович Странников заглядывал к нему, ценил, но захаживали к нему, как ни странно, и авторитеты из уголовников.
— Вот Василию Петровичу и аукнется это убийство, — тихо подсказал Легкодимов, будто только и ждал последних слов.
— С какой стати?
— Оставим пока эту тему, Василий Евлампиевич, — видя, как закипает начальник, смутился Легкодимов, — мы к ней ещё вернёмся. Обратите внимание на сей экземпляр, — и он с любовью погладил ладошкой объёмный фолиант в богатой кожаной обложке на книжной полке шкафа. — Полдня копался и вот не терпится похвастать открытием.
Он ухватился за корешок фолианта и попытался вытянуть его наружу. Лишь только ему удалось это сделать наполовину, раздался скрип, а затем послышалось лёгкое повизгивание металлических колёсиков, и громадный шкаф пришёл в движение. Откатываясь ближним боком от стенки, он открыл едва заметные контуры встроенного в камень тайника.
— Чудеса, да и только! — подскочил на ноги Турин.
— Терпение, батенька, терпение… — Легкодимов попробовал как бы приподнять удивительный фолиант вверх из общего ряда книг. — В своё время мудрые эти схроны были для нас неразрешимыми загадками. Я был знаком с единицами. В Кремле, помнится, в некоторых соборах да у купца Никольского. Любил тот баловаться такими штучками. Венецианских инженеров, говаривали, специально приглашал. Однако всё возвращается на круги своя, и прав был царь Соломон — нет конца этой круговерти. Понадобилась сия загадка Францу Генриховичу. А вот по какой причине?.. — он обернулся к Турину. — Сейчас вашим глазам предстанет то самое, ради чего и пожаловали к профессору незваные ночные гости.
— Гости? Их было несколько?
— Их побывало здесь по крайней мере не меньше двух-трёх, — продолжал тот колдовать у шкафа.
Как только фолиант поддался вверх, дверца тайника в стене задвигалась, открывая внутренности довольно вместительного металлического сейфа. Не сдержавшись, Турин выскочил из-за стола и бросился к тайнику, оказавшемуся как раз на уровне его груди. Он уже готов был сунуться вперёд головой, сгорая от нетерпения, но резкий голос Легкодимова остановил его:
— Будьте осторожны, Василий Евлампиевич!
— Ловушка? — отпрянул тот.
— Этой гадюке ночью выбили зубы. Но злодеи, первыми открывшие сию пасть, уверен, поплатились жизнью. В былые года чем только не оберегали господа такие тайные хранилища! Чувствуете запах?
— Как вошёл в кабинет, ударило по ноздрям, — совсем отодвинулся Турин от сейфа, — словно нашатырь острый, а спросить у вас забыл. Заморочили мозги то газетками, то сюрпризами этими.
— Яд! Разит наповал. Когда я наткнулся на тайник, он уже утратил смертельную опасность. Оказывается, господин Браух был не так прост, профессор знавал многое из арсенала тайного оружия. Немцы — ушлые спецы по части химических отравлений. Ещё в Первую мировую войну они отличились. Здесь Браух поскупился: при первом же неправильном вскрытии сейфа, яд должен убивать, а затем терять свою активность. Но при умелом обращении его действие вполне можно нейтрализовать сразу.
— Значит, бандитам не повезло?
— Тот, кто вскрыл этот смертоносный ящик до меня, если чудом и уцелел, то пострадал серьёзным образом. Вполне возможна гибель и нескольких человек.
— У вас есть подтверждения?
— Нет, конечно. Яд разит, не нанося кровавых повреждений или физических увечий. Бандиты могли унести тела своих дружков на руках.
— Варварство!
— Способ защиты. Эта смерть сравнительно гуманна, если данное слово уместно вообще. Господину Брауху чем-то дорого было его жилище, он отказался от минирования тайника. К сожалению, в практике использовались и такие методы обороны, при этом взломщиков разносило в клочья, правда, доставалось и собственности.
— Зверьё!
— Вот вам второе и настоящее лицо владельца этой скромной с виду квартиры. — Легкодимов откинулся на спинку кресла, слегка качнулся. — У вас не найдётся папироски? Знаете ли, несколько лет назад я бросил курить. Здоровьем занялся на старости лет, но иногда не могу удержаться.
— У вас же лёгкие! — попробовал урезонить его Турин, всё же доставая портсигар.
— А шут с ними! — отмахнулся тот. — Расстроился я вконец. До сих пор в себя не приду.
— А что, собственно, случилось? — подав папиросу, Турин закурил и сам. — Триумф налицо! Добраться до таких секретных хранилищ и убиваться?.. Я вас не понимаю, милейший Иван Иванович.
— Отчасти вы правы, батенька. — Легкодимов по-прежнему хмурился. — Но загляните всё-таки туда, — он ткнул папироской в нутро сейфа, — нам достались одни разочарования.
Тайник был пуст.
V
— Я понимаю, это они оставили нетронутым? — закончив изучать дно сейфа, Турин возвратился к бумагам на столе. — Удалось найти что-нибудь стоящее среди этой мукулатуры?
— Изучение потребует значительного времени. — Легкодимов устало потёр ладонью лоб, покрасневшие глаза, притушил папироску, недокуренную и до половины. — Я, знаете ли, утратил уйму времени на возню с самим механизмом тайника и его обезвреживанием. Хорошо ещё, агент Маврик помогал, кстати, возьмите на заметку, из парня может вырасти настоящий профессионал.
— Советский пинкертон! — с напускным пафосом кивнул Турин.
— Вы как раз интересовались его отсутствием, так вот, он сейчас собирает сведения на лиц, обратившихся за врачебной помощью от отравления.
— Боюсь, это не даст результата.
— Почему?
— Такое зверьё не станет спасать своих. Мёртвых, если они имеются, предадут земле, а мучающихся добьют, если уже не добили.
— Нам неизвестны их намерения. А вдруг пострадал главарь или кто-то из верхушки?
— Иголку в стоге сена ищете.
— У вас есть предложения лучше?
— Иван Иванович! Ну что вы сегодня сам не свой! На себя не похожи, ей-богу! Болезнь? За меня переживаете?.. Зря! С газетками этими развели какую-то закавыку… Не будем друг с другом заниматься крючкотворством. Оба прекрасно понимаем — бандиты нагрянули за золотом! — Турин даже по столу хлопнул. — Если и были какие сомнения, то теперь они отпали. Драгоценности и золото! Браух хранил их с особой тщательностью, мы с вами в этом убедились. Значит, вёл двойную игру с какой-то политической партией и с ворами. Маскировался, для чего денег личных не держал в большом количестве. Жил впроголодь. Натуральный Гобсек, ни жены, ни любовниц! Вечный бобыль. Этим интриговал и притягивал Странникова. Тот, видя его мытарства, верил в другую любовь профессора — в великую науку…
— Каково же будет его разочарование…
— К разочарованиям ему не привыкать. Он — человек особого склада, вы мне поверьте на слово. — Турин как-то странновато ухмыльнулся. — Партия, как в газетках пишется, выковала его из железа.
— Мы одни, Василий Евлампиевич, — опустил голову Легкодимов. — Нужны ли эти эпитеты? К тому же в памяти у всех свежо безжалостное коварное развенчивание личности более значимого калибра!
— Троцкого?
— Лейбы Давидовича Бронштейна, основателя Красной гвардии и героя всех её побед, как кричали недавно на каждом углу.
— Сочувствуете? — прищурился Турин.
— Удивительно замечать, как перерождаются все эти недавние герои.
— Хотите сказать, становятся самими собой, сбрасывая показную мишуру?
— Пожирают друг друга. Уверен, став Генеральным секретарём, Сталин начал жестокую чистку, освободился от соперников и недоброжелателей. Товарища Бронштейна в январе прошлого года освободили от обязанностей народного комиссара по военным делам, а теперь уже лишили серьёзной работы и всех важных должностей, в газетах устроили травлю, особенно неистовствует та же «Правда». Недолго он продержится при таких темпах, а там очередь за товарищами Зиновьевым и Каменевым.
— Вы думаете, их объединяет национальность?
— Отнюдь. И мысли не чаю. Борьба за власть — важнейший аргумент, тщеславие и прошлые обиды. Наверху всё заметнее, как на ветру.
— Они туда забирались сами, — поморщился Турин, — а сверху, как известно, тяжко падать. Вы думаете, против Странникова затевается что-то подобное?
— Конечно.
— Любой нашей газетке легко заткнуть глотку. Ему это под силу.
— Не скажите. Ему понадобится ваша помощь, а это, прежде всего — найти убийц профессора и подумать, как всё преподнести.
— Вы тонко мыслите, как завзятый политик.
— Жизнь научила всему помаленьку…
— Мне кажется, дорогой Иван Иванович, вы говорите мне сейчас не всё, что вас мучает.
— Боюсь снова вас разочаровать, — не отвёл лица тот. — С этим тайником я связывал большие надежды. Его обчистили, унесли не только ценности, но и кое-что более опасное.
— Доказательства связи Брауха с криминальным миром?
— Возможно. Но я боюсь другого — не примыкал ли Браух к оппозиционерам?
— К троцкистам?
— Вот именно. Не искали ли его убийцы и этих следов?
— Выходит, среди уголовников были и политические враги Странникова?
— О чём я вам и намекал. Вам, Василий Евлампиевич, как никому, известна шаткость моего положения в губрозыске. Отстаивая меня здесь, вы давно нажили себе врагов. Заинтересованные только и ждут вашей малейшей ошибки или просчёта. Случай как раз представился. Не стану скрывать, мне давно известно о взаимоотношениях покойного профессора с секретарём губкома и не секрет — просочись хоть одна капля на волю, Странникову конец. Но это полбеды. Они свалят вас обоих одним махом. Что касается меня, — не велика потеря, я своё и оттрубил, и отжил. А вы попадёте в большое, извините, дерьмо. А то и припишут какие-нибудь партийные уклоны, тайные заговоры. Поэтому…
— В нашем деле дерьма хватает! — оборвал его Турин. — И ошибки, и просчёты неизбежны. Даже трагические. На карту, вы правы, поставлено слишком много. И вы со своей прозорливостью почти разобрались, что здесь намешано. Дело об убийстве Брауха с каждым мгновением становится тем узлом, который или затянется на наших шеях или мы его наконец разрубим. Слишком напряглось сие противостояние! Но назад поворачивать поздно. Вы знаете, мы — по одну сторону. А враги?.. Когда их у нас не было? Но я сейчас не об этом. Скажите прямо, вам знакомы специфические особенности убийцы?
Легкодимов, явно не ожидавший такого вопроса, неуверенно отмахнулся и заторопился невнятно:
— Спасибо за откровенность и доверие, Василий Евлампиевич.
— Сочтёмся славой.
— Спасибо. Я действительно тронут, — старый сыщик привстал и поклонился.
— Ну-ну!.. — поморщился Турин. — Давайте без старорежимных пережитков.
— Простите.
— К делу! Есть ли хотя бы малейшие соображения насчёт банды или её главаря?
— Да-да. К делу… Вы спросили о почерке, знаком ли он мне? Я мучаюсь этим с той самой минуты, как ступил на порог растерзанной квартиры.
— Что вас особенно поразило и напомнило?
— Расстрелянные люстры, знаете ли…
— Под способ мести не прёт, — тут же подхватил Турин, — злодеи срубили солидный куш, очистив тайник. Какая уж тут месть.
— Добычу унесли немалую, сомнений быть не может, — согласился Легкодимов, — быть может, и не одними наркотиками поживились, но люстры да и всё остальное, если б на это позарились, могли погрузить и увезти. Ведь имущество старинное, антикварное, но не взяли…
— Из-за соседей — лишний шум. Потеря времени. К тому же могли быть и трупы подельников.
— И всё же зачем расстреливать люстры? Их раздербанили все. И в спальне, и в этом укромном кабинете, — Легкодимов двинул ногой — заскрипели осколки.
— Камытин только одну гильзу нашёл?
— Уверен, найдутся и остальные. Но меня прямо-таки подзуживает интуиция, что стрелял один человек. Из кольта. — И старый сыщик, вопрошая, заглянул в глаза Турину. — Василий Евлампиевич, простите за нескромный вопрос, вам же приходилось бывать в Америке?
— Откуда вы знаете? — напрягся тот. — Нетребко разболтал?
— Кадры хуже шпиона, — грустно улыбнулся Легкодимов, — об этом все наши знают, но я к чему поинтересовался… Один мой крестник[42] в далёкую бытность помешан был на стрельбе по этим самым люстрам. Впрочем, он и свечи горящие терпеть не мог. Осуждён был пожизненно за разные злодейства, но бежал и перебрался за границу. Я отследил его путь по всей Европе-матушке, но он пропал в Америке. И ведь в те самые годы, уж простите меня великодушно, когда вам там приходилось бывать, где-то с 1908 года.
— Было дело… — Турин криво усмехнулся, подёргал себя за ухо. — Увлечение революцией сыграло со мной тогда шутку. После 1905 года, расстрела демонстраций, большевиков отлавливали, как тараканов, а с некоторыми не цацкались, на месте задержания без суда кончали. Вот и пришлось спасаться.
— Я к чему? — зорким стал взгляд старого сыщика. — Русские за границей старались держаться друг дружки. Тем более, в той треклятой Америке, где и своих-то особо не жаловали, с неграми вон что вытворяли!
— Да, мы старались держаться вместе, — кивнул Турин. — Нелегко там жилось, и здесь вы правы. Кстати, возвращались мы вместе со Львом Давидовичем одним теплоходом по морям, по волнам через Скандинавию. Как амнистию протрубило Временное правительство, господин Керенский прокукарекал, так и рванулись все домой. — Турин кисло усмехнулся старому сыщику. — Уловил я вашу мысль, Иван Иванович, и хватку вашу чую — спросить желаете, не попадался ли мне там, в Америке, этот сумасшедший, который по люстрам палил?
Легкодимов хранил молчание, лишь смущённо кивнул.
— Я там не только стрелка, Робин Гуда вашего, я люстр там не видел. — Турин помрачнел, но потом вдруг расхохотался. — Подвели вы узду к бороде! Лихо у вас получилось… Есть чему поучиться! Есть!.. Нет, дорогой Иван Иванович, жили мы в той Америке хуже крыс. Лейба Давидович, может, и щи хлебал, по ресторанам шастал. Доходили слухи, что он и с банкирами встречался, и денег просил для революции, даже паспорт себе американский выхлопотал, но до нас ему особых делов не было. Были у него свои гвардейцы, телохранители, толковые волкодавы из боевиков ребята, не нам чета. Мы вкалывали на разгрузке вагонов, если судьба улыбалась… — Он помолчал, но снова оживился, криво усмехаясь. — Бухарина встречал, он и там косоворотки своей не снимал, но лысым уже был… Да, пролетело времечко…
— Жаль, — искренне посочувствовал Легкодимов. — Приметный был тот красавчик. Страсть по люстрам лупить у него с юности. Ещё младшим чином в кавалерии как-то отличился этой самой стрельбой по пьяни. Вот с тех пор и получил кличку Корнет. Корнет Копытов, так его и величали за глаза, хотя он и остепенился, и лихим налётчиком стал, как из армии попёрли, а всё Корнет Копытов да Корнет Копытов. А вот судили его по настоящей фамилии, только запамятовал я…
— Что фамилия? Её поменять в один миг. А встречаться?.. Нет, не пересекались наши дорожки. — Турин постучал костяшками пальцев по столу. — Лихой вояка, сразу бы в глаза бросился. И ведь, похоже, правы вы, Иван Иванович, его след в квартире профессора. Когда и где ещё такой сумасшедший отыщется?
— Давненько всё это было, Василий Евлампиевич, — как бы сомневаясь, покачал головой старый сыщик, — слух был, что схоронили его после пьяной драки.
— Полноте! К сожалению, нередки исключения, когда прошлое воскрешает своих мертвецов.
— Вы полагаете?
— Чтоб содрогнулось настоящее.
— Красиво и жутко сказано.
— Чую я, собирается гроза пострашней, — похлопал Турин Легкодимова по плечу. — Информацию вы мне выдали славную. Её и пустим в работу. Вечерком на общем совещании с Камытиным поговорим об этом. А сейчас мне спешить надо.
— Куда, если не секрет?
— Да какой уж тут секрет? К нему надо торопиться, о ком говорили здесь, к ответственному секретарю Василию Петровичу Странникову. Он уже, наверное, мечет гром и молнии.
— Спешить вам некуда, — остановил его за рукав Легкодимов, — секретарь губкома в отъезде уже длительное время. Укатив сначала в Саратов, оттуда прямиком он отправился в столицу, а возвратившись, умчался осматривать берега реки.
— По какой причине?
— Воду большую ждут.
VI
— В губком! — скомандовал всё же Турин поджидавшему его водителю, садясь в автомобиль.
— А отдохнуть с дороги? — Витёк с сочувствием глянул на начальника. — Ночь-то не спали, по вам видно.
— Плохо выгляжу?
— Ефим Петрович себе позволял, ежели с вокзала. — Витьку временами приходилось подменять Пал Палыча — основного водителя, и он знал повадки Опущенникова, возвращавшегося из командировок. Не преминул он укоризненно напомнить и другое, кивнув на костюм Турина: — В гражданке Ефим Петрович туда не показывался.
— Я смотрю, вы дюже соскучились по высокому начальству, — строго осадил его тот. — Чтоб больше не слышал! Заруби себе на носу!
Шофёр нагнул голову, закусил губу и, вцепившись в баранку, прибавил газу.
В коридоре, поспешая со второго этажа от машинисток с кипой бумаг в руках, встретил его Распятов. Увидев Турина да ещё в необычном наряде, остановился, деликатно изобразил весёлое изумление, пока тот подходил:
— Прямо не узнать, Василий Евлампиевич! Уж не сменили ли профессию?
— Маскируюсь, — оценил шутку Турин. — С преступным миром иначе нельзя.
— А кого же у нас ловить собрались? — хихикнул тот.
— С вами шутить опасно, Иосиф Наумович, — дружески коснулся его локтя Турин. — Забежал доложиться по случаю возвращения.
— Опоздали, опоздали, голубчик, — изменил тон Распятов. — Василий Петрович намедни прибыл из столицы и сегодня же отплыл вниз по Волге.
— Не иначе паводок попёр?
— Началось, началось половодье, — кивнул Распятов. — Подымитесь, голубчик, ко мне, я вручу вам необходимую информацию к исполнению. Василий Петрович возглавил штаб по борьбе с наводнением. Уже подписал несколько приказов.
— Совсем туго?
— В верховьях Волги началось, — увлекая за собой Турина, Распятов зашагал к себе. — В Пугачёве затоплена часть города. Жители спасаются на крышах домов, на верхних этажах зданий. В Костромской губернии наводнение принимает характер стихийного бедствия, в Ярославле подъём воды превысил одиннадцать метров, есть человеческие жертвы, в Рыбинске под водой фабрики. Сура грозит затопить железную дорогу.
— Как у нас?
— Готовимся.
— А с кем же он отплыл? — расписываясь за получение бумаг, поинтересовался Турин.
— Члены штаба разъехались в разные места, чтобы быстрее собрать информацию, а Василий Петрович взял с собой Аряшкина из райкомвода и Глазкина.
— Замгубпрокурора?
— А что вас удивляет? — вскинул брови Распятов. — Павел Тимофеевич с утра примчался с каким-то вопросом и тут же принял предложение о поездке.
«Значит, возвратились мы с ним одним поездом… — размышлял Турин, шагая к машине. — Ни дня не остался он в Саратове после похорон. Какого же чёрта так спешил к ответственному секретарю? Наверняка знал, когда тот выехал из столицы и про его планы был извещён… Выходит, сидят у Павла Тимофеевича свои человечки во многих местах, постукивают ему при особой надобности…»
— Озадачили вас, Василий Евлампиевич? — перебил ему мысли Витёк, уже запамятовавший обиды и наставления начальства, и кивнул на пакет с бумагами. — Камытина я каждое утро сюда катал. Новый день — новая бумага. Штампуют в милицию поручения!
— Бумаги важные, — пожурил его Турин. — Вода прёт большая! Оценишь, когда на заводскую трубу полезешь спасаться. Езжай потихоньку, я гляну пока, чем тут загрузил меня товарищ Распятов.
Он раскрыл пакет, устроился поудобнее и начал извлекать листы по одному. Текст на всех листах был короток, как вспышка молнии и бил по глазам:
ВСЕ НА БОРЬБУ С НАВОДНЕНИЕМ!
Этим призывом начинался каждый документ. Далее следовало содержание сообщений, предложений, указаний, приказов по существу. Турин старался выхватывать главное:
…Тройка, созданная Губсоветом, приступила к работе: заготавливаются мешки с песком, осматриваются берегоукрепительные сооружения, распределяется рабсила.
Прибыль воды ежедневно увеличивается пока на 6–8 сантиметров, но не нужно забывать, что при продолжительной моряне уровень Волги может резко повыситься, а тогда город будет поставлен под угрозу наводнения.
Горизонт воды в Н.-НОВГОРОДЕ выше ординара 1286 см, САМАРЕ — 1000 см, САРАТОВЕ — 728 см, верхний ледоход, СТАЛИНГРАДЕ — 455 см.
В АСТРАХАНИ на 5/V выше ноля 63 см, за сутки прибыло 2 см. Температура воздуха +14 град.
4 сего мая Губсовет создал Губернскую чрезвычайную тройку по борьбе с ожидающимся большим наводнением под председательством тов. Странникова и членов: зам. Председателя ГИК тов. Сергиенко и начальника ОГПУ тов. Трубкина.
Тройке поручено приступить к работе.
Приказ № 1
Городской Чрезвычайной комиссии уполномоченной по борьбе с наводнением
…4) Учреждениям и организациям: а) Буксирному Агентству, б) Товарно-пассажирскому Агентству, в) Каспару, г) Волго-Каспий-Лесу, д) Госрыбтресту, е) Центросоюзу, ж) Сольсиндикату, з) Астпищпрому, и) Акционерному Обществу «Транспорт», к) Совторгфлоту, л) Нефтесиндикату, м) Районным Отделениям Гормилиции, — немедленно организовать «Тройки» по принятию мер борьбы с наводнением, сообщив о составе их сведения в Горкомиссию (в 2-х экз.) к 11 сего мая, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, адреса лиц состава «Троек».
Примечание: в состав «Троек» при Районных Отделениях Милиции обязательно входит также Инспектор Районной Жилищной Инспектуры…
— Эти детали вечером с Камытиным обмозгуем… — Турин захлопнул папку и тронул водителя за плечо: — Не проголодался?
— Никак нет, — бойко ответил тот. — На обед ещё не заработал.
— Это точно, — согласился Турин, — однако подбрось-ка меня к «Счастливой подкове», только за квартал останови, прогуляюсь я. А ты бумаги свези в контору. Заправь машину на полную и подкрепись. Жди меня возле отдела, сам туда доберусь.
Витёк привык к неожиданным решениям начальства, поэтому, ничему не удивляясь, развернул автомобиль.
— В гараж наш случаем не заглядывал? — вспомнил вдруг Турин.
— Как же! Сунцов с утра был там, а Ковригин на моторной лодке секретаря губкома по Волге повёз. Берега осматривать.
— Значит, Егор с ними. Это неплохо, — потёр руки Турин и даже повеселел. — Гони, Витёк, в «Подкову», бунтует мой аппетит.
VII
Ресторан пустовал.
В полумраке большого зала за дальним столиком, куда прежде всего бросил острый взгляд Турин, любезничала уединившаяся парочка, худосочная блондинка, смущаясь, нервничала в уголке, помешивая остывающий кофе и листая книжицу, в неё не заглядывая, да шумела разгулявшаяся компания вольно одетых молодых людей, выкрикивая здравицы в стишках, балагуря и не отпуская от себя забегавшегося официанта.
Понаблюдав с минуту и поморщившись, Турин решительно направился в самое чрево заведения — неприметный кабинет для особых персон. Служивый тут же забыл про всех, бросился за ним, любезно окликая:
— Василий Евлампиевич, какими судьбами? Вас, право, не узнать. Откушать-с? Отдохнуть-с?
— С дороги я, любезный, — буркнул тот, шагнул в услужливо распахнутую перед ним дверь укромного помещения и скинул пиджак на руки официанту. — Язык-то прикусил бы. Чего разорался? Я ж не те пустозвоны.
— Извиняюсь, Василий Евлампиевич, маху дал, — стушевался тот, пригнул ниже голову. — Пииты несчастные именины дружка отметить собрались. Выпьют на грош, шума на червонец.
— Для них же «Богему» держит Лев Наумович, — покривился, всё ещё не в духе, Турин. — Ишь, рифмоплёты! Не марафета[43] хватили?
— Что вы! Балбесы! — махнул рукой официант. — А в «Богеме» сейчас занято.
— Мне бы перекусить да с другом дорогим повидаться. Организуешь?
— Отчего же. Располагайтесь. Я мигом. Мясцо? Рыбку-с?
— Это само собой. Только отыщи мне сначала Дилижанса.
— Корнея Аркадьевича? — переменился тот в лице.
— Кость проглотил? Аль болен он? В отъезде?..
— Ни то ни другое…
— Так пошли за ним, ежели не здесь. Подожду. Отдохну у вас на диванчике, — и Турин жёстко прихлопнул по коже дивана, тот жалобно скрипнул в ответ. — Но учти, тороплюсь. Полчаса хватит?
— Постараемся.
— Вот и поспешай. Только деликатно всё сделать. Никому знать не следует, кто его побеспокоил, — Турин отвернулся, расстегнул рубаху до пояса, по-хозяйски отодвинул ширму и принялся ополаскивать под умывальником усталое лицо, шею, грудь, фыркая и не жалея брызг.
Освежившись и, словно помолодев, он глянул на себя в зеркало, разворошил чуб, скатывающийся на правую бровь, игриво подмигнул себе и тщательно вытерся полотенцем, поданным с поклоном уже примчавшимся назад официантом. Передёрнув плечами, с шумом плюхнулся на диван, в полном удовольствии закинув и ноги в сапогах.
— Всё исполнено, Василий Евлампиевич, — крадучись, приблизился к нему служивый. — Чего кушать изволите-с?
— Попотчуй, Николаш, теперь чем-нибудь на свой вкус. С рыбки начни.
— Графинчик с селёдочкой?
— Это потом, — лениво отмахнулся Турин. — Я полежу, а ты покуда чайку неси покрепче да с лимончиком. Не забыл, я горячий люблю?
— Ну как же! — лихо крутанулся тот волчком.
— А кем «Богема» занята? — когда был принесён чай, как бы между прочим спросил Турин, приподнимаясь на локте и отхлебнув из чашки, не вставая. — Кто там гуляет?..
— Так гостья ж у нас, Василий Евлампиевич, — наклонившись к его уху, доверительно шепнул официант. — Артистка известная. Маргарита Седова-Новоградская. При ней и сам Григорий Иванович Задов. Они и Корнея Аркадьевича туда-с потребовали. Поэтому для прочих посетителей закрыта «Богема» вторые сутки-с.
— Артистка? Вот те на! — Турин едва не облился чаем и сел на диван. — Откуда невидаль? Седова-Новоградская, говоришь? Не слыхал.
— Этого и нам не знать. Только и расселились там. Поёт она чудно.
— Одна?
— С двумя девицами. Пританцовывают ей. Красивы, чертяки!
— Что ж, в гостиницах мест не нашлось, в ресторане её селить?
Служивый виновато пожал плечами:
— Публика-с в тех заведениях не внушает доверия. И потом по протекции Григория Ивановича. Ему или звонили заранее, или знаком он с артисткой был лично, я не осведомлён. А в «Богеме» всегда есть несколько свободных комнат наверху…
— Задов и сюда её привозил?
— Нет. Корней Аркадьевич дал указания в первый же день Льву Наумовичу. Грозил, чтоб было всё по высшему классу, а мне слышать довелось. Она уж и пела. Григорий Иванович, говорят, на коленях её умолял гитару в руки взять-с.
— Значит, в «Богеме» остановилась?.. — задумался Турин, и лёгкая тень пробежала по его лицу. — Одна…
— Все там-с.
— Все, это кто же?
— Лев Наумович по приказу Корнея Аркадьевича всю обслугу отсюда туда переправил и первого повара. Я здесь с Мурзой остался, ну и девка в помощь.
— Значит, важная, говоришь, персона… Поёт?
Служивый пожал плечами и руки развёл.
— А сам Корней Аркадьевич небось с Задовым в карты режутся под её романсы или у них третий партнёр имеется? С собой-то знаменитость привезла кавалера?
— Про то не скажу… Кажись, при актрисе, кроме тех девиц, никого не наблюдалось… Виноват, не знаю.
— Хорошо, хорошо, — хмыкнул Турин, совсем поднимаясь и ставя чашку на стол. — Неси-ка, любезный, холодное. Пробил меня аппетит!
И он с предчувствием удовольствия потёр руки.
Турин дожёвывал кусок варёной севрюжатины, запивая белым вином, когда громко постучавшись, на порог ступил Рогожинский. Сзади его осторожно поддерживал официант.
— Явились не запылились, — не отрываясь от блюда, поднял глаза на Дилижанса Турин. — Ночи не хватает, днём гуляем. Это что ж такое с вами происходит, Корней Аркадьевич? — И он махнул рукой официанту, чтоб убирался. — Не узнаю, не узнаю, дорогой.
В расстёгнутой помятой тройке, на светлой ткани которой рдели свежие следы неряшливого застолья, с выпирающим животом и поблёскивающей испариной лысиной Рогожинский впечатлял. Изрядно пьян, он старался молодецки держаться на ногах, опираясь на трость и помогая себе второй рукой, в которой зажимал то, что когда-то называлось шляпой.
— Ухайдакал вас Григорий Иванович и, конечно, обчистил в карты, а? Угадал?
— Что карты? Шут с ними… Василий Евлампиевич, голубчик! — с чувством забормотал тот. — Прощения просим! Врасплох вы нас!..
— Ну-ну. Что уж там, — поднялся Турин навстречу и вовремя, так как, выкатив мутные глазки на лоб, толстяк бросился обниматься от большого удовольствия, так распиравшего его:
— Как есть не ждали! Но видели б вы!.. Слышали б вы!.. Каков голосок! Какая Мельпомена[44] нас посетила!
Споткнувшись, он бы упал, но вовремя подхваченный Туриным был благополучно размещён на диване.
— Вам судить, милейший, — сохраняя терпение, улыбался Турин. — Вы, так сказать, с малолетства музыкой баловались.
— В мире ничего подобного не слышал! — ахал тот, не успокаиваясь.
— Цыганка небось? — подзадорил Турин и отошёл, внимательно ловя каждое слово беспечного гуляки. — Откуда залететь к нам знаменитости?
— Цыганка?!.. Господь с вами, Василий Евлампиевич! Красавица, каких свет не видывал! Хотя, конечно, есть изъяны. Но как без них? Была б она так мудра, если б не возраст?..
— Ну вот и старуха к тому же! — нарочито грубо оборвал его Турин и совсем расхохотался.
— Ах, если и тридцать лет для вас старость!..
— Где тридцать, там и все сорок, женщины — мастерицы творить чудеса с лицом, да и со всем остальным. А глубже не удалось заглянуть? Что за красавица, раз кавалером не обзавелась?
Вопрос и вся неприятная тирада, казалось бы, застала Рогожинского врасплох, во всяком случае, замешательство изобразилось на его розовом полном лице, словно зеркало отражавшем всё, что творилось сейчас там, в его глубоких внутренностях, прячущих душу. Он как-то протрезвел вроде, руку сунул вполне осмысленно в карман, платок извлёк и начал старательно обтирать лысину в неожиданно постигшем его глубоком раздумье и затянувшейся паузе. Турин не спускал с него глаз. Однако не из тех был Корней Аркадьевич, чтобы долго пребывать загнанным в угол, он достаточно здраво поднял глаза на своего влиятельного допытчика, как-то игриво погрозил ему пальцем, но не произнёс ни слова. Меня, мол, так просто не возьмёшь.
— Что? — не отставал тот. — Что вы хотите сказать в оправдание?
— Большой вы шутник, Василий Евлампиевич, но уж совсем за дураков нас считать не следует.
— Не понимаю вас.
— Так и не понимаете?
— Да уж поясните, пожалуйста, вашу загадку.
— Нашу загадку? Это ваши загадки пришлось нам разгадывать с Григорием Ивановичем Задовым. Не кто иной, как Губин из вашей конторы собственной персоной привёз актрису в театр. Представил и в дальнейшем сопровождал. Неужели прошляпили бы мы такую жар-птицу?! Уж кому-нибудь из нас двоих, но она отдала бы ручку и сердце, пока гостила…
— Ничего не понимаю, — смутился, в свою очередь, Турин.
— Да что уж тут понимать! — с издёвкой покривился Рогожинский. — Не без вашего же или Петра Петровича Камытина ведома приставлен к нашей чаровнице этот держиморда Губин? Я, конечно, извиняюсь, хотя он и был всё время в гражданском костюме, но разило от него казёнными манерами за версту! Взять вот вас, Василий Евлампиевич… в мешковину, простите меня, наряди вас, но породу-то благородную никуда не деть. А Губин, извините, дубина стоеросовая, только и занимался, что компанию портил, никому к ней и пальцем не дал прикоснуться!..
— Что?! Губин был приставлен к певичке? Зачем?
— Это уж вам знать…
Рогожинский обиженно замолчал, но ненадолго его хватило.
— Ни нашим ни вашим. — Как ни был он пьян, а заметил растерянность Турина и посочувствовал: — Да полноте вам… Мы не в претензии. Надо — значит надо. Что поделать, пошаливают воришки. Без нашего ведома творят. А такую красу обидеть наглецов немало могло найтись, вздумай она вечерком прогуляться по набережной… Давайте-ка лучше выпьем с вами за её скорый отъезд.
— Как отъезд?
— Уезжает она сегодня вечером. А по скромности своей, вернее, по-моему разумению, из-за глубокой обиды на этого Губина, следившего за каждым её шагом наглей самого бесстыжего фискала, провожать себя всем отказала.
— Вот даже как! — не скрыл удивления Турин.
— Да уж! И согласитесь, есть причины для обиды у такой кроткой женщины! За кого её здесь приняли?.. Скандал да и только!
Турин промолчал, бровью не повёл, но Рогожинский сам смилостивился через минуту, губки надутые прибрал, слегка улыбнулся и доверительно подмигнул:
— Пообещала перед самым отъездом в театр к Задову заглянуть. Тайком от этого Губина. Одна. Девки её со всем скарбом на вокзал, а она к Грише. Упросил тот её спеть на прощанье.
— Вот как! — оживился Турин. — Значит, увижу и я её, если заглянуть позволите?
— Увидите, голубчик, увидите. Только, чур, я ничего вам не говорил, — совсем подобрел Рогожинский. — Мне бы вот самому успеть выспаться. Времени-то мало остаётся.
— Располагайтесь, — успокоил его Турин, — вам сам Бог велел за ваши мытарства.
— А вы уже засобирались?
— Так и мне привести себя в порядок не помешает. Может, удастся поправить настроение дамочке, раз такой урон причинён этим Губиным.
— У вас получится, Василий Евлампиевич, — потянулся к нему Рогожинский заключить в дружеские объятия, но поздно, Турин уже закрывал за собой дверь укромного кабинета.
VIII
Камытин был родом из-под Рязани или из-под Костромы, и веснушчатая широкая его физиономия к весне расцветала, усеянная майскими приметами, как поляна цветочками. Когда же он волновался или сердился, как теперь, проводя порученное Туриным вечернее совещание и гоняя подчинённых сыщиков в хвост и в гриву, лицо его совсем краснело и походило на шляпку мухомора, как и весь он сам — напыжившийся, покрикивающий на агентов, смиренно притулившихся на стульях вдоль стен кабинета, понурив головы.
Хорошего-то на таких совещаниях не услыхать. Два убийства не раскрыты, которую ночь спать никому не дают, а просвета никакого. Разносы да тычки глотать и не отплёвываться…
Турин тут же, на подоконнике примостился, покуривает за спиной у зама, за стол рядом садиться не стал, как гость. Разбирай, мол, что наработал без меня, я посижу, послушаю. Курит одну за другой, дым в форточку колечками гоняет, ни слова не вставил за полтора часа, только хмурился, желваки порой по скулам гонял да глаза сузил — узкие щёлки.
— Вроде всё?.. — сам себе скомандовал наконец Камытин, губы надул и воздух выпустил с шумом, отдуваясь, будто от чашки горячего чая, повернулся к начальнику. — Ничего не забыл?
Не услышав от Турина ни звука, принялся оглядывать всех придирчиво, задерживая взгляд на каждом, вспоминая недосказанные огрехи.
— Маврик! — окликнул он вскочившего с места самого молодого и нетерпеливого. — Сколько у тебя домашних врачевателей осталось, не охваченных опросами? С больницами закончил?
— Закончил. А докторов на дому, если так и мытариться одному, ещё на два-три дня хватит.
— Общественных активистов привлекаешь?
— Толку от них, как от козла молока.
— Слышали, Василий Евлампиевич? Как вот их учить?
Турин спрыгнул с подоконника, похлопотал по плечу зама — то ли ободрял, то ли пыль выколачивал:
— Как нас учили, Пётр Петрович. Спрашивать строже. — И подымавшимся сотрудникам напомнил: — Сунцов, Ширинкин, задержитесь! Понадобитесь мне.
— Покурим пока в коридорчике, Василий Евлампиевич? — подскочил тут же шустрый Ширинкин.
— Курите. Я скоро. А где твой кореш, Потеев Матвей?
— Не видел ещё, — пожал тот плечами, стараясь прошмыгнуть в коридор первым. — С особым заданием, может?
— Василий Евлампиевич, — не отпускал тем временем от себя Маврика Камытин, — полюбуйтесь на него, а ведь начинал сам с активиста!
— Да привлекал я их, Пётр Петрович, — морщился агент. — И потом, служебные корочки когда им Нетребко выдаст? Обещал два месяца назад, а всё тянет. Один у него брёх: раздадите кому попало, а те разбегутся. Это разве подход? Степану Тарасовичу, видать, специальный указ нужен.
— Сдались тебе эти корочки! Ты активистов к делу приучай.
— А без корочек свидетели с ними разговаривать не станут. Не те времена. Дверь в дом не откроют.
— Замечания верные, — вмешался в перебранку Турин. — Нетребко я тряхну. Начальством себя быстро возомнил. Переброшу на оперативную работу, тогда умнее станет. А ты, Павел Семёнович, ответь-ка мне вот на какой вопрос…
Младший агент Маврик вытянулся, заметно побледнев, напрягся.
— Слышал я, ты докладывал о жалобе доктора, которого убийцы к покойнику приволокли?..
— Доктор Амаров, — кивнул агент и на зама виновато покосился, — специализируется на кожных, венерических заболеваниях и…
— Погоди! Всех заслуг не перечисляй, — перебил Турин и перевёл взгляд на Камытина. — Этот вызов с убийством профессора Брауха совпадает. В четыре часа ночи его разбулгачили?
— Так точно. Возмущался, что не вызов то был, а сплошное безобразие, морду ему начистили.
— Ну-ну. Ты подбирай выражения-то… У доктора, хоть и по сифилису, лицо. Морда у лошади да у тех, кто с ним так обошёлся, — Турин не сводил глаз с агента. — Выходит, упирался доктор?
— А как же не упираться? — вскинулся Маврик, сверкнул глазам. — Подняли доктора с постели, поволокли. А пациент ещё до их прихода дух испустил. В больницу надо было везти.
— А в больницу не повезли… Не заподозрил ничего?
— Ну как же! Я бросился проверять квартиру, а там ни мертвяка, ни жильца. У соседей допытывался, но без толку. Старуха полоумная твердит, мол, жилец выехал в деревню, эта деревня аж под Никольском. Я с ней и так и сяк, но она всё своё — уехал жилец, никого не видела.
— Про деревню ей специально подпустили, чтоб нас на ложный след навести, а вот пошукать тех, кто врача тащил, надо.
— Их было двое — жилец да верзила, который доктора по лицу смазал.
— Опознает доктор ночных гостей?
— На всю жизнь запомнил, у него таких пациентов не бывало.
— Значит, словесными портретами обеспечит?
— В полном разе.
— Пётр Петрович? — вскинул брови Турин на зама за объяснениями.
— А что Пётр Петрович! — вспылил тот. — Что у меня десять рук? Что я мог сделать, Василий Евлампиевич? Связи с этой деревней, да и с Никольском, никакой! Люди раз в месяц приезжают. А этого туда гнать, — он ткнул пальцем в младшего агента, — себе дороже. Кто здесь работать будет? Раздал я задания всем нашим, только пустое это занятие, рванули те людишки сломя голову вместе с мертвяком, труп уже где-нибудь прикопали.
— Халатный, прямо скажу, подход! Это самая реальная зацепка была, — повысил голос Турин. — Умерший, возможно, из тех, кто отравился ядом подле сейфа профессора Брауха. Тот, кто за врачом бегал, очевидно, последний из уцелевших…
— А разве я не понял, Василий Евлампиевич?! — вскочил на ноги Камытин. — Но меня то в губисполком, то в губком с этим чёртовым наводнением! А на шее два убийства, словно камни!.. Вы вот возвратились, свет увидел…
— Ради того стоило всех на уши поднять, — свёл брови Турин, вбил один кулак в другой с треском. — Ладно! Разбирайтесь тут без меня. Розыск организовать немедленно! Задействовать всех до единого. Маврик отправляется в деревню, жильца и бандита, доктора колотившего, отлавливать. Местные власти помогут, если что… — он уже готов был развернуться, но задержался, Камытина за пуговицу мундира прихватил, да не рассчитал, пуговица так в пальцах его и осталась, вырванная с мясом.
— А-а, чёрт! — выругался Турин. — Где Потеев? Никто сказать толком не может. Участковый надзиратель по вокзалу, он сейчас мне пуще всех понадобится. И штабных на розыск подымай. Всех! Нетребко, Губина, Геллера — всю их команду, нечего им прохлаждаться!
И сунул оторванную пуговицу заму под нос.
— Потеев слёг… заболел, — смутился зам, давно не наблюдавший начальника в таком гневе. — Звонил мне. Температура… А этих… Губина, Нетребко и остальных подыму… Куда они денутся.
— Вот и подымай! Времени в обрез! — оборвал Турин, распахивая дверь кабинета, шагнул в коридор. — Сунцов! Ширинкин! Кончай перекур!
IX
За долгие годы в сыске выстрадал Турин не одну истину. Из всех особо выделял главные: не подвёл бы наган в нужную секунду, прикрывал бы спину в схватке верный друг да чтобы секрет задуманного, окромя тебя, никто знать не мог.
В этот раз ему хватило бы одного Ковригина, но увёз того Странников, хорош был бы Аркаша Ляпин, но задействован уже Камытиным в другой операции, а отменять приказы подчинённых Турин не любил; он обошёлся бы и участковым надзирателем Потеевым, но огорошил тот внезапной болезнью, поэтому подумал, подумал начальник губрозыска и остановил свой выбор на Сунцове.
— В помощь тебе дать некого, — хмурился Турин, завершая разъяснять задачу младшему агенту. — Заняты все люди, но, думаю, и один справишься. Тем более, цель твоя — видеть всё и оставаться незамеченным, а одному, согласись, в таких делах даже легче.
Китаец молчал по обыкновению, лишь посматривал внимательно узкими глазками из-под маленьких бровей.
— От ресторана «Богема», — продолжал Турин, — проследишь весь путь отъезжающих до вокзала, само собой, особо — погрузку. Ну и там дождёшься меня. Певичка эта, как бишь её? — он поднял глаза на Ширинкина.
— Маргарита Седова… — крякнул тот, выкатил глаза в потолок, вспоминая: — Новоградская!
— Новоградская, — подхватил Турин, — любят они фамилии позаковыристей подбирать. Так вот, певичка должна съехать первой. Налегке. За неё не тревожься. Ей в театр к Задову надо успеть, затеяли там наши меценаты небольшие проводы. Её я беру на себя. А уж от театра до поезда, если кто к ней и пристанет, мы вот с товарищем Ширинкиным сопроводим. Корней Иванович, как увидел её один раз, так впечатлился на всю жизнь. Так, Корней Иванович? Опознать-то сможешь?
— Должен. Парочка та была очень приметная, — бодро начал участковый надзиратель, но чуть смутился: — Времени, правда, прошло…
— Что время? Недели нет!
— Лысый кавалер её очень приметен был, — забубнил Ширинкин. — Его век не забыть, в плечах, в голове, словно бык, и кулачища бойца циркового, а дамочка шляпой лицо всё прикрывала, но голосок не спутать, соловьём так и щебетала. Характерный говорок, волжский. Опознаю, Василий Евлампиевич.
— Ну вот. К тому же она в театре петь собралась. — Турин слегка погрозил участковому пальчиком: — Тебе, как говорится, и карты в руки.
— Будем стараться, — сдвинул брови тот.
— Ну что? Вроде всё обговорили? — Оглядел обоих начальник губрозыска. — Для порядка напоминаю, оружие применять только в крайнем случае. Предупреждать, прежде чем стрельбу открывать. Сунцов! Ты что-то всё молчишь? Пушку-то когда чистил последний раз? Мне Ковригин рассказывал про твою напасть…
Китаец едва заметно усмехнулся, головы не подняв.
— К чему ему наган, товарищ начальник? — Ширинкин хлопнул по своей кобуре у пояса. — У него ноги быстрее пули летают. А вы что же, про оружие серьёзно? Или как? Эта дамочка, выходит, и пальнуть могёт?
— Это я для порядка, Корней Иванович, — в тон ему ответил Турин. — Забыл про ружьё, что со стенки стреляет? Дамочку увидеть надо, сказать про неё ничего не могу, а вот если лысый тот академик объявится, вполне возможно, что пушка и понадобится. — Он подмигнул притихшему участковому и добавил, посерьёзнев: — Если это тот самый стрелок, что по люстрам палил у профессора Брауха, с ним туговато придётся, слышал я, тот без промаха бьёт даже в кромешной темноте.
Ширинкин заметно ссутулился от этих слов, Сунцов глаза сузил.
— Но академику тому высиживать здесь не резон, — ободряюще начал Турин, — его больше никто и не видел. Так что мог он ноги салом смазать давным-давно, однако другая закавыка имеется. На совещании только что слышали оба, надеюсь, намотали на ус о неизвестном гражданине, который к умирающему ночью врача приволок. Человек этот опасный, готовыми надо быть ко всему… А в общем-то, как обычно.
И он скомандовал на выход. Время поджимало.
Х
Южный вечер стремительно упрятал улицы во мрак, помог ему дождь, неприятно моросящий с обложного неба, поэтому, обманув надежды Турина, встреча у театра не затянулась. Замерла подкатившая пролётка у тусклых фонарей подъезда, распахнулась дверь и выскочивший Задов увлёк ступившую к нему гостью, прикрывая зонтом от ненастья. Лишь долговязый Самсоныч, не успевший за ними, съёжился у захлопнувшейся перед самым его носом дверью, сплюнул от досады, постоял, перекинулся несколькими фразами с извозчиком, проклиная непогоду, и тоже унёс своё непослушное жирафообразное туловище с дождя.
— Отсюда разве углядеть? — жаловался и расстраивался Ширинкин, вскидывая глаза на Турина: спрятаться за углом под балконом дома напротив в тридцати-сорока метрах от подъезда была его идея.
— Не горячись, Корней Иванович, — поучал Турин, сам изрядно вымокнувший, покуривая и пряча огонёк папироски в рукав плаща. — Наше дело — ждать. Пока все соберутся.
— Прикатила. Чего ж зазря мокнуть? — не унимался участковый.
— Пять — семь минут не повредят. Я не уверен, что Дилижанс с Марьяном прибыли, а их присутствие обязательно. Дилижанс меня сюда пригласил, как без него? А Лев Наумович Марьян — его хвостик.
— Вам да ещё приглашение ждать! — возмущался участковый.
— Ну, знаешь… Меня сюда вроде как генерала на свадьбу, — отшутился Турин добродушно.
— Что же по углам жаться? — напирал продрогший Ширинкин. — За столом-то уж точно веселей, да и дела свои быстро сварганим.
— Помолчи, Корней Иванович, — оборвал его тихо, но уже построже, Турин. — Не видели мы с тобой ни Дилижанса, ни Марьяна, а им ведь стол накрывать для певички. Им и ручки целовать артистке да комплименты сыпать, материальную да финансовую часть обеспечивают тузы.
— Там они оба, — не терпелось участковому. — Тем более раньше всех обязаны прибежать.
— Сомневаюсь я. Уж больно плохо выглядел Корней Аркадьевич, когда меня приглашал. Людей своих с пристани они с Марьяном пришлют, конечно, заранее, а вот не заспал бы он сам.
— Такое мероприятие не проспит!
— Ну хорошо, хорошо. Если и собрались, там сейчас прелюдии да овации наблюдаются. Нам с тобой эту часть можно пропустить. Видишь, певичка извозчику приказала ждать, значит, долго задерживаться не собирается, а, следовательно, сядут они за стол, заздравный тост, и вручит ей в руки Григорий Иванович гитару. Вот тогда наше с тобой времечко и настанет.
— Продрог я, как собака! — явно завидуя тем, кто сейчас за праздничным столом, откровенно посетовал Ширинкин и выругался без злобы: — Водочку небось попивают, сволочи, а тут мёрзни.
— Подадут и нам рюмочку, — хлопнул его по плечу Турин и сжалился: — Ну ладно. Шагай вперёд да не торопись. Пошло наше время.
Приподняв воротники, они, обходя лужи, перешли дорогу, приблизились к подъезду и услышали едва различимые звуки музыки и шум голосов. Турин дёрнул шнурок у двери, отозвался весёлый колокольчик. Ждать не пришлось. Самсоныч, не успев далеко отлучиться или поджидая поблизости, высунулся в дверь с кислой физиономией, но тут же преобразился любезной улыбкой, узрев перед собой начальника губрозыска:
— Василий Евлампиевич! Проходите! — он распахнул дверь. — Дожидаться вас приказано Корнеем Аркадьевичем, я уж выглядывал, выглядывал, промок насквозь, начал сомневаться…
— Врёт старый хрыч и не краснеет, — буркнул участковый, протискиваясь внутрь за спиной Турина, пока тот, остановившись, выслушивал любезности швейцара.
— Пожалуйте-с ваши одежды, — принял их плащи старик, — я им местечко подыщу-с специальное, чтоб они просохли-с.
— Спасибо, Самсоныч! — скинув плащ, потёр руки Турин, поджидая раздевающегося Ширинкина. — Ты нас не провожай. В кабинете у Григория Ивановича гости собрались?
— У него-с. Там уютнее и теплей. А в залах теперь замёрзнешь. Их же трое с дамочками да Маргарита Львовна.
— Вот бабники чёртовы! — бубнил участковый. — Седина в башку, а не успокоятся.
— Я туда дорогу найду. Ты свет-то не включай, — Турин остановил всё же двинувшегося было за ними швейцара. — Мы осторожненько, лбы не разобьём, не опасайся.
— Да что же не включать-то? — удивился тот. — Вы гости дорогие!
— Это тебе мы дорогие, а им бы нас век не видать, — бурчал своё Ширинкин, но уже не так злобно, видно, согреваясь и озираясь в потёмках.
— Давай за мной да смотри, не наткнись на чего, — скомандовал Турин, — они свет притушили здесь, чтоб внимания не привлекать, это в стиле Григория Ивановича. Тот ещё ловелас! Ты по огонькам ориентируйся, они как раз к нужному месту и приведут.
В театре действительно царил полумрак, если не считать светящегося рожка над входной дверью да лампы у гардероба, лишь подсветка из мелких лампочек на стенах как ориентир определяла направление, по которому следовало двигаться к отдалённому кабинету, из полуоткрытой двери которого доносились голоса и музыка.
Когда они подобрались ближе, смолкли бурные хлопки, зазвучали струны гитары и нежный женский голос заставил их замереть:
Зажгите свечи, господа, зажгите свечи, Особенным сегодня будет этот вечер. Пусть за окном танцует дождь по тесным лужам, Сирени свежий аромат ласкает души…— Она, Василий Евлампиевич! Ей-богу, она! — ещё не видя певицу, задёргал за рукав Турина Ширинкин.
Он весь изогнулся, стараясь заглянуть в дверь, но Турин мешал ему, почему-то не входя, а застыв столбом у самого порога.
— Василий Евлампиевич! — попробовал потеснить его участковый. — Позвольте я гляну.
Он поднял глаза на Турина и смолк — тот опёрся об стену, опасаясь упасть, взгляд устремлён вперёд в одну точку, а в лице ни кровинки.
Голос певицы набирал силу:
Вы чуть устали, господа! На этой встрече Гитара пусть звучит для вас, звучит и лечит. Среди забот и суеты есть майский вечер, Трава и звёзды, и мечты о скором лете. Остановитесь скорый шаг замедлить надо. И посмотреть, кто ж Тот, что с Вами рядом. И этот Кто-то, может быть, Вам станет другом. Наступит день, когда он Вам протянет руку. Не отвергайте, господа, внезапной встречи. Возможно, что самой судьбой Ваш путь отмечен. Зажгите свечи, господа, зажгите свечи, И пусть запомнится надолго этот вечер[45].Отзвучал голос, гитара смолкла и смолкли крики «Браво!», среди которых особенно выделялся бас Задова, а Турин всё так же стоял, не двигаясь.
— Всё сходится, Василий Евлампиевич, — подтолкнул его нерешительно участковый надзиратель. — Певичка та самая, с академиком она кренделя выписывала у «Богемы».
— Маргарита Львовна, значит, — очнулся наконец от замешательства Турин.
— Ну да, Седова-Новоградская.
— Так-так… А действительно, что же ждать? Будем знакомиться. — Турин обернулся Ширинкину: — Пушка далеко?
— Зачем вам? — выкатил тот глаза.
— Встань на дверях у входа и задерживай каждого, кто вдруг еще объявится. Самсоныч пусть комнату для них отведёт, если много будет. Лысый катала заявится, сам понимаешь, клади его сразу на пол вниз лицом, а начнёт ерепениться, — пали, но не до смерти.
— Понял, — Ширинкин, казалось, только этого и ждал, вмиг выхватил наган, разворачиваясь, настороженно попятился назад, а Турин шагнул к гуляющим.
— Добрый вечер, господа-товарищи. Приношу извинения за опоздание, — встал он в дверях, не сводя глаз с лица миловидной женщины, сжимавшей ещё в руках гитару.
Рогожинский с Марьяном повскакали со стульев, бросив дам, потянулись к бутылкам шампанского, Задов недовольно оторвал восхищённый взор от гостьи, перевёл его на вошедшего, взмахом руки поприветствовал без особой радости и, не найдя за столом свободного места, небрежно кивнул на диван:
— Не обидишься, Василий Евлампиевич? Сегодня ты что-то в форме? Тоже провожать собрался?
— С вашего разрешения, — Турин щёлкнул каблуками, сделал шаг к певице, наклонился: — Позвольте ручку поцеловать?
Женщина ахнула, закрыла лицо руками, гитара выпала, но успевший подхватить её Задов встал между Туриным и певицей в глубоком недоумении, переводя глаза с одного на другую, как будто о чём-то догадываясь.
— Так вы знакомы?
— Так точно, — лицо Турина заострилось, плотно сжатые губы передавали его сильное волнение.
— Василий! — вдруг кинулась ему на грудь певица. — О, Боже! Сколько лет! Ты жив?
— Браво, друзья! — подскочил Рогожинский. — Вот так встреча! Пьём за встречу! Шампанского!
Турин, не пытаясь высвободиться от женщины, даже наоборот, крепко прижимая её за талию, принял бокал, благодарственно закивал во все стороны, чокаясь с тянувшимися к нему Рогожинским и Марьяном. Женщина, словно в обмороке, висла на его руке, пока он не осушил свой бокал до дна. Её лицо покрылось необычной белизной.
— Да тут, видать, целая история! — всплеснул руками Задов. — Шекспир пред моими очами! Вот те на! Надеюсь, мы сейчас услышим интересные подробности…
Неожиданной сценой он был взволнован не меньше остальных, однако, искушённый во всяческих тёмных делишках опытный интриган сохранил подозрительность, любопытство и недоверие так и сквозили в его движениях и словах. Быстро освободил он свой стул и уступил его Турину, чтобы тот вместе с певицей оказались с ним рядом, но Турин решительно увлёк её от стола, перенёс на диван, усадив с собой, так и не разжимал объятий, словно опасаясь упустить.
— Прошу ещё раз прощения, — суховато извинился Турин, особо не церемонясь. — С Маргаритой Львовной нас связывают давние отношения. Назвать их дружескими — не сказать ничего, мы будто брат и сестра. Судьбе было угодно разлучить нас на долгие годы. И вот эта встреча… Она до сих пор без чувств, бедняжка.
— Однако, поезд, — вдруг подала тихий голос певица и открыла глаза. — Ты проводишь меня, дорогой?
— Конечно, — он тут же поднялся, щёлкнул каблуками публике и обвёл присутствующих взглядом, не терпящим возражений. — Надеюсь, друзья, вы доверите мне Маргариту Львовну и простите её похищение. Нам очень хочется о многом поговорить наедине, а времени почти не остаётся. От всей души желаю вам прекрасно провести вечер! И подымите за нас не один бокал! Радости вам, друзья!
Все выпили, взбудораженные бросились было из-за стола провожать, но Турин поднял вверх указательный палец, укоризненно погрозил им, улыбнувшись, и, взмахнув рукой на прощание, покинул кабинет, увлекая за собой женщину.
— Каков гренадер! — рухнул на стул Задов, весь в горьких чувствах отставил нетронутый бокал. — Кто-нибудь что-то понял?
— Ну что же здесь неясного? — Рогожинский с бутылкой шампанского в руке высматривал пустые бокалы, чтобы снова наполнить их пенящимся напитком. — Старая любовь пуще крепкого вина… Вы видели их лица! Они опалены страстью! Ах, как я их понимаю!
Он залпом осушил свой бокал, раскинул руки и рухнул на освободившийся диван:
— Не испытать!.. Не испытать уж никогда былого!.. Вот в чём наше несчастье…
— Турин и любовь? Сочетание это забавное, — съязвил Задов. — Нет. И не рвите мне душу. Игра! Я чую подтекст, друзья мои. Здесь определённо что-то кроется. А главное для меня — опять промашка! Из-под самого носа увели такую бабу!
— Григорий Иванович! — укорил раздосадованного артиста смутившийся Марьян и покачал головой.
— Да бросьте вы, Лев Наумович! — махнул рукой Задов. — Я её сюда пригласил — и нате вам… Подоспел этот гвардеец! Кстати, он уже не первый раз перебегает мне дорогу.
— Василий Евлампиевич? — придвинулись разом Рогожинский и Марьян. — Не может быть! Он настоящий джентльмен!
— Вам ли мне не верить?.. — в горьком помрачнении души Задов потянулся за бутылкой и запел:
И-извела меня кручина — Подколодная змея…* * *
— Ты раздавишь меня, — простонала певица, лишь они оказались за дверью. — Мне больно. Не бойся, не убегу…
— Серафимы — существа крылатые, — разжал объятия Турин. — Ты порхаешь уже лет семь или восемь с одного цветка на другой. Никак не насытишься?
— Не греши, Василёк. Всё завидуешь, что тебе не досталась. Так зря. Со смертью атамана Жорика сердце моё забыло про любовь и умерло. Ни Штырю не досталось ни крошки, ни тебе, а уж остальным… комиссару тому вшивому да прочим оглоедам слюнявым ручки только позволяла целовать, но и то в перчатках. Слыхал стишки?
— Откуда? Ты ж у нас актриса? — горько усмехнулся он.
Она приблизила своё лицо к нему, прямо-таки вцепилась в его глаза полусумасшедшим взглядом и зашептала пронзительно и пугая:
Убей меня, как я убил Когда-то близких мне! Я всех забыл, кого любил, Я сердце вьюгой закрутил, Я бросил сердце с белых гор, Оно лежит на дне!..[46]— Жорик тебя королевой воров величал. Помню. А Красавчик? Как же ты при живом Жорике с ним закрутила?
— В том-то и дело, что при живом, — отвела она зелёные глаза. — Не понять вам, мужикам. Никогда. И не вороши старое, Василий Евлампиевич, — горька была её улыбка, глаза померкли. — Королева воров, говоришь? Когда это было? Небось арестовывать меня прибежал? Успел. Скор ты на ноги, Василий-божок. Рассчитывал Копытов, рассчитывал, чтобы с тобой дорожка его здесь не сошлась, а просчитался…
— Что же ты с этим уродом спуталась?
— А было куда бежать? Да и с кем?! — дерзко и без надежды вскинула она красивое своё лицо. — Теперь всё равно, кто подхватит и позовёт. Лишь бы не в тюрьму! Её боюсь. Пуще смерти! — она вдруг прижалась к нему и заговорила быстро, опасаясь, что он её прервёт, не даст всё высказать: — Ты же меня не посадишь, Василёк? Прошлое не станешь ворошить? А здесь я ничего не коснулась… Ручки мои чисты. Фамилию сменила, так от этого кому какой грех? А пою я давно, хоть и не артистка. И деньги честно зарабатываю. Собственным горбом. Нравятся мои песни людям. Вон, ваш директор театра приглашал к себе, в театр взять обещал, уговаривал остаться…
— Что Копытову у нас понадобилось? — перебил её Турин. — Браух на его совести?
Она разрыдалась. Громко и отчаянно — рухнули все её надежды, чувствовалось в этом плаче.
— Тише ты! — испугался Турин. — Сбегутся здешние крысы. Не отвязаться. Ну-ка, скорей отсюда!
И он почти понёс её обмякшее лёгкое тело на руках к дверям вдоль дорожки мерцающих огоньков.
Ширинкин вырос, словно из-под земли, ступив от колонны у гардероба.
— Никто не заявился, — отрапортовал он и язык прикусил, обомлев.
— Чего вылупился? Плохо женщине, не видишь? — плечом отворил дверь Турин и крикнул за спину: — Звони от Самсоныча к нам. Вызывай Витька, я оставил его дежурить. Пусть тебя забирает да гоните на вокзал.
— А вы? — успел участковый, придя в себя.
— Найдёте меня по пролётке, — Турин разместил свою ношу на сиденье, устроился рядом сам и мигнул извозчику: — Трогай да не гони. Знаешь, куда?
— А как же, Василий Евлампиевич, — покосившись на певицу, невозмутимо ответил тот.
— Уши-то завороти! — буркнул Турин.
— А я ещё вас и накрою, — резво прикрыл полог экипажа извозчик. — От дождичка будет защита.
— Ты что в истерику-то бухнулась, Серафима? — встряхнул слегка за плечи соседку Турин. — Ты мне комедий не разыгрывай. Брауха Корнет Копытов кончил?
— Он, — прошептала та и снова залилась слезами.
— Будет, говорю, — чувствительней встряхнул её Турин. — Мало у нас времени на сантименты. Где он сейчас? Удрал?
Спросил без всякой надежды. Так. Для формы.
— Нет.
— Как нет?! Где же он? — Турин аж задрожал.
— Не одни сутки с моими девицами в их комнате отлёживался. Его ваш Губин оберегал.
— Губин?
— Уж не знаю, кем он там у вас, только каждый день с утра до вечера в «Богеме» торчал.
— Не пойму ничего… Они что же, знакомы?
— С давних пор. Копытова к вам и потянуло, долг карточный с Губина забрать. Не знаю когда, но задолжал тот ему много. По столице они знакомы с давних пор, а сюда Губин перебрался, прячась от него.
— Велик долг?
— Ты ж Корнета Копытова знаешь, был бы мал, попёрся бы он в твои владения, помня прошлое? Ждал весточки от дружка, когда ты отлучишься куда-нибудь, вот и дождался. Ты — в Саратов, а мы сюда, но о Браухе и речи не было. Мне-то он особо своих планов не раскрашивал, только догадалась я, что с Губина всё содрать у него не получилось. Вот и вывел Губин его на профессора. Слышала я ненароком, как он золотые горы сулил Копытову, про сейф особый рассказывал. Вот и загорелись у того глазища…
— А ведь не ошибся Иван Иванович, — схватился за голову Турин. — Словно чуял Легкодимов!
— Ты о чём?
— Про своё я, — отмахнулся он. — И как же эта сволочь собирается уносить ноги? Мои люди ему шагу ступить не дадут по городу незамеченным. Рожу его Ширинкин расписал со всеми подробностями. И фигура за версту видна. Здоров, пакостник.
— Ты про Губина всё время забываешь, — криво усмехнулась она. — Корнет Копытов вырядился под грузчика и девкам моим помогает в вагон грузиться. Уже, наверное, там давно. Ряженый он, как ты не поймёшь! А Губин рядышком всё время. Вот и весь секрет. Твои сыскари и глядеть в их сторону не станут.
— А ведь прост обман! — застонал Турин и полез за папироской. — Значит, зверюга в овечьей шкуре да при нашем же пастухе!.. Спокойненько на полке вагона похрапывает!.. Ох, лохи мы, лохи!..
XI
— Что новенького в конторе? — поинтересовался Турин у шофёра, лишь тот с Ширинкиным, выскочив из автомобиля, подбежали к прятавшейся за углом перрона пролётке, возле которой он покуривал, наблюдая за обычной толкучкой на вокзале и перекидываясь редкими фразами с Серафимой.
— Тоска, — улыбнулся шофёр, учтиво поклонился певице и уже не сводил с неё восхищённых глаз. — Все наши в бегах, кроме дежурного. Никого.
— Гуляй в кабину и будь наготове, — Турину пришлось слегка подтолкнуть Витька, сразу заскучавшего от такого поручения. — Не отлучайся никуда и не отпускай эту пролётку, она нам ещё понадобится.
Извозчик, услыхав последние слова, соскочил на землю, поцокал языком, тоже шибко раздосадованный, и понуро задымил папироску.
— Корней Иванович, — ближе подозвал участкового надзирателя Турин, — придётся тебе сменить меня да за кавалера побыть.
— Это зачем? — опешив, Ширинкин отступил назад в замешательстве. — Нам это ни к чему. Увольте, Василий Евлампиевич, сроду не приходилось. Я и не знаю как, баловство одно…
— Ничего, ничего, — похлопал его по плечу начальник губрозыска и почти силком подтянул к Серафиме. — Усы у тебя вполне подходящие, вид отменный, к тому же ты бравый мужчина при форме. Вон и наган на боку!
— Да мне…
— Бери-ка Маргариту Львовну под это место…
— Уж лучше я его, — подхватила под локоть смущённого участкового та и обдала такой очаровательной улыбкой и ароматом пьянящих духов, что Ширинкин утратил всяческие сомнения и выгнул грудь колесом.
— Вот и прекрасная парочка! — подхватил Турин. — Сядете в пролётку, сделайте круг незаметно, подкатите снова к перрону, да чтоб с шиком! — Он подмигнул наблюдавшему за ним извозчику: — Пусть народ любуется. А затем не спеша прогуляйтесь до вагона, где девицы поджидают. Я думаю, Маргарита Львовна, они и сейчас ждут вас не дождутся, все глаза проглядели, поэтому вылетят вам навстречу.
— Василий! — вздрогнула певица, и страх мелькнул в её глазах.
— Спокойно, — погладил ей ладошку Турин, причёску поправил, выбившийся локон у ушка под шляпку приткнул аккуратно. — До вагона дойти вам девицы не позволят. Уверен — перевстретят. Ну и не сомневаюсь, другие кавалеры поблизости окажутся. Заждались вас там многие, Маргарита Львовна. Я вот с нетерпением жду не дождусь Губина. Если он в вагоне сейчас Копытова оберегает, то первым к вам броситься должен.
— Пётр Аркадьевич? — удивился Ширинкин. — А он с какой стати здесь?
— Вот мы его и спросим, — прижимая к себе женщину, Турин наклонился к ней и шепнул на ушко: — Ты, Серафимочка, только не дрейфь, тебя же крылья всегда выручали, да и я рядом буду. Сыграй эту роль для меня с блеском, как ты можешь, и все твои тревоги сегодня кончатся.
Она не ответила, лишь лёгким поцелуем прикоснулась к его щеке.
— Ну что ж, за дело! — кивнул извозчику Турин и слегка подтолкнул парочку к пролётке.
Всё так и было исполнено, как он распланировал: не прошло и пяти минут, как заржала лошадь, резко осаженная твёрдой рукой, лихая пролётка на полном скаку замерла у перрона. Выскочил участковый в фуражке, мундире и при усах, ловко подал руку очаровательной даме, придерживавшей шляпку с пером; и прошествовала эта удивительная парочка вдоль ошеломлённой столпившейся публики любопытных, ни на кого не обращая внимания, поспешая и о чём-то своём разговаривая. Щебетала певица, участковый с красным лицом важно надувал щёки. Не успели они сделать и десяти — пятнадцати шагов, обступили их выбежавшие навстречу из вагона девицы, затеребили женщину, запричитали над ней, упрекая в опоздании и одновременно радуясь так, что бедный участковый едва не был сбит с ног, если бы его не поддержал подоспевший невесть откуда милицейский чин в мундире, перед которым участковый вытянулся и взял под козырёк.
— Здравия желаю, Пётр Аркадьевич! — гаркнул Ширинкин, вытянувшись в струнку.
— Ты как здесь? — гневом и изумлением сверкнули глаза Губина. — Какого чёрта! Пьян?
— Никак нет!
— Я дружку твоему Потееву запретил тут отираться! — наседал Губин на стушевавшегося участкового. — А тебя кто прислал? Где Задов? Рогожинский?.. Где все? Поезд вот-вот уйдёт!
— Всё как положено, ко времени Маргарита Львовна доставлена, — только и смог ляпнуть Ширинкин. — Прибыли до отхода…
— Да не волнуйтесь, Пётр Аркадьевич, — словно призрак возник за спиной Губина Турин и сжал ему правую руку повыше локтя. — Оружие при вас?
— Что происходит? — дёрнулся тот, бледнея, и попытался освободиться.
— Тихо! — упёрся ему наганом в спину Турин. — Копытов в вагоне?
— Какой Копытов? Что вы себе позволяете?! — рванулся Губин, но ватными уже сделались его ноги, губы ещё слушались, а тело обмякло.
— В вагоне Копытов. В вагоне, где ж ему быть, — подхватил Губина с левой руки Сунцов, тоже выросший, словно из-под земли. — Под нижней полкой за картонками с женскими шляпками сховался. А револьвер этого вот, — словно фокусник обезоружив Губина, он протянул наган Турину.
— Ширинкин! — повысил голос начальник губрозыска. — Прогуляйся с Маргаритой Львовной и с дамочками к пролётке. Да развлеки их там до нашего возвращения.
— Есть! — слабо соображая, в чём его задача, участковый развернулся кругом и увлёк упиравшуся компанию женщин за собой.
— Ну вот что, любезный! — Турин с наганом подобрался к самому лицу дрожащего Губина. — Будешь сотрудничать с нами при задержании Корнета Копытова, гарантирую жизнь, откажешься — не доживёшь и до суда. Ты меня знаешь! Выбирай…
— Василий Евлампиевич, — залепетал тот, — в убийстве Брауха, ей-богу, не участвовал. И прислугу пальцем не трогал. Я лишь о сейфе рассказал и помог открыть, хотя вы знаете, конечно, человек Копытова все же отравился, а Корнет меня чуть не пристрелил за него…
— Нет времени выслушивать вашу исповедь, голубчик. Суду всё скажете, — заглянул в его перепуганные глаза Турин. — Дорога каждая секунда. Решайтесь!
— Я хотел сам признаться во всём, — Губина била мелкая дрожь. — Убийство Брауха не входило в планы. Нужны были деньги. Задолжал я Копытову…
— Суду будет интересно, почему вы сделали свой выбор. Скажите лучше, у кого вам удалось выведать про сейф профессора и что там хранилось? Награбленные ворьём ценности?.. Браух или Копытов был у вас за главного? Или вы ещё играли в политику?
— Он убьёт меня! — Губин упал бы на колени, не поддержи его Сунцов. — Этот сатана стреляет без промаха…
— Так ответьте! Что вы об этом знали? — Турин силком подтолкнул его по перрону. Ладно… Не желаете… Тогда заведёте нас в вагон, где он прячется, а там видно будет. Времени нет!
— Убьёт… — сморщилось лицо Губина, он был на грани обморока.
— Возьмите себя в руки! — повысил голос Турин. — Офицер вы или тряпка? Я предоставляю вам возможность спасти свою жизнь.
— Да-да… — последние слова вроде подействовали на Губина, он выпрямился, Сунцов поправил ему на голове сбившуюся фуражку, одёрнул мундир.
— Что от меня требуется? Только верните оружие.
— Оружие?
— Я сам его пристрелю, если и мне не жить, — в глазах Губина сверкнули ярость и одержимость. — Пусть сдохнет, как собака, под той лавкой!
— Оружие получите только в вагоне, если потребует ситуация, — отбрил Турин. — А сейчас ведите.
Губин — впереди, двое — по бокам проследовали по перрону к вагону почти в конце состава.
— Подальше забрались от публики? — хмыкнул Турин, стараясь как-то расшевелить замкнувшегося Губина, который по мере приближения замедлял шаги и начал терять вспыхнувшую было боевитость.
— Там что-то народ в хвосте толпится, — затревожился Сунцов.
— Корнет почти все билеты закупил в вагоне, — откликнулся Губин. — Собирался в пустом катить, а люди, что крутятся, надеются, — проводник посадит.
— Ваших рук дело?
— Пошёл на поводу, лишь бы отвязаться от этого злодея!
— Ну что ж, помогая бандиту, вы облегчили нам задачу, — Турин приостановился. — В каком купе лежбище?
— Вагон плацкартный.
— Это понятно. Меня интересует, где Копытов залёг?
— Во второй секции. У самого входа, — буркнул Губин. — Девицы первую заняли, Маргарите Львовне ангажировано следом, ну а Копытов к ней, вниз под полку завалился, обставлен её вещами. Поджидает, если не уснул. Надрался он до чёртиков!
— Добеги-ка, Ваня, до проводника, пока мы шаг умерим, — попросил Турин Сунцова. — Про бандита не скрывай, объясни задачу освободить вагон от пассажиров, если кого запустил. Пусть сочинит что-нибудь про паровоз, замена, мол, потребовалась непредвиденная. Да сам ему помоги, если заартачится кто.
— Понял, Василий Евлампиевич, — дёрнулся было тот бежать.
— А Копытов с ними не удерёт? — встрепенулся Губин и вцепился в Турина.
— Не успеет. Он же вас с певичкой дожидается? Небось не распрощался окончательно, а? Ваш приход — его гарантия?
— Ждёт, конечно, — помрачнел тот. — Но что у него в башке? Вдруг вылезет из-под лавки пьяная свинья?
— При проводнике не решится, да и другим глаза мозолить остережётся, пока состав не отправится. А остальное зависит от нас. Мы выход ему с одной стороны перекроем, а Ваня — с другой, некуда сигать ему окромя окон, но до них ещё добраться надо… Ну а дальше загадывать не стану, — подмигнул он Сунцову, — ты в следующей секции в засаду становись. Гнать на тебя я его не собираюсь, но Копытов — зверюга лютый, пушку сам не выбросит. Так что будь наготове.
Если заранее гадать да рассчитывать, оно бы, как часто бывает, пошло, может быть, наперекосяк, а то и совсем прахом. А вот так, на ходу, не имея другого выхода, лишней секунды и тем более помощи, когда надеялся Турин только на себя, агента Сунцова да на счастливый случай, получилось, как и задумывалось… Заскочили они благополучненько с Губиным в вагон незамеченными, притаились у стенки в первой секции, Турин ухом прильнул к переборке, сердце колотилось в груди — того и гляди, выскочит, дух захватывало, не верилось, что так просто всё задалось: Сунцов в конце вагона с проводником тоже уже своё дело кончали, а за переборкой тишина мёртвая. Как ни прижимал ухо, ни вслушивался Турин — ни шороха; заглянул осторожно — никого, на полке куча вещей, внизу, на полу, совсем всё завалено женскими причиндалами.
Выждал он секунду-другую, дал себе успокоиться, дух перевести, глядь — и Сунцов знак подал — занял позицию, готов. Вытащил верный наган Турин, крутанул барабан легонько — все смертоносные голубчики на месте, подал голос:
— Не заснул, Корнет?
Никто ему не ответил. Прислушался снова. Ни звука.
— Узнал Ваську-божка? Окажешь сопротивление, живым не выпущу! А выбросишь кольт да выползешь на брюхе, — надейся на милость пролетарского суда. Может, и найдёт для тебя снисхождение.
Тихо за перегородкой. Будто с пустотой вёл разговор. Обернулся к Губину, жавшемуся к нему, продолжил громче:
— Не один я здесь, Копытов. Оба выхода перекрыты моими бойцами. Послушай к тому же знакомого своего, Петра Аркадьевича. Плохого он тебе не пожелает, — и Турин дёрнул Губина за рукав. — Ну? Попробуйте вы.
— Артём Иванович?! Копытов?! — осипшим голосом крикнул Губин, закашлялся, сбившись, но проглотил слюну, набрал больше воздуха: — Проиграли вы. Сдавайтесь…
Договорить он не успел. Загрохотал безудержно тяжёлый кольт, полетели в разные стороны щепки от раскалывающейся перегородки, засвистели пули. Турин ринулся в проход броском, изогнулся кошкой, не переставая нажимать на курок, целил туда, где только что громоздились вещи. В полёте или уже падая, краем глаза заметил влетающего навстречу Сунцова с наганом, палящим в громоздкое чужое тело, выросшее вдруг у окошка. Разлетелось вдрызг окошко под выстрелами, огромное тело ринулось наружу за спасением да застряло в проёме окна, дёрнулось, ужаленное несколькими пулями, и длинные ноги, оставшиеся внутри вагона, затихли, а лысую голову и вторую половину тела заполоскал, затрепал ночной ветер.
Турин застонал, с трудом дотянулся до правого плеча, кровь залила руку. Пересиливая боль, он попытался подняться, но не смог оторвать от пола головы. Лежал на нём поперёк, не двигался его верный агент Сунцов, как и положено, прикрывший своим телом командира.
— Ваня, — позвал Турин и не услышал голоса.
Теряя сознание, прикусил губы до крови, а открыл тяжёлые веки — теребил его Губин за больное плечо, оттого и пришёл он снова в себя, застонал. Но кто-то уже из своих оттолкнул прочь Губина, бережно приподнял его на руки и понёс из вагона, пугая зычным басом:
— Воздуха! Воздуха! Разойдись!
— Ширинкин, — прошептал Турин, улыбнувшись через силу. — Чего ж ты орёшь, как оглашенный? Дамочек всех распугал…
И покинуло его сознание, провалился, словно в пропасть.
— Жив! Жив командир! — прижимался к его лицу длинными усами Ширинкин и плакал, не стесняясь слёз.
XII
Что ж лукавить? Догадывался Арёл, зачем его пригласил краевой прокурор Берздин. Конечно, Глазкин, сукин сын, зам его, во всём замешан. Других серьёзных прорех не имелось, а попусту вызывать не станут, не ближний свет. Ломал теперь голову, корил себя губернский прокурор — до главного так и не добрался. Вот его ошибка!..
С малого началось, он в той малости большой беды не учуял.
От доброжелателя, чтоб ни дна ему ни покрышки, кляуза пришла на Глазкина, дескать, грязными делишками чрезмерно увлечён, нэпманов поборами обложил, тех, кто рыбой промышляет. Сигнал губпрокурор лично проверил, как-никак зам — правая рука и ужаснулся, — подтверждались факты! Обуяла злость — это у него-то за спиной? И ведь с чистыми глазками всегда за справедливость радел, подлец, с трибун взяточников клеймил так, что самого пот прошибал!
Гнать его собрался, а то и под суд отдать, но не успел Берздину доложиться, позвонил ответственный секретарь губкома Странников, завёл разговор издалека о международном положении, о происках врагов, о злобных провокационных доносах троцкистов упомянул и прочих совсем уже непонятных адептов буржуазии… Одним словом, послушал губпрокурор совета Странникова, дополнительные материалы собрать попытался, но нового — ничего! Да и прежние свидетели отказываться начали от своих же слов; оказывается, нездешние они, новички в рыбном промысле, бес попутал напраслину навести да и он не так, мол, их понял при первых опросах. Пока возился с ними, зам укатил в столицу. Не отпустил бы его, но позвонил опять ответственный секретарь, а уж обратно Глазкин примчался черней ночи — невеста погибла при невыясненных обстоятельствах! Как зам объяснил: то ли убита злодейски, то ли несчастный случай, ему самому доподлинно неизвестно, пришлось снова его отпускать, теперь уже в Саратов… Так и пропадал, субчик, почти недели две, а возвратился — из-за весеннего паводка чехарда несусветная захлестнула, тот же Странников Глазкина к штабу по наводнению прикрепил по партийной линии, сам штаб и возглавил. Попробуй возрази, когда в губкоме и в губисполкоме стихией грозят: тут тебе и паникёры одолевают, и спекулянты мором пугают народ, и мародёры появились в затопленных дальних сёлах, беспорядок и непослушание… Не обойтись без прокурора в чрезвычайной тройке, созданной губернским начальством! Не самому же Арлу в лодку прыгать, всё побросав, да в плавание отправляться, он и плавать-то сроду не умел.
Понятное дело, заниматься прошлыми делишками Глазкина времени не хватало. Но докопаться всё же хотелось, хотя притормозила его новость, которой поделился с ним верный друг Распятов. При встрече в губкоме будто бы невзначай завёл к себе в кабинет, чаем угостил и поинтересовался, чем не угодил ему Глазкин, не пора ли перестать выискивать недостатки в его работе? Глазкин, мол, профессионал с опытом, в политической ситуации ориентирован верно, симпатизирует ему и ответственный секретарь губкома. Смекнув, что бог по идеологии не станет зазря беспокоиться такими тонкими вопросами, Арёл смолчал, пожав плечами, обычное, мол, дело, не больше чем к другим требования, однако Распятов дал понять, что Странникову не нравится его предвзятость к Глазкину. Тот и без того пострадал, невесты лишился, теперь на службе чинят неприятности. Так прямо и заявил — «чинят». Арёл пробовал оправдываться, но услышал в ответ, что свои виды имеет секретарь на Глазкина, метит его в кресло председателя губернского суда, засиделся тот за спиной прокурора. Арёл расстроился не на шутку, руки опустил. И вот на тебе! В себя прийти не успел, этот вызов в краевую прокуратуру на голову свалился. Тревожило всё: к Берздину с пустыми руками явиться не просто опасно — нельзя! Какими тот сигналами или, не дай бог, фактами располагает?.. Может развернуть так, что вверх тормашками вылетишь!..
Лично знакомый с начальником секретно-оперативного управления ОГПУ Ягодой, ещё в девятнадцатом году бок о бок деливший и лихо, и удачу с Енохом Гершеновичем в военной инспекции на фронтах Гражданской войны, краевой прокурор Густав Берздин, хотя и прикидывался новичком в прокурорских нюансах, был не прост. Хил с виду и неказист, дурил или действительно любя, вышитую цветочками косоворотку носил под кожаный ремешок и усики малюсенькие щёточкой под длинным носом. Только немногие из своих знали, что надевал он косоворотку эту по особым случаям, когда, выступая на судебных процессах, требовал высшую меру пролетарского возмездия подсудимым. Под бедняцкую рубашонку как раз и выглядело само собой разумеющимся всё остальное. Принимались тогда его речи и приговоры суда под ликования и рёв бушующих толп.
И совсем уж мало кому известно было, что неизлечимо болел Берздин, страдая сердечными припадками, из-за чего и разошлись их дорожки на служебном поприще с товарищем Ягодой, лишь усы щёточкой под носом и остались. Попавшего в плен Берздина расстреливали беляки в Гражданскую, но не дострелили. Откопали свои стонущего в яме с мертвяками, вот и не видел никто улыбок на его лице, перекошенном с тех пор; дёргались губы иногда, а поди догадайся, весело ему или прихватило опять от избытка нервного перенапряжения. А какой из тебя чекист, если этакая лихоманка допекает чуть ли ни постоянно?
В партийном аппарате штаны протирать не захотел, в милицию, само собой, нельзя, в прокуратуре, почти в гражданской организации, как раз только создаваемой, подыскал ему товарищ Ягода место и не забывал, позванивал, интересовался…
Арёл второй час досиживал в приёмной, хотя залетали к крайпрокурору другие чины: помощники, следователи и даже секретарши. Виду не подавал, что переживает, держал себя с достоинством, лишь покуривал одну за другой папироски, знал — его час не пробил.
И вот, когда сухо кивнув и шаркая подошвами, проплелась в кабинет начальника мрачная личность с жидкой бородёнкой — спец особого кадрового сектора по фамилии Шкребец, поднялся и он со стула, оправил рывком кожанку, затрещала щетина на его подбородке под жёсткой шершавой ладонью — приметил мельком, что занёс старик с собой в кабинет папку тонюсенькую ядовито-зелёного цвета. Невзрачная вроде папка, но, конечно, по его душу и сколько в ней пакости, лучше не гадать! Из-за неё и вытащили сюда…
Закрыться дверь не успела, позвали его. Арёл в прокуратуре тоже не абориген, не дока по большому счёту, но в Гражданскую не щи у тёщи хлебал, в кавалерийской дивизии Первой Конной только до Варшавы не добрался, и пуганый, и стреляный, однако воздуха полную грудь хватил, прежде чем за ручку двери взяться. Выдохнул с приветствием, когда уже за порогом оказался. Берздин из-за стола головы не поднял, буркнул что-то, барабанил кончиками пальцев по корке той самой, ядовито-зелёной… Чёрной тенью маячил Шкребец сбоку, не смея сесть, злорадно дожидаясь неминуемого разноса.
— Орёл, а свысока-то хуже видишь! — дёрнулась щека Берздина. — Не спустить тебя, молодец, пониже?
Губпрокурор не моргнул, голову набычил, добела сцепил пальцы в кулаках.
— Что молчишь? Покрывать станешь сукина сына? Или спелись с ним, сам увяз в дерьме?
Выкрикнул последние слова Берздин, пронзил взглядом подчинённого, вздрогнул Арёл, плотнее сжал губы — ни слова; ждал, когда выплеснет гнев прокурор, выдохнется, тогда и появится возможность объясниться. А лезть поперёк — голову под топор пускать.
— Я вас обоих за решётку упеку! А то добьюсь, чтоб и к стенке поставили… Управы не чуете в своём култуке? Сжились?
Беспощадная ругань продолжалась бы неизвестно сколько, но качнулся вдруг Шкребец и, не ухватись за край стола, свалился бы с ног и зашибся об пол. Осёкся Берздин, вскинулся на бледного спеца.
— Что?.. А ты куда глядел, старая калоша?.. Подсунул бумажек подлых! Насобирал? Раньше пресечь надо было! Утратил нюх?..
Спец, далеко за шестьдесят, рта не открыл, только рукой свободной смахнул капельки пота со лба, покачивался.
«Неужели впервые такие сцены наблюдает старикан? — невольно пожалел Арёл спеца. — Вряд ли. Испугался, что выпрут и его заодно, а уж про тюрьму-то как услыхал, так и совсем обмер. Каково ему при новом-то режиме? Упекут в один миг. Зачем рвался сюда? Мобилизовали?..»
И, воспользовавшись паузой, бывший кавалерист решил, что как раз вовремя ему заступать:
— Сам к вам было собрался, Густав Янович! — щёлкнув по-военному каблуками сапог, чётко выкрикнул он. — Да наводнение планы сорвало.
Крайпрокурор даже опешил от такого поворота, невысказанная брань застряла в горле, смешались заготовленные мысли, язык утратил связь с последней фразой, он с удивлением переводил ошеломлённый взгляд с терзающегося страхом спеца на нежданного смельчака.
— Вон оно как, — с нескрываемой иронией пришёл он в себя наконец, острый кадык дёрнулся на тонкой шее, словно проглотил всё застрявшее. — Наводнение, значит, помешало…
— Загрузили поручениями губком и губисполком так, что ни продохнуть. Гляньте! — не давая опомниться, очертя бросился Арёл в атаку и начал зло выкладывать на стол перед крайпрокурором бумагу за бумагой.
Всё это были приказы штаба чрезвычайной комиссии по наводнению, один грозней другого и начинающиеся одинаково тревожными призывами:
ВСЕ НА БОРЬБУ С НАВОДНЕНИЕМ!
— Что? Что ты мне ими тычешь?! — вскочил со стула, впервые встретив такой отпор, Берздин, лицо его изменилось, глаза округлились, утратили яростный блеск, сползли вниз, забегали по листам, он начал хватать их наугад, читать вслух с гневным ещё напором, перескакивая, пропуская отдельные слова, фразы, строчки:
— «Граждане! Полученные из разных городов Поволжья сведения о том, что весенние воды реки Волга поднялись выше уровня, который наблюдался за ряд последних десятилетий, заставляет внимательно отнестись…»
Остановился, но Арёл сам уже схватил со стола новую бумагу:
— «Приказ номер 19 о введении исключительного положения!..»
Он тоже почти кричал, не сдерживая чувств, накопившихся за время вынужденной нервотрёпки в приёмной:
— «В целях ограждения жизни и имущества населения, в связи с постигшим губернию небывалым стихийным бедствием, для лучшей организации борьбы… с 24 часов ввести по всей губернии и городу исключительное положение… обязать всех мужчин с 18 до 45 лет являться по первому требованию районных отделений милиции…»
Прервался, не помня себя, выпалил, тараща глаза:
— Бросить всё? Наплевать на это? И заниматься каким-то говнюком?!
В горле Берздина пересохло, он что-то хотел сказать в ответ, но захрипел, закашлялся тяжело, едва выдавил из себя сиплым шёпотом:
— Трагедия… знамо дело… и у нас… не с такими, конечно, последствиями… и таким размахом. Казань тоже плавает…
— Казань чёрт-те где, а у нас сёла давно на низах утонули, люди на буграх живут, мародёры скот режут, имущество растаскивают. Распорядитесь стрелять?
— Стрелять?.. — больше сказать Берздин уже ничего не мог, защемило ему горло.
Арёл бросился за графином, налил воды, протянул стакан, крайпрокурор глоток за глотком осушил весь. Лицо его сделалось зелёным, он глубоко вздохнул и жестом попросил воды ещё.
— Лишили, так сказать, возможности добить проверку до конца, — подав воду, продолжил уже спокойнее Арёл. — Ни днями, ни ночами зама своего отловить не могу. Он по сёлам с комиссией штаба разъезжает… то есть плавает.
— Говно плавает! — насытившись и, видно, устранив помехи в горле, крайпрокурор приходил в себя, ненавистью налилась физиономия, он снова закричал: — Кто позволил?!
— Ответственный секретарь губкома с собой взял, — не сдавался Арёл.
— Странников? — враз смешался Берздин. — Странников его с собой в чрезвычайную тройку штаба взял?
Арёл невозмутимо кивнул. Берздин перекинул свирепый взор на Шкребца:
— Тебе что-нибудь известно об этом?
— Так откуда ж… — развёл руки тот, жидкая бородёнка затряслась, — гадать остаётся.
— Гадать?!. — грязно выругался крайпрокурор. — Тебе заниматься этим велено! Раз по-иному не способен, гадай! Картишками снабдить?
Он схватил со стола первый попавший под руку лист, повертел, поднёс ближе к глазам:
— Вот! И здесь подпись руководителя чрезвычайной тройки штаба товарища Странникова!
Поднял страшные в гневе глаза на старика:
— Ты мне что плёл?
На Шкребца жалко стало смотреть, казалось, ещё секунда — и он действительно свалится в обморок.
— Вон отсюда! И все дела немедленно сдать Еремицкому!
Спец по особому кадровому сектору для Берздина больше не существовал, весь распалённый, он развернулся к губпрокурору.
— Ну?..
— Поэтому опросить Глазкина не имел объективной возможности. — Арёл смолк и, проследив, пока за Шкребцом не закрылась дверь, тише обычного завершил: — Виноват. Наставления товарища Странникова о дополнительной проверке фактов, порочащих заместителя, выполнить не успел.
— Наставления! — сузил глаза Берздин до щёлок. — Какие ещё наставления? Ты говори, да не заговаривайся, прокурор!
— Советовал мне секретарь губкома строже отнестись к сигналам нэпманов. Нет ли провокации или оговора? Метит Странников его в председатели губсуда, — выложил последний свой козырь Арёл.
— Бред! — вырвалось у Берздина.
— Информация зафиксирована проверенным источником. Глазкин за этим и гонял в столицу.
— Ну что ж… — изменил тон Берздин. — Вам, конечно, известно, что за работой по ликвидации стихии следит лично товарищ Сталин?
— Так точно! Говорят, в Кремле он сам, так сказать, товарища Странникова благословил.
— Знаете, следовательно…
— Так точно!
— Делайте выводы.
— Есть!
— Вот что… Материал проверки на зама привезли с собой?
— Так точно.
— Давайте сюда.
— Сбегать зарегистрировать?
— Сам зарегистрирую, — попытав губпрокурора взглядом, Берздин, постучал ладошкой по столу. — Ты что ж? Мне не доверяешь?
— Как можно…
— Ступай, — не подав руки, крайпрокурор принял пакет. Опустил голову. Но не успел Арёл открыть дверь, его настиг тот же голос:
— После паводка жди моих с проверкой. Да готовься — вывернут наизнанку! И если что накопают!..
XIII
Из тьмы и безмолвия до Турина пробивались звуки, напоминающие людские голоса. Приблизились. Преобразились в различимый шёпот:
— Так глаза и не открывает, Маргарита Львовна? — допытывался один, погрубей.
— Спит? — надеялся юношеский, знакомый.
— Уверяю вас, Пётр Петрович, рано вы пришли. Мы бы дали знать, если бы что-то изменилось. — Этот Турин слышал уже не раз, привыкнуть успел — доктора бас.
— Как рано? После операции сколько прошло! — будоражил юный, шофёра Витька, конечно.
— Третьи сутки так. Может и дольше продлиться это состояние. Кома.
— Что-что?
— Раз не знаете, лучше не объяснять.
— Доктор?..
— Долго. И вам ни к чему. Он вполне может нас слышать. Но двигаться, реагировать или отвечать не способен. Тяжёлое нарушение кровообращения.
— Чем же помочь?
— Пули вот — дарю. Пара штук.
— У, сволочи!
— А жизнь пока не гарантирую… Но мы, уверяю вас, делаем всё необходимое.
Турин открыл глаза.
— Василий Евлампиевич! — едва не заорал Витёк и бросился бы ему на грудь, не схвати его в цепкие лапы Камытин.
Ближе всех оказалась женщина в шапочке, в халате. Но он узнал её сразу:
— Сима…
— Слышите?! — опять заорал шофёр. — Жив он!
— Отойдите! Пропустите меня, — оттеснил всех сердитый худенький человечек в пенсне и в белом халате, припал к его лицу нос к носу. — Видите меня?
Турин моргнул.
— И слышите?
— Плохо, — прохрипел Турин пересохшими губами.
— Это естественно, — отодвинулся от него доктор. — Столько молчать! Маргарита Львовна, — приказал он. — С ложечки его попоите. Но и с ложечки чуть-чуть! И пока больше ничего.
Он победоносно выпрямился петушком и взглянул на Камытина:
— Что я вам говорил, молодые люди?
— И я! — рвался Витёк к койке с больным.
— Без тебя известно было, — не пропускал его Камытин. — Знал бы, что такой бешеный, Ляпина взял бы. Ну-ка, где наша сумка с гостинцами?
— Э-э, голубчики! Никаких продуктов! — замахал руками доктор. — Маргарита Львовна, я попрошу, проследите. И построже.
— Сима, — передыхая между глотками, отворачиваясь от ложки, прошептал Турин. — Ты как здесь?
— Молчи, дорогой, молчи, — койка была низкой, и она для удобства опустилась перед ним на колени. — Я здесь с тобой с первого дня. Как привезли сразу после операции. Вот, Максим Серафимович, — она кивнула на врача, — распорядился. Пётр Петрович попросил и он разрешил.
— А жила где?
— Здесь и жила, при больнице. А что мне, много надо? Я возле тебя и спала. Утром постель с пола убирала.
— Ну вот, молодые люди, — доктор стал вытеснять Камытина с шофёром за дверь. — Ваше время истекло. Завтра, завтра, милости просим. Сегодня вы притомили больного, хватит с него.
— Док? — шевельнулся Турин. — Пять минут?..
— Потом, потом, голубчик, — отмахнулся тот категорически. — Вы и так нас порадовали.
— Иван? — заблестел Турин тревожными глазами. — Сунцов как?
— Плох Иван, — опустил голову Камытин и отступил назад, руки разжал, освободив шофёра, словно передавая тому слово, но Витёк понуро юркнул за его спину.
— Держись, командир, — скрипнул зубами Камытин. — Гонят нас. Придём снова скоро. Расскажем.
Турин, не понимая, перевёл глаза на Серафиму:
— Сима?..
Та дрогнула под его взглядом и, зарыдав, упала головой к его плечу.
— Маргарита Львовна! — кинулся к ней врач.
— Хоронить завтра будем товарища Сунцова, — тихо произнёс Камытин. — По главной площади с оркестром понесём геройского бойца.
Стон вырвался из груди Турина, закрылись глаза сами собой.
XIV
Ближе к полуночи, когда Странников сидел в кабинете, разбирая кучу документов, скопившихся на столе за время его отсутствия, без стука ввалился Задов. Его было трудно узнать: вместо элегантной тройки с бабочкой — синяя замызганная блуза, под ней штаны неопределённого цвета, взлохмаченный, грязный, уставший.
— Дежурный внизу дрыхнет без задних ног. Двери нараспашку, — выдохнул артист с порога. — А я бежал мимо, гляжу — твоё окно светится.
Они обнялись.
— Ты где пропадал? — Задов с наслаждением плюхнулся на диван и закинул руки за голову.
— А ты?.. Весь чумазый!
— Не спрашивай. Пашу, как негр на плантациях. Твой приказ о трудовой мобилизации весь театр исполняет. Кто-то в губисполкоме посчитал, что артисты дурью маются и запрягли всех наших вплоть до завхоза Пантелеймоныча, в котором душа еле держится.
— Нарушают, — буркнул секретарь. — Мобилизации подлежат лица лишь до 45 лет. А Самсоныч угодил?
— Ни одного штрейкбрехера![47] Вот, смотри, трудовыми мозолями смело могу похвастать, — Задов выставил потерявшие былой лоск ладони. — Бригадиром меня назначили.
— Язык длиннее рук, вот и приглянулся, — хмыкнул Странников, почти не слушая и не глядя; снова уселся за стол, но бумаги зло сдвинул в сторону так, что посыпались на пол. — В подчинение дали, конечно, Верочку с Зиночкой? С ними рекорды и ставишь…
Вид подавленный: секретаря несомненно серьёзно что-то угнетало.
— Зря издеваешься! — продолжал шуметь Задов, пытаясь его расшевелить. — Трудимся на главных направлениях.
— Это где ж?
— Которые ты указал в недавней статье, — важно напыжился артист. — Сегодня — на Стрелке, а вчера нас на Эллинг бросали. Прорыв воды устранять. Ликвидировали одним махом!
— Молодцы, — вяло отреагировал секретарь, не подымая головы и даже обхватив её обеими руками, будто мучился нестерпимой болью. — Лопатой пузо сгонишь. И то польза.
— Что с тобой, мой друг? — поднялся с дивана Задов, изобразил прислугу с веером, обошёл вокруг стола, услужливо помахивая над ним, и направился к знакомому шкафчику. — Выпить хочешь?
— Нет настроения.
— А я бы выпил, несмотря на поздний час.
— Ну пей один.
— Нет, так не могу. Не научился. Кстати, это верный признак алкоголизма, а мне теперь заряжаться только энтузиазмом. Разные вещи.
— Ну хорошо, что хоть это усвоил. Труд в коллективе явно на пользу.
— Да что случилось наконец?! — сорвался Задов. — Ты можешь объяснить?
Странников подавленно молчал.
— Неделю не виделись. У каждого полно новостей. Ты с митинга?
— Пошёл разговор?
— Журналист знакомый, считай полдня на Стрелке возле нас крутился. Репортаж готовил в газету о героических буднях театра на речных баррикадах.
— Где? — поморщился, словно от зубной боли, Странников. — Не можешь ты без трескотни и словоблудия.
— На обваловке, конечно, — смутился Задов. — Ты что, совсем от шуток отвык? Что тебя раздражает?
— Не до шуток мне.
— Так поделись!
— Придёт время.
— Ну смотри… — Задов обиженно отвернулся, смолк, но надолго его не хватило. — Про митинг журналист и рассказал. Завидовал всё, что не его послали. А завтра прочтёшь в «Коммунисте» материал и о нас. Самсоныча даже фотографировали!
— Получше-то не нашли?
— А что? — беззаботно захохотал артист. — Театр, известно, начинается с вешалки, а на берегу Самсоныч с его ростом у нас за главного смотрящего. Голову, как жираф, за вал выставит — опасную волну за версту упреждает.
— Ты за этим примчался ко мне ночью? — не выдержав, нервно поднялся из-за стола Странников.
— Да что ты, Василий! — бросился к нему приятель. — Успокойся. Вот, смотри и радуйся! Выпросил последний номер у того журналиста.
— Что ж тебя прохватило? — не глядя, потянулся за газетой секретарь. — Кроме приказов нашей Чрезвычайной тройки да решений губисполкома в «Коммунисте», сейчас ничего не публикуют.
— Врать не стану, — интригуя, усмехнулся Задов. — На второй странице, да и на третьей — сплошь про наводнение и ваши документы, но ты глянь на первую! Узнаёшь?
Странников так и впился глазами в газетный лист.
«Дружеский шарж» — было написано над небольшим рисунком. Он впечатлял.
Сердитый мужик с грубоватым злым лицом вышагивал по пустынному берегу реки, косясь на подступающую воду и далёкие недоступные мачты двух судёнышек у самого горизонта. Ветер дул ему навстречу, мешая ступать, валил. Но герой не сдавался. В сапогах и пиджаке с взъерошенными волосами на голове, он здорово был похож на него самого, вчера ещё, даже сегодня утром вышагивающего вот так же подле моторной лодки, которую долго не могли завести и тащили волоком, словно бурлаки.
Художник не забыл его привычки — засунул правую руку в карман брюк, в левую вставил короткую курительную трубку и украсил отворот воротника на пиджаке тёмным, стало быть красным флажком.
«Обход передовых позиций», — поясняла надпись под рисунком и, чтобы совсем никто не сомневался, здесь же буквами помельче уточнялось: «Пред. Губ. Чрезвыч. тройки по борьбе с наводнением тов. Странников».
— Сгною, сволочь! — выругался он и, в ярости скомкав газету, швырнул под ноги.
— Ты что?! Это же шарж! — вскричал Задов. — Дружеский! И как раз в тему.
— Что ты мелешь, балбес?! Не понял ничего? Это они против меня кампанию затеяли! Ну, Прассук, ну, гнида! А ведь в редакторы я его сосватал, Арестов против был, а я настоял. Своим считал. Вот где выявляются скрытые враги! Сотру в порошок!
— Да погоди, Василий Петрович! — побледнел и сам Задов. — Не горячись. Нет в этом шарже никакого подвоха. Наоборот. Ты приглядись, подумай.
Он поднял с пола скомканную газету, разгладил её на столе, ткнул пальцем:
— Был в Третьяковке?
— При чём здесь картинная галерея?
— Видел там полотно одного известного художника? Кажется, Бенуа… или Серова?.. Не помню.
— Что ты мне хреновину городишь?!
— Император Пётр Великий вышагивает по берегу бушующей Невы. Перед ним все ниц падают, кланяются… Вспомнил?
— Видел не видел! Ты дело говори!
— Пётр Великий с картины на тебя похож в этом рисунке. Словно зверь дикий! Но именно такой не позволил разбушевавшейся реке затопить Питер-град. В этом весь смысл картины.
— Ну? — начав догадываться, остановился в замешательстве Странников.
— Вот художник тебя таким же и изобразил. Одного! На берегу ревущей Волги! Вид такой, что замрёт стихия под твоими ногами!
— Мелешь фантазии, лицедей несчастный, — помолчав, хмыкнул секретарь, но в глазах его исчез гнев, мелькнуло сомнение. — Не исправить твой язык, трепло.
— Это ж каждому понятно! — оживился и сразу с напором запротестовал артист, протянул ему газету. — Ты взгляни ещё раз, Василий Петрович. Трубку-то сталинскую художник в твою руку вложил! Дураку ясно!
Странников покривил, покривил и совсем поджал губы в раздумье.
— А ведь неслучайно! — наступал, гнул своё Задов. — Пришпандорил он её в самом центральном месте. Чтоб по глазам каждому и шарахала!
— Ты так думаешь? — выхватил снова газетку секретарь, внимательно начал разглядывать, изучать каждую деталь рисунка, задумался, бережно положил на стол. Вдруг его осенило, вновь схватил газету в руки, завертел. — А подписи автора-то нет… Кто художник?
Задов пожал плечами.
— Трусоват. Ждёт моей реакции. Как оценю, — отбросил газету секретарь и тяжело опустился на стул. — А знаешь, Гриш, облепила меня эта сволочь троцкистская со всех сторон, никак с ними не разделаюсь. Не знаю на кого и думать. Жене, вон, записку подбросили. Приехал, а её дома нет и письмо злобное — подаю, мол, на развод, ты мне всю жизнь испортил.
— Ну, нашёл над чем горевать, — стал успокаивать приятеля артист. — Я твою Марию досконально изучил. Первый раз, что ли, выкидывает такие номера? Помирю я вас.
— Успокоил…
— Я с ней встречусь. Переговорю и вмиг всё улажу.
— На этот раз не удастся. Она мне все грехи вспомнила. Да ещё болезнь неприличную у себя обнаружила. Изругалась, что я наградил, и умчалась к родителям. Теперь её не достать. Уральская она.
— Детки были бы, не укатила бы.
— Да кто ж виноват? С молодости не могла.
— А может, и к лучшему, а?.. Подумай, Василий Петрович? Не найдём тебе молодушку, что ли? Ты у нас красавец! В Москву вот переведут, меня с собой взять не забудешь, там и подберём! Какую-нибудь Веру Холодную, а?..
— Начались все беды с Таскаева, помнишь, доклад тот чёртов? — горевал секретарь уже о другом. — Будь он трижды проклят! Таскаева я давно выпер, но то, что не он первая спица в колесе — это очевидно, спланирована была вражеская вылазка. А кто?.. Я и на Мейнца, и на Распятова грешил. Наблюдал и за этим забулдыгой в интеллигентном пенсне…
— Трубкиным? — съёжился Задов.
— Против него мысли рождались. Давал повод. Он что угорь, в руки не взять, а за спиной такие сети плетёт да сплетни распускает… Одно слово — паук! Но твёрдых доказательств нет!..
— Зря ты на Трубкина, — заикнулся Задов. — Выпивоха — да, но чтобы против тебя копать, против секретаря губкома пойти…
— Сука! — с горькой уверенностью махнул рукой Странников и кивнул приятелю на шкафчик. — Неси. Шут с ними со всеми. Завтра рано вставать, но выпьем по одной, не выдерживает нервная система. Рвётся по швам. Где бы сил взять да пережить это проклятое наводнение! В Камызяке, говорят, народ давно на лодках плавает, догадались хоть скот на бугры отогнать.
— Переживём! — бросился исполнять приказ Задов, в несколько мгновений расставил на столе бутылку со стаканами. — Закусить у тебя нечем, пусто в шкафчике.
— Пропало, что было. Ариадна Яковлевна насчёт этого строга, всё выбросила, пока плавал.
Задов, словно торопясь, наполнил стаканы.
— Не много? — засомневался Странников. — Покатались мы по Волге-матушке да по её притокам, поработали и погуляли славно. Я народ крепкий подобрал, голова раскалывалась, боялся за себя, как бы сердечко не отказало.
— Рано об этом думать, — чокнулся с ним Задов и, не дожидаясь, залпом осушил стакан, рукавом утёрся.
— На обваловке научился? — прищурился секретарь. — Раньше так лихо не опрокидывал.
— Там сухой закон. — Задов вскочил, подбежал к шкафчику, выхватил оттуда поблёскивающую от жира здоровенную воблину, луковицу и головку чеснока. — А я краем глаза махалку приметил, но сразу не сообразил. Привык у тебя к колбасе с сырком да разносолам… Живём, брат!
Странников осторожно отпил лишь половину из стакана, поставил на стол, покачал головой:
— Нет. На тебя порадуюсь, потолкуем, а мне, извини, больше нельзя.
— Чего? — задиристо хмыкнул артист. — Ослаб в путешествиях, командир?
Секретарь посмотрел на него печальным взглядом без зависти и без былой весёлости:
— Изменился ты, Гриша.
— Да брось!
— Вот что труд с человеком делает, если в чрезвычайной обстановке. Выворачивает настоящее нутро. А не пью я по той причине, что, поцапавшись с Трубкиным на митинге, на утро к себе его пригласил. Выпотрошить хочу до кишок. Отчёт потребую да делишки тёмные ему припомню.
— Не рано начинаешь?
— А что мне?
— Пик наводнения, говорят, на носу. Может, подождать? А уж после, на волне твоей победы, никто и не обратит внимание на его поражение.
— Так-так, — поднял стакан Странников и осушил до дна. — Налей-ка ещё! Уж больно мудро ты начал. Услышать хочу, чем кончишь.
— Вот это по-нашему! — наполнил стакан Задов. — А вспомнил я вот что и с тобой, как с верным товарищем, хочу поделиться.
— Давай, давай, — секретарь разорвал воблу рывком, со злостью, куда девались его печаль и тревоги. — Умного совета не вредно послушать.
— В войне, дорогой мой, победы-то не обретёшь.
— Это как?
— Побеждённый склонит голову и затаится. А враг, оставшийся за спиной, — двойная опасность.
— Уничтожить?.. Растоптать гадину!
— Последователи найдутся. Тайные! О которых ты и догадываться не будешь. Нанесут удар коварный, не очухаешься.
— Верно! — ударил кулаком по столу секретарь, покраснел, заметно стало его быстрое опьянение. — Что же делать?
Позабыв про воблу, неловко утёрся рукавом.
— Обратить врага в пособника.
— В пособника? Это что за хрень?! Делишками какими-то тёмными попахивает.
— Не в друга же его превращать!
— Ты за словами-то следи.
— Не трогай всё же Трубкина, Василий Петрович… Пока, — приблизил лицо артист, заглянул почти с мольбой в глаза секретарю. — Силёнок он набрал, на верха выход имеет. С ним по-другому надо. Сам говоришь — паук.
— Паучище! Но мне Турин обещал помочь.
— Плох твой Турин.
— Что случилось?!
— В больнице доходит. Бандиты подстрелили его на железной дороге.
— Да что ж ты раньше мне не сказал? — попробовал подняться Странников, но ноги не слушались его. — Лучшего помощника я не знал… Вызывай Ковригина, я еду к нему!
— Ковригина? Шофёра, что ли?
— Вон телефон внутренний. Набирай гараж!
— Куда ж мы поедем, Василий Петрович? — покачал головой Задов. — Дурак я, конечно. Сразу надо было тебя известить про Турина, но, уверен был, что тебе самому все известно.
— Откуда? Я же неделю мотался по речке, — опустил тяжёлую голову на руки Странников. — А там никакой информации… Там поспать по-человечески и то не получалось. Бабы, суки…
Он подозрительно смолк.
— Василий Петрович! — окликнул его Задов, осторожно коснулся плеча.
Странников крепко спал прямо на столе, тяжело посапывая.
— Ухайдакали казака крутые горки, — покачал головой Задов. — Куда ж мне тогда? Ему завтра… — Он посмотрел на настенные часы, — нет, уже сегодня и в больницу к сыщику, и с Трубкиным встречаться?.. Мне на Стрелку… Пусть спит. И я рядышком. Разбужу его, а он меня утром на машине подбросит. Вот и успеем кругом. Трубкин-то раньше десяти не заявится. — Кинул мрачный взгляд на оставшуюся водку в бутылку, вылил до капли в свой стакан, выпил, утёрся рукавом и побрёл к дивану:
— Не проспать бы…
XV
У больницы они всё же расстались. Странников, кивнув Ковригину, остановил машину.
— Вылезай, Григорий Иванович, — скомандовал он артисту, подавая руку. — Добежишь дальше сам. Негоже, чтобы секретарь губкома с тобой раскатывал да подвозил. Что народ на обваловке подумает?
— И на том спасибо, — махнул рукой Зотов, не огорчаясь, соскочил на землю. — Привет там Турину.
— Поправляется Василий Евлампиевич, — улыбнулся Ковригин, разворачивая автомобиль на пустынной дороге.
— А тебе откуда известно? — Странников даже вздрогнул.
— Ребята вчера сказали в гараже, ну я ночью и смотался к нему. Пропустили, документик-то всё храню, — и он показал из нагрудного кармана краешек красного удостоверения.
— Назад вернуться душа болит?
— Как прикажете.
— Служи, боец, — хлопнул его по плечу секретарь. — Здесь пока твоё место.
В больнице ещё спали, и Странникову пришлось несколько раз нервно нажимать на звонок у двери. Суетилась напуганная старушка, расспрашивала, пока ему не надоело, он оттеснил её плечом, но бежала уже дежурная сестра, узнав, ойкнула, покраснела, провожала до самой палаты.
Турин лежал один, хотя рядом пустовала ещё одна прибранная койка.
— Оставьте нас, — ещё в дверях распорядился Странников и протянул руку приподнявшему голову Турину.
Выбритая до блеска голова наполовину в бинтах, глаза с тёмными кругами, но знакомая улыбка, удивлённая немым вопросом.
— Как же тебя угораздило? — не видя его рук, опустил и свои секретарь. — Я уж и не знаю, можно до тебя дотронуться?
— Лучше не надо, — продолжал тот виновато улыбаться.
— Сяду рядом? — примостился он в ногах. — Извини. Я без подарков.
— Да что вы, Василий Петрович! Благодарю за визит.
— Я ведь и не знал ничего! — зашумел он. — С наводнением закрутился. Вчера Задов сообщил.
Вошла женщина. Странников обернулся. Она поздоровалась, задержала на нём взгляд. Смутилась, заторопилась уходить:
— Я попозже с уколами, Васенька.
И исчезла, тихо затворив за собой дверь.
— Кто?
— Сестричка.
— Не похожа.
— У вас глаз острый, Василий Петрович, — улыбался Турин. — Знакомая моя. Разрешили ей в порядке исключения за мной присматривать, как себя вспомнил.
— Было и такое?
— Всё было. Страшное позади.
— Как сейчас?
— Надоедаю уже доктору.
— Ну?
— О выписке пока и слушать не желает.
— Ты толком расскажи, что произошло.
— Писали в газетах.
— Кроме своих приказов, ничего в руках не держал. Кстати, вчера на митинге про оружие спрашивали. Председатели районных троек, особенно в сельских, где населённые пункты затоплены, натыкаются на мародёров. На лодках разъезжают, скот, имущество брошенное грабят. Хорошо, если натыкаются на вашего сотрудника, но часто один на один оказываются с бандитами. А их баграми да вёслами не одолеть. Ты бы выдал распоряжение вооружить наших. Я проконтролирую, кому можно вручить, а кто обойдётся.
— Пусть начальник охраны гарнизона распорядится…
— Да нет у него свободного оружия. Всё, что имелось, уже на руках. Он по секрету поделился, что у тебя должно быть отобранное у бандитов.
— Это вещественные доказательства. Нельзя.
— Формалист ты! Я же не себе прошу, у меня имеется. Я для общего дела. И не вижу здесь никаких серьёзных нарушений. После наводнения каждый возвратит.
— А убьют кого из этих пушек?
— Разберёшься. Если по делу, так правильно, а нет, сам отвечать будет, дурачок. Я, как председатель тройки, приказ бы подписал, а?..
— Читаю я ваши приказы, — кивнул Турин на груду газет на полу возле койки. — Регулярно Маргарита Львовна поставляет.
— Маргарита? Хороша баба. Кем, говоришь, она тебе доводится?
— А никем. Артистка. К вашему Задову, кстати, петь в театр приехала. Он и пригласил.
— Вот как… Паразит!.. Вчера ни слова не сказал.
— Она ему тоже приглянулась. Круги возле неё описывал, — хмыкнул Турин, но глаза не смеялись, а зорко следили за Странниковым, стараясь не упустить ни слова, ни жеста.
— Ничего не пойму! Как она в больницу-то угодила, если в театр приехала? От Задова так просто… — секретарь передумал завершать свою мысль, отвернулся. — Он за своими присматривает.
— Тут клубок целый, — улыбнулся опять Турин. — Вылечусь, выпишусь, обязательно всё растолкую, Василий Петрович, если интерес не остынет.
— Интерес? Ты про что?
Турин дёрнулся и застонал.
— Ухожу, ухожу, — приподнялся Странников с койки. — Понимаю. Не до меня тебе. Выздоравливай.
— Вы только у других не расспрашивайте, — пересиливая боль, поморщился Турин и совсем тихо добавил: — Сам всё расскажу про эту женщину. Случайно она оказалась в этой истории со стрельбой. И не виновата ни в чём.
— Хорошо, хорошо, — попятился к двери Странников. — Ты выздоравливай. На ноги встанешь, тогда ко мне жду. Позарез нужен. — И позвал погромче: — Сестричка, Маргарита Львовна!
Она вошла тут же, словно за дверью и дожидалась. Бросилась к Турину, но столкнулась с ним. Будто искра пробежала по обоим; не сводил с них глаз Турин — сторониться друг друга они явно не собирались, так и стояли, будто склеенные, глаза в глаза.
Первой опомнилась Серафима, румянец на щеках прикрыла платочком, на шаг отступила:
— Извините покорно…
— Это вы меня, — шагнул к двери Странников.
И они расстались, не задумываясь и не догадываясь, что скоро странным образом сведёт их судьба снова и оставит в их жизни не след даже, а огромную болезненную борозду навеки…
Примечания
1
Шестёрка (воровской жаргон) — мелкий вор, тайный осведомитель, исполняющий приказания старших.
(обратно)2
Шмон (воровской жаргон) — обыск в камере.
(обратно)3
Стрелка (воровской жаргон) — забить стрелку — назначить переговоры из-за конфликта.
(обратно)4
Гоп-стоп (воровской жаргон) — разбой.
(обратно)5
Посадить на перо (воровской жаргон) — убить.
(обратно)6
Вертухай (воровской жаргон) — надсмотрщик, конвоир в тюремных коридорах.
(обратно)7
Барин (воровской жаргон) — начальник тюрьмы, ИТК.
(обратно)8
Семь копеек (воровской жаргон) — стоимость пули в те времена; значит — ждут расстрела.
(обратно)9
Дыбенко П.Е. — матрос, в 1917 г. председатель Центробалта, в Гражданскую войну — начдив, советский военачальник, командарм 2-го ранга.
(обратно)10
Из выступления Л.Б. Каменева на XIV съезде ВКП(б) (стенографический отчёт).
(обратно)11
Данте. «Божественная комедия».
(обратно)12
Молотов В.Н. (Скрябин) — партийный и государственный деятель, занимавший при Сталине высокие посты, с 1926 года член Политбюро, член Президиума ЦК партии большевиков.
(обратно)13
В. Хлебников. «Творения», сборник произведений.
(обратно)14
Елена Стасова (1873–1966) — член партии с 1898 г., агент «Искры», в 1917–1920 гг. — секретарь ЦК партии, работала в Коминтерне.
(обратно)15
Инесса Арманд (1874–1920) — член партии с 1904 г., с 1918 г. — зав. Женсоветом ЦК, член ВЦИК, руководила в 1920 г. 1-й международной женской конференцией.
(обратно)16
Розалия Землячка (Залкинд) (1876–1947) — член партии с 1896 г., агент «Искры», участница Октябрьской революции, видный партийный и государственный деятель во времена Сталина.
(обратно)17
И. Левитан. «Никогда не прощайся со мной».
(обратно)18
И. Левитан. «Поцелуй».
(обратно)19
Взломщики банковских сейфов (воровской жаргон).
(обратно)20
Убийцы (воровской жаргон).
(обратно)21
Револьвер (воровской жаргон).
(обратно)22
Быть на виду у посторонних (воровской жаргон).
(обратно)23
Кинжал (воровской жаргон).
(обратно)24
Выйти из преступного мира без согласия преступников (воровской жаргон).
(обратно)25
Коба — одна из партийных кличек Сталина.
(обратно)26
Бронштейн — настоящая фамилия Л.Д. Троцкого.
(обратно)27
Поскрёбышев А.Н. (1891–1965), в 1924–1929 гг. помощник Сталина, с 1931 г. — личный секретарь и наиболее доверенное лицо.
(обратно)28
Осведомители милиции.
(обратно)29
А. Блок. «Возмездие», поэма.
(обратно)30
Постановлением СНК РСФСР от 06.02.1924 г. в структуру милиции введено новое подразделение — участковые надзиратели милиции, этому должностному лицу поручался надзор и охрана определённого участка города с населением в 5 тыс. человек.
(обратно)31
Лабуда — вздор, ерунда.
(обратно)32
Барахольщик — мелкий воришка.
(обратно)33
Академик — опытный вор (воровской жаргон).
(обратно)34
Катала — игрок в карты (воровской жаргон).
(обратно)35
Обыск по местам обитания воров (воровской жаргон).
(обратно)36
Следопыты и сыщики из приключенческих романов.
(обратно)37
Револьвер, сконструированный американцем С. Кольтом в 1835 году, отличался высокими качествами среди оружия ближнего боя.
(обратно)38
Одно из наименований кокаина у наркоманов.
(обратно)39
Наркоманы (воровской жаргон).
(обратно)40
Министр юстиции Временного правительства в 1917 году, Верховный главнокомандующий.
(обратно)41
Старая московская тюрьма.
(обратно)42
Привлекаемый к уголовной ответственности преступник.
(обратно)43
Наркотик.
(обратно)44
Греческая богиня, символ сценического искусства (миф.).
(обратно)45
И. Левитан. «Зажгите свечи, господа».
(обратно)46
А. Блок. «Сердце предано метели».
(обратно)47
Штрейкбрехер — лицо, нанимаемое администрацией предприятия во время забастовки для замены бастующих. В переносном смысле означает изменника, предателя общих интересов.
(обратно)

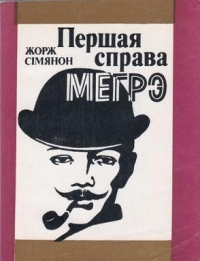

![Служба - дни и ночи [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/560471/primary-medium.jpg)



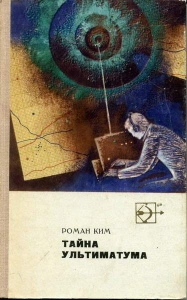
Комментарии к книге «Красные пинкертоны», Вячеслав Павлович Белоусов
Всего 0 комментариев