Виктор Пронин Медвежий угол Повесть
Самолетик, маленький и насквозь промерзший, с инеем на иллюминаторах и на жестких металлических скамьях, летел над мерзлыми болотами, затянутыми туманом, над худосочной северной тайгой. Несколько раз он садился на каких-то таежных аэродромах, больше напоминающих обычную укатанную лыжню, пробегал мимо занесенных по самую крышу избушек, мимо воткнутых в снег елочек, которыми ограждали взлетную полосу, и останавливался. Сквозь тонкие, вибрирующие борта слышались злые порывы ветра, скрип и скрежет каких-то тросов, распорок, креплений. Ненадежным казался самолетик, весь его вид настораживал и как бы предостерегал от слишком честолюбивых планов, заставлял вспомнить забытые суеверия, осмеянные предчувствия.
Приземлившись, летчики, не обращая внимания на одинокого пассажира, что-то вытаскивали из самолетика, втаскивали в него, беззлобно смеялись над кем-то, договаривались о встрече, а потом захлопывали дверцы, отряхивали с себя снег, падали на остывшие сиденья и, не прекращая начатого разговора, выруливали на старт. Провожающие что-то беззвучно кричали им, размахивая рукавицами, шапками, бежали следом. Самолетик набирал скорость, его бросало, заносило из стороны в сторону, а потом вдруг наступало такое ощущение, будто он с проселочной дороги выехал на асфальт. Значит, поднялись. Теперь надо было поскорее набрать высоту — до того, как приблизится темная стена леса. Последний раз мелькали покосившиеся на ветру елочки, и узкая просека исчезала. И было немного жутковато думать, что ее могли и не найти в бесконечной белой круговерти. Но летчики находили и следующую просеку, приземлялись, сбрасывали мешки с почтой и снова поднимались.
Панюшкин сидел недалеко от кабины пилотов, плотно сжав крупные жесткие губы. За время полета углы поднятого воротника куртки от его дыхания покрылись инеем, да и Панюшкин казался как бы смерзшимся, меньше обычного. Прижимаясь лбом к иллюминатору, он видел далеко внизу то жиденькую рощицу, то сопку, но в следующий момент все опять скрывалось в снегу и возникал новый пейзаж, точно такой же...
«Какого черта вызывают?» — думал Панюшкин недовольно. Он не любил, когда его вызывало начальство, он всегда ощущал неприятное чувство зависимости, которое приходилось подавлять усилием воли. «Опять, наверно, какая-нибудь неприятность», — решил он. Было досадно, что его сорвали с места, заставили бросить стройку, а завтра, если не сегодня, ему предстоит сквозь вот эту же белесую мглу проделать обратный путь. Если, конечно, будет самолетик, если будет оказия, соизволение начальства...
Панюшкин ворчал про себя, но в то же время был рад этой поездке, которая нарушила его не больно веселые будни. Каждый месяц ему приходилось вот так, воспользовавшись почтовым рейсом, добираться в городок, где он за день решал уйму вопросов со снабженцами, заказчиками, проектантами, со всеми, кто был заинтересован в скорейшем окончании строительства нефтепровода.
Добираясь из аэропорта в городок, идя по дымящейся от мороза улице, утонувшей между сугробами, толкаясь в приемных начальства, ругаясь и отшучиваясь, Панюшкин все еще чувствовал в теле насадную вибрацию самолетика. Когда он наконец утряс все хозяйственные, кадровые и прочие дела, он вспомнил, что ему еще надо зайти в райком. «Эх, некстати!» — с досадой крякнул Панюшкин: он не успевал на обратный почтовый рейс. «Эх, некстати!» — продолжал про себя повторять он, вышагивая по вытертой дорожке в приемной секретаря. Несмотря на его маленький рост, шаги у Панюшкина были крупные, поворачивался он круто, смотрел исподлобья напористо, даже зло.
— Может, ему напомнить? — спросил он, резко остановившись у столика секретарши.
Полная женщина с легкомысленным шарфиком на шее вначале подперла пальцем строку, которую читала, сняла очки, приосанилась и только тогда подняла глаза.
— Простите, вы что-то сказали?
— Я спросил, не напомнить ли вашему? — он дернул подбородком в сторону обитой двери. — Я здесь уже достаточно поторчал и его начальственное самолюбие, полагаю, вполне ублажил.
Секретарша неодобрительно посмотрела на Панюшкина, надела очки и убрала палец со строки. Углубилась в работу.
— Между прочим, он не только мой начальник, — проговорила она, не поднимая головы.
— А чей же еще? — быстро спросил Панюшкин.
— Хм, — она улыбнулась бумажке, которая лежала перед ней. — Будто не знаете... А между прочим, он не из таких.
В это время раздался звонок.
— Вас ждут, — проговорила секретарша так, будто эти ее слова были самым убийственным доводом в их споре.
Панюшкин решительно подошел к обитой черным дермантином двери, рванул ее на себя и, одним шагом перемахнув через маленький темный тамбур, ступил на мягкую ковровую дорожку, которая вела прямо к столу секретаря.
Секретарь, Олег Ильич Мезенцев, сидел за столом, правильно, по школьному. Что-то писал.
— Здравствуйте, Николай Петрович, — Мезенцев улыбнулся, и его лицо, освещенное отраженным от бумаг солнечным светом, показалось Панюшкину слишком молодым. — Как долетели?
— Ничего, долетел, — обронил Панюшкин, усаживаясь в кресло. Буква «о» у Панюшкина звучала сильнее, звучнее других.
Панюшкин хорошо знал кабинетный ритуал, по которому, едва поздоровавшись, а то и до приветствия, принято этак непосредственно обменяться простенькими шутками, рассказать забавную историю, которая бы заняла некоторое время, чтобы собеседники успели показать взаимное расположение и готовность поговорить откровенно, решить вопросы быстро, по-деловому, без перестраховок и формальностей. Однако сегодня Панюшкин не смог выдержать правила игры до конца. Он сразу же рассказал о графике строительства, количестве метров уложенных труб, жилищных проблемах стройки. Но все это секретарь знал и без него.
— Да! — воскликнул Олег Ильич, словно бы вспомнил о чем-то не очень важном, но Панюшкин понял, что сейчас-то и последует главный вопрос. — Чуть не забыл... Поговаривают, что у вас там на стройке нечто вроде чрезвычайного происшествия приключилось?
— О чем, собственно, вы? — невинно спросил Панюшкин.
— Ну как же... Это... Драка, поножовщина, поиски преступника, в которых участвовал едва ли не весь строительный отряд...
— А! — Панюшкин небрежно махнул рукой. — Ерунда! У вас, Олег Ильич, информация несколько большей концентрации, ее нельзя употреблять без предварительного разбавления. Как спирт. Ха! Поножовщина! Слово-то какое! Поиски преступника! Это же сказать надо!
— Не будем спорить о словах, — возразил секретарь. — С вами вместе, Николай Петрович, вылетает следователь Колчанов. Он ознакомится с происшествием, проведет расследование. Надеюсь, вы не возражаете?
— Возражаю! — Сидя глубоко в кресле, Панюшкин быстро взглянул на секретаря исподлобья, и синие, глубоко сидящие глаза его недобро сверкнули. — Все кончилось, Олег Ильич. Буран прошел, в происшествии мы разобрались, виновных наказали.
— Премии лишили? — улыбнулся Мезенцев.
— Нет, премии не лишили. Это было бы слишком жестоко. Но с кем надо строго поговорили.
— Простите, я что-то не понимаю, — Мезенцев сказал это холодно, даже отчужденно. Панюшкин сразу почувствовал, что он в кабинете секретаря, а не в своей конторке на берегу Пролива. — В городской больнице умирает человек...
— Да бросьте! — Панюшкин махнул рукой. — Я звонил сегодня в больницу.
— Я тоже, — сказал Мезенцев. — Он все еще без сознания, и врачи не уверены, что придет в сознание.
— Придет, — тихо, будто про себя сказал Панюшкин. — Большаков крепкий парень. — Он помолчал. — Я понимаю, Олег Ильич... Правосудие, конечно, должно сказать свое слово. Но если бы ваш следователь приехал попозже... Горецкий — единственный дельный наш механик.
— А мне говорили, что он единственный возмутитель спокойствия на стройке.
— Не без этого, — вздохнул Панюшкин.
— Значит, договорились, — Мезенцев поднялся. — Вылетаете вы завтра вместе с Колчановым.
Тяжело, с невырвавшимся вздохом Панюшкин поднялся, подошел к окну, и лицо его с глубокими складками у большого рта осветилось тусклым светом зимнего дня. Он потрогал пальцами толстый слой инея на стекле, зябко передернул плечами и, набрав полную грудь воздуха, осторожно выдохнул его, чтобы секретарь, не дай бог, не подумал, что он вздыхает.
Панюшкин познакомился со следователем уже в самолете, перед самым отлетом. Тот сидел у окошка, в тесноватом пальто и громадной мохнатой шапке. Где-то в глубине меха розовели щеки, светились глаза, сверкали в улыбке белые зубы. На коленях у следователя стоял видавший виды саквояж со стертыми углами.
— Николай Петрович? — доброжелательно спросил следователь. — Прошу! — он показал на сиденье рядом с собой. — А я — Колчанов. Валентин Сергеевич.
— Очень приятно, — усаживаясь, хмуро проокал Панюшкин. — К нам-то первый раз?
— Первый! — радостно сказал Колчанов. — Никогда не был я в этой вашей глухомани и с вами чести не имел... Хотя предупредили меня знающие люди — с Панюшкиным надо держать ухо востро. Не дает, говорят, расслабиться. Говорят, боксер агрессивного стиля, а?
— Какой я боксер, — Панюшкин махнул рукой. — Я не боксер. Я — дворняга.
Потом самолетик долго выруливал на взлетную полосу, что-то у летчиков не ладилось, потом они долго ожидали какую-то важную почту и, наконец, поднялись. Колчанов, хватаясь за поручни и сиденья, посмотрел, кажется, во все окна, любуясь городишком сверху, а когда пейзаж стал привычно унылым, когда ничего нельзя было увидеть, кроме бесконечной снежной равнины, опять сел рядом с Панюшкиным.
— Как поживает мой друг Шаповалов? — спросил он.
— Это участковый? Приболел Михалыч маленько. Как раз во время тех событий, которые и будут вас интересовать. Но завтра будет в форме. Шаповалов — человек безотказный. Он к вам доставит всех, кого пожелаете. Так что будет с кем побеседовать. Но, думается мне, зря едете. Чрезвычайное происшествие было, а вот криминалу — не обессудьте.
— Ничего, — ответил Колчанов. — Вскрытие покажет.
— Что?! — повернулся к нему Панюшкин. — Какое вскрытие? Кого, интересно, вы вскрывать намерены?
— Не кого, а что... Я намерен вскрыть суть происшедших событий. — Колчанов усмехнулся. — Это поговорочка у нас такая — «вскрытие покажет».
— Ну, знаете, вы поосторожней со своими поговорочками. А то у нас народ простой, не очень подготовлен к такому юмору.
С полчаса молчали, изредка поглядывая в маленькие, покрытые инеем иллюминаторы.
— А знаете, Николай Петрович, чтобы не терять времени, может, потолкуем о деле? Прилетим, а преступление уж и раскрыто! Ведь чует мое сердце, что вас там, на стройке, нелегко будет поймать, задержать, допросить? А?
Панюшкин с силой потер лицо руками, ссутулился, искоса глядя на иллюминатор. Его лицо, освещенное резким боковым светом, казалось грубоватым, морщины — глубокими, глаза вообще были почти не видны под выступающими надбровными дугами.
— В каких условиях мы работаем, вы знаете, — начал Панюшкин. — Отсутствие дорог, сложности со снабжением, жильем, текучесть, оторванность... Все это не может не сказаться на настроении людей, на их взаимоотношениях. Много раз замечал: у всех, почти у всех повышенная требовательность друг к другу. До капризности, до нетерпимости. Отсюда — большие нагрузки на психику. Выдерживает эти нагрузки далеко не каждый. Мне иногда кажется, что я могу написать неплохую работу о том, как ведут себя, как чувствуют сто человек, помещенные в изолированное пространство. Для будущих космических полетов такая работа была бы не лишней. Понимаете, когда к нам направляют сезонника, его не испытывают на тестах, у него далеко не всегда спрашивают, что он умеет делать, не всегда даже в трудовую книжку заглядывают... Завезут, высадят с вертолета, с самолета, с катера, а ты тут разбирайся.
— Даже так? — сочувственно проговорил Колчанов.
— Да что говорить! Неплохо бы, отправляя людей в такие вот медвежьи углы, проверять их дружелюбие, наличие чувства солидарности, товарищества. В наших условиях это нередко важнее квалификации чисто производственной. А тут еще проблема — мы платим людям неплохие деньги, но тратить их у нас негде. Негде. Еще одно: строители наши, между прочим, в большинстве мужского пола. Отсюда — обостренное, болезненное отношение ко всему, что касается женской благосклонности.
— Вот мы и подошли к главному, — сказал Колчанов. — Судя по докладу, который прислал участковый, драка в магазине произошла на почве ревности или что-то в этом роде, а?
— Не знаю, — Панюшкин обиженно поджал губы. — Не знаю. Это вам придется выяснить у участников событий. Слава богу, они живы остались.
— Пока живы, — уточнил Колчанов.
— Не понял, — Панюшкин взглянул на него в упор.
— Большаков в больнице. Он до сих пор не пришел в сознание. Яснее ясного.
— С другими поговорите.
— Вот я и спрашиваю вас.
— Ладно, пусть так, — холодно сказал Панюшкин. — Вас интересует мое мнение? Вот свое мнение я и докладываю. А оно заключается в том, что все происшедшее — случайность. Драка между Горецким и Самолетовым не имеет касательства ни к женщине, хотя они говорили о женщине, ни к ревности, поскольку ни один из них не имеет отношений с женщиной, о которой они говорили.
— Это интересно, — протянул Колчанов.
— Как посмотреть.
— И все же...
— Весь интерес в том, что суть событий вовсе не в драке, — отчеканил Панюшкин. — После того, как нашего баламута Горецкого доставили в отделение милиции, он оттуда сбежал и прихватил с собой парнишку, Колю Верховцева. Из местных. За что-то его наш Михалыч посадил на ночку для профилактики. К тому времени начался буран, небольшой по нашим понятиям. Но поскольку была ночь, мы, в полном соответствии с нормами морали, принятыми у нас, организовали поиски. Послали людей — в сопки, на Пролив, вдоль берега. Для этого пришлось пожертвовать производственными делами, что для меня более всего огорчительно.
— Послушайте, Николай Петрович, а какой смысл столько людей посылать в сопки? Ведь проще всего беглецам уйти через Пролив на Материк...
— Ха! Через Пролив... Не замерз наш Пролив. Не замерз, хотя по ночам мороз к тридцати подбирается. Двести метров в фарватерной части промоина осталась.
— И все это вы затеяли, чтобы задержать хулигана? — Колчанов с сомнением посмотрел на Панюшкина.
— Отвечаю — нет. Все поиски были организованы для спасения людей. Мы их спасли. Мы сделали свое дело. Теперь ваша очередь. Теперь вы решайте, как с ними быть дальше.
Панюшкин с вызовом глянул на следователя и решительно отвернулся к иллюминатору, хотя солнце било прямо ему в глаза.
Когда-то, очень давно, Остров и Материк в этом месте, видно, смыкались, но теперь только два мыса торчали напротив друг друга, как две протянутые, но так и не сомкнувшиеся руки. Впрочем, увидеть эти мысы можно было только на карте или с самолета. Отсюда, с Острова, Материк казался лишь узкой, тающей в морозной дымке полоской земли у самого горизонта. Дальше на юг Остров и Материк расходились, и узкий Пролив превращался постепенно в море.
Вот уже два года строители укладывали по дну Пролива трубопровод, который доставил бы нефть с северной части Острова к материковым перерабатывающим заводам. А Николай Петрович Панюшкин был начальником экспедиционного отряда подводно-технических работ, который и строил этот самый трубопровод. Именно Панюшкин подписывал графики работы столовой и магазина, вы давал разрешения для поездки на Материк и в местные поселки, определял меры наказания и поощрения. И что бы ни произошло в Поселке — родился ли кто, умер, пропал, украл, собрался удрать на Материк, угробил или спас технику — первым кто об этом обязан был знать, помнить и принимать решения, был опять же Николай Петрович Панюшкин.
Весь строительный отряд в самый разгар летних работ не превышал ста пятидесяти человек, а зимой здесь не было и половины. Водолазы, механики, газосварщики, водители тягачей и вездеходов, разнорабочие, служащие почты, столовой, магазина — всех понемногу. Собственно, стройка и состояла из этих разношерстных бригад, из флотилии барж и катамаранов, из звонков на Большую землю, из постоянных хлопот, связанных со снабжением не больно многочисленного «воинства» питанием, одеждой, топливом, горючим и прочими предметами первой, да и не только первой, необходимости.
За два с лишним года работы по строительству подводного трубопровода Панюшкин привык к своему кабинету, этой небольшой комнатенке с одним окошком, и не замечал ни шелушащихся стен, ни перекошенного пола, ни выпирающей дверцы печи, грозящей вывалиться каждую минуту вместе с пылающими поленьями. На столе стоял старомодный угластый телефон с мохнатым проводом, стену украшала схема трубопровода на пожелтевшем ватмане, несколько вбитых в стену у двери гвоздей заменяли вешалку.
Войдя в кабинет, Панюшкин, не раздеваясь, сел за стол, посмотрел на маленькое квадратное окошко с видом на Пролив. Вздохнул, с силой потер лицо ладонями, пытаясь сосредоточиться.
— У вас неприятности, Николай Петрович? — В дверях стояла Нина. Машинистка, секретарь, делопроизводитель, курьер и еще бог знает кто. В общем, правая рука Панюшкина. — Следователь приехал, говорят, что-то будет, — сказала Нина низким, глуховатым голосом.
— Обязательно что-то будет, — подтвердил Панюшкин. — И всегда что-то есть. И неизбежно что-то кончается. И это здорово, черт побери! — Панюшкин одним движением сдвинул бумаги в сторону и на освободившемся месте положил руки.
— Все это хорошо, — тускло сказала Нина, не загоревшись настроением начальства. — Все это хорошо, — повторила она, садясь на табуретку у стола.
— А что плохо?
— Следователь приехал, Николай Петрович!
— Ну, конечно. Я и привез его! — Панюшкин остро глянул на Нину глубокими синими глазами и тут же опустил густые брови.
— Неужели ничего нельзя было здесь решить, самим, а, Николай Петрович?
— Отчего же нельзя? Можно. Когда Горецкий на меня бульдозером попер, мы сами все решили, может быть, напрасно, посамовольничали, но решили. Полюбовно. Простил я его, скажем так. Хотя я больше о тебе думал. Должен ведь начальник заботиться, чтобы его подчиненные улыбались почаще. А если честно, то и не об улыбке твоей я думал, а о твоей производительности труда. Вот какой я лукавый. Но сейчас... Нина, Горецкий ударил человека ножом.
— Сколько же ему дадут, Николай Петрович?
— Если только за это... Года два, полагаю. Суд разберется. Суд не любит, когда ему подсказывают.
— А за что его еще можно судить?! Или вы решили поднять эту историю с бульдозером?
— Нет, речь идет все о той же ночи... Есть подозрение, что он не только Самолетова ножом пырнул, но и над Большаковым поработал. Большакова нашли разбитого, переломаны нога, ребро... Голова помята... Сам он не мог так разбиться. Да и Колю Горецкий во время бурана, похоже, бросил. Это тоже статья — оставление человека в условиях, опасных для жизни. Коля мог замерзнуть? Мог. Ушли они с Горецким вместе? Да. Вот такушки... Неважный тебе парень попался, Нина, неважный. Родителей мы не выбираем, но мужей, друзей — можем. У нас этого добра хватает, только свистни. Есть из чего выбрать.
— Хватит уж, отсвистелась.
Нина была маленькой, худенькой женщиной с неожиданно густым голосом. Она приехала работать учительницей, но в последний момент оказалось, что с учителями перебор вышел — много ли их надо для полутора десятка ребятишек. Панюшкин предложил Нине работать в конторе. Из нее получилась на удивление дельная секретарша.
— Ладно, Нина, — сказал Панюшкин. — Разговор этот грустный, да и преждевременный. Следствие, как я понял, ведут большие знатоки. В любом случае справедливость я тебе гарантирую.
— А что мне делать с этой справедливостью, Николай Петрович? Сыт ею не будешь, на стенку не повесишь...
— А может, все к лучшему, а, Нина? Ведь с ним ты все время как по лезвию ходила. Не муж он тебе, да и не хотел им быть... Ну ладно, это я не в ту степь поскакал. Прости великодушно.
Утром следующего дня, когда на солнце сверкало все заснеженное побережье, а редкие черные избы, тягачи и вагончики на льду казались случайными пятнышками на фоне всеобщего торжествующего сияния, Колчанов в сопровождении участкового Шаповалова, пожилого, прихрамывающего, полноватого человека, прошел к небольшой избе, в которой помещалось местное отделение милиции. Здесь уже толпилось полтора десятка человек из тех, кто был вызван повестками, и те, кто был просто любопытен.
— Раздайся народ, правосудие идет! — зычно крикнул Шаповалов и, оглянувшись, подмигнул следователю. Вот, мол, как тут у нас!
— Это мы еще посмотрим, что за правосудие и куда оно идет! — крикнул кто-то из толпы.
— Смотри у меня, Верка, не шустри! Тебя первую допрашивать будем! — ответил участковый, не оборачиваясь на голос.
— Это вы мастаки! — прозвучало откуда-то из слепящего пространства. — Ишь, чем грозить надумали — допрашивать они будут!
— Мастаки не мастаки, а дело свое знаем, гражданин Ревнивый! — Шаповалов не задерживался с ответом.
— Не Ревнивый, а Ревнивых! Я смотрю, оскорблять вы и в самом деле мастаки!
— Какая разница, — отмахнулся Шаповалов. — Все равно ревнивый, как сивуч!
Люди засмеялись, и участковый, довольный тем, что выиграл эту маленькую стычку, быстро снял замок, распахнул двери и повернулся к следователю.
— Прошу! — громко сказал он, торопясь, чтобы Ревнивых не успел выкрикнуть еще какую-нибудь дерзость.
— Небогато живете, — сказал Колчанов, стаскивая пальто. Повесив его на гвоздь у двери, он подошел к печи и прижал к простенку ладони.
— Теплая, — заверил его Шаповалов. — Я уж с утра побывал здесь, протопил.
— Правильно, — Колчанов улыбнулся. — Гостей принимать надо умеючи.
— Да у нас и учиться-то некогда... Вот ты — первое начальство из города. Авось и последнее.
— Авось, — согласился Колчанов. — С кого начнем, Михалыч?
— А с меня и начинай. А чего? Как человек, который знает здесь если не все, то почти все, я смогу сразу ввести в курс дела. — Большое красное лицо Шаповалова светилось доброжелательством и желанием помочь.
— Просветили уж, ввели в курс. — Следователь махнул рукой. — Панюшкин ваш уже, можно сказать, дал показания. А отчет твой мы получили еще раньше. Ты вот что мне скажи... Сколько народу у вас здесь живет?
— Народу? Человек пятьдесят строителей да местных около тридцати. Ну еще десяток на почте, телеграфе, в столовой... Сейчас-то и этого не наберется. Затишье. Ждем, пока Пролив затянет... А когда в делах затишье, тут и жди всяких происшествий.
— И подолгу ждать приходится?
— Чего спрашивать — сам знаешь. Отчеты не задерживаем, как «радость» какая случится — всегда поделимся. Вот порезал один другого — ты уж на следующий день выводы делал.
Шаповалов провел широкой красной ладонью по наголо остриженной голове и, подойдя к теплой стене, прижался к ней крупным животом. — Начинать-то с кого будем?
— Не будем нарушать ход событий. Все началось в магазине? С магазина и начнем. Зови, Михалыч, продавца. Как ее там... — Колчанов заглянул в бумажки. — Вера Ивановна Горбенко.
— Ну что ж, с нее и начнем, — согласился участковый.
Он вышел на крыльцо, опять шумно и беззлобно поругался с кем-то, посмеялся чьей-то шутке и, наконец, вернулся. Горбенко вошла следом, молча постояла, привыкая к полумраку, посмотрела на Шаповалова, замершего у двери, хмыкнула непонятно чему, повернулась к следователю.
— Здравствуйте вам.
— Вы что же это, на Украине родились?
— А как вы догадались?
— Хитрый потому что! Садитесь, Вера, платок снимайте, жара тут у нас. И дело жаркое, и печь Михалыч натопил так... Да, должен предупредить — за ложные показания вы несете уголовную ответственность.
— Это как же понимать? Похоже, вы угрожаете?
— Что вы! — замахал руками Колчанов. — Какие угрозы! Да меня самого за угрозы не похвалят! Понимаете, по закону я должен предупредить вас, что следователю надо говорить чистую правду. Судят за вранье, понимаете? Ну вот... А зовут меня Валентин Сергеевич.
— Ага, — Горбенко кивнула, словно решив что-то для себя. — Понятно. Я, конечно, извиняюсь.
— Ничего, бывает. Я почему предупредил — чтоб не говорили потом, будто вы пошутили. Бывают у некоторых чудные шутки. Так вот, за шутки можно иногда ответить. Ну, ладно, приступим. Итак, Вера Ивановна Горбенко, работаете вы в магазине. И, как я понял, там же у вас в магазине пивко бывает. Нечто вроде распивочной у вас там. Верно?
Горбенко долго с подозрением смотрела на Колчанова, потом передернула плечами, усмехнулась.
— И точно, хитрый вы человек, — она помолчала. — Что до пива, то правду сказали, торгуем пивом в магазине, потому как нет больше у нас на Проливе торговой точки. А пиво нам иногда летчики забрасывают. Не отказываться же — мужики проклянут. Мы не отказываемся. И народ доволен, и план есть. Да и я не в обиде.
— А вам какая от пива радость? — спросил Колчанов, быстро заполняя лист протокола.
— Ну как же, для людей стараемся. А когда люди довольны, то и нам в радость, — Горбенко откровенно улыбнулась.
— Я смотрю, Вера, вы тоже очень хитрый человек, и потому побеседовать с вами для меня просто удача. Скажите, Вера, сколько вам лет?
— А сколько бы вы дали?
— Человек с тобой по-людски говорит, совесть поимей! — не выдержал Шаповалов. — Следствие идет! Показания даешь, а не пивом торгуешь! Документы оформляются, а ты все думаешь, что заигрывают с тобой! Отыгралась, хватит! Для протокола человек спрашивает, а не для того, чтобы!..
— Для протокола — двадцать девять, — вздохнула Горбенко.
— Двадцать девять?! — воскликнул Колчанов. — Надо же... А я думал... Ну, двадцать два, двадцать три...
— Вот видишь, Михалыч, как надо с женским полом разговаривать, — повернулась Горбенко к Шаповалову.
— Продолжим наш разговор, — вмешался следователь. — Ответьте мне, Вера, на следующий вопрос... Вы замужем?
— Да. Хотя... Нет. Сейчас — нет. Уж год как на свободе.
— Здесь уже развелись?
— И сошлись, и развелись. Бог даст, опять сойдемся. Пролив, он такой, — кого угодно и сведет, и разведет. Вот приедете следующий раз, фамилия у меня — Шаповалова. То-то смеху будет, а, Михалыч!
— А разошлись почему?
— Была история... К нашему разговору отношения не имеет.
— Да какая там история! — воскликнул Шаповалов. — Изменила мужу, вот и вся история. А Горбенко, наш главный механик, особо не рассуждал: распрощался с женой — и будь здоров!
Горбенко медленно повернулась, посмотрела на участкового, долго так посмотрела, чтоб он успел заметить, какой у нее презрительный и опасный взгляд, чтобы осознал неизбежность крупного разговора.
— До чего же люди разные бывают, — сказала Горбенко следователю. — Не пришло ведь Михалычу в голову сказать, что так, мол, и так, случилась у нашей Веры Ивановны единственная красивая любовь в жизни, но кончилась, можно сказать, трагически. Ведь не сказал так. Изменила, говорит, и все тут. А ведь тоже мораль читает, жить учит...
— Ладно, Вера, — сказал Колчанов. — Простим его. Он человек строгих правил, опять же должность обязывает. Простим. Расскажите лучше о магазине.
— Да что там рассказывать... Обычный магазин, сделали его в брошенной избе, когда один наш начальничек невысокого пошиба однажды на Материк деру дал. Вот в его избе и сделали. А как-то раз наши торговые организаторы — не иначе как с перепугу — забросили нам бочку пива. Мы, конечно, еще попросили. С тех пор иногда забрасывают. Раз в месяц, в два месяца...
— Народу много собирается?
— Почти все мужики у нас перебывают, пока пиво есть. Да и женщины, я заметила, не прочь иногда пивком побаловаться. У нас ведь кроме магазина и податься некуда... После работы иди отсыпайся, отоспавшись — на работу собирайся. Клуб, правда, есть при школе. Вы не были в том клубе? И правильно. Кроме наглядной агитации там и нет ничего. Мыши одни.
— Бедная агитация, — вздохнул Колчанов. — Кто начал драку?
— Знаете, я так скажу... Бывает, драка начинается за неделю, за месяц... И в уме они уже давно дерутся, смертным боем друг друга колотят... Ну, обидел один другого, слово поперек сказал, за дивчиной приударил... Вот они и дерутся. А тут подворачивается случай наяву подраться, и вроде бы упустить этот случай нельзя, характер не позволяет.
— Вера, я не против, пусть в уме хоть весь ваш Поселок друг друга переколотит. Но мне интересно, кто первым наяву ударил. Это очень важно.
— А вот и не знаю. Не видела. У нас так: пиво налей, закуску подай, сдачу отсчитай, на глупость на каждую ответь, а не ответишь — на себя пеняй, а там уже очередь за хлебом, за мылом вы строилась...
— Ну, хорошо. Расскажите о Горецком.
— Думаете, он зачинщик? Ничего подобного. Ведь этот... Самолетов так на него попер, так попер...
— Значит, вы все-таки кое-что видели? Горецкий ударил ножом Самолетова?
— Так уж и ударил... Отмахнулся.
— Ну, ладно, главное, что вы видели удар ножом и не стали утаивать это от следствия. Вы поняли свою задачу свидетельницы и помогли правосудию.
— Чего это я помогла? Ничего я не помогала. Вы спрашиваете — я отвечаю!
— Конечно, отвечаете. За все свои показания отвечаете. Ведь не исключено, что Самолетов останется инвалидом...
— Проживет.
— Вера, ну неужели вы считаете, что все получилось справедливо?
— С каких это пор с продавцом о справедливости стали говорить? Не нам об этом судить, не с нашим рылом. Это уж вы решайте, вам за это деньги платят, вроде неплохие деньги, — отрабатывайте.
— Что-то, я вижу, не по душе вам этот разговор... Но давайте уж до конца выполним наш долг следователя и свидетеля. Итак, мы выяснили: Самолетов подошел к Горецкому, что-то сказал ему, а тот вынул нож и отмахнулся, как вы сказали. Теперь перейдем к Большакову. Какие у него были отношения с Горецким?
— А у Большакова со всеми одинаковые отношения — дружинник он. И все здесь отношения. Придет в магазин, бывало... Ну, да ладно. А с Самолетовым они друзья. Мишко вам больше про него расскажет.
— Кто-кто?
— Та Мишко ж, — Горбенко кивнула в сторону Шаповалова.
— A-а, Михалыч... Он расскажет. Он уже и так много чего порассказал... Да! Вот все время хочу спросить — вы посуду пустую в магазине принимаете?
— Посуду? Стеклотару то есть? Ха! Не хватало, чтоб мы еще с бутылками возились... Куда нам их — солить? Или, может, вертолет специальный заказывать!
— Вообще-то верно, тут я маленько оплошал... Но тогда откуда же в подсобке столько пустых бутылок? Я почему спрашиваю — тут поговаривают, что не только пивком в магазине можно побаловаться, а и водочка на разлив бывает.
— Ох, чует мое сердце — Шаповалов вам все как есть выложил!
— Каюсь, гражданка Горбенко, моя работа.
— Вот так, Валентин Сергеевич, и поработайте — сначала просят, слезы горючие на прилавок льют, мордой об углы колотятся, а потом сами же тебя и продают! Можно после этого людям верить?
— Это что же, Михалыч тоже об углы колотился и водки выпрашивал?
— Не о нем речь, я в принципе...
— А, в принципе, тогда другое дело. Так что, Вера, кроме пива в тот вечер, когда у вас чуть было смертоубийство не произошло, в магазине продавалась водка на разлив?
— Это еще доказать надо.
— Можно и доказать. Свидетелей найдем, очные ставки устроим, ревизию проведем... Но лучше сразу признаться, как дело было. Сами понимаете...
— Ну и хитрый же вы человек! — с одобрением произнесла Горбенко. — И не хочешь, а признаешься.
Когда протокол был готов, Горбенко прочитала его, наклонилась, полностью вывела свою фамилию и, не распрямляясь, не отводя пера от бумаги, посидела немного, глядя куда-то сквозь протокол.
— Как приговор себе подписала, — сказала она тихо.
— Что уж теперь вздыхать! — утешил Шаповалов.
— А тебе и в радость! Понимаю я... Чем больше виновных окажется, тем меньшая вина участкового. А она ведь все равно есть, вина-то. Ведь знал Шаповалов и о посуде, и о водке на разлив... Все знал. А теперь, когда беда стряслась, вроде бы не прочь и кулаком по столу постучать. Ну что ж, до свиданья! Приятно было познакомиться.
Горбенко плотно затянула платок на голове, взяла со стола варежки. Дверь она притворила осторожно и плотно — как из пустого дома вышла.
— Что, Михалыч, пристыдила гражданка Горбенко? — без улыбки спросил Колчанов. — Пристыдила. И сказать нечего... Бывает, видим, что-то не так делается, а вмешаться — сил душевных, смелости человеческой не хватает. Случится что — виновных искать начинаем, все дыры виновником заткнуть норовим. Даже дыры в собственной совести. А виновник-то нередко отказывается человеком, который только и того, что послабже других, только и того, что первым на непорядке споткнулся...
Колчанов взял из папки новый бланк протокола и задумался. Вера Горбенко, щурясь от яркого солнца, поскрипывая валенками по снегу, уже торопливо шла по улице в свой магазин, в он еще мысленно все задавал ей новые и новые вопросы, вслушивался в напористый голос, пытаясь отделить правду от лжи, напускную бесшабашность от настоящей боли...
Вошел и остановился у двери Ревнивых, маленький, жилистый мужичонка с цепким, насмешливым и не очень трезвым взглядом — повестка к следователю освобождала его от работы, и он отнесся к этому дню, как к праздничному.
— Вот это и есть наш уважаемый Павел Федорович Ревнивых, — напомнил Шаповалов.
— А! — Колчанов поднял голову. — Добрый день, Павел Федорович! Чего же вы стоите? Садитесь, вот мы с Михалычем и стул для вас приготовили.
— Отчего же не сесть, ежели хороший человек просит... Сядем.
— Кем вы работаете, Павел Федорович?
— А замещаю начальника ремонтной мастерской. Нет у нас полноправного начальника, я вот только есть — бесправный, можно сказать, начальник. Панюшкин все не решается утвердить. Чем-то я ему не угодил... Но кому-то надо работать! У нас как... Работаешь — молодец, грамоту тебе под мышку! А воздать, так сказать, должное — это, братец, погоди. Вот если бы ты здоровался поласковее, к трибуне дорожку протоптал, свое лыко в строку насобачился бы вставлять, вот тогда тебе и должность, и зарплата, и почет. А работа — это так, это не самое главное.
— Поимей совесть, Павел! — возмутился Шаповалов. — Тебе ли на Панюшкина бочку катить! А что начальником мастерских не назначил, так сам виноват. Ты же отказался! А теперь, выходит, не угодили тебе?
— Павел Федорович, — строго спросил Колчанов, пресекая перепалку, — из-за чего возникла драка в магазине?
— Из-за чего драка, — проговорил уже спокойно Ревнивых. — Из-за чего драка? Женский пол тому виною. Вот мое слово.
— Весь женский пол или кто конкретно?
— Конкретно — Анюта. Анна Югалдина, это она смуту вносит. Если между нами да по-культурному — девушка легкого жанра.
— Эти слова можно записать?
— На кой? — удивился Ревнивых и даже по сторонам посмотрел, словно бы призывая всех в свидетели. — Я же предупредил — между нами. Кто ж ее знает, какая она на самом деле? Может, она... балерина какая подпольная! Говорят. Зря говорить не станут.
Ревнивых замолчал, преданно глядя в глаза следователю, даже голову склонил набок от старательности. Мол, спрашивайте, не стесняйтесь, все, как есть, отвечу. Его нечесаные вихры взмокли под шапкой и теперь торчали во все стороны, щетина отсвечивала на солнце красным и седым, одинокий тонкий волос торчал из ноздри воинственно и непокорно.
— Так, — протянул Колчанов. — Причину мы выяснили. Анна Югалдина смуту вносит. А как же драка началась?
— Скажу. Этот самый, ну который порезанный, Самолетов Лешка, было дело, начал одно время под Анюту клинья бить. Ухаживать, другими словами. Хотя, между нами говоря, данных у него на это дело никаких не было. Ни физических, ни моральных. А Горецкий — парень не промах. Он знает, что клин вышибается клином. Это любой сведущий человек знает.
— А что же сама Анна?
— Во! — Ревнивых восторженно хлопнул ладонями по коленям так, что от его ватных штанов даже пыль поднялась. — Очень уместный вопрос. Сама Анюта и на Лешку Самолетова, и на Витьку Горецкого — ноль внимания. Если уж на то пошло, то я, Павел Федорович Ревнивых, человек не больно высокого полета, Михалыч не даст соврать...
— Не могу не согласиться, — сказал Шаповалов со значением. — Что правда, то правда.
— Во! Так что хочу сказать — я был, в общем-то, Анюте ближе, чем оба они вместе взятые. Хотите верьте, хотите нет, но я...
— Хорошо! — с нажимом сказал Колчанов. — А драка из-за чего началась?
— О! — Ревнивых сморщился так, что и не понять было, где в мелких морщинах скрывались его глазки, где нос, рот... — Очень тонкий маневр получается, постараюсь объяснить. Может быть, вы меня и поймете... Оглянитесь вокруг, — Ревнивых развел руками, но шапка упала с его колен и величественный жест пришлось прервать. — Что мы видим? Глушь. Несусветную глушь. Здесь не то что живой человек, картинка на тумбочке может стать причиной страшных преступлений. Скажи, Михалыч! Было ведь, говори, не таись! Один новичок спер у экскаваторщика девушку из тумбочки. Красивая такая девушка была, хотя на мой вкус больно тоща, да и взгляд у нее нахальный. Ну и сильно загорелая, как цыганка какая...
Колчанов беспомощно оглянулся на участкового, и тот счел нужным внести ясность.
— На картинке девушка, — пояснил участковый. — Снимок из журнала.
— Вот и я говорю — из-за этой самой картинки новичок схлопотал по физиономии. Чтоб красавиц похищать неповадно было. А вы говорите, из-за чего драка.
— А Горецкий что за человек?
— Ну что Горецкий... Он здесь полтора года. Еще подъемные, наверно, не пропил. Хотя нет, пропил. Это я зря на человека наговариваю. Живет он с секретаршей Панюшкина. И потому пользуется некоторой неприкосновенностью.
— Ты, Пашка, того... Не надо, — строго сказал Шаповалов. — Меру знай.
— Да? А как он Панюшкина чуть было бульдозером не растерзал! Али забыл? Я вот что скажу, Михалыч, — тебе бы Панюшкин того не простил. А Горецкому простил. Нинка уговорила, чтоб не губил он любовь ее незаконную да постыдную. Во!
— Ну и пакостный же ты человек, Пашка! Чего на человека-то бочку катить?
— Разберемся, — остановил их Колчанов. — Вернемся в магазин. Ваше слово, Павел Федорович.
— Вернемся, — согласился Ревнивых. — Значит так, выпили мы пивка, вот я и говорю Витьке Горецкому — с ним мы пивко пили. Так и так, говорю, а Самолетов вроде бы к Анюте на два корпуса ближе тебя. А я не соврал, так оно и есть. Самолетов часто у столовой вертится, где Анюта работает, то ящики поднесет, то мусор унесет, то хиханьки с Анютой затеет, то хаханьки... Вот я Витьке и говорю, хоть, говорю, и потаскушка...
— Самолетов это слышал?
— Нет, я человек обходительный, знаю что к чему, опять же в каких-никаких начальниках хожу, себя блюсти должон. А Горецкий к тому времени, помню, пивка уж махнул и чекушку опорожнил... Ну и заорал он на все побережье. И про легкое ее поведение, и слова всякие непотребные. Я ему по-дружески, предостеречь чтобы. А он не сдержался. А когда Самолетов подскочил да начал криком кричать да кулаками размахивать, Витька и пырнул его. Чтоб, говорит, перед глазами не мельтешил.
— Понятно, — кивнул Колчанов. — А теперь, Павел Федорович, поскольку вы человек знающий, скажите мне, будьте добры, как Вера Горбенко относится к Виктору Горецкому?
— Вот это вопросик! В самую точку. Втюрилась Верка в Горецкого, а за что — не пойму. Хотя догадаться можно. Витька работает на укладке трубопровода, деньгу лопатой гребет, совковой, между прочим, лопатой. Вот ей и обидно, что такие деньги без присмотра остаются. Она за каждый гривенник башкой своей кудлатой рискует, а он десятками швыряется. И правильно делает — подыхать не обидно будет... Горецкий, между прочим, и есть та причина, по которой муж и жена Горбенко разошлись в прошлом году, как в море корабли. На предмет супружеской верности эта самая Вера слабинку допустила.
— А Большаков? Что он за человек?
— Ничего парень, правда, он не из нашей компании. Это Михалыча кадра. Он про него все знает. А вот как разбился — это уж вы, товарищ дорогой, расскажите нам. Сам сорвался или помог кто — на данный момент одному богу известно.
— Я слышал, что во время драки в магазин вошел Большаков и доставил Горецкого в милицию. А больше никому в голову не пришло это сделать. И вам тоже, Павел Федорович. Так?
— Как это мы все горазды людей к ответу привлекать! — от возмущения Ревнивых саданул себя кулаком по коленке. — Вот я, к примеру, не требую, чтобы вы со мной в ночную смену мерзлые железки одну к другой привинчивали! Не требую, чтобы подменяли меня, когда я с ног валюсь! Или, может, вы в водолазной бригаде вкалываете? Нет? Вот так-то. Давайте будем каждый заниматься своими делами.
— Давайте. Как Горецкий относится к Большакову?
— Ишь как вы резво... Побаивается. Остерегается. Силу чует. Никому Витька спуску не давал, а вот Андрея Большакова стороной обходил.
— Что делал Горецкий, когда в магазин вошел Большаков?
— Пиво пил. Ребята вокруг Самолетова возились, из того кровища, как из пожарной кишки, хлестала, а Горецкий посмотрел на все это и говорит... Не скоро, говорит, мне теперь пивком побаловаться придется, грех, мол, недопитое оставлять, потом, говорит, я об этой кружке долгие годы жалеть буду. И тут заходит Большаков. Горецкий посмотрел на него сквозь кружку, допил, спокойненько так отставил ее. Бери, говорит, меня, я вся твоя, — это он Большакову. А тот промолчал. Подошел к Самолетову, а надо сказать, что Лешка Самолетов — его первый дружок. Так вот, посмотрел Большаков на лежащего Самолетова, желваками пошевелил и поворачивается к Горецкому. Твоя, спрашивает, работа? Моя, отвечает тот. А что ему отвечать — двадцать свидетелей. И увел Большаков Горецкого.
— Тот сопротивлялся?
— Что он, дурак? Поздно сопротивляться.
— Значит, потасовки, стычки между Горецким и Большаковым в магазине не было?
— Нет. Твердо говорю — не было.
— Ну, Павел Федорович, у меня больше вопросов нет. Вот протокол, прочтите. Если со всем согласны, подписать требуется.
— Отчего ж, прочту, коли хороший человек просит. Очень даже интересно, как мои слова в письменном виде выглядят.
Ревнивых долго читал, шевеля губами, хмыкал, пожимал плечами, иногда недоуменно поглядывал на следователя, на участкового и снова принимался читать. Так и не произнеся ни слова, подписал и отодвинул от себя. Поднявшись, он долго, старательно надевал шапку, натягивал рукавицы и, казалось, колебался — не сказать ли ему еще что-то важное, но так и не решился, промолчал. Только у самой двери живо обернулся.
— А хотите знать, кто виноват? Панюшкин! — выкрикнул он свистяще. — Распустил людей! А людей надо — во! — И Ревнивых потряс тощим, жилистым кулачком.
Столовая располагалась в стандартном северном вагоне, очень похожем на железнодорожный. От вагона к сараям тянулся щербатый частокол забора, рядом в беспорядке валялись пустые ящики из-под тушенки, круп, макарон.
Колчанов и Шаповалов пообедали молча, и только отхлебнув компот, участковый решился заговорить.
— Вот человек, а! — с досадой крякнул он. — Вроде и друг Горецкому, а намекнул — пощупайте, дескать, не он ли...
— Ты о ком? — спросил Колчанов.
— Да все о нем же, о Ревнивых!
— A-а... Бывает. Врачам люди признаются в самых дурных своих болезнях... И нам тоже признаются. Жене не признается, от детей утаит, да что там говорить — самому себе человек не всегда признается в своих же желаниях, страстях, зависти. А нам признается.
— Боится потому что! Сроком пахнет!
— Нет, Михалыч, дело не в этом... Смотри, тот же Ревнивых дал понять, что никакой он не друг Горецкому, подтвердил, что именно он подтолкнул Горецкого к драке в магазине... Кто знает, может, он и дружит с Горецким только для того, чтобы подталкивать его время от времени к таким вот скандалам.
Обожженное морозом лицо Колчанова стало задумчивым, почти скорбным, будто на его глазах только что умер человек.
— А может, он просто дурак? — спросил участковый.
— Не похож он на дурака. Маленько озлоблен, обижен — это есть. Знаешь, почему он не до конца раскрылся? Из-за тебя, Михалыч. Не будь тебя в кабинете, он сказал бы больше. Ты местный, ты останешься...
— Да, — протянул Шаповалов. — А скажи, Валентин Сергеевич, хорошие люди тебе встречаются в работе?
— Хорошие? Это какие?
— Ну... чтоб на работе уважали, в семье любили, чтоб не боялся правдивое слово сказать, за общее дело болел бы...
— Чтоб не изменял жене, помогал друзьям, не боялся врагов? — с улыбкой продолжил Колчанов.
— Примерно, — подтвердил Шаповалов.
— Это не хороший человек, Михалыч, это уже идеальный. А что до хороших людей... Встречаются, а как же... Ты мне вот что скажи. Как я понимаю, в магазинчике вашем публика собирается довольно своеобразная?
Шаповалов пожал плечами — вопрос не показался ему интересным.
— Ясное дело. Кто вечером пошагает через весь Поселок ради кружки пива? Есть у нас человек десять, за которыми глаз да глаз нужен. Как что случится — все они то свидетели, то участники, то виновники... Ума не приложу — что их все время вместе сводит? Выпить не все из них любят, подраться тоже не все горазды... Есть, видно, какая-то сила, что людей с червоточинками друг к дружке тащит, а?
— Понимают друг друга, сочувствуют слабостям.
— Какой там сочувствуют! Тот же Горецкий, он выпить не больно охоч, знаю — противно ему с алкашами, иногда так кого двинет... Сто метров по снегу скользит.
— И такое, значит, бывает, — обронил Колчанов.
— А чего не бывает? Все бывает. Место у нас — не каждый выдержит, на любителя место. И не в физических трудностях беда, не в погоде дурацкой... Оторванность — я так понимаю. Взять Веру Горбенко. Ведь на Материке примерной бабой стать могла бы, а здесь... Столько мужиков вокруг, и у всех глаз горит.
— Да что ты все о том же, — поморщился Колчанов. — Понимаешь, нужны людям свежие впечатления, возможность как-то проявить себя... Отражаться в других людях. А когда человек этого лишен, он может удариться во что угодно. Она ведь сказала тебе — красивая любовь. А ей виднее.
Свежий снег замел протоптанную дорожку, крыльцо, и Панюшкин поднимался по ступенькам, с удовольствием вслушиваясь в ночной скрип снега. Он на ощупь прошел по коридору, толкнул дверь кабинета, не раздеваясь сел за стол да так и остался сидеть в темноте, положив лицо в большие, жесткие ладони, чувствуя затылком поднятый воротник куртки и подтаивающий в тепле снег.
— Устал, — вздохнул он почти беззвучно. И еще раз повторил: — Устал...
И тут же, будто подхлестнутый этим словом, будто оскорбленный им, резко распрямился, встал, включил свет, бросил на гвоздь куртку, снова сел. В работу Панюшкин мог включаться немедленно.
Не прекращая писать первые пункты приказа, Панюшкин прислушался. На крыльцо кто-то поднимался. Когда хлопнула входная дверь и в коридоре раздались тяжелые неторопливые шаги, он догадался — пришел Заветный, главный инженер. Войдя, тот неторопливо осмотрелся, привыкая к свету, усмехнулся, увидев Панюшкина, зарытого в бумаги, со вкусом прикурил от зажигалки.
— Володя, я слышал, у тебя намечаются перемены в личной жизни? — спросил Панюшкин.
— Возможно.
— Ты еще не решил?
— Не в этом дело, — Заветный внимательно рассматривал облачко дыма, поднимающееся над его головой. — Я суеверный, Николай Петрович. Мало ли что помешать может... Да и невеста с норовом.
— Анюта?
— Она самая.
— Значит, все правильно. Жаль, что мне сказал об этом следователь, а не ты. Я бы предпочел радостные вести узнавать из первоисточника. Подожди, не перебивай. Колчанов занимается расследованием причин драки в магазине и всех тех чрезвычайных событий, которые разыгрались у нас на прошлой неделе.
Главный инженер улыбнулся и, погасив сигарету, бросил ее через всю комнату в угол. Она упала рядом с корзиной. Панюшкин внимательно смотрел за ее полетом. Он поймал себя на том, что ему не понравился жест Заветного. Хозяйский какой-то, подумал Панюшкин. Или просто пренебрежительный. Но у Заветного было совершенно спокойное незамутненное выражение лица.
— Володя, тебе известна причина драки? — спросил Панюшкин.
— В общих чертах, Николай Петрович. Горецкий опять отличился. Напрасно вы его держите, ей-богу напрасно. Когда-то он вас чуть было бульдозером не раздавил, сейчас Лешке Самолетову досталось, Большаков, говорят, концы отдает...
— Концы? — быстро переспросил Панюшкин. — Как понимать?
— Вам не понравилось выражение? Простите, сорвалось.
Панюшкин почувствовал раздражение. Настольная лампа ярко освещала его лицо, слепила, стоило ему лишь поднять голову, чтобы посмотреть на Заветного. А тот стоял, прислонившись плечом к теплой стене, и его лицо было в тени.
— Володя, причиной драки послужила твоя Анюта, — медленно, сдерживая себя, проговорил Панюшкин. — Тебе это известно?
— Да.
— Почему же ты мне ничего не сказал?
— Мне показалось, что это мое личное дело.
— Так! — Панюшкин вскинул указательным пальцем очки и с размаха бросил ладонь тыльной стороной об стол. — Личное дело! Володя, ты ведешь себя так, будто один из нас дурак, причем ты уверен, что дурак, конечно, не ты! Подожди! Весь Поселок срывается среди ночи и несется на Пролив! Каждый рискует замерзнуть, сломать в торосах ноги, свалиться в промоину! Следователь выясняет причины поножовщины, как выразился секретарь райкома! А главный инженер товарищ Заветный полагает, что это его личное дело!
— Прошу пардону, Николай Петрович! Из нас двоих дурак, разумеется, я. Дело в том, что я сам совсем недавно узнал причину драки. Оказывается, воздыхатели сцепились. Кавалеры то есть.
— Полагаю, бывшие кавалеры?
— Чего темнить, Николай Петрович! Говорите сразу, что, мол, хлопот с ней не оберешься, что жизнь моя после этого под откос пойти может... Но вот скажите мне, Николай Петрович, добрая душа, опытный специалист, человек, немало поездивший на своем веку и насмотревшийся всякого... Скажите мне, зачем мне пересиливать себя? К свадьбе дело идет? Пусть идет. Разве я поступаю подло? Разве я женюсь по расчету? Разве я этой женитьбой добиваюсь денег, славы, карьеры? Нет. У меня только любовный расчет, если можно так выразиться. А в этом я не вижу ничего плохого. Или вы считаете, что я теряю свое достоинство, беря в жены столь презренную особу?
— Не заводись, Володя. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Анюте. Если у меня что-то и есть за душой, так это ревность...
— Не может быть, Николай Петрович! — захохотал Заветный.
— Почему? — грустно спросил Панюшкин. — Почему? Очень даже может быть... А что касается расчета, то любовный расчет не менее постыден, нежели денежный... Даже более. Потому что на кону судьба человека. Ведь вы не на равных, Володя. Что бы между вами ни произошло в дальнейшем — ты на ногах и останешься на ногах. А у нее вся жизнь может кособоком пойти. У нее, а не у тебя. О ее жизни я беспокоюсь, а не о твоей.
— Если ее жизнь пойдет кособоком, Николай Петрович, то в этом будет не только моя вина.
— Хочешь сказать, что ты не первая ее симпатия здесь?
— Вы не ошибетесь, если скажете, что я и не вторая ее симпатия.
— И это дает тебе право вести себя как угодно?
— Почему же как угодно! Просто свободно.
— Не надо, Володя, этой бравады. Я и так смогу понять тебя. Ты говоришь, что у тебя любовный расчет... Другими словами, ты хочешь сказать, что любишь ее, так?
— Можно и так сказать.
— А через месяц? Через два, через полгода — сможешь ли ты спокойно разговаривать с ней вечером, если в течение дня где-нибудь услышишь за спиной обидный смешок, реплику, прямой вопрос о ее прежних симпатиях?
— Жизнь покажет, Николай Петрович.
— Ну она-то тебя любит?
— Как вам объяснить. — Заветный прошелся по кабинету, придвинул к столу табуретку, сел на нее. Теперь и его лицо оказалось на свету, и это как бы уравняло Заветного с Панюшкиным, он словно бы согласился побыть с ним на равных. — Спросите у нее сами, если хотите. Я не спрашивал. А она не говорила. Знаете, она все время смотрит на меня с каким-то удивлением, все время у нее в глазах вопрос... Мол, что же это такое творится на белом свете, что я, Анюта, та самая Анюта, выхожу замуж?! И за кого? За главного инженера! Мы говорим с ней о свадьбе, у нее на лице оживление, она смеется, загорается, говорит о наряде, о фате... И вдруг — молчание. Этакий недоверчивый прищур, резкость, грубость. Процедит сквозь зубы, что все это, мол, блажь чистой воды и никакой свадьбы не будет, что потрепались, дескать, людей потешили — и хватит. «Почему?» — спрашиваю. Рукой махнет и отвернется. Мне так кажется, говорит. Или я передумаю, или ты. Или еще кто-нибудь...
— Так, — протянул Панюшкин озадаченно. — Значит, все-таки любит...
— Вы так думаете? — оживился Заветный.
— Тут и думать нечего. Ясней не бывает.
Выйдя из мастерских, оставив за спиной сумрачность, холод, сквозняки, лязг металла и раздраженные человеческие голоса, оставив за спиной едкий запах отработанного горючего и поминутно глохнущий мотор тягача, Панюшкин неожиданно столкнулся с Колчановым.
— О! — воскликнул Панюшкин. — Я вижу, служитель истины не знает покоя?
— Какой покой, — вздохнул Колчанов. — Покой нам только снится — кто-то, по слухам, произнес такие слова, не знаю, правда, кто и по какому поводу... Да, Николай Петрович, вы уж простите меня, ради бога, за самоуправство. Короче, попросил я участкового пригласить в контору нескольких человек, с которыми мне нужно маленько потолковать. Если вы не против, мы расположимся в кабинете. Рабочий день все равно к концу идет...
— Отчего же! Интересно будет посмотреть на работу профессионала... А дело, которым вы занимаетесь, для себя я уже расследовал.
— Может, мне и возиться не стоит?
— Не иронизируйте, — усмехнулся Панюшкин, пряча лицо от холодного ветра. — Я обязан знать все, что происходит тут у нас.
— Кто же преступник? — Колчанов не мог сдержать любопытства.
— Не поверите. Ищите, потом сверим результаты.
Некоторое время они шли молча, похрустывая снегом, отвернув лица от ветра, молча пересекли двор конторы, вошли в кабинет Панюшкина.
— Другими словами, — медленно проговорил Колчанов, исподлобья глядя на Панюшкина, — вы хотите сказать, что Большаков, который лежит в больнице, не сам свалился?
— Помогли ему, — горестно подтвердил Панюшкин.
Колчанов, набычившись, несколько мгновений смотрел на начальника строительства, но, видимо решив не настаивать, прошелся по комнате, посмотрел в окно и наконец остановился у карты, на которой пунктиром была изображена нитка будущего нефтепровода, на две трети закрашенная красным карандашом.
— Насколько я понимаю, — Колчанов показал закрашенную часть, — это уложенные трубы?
— Совершенно верно.
— А этот участок еще нужно уложить?
— Точно, — улыбнулся Панюшкин.
— Тяжело?
— Тяжело. Самая тяжелая моя стройка.
— А в чем наибольшая трудность?
— Да все одно к одному, — Панюшкин махнул рукой. — Люди... Вечная наша проблема.
— Да, я смотрю, контингент у вас тут... — Колчанов замолчал, предоставив Панюшкину самому закончить фразу.
— О! — воскликнул начальник почти восторженно. — Народ очень разношерстный. В самом начале, когда предполагалось, что стройка будет закончена этаким кавалерийским наскоком, задача создания долговременного коллектива не ставилась. Считалось, что мы вполне можем обойтись сезонниками. Конечно, водолазы, механики, инженерная служба — это наши кадры, управленческие. Остальные — народ случайный. Многих зарплата привлекает, иных экзотика. Люди здесь обитают самостоятельные, независимые. К бумажкам да звонким словам почтения не дюже много. Сумеешь убедить, переломить, доказать — останется работать, отлично будет работать. Начнешь криком брать, власть показывать — уедет. Хорошо еще, если заявление оставит, расчет получит. У нас вон до сих пор в сейфе валяется несколько трудовых книжек, даже запросов не шлют.
— Ишь ты!
— Пролив трудный... Научные экспедиции еще не добрались до этих мест, а у метеорологов только общие данные о режиме, течениях, сменах приливов и отливов. Представляете, все время меняется скорость течения, направление течения — вода в Проливе ходит взад-вперед! Еще — дно не оттаивает полностью даже в середине лета. Хотя масса воды не промерзает до дна, но там образуются линзы вечной мерзлоты... Понимаете?
— В общих чертах.
— А детально и не нужно. Тут вот в чем трудность — нам не просто нужно уложить трубу на дно, нам нужно ее в дно зарыть. А как ее, дуру, зароешь, когда скрепера скользят по мерзлому дну, даже царапин не оставляя! Господи, а тайфуны, бураны, циклоны! Во время хорошего урагана вся масса воды Пролива приходит в движение. Двадцать пять метров глубина, а вода кипит, как в кастрюле! Был случай — мы не успели трубы зарыть в дно, а тут тайфун...
— И что же?
— Ничего. От труб ничего не осталось. Металлолом. Прямо под водой резали и выволакивали, резали и выволакивали, резали и выволакивали. — Панюшкин, вспомнив прошедший тайфун, механически повторял эту фразу.
Колчанов постоял у схемы, зябко передернул плечами.
— Николай Петрович, что же вас заставляет сидеть здесь который год? Зарплата? Такую же вы могли бы получать и в другом месте, более обжитом... Должность? То же самое... Слава?
— Какая слава! — Панюшкин горько рассмеялся. — Тут ославишься — всю жизнь не проикаешься!
— Может, вы... — Колчанов понизил голос, — романтик?
— Нет, я не романтик, — Панюшкин покачал головой. — И отношение у меня к этому понятию... неважное. Стоит за ним что-то наивное, кратковременное. Энтузиазм, не подкрепленный достаточным количеством информации. Более того — энтузиазм, пренебрегающий информацией, будто главное в нем самом, в энтузиазме. Ничего, дескать, что мало знаем, ничего, что невежественны и неопытны, зато у нас главное: мы молоды и полны желания что-то там сделать. Причем не просто сделать, а с непременным условием, чтоб песня об этом была! — Панюшкин с каждым словом говорил все резче. — Романтика — это так... цветение весеннего сада до заморозков, до града, до засухи и нашествия всяких паразитов!
— Ну, на этот счет может быть и другое мнение. Мне лично нравится цветение весеннего сада, — улыбнулся следователь.
— Мне тоже, — быстро сказал Панюшкин. — Смотрится приятно. Но в весенний сад нужно приходить сытым, одетым и обутым. Подкрепиться в нем нечем. На романтику я смотрю как на чисто производственный фактор, который не вызывает у меня восхищения, потому что это ненадежный, неуправляемый, непредсказуемый фактор. К нам сюда приезжают иногда этакие... жаждущие романтических впечатлений. Ах, говорят они, неужели эта узкая полоска земли на горизонте и есть Материк?! Надо же! — говорят они, глотая комки в горле. Их лица становятся задумчивыми, значительными, почти скорбными. И они до глубокой ночи колотят пальцами по струнам пошарпанных гитар, поют о чем-то возвышенном и трогательном, доводя себя чуть ли не до слез... А утром их не поднимешь на работу. Романтики! — Панюшкин фыркнул по-кошачьи и с досадой хлопнул ладонью по столу. — Видел. Встречался. Знаю. Им коровники в Подмосковье строить, чтоб можно было вечерними электричками на Арбат возвращаться. О, как они поют в электричках! Какая у них мужественная щетина! Какие экзотические названия намалеваны на их спинах масляной краской! Суздаль, Новгород, Кижи!
— Ну хорошо, а вас что здесь держит, Николай Петрович?
— Дело. Работа. Ответственность. Очень сухие, скучные вещи. Не убедительно?
— Нет, — Колчанов с сомнением покрутил головой. — Дело — оно везде дело. А вы здесь. Насколько я понимаю, уж вы-то, Николай Петрович, старый строительный волк, имеете право выбора. И выбрали этот медвежий угол, этот забытый богом и людьми край. Или проштрафились? И искупаете, так сказать, вину?
— Что вы! Разве можно наказать человека работой? Наказать можно отлучением от работы. Ведь это кощунство — наказывать самым ценным, чем только обладает человек: способностью производить осмысленные, целенаправленные действия. Сделать работу бесполезной, ненужной — вот страшное наказание. Это — высшая мера. И, насколько мне известно, в вашем ведомстве, товарищ следователь, преступников от работы не отлучают.
— Но какой же вы неисправимый романтик, Николай Петрович!
— Оставим это, — Панюшкин обиженно поджал губы. — Кого вы пригласили сюда?
— Хочу поговорить с вашей секретаршей. Нина Осадчая — так ее зовут? У нее последнее время жил человек, который подозревается в покушении на убийство. Так? Горецкий у нее жил? Они не расписаны?
— Кого вы еще пригласили? — спросил Панюшкин невозмутимо.
— Югалдину. Анну Югалдину. Как я понял, драка в пивнушке, или в магазине, назовите его как вам удобнее, произошла из-за нее? Один сказал о ней что-то обидное, второму это не понравилось, третий на ней жениться собрался, а в результате я здесь.
— Если бы я услышал о Югалдиной то, что сказал Горецкий, то поступил бы точно так же, как поступил Алексей Самолетов. И, надеюсь, вы, товарищ Колчанов, тоже поступили бы так же. Действительно, случилась драка между двумя парнями. Но она в сути своей имеет, этого нельзя отрицать, благородные мотивы — один сказал о девушке пошлость, второй счел своим долгом защитить ее честь. Но сделал это неумело, неловко, а в результате пострадал.
Панюшкин подошел к окну, долго смотрел на закатное солнце, и лицо его, освещенное красным светом, будто пожарищем, было печальным, словно там, в этом пожаре за окном, сгорало что-то очень дорогое для него, а он никак не мог вмешаться, ничего не мог спасти.
— Идут наконец, — сказал он. — Все трое идут. И Шаповалов, и Нина идет, и Югалдина. Хотя, по правде сказать, я не был уверен, что Анна согласится прийти.
— Как это согласится? — не понял Колчанов. — Она вызвана официально! — Следователь удивленно посмотрел на Панюшкина.
На крыльце послышался топот ног, голоса, потом шум переместился в коридор. Первой в дверь заглянула Югалдина. Она потянула носом воздух, поморщилась.
— Душно тут у вас! О чем можно толковать в такой духоте? О чем-то скучном и никому не нужном.
— Полностью с тобой согласен! — обрадованно ответил Панюшкин. — Заходи, Анна, заноси с собой свежесть-то, не оставляй ее в коридоре.
— Придется войти, — врастяжку сказала Югалдина и переступила через порог. Она искоса посмотрела на следователя, выдержала его усмешливый, выжидающий взгляд, улыбнулась, поняв, что ему приятнее было бы видеть ее смущенной. — А вы и есть тот самый знаменитый на весь Пролив следователь? — спросила она.
— Ага, он самый, — спокойно кивнул Колчанов.
— Допрашивать будете?
— А это моя первая обязанность. — Колчанов несколько мгновений смотрел на Анну с недоумением, потом улыбнулся понимающе: — Не надо. Я ведь еще ни в чем не провинился...
Последней в кабинет вошла Нина Осадчая — сжавшаяся, вроде даже ставшая меньше ростом, суше. Взгляд ее, настороженный и опасливый, сразу остановился на Колчанове. Она никого больше не видела в комнате, не слышала оживленного разговора, смеха Югалдиной, окающих слов Панюшкина, сиплого баса Шаповалова, она смотрела на следователя. И тот понял, почувствовал ее состояние, мучительное иссушающее ожидание, стремление узнать что-то, покончить с неизвестностью. Не раздеваясь, она села у двери, положила руки на колени, перевела дыхание. Разговор смолк, продолжать его так же легко и беззаботно было уже невозможно.
— Ладно, пошутили, и будя, — сказал Панюшкин. — Анна, ты вот что, подожди в приемной, а я пойду по делам. Скучать не будешь?
— Если и буду, вы же не останетесь меня развлекать? — усмехнулась девушка.
— Да ладно тебе, — Панюшкин вдруг так смутился, что сквозь его коричневые от зимнего солнца щеки проступил румянец. Поняв, что все заметили это, он смутился еще больше, начал зачем-то складывать в стопку бумаги на столе, рассовывать их по ящикам. Уже Анна вышла в приемную, Нина сняла пальто, села на табуретку к столу, а Панюшкин, торопливо одеваясь, все еще хмурился да поглядывал из-под бровей — не смеется ли кто?
— Итак, вас зовут Нина Александровна Осадчая? — начал Колчанов.
— Да, это я.
— Нина Александровна, простите меня великодушно, но мне придется задавать вопросы, касающиеся личной жизни...
— Задавайте, — Нина пожала плечами.
— Вы давно знаете Горецкого?
— Года полтора. С тех пор как он приехал сюда.
— Он жил у вас?
— Да, с первого дня.
— Значит, можно сказать, что вряд ли кто в Поселке знает его лучше вас?
— Пожалуй.
— Нина Александровна, вы знаете, в чем он подозревается?
— Да, мне говорили. Виктор Горецкий очень несдержанный, горячий... Опять же пьяный был. А когда он выпьет, то становится очень обидчивым. Не злым, не агрессивным, а именно обидчивым. Хотя так ли сейчас существенно: по злобе или по обиде он в человека нож воткнул?
— Нет, что вы, Нина Александровна! Для меня важен не сам факт, как мотивы его, — заметил Колчанов.
— Сам он никогда не начнет... Подраться он мог, конечно, но сознательно пойти на убийство... Нет. Тем более что ко времени встречи с Большаковым там, на Проливе, если они действительно встретились, к этому времени он уже должен был протрезветь. После драки в магазине прошло уже несколько часов, и все эти часы он был на ветру, на морозе. Если бы Большаков нашел Горецкого там, среди торосов, — тот скорее бросился бы ему на грудь, чем стал бы с обрыва сталкивать.
— Вообще-то, да, тут что-то есть, — озадаченно проговорил Колчанов. — А сколько ему лет?
— Горецкому? Двадцать семь. Я понимаю ваш вопрос... Конечно, между нами не могло быть ничего... долговечного. Он несколько раз пытался уйти в общежитие, но я удерживала его. Вы, может быть, не представляете, что значит жить в Поселке. Одной. Слева Пролив, справа сопки. А если еще начнется буран, если он тянется день, второй, третий... И ничего не слышишь кроме треска сорванных крыш, падающих деревьев, этого бесконечного воя... И ты одна в доме, одна сегодня, завтра, через год. Я люблю Поселок, сопки, Пролив, даже эти болота. Но ведь не всякая любовь бывает счастливой, верно?
Нина пытливо посмотрела на следователя, надеясь найти в нем если не сочувствие, то хотя бы понимание. За эту ночь она постарела больше, чем за последние три года, — красные от бессонницы глаза, припухший нос, бесцветные губы, пальцы, без конца перебирающие платок... Она пришла на этот допрос словно для того, чтобы отдать кому-то последний долг, выполнить последнюю свою обязанность.
Колчанов не спеша закончил фразу в протоколе, поставил точку.
— И вы не хотите уезжать отсюда? Из этого медвежьего угла, от собачьего холода?
— Нет, — просто ответила Нина. — Мне здесь нравится. И потом... Я прожила с этими людьми несколько лет и... и не хочу расставаться. Мы все неизбежно разъедемся, но это будет не самый счастливый день в моей жизни. А Виктор... Он мне нужен больше, чем я ему. Я это знаю. И он знает. Так что все расписано наперед. Скоро все это кончится. Да, наверно, уже кончилось.
— Расскажите мне подробнее про Горецкого.
— Что сказать... Он многое перенес в жизни, рано остался без родителей... И до сих пор чувствует себя школьником, которому на каждой перемене нужно отстаивать себя. Странно, я учительница, а он терпеть не может учителей. Воспоминания у него об учителях неважные. Подковырки, насмешки... Наверно, у них были для этого основания, учился он плохо. Может быть, этими подковырками они хотели как-то расшевелить его, поиграть на его самолюбии, но... добились обратного. Скажите, а Виктора посадят? — решилась задать Нина самый важный для нее вопрос.
— Пока не знаю наверняка, не со всеми говорил. Но ведь он ударил человека ножом! Мне говорили, что этот Самолетов, которого он ударил, ничего парень, не злобный...
— Да, Леша хороший парень.
— Еще вопрос. Горецкого и Колю, которого он с собой в сопки потащил, нашли в разных местах... Чем вы это объясняете?
— Думаете, Горецкий бросил Колю на Проливе? Не верю. Этого не может быть. Виктор никогда не бросит замерзающего человека. Мне трудно говорить о том, что у них там произошло, но у Виктора очень развито чувство солидарности... если можно так сказать. На него может найти затмение, и в это время он ничего не соображает... но совершить явную подлость... Нет.
— Даже без свидетелей?
— А разве подлость перестает быть таковой, когда о ней никто не знает?
— Вообще-то, да, — согласился Колчанов. — У меня больше вопросов нет.
Нина поднялась, оглянулась на Шаповалова, молча направилась к двери. И уже одевшись, уже приоткрыв дверь, оглянулась.
— Значит, посадят все-таки Горецкого? — спросила она, глядя на следователя.
— Это решит суд, — сказал Колчанов сухо и, обрывая затянувшееся молчание, спросил: — Вы хотели еще что-то сказать?
— Нет, — тихо ответила Нина.
— Тогда пригласите Югалдину. Если вам не трудно.
Красивая девушка, ничего не скажешь, подумал Колчанов, глядя на Анну Югалдину. Настоящая, здоровая, несуетная красота. Ничего броского, ничего, что можно было бы назвать идеальным. Нетрудно себе представить и более правильный нос, и более выразительные глаза, и более изящное сложение, но у Анны все так подогнанно, так безукоризненно сочетается, что одно это создает красоту.
— Сколько вам лет, Анна?
— Смотря что иметь в виду, — склонив голову набок, Анна выжидающе посмотрела на следователя.
— Я ничего не имею в виду. Я просто спрашиваю, сколько вам лет. Мне в протокол поставить надо.
— A-а, тогда восемнадцать.
— Прекрасный возраст. Мне тоже когда-то было восемнадцать, хотя в это и трудно поверить. Скажите, Анна, Ревнивых — хороший человек?
— Нет. Дурак на букву «ж».
— Анна! — не выдержал Шаповалов. — Прекрати. Человек дело важное делает, а ты... Нехорошо. Девчонка, понимаешь, от горшка два вершка...
— Смотря какого горшка, Михалыч! — засмеялась Югалдина.
— А Горецкий? — спросил Колчанов.
— Не знаю... Говорят, что он Лешку порезал, что Колю на Проливе оставил, что Большакову чуть ли не голову проломил... Не знаю. Слухам не верю, по себе знаю, что слухам лучше не доверять. Плохого о Горецком ничего сказать не могу. Каждый может оказаться в положении, когда хочется кому-то по мозгам дать. Дает не каждый. Чаще всего из трусости, из расчета, по здравому размышлению.
— Ничего себе установочка! — Колчанов откинулся на спинку стула.
— Тут ты, Анюта, малость перегнула, — серьезно сказал Шаповалов. — Если каждый начнет волю рукам давать...
— Каждый волю рукам давать не будет. А подонков станет меньше. Затаятся. Потому знать будут — кроме профсоюзного собрания есть еще такое мощное народное средство, как зуботычина.
— Вы знаете, что Горецкий и Самолетов подрались из-за вас? — спросил Колчанов.
— Сказали уж, просветили.
— И как вы к этому относитесь?
— Положительно.
— То есть как — положительно?!
— Нравится мне, когда мужики из-за меня дерутся. Как-то... чувствуешь себя человеком. А вы? Вот вы узнали бы, что две бабы из-за вас друг дружке глаза повыцарапали — да вам бы на всю жизнь гонору хватило!
— А что, может быть. Но, к сожалению, я не сталкивался с таким положением. Теперь вот что, Анна, у них были основания драться из-за вас?
— Что-что?
— Я это... поинтересовался, грешным делом, не было ли у них оснований для такого бурного выяснения отношений.
— Это надо у них спросить. А если... Если вы имеете в виду это самое, то нет, можете спать спокойно. Ничего у меня не было ни с одним, ни с другим. У меня с Заветным было, с главным инженером. И еще будет. Если вас что-то в этом духе интересует, спрашивайте, не стесняйтесь, я все расскажу, все как есть... Лишь бы правосудие не пострадало, лишь бы вы с заданием справились.
— Вы напрасно на меня обиделись, — примирительно заговорил Колчанов. — Ей-богу, напрасно. Я задал вполне естественный вопрос — были ли у ребят основания драться... Я обязан был спросить об этом.
— Ладно, поехали дальше, — сказала Анна. — Я нечаянно. Вы уж на меня зуб не имейте,
— Поехали, — согласился Колчанов. — Скажите, как по-вашему, мог Горецкий бросить Колю на Проливе в ту ночь, когда тут у вас буран куролесил?
— А черт его знает! Я где-то читала, что каждый человек может совершить подлость, преступление, если надеется скрыть это.
— И вы тоже?!
— А я что, рыжая!
— Скажите, а в спасательных работах той ночью вы участвовали?
— А я что, рыжая! — повторила Анна и рассмеялась. — Послушайте, а вот вы, следователь, могли бы пойти на преступление? А то вы все спрашиваете, спрашиваете... Ответьте на один вопрос, только честно! — Обернувшись, Анна подмигнула Шаповалову: сейчас, дескать, мы его прощупаем.
Колчанов несколько мгновений озадаченно смотрел на Анну, выпятив губы, потом его лицо приняло снисходительное выражение, опять изменилось — теперь в нем можно было увидеть интерес.
— Нет, — сказал он твердо. — Я бы не мог пойти на преступление. Потому что всего, чего мне хочется, можно достичь честным путем, вернее, законным путем, так будет точнее.
— А если сказать еще точнее, — подхватила его мысль Анна, — то у вас всегда найдется способ обойти закон.
— Фу, — поморщился Колчанов. — Обойти закон — это значит нарушить закон. Что есть преступление? Преступление есть неумелое, опрометчивое, грубое, заметьте, психологически, нравственно, духовно грубое стремление выразить себя. На преступление идет человек, который не в силах справиться со своими желаниями, стремлениями, мечтами, да-да, и мечтами, со своими страстями. На преступление идет человек с искаженными, испорченными представлениями о достоинстве, справедливости, имеющий ошибочное представление о собственной персоне. На преступление идет человек, пренебрегающий законами, по которым живет большинство людей, полагающий, что он, в силу своего какого-то там превосходства, может нарушить эти законы... Так вот, я ни под одну из этих категорий не подхожу. Вас устраивает такой ответ?
— Значит, вы застрахованы от того, чтобы оказаться на скамье подсудимых? — спросила Анна.
— Нет, — быстро ответил Колчанов. — Не застрахован. Но это уже особый разговор. И долгий.
— Ну что, друг Михалыч, твоя очередь, — сказал Колчанов.
— Чего меня допрашивать — мой рапорт в деле.
— А знаешь, не помешает. Слог у тебя суховат... И потом, я ведь тебя знаю не очень хорошо, а мне интересно, что ты за человек и почему участковым на шестом десятке заделался...
— Как стал... Был шахтером, работал, как все приличные люди, неплохим шахтером, между прочим, был, есть чего на стенку повесить — грамоты всякие, листы похвальные... До орденов, правда, дело не дошло.
— Не горюй, Михалыч, на новом поприще получишь.
— Да бог с ними, с орденами... Нынче все больше молодых награждают, им, видать, нужнее. Ну так вот, работал я в Бошнякове, здесь же на Острове. Недалеко от Александровска. И в том Бошнякове есть одна шахта, а в той шахте одна добычная бригада.
— Какая-какая?
— Добычная. Та, которая уголек на-гора выдает. А обслуживают эту добычную бригаду тринадцать проходческих бригад. Ну, это те, которые забой готовят для добычной. В чем дело, спрашивается? А дело в условиях залегания. — Заговорив о близком, Шаповалов заволновался. — Пласты угольные там мало того, что всего полметра толщиной, но еще перекручены, смяты, разорваны, сдвинуты — не шахта, а наглядное пособие. Все, что с пластами в природе может случиться, на нашей шахте есть тому конкретный пример. Погодь, Валентин Сергеевич, не перебивай. Вызвался — слушай. Так вот, только наладимся, бывало, давать приличную добычу, только конвейерную линию отладим — бац! Кончился пласт. Оборвался. Где он? Ниже? Выше? Или в сторону нырнул? Или вообще сдвиг в породах такой, что его на сотню метров в сторону швырнуло? Ищи-свищи! А мощность пласта невелика, работаем лежа, кровля трещит, сверху наседает, сыплется, не всегда успевали технику вызволить — зажимает. Чуть зазевался — села кровля и зажала комбайн. Никакими силами не вытащишь!
— Невеселая, гляжу, работка была, а, Михалыч?
— Зато и не соскучишься. Боевая работа. Не каждому по нраву, да и по силам не каждому.
— Скажи, Михалыч, вот и работа адская, и поселок такой, что на карте районной не найдешь, и могу себе представить, как у вас там с жильем, снабжением... Что же тебя там держало?
— А черт его знает! Зарплата там приличная была, но не в ней дело. Коли б дело в зарплате было, не стали бы люди по две смены подряд уродоваться, вручную вкалывать, чуть не жизнью рискуя, комбайны из забоя выволакивать, не стали бы костры под куполами возводить.
— Костры?
— Костры, — солидно кивнул Шаповалов. — Когда обрушивается кровля и над тобой образуется яма метров на десять вверх, когда эта яма дышит и из нее вываливаются время от времени булыжники тонны по полторы-две весом, когда не знаешь, на чем там, вверху, все держится, и когда обрушится все через минуту или две... Вот тогда единственное спасение — костер. Внизу, под куполом, добровольцы костер кладут: два бревна вдоль, на них два бревна поперек, а на них опять вдоль... И выкладывается такая башня вверх до самого купола, чтобы последние бревна подперли потолок. Тут что главное — не содрогнуть купол, быстро успеть выскочить, когда видишь, что камушек дышать начинает...
— И ты тоже костры возводил?
— Костры я клал, премию мне за это отваливали, но врать не буду — не за премию работал. Не знаю, как объяснить... Тут без красивых слов и не обойдешься... Знаешь, живешь вот так, на работу ходишь, то-се, а где-то глубоко в тебе иногда чувство такое возникает, что настоящая твоя жизнь, ответственная, справедливая, не знаю, как ее еще назвать, идет где-то рядом, а ты в суете даже не касаешься ее, не замечаешь. Когда клал я костры, когда камни вокруг меня падали, будто я под обстрелом находился, казалось мне, что это моя настоящая жизнь... И сейчас вот вспоминается не плохое жилье, не худая спецовка, вспоминаются случаи, когда настоящую жизнь почувствовал. Я вот что тебе скажу — такие случаи, как костры, жизнь человека подпирают. И чем больше таких случаев на твоем счету, тем прочнее купол над тобой, прочнее твоя жизнь, тем тверже и надежнее ты на земле стоишь, и не сковырнет тебя ни злобство людское, ни беда какая.
— Ох, Михалыч, говоришь ты — перебивать не хочется! Но уж коли сам остановился, давай вернемся в твою шахту.
— Давай в шахту, я сам по ней соскучился, снится иногда. У нас что интересно — дождь в сопках пройдет, а через неделю начинает нам за шиворот капать. Мы даже с ребятами иной раз спорили — за сколько дней дождь до нас доберется. Точно угадывали. Да что дождь. Туман на сопки ляжет — и то мы чувствуем его там, на глубине.
— И однажды тебе все это надоело?
— Нет, какой надоело! Работа в шахте тяжелая, но после нее к другой трудно привыкнуть... Вот ты, Валентин Сергеевич, знаешь, как наша с тобой планета пахнет?
— Планета? Ну ты и хватил... Не нюхал я планету. Землей, наверно, пахнет, чем же еще?
— Какой землей? Черноземом? Перегноем? Мусором каким? Травами? Все это, мил человек, запахи поверхностные, посторонние, в общем-то, запахи. А вот если в шахту спуститься, о! Только там и почувствуешь. И чем глубже, тем он сильнее, чище! Не могу я тебе этот запах описать, самому надо его почувствовать... Влажный такой запах, серьезный, сравнить не с чем... Отвлечешься от работы, посидишь, тревога берет. Не поверишь — тревога берет!
— Итак, ты ушел из шахты?
— Да, придавило меня там маленько. Все комбайн пытались вызволить, не удалось, а меня прищемило. Ногу. Ходить можно, но работать, шахтером работать — нет. Но ведь жить-то надо... Я говорю не только о деньгах... Кончил курсы и вот пожалте — участковый. Хотя и с шахтерской пенсией тоже кантоваться можно. Но у меня две дочки на Материке, учатся... Все замуж никак не выйдут, все, вишь ли, парни им не те попадаются...
— Понял. Теперь, Михалыч, о том вечере, когда чрезвычайное происшествие у вас стряслось.
— Так, дай сообразить... Было уже часов восемь. От метеорологов мы предупреждение получили. Начинался буран. Панюшкин команду дал — укрыться. Конечно, мы всех об опасности пожаров оповестили, в такую погоду ветер даже из сигареты столько огня выдувает, что курить страшно. В школе занятия отменили, танцы отменили, что можно — закрепили, аварийные бригады укомплектовали.
— Только про магазин забыли?
— Да, с магазином промашка вышла. Но не забыли, нет... Я потолковал с Панюшкиным, он и говорит, что уж коли буран начинается, то людям надо продуктами подзапастись, а то ведь наутро и магазина под снегом не найдешь. Бывало и такое. А в девятом часу Андрей Большаков приволакивает ко мне в отделение этого бандюгу, Витьку Горецкого. Так, мол, и так, докладывает, человека порезал. Лешку Самолетова.
— Горецкий был избит?
— Не заметил. Я еще подумал тогда — вот подлец, улыбается. Парень он видный, ничего не скажешь, но злобный какой-то, все по сторонам глазами шныряет — не то укуса боится, не то сам укусить норовит... Допросил я его, как положено, Большакова Андрюху тоже допросил, протокол составил, ты читал этот протокол... А Витьку в камере запер.
— В камере уже кто-то был?
— Да, Коля Верховцев был. Парнишка он ничего, но за ним глаз да глаз нужен. Родители его тоже здесь, в Поселке, живут, из местных он. И какая-то ему в голову дурь влезла — все стремится доказать, что он не хуже других. Другие-то весь Дальний Восток объездили, на островах всяких побывали, в страны всякие плавали, народ у нас пестрый, а Коля в Поселке все свои шестнадцать лет отбарабанил. В магазине его как-то обидели, он хотел было окна побить, а тут еще с одной девчонкой история вышла, ну по договоренности с его же отцом я и оставил его переночевать в отделении. Приструнить чтобы. У нас тепло, печь хорошо горит, дровишки есть... Где прилечь, тоже найдется.
— Что было дальше?
— Часов в девять я домой отправился. Еле добрался. Ни один фонарь уже не горел — на подстанции предохранители полетели, во многих местах провода не выдержали... И вдруг — бац! В десять часов звонок. Так, мол, и так, окно в отделении выломано, и ветер там уже гуляет, и снег наметает, и все что твоей душе угодно там происходит. Сбежали. И Горецкий, и Коля.
— Как же они умудрились?
— А! Вывинтили шурупы, которыми решетка к окну крепилась, откинули шпингалеты и были таковы. К буровикам направились. Это около сорока километров, а в такую погоду их и к сотне приравнять можно.
— Чем же они вывинтили шурупы?
— Набойкой от каблука. Нашел я эту подковку... В инструкции ведь не сказано, что задержанных разувать положено.
— Горецкий знал, что рана у Самолетова не опасна для жизни?
— Думаю, не знал. Крови было много, к Самолетову он не подходил, мог решить что угодно...
— И там, на Проливе, встретившись с Большаковым, Горецкий мог подумать, что терять ему нечего... А? Одним больше, одним меньше?
— Кто ж его знает, что он подумал... Конечно, если он решил, что Лешка Самолетов убит, то наверно... с отчаяния... Или со злости... Как знать...
— Значит, уверенности в этом у тебя, Михалыч, нет? Продолжим. Итак, десять часов вечера. Ты получаешь сообщение о том, что задержанные сбежали. Твои действия?
Шаповалов тяжело вздохнул, потер стриженую голову, опять вздохнул...
— Ох, и измордовал ты меня, Валентин Сергеевич! Первым делом я отправился к Нинке Осадчей. Горецкий живет у нее на положении хахаля. Вернее, жил. Недавно в общежитие перебрался. Оказывается, были они у Нинки, оба были, оделись потеплее и ушли. Куда — не сказали, но Нинка догадалась — к буровикам. А оттуда они надеялись выбраться в обжитые места.
— А Осадчая мне об этом ничего не сказала, — задумчиво проговорил Колчанов. — Утаила, можно сказать, важные для следствия сведения.
— Вопросу об этом не было, вот и промолчала. — Шаповалов осторожно посмотрел на следователя.
— И ты, Михалыч, не подсказал мне этот вопрос, хотя знал и при допросе присутствовал... Ну, ладно, замнем. Что дальше?
— Потом направился я к Верховцевым, — с облегчением продолжил участковый. — Была у меня надежда, что Коля все-таки домой вернулся... Это только сказать — сходил к Верховцевым... На самом деле сползал. Ветер был уже под сорок метров в секунду. Но дополз. «Колька дома?» — спрашиваю. А старики на меня, извиняюсь, шары выкатили. Тут и началось. Тут уж не до преступников — людей спасать надо. Тут уж второе дело — шофер ты или начальник строительства, преступник или молодожен — спасать надо. Закон у нас такой. Спасать. Разбираться потом будем. Это как на шахте у нас — завалило одного парня, кровля не выдержала. Сутки не выходили, все откапывали, пробивались к бедолаге, руки в кровь изодрали, но спасли. Его только маленько помяло. А вечером ему же и шею намылили. Заслужил.
— Твои действия, Михалыч? — напомнил Колчанов.
— Звоню Панюшкину. У него люди, техника, связь. Он все и развернул. Аварийные бригады на Пролив направил, по старой дороге к буровикам. А я тем временем дружинников собрал, того же Андрея Большакова, еще человек пять. Трое пошли вдоль берега, еще трое поверху, над обрывом. Под этим обрывом и нашли потом Большакова. Собака его почуяла, а то и сейчас бы там лежал...
Поздним вечером Колчанов увязался с Панюшкиным и главным инженером Заветным на Пролив — вот-вот должна была затянуться промоина. Когда они вышли из конторы, чистая луна висела прямо над Проливом, а на льду лежала широкая лунная дорога, которая вела прямо к вагончикам водолазов. Там же стояли подготовленные ледорезные машины, маленькой прозрачной рощицей чернели тросы, всевозможные знаки, предупреждавшие о прорубях, майнах и прочих опасностях, которыми был так богат неподвижный, поблескивающий под луной Пролив.
Все трое спустились к берегу и даже не заметили, как ступили на лед Пролива. Укатанная тягачами и вездеходами дорога лежала ровная, прямая, и сойти с нее, заблудиться было невозможно даже ночью.
— Так вы, Валентин Сергеевич, утверждаете, что преступник вас не больно интересует? — нарушил молчание Панюшкин.
— Да ну, какой это преступник! Хулиган невысокого пошиба, да и только!
— Слышишь, Володя, что он, оказывается, расследует, — обратился Панюшкин к Заветному, который, зябко ссутулившись, шагал впереди, лишь иногда оглядываясь на поотставших Панюшкина и Колчанова. — Он, видите ли, расследует поведение целого отряда, очень его волнует проблема — почему народ не разбегается.
— Я бы тоже хотел это знать, — сказал Заветный.
— А то не знаешь? — подзадорил его Панюшкин.
— Не знаю, — донеслось из темноты. Заветный остановился, подождал начальника строительства, следователя, пошел рядом. — Я не знаю, почему молчат эти люди, видя безнаказанность Горецкого. Я бы на вашем месте, Николай Петрович...
— Ну-ну! Интересно, с чего ты начнешь, оказавшись на моем месте!
— Я не уверен, что окажусь на вашем месте, — невозмутимо продолжал главный инженер. — Я не уверен, что мне хочется оказаться на вашем месте, но если это все-таки случится, то Горецкого я выгоню первым же своим приказом. И я не понимаю, почему вы его не выгоните, Николай Петрович!
— Да, почему? — присоединился Колчанов. — Я ведь, откровенно говоря, не верю вашему объяснению, что, дескать, механик он хороший... Подумаешь — механик!
— В самом деле, — хмыкнул Панюшкин. — Почему? Жалко. Куда он пойдет? Кто его возьмет после заключения?
— Он уже отсидел? — быстро спросил Колчанов.
— Был такой факт в его биографии. Но он не настолько падший человек, как это может показаться из рассказов. А что касается безнаказанности, это ты, Володя, перегнул. В нашем коллективе он как-никак, а держится. Ему продержаться надо бы еще год-второй-третий, не больше. Наступит перелом, он поймет, что давно уже взрослый человек. Все его беды от того, что он никак не может понять, что ему вот-вот пойдет четвертый десяток... Горецкий остановился в своем развитии на уровне семнадцати лет, он, видно, очень нравился себе в семнадцать лет...
— Мы все нравились себе в семнадцать лет, — заметил Заветный.
— А ты бы выгнал его? Зная, что он окончательно погибнет, сопьется, подохнет под забором?
— Да! Да, Николай Петрович! Зная, что он подохнет под забором к вечеру того дня, когда я подпишу приказ о его увольнении. Я бы выгнал его даже в том случае, если бы какие-то высшие силы подсказали, что со мной в свое время поступят так же.
— Жесткий ты человек, Володя. — Панюшкин некоторое время шел молча, и только хруст ледяной крошки под ногами нарушал тишину. — Но я не уверен, что сила заключается в жесткости, безжалостности... Безжалостность — это признак слабости. Сила в доброжелательности к людям.
— Совершенно согласен! — сказал Заветный. — Снисходительность и благожелательность — это прекрасно. Это здорово, Николай Петрович, это возвышенно и гуманно. Но! Когда речь идет не о преступнике. Когда есть силы, есть возможности, которые позволяли бы вам быть доброжелательным. Может быть, я был бы не совсем прав по отношению к Горецкому, но я был бы тысячу раз прав перед сотней человек, которые третий год трудятся здесь.
— О людях можно заботиться и не уничтожая Горецкого. Когда начнешь уничтожать, трудно бывает остановиться, — потеряв интерес к спору, Панюшкин отгородился высоким воротником.
Колчанов любил работать в таких условиях, — он был полностью предоставлен самому себе, никто не поторапливал его, не подкидывал новых дел, не навязывал своей точки зрения. Шаповалов уже начал было подумывать, что Колчанов не столько расследует обстоятельства преступления, сколько попросту шатается по Поселку да болтает с людьми ради собственного удовольствия. А когда они направились еще и к телефонисту, участковый не выдержал.
— Ты меня, конечно, прости, Валентин Сергеевич, но... скажи откровенно... Тебе интересно это расследование? Насколько я понимаю, надо потом доложить начальству и... и прочее такое!
— Доложу, не беспокойся.
— А будет что доложить-то? Я смотрю, ты все кругами, кругами, все вокруг да около. А преступник...
— Найдем преступника. Куда ему деваться? Вот все надеюсь, что он сам придет, а он тянет... Ты, Михалыч, не беспокойся, самолет будет через два дня, вот через два дня и преступник найдется.
— Как найдется?! А Горецкий? Или у тебя еще кто на примете?
— Ох, Михалыч!
— Сдается мне, что ты и в следователи подался, чтоб с людьми всласть поболтать!
— Ну вот ты и нашел главного преступника! — расхохотался Колчанов.
День был солнечный, по единственной улице Поселка они шли не торопясь, щурясь от ослепительного снега.
— Вона наша телефонная станция, — Шаповалов ткнул рукавицей вдоль дороги. — Ждет нас Жорка. Только вот что он нам скажет... Кто кому позвонил, кто кому встречу назначил...
— О! Это не так уж мало, — опять засмеялся Колчанов. — Не будем торопиться, Михалыч!
Телефонная станция располагалась в маленькой избенке, такой же черной, как все в Поселке. Участковый поднялся по ступенькам, с силой толкнул примерзшую дверь. Колчанов последовал за ним. После слепящего дня они оказались почти в полной темноте и некоторое время стояли неподвижно. Телефонист, невысокий парень со свернутым носом и жиденькими усиками, молча наблюдал за ними. Когда он увидел, что вошедшие заметили его, не торопясь поднялся и поставил посреди комнаты два табурета.
— Прошу! — значительным жестом указал он на табуретки. Потом протянул руку и представился: — Полыхалов.
— Знакомься, Жора, — заговорил участковый. — Это следователь, он занимается тем самым делом, которое случилось у нас неделю назад. Вопросы к тебе имеет. Отвечай прямо, не юли, философия твоя ему ни к чему, можешь сегодня о ней и помолчать.
— Зачем же молчать? — удивился Колчанов. — О философии нельзя молчать.
Полыхалов пытливо глянул на следователя маленькими красноватыми глазками, криво усмехнулся. И сел, ожидая, пока следователь разложит на столе бумаги.
— Как продвигается следствие? — спросил он у Шаповалова.
— Успешно, — коротко ответил тот.
— К концу, значит, дело идет? Кто же злодей?
— Злодей обычно появляется на последней странице, — ответил Колчанов. — Не будем нарушать традицию. Нарушение традиций не всегда во благо. Верно?
— Ну что ж, — Полыхалов опять недоверчиво усмехнулся, будто кто-то приятными словами пытался погасить его бдительность. — Слушаю вас.
— Насколько я понял, Георгий Петрович, — начал Колчанов, — вся телефонная связь в Поселке проходит через вас?
— Правильно поняли, — ответил Полыхалов низким басом. Чувствовалось, что истинный его голос малость потоньше, басом он не всегда говорит.
— Когда была поднята тревога?
— Вот Шаповалов, наш участковый, позвонил Панюшкину около двадцати двух. Тогда все и завертелось. Отличная была ночка! — Полыхалов улыбнулся так, будто это он организовал и ночку, и буран, и все спасательные работы, и даже само происшествие.
— Я слышал, что Колю нашли вы?
— Да. Я сдал смену напарнице и ушел с отрядом вдоль Пролива. Колю мы нашли недалеко от берега. Он уже замерзал. Ему еще повезло — мороз был небольшой. Но это всегда так — в большие бураны не бывает сильных морозов.
— Он был далеко от того места, где нашли Горецкого?
— Порядочно, — Полыхалов в раздумье солидно погладил усы, — километрах в пяти.
— Георгий Петрович, как по-вашему, Коля и Горецкий могли потерять друг друга случайно?
— Случайно? — Полыхалов откашлялся, посмотрел на участкового, как бы советуясь. — Знаете, дело темное. Буран. Коля мог испугаться и повернуть обратно. Горецкий мог бросить его. Хотя... Вряд ли. В такие моменты в самом отпетом богодуле просыпается что-то человеческое.
— А может, и звериное тоже просыпается? — следователь пристально посмотрел Полыхалову в глаза.
— Не встречал, — с нажимом произнес телефонист. — Не встречал. Вот смотрите, у Коли из родных только отец и мать, а в поисках участвовало чуть ли не сто человек. И я бы не сказал, что они ничем не рисковали. Колю нашли часа на три раньше, чем Горецкого. Так? А ведь не прекратили поисков, никому и в голову не пришло вернуться домой. Хотя кого искали? Можно сказать, преступника. Где-то рядом замерзает человек — вот о чем думали. Знаете, товарищ следователь, в такие моменты обычные мерки, представления не подходят. Не подходят, и все! — Полыхалов уже забыл говорить басом и перешел на свой обычный голос — негромкий, хрипловатый, ломающийся, как у мальчишки. — Обычные представления попросту малы, как бывает мал пиджак на широкие плечи, понимаете? Мелкие расчеты, колебания, хитрости, выгоды — все это по боку! В этот момент ты уже не тот человек, которым был час назад! Ты выше, достойнее, чище! Ты — спаситель. Потом, на следующий день все опять вернутся к своим привычкам, недостаткам, вспомнят старые счеты, но это будет потом. А сейчас все это спадает, как шелуха, как короста с Ильи Муромца...
Полыхалов закашлялся, неосторожно глотнув дыма, согнулся чуть ли не пополам, и Колчанов вдруг с болью увидел, какой это, в сущности, маленький и тщедушный человек. Он отвел глаза от телефониста, но не перестал наблюдать за ним как-то исподтишка, будто боясь оскорбить прямым взглядом, и видел его маленькие слезящиеся глазки, сиротливо дымящуюся на столе такую солидную трубку из вишневого корня и, сам не зная почему, вдруг подумал, что у того, должно быть, на Материке была не очень счастливая жизнь...
— Да, чуть не забыл, — спохватился Колчанов. — Георгий Петрович, ведь вы знаете, в каком месте, когда нашли всех троих — двух беглецов и Большакова... Скажите, мог Горецкий за два часа пройти от того места, где нашли Большакова, до того места, где нашли его самого?
— Пять километров за два часа? В принципе можно. Но в ту ночь это было на грани человеческих возможностей.
— А Коля? Коля мог встретиться с Большаковым, когда остался один, когда Горецкий ушел?
— Одну минутку... Конечно, мог! Ведь их нашли почти рядом. Сто метров!
— Еще вопрос... Когда нашли Большакова, вы ничего особенного не заметили? Какая-нибудь несуразность, след? Деталь?
— Что вы! Какая деталь! — Полыхалов безнадежно махнул рукой. — Нашли его в снегу, среди торосов, под обрывом, он пролетел метров десять. Вы Горецкого еще не допрашивали? Вот кого надо потормошить! Он над Андрюхой поработал, больше некому. Он ведь по дремучести своей небось даже не подозревал, что его, дурака, спасают. Думал, что сотня человек среди ночи поднялась, чтобы ловить его, охломона несчастного!
— Горецкий мог бы одолеть Большакова?
— В честном бою нет. Нет. Большаков недавно из армии, не пил, ходил на лыжах, в армии разряд по боксу получил, был, как говорят, в форме. Нет, в честном бою Горецкий ни за что не справился бы с ним.
Когда следователь на третий день добрался наконец до больницы, Алексей Самолетов уже поджидал его.
— Привет, товарищ пострадавший! — бодро приветствовал его Колчанов.
И Самолетов не мог не ответить на его белозубую улыбку, не мог не проникнуться к следователю доверием и симпатией.
— Здрасте, — сказал он, улыбнувшись.
— Лежите-лежите! Не надо подниматься. Как себя чувствуете? — Колчанов присел на табуретку у кровати.
— Нормально. Рана ведь у меня не очень... Вот только крови много потерял.
Вид у Самолетова был неважный. Желтовато-бледное лицо, ввалившиеся щеки, частое дыхание — все говорило, что он еще слаб.
— Тут, пока вы следствие ведете, разговоры кругами ходят. Как с кем поговорили, сразу в толпе любопытных оказывается. Да и у меня все ваши клиенты побывали, — Самолетов усмехнулся. — Оно и понятно — Поселок! Говорят, будто вы сомневаетесь, что именно Горецкий столкнул Большакова с обрыва?
— Да я во всем сомневаюсь! — искренне воскликнул Колчанов. — Работа такая.
— Но вы не сомневаетесь в том, что Горецкий меня ножом пырнул?
— В этом — нет. Врачи убедили, свидетели рассказали, Горецкий, говорят, не отрицает... Я, правда, с ним еще не толковал.
— Он сейчас на свободе?
— Как сказать... По Поселку ходит, но какая же это свобода? Ведь он знает, что ему со мной улететь придется.
— А не сбежит?
— Куда, Леша? Через Пролив? Там Панюшкин днюет и ночует, все ждет, пока промоина затянется. Мимо Панюшкина ему никак не проскочить. В сопки? Он уже удирал в сопки и вдоль Пролива удирал. Думаю, снова у него такое желание не скоро появится.
— Дай бог, — усмехнулся Самолетов. — О ссоре в магазине вам, наверно, все известно?
— Кроме одного: что именно сказал Горецкий о Югалдиной.
— Что сказал... Какая разница? Хамство, мат. Важно ведь не что именно сказано, но и как, кому, с какой целью... Не исключено, что в другой компании я бы и не услышал его слов.
— Вообще-то да, — согласился Колчанов. — Одни и те же слова могут звучать и безобидной шуткой и смертельным оскорблением. Да, Леша, вы его хоть раз двинули по физиономии?
— Ни разу. Хотя не отказался бы... Но не успел. Сказывается отсутствие практики. Вот вы время от времени встречаете, наверное, людей, которые становятся преступниками до того, как совершат преступление... Подход к людям, к себе — все это уже говорит о многом. Я не знаю, совершал ли Горецкий преступления раньше, но что он давно уже преступник, не сомневаюсь.
— Леша, вы уверены, что так ни разу и не ударили его?
— Вон вы куда клоните... Мне ребята рассказывали — физиономия у Горецкого разукрашена, как на рождество. Но это не моя работа. Я бы не смог. Жидковат я против него. Раз двинуть смог бы, но разукрасить — нет. Тут все ясно — Большаков над ним поработал. Там. На Проливе. Встретились они. Я высчитал по времени — все сходится. Можете не сомневаться. Кроме Большакова, никто его так разукрасить не сможет.
— Мне, Леша, по должности положено сомневаться, так что не могу я воспользоваться вашим советом. Еще одно... Простите мне этот вопрос, но скажите: почему так близко к сердцу вы приняли то, что сказал Горецкий о Югалдиной?
Самолетов, не поворачивая головы на подушке, быстро взглянул на следователя и закрыл глаза.
— Только вот что, Леша... Если не хотите отвечать — не отвечайте. Но придумывать ничего не надо, добро?
— Чего придумывать... Не я, так другие скажут... Да и Югалдина молчать не будет. Я ненавижу Горецкого и не скрываю этого. Если он сейчас не убил меня и Большакова, он кого-нибудь убьет потом. Если не убьет — жизнь испоганит. Пока он будет жить на свете, он будет поганить все, к чему прикоснется.
— Да, — протянул Колчанов. — Чует мое сердце — за этим что-то есть... Я ведь не верю, что все дело в тех нескольких словах, которые Горецкий выкрикнул в магазине.
— Ясно, что дело не в этом... Ну ладно. Анна Югалдина приехала сюда ко мне. Не к Заветному, за которого она замуж собирается, не к Горецкому, с которым познакомилась в первые же дни, а ко мне, чтобы выйти за меня замуж. Но из-за Горецкого вышла отсрочка, а потом появился Заветный. Ясно? Но и Заветный не для нее. Нет, не для нее. Дело в том, что он давно все знает — что хорошо, что плохо, что прилично, а что ни в какие ворота... А Югалдина в каждом случае решает все заново. Если чего нельзя, то у Заветного всю жизнь нельзя, а у нее сегодня, может быть, и нельзя, а завтра — только так, и никак иначе. В этом смысле он слабак. И я говорю это не потому, что он мне дорогу перешел, нет... Так оно и есть.
Горецкого следователь застал в общежитии. Тот одетый лежал на кровати, забросив ноги в тяжелых сапогах на железную спинку, и курил, пуская дым к потолку. Увидев Колчанова, он быстро сбросил ноги на пол и сел.
— Привет, начальник! — воскликнул Горецкий почти радостно. — Вот кого я ждал — дождаться не мог, вот кто утешит душу мою, утрет слезы мои!
Горецкий ерничал, но, видимо, в самом деле обрадовался, наконец-то для него кончится неизвестность.
— Здравствуйте, — сдержанно раскланялся Колчанов. Он молча разделся, не найдя вешалки, бросил пальто на кровать, подержался за шапку, но снять ее не решился — в комнате было прохладно. — Вы в состоянии отвечать на вопросы?
— А почему нет?!
— Ну все-таки вы, говорят, сильно обморожены. — Колчанов разложил на столе бланки протоколов, брезгливо отодвинув подальше консервные банки, крошки, колбасные шкурки, сразу давая понять, что ему здесь неприятно.
— Простите, — проговорил Горецкий, — я не думал, что вам придется за стол садиться...
Внимательно поглядывая на него, Колчанов мысленно примерял его к тем поступкам, о которых узнал за эти дни. Правильное динамичное лицо, узкие глаза, большой улыбчивый рот, ровные зубы, причем все свои, видно, никому еще не удалось поубавить ему зубов. Но лицо его было каким-то нервным, издерганным...
— Вы уже судились? — спросил Колчанов.
— А это имеет значение?
— Двести шестая?
— Точно. Злостное хулиганство.
— Ясно. Теперь попробуем кое-что выяснить.
— Попробуем. Попытка — не пытка, спрос — не допрос. Или я ошибаюсь?
— Дело в том, что это все-таки допрос. И в заключение вам придется подписать свои показания. И показания эти будут подшиты в уголовное дело. Ваше игровое настроение я могу объяснить только неосведомленностью.
— Так осведомите меня, начальник, просветите меня! Только не очень долго, врачи запретили мне волноваться. Переохлаждение организма — это такая неприятная штука.
— По-моему, вам больше грозит перегрев, — Колчанов кивнул на бутылки в углу.
— Не обращайте внимания, начальник. Это мы с ребятами слегка отметили мое спасение.
— Ну, ладно, — жестко сказал Колчанов. — Вы подозреваетесь...
— Ошибочка, начальник. Я не подозреваюсь. Я обвиняюсь. По статье двести шестой. Опять хулиганство. На этот раз — в магазине.
— Здесь мне все ясно. Я о другом.
— Ну-ну! Какую висячку вы собираетесь навесить на меня?
— Вы подозреваетесь в попытке убийства Андрея Большакова.
— Что?
— Андрей Большаков с несколькими ребятами отправился на поиски. Он искал вас и Колю Верховцева. Той же ночью Большаков был обнаружен в торосах... В связи с этим у меня есть несколько вопросов. Для начала расскажите, как все произошло в магазине. Поподробнее.
— А что рассказывать, сами говорите, что здесь все ясно. Мы же не знали, что этот малохольный Самолетов подслушивает нас с Ревнивых... И позволили себе отозваться о нем не очень лестно. Он кинулся на меня с кулаками, я хотел его толкнуть, но у меня в руке нож оказался — я как раз окунька разделывал. По пьянке получи лось так, что я, сам того не ведая, оттолкнул его той рукой, в которой был нож.
— Что было дальше?
— А дальше приходит добрый молодец Большаков, берет меня под белы руки и ведет к злому волшебнику Шаповалову.
— Большаков вас ударил?
— Нет.
— А Самолетов?
— Что вы! Ведь и драки-то не было! Он подслушал наши девичьи секреты, и ему захотелось почему-то эти секреты из моей головы выбить. Но не успел, бедняга.
— Когда вас поместили в камеру, там уже кто-то был?
— Зачем эти наводящие вопросы, начальник? Вашему брату запрещено задавать наводящие вопросы, так что не будем нарушать уголовно-процессуальный кодекс.
— Нет, вопрос не наводящий. Я вас спрашиваю — кто был в камере кроме вас?
— Коля Верховцев в камере был. Так вот Коля и показывает мне, что шурупы, которыми крепится решетка на окне, очень даже запросто вывинтить можно. Он уже сообразил, чем это можно сделать — набойками от каблука.
— Но вывинтили вы?
— Нет, Коля.
— Нет, вы. Коля не сможет. Сил не хватит. Вот вы и руки в карманы сунули, Горецкий. А я ведь, когда зашел, первым делом на ваши пальцы посмотрел. Содраны они, сбиты.
Горецкий внимательно посмотрел на свои ладони, на пальцы, повертел их перед глазами, вздохнул.
— Ладно. Был грех — вывинтил шурупы.
— Почему решили убежать?
— Сам не знаю. Когда выпьешь двести пятьдесят да еще с пивом, без труда можно через Пролив махнуть.
— Неужели так страшно стало, что и буран не остановил?
— Вот мы и на личности скатились... А такой разговор приятный был!
— Зачем Колю с собой потащили?
— Сам увязался. Домой, говорит, мне теперь дороги нет, отец лупить будет... И увязался.
— Хорошо, так и запишем. А как же вы растерялись там, в сопках?
— Ума не приложу! Смотрю — нет Кольки. Искал-искал, из сил выбился — нет Кольки. Неужели, думаю, он вперед ушел... Кинулся догонять — не догнал. Как меня самого нашли — не помню.
Колчанов молчал, давая Горецкому выговориться.
— Колька ведь местный, знает дорогу, знает, как к нивхам выйти, к буровикам. Я не представляю, кто его еще столько бы искал, сколько я... Дело в том, что я по дурости проболтался ему там, на Проливе, что Самолетова ножом ударил, он и взбеленился. Самолетов у него среди людей на первом месте... Он обиделся и удрал от меня. Удрал, понимаете?! Удрал. Только дети могут такие глупости делать. А взрослый понимает — Север.
— Так, — протянул Колчанов. — Так, — повторил он раздумчиво. — Ну, а насчет синяков и разукрашенной физиономии что у вас приготовлено?
— Синяки? Скажу. Поставил мне их один человек, спаситель мой, дай бог ему здоровья. Кто — не знаю. Он первым нашел меня, я уже замерзать стал. Нашел и так меня отделал, что тело до сих пор горит... Навалился как медведь, трясет и орет не своим голосом: «Где Колька?» Благодаря его тумакам я и проснулся тогда, в себя кое-как пришел. И отвечаю ему — не знаю, мол, где Колька. Потерялся Колька. Тогда он мне еще вломил, век за него молиться буду, и ушел он в темноту. Кольку искать...
— Значит, медведь вам синяки наставил, медведь помял, — озадаченно проговорил Колчанов. — Ну, ладно, у меня все. — Он поднялся, надел пальто, с трудом застегнул пуговицы. — Выздоравливайте, гражданин Горецкий, завтра в город полетим. Там повеселее будет.
Направляясь в палату, где лежал Коля Верховцев, Колчанов с удивлением почувствовал, что волнуется. Да, ему удалось выяснить многие детали происшествия, он подробно поговорил со многими людьми и мог даже на год вперед предсказать их взаимоотношения, но теперь вся его версия зависела от встречи с мальчишкой. И даже не от всей встречи, а от того, что ответит Коля на один его вопрос.
Следователь открыл дверь палаты, просунул голову и увидел на кровати парнишку.
— Ищу Верховцева! — доверительно прошептал Колчанов.
— Я Верховцев...
— Вот тебя-то мне и надо! Ну, давай знакомиться... Фамилия моя Колчанов. Следователь. Прошу любить и жаловать. Если ты не против, я присяду.
— Конечно, что вы... Садитесь, пожалуйста.
— Как сам-то поживаешь?
— Уже лучше... А вначале неважно было... Врач говорит, что ноги целы будут, а вот с левой рукой дело похуже... Так что ученик слесаря Николай Верховцев пойдет на маяк смотрителем.
— Уж и работу присмотрел! Так вот, глупости это глупые, и больше ничего. Я только что с врачом разговаривал. Единственное, что тебе грозит, так лишняя неделька в этой палате. И все. И можешь мне поверить, что самое худшее в твоем положении — это опустить голову. Учти.
— Ладно, учту.
— А теперь, если ты не против, давай немного о деле поговорим. Вот скажи мне, не лукавя, не тая, — на кой черт тебе понадобилось с Горецким на Пролив среди ночи идти?
— А так! Назло хотелось сделать. Вы меня в кутузку, а я уйду. И ушел. Дурь, конечно, собачья, но так уж получилось.
— Ну, хорошо, запер тебя Михалыч... Да, а за что?
— Тоже дурь... — Коля отвел глаза в сторону. — Понимаете, пива мне Верка в магазине не дала. Мал, говорит. А народ в хохот, а тут еще девчонка одна... Ну, я и психанул. А Михалыч меня за холку и в кутузку. Поостынь, говорит.
— Ну, хорошо, а почему на Пролив удрал, а не домой?
— Горецкий уговорил. Что же ты, говорит, товарища по несчастью бросаешь? И понес, понес... Вначале у меня и вправду была мысль домой двинуть, но он все время присматривал за мной, про дружбу плел, про товарищество... Как я понял, забоялся он один в буран идти.
— Понятно. Еще вопрос. Как вы расстались на Проливе?
— Как расстались... Сделали привал где-то километров через пять, ну, отдохнуть сели. Он всю дорогу болтал, болтал, вот и проболтался, что Лешку Самолетова ножом порезал. Я только тогда понял, почему он этот побег затеял.
— Дальше?
— А дальше поцапались мы. Я будто взбесился тогда... Ведь Лешка вроде мой наставник, ну, учеником я при нем. Всегда вместе. Парень что надо! Вот злость меня и взяла, что Горецкий обманом за собой потащил. Кинулся я на него, вцепился в пасть... Но, сами понимаете, силы оказались неравными. Он намял мне бока и заставил еще с километр идти вместе с ним... А потом я убежал от него. Мы тогда по берегу шли, вдоль Пролива, вот я за какой-то пень и спрятался.
Посмотрев в этот момент на Колчанова, ни за что нельзя было догадаться, что он насторожен, что даже пальцы его слегка вибрируют от напряжения, что каждое его слово, каждая интонация, жест далеко не случайны.
— Он что же, в самом деле перетрухал? — рассмеялся Колчанов понимающе.
— Ого! — воскликнул Коля. — Вы бы посмотрели на него тогда! В Поселке он немногим дорогу уступал, а там... Вы не поверите — меня по имени-отчеству называть стал! Представляете? Горецкий меня называет Николаем Васильевичем! Я вначале не понял даже, подумал, к кому это он обращается, может, думаю, он в темноте еще кого увидел... А выходит, что это я — Николай Васильевич... Потеха!
— Это когда ты от него удрать решил?
— Ну!
— А как он себя вел, когда ты от него спрятался? — подступил Колчанов к главному своему вопросу.
— Искал! Он ведь дороги не знает... Звал, возвращался, видно, понимал, что я где-то рядом... Целую речь толкнул, обращаясь ко мне!
— Что же он говорил? — улыбнулся Колчанов.
— А! Скукотища! Что нехорошо, мол, я себя веду, что погибнет он один... Обещал вообще уехать из Поселка, если я того захочу. Представляете? Если я, Колька, захочу, то он, Горецкий, из Поселка уедет!
— И ты все это время его видел? — Колчанов весь замер внутри.
— Да нет, почему все время, — беззаботно ответил Коля. — Буран ведь был. Он сначала толокся на одном месте, потом уходил в темноту, снова возвращался... Один раз довольно долго его не было... С полчаса.
— И после этого он подошел к тебе совсем близко?
— Да, в двух шагах остановился.
— И молчал?
— Да, на этот раз молчал, — озадаченно проговорил Коля.
— А место там какое? Опасно ходить?
— Еще как! Там мало того, что обрыв метров десять, да еще эти узкие провалы в берег выдаются. Провалы снегом заносит, их не видно, — зато падать мягко.
— Значит, злой ты тогда на Горецкого был?
— Да, ведь он Лешку... И меня потащил...
— И даже, говоришь, в пасть пробовал ему вцепиться там, на Проливе?
— Ну!
— И если бы была такая возможность — отомстил бы ему?
— Ну... если бы возможность была... Если бы я смог... Говорю же — злой я тогда на него был.
— Видел бы ты Горецкого... Как на рождество разукрашен — прихрамывает, рука на перевязи, физиономия в синяках... Уж теперь-то Вера нальет тебе кружку пивка, а?
— Да она мне за этого Горецкого еще вслед кружкой запустит!
— За Горецкого?
— Ну!
— Думаешь, она знает, что это твоя работа?
— А чья же еще? Больше некому!
— А может, он сам... сорвался?
— Да нет... Пришлось помочь.
— Он ведь мог крепко разбиться.
— Ничего, он везучий, — Коля слабо улыбнулся, видно, устав от допроса.
— Ну ладно, на сегодня хватит, и так разболтались, — Колчанов поднялся, аккуратно поставил табуретку в сторонку. — Выздоравливай. Вот здесь подпиши протокол, будь добр. Да, я еще хотел спросить у тебя: почему Самолетов так Горецкого не любит? У них и раньше что-то было?
— Конечно, было, чего там. Анюта ведь к Самолетову приехала, они жениться собирались. А тут Горецкий полез куда ему не надо. Из-за этой Анюты будто сбесились все! Самолетов, конечно, слабинку допустил, он сам потом мне плакался. Слухи пошли насчет Горецкого и Анюты, дескать, что-то было между ними. Ревнивых распустил слухи-то.
— А на самом деле?
— На самом деле ничего не было. Лешке бы плюнуть на все это, а он к Анюте пошел, выяснять начал, она, конечно, его по физиономии за недоверие, ссора между ними получилась, а тут главный инженер интерес проявил... И Самолетову вообще отставка вышла. Теперь его еще и ножом пырнули.
— Ну ничего, я с ним разговаривал, он вроде духом не падает. Хвост кренделем держит.
— Кто?! — Коля приподнялся на локтях. — Лешка? Чтоб Лешка духом упал? Да вы что! Он сам мне говорил, — хороша, говорил, девка, да, видать, не для меня. Может, говорит, и лучше, что все вот так получилось. Куда там лучше, если он до сих пор дрожит, когда о ней разговор заходит. Почему и драка в магазине получилась.
А поздно вечером, когда солнце было уже где-то над Европой, а мороз усилился до тридцати градусов, Панюшкин принимал в своем кабинете следователя Колчанова по случаю его предстоящего отъезда. На огонек заглянул главный инженер Заветный, а чуть позже, прихрамывая, пришел и участковый Шаповалов. Печка была жарко натоплена, мерзлые поленья, горкой сваленные в углу, постепенно оттаивая, тускнели, становились влажными.
— Похоже на то, что следствие закончилось? — спросил Заветный, усаживаясь у печки.
— Похоже, — согласился Колчанов.
— Кто же преступник? — спросил Панюшкин.
— Найдем преступника, верно, Михалыч? — обернулся Колчанов к участковому, скромно пристроившемуся у самой двери. Странное дело, Шаповалов почему-то смутился, крякнул, начал поудобней усаживаться на табуретку. — Михалыч! Я говорю — найдем преступника?
— А куда ж ему подеваться, — без улыбки ответил Шаповалов.
— А кого, собственно, вы имеете в виду? — спросил Заветный. — О каком преступнике речь?
— Вот именно! — воскликнул Колчанов. — О каком преступнике речь? Здесь требуется очень важное уточнение.
— Вы меня неправильно поняли, — холодно заметил Заветный. — Я не предлагал никаких уточнений. По-моему, дело совершенно ясное: подонок увел с собой мальчишку, где-то бросил его, сам чуть не замерз... Вот и все. К счастью, нашли и того и другого. Ну, а кто виноват больше, кто меньше и как все происшедшее по полочкам закона разложить — решать вам.
— Да уж ничего не поделаешь, придется! — воскликнул Колчанов.
— Интересно было бы, товарищ профессионал, сопоставить наши выводы. — Панюшкин подпер кулаком щеку и приготовился слушать.
— Сопоставим, — благодушно согласился Колчанов. — Для начала скажу, что Горецкий не покушался на жизнь Большакова.
— Кто же тогда столкнул Андрея с обрыва?
— Как знать...
— Вот видите, и у вас язык не поворачивается сказать, что Большаков свалился сам.
— Если за этим дело, — заговорил Заветный, — то я могу сказать, что Большаков свалился сам, — главный инженер оглянулся на всех, как бы прося присоединиться к его словам.
— Простите меня, товарищ Заветный, но я слышал, что у вас к Горецкому особое отношение?
— Да, тяжелый у вас хлеб, Валентин Сергеевич, — ответил главный инженер чуть обиженно.
— И не говорите! Михалыч, а ты чего молчишь?
— Слушаю...
— Ишь ты, — улыбнулся Колчанов. — Но ведешь ты себя, Михалыч, подозрительно.
— Тебе виднее. — Шаповалов с обидой глянул на следователя.
— Вот потому и говорю, что мне виднее. Колю нашел ваш телефонист. Большакова под обрывом собака учуяла, а ты нашел Горецкого.
— Ну, нашел. Что из этого?
— А из этого следует многое. Горецкий замерзал?
— Во всяком случае, не двигался, — неохотно ответил Шаповалов.
— И ты разбудил Горецкого?
— Ну?
— Как ты его будил? В лицо дышал, за ушком тер, платочком перед носом махал... Нет? Я скажу, как ты его разбудил. Хочешь?
— Я и сам могу сказать, — Шаповалов пожал округлыми тяжелыми плечами. — Разбудил, как и положено будить замерзающего мужика.
— То есть вломил ему по первое число? — Колчанов весело оглянулся на Панюшкина. — Вломил? Ну?
— Он что же, жаловался? — с угрозой проговорил участковый, поднимаясь с табуретки.
— Нет, что ты! Он не знает как тебя благодарить! Век, говорит, буду молиться за моего спасителя, только вот, говорит, не знаю, кто это... Не узнал он тебя, Михалыч. Медведь, говорит, на меня навалился, трясет и орет в морду: «Где Колька?»
— Ну, правильно... Мне главное — мальчишку было найти.
— Я, Михалыч, не об этом... Почему ты никому не сказал, что первым нашел Горецкого, что разбудил его, что для этого тебе пришлось его маленько помять?
— Что же это ты, Михаил Михалыч! — воскликнул Панюшкин.
— Черт его знает! — Шаповалов развел руками. — Напишет со зла жалобу, а потом попробуй докажи, что ты его спасал. Я и не подумал даже, что он меня не узнал.
— Позвольте, — сверкнул очками Заветный, — но у вас не все стыкуется. Если Горецкого помял Шаповалов...
— Не только, — быстро вставил Колчанов. — Коля, слабый мальчик Коля, тоже в силу своих возможностей прошелся по физиономии Горецкого, там, на Проливе.
— Я, с вашего позволения, закончу вопрос, — церемонно сказал Заветный. — Если Горецкого помяли совместными усилиями Шаповалов и Коля, то, следовательно, Большаков здесь ни при чем и мы можем сделать вывод, что Горецкий и Большаков на Проливе в ту ночь не встречались? Или я чего-то не понимаю?
— Валентин Сергеевич, сжальтесь! — вмешался Панюшкин. — Не томите душу.
— А! Вам, Николай Петрович, интересно, сошлись ли наши результаты? Так вот — на Большакова никто не покушался. Покушались на Горецкого, если это можно назвать покушением... Поскольку покушавшийся не знал о поисках, не знал, что буквально рядом с ним, скрытые бураном, находились десятки людей, он первого же встречного человека принял за Горецкого. И столкнул его... Но этим человеком оказался Большаков.
— А сталкивали Горецкого? — не понял Заветный.
— Да. Но столкнули Большакова.
— Кто?
— А как вы думаете? Впрочем, я сам скажу — это сделал мальчик Коля. Он был уверен, что на Проливе кроме него лишь один человек — Горецкий. Вот и все.
Панюшкин молча выдвинул ящик стола, взял запечатанный конверт и протянул его следователю.
— Прошу!
Колчанов вскрыл конверт, вынул небольшой листок бумаги и прочел вслух:
— «Коля Верховцев столкнул Андрея Большакова, приняв его за Виктора Горецкого». Ну что ж, Николай Петрович, поздравляю! Ответы сошлись. А как вы пришли к такому результату?
— Да не просто! — Панюшкин махнул рукой. — Мне, как и вам, пришлось по этому поводу со многими побеседовать. А потом я поговорил с Колей, он сказал мне, что хотел удрать от Горецкого, но не получилось. Тогда он столкнул его с обрыва, думая, что внизу достаточно снега, чтобы тот упал без повреждений... А что Коля на самом деле столкнул Большакова, я уже догадался сам.
Где-то над Тихим океаном уже стоял ясный холодный день, и белесые волны перекатывались лениво и размеренно, как мышцы под шкурой великана... А здесь только начиналось утро.
Маяк, четко выделявшийся среди деревянных изб, постепенно светлел и из тускло-голубого становился розовым. А когда холодное солнце брызнуло из-за пологих снежных холмов, он вспыхнул и сделался красным, будто раскалился.
В громадной куртке и валенках Панюшкин торопился по льду Пролива к тому месту, где должен был приземлиться самолетик. Он бежал, поминутно взглядывая вверх, как бы сверяя по снижающемуся самолетику место посадки. За ним торопился следователь.
Когда самолет, пробежав по укатанной тягачами посадочной полосе, остановился, обдав снежной пылью Панюшкина и Колчанова, из-за холма показался Горецкий. Он был не один — рядом шла Нина. Они подошли к самолету и молча остановились.
— Ну что, Николай Петрович, — нарушил молчание Горецкий, — не поминайте лихом.
— Постараюсь, — усмехнулся Панюшкин.
— Авось вернусь...
— Не надо, — сказал Панюшкин. — Никого не застанешь. Через полгода здесь останутся человек пять: смотрители маяка и обслуга перекачивающей станции...
— Надо же, еще не уехал, а уже вернуться хочется, — озадаченно проговорил Горецкий. — Даже не к людям, к этим вот местам...
— К местам возвращайтесь, — сказал Колчанов. — Местам этим вы ничего плохого не сделали. Нет у них на вас зла... — И он первым шагнул к самолету.

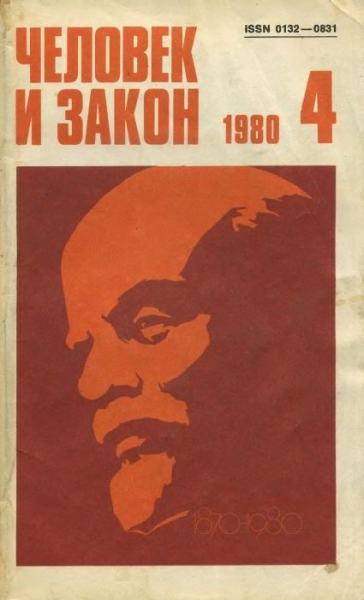




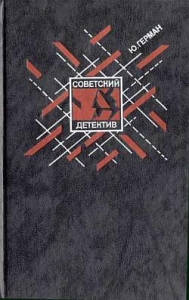

Комментарии к книге «Медвежий угол», Виктор Алексеевич Пронин
Всего 0 комментариев