Кунио Каминаси Допрос безутешной вдовы
Перевод Эдуарда Власова
Глава 1
Черт побери, как же хочется спать! Сил нет никаких, чтобы удержаться от согласия испить немедленно медовой сладости радостного бессознательного состояния временной, но тотальной изоляции от того, что извне… Ан нет (как там у русских поэтов?), покой нам только… – нет, не снится: как он может сниться, если спать не дают!… Грезим о нем в томном полузабытьи – и только. А самое печальное в этой ситуации – спросить о том, когда же это кончится, категорически не у кого. Все пятеро сержантиков, демонстрирующие мне свои покрытые колючим ежиком затылки, заняты сейчас тем же, что и я, – борются с коварной осьминожьей гидрой тяжелого сна, заливающего мутным клейстером усталые глаза, и с законом всемирного тяготения, упрямо клонящим молодые буйные головы доблестных блюстителей порядка к наивному белому пластику квадратных крышек школьных парт. Происходящее сильно смахивает на бестолковую голливудскую комедюшечку, где здоровенные взрослые дядьки в погонах и аксельбантах должны по велению жестокосердного начальства втискивать свои раздутые на тренажерах телеса в пыточные тиски детских стульчиков, намертво приделанных к школьным столикам. В чем, собственно говоря, каждый из нас перед ними, русскими, виноват? Отвоеванный Порт-Артур? Сожженный Лазо? Замученный Зорге? Так это когда было… И было ли вообще?… Они и сами толком в этом разобраться не могут. А сейчас? Нет, ну действительно, сейчас-то чего?… Вся вина наша в том, что в японском языке нет двух различных звуков – «л» и «р», а есть их некое коктейльное смешение, которое одна половина иностранцев принимает за «л», а другая – за «р». Но это их, иностранцев – глупых и вульгарных гайдзинов, – проблемы, русских в основном. Мы-то, японцы, прекрасно себя чувствуем, нам в своем родном языке тепло и уютно. Неказист он, правда, затейлив и причудлив, особенно в плане письменности, но другого у нас нет и в обозримом будущем, если верить газетам и сменяющим друг друга со скоростью «синкансена» премьер-министрам, не будет. А что до проблемы различия – или, точнее, невозможности различить на слух – «л» и «р», опять же в большинстве случаев русские, то она у нас появляется редко: только вот, как, скажем, сегодня, в тоскливый и бесперспективный понедельник, здесь, в окруженной соснами и жимолостью полицейской академии Хоккайдо на южной окраине Саппоро.
Старому лису Нисио всегда не по себе, если кто-нибудь из нас сидит в управлении без дела. Его всего наизнанку выворачивает, если мы бесцельно пялимся в окно или в монитор компьютера, лениво похрустываем затекшими суставами пальцев, демонстративно широко зеваем, принципиально не прикрывая рта. Он терпеть этого не может, но, с другой стороны, искусственно загрузить нас работой для него – при всей его изобретательности – тоже проблематично. Не пойдет же он, в самом деле, самостоятельно бомбить дежурные магазинчики или угонять престижные, как почему-то любит называть наши родимые японские машины мой друг Ганин, «иномарки»! Так что когда в отделе затишье, Нисио начинает скрипеть не совсем еще ржавыми мозгами, чтобы придумать, чем этаким нас можно было бы занять. И в этом отношении моя позиция в отделе самая уязвимая: русских у нас, на Хоккайдо, убивают гораздо реже, чем японцев, и сами русские лишают жизни своих заезжих соотечественников или гостеприимных хозяев тоже не слишком часто. Поэтому я, в отличие от других наших ребят, которые раскручивают магазинные кражи и спонтанные драки, регулярно по нескольку недель кряду сижу без дела – как абстрактного профессионального, так и конкретного уголовного, и садисту-идеалисту Нисио в такие дни приходится туго. Тут-то на помощь нашему беспокойному полковнику и приходит мой неуемный друг Ганин со своими изуверскими способами обучения нашей молодой полицейской поросли его родному наречию. Кроме постоянных ежедневных занятий с курсантами Ганин три раза в неделю ведет в полицейской школе курсы повышения квалификации для сержантов, старательно готовящихся к рывку на лейтенантские позиции и тянущих по этому случаю неблагодарную лямку в отдаленных от Саппоро портах, которые и зимой и летом заполнены российскими рыбацкими посудинами, гарантирующими сержантам интересную и разнообразную жизнь в любое время дня и года. Из вельможной милости и по административной разнарядке сержантов присылают в Саппоро на двухнедельный цикл интенсивных занятий, давая им возможность отдохнуть от сырых морских ветров и подышать немного настоящими запахами большого города – автомобильными выхлопами и ресторанными фимиамами, так что для них попадание в цепкие лапы настырного в своем сэнсэйском перфекционизме Ганина оборачивается довольно приятным времяпровождением, тем паче что в русском они, как правило, разбираются получше моих коллег из отдела. Недаром Ганин любит хохмить, что каждый из них в своем Вакканае или Немуро барахтается не то что в языковой ванне, а в целом языковом море, ежедневно набираясь от российских морячков-рыбачков такой лексики-грамматики-стилистики, что им, по большому счету, никакой сэнсэй-академик и не нужен.
Я же в такой ситуации оказываюсь жертвой педагогических амбиций коварного и изобретательного Нисио. Коль скоро никаких дел на мне нет уже третью неделю, с сегодняшнего утра я по приказу свыше вынужден был вспомнить далекую молодость и превратиться в лопоухого курсанта, постигающего азы лишенного системности, упорядоченности и какой бы то ни было организованности языка нашего беспокойного северо-западного соседа. Единственное, что я мог себе сегодня позволить, чтобы уж не совсем расставаться с гордостью и предубеждением, так это усесться не в одном ряду с сержантами-стажерами, а расположиться позади них. То есть я здесь сейчас вроде как не рядовой участник практического занятия, а строгий контролер – так сказать, «товарищ из центра» или, как предпочитает в таких случаях представлять меня словоблуд Ганин, «инспектор из РОНО», не считая при этом необходимым пояснить мне, что это за РОНО такое и можно ли его кушать с соевым соусом.
Главная пытка на этих занятиях – русская фонетика: с одной стороны, не такая уж она и сложная, с другой – все эти «л», «р», «си», «зи» для нас, японцев, вещи в себе, не постижимые ни умом, ни сердцем и поддающиеся воспроизведению только самопроизвольно, после миллионов бездумных, механических повторений. А повторение, педантично на каждом занятии замечает Ганин, мать учения, особенно в освоении обожаемой им русской «матушки». Там-то уж точно без многократного повторения никак не обойтись, да и сами русские обожают по тысяче раз подряд – автоматически и машинально – поминать чужих матерей и собственные гениталии. Ганину же, в силу сэнсэйского положения и интеллигентского (если его анкеты не врут) происхождения, приходится в нашем присутствии выбирать слова, или, как он любит после двух кружек пива жаловаться, «фильтровать базар», поэтому, прежде чем в конце урока он отвесит пару сочных шуточек «по матери», надо полтора часа тупо повторять за ним его лапидарные, отцензуированные поэтические шедевры:
Липнет рис к рукам Ларисы, Лара любит клейкий рис.Это ж надо такое было сочинить! Что Марло – Марло такое и не снилось! Кошмарные «ли – ри», «ла – ра», «ле – ре», «лу – ру»!… Когда мой отец случайно, во время нашего с Ганиным очередного кавалерийского рейда на Токио, ознакомился с подобными экзерсисами поэтически одаренного сэнсэя, он сначала хмыкнул, а затем сурово сдвинул брови, глубокомысленно вздохнул и выдавил: «Да… Это нечто среднее между ранним Пастернаком и поздним Мандельштамом… Что в принципе одно и то же…» Ранний – поздний, Пастернак – Мандельштам, «лю – рю»… Как это вообще можно понять, различить и повторить?
В феврале лысеют лисы, Летом много рыжих лис.Какая такая Лара? Поэтому, что ли, отец вспомнил Пастернака? И какие лисы? Клейкий рис – еще понятно: без него ни сусей, ни онигири не слепишь, но «лысеющие лисы»?!…
Глаза неумолимо слипаются сами собой, в веках – тяжелеющий ежесекундно песок, в мозгу – непроглядный туман, и нет никаких сил, чтобы запустить руку в карман форменных брюк и состроить там жестокосердному сэнсэю-инквизитору могучую фигу… И тут, как и полагается в такой хрестоматийной сомнамбулической ситуации, начинают одолевать воспоминания детства. Всплывает в памяти: мне двенадцать лет, мы с отцом и матерью живем в Москве, неугомонный отец – еще молодой и лохматый – с утра до вечера исправно штудирует в сырой и холодной, смахивающей на серый каменный каземат в германском стиле библиотеке своего любимого Достоевского, а мы с мамой по-сиротски сидим безвылазно дома, потому что отсутствие познаний в русском языке и гигантские масштабы их тяжеловесной, помпезной Первопрестольной не позволяют нам покидать пределы огромной двухкомнатной казенной квартиры в здоровенном академическом доме на высоком пригорке возле пересечения широченных Ленинского и Университетского проспектов. И вот очередным тоскливым серым утром мама, готовя на кухне все те же любимые колобочки «онигири» из «не того», то есть абсолютно не клейкого, рыхлого и рассыпающегося под ее мягкими пальцами узбекского риса, грустно вздыхает и протягивает левую руку к стоящему на громоздком белом комоде-холодильнике с никелированной эмблемой «ЗИЛ» желтому радиоприемнику, щелкает круглой эбонитовой ручкой, и из приемника выливается бархатный голос невидимого нам с мамой диктора: «Антон Павлович Чехов, «Спать хочется». Рассказ читает заслуженный артист…» И мне никакого дела до того, как зовут заслуженного артиста, а также почему диктор вдруг назвал Чехова «Павловичем», хотя от отца и его московских приятелей я слышал постоянно только «Палыч», – мне есть дело только до одного: глубокого спасительного сна, решающего все глобальные проблемы абсолютно безболезненно. Достаточно только доползти до не остывшей еще постели, из которой я выбрался всего сорок минут назад, опять свернуться собачьим калачиком под толстенным пуховым одеялом, уткнуться носом в гигантскую душистую подушку, какой у нас в Японии отродясь не было, и впасть до вечера в беспечное забытье. По большому счету, мы, японцы, конечно, страшно инфантильны – особенно в этом своем детском стремлении ко сну в любой ситуации, даже тогда, когда спать категорически нельзя, когда бодрствовать надо во что бы то ни стало. Просто для нас сон – это самое надежное средство самозащиты, спасительный оберег от грубого и несовершенного мира, окружающего нас и с фронта, и с тыла, и с обоих флангов, этакая временная смерть, гарантирующая одновременно и стопроцентную изоляцию от невзгод и проблем, и легкое пробуждение тогда, когда яростный натиск всего внешнего и чуждого несколько ослабнет. Но когда он еще ослабнет?… Ведь суровый Ганин неумолим и неотступен:
Лишних денег много нужно, Их с небес не нужно ждать!Ага! Стало быть, теперь от «ли – ри» переходим к «де – же»… Тоже неслабое испытание для наших еле ворочающихся языков… Родная японская фонетика требует от нас добавлять после «д» едва уловимый звук «з» – мы по-другому не можем, нас так мама с папой и детсад со школой учит. От этого презренные российские «деньги» в нашем исполнении звучат как «дзениги», не говоря уже об их гневном русском «ж» – низком, тяжелом и абсолютно невоспроизводимом, поскольку у нас, в японском, ничего похожего на этот грозный звук нет.
Ты всю жизнь трудись натужно, Чтобы деньги получать!«Чи фущю дзизюни торудзиси начюдзюно…» – пыжится передо мной широкоплечий сержант – Исимура, кажется… – из Немуро (тоже кажется…), и я вижу, как у него под черным ежиком от неимоверного интеллектуального напряжения багровеет кожа на затылке. А мои набухшие апрельскими вербными почками веки продолжают неумолимо смежаться, и вот еще секунду назад более или менее отчетливый силуэт крепкого в мышцах и воле и широкого в кости и душе Ганина вдруг начинает терять свои конкретные черты, и я перестаю различать на лучезарном лице доморощенного пиита его самоупоенные серые очи… Главное в этом деле – не умение произносить «де» вместо «дзе», главное – не уронить чугунную голову на хрупкий столик. «Уменье спать и видеть сны…» Это уже не Ганин и не Байрон, а другой… Помню еще: «Антон Павлович (он же, кстати, Палыч) Чехов, «Спать хочется»… Был бы чужой – давно убил бы, придушил – и дело с концом, как у этого-самого ихнего циничного Палыча, но тут все-таки Ганин, все-таки десять лет относительно крепкой мужской дружбы – авантюрной и бесшабашной, без всяких там «ты мне – я тебе», «человек человеку – друг, товарищ и медбрат» и «все братья – сестры», без сентиментальных соплей и панибратских излишеств. А так, был бы не свой – придушил бы пухлой перьевой подушкой, чтоб не докапывался со своей фонетикой, – и все, и никаких там хозяйственных Ларис с клейким рисом и лишних денег со скаредных небес…
И тут вдруг, как непременное напоминание о непреклонных, скупящихся на деньги и свободу небесах или, скорее, как непритязательная прелюдия к изощренной мести за черные мысли о ближнем и старые песни о главном, – удар в самое сердце: сперва – легкий интимный тычок под левый сосок, а за ним – долгое нервное поколачивание, как будто эта маленькая серебристая сволочь решила пробить всепроникающим электричеством и порожденным им могучим магнетизмом мою грудную клетку и в прямом смысле слова докопаться до щепетильного источника моих душевных невзгод и духовных исканий. И не поймешь сначала: то ли это волшебное избавление от бесконечной языковой пытки, то ли садистская утеха карманного тюремщика, не дающего бедному заключенному уснуть в течение нескольких дней. Одно только понятно наверняка: я правильно сделал, что перед началом урока отключил в мобильнике звонок и переставил его на вибратор, иначе сейчас Ганин услышал бы подаренную им же нехитрую мелодию о праздной прогулке какого-то длинношеего оболтуса по летней Москве из древнего черно-белого фильма эпохи Москвошвея-Моссельпрома, под которую бодренько взбегает по эскалатору метро их тогда еще безусый и вменяемый Никита Михалков.
Падавшая обреченной Пизанской башней верхняя часть моего тела по команде вибрирующего мобильника прекратила падение. Я извлек из нагрудного кармана трепыхающегося «оловянного солдатика», остановил его неуемную осеннюю дрожь, малость ожившими глазами извинился перед Ганиным и вышел в коридор. В нос тут же ударил сладко-затхлый запах дешевого табака, благо класс находится аккурат напротив площадки для курения, – неистребимый аромат безвозвратно ушедших времен наполеоновских планов и гагаринских амбиций. Я машинально пальцами правой руки зажал на мгновение ноздри, затем тут же улыбнулся своей наивности и наконец посмотрел на дисплей своего сотового: звонил Нисио, видимо, в целях проверки моего местонахождения. Мое майорское положение, в общем-то, позволяет мне в этот ранний час не сидеть среди зеленых сержантов и не повторять за Ганиным его лингвистическую ахинею, а не спеша попивать дурной – слабенький и невразумительный – «кофе по-американски» в какой-нибудь забегаловке подле станции метро «Макоманаи»› откуда обычно все мы добираемся до полицейской академии, если едем сюда не на машине, а на общественном транспорте.
Я перенабрал номер:
– Алло, Нисио-сан!
– Да, Такуя! Ты где? – прокашлял в трубку Нисио.
– Как где? В школе, конечно! – Еще спрашивает, пень старый!
– Ага, понятно! Тут у нас проблема одна возникла. Давай закругляйся там и подъезжай в управление!
– А как же урок? – Я не преминул отыграться перед Нисио за его педагогические извращения. – Я еще не все темы изучил. Ганин-сэнсэй ругаться будет!
– Не будет, не будет!… – хладнокровно парировал старик. – Я ему потом все объясню, он поймет, он понятливый. Давай руки в ноги – и приезжай скорей!
Я вернулся в класс, пригнувшись подобно бесстрашному, но осторожному ординарцу, доставляющему под шквальным огнем беспощадного противника важнейшее донесение своему генералу, пробрался к своему месту, сгреб в сумку нехитрое барахло, показал продолжающему извергать из себя поэтически-фонетические шедевры Ганину пальцами, что я по-быстрому должен топать отсюда, и выполз в коридор. Ловить такси в пустынном спальном районе полицейской академии – дело безнадежное, ждать автобуса днем в понедельник в начале одиннадцатого – тоже. Пришлось легкой рысцой потрусить в сторону метро, около которого я помедитировал пару минут на тему выбора способа дальнейшего передвижения и, зафиксировав в своем сознании скорую победу разума над чувствами, пошел в метро, оставляя за спиной длиннющую вереницу пустых такси.
Разум меня не подвел, и уже через полчаса я стоял перед Нисио, прикидывая в уме, в каком районе Саппоро я сейчас прел бы в пробке, если бы поехал на такси. Нисио с деланным удивлением оглядел меня с ног до головы, словно видел последний раз не в пятницу вечером, а года три назад, затем жестом указал на кресло подле своего стола и протянул мне тонкую картонную папку.
– На-ка, студент, почитай сначала вот это! – Шеф прищурился в моем направлении и пристально проследил за моими действиями по открыванию папки.
Шапка на первой странице гласила: «Заявление Игараси Тецуо, капитана паромного судна «Тохоку-мару-18» акционерного общества «Нихон-кай фери».
– Что это? – спросил я Нисио. Меня смутило определение жанра документа – «заявление». Обычно во всех делах по моей линии фигурирует слово «протокол».
– Читай-читай! – махнул рукой Нисио. – Я сам пока толком ничего не понимаю…
Я покорился воле рока и персонифицирующего его начальства и опустил все еще слипающиеся глаза на исписанный крупными иероглифами лист в клетку. Еще не вникнув в смысл первых фраз, я отметил про себя, что капитану Игараси, видимо, хорошо за пятьдесят, раз он исполнил свое заявление по старинке: не только на традиционной клетчатой бумаге, но еще и сверху вниз и справа налево. У нас давно уже никто вертикальными столбцами не пишет, хотя это классическое для японского языка оформление словоизлияния никто не отменял. Просто дурное влияние Запада уже много лет понуждает нас писать хоть и иероглифами, но горизонтально, как это делают американцы, русские и прочие счастливчики, которым не нужно зазубривать с первых школьных лет тысячи хитроумных значков-закорючек, а достаточно только запомнить, скажем, 26 или от силы 33 элементарные буквы. Слог капитана также звучал несколько архаично и, я бы сказал, витиевато для наших суровых быстротечных будней.
«Я, Игараси Тецуо, 59 лет, уроженец деревни Хоккай-мура, префектура Аомори, как капитан паромного судна «Тохоку-мару-18» акционерного общества открытого типа «Нихон-кай фери» (штаб-квартира – город Ниигата, префектура Ниигата) и, соответственно, как лицо, под ответственностью которого находится означенное выше судно, все имущество, находящееся на данном судне, а также личности 86 членов экипажа и 377 пассажиров, находившихся на данном судне в период плавания из порта Ниигата (остров Хонсю) в порт Отару (остров Хоккайдо) в период с 29 по 30 сентября 2002 г., считаю своей почетной гражданской обязанностью довести до сведения органов охраны правопорядка Японии следующую информацию. В понедельник, 30 сентября 2002 г., в 4 часа 34 минуты утра, когда вверенное мне паромное судно находилось в Японском море, в 18 милях к юго-западу от порта Отару (остров Хоккайдо), в мою каюту обратилась гражданка Ямада Марико, 64 лет, проживающая в городе Ниигата, с сообщением о том, что приблизительно в 4 часа 25 минут утра того же числа она стала свидетельницей того, как пассажирка судна, находящегося под моей ответственностью, – гражданка иностранного государства – сбросила с автомобильной палубы вверенного мне парома в море сверток большого размера…»
– Сверток? – Я оторвался от текста и взглянул на Нисио. – Сверток, Нисио-сан?
– Ты читай, Такуя, читай! – недовольно буркнул мой строгий начальник. – До конца читай! На свертке не задерживайся…
«…Поскольку в момент обращения ко мне гражданки Ямада Марико я находился в состоянии ночного отдыха, задать конкретные вопросы гражданке Ямада в связи с данным случаем я смог только в 4 часа 46 минут. Ожидавшая в коридоре вверенного мне судна гражданка Ямада по прибытии к дверям моей каюты, несмотря на мои убедительные просьбы повременить с рассказом, немедленно, то есть находясь в коридоре, приступила к изложению увиденного ею события, поэтому уже после того, как я получил возможность впустить ее в помещение своей каюты, мне пришлось попросить гражданку Ямада еще раз повторить все сказанное ею в коридоре, потому что в период с 4 часов 34 минут до 4 часов 46 минут я был занят помещением на свое тело форменной одежды и не мог уделить ее рассказу полноценного внимания, тем более что дверь в мою каюту оставалась закрытой в течение 8 минут. Когда в 4 часа 46 минут я, поместив на свое тело форменный костюм капитана гражданского судна паромного типа, получил возможность услышать рассказ гражданки Ямада в очном порядке, гражданка Ямада еще раз повторила его, однако с учетом ее весьма далекого от молодого возраста в полноте повторного изложения в отдельных случаях приходится сомневаться…»
– Нисио-сан, а не проще будет, если вы мне все это перескажете? – Я полистал заявление капитана Игараси и насчитал в нем четыре страницы, читать которые мне сегодня, в не самый приятный понедельник, как-то не очень хотелось.
– Читай-читай, Минамото-кун! – строго приказал Нисио. – Игараси-сан старался для нас для всех, вот и читай!… Я уже отмучился – теперь ты мучайся!.
– Слушаюсь… и повинуюсь… – Мне ничего не оставалось делать, как по-школьному шмыгнуть носом и вернуться к капитанским скрижалям, чтобы из солидарности с любимым полковником принять очередные филологические мучения.
«…Гражданка Ямада сообщила мне, что во время своей обязательной в связи с бессонницей, вызванной прогрессирующим процессом старения ее организма, ежедневной утренней прогулки на верхней палубе находящегося под моей ответственностью паромного судна она стала свидетельницей того, как приблизительно в 4 часа 20 минут из пассажирского салона номер 3 на первой – верхней – пассажирской палубе вышла пассажирка иностранной наружности и проследовала на грузовую нижнюю – автомобильную палубу. Гражданка Ямада подробно рассказала мне о том, как она была весьма удивлена выходом на палубу гражданки иностранной наружности в такое раннее время суток с учетом того, что, судя по рассмотренной гражданкой Ямада внешности, иностранная гражданка пока не находится в возрасте, в котором у женщин наблюдается процесс старения организма, требующий обязательных ежедневных прогулок на свежем воздухе перед восходом солнца, поэтому она расценила ее выход на палубу как подозрительный и посчитала своим гражданским долгом проследить путь продвижения иностранной пассажирки по вверенному мне судну, в результате чего гражданка Ямада прошла вслед за ней на нижнюю, грузовую автомобильную палубу. Как заявила гражданка Ямада, в момент продвижения по вверенному мне судну иностранная пассажирка вела себя очень настороженно, постоянно останавливалась и оглядывалась по сторонам, из-за чего гражданке Ямада пришлось приложить немалые усилия по сохранению себя незамеченной иностранной пассажиркой.
Приблизительно в 4 часа 25 минут означенная выше пассажирка иностранной наружности приблизилась к стоящему около левого борта вверенного мне судна на грузовой автомобильной палубе автомобилю «мицубиси-диаманте», извлеченным из левого переднего кармана обтягивающих ее фигуру снизу джинсов черного цвета ключом открыла багажное отделение вышеупомянутой машины, прилагая большие усилия, извлекла из багажного отделения сверток больших продолговатых размеров (по словам гражданки Ямада, сверток был обернут плотной полиэтиленовой пленкой и скреплен во многих местах широкой упаковочной клейкой лентой светло-коричневого цвета), снова прилагая большие усилия, протащила по настилу палубы данный сверток на расстояние приблизительно 7 метров (общая длина двух автомобилей, стоящих между упомянутым выше «мицубиси-диаманте» и бортом находящегося под моей ответственностью паромного судна), с трудом перекинула сверток через борт и в течение очень короткого, по словам гражданки Ямада, периода отрезка времени сбросила сверток в воду. Благодаря тихому раннему часу и хорошему слуху, на котором пока негативно не отразился процесс старения всего организма, гражданка Ямада, находившаяся приблизительно в 20 метрах от места изложенного выше события в надежном укрытии за корпусом пассажирского микроавтобуса не определенного ею производства, смогла отчетливо расслышать шум, вызванный соприкосновением свертка с поверхностью воды. Гражданка Ямада, уроженка и жительница города Ниигата, находящегося на побережье Японского моря (западная часть острова Хонсю), выразила убеждение в том, что с учетом ее многолетнего опыта прослушивания звуков, сопровождающих контакты предметов различного веса с поверхностью вод Японского моря, можно утверждать, что сброшенный гражданкой иностранной наружности тяжелый продолговатый предмет при падении попал именно в воду. После сбрасывания означенного выше предмета иностранная пассажирка немедленно удалилась по трапу наверх, предположительно – в пассажирский салон номер 3, а гражданка Ямада посчитала своим гражданским долгом удостовериться в том, что тяжелый вес свертка не позволил ему долго находиться на поверхности воды. Подойдя к борту вверенного мне судна, гражданка Ямада убедилась в том, что на поверхности воды свертка уже не было, из чего она сделала, по моему представлению, достаточно верный вывод о том, что сброшенный иностранной пассажиркой предмет утонул. Немедленно после убеждения в означенном гражданка Ямада направилась в служебный отсек находящегося под моей ответственностью судна, сообщила вахтенному (младший матрос Камеда Йосио, 25 лет, уроженец города Тояма, префектура Тояма, остров Хонсю) о событии чрезвычайной важности, отказалась излагать ему, как обычному вахтенному и как, по ее мнению, не достигшему возраста умственной зрелости гражданину, какие-либо детали происшедшего, в результате чего вахтенный Камеда, испытывая со стороны гражданки Ямада активное психологическое давление, был вынужден разрешить ей пройти к моей каюте, в которой я находился в процессе ночного отдыха…»
– Одни сплошные процессы и наружности… – Я изрядно притомился пробираться сквозь витиеватые сплетения полузабытых классических иероглифов и высокопарных, но давно уже выхолощенных японских словес. – Я, Нисио-сан, таких текстов давно не читал.
– Я тоже… – Нисио решительно пресек мои поползновения удариться в лирику. – Что думаешь?
– Не знаю пока…
«…На мой вопрос о том, знакома ли ей упомянутая выше пассажирка иностранной наружности, гражданка Ямада ответила, что лично с ней она никогда знакома не была, но, по ее уверенному мнению, иностранная пассажирка принадлежит к низко оцениваемому ею разряду граждан иностранных государств, которые при переезде на временное проживание в Японию не прекращают действовать по принятым у них на родине понятиям и меркам, разнящимся с принятыми понятиями и мерками у нее на родине, то есть непосредственно в Японии – по крайней мере, в префектуре Ниигата. В частности, гражданка Ямада выразила глубокое убеждение в том, что пассажирка иностранной наружности в силу иностранного происхождения отказывается выполнять требования глубоко уважаемого ею японского правительства, предъявляемые к процессу утилизации бытовых отходов на территории Японии, не желает строго соблюдать график избавления от бытового мусора, установленного для города Ниигата (сбор перерабатываемых отходов по понедельникам и пятницам, неперерабатываемых – по четвергам, крупногабаритных неутилизируемых объектов – второй и четвертый вторник каждого месяца), и испытывает постоянное желание избавляться от бытового мусора в удобное только ей время – например, ранним утром, и в неприспособленных для этого местах – в частности, используя для захоронения мусора водную поверхность Японского моря. На мой вопрос относительно предположений о том, что могло бы составлять содержимое свертка, выброшенного иностранной пассажиркой с борта вверенного мне судна, гражданка Ямада высказала уверенное мнение о том, что в свертке находилось два или три связанных вместе свернутых в рулоны ковра, длина которых превышает ее собственный рост приблизительно на 10 – 15 сантиметров. Выслушав подробные объяснения гражданки Ямада о происшедшем событии, а также ознакомившись с ее обстоятельным личным мнением обо всех иностранных гражданах, проживающих в Японии и не желающих соблюдать правила проживания в нашей родной стране, я обратился к ней с просьбой изложить все сказанное ею в мой адрес в письменном виде в форме заявления (текст заявления гражданки Ямада на 8 страницах прилагаю). Я же, в свою очередь, считаю необходимым поделиться с органами охраны и соблюдения правопорядка Японии всей полученной мной от гражданки Ямада за период с 4 часов 46 минут (частично информация начала поступать ко мне из-за закрытой двери уже в 4 часа 34 минуты, однако считать ее полной и достоверной возможности не представляется) до 5 часов 12 минут информацией. Остаюсь преданным своему гражданскому долгу и профессиональным обязанностям, Игараси Тецуо, капитан паромного судна «Тохоку-мару-18» акционерного общества «Нихон-кай фери».
– Показания Ямада-сан читать будешь? – Нисио похлопал правой ладонью по лежащей у него под левым локтем папке – близняшке той, что находилась у меня в руках.
– А надо? – Я постарался звучать как можно тоскливее, что было не слишком трудно, поскольку делопроизводительский тон капитана Игараси подействовал на меня так же, как и недавние лингвистические вирши рифмоплета Ганина.
– Бог его знает… – Нисио прищурился в моем направлении. – Бабуля тут много чего понаписала… И про свернутые коврики, и про проклятых иностранцев. Так что думаешь?
– А чего тут думать? Где сейчас эта «гражданка иностранной наружности»?
– В Отару. Паром причалил в восемь утра, капитан связался с отарским управлением заранее, они все подготовили – как положено… Ивахара уже приставил к ней своих орлов…
– Ивахара? – Значит, у пассажирки наружность не абстрактно иностранная, а конкретно русская. Ивахара ведь русским отделом в Отару рулит.
– Ага, Ивахара, – кивнул Нисио своей мудрой головой.
– Что, пассажирка русской оказалась?
– Нет, пассажирка оказалась японкой… – ехидно улыбнулся Нисио. – Японкой оказалась… Пассажирка эта… иностранной наружности…
– Как это?
– А так. – Нисио взял лежащую справа от него бумажку. – Ирина Катаяма, 1975 года рождения, уроженка поселка Тымовское Сахалинской области Российской Федерации, гражданка Японии…
– Катаяма?
– Катаяма.
– Чего, у нее отец японец, да? – Я знаю, что на Сахалине до сих пор осталось со времен последней войны несколько сотен японцев, не захотевших по каким-то таинственным, одним только им известным причинам возвращаться в Японию, теперь и их полурусские дети и на четверть японские внуки потихоньку подтягиваются в те благословенные края, откуда много лет назад отправились на север по велению сердца и приказу правительства дисциплинированные предки.
– Нет, отец у нее, надо полагать, русский, как и мать, – возразил Нисио. – А японец у нее муж…
– А-а, так она по мужу Катаяма… – протянул я, все еще отказываясь принимать настойчивое предложение Нисио заняться этим делом. – Как узнали?
– Капитан передал по электронной почте список пассажиров… Ну а дальше…
– А дальше с именем Ирина там оказалась только одна женщина, да? В смысле «иностранной наружности»…
– Да, – охотно поддержал меня Нисио. – Вернее, там с иностранным именем вообще оказался только один пассажир…
– …ка.
– …ка.
– И?
– Что «и»?
– От меня-то вы чего хотите, Нисио-сан? – Кому, как не мне, знать все лисьи повадки не в меру активного для своего возраста полковника! Можно было бы и не задавать этот риторический вопрос…
– У тебя сейчас ведь ничего нет?
– Как это нет? У меня «в феврале лысеют лисы» и «ты всю жизнь трудись натужно»…
– Чего? – крякнул Нисио, видимо давненько не посещавший утомительные ганинские занятия.
– Сами же мне в пятницу приказали сегодня с утра явиться на растерзание Ганину-сэнсэю!
– Ну а при чем здесь «лысеют лисы»?
– При том! Хищные они лисы, жестокосердные, как сам Ганин-сэнсэй, особенно в период лысения. Но это к делу не относится – пока, по крайней мере. Октябрь вон за окном… Так что мне делать?
– В Отару ехать. – Нисио категорично хлопнул по столу.
– Зачем?
– С Ириной-сан побеседовать…
– А Ивахара не обидится?
– А ты будь с ним поласковей.
– С ним или с ней? – Я никогда не упускаю возможности поиздеваться над начальством, тем более что само начальство тоже обожает эти взаимные пикировки.
– Ты сначала разведись, потом тебе будет «с ней». Сам знаешь, ивахарские ребята в русском не очень.
– Прям, не очень?
– По крайней мере, с дамами они разговаривать по душам не обучены. У них контингент там другой, сам знаешь… «Мать-перемать» и прочие прелести… Тебе это сподручнее.
– Ладно, будем дружно считать, что сподручнее. Ее что, задержали?
– Бог с тобой! За что им ее задерживать? За мусорный мешок? Она прибыла обычным рейсовым паромом из Ниигаты, вместе с группой примерных туристов, выкатила свой стандартный «диаманте», подъехала к отарскому «Хилтону» и находится там уже… – Нисио посмотрел на часы, – четыре часа.
– Вы думаете, что-нибудь серьезное, Нисио-сан? – Я хорошо знаю старика и, какой бы мелочевкой ни казалось предлагаемое им задание, отдаю себе отчет в том, что служебный нюх полковника никогда не подводил. Собственно говоря, будь я на его месте, этот «продолговатый сверток» из «нескольких ковров» вызвал бы у меня ту же реакцию.
– Езжай и проверь, – холодно отрезал Нисио.
– По мужу есть что-нибудь?
– Пока нет. Запрос в Ниигату сделали мы, поэтому пока ничего нет. После обеда будет…
– Почему мы, а не Отару напрямую?
– Ну знаешь, хоть она и японка, но все-таки иностранка. Так что надо было прогнать запрос через иммиграцию, а в Отару у них, как тебе известно, офис крохотный, и все шибко заняты.
– Ну да, они там заняты, как пчелки, а мы тут, в центре, балду с вами с утра до вечера гоняем…
– Ой, Такуя, не начинай только эти счеты! – замахал на меня своими длиннющими ручищами Нисио. – Не одному тебе от них тошно!… Давай езжай – и все!
– Так мне что, пожурить ее только за выброшенный в неположенном месте мусор или что?
– Не ерничай, Такуя! – строго погрозил мне пальцем Нисио. – Сам понимаешь, что от тебя требуется.
– Значит, копать про сверток?
– Да, про сверток.
– К машине доступ есть?
– Есть. «Диаманте» припаркован на подземной стоянке «Хилтона», там сейчас ивахарские ребята действуют, так что когда подъедешь, у них для тебя уже что-нибудь будет.
– По багажнику?
– По багажнику.
– Без санкции пока работаем, Нисио-сан? – В принципе мне и самому по душе эти авантюрные наскоки на частные объекты в поисках предметных улик и вещественных доказательств без ордеров и санкций прокурора, но хорошо то, что хорошо начинается, продолжается и, главное, заканчивается. А то так можно нарваться и на скандал, причем в данном случае наполовину международный… Хотя, конечно, ребята из экспертного управления у нас работают чисто. Для них залезть в банальный «диаманте» и не оставить после никаких следов – пара пустяков, это все понятно, главное, чтобы толк от этого был.
– Какая может быть санкция на этом этапе, Такуя? – недовольно покачал головой Нисио.
– Да я и сам понимаю, что никакой…
– А раз понимаешь, давай дуй в Отару! Я Ивахаре позвоню, предупрежу. Он тебе кого-нибудь даст.
– Пускай Сому даст, – попросил я.
– Почему именно Сому? – удивился Нисио.
– Да я его русскому недообучил в последний раз.
– Ладно, попрошу, чтобы Ивахара тебе Сому дал, – улыбнулся Нисио. – Ты, значит, от Ганина ушел, чтобы самому педагогической деятельностью заняться?…
– Вы же знаете, Нисио-сан, я приятное с полезным обожаю сочетать. Она хоть приятная?
– Кто? Сома?
– Катаяма эта…
– Ирина? Не знаю, фотографии нет, у капитана только про обтягивающие джинсы написано. Но наши мужики себе вроде из русских неприятных в жены не берут.
– Да, только из японок… – мрачно заключил я и повлекся к лифтам.
Мой старый знакомый, сержант Сома из отдела Итахары, встретил меня у восточного входа в огромный торговый центр «Майкал-Отару», посередине которого гордо возвышался двенадцатиэтажный «Хилтон». Сержант был в штатском, как и я, и выделить его из понедельничной толпы праздношатающихся пенсионеров и нетрудоустроенной молодежи было нелегко. Сома увидел меня первый, махнул мне рукой, и всю дорогу, пока я шел к нему от выхода из павильона железнодорожной станции, сохранял на лице пресную протокольную улыбку.
Общаться с такими людьми, как Сома, для меня всегда несколько проблематично. С одной стороны, мы друг друга уже неплохо знаем, побывали вместе в одной и той же передряге, из которой либо один из нас, либо сразу оба могли бы и не выйти живыми. С другой – видимся мы редко, что заставляет нас всякий раз начинать общение по новой, с чистого листа. Ситуация получается двусмысленная, и я, попадая в нее, всегда завидую сверхкоммуникабельному Ганину, для которого этой проблемы не существует. Он обладает уникальной манерой с ходу начинать общаться с человеком, которого последний раз видел тысячу лет назад, так свободно и непринужденно, как будто расстался с ним только вчера. Мне же приходится заново притираться к собеседнику, и процесс этот часто бывает не то чтобы болезненным, но шибко муторным, поскольку душевные неудобства тяготят меня в жизни гораздо сильнее физических, что, впрочем отнюдь не означает того, что мне было бы легче, если бы Сома сейчас вместо пустых, но обязательных приветствий врезал мне в челюсть.
– Здравия желаю! – негромко, но веско произнес в моем направлении сержант.
– Приветствую, сержант! – Я благосклонно кивнул в его направлении. – Вы один?
– Один. Господин майор в управлении. Ивахара-сан сказал, что он договорился с Нисио-саном о том, что вы сами поговорите с Катаямой-сан. И если…
– Да-да, понятно-понятно, – прервал я подобострастный монолог Сомы, явно испытывавшего те же трудности в коммуникации, что и я. – Но прежде чем говорить с этой русской, мне надо от вас получить максимум информации, хорошо?
– Да, конечно. – Сома зарделся от оказанной вдруг его скромной персоне чести. – Давайте пойдем в какое-нибудь кафе – здесь, в «Майкале», их много…
– Нет, сержант, кафе – не лучший вариант, – отверг я приглашение Сомы.
– Почему? Вы ведь с дороги…- забормотал сбитый с толку сержант. – Я думал… В смысле, кофе или чай…
– Эта ваша Катаяма все еще в гостинице?.
– Да, пост наблюдения мне доложил прямо перед тем, как ваша электричка подошла, что из номера Катаяма-сан пока не выходила. – Рука Сомы машинально потянулась было к голове в желании отдать честь при докладе, но голова вовремя отдала себе и руке отчет, что для этого все-таки больше подходит полицейская форма, нежели черные джинсы и темно-синяя «рибоковская» ветровка.
– Ну вот. Зачем нам с вами рисковать? Вдруг эта Ирина-сан захочет выпить кофе в том же кафе, где мы с вами сейчас будем, как вы предлагаете, чаи гонять. Может ведь у нее возникнуть такое земное желание, нет?
– Конечно, может, – согласился со мной Сома. – Тем более после бессонной ночи…
– Тем более бессонной ночи, – сымитировал я горное. эхо. – Давайте-ка лучше уединимся там, где нам никто не помешает.
– В город поедем? – тоскливо поинтересовался сержант.
– Зачем в город? – Я посмотрел за спину Соме. – У вас тут вон какой замечательный аттракцион имеется!
Позади Сомы лениво вертелось огромное колесо обозрения, пристроенное в прошлом году к торговому центру. Особых улучшений в бизнесе после этого замечено не было, хотя и вреда особого от этого мастодонта, гордо возвышающегося не только над «Майкалом», но и над всей восточной частью отарского порта, тоже не отмечается. Не было колеса – ничего, все жили спокойно, сделали колесо – тоже неплохо стало, чай, не пятое оно, это колесо, а покамест первое…
Сома не сразу поверил в мою детскую прихоть и удостоверился в серьезности моих намерений только тогда, когда я от столичных щедрот купил нам с ним два билета на это чертово колесо и не потребовал при этом от кассирши копии чека, с которым в нашей бухгалтерии можно было бы вернуть себе потраченную мелочь. Очереди на аттракцион не было, по случаю понедельника народ особым желанием полюбоваться с высоты вороньего полета на бухту, ощерившуюся мачтами частных яхт со спущенными парусами, не горел, и уже через минуту мы уединились в уютной пластиковой кабинке, которую плавно раскачивал пока еще сдержанный, но грозящий вот-вот развернуться в полную силу октябрьский ветер. Мы сели друг напротив друга: я – лицом к Соме и торговому центру, а Сома – лицом ко мне и к склону прибрежной скалы, постепенно меняющей свой радостный золотистый цвет на беспроглядную серость хоккайдской осени.
– Итак, сержант, рассказывайте! – приказал я Соме, едва наша кабинка оторвалась от стартовой площадки. – Что есть конкретного?
– Конкретного пока мало, – искренне вздохнул Сома. – Ниигатское управление ведет себя довольно пассивно…
– Молчит? – Знаю я эту Ниигату: они свято уверены, что забот и проблем с русскими у них больше всего в Японии. К нам, хоккайдским, относятся брезгливо, считая нас законченными провинциалами, хотя от этой Ниигаты тоже можно скакать три дня и три ночи и ни до чего приличного-столичного не доскачешь.
– Нет, не молчит. Кое-какую информацию мы от них уже получили. – Сома частично опроверг мои самые пессимистические подозрения. – Только вот главного они пока не сделали…
– Что вы называете главным? – подстегнул я обстоятельного Сому. – Да и неглавным тоже…
– Главное, Минамото-сан, что вот уже фактически пять часов ниигатские ребята не могут связаться с мужем этой Ирины.
– А кто у нас муж?
– У нас? – Сома удивленно подернул бровями.
– Ну не у нас – у нас, а у нас, в смысле, у нее. – Черт меня дернул схохмить! Бывают же ведь вот на свете такие бестолковые Сомы…
– Муж у нее… – Сома сделал выжидательную паузу, окончательно похоронившую мои надежды отыскать в потемках его души хотя бы зачатки чувства юмора, – муж у нее – владелец компании по закупкам и продажам подержанных автомобилей, Катаяма Ато.
– Ато?
– Ато, – еще раз подтвердил правильность услышанного мной дисциплинированный сержант.
– А почему ниигатские с этим, как вы изволили выразиться, Ато связаться никак не могут? – Я перевел взгляд с Сомы за окно: кабинка неумолимо продвигалась к апогею траектории плавного течения-верчения чертова колеса, и все остававшееся внизу, под нашими ногами, постепенно теряло конкретность форм и трансформировалось в монолитную лилипутообразную массу.
– А его нет нигде: ни на работе, ни дома. – На Сому набираемая кабинкой высота пока никакого видимого влияния не оказывала.
– Сегодня понедельник, а у этих торговцев работа сами знаете какая: по всему городу мотаться надо… в поисках радости… – Я постарался сконцентрировать свой сонный взгляд на исполнительном Соме и отключить боковое зрение, чтобы не портить себе, как называет подобные ситуации Ганин, «обедни».
– Да, конечно, – согласился со мной Сома. – Они его найдут, разумеется… Рано или поздно…
– Так, а что по ней?
– По ней – это по его жене, да?
– Именно!…
– Значит, эта Ирина – сахалинская русская, двадцать лет лет ей. Замуж за Ато Катаяму вышла два года назад. По сведениям ребят из Ниигаты, познакомилась с ним на Сахалине, при каких условиях – неизвестно, известно лишь, что Катаяма там уже несколько лет имеет свой автомобильный бизнес, так что познакомиться с русской девушкой для него проблемы не составляло. Только вот… – Сержант вдруг замялся, его глаза перестали смотреть в мои и заскакали над моими плечами.
– Что «только»? – Я вцепился взглядом в задергавшегося Сому, продолжая одновременно без особого успеха гасить боковое зрение. Наша кабинка достигла наивысшей точки, и я вдруг почувствовал, что мои внутренности, особенно в нижней части живота, зажили своей собственной, отдельной от остального тела и сознания жизнью. Не скажу, чтобы я боялся высоты, но одно дело, когда тебя от ледяного разреженного пространства отделяет двойная стенка массивного «боинга», и совсем другое – когда между тобой и пускай не глубокой, но все-таки бездной какие-нибудь пять миллиметров хлипкого прозрачного пластика.
– Да понимаете… – протянул Сома, которого разверзшаяся под нами бездна явно не пугала, – понимаете, по документам выходит, что между ними слишком уж большая разница в возрасте.
– Сколько этому Ато? – Замершая на сумасшедшей высоте кабинка качнулась и наконец-то начала долгожданное снижение, и мои разнесчастные почки с мочевым пузырем постепенно стали возвращаться на свое законное место.
– Пятьдесят восемь, – мрачно прошептал Сома.
– Ого! На дочке, значит, папаша женился! – Я попытался разыграть удивление, хотя, честно говоря, давно уже перестал удивляться таким вот парам. Правда, у нас, в Японии, чаще происходит обратное, когда какая-нибудь перезрелая дамочка, обычно не нуждающаяся в средствах, заманивает в свои коварные сети двадцатипятилетнего плейбоя, предпочитающего зарабатывать себе на жизнь сексуальным обслуживанием своей покровительницы, а не укладкой горячего асфальта на сауноподобном Сикоку. Но и в том, что поживших на свете мужиков тянет к свеженьким, не потрепанным пока еще ни жизнью, ни другими мужиками девицам, я не вижу ничего предосудительного. Причем на этих, как кому-то может показаться, крамольно-фрейдистских мыслях я ловил себя уже давно. То есть не то чтобы это вдруг появилось в моей башке после того, как мне треснули пресловутые по нашим японским меркам сорок два. Нет, еще в студенческие годы, шатаясь с приятелями по токийскому району Синдзюку, я абсолютно случайно застукал в привокзальном кафе своего родимого папашу, которому тогда было аккурат как мне сейчас, с молоденькой аспиранткой. Они, помнится, распивали кофе и якобы обсуждали что-то типа особенностей использования старославянизмов в прозе какого-то Розанова, которого отец в умных разговорах с коллегами за пивом неоднократно называл козлом и бабником. Сам же он при этом, прямо как козел и бабник Розанов, клал руку поочередно то на плечи, то на бедра смазливой и податливой хохотуньи, и я, расположившись с дружками поодаль от них, в течение сорока минут имел удовольствие наблюдать за столь неожиданной физиологической метаморфозой моего якобы глубоко духовного папы. О том, чтобы заложить его ни о чем не подозревавшей маме, и речи быть не могло, конечно. Но и вызывать его на душещипательные беседы при ясной луне один на один мне тоже ужасно не хотелось. Проще всего оказалось собраться с трезвыми мыслями и найти подходящее объяснение всему произошедшему (я, правда, до сих пор сомневаюсь, что между отцом и той аспиранточкой действительно что-нибудь произошло – в физиологическом, то есть «розановском» плане, я имею в виду…), после чего мирно успокоиться с мыслью о том, что мы, неуемное мужское племя, «все там будем», как пора подойдет, тем более что отцовская девица была недурна собой, да и, видимо, не слишком тупа, если хотя бы поверхностно – на уровне внешне глубокомысленных кивков и пронизанного деланным пониманием и согласием поддакивания, но знала, кто такой Розанов и что такое старославянизмы.
– Дочка у него действительно имеется, – напомнил о своем присутствии Сома, – только от первой жены.
– Молодцы эти ребята из Ниигаты! А вы, сержант, говорите, что они не делают ничего! Вон сколько всего разузнали!
– Да это несложно. Эта Ирина ведь иностранка, а за каждым иностранцем у нас, сами знаете…
– Ну теперь-то она не иностранка, – поправил я Сому. – Теперь она – как мы с вами. Так ведь?
– Так, конечно, – кивнул сержант. – Но вы же сами понимаете, господин майор…
– Понимаю. Сам… – Я наконец полностью вышел из оцепенения, вызванного необычайным телесным подъемом. – Что еще? Зачем она сюда приехала? И как?
– Как – это понятно: на обычном пароме, с машиной вместе. Зачем? По судовым документам, она не только зарегистрировалась как пассажирка, но и предъявила при посадке туристическую путевку. То есть формально она прибыла в Отару как туристка.
– В одной группе с нашей словоохотливой бабулей?
– А-а-а, это вы о Ямада-сан? – Сома ласково улыбнулся, как улыбнулся бы любой из нас при упоминании о любимой родной бабушке.
– О ней, Сома-сан, о ней, милой! Вы, как я понимаю, уже имели удовольствие познакомиться с возмутительни-цей капитанского и нашего спокойствия.
– Хорошая бабушка! – Сома, надув губы, наигранно обиделся на меня за «бабулю». – Ее информация является очень полезной для нас. И, главное, полной! Нам бы побольше таких информаторов!…
– Да, не помешали бы нам такие информаторы, – согласился я с Сомой. – Только не по экологической, а по уголовной бы линии…
– Экология тоже важна! – отказался соглашаться со мной почитающий старость и старческое словоблудие сержант.
Мы выпрыгнули из приземлившейся наконец кабинки и медленно пошли по длинному мосту в сторону торгового центра.
– Я так и не понял, она прибыла в группе или нет? – продолжил я допрос Сомы.
– Нет, в прибывших группах туристов, в том числе и в той, где зарегистрирована Ямада-сан, Ирина Катаяма не значится.
– Это странно или нормально? – Я слабо разбираюсь в тонкостях нашего туристического бизнеса.
– Это, в общем, нормально, не считая того, что она приехала одна, без мужа.
– Что в этом странного?
– Тоже ничего, если не брать в расчет, что ни из номера, ни по сотовому она мужу из Отару не звонила.
– Обычная японская жена… – резюмировал я наши с Сомой социологические изыскания. – И, надо полагать, обычный японский муж. Чего друг друга лишний раз теребить… Что по машине?
– Машина зарегистрирована на ее имя. Мы проверили: по нашим каналам чистая…
– Сома-сан, у нее муж торгует машинами, как вы сказали. Еще бы она ездила на «паленой»!
– Сами же там, в Саппоро, хотите, чтобы, мы все проверяли до мелочей и подробностей, – вдруг огрызнулся Сома и опять скорчил обиженную физиономию. – Ваши, между прочим, требования выполняем, Минамото-сан. Управление приказало – мы действуем…
– И молодцы, что выполняете! – Я сбросил обороты и подбодрил увядшего было сержантика. – Ладно, не дуйтесь! Больше не буду!… Что по багажнику?
– Багажник чистый, мы посмотрели. Аккуратно все сделали… Никаких сомнительных следов в багажнике нет. Эксперт наш установил полный стандартный набор ингредиентов…
– То есть ни крови там?… Ничего?…
– Ничего, что могло бы вызвать подозрение, – категорически отрезал Сома. – Багажник по нашей с вами, господин майор, линии чист, как и сама машина.
– Ладно, для начала понятно. Сейчас поглядим, как она насчет вашей любимой экологической чистоты…
Мы зашли в теплый полумрак торгового центра.
– Вы будете ее вызывать из номера? – поинтересовался Сома.
– Из номера вызвать ее я попрошу вас. Хорошо?
– Каким образом? – искренне удивился сержант.
– Скажете дежурному администратору, чтобы он пригласил ее вниз, к своей стойке.
– Зачем?
– Затем, что пришел, например, срочный факс на имя некоего Катаямы. А когда она спустится, пусть администратор разыграет удивление по поводу того, что она женщина, а не мужчина, и тем более иностранка. А факс якобы придет, скажем, без указания имени – только на фамилию Катаяма… Пускай, в общем, там чего-нибудь сообразит сам… Понятно?
– Более или менее… А если она откажется из номера выходить? – спросил предусмотрительный Сома.
– Тогда придумаем что-нибудь еще…
Глава 2
Мы отшагали половину «Майкала», пока наконец не уперлись в массивные двери «хилтоновского» фойе. Сома молча отделился от меня и поплыл к стойке администратора, а я зашел в ресторанное кафе, расположенное за невысокой стенкой из живых цветов, сквозь которые лениво журчали многочисленные ручейки затейливого каскадного фонтана. Немолодой метрдотель в изрядно засаленном на животе и плечах фраке услужливо согнулся передо мной и оттопырил руку в замызганной белой перчатке в сторону свободных столиков, по-парижски беспорядочно разбросанных у высоченного окна с видом на бухту. День был будний, час – послеобеденный, и высмотреть инородное в прямом смысле слова тело среди полутора десятков посетителей-соотечественников моему зоркому глазу труда не составило. За дальним столиком, повернувшись в профиль, соответственно, к окну и к залу, перед дымящейся чашкой кофе сидела иностранка. Я прищурился, чтобы оценить экстерьер: черные, те самые, вызвавшие неудовольствие бабушки Ямада, туго обтягивающие бедра брюки; черно-белая кофточка из тонкой шерсти, слабо скрывающая притягательные формы среднего по размеру бюста, частично выставленного напоказ через глубокий вырез; небольшой излишек румян на тонких скулах (по крайней мере, на видимой мне левой щеке); собранные в тугой пучок на затылке русые волосы, готовые бенгальским огнем рассыпаться по плечам – выдерни из них массивную черепашью заколку, поблескивавшую то ли стекляшками, то ли бриллиантами, – все это в пропорции девяносто девять к одному говорило за то, что трюк со срочным факсом уже не нужен.
Я ощутил за левым плечом щенячье дыхание Сомы и, не оборачиваясь, спросил его:
– Она?
– Да, это она, – прошептал Сома. – Наш наблюдающий сказал, что она спустилась в кафе десять минут назад.
– Когда мы с вами в буревестников играли… – добавил я.
– В каких буревестников? – удивился Сома.
– В буревестников революции, Сома-сан.
– Какой революции? – продолжал изумляться витиеватости моей изысканной речи пускай и исполнительный, но все-таки весьма недалекий отарский сержант.
– Сексуальной… – Я попытался выбрать из всех возможных вариантов дальнейших действий единственно правильный.
– Какой «сексуальной»? – никак не мог угомониться любопытный сержантик.
– Да не берите в голову, Сома-сан! – Мне надоело его воспитывать и образовывать. – Не ваше это дело в голову брать!… Это я так, о своем, о наболевшем… Проживете больше половины – сами над этим задумываться начнете. А пока пойдите лучше сядьте где-нибудь в стороне. Я с ней поговорю один на один… Потом, если потребуется, конечно, вместе с вами в управление поедем.
Я тут же потерял всякий интерес к занудному Соме и, даже не удостоив его протокольным взглядом через левое плечо, направился сквозь лабиринт столиков по направлению к возмутительнице спокойствия по-осеннему сонного Отару. Подходить в общественном месте вот так вот, ни с того ни с сего, к привлекательной иностранке, которая еще и почти в два раза моложе тебя, и начинать с ней светскую беседу у нас не принято, как, впрочем, и к нашим соотечественницам. Гораздо легче было бы извлечь сейчас из кармана гражданской куртки майорское удостоверение и спокойно удостовериться в том, что гражданка Японии Ирина Катаяма просто-напросто, выезжая вчера вечером из своего дома в Ниигате, забыла по дороге в порт выбросить мусор в специально отведенном для этого в ее квартале месте, а ввозить его на пароме, вверенном заботам и попечению чтящего историю и законы Японии капитана Игараси, в гостеприимный хоккайдский Отару посчитала некрасивым. Но косившаяся на неуемных немых чаек за толстым глухим стеклом прекрасная гостья из недалекой, но все-таки, формально, заморской страны вдруг стала мне интересна не столько с точки зрения приложения моих профессиональных навыков, сколько с позиций моей пока еще несомненной принадлежности к так называемому сильному полу. Не скажу, что по роду своей деятельности я лишен приятной возможности общаться с молоденькими русскими барышнями, но только через наш отдел по большей части проходят экземпляры, которые никаких возвышенных мужских чувств не вызывают. Дальше минутного и легко подавляемого все еще могучей силой воли приступа звериной похоти дело не идет. А такие вот подарки далеко не всегда благосклонной ко мне судьбы, как подсесть и заговорить с симпатичной девицей-красавицей, выпадают не часто или, честно говоря, совсем не выпадают, если не считать регулярных встреч с Ганинской Сашей, но там у нас все совсем по-другому…
– Извините! – Я обратился к ней по-русски, чтобы отрезать ей пути к возможному отступлению. – Ирина?
Я так и не понял, от чего она столь сильно вздрогнула: от неожиданного мужского внимания или от внезапно услышанного собственного имени в чужом исполнении (хотя я постарался проартикулировать коварное «р» как можно четче – как завещал мне сегодня утром великий Ганин). Так или иначе, ее словно ударило током, она резко повернула голову в моем направлении, и в меня впились два жгучих уголька пепельно-серых, невероятно притягательных глаз.
– Что? – Ей потребовалась лишь пара секунд, чтобы унять начавшуюся было дрожь и адаптироваться к ситуации, отличной от той, в которой она отрешенно блаженствовала мгновение назад.
– Разрешите? – Я кивнул на стул с другой стороны стола, оценив походя ее блестящую коммуникативную реакцию.
– Вы кто? – совсем уже ровным и спокойным тоном просила она.
– Минамото Такуя. – Я продолжал стоять. – Вернее, как у вас, у русских, заведено, Такуя Минамото.
– Что заведено? – Ирина продолжала буравить меня своими проницательными глазами.
– Заведено сначала имя называть, а потом фамилию, – пояснил я свой лингвистически-этикетный выкрутас и положил руку на спинку свободного стула.
– Заведено? – Она полностью, успокоилась и, похоже, готова была перейти в контратаку.
– Заведено, – подтвердил я. – У вас, у русских. А у нас, у японцев, наоборот… Тоже, конечно, заведено, но – наоборот…
– У вас, у японцев, все наоборот! – язвительно буркнула Ирина. – Что вам нужно? Откуда вы знаете, что я Ирина?
– Я вам сейчас все объясню. – Я старался держать себя в руках, хотя постепенно стал осознавать тот печальный факт, что принимать желаемое за действительное ошибочно в любом возрасте, ибо уже начал чувствовать, как из-под невинной хрупкой цыплячьей скорлупки начинает проклевываться коварная змейка. – Вы мне все-таки сесть позвольте, а то я из Саппоро сюда ехал – неближний свет…
– Садитесь, только ненадолго, – она указала мне своим тонким, точеным подбородком на стул.
Я опустился на него и теперь наконец-то получил возможность как следует, в фас, разглядеть ее лицо. Вообще-то я всегда начинаю осмотр особи противоположного пола с фигуры: для меня красота тела превыше красоты чела, и если у дамы ноги толстые или, что еще хуже, короткие, если у нее отсутствует талия и, наоборот, присутствует сало на заднице, никакие другие красоты не спасут ее от моего немедленного презрения и последующего забвения. Ганин смеется надо мной, что я-де эстет и что подходить с такими мерками к женщинам нельзя (хотя у его Саши и с фигурой, и с лицом все в порядке!), но исправит меня, как прогнозирует тот же Ганин, только могила. Но рассмотреть как следует фигуру этой гордой львицы возможности не представлялось – разве что послать ее, в самом деле, за кофе…
Лицо же на поверку оказалось в фас и вблизи не столь красивым, как в профиль издалека. Впрочем, это я привередничаю, поскольку именно такой тип женщин для меня наиболее привлекательный. Если женщина классически красива, то наблюдение ее и общение с ней превращается в настоящую пытку, как истинным мучением становится любое наше прикосновение к идеалу: вступить во временный контакт с ним ты еще можешь, но получить в постоянное владение – умоешься, поскольку каждый из нас с молоком матери впитывает уверенность в недостижимости всякого идеала. А красивая женщина занимает в жизни мужчины некое промежуточное положение между реализмом и идеализмом. Скажем, какая-нибудь Шэрон Стоун – вполне живая, реальная особа, но максимум, чего ты можешь достигнуть, – это пробиться на ее очередную пресс-конференцию в Токио, посвященную выходу новой пострелюшечки-комедюшечки с ней в главной роли, и даже продраться сквозь толпу фанатов обоих полов и получить от нее заветный автограф – и все, не более того. Вот предел, перешагнуть через который ни за что не получится. Обладание этим пресловутым идеалом нам, смертным мужчинам, не светит ни под каким видом…
Лицо Ирины было просто симпатичным, но столь умело подрисовано и подкрашено, что создавалась полная иллюзия, что говоришь с писаной красавицей. Это был как раз тот тип достаточно проницательных и в меру самокритичных женщин, которые в любой ситуации знают, как себя подать («И продать!» – обязательно добавил бы сейчас известный пошляк Ганин…). Хотя русских дам в этом плане отличает от американок и европеянок неумение вовремя остановиться. По своему достаточно богатому опыту знаю, что даже обладающие мощным сексапильно-притягательным потенциалом русские львицы-тигрицы всегда перебарщивают как с косметикой, так и с прочими материальными компонентами своего неотразимого, по их личному и всеобщему мужскому мнению, имиджа.
– Слушаю вас? – нейтральным тоном, без недовольства, но и без особой душевной теплоты, спросила Ирина и потянула ноздрями.
Так! Ну а это что такое? Она что, пытается меня понюхать? Я же ее предупредил, что я добирался сюда из Саппоро, так что, если от меня сейчас и исходит что-нибудь неблагородное, этому есть простое объяснение. Хотя я дружу с дезодорантами и, как правило, никого никакими мерзкими запахами от себя никогда не отпугиваю, да и лука не употребляю в пищу принципиально как раз по причине исходящего от него, а потом от его едока, сверлящего нос до самых мозгов миазма.
– Вы извините, что я вот так вторгаюсь в вашу личную жизнь, Ирина, но этого требуют некоторые обстоятельства. – Я заглянул в ее красивые, но чуть подернутые душевным дискомфортом очи.
– Обстоятельства? – Над левым выразительным оком ее взлетела мастерски подведенная бровь.
– Вы простите меня за мой русский… – прикинулся я финансово несостоятельным родственником.
– У вас хороший русский – не прибедняйтесь, – тем же ровным, прохладным тоном откликнулась Ирина.
– Ну, у вашего мужа, должно быть, русский получше, нет? – Я решил рискнуть и врезать не во вздернутую бровь, а в глаз, прекрасный и беспощадный…
– При чем здесь мой муж? – Она внезапно добавила в свою речь колотого льда.
– У вас ведь муж японец, да?
– Японец…
– Ну вот, у него же есть замечательная возможность у вас русскому научиться…
– Послушайте, как вас, извините? – категорично отрезала Катаяма.
– Минамото, – напомнил я ей.
– Вы что-то про какие-то обстоятельства говорили, Минамото-сан… – напомнила мне памятливая Ирина.
– Да, я начал вам рассказывать про обстоятельства…
– А вы вообще кто? – наконец-то она соизволила понтересоваться моей профессиональной принадлежностью!
– Я майор полиции Хоккайдо. – Я показал ей свое удостоверение. – Работаю в отделе, занимающемся российскими проблемами.
– Майор? – Известие о месте моей службы энтузиазма Ирине не добавило, но и особенно не расстроило: ничего в ее поведении принципиально не изменилось, и я не без легкого разочарования отметил, что эта новость не стала для нее сенсационной и выбивающей из колеи. – Из полиции?
– Да, Катаяма-сан, я майор полиции…
– И что вам от меня нужно? – В ней явственно боролись наигранное безразличие и искренняя заинтересованность.
– Дело в том, что на вас поступило заявление…
– На меня?… Какое заявление?…
– Да вы не волнуйтесь, Ирина. – Я с трудом удержался, чтобы не погладить ее длинные пальцы, постукивавшие изящным золотым кольцом по пустой кофейной чашке.
– Я не волнуюсь. – Она перестала терроризировать общепитовский инвентарь. – Что за заявление?
– Вы ведь на пароме в Отару прибыли?
– На пароме.
– В каюте плыли или в салоне?
– В салоне, конечно. У меня нет денег на отдельную каюту.
– Ночью или под утро вы из салона выходили?
Она не побледнела, нет, и бездонные глаза ее не забегали в паническом испуге по моим плечам, как полчаса назад у Сомы. Надо отдать ей должное: держится она великолепно – любой такой вопрос из равновесия выведет. Вот так сидишь спокойно, кофе потягиваешь, серых чаек за окном считаешь, и тут вдруг к тебе подходит полицейский-ясновидящий и в лоб интересуется твоими интимными подробностями минувшей ночи. А она держит себя в руках замечательно, только с ответом немного затянула…
– Так выходили или нет?
– Я не понимаю вашего вопроса. – Она, что вполне логично для рациональной женщины, попыталась выиграть несколько секунд для того, чтобы сообразить, как ей вести себя в сложившейся ситуации.
– Я извинился перед вами за свой русский. – Я великодушно подарил ей эти несколько секунд. – Может, мне лучше по-японски спросить?
– У меня японский гораздо хуже вашего русского, – мотнула она головой, и я вдруг поймал себя на непреодолимом желании того, чтобы костяная заколка из ее волос выскочила и с этим манящим движением головы взметнулись бы и рассыпались по плечам ее волосы. Но заколка держалась крепко. – Я хочу знать: почему вы вдруг интересуетесь моей поездкой на пароме?
– Я же сказал: заявление на вас написали…
– Да, но вы не сказали, что за заявление!
– А вы не ответили на мой вопрос относительно того, выходили вы под утро из салона или нет…
– Долго будем с вами друг друга футболить? – Ирина резко прервала начавшуюся перепалку.
– Так выходили или нет?
– Выходила! – бросила она мне в лицо и демонстративно отвернулась к окну.
– Зачем, если не секрет?
– Да какое, в конце концов, вам дело? – не удостаивая меня взглядом, поинтересовалась она.
– Я же говорю вам, заявление на вас написали.
– И что на меня заявляют?
– Что вы в море мешки бросаете… – Я постарался как можно внимательнее отнестись к ее реакции на это сообщение, но видимых изменений в ее экстерьере не произошло.
– Мешки? – Она вновь повернулась ко мне.
– Да, мешки.
– Мешок был всего один. – Смятение, видимо крепко ударившее по ее внутреннему миру секунду назад, ей удалось быстро преодолеть.
– Да, верно, в заявлении так и сказано.
– И кто на меня стукнул?
– Что, простите? – Я, конечно, осведомлен о переносном значении этого русского глагола, но мне захотелось лишний раз проверить свои филологические способности.
– Заявление это кто написал, спрашиваю?
– Честная гражданка Японии. Как и вы, кстати…
– Что «как и я»?
– Гражданка Японии.
– А-а, это… Да, я гражданка… И что теперь?
– Да, собственно, ничего особенного. Что в мешке было?
– А вы как думаете? – А вот это она зря! Не следовало ей опять затягивать с ответом на элементарный вопрос – особенно после того, как выяснилось, что мне многое известно…
– Вы знаете, Ирина, – я опять чуть было не дотронулся до ее руки, – у меня работа такая, что я часто за самого себя все додумать не могу. Так что, извините, еще и за других людей думать я просто не в силах. Да и в работе моей обычно требуются собственные слова подозреваемых или обвиняемых, понимаете?
– Понимаю. Я кто – подозреваемая или обвиняемая? – недовольно буркнула русская красавица.
– Ни та, ни другая, разумеется. Вы же видите: я с вами разговариваю как частное лицо, без протокола и записи.
– Хорошо. В мешке был мусор…
– Какой мусор?
– Домашний. Я его в воскресенье в багажник загрузила, хотела по дороге в порт на помойку завезти, но забыла.
– И решили в море скинуть?
– А что, убудет, что ли, от моря вашего? – Ее тон вдруг стал заметно грубеть. Создавалось впечатление, что до последнего времени она как бы сдерживала себя и разыгрывала образованную и воспитанную даму (балагур Ганин добавил бы обязательно: «из Амстердама»), но теперь внезапно тормоза полетели, и речь ее стала терять соответствие благородному и привлекательному внешнему виду, что, впрочем, так и не отбило у меня желание дотронуться до ее тонких пальцев. – Оно у вас что, это море, какое-то особенное?
– Да нет, ничего особенного в нашем Японском море нет. Просто мусор в него бросать не принято.
– Ну извините! – фыркнула она.
– Вы, если не секрет, в Отару с какой целью прибыли?
– С туристической, – отрезала погрубевшая Ирина.
– У вас отпуск сейчас?
– Какой отпуск?
– На работе.
– Я не работаю.
– Домохозяйка?
– Типа того…
– Типа чего? – Мне ужасно нравится это новорусское «типа». Еще в студенческие годы я бесился от бессилия в вопросе перевода английского «a kind of», которым переполнены нехитрые тексты голливудских блокбастеров. А теперь вот – с этим русским «типа» – проблема оказалась решена…
– Типа домохозяйка, – буркнула Катаяма.
– Значит, муж ваш достаточно зарабатывает?
– А что это вы так мужиком моим интересуетесь? Вы по автомобильной линии, что ли? – Ирина заинтересованно прищурилась.
– У вашего мужа проблемы в бизнесе?
– Да вроде нет…
– Он, кстати, где сейчас?
– Что значит «где»? – Теперь над ее прекрасными глазами взлетели сразу обе, как я вдруг разглядел, наполовину аккуратно выбритые, наполовину изящно подрисованные брови.
– Ну вы же одна на Хоккайдо приехали.
– У него работы выше крыши.
– В Ниигате?
– Да.
– А в России ваш муж часто бывает?
– Значит, вы все-таки по автомобильной линии?
– Да нет же, не по автомобильной.
– Врете! Знаете прекрасно, что он в Россию подержанные японские тачки продает!
– Хорошо-хорошо, Ирина, – успокоил я ее. – Пускай будет «по автомобильной»… Хотя на самом деле это совсем не так…
– Ну бывает он в России. Регулярно бывает.
– На Сахалине?
– В основном да. Случается, в Находку ездит, в Хабаровск летает. Но в принципе у него главные покупатели на Сахалине.
– А сейчас он где?
– Как где? – Она опять насторожилась. – В Ниигате, конечно. Почему вы спрашиваете?
– Просто так. – Я старался звучать как можно более простодушно. – Я же вам сказал: вы одна здесь, на Хоккайдо, он там один…
– Да будет вам! Вы же японец! – Ирина всплеснула руками.
– И что с того, что я японец?
– Того! Как будто не знаете, что такое японские семьи! – Она вперилась в меня своими жгучими угольками.
– А что такое японские семьи? – Я попытался как можно наивнее округлить глаза.
– А то! Вы же вместе со своими бабами жить не можете! Вас же воротит от них!
– Извините, не понял! – уже без фальсифицированного неведения удивился я.
– Не понял он! – скривила Ирина свои чуть-чуть больше, чем следовало, накрашенные умеренно яркой алой помадой губы. – А сам сидит и груди мои рассматривает!
– Груди?
– Две их у меня! – В Ирине, видимо, окончательно проснулась она сама, заглушив зачатки воспитанности, которые проявляли себя пять минут назад. – Скажете – нет?!
– Простите, Ирина, но я не из… – мне пришлось полезть за нужным словом в свой филологический карман, откуда вылезло банальное, – этих…
– Да все вы одинаковые! – не поверила мне она. – Вам только одного нужно!
– Чего «одного»?
– Того! Может, мне еще сходить к прилавку вам пирожное заказать, чтобы вы сзади меня могли получше рассмотреть?
– В каком смысле? – Признаться, я никогда еще не испытывал такого психологического натиска со стороны противоположного пола, который европейцы с американцами по инерции продолжают называть слабым, но который даже у нас, в антифеминистической Японии, таковым уже давным-давно не является.
– В прямом! Вам же интересно, какие у меня ноги! – продолжила она свою стихийную, но мощную контратаку.
– Почему вы, Ирина, решили, что меня интересуют ваши ноги? – Я все еще не мог прийти в себя после такой решительной атаки.
– А что вас еще во мне может интересовать? Выше пояса я и так хорошо просматриваюсь: и морда, и грудь на виду, а вот какие у меня ноги, бедра и задница, вам не видно. Вы же смотрите на меня и мечтаете, чтобы я встала и пошла куда-нибудь – в туалет, например.
– Скажите, Ирина, – мне пора было успокоиться, немедленно прекратить похотливую визуализацию в своем воображении объектов, перечисленных Катаямой, и возвратиться к самому себе, спокойному, уравновешенному и рассудительному, – у вас что, с мужем проблемы какие-то?
– А это вас не касается! – отрезала она и демонстративно отвернулась к окну.
– Хорошо, Ирина, – я наконец-то сумел окончательно скинуть с себя наброшенные ее колдовскими чарами на мои мозги и некоторые другие части тела фрейдистские сети, – давайте закругляться.
– Давайте! – Она вновь взглянула на меня своими глубокими глазами. – Мне пора!
– Если не секрет, куда?
– В Саппоро.
– Я как раз хотел вас спросить о ваших планах.
– Что, мне штраф придется платить или что?
– Не знаю пока, но возможности уплаты штрафа я не исключаю. Поэтому нам необходимо знать о том, где вы будете находиться в ближайшие два-три дня.
– А если я откажусь отвечать на этот вопрос?
– Ну тогда вам действительно придется подняться с этого стула, продемонстрировать мне и всем присутствующим ваши ноги и прочие – как там у вас принято говорить? – филейные, да? – части своего тела и…
– Что «и»?…
– И проехать со мной в местное управление полиции. Это недалеко. – Я кивнул в направлении выхода.
– Значит, за мешок мусора меня арестуют, да?
– Нет, арестовывать вас никто не будет, но по двум заявлениям на вас местная полиции меры принять должна.
– По двум заявлениям? – По слегка побелевшей коже на скулах под персиковыми румянами стало понятно, что о своей сексапильности Ирина на время забыла. – У вас против меня есть целых два заявления?
– А что вас удивляет?
– Как что? Я всего пять часов как на Хоккайдо приехала, а на меня уже две телеги накатали!
– Вы знаете, Ирина, если быть до конца точным, то эти две, как вы изволили выразиться, «телеги» написали на вас не хоккайдцы, а те люди, с которыми вы плыли на пароме.
– Мне от этого не легче! Мне что Хоккайдо, что Хонсю – одна разница! Короче, если я вам сообщу, где я буду находиться в течение ближайших дней, вы меня в местную мусорскую не потащите?
– Мусорскую?
– В ментуру то есть.
– В полицию, вы хотите сказать?
– Я хочу сказать именно «в мусорскую», потому как вы тут заявили, что мусором занимаетесь, но если вы в это дело не въезжаете, то пусть будет «в полицию».
– Въезжаю, но экологические проблемы меня волнуют постольку-поскольку. Значит, если вы мне скажете, где вас можно будет найти завтра-послезавтра, то обещаю сейчас вас в отарскую полицию не конвоировать.
– Саппоро, «Гранд-отель». Номера пока не знаю. – Ирина несколько сбавила обороты, но в голосе ее по-прежнему звучал гулкий чугун.
– Так вы в Саппоро приехали, а не в Отару?
– Да, в Саппоро.
– И надолго?
– На две недели.
– Вы что, две недели будете в «Гранд-отеле» жить?
– А что? Рожей не вышла? Или задницей?
– Задницу вашу, как вы, Ирина, сами же заметили, я еще не видел, а что касается лица, то по этой части особых проблем с заселением в «Гранд-отель» я не предвижу.
– Тогда что?
– Вы же сами сказали, что у вас денег на отдельную каюту нет, а тут вдруг номер в «Гранд-отеле» на две недели…
– Ну, во-первых, это уже мое личное дело. А во-вторых, в «Гранд-отеле» я буду жить не все две недели, а только первые два дня. Просто гостиница в туристический «пак» входит – вместе с билетом на паром. Потом найду что-нибудь подешевле. Устраивает это вас?
– Вполне. И последний на сегодня вопрос: как я понимаю, туристический «пак» для вас только способ добраться до Хоккайдо и пробыть здесь какое-то время. Если это только способ, то позвольте поинтересоваться об истинной цели вашего визита?
– А это моим личным делом быть не может?
– Пока может. – Я надавил на «пока».
– Пока?
– Да, пока. Я, Ирина, не знаю, как повернется дальше вся эта история. Пока на этот вопрос можете не отвечать.
– Тогда прощайте! – Она начала подниматься из-за стола.
– Прощаться не буду, Ирина. – Я по-джентльменски попытался опередить ее в процессе подъема. – Не люблю потом сознавать свои ошибки и просчеты.
– Значит, на свиданку в будущем намекаете? – по-недоброму ухмыльнулась она и вдруг вновь опустилась на стул. – Вы что ж, полицейский – и не женаты? Разве у японцев такое бывает?
– Женат-женат… – Я решил не останавливаться в своем движении ввысь и все-таки принципиально подняться первым: пускай сидит себе и прячет под столиком свои призывные прелести в обтягивающих одеждах. – А свидание, Катаяма-сан, ведь у нас может и просто деловое состояться, правда? В будущем, в недалеком…
– Деловое разве ж свидание? – вздохнула Ирина и повернулась ко мне все той же роскошной заколкой, прочно удерживающей на затылке, видимо, весьма аппетитные в распущенном состоянии волосы.
Сома перехватил меня на выходе из ресторана и повис на левом плече. Ему явно не терпелось расспросить меня о результате состоявшихся только что международных переговоров, но посвящать его в это не отходя от кассы, от которой мы, правда, все-таки отошли, в мои планы не входило. Я еле сдерживал себя, чтобы не обернуться и не посмотреть на оставленную мной в беспокойстве и смятении Ирину, и был абсолютно уверен, что она сейчас сидит так же, как когда я вошел в ресторан, – в профиль ко входу, изо всех сил напрягая боковое зрение, чтобы проводить меня своим испепеляющим взглядом.
– Где ваша машина, Сома-сан? – поинтересовался я, едва мы вышли из «Хилтона» на улицу.
– Здесь, на стоянке. – Сома услужливо указал направо, в направлении открытого паркинга.
До управления от «Майкала» десять минут езды, и, пока мы ехали, я подробно пересказал Соме два последних своих дела о гибели русского моряка и женщины-украинки, не дав тем самым ему возможности разузнать о том, что мне удалось выудить из Ирины Катаяма, гражданки Японии и уроженки Сахалина.
Майора Ивахару мы с Сомой застали в коридоре. Он явно куда-то торопился, но, завидев меня, дал задний ход и указал на кресло перед своим столом. Сома сиротливо присел на складной стул, как сказал бы Ганин, «на отлете», а я погрузился в недышащую искусственную кожу старомодного низкого кресла и согласным кивком ответил на предложение Ивахары выпить кофе. Кофе пришелся очень кстати, поскольку с Ириной в «хилтоновском» ресторане мне было не до него, а после того, как мне удалось одолеть свои низменные желания, вдруг очнувшиеся при виде соблазнительной русской красотки, на меня опять напала сонливость.
– Как папа ваш себя чувствует, Минамото-сан? – с протокольной улыбкой на удивительно загорелом после скудного на солнце и тепло хоккайдского лета поинтересовался Ивахара.
– Да вроде жив-здоров, Ивахара-сан. – Я отхлебнул слишком крепкий для казенного заведения кофе и решил соврать для ублажения гордыни отарского майора. – Вам приветы постоянно передает.
– Спасибо-спасибо! – еще активнее заулыбался и закивал головой Ивахара, из чего я сделал вывод, что в последние мои слова он верит слабо. – Вы ему тоже при случае передавайте!
– Обязательно, – автоматически пообещал я и про себя решил, что с меня и правда не убудет в ближайшей телефонной беседе с отцом действительно взять и передать ему привет от Ивахары.
– Вы, Минамото-сан, с Ириной Катаямой побеседовали, да? – Ивахара закончил краткую обязательную официальную часть и быстренько приступил к делу.
– Да, только что имел такую честь.
– И как ваше впечатление?
Я кратко пересказал Ивахаре наш разговор с Ириной, не повышая при этом тона, чтобы заставить сидящего поодаль Сому понапрягать свои уши и мышцы бедер и брюшного пресса, так как ему, бедолаге, приходилось постоянно подаваться вперед на своем стуле, чтобы услышать хоть что-нибудь. В подробности своих телесных переживаний, вызванных внешним обликом своевольной пассажирки парома «Тохоку-мару-18», безоглядно доверившейся мастерству старого морского волка капитана Игараси, я Ивахару решил не посвящать, поскольку всегда опасаюсь быть неправильно понятым в тех случаях, когда пытаюсь делиться с мужиками своими сокровенными физиологическими ощущениями, порожденными как внезапными, так и тщательно спланированными контактами с прекрасным полом.
– Вот… – закончил я, – а жить эти два дня она будет в «Гранд-отеле» в Саппоро. А потом планирует перебраться куда-нибудь еще, как говорит, подешевле.
– Значит, получается, что она на две недели на Хоккайдо приехала… – задумчиво протянул Ивахара.
– Получается так, Ивахара-сан.
– И денег у нее немного… – продолжил бубнить себе под нос отарский майор.
– Так говорит… – кивнул я ему.
– Как тогда это прикажете объяснить? – Ивахара выудил из невысокой пачки бумаг у себя на столе помятый и зацапанный пальцами листок факса и протянул его мне.
Факс был из управления полиции Ниигаты и представлял собой обычную копию заказа на турпоездку, которые сотнями тысяч разлетаются по Японии из больших и малых, но одинаково жадных до наших денег туристических компаний. Бумага сообщала всем желающим, что гражданка Катаяма Ирина заказала, оплатила и получила все соответствующие документы для участия в групповом трехдневном туре по маршруту Ниигата – Отару – Саппоро с проживанием в течение двух ночей в саппоровском «Гранд-отеле». Факс бесстрастно информировал всех владеющих японским языком о том, что для осуществления сказочного путешествия по чрезвычайно популярному у обитателей северной части нашей растянувшейся вдоль восточного побережья Азии головастой коброй Японии маршруту Катаяма-сан в обмен на свои (или мужнины?) денежки получила ваучер на две ночевки в «Гранд-отеле», а также проездные документы, именуемые у простолюдинов билетами, на себя и на автомобиль «Мицубиси-диаманте». А самым примечательным во всей этой на первой взгляд банальнейшей информации было то, что обратный билет из Отару как на гражданку Катаяма, так и на ее драгоценный, обшаренный привередливыми отарскими экспертами «диаманте» выписан на среду, 2 октября, 19.30, то есть на полвосьмого послезавтрашнего вечера.
– Что скажете, Минамото-сан? – прищурился Ивахара.
– Что скажу… – Я разочарованно покачал головой. – Что коварству женскому предела нет, Ивахара-сан…
– Именно – коварству, – согласился со мной майор. – Итак, почему ей потребовалось лгать вам о том, что она останется у нас, на Хоккайдо, на две недели?
– Вы думаете, Ивахара-сан, что это ложь?
– А у вас другое мнение?
– Да, другое… Я думаю, что она не солгала мне по поводу этих двух недель… Думаю, что она вообще не лгала…
– А обратный билет на послезавтра?
– Что, если она действительно планирует задержаться в Саппоро на пару недель?
– А билет-то как же?
– Так я и говорю: если предположить, что она не врет… Если, конечно, только предположить… То получается, что этим обратными билетом она послезавтра пользоваться не намерена.
– А вы, Минамото-сан, не усложняете все? – скептически поморщился Ивахара.
– Может быть, может быть… Только…
– Что «только»?
– Только смысла лгать не вижу в ее ситуации… Проще просто не сказать то, чего говорить не хочешь, – и все. Ложь ведь грузит больно… Помнить потом надо, чего врал. А для нее место новое, люди новые…
– То есть?…
– То есть билет туда и обратно, благо он в турпакет входит – недорогой, к слову, турпакет, – она, конечно, купила, но то ли заранее, то ли сегодня ночью, спонтанно, решила обратным билетом не пользоваться. Вот и все…
– А как же она обратно поедет? – Ивахара несколько заволновался, и мне в какой-то момент показалось, что майор действительно обеспокоен проблемой обратной транспортировки в Ниигату коварной загрязнительницы акватории нашего родимого Японского моря, которое вот уже который год неугомонные корейцы пытаются переименовать в абстрактное Восточное. Впрочем, беспокойство Ивахары могло быть и вполне искренним, потому как всякий русский на его территории – это лишняя головная боль, избавиться от которой при помощи таблетки пенталгина не получится.
– Ну как… Сядет через две недели на паром – и «ту-ту!»…
– А машина?
– И машина, естественно, «ту-ту!».
– По-вашему, Минамото-сан, Ирина эта не врет, а только недоговаривает, да? Как же тогда это вяжется с ее признанием в стесненных финансовых обстоятельствах?
– Вы имеете в виду покупку обратного билета?
– Ну да, конечно! У нее же турпакет, а из него, сами знаете, ничего не поменяешь и не перенесешь: фиксированные даты, фиксированные цены… Значит, ей придется один билет практически в туалет спустить, а потом новый за отдельную плату покупать. Так ведь?
– Получается так… – Мне пришлось с неохотой, но согласиться с примитивной и потому непререкаемой житейской логикой Ивахары. – Но опять же если только…
– Что «если только»?
– Если только она действительно в Ниигату собирается возвращаться. – У меня это дерзкое предположение выскочило совершенно непроизвольно – этаким русским Петрушкой из-за раешной ширмы, так что я даже сам удивился своей, с одной стороны, абсурдной, а с другой – очень даже и логичной мысли. Я копнул поглубже в своем подсознании в поисках источника этого нежданно-негаданно вырвавшегося на ментальную поверхность и в момент принявшего вербальные формы метеорита и осознал вдруг, что вылетел он не из недр моего профессионального дедуктивного аппарата, а из того сектора мозгов, где накапливаются, так сказать, «видеофайлы». У меня аж дыхание на мгновение сперло, как у той вороны-ротозейки, когда я вдруг понял, что это виртуальные прелести под тугими черными брюками и стянутые на не менее прелестном затылке в притягательный пучок роскошные волосы давешней Ирины выдавили из меня эту смелую гипотезу.
– Вы это серьезно? – покосился на меня Ивахара.
От необходимости либо бесстыдно лгать, либо смущенно краснеть меня спас телефон: плоский серый аппарат на столе майора застрекотал майской цикадой, и Ивахара перевел свой пытливый взгляд с меня на внезапно потребовавшее к себе внимания чудо японской техники, собранное, держу пари, в Малайзии или на Тайване.
– Да, – по-начальнически сурово буркнул в трубку Ивахара, но тут же осекся и поплыл маслом с медом. – А, Нисио-сан, приветствую! Да ничего, копаем помаленьку… Да, как раз сейчас у меня…
Я улыбнулся, обрадовавшись спасшему меня от погружения в пучину темных страстей и не менее темных мыслей звонку моего строгого полковника, и призывно протянул руку по направлению к Ивахаре.
– Алло, Такуя, это я. – Тон Нисио был достаточно игрив, но в то же время тверд, что обычно бывает с ним – вернее, с ними: и с Нисио, и с его тоном, когда полковника распирает от желания похохмить, но делать это в открытую не позволяют служебные обстоятельства.
– Да, Нисио-сан, слушаю!
– Ты там давай закругляйся и дуй в Читосэ! – тепло, по-отечески приказал мне Нисио. – Хватит с Ивахарой лясы точить! У него и без тебя дел выше крыши…
– Куда дуть? – Я сделал вид, что не расслышал с первого раза его наглого приказа.
– В Читосэ, в аэропорт.
– Час от часу не легче, Нисио-сан! Там что, в Читосэ? С самолета какой-нибудь мешок скинули?
– Ну да, на поле с картошкой, – засмеялся невидимый Нисио. – Всю картошку подавили… Бабы русские… Дуры!…
– А если серьезно, Нисио-сан?
– А если серьезно, то в 17.30 из Ниигаты прилетает капитан Мураками. Надо встретить…
– Какой такой Мураками? – Меня возмутил не сам факт приезда неизвестного мне младшего по званию, а то, что старый лис посылает именно меня, словно мальчика какого-то, как вон сидящего поодаль и слушающего нас с Ивахарой во все свои оттопыренные уши безмолвного Сому, встречать ниигатского гостя. У нас что, в управлении помоложе никого нет? – Почему мне-то надо ехать, Нисио-сан?
– Потому что у капитана будет для нас информация, Такуя, понял? – Старик посерьезнел. – И по дороге в Саппоро ты эту информацию с капитана получишь. А информация такая, Такуя, что получить ее надо нам как можно быстрее и как можно конфиденциальнее. Лишние уши в этом деле нам пока не нужны. Когда нужны будут, мы их, эти уши, привлечем, а пока, сам знаешь, меньше народу – кобыле дышать легче.
– Это что, по делу этой русской? – Я покосился на Ивахару: тот весь напрягся, едва услышал про «русскую» и про «это дело».
– Естественно, – буркнул Нисио. – Стал бы я тебя так просто по аэропортам гонять. Да и ниигатские ребята так, что ли, просто, ты думаешь, своих к нам командируют. В таком срочном порядке…
– Хорошо. – Я посмотрел на часы: было ровно три. – Сейчас поеду. Машину у Ивахары-сана можно попросить?
– Попроси, только на электричке быстрее будет, – ядовито съязвил Нисио.
– Туда-то да, – я сделал вид, что проглотил его колкость, – а вот обратно я этого вашего Мураками тоже на электричке повезу? Как же наше хоккайдское гостеприимство?
– Капитан не развалится. – Нисио опять повеселел. – Но впрочем, на машине, оно конечно, лучше. Гостеприимнее, по крайней мере…
– Куда мне Мураками-сан доставить? Сразу в управление? Или в гостиницу?
– С дороги лучше в гостиницу.
– Разумеется… В какую?
– Мы для Мураками-сан номер уже заказали… – Нисио сделал свою классическую педагогическую паузу, которую его подчиненным предполагается использовать для немедленной демонстрации своих провидческих способностей.
– В «Гранд-отеле»? – заполнил я эту уже столько лет знакомую мне брешь в хитроумном полковничьем дискурсе.
– Ну а где же еще… – хмыкнул Нисио, и из трубки понеслось мерзкое пунктирное пищание.
– Что такое? – взметнулся Ивахара, не дожидаясь, пока согретая его, моим и нисиовским дыханием трубка вернется на свое законное место. – Что-то новое по делу Катаямы-сан?
– Да, господин майор. – Я согласно кивнул в его адрес.
– Что, если не секрет? – В речи Ивахары смешались естественное профессиональное любопытство и понятное мужское нежелание связываться с роковыми русскими красавицами.
– Да я сам толком ничего не понял, Ивахара-сан. Нисио-сан сказал, что из Ниигаты к нам своего человечка послали. Надо в Читосэ ехать встречать. Какой-то капитан Мураками… Не знаете?
– Не слышал… Наверное, из молодых… Я давненько в Ниигате не был, – мечтательно вздохнул Ивахара, видимо припоминая свои многочисленные командировки из Токио в этот тоже достаточно беспокойный в «русском» плане порт на западном побережье Хонсю. – Сома-кун распорядится насчет машины для вас, Минамото-сан.
Скучавший до этого момента исполнительный Сома вскочил со своего стульчика и исчез за дверью.
– Минамото-сан… – Ивахара поднялся из кресла, – я вас попрошу поделиться со мной ниигатской информацией. Все-таки пока Катаяма-сан находится на моей территории…
– Конечно, Ивахара-сан, – успокоил я майора. – Хотя думаю, что терпеть вам ее у себя придется недолго. Скорее всего, если начальство потребует разработки, то вести мы ее будем уже в Саппоро.
– Да-да, но выезжать она будет опять через нас. А я не люблю неожиданностей…
– Понятно, но это еще нескоро будет, – улыбнулся я Ивахаре, последние слова которого – про неожиданность – вдруг наложились на приказ Нисио ехать в Читосэ, и я вспомнил, что по дороге надо заехать в какой-нибудь магазинчик, торгующий безделушками, и купить резиновые фекалии.
Дело в том, что сегодня исполняется три года с того дня, когда наши бестолковые лейтенанты Инагаки и Хасегава из китайского отдела попали в идиотскую ситуацию, сделавшую их посмешищем не только управления, но всей Японии, а мы с ребятами получили возможность весело отмечать в рамках управления ежегодный Праздник китайских испражнений. Случилось это все именно в связи с Читосэ: там один нахальный китаец, прибывший на Хоккайдо по стандартной шестимесячной стажерской визе, решил по истечении и стажировки в местном картофелеводческом кооперативе, и своей визы домой к себе в богом забытый Суйфэньхэ не возвращаться, а ничтоже сумняшеся устроился нелегалом в подсобное хозяйство читосэвского деда-рисовода, которому требовался физически сильный помощник. Деду нужен был покладистый и безропотный мужик, который за издевательские сто иен в час полол бы, сгибаясь в три погибели, его невеликую рисовую плантацию. Разумеется, раз дед платил китайцу гроши, то не от самой хорошей жизни тот ночами бомбил пустующие дома и офисы, унося из них беспечно оставленную хозяевами на самом виду наличность, а также легкопереносимую электронику, которую загонял по дешевке в читосэвские комиссионки. Местные ребята, обычно страдающие от безделья и безрыбья, поскольку город у них по-мещански благонамеренный и сонливый, на его след вышли всего за две недели и на очередном взломе помели его с поличным.
Поскольку дерзкий ворюга оказался не японцем, а китайцем, наше высокое начальство распорядилось перевезти его из Читосэ в Саппоро, чтобы разбираться с ним в главном управлении. Послали за ним как раз этих самых бедолаг – Инагаки и Хасегаву – молоденьких лейтенантиков, попавших к нам на службу почти сразу после окончания Токийского института иностранных языков. Гуманитариям у нас сейчас с работой по профилю не везет, даже если ты вполне прилично владеешь тем же самым китайским. Ребята слепыми котятами потыкались в университеты и фирмы, где им методично давали от ворот поворот, и от безысходности пошли на шестимесячные курсы офицеров полиции, куда попасть особого труда не составляет, ибо зарплаты у их выпускников такие, что даже не самые капризные и требовательные девушки с ними гулять отказываются. Благодаря своим светлым филологическим мозгам курсы они окончили успешно и распределились к нам в управление, благо с китайцами на Хоккайдо проблем из года в год все больше и больше становится, как, впрочем, и по всей Японии. Учитывая их сугубо гуманитарные наклонности и тщедушное телосложение, начальство серьезной работой их не баловало. Два года они дисциплинированно просидели на письменных переводах тоскливых протоколов и скучнейших справок, и вот аккурат три года назад им было поручено первое, на их взгляд, настоящее задание: конвоировать на расстояние аж в сорок километров, разделяющее Читосэ, где расположен главный саппоровский аэропорт, и собственно Саппоро, коварнейшего китайского вора-рецидивиста, к их глубокому сожалению невооруженного, но по-прежнему опасного, да еще и с просроченной визой. Исполнительные Инагаки и Хасегава сели в служебную «тойоту» и отправились в Читосэ. Добраться туда можно двумя основными путями: прямиком по скоростной магистрали или по шоссе № 36, с той лишь разницей, что за скоростную надо платить семьсот пятьдесят иен в один конец, а по 36-й дороге едешь бесплатно, расплачиваясь, впрочем, за эту халяву бесконечным стоянием на бесчисленных светофорах. Денег на скоростную ребятам в бухгалтерии не дали: дело, сказали, несрочное, да и велика честь для какого-то там китайца ехать по нашему родимому Хоккайдо с ветерком и шиком за счет средств японских налогоплательщиков. Короче, поехали лейтенантики по Зб-й забесплатно и, соответственно, без ветерка, хотя, справедливости ради, стоял октябрь уж на дворе и не самые теплые ветра дули уже в полный рост.
В городском управлении Читосэ им под расписку выдали нагло поправшего благородные законы и незыблемые традиции великой Японии гражданина КНР с невыговариваемой фамилией и еще менее выговариваемым именем. Они на всякий случай нацепили на него наручники – руки, правда, за спину заводить не стали, чтобы сидеть ему было удобнее, затолкали его на заднее сиденье своей черно-белой «тойоты», Инагаки плюхнулся рядом, а Хасегава, соответственно, взялся за руль. Тут-то и начался весь этот, как сказал бы Ганин, «советский цирк глазами зарубежных гостей», обеспечивший сочным фактическим материалом нашу обширную управленческую мифологию. Едва они выехали за пределы Читосэ, китаец попросился по большой нужде. Ребят подвело их знание китайского языка: окажись на их месте кто другой, ну, скажем, элементарные опера, которые и по-японски-то не ахти – какой уж там китайский! – ничего этого бы и не случилось. Помычали бы опера чего-нибудь, закурили по очередной – и все. Но, как назло, гуманитарно подкованные на свои яйцеобразные головы лейтенантики по-китайски понимали, причем понимали неплохо – в столице все-таки обучались, куда операм до них! Китаец же до ветра попросился именно на своем родном языке, потому как за неполные девять месяцев хоккайдской стажировки и безвизовой каторги у немногословного деда-плантатора по-японски он говорить не научился: стажерские лекции и практические занятия по выращиванию картофеля в условиях регионов с холодным климатом у него через переводчика проходили, а дед-рабовладелец был беззубым и шамкал невесть чего, так что его при последующих допросах наши мужики тоже не с первого раза понимали.
По инструкции, раз километраж конвоирования не превышает пятидесяти километров, выпускать арестованного в туалет не полагается, и дисциплинированные Инагаки с Хасегавой эту инструкцию нарушать не осмелились. Китайцу было велено потерпеть до Саппоро, но тот терпеть отказался и после десяти минут безуспешных переговоров с суровыми и неподатливыми конвоирами взял и в самом что ни на есть прямом смысле бесстрашно наложил в штаны. Само собой, вонь в салоне поднялась неслыханная, тем более что, как потом выяснилось, последние двое суток в читосэвском изоляторе китайца потчевали исключительно тушеными бобами с чесноком и мерзкой солдатской тушенкой, состоявшей по больше части из желтого жира. Тут эти два эстета не выдержали: Хасегава остановил машину, и Инагаки пересел с заднего сиденья на переднее, оставив в нарушение всех и всяческих инструкций китайца одного, да еще оба умника решили открыть в машине все четыре окна, потому как им, видите ли, неприятно было вдыхать миазмы, извергнутые чревом и прямой кишкой бесстыжего воришки. На ближайшем же светофоре китаец, явно не испытывавший особых неудобств в своих внезапно отяжелевших штанах, изловчился и эфемерной рыбкой выпорхнул из окна. В мгновение ока он просочился сквозь два ряда застывших в ожидании вожделенного зеленого света разномастных автомобилей, юркнул в придорожный лесок и был таков. Лейтенантики сообразили, что произошло, только спустя пару секунд, и пока они подтягивали к верхним челюстям синхронно отпавшие нижние, бесстрастный светофор дал всем страждущим и алчущим зеленый. Так что тут эти филологи недорезанные совсем растерялись: служебный долг требовал от них бросить машину и мчаться по следам отважного беглеца, тем более что преследовать его по запаху можно было безо всякой собаки, но обрушившийся на них со всех сторон шквал гудков и клаксонов заставил машинально врубить первую, проехать перекресток и, только отмахав положенные тридцать метров, встать слева на обочине. Еще полминуты ушло у бестолковых Инагаки и Хасегавы на размахивание руками перед лавиной машин, которые, несмотря на их правоохранительную форму, останавливаться перед ними отказывались. Короче говоря, пока они проделывали все эти бессознательные фокусы в стиле великого советского иллюзиониста Игоря Кио, батрачившего несколько летних сезонов на одну полумафиозную организацию в курортном Дзёзанкей под Саппоро (это отдельная песня – спою ее как-нибудь потом), расторопного и небрезгливого китайца и след, и дух простыл, так как погода в тот последний сентябрьский денечек, как я уже сказал, была ветреная.
Взяли китайца только через три дня: надо сказать, что китайцам и корейцам с монголами скрываться в Японии от стражей порядка, от нас то есть, гораздо проще, чем, например, русским или американцам. У последних в буквальном смысле на морде написано, кто они такие, – с их белыми, по-лошадиному вытянутыми физиономиями и русыми волосами на улице не покажешься. Что же до китайцев и корейцев, то есть у нас такие якобы прозорливые японцы, которые бьют себя кулаками в чахлую грудь, рвут на этой же невзрачной (даже у женщин) груди последнюю рубаху и кричат во весь голос, что они на раз в толпе азиата-неяпонца вычислят и что, дескать, «враг не пройдет» ни под каким видом. Но нам, в управлении, по роду деятельности приходилось как-то проверять такие самоуверенные заявления экспериментальным путем, и, как эти опыты показали, ни о каком стопроцентном вычислении китайца среди монолитной японской телесной массы речь идти не может. От силы в половине случаев участникам этих расистских экспериментов удавалось угадать в группах из двух-трех десятков своих сограждан по лазутчику-китайцу, на роль которых приглашались проживающие в Саппоро на законных основаниях аспиранты и стажеры из Поднебесной. Так что за беглым китайцем пришлось поохотиться: повязали его в поезде, на котором он преспокойно ехал из Хакодатэ в Саппоро, по его словам, в надежде улететь из Читосэ на чартерном рейсе в Шанхай. Как он собирался это сделать, было не очень понятно. При себе он имел только пятнадцать тысяч иен, украденных из кассы дежурного магазинчика на окраине того же Хакодатэ, куда он на перекладных добрался после побега, а на себе – свистнутые с балкона первого этажа жилого дома в Эниве – городке на полпути от Читосэ до Саппоро – женские джинсы, которые беспечная хозяйка опрометчиво вывесила сушиться после фундаментальной стирки. Потом, в ходе следственного эксперимента, он привел наших оперативников на место своего переодевания в небольшом парке в Эниве, и они длинными каминными щипцами укладывали его все еще благоухающие брюки и исподнее в прозрачные пакеты для мусора…
Так или иначе, но благодаря утонченным эстетам Инагаки и Хасегаве наше управление получило возможность каждый год, 30 сентября, оттягиваться по полной программе. Вот и сегодня, в течение всего дня, с утра до вечера, оба бедолаги заняты исключительно тем, что убирают со своих столов горки резиновых и пластиковых, но весьма натуральных и выразительных спиральных пирамидок, кстати, китайского производства, которые каждый из нас считает за честь покупать заранее в магазинчиках, где торгуют всякой развлекательной дребеденью для праздников и вечеринок. Начальство нас в этом начинании поддержало, и каждый из полковников ежечасно дергает к себе Инагаки и Хасегаву, освобождая их столы для подбрасывания очередной кучки китайского дерьма. Ребята дуются, конечно, тем более что история эта, спасибо всеядным телевизионщикам, прогремела по всей стране, но сделать ничего не могут. По-человечески их, конечно, жалко: после такого позора им капитанских званий ждать в два раза дольше положенного, но, в конце концов, эти чистюли-белоручки сами виноваты. Работа наша такая, что, не замаравшись в дерьме или, по крайней мере, им не надышавшись, никаких достижений по службе не добьешься.
Когда я вышел во двор отарского управления, у входной лестницы меня уже дожидалась цивильная «тойота-краун», к удивлению моему очень даже приличная и как-то не вязавшаяся со скромными интерьерами местного заведения, а подле нее стоял все тот же Сома с дощечкой в руках, поверх которой на зажиме белела стандартная справка, требующая моей собственноручной подписи или именной печати. Я шлепнул свою печать в трех положенных местах, попрощался с Сомой и покатил по направлению к скоростной. Правда, на скоростную я выехал не сразу: пришлось сделать небольшой крюк, заехать в требуемую лавку и купить пару пирамидок фекалий. Я рассчитал, что Мураками я смогу доставить в отель к семи, а Инагаки с Хасегавой будут торчать в управлении где-нибудь до девяти. Так что я оставлял за собой реальную возможность подкинуть им к вечеру свою порцию столь ненавистных для них испражнений.
Как только две резиновые, вполне натуральные, кучки китайского дерьма были закуплены, я с чистой совестью въехал на хайвей и безжалостно погнал не самый дешевый «краун» по направлению к Читосэ.
Глава 3
Что моментально нагнало на меня сон: мерное, убаюкивающее подрагивание роскошного «крауна» на стыках бетонных плит, которыми вымощено скоростное шоссе, или продолжение утренней затуманенности – сказать было трудно. Дурацкой привычки петь за рулем у меня никогда не было и нет до сих пор (впрочем, кто его знает, чего еще выкинет мой непредсказуемый организм поближе к неминуемой старости); радио слушать ненавижу – что хорошего может сказать радио вообще и японское в частности; мини-дисков с моими любимыми песнями в казенном «крауне» почему-то не оказалось, и в борьбе с обволакивающим сознание липким сном мне пришлось туго. Больше восьмидесяти километров в час я предусмотрительно выжимать не стал и все свои ослабевшие под натиском Морфея силы со ступни правой ноги перенес на шейные мышцы и позвонки, поскольку на них только и оставалось надеяться моей тяжелой, дурной голове, неумолимо склонявшейся к послушному рулю каждые две минуты. В борьбе со сном я попытался даже малость пофилософствовать на тему сегодняшнего своего неожиданного рандеву с прекрасной русской незнакомкой (а что, в сущности, я узнал о ней такого, что могло бы позволить мне считать своей знакомой?), но как только пришел к выводу, что меня сейчас тянет не столько спать, сколько – в постель, испугался этой откровенно похотливой мысли и автоматически по-кошачьи помахал у себя за левым ухом рукой, гоня прочь дьявольский искус.
Чем ближе я подъезжал к Саппоро, тем невыносимее становился трафик, и когда я въехал на территорию города, обе полосы не самого, кстати сказать, широкого в Японии хайвея оказались забиты четырехколесными жителями непритязательных предместий, возмечтавшими поскорее, до вечернего часа пик, прибыть к обеденным столам и манящим – опять-таки – постелям. И в своих традиционных для нас, японцев, наивности и суетливости они, сами того не желая, запрудили автостраду до практически пробочного состояния за целых полтора часа до того, как этим самым пробкам положено образовываться. После Саппоро назойливый рой разнокалиберных автомобилей стал постепенно рассасываться, и к Читосэ я подъезжал уже на нормальной мужской скорости, разогнав вокруг себя докучливых попутчиков и сонные тучи. И едва я сошел со скоростной, как вдруг физически ощутил полный отлив сна. То ли это, подобно мине замедленного действия, сработал ивахаровский кофе, то ли впереди ждали занятные приключения, которые пока еще не были постижимы моему разуму, но уже ощущались моей необычайно чувствительной сегодня, несмотря на понедельник, плотью.
Почти все саппоровцы автоматически считают аэропорт Читосэ новым. Собственно, и в официальном названии его это прилагательное фигурирует самым непосредственным образом: аэропорт Новый Читосэ. Но когда несколько лет назад дорогое моему сердцу здание старого аэропорта, где было испытано немало острых и почти всегда приятных ощущений, в одну прекрасную ночь исчезло с лица земли, всем вновь прибывающим на Хоккайдо стало вдруг непонятно, почему это, собственно, он «новый» и почему его нельзя считать просто «аэропортом»? Конечно, здание его, шикарной полураспрямленной подковой раскинувшееся на огромном поле под Читосэ между романтической грядой вечно туманных гор и блеклым, невыразительным берегом Тихого океана, старым никак не назовешь: тонированное стекло, никелированный металл, мягкие ковры – все, как в лучших домах Токио и Осаки. Но таких «новых» аэропортов по всему миру теперь сотни, так что мне лично не по нраву этот наш местечковый патриотизм – дешевый и невразумительный.
Я припарковал казенный «краун» на бескрайней аэро-портовской стоянке в начале шестого и не спеша пошел по длинной стеклянной трубе коридора на первый этаж в сектор прилета. Когда я ступил на тот самый мягкий, одновременно упруго и податливо прогибающийся под ногами серый палас, я вдруг сообразил, что имею сейчас перед собой задачку с двумя неизвестными. Первое неизвестное – это название авиакомпании, которой капитан Мураками имеет честь прибыть к нам на драгоценную хоккайдскую землю. Слева от меня был восточный сектор, куда доставляла своих пассажиров компания ANA, то бишь «Всеяпонские авиалинии», а справа, в западном, кучкуются пассажиры JAL – «Японских авиалиний», и JAS – «Японской авиасистемы», которых мой впечатлительный друг Ганин называет «системными». Все бы ничего, только расстояние между этими секторами составляло добрых семьсот метров, преодолевать которые семенящей рысцой туда и обратно в поисках если не радости, то хотя бы капитана Мураками мне представлялось не слишком солидным для майора полиции.
А вторым неизвестным являлся сам капитан Мураками, о котором мне лаконичный Нисио ничего рассказать не соизволил. Видимо, предполагалось, что я с ним уже знаком, но сколько я ни рылся в полутемных загашниках своей бездонной памяти, никакого капитана Мураками ни из Ниигаты, ни с Хонсю вообще припомнить не мог. У нас, на Хоккайдо, в Вакканае служит один Мураками, кстати с очень неплохим русским языком, но он пока лейтенант. Еще, помнится, в Хакодатэ есть Мураками, кажется, именно капитан, но с русскими делами он не связан: занимается экономическими преступлениями.
В общем, выходов из сложившейся ситуации было несколько, самым простым представлялось позвонить по мобильному Нисио и в течение тридцати секунд получить исчерпывающие ответы на оба вопроса – как о номере рейса и названии авиакомпании, так и о внешности этого самого Мураками. Можно было и не опускаться до унизительного звонка начальству, а элементарно подойти к стойке информации, заглянуть в приторные шоколадные глазки острозу-бенькой девчушки в дурацкой розовой шляпке с обернутой мерзкой зеленой лентой тульей и попросить ее дать после семнадцати тридцати объявление по громкой связи, что-де майор Минамото ожидает капитана Мураками под тремя белыми березами, что благополучно произрастают в зале вылета на втором этаже с того самого момента, как аэропорт Новый Читосэ был сдан в эксплуатацию.
Но я, разумеется, пошел третьим путем – славным, боевым путем гордого, независимого самурая. Ни звонить Нисио, ни флиртовать с девушками из справочного бюро я из принципа не стал, а взял бразды правления сложившейся ситуацией в свои руки и с ходу разрешил первую проблему. Десяти секунд мне хватило, чтобы изучить ультрамариновые дисплеи информационных мониторов и выяснить, что из Ниигаты в семнадцать тридцать прилетает только рейс компании ANA. Имея в запасе пятнадцать минут, я демонстративно не спеша повлекся навстречу солнцу, то есть строго на восток.
Как я буду вычислять капитана Мураками, особенно если он прилетит в штатском, что, впрочем, сделал бы на его месте любой здравомыслящий офицер полиции (про спесивых рядовых и кичливых сержантов не скажу), включая меня самого, я даже подумать толком не успел. Не успел потому, что среди немногочисленных встречающих я увидел своего бесценного друга Ганина. О том, что он будет сегодня в Читосэ, он мне ничего не говорил, но обидеться на его скрытность я тоже не успел, так как рядом с Ганиным я уже разглядел европейского вида женщину, с которой словоохотливый сэнсэй имел удовольствие о чем-то непринужденно беседовать.
Внешность ганинской дамы заставила меня остановиться, подать вправо и опуститься на кресло в зоне для курения, чтобы белесая стена тошнотворного дыма прикрыла меня от глазастого Ганина и дала мне возможность, во-первых, без спешки подумать, как мне себя вести дальше, и, во-вторых, повнимательнее разглядеть ганинскую спутницу. Уже через секунду я поймал себя на мысли, вернее, на чувстве, что второе для меня сейчас куда важнее первого. В памяти блеснула отарская Ирина Катаяма, и все последующее разглядывание мягко улыбающейся в ответ, держу пари, на бесконечные ганинские хохмы и прибаутки примечательной европеянки обернулось техническим практикумом в прикладной компаративистике, где, правда, вместо двух литературных шедевров за объект исследования брались два шедевра российской природы.
Ей было далеко за сорок, скорее почти «полтинник», хотя на фоне моложавого для своих сорока, как он сам любит талдычить, «со многими лишними» Ганина она выглядела даже моложе сэнсэя, который, по моему глубокому убеждению, живя здесь, в Японии, стареет значительно медленнее своих соотечественников. Макияжа, судя по дистанцированному взгляду, наложено даже меньше, чем можно было бы, – в противовес сегодняшней отарской Ирине. Значит, дама эта не так вульгарна, но зато в сексапильности они, пожалуй, равны. Там – туго обтягивающие аппетитные молодые бедра брюки, здесь – прямая, простая, но показательно на пять сантиметров выше колен строгая юбка, а сверху – классический приталенный пиджак, чуть подчеркивающий наличие груди, но не выставляющий ее на всеобщее обозрение, поскольку, понятное дело, в таком возрасте далеко не всегда бывает, что выставлять, тем более на всеобщее обозрение. Именно так одеваются нынешние русские бизнес-леди, нахватавшиеся от своих американских предшественниц не только способностей выпекать в неделю по миллиону, как они их теперь там называют, «баксов», но и привычки одеваться подчеркнуто по-деловому и одновременно весьма сексуально. В довершение ко всему на ее изящных ножках наблюдались, естественно, не светлые, а черные, полупрозрачные колготки (мне, впрочем, тут же непреодолимо захотелось, чтобы это были не колготки, а чулки на кружевном поясе), что, как известно всем нормальным мужикам, также является условным сигналом к полной готовности женщины на рискованное, но сладостное минутное приключение.
Особенно меня порадовали в ее облике волосы. Нет, не то что они у нее густые и черные – у моей Дзюнко и почернее, и погуще будут, да и сама она у меня помоложе. Меня глубоко удовлетворила ее стрижка, она вселила в меня умиротворяющее чувство гармонии и вкуса. Конечно, у давешней Ирины волосы намного длиннее, что, по международным мужским сексуальным меркам, гораздо притягательнее. Но чем старше женщина, тем короче она должна стричься, – это мое глубокое убеждение, и думаю, что уже до конца своей физической жизни я с этой точки зрения не сойду. Дело тут не в самих волосах, а в сочетании длины волос с женскими глазами.
Вы когда-нибудь сравнивали глаза молоденькой девушки и опытной дамы, как принято выражаться в литературных салонах, «бальзаковского возраста»? Соль девичьих глаз (не слез, а именно глаз!) – в их открытости, невинности и простоте, в отсутствии цинизма и скептицизма. И к этому романтическому по идейной сути своей взгляду как нельзя лучше подходят распущенные по плечам воздушные длинные волосы, за которыми поминутно застенчиво прячется эта глазастая девичья невинность. У видавшей виды дамы глаза другие. Не уверен, что все они источают мудрость, но уж расчета и цинизма в них всегда хоть отбавляй. Такая дама смотрит на тебя не пугливо, как неопытная восемнадцатилетняя девочка, которую смущает уже одно только осознание твоей принадлежности к иному полу, а в зависимости от степени стервозности характера – как львица или волчица, но в любом случае – как агрессор, готовый покусать тебя острыми клыками ехидства и иронии. И к этим созревшим для сексуальной самостоятельности очам, на мой просвещенный взгляд, длинные волосы никак не подходят. Если у сорокапятилетней дамы длинные, распущенные волосы, значит, она откровенно распутна и чувства меры в физиологических проявлениях своих чувств обычно не знает. Короткая же стрижка вносит в облик зрелой дамы покой и гармонию: общаясь с ней, можно с одинаковым интересом думать о реальной полноте ее бедер и зада, предусмотрительно укрытых полами длинного пиджака, и говорить, скажем, о последней версии какой-нибудь крутой бухгалтерской компьютерной программы, позволяющей ее компании экономить в месяц до десяти тысяч все тех же злополучных «баксов».
Если бы не объявление невидимой малахольной девицы о благополучном приземлении рейса из Ниигаты, я бы еще с удовольствием подышал тяжелым сигаретным дымом и поразглядывал очаровательную ганинскую визави, но проклятая работа заставила меня второй раз за сегодняшний день, скрепя сердце и скрипя поясницей, подняться и сделать шаг навстречу идеалу.
– Привет, Ганин! – выстрелил я в широкую спину сэнсэя. – Как Лариса твоя? Онигирей налепила?
– О, Такуя! – Ганин неподдельно удивился, что с ним, завзятым лицедеем, случается крайне редко. – Ты как здесь?
– Да вот дела… – Я покосился на ганинскую даму.
– Да! – спохватился Ганин. – Вы случайно незнакомы?
– Не имел чести. – Я покрутил головой.
– Ну как же? – вдруг неожиданно хриплым голосом, вслед за черными колготками довершающим формирование ее сексапильного образа, воскликнула женщина. – Вы же Минамото-сан, да?
– Минамото, – согласился я с ней автоматически, пытаясь прийти в себя от внезапного шока.
– Вы меня не помните? – Она впилась в меня своими глубокими, оказавшимися темно-синими глазами.
– Признаться, нет… – В моем мозгу, как в вокзальном автомате с расписанием пригородных электричек и поездов дальнего следования, стремительно листались жестяные файлы со всеми моими знакомыми русскими женщинами в возрасте выше сорока, но нужная страница все так и не отыскивалась.
– Я Наташа, – укоризненно покачала она головой.
– Очень приятно, – брякнул я ни к селу ни к городу. Еще бы она была не Наташей! У этих русских куда ни плюнь, попадешь или в Иру, или в Наташу…
– Я жена Хидео Китадзимы, – пояснила новоявленная Наташа. – Не помните?
– Хидео Китадзима?… – Имя с фамилией были мне знакомы, но в какой связи и где я их слышал, я вспомнить не мог. Более того, процесс вспоминания о том, кто такой этот Китадзима и зачем он вообще – Китадзима, тут же заглох, перекрытый внезапным осознанием того, что во второй раз за сегодняшний день я общаюсь не просто с симпатичной русской женщиной, но – опять же с законной супругой гражданина Японии. Неудивительно, что меня уже который час тянет в постель…
– Да, Китадзима, – кивнула Наташа несколько разочарованно, видя полное отсутствие с моей стороны каких-либо признаков прозрения и озарения.
– Извините, а что он, ваш муж?… – заплетающимся языком начал я. – Он что?…
– Хи? Ну как же! – Она то ли всплеснула руками, то ли повела плечами – я точно не понял, потому что вынужден был вступить в неравный поединок с накатившей опять сонливостью.
– Как же… – эхом отозвался я.
– Хи у вашего отца защищался. Вы разве не помните?
– У моего отца? – Вон оно что! Значит, этот Хи-кун – из отцовских аспирантов. Ну тогда, конечно, все выстраивается в логически стройную систему: аспирант-русист, тяга ко всему русскому, в том числе и к русским женщинам – тем более к таким вот…
– Да. В восемьдесят пятом, – Наташа все еще разочарованно смотрела на меня. – В Токио.
– Простите, Наташа, но у отца было столько аспирантов… Всех не упомнишь… Тем более почти двадцать лет назад…
– Да нет, Минамото-сан, ничего… – Она мило улыбнулась. – Просто мы с Хидео много раз в гостях у вашего папы были, пока в Токио жили. И как-то раз вас случайно у него видели. Он вас нам представил…
– Да-да, что-то такое было… – соврал я. – И как ваш супруг сейчас? Вы, значит, теперь в Саппоро?
– Мы в Саппоро уже давно, больше десяти лет, – пояснила более чем приятная Наташа.
– Китадзима-сэнсэй, Такуя, работает в университете Хоккайдо. – Ганин наконец-то дождался своего шанса вставить лыко в строку. – На филологическом. А Наташа преподает русский в педагогическом университете.
– Да, в педагогическом, – покорно согласилась Наташа. – А вы, если мне не изменяет память, в полиции служите?
– Да, в полиции, – кивнул я в ее направлении. – Майор полиции Хоккайдо, прошу любить и жаловать.
– Да-да, Ганин часто вас упоминает в своих историях. – Наташа не без удовольствия оскалила ровные белые зубы в адрес известного трепача и логореика Ганина.
– Только вот встречаться вам не доводилось, – пояснил Ганин. – Вообще для Саппоро это странно…
– Что странно, Ганин? – поинтересовался я.
– Да Саппоро – город маленький, и ты, Такуя, через меня со многими русскими знаком, а вот с Наташей как-то до сих пор не складывалось. Это и странно…
– Ну ничего, – продолжала улыбаться Наташа, – зато теперь сложилось.
– А вы вообще здесь чего? – спросил я их обоих.
– Да у Наташи в университете конференция по славистике с завтрашнего дня, – отозвался Ганин. – Российская делегация сейчас из Ниигаты прилетит. Восемь человек. Наташа меня и попросила помочь встретить и до Саппоро довезти. Двумя машинами мы их как раз спокойненько и вывезем.
– Что ж вам университет автобус не выделил? – умышленно наклонился я к Наташе, чтобы распознать, какими духами она пользуется, загадав заранее, что, если это будет резкий и пряный «Пуазон», мое мнение о ней – пока весьма высокое – все-таки изменится, причем не в лучшую сторону.
– У нас университет бедный, педагогический… – вздохнула она, опять то ли развела руками, то ли повела плечами, и я почувствовал едва уловимый аромат дорогих и модных среди эстеток «Кензо». – Автобусы дали для американцев и европейцев. А россиян у нас не балуют.
– Понятно, – сказал я чистую правду. – В принципе я тоже гостя Хоккайдо встречаю, только одного, а не восьмерых. Из той же Ниигаты. Так что если вам гостей в центр надо доставить, могу пару заодно подбросить. Они у вас где жить будут? В какой гостинице?
– В «Альфе», – сказала Наташа.
– Ого! А говорите университет бедный! – Выбор отеля для участников конференции в заштатном провинциальном «педе» меня удивил: «Альфа» – высоченный суперсовременный отель у парка Накадзима в центре Саппоро с роскошным видом на парк и на город.
– Да, гостиницу дали неплохую. – Наташа взглянула на часы на табло: было тридцать пять минут шестого, но за стеклянными дверями в секторе прилета было все еще пусто. – Я на минутку…
Она направилась в сторону ближайшего туалета, давая нам с Ганиным возможность оценить стройность ног и бедер и, наоборот, оставляя в приятном неведении по вопросу размеров и форм находящихся над ними не менее филейных частей.
– Ты кого встречаешь-то? – пристально глядя вслед удаляющимся точеным икрам, обтянутым призывным черным эластиком, дежурно-протокольным тоном промычал Ганин.
– Да коллега должен из Ниигаты подъехать, – глядя не на Ганина, а в том же направлении, куда смотрел и он, ответил я.
– Понятно… – бросил Ганин, встряхнулся и несколько оживился, едва «object of beauty» скрылся в туалетном проходе.
– Сколько ей, Ганин? – поинтересовался я.
– А сколько дашь? – еще более оживился сэнсэй.
– Наша ровесница? Сорок семь – сорок восемь?
– Пятьдесят три не хочешь?! – радостно прокричал мне шепотом на ухо растревоженный Ганин.
– Сколько?!
– Говорят тебе: пятьдесят три! А так не дашь, да?
– Да, Ганин… И так не дашь, и этак не дашь… – Информация эта меня действительно несколько ошеломила, я понял, что надо срочно менять тему, так как продолжения данной я уже просто не выдержу. – Слушай, Ганин, а чего это ее гости из Ниигаты летят?
– А что тебя не устраивает, Такуя?
– Ну, обычно все русские ученые из Москвы через Токио летят, а потом уже или из Нариты прямиком сюда, или из Ханеды.
– А-а, вон что!… – Ганин задумался.
В это время вернулась Наташа Китадзима, с которой, как оказалось, я знаком уже почти два десятка пламенных лет. Губы ее алели чуть сильнее, чем минуту назад, «Кензо» можно было почувствовать уже без деланных наклонов к ее плечам, а в густо-синих глазах постепенно разгорался, как называют это огненное состояние в любимой моим грамотным папашей и его аспирантами русской классике, «раж». Увидев это в принципе здоровое и вполне вяжущееся с голыми коленками и деловой короткой стрижкой чувство в ее глазах, я тем не менее из сугубо профессиональной привычки перестал думать о том, колготки на ней или чулки на подвязках. Помада, добавка «Кензо», блеск в глазах – все слишком хорошо знакомо, чтобы пускать это дело на самотек.
– Наташ, а чего это твои гости из Ниигаты летят? – перебежал мне дорогу Ганин.
– То есть почему не из Токио? – глядя не на Ганина, а на пустой зал за стеклянными дверями, откликнулась Наташа.
– Да, почему не из Нариты или из Ханеды? – без особого пристрастия продолжил допрос Ганин.
– Да там у них в группе москвичей только двое, – сухо пояснила она. – Остальные из Новосибирска, Иркутска и Хабаровска. Вот они и решили собраться в Хабаровске и лететь оттуда в Ниигату. По времени то же самое, что через Москву, но по деньгам дешевле.
– А что, универ твой им дорогу не оплачивает, что ли? – обиженным тоном квасного патриота, живущего уже который год на японские иены, спросил лицемер Ганин.
– Денег нет… – протянула Наташа и тут же едва уловимо встрепенулась, поскольку в зал прилета посыпались первые пассажиры.
– Что, знакомые какие-нибудь ваши будут? – наконец-то подошла и моя очередь для более важного вопроса.
– Да, будут… – Говорить она со мной была теперь не расположена, несмотря на то что мы знакомы почти тысячу лет. Глаза ее скользили по захватанному детскими и старческими пальцами за долгий понедельник стеклу, и по всему было видно, что мы с Ганиным для нее сейчас уже чистая обуза.
Мне тоже пора было окончательно освобождаться от неотступных мыслей о постели как в прямом, так и переносном смысле, прекратить рисовать в воображении причудливые узоры тонкого черного нижнего белья, из-под которого зазывающе белеет все еще гладкое и тугое, несмотря ни на какие там пятьдесят три, тело, и прикинуть, как побыстрее вычислить в хлынувшей из наконец-то разъехавшихся прозрачных дверей толпы своего долгожданного капитана.
Едва я собрался с асексуальными мыслями и встал могучим волнорезом, рассекающим суетливый поток разнокалиберного народца, вытекающий из сумрачного чрева сектора прилета, как в нагрудном кармане рубашки все той же зловредной цикадой заверещал мой сотовый.
– Слушаю! – поднес я мобильник к своему всеслышащему уху, оставляя в параллельной работе свои всевидящие очи.
– Минамото-сан? – раздался из трубки женский голос.
– Минамото, – согласился я с невидимкой.
– Руку поднимите, пожалуйста! – полупросящим-полуприказным тоном потребовала трубка.
– Чего?… – опешил я.
– Руку поднимите, пожалуйста!
– Какую руку? Кто это?! – Левой рукой я продолжал прижимать телефон к уху, а правую на всякий случай запихнул в карман брюк.
– А-а, все, спасибо! Уже не надо!… – прокричала трубка и тут же замолчала.
Я автоматически нажал на кнопку подтверждения отключения связи, чтобы не переплачивать и без того изрядно сосущей нашу финансовую кровь мобильной компании «До-Ко-Мо», и в это время почувствовал, как кто-то тянет меня за рукав.
Я обернулся, но никого не увидел – толпа обтекала меня с обеих сторон, оставляя у меня за спиной лишь небольшое пустое пространство. И вдруг из этого пространства, откуда-то снизу, раздался тот же «телефонный» женский голос:
– Минамото-сан?
Я посмотрел вниз: за рукав меня держала страшненькая то ли женщина, то ли девушка – особь абсолютно неопределенного и, по моему опыту, неопределяемого возраста. Рост – как сказал бы остряк Ганин (куда он, кстати, подевался со своей «бальзаковской» героиней бесконечной «Человеческой комедии»?) – метр с кепкой, только вместо кепки копна выкрашенных в каштановый цвет, плохо остриженных волос, а под ними – цепкие, острыми буравчиками сверлящие меня глазки.
– Минамото-сан? – требовательно повторила свой вопрос коротышка. – Да?
– Минамото… Но не «сан»… – добавил я ни к селу, ни к какому другому населенному пункту одну из любимых ганинских шуток.
– Тогда «сама»? – продолжила сверлить меня пронзительным взором таинственная незнакомка.
– «Сама» – это вы, насколько я понимаю, – опять неуклюже попытался схохмить я. – А я, скорее, «сам»…
– Я не «сама», – отрезала женщина-девушка. – Я – Мураками.
– Кто? – Я, что называется, ушам своим не поверил, хотя они у меня еще и не такое слышали.
– Мураками, – проверещала она.
– Мураками?… – Я все еще продолжал надеяться, что это ошибка или недоразумение.
– Капитан Мураками Аюми, полицейское управление префектуры Ниигаты, международный отдел, русский сектор. – Пулеметный темп, с которым было выстрелено в меня это признание, развеял последние сомнения, а заодно и надежды.
– А-а, так это вы Мураками? – Я наконец пришел в себя от легкого шока.
– Я, – удивленно ответила она. – А что? Не похожа?
– Да нет… Я просто не ожидал, что вы жен… девушка…
– Ах вон что!… – разочарованно произнесла она. – Ну извините. Мужчин Мураками у нас в секторе нет. Так что по поводу нашей заблудшей овцы сюда, к вам на Хоккайдо, меня прислали.
– Овцы? – От того же Ганина я такие шутки сразу воспринимаю надлежащим образом, но от провинциального капитана, точнее – капитанши, слышать подобную культурологическую эквилибристику было для меня делом абсолютно новым.
– Овцы, да, – подтвердила суровая Аюми Мураками серьезность своих намерений.
– Значит, Ирина Катаяма у вас проходит как овца? – улыбнулся я. – И вы к нам на нее охотиться приехали?
– Если бы… – вздохнула Аюми. – Давайте я вам все по дороге изложу. Вы, кстати, меня извините за то, что я вам на сотовый позвонила, но у меня другого выхода не было…
– Номер вам начальство мое дало?
– Его мне дало мое начальство, а оно, как я полагаю, получило его от вашего.
– Ничего-ничего, я не в обиде.
– Да понимаете, все так внезапно получилось, и я только когда в самолет села, поняла вдруг, что вас в лицо не знаю и что у меня здесь, в Читосэ, проблемы с вами… вернее, с опознанием вас будут.
– А сотовый, значит, помог? – не без лукавства поинтересовался я. – А руку-то я так и не поднял.
– Да, сотовый помог. – Она проглотила колкость про руку на зависть спокойно. – Я, знаете, решила начальству лишними звонками не докучать. Решила сама вас здесь отыскать…
– Своими, значит, силами? – Эта ее самонадеянность, вызвавшая в памяти мои собственные, совсем недавние аналогичные искания и треволнения, мне очень понравилась. От Мураками исходили какие-то пока непонятные мне флюиды, которые создавали вокруг нее весьма приятную ауру, невзирая ни на карликовый рост, ни на страшненькое личико, ни на колючие глазки.
– Да, своими. Они пока есть… – Она тряхнула бесформенным и, как мне показалось, остриженным тоже своими собственными силами, причем не самыми острыми ножницами, скальпом и вновь исчезла из поля моего зрения, наклонившись совсем уже к полу.
– Давайте мне! – Я протянул руку к небольшому и нетяжелому баульчику, за которым она нагнулась.
– Мы на автобусе или на поезде? – поинтересовалась она, без лишних этикетных словес протягивая мне сумку, так, словно она была не Аюми Мураками, а сегодняшней Ириной Катаямой или Наташей Китадзимой, то есть так, как отдают свой багаж воспитанным джентльменам прекрасные и уверенные в себе леди.
– На машине, разумеется. – Я указал рукой в сторону центрального выхода. – Сейчас только с приятелем попрощаюсь…
Вообще-то Ганин меня не интересовал: зачем он мне здесь и сейчас? И так видимся через день… Куда интереснее, для кого это припомаживалась и душилась не увядшая в отличие от миллионов своих соотечественниц к началу шестого десятка прекрасная Наталья – моя старинная знакомая еще по далеким токийским временам.
Далеко они не ушли: в десяти метрах от нас говорун Ганин колдовал около багажной тележки, закрепляя на ней чемоданы и здоровенные дорожные сумки, и параллельно что-то задорно заливал пяти одинаково полным, но не лишенным приятности русским дамам и трем не столь схожим меж собой русским мужикам. Один из них был совсем дряхлым стариком, и мне почему-то очень захотелось, чтобы он оказался специалистом по какому-нибудь там Сумарокову или Тредиаковскому, особенно в связи с тем, что сегодня с утра наш Хоккайдо вдруг стал для меня «островом любви». Второй, несомненно, принадлежал к категории так называемых «пыльных» мужичков, внешний вид которых принципиально не содержит в себе ничего примечательного и притягивающего если не женскую руку, то хотя бы детский взгляд. Эти персонажи чрезвычайно близким нашим «пыльным» японским мужичонкам, с их тщедушными, до срока иссохшими телами и априори нездоровым духом, а также отталкивающим запахом, поскольку почти все они курят и при этом мылом и зубной пастой брезгуют.
Третий же выделялся из этой традиционной русской филологической братии, знакомой мне с голубенького, в синий горошек детства, как экстерьером, так и статью. Он был высок, пожалуй, даже на пару сантиметров повыше нас с Ганиным, хотя мы оба под метр восемьдесят. Броский серый пиджак, строгие черные брюки, серо-алый галстук, такие же, как у Ганина, одновременно ироничные и мудрые серые глаза, густые, красиво подстриженные русые волосы. Единственное, что не шло ему, на мой строгий взгляд завзятого эстета и прожженного маньериста, так это модная нынче узкая оправа из тонкого серого металла: она, как мне показалась, значительно уменьшала его привлекательные глаза и, более того, даже частично их скрывала. В остальном мужик выглядел безупречно, что, впрочем, нетрудно было делать на фоне остальных семи бедолаг, перебивающихся там, в России, на десяти работах и сорока подработках и ждущих от чужого дяди манны небесной – в данном случае японской, – потому как их собственные дяди заняты не столько проблемами поэтики Тютчева и идеологии Достоевского, сколько вопросами купли-продажи всего того, что не имеющие в своих душах ничего святого соотечественники Ганина еще не купили или не продали.
Наташа Китадзима стояла рядом с этим третьим мужчиной, и на протяжении той минуты, что я разглядывал всю эту живописную компанию, он дважды весьма изящно и ненавязчиво в процессе общей беседы клал свою правую руку на ее стройную – по крайней мере, под пиджаком – талию. Наташа сдержанно улыбалась, говорила, обращаясь ко всем, хотя как мне, так и стреляющему по ним обоим своими пронзительными пепельными глазами Ганину было теперь понятно, во имя кого была и помада, и «Кензо» с подвязками. Обвинять Наташу Китадзиму, тем более что мы с ней, как вдруг выяснилось, давние приятели, в ее чувствах и симпатиях было грешно: будь я на ее месте, я сделал бы такой же выбор. Ганин – тоже, конечно, парень видный, но уж больно нервный, как с ним Саша живет столько лет – ума не приложу. А женщине в Наташином возрасте нужен не пацан-сорванец, который в один прекрасный день сыщет на свои беспокойные ягодицы очередное приключение и оставит своих малолетних детишек неприкаянными сиротами, а прекрасную суженую – безутешной вдовой. Ей нужен такой вот солидный столп цивилизованного общества – как светского, так и дамского, на который можно опереться не только в прямом, но и в переносном смысле. «За пятьдесят» – это для женщины тот возраст, когда лощеность и холеность мужика становятся для нее главнее, чем его жизнерадостность и безудержность. Попрыгунчики и хохотунчики хороши тогда, когда все впереди, когда терять еще нечего, потому что пока просто нет ничего, не скажу – в душе, но за душой точно ничего нет. А когда уже есть что терять, тогда вся эта жизнерадостная трескотня начинает пугать, особенно разумных женщин, рассчитывающих отведенные им земные годы так, чтобы именно в этот период своей жизни обрести покой и стабильность. А какую стабильность от нас с Ганиным наши Дзюнко с Сашей имеют?… Так, видимость одна…
Я подошел поближе. Гости по очереди представились, и оказалось, что Наташину радость зовут Олегом Валерьевичем (что все-таки за дурацкая привычка у русских при представлении не называть фамилию! Что мне с их отчеством делать?!) и что он преподает сравнительное литературоведение в славном РГГУ. Понятное дело, на сэнсэйскую зарплату, пусть даже и на эргэгэушную, ни такого пиджака, ни таких очков себе не справишь. Значит, без вопросов ясно, что человек регулярно выезжает и во время этих выездов зарабатывает себе и на пиджаки с очками, и, видимо, все на тот же «Кензо», потому как соответствующего кольца на безымянном пальце как правой, так и левой руки у товарища не наблюдается. Остается только поинтересоваться, что себе думает беспечный Хидео Китадзима – и думает ли вообще.
После двухминутной беседы мы распрощались: Ганин и мужики покатили груженные поклажей тележки к лифту, женщины потопали за ними налегке, а мы с капитаншей Мураками пошли к стоянке пешком. Напоследок я не удержался, чтобы не взглянуть на Наташу, загадав, однако, что если в тот момент, как я посмотрю ей вслед, у нее на талии будет лежать рука Олега Валерьевича, то я должен буду сделать все, чтобы сразу же по окончании этой их дурацкой конференции духу его на нашем Хоккайдо не было бы никогда.
Я скосил глаза вслед уплывающим русским уточкам: талия Наташи была, слава богу, свободна, а объект моей дуэльной ненависти спокойно катил перед собой тележку обеими руками и о чем-то – видимо, о сугубо компаративистском – беседовал с толкавшим параллельно другую тележку Ганиным. Я окинул критическим взором гигантские по японским меркам зады иркутско-новосибирских филоло-гинь, в последний раз – за сегодняшний день, разумеется, – полюбовался на их русско-японскую антиподшу с оригинальным и неповторимым именем и вернулся и мыслями, и телом к несколько затосковавший от моего демонстративно формального к ней внимания Аюми Мураками.
– Ну, рассказывайте, Мураками-сан, с чем прибыли? – обратился я к ниигатскому капитану, едва воткнул ключ в замок зажигания пижонского «крауна».
– Шикарно вы здесь, на Хоккайдо, ездите! – демонстративно не заметила мой вопрос Мураками.
– Да вы не думайте, что мы все на таких вот «тойотах» тут гоняем, – успокоил я ее, слегка задетый ее невниманием. – Это только для таких гостей, как вы…
– Чем же я так отличилась? – хихикнула явно не страдающая отсутствием юмора Аюми.
– А вот об этом я как раз вас и спрашиваю, – повторил я свой заход, одновременно расплачиваясь на выезде со стоянки. – Хотелось бы узнать именно об этом…
– До города далеко? – Она вновь проигнорировала мой неусыпный интерес.
– Сорок километров. – Я вырулил на дорогу к скоростной. – А до вашей гостиницы все пятьдесят.
– Это дело на вас? – Мураками скосила на меня свои колючие глазки. – Да?
– «Это» дело? – Я прикинулся… тьфу ты, опять забыл кем… вернее, чем… Как там Ганин учит: кабелем? трубой? тросом?
– Да, «это» дело, – серьезно произнесла она. – Дело Ирины Катаямы, которая сегодня утром прибыла к вам в Отару. Вы ведь знаете такую? Вас ведь не зря Такуя зовут?
– Вы где так словами жонглировать научились? – без всякого лицемерия поинтересовался я у нее. Недавний пируэт с овцой меня очень даже порадовал.
– Ну уж, понятное дело, не в полицейской академии… – громко хмыкнула она.
– А чем вам академия наша не угодила? – слегка обиделся я за свою альма-матер.
– Я в токийской академии не училась, – отрезала Аюми. – Только курсы шестимесячные в Осаке прошла.
– Значит, университет у вас по другой специальности?
– Русская литература, – сказала она.
– Чувствуется. Та же Осака?
– Токио.
– Университет?
– Иностранных языков.
– А-а… Вон что! – Ну надо же сколько за один день совпадений! – Такие товарищи, как Инагаки и Хасегава, не с вами учились?
– Двумя курсами ниже, – ответила она и расплылась в широкой улыбке, обнажив мелкие острые зубки, удивительно гармонично сочетающиеся с такими же малюсенькими глазками.
– Значит, знаете их? – Я притормозил на въезде на хайвей, чтобы получить из автомата проездной талон.
– Да, я им подарочки везу! – Продолжая лукаво улыбаться, она повернулась и взглядом указала мне на свой баульчик, который я положил на заднее сиденье.
– Да? Правда? А я им тоже подарочки купил! – радостно сообщил я ей, и мы дружно рассмеялись, без слов поняв, что подарочки эти у нас у обоих идентичные.
Под колесами нашего фешенебельного «крауна» зашелестел бетон, и автомобиль бесстрашно врезался в беспроглядный мрак прохладного октябрьского вечера, рассекая его своим длинным серебристым телом и острыми золотыми лучами мощных фар.
– Так вы что, ради поздравлений Инагаки с Хасегавой приехали? – Я попытался вернуть разговор из ассенизационного в профессиональное русло. – Или все-таки не только ради этого?
– Разумеется, не только. – Мураками перестала смеяться.
– Так что?…
– Вы эту Ирину допрашивали? – Из полумрака салона на меня посмотрели два белых колечка с черными серединками.
– Не допрашивал, а беседовал с ней. – Я решил с самого начала правильно расставлять все акценты и ударения.
– Да, конечно, беседовали…
– Именно беседовал.
– И как она вам?
– Вы знаете, – осекся я, – Мураками-сан, там, в аэропорту, мой друг Ганин был. Вот ему пристало мне такие вопросы задавать. А вам… Как-то, знаете…
– А чем вам мой вопрос не понравился, Минамото-сан? – Железная Аюми, судя по всему, относилась к разряду тех женщин в брюках, которые уверены в том, что раз они именно в штанах, а не в юбках, им трава не расти и море по колено…
– Ну она же объективно привлекательная девушка…
– Женщина, – въедливо поправила меня Мураками.
– Что «женщина»? – недопонял я.
– Она же замужем! – пояснила строгая капитанша.
– А-а, вы в этом смысле…
– А в каком еще смысле может быть «женщина»? – Она опять направила на меня свои жемчужные колечки.
– Да ни в каком! – Мне надоела эта словесная перепалка. – Пусть будет по-вашему: женщина.
– Так оно лучше, – брякнула она и отвернулась. Судя по всем этим лингвистическим ужимкам и прыжкам и несмотря на соответствующий капитанскому чину возраст (если она на два года старше наших «китайских» чистоплюев, значит, ей за тридцать), она в своей довольно-таки логичной системе дефлорационных координат все еще относила себя к категории девушек.
– Недоговаривает она, конечно, много… – начал я.
– Недоговаривает? – Аюми опять повернулась ко мне.
– Ну, например, у нее билет на паром и на нее, и на машину туда и обратно, причем обратно – уже в среду.
– Да, это мы знаем, – почти шепотом произнесла Мураками. – И что она здесь недоговаривает?
– А то, что билет у нее обратный на среду, а мне она побожилась, что в Саппоро пробудет две недели.
– А вот это уже новость… – задумчиво отреагировала на мое сообщение железная капитанша.
– Если она не врет, разумеется, – попытался успокоить ее я. – Хотя я чувствую, что не врет.
– Жить она будет в «Гранд-отеле»?
– Да, там же, где и вы, – ответил я.
– Броня есть?
– На вас? Какой вопрос?! – возмутился я.
– Спасибо… – Она опять перешла на бурчание. – На нее, конечно! На нее броня есть? Вы проверяли?
– Я лично нет, но ребята должны были проверить. Если бы брони не было, я бы уже знал.
– Понятно! Это уже Саппоро? – Она постучала костяшками тонких, детских пальчиков по своему окну, за которым радостной радугой разливался разноцветный неон игротек и дискотек.
– Нет, это пока Энива, – ответил я.
– Вы про мужа у нее что-нибудь спрашивали? – Мой ответ ее явно разочаровал.
– Спрашивал.
– И что она?
– Формально – ничего. Обычная японская жена.
– Что значит «обычная японская жена»? – Этот ее вопрос еще более утвердил меня в мысли о том, что к категории «женщин» Мураками-сан, точнее тогда – Мураками-чан, не относится.
– То, что у мужа – бизнес, он кормилец, и где он деньги берет, чтобы ей на прокорм давать, ее не интересует.
– Понятно.
– А мне нет. – Пора было кончать этот цирк.
– Что вам непонятно? – поинтересовалась она.
– Давайте-ка, господин капитан, кончайте темнить – за вас это вон природа успешно делает. – Я мотнул подбородком в сторону вечной тьмы по левую от нас сторону. – Расскажите-ка мне лучше, что вы знаете о ее муже и что вообще вся эта история с рулоном якобы мусора может значить. А то мы все про Инагаки с Хасегавой да их сортирное приключение… Дело прошлое, а Ирина наша – самая что ни на есть настоящая…
– Хорошо, – неожиданно покорно согласилась она. – Я вам все в общих чертах расскажу, и вы, если что уточнить захотите, спрашивайте, пожалуйста, потому как я чувствую, что нам вместе поработать все-таки придется. Понятно?
– Чего ж не понять! Я сам во всем ясность предпочитаю… – негромко признался я.
– Ну вот и славно… Значит, Ирина эта появилась на нашем горизонте в девяносто восьмом.
– Они так давно женаты? – удивился я.
– Нет, поженились они в двухтысячном. А в девяносто восьмом ее нынешний муж Катаяма Ато в первый раз привез ее с Сахалина в Ниигату как гостью. То есть по гостевой визе.
– На три месяца, значит?
– Правильно, на три месяца. Собственно, поэтому мы с ней и познакомились.
– Почему «поэтому»?
– Виза у нее была на три месяца – до конца августа. Мы тогда про нее слыхом не слыхивали, а тут в октябре уже звонок из иммиграционной службы: так, мол, и так, по нашей линии гражданка Российской Федерации Ирина Петренко…
– Петренко?
– Да, ее девичья фамилия Петренко.
– Украинка? – Я поспешил проявить соответствующие этнолого-лингвистические познания.
– Да нет, она русская. У них там, знаете, в советское время намешалось всего… У них там и какой-нибудь Георгадзе – русский, и Иванов – якут… Короче говоря, она, конечно, русская…
– Ну пускай будет русская, – согласился я и восстановил в своем воображении облик сегодняшней дневной красавицы, которая, как оказалась, до перехода в муракамовскую категорию «женщин» носила банальнейшую украинскую фамилию. Осталось только у Ганина узнать девичью фамилию сексапильной Наташи Китадзимы… Не дай бог, какая-нибудь Горшкова или Пирожкова окажется!…
– Так вот… Иммиграция нам звонит и говорит, что эта самая Петренко до сих пор пределы Японии не покинула.
– Такое вот начало было, да?
– Да. Мы ее, конечно, разыскали быстро: она и не думала прятаться, просто жила у этого Катаямы…
– Как женщина? – не удержался и съязвил я.
– Разумеется. Вы же ее видели! – не в бровь, а в глаз выстрелила рассудительная Аюми.
– Видел-видел… – Я не стал признаваться проницательной капитанше, что продолжаю видеть эту Ирину именно в этот самый момент.
– И Катаяме завидуете?
– А то… – каламбурно вздохнул я.
– Да, его именно Ато и зовут, – бесстрастным эхом отреагировала на мою хохму Мураками. – Вот. Скандала не было. Он за нее заплатил по суду положенный штраф, она уехала к себе на Сахалин, а ваш этот самый Ато зачастил туда же. По десять – двенадцать раз в год туда плавал.
– У него автомобильный бизнес. Чего в этом странного? – Я скромно попытался защитить от агрессивных нападок противоположного пола неведомого мне торговца подержанными «тачками».
– Ничего странного… – согласилась со мной Мураками. – Тем более вы же ее видели…
– И? – Я кивнул вперед, где за лобовым стеклом сплошная тьма стала постепенно разбавляться радужным молоком большого города. – Саппоро вон уже…
– Так вот, у них этот… Как это обычно принято называть, «роман», что ли?…
– Роман – можно. Или повесть. У кого как, Мураками-сан, – улыбнулся я. – На худой, извините опять же за каламбур, конец, может быть и скромный рассказ, в духе, скажем, Антона Чехова… Большой, кстати, был специалист по, как вы их называете, «женщинам»!…
– Чехов – отличный писатель! – Она достойно выдержала удар, – Значит, будет «роман»…
– И что их роман?
– Закрутилось все, завертелось, и два года назад он ее снова по гостевой визе выписал…
– На три месяца опять?
– Формально – да. Наша иммиграция больше не разрешает. У нас же с ними до сих пор мирного договора нет…
– Я в курсе, Мураками-сан. – Мне ужасно захотелось обращаться к ней не с официальным «сан», а с детским и дружески теплым «чан», потому что, несмотря на то, что брюки на ней были не в пример Ирининым широченными, а ноги под ними – короткими и кривыми, она мне начинала определенно нравиться: не как «женщина», конечно, но как рассудительный и проницательный партнер.
– Короче, они расписались и стали мужем и женой.
– Где расписались? В нашем ЗАГСе?
– Нет, у вас в Саппоро, в российском генконсульстве.
– Что, сюда специально прилетали?
– Не прилетали, а так же, как она сегодня, приплывали. Точно так же, как туристы, с машиной…
– Проверим, – пробормотал я.
– Да мы уже давно проверили… – хмыкнула умненькая Аюми. – Консульство по телефону подтвердило. Осталось только получить бумаги. Вернее, копии бумаг.
– Зачем? – Затем, Минамото-сан, зачем я здесь…
– А зачем вы здесь? – Я решил вернуть ее к началу нашего разговора, поскольку впереди замаячил наш съезд со скоростной в центр Саппоро, где Мураками-чан ждал уютный номер в не менее престижном, чем мой казенный «краун», «Гранд-отеле».
– Затем, что Ато Катаяма пропал, – рубанула она.
– Как – пропал? – с наигранным безразличием поинтересовался я.
– Его нет нигде.
– Нигде?
– Ни дома, ни на работе.
– Иммиграцию беспокоили?
– Конечно. Ни через один из погранпунктов Японии он не проходил.
– Родственники?
– Родственники есть. И в Ниигате, и в Токио, и еще много где. Он сам вообще-то из Аомори…
– И что они?
– Ни у кого из них его нет. Всех обзвонили. – Она сокрушенно покачала своей бесформенной головой.
– Когда поиски начали? Сегодня?
– Официально сегодня, разумеется, после сигнала из Отару. Но до этого были и другие сигналы – от соседей, родни опять же…
– Что за сигналы?
– Они где-то уже больше года скандалят постоянно.
– Родственники?
– Нет, Ирина с Ато.
– Раз сигналы от соседей, значит, скандалят громко?
– Да, женщина эта – сильная и дерзкая, в отличие от наших женщин терпеть несправедливость или даже насилие со стороны мужчины она не будет.
– А со стороны мужа?
– В данном случае муж и мужчина – один и тот же человек, – железным феминистическим тоном констатировала она.
– Вы уверены, Мураками-сан?
– Уверена, – нетвердым голосом пролепетала она. – А что, у вас есть какая-то другая информация?
– Да нет у меня никакой информации – ни той, ни другой, ни третьей, – успокоил я ее. – Это у вас вон сколько этой самой информации! А у меня – одни только наблюдения…
– Тоже вещь необходимая…
– Да, но менее полезная в нашей работе…
– Так вы считаете, что у нее есть любовник? – За окнами уже вовсю сияли саппоровские улицы, и теперь умненькие, проницательные глазенки ниигатской капитанши уже не выглядели белыми колечками, а стреляли в меня своими черными блестящими зрачками.
– Я считаю?! – взорвался я. – Да я ее сегодня первый раз в жизни увидел! Это вы из Ниигаты! Это вы ее там пасли! Вот вам и считать! Что вы меня-то спрашиваете?
– У нас давно такое подозрение есть, но никогда ни с каким другим мужчиной мы ее не видели.
– «Наружка» была за ней?
– Бог с вами, какая «наружка»! – всплеснула она руками. – На ней же нет ничего! Ни один начальник приказа на «наружку» не отдаст.
– Как же вы?…
– Да вот так, в свободное от работы время… – не дала она договорить мне. – Создали группу и по очереди пасли… Не постоянно, конечно, но по нескольку часов в сутки… Как сверхурочные…
– И?
– Ничего, вернее, никого! Только скандалы с Ато…
– А из-за чего скандалы?
– Кричали они друг на друга громко, так что соседи слышали все эти их пререкания прекрасно…
– Что же они слышали?
– Да много чего, но все всегда сводилось к одному: она отказывалась быть его женщиной.
– В прямом смысле?
– Да, в прямом, в физическом. Скандалы обычно начинались поздно вечером, то есть когда… – Она стыдливо замялась.
– То есть когда порядочной японской жене положено быть женщиной, да? – довысказал я за нее очевидную вещь.
– Да… – Она согласилась с моей трактовкой событий. – А Ирина, судя по показаниям соседей, эту обязанность выполнять отказывалась.
– А как она причину объясняла?
– Ну орала она на него по-русски, в японском она не очень, все-таки только два года здесь… Он тоже ей по-русски отвечал, по-другому она бы не поняла… У него, кстати, неплохой русский, практически свободный…
– Как же вы там в их скандалах разбирались?
– Как, как! Меня в основном вечерами слушать посылали, с телескопическим микрофоном часами в машине торчала. Я все-таки два года в Москве, в РГГУ, в аспирантуре отучилась, перед полицейскими курсами. – Она тяжело вздохнула. – А у ребят у всех семьи, им вечерами домой надо было…
– И что же вы там наслушали?
– Термины в основном зоологические были. И еще немножко анатомических…
– Зоологические – это «козел», да?
– Конечно, на что русские еще способны! Он почти всегда был у нее козлом и бегемотом… Он полный довольно… А она у него сукой и змеей – тут тоже выбор небогатый…
– Про анатомию рассказывать будете? – не без ехидства поинтересовался я.
– Ну, у нее претензии к размеру были… – усмехнулась она, – и скорости процесса…
– Что, медленно все у них происходило, что ли?
– Да нет, она его как раз в обратном обвиняла…
– А к ней у него что было в этом плане?
– А он кричал, что ее, кроме денег и секса, ничего не интересует, поэтому гнездышко у нее открыто не только для его птички, а для всех желающих…
– Так что, версия с любовником действительно имеет место быть? Этот Ато что-то знает про нее? И про него тоже?
– Его не спросишь пока, его нет нигде, – напомнила мне Мураками. – А что до любовника, то если предположить, что эта Ирина сбросила в море труп своего мужа, а как я вам уже сказала, он у нее мужчина довольно крупный…
– И у нее при этом имеются претензии к размеру? – усмехнулся я. – Не вяжется что-то…
– То получается, что, – она спокойно проглотила мою анатомическую ремарку, – чтобы плотно упаковать тело и погрузить его в багажник, ей нужен был помощник…
– Логично, все логично, если только…
– Что «если»?
– Если вы правы и в море она действительно сбросила мужа… Как мы с вами это докажем, если она сама во всем не признается? Что мы ей конкретно можем предъявить?
– Ничего… – опустошенно констатировала Мураками. – То, что его нет нигде, безусловно еще не доказывает, что она его убила, вывезла из Ниигаты и скинула в море.
– Не доказывает, Мураками-сан, – согласился я. – И вообще нечего нам пока так привязываться к версии убийства. Я чувствую, что она весьма непродуктивная.
– Я за ней, Минамото-сан, год хожу! Понимаете? Год! И я знаю, на что она способна!
– Да откуда вы знаете, на что она может быть способна? – Я попытался урезонить начавшую было расходиться не на шутку капитаншу. – Все, что у вас есть, как я понимаю, в чистом виде «бытовуха», из которой серьезного дела не сошьешь.
– Надо сшить! – Аюми рубанула перед собой воздух ребром маленькой, детской ладошки, которую меня неудержно потянуло по-дружески пожать.
Глава 4
Мы расстались с решительной и беспощадной Мураками возле регистрационной стойки «Гранд-отеля», предварительно наведя справки у приклеившегося к потертому плюшевому креслу в гостиничном лобби и пугливо прятавшегося за замусоленной газетой невзрачного сержанта из нашей «наружки» об Ирине Катаяме, которая, как оказалось, прибыла незадолго до нас и заселилась в номер 816. Бойкая Аюми получила у администратора ключ от номера 812 с брелком в виде гигантской, размером с ее кулачок, деревянной груши, демонстративно не пожелавшей влезать в карман разухабистых темно-коричневых штанов – видимо, единственного вида верхней одежды, способного надежно прикрывать ее короткие и корявые нижние конечности. Я же не стал делать никаких попыток сопроводить самостоятельную даму из Ниигаты до номера, так как, во-вторых, баульчик ее особой тяжестью не отличался, а во-первых, исходящие от капитанши агрессивные феминистические флюиды подсказывали мне, что в моей физической помощи, как и в любой другой, она не нуждается. Она сказала, что через сорок минут подойдет в управление, чтобы «поздравить» своих младших университетских товарищей с «пахучей годовщиной», я же, оставив «краун» на гостиничной стоянке, потопал прямиком на работу, поскольку идти было всего два квартала.
Было уже почти семь, но управление все еще копошилось и шевелилось огромным муравейником. Я иногда, когда мозги мои не загружены иной, более интеллектуальной работой, задумываюсь (мой друг Ганин не преминул бы выразиться поизящнее: «Иногда я часто думаю…»), что было бы, если бы вся эта возня за столами и беготня по этажам на пару часов замерла, если, скажем, в семь часов понедельничного вечера здесь никого бы уже не было, как, например, в окружающих здание управления компаниях, фирмах и учреждениях. Земля перестала бы крутиться или нет – если не вокруг монументального Солнца, то по крайней мере вокруг своей осиной оси? Тот же Ганин в случае таких вот моих виртуальных изысканий, которыми я имею глупость с ним время от времени делиться, всегда вспоминает-напевает дурацкую советскую песенку, где лирический герой – самоуверенный эгоцентрист и самовлюбленный пижон без страха и упрека – заливается: «А без меня, а без меня река бы току не давала» и что-то в таком же оптимистическом духе, включая наглый рефрен, что все вообще бы здесь рухнуло, «когда бы не было меня», то бишь его, золотого-бриллиантового. Ганину особенно нравятся в этой картине слова о том, что «без меня», то есть без него, «здесь ничего бы не стояло». Но при этом записной скабрезник Ганин уверяет, что вообще-то как раз эти слова «здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня» должна петь женщина, а не мужчина, потому как если их, как и всю эту песнь песней, поет мужик, то это не про него, Ганина – гетеросексуала по природе и мачо по натуре, и он разделять авторскую позицию в данном вопросе не намерен ни под каким идейно-эстетическим соусом.
Ну да бог с ними – и с рекой, то дающей, то не дающей (ток, я имею в виду), и с физиологом Ганиным, вопрошающим: «Кто он такой, этот Ток?» У меня же всегда на душе становится как-то неуютно и прохладно, стоит мне представить наши комнаты, коридоры и лифты пустыми и спокойными. Если все это шуршание и шелестение прекратится, то, я уверен, если небо и не рухнет на землю, то трава уж точно расти не будет и, следовательно, коню не на чем будет валяться. Нам, на Хоккайдо, конечно, полегче сейчас, чем токийским или осакским ребятам, крутящимся безумными белками в ненавистных колесах за ту же зарплату. Хотя остров у нас огромный – все-таки второй после Хонсю, народишку здесь проживает всего пять миллионов, и это из почти ста тридцати всего японского населения. Более того, чуть меньше половины хоккайдцев кучкуются в Саппоро и налипших на него где-то доброкачественными, где-то злокачественными опухолями пригородах, как вон та же сегодняшняя сонная Энива, соединяющая Саппоро с Читосэ, но сама по себе никакой ценности не представляющая.
Когда десять лет назад лопнул-хлопнул мыльный пузырь нашей хваленой экономики, экологически и демографически везучие хоккайдцы сильно пострадали финансово. Остров еще с 1860-х, когда сюда с юга прибыли первые колонизационные отряды, был для остальной Японии страшно тяжелой бюджетной обузой. Но до начала 1990-х деньги из Токио исправно вбухивались в так называемое «освоение» Хоккайдо огромные. Можно сказать, что весь трудолюбивый Хонсю пыхтел-потел над изготовлением лучших в мире машин, станков и телевизоров только для того, чтобы любимый Хоккайдо спал спокойно, и видел сны, и зеленел по весне, и золотел по осени.
А теперь весь этот парадиз закончился: уже который год Токио скуп на дотации; что ни день, то разоряется десяток-другой хоккайдских компаний, живших до этого исключительно на донорские подачки с Хонсю; народ беднеет на глазах, и многим становится страшновато за свое будущее – как в криминальном, так и в финансовом плане. В криминальном – преступность растет как снежный ком, катящийся под воздействием неумолимой Ньютоновой силы по склону нашей главной хоккайдской достопримечательности – спящего вулкана Сёвасиндзан, близнеца Фудзиямы. Когда нашим согражданам не надо было беспокоиться о завтрашнем дне, все чинно улыбались, кланялись и бросали окурки в урны. Теперь же не до точности попадания окурками в эти самые урны, которых вдобавок почему-то стало намного меньше. Теперь народец, которому по-прежнему хочется не просто кушать, но кушать сытно и вкусно, и которому глубоко безразлично, чего такого «мыльного» лопнуло в нашей экономике, ворует все подряд. Кражи и вооруженные налеты на дежурные магазинчики и банковские автоматы участились до такой степени, что начальству пришлось создавать круглосуточный штаб по контролю над ростом уличного бандитизма. Причем ладно это безмозглая молодежь забавлялась бы – побалуются ребятки пяток лет, потом столько же отсидят и в конце концов угомонятся и шелковыми будут – хоть пояса для кимоно из них шей. Ан нет, и сорока-, и пятидесятилетние мужики, потерявшие работу, а вместе с ней любовь и уважение своих домашних, напяливают на свои глупые физиономии хирургические марлевые маски или те же черные ажурные чулки, зажимают в нетвердом кулаке мясницкий нож или китайский пластмассовый муляж пистолета и идут выбивать из тщедушных ночных продавщиц круглосуточных магазинов несущественную мелочь.
Действительно, магазинные кражи и даже взломы банковских автоматов особых барышей не приносят, да и разыскать этих незадачливых «десперадо» особого труда для нас не составляет: везде же видеокамеры установлены, да еще и по нескольку штук, так что марля и колготки спасают их далеко не всегда. Надежнее и во сто крат прибыльнее спокойненько укокошить кормильца или кормилицу ради получения страховки. В лучшие годы страховые компании, специализирующиеся на так называемом «страховании жизни», у нас процветали: оставаясь по сути своей вампирами-кровососами, они, выпендриваясь друг перед другом, устанавливали высоченные потолки страховок на случай, скажем, «досрочного ухода из жизни» – предлагали по тридцать-пятьдесят миллионов иен, то есть до полумиллиона долларов. И раньше это для них было абсолютно безопасно, потому как эффективная, по самоуверенным, точнее – самоуспокаивающим, утверждениям наших бесчисленных премьеров, экономика обеспечивала народу сытую и размеренную жизнь, «досрочно» расставаться с которой как-то никому не хотелось, так что все эти бессчетные миллионы оставались на бумаге и в карманах дракул-страховщиков.
Но те сладкие времена ушли – ох как не хочется говорить: безвозвратно! – и нынче многие местные женушки смотрят на своих мужей как на источник дохода в прямом, физическом смысле. Беззаботный Ганин все время шутит по этому поводу: дескать, «могу продать свое здоровье, но лучше мужнино продать». Вот они и продают то, что продать «лучше»: в дело идут и мышьяк, и стрихнин – росла бы у нас цикута, и цикуту бы использовали… Вся эта женская любовь в момент улетучивается, стоит главе семейства потерять работу и перестать приносить домой в клювике. И где те пуленепробиваемые клятвы у наших синтоистских и буддистских аналоев в любви и покорности?! Обещанная «любовь до гроба» им, гробом, и заканчивается. Доказать же то, что любезная супруга помогла своему не менее любезному мужу, как Ганин обожает выражаться, «сыграть в телевизор» (потому что практически каждый такой случай потом неделями мусолят охочие до чужой крови телевизионщики, невольно давая полезные инструкции будущим мужеубийцам), для нас из года в год становится все труднее и труднее. А если мы всем управлением будем дружно, подобно миллионам наших цивильных, но, как я только что заметил, не всегда цивилизованных сограждан, ровно в шесть оставлять рабочие места и покидать свой муравейник, солнца и светила точно остановятся, и нас всех спалит тогда жестокий и беспощадный «жар тела».
Первым делом я заглянул в китайский отдел: столы Ина-гаки и Хасегавы пустовали, на них ничего примечательного, кроме банальных компьютеров и стопок бумаг, не было, и я поспешил под всеобщее хихиканье выложить коричневое содержимое своего отарского пакетика. Затем я прошел к себе, отзвонил Ивахаре и сказал ему, что, если завтра от них кто-нибудь по делам – или без дела, такое у нас иногда бывает – будет в Саппоро, он сможет забрать «краун» на «гранд-отельской парковке». После этого я подошел к Нисио: старик с кем-то разговаривал по телефону, хитрые глаза его источали елей, а из мудрых уст вытекал мед комплиментов и традиционных шуточек. Полковник кивнул мне на кресло перед столом, и не успел я усесться в него, как он уже осторожно уложил трубку на аппарат и пристально посмотрел на меня:
– Ну как тебе, Такуя, капитан Мураками?
– Да ничего, Нисио-сан. – Меня голыми руками не возьмешь и палец мне в рот не положишь. – Нормальный мужик…
– Да? – спокойно переспросил давно привыкший к достойному отпору с моей стороны Нисио.
– Да, думаю, сработаемся, – продолжил я в том же ключе. – Проблем не предвижу…
– А что, ты полагаешь, работа все-таки будет?
– У них в Ниигате, как она… он мне сказал, есть подозрения, что во взаимоотношениях этой Ирины со своим мужем не все в порядке. Поэтому понял, к сигналу о свертке они отнеслись более чем серьезно. Так что по крайней мере пару дней потрудимся.
– А что она… он про этого ее Катаяму говорит? – Нисио ничтоже сумняшеся подхватил навязанные мною правила игры.
– Автомобильный делец, возит наши старые машины на Сахалин, там продает, имеет навар…
– Обычное, значит, дело?
– Обычное.
– К чему можно прицепиться?
– Только к обратному билету.
– Как она сама объясняет эту неувязку? – Тут Нисио неожиданно промахнулся в нашем взаимном пикировании.
– Он или она? – Я не собирался прекращать, как это называет Ганин, «стебать» полковника.
– Ирина, – опять достойно проглотил мою эскападу Нисио и вернулся в начальное русло.
– Я ее пока этим вопросом не порадовал.
– Когда ты это сделаешь?
– Не решил еще. Посмотрим, что она будет сегодня вечером делать. Не может же такая женщина в одиночку проводить понедельничный вечер, тем более в большом городе.
– Полагаешь, будут контакты?
– Чувствую…
– Хорошо. Я побуду тут до девяти, потом поеду домой, – кашлянул Нисио. – У тебя какие планы?
– Подожду тоже пару часов. Мураками должна… должен подойти. Он, оказывается…
Сообщить Нисио о том, что Аюми училась в одном университете с нашими утонченными юбилярами Инагаки и Хасегавой, я не успел: как это обычно бывает, на самом интересном месте в разговор вмешался мой сотовый, из которого раздался уже слышанный недавно вопрос:
– Минамото-сан?
– Что, руку поднять, Мураками-сан?
– Смотря на кого, – без промедления парировала мой ехидный выпад невидимая Аюми.
– Ну за этим в нашей работе дело не станет…
– Минамото-сан, если вас не затруднит, подойдите, пожалуйста, в гостиницу, – вполне серьезным и даже, как мне показалось, встревоженным тоном попросила Мураками.
– Что-нибудь случилось?
– Ничего фатального, но у нашей с вами подопечной свидание в лобби… Она сейчас встречается…
– Бегу! – Зачем мне все эти заочные пересказы: ведь не зря учит мудрый Ганин: лучше один раз увидеть и пощупать, чем сто раз услышать и остаться ни с чем.
К гостинице я подлетел через три минуты, успев попросить оставшегося в полном недоумении Нисио подослать туда на всякий случай еще парочку свободных ребят. Центральным входом я, разумеется, не воспользовался, а быстро прошел через здание стоянки мимо брошенного на произвол судьбы отарского «крауна» и подобрался к лобби через боковой выход у лифтов. Я оглядел как лобби, так и отделенное от него цветочным барьером кафе и вдруг увидел, что из-за дальнего столика поднимается недавний «пыльный» русист из Читосэ и направляется к выходу, оставляя за тем же столиком знакомый изящный силуэт сидящей спиной ко мне Ирины Катаямы. Вспоминать имя-отчество этого неприглядного сибирского гостя Саппоро я даже не пытался: он в Читосэ представился, но я пропустил это представление мимо ушей, потому что в тот момент мои мозги и некоторые другие части тела были заняты мыслями о моей давней знакомой Наташе Китадзиме и ее хорошем знакомом Олеге Валерьевиче, чьи имя-отчество я теперь долго не забуду.
Решение нужно было принимать срочное: Мураками нигде видно не было, «наружный» сержант нервно мял грязными от типографской краски пальцами свою несчастную газету, стреляя глазами то на оставшуюся Ирину, то на ее уходящего, как осенняя натура за окнами, неожиданного визитера, и зрения его на меня уже не хватало. Орать ему через весь зал, чтобы он спокойно отправлялся пасти «пыльного» и что с Ириной я его прикрою, было бы с моей стороны, по крайней мере, опрометчиво, а бежать за русистом самому – невозможно, поскольку расстояние от меня до центральных дверей, к которым он направлялся, составляло никак не менее сотни метров, и за то время, как я их преодолею, Ирина успеет оглянуться несколько раз. Меня успокоила только мысль о том, что я знаю, в какой гостинице искать этого русского: названный Наташей отель «Альфа» отсюда в двух остановках метро или пятнадцати минутах семенящей рысцы, так что деться он в ближайшие часы никуда не должен. Вряд ли в таком дрянном костюме и при таком помятом жизнью лице он пойдет сейчас кутить в какой-нибудь ресторанчик в развеселом квартале Сусукино, находящемся, впрочем, как раз на полпути от «Гранд-отеля» к «Альфе».
Я нажал на сотовом кнопочку перенабора последнего беспокоившего меня номера, и после одного только гудка из трубки раздался звонкий шепот ниигатской капитанши:
– Вы уже здесь, Минамото-сан?
– Я – да, а вот вы где?
– Я в телефонной кабинке слева от центрального входа… Вернее, если вы внутри, то справа… Справа от входа… Вы за этим русским никого не послали?
Я пригляделся к трем полутемным, укрытым раскидистыми пальмами в толстенных кадках телефонным кабинкам со стеклянными дверками и не без труда в крайней левой из них разглядел Мураками, державшую у левого уха трубку телефонного автомата и прижимавшую к правому свой мобильный.
– Некого посылать. У «наружки» приказ пасти только Ирину. – Я покосился на продолжающего изучать прессу паренька. – Да и ни к чему это…
– Уверены? – недоверчиво спросила Аюми.
– Мы же знаем, где он остановился.
– Хорошо. Что будем делать?
– Пройдите по коридору налево, до выхода на Привокзальную улицу. Там слева, перед выходом, кафе «Старбакс», зайдите в него, а я обойду гостиницу вокруг, чтобы в лобби не светиться, и к вам присоединюсь. Понятно?
Она не удостоила меня ответом, а лохматой каштановой мышкой выскользнула из кабинки и по стеночке поковыляла на своих двоих по широкому коридору в заданном мной направлении. Мне же пришлось дать полный назад, еще раз полюбоваться на отарский «краун», обогнуть здание гостиницы по дальнему маршруту, поскольку ближний пролегал как раз мимо широченных окон гостиничного кафе, у одного из которых продолжала сидеть Ирина.
Свободных мест в «Старбаксе» оказалось неожиданно мало для банального понедельничного вечера. Бездельничающая молодежь и одинокие сорокалетние дамы, отработавшие в офисах первый рабочий день недели, делали вид, что наслаждаются экзотическими для Японии смесями кофе, какао, сливок, молока и прочих чуждых японскому желудку ингредиентов. Мураками успела, правда, запрятаться в дальний уголок, где оккупировала единственный остававшийся свободным четырехместный столик. Когда я, запыхавшийся и несколько выбитый из колеи, подошел к ней, она стрельнула своими острыми глазками поверх моей головы, нацелившись на длинное светящееся меню над раздаточной стойкой, что заставило меня изменить курс на девяносто градусов и купить два картонных стакана «кофе мокко», чтобы хоть чем-то оправдать наше с ней присутствие в данном заведении.
– Спасибо. – Она приняла из моих рук огненный стакан с курчавой шапкой белоснежных взбитых сливок, присыпанных шоколадной корицей. – Ой, горячий какой!…
– Что случилось? – Я поставил свой стакан на стол, поскольку пить такой горячий кофе не привык.
– Все случайно получилось. – Мураками бесстрашно отхлебнула обжигающий напиток, вследствие чего на верхней губе у нее образовались беленькие, в коричневую крапинку усики, которые, надо признаться, ей удивительно шли.
– А именно? – Я протянул ей пакетик бумажных салфеток. – Что получилось?
– Я пошла к вам, в управление, Инагаки-куна и Хасегаву-куна поздравить. – Она похлопала по висящей на спинке стула сумке и только после этого стерла с губы свои сливочно-коричные усы. – Вышла в коридор, и тут ее дверь открылась, прямо передо мной, она вышла и к лифтам пошла. То есть туда же, куда и я…
– Вы в Ниигате с ней встречались?
– Нет, в лицо она меня не знает, поэтому я с ней на лифте поехала. Как из лифта мы вышли, она в кафе направилась, а я в телефонную кабинку залезла – оттуда все прекрасно видно…
– Да уж… Зато вас там разглядеть было проблематично. – Я отдал дань ее маскировочно-камуфляжным способностям.
– Стараемся…
– И?
– Сначала она села за столик одна, а Владимир Николаевич подошел через пару минут…
– Владимир Николаевич?
– Да, Владимир Николаевич. Вы что, забыли уже, Минамото-сан? Нас же сегодня в Читосэ с ним познакомили!
– Да там нас много с кем знакомили… – Вот это память у умненькой Аюми! – Разве всех упомнишь!…
– Всех – нет, а вот Владимира Николаевича я запомнила сразу. – Она опять, на этот раз осторожно, чтобы не проводить при помощи моих салфеток повторных эпиляционных операций на верхней губе, отхлебнула свою «мокку».
– Чем же он вам так приглянулся?
– Да видом своим… Уж больно на наших убогих клерков похож… Пыльный какой-то…
– Что вы говорите… – Нет, она определенно не просто продолжала мне нравиться, а продолжала нравиться все больше и больше. По крайней мере, за словом в карман своих широченных штанин она не полезет, а для меня в женщине это – после экстерьера, разумеется, – второе дело. – Согласен с вами, Мураками-сан, вид у него действительно пыльный…
– Ну вот… – она проглотила и «мокку», и мой непрямой комплимент. – Он к ней подсел, просидели они не больше пяти минут. Конец беседы вы уже застали…
– Он что-нибудь ей передал?
– По-моему, нет. Я хорошо видела их обоих… Если бы он ей или она ему что-либо передала, я бы увидела.
– Что они делали?
– Кофе пили. Как только он пришел, она сразу же заказала кофе. Два кофе… Им тут же его подали, он как-то сразу залпом свой выпил… Даже сливки наливать не стал. – Она покосилась на свой наполовину опустошенный картонный стаканчик, по внутренним стенкам которого сползала коричневая пена.
– Да уж, за счет дамы мог бы и сливок себе плеснуть… – Я автоматически глянул на свой стаканчик с «моккой», все еще прикрытый шапкой взбитых сливок.
– Точно, за счет дамы, потому что ни платить за него, ни даже денег ей предлагать, насколько я смогла разглядеть, он не стал… То есть типичный джентльмен…
– Что бы это все могло значить, по-вашему? – Я подул на свой наконец-то соизволивший остыть якобы европейский коктейль из кофе, какао и сливок с корицей и отважился отхлебнуть глоток.
– Как что! – Мураками протянула мне мой пакетик с салфетками и детским указательным пальчиком показала мне под нос. – Ведь вся эта группа русских со мной на одном самолете летела…
– Вы с ними в самолете что, общались? – Я поспешил ликвидировать теперь уже свои сливочные усы.
– Нет, слышала, конечно, что они русские, но не разговаривала. Не в этом дело…
– Не в этом, а в том, что этот Владимир Николаевич тоже прилетел из Ниигаты, как приплыла оттуда наша с вами Ирина, да?
– Именно! – Она ткнула все тем же младенческим перстиком в воздух перед собой.
– А что, ваша «наружка» их ниигатских контактов не зафиксировала, что ли?
– Не было такой информации. Но я же сказала, мы там за ней не круглосуточно смотрели…
– Понятно… – Мне нужно было что-то срочно решать, потому что вся эта связывавшаяся воедино ниигатская мозаика на хоккайдской земле мне определенно была не по душе.
– Я сейчас отзвоню своим. – Она взялась за свой мобильник. – Попробую навести справки об этом Владимире Николаевиче. Вы фамилию его случайно не запомнили?
– Да не сказал он своей фамилии! Вы же знаете русских – они имя с отчеством назовут, и все! Считают, что этого вполне достаточно! То ли дело мы, японцы…
– Да уж мы сразу фамилию выкладываем, – буркнула она и деловито защелкала большим пальцем правой руки по наборной клавиатуре своего сотового.
Я огляделся вокруг: народ продолжал имитировать приятное времяпровождение в белоснежно-изумрудно-шоколадных интерьерах «Старбакса», за окном уже совсем стемнело, и главным источником света в полумраке кафе оставались залитые светом гигантские витрины бутика «Бенеттон» напротив.
– Не соединяется, – тряхнула шапкой своих густых волос Аюми. – Попробую попозже перезвонить… А что мы сейчас с вами делать будем, Минамото-сан?
Я бы с удовольствием ответил ей, что у меня немножко семья и на пять минут двое детей, которым хотя бы иногда нужно видеть своего вечно занятого папашу, но сказать все это у меня язык не повернулся. Не потому, что я ее пожалел и не захотел травмировать: ведь невооруженным взглядом видно, что по семейной линии у Мураками вряд ли что-либо когда-нибудь сложится. Нет, просто из-за отсутствия работы «по профилю» я всю прошлую неделю заявлялся домой раньше девяти, а минувшие выходные так и вовсе провел с Дзюнко и ребятами.
– А у вас какие предложения, Мураками-сан? – Интересно, что она сможет мне предложить…
– У этой Ирины я в лифте разглядела сотовый. Компания «Джей-Фоун»… Надо срочно запросить «прослушку» ее саппоровских бесед. Тогда мы сможем легко ее контролировать!
– Вы в своем уме, Мураками-сан?
– А что такого?
– Того! – Интересно, они там, в Ниигате у себя, все вот так по-простому решают?
– Чего «того»?
– Того, что вашей личной антипатии к этой Ирине, извините, недостаточно для организации прослушки. Никто нам с вами разрешения на нее не даст.
– Но ведь «наружку» вы организовали! – логично парировала она мой выпад.
– «Наружка», Мураками-сан, нами через управление проведена как профилактическое мероприятие…
– Да какая нам разница, как «прослушку» назвать?! – перебила меня нетерпеливая Аюми.
– Вы меня недослушали! Как профилактическое мероприятие по выявлению возможных правонарушений в саппоровских гостиницах. И начали мы, по якобы чистой случайности, как вы понимаете, с вашего «Гранд-отеля»…
– Это значит, Минамото-сан, что, если сейчас наша с вами Ирина пойдет прогуляться, хвоста за ней не будет? – Капитанша стрельнула в меня своими недовольными глазками.
– Увы!… Если только мы с вами не решимся на такой променад. Кроме того, у нее на парковке машина стоит. Вряд ли она, если куда соберется, пешком пойдет…
– Ну у вас же есть машина! Поедем за ней! За ней же надо следить, понимаете?!
– Давайте все-таки пока действовать в пределах закона, Мураками-сан, хорошо?
– Хорошо! Тогда пойдемте в «Альфу» и поговорим с Владимиром Николаевичем! – Она решительно отпихнула от себя пустой стаканчик и взялась за сумку.
– О чем вы с ним хотите разговаривать? – Ее напористая наивность стала меня несколько раздражать.
– О его встрече с Ириной.
– Вы полагаете, что он вот так прямо возьмет и все нам выложит, да? Не слишком ли это будет легко?
– Если он будет молчать, то ему же хуже!
– Вы его пугать собираетесь, Мураками-сан?
– Не пугать, а так, пригрозим ему немножко… Он же русский, можно ему пообещать проблемы с визой организовать…
Я понял, что вне зависимости от моей реакции на ее приглашение к путешествию в отель «Альфа» Мураками туда все равно доберется, поэтому мне пришлось допить свою «мокку», удивиться в очередной раз, чего такого в ней миллионы поклонников «Старбакса» находят, и согласиться, несмотря на поздний час, сопроводить Аюми в «Альфу». Перед выходом я позвонил «наружному» сержанту в лобби и узнал от него, что Ирина Катаяма покинула кафе и поднялась к себе в номер.
– А как же товарищи ваши университетские, Мураками-сан? – напомнил я, поднимаясь, гостье Саппоро о самой главной цели ее визита в наш город. – Вы же их поздравить хотели.
– Да вот придется отложить вручение подарков до следующей годовщины, – искренне вздохнула она.
– Вообще-то я потом в управление вернуться планирую, так что, если хотите, я им ваш подарок передам. Если, конечно, они еще на месте будут. Трудно сказать, сколько мы с вашим Владимиром Николаевичем беседовать будем…
– Хорошо, если вас не затруднит. – Она достала из своей объемистой сумки два подозрительно плоских целлофановых пакета с одинаковыми утолщениями в нижней части.
– Какие у вас какашки странные! – удивился я.
– Какие какашки?! – неподдельно ужаснулась Мураками. – Чего вы городите?!
– А что? – У меня в зобу сперло дыхание, а в районе сердца – движение благородной крови по обширному моему телу. – Что, это не?… Ну, я имею в виду, не…
– А вы в своем управлении Инагаки с Хасегавой что, какашки дарите, что ли?
– Конечно! Чего же им еще на их праздник дарить? – Я искренне не понимал, к чему она клонит.
– Как что?! Противогазы, конечно! – Она извлекла из одного пакета симпатичный серенький противогаз.
– Китайский? – спросил я машинально.
– Ну раз они дерьмо китайское нюхали, то и противогазы китайскими быть должны! – логично заключила Аюми.
– Да, верно… – Я не мог прийти в себя после такой неожиданности. – Должны быть китайскими…
– Так передадите? – Она весело посмотрела на меня.
– Передам-передам… Когда расставаться будем, не забудьте мне отдать, а то они сейчас у меня в карманы не влезут…
До «Альфы» мы пошли с Мураками пешком, и всю дорогу я чувствовал себя не в своей тарелке. Если мы выходим в центр Саппоро с Дзюнко, мне всегда приятно двигаться сквозь толпу, демонстрируя праздному люду свою дражайшую половину. Когда она не слишком замотана школьными делами детей и имеет время на то, чтобы подхорохориться и подмазаться перед выездом на бульвар Одори, рассекающий центр Саппоро на северную, вокзальную, и южную, «сусукинскую», части, демонстрировать ее обществу одно удовольствие. Не скажу, чтобы ей с ее не совсем прямыми ногами шли джинсы, как, скажем той же Ирине Катаяме, но в длинной юбке она и в свои «за сорок» смотрится еще очень и очень. Так что, полагаю, когда мы с ней по бульвару прогуливаемся, мне многие мужики завидуют…
А вот что было делать с Мураками на запруженных центральных улицах Саппоро, я искренне не знал. Не то чтобы мне было стыдно идти с этим коротконогим, асексуальным созданием, но определенная неловкость все же была. Вся внутренняя моя натура кричала в уши прохожим, что, мол, она не жена мне и уж никак не любовница, да и коллегами по работе нас назвать можно только с большой натяжкой, так как работаем мы с ней в разных префектуральных управлениях.
Аюми же мое присутствие с левого бока ничуть не беспокоило, и ей явно доставляло удовольствие шагать (если только старушечье шарканье по асфальту ее «первых ножек Ниигаты» можно назвать шагом!) с высоким видным мужиком в направлении развратно-призывных вертепов и кабаков сладострастного квартала Сусукино. И только всосанное с молоком матери тонкое чувство такта заставляло меня всю дорогу удерживаться от вопроса о том, когда она вообще последний раз в своей жизни прохаживалась вот так вот с мужиком по вечернему городскому центру. И прохаживалась ли вообще?…
В дверях высоченной «Альфы» столкнулись с моим «соперником» – Олегом Валерьевичем и двумя русскими филологинями, которые дружной компашкой выкатывались из гостиницы.
– Ой, Нина Валентиновна! Марина Борисовна! – заверещала вдруг у меня под правым локтем Мураками. – Олег Валерьевич! Какая встреча! Вы куда идете?
– Да вот хотим поужинать где-нибудь… – ответила за всех розовощекая Марина Борисовна. – А вы?…
– Ну как же, Марина, – в разговор вступил роковой красавец Олег Валерьевич. – Мы сегодня в аэропорту познакомились…
Он остановился, тактично давая нам возможность напомнить ему и его Нинам-Маринам наши с Аюми фамилии.
– Минамото, – кивнул я всей этой русской троице.
– Мураками, – пискнула снизу Аюми.
– А вы сами-то здесь какими судьбами? – поднял соболиную бровь Олег Валерьевич.
– Да мы тут… – начала было словоохотливая Аюми.
– Мы тоже поужинать хотим, – перебил я ее. – На верхнем этаже ресторан неплохой. Хочу Мураками-сан показать вечерний Саппоро, она здесь впервые, а сверху вид прекрасный.
– Да, впервые, – подтвердила правильность моего поведения Аюми.
– А-а, понятно! Ну тогда приятного аппетита! И вида тоже не менее приятного! – вежливо произнес Олег Валерьевич, давая нам понять, что встреча окончена. – Мы пошли! Да, девушки?
Пятидесятилетние тяжеловесные русские «девушки» дружно прыснули, театрально покраснели, дали возможность Олегу Валерьевичу взять их обеих под белые пухлые руки, и через секунду их смех смешался с урчанием моторов проползавших мимо отеля машин.
У стойки администратора мы без промедления получили номер единственного в гостинице Владимира Николаевича, оказавшегося простеньким, без излишеств, Селивановым, и попросили дежурного ненавязчиво проверить по телефону, у себя ли он. Дежурный, видимо привыкший к подобным выкрутасам моих коллег, бесконечно беспокоящих все прилегающие к криминогенному Сусукино гостиницы, проворно набрал селивановский номер, по-английски предупредил, что сейчас ему якобы принесут его сданный два часа назад в глажку костюм, получил достойный отпор, повесил трубку и молча указал нам усталыми глазами на лифты.
Мы поднялись на двенадцатый этаж и постучали во вторую от лифтового холла дверь. Через секунду светящийся дверной глазок потух, и после довольно долгого изучения нас с Мураками Владимир Николаевич Селиванов поинтересовался из-за двери на дурном английском:
– Вы кто?
– Владимир Николаевич! – громко сказал я по-русски. – Мы из полиции Хоккайдо…
– Полиции?… – донеслось из-за двери недовольное бурчание. – Почему из полиции?…
– Вы не могли бы нам открыть? – продолжил я. – Нам надо задать вам несколько вопросов.
Замок негромко щелкнул, дверь отворилась, и мы увидели на пороге того самого Владимира Николаевича. Вид он имел смешной, если не сказать – жалкий. Костюма его на нем не было, зато имелась на его рыхлом и невразумительном теле бело-синяя юката – традиционный гостиничный «гарнитурчик» из легкой, халатного типа куртки-рубахи и таких же шорт, выполненных в поэтике классических японских рёканов – доисторических гостиниц, существующих, впрочем, и по сей день, где гости спят вповалку на соломенных татами в комнатах на десять – двадцать человек. Эти юкаты выкладывают для посетителей вместо халатов и во многих гостиницах европейского типа. Там, где подешевле, кладут юкаты-халаты, а там, где подороже, – такие вот мало кому идущие «юкатные пары».
– Ну заходите, раз вы из полиции, – недовольным тоном проговорил Владимир Николаевич, распахивая перед нами дверь пошире.
– Мы ненадолго, – виновато сказала Мураками. – Только несколько вопросов.
– Удостоверения покажите, – попросил Селиванов.
– Вы что, японский знаете? – хмыкнул я, сунув ему под картофелеобразный нос с торчащими из ноздрей пучками седых волос свое удостоверение.
– Не знаю, – промычал Владимир Николаевич, разглядывая мою фотографию. – Но полицейскую бумагу от прав отличить как-нибудь смогу. А ваше где?
– Пожалуйста! – Циничная Аюми раскрыла перед ним свой бумажник, где под прозрачной пластиковой пленкой содержались ее водительские права.
– Это как раз права! – возмутился Селиванов. – Что вы мне тут показываете?!
– Извините! – с готовностью пошла на попятный Мураками и показала ему свое удостоверение – на этот раз, по мнению недоверчивого Владимира Николаевича, аутентичное.
– Садитесь, раз пришли. – Селиванов указал на кресла по обе стороны журнального столика.
На прикроватной тумбочке стояла белая кастрюлька, в которой журчал кипяток, вырабатываемый опущенным туда карманным кипятильником. Рядышком стоял пластиковый стакан с быстрозавариваемой лапшой, как я успел заметить, южнокорейского производства, из чего оставалось сделать вывод, что перед нами типичный советский командировочный, приехавший и со своим самоваром-кипятильником, и со своей лапшой, поскольку на нашем внутреннем рынке всех этих макаронных изделий быстрого приготовления, то есть моментального заваривания, царствует монополия отечественных производителей.
– Ужинать собрались? – Я указал на кипящую воду.
– Да вот… Пора, – закряхтел Владимир Николаевич и принялся с шумом и треском отдирать со стакана с лапшой верхнюю крышку. – Время, как говорится, спать, а мы…
– Вас наш визит не удивил, Селиванов-сан? – поинтересовалась Мураками.
– Признаться, не очень, – опять буркнул-крякнул Владимир Николаевич, победивший наконец крышку и теперь переливающий кипяток из кастрюльки в стакан.
– Правда? Почему? – продолжила допрос Аюми.
– Да меня предупреждали, что в Японии к русским такое отношение. Говорят, вы и отпечатки пальцев у нас можете требовать, и вообще недоверие к нам выказываете…
– Ну отпечатки пальцев – это если иностранный гражданин, не только русский, кстати, преступление совершает, – разъяснила ему Мураками.
– Как же, преступление! Вон Заречный два года у вас в университете Аомори работал, так говорит, что, как только он приехал, с него сразу отпечатки пальцев сняли…
– Это, наверное, давно было, – смутилась Мураками. – Сейчас уже с иностранцев этого не требуют…
– А кто это – Заречный? – спросил я.
– Да это из нашей делегации филолог… – пробурчал Селиванов и заботливо накрыл заваренную лапшу гостиничным блюдцем. – Москвич он…
– Олег Валерьевич, что ли? – продолжил я.
– Да, Олег… – согласился Селиванов.
– Понятно. Владимир Николаевич, мы пришли спросить у вас о том, с кем час назад вы встречались в холле «Гранд-отеля»? – Я решил поскорее закончить лирическое вступление.
– Час назад? – Селиванов остекленевшими в момент глазами посмотрел на часы над телевизором.
– Да, почти час назад.
– Как время быстро летит… – Селиванов оказывался не таким уж и никчемным мужичишкой, если вот так умело с ходу начал тянуть время, чтобы собраться с мыслями.
– Итак, Владимир Николаевич?…
– Это что, официальный допрос? – Стекло в его глазах подернулось тоской и сомнением.
– Нет, это не допрос, – опроверг я его подозрения.
– Значит, я могу вам не отвечать?
– Можете, но в данном случае мы просто проверяем вас на честность, а не требуем конкретного ответа.
– Как это? – не понял моей профессиональной эскапады Селиванов. – Не требуете, но спрашиваете?
– Точно так! – подтвердил я.
– Зачем же спрашиваете тогда?
– Я же сказал, вас на честность проверяем.
– На вшивость, значит?…
– Называйте это как хотите. Мы в какой-то степени действительно функции санитарно-эпидемиологической станции выполняем.
– Хорошо, пусть будет по-вашему – «на честность». – Владимир Николаевич с усилившейся тоской посмотрел на прикрытый блюдцем стакан с живительной лапшой. – Не надо мне тут никакой гигиены и санитарии!…
– Итак?
– А вы мне поверите, если я вам скажу, что не знаю, с кем я там встречался?
– Не думаю… – Я выразил наше с Аюми общее сомнение. – Вы бы на нашем месте вам поверили?
– Наверное, нет…
– Правильно. Итак, Владимир Николаевич, повторяю вопрос: с кем вы только что встречались в «Гранд-отеле»?
– Я не знаю, как ее зовут…
– Что значит – «не знаете, как ее зовут»? – возмутилась обиженная за весь женский род Мураками.
– Скажите, вы знаете, что такое быть русским филологом за границей? – Селиванов окинул нас с Аюми тяжелым мутным взглядом.
– Догадываюсь, Селиванов-сан. – Я посмотрел на стаканчик с лапшой и беспомощный кипятильник, лишенный нетвердой рукой хозяина электрической подпитки.
– Хорошо хоть догадываетесь!… – горестно вздохнул Владимир Николаевич.
– У меня отец филолог профессиональный, – на всякий случай пояснил я ему.
– А я шесть лет русской филологии отдала, – внесла свою достойную лепту в психическую обработку тоскливого Владимира Николаевича образованная Аюми.
– Да?… – недоверчиво переспросил Селиванов.
– Да, – хором откликнулись мы с Мураками.
– Ну так вот, вы тогда понимаете ведь, что главный дефицит для меня – это не идеи: их у меня в голове на двадцать монографий! Мне элементарно нужны средства, понимаете?
– Деньги? – решила уточнить явно предпочитающая называть голубое голубым, а розовое – розовым Мураками.
– Они самые, – подтвердил Селиванов.
– И что «деньги»? – поинтересовался я.
– А то, что когда вам предлагают сто тысяч иен только за то, что вы должны дойти до одной гостиницы, встретиться там с дамой и передать ей на словах кое-какую информацию, от таких просьб в моем положении отказываться, согласитесь, глупо. – Он взял в руки остывший уже кипятильник и начал теребить его пальцами с неприятно обгрызенными до самого мяса ногтями.
– Кто вас попросил с ней встретиться? – Я отвернул глаза от его ногтей, которые оскорбляли мое эстетическое чувство.
– Ну, знаете, как вас там?…
– Минамото.
– Знаете, Минамото… Минамото-сан, так, что ли? Я, может, вам кажусь таким вот продажным и дешевым, но если я человеку обещал молчать об этом, то буду молчать! – неожиданно твердо декларировал Владимир Николаевич, продолжая мучить свой кипятильник.
– Значит, этот человек попросил вас никому о его поручении не говорить, да? – спросила Мураками.
– Именно так! – кивнул Селиванов, положил кипятильник на подушку своей постели и пощупал бесповоротно остывающий стакан с лапшой. – Я свое слово привык держать! Уж извините…
– Скажите хотя бы, этот человек русский? – продолжила наше перекрестное интервью бедного, но гордого филолога неотступная капитанша.
– Я же вам сказал, никакой информации об этом человеке я вам не дам! – заявил принципиальный Селиванов.
– А деньги он вам уже заплатил? – поинтересовался я.
– Тоже, извините, не ваше японское дело! – сурово отрезал Владимир Николаевич.
– Значит, вы нам так ничего и не скажете? – угрожающим тоном вопросила Мураками.
– Послушайте, вы же якобы филологи, да? – устало проскрипел Селиванов. – Или хотя бы их дети…
– При чем здесь это? – сверкнула льдинками своих глазенок недоверчивая Аюми.
– При том… Это сказано в классике…
– Быть или не быть? Или кто виноват? – Я предложил Селиванову в порядке гуманитарного обмена на выбор несколько вариантов того, что «сказано в классике».
– Вопросы – это у вас, в полиции, или у писателей, которые в принципе та же полиция – только духа и нравов. А у нас, у филологов, как раз ответы. И ответ вам мой, граждане японцы, из той же классики будет: не стой на пути у высоких чувств!
– Это в каком смысле? – действительно не понял я.
– В прямом! Молодая красивая девушка, замужняя, как вы, конечно, знаете. Со своим Ромео в прямой контакт вступить по организационно-этическим причинам не может… Я же мог помочь…
– И как вы этим несчастным влюбленным помогли?
– Я же сказал: пришел и передал простую информацию. Делов-то было на пять минут. К тому же не такие уж они по российским меркам и несчастные…
– И средств заработали, да? – ехидно напомнила ему об истинной цели этой его якобы альтруистической акции Аюми. – Высокие чувства требуют больших средств!
– Смейтесь-смейтесь! – Селиванов демонстративно отвернулся от нее. – Вам это все смешно, смешны деньги! Подумаешь, сто тысяч иен, какие-то восемьсот долларов… А для меня это полугодовая зарплата в моем распрекрасном НГУ!…
– МГУ, – поправила его Мураками.
– НГУ! – не согласился с ее поправкой Селиванов.
– Вы из Новосибирска? – спросил я.
– Да. – Он опять с тоской посмотрел на свою лапшу.
– Хорошо, Владимир Николаевич. – Я решил заканчивать эту гуманитарную корриду. – На сегодня все, но учтите, что, пока вы находитесь в Саппоро, мы вас еще потревожим несколько раз.
– Потревожьте-потревожьте… – вздохнул мрачный Владимир Николаевич. – Хозяин – барин…
– И все-таки было бы лучше и для нас, и, главное, для вас сейчас нам сказать, по чьей просьбе вы встречались в «Гранд-отеле» с Ириной Катаямой? – Я решил из гуманитарной гуманности дать ему последний шанс. – Обещаю, что ваша информация дальше этой комнаты не уйдет.
– Нет, – он покачал головой. – Так она, значит, Ирина?…
– А вы сколько дней были в Ниигате, Владимир Николаевич? – проглотила его последний вопрос Мураками.
– Две ночи, а что? – тем же безнадежным, упадническим тоном спросил Селиванов.
– В Ниигате вы с этой женщиной встречались?
– Она что, из Ниигаты? – довольно натурально удивился Владимир Николаевич.
– Из Ниигаты, – кивнула Аюми. – Мне искренне жаль, Селиванов-сан, что вы отказываетесь нам помочь…
– Когда смогу – помогу, – буркнул Селиванов, – а сейчас не могу. Я слово дал!…
– Понимаем. – Я понял, что визит оказался практически нулевым и что пора ретироваться, пока нам с Мураками не досталось еще больше от этого «пыльного», но гордого специалиста… кстати, по кому? – Последний вопрос, Владимир Николаевич, из филологической области. Вы, если не секрет, чем занимаетесь?
– Не чем, а кем, – педантично поправил меня Селиванов. – Владимиром Сорокиным, а что?
– Вот как?! – вырвалось у меня.
– Вас это удивляет?
– Да нет… – Я еще раз посмотрел на холостяцкий кипятильник на плоской подушке, на сиротский пенопластовый стакан с давно остывшей лапшой и, наконец, на мятые серые брюки с сальными волдырями на коленях, наброшенные на спинку стула. – Ничего…
В лифте мы молчали, и Аюми подала голос только тогда, когда мы вырвались на оперативный простор причудливой паутины сусукинских улочек и переулочков, разницы между которыми, впрочем, нет никакой. Было темно, зябко и неуютно – большей частью не из-за погоды, но из-за глубокого чувства неудовлетворенности по поводу вчистую проигранного «пыльному» Владимиру Николаевичу словесного поединка, в котором на нашей с Мураками стороне было как численное большинство, так и преимущество собственного поля.
– Странный какой-то русский! – звонко воскликнула Мураками. – Первый раз такого вижу…
– Знаете, Мураками-сан, у них поговорка есть: в скромной заводи бесы обитают…
– В тихом омуте черти водятся, – поправила меня грамотная, филологически подкованная Аюми.
– Пускай будут черти… Но как мужчина я, знаете ли, этим Владимиром Николаевичем доволен…
– Правда? – На меня из темноты сверкнули уже хорошо знакомые мне жемчужные колечки.
– Истинная правда, – подтвердил я. – Но от этого не легче. Вы давайте-ка связывайтесь со своими в Ниигате! У нас с вами больше никаких источников информации теперь нет!
– Да-да, сейчас… – Аюми утонула в недрах своей внушительной сумки, где, как я уже успел заметить, кроме китайских противогазов нашлось место для толстенного кирпича японско-русского словаря, электронного переводчика и еще много для чего, исключая, разумеется косметичку. – Где же он?…
– Что, телефона нет?
– Вы знаете, Минамото-сан, я, кажется, его потеряла… – растерянно протянула она.
– Где вы его последний раз видели?
– Видели? – эхом повторила за мной она.
– В руках он у вас последний раз после «Старбакса» где и когда был? Не помните?
– Сейчас-сейчас… – В ее жемчужных колечках отчетливо отразился активный мыслительный процесс. – Значит, по дороге в «Альфу» я его не трогала, в гостинице – тоже… Хотя постойте! Когда Владимир Николаевич с меня удостоверение потребовал…
– Вы ему права водительские всучить попытались, – напомнил я о ее не самом удачном трюке.
– Верно, – кивнула она. – На права он не клюнул, и мне пришлось из сумки доставать настоящее удостоверение
– И?…
– Оно у меня было довольно глубоко, значит, я, скорее всего, телефон достала, а уж следом за ним бумажник с удостоверением. Значит, могла телефон у Владимира Николаевича в номере где-то оставить: на столике или на кровати…
– Одна дойдете обратно? Или вас все-таки проводить? – ехидно спросил я, предчувствуя ответ.
– Если вас не затруднит…
– А что так? – продолжил я суровый допрос. – Мне показалось, вы не из трусливых!
– Вам правильно показалось, только, как вы сами заметили, этот Владимир Николаевич мужчиной оказался в большей степени, чем я предполагала раньше… И мне одной… так поздно вечером…
– Хорошо-хорошо! Пошли вместе! – засмеялся я.
От «Альфы» мы успели отойти недалеко, поэтому у стойки администратора были уже через пять минут. Подниматься к Селиванову сразу из вежливости мы не стали, а позвонили ему из лобби. К телефону он не подошел, что заставило нас с Аюми синхронно удивиться, так как в памяти нас обоих еще живы были живописные воспоминания о его смешной юкате и неприхотливом ужине, который ему из-за нашего вторжения не суждено было съесть горячим.
Мы молча переглянулись и пошли к лифтам. Спустя минуту мы уже стучались в его дверь, но знакомый глазок продолжал излучать ровный яркий свет, и Селиванов на этот раз не торопился его от нас заслонять. Я вопросительно посмотрел на Мураками, она встревоженно – на меня. Поняв беспочвенность своих претензий к не желающей открываться изнутри двери, мы вызвали по этажному телефону дежурного консьержа, который тут же появился без ожидаемой бряцающей связки дежурных ключей, но с единственным – универсальным – ключом – мечтой всех домушников и взломщиков. Консьерж с деланным безразличием, но достаточно долго изучал наши с Мураками удостоверения, затем по мобильному телефону испросил санкций на вскрытие номера у высокого начальства, дислоцированного в цокольном этаже, и в конце концов щелкнул замком неприступной доселе двери.
Я могучей левой рукой остановил его попытку первым юркнуть в ярко освещенный номер и сделал решительный шаг внутрь, опередив не только консьержа, но и любопытную Мураками, которая, как я заметил затылочным зрением, также оттерла гостиничного служку и прошмыгнула в дверь следом за мной. Картина открылась нам с ней безрадостная: на широкой постели, воздев свои светло-зеленые глаза к персиковому потолку, распластался в полураспахнутой юкате бездыханный Владимир Николаевич Селиванов, а изо рта у него торчал белый электрический провод, тянувшийся к розетке у прикроватного столика, на котором продолжал стоять нетронутый, все еще прикрытый блюдцем стакан с быстрозавариваемой лапшой. Я выдернул из стоявшей на журнальном столике картонной коробки несколько бумажных салфеток, обернул ими электровилку, вытянул ее из розетки, а затем осторожно вытащил сквозь обуглившиеся губы гордого филолога из его навеки умолкнувшей глотки скромный командировочный кипятильник.
Глава 5
Первыми в «Альфу» – уже через две минуты после моего звонка в управление – примчались трое расторопных ребят из квартального отделения, еще через пару минут в номер ввалилась оперативная группа из районного управления, а на следующем после них лифте на роковой для Селиванова-сана двенадцатый этаж поднялся сам Нисио. Неуемный старик, как я и предполагал, домой так и не ушел и терпеливо ждал в управлении от меня либо очных, либо телефонных объяснений моему внезапному побегу по зову капитана Мураками. Теперь он, поигрывая острыми, пожелтевшими от въедливого табака и прожитых лет скулами, пристально осматривал комнату, переводя свой лучистый рентгеновский взор с предметов неодушевленных, как-то: телевизор, столик, кресла, постель и бренное тело покойного Владимира Николаевича, на объекты, пока еще подающие признаки жизни: экспертов в полупрозрачных резиновых перчатках, инспекторов, колдовавших с ручками в руках над описанием места происшествия, меня, судорожно пытавшегося сообразить, в каком направлении делать следующий шаг, чтобы избежать новых жертв, и посеревшую Мураками, острозубенькой и востроглазенькой мышкой вжавшуюся в большое кресло, обтянутое песочного цвета кожей.
– Первый он у вас? – Я кивнул на покойного. Она, выражая непонимание, подняла узкие бровки.
– Покойник русский, я имею в виду.
– У меня других и быть не может… – печально пропела она. – Я же с самого начала в русском отделе работаю… И мертвецы через нас только русские проходят.
– Значит, не первый?
– У меня лично – второй, – почти шепотом выдавила из себя Мураками. – В прошлом году у нас моряка русского машиной сбило. Насмерть. Там не убийство, а просто несчастный случай был, поэтому я дело вела. Он пьяный на велосипеде в порт ехал, на судно возвращался из города, назад не посмотрел на перекрестке – и все… А водитель не виноват был… Скорость у него только сорок была… Но все равно судили – два года дали…
– Понятно… Вы, может, пока в лобби спуститесь? Здесь, в общем, можно и без вас обойтись, – старясь звучать как можно ласковее, предложил я Аюми.
– Нет, ничего. – Она попыталась изобразить на абсолютно сером лице подобие улыбки. – Надо же к этому привыкать…
Я кратко рассказал Нисио и ребятам из района о событиях последних двух часов. Мы внимательно просмотрели нехитрый багаж почившего Владимира Николаевича: ни скромный набор недорогой и довольно ветхой одежды – как верхней, так и нижней, строго выдержанной в пепельно-асфальтовой гамме, ни бордовый российский загранпаспорт, ни ученые бумаги в потертом портфеле никаких зацепок нам предложить не смогли. Нисио достал из портфеля стопку бумаги в серенькой прозрачной папке и прочитал на верхнем листе:
– «В. Н. Селиванов. Сало как message. «Голубое сало» Владимира Сорокина и физиологическая поэтика квазиистеблишмента бывшего советского андеграунда. Педагогический университет Саппоро, 2 октября 2002 г., среда». Да, среда… Среда-то вот никуда не денется, а докладчик… «Голубое сало»? Книжка, что ли, такая? Ты, Такуя, читал это «Голубое сало»? Это что, кулинарная книга новая?
– Я читала… – тихо ответила за меня Мураками. – Это не кулинарная книга… Это занятный роман, на большого любителя, правда… Но я думаю, роман неплохой…
– «Голубое сало»… – опять вслух перечитал название объекта селивановского исследования Нисио и серьезными глазами взглянул на автора несомненно умного и, увы, последнего в своей не такой уж и короткой жизни доклада: он лежал на спине, лицом в потолок, в той же символической крестообразной позе, широко раскинув руки, и из-под распахнувшейся наполовину голубенькой юкаты противно горбилось абсолютно белое, никогда в жизни не знавшее тренажеров тугое филологическое брюшко.
– Что у вас, Кодама-сан? – обратился я к нашему медэксперту, который закончил изучать состояние распахнутого в безмолвном тигрином рыке селивановского рта и теперь на стеклянной дощечке накладывал реагенты на взятые из глотки покойного пробы.
– Причина смерти – предварительная, разумеется, но с большой долей вероятности – остановка сердца вследствие наложившихся друг на друга электрошока и последовавшего за ним шока болевого, – пресно и монотонно отчитался перед нами Кодама. – Судя по поверхностному осмотру, он был сердечник, а им обычно немного надо. Не удивлюсь, если вскрытие покажет у него прежние инфаркты.
– А удушение? – поднял бровь Нисио.
– Пока могу сказать, что сердце у него остановилось раньше, чем он бы мог задохнуться, теоретически, разумеется. Точные данные дам вам после вскрытия, но на шее никаких следов я не вижу.
– Болевой шок, по-вашему, был от чего? – продолжил Нисио. – Удар или ток?
– Думаю, ни то, ни другое, – покрутил головой Кодама.
– А третье? – удивился Нисио.
– Да, третье, – кивнул медик. – Полагаю, болевой шок был от ожога: вся ротовая полость и верхняя часть глотки практически сожжены… Эта штука, которая у него во рту была, видимо, мощная.
– Сопротивление он не оказывал? – Нисио скептически оглядел убитого. – Нечем, как я вижу, было его оказывать…
– Да, следов борьбы на поверхности нет, – согласился Кодама. – Но все-таки давайте дождемся результатов вскрытия – могут быть внутренние травмы… Надо кости проверить. Особенно грудную клетку в области сердца. Инфарктника бывает достаточно посильнее в левую часть груди ткнуть – и все! Так что всякое может быть.
– Конечно-конечно… – Нисио дал отмашку вынести труп.
Мы с Мураками сдали криминалистам отпечатки пальцев, чтобы избавить их от лишней работы, поскольку во время первого визита к Селиванову как-то не очень думали, что у него в номере эти отпечатки будут снимать лучшие эксперты полиции Хоккайдо, неизменно выезжающие на убийства иностранцев. Только после этого я попросил у Нисио разрешения осмотреть еще раз документы покойного, а главное – его бумажник и карманы пиджака и брюк. Осмотр слабо ожидаемого результата не дал, и мне пришлось изображать на лице глубокую озабоченность.
– А чего ты искал, Минамото-кун? – поинтересовался Нисио, поддавшийся на мою актерскую уловку.
– Да сто тысяч иен эти… О которых он нам с Мураками-сан рассказал. Получается, что он их не получил.
– Или тот, кто его просил встретиться с Ириной, пришел следом за нами, – очнулась в кресле Аюми, – якобы для того, чтобы расплатиться за услугу, и вместо этого…
– Это только в том случае, если Селиванов-сан нам не соврал, – заметил я. – Если действительно был такой человек. Ведь раз он сегодня прилетел из Ниигаты, вчера, скажем, он там мог спокойно встретиться с Ириной и здесь, в Саппоро, просто продолжить свои встречи с ней.
– Вы думаете, он нам с вами сказал неправду? – В голосе и глазах Мураками проступила некоторая жалость – непонятно, правда, к кому: к покойному, час назад уверенно водившему нас с ней за наши любопытные носы, или к нам с ней, по наивности и доброте поддавшимся на селивановские бредни о заказчике встречи.
– Мы здесь все закончили, господин полковник, – обратился к Нисио районный капитан. – Что будем делать?
– Процедуру знаете, капитан, – покачал головой Нисио. – Раз мертвец – иностранец, то дело наше, точнее – мое и вон, Минамото-сана. Так что езжайте к себе, быстренько оформляйте передачу дела, и я жду от вас все оригиналы этих вот бумаг, – Нисио указал на пачку только что заполненных подчиненными этого капитана протоколов и форм, – а также фотографии ровно через час в главном управлении. Чтобы к оперативному совещанию успели! Вопросы есть?
– Никак нет, – негромко щелкнул каблуками капитан, махнул рукой своим ребятам, и номер в мгновение ока опустел. С нами остались только Ямада и Ямагути из нашего управления, прибывшие вместе с Нисио, и полковник послал их к администратору оформлять на трое суток положенный по закону карантин в комнате, где совершено преступление. Мы решили дождаться их возвращения, чтобы вместе ехать в управление.
– Вот, капитан, влипли вы тут у нас в историю, – обратился к Мураками присевший на подоконный кондиционер Нисио. – Только приехали – и на тебе!
– Да я, господин полковник, это как будто чувствовала. – Она наконец осмелилась вылезти из кресла и подошла к постели, с которой минуту назад два младших медэксперта на носилках вынесли упакованное в черный пластиковый мешок тело Селиванова.
– Что чувствовали? – спросил Нисио.
– Ну я вот и Минамото-сану сказала. – Она вопросительно посмотрела в моем направлении. – От этой женщины исходит что-то страшное, я так чувствую…
– От Ирины Катаямы? – уточнил Нисио.
– Да, от нее. – Она утвердительно тряхнула шапкой своих окончательно потерявших за последние полчаса всякую оформленность волос. – Я это чувствую…
– Что чувствуете? – не унимался Нисио.
– Сначала этот мешок в море, потом – мужа нигде нет. А теперь и Владимир Николаевич…
– С первыми двумя понятно, а вот прилепить к ней Селиванова будет проблематично, – кашлянул Нисио. – «Наружка» отчиталась только что по телефону: из гостиницы она не отлучалась.
– Машину проверяли? – спросил я.
– Это мне пока неизвестно, – ответил Нисио. – Через час оперативка, там все уточним…
Тут за дверью послышался многоголосый смех, который вряд ли могли издавать отправившиеся на переговоры с местными властями Ямагути с Ямадой, а следом за смехом раздался и громкий стук в дверь. Мы переглянулись, и пока в нашем интеллектуальном треугольнике вызревала мысль относительно последующих действий, из-за двери донесся зычный женский голос, закричавший по-русски:
– Эй, Вовчик, открой! Мы тебе покушать принесли! Открой, Вовчик! Слышишь?
– Ну вот, на ловца и зверь… – брякнул я, вспомнив счастливую русскую троицу, с которой мы столкнулись при входе в отель, и распахнул перед веселыми гостями дверь.
Они мало изменились за то время, что мы не виделись, – пожалуй, покраснели немного, что объяснялось не столько коридорной духотой, сколько исходящим от них легким духом саке: в проеме застыли с оплывающими от неожиданности улыбками две толстушки-хохотушки, а за ними возвышался пока еще довольный собой и жизнью Олег Валерьевич, обладатель зычной фамилии Заречный, как нам успел сообщить ныне покойный специалист по Сорокину. В руках обе дамы держали по одинаковому беленькому целлофановому пакетику с лиловой надписью латинскими буквами «Унаги-Дом», в которых, очевидно, и было принесено скромному Вовчику «покушать».
Стоило мне вкратце рассказать им о случившемся, удивление всей этой удалой троицы быстро сменилось неподдельным страхом в четырех женских и глубокой задумчивостью в двух мужских глазах.
– Но как же?… – растерянно протянула та, которую, по-моему, зовут Нина Валентиновна. Мы же Володьке вот угря жареного… Он все попробовать хотел… Сам ни за что не купил бы…
– Да мы же его с собой звали, девушки, да? – промычал опечалившийся, но не потерявший при этом стати и лоска Заречный. – Чего же он, дурак, остался-то? Ведь звали его с собой!…
Пятидесятилетние «девушки» синхронно кивнули в знак подтверждения слов Олега Валерьевича.
– Вы его приглашали с собой ужинать? – переспросила Заречного Мураками.
– Да, но формально, конечно, – глухо ответил он.
– Что значит «формально»?
– Да у Вовчика каждая иена была на счету, – пояснила вторая «девушка» – Марина Борисовна (если, конечно, первая действительно Нина Валентиновна… – надо у Аюми уточнить: она в этих «девушках-мальчиках» хорошо разбирается, как я погляжу). – Он ни о каких ресторанах и слышать не хотел…
– Да, он с нами ни за что не пошел бы… – согласился с ней Олег Валерьевич.
– Понятно, – резюмировал Нисио. – Мы вас попросим эти два дня сообщать нам о ваших перемещениях по Саппоро, хорошо?
– Зачем? – вздрогнула Нина Валентиновна.
– Затем, что мы должны будем снять с вас официальные показания, – объяснил Нисио.
– Так мы сейчас готовы все рассказать, – заявил Заречный. – Может, вы сейчас все спросите? У нас с завтрашнего дня конференция. Мы же на нее сюда все ехали…
– Конечно, – кивнул Нисио. – Никто вам в ней участвовать не запрещает. Мы, я думаю, найдем для разговора такое время, которое устроит и вас, и нас. А сейчас нам надо в управление, посовещаться на предмет того, как дальше действовать.
– Хорошо, – согласился Заречный.
– Скажите, Олег Валерьевич, – обратился я к Заречному, – у Селиванова в Саппоро или в Японии вообще были знакомые? Я имею в виду не только японцев, но и русских, которые здесь живут.
– Не знаю… Не думаю… Он здесь первый раз… По крайней мере, мне он никогда об этом не говорил.
– А вы, насколько я знаю, у нас не впервые, да? – Надо на всякий случай сразу же показать этому заезжему денди, что мы тут не лыком борщ заправляем и не лаптем по асфальту скребем.
– Вас хорошо информировали! – искренне удивился моим познаниям русский красавец.
– Работа такая… – скромно отозвался я, решив не посвящать Заречного в технологию этой самой «такой работы» и не говорить ему, что о его японском прошлом нам совсем недавно поведал покойный Владимир Николаевич, когда его глотка еще не была занята кипятильником. – Приходится расширять кругозор…
– Ну разумеется. Что касается вашего вопроса, то я действительно в Аомори работал два года, русский преподавал в начале девяностых в тамошнем университете. У вас, я думаю, и пальчики мои еще остались… – не без ехидства сказал Заречный.
– Вас что, арестовывали? – вспомнила Мураками недавний рассказ Владимира Николаевича.
– Нет, почему?… – усмехнулся Олег Валерьевич.
– Вы же сами сказали про пальчики.
– Ну так у меня их сразу по прибытии взяли. Я прекрасно помню, все два года, пока там жил, на свой указательный палец в японском удостоверении иностранца любовался, – не без легкого упрека в голосе пояснил Заречный.
– Если вы закона не нарушали, значит, отпечатки ваших пальцев, точнее, как вы правильно сами заметили, только одного – указательного, хранятся в иммиграционной службе, а не у нас, – поставила Олега Валерьевича на место грамотная Аюми.
– Скажите, пожалуйста, – обратился я ко всем троим, – а что, Селиванов-сан, до вашего приглашения поужинать вместе, на улицу не выходил?
– Понятия не имею, – сказала Нина Валентиновна.
– Вряд ли, – скептически заметил Олег Валерьевич.
– А кто его знает… – закатила глаза Марина Борисовна.
– Сколько у вас было времени между прибытием в гостиницу и тем, как вы пошли на ужин? – Я решил не дожидаться завтра-послезавтра и брать быка за рога прямо сейчас, даже до оперативки.
– Где-то час, может, чуть больше, – сказал Заречный. – Нас Ганин и Китадзима привезли после семи, а с вами в дверях мы встретились в районе половины девятого…
– В каком районе? – переспросила Мураками.
– Приблизительно в двадцать тридцать, – без тени иронии перевел сам себя Олег Валерьевич.
– И в течение этого часа вы с ним не общались?
– Да нет, мы все по номерам рассосались… – ответил Заречный. – С дороги, сами понимаете…
– Да, нам же в порядок себя надо было привести, – выставила напоказ свои полные, густо накрашенные алой помадой губы Марина Борисовна. – А Вовчик… Владимир Николаевич то есть, я думаю, с удовольствием от нас отделался и у себя тут вот уединился…
Она беспомощно развела руками, как бы показывая всем присутствующим, какие просторные номера предлагает гостиница «Альфа» российским филологам.
– У господина Селиванова в бумажнике имеется двадцать пять тысяч иен, двести долларов и две тысячи рублей, – сказал я. – По-вашему, это естественная для него сумма?
– Ну не такая уж и естественная, – ответила Нина Валентиновна. – Напрягся, видно, Вовчик перед поездкой… Дома-то у него, думаю, вот так одновременно таких денег нет… не было…
– Вы с ним в России были знакомы? – спросил я ее.
– Да, мы вместе в Новосибирске учились, на филфаке в университете. Я потом к себе в Иркутск вернулась – я сама из Братска родом, а он там остался. Он местный… был…
– Семья у него есть?
– Жена – Олька, тоже из нашей группы. Детей двое: сын – переводчик в каком-то СП, а дочка университет в следующем году заканчивает. Родители еще живы… – Глаза Нины Валентиновны покрылись дрожащей слюдой. – А как теперь?… Надо же им сообщить… Олька с ума сойдет… Надо же в Новосибирск звонить…
– Не беспокойтесь, – покачал головой Нисио. – Система, увы, отлажена: мы сейчас обратимся в ваше консульство, и они по своей линии проинформируют родственников и работодателя. Так что вам беспокоиться не нужно. Но если возникнет желание самостоятельно связаться с его родней, мы вам препятствовать не будем. Вы все здесь в командировке или сами по себе?
– В командировке, конечно, – ответил за всех Заречный. – Япония не Европа – так просто за свой счет не съездишь.
– Да? – Я демонстративно пристально оглядел его, как Ганин говорит, «прикид», тянувший по первому впечатлению на полсотни тысяч иен. – Значит, все в командировке?
– Да, – сказала Марина Борисовна.
В этот момент в номер без лишнего стука вошли Ямада с Ямагути. Они с удивлением оглядели наших гостей, затем приблизились к Нисио, пошептались с ним, после чего старик оторвался от кондиционера, принял вертикальное положение и сказал:
– Господа, это пока все. Значит, как мы вас попросили, из Саппоро не отлучайтесь, пожалуйста, не дав нам знать. Я надеюсь, что уже завтра мы снимем с вас официальные свидетельские показания под протокол, и на этом ваши неудобства в нашем городе закончатся. Вы сможете полноценно работать и отдыхать…
– Да уж, теперь только отдыхать после этого, – горестно вздохнул Заречный и посмотрел на пустующий смертный одр ушедшего от нас на вечный отдых Владимира Николаевича Селиванова, чей филологический доклад на физиологические темы никто уже в оригинальном, авторском исполнении никогда не услышит.
– Поехали! – скомандовал Нисио, и мы послушно гуськом потянулись из номера. Ямагути вышел последним, проверил санузел на предмет того, не забрался ли туда коварный лазутчик, пока мы с русскими «девушками» лясы точили, и, убедившись в абсолютной безлюдности последнего приюта Селиванова-сана, плотно закрыл снаружи дверь в номер и принялся обклеивать ее ярко-желтой контрольной лентой.
В лифте Мураками неожиданно слишком уж интимно приблизилась к моему левому боку и прошептала мне в левый локоть:
– Минамото-сан, а по-русски СП – это Союз писателей, да?.
– Вы о членстве в нем Владимира Сорокина или о месте работы сына Селиванова-сана? – тем же заговорщическим тоном сбросил я вниз свой мало что уточняющий вопрос.
– Сына, конечно! – буркнула Аюми. – Сорокин ни в каких союзах не состоит!
– Откуда вы знаете? – удивился я ее обширным познаниям, которые, как оказывается, проблемами японского законодательства не ограничиваются.
– Я с ним встречалась. В Токио. В прошлом году, – опять снизу прошептала она, а потом добавила тихо: – Два раза…
Лифт приземлился на первом этаже, и уже выходя из него, я соизволил ответить на ее вопрос:
– СП по-русски – это совместное предприятие, Мураками-сан. Понятно вам?
Но должной реакции на свои поучения я не дождался. В лобби царила жуткая суматоха: весь зал был похож на огромный желудок железобетонного великана, заполненный разнокалиберной – пишущей, говорящей и снимающей – прессой, которая урчала подобно неудобоваримой пище, местами попыхивая «газами» фотовспышек. Между журналистами и телевизионщиками судорожно метались гостиничные работники в тщетных попытках хоть как-то нормализовать деятельность своего заведения, внезапно превратившегося в эпицентр событий. А пострадавшей стороной, если не принимать в расчет покойного Селиванова, оказались те глупцы, которые сдуру выбрали для заезда в отель «Альфа» именно поздний вечер понедельника. Незадачливые гости Саппоро испуганно озирались по сторонам в бесплодных поисках стойки приема, надежно закрытой от них тройной стеной щелкоперов, требовавших от дежурного администратора допустить их на двенадцатый этаж, куда по инструкции и по требованию Ямады и Ямагути вход, вернее – въезд, для них был запрещен. Выполняя предписание, администратор выставил надежные противопрессовые заслоны из «шкафов» собственной службы безопасности и у лифтов, и у входов на обе лестницы, так что пока особого улова у вечно голодных акул разящего пера не было.
Я сначала не понял, куда вдруг из-под моего крылышка так рванулась крошка Аюми. Я завертел головой, пытаясь ее разглядеть в журналистских кущах и переспросить, поняла ли она, что такое СП, но напоролся на укоризненный взгляд Нисио, который перевел его с меня куда-то вправо, в сторону гостиничного киоска, и на самом кончике этого сэнсэйского взгляда я наконец-то увидел беглянку Мураками. Она привстала на цыпочки около высоченного телеоператора, державшего на левом плече традиционную для таких случаев здоровенную репортерскую камеру, а в правой руке – белый целлофановый пакет. Судя по всему, Аюми его о чем-то спросила, и теперь он отвечал на ее вопрос, размахивая над ней пакетиком и покачивая камерой. Через секунду она от него оторвалась и присоединилась к нам. Нисио молчаливым и беспощадным ледоколом рассек урчащую журналистскую массу, мы дружно заполнили освобожденное им для нас пространство и этаким журавлиным клином вышли на чистую воду, то бишь на свежий воздух.
Воздух на улице был не только свеж, но и прохладен – даже слишком: начало октября как-никак и время позднее. Мы с минуту полавировали между забившими все подъездные пути к «Альфе» телевизионными микроавтобусами и букашками-микролитражками пишущей братии женского пола (ни один нормальный мужик в такие детские коляски с круглыми крышами и по-лягушачьи выпученными фарами не сядет!) и в конце концов добрались до двух черно-белых «тойот» из управления. Ямагути уселся за руль первой, но предварительно, изогнувшись не без подобострастия, открыл заднюю дверь для Нисио. Мы же с Мураками забрались на заднее сиденье второй, на водительское кресло которой плюхнулся Ямада.
– Вы про СП-то поняли, Мураками-сан? – продемонстрировал я Аюми свою цепкую память и феноменальный педантизм.
– Поняла… – безучастно ответила она. – Совместное предприятие, «гобэн-гайся» по-нашему.
– А чем оператор этот вам так понравился, если не секрет? – продолжил я свой импровизированный допрос.
– Ростом!… – усмехнулась Мураками.
– А если серьезно?
– А серьезно – пакетиком своим…
– Что за пакетик?
– Да у него в правой руке был пакет целлофановый, белый, – точно такой же, какие были сейчас в гостинице у Нины Борисовны и Марины Валентиновны…
– У Нины Валентиновны и Марины Борисовны, – педантично поправил я ее и порадовался тому, что и феноменальная японская память на русские имена-отчества иногда дает сбои.
– Да, Валентиновны Нины и Борисовны Марины, – на раз согласилась со мной Мураками.
– Итак, пакетики?…
– Пакетик. У него был только один…
– «Унаги-Дом»?
– Да, каламбурчик такой… веселенький, – грустно констатировала она и тяжело вздохнула.
День заканчивался так же, как начинался: фонетическими изысканиями. Ведь «каламбурчик», как изволила выразиться филологически подкованная ниигатская капитанша, заключался в том, что «дом» по-нашему, с долгим «о» и последним «м», – гигантское здание типа дворца спорта, обязательно покрытое куполом (откуда, собственно, и «дом», то есть английско-латинский аоте, купол). Так как в нашей, не к ночи будь помянутой, японской фонетике для иностранца не существует четкого различения звуков «м» и «н» (для бестолкового и глухого Ганина, например, у нас есть один-единственный звук, представляющий собой, по его мнению, гнусаво-насморочное сочетание «м» и «н»), наш «дом» он, по необразованности своей, может услышать и как «дом», и как «дон». «Дон» же с коротким «о» и «н» на конце – элементарная глубокая миска для горячих блюд, то есть своего рода перевернутый купол в уменьшенном виде. Слово это стоит в конце названий типичных блюд японской кухни класса «донбури», где в этой самой плошке «дон» на вареный рис сверху укладываются различные фундаментальные ингредиенты: шматок обжаренной в сухарях свинины – это будет «кацу-дон», лепестки тушенной в соевом соусе говядины с мерзким луком – «гю-дон» или тот же раскрытый широкой коричневой ладошкой сладкий жареный унаги – жирный пресноводный угорь, которого бестолковые русские зачем-то коптят и продают в виде бронзовых змей, от одного только вида которых напрочь пропадает всякий аппетит. (Или они не бестолковые, эти русские, и коптят морского угря – анаго? А унаги не коптят… Надо справиться у гурмана Ганина…) Жаль, что Владимир Николаевич Селиванов – поклонник сала, по крайней мере – голубого – так и не успел в своей жизни полакомиться замечательным японским блюдом «унаги-дон» из саппоровского заведения с каламбурным названием «Унаги-Дом»…
Так или иначе, отвязаться от этого ресторанно-кулинарного каламбурчика я смог далеко не сразу, потому что как раз сейчас почувствовал, что к преследовавшей меня сонливости добавился еще и волчий голод, поскольку за целый день я толком ни разу не поел. Но в отличие от покойного поклонника охлажденного соленого свиного жира у меня пока еще остаются шансы откушать того же угря…
– И что «Унаги-Дом», Мураками-сан?
– Да я спросила у него, у этого оператора, где он свой «унаги-дон» купил.
– Угря то бишь?
– Да, с рисом – «унаги-дон» бишь то… – схохмила она без видимой натуги. – Он там долго собирался торчать – вы же знаете этих телевизионщиков! Ну вот и запасся тем же «унаги-доном». А я спросила, где он его купил.
– И где?
– В том же «Унаги-Доме», что и Борисовна с Валентиновной… Марина с Ниной то бишь.
– И Валерьевичем, – педантично добавил я. – Бишь то Олегом, да?
– А у него разве тоже был пакет?
– У него пакета не было, но я думаю, Владимир Николаевич три угря бы не потянул, тем более с рисом.
– Резонно.
– Так вы закончите наконец эту свою историю? – Нет, определенно эта девица-красавица кого угодно выведет из себя!
– Оператор сказал, что ресторан «Унаги-Дом» находится в трех минутах ходьбы от отеля «Альфа» и что он его очень ценит за вкусного угря и большие порции, которые можно купить на вынос…
– Понятно, – успокоился я, оценив, в свою очередь, не только наблюдательность Аюми, но и ее проницательность: как бы там ни было, но этот развеселый menage a trois с пакетиками – пока наша единственная зацепка в плане свидетельских показаний, тем более что Нина Валентиновна (или Марина Борисовна? Тьфу ты, забыл уже! Придется опять у Мураками спрашивать!…) знала Селиванова хорошо.
Оперативное совещание у Нисио началось ровно в двенадцать ночи. Должны были начать раньше, но из-за позднего времени медэксперты немного подзадержались с результатами вскрытия, да и разрешение на само вскрытие пришлось долго и утомительно получать по телефону, а затем – документально, для подстраховки – по факсу у сонного генерального консула России, который, ссылаясь на межправительственное соглашение, сначала вяло уверял, что без санкции родственников мы Селиванова вскрывать не можем, а затем пытался привести еще дюжину разных причин, по которым наши патологоанатомы должны были держать свои скальпели зачехленными. Нисио пришлось изрядно попотеть, чтобы доказать ему, что в данном случае произошло убийство и в целях скорейшего его раскрытия дожидаться, пока его, то есть консула, сторона и страна отыщут в Новосибирске ближайших родственников покойного, вряд ли будет полезно для следствия.
До оперативки я был вынужден в течение десяти минут выслушивать по мобильному все, что моя разлюбезная Дзюнко думает о моей работе, потому как семнадцать часов назад с кристальными глазами и светлым челом я ей клятвенно обещал быть дома к ужину, что по нашим семейным меркам означает: не позже девяти. Вообще в этом плане она у меня ведет себя как-то не по-японски, ибо, насколько я знаю, для подавляющего числа японских замужних дам лучшее место для мужа – рабочее, и чем дольше семейный японский мужик пропадает на – когда хлебосольной, когда не очень – службе, тем его японской бабе лучше.
Если в понедельник среднестатистическая японская жена начинает жаловаться в кафе за чашкой кофе своей закадычной подружке, что минувшие выходные для нее накрылись медным тазом, поскольку сам сидел оба дня дома, – это нормально. Она еще добавит кислым тоном, что субботу с воскресеньем он провел немым буддистским ис-туканчиком перед телевизором, раздражая ее своим физическим присутствием в центральной комнате и мешая ей пылесосить ковры и мыть полы, а заодно и стирать белье в ванной и стряпать на кухне. Ненормальным же для обычной японки будут женские стенания по поводу того, что неотложные дела заставили ее мужа всю субботу-воскресенье торчать на работе и что она вся изошла от тоски-печали по своему законному. Понятное дело, что для миллионов безмозглых крашеных девиц, начинающих дико ржать от одного только упоминания о высшем образовании, выход замуж является единственным возможным способом продолжить свою беспечную юность и плавно и безболезненно перевести ее в обеспеченную зрелость. Циничная, расчетливая японка по древней, но страшно удобной для всех нас традиции меняет в районном ЗАГСе свое далеко не всегда действительно стоящее чего-нибудь тело на незыблемое право контролировать и полностью распоряжаться доходами клюнувшего на вовремя показанную коленку и своевременно расстегнутую блузку работящего лопуха, понимая, что у него тяга к ее телу через несколько лет, как только на свет будет произведена пара наследников, угаснет точно так же, как это было у ее отца по отношению к ее матери и у ее дедушек по отношению к ее бабушкам. Надо только подождать самую малость, а затем начать дышать все еще полной и привлекательной для других особей противоположного пола грудью.
И что самое главное – такое положение вещей вполне устраивает самих мужиков. Более того, у меня есть подозрения, что это все ими, вернее – нами, ленивыми и эгоистичными мужиками, и было когда-то придумано. Во-первых, им (нам) не надо думать об утомительном, требующем массу времени устройстве своего быта: многовековая эпоха суровой японской аскезы давно уже в прошлом, и нормальному мужику теперь не все равно, что лежит перед ним на тарелке и под ним – на матрасе. Во-вторых, он с радостью фиксирует кончину физического влечения к нему законной супруги, потому что, что бы там ни писали календари, которые, как известно, все больше врут, но для нас, по-собачьи (имея в виду собаку Павлова, разумеется) пытливых и по-кошачьи любопытных японцев, самое главное в нашей долгой жизни – разнообразие всяческих ее проявлений.
Не надо строить иллюзий по поводу того, что в любом закоулке мира в любое время года, а также дня и ночи встречаешь толпы японских туристов из-за неистребимой тяги японцев к знаниям. Дались нам эти знания! В школе нас двенадцать лет этими знаниями пичкают – не хватало еще после школы свои мозги под них подставлять. Чем больше знаешь, тем хуже спишь – эту истину я на себе проверял миллион раз, не говоря уж про «думаешь»! Нам нужны не знания, не неведомая доселе информация, а возможность на короткий период умертвить в себе собственно японца, поносить пару-тройку дней шкуру американца там или француза, чтобы потом банальнейшим образом воскреснуть, перешагнув в обратном направлении границу в родимом международном аэропорту Нарита. И когда жена дает тебе понять однажды вечером, что ты уже можешь не беспокоиться и не напрягаться, испытываешь бурный прилив счастья, поскольку теперь твои походы на одноразовое «лево» никому не будут доставлять моральных проблем. Жена с облегчением вздохнет, получив избавление от твоих грубых физических домогательств по ночам, ты сам начнешь по два-три раза в неделю получать то «материальное» разнообразие, которое раньше зачарованно, с открытым от неожиданности ртом и топорщащимися в известном месте брюками, наблюдал только в порнофильмах. А личности, более или менее профессионально обеспечивающие это самое приятное разнообразие, успешно пополнят за твой счет свои банковские счета, а также счета своих пронырливых сутенеров.
Исключениям же всегда и везде тяжело, а у нас, в Японии, особенно. Выбьешься из общей колеи или с самого начала будешь следовать заветам поэтов и стараться выбираться своей колеей – наживешь и врагов, и язву, и все что угодно, кроме добра. Я бы, пожалуй, и сходил бы разок-другой «налево» – японец как-никак, и не только по паспорту, но, во-первых, моей Дзюнко еще от меня теплыми поздними вечерами иногда чего-нибудь, да требуется, и, когда ей приспичит, она этого от меня обязательно добьется, даже если детишки еще колбасятся в своих постельках; а во-вторых, что будет, если вдруг безымянная, но старательная девка сделает со мной это лучше, чем собственная жена? Ведь есть такая опасность, да? И что потом прикажете делать? Имитировать на матрасике пятиэтажное цунами неземных страстей, а самому исправно вызывать в памяти иные образы? Но что до имитации, то это по женской части. У нас же, как говаривает во дни разных там сомнений, тягостных раздумий и идейных исканий мой друг Ганин, «члену не прикажешь». В общем, необходимость сохранения высокоморальных, но в то же время откровенно физических супружеских отношений оказывается легко объяснимой с точки зрения элементарной боязни, простите за высокопарность, перестать быть самим собой в глазах жены. А страх, он всегда побеждает в нас все другие чувства – это факт непререкаемый. Так что, по мне, лучше спать там, где не страшно…
А спать, кстати, хочется ужасно! Мыслить более или менее четкими понятиями и не слишком расплывчатыми образами на восемнадцатый час активного бодрствования проблематично, тем более что надо настраивать себя еще минут на сорок оперативки. Потом, может, удастся преклонить голову на четырнадцатом этаже, где у нас с недавних времен оборудовано несколько комнаток-спаленок именно для таких вот ночных смен.
– Значит, время позднее, – Нисио начал оперативное совещание по смерти Селиванова неожиданно бодрым тоном, – поэтому попрошу быть кратким и говорить только по существу.
Все выступавшие выполнили его приказ, и уже через двадцать минут картина преступления сложилась полная. Проведенное вскрытие подтвердило предварительный диагноз Кодамы: Селиванов умер от остановки сердца, спровоцированной болевым и электрическим шоком. Кипятильник был сначала с большой силой вставлен ему в горло, а затем через привезенный, видимо, самим Селивановым переходной трансформатор включен в сеть. В результате Селиванов получил обширный ожог и удар током. Здесь ничего неожиданного не было. Несколько сенсационно, хотя, если вдуматься хорошенько, и не очень-то, прозвучала информация экспертов о том, что на основных предметах мебели в номере Селиванова не обнаружено никаких отпечатков пальцев: ни его, ни наших с Мураками, ни, разумеется, убийцы. По числу убийц единого мнения не было: с одной стороны, Селиванов не мог оказать никакого более или менее достойного сопротивления в силу своей филологической тщедушности, с другой – для того чтобы «распять» его на постели, могла потребоваться не одна пара рук и ног, но никаких внятных следов не осталось. Версия самоубийства прозвучала, но мимоходом, чисто формально, поскольку все усомнились, что вряд ли скромный русский филолог расстался с жизнью по собственной инициативе таким экзотическим способом. Если бы он действительно решился на самоубийство, логичнее было бы для него разбить тяжелым предметом неоткрывающееся гостиничное окно и выброситься с двенадцатого этажа. Или же пойти в ванну и вскрыть себе вены достаточно острым столовым ножом, который он привез с собой, видимо, для того, чтобы резать им салями Микояновского завода, твердая палка которой была обнаружена в гостиничном холодильнике.
Так или иначе, все это были чисто технические вопросы, которые рано или поздно найдут свои наиболее подходящие ответы. Главным же оставался вопрос процессуальный: раз три сотрудника полиции – я, Мураками и парень из «наружки» – были свидетелями встречи Селиванова с Ириной Катаямой в кафе «Гранд-отеля» меньше чем за два часа до его гибели, значит, требуется срочно принимать решение по этой Ирине, тем более что за сегодняшний день на нее получен уже второй сигнал. Решений здесь могло быть только два: либо с утра требовать у прокурора ордер на установление официальной «наружки» без вступления с ней в контакт (она хотя по паспорту и японка, то есть формально в ее случае прокурорского ордера не требуется – достаточно санкции замначальника управления, но все-таки ее иностранное происхождение нуждалось в известной подстраховке с нашей стороны), либо с того же самого утра вламываться к ней в номер и разговаривать по душам до тех пор, пока она не даст правильные ответы на интересующие нас вопросы.
– Вы уверены, что весь вечер, особенно после встречи с Селивановым, она оставалась в гостинице? – спросил я любителя мятых газет, пасшегося вечером в лобби «Гранд-отеля».
– Я уверен только в том, что она не покидала его через центральный вход и не сдавала ключи администратору, – холодно отозвался он, ведя себя здесь гораздо увереннее, чем в гостинице, и давая понять всем присутствующим, что он свято блюдет лишь сухую букву закона и что сочные слова и пространные фразы – уже не по его части. – Это я вам гарантирую.
– Значит, возможность того, что она воспользовалась одним из боковых выходов, не исключается? – продолжил я.
– Не исключается, – согласился со мной сержант.
– Будем считать это нашей ошибкой? – спросил я, обращаясь уже ко всем.
– Ошибкой? – вздрогнул Нисио.
– Да, – откликнулся я. – Наверное, мы должны были предвидеть такой поворот событий и обеспечить наблюдение с нескольких точек, в том числе всех выходов.
– Минамото-сан, – сурово одернул меня Нисио. – Наблюдение за Ириной Катаямой велось без каких-либо формальных оснований, поэтому давайте считать за счастье, что оно вообще велось и что мы знаем о ее встрече с покойным.
– Да, не будь «наружки», мы бы ничего об их свидании и не знали, – подал усталый голос Ямагути.
– Простите-простите! – впервые за все совещание вдруг прорезалась Мураками. – Как это «не знали» бы?!
Все вяло, но достаточно синхронно повернули головы в направлении единственной женщины за столом.
– Очень даже знали бы! – звонко пропела она. – Это ведь я обнаружила, что Катаяма-сан идет в кафе и там встречается с Владимиром Николаевичем Селивановым!
– Да, конечно, – согласно махнул рукой Нисио. – Просто, даже если бы вы этого случайно не увидели, все равно сержант Янаги зафиксировал бы их встречу.
– Я считаю, что завтра с утра надо ее вызывать и прижимать к стенке! – категорично рубанула воздух перед собой громким голосом и твердой рукой суровая Аюми.
– Какие еще будут мнения на этот счет? – обвел взглядом присутствующих Нисио, явно недовольный командным тоном гостьи из Ниигаты.
– Для установления официального наружного наблюдения у нас нет ничего конкретного, – сказал я.
– Ну так уж и ничего! – фыркнул Нисио.
– Труп Селиванова напрямую к ней не привяжешь, а все остальное – и ее мешок в море, и обратный билет, по которому она назад не поедет, – это все ни о чем конкретном не говорит.
– А то, что ее Ато нигде нет уже вторые сутки? – вновь заверещала Мураками.
– Ну да, нет… – ухмыльнулся Ямада. – Сейчас его нет, мы к прокурору за санкцией, а послезавтра выяснится, что он у любовницы спокойненько отлеживался!…
– А если не у любовницы? – не сдавалась Аюми. – А если в том самом мешке был именно он?
– Чтобы проверить это, потребуется весь водолазный штат и полиции, и спасательной службы, и береговой охраны в тот район на пару лет посылать, – резонно заметил Нисио. – Ни точных координат места сброса, ни физических параметров мешка у нас нет и не будет. Вы представляете, что такое искать вдалеке от берега на дне какой-то там сверток?
– Тогда что же нам делать? – испуганно спросила Мураками, осознавшая наконец, что тому, зачем, собственно, она летела к нам, на Хоккайдо, никогда не суждено сбыться.
– Заниматься убийством Владимира Николаевича Селиванова, – ответил Нисио. – По которому, кстати, вы, господин капитан, должны действовать не как сотрудник полиции, поскольку он был убит вне зоны вашей профессиональной ответственности, а как свидетель, встречавшийся с покойным перед самым убийством.
Сверчку был указан его законный шесток, и доблестный капитан ниигатской префектуральной полиции поник лохматой головой. Нисио же сурово продолжил:
– Значит, так! Ни о какой официальной «наружке» завтра разговора быть не может! Пока не будет более веских улик против Ирины Катаямы, просить у прокурора ордер бесполезно. Поэтому сейчас всем приказываю спать, а с утра заниматься своими прямыми обязанностями. Кому чем положено!…
При последних словах полковника все, кроме слабо разбирающейся в нашей управленческой субординации Мураками, посмотрели на меня: кто с сочувствием, кто с завистью, но больше – с нашим знаменитым японским хладнокровием, которое таскающий много разных булыжников за пазухой Ганин любит называть «хладнодушием».
– Как быть с тем, что я тоже свидетель, господин полковник? – Я принял к исполнению приказ начальника как ответственный в отделе именно за убийства русских.
– Проблемы не вижу, – буркнул Нисио. – С убитым ты разговаривал не один, при другом свидетеле, так что здесь никаких помех для ведения тобой этого дела нет.
– Понятно, – успокоился я.
– Тогда, прежде чем разойдемся, Минамото-сан, скажи нам все-таки: что с утра будешь делать?
– Утра я дожидаться не буду, Нисио-сан, – огорошил я полковника и всех присутствующих. – Есть одно дело, которое мне надо сделать немедленно.
– Какое? – спросил сидевший по левую руку от меня Ямагути. – Жене позвонить? Ха-ха-ха!…
– Жене я уже позвонил, – я как можно более укоризненно посмотрел на этого все еще холостого, несмотря на свои тридцать два, жеребца. – Дело другое…
– Хорошо, – прервал нас Нисио. – На этом закончим. С утра по телефону или лично отчитываться передо мной каждые два часа. В десять я буду на ковре у руководства, желательно до этого уже получить какие-нибудь результаты.
Мы стали расходиться. Нисио сказал, что он пойдет со мной на четырнадцатый этаж, потому как переться через весь город для четырех часов сна ему неохота. Провожать его наверх я не стал: не маленький – сам дойдет. Мне нужно было сделать последнее запланированное на нынешний вечер дело. Я прошел через ярко освещенный, но абсолютно пустой коридор к лифтам и, едва нажал на кнопку со стрелочкой, направленной вниз, услышал в дальнем конце коридора шум смываемой в унитазе воды, за которым раздался легкий стук двери, после чего без какой-либо паузы из женского туалета неказистой походкой вразвалочку выплыл знакомый карликоподобный силуэт.
«Даже руки не помыла, – отметил я про себя, – не говоря уж про причесаться… Интересно, найдется хотя бы один, кого такая радость обольстит?»
– Минамото-сан, я в гостиницу возвращаюсь, – проинформировала меня Мураками на подходе к лифту, двери которого я уже несколько секунд держал для нее.
– Я тоже, – огорошил я ее.
– Как это? – испугалась Аюми. – Вы же с господином полковником должны на четырнадцатом этаже ночевать…
– А что, вас моя компания не устроит? – Я решил поиздеваться над ней на сон грядущий.
– Компания поспать? – спросила она, пряча под интонацией возмущения тихонький голосок тайной надежды.
– Компания прогуляться по ночному Саппоро…
– Да тут два шага… Я сама, – зарделась она.
– Ничего, я провожу, – не сдавался я. – Вы у нас гость, женщина к тому же, да?
– Да, – потупилась она и еще больше покраснела.
– Ну вот, значит, я должен вас проводить.
Мы вышли из управления на улицу: было холодно, но безветренно, так что для ночного променада обстановка была достаточно подходящая. Напротив здания управления сияющим белым пятном зиял потребительский парадиз круглосуточного магазинчика «Санкус».
– Кушать себе ничего покупать не будете? – спросил я медленно ковыляющую где-то внизу справа капитаншу.
– Да надо бы чего-нибудь купить в рот закинуть, – задумчиво прочирикала она.
– Закинуть? – вяло сострил я.
Мы зашли в магазинчик: кроме сонной толстенькой девчушки за кассовой стойкой, там никого не было.
– А вы себе что-нибудь покупать будете? – поинтересовалась моими гастрономическими планами Мураками.
– Нет. У нас на четырнадцатом всегда есть снедь: лапша быстрозавариваемая… – У меня перед глазами встал сегодняшний пенопластовый стаканчик Владимира Николаевича Селиванова, так и не сумевшего насладиться райским вкусом сублимированной корейской лапшички. – Чай есть, так что вы давайте сами…
Мураками взяла пластиковую оранжевую корзиночку и отправилась в консьюмеристическую экспедицию по «Санкусу», а я отошел к журнальной стойке и снял с полки первый попавшийся журнал. Журнал оказался порнографическим – в японском понимании этого низкого телесного искусства. На всех откровенных фотографиях гениталии как у мужиков, так и у девиц были старательно заретушированы, так что наша японская порнография требует определенного напряжения воображения – не как бездумные и демонстрирующие все на все сто процентов американские издания и фильмы.
– Вы что, порнографией интересуетесь? – опять где-то в районе моего локтя пропищала Аюми.
– А вы нет? – хладнокровно парировал я.
– Ну это мужчины обычно ею интересуются… – тихонько пролепетала она.
– А вообще-то у нас порнография запрещена, Мураками-сан! Вы же полицейский, вы должны знать! – назидательным тоном сказал я и открыл пошире перед ее носом журнальный разворот, на котором крашеная шалава оказывала приятные и разнообразные услуги сразу четырем суровым самураям.
– Ну я имею в виду такие вот журналы. – Она зачарованно смотрела на похабную, но колоритную картинку.
– Знаете, Мураками-сан, нормальных мужчин интересуют женщины, нормальных женщин волнуют мужчины, и если поддерживать этот интерес такими вот журналами, наверное, ничего страшного не случится. Вы так не думаете?
– Я думаю, что для женщин, которые мужчинами интересуются, здесь информации в два раза меньше, чем для мужчин о женщинах, – серьезно промолвила она, продолжая пялиться на чудеса сексуальной изобретательности своей соотечественницы.
– Как это?
– Ну как же! Посмотрите! И у мужчин, и у женщин все, что ниже пояса, белым закорябано, да?
– Естественно, – согласился я. – Я же сказал, что порнография у нас запрещена…
– Вот, – продолжила свою научно-популярную лекцию лохматая капитанша. – Зато все, что выше пояса, не закорябано, да?
– Ну!…
– Получается, мужчина может смотреть на женскую грудь, да? – Она посмотрела на мою грудь, потому что от усталости задирать голову выше уже не могла.
– Получается. – Я был вынужден опять согласиться с ней.
– А вот мы, женщины, этой радости лишены! – В ее мышиных глазенках вдруг проблеснула крысиная наглость.
– Чего это вы ее лишены? – Дело начинало принимать забавный оборот. – Пожалуйста, смотрите! Вон у этого гайдзина какая грудь волосатая! Смотрите и радуйтесь!
– Вы смеетесь, а я серьезно! – действительно серьезно сказала Мураками.
– Да и я серьезно! – попробовал отшутиться я.
– Нет, вы смеетесь! Вы же сами прекрасно понимаете, что обнаженная женская грудь у мужчины вызывает физиологическое желание, а мужская у женщины – как-то не очень.
– Ну тут вы не правы, Мураками-сан! Посмотрите вот на этого красавца, – ткнул я пальцем в первого попавшегося мужика в журнале. – Смотрите, у него грудь какая! Ни единого волоска – не то что у гайдзина! Гладкая, блестящая! Вам, например… Ну или вообще женщине разве не хочется к ней припасть?
– Я же говорю, вам только смеяться. – Она погасила появившийся было в ее глазках нездоровый блеск и поплелась к кассе платить за два онигири с маринованной сливой, пакетик арахиса и скромную баночку кофе с молоком без сахара.
Через три минуты мы уже подходили к гостинице, и я в душе радовался тому, что сумел внушить Аюми свое якобы непреодолимое желание проводить ее до дверей номера, а там, глядишь… Но на углу возле отеля ее нужно было возвращать с благословенных Дионисом небес на испоганенную Платоном землю.
– Вы до номера теперь сами дойдете, Мураками-сан? – спросил я ее, едва мы перешли через последний перед гостиницей перекресток. – А то у меня тут дело…
– Дойду, – надулась она. – А вы так и не соизволили сказать, что за дело…
– Да нехитрое дело, – улыбнулся я. – Хочу пойти проведать машину нашей с вами подопечной.
– Так давайте тогда и я с вами пойду. – Ей явно не хотелось со мной расставаться в эту зябкую, но спокойную октябрьскую ночь. – Может, я вам для чего сгожусь.
– Да, действительно, может, и сгодитесь, – согласился я, потому что вспомнил вдруг, что, кроме того, что Ирина Катаяма прибыла к нам с машиной «Мицубиси-диаманте», больше ничего про ее машину я не знаю. – Вы случайно номера ее машины не помните?
– Какой? У нее их много!
– Как это?
– Вы что, забыли, кто у нее муж? – логично напомнила мне Мураками. – Она в Ниигате на четырех ездит. Каждый день на разной – как королева автострады…
– Ну тогда «мицубиси», – смирился я с повседневными привычками жен наших автодельцов.
– «Паджеро» или «диаманте»?
– Ого, так у нее и «паджеро» имеется? – присвистнул я. – А «порше» у нее случайно нет?
– На «порше» ее Ато благоверный ездит… – процедила сквозь зубы исходящая социальной злобой Аюми.
– «Диаманте», – выдал я ей требуемую информацию.
– Ниигата-тридцать три, И-три ноля-восемь.
– Три ноля?
– Да, ей простой номер не подходит. Она во всем хочет в первой десятке быть!
– Ладно, посмотрим, в какой десятке она завтра утром окажется. Пошли на стоянку!
Мы свернули направо и зашли в боковой подъезд гостиничного здания, через который народ с улицы попадает на крытую многоэтажную стоянку. Дернувшегося нам навстречу охранника, необычайно активного и подвижного для начала второго ночи, я быстро остановил своим удостоверением. Он сник и вернулся на свое дежурное место, а мы углубились в автомобильное стойбище, по случаю ночного времени освещенного чрезвычайно скудно, особенно если учитывать, что это все-таки «Гранд-отель», а не какой-нибудь провинциальный постоялый двор на сорок матрасов.
Мой отарский «краун» попался нам первым, и мы не преминули подойти к нему, поскольку это было обязательной частью моего плана.
– Крышку капота потрогайте, капитан, – попросил я Аюми.
– Зачем? – удивилась она.
– Потрогайте-потрогайте – не укусит! – успокоил я ее. Она послушно провела своей крошечной ладошкой по глади моторной крышки.
– Холодная?
– Холодная, – кивнула она.
– Вот! – Я проткнул указательным пальцем воздух перед своим правым плечом. – А приехали мы с вами попозже, чем наша драгоценная Ирина из первых неробких десятков, да? Значит, наш «краун» уже давно остыл, потому как мы больше шести часов не пользовались. Да?
– Да, – согласилась Мураками.
– А теперь давайте найдем ее «диаманте», – предложил я, и мы продолжили поиски на том же этаже. По логике вещей она должна была припарковать машину где-то недалеко от нас, поскольку опередила нас ненамного, а загрузка стоянки обычно проходит под руководством дежурного, который обязан следить, чтобы многочисленные гости ставили свои машины подряд, не оставляя пустые места.
– Вот она, – прошептала Аюми уже через пару минут.
Машина оказалась весьма представительной, цвета мокрого асфальта, с золотыми противотуманными фарами и прочими излишествами, автоматически возводящими ее в ранг, как обожают говорить русские с Дальнего Востока, «упакованных».
Просить понятливую Мураками потрогать крышку капота «мицубиси» было уже не нужно: она профессионально провела по ней тыльной стороной ладони, расплылась в широченной улыбке и не без удовольствия выдавила сквозь свои мышиные зубки:
– Теплая!…
Глава 6
Сказать, что старик Нисио храпит, – не сказать ничего. Вот бабушка моя покойная храпела – так это просто храпела, громко, со вкусом, но без апокалипсического надрыва; было в ее храпе много всего успокаивающего и ласкающего. Сам я – если, конечно, верить Дзюнко – тоже могу погреметь в темноте носоглоткой, но, впрочем, редко и только тогда, когда случайно отключаюсь от мира сего лежа на спине, чего я в принципе не люблю и стараюсь засыпать на животе – на своем, разумеется. Но вот мой харизматический полковник исторгал из своих верхних дыхательных путей такие свирепые звуки, что шансов сомкнуть глаза хотя бы на полчаса у меня не было никаких. Не то чтобы казенный кожаный диван, шириной в школьную тетрадь и длиной в нее же, располагал ко сну – мой драгоценный организм, весь понедельник проведший в липкой туманной полудреме, не обратил бы на это никакого внимания. Даже гордые и волнующие воображение честолюбивые мысли о том, что я теперь, ни много ни мало, возглавляю следствие по делу об убийстве, не смогли бы заставить меня продолжать бодрствовать, хотя обычно мысли эти действуют по вечерам не хуже крепкого кофе. То есть в этом плане все было нормально: и диван, и мысли, и тело – то есть и с диваном, и с мыслями тело мое смирилось бы на раз, и заснул бы я безо всяких проблем на оставшиеся до рассвета несколько коротких ночных часиков… Заснул, если бы не старый пень Нисио, перешагнувший тот возрастной порог, за которым все эти наши этикетные условности и протокольные деликатности теряют и без того не слишком внушительную силу…
Он лежал на спине неподвижной мумией египетского фараона, укрывшись до груди серым, видимо, заботливо врученным когда-то его старухой пледом из тонкой верблюжьей шерсти. Руки он вытянул строго параллельно впалым бокам своего старого сухого тела, а затылок держал перпендикулярно поверхности своего казенного ложа. Если бы не извергавшаяся из него какофония, можно было бы даже предположить на мгновение, что старик угомонился навечно, чего в состоянии бодрствования он пока делать явно не собирался. Храп у него был комплексный: хрип смешивался с сопением, а на них накладывались хлюп и треск. Бьюсь об заклад, в дневное время в сознательном состоянии он ни за что не воспроизвел бы всю эту свою патетическую ораторию – такие шедевры рождаются спонтанно, независимо от рациональной воли бесспорно талантливого автора, в неосознанном, чисто физиологическом порыве бренного тела к собственной звуковой манифестации в пределах саркофагоподобного замкнутого пространства. А комнатка на четырнадцатом, где я, вернувшись из «Гранд-отеля», застал спящего Нисио, действительно была невелика, и спрятаться от вулканической полифонии мастера храпа было негде.
Выбор у меня был небольшой. Можно было оставаться подле Нисио на свободном диванчике и вертеться всю ночь хочешь – пресноводным, хочешь – морским угрем, проваливаясь каждые пять минут в дремотное, близкое ко сну, но его не заменяющее состояние, а затем ощущать, как мерзкая действительность возвращает тебя в свое неприветливое лоно чудовищными звуками, разбивающими вдребезги барабанные перепонки и укрывающиеся за ними мозги. А можно было бы пойти в отдел, раскочегарить компьютер и под треск старенького жесткого диска попытаться сыскать в Интернете что-нибудь полезное, но не для мозгов, разумеется (зачем они человеку ночью?), а для тела… Там, в бескрайних болотах Всемирной сети, если забраться в американские или европейские веси, все демонстрируется безо всякой нашей лицемерной ретуши. Конечно, побраузить без свидетелей было заманчивым, но в короткой и явно неравной схватке врожденная стыдливость моя легко одержала верх над законным, но уж слишком плотским любопытством, и я покорно остался вертеться на диванчике под иерихонский храп Нисио.
Утомительная полудрема оборвалась со скрежетом будильника в наручных часах полковника. Они у него старинные, механические, подаренные лет тридцать назад каким-то его дальним родственником, работавшим тогда по банковской линии в самой Швейцарии. Расставаться с ними из старческой ортодоксальности упрямый полковник упорно не желает, и вот теперь они вновь стариковским хрипом напомнили нам с шефом о своем все еще благополучном существовании. Правда, в данной ситуации я ничуть на них не разозлился, а напротив, обрадовался их треску, ибо именно они прервали несносную храповую агрессию Нисио.
Свежий и отдохнувший полковник, сухо пожелав мне доброго утра, поскакал в душевую умываться и бриться, а мне оставалось только спуститься в спортзал и четверть часа на тренажерах разгонять свою тоску-печаль по поводу безвозвратно потерянной ночи. В начале восьмого я поднялся в отдел, где полковник уже колдовал над походным завтраком. Рисоварка, холодильник и термос-кипятильник имеются у нас во всякой конторе, поэтому любой японец в любое время суток готов соорудить себе на работе более или менее вразумительное подобие завтрака, обеда или даже ужина. Тут все зависит не от технической оснащенности офиса, а от запасливости и предусмотрительности его обитателей. У нас, поскольку работа по ночам – явление нормальное, в холодильнике всегда имеется сублимированный рис для быстрого заваривания кипятком, простенькие рыбные и бобовые консервы, сушеная морская капуста, а сегодня чудесным образом обнаружились даже невесть кем закупленные свежие яйца. Поэтому завтрак старик приготовил в традиционном японском стиле – собственно, в других стилях он и не силен, разве что по сахалинской памяти может сварить картошку, как он говорит, «в солдатской форме». Разогретый рис он вывалил в небольшие миски, сверху присыпал его стружкой из сушеных водорослей и украсил горками «натто» – нашим дешевым лакомством из перебродивших и подгнивших бобов, один только запах которых у моего друга Ганина вызывает приступ тошноты, не говоря уже об их неприглядном виде. Отдельно Нисио подал по разбитому в плошки поменьше сырому яйцу – для макания в него всей этой рисово-бобовой смеси, выставил пластмассовую бутылочку с соевым соусом – и аккуратно налил по чашке горячего зеленого чая.
Пока Нисио стряпал, я позвонил Мураками и попросил ее проконтролировать, чтобы наша с ней подопечная никуда не улизнула. По ночному указанию Нисио один сержант дежурил теперь прямо на этаже «Гранд-отеля», а еще двое – на гостиничной автомобильной стоянке. Как только мы приступили к холостяцкой трапезе, Нисио принялся меня наставлять:
– Такуя, ты ведь понимаешь, что от этой твоей второй беседы с ней зависит практически все…
– Понимаю, Нисио-сан, – на раз согласился я с полковником, одновременно пытаясь понять, отчего Ганину так не нравится наше натто, столь аппетитно припахивающее сладкой, ароматной гнильцой. – Трудновато будет эту Ирину на враках поймать…
– Главное, не лезь на рожон, – суровым тоном продолжил Нисио, уписывая то же пахучее кушанье за обе свои впалые, гладко выбритые щеки. – Ее ни в коем случае нельзя испугать, но и шутки шутить с ней тоже нельзя.
– Понял, Нисио-сан, – опять не стал возражать я. – Но и вы уж тут, пожалуйста, ниигатских потрясите в мое отсутствие. Нам сейчас любой грамм информации о ней ценен как ничто другое!
– Не беспокойся! Они там и так свои рисовые поля носом вспахивают. Вон даже своего человека подослали! Где это видано!… – Хитрый Нисио подвел нас к самому деликатному вопросу.
– И? – Я прекратил жевать богатые минералами и белками, а также обладающие антиканцерогенными свойствами гнилые бобы и уставился на лукавого шефа.
– Сам решай! – бросил он мне.
– А вы, значит, в сторону, уходите? – Я сделал вялую попытку пристыдить Нисио.
– Почему в сторону? Ты руководишь расследованием – ты и решай! У тебя есть на то полномочия…
– Я женщине отказать не могу, Нисио-сан. – Я в который раз восхитился изворотливости мудрого старика. – Вы же знаете, если женщина просит, отказать ей выше моих сил.
– Значит, не отказывай, раз просит! – так санкционировал участие в разговоре с Ириной Катаямой нашей ниигатской гостьи великий политик Нисио.
Мураками, не подозревающая о том, какие идеологические баталии только что развернулись из-за ее участия в разговоре с Ириной Катаямой, встретила меня в гостиничном холле. Она была в тех же вчерашних широченных коричневых штанах, к которым она нацепила беленькую кофточку, обтягивающую ее узенькие детсадовские плечики и подчеркивающую тем самым очевидную диспропорцию между субтильным торсом и внушительной нижней частью ее кряжистой фигуры. На мгновение мне показалось, что она даже подвела глаза, но разглядывать их более подробно ни желания, ни времени у меня не было.
– Где она? – спросил я капитаншу.
– Только что вернулась в номер, – отрапортовала она.
– Откуда? – Меня удивила информация о том, что Мураками дала Ирине возможность выйти из номера.
– Из ресторана, – спокойно ответила Аюми. – Она спускалась завтракать.
– А как же?… – начал было я пространную прокурорскую речь о недопустимости нарушения инструкций.
– Все было под контролем. – Она тут же перебила меня, явно готовая к моим укоризненным замечаниям. – Она вышла из номера налегке, даже без сумочки, поэтому я дала команду «наружке» быть начеку, но ее не останавливать. Как я и думала, она прошла в ресторан, позавтракала и спокойно вернулась к себе.
– Что по звонкам? – Я взглянул поверх ее головы на стойку администратора.
– Через гостиничный коммутатор она никуда не звонила. Я проверяла только что, а до этого в шесть утра – специально спускалась. А что касается сотового, то уж тут вам виднее…
– Полковник Нисио будет сейчас писать представление наверх на «прослушку» ее мобильника, но для этого потребуется время, – неуклюже оправдался я.
– Понятно, – тряхнула Мураками своими по случаю утра более или менее причесанными волосами, явно довольная тем, что ей удалось перехватить у меня инициативу: наличие у Ирины мобильного телефона было огромной лакуной в нашем информационном поле, не закрой мы которую в ближайшие часы – и «наружка» будет уже не нужна.
– Ну что, будем беспокоить Катаяма-сан? – риторически спросил я у Мураками и двинулся к стойке с гостиничным телефоном.
– Подождите! – Она вдруг вцепилась мне в левую руку. – Подождите, Минамото-сан!
– Что такое? – Я попытался стряхнуть ее с левого предплечья, но это оказалось не так-то просто сделать: отсутствие сколь-нибудь ощутимого физического веса Аюми с лихвой компенсировала железной хваткой своих детских пальчиков.
– Давайте так пойдем! Без звонка! – полушепотом-полукриком предложила вдруг цепкая Мураками.
– Как старые друзья то есть, да? – улыбнулся я веселому предложению продолжавшей висеть на моей руке капитанши.
– Да, как старые, добрые друзья, – улыбнулась она в ответ и наконец-то оставила мою конечность в покое.
– Ну если только как добрые… – согласился я с ней и решил не посвящать ее в секреты нашей с Нисио кухни, то есть не расстраивать сообщением о том, что еще полчаса назад судьба ее участия в беседе с Катаямой висела на волоске.
Мы поднялись наверх. На площадке у лифтов один из пяти автоматов для продажи прохладительных напитков находился в препарированном состоянии, и нашему взору предстала согбенная спина стоящего на коленях в позе акушера, принимающего кока-кольные роды, мастера. Услышав шуршание разъезжающихся дверей лифта, он обернулся через плечо, посмотрел сначала на меня, затем – на Мураками, не спеша положил рядом с собой отвертку, сложил из левого кулака трубочку и указательным пальцем правой руки несколько раз ткнул внутрь ее. Сей способный у непосвященных людей вызвать приступ краснощекого смущения и слюнявого фырканья жест означал всего-навсего, что клиент у себя в номере.
– Он его третий час чинит! – хихикнула по-русски где-то у меня под ногами крошка Аюми.
– Он выполняет интернациональный долг, господин капитан! – приструнил я на том же наречии разбаловавшуюся на нашем демократичном Хоккайдо Мураками.
После троекратного стука в дверь нужного нам номера за ней с полминуты царило молчание, а затем врата в Эдем бесшумно распахнулись, и в меня вонзились ничуть не изменившиеся за ночь припорошенные пеплом два жгучих уголька.
– Вам кого? – спросила она машинально, по-японски.
– Вас, Ирина-сан, – ответил я по-русски.
Как принято писать в слащавых феминистических сказках, она была неотразима. Во-первых, волосы ее оставались туго собранными в изящный хвостик на затылке, но уже не были, как вчера, русыми: она (и когда только успела?) умело перекрасила их в соломенный цвет, оставив прежний колер только у самых корней, отчего они стали выглядеть еще более сексуально. Во-вторых, на ней отсутствовали вчерашние обтягивающие одежды, но присутствовал строгий деловой костюм ярко-желтого цвета, из-под элегантного жакета которого чернела антрацитовая атласная блузка. Юбка была короче, чем у моей вчерашней закадычной подруги Наташи Китадзимы, что вполне логично с точки зрения разницы в возрасте между ними и, соответственно, в стройности ног, которые у Ирины прятались сейчас под все теми же черными колготками, заставившими меня автоматически воскресить в памяти вчерашний файл с мечтательными терзаниями по поводу ажурных подвязок. И, в-третьих, довершающим эту возбуждающую икебану элементом были не доходившие до колен темно-коричневые сапожки на не слишком высоких, но достаточно тонких каблуках.
– А-а, это вы… – растерянно выдавила она, наконец-то признав во мне своего понедельничного отарского визави.
– Я, Ирина-сан, – кивнул я, чтобы получше рассмотреть восхитительную комбинацию из шоколадных сапожек, черных колготок (как же все-таки хочется, чтобы это были чулки!…) и короткой юбки цвета свежего яичного желтка.
– И вы… – разочарованно промолвила она, посмотрев мне под левую руку, где, по моим расчетам, должна была находиться Мураками.
– И я, – негромким, но строгим голосом откликнулась она из-за моего левого локтя.
– Вы что, тоже из полиции? – Ирина продолжала смотреть не на меня, а левее и вниз.
– Из полиции, – согласилась невидимая мне Аюми.
– Следите за мной? – В голосе Ирины послышались нотки той женской стервозности, которая способна в считанные мгновения погасить во мне все светлые желания и высокие помыслы.
– Мураками-сан, Ирина, за вами не следит. – Мне нужно было вставить свое нейтрализующее лыко в строку, чтобы хотя бы на немного продлить очарование. – Она просто живет с вами на одном этаже. За вами смотрят другие…
– Смотрят? – Она угрожающе подняла свою тщательно подбритую и безупречно выписанную косметическим карандашом бровь. – За мной смотрят?
– Ну не то чтобы смотрят… – Мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не покраснеть.
– А что тогда? – Ирина продолжала правой рукой держаться за внутреннюю ручку своей драгоценной двери.
– Поглядывают… – Я подался немного назад, чтобы еще раз в проеме двери оценить ее силуэт.
– Кто поглядывает? – Ирина отыграла несколько секунд, за которые она смогла подавить начальное смятение. – Зачем?
– Катаяма-сан, мы, конечно, можем с Мураками-сан отвечать на ваши вопросы и задавать свои отсюда, из коридора, но поверьте, будет лучше, и прежде всего – лучше для вас, если вы любезно разрешите нам зайти. – Я шагнул на полметра вперед, убедившись, что с фигурой у Ирины пока проблем никаких нет. – Так как насчет пригласить нас внутрь?
– Что вам от меня нужно? – Ирина демонстративно проигнорировала мой вопрос и с места не сдвинулась.
– Нам нужно поговорить с вами, – ответил я, стараясь звучать как можно холоднее.
– О чем?
– У нас к вам несколько вопросов. – Я не собирался задавать ей их из коридора, какие бы там эротичные черные подвязки ни скрывала ее притягивающая и взоры, и руки желтая юбка.
– Каких? – не унималась она.
В случае таких вот словесных перепалок Пересвета с Челубеем, которые частенько случаются между мной и неуступчивым Ганиным, он любит мрачно констатировать: «Нашла косая камень…» Мне всегда непонятно, как это связано с моей самурайской твердостью в верных убеждениях и его ослиной упертостью в завиральных идеях, но сам образ того, как косая баба поднимает с земли орудие пролетариата и не спеша готовится запустить им в свою цель, не заботясь о возможном и весьма вероятном отклонении его от планируемой траектории в силу дефекта ее зрения, впечатляет и определенно страшит.
– А вот об этом я вам скажу, когда вы нас впустите к себе, – сказал я голосом забравшейся в меня этой самой косой бабы, нашедшей камень. – Обязательно скажу!
– Заходите. – Она наконец-то сдала оборонительные позиции, отступив в глубь фешенебельного, но старомодного номера, уставленного дорогой, но громоздкой мебелью в стиле нашего японского ампира рубежа благословенных семидесятых и восьмидесятых. – Только должна предупредить: у меня дела в городе.
– Мы ненадолго, – соврал я, осматриваясь.
– Да уж, пожалуйста, – съязвила Ирина.
– Сесть можно? – своим классическим, уже тихим, но твердым голосом поинтересовалась просочившаяся вслед за мной Мураками.
– Ради бога, – без малейшего дуновения душевной теплоты выплюнула Ирина.
Аюми села в одно из двух трактороподобных кресел, а я поспешил занять второе, чтобы русской красотке ничего не осталось делать, как сесть на узенький диванчик напротив: я люблю по возможности совмещать полезное с приятным и в данном случае, благо канапе это было немного выше разделяющего нас журнального столика, мне представлялся прекрасный шанс наблюдать ее слабо прикрытые номинальной юбкой и полупрозрачными колготками заветные прелести.
Так оно и вышло: Ирина без видимого стеснения, привычными движениями роковой женщины, расположила свой драгоценный товар на диванчике, открыв моему взору такие виды, о возможности существования которых еще позавчера я даже и не подозревал, а заодно разрушив мои нескромные иллюзии по поводу ажурных подвязок.
– Вы опять про свой мешок спрашивать будете? – Судя по взгляду, она колебалась в вопросе, начинать ли ей обрабатывать меня по эротической линии, чтобы добиться моей благосклонности, или же оставаться подчеркнуто нейтральной в половом плане.
– Мешок, Ирина, позвольте вам напомнить, был ваш. – Я, в свою очередь, не без труда сохранял сексуальный нейтралитет, пытаясь смотреть на аппетитные колени и бедра только косым, боковым зрением, но никак не прямым взглядом.
– Я же вам вчера в Отару сказала все, – напомнила прелестница о нашем «хилтоновском» кофепитии.
– Я помню, Ирина, – усмехнулся я. – На плохую память я пока не жалуюсь.
– А на что жалуетесь? – ехидно поинтересовалась она и посмотрела мне куда-то в область пупка.
– Да много на что… – Я продолжал ухмыляться, умышленно затягивая время: ведь не в номере же она собирается две недели сидеть. – Все перечислять – скучно и долго.
– Так какие у вас за ночь вопросы появились? – Она сильнее вжалась в спинку диванчика, отчего юбка на ней отползла на пару сантиметров назад, еще раз подтвердив тем самым, что свою сонную варежку на предмет подвязок я раскрывал зря.
– Нас интересует один ваш знакомый.
– Знакомый? – По чуть дрогнувшему голосу было понятно, что мой вопрос попал не в ее подведенную карандашом изящную бровь, а в ее излучающий массу сексуальной энергии глаз.
– Да, знакомый, – спокойно кивнул я.
– Кто именно? – Нет, она не запсиховала, не задергалась, не заметалась по дивану, обнажая до поясного сгиба свои великолепные тугие бедра, но по всему ее упругому, кошачьему телу пробежал электрический разряд, искры от которого брызнули мне в, несмотря на бессонную ночь, четко работающее сознание.
– У вас их много? – продолжал улыбаться я.
– А вы как думаете? – стеклянным голосом спросила она.
– Думаю, много.
– Правильно думаете! Кто из них вас интересует?
– Селиванов.
– Кто? – И по этому искреннему «кто», не знаю, как Мураками, но мне сразу стало понятно, что залп был дан мимо.
– Селиванов Владимир Николаевич, – пояснил я, прекратив улыбаться. – Нас сейчас интересует он.
– Я такого не знаю, – опять-таки явно искренне отреагировала она на мои слова.
– У нас другая информация. – Раз торпеда прошла мимо, надо теперь извлекать пользу хотя бы из волн от нее.
– Какая у вас информация?
– Такая, что вы с ним знакомы.
– Я еще раз заявляю: я никакого Владимира Николаевича Селиванова не знаю! – Она произнесла это с такой честной интонацией, что, не увидь я ее вчера собственными глазами в гостиничном кафе, можно было бы ей поверить.
– Катаяма-сан, вчера вечером три сотрудника полиции, двое из которых сейчас перед вами, были свидетелями вашего с ним разговора. – Я взглянул на нее с отеческой укоризной.
– Вчера? – Она растерянно посмотрела на меня, а затем на Мураками. – Вы? И вы?…
– Да, Ирина, я, Мураками-сан и сержант полиции Хоккайдо наблюдали вашу беседу с Владимиром Николаевичем Селивановым. – Я никак не мог осознать, почему она, дав своей интонацией понять, что Селиванов ее совершенно не заботит, теперь так настойчиво отрицает факт знакомства с ним.
– Где вы меня вчера видели? – чуть озлобленно спросила она. – В смысле, меня с этим Селивановым…
– Внизу, в кафе, – спокойно ответил я.
– А-а!… Этот Селиванов! – Прилив искренности в ее восклицаниях повторился вновь.
– А что, вы думали о другом?
– Да ни о ком я не думала! – с облегчением улыбнулась она. – Я и не знала, что он Селиванов!
– Не знали? – недоверчиво спросил я.
– Не знала!
– Но беседовали с ним?
– Разговаривала, – педантично поправила она меня. – Вчера вечером внизу я действительно разговаривала с одним русским. Этого я не отрицаю, это правда…
– Ирина, получается, что вы сами себе противоречите, нет? – задал я формальный вопрос, хотя ответ на него был ясен заранее.
– Ничего не противоречу! – Она покачала перед собой идеально прямым указательным пальцем правой руки, украшенным массивным, выпуклым кольцом из белого золота.
– Как же не противоречите?… – вяло посопротивлялся я.
– Так же! – съязвила она. – Я этого мужчину в своей жизни видела первый раз!
– И последний, – мрачно заметил я, прерывая слишком уж затянувшуюся увертюру.
– Ну этого уже я не знаю… – протянула она. – Не люблю зарекаться в таких случаях…
– В других случаях – да, – согласился я, – но конкретно в этом можете смело заречься.
– Да? – улыбнулась она. – Гарантию даете?
– Гарантию вам даст, в случае необходимости, конечно, наше отделение судебно-медицинской экспертизы. – Я улыбнулся ей в ответ.
– Непонятно, но красиво, – продолжала улыбаться она.
– Вчера вечером, Ирина, через пару часов после вашей беседы… виноват, вашего разговора в кафе, Селиванов Владимир Николаевич был убит у себя в номере гостиницы «Альфа», – такие мрачные сообщения я стараюсь исторгать из себя бесстрастным тоном.
– Убили?… – переспросила она машинально, не столько с испугом, сколько с некоторым беспокойством.
– Да, убили. Поэтому сегодня мы здесь.
– Понимаю… – Она взглянула на настенные часы.
– Вы куда-то спешите? – спросил я.
– Да, у меня дела в городе, – озабоченно вздохнула русская красавица. – Через сорок минут.
– Все будет зависеть от вашей искренности, Ирина. – Я решил ей дать слабую надежду.
– Что вас интересует? – Она резко посерьезнела. – Спрашивайте! Только быстрее!
– В темпе танго! – ухмыльнулся я. – Еще раз повторю свой первый вопрос: давно ли вы были знакомы с Владимиром Николаевичем Селивановым?
– Еще раз отвечаю: я с ним не знакома… – раздраженно ответила она, – не была знакома. Вчера я увидела его первый раз в жизни.
– С какой целью вы с ним встречались?
– Он пришел, чтобы передать мне одно сообщение.
– Какое, если не секрет?
– Это допрос? – Ирина демонстративно развела перед собой руками. – Я что-то протокола не вижу!
– Нет, это не допрос, – холодно отреагировал я на ее выпад. – Допрос под протокол мы вам, конечно, можем устроить. Вкупе с допросом по поводу сброшенного вами вчера в море мешка. Но для этого вам нужно будет пройти с нами в управление, и тогда сорока минутами вы точно не отделаетесь. Так что будет лучше пока отвечать безо всякого протокола.
– Я для вас в этом деле свидетель? – поинтересовалась вдруг она своим процессуальным статусом.
– Пока нет. Свидетелем вы можете стать, если выяснится, что вы были, скажем, у Селиванова в номере или в отеле «Альфа».
– Я там никогда не была, – успокоилась она.
– Мы с Мураками-сан знаем. Мы там с ней вчера были и вас не видели, поэтому пока вы не свидетель, а просто человек, который одним из последних беседовал… простите, разговаривал с господином Селивановым незадолго до его смерти.
– Вы вчера были в «Альфе»? – По ее интонации было непонятно, что ее волнует сейчас больше: то, что она не свидетельница, или то, что мы с сопящей сейчас в две крошечные дырочки коротышкой из Ниигаты вчера посетили роскошную – и роковую – «Альфу».
– Да, мы беседовали там с Владимиром Николаевичем Селивановым, – ответил я.
– И что он вам сказал? – вырвался у нее непроизвольно, в общем-то, абсолютно неуместный вопрос.
– Это, извините, тайна следствия, – вежливо отклонил я требование поделиться, видимо, весьма ценной для нее информацией. – Может быть, позже я вам об этом и скажу.
– Хорошо. – Она опять взяла себя в руки. – Значит, еще раз повторяю, что встречалась с Селивановым, не зная, кто он такой.
– И о чем вы с ним говорили, отвечать отказываетесь? – Я дал ей еще один шанс.
– Я вам сказала: он передал мне сообщение от одного человека. Это все, больше я ничего говорить не буду.
– Стало быть, содержание этого сообщения и его источник вы нам выдавать не собираетесь?
– При чем здесь «выдавать»? – вспылила она. – Я вам что, стукач копеечный? Это мое личное дело!
– Конечно-конечно, – закивал я головой. – Только всем, и вам в том числе, было бы проще, если бы мы расставили сейчас точки над «и» и перестали ломать эту комедию.
– Я никакой комедии не ломаю! – Она подалась вперед скрытой сегодня блузкой и пиджаком, но, надеюсь, не потерявшей за ночь своих очаровательных форм грудью, демонстрируя желание немедленно подняться с диванчика и отправиться по неотложным делам.
– Катаяма-сан! – вдруг подала голос молчавшая до сих пор Мураками. – Вы своего мужа любите?
– Что?… – Ирина в удивлении откинулась назад.
– Я спрашиваю, вы своего мужа любите?
– Мужа?… – Она опять мастерски выиграла пару секунд для перехода к столь неожиданной для нее теме.
– Да, вашего мужа, – настойчиво выдавила из себя Аюми.
– Это вас тоже не касается! – отрезала она.
– Боюсь, что меня как раз касается, – хмыкнула вдруг Мураками. – Боюсь, что очень даже касается.
– Каким это боком, позвольте спросить? – Ирина недоуменно стреляла серыми очами то по мне, то по капитанше, явно не понимая, с какой стати в серьезный разговор двух достойных и, главное, разнополых, то есть способных прийти хотя бы к одной, определенной форме консенсуса, вмешалось это бесполое создание с малюсенькими глазками, тяжелым подбородком и обгрызенными космами плохо прокрашенных волос.
– Ниигатским, – хладнокровно пояснило создание.
– Ниигатским? – переспросила Ирина.
– Да, Катаяма-сан. В отличие от Минамото-сана, – она кивнула в моем направлении, – я работаю в управлении полиции не Хоккайдо, а Ниигаты, так что меня ваши отношения с мужем касаются самым непосредственным образом.
– И почему это вас касаются? – не сдавалась гордая Катаяма.
– Потому что вот уже вторые сутки в Ниигате вашего мужа нигде нет: ни дома, ни на работе – нигде.
– Вторые сутки?… – ухмыльнулась Ирина.
– Да, вторые сутки, – невозмутимо парировала Аюми. – А по японским законам, если местонахождение гражданина не устанавливается его семьей или коллегами по работе в течение более чем семидесяти двух часов, полиция обязана объявить его без вести пропавшим и немедленно начать его розыск.
– Понятно, – скривила свои жаркие алые губы Ирина. – И кто же вам заявил о том, что его нигде нет? Родня или ребята из конторы?
– Будем считать, что «ребята из конторы», в которой он не появлялся эти два дня, хотя его там ждали подчиненные. Вы ему вчера или сегодня случайно не звонили?
– Сегодня нет, не звонила… – после секундного замешательства ответила Ирина.
– А вчера? – поинтересовалась въедливая Мураками.
– Послушайте! – Ирина, видимо, вспомнила наконец золотую истину о том, что атака – это лучшая оборона. Точнее, контратака. – Вы же пришли про этого Селиванова спрашивать! При чем здесь мой Ато?!
– Ну как же! – Я решил несколько разгрузить не в меру словоохотливую Аюми. – У вас в Ниигате муж, вы приезжаете в Саппоро, встречаетесь в первый же вечер с другим мужчиной…
– Я не понимаю! Вы что, из полиции нравов, что ли? – Она продолжала возмущаться.
– У нас, в Японии, нет никакой полиции нравов, Ирина, – просветил я ее. – Пока нет…
– Тогда в чем же дело?
– Прежде всего, дело в том, что вчера вечером в гостинице «Альфа» был убит Владимир Николаевич Селиванов, с которым вы разговаривали за два часа до его смерти. – Я решил напомнить ей, что, по большому счету, шутит она с огнем – пока тлеющим, но в любую минуту готовым вспыхнуть на горе всем японским и русским буржуям.
– Я вам сказала, что я его видела первый раз! – В ней, чувствуется, начала просыпаться тигрица.
– Мы это слышали, – стараясь не пробудить в себе льва, ответил я. – А во-вторых, капитан Мураками абсолютно права в том, что, если ваш муж до завтрашнего вечера не объявится, мы должны начать его розыски. И я не понимаю, почему вы по этому вопросу храните молчание.
– Какое молчание?!
– Где ваш муж, Ирина? – тоном строгой учительницы химии спросила Мураками.
– Я не знаю, где мой муж! Я уехала из Ниигаты позавчера вечером, ночью, вернее, и с тех пор я его не видела! – Она постепенно переходила на крик.
– В воскресенье вы его видели? – Мураками продолжала вспахивать свой ниигатский участок.
– Конечно, – скривилась она в кислой улыбке. – Видела любезного своего!…
– Судя по вашему тону, Катаяма-сан, мой вопрос о том, любите ли вы вашего мужа, не такой уж и пустой, да? – Аюми оставалась по-прежнему строгой и непреклонной.
– Вы с ним когда-нибудь спали? – Ирина вдруг в течение двух секунд преобразилась, и теперь перед нами была уже не свирепая тигрица, а уставшая трепетная лань.
– С кем? – опешила Мураками.
– С Ато моим, – вздохнула она и отвела в сторону резко потускневшие глаза.
– Что вы такое говорите! – возмутилась Аюми. – Как я могла с ним спать?!
– Как бабы с мужиками спят? – опять кисло улыбнулась Ирина. – Вы вообще-то замужем?
– Вообще-то это мое личное дело, – огрызнулась Мураками, – но для вашего сведения я не замужем.
– Заметно, – грустно констатировала кислая Клеопатра, скептически оглядывая антисексуальный экстерьер своей землячки.
– За неимением моего давайте вернемся к вашему мужу, – тоном, не терпящим возражений, потребовала Аюми.
– Я приехала сюда, на Хоккайдо, чтобы отдохнуть от своего мужа, и именно поэтому, где он сейчас находится, меня абсолютно не волнует. – Ирина по-прежнему с тенью ехидной улыбки на прекрасном лице продолжала изучать внешний вид засидевшейся в девках доблестной капитанши Мураками.
– Отдохнуть? – попросила Мураками пояснить семейную ситуацию, которая для меня лично элементарно читалась с листа, безо всяких пояснений и комментариев.
– Да, отдохнуть, – кивнула Ирина и пустила в ход единственно доступное в данной ситуации средство сопротивления если не мне, то, по крайней мере, девице Мураками. – Мне слюни его надоели, понимаете? И визги его поросячьи!…
– Визги? – переспросила несколько потухшая Аюми, понявшая, что разговор зашел на те территории, где она чувствует себя не столь уверенно, как на поприще оперативно-розыскной работы.
– А он у меня, когда кончает, визжит как свинья, – буднично поведала нам с Аюми роковая женщина и демонстративно медленно положила свою роскошную левую ногу на не менее роскошную правую.
– А слюни? – вмешался я.
– И слюни пускает, как та же свинья…
– Какое это отношение имеет к вопросу о его пропаже? – спросила красная, как плоть чавычи, Мураками.
– Никакого, – все так же хладнокровно откликнулась Ирина. – Это имеет отношение к вашему вопросу.
– Вопросу? – Похоже, Аюми, услышав из женских уст прозаичный постельный глагол, потеряла всякую ориентацию в ею же самом сформированном хронотопе.
– Ну вы же спросили меня, люблю ли я своего мужа, да? – хмыкнула Ирина. – Забыли уже?
– Значит, вы его не любите? – вернулась к начальному пункту своего допроса Мураками.
– Я хотя и русская, но, извините, не извращенка, – призналась Катаяма. – Так что увольте…
– Увольте? – пожала плечами по-прежнему пылающая стыдливым жаром Аюми.
– Прикиньте сами, – Ирина сняла левую ногу с правой и поджала их под диванчик параллельно друг другу, – вы под него через ночь ложитесь, потому что ему кончить надо, а он, свинья, при этом не только сделать это три часа не может, он еще вас всю слюнявит и на ухо вам визжит, как будто он не сексом занимается, а поросят рожает. Как, после этого я должна его любить?
– Ирина, – осторожно кашлянул я, – секс, безусловно, дело важное, красивый и приятный секс, я имею в виду, но что хочет сказать Мураками-сан, гораздо шире.
– А что хочет сказать Мураками-сан? – хмыкнула Ирина. – Она же, по-моему, про любовь спрашивала, нет?
– Мы вчера в Отару с вами этой темы уже касались, – я вспомнил о нашем импровизированном рандеву в «хилтоновском» кафе, – поэтому давайте все-таки попробуем посмотреть на проблему шире.
– Шире не бывает! – качнула она прекрасной головкой. – Вы думаете, почему Ато на мне женился? Вернее, для чего?
– Для чего? – спросила въедливая Мураками.
– Чтобы трахать меня, – уже знакомым будничным тоном проинформировала нас циничная Ирина. – А воротнички там мылом натирать, брюки через тряпку гладить, икебану из хавки вашей гнусной на подносе подавать – это уже дело десятое.
– Как же десятое? – я сымитировал обиду за наших японских жен и еще более – за нашу родимую японскую кухню, воскресив в памяти утреннее ароматное натто.
– Да так, десятое! Для домашних дел он на японке бы опять женился – и весь разговор!
– «Опять»? – удивился я.
– Катаяма-сан до Ирины-сан был женат на Катаяме Норико, девичья фамилия Мори, – ответила за Ирину Мураками.
– Они что, развелись? – спросил я пустоту впереди и справа от себя, так и не решив, к кому из двух дам обратить этот вопрос.
– Когда у Катаямы-сана начался роман с Ириной и он стал постоянно ездить к ней на Сахалин, Норико-сан в конце концов не выдержала измен мужа и подала на развод, – бойко отчиталась Аюми.
– Роман!… – хихикнула Ирина. – Приедет – трахнет, подарит что-нибудь, жениться пообещает и свалит! Роман, скажете тоже! Так, повестушка про пастушку!
– Ну если, Ирина-сан, про пастушку, – вмешался я, – то не про слишком уж и наивную.
– Да уж умом Бог не обидел, – сделала сама себе комплимент Ирина. – Уж, по крайней мере, поумнее ваших баб буду!
– Конечно! – кивнула Мураками. – Куда уж нам до вас!
– Да уж! – самодовольно ухмыльнулась сахалинская красотка и сдвинула свои соединенные ноги чуть вправо, открыв моему пламенному взору те части своего великолепного тела, которые вчера только угадывались под черными брюками.
Здесь, не на самом интересном, но, безусловно, заслуживающем внимание месте, в сумке Мураками застрекотал сотовый, и, пока она извлекала его оттуда, у меня в нагрудном в кармане заверещал мой.
– Алло! – синхронно откликнулись мы с Аюми на оба звонка – каждый в свою трубку.
Коварная Ирина отодвинула ноги еще дальше вправо, наглым образом демонстрируя мне свои безупречные бедра, так что я даже не сразу сообразил, что звонит Нисио.
– Такуя, ты у нее? – прохрипел чемпион мира по храпу.
– Да, – кашлянул я в ответ.
– Говорить можешь?
– Нет.
– А слушать?
– Могу.
– Ну слушай тогда! Тут из Ниигаты был звоночек…
Я покосился на сжавшуюся в комочек Мураками и понял, что ее ниигатское начальство вливает ей сейчас в ухо ту же информацию, что мне начал вкачивать Нисио. Утвердился я в этой мысли окончательно, когда мы с ней опять-таки синхронно нажали на кнопки отбоя, завершив одностороннее десятиминутное прослушивание, которое навлекло на лишившуюся возможности огрызаться на наши выпады Ирину скуку и зевоту.
– Хорошие дела… – выдавил я из себя.
– Да, неплохие, – согласилась со мной Аюми, судя по ее проницательному взгляду также сообразившая, что то, что услышала сейчас она, известно уже и мне.
– Приступим? – по-японски предложил я Мураками. Я люблю работать параллельно, особенно с женщинами или, как в данном случае, с девушкой. – Не против?
– Я – за, – улыбнулась Аюми.
– Ирина, скажите, пожалуйста, в каком банке вы храните свои деньги?
– Ну знаете! – вспыхнула она. – Про секс еще спрашивайте, а мои деньги вас не касаются!
– Не касались до сегодняшнего утра, – уточнил я.
– А что случилось сегодня утром? – настороженно поинтересовалась Ирина.
– А сегодня утром выяснилось, что на всех четырех банковских счетах вашего мужа, – вступила в бой капитан Мураками, – нет ни одной иены! Все его счета пусты!
– Пусты?… – по инерции переспросила она и внезапно осеклась, как будто в самый неподходящий момент у нее на бедрах лопнули обволакивающие их колготки.
– Да, пусты! – кивнула Мураками. – В общей сложности на счетах у вашего мужа было сто двадцать три миллиона иен на трех иеновых счетах и восемьсот тысяч американских долларов с солидным хвостиком – на валютном. Вы, надеюсь, знали, какими денежными суммами располагает ваш супруг?
– Догадывалась… – От побеления ее не спасали теперь даже щедро нанесенные на скулы румяна.
– Зато вот ваш личный иеновый счет в ниигатском отделении банка «Мичиноку» неожиданно пополнился вчера на сто двадцать три миллиона иен, а валютный, в том же «Мичиноку», – на восемьсот тысяч долларов с тем же толстеньким хвостиком.
– Откуда у вас такие данные? – мертвым шепотом спросила Ирина. – Это же конфиденциальная информация…
– Отчасти, – ответила Аюми. – Только отчасти.
– От какой части? – прошептала она.
– От личной части вашего мужа, – сказал я. – Сегодня утром, точнее – в девять часов пять минут, бухгалтер компании вашего мужа отправилась, по обыкновению, в банк для проплаты текущих операций по купле-продаже машин и по транспортным услугам морских перевозчиков. Ваш муж ведь на судах машины на Сахалин возит?
– Да, – вяло кивнула она.
– Вот, – продолжил я, – в этой части ничего личного уже нет: бухгалтерша, естественно, пользуется корпоративным счетом, зарегистрированным на имя Катаямы Ато не как частного лица, а как владельца частной компании.
– И что бухгалтерша?… – прошипела Ирина.
– Бухгалтерша – ничего, – усмехнулась Мураками. – В смысле, ничего не нашла. Ей счета оплачивать, а служащий банка говорит: извините, проплачивать вам их нечем.
– Бухгалтер – женщина ответственная, да, кроме всего прочего, зарплата с этого счета выплачивается, в том числе и ей, – продолжил я. – Подняла шум, разумеется.
– Шум? – Ирина совсем сникла.
– А как вы думаете? В пятницу деньги были, все эти треклятые миллионы, – она в пятницу тоже какие-то проплаты делала, а во вторник уже нет ни иены! – Мураками, видимо, решила пленных сегодня не брать. – Так что без шума было нельзя.
– Нельзя… – покорно согласилась Катаяма.
– И под этот шум сотрудники банка полезли во все счета вашего мужа, – подхватил я. – На всякий случай, проверить: вдруг Катаяма-сан по ошибке или по какой-либо другой причине перебросил деньги с одного счета на другой.
– В результате чего и выяснилось, – закачала уже лохматой головой Аюми, – что все четыре счета вашего мужа пусты, зато ваши два пополнились на приличные суммы.
– И без ваших объяснений уйти мы не можем, – резюмировал я. – Так что вам слово, Ирина!
– Я… – промямлила она, машинально пытаясь натянуть юбку на колени. – Я, конечно, должна объяснить, но сначала…
– Что «сначала»? – сурово спросила Аюми.
– Сначала вы должны предъявить мне официальные документы, на основании которых вы произвели инспекцию моих банковских счетов, – выдала она неожиданно гладкий и, похоже, механически заученный наизусть сухой, формальный текст.
– Обижаете! – Мне не понравилась эта речь. – Бухгалтер написала заявление о краже средств с корпоративного банковского счета, а сейчас у нас, сами знаете, какая ужасная ситуация в плане преступлений – особенно финансовых.
– Знаю, – согласилась она.
– Вот, – продолжила уже Мураками, – ордер прокурора в этом случае не требуется, достаточно приказа начальника префектурального управления полиции. Он, разумеется, имеется. Если вам не терпится с ним ознакомиться, я закажу его по факсу специально для вас.
– Закажите! – потребовала Ирина, которая в последние полминуты заметно приободрилась: было видно, что первоначальное оцепенение сошло, и ее мощная психологическая турбина опять начала набирать обороты. – И как можно скорее, пожалуйста!
– Так вот, Ирина, – я решил дать Аюми возможность перевести дыхание после этого смачного «закажите», – по приказу начальника управления полиции Ниигаты были вскрыты все счета вашего мужа, после чего немедленно встал вопрос либо о простом, либо о преднамеренном, то бишь умышленном, банкротстве компании вашего мужа.
– Что встал? – совсем уже восстановившимся – наглым и самоуверенным – тоном спросила она.
– Пока только вопрос, – достойно парировал я и с нарочито усиленным скепсисом во взоре пристально взглянул на ее тело.
– А потом что у вас встанет? – продолжила она свою тигриную атаку. – После вопроса?
– А это все будет зависеть от того, какой ответ я получу на мой вставший… – я специально сделал паузу в ее циничном духе, показывая, что не одна она тут не лыком шита, – вопрос.
– Заинтриговали вы меня! – Она подалась вперед. – Короче, пока у вас, у японцев, будут вставать… вопросы, я имею в виду… Да не краснейте вы так, Мураками-сан, разговоры это все только, слова, треп базарный… как первый раз увидите, уверяю вас, – никакого божества и вдохновения, сами убедитесь… Значит, пока вы вопросы свои будете ставить, я вас засужу! Понятно вам?!
– Конечно, – весело ответила опять покрасневшая в последние минуты Аюми. – Тем более что денег у вас теперь достаточно! Всех адвокатов купить сможете!
– Правильно! – гордо и с явным предубеждением согласилась вернувшаяся в свою повседневную личину Ирина.
– Если только докажете, что эти деньги ваши, – вставил я. – А то ведь с вашим Ато всякое могло случиться… Если он до завтра на горизонте не появится, коллеги Мураками-сан начнут его искать, и тогда все денежные средства на всех банковских счетах как его, так и его родственников будут заморожены, так что адвокатам придется верить вам на слово, а это не самая легковерная порода людей.
– Так, все! – Она хлопнула себя по гладким коленям. – Я больше не желаю с вами разговаривать! Мне надо идти!
– Напрасно вы так, Ирина! – посетовал я, осознав вдруг, что ни у могучего и непобедимого меня, ни у субтильной Аюми, у которой все блестящие победы еще впереди, нет при себе абсолютно никаких средств, чтобы формально удержать ее в номере или, скажем, доставить в управление. Более того, получить оперативно такой документ не так-то просто: на это надо часа два-три, за которые столько воды утечет, что потом уже никакой сантехник не поможет.
– Прощайте! – Ирина поднялась с диванчика и выпрямилась во всей своей недоступной красоте: стройная, но не хрупкая, а крепкая, с не потерявшим привлекательности после всех этих «уходите» и «прощайте» лицом.
Я поймал себя на мысли, что думаю не о том, что нам с Мураками нечем ее остановить, а о мерзких слюнях, подобных тем, что покрывают наше деликатесное гнилое натто, и которые в оргиастическом порыве проливаются из мерзкого рта похотливого Ато Катаямы (я его не видел никогда, этого Катаяму, но в том, что он мерзкий и похотливый, я уверен на все двести процентов!) на одновременно тугое и податливое тело Ирины. Затем перед глазами встала печальная картина, на которой она, мужественно исполнившая свой тягостный супружеский долг, медленно идет в ванную и долго стоит под душем, смывая с себя слюни мужа и собственный позор, и ласковая, всепрощающая вода нежной пленкой обволакивает все то же тугое и податливое тело.
– Идемте, Минамото-сан? – прервала мое виртуальное эротическое творчество Мураками.
– Да-да. – Я потряс головой, чтобы прогнать этот тягостный, наркотический сон, и добавил вполне искренне: – Могу только гарантировать вам, Ирина, что мы еще увидимся!
– Без удовольствия! – отрезала Ирина.
– Всего хорошего! – поклонилась ей Аюми.
– Хм! – ухмыльнулась она.
– До свидания, Ирина, – кивнул я ей. – До скорого, до очень скорого свидания!
– Чао! – Ирина распахнула перед нами дверь, через которую мы демонстративно медленно покинули чертоги славянской femme fatal..
Якобы «специалист по торговым автоматам» за время нашей беседы с Катаямой сумел подняться с колен и теперь нехотя ковырял знакомой нам отверткой в верхней части все еще разверстого автомата. Он грустно посмотрел на нас, и мне пришлось строго показать на пол под его ногами, что означало, что свой постылый пост он покинуть пока не может. «Автоматчик» согласно пожал плечами, тихо вздохнул и продолжил знакомить отвертку с хитроумным приспособлением, которое выплевывает банку приторной химической отравы, красящей язык в невероятные цвета, стоит накормить его ста двадцатью иенами.
В лифте я приказным тоном обратился к капитану Мураками:
– Мураками-сан, давайте дуйте в управление к Нисио, все ему перескажите и добейтесь от него разрешения на все виды контроля. Понятно вам?
– Понятно, – стрельнула она по мне смышлеными глазенками. – А вы что будете делать?
– А я заберу вчерашний отарский «краун» и буду пасти нашу с вами подругу. Если, конечно, вы не возражаете?
– Вы будете пасти? – недовольно переспросила она, едва мы шагнули из лифта на персидские ковры гостиничного лобби.
– Можем, конечно, поменяться, – предложил я ей, будучи уверенным в своем успехе.
– Давайте поменяемся! – с радостью согласилась Аюми. – Я же следила за ней в Ниигате! Я все ее повадки знаю!
– А Саппоро вы знаете? – Я прищурился в ее направлении. – Вы здесь который раз?
– Хорошо, пойду к вашему полковнику, – вздохнула она, признавая свое поражение.
Ждать Ирину мне пришлось недолго: едва я выкатил из темного паркинга серебристый «краун», как из соседних ворот появился знакомый «диаманте». Ирина резко ударила по акселератору, покрышки заскрежетали по асфальту, и я с большим трудом успел следом за ней проскочить первый светофор. Она потыркалась в слепые переулки в районе бульвара Одори, убедив меня в том, что не одна только капитанша Мураками слабо разбирается в хитросплетениях строго перпендикулярных улиц центрального Саппоро. По дороге я не раз посетовал на то, что мы так до сих пор и не имеем «прослушки» ее мобильного, поскольку затемненные стекла ее стремительного «мицубиси» не позволяли увидеть, чем кроме отработки навыков вождения в сложных городских условиях заняты ее прекрасные руки.
Остановилась она там, где, по всей логике событий последнего получаса, и должна была остановиться: на обочине около входа в саппоровское отделение банка «Мичиноку». Неожиданным оказалось то, что в дверях банка она нос к носу столкнулась с моим другом Ганиным: он был неотразим в голубых джинсах и черной кожаной куртке, но яростная Ирина, видимо, так не посчитала, гордым коршуном пролетев перед его любопытным носом. Из правого переднего окна «крауна» я с улыбкой понаблюдал за тем, как сначала любопытный нос, а затем шаловливые глаза известного ценителя женской красоты Ганина проследили за парадным проходом изящной античной статуэтки в царство – вернее, учитывая скромные масштабы «Мичиноку», имеющего у нас всего лишь статус регионального банка, – в княжество мамоны.
Сначала присвистнул Ганин – от внезапного прикосновения, хотя бы только глазами, к прекрасному, а затем, приспустив стекло, свистнул я, чтобы привлечь внимание моего закадычного дружка, которому есть на что посмотреть и на его Саше и, соответственно, которому нечего пялиться на заезжих красоток, годящихся ему если не в дочки, то, по крайней мере, в самые младшие сестры.
– Ты чего здесь? – поинтересовался он у меня, подойдя к машине. – Тачка какая-то новая у тебя…
– Казенная, – успокоил я его. – А вот ты чего здесь?
– Да деньги предкам переводил.
– Предкам?
– Маме с папой! – перевел он сам себя. – Учишь тебя, учишь – а толку ни на грош!…
– У тебя что, тоже счет в «Мичиноку»?
– У меня да, а еще у кого? – Ганин распахнул надо мной свои огромные серые глаза, преисполненные одновременно удивлением и иронией, из чего я сделал, полагаю, верный вывод о том, что он опять кого-то или что-то цитирует.
– А вот красотку варьете видел? – кивнул я на дверь банка, за которой скрылась Ирина.
– Кабаре, – брякнул Ганин.
– Чего «кабаре»?
– Это была красотка кабаре – в варьете все страшные, как смертный грех, – разъяснил Ганин.
– Плевать, одна музыка! – небрежно произнес я. – Так вот у нее там счет, как и у тебя. А чего ты вдруг в «Мичиноку» счет завел, Ганин? Паршивенький банк-то…
– Согласен, но только это единственный банк японский, который в России с физлицами работает. И если у меня в нем счет, то легко и, главное, почти бесплатно можно перекинуть денежки мамочке с папочкой, которые у меня, как ты знаешь, Такуя, скромные физически-пенсионерские лица, нуждающиеся в регулярном материальном, то бишь физическом, вспомоществовании. Так что я сюда кое-какие деньги кладу и в Москву перевожу…
– Слушай, Ганин… – Мне пришлось прервать его пространный монолог на темы сыновней любви и благотворительности, поскольку меня вдруг посетила пронзительная и беспощадная мысль. – Ты это… Будь другом, вернись в банк, узнай, что этот цыпленочек в сапожках делает, а? Краем глаза…
– А ты что, сам не можешь? – Ганин заглянул в салон и ехидно принялся разглядывать мои брюки в районе паха.
– Не могу. – Мне пришлось в целях экономии времени оставить этот похабный взгляд без должного мужского внимания. – Мы с ней сегодня уже успели повздорить, и видеть меня она больше не желает. По крайней мере, без ордера на обыск.
– На обыск? – хмыкнул Ганин. – Когда получишь этот ордер, меня пригласи – я хочу ее обыскать!
– Тебе Саша твоя обыщет!
– А тебе – твоя Дзюнко! Она русская?
– Кто? Дзюнко?
– Цыпа твоя желтозадая! – недовольно пояснил Ганин.
– А-а, эта… Сахалинская…
– Значит, не совсем русская, – сделал Ганин странное заключение. – Звать как?
– Ирина. Иди давай!
Ганин вернулся через десять минут. На лице его не было и следа недавнего легкомыслия, впрочем, и серьезным назвать его было нельзя. Скорее, лицо его было элементарно задумчивым, что случается с ними обоими – и с лицом, и с Ганиным – чрезвычайно редко, поскольку мой друг гордится тем, что он может размышлять на самые высокие и широкие темы походя, без демонстрации на челе умственного напряжения и интеллектуальных потугов.
– Ну что, Ганин? – Я вылез из «крауна» ему навстречу.
– Да, в общем, ничего, – пожал он плечами.
– Что она там делает?
– Она деньги переводит, – ответил Ганин.
– Куда, не видел?
– Нет, конечно. Когда я к ней подкатил, она рукой бланки прикрыла… – все так же задумчиво произнес сэнсэй.
– А чего ты такой, Ганин, а?
– Какой «такой»? – Он посмотрел на меня своими серыми прозрачными ледышками.
– Шокированный.
– А-а, это… Понимаешь, Такуя, ни адресов, ни номеров счетов на бланке перевода я не разглядел, сумм – тоже. Но одно тебе могу гарантировать, что по крайней мере в одной сумме было девять цифр.
– Девять?! – воскликнул я и удивился неожиданной писклявости своего голоса.
– Девять, – согласно кивнул Ганин.
– Знаешь что, Ганин, ты давай бери этот «краун» и последи за ней. Она вон на том «диаманте» ездит, а мне в управление срочно надо!
– Ты чего, Такуя, сдурел? У меня третья и четвертая пара в академии! И зачем мне твой «краун» – я на своей колымаге!
– Я в академию звякну, все объясню! Давай, Ганин, не ломайся, попреследуй красивую женщину! Я тебе за это ее обыскать дам, когда ордер получу!
– Обещаешь? – У известного авантюриста всех времен и народов Ганина загорелись глаза.
– Обещаю!
– Ладно, давай ключи!
– Так ты же на своей? – ехидно напомнил ему я.
– От вас потом оплаты бензина не дождешься! – буркнул Ганин, принял у меня ключ от «крауна» и уселся за руль.
Я же пограничным шлагбаумом выбросил правую руку на проезжую часть, и через секунду в нее, визгнув тормозами, уперлось белое такси. Я подождал, пока водитель соизволит нажать на потайной рычажок, чтобы передо мной автоматически открылась задняя дверь, запрыгнул внутрь и еще в полете приказал таксисту гнать в Главное управление полиции Хоккайдо.
Глава 7
Всю короткую в плане километража, но с точки зрения хронометража – бесконечную дорогу до управления я вяло клял себя за свою вечно отравляющую мое существование несдержанность. Я от нее вечно страдаю, как бы ни старалась покойная мать воспитывать меня с малолетства скромницей и тихоней. Держать язык за зубами, а самого себя – в руках для меня все равно что какому-нибудь российскому политикану-краснобаю Жириновскому молчать в течение недели, то есть умозрительно это вполне возможно, но на практике неосуществимо. Правда, в данном конкретном случае у меня было пускай и слабое, но объективное извинение: не раскрой я в номере у Катаямы рот, все равно о тревожных для нее банковских делах она узнала бы, ведь звонок Нисио на мой сотовый всего-навсего дублировал звонок ниигатских парней на мобильник Мураками, и уж она бы точно не упустила случая продемонстрировать мне, как они там у себя, в Ниигате, оперативно работают. Но в любом случае я в течение резиновых десяти минут поездки, несмотря на ощутимое сопротивление со стороны объективно мыслящей части моего сознания, противобородавочным аммиаком рационализма выжигал дурацкую привычку раскрывать рот, когда того интересы дела вовсе не требуют.
Понятное дело, выяснить, куда эта прыткая красотка с упругими формами перевела свои «девять цифр», – вопрос чисто технический: сейчас начальство доложит, если с подачи Мураками еще не доложило, обо всем наверх, и прокурорский ордер на получение конфиденциальной информации об операции одного из клиентов банка «Мичиноку» будет, разумеется, получен. Но этой катавасии и беготни можно было бы спокойно избежать, если бы я не дал ни себе, ни прыткой Аюми коммуникативной воли и не позволил бы нам с ней запросто, когда нас никто об этом не просил, сдать русской важный блок информации, которой она до поры до времени владеть была не должна. У меня всегда так: если я узнаю что-нибудь такое, что может представлять интерес не только для меня, то я тут же должен этим поделиться с другими. Ганин считает, что ничего плохого в этом нет, напротив, он как раз восхваляет эту мою гипертрофированную страсть к информаторству и доносительству, напоминая всякий раз о том, что у нас, в Японии, именно благодаря излишне разговорчивым гражданам раскрываемость преступлений находится на все еще приличном уровне. По глубокомысленному умозаключению сэнсэя, кто, как не офицер полиции, должен показывать своим рядовым согражданам достойный подражания пример словесно-информационного недержания. И он был бы, конечно, прав, если бы не такие огрехи, как полчаса назад в «Гранд-отеле».
В отделе я никого не застал: Нисио с Мураками, видимо, отправились за вожделенными ордерами. На столе меня ожидали первые оперативные данные, которые по долгу службы и штатному расписанию готовит для меня лейтенант Такаги, отвечающий за комплексную координационно-бумажную работу и обобщающий четыре раза в день в единые документы те разношерстные сведения, что поступают к одному из нас по какому-либо делу от оперативников, экспертов, информаторов и из прочих несчетных источников. Примечательно, что вижу я молодого, но толкового Такаги редко – не чаще одного раза в два дня. Наши фазы появления на рабочих местах никак не совпадают: то он бегает по этажам и кабинетам в сборах добытых для нас сотрудниками других подразделений фактов и сведений, то я гоняюсь по городам и весям за каким-нибудь очередным русским морячком, спьяну разбившим голову японскому таксисту. Справедливости ради, на меня Такаги работает не часто: все-таки убийствами русских и русскими мы на Хоккайдо пока не так избалованы, как кражами и драками, но, когда они случаются, Такаги приходится вертеться, потому как информационное обеспечение следствия по факту насильственной смерти требует самого высокого уровня исполнения.
Вот и теперь на серой папке из тонкого казенного картона, педантично положенной строго перпендикулярно нижней грани столешницы, в положенном месте значилось: «Исполнитель – Такаги Цуёси». Штамп «Для служебного ознакомления» предполагал, что материалы под картонной обложкой секретов не содержат, почему, собственно, они бесстрашно и лежали у меня безо всякого присмотра. Папка, «исполненная» исполнительным Такаги, оказалась достаточно увесистой – даже слишком, если принимать во внимание тот факт, что с момента гибели Селиванова не прошло и суток, но, как я и предположил, едва взглянув на нее, три четверти бумаг было посвящено Ирине Катаяме, которая официального статуса подозреваемой по этому делу получить не могла – пока, по крайней мере.
Заключения медэкспертов по результатам вскрытия я вниманием не удостоил, так как не имею привычки по двадцать раз слышать или читать одно и то же. Меня интересовали прежде всего данные о камерах наблюдения в «Альфе», с которых оперативники должны были за ночь снять соответствующую информацию, как было решено на ночном совещании. И отчет по ним следовал аккурат за результатами вскрытия, но должного отдохновения моей страждущей (а когда я веду расследование, я все время стражду – без этого в нашей работе никак нельзя) душе он не принес. Оказалось, что, несмотря на внешне суперфешенебельный облик, «Альфа» не имеет тотальной системы видеоконтроля. Понятно, что наши отели – пока, по крайней мере, – не создаются для удобств и содействия полицейским ищейкам типа меня и Мураками в расследовании обязательных для шикарных гостиниц убийств скромных русских ученых, но, как бы там ни было, иметь камеры наблюдения в коридорах на всех этажах отелям класса «Альфы» все-таки не помешало бы. В Альфе» же, как выяснилось, видеокамеры расположены на этажах только в лифтовых холлах, что напрочь лишало их какой-либо ценности. Ведь из докладной оперативников следовало, что на каждом этаже имеется по два входа-выхода на пожарные лестницы, которые находятся вне зон досягаемости прилифтовых камер. Конечно, страстные любовники обоих полов должны службе безопасности «Альфы» памятник поставить при жизни рукотворный, поскольку они могут не замеченными нанятыми ревнивыми и жаждущими мести супругами противоположных полов частными детективами впархивать и выпархивать из любовных гнездышек. Но в моем случае список с прилагаемыми кадрами двадцати четырех лиц, которые входили и выходили из лифта на двенадцатом этаже «Альфы» вчера между семью и девятью часами вечера, включая нас с Мураками и красавца Заречного с его развеселыми Нинами-Маринами, особой ценности не имел, ибо тот, кто хладнокровно навечно успокоил бедного Владимира Николаевича при помощи советского кипятильника, вряд ли имел глупость приехать к месту преступления на лифте и на нем же отправиться в обратный путь, раз камера стоит отнюдь не скрытая и ее не увидит разве что слепой.
Данные по гостиничному лобби тоже особого оптимизма мне не добавили: там без присмотра оказалось аж целых три входа в служебные помещения самой гостиницы, расположенные за стойкой администратора и за гардеробом, а также служебный вход в ресторан, точнее – в ресторанную кухню. При этом, как сообщал в докладной мне и всем желающим сержант-оперативник Нагао, доступ ко всем этим четырем входам есть как с цокольного этажа, так и с обеих пожарных лестниц. Это означало, что разбираться с каждым из почти двухсот вчерашних вечерних пассажиров гостиничных лифтов, зарегистрированных в протоколах, особого смысла не было, хотя, конечно, опрашивать их всех придется: тот же Нагао в приложенной бумаге требовал от начальства соответствующей санкции. Если исходить из того, что убийца был осторожен, то «видеоследов» после себя он не оставил и, скорее всего, покинул гостиницу – если вообще покинул, а не остался в одном из номеров на законном или незаконном основании – через ресторанную кухню, где вечерами стоит постоянная неразбериха и остаться незамеченным труда не составляет. Получается, что и на работников гостиницы, включая ресторанных поваров и официантов, рассчитывать особо не приходится, хотя их, судя по примечаниям Нагао, в данный момент уже опрашивают три сержанта оперативного отдела, благо на опросы обсуживающего персонала общественного заведения, в отличие от его досточтимых клиентов, санкция прокурора не требуется.
Короче, все верхние в папке Такаги бумаги буднично сообщали мне, что маховик стандартного полицейского следствия по делу об убийстве раскручивается с плановой скоростью, как предписано инструкциями и кодексами, и что, если я вдруг по одной мне известной причине захочу ускорить этот процесс, мне потребуется приложить максимум усилий железной воли и буйного воображения, чтобы изыскать обходные по отношению к стандартным процессуальным мерам способы этого самого ускорения. И единственным плодом моей беспокойной, судорожно бьющейся выуженным из садка и брошенным на разделочную доску карпом фантазии на данный момент была только углубленная разработка Ирины Катаямы, причем вкупе со сброшенным ею вчера в Японское море таинственным мешком, который время от времени всплывал в бурных водах моего сознания, несмотря на его излишнюю перегруженность эротическими переживаниями и физически невыносимыми последствиями бессонной ночи.
Присланные на нее из Ниигаты бумаги были представлены в папке в виде ксерокопий – все оригиналы, надо полагать, забрал себе рачительный Нисио, потащивший, наверное, их сейчас в качестве пугающего жупела к зевающему начальству, чтобы катализировать процесс выбивания из прокуратуры необходимых ордеров и разрешений. По биографической линии роковой женщины, вот уже вторые сутки вызывающей во мне самые полярные эмоции и амбивалентные устремления, ниигатские документы мне ничего нового не сообщили: тот же 1975 год рождения, тот же забытый не только, разумеется, богом, но и, вероятно, дьяволом сахалинский поселок Тымовское, та же уже выслушанная мною от Мураками слезоточивая история высокой любви ниигатского автомобильного дилера и роскошной русской провинциалки. Примечательными оказались только копии многочисленных заявлений родственников Ато Катаямы с требованиями разобраться в отношениях к нему и с ним его новоявленной русской жены. По ним получалось, что не то что месяц, а даже редкая неделя совместной жизни этой интернациональной семейки обходилась без громогласных скандалов, о которых знала не только родня Катаямы, но и его соседи, благо орали друг на друга японский Ромео и сахалинская Джульетта так, что весь квартал, где они живут, был в курсе физиологических особенностей строения тела Ато и мельчайших деталей загадочной русской души Ирины.
Разумеется, любой мало-мальски смыслящий в азах циничной науки о мотивах преступления следователь на раз сможет усмотреть во всех этих бесконечных соседских и родственных доносах на Ирину рациональный момент, который вполне способен был вызвать в ней соответствующий убийственный импульс, направленный в минувшие выходные на ее наивного мужика. Но достаточно было перечитать заявления радетельных родственников, чтобы, уже исходя из чугунной логики рядового адвоката, отнести их к по-житейски вполне объяснимому стремлению алчущих братьев-сестер Ато, на ниве частного бизнеса не преуспевающих, сохранить для себя и своих птенцов тот жирный кусок его потенциального наследства, на который вдруг нежданно-негаданно начала претендовать свалившаяся на их больные головы сахалинская чаровница. Чем дольше я вчитывался в эти отксеренные рукописные заявления, тем явственнее за ядовитыми словами язвительной критики в адрес русской красотки как со стороны соседей, так и со стороны родни Катаямы проступала наша великая и могучая японская ксенофобия.
Я японец, и при этом, как мне кажется, японец весьма неглупый, то есть, в отличие от миллионов упрямых и узколобых сограждан, способный в нужный момент взглянуть на себя и на всю нашу знаменитую нацию со стороны, что, следует признаться, дано далеко не каждому японцу и человеку вообще. В сложившейся ситуации, если на время отбросить в сторону – или в море – злополучный мешок, а заодно и гостиничный кофе в обществе Селиванова, образ соблазнительной Ирины Катаямы в контексте лежащих сейчас передо мною заявлений моих добропорядочных сограждан как нельзя лучше иллюстрирует наш национальный принцип отношения к иностранцам и иностранному. Для рядового японца иностранное всегда значит только чуждое, инородное, то, что никогда не было и не будет частью своего, родного, с чем он никогда, ни за что и ни под каким видом и соусом не сольется в единое биологическое целое. Это в разнузданной и расхристанной Америке всем давно уже все равно, какой у тебя родной язык и какого цвета у тебя лоб. У нас же принять неяпонца как японца дано лишь избранным – людям не только просвещенным, но и просветленным. Именно к таким избранным, видимо, причисляет себя большой оригинал Ато Катаяма, чего нельзя сказать о его близких и соседях. Понятное дело, если у тебя жена – русская красавица с ногами дорогой модели и улыбкой голливудской примы, а не местная скособоченная кикимора с нижними конечностями питекантропа и челюстями неандертальца, ты, показывая ее обществу в ресторане или на прогулке по набережной, демонстративно заявляешь этому обществу о том, что тебе его законы не писаны. Вызов сам по себе бесстрашный, во многом – безрассудный, поскольку для нашего менталитета иностранная жена – явление, как ни крути, преходящее, а японское общество – вечно, и бросающий этот дерзкий вызов гражданин должен быть либо идиотом, что в случае с Ато Катаямой сомнительно, ведь никакой идиот не заработает у нас тех сумасшедших тысяч иен и долларов, которые до недавнего времени лежали на его банковских счетах, либо страдать очевидными наклонностями к суициду – если не физическому, то, по крайней мере, моральному, о чем никаких упоминаний в бумагах я пока не нашел.
Разбирая родственно-соседские каракули, я умышленно заставлял себя гнуть свою палку именно в направлении героизации не виденного никогда Катаямы. Мне было приятно делать из него этакого богатея-изгоя нашего монолитно-гомогенного общества, где только состоятельный человек может плюнуть на все и поплыть против течения, как это сделал несколько лет назад ниигатский Ато, регулярно совершающий заплывы на пароме с Центрального Хонсю на Южный Сахалин. Обратная же сторона его золотой, чемпионской медали умышленно держалась мной в тени, хотя игнорировать факт ее наличия мне, неглупому японцу, было никак нельзя.
За многие годы своей сознательной жизни я научился управлять своим мышлением таким образом, что легко снимаю с повестки дня нежеланные думы, отодвигая их на задний, далекий-далекий план. Мой друг Ганин завидует этой моей феноменальной способности, утверждая, что таким образом я ликвидирую в себе зачатки стресса и основы депрессии, а следовательно, резко снижаю свои шансы подхватить какой-нибудь гнусный рак. Но я отдаю себе отчет, что этот мой антиканцерогенный дар зиждется на нашей глубокой национальной традиции закрывать глаза на то, на что неприятно смотреть.
Мы, японцы, в сущности, еще такие дети, что нам все эти сложные премудрости свободных рынков и информационных технологий – как пытливому детсадовцу Библия: занятно, забавно, особенно если с картинками, но не более того. Когда заезжие русские приятели моего Ганина после третьей кружки пива или шестого стаканчика саке начинают пытать меня о том, как нам, японцам, удалось за какие-нибудь тридцать – сорок лет достичь всего этого разгульного магазинно-гостиничного великолепия, у меня непроизвольно вырываются еретические признания в том, что хрестоматийное японское трудолюбие здесь абсолютно ни при чем. Все, что мы имеем сейчас материального вокруг себя, при себе, на себе и в себе, – это продукты всего-навсего автоматического обезьянства и слепого копирования, результаты неистребимой японской тяги иметь то, что имеют другие. Так мечтает об игрушке своего ровесника любой воспитанник того же детского сада – мечтает не потому, что эта игрушка ему чрезвычайно нужна или очень нравится, а потому что она есть у приятеля, а у него самого ее нет. Но раз эта игрушка существует в природе, то ребенок обязательно должен ее получить, чтобы утолить свое физиологическое стремление к обладанию нужной, но гораздо чаще ненужной вещью: либо силой отнять ее у не всегда по-настоящему и счастливого обладателя, то бишь пойти по стопам мерзавцев типа Гитлера, Сталина или наших кровожадных предвоенных генералов-адмиралов, либо честно купить себе такую же, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся, так как особых военных сил, чтобы отнимать у других красивые игрушки, у нас, японцев, уже более полувека нет.
Когда в сорок пятом от нас камня на камне не оставили американцы с русскими, нам ничего не оставалось делать, как смириться с унизительным положением заплаканного, но гордого ребенка, проигравшего равный бой за желанную игрушку, малость повзрослеть, собраться с силами и начать самим выпускать копии этих вожделенных игрушек, чтобы уже больше никогда ради обладания ими не тянуло в смертный бой. А руками, в отличие от русских, мы работаем лучше, чем головой. Вон Ганин утверждает, что русскому придумать чего-нибудь новое и ценное – например, периодическую таблицу Менделеева изобрести или «Преступление и наказание» написать – как два пальца в вонючем сортире на его подмосковной даче по причине периодического отсутствия электричества обмочить. Но как до конкретного дела доходит, то – обмоченные и сухие пальцы не слушаются, локти не гнутся, шея не поворачивается. У нас же все строго наоборот: зачем ломать голову над тем, что уже придумано по ту сторону как Тихого океана, так и Татарского пролива? Куда проще взять и материализовать давно имеющиеся у человечества идеи. Ну, скажем, мечтал весь мир об идеальных машинах, которые по сто тысяч километров без капремонта и замены всех цилиндров и клапанов могут ездить? Мечтал, еще как мечтал! Ходил, затылок до крови расчесывал, из ушей пар пускал – все без толку. А мы, японцы, эту сокровенную мечту человечества взяли и своими ловкими руками воплотили в твердой жести и мягкой резине – до наших «тойот», «ниссанов» и «хонд» те же американские или немецкие машины и десяти километров не проезжали без поломки, а теперь весь мир имеет совершенные четырехколесные продукты – материальный результат нашего национального перфекционизма в копировании.
И все бы хорошо, если бы только в эту стройную и уже много лет безотказно работающую систему безоглядного копирования и клонирования всего самого насущного и потребного вписывались еще и люди. С машинами нам, японцам, проще: телевизор, он в выключенном состоянии бессловесен, да и компьютер вам, если его не беспокоить, дурного слова не скажет; то же – и гамбургеры с пиццами, которые в японском исполнении куда менее канцерогенны и холестерольны. А вот с человеком – непредсказуемым и своенравным – просто беда. По мужской линии еще куда ни шло: того же американца или немца пригласишь на пару лет попреподавать в университете или поработать в компании, чтобы он поделился новыми виртуальными образами из своих мозговых запасников, потом помашешь ему ручкой – мол, все, твое время истекло, давай дуй к себе обратно в свою толстопузую Америку и брюхатую Германию, а как проводишь его в аэропорту, так тут же кидаешься к станку воплощать подброшенную им идею. Но вот с женщинами – проблема на проблеме, и если анализировать ситуацию в благородном семействе Катаяма именно в этом плане, то неизбежно напорешься на те самые мысли, которые мне было неприятно перекатывать теперь в заполненной мутным туманом голове.
Мне досадно было думать о том, что сахалинская Ирина может быть для Ато Катаямы не высокой наградой за смелость и дерзость, проявленные во время исполнения своего интернационального долга, но всего-навсего той самой красивой детсадовской, игрушкой, которую имели – причем, вспоминая и вызывающую демонстрацию гладких бедер, и фривольно не застегнутую до конца блузку, и интимные подробности их постельных отношений в ее смачном пересказе, во всех разнообразных смыслах этого емкого слова, – его русские партнеры и по которой он вздыхал, млел и сох всякий раз, как привозил в разбомбленный горбачевской перестройкой и ельцинской вакханалией порт Корсаков очередную партию подержанных, но еще вполне приличных, способных пробежать еще не одну тысячу километров наших «идеальных» машин. Но как бы я ни старался отогнать от себя эту назойливо жужжащую в подсознании жирную муху хорошо известной мне мужской похоти, мысль о том, что в один прекрасный день Катаяма ударил кулаком по столу и решил материализовать свою розовую мечту по превращению далекой прекрасной туземки в элементарный спальный объект под своим боком, покоя мне не давала. Слишком уж закономерным, гладко читаемым и ясно осознаваемым был процесс материализации мечты каждого второго японца, в котором эта в данном случае Ирина, а в другом – Наташа, скажем, или Марина, ввозилась в Японию в обмен на сбагренные в Россию подержанные японские машины, – ввозилась тоже наверняка в «подержанном» состоянии, поскольку вряд ли к двадцати семи годам обладательницы сексапильной внешности и более чем демократичного нрава желают оставаться девицами в условиях нынешнего российского бардака, где вот уже более десятка лет все и вся живут по законам небезызвестного дома Облонских. И наш доморощенный Стива, то бишь Ато, на мой просвещенный взгляд, очень подходит в этом фрейдистском фарсе на партию похотливого кота – наверное, все-таки нужно признать, подходит гораздо больше, чем на роль чемпиона Японии по презрению и попранию основ незыблемого национализма и тотальной ксенофобии.
Перебирая бумаги по Ирине, разглядывая ее плохо пропечатанные факсом фотографии, я вдруг опять почувствовал на своих плечах тяжелый груз сна. Зрение мое на секунду подернулось матовой пленкой, и если бы в этот момент у меня за спиной не послышался негромкий гул голосов и тихое шарканье нескольких пар ног по искусственному паласу, которым покрыты полы в нашей конторе, голова бы моя рухнула на папку с ниигатскими бумагами.
– Вы уже здесь, Минамото-сан? – удивленным тоном обратилась к моему затылку Мураками.
– Как видите. – Я решил не удостаивать ее оборотом и продолжал, давя зевоту во рту и разгоняя туман в глазах, перекладывать с места на место казенные бумаги
– А где ваша Катаяма? – пробасил позади меня Нисио, и на этот требовательный зов мне уже нужно было поворачиваться.
– Под надежным присмотром, – ответил я и повернулся лицом к ним обоим.
– Кто за ней смотрит? – не унимался Нисио.
– Один человек… – Я попытался потянуть время, хотя избежать неизбежного удается только в финалах голливудских боевиков. – Хороший человек…
– Что за человек? Я «наружку» за ней не направлял, – продолжил свой допрос Нисио.
– Ганин-сэнсэй за ней поехал, Нисио-сан. – Врать было глупо, а молчать – тем более.
– Совсем спятил?! – злобно прошипел Нисио. – Русского к ней приставил! Ты что, Такуя!
– Ничего, Нисио-сан! Я Ганину доверяю – он с заданием справится, ему не впервой нам помогать.
– Ты смотри, как бы этот «не впервой» для твоего друга последним разом не стал! – пригрозил полковник. – Давай срочно к нему, я все ордера получил. Через полчаса два экипажа нам дают, по три смены в сутки. Вот они и будут ее пасти.
– Две машины – это хорошо, – резюмировал я и стал по сотовому набирать номер Ганина.
– Алле! – прохрипел Ганин после третьего сигнала. – Такуя, это ты? Ты где?
– Да, я. Я в управлении. А ты где?
– А я в педе. – Где?
– Ну в педагогическом университете… – продолжал сопеть невидимый Ганин. – Здесь же конференция…
– Ты что, Ганин, с ума сошел! – У меня та часть моего интеллектуального внутреннего мира, которая в простонародье именуется душой, рухнула в пятки. – Тебя чего просили делать?! Нашел время по конференциям ездить!
– Не ори, Такуя! Чего разорался? – начал, по своему обыкновению, дерзить излишне самостоятельный Ганин.
– Как чего?! Я же тебя просил поездить за русской! А не на конференции своей штаны протирать!
– Ну штанов у меня достаточно, – продолжил пререкания Ганин. – А что до объекта твоего уж не знаю какого конкретно интереса, Такуя, то это она меня сюда и привела. За что ей спасибо огромное!…
– Как «привела»? – У меня отлегло от сердца, и я физически почувствовал вдруг, как из полых ахиллесовых пяток моих, проходя через ахиллесовы сухожилия, медленно возвращается на свое законное место моя слабо сбалансированная душа.
– Так, на «диаманте» своем…
– Значит, она тоже на конференции?
– Да. Она из банка прямиком сюда и попилила. А я за ней. Так что придушил сразу двух кроликов: и тебе пособил, и неплохой доклад Заречного про современную российскую женскую прозу заслушал, – поделился со мной удовлетворенным, но постоянно шипящим и хрипящим из-за мобильно-сотовых искажений голосом мой друг Ганин. – Я, ты же знаешь, к женской прозе, как и к поэзии, вообще-то скептически отношусь…
– Не знаю, но догадываюсь, – перебил я его. – А сейчас там что происходит?
– А сейчас тут происходит обеденный перерыв, – доложил Ганин. – Я, собственно, с тобой потому и разговаривать могу.
– А Ирина где?
– Эта красотка в желтом, что ли?
– Да, она.
– Да вон сидит, метрах в пятидесяти от меня. За стеклом. Они все в университетской столовке закусывают, а я на улице, на стоянке, в твоем «крауне» сижу.
– Сколько еще времени они обедать будут?
– После обеда заседание в два начинается, так что еще почти час. А что, ты тоже, что ли, хочешь про женскую прозу? – ехидно поинтересовался Ганин. – Давай подъезжай!
– Еду! Жди меня, Ганин!
– Ну о чем речь, Такуя! – усмехнулся невидимый Ганин. – Ты же знаешь, что я умею ждать, как никто другой!
Я попросил Нисио послать обещанную «наружку» к педагогическому университету, но приказать сержантам, чтобы они в дело не встревали ни под каким видом, забрал у полковника ордер для снятия показаний в банке «Мичиноку» и двинулся к дверям, демонстративно не приглашая с собой лохматую Аюми. Она же, выказывая очевидную самостоятельность в принятии решений, тут же двинулась за мной следом, вызвав этим своим то ли демаршем, то ли марш-броском едкую усмешку Нисио.
В банке, где мы были уже через десять минут, нас ждал неприятный сюрприз. На девицу за стойкой, которая проводила операцию по переводу денег Ирины Катаямы, наш ордер не оказал никакого воздействия: она не бросилась стучать своими выкрашенными в баклажанный цвет коготками по клавиатуре казенного компьютера в поисках затребованной нами информации, не кинулась шуршать подшивками корешков платежных поручений, а лениво зевнула, посмотрела сначала на меня, потом на Мураками абсолютно пустыми глазами, которыми теперь обычно смотрит на весь мир и его незадачливых обитателей наша японская молодежь, ухмыльнулась без малейшего намека на приветливость и по внутреннему телефону вызвала дежурного менеджера.
Он появился из сумрачных глубин банковского офиса через несколько секунд, являя собой полную противоположность потревожившей его обеденный покой девицы. Из глаз этого еще молодого, но слишком полного для своего молодого возраста клерка лился мед, из уст, едва он их отворил, – мед, и вообще, казалось, что его главная обязанность – таять перед лицом каждого посетителя.
– Чем наш банк может служить полиции Хоккайдо? – сладкоголосой птицей юности пропел менеджер и окатил нас с Мураками ушатом теплой приторной патоки из своих глаз.
– Вот, ознакомьтесь, пожалуйста! – Я протянул ему ордер. – Мы должны получить у вас сведения о сделанном сегодня, приблизительно полтора часа назад, денежном переводе.
– Разумеется-разумеется, – закивал менеджер, вцепившись своими липкими глазенками в казенную бумагу.
– Вас, простите, как зовут? – Мне очень не понравилось, что, вопреки строгим правилам японского этикета, этот толстый парень нам сразу не представился.
– Что, простите? – Он на мгновение оторвал свои масленые глаза от ордера.
– Как обращаться к вам? – утончил я свой вопрос.
– А, извините! Забыл представиться, – продолжал он лить елей из своих уст. – Мурата, Мурата Такаси.
– Приятно познакомиться, Мурата-сан, – констатировал я, протягивая ему свою визитную карточку.
– Взаимно-взаимно! – пропел он, вернув свой взор к документу и одновременно протянув мне свою визитку.
Закончив читать ордер, въедливый Мурата наклонился к девице, что-то негромко ей сказал, на что она ответила снисходительным кивком и тут только зацарапала своими фиолетовыми ногтями по черной клавиатуре компьютера.
– Сейчас Аяко-чан подготовит вам все, что требуется! – пояснил нам с Аюми свои действия сахарный менеджер. – Если мои услуги еще потребуются, то, пожалуйста, вы можете меня вызвать через Аяко-чан.
Он откланялся и удалился в сумеречные запасники своего родимого банка под пулеметный стрекот матричного принтера, начавшего печатать для нас затребованную информацию.
– Нате!… – Холодная Аяко оторвала выдавленные принтером сантиметров восемьдесят перфорированной бумаги и брезгливо протянула их мне.
Компьютерная распечатка сообщала о том, что сегодня, без двадцати одиннадцать утра, с двух своих счетов в банке «Мичиноку» – иенового и валютного – небезызвестная нам Ирина Катаяма перевела, соответственно, сто двадцать пять миллионов японских иен и восемьсот пятьдесят тысяч американских долларов. Как показывала банковская бумага, еще до вчерашнего дня на иеновом счету у нее было чуть меньше двух миллионов, а на долларовом – только сорок шесть тысяч, но уже сегодня эти суммы неизмеримо выросли. По документу выходило, что денежные запасы русской красотки выросли благодаря четырем денежным переводам, осуществленным в понедельник ею же, в этом же саппоровском отделении «Мичиноку», со счетов, зарегистрированных на имя Ато Катаямы. Из чего напрашивался вывод о том, что Ирина знакома со всеми реквизитами этих счетов, включая кодовый шифр для прямого доступа к деньгам через банкомат. Переводы, как значилось в распечатке, были сделаны в понедельник именно через банкомат при банке, а не через окошко, как сегодня.
Мы с Мураками несколько раз пробежали глазами по бумаге и сверху вниз, и снизу вверх, и наискосок слева направо и справа налево, потом тревожными глазами посмотрели друг на друга, достигли немого консенсуса, вышли из состояния секундного оцепенения, вызванного глубоким разочарованием, и вновь подошли к бестолковой Аяко.
– Извините, – буркнул я, – спасибо, конечно, еще раз за бумагу, но вы нам не распечатали самого главного!…
Аяко смотрела на меня своими бесконечно равнодушными глазами и рта открывать не соизволяла.
– Вы понимаете, о чем я говорю? – Я почувствовал, что начинаю закипать.
– Нет, – выплюнула она.
– Вы не напечатали нам, куда она перевела эти деньги! Здесь нет ни имени получателя, ни, по крайней мере, номера его счета. Все, что здесь напечатано, мы и без этого уже знали.
– Я напечатала вам все, что приказал Мурата-сан, – выдавила она из себя и вновь замокла.
– Вызовите нам его! – приказал я.
– Опять? – недовольным тоном хмыкнула Аяко и взялась за трубку телефона.
Мурата подлетел к стойке, едва его хамоватая подчиненная положила трубку на место.
– Что-то еще? – сладко поинтересовался он.
– Да, еще! – Я потряс перед ним распечаткой. – Здесь нет данных о том, кому Катаяма-сан перевела свои деньги. А мы пришли именно за этой информацией!
– Простите, Минамото-сан, – Мурата мягко поклонился, – но, как следует из ордера, который вы мне любезно предъявили, наш банк обязан представить вам финансовую информацию об Ирине Катаяме. У вас в руках сейчас справка о ее текущих операциях за эту неделю, если вы будете продолжать настаивать, мы согласны сообщить вам сведения обо всех движениях средств на ее счетах за последние двенадцать месяцев, но не более того.
– Что значит «не более того»?! – Этот сусальный толстяк окончательно выбил меня из рабочей колеи. – Мы и без вас знали, какими суммами Катаяма-сан оперировала вчера и сегодня! Нам нужна информация, куда она перевела эти суммы. Куда и кому, понимаете?
– Понимаю, хорошо понимаю. – Мурата опять поклонился. – Но только таких сведений наш банк вам передать не может.
– Почему это? А как же ордер? – опешил я.
– Как я уже вам сказал, Минамото-сан, ваш ордер содержит приказ раскрыть сведения, касающиеся только Ирины Катаямы. Мы их вам раскрыли. А если мы дадим вам имя получателя переведенных ею денежных средств и укажем номер его банковского счета, то это будет уже предоставлением информации по совсем другому человеку.
– Мы расследуем дело об убийстве, – я постарался взять себя в руки, – и между Ириной Катаямой и этим человеком, возможно, существует связь, установление которой должно ускорить поиски преступника. Понимаете?
– Понимаю-понимаю, хорошо понимаю, – пропел Мурата. – Но только помочь ничем не могу. Если бы у вас был ордер на раскрытие информации о получателе денег Катаямы-сан, тогда не было бы никаких проблем, а пока такого ордера у вас нет.
– Будет вам ордер! – перебил я его.
Мы с Мураками двинулись к выходу, ощущая одновременно на своих спинах морозный взгляд опустошенных безвкусной поп-музыкой и пошлыми комиксами глазищ индифферентной Аяко, и, уже когда перед нами бесшумно разъехались автоматические стеклянные двери, услышали позади себя сладенькое посапывание.
– Извините, – прошептал у нас за спиной ласковый Мурата. – Всего лишь один момент!…
– Что еще? – без излишней нежности поинтересовался я.
– Если это вам поможет, пока – без ордера, я могу сказать вам только одну вещь…
– Какую вещь?
– Но только я вам ее не говорил, хорошо?
– Хорошо, – согласился я, вспомнив поговорку о дефиците рыбы и ее вынужденной замене на рака. – Что у вас?
– Если это вам поможет, то я хочу сказать, что этот получатель… То есть человек, которому Катаяма-сан перевела сегодня деньги, – он тоже клиент нашего банка.
– Значит, перевод был внутрибанковским? – встряла с умным вопросом в наш мужской разговор с мягкотелым менеджером Мураками.
– Совершенно верно! – заулыбался Мурата.
– Получатель – клиент вашего отделения? – Я поспешил вернуть инициативу себе.
– Нет, головного офиса, – завертел своей большой головой Мурата. – Центрального то есть…
– Все? – спросил я с надеждой услышать от него еще хотя бы пару таких вот ценных слов.
– Все, – кивнул Мурата, развернулся и шустро засеменил на свое рабочее место.
В машине, едва я повернул ключ в замке зажигания, Мураками заразительно захихикала.
– Чему радуетесь, капитан? – Я попытался заставить свой голос звучать как можно суше и горче.
– Здорово он нас с вами отшил! – продолжала хихикать она.
– Ага, – согласился я, – а заодно и прокурора.
– Вообще-то их понять можно. – Она перестала смеяться и несколько посерьезнела.
– Всех, Мураками-сан, если постараться, можно понять… – Я пытался выбраться из толкотни и давки на узких улочках центра Саппоро, чтобы поскорее взять курс на район Ацубецу, где дислоцирован оплот нашей хоккайдской педагогической науки.
– Да вы сами посудите, Минамото-сан, – всплеснула она своими крошечными ручками, – сейчас в банках в наших кошмар один, правда ведь? Вся ведь система банковская умерла…
– Ну, Мураками-сан, нас с вами в данный момент это не касается. Если мы сейчас начнем в нашей экономике копаться, убийцу Селиванова мы вряд ли сыщем…
– Да нет, я не о глобальном. – Она сузила до предела свои и без того малюсенькие глазки.
– А о каком же вы тогда? – Мне наконец-то удалось вырулить на проспект Сосей, ведущий на север города, здесь было три полосы в каждую сторону, так что теперь можно было идти, по крайней мере, пятьдесят – шестьдесят.
– О частном, – вздохнула Аюми. – О конкретном этом самом Мурате. Он же понимает прекрасно, что если он сдаст нам с вами клиента, который получил сегодня больше миллиона долларов, а мы этого клиента арестуем, то его родимый «Мичиноку» этого миллиона лишится.
– Вы хотите сказать, что он из патриотических соображений стал наш с вами ордер буква в букву выполнять?
– Именно. – Она потрясла своими лохмами, ко второй половине долгого дня вконец потерявшими всякую форму. – Я уверена, что, если бы Ирина Катаяма сделала перевод в другой банк, он бы нам с вами об этом сообщил.
– Логично, – согласился я. – Ему бы небось даже премию дали, если бы он у конкурента миллиончик оттяпал.
– Вот-вот, – закачала она свой бесформенной головой. – Но хорошо хоть, что он про Аомори сказал…
– При чем здесь Аомори? – Я был занят поисками кратчайших путей на северо-восток, и до меня не сразу дошел смыл ее слов.
– Ну как же, это же «Мичиноку», у них главный офис в Аомори, это же региональный банк. У вас, кстати, там знакомых нет?
– Где? В главном офисе? – удивился я.
– Да нет, в тамошнем управлении полиции, – улыбнулась Аюми. – Может, есть кто?
– Кто-то точно есть, только раз уж тут дело пошло на принцип, главный офис придется с новым ордером брать лобовой атакой, а не с тыла заходить, второй раз на такой отпор нарываться как-то не хочется. Вы, к слову сказать, Мураками-сан, пока ордерок на «прослушку» перечитайте. А то и с ним еще в лужу сядем: окажется, что номера, с которыми наша красавица связывается, тоже какие-нибудь страшно засекреченные.
– Да вроде нет. – Мураками послушно зашелестела бумагами. – Здесь предписано все входящие, все исходящие и все номера до единого считывать и фиксировать. Кстати, хорошо, что здесь и ее номер есть, надо его себе переписать.
Она ловко заскрипела большим пальцем правой руки по клавиатуре своего сотового, вводя номер Ирины Катаямы в его память, и я в очередной раз восхитился этой удивительной способности нашей молодежи без видимых усилий перенимать такие вот заморские привычки, о существовании которых мы в их двадцати-тридцатилетнем возрасте даже и не думали.
Педагогический университет Саппоро оказался огромным комплексом зданий, выполненных в духе традиционной для Японии эклектики: некогда белые бетонные коробки старых корпусов соединялись крытыми надземными переходами с дорогим модерном из стекла и бетона, с несуразными колоннами и портиками, и ото всего этого веяло жуткой тоской и безмерной скукой. Единственным элементом, вносившим некий жизнетворный диссонанс в местный хронотоп, была забитая под завязку – очевидно, в связи с конференцией – автомобильная стоянка. Разглядеть на ней мой отарский «краун», катаямовский «диаманте», а заодно и обещанные два экипажа «наружки» возможным не представлялось, как, собственно, и зарулить на площадку. Вежливый дежурный на входе отвесил нам глубокий земной и оранжевым пластиковым жезлом указал на соседнюю березовую аллею, на обочине которой уже притулилось полдесятка машин таких же, как мы, опоздавших к началу великого научного форума.
В фойе три солидные дамы, восседавшие за столом регистрации, попытались в обмен на врученные нам большие толстые конверты с программой и материалами конференции содрать с нас регистрационный взнос – по три тысячи иен с носа, и в этом своем коммерческом экстазе настроены они были так решительно, что даже наши полицейские удостоверения подействовали на них далеко не сразу.
Зал – видимо, главный, он же актовый, он же центральная аудитория, – был, подобно стоянке за окнами, забит поклонниками российской словесности. На сцене за длинным столом президиума восседали пятеро наших седовласых и редковолосых сэнсэев, с двумя из которых я, благодаря отцу, был даже шапочно знаком, а разбавлены они были моей старой подругой Наташей Китадзимой и первым парнем русской компаративистики Олегом Валерьевичем Заречным. Слева от президиума возвышалась кафедра, из-за которой торчала вчерашняя Марина Борисовна, бойко стрекотавшая по-русски о чем-то возвышенно-феминистическом. Я автоматически попытался угадать, кто из восседающих в президиуме дедов Наташин муж, но неумная Аюми прервала едва начавшийся аналитический процесс, как всегда, потянула меня за рукав и сверкнула глазками в направлении левого сектора, где среди серых и синих спин нагло желтел пиджак Ирины Катаямы. Ее присутствие в зале меня успокоило, и теперь оставалось только разыскать моего друга Ганина, что из-за переполненного зала сделать было непросто.
К подобным мероприятиям, которые как у нас, так и по ту сторону рассвета и заката высокопарно именуют поочередно то симпозиумами, то форумами, я приучен с детства. Отец стал брать с собой нас с мамой, как только его повысили с доцента до профессора, то есть когда зарплаты его стало достаточно для того, чтобы безболезненно для нашего семейного бюджета пару раз в год оплачивать нам с мамой утомительные поездки в Баден-Баден, который облюбовали себе сибариты-достоевсковеды, или в Лондон, где предпочитают собираться высоколобые поклонники Герцена. Так что никакого там замирания сердца и тревоги в груди в таких аудиториях я не ощущаю, зато в маниакальном блеске глаз отпустившей наконец-то мой локоть Мураками я разглядел непреодолимую филологическую похоть. Собственно, персонаж этот был для меня ясен как пресный рис: девочка с розовыми мечтами в лохматой башке, не имеющая никаких шансов на то, что называют «счастьем в личной» жизни, идет на филфак престижного вуза, кончает его, затем – аспирантуру, причем не где-нибудь, а в Петербурге, возвращается на белом коне (вернее, в ее случае – на белом пони) на родину, а эта самая родина вдруг сообщает ей, что никакие высокооплачиваемые русисты-слависты ей не нужны и что девочка может быть свободна. Но мечты мечтами, а даже этому мышонку требуется ежедневная порция все того же пресного риса, а также кое-какие шмотки, как вот эти вот расхристанные шаровары, так что подалась наша Аюми-чан в полицию, да еще и не Токио-Осаки, а захудалой Ниигаты, где русский язык звучит не в университете, а в порту, и не правильное московское наречие, а трехэтажный сахалинско-владивостокский матюжок, от которого у девочки с розовыми мечтами в башке краснеют щеки.
– Доклад послушать хотите, Мураками-сан? – шепнул я себе под левую руку.
– Ага… – раздался с пола извиняющийся шепот.
– Ну так идите сядьте где-нибудь и слушайте, а потом по мобильному созвонимся. – Мне вдруг стало бесконечно жаль эту нескладную, но, несомненно, смышленую девицу, и я захотел хоть как-нибудь облегчить ее прозаическую полицейскую участь.
– Спасибо! – Она потрясла под моим подбородком своим сотовым и зашуршала своими шоколадными брюками по ближайшему проходу.
Я же понял, что Ганина разглядеть со спины не удастя, смирился с этим и вышел в фойе, поскольку слушать какие-то жутко неприличные вещи про некую Валерию Нарбикову, которую мне в Токио представлял два года назад отец, я не желал. Едва я вышел из зала, как был облит с ног до головы презрением и негодованием, выплеснувшимися из трех пар знакомых уже глаз суровых регистраторш. Я решил не искушать судьбу и отошел от них подальше. Взгляд мой машинально упал на туалеты в глубине фойе, и я подумал, почему бы не пойти и не справить один из видов естественной нужды, если другой вид – поспать – мне в ближайшие часы справить явно не удастся.
Я зашел в туалет и сразу же наткнулся на своего друга Ганина: он медленно расчесывал перед зеркалом свои густые русые волосы и насвистывал что-то из «Carpenters» – если я правильно понял, это была «Вершина мира».
– О, Такуя! – удивился Ганин. – Где еще двум интеллигентным мужикам встретиться, как не в сортире!
– Привет-привет… – Я решил повременить с отправлением нужды. – Давно ты здесь?
– Я же тебе по телефону сказал: сразу после банка сюда за твоей миллионщицей прикатил!
– В туалете, я имею в виду, – урезонил я сэнсэя.
– А-а, это… – ухмыльнулся он, – давно…
– Что, съел что-нибудь? – Я люблю поддевать своего приятеля: без взаимной пикировки представить наши отношения невозможно. – Или выпил?
– По-твоему, Такуя, в сортир только по физической нужде люди ходят? – Он убрал в карман брюк расческу и серьезно посмотрел на меня. – Ошибаешься!
– Ошибаюсь? – прищурился я.
– Ошибаешься, Такуя! Человек может идти в туалет и по нужде духовной!
– Это что же за нужда такая духовная, друг мой ситный, которая человека в уборную гонит?
– А такая… – Ганин внимательно посмотрел на себя в зеркало. – Знаешь, у нас поэт один был, который написал золотые слова: «Он не от счастия бежит».
– Лермонтов, что ли? – Я люблю показывать Ганину, что меня голыми руками не возьмешь, впрочем, и вооруженными – тоже.
– Да, Лермонтов, – кивнул Ганин, не отрывая своих серых очей от зеркала. – Так вот смысл этих слов в том, Такуя, что человек от счастья убегать никогда и ни за что не будет.
– Если этот человек не идиот, – уточнил я.
– Идиот, Такуя, – это уже не Лермонтов, – назидательно произнес Ганин. – Идиот – это Достоевский и его великая достоевщина.
– Согласен, – кивнул я в ответ.
– Так вот, если этот человек не идиот и не Достоевский, он от счастья бежать не будет. А бежать он будет от несчастья, а скрываться от этого несчастья легче всего в туалете: женщине – в женском, мужчине – в мужском. Не согласен?
– И что же это за несчастье такое, от которого ты, Ганин, в сортир убежал?
– Да вот как женщина эта необъемная, Марина Борисовна, на пьедестал взошла и стала к себе на этот пьедестал Валерию Нарбикову затаскивать, для меня, Такуя, несчастье и наступило.
– Понятно. – Я решил все-таки совместить умную беседу с одухотворенным сэнсэем с тем, за чем я, собственно, сюда и пришел, и прошел в писсуарный зал.
– Ты, Такуя, сам ведь, я гляжу, про Нарбикову слушать не больно хочешь, – бубнил Ганин из-за стенки. – Она тебе тоже не очень-то нравится.
– Ты ее видел, эту Нарбикову? – парировал я, борясь с приступом стеснения, не позволяющим мне справлять нужду в присутствии кого бы то ни было.
– На фотографии только.
– А я ее у отца встречал, так что мне виднее! – Процесс наконец-то пошел, и я почувствовал прилив моральных сил и отлив физических.
– Ты мне лучше про Ирину про эту расскажи! – не унимался Ганин. – Классная баба, я тебе скажу!
– Тебе Саша твоя покажет «классная»! – Я вернулся к умывальникам и Ганину, на ходу застегивая брюки.
– Нет, серьезно, чего она натворила-то?
– Потом расскажу, пошли-ка в зал лучше. Мы вышли в пустое фойе и направились к залу.
– У нее муж японец? – продолжал проявлять явную мужскую заинтересованность в Ирине известный сердцеед Ганин.
– Японец, успокойся! – огрызнулся я.
– Значит, правильный мужик! – кивнул своей светлой головой мудрый Ганин.
– Чем это он правильный? – Я взялся за ручку двери.
– Знаешь, Такуя, я уже давно понял две вещи: машина у настоящего мужика должна быть японской, а жена – русской, – отрезал Ганин, и мы вновь оказались в душных чертогах славистики.
Глава 8
Я отключился сразу же, как только мой измотанный бесконечными пересадками зад опустился в мягкое кресло в последнем ряду. Сновидения также не заставили себя ждать и заполнили трещащую по швам и стыкам черепную коробку, едва я смежил веки. Привиделась мне, как и следовало ожидать после двух суток массированной эротической атаки на мое самолюбие, Дзюнко в ярко-желтом пиджаке безо всякого намека на юбку, зато в черных ажурных чулках с подвязками, которые почему-то, как я не преминул отметить даже во сне, ей не слишком шли. Ноги у нее не то чтобы кривые, нет – они у нее просто какие-то неровные, как будто их наши синтоистские боги из глины руками слепили, а отшлифовать их чем-нибудь твердым и абразивным до безупречно гладкого состояния не удосужились – то ли по лености, то ли еще по какой причине. И тонкие чулки эти ее палкообразные конечности не красили, а, напротив, акцентировали внимание на их шероховатости и суковатости. Я, разумеется, поспешил раскрыть свой неугомонный рот, чтобы приказать Дзюнко немедленно надеть юбку подлиннее или, лучше, брюки пошире, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение то, что видеть должен только я, ну и дети, само собой, в бане, но тут вдруг почувствовал легкий тычок в левый бок.
– Вставай, кудрявая! – прошептал мне в левое ухо Ганин. – Нас утро встречает с прохладцей!
– Что, Нарбикова уже кончилась? – из вежливости поинтересовался я, разрывая не на шутку склеившиеся ресницы.
– Не только Нарбикова, но и Толстая, – отозвался Ганин.
– Какая Толстая? – уже искренне спросил я.
– Татьяна, – без особого пиетета пояснил сэнсэй.
– А-а, эта… – я вспомнил прошлогоднее мимолетное свидание с этой модной литературной дамой дома у отца. – Большая женщина…
– На вкус и цвет, Такуя, корешка себе не найдешь, – резюмировал Ганин.
Про Татьяну Толстую, как я смог понять, разодрав-таки пудовые веки, докладывала вчерашняя Нина Валентиновна, которая теперь с высокой трибуны отвечала на туманные вопросы оживленной аудитории. Я посмотрел на часы: было почти пять. Надо отправляться в управление, садиться за ненавистный компьютер и начинать суммировать все, что мы имеем за сутки следствия. К шести из отеля должны вернуться наши ребята с протоколами опроса потенциальных свидетелей, мне же еще надо было договориться с этими толстушками-хохотушками и важным Заречным о том, когда нам удастся снять с них показания. Заодно надо разыскать и Мураками, которая, видно, позабыла от филологического упоения, зачем она сюда приехала, чтобы забрать ее с собой в управление: оставлять ее вместе с Катаямой из служебных соображений я не хотел, так как не имею привычки предоставлять конкуренту возможность получить от потенциального свидетеля эксклюзивную информацию.
Могучая Нина Валентиновна ответила на последний вопрос и стала осторожно спускаться со сцены, а почетный президиум, хлопая в ладоши с деланным энтузиазмом, начал по очереди подниматься со своих стульев. Когда моя давняя знакомая Наташа Китадзима вышла из-за стола, я не без мужского удовлетворения отметил, что все-таки не все так грустно под луной и не все женщины безнадежно грузнеют на шестом десятке, теряя остатки изящности и стройности, если они, конечно, имелись изначально: издалека фигуру ее можно было даже посчитать идеальной, если бы вновь, как и вчера, ее бедра не скрывал длинный, на этот раз – темно-серый, пиджак, порождавший законные сомнения в полном ажуре под ним как в переносном, так и прямом смысле, потому как вопрос о колготках и чулках до сих пор остается актуальным – особенно в контексте моего мимолетного сновидения. Юбка такого же цвета была опять выше аппетитных коленок, а главным объектом вожделения жаждущих, которых в заполненном аморфными бесполыми филологами помещении было не так уж и много, являлась ярко-красная блузка. Джентльмен Заречный, вставший из-за стола следом за Наташей, умело обошел ее на дороге к лестнице и протянул женщине руку, которую она не раздумывая приняла в качестве формальной опоры. Я шепнул Ганину, чтобы он попросил Олега Валерьевича с его вчерашними спутницами задержаться, а сам стал рыскать глазами и телом в поисках Мураками.
В зале стояла страшная сутолока: филологическая братия, не отличаясь соблюдением требований дипломатического протокола, несмотря на заявленный статус конференции как «международной», монолитным стадом поплыла к явно не готовым к такому яростному штурму дверям, так что я решил, что будет разумнее немедленно покинуть душное помещение и уже в фойе собирать по крупицам нужный народец. Протискиваясь к выходу, я напоролся на русского мужичонку, в котором узнал вчерашнего третьего представителя номинально сильного пола, прибывшего в компании с Заречным и Селивановым для участия в этом грандиозном интернациональном форуме. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж дедушкой, как мне показалось вчера в аэропорту Читосэ: конечно, ему было хорошо за шестьдесят, но двигался он бойко, а водянистые, блеклые глаза источали осмысленность и проницательность. Кроме того, сегодня на нем была отнюдь не вчерашняя дедовская пара, выполненная в лучших традициях советской послевоенной моды, а строгие черные брюки и довольно новый темно-серый пиджак из букле. Я автоматически кивнул ему на ходу, он же удостоил меня только удивленно-прохладным взором, по которому стало ясно, что он меня не помнит. Может быть, посмотри он на меня еще полминуты, он отыскал бы меня в недрах своей памяти где-нибудь между Ломоносовым и Фонвизиным, но его внимание отвлек явно неожиданный для него звонок мобильного телефона, который раздался вдруг из глубин его потрепанного темно-коричневого портфеля, видавшего как виды, так и миллионы таких вот конференций. Мужичонка замешкался, как мне показалось, от удивления, я же продолжил свой путь на волю, на котором через несколько метров встала взъерошенная Мураками, чья голова вдруг увеличилась в размерах, но почему-то только с левой стороны. Сначала мне показалось, что у нее невероятно быстро отросли непослушные волосы, но, сократив расстояние между нами до двух шагов, я с облегчением разглядел, что она всего-навсего прижимает к левому уху свой сотовый телефончик. Я не стал мешать ее беседе, хотя она, как я заметил, молчала, коснулся ее плеча, жестом показал на фойе и оставил ее посреди критической филологической массы, медленно вытекавшей из зала.
В фойе я занял удобную охотничью позицию слева от дверей, и уже через минуту ко мне подошел Ганин в компании неотразимых Наташи Китадзимы и Олега Валерьевича. При ближайшем рассмотрении Наташа, разумеется, не выглядела так эффектно, как издалека, но умело наложенная жидкая пудра скрывала возрастные изъяны кожи на лице, воротник огненной блузки был поднят достаточно высоко, чтобы спрятать от посторонних взоров и, соответственно, разочарований шею, и только руки выдавали Наташины годы. Женщины ее возраста страдают больше всего именно от рук: шею можно закрыть, щеки – замазать, руки же замаскировать, как правило, не удается, и они остаются, пожалуй, единственной уликой, доказывающей неизбежность процесса увядания прекрасного тела. Заречный рядом с ней смотрелся практически ее ровесником, хотя, судя по всему, был ровесником моим.
– Здравствуйте, Минамото-сан, – поклонился Заречный. – Какими судьбами?
– Да все теми же, филологическими, – улыбнулся я. – Здравствуйте, Наташа!
– Добрый день, – как-то неожиданно нехотя и даже прохладно откликнулась она.
– Господин Ганин сказал, что вы хотите с нами поговорить. – Олег Валерьевич перевел взгляд с меня на Ганина и обратно.
– С вами, – уточнил я, посмотрев прямо в его пепельные глаза, скрытые за узкими стеклами. – А также с вашими вчерашними спутницами…
– С Ниной и Мариной? – Заречный поднял брови. – Это все по поводу Селиванова?
– Да, как мы вчера с вами договорились, – напомнил я Олегу Валерьевичу. – Где ваши дамы?
– Сейчас найдем. – Заречный с высоты своего роста стал стрелять орлиным взором над головами пигмеев-филологов.
В этот момент в трех метрах от нас из толпы вверх взметнулась чья-то рука. Она была облачена в рукав уже виденного мною сегодня серого пиджака. Рука медленно продвигалась вместе с толпой к выходу, скрывая своего хозяина за тремя рядами устало влекшихся на свежий воздух бледных, но счастливых участников великого действа.
– Кириллов чудит, – хмыкнул Заречный, которому, видимо, была видна не только рука, но и голова, вместе с которой она плыла. – Старик в своем репертуаре.
– Кириллов? – спросил я и посмотрел одновременно на Заречного и Ганина.
– Кириллов – профессор из Хабаровска, – пояснил Заречный. – Большой оригинал!…
– Он вчера с вами прилетел, да? – задал я Олегу Валерьевичу совершенно бесполезный вопрос.
– Да, вы же вчера в аэропорту его видели, – кивнул Заречный и вдруг сам замахал правой рукой. – Вон Нинка ползет…
Пока Заречный подзывал Нину Валентиновну, а затем и Марину Борисовну, означенный чудак Кириллов появился по ту сторону стеклянной стены фойе и встал на тротуаре, продолжая держать над головой высоко поднятую руку. Я на секунду отвлекся от Заречного и перекидывающихся ничего не значащими фразами Ганина и Наташи Китадзимы, соотнес полученный вчера в аэропорту опыт с мобильником у уха требовательной Аюми, открыл было рот, чтобы вслух удивиться, но тут увидел, что расторопная Мураками уже подлетела к Кириллову, привстала на цыпочки, опустила своей детской ручонкой его филологическую десницу и принялась что-то тараторить, указывая то на свой, то на его сотовый, торчащий из нагрудного кармана его пиджака.
Я попросил Заречного с его дамами завтра в восемь утра, то есть за два часа до начала заседания их чрезвычайно научной конференции, прибыть в управление, чтобы мы смогли снять с них показания по убийству Селиванова. Ганин вызвался заехать за ними в гостиницу и подвезти в управление, благо дорогу к нам сэнсэй может найти с закрытыми глазами, а также потому, что он планировал и завтра продолжать просиживать штаны на академическом мероприятии. Я был бесконечно благодарен ему за это и, бросив на него двух пузатых теток, одну изысканную даму и одного галантного кавалера, выскочил на улицу, чтобы вмешаться в независимое расследование, которое вдруг, не соизволив поинтересоваться моим мнением на этот счет, затеяла деятельная ниигатская капитанша.
– …Я вам третий раз говорю, – скрипел зубами и голосовыми связками Кириллов, – это не мой телефон!
– Как же не ваш? – удивлялась стоявшая ко мне спиной Мураками. – А чей же тогда?
– Откуда мне знать?! – полушепотом-полукриком отвечал Кириллов. – Я его первый раз вижу и слышу!
– Что тут у вас стряслось, Мураками-сан? – Я с облегчением вздохнул, поняв, что она пока никакой информации от мужчины не получила. – С телефонами проблема?
– Подождите здесь, пожалуйста, Кириллов-сэнсэй! – строгим тоном потребовала от него Аюми, после чего по выработавшейся за последние сутки стойкой привычке потянула меня за рукав к брусчатке университетского тротуара и протащила за собой метров пятнадцать вдоль стеклянной стены, из-за которой за всем этим бесплатным цирком не без интереса наблюдала русская развеселая компания, состоящая из Ганина, Заречного и их прекрасных дам.
– Что происходит? – Я постарался звучать как можно серьезнее, чтобы сбить с Мураками профессионально-региональную спесь. – Что за трюк с телефоном?
– Понимаете, Минамото-сан, – возбужденно начала она, – я сидела, и мне эти лекции не очень хотелось слушать…
– Что вы говорите! – перебил ее я. – А я думал, наоборот, вам приятно студенческие годы вспомнить!…
– Нам в университете другие лекции читали, а здесь и не лекции вовсе, а доклады… Скучные… – ответила она.
– И что?
– Так я стала с мобильного на ваше управление выходить, чтобы получить первые данные по «прослушке» телефона Ирины Катаямы.
– А что, уже есть данные? – Я удивился ее технической подкованности, поскольку у меня самого иного способа, как только через визит в технический отдел наблюдения, получить искомую информацию в голове не было.
– Сначала не было, а как эта громадина Нина Валентиновна начала про Татьяну Толстую рассказывать, мне на сотовый письмо пришло с полным отчетом по ее вчерашним и сегодняшним переговорам. – Мураками показала мне издалека свой телефончик, на дисплее которого светилось видимо, это самое письмо.
– И что там? – Я обернулся на Кириллова: тот покорно стоял, подпирая стеклянную стену, за которой ганинской компании уже не было.
– Главное, как я и предполагала, ни одного звонка в Ниигату! – звонко отрапортовала Аюми. – Ни домой, ни в офис мужа!…
– Ну это еще ничего не доказывает, – поторопился я охладить ее дедуктивный пыл. – Мы в Японии с вами живем, здесь у нас жены не обязаны мужьям постоянно звонить.
– Верно, – тряхнула Мураками своей безобразной копной. – Но вот вчера было три звонка «на» и четыре «с» вот этого номера. И сегодня утром один «с» и один – «на».
Она показала на дисплее длинный номер, начинающийся на привычные «мобильные» «ноль-девять-ноль». Я никак не отреагировал на него и выжидательно посмотрел на Аюми. Та скривила тонюсенькие губки в сердитой усмешке по поводу моего непонимания очевидных вещей и нажала кнопку набора. Звонкая трель не заставила себя ждать: я обернулся и посмотрел на достающего из нагрудного кармана пиджака чирикающий сотовый Кириллова.
– Опять?! – сердито прокричал он. – Сколько можно! Может, мне снова граблю свою поднять?
– Кириллов-сан, – я решил взять бразды правления в свои собственные руки, – я – майор милиции Хоккайдо Минамото Такуя, веду расследование убийства вашего коллеги господина Селиванова. Я думаю, будет лучше, если вы проедете с нами в управление полиции и ответите на несколько наших вопросов.
– Убийство Селиванова?! – задергался Кириллов. – Я что, подозреваемый?! Я никакого отношения к убийству Володи не имею! Слышите?!
– Слышим, Кириллов-сан! – Меня раздражают люди, которые в таких случаях начинают орать на всю улицу, оповещая встречных-поперечных о якобы имеющем место полицейском произволе. – Давайте проедем к нам, мы вас надолго не задержим.
– Куда проедем? У меня совсем другие планы на вечер! – не сдавался с каждой секундой теряющий свой вновь приобретенный благодаря приличной одежде лоск хабаровский филолог.
– Я же сказал, в управление, – я показал ему рукой в сторону тенистой аллеи, где находилась наша машина. – А потом мы вас доставим, куда вам будет угодно.
– Правда? – Он внезапно прекратил орать.
– В пределах Саппоро, разумеется, – подкорректировал я на всякий случай свое служебное обещание.
– В какой-нибудь компьютерный магазин отвезете? – деловито поинтересовался он.
– Без проблем! – кивнул я, и мы двинулись к машине. По дороге я позвонил «наружке» и предупредил, что мы с Мураками отъезжаем в управление и что с Ирины Катаямы они не должны спускать ни глаз, ни ушей, ни носов. В машине мне пришлось сразу пресечь все попытки Кириллова начать оправдываться относительно телефона, поскольку дело принимало нешуточный оборот, и вести такие беседы следует строго по инструкции, то есть исключительно в служебных помещениях, под «бумажную» и магнитофонную запись. Кириллов, посопротивлявшись пару минут, переключился в конце концов на проблему совместимости компьютеров японского производства с русскоязычной версией «WindowsXP». Мне в этом плане сказать ему было искренне нечего, но ситуацию спасла словоохотливая Аюми, которая, как оказалось, неплохо ориентируется в практических компьютерных проблемах и которая смогла дать Кириллову массу советов.
В комнате для допросов на девятом этаже нас поджидал суровый Нисио. Полковник сидел за столом на месте допрашиваемого, играл скалистыми скулами и сверлил пространство перед собой хитрыми лучистыми глазами. Едва мы вошли, Нисио поднялся со стула, уступив место Кириллову, и обратился к нам с Мураками:
– Я вам нужен?
– Вы нам всегда нужны! – лицемерно сподхалимничал я, благо Кириллов в японском оказался несведущ.
– Мешать не буду? – продолжил урок этикета полковник.
– Не будете, – покрутил головой я.
– Тогда я присяду в уголке, – прокряхтел он, усаживаясь на стул в дальнем углу, где обычно сидят на важных допросах представители высокого начальства и инспекторы из прокуратуры.
Мураками быстро разложила перед собой пустые бланки протоколов, я заправил во встроенный в столешницу магнитофон чистую кассету, а Кириллов тяжело плюхнулся на еще не остывший от нисиовского тела арестантский стул. Трехминутная стандартная прелюдия к официальному снятию показаний поведала нам, что Кириллов по имени-отчеству Семен Данилович, что ему, как я и предполагал, уже далеко за шестьдесят, а именно – шестьдесят семь, и что он, чтобы снискать на хлеб насущный, который в нынешней России чрезвычайно дорог, вынужден трудиться на педагогической ниве-хляби народного просвещения, складывая свой месячный доход из профессорской подачки, гордо именуемой заработной платой, и нищенской пенсии, которой хватает только на оплату ненавязчивых услуг хабаровского ЖКХ.
– Так, теперь, Семен Данилович, перейдем непосредственно к делу, – предложил я.
– С удовольствием, – отозвался он и посмотрел на часы.
– Центральные магазины электроники у нас закрываются в девять, так что пока можете не беспокоиться, – заметил я его консьюмеристическое волнение.
– Спасибо, – вздохнул он.
– Итак, первый вопрос: это ваш телефон? – я указал на лежащий на столе сотовый, упакованный Мураками в целлофановый пакет.
– Нет, не мой, – отрезал Кириллов.
– Как вы объясните его наличие в вашем кармане?
– В портфеле, – поправил меня он. – В карман я его переложил уже после того, как он зазвонил в портфеле.
– Хорошо, в портфеле, – согласился я.
– Никак не объясню, – закачал головой Кириллов.
– Ладно, попробуем поставить вопрос иначе: кто вам мог подложить этот телефон?
– Подложить? – удивился он.
– Или подкинуть, подбросить…
– Подсыпать… – продолжил он начатый мною глагольный ряд и ухмыльнулся.
– Пускай будет «подсыпать», – опять согласился я.
– Вы знаете, я про Японию дома много всяких историй слышал: и про свалки ваши, где машины на ходу и работающие телевизоры тысячами валяются, и про честность вашу гражданскую, когда вы миллионы на улицах находите и тут же их в полицию сдаете… – Кириллов огляделся по сторонам. – Но чтобы мобильные телефоны забесплатно людям подбрасывали, это уже слишком!…
– И все-таки, Семен Данилович, если, как вы утверждаете, телефон не ваш и вы им до контакта с вами капитана Мураками, – я указал подбородком на увлеченно записывающую нашу словесную перепалку лохматую Аюми, – не пользовались, то иного ответа на вопрос о его появлении в вашем портфеле я не нахожу.
– Вы серьезно? – Кириллов внимательно посмотрел на меня, потом на хранящего самурайское молчание Нисио.
– Серьезно, – кивнул я.
– И я серьезно, – ответил он. – Я правда понятия не имею, откуда он у меня взялся! Выхожу сегодня из зала после конференции, а у меня в портфеле что-то звонит!…
– Мы в курсе, Семен Данилович, – прервал я его, обеспокоившись тем, что при таком темпе добычи информации Кириллов может в компьютерный магазин и не успеть. – Дело в том, что наша задача сейчас установить, как он мог к вам попасть.
– А что это вообще за телефон? – встрепенулся Кириллов. – Что в нем такого опасного?
– Семен Данилович, как показывают данные телефонной компании да и самого телефона, в течение последних двух дней с него и на него было сделано несколько звонков, которые могут быть связаны с убийством Владимира Николаевича Селиванова.
– Связаны? – Кириллов с удивлением посмотрел на меня. – Вы что, считаете, что я связан с его убийством?
– Вы с ним давно знакомы?… Были… – спросил я.
– Встречались несколько раз на конференциях… Последний раз два года назад в Праге, на летнем семинаре по Пригову…
– По кому? – Мои познания в русской литературе восемнадцатого века ограничивались шестью-семью именами, которые еще вчера в Читосэ я успел припечатать к дедушке русской филологии, но названная им фамилия в их число не входила.
– Видите ли, Селиванов Володя занимается… занимался в основном Сорокиным, а я занимаюсь его, то есть Сорокина, учителем – Дмитрием Александровичем Приговым… Это ныне здравствующий классик русской поэзии…
– Так вы по современной литературе? – Я искренне удивился объекту интереса Кириллова.
– А вы думали по какой? – Он пристально взглянул на меня. – Иначе чего мне на этой конференции делать?
– Конечно, – кивнул я и краем глаза заметил на сжатых губах Мураками, подобно прилежной пятикласснице, склонившейся к листам бумаги, ехидную улыбку – явно в мой адрес. – Итак, вернемся к телефону. Данные телефонной компании показывают, что последний звонок с него был сделан сегодня утром, двадцать три минуты девятого. Где вы были в это время?
– В отеле, собирался на конференцию, – ответил Кириллов. – В номере был или на завтраке…
– Когда вы выходили на завтрак?
– Вот где-то между восемью и полдевятого…
– Номер, естественно, заперли?
– Наверное, – задумчиво протянул он.
– Наверное? – переспросил я.
– Да там эти карточки дурацкие! – искренне возмутился Кириллов. – Поди разберись, запер ты дверь или нет!…
– У вас номер на каком этаже?
– На десятом, а что?
– Пока ничего, – пожал я плечами. – Мы должны будем проверить запись коридорных видеокамер, чтобы посмотреть, не заходил ли кто в номер во время вашего отсутствия. Теперь припомните: на конференции портфель все время был при вас?
– Нет… – Он покрутил головой. – Когда все на обед ушли, я его на кресле оставил, чтобы место не заняли. Так почти все сделали… нам сказали, что воров в Японии бояться не надо…
– Осторожность, Семен Данилович, никогда не помешает, – строго заметил я. – Береженого Бог и в Японии бережет!
– Понятно, – кивнул он.
– Скажите, по прибытии в Японию какими видами связи вы пользовались?
– Никакими, – поморщился он. – Из гостиницы звонить – это вообще самоубийство, а домой я еще из аэропорта в Ниигате позвонил, из автомата, оранжевого такого…
– По карточке?
– Да, мне Заречный Олег Валерьевич помог карточку для международного телефона купить.
– Заречный? – переспросил я.
– Да, он по-японски говорит, работал раньше здесь. Это он сказал, что из гостиницы звонить дорого. По карточке правда, тоже недешево!…
– И все?
– Все! Жена в курсе, что у меня все в порядке, а больше кому мне в Россию звонить? Да и…
– А в Японии? – перебил его я.
– Что «в Японии»? – не понял он.
– В Японии у вас знакомые есть? Кому вы могли бы звонить? Или кто мог бы позвонить вам?
– Нет, – спокойно отозвался он.
– Хорошо, спросим прямо: такое имя, как Ирина Катаяма, вам говорит о чем-нибудь?
– Ирина Катаяма?… – задумчиво протянул он. – Имя русское, фамилия японская…
– Она русская, а муж у нее японец, – пояснил я.
– Первый раз слышу, – категорично отрезал Кириллов. – У Наташи, которая нас вчера в аэропорту встречала, тоже муж японец, но у нее другая фамилия…
– Да, ее фамилия Китадзима, потому что ее муж – Китадзима, – сказал я. – А нас интересует Катаяма.
– Катаяму не знаю, – повторил свой протокольный ответ Кириллов. – А что, это она мне телефон подложила?
– Скорее всего, нет. – Я покачал головой и отметил про себя, что придется теперь выяснять, как далеко от Кириллова сидела сегодня Ирина. – Хотя…
– Можно мне уже идти? – перебил меня Кириллов.
– Пока можно, но я должен предупредить, Семен Данилович, что в эти два дня мы можем еще раз пригласить вас в наше заведение, поэтому попрошу из Саппоро никуда не отлучаться.
– А как же экскурсия? – обиженно промычал Кириллов.
– Какая экскурсия?
– В Отару, – пояснил он. – У нас завтра, послезавтра и в пятницу заседания, а потом для всех участников экскурсия в Отару. На автобусах… Бесплатная…
– Бесплатная? – улыбнулся я.
– Олег сказал, что там можно в порту технику на двести двадцать взять… В городе же нет такой…
– Мы поняли ваше желание, Семен Данилович, и попробуем до субботы разрешить все наши с вами проблемы. – Я похлопал по пакетику с телефоном и поднялся из-за стола, чтобы распорядиться по поводу машины для Кириллова, которая, как я и обещал, довезла бы его до ближайшего электронного парадиза.
Нисио приказал дежурному сержанту срочно доставить телефон на дактилоскопическую экспертизу, и уже через полчаса нам стало известно, что на корпусе мобильника имеются отпечатки пальцев, идентичные тем, что были сняты с поверхности стола, за которым только что сидел поклонник компьютерного программного обеспечения Семен Данилович Кириллов, в свободное от беготни по компьютерным лавкам время штудирующий вирши все еще здравствующего классика российской словесности Дмитрия Александровича Пригова. Эксперты обнаружили также в пазах между кнопками набора и корпусом мельчайшие частицы неизвестного пока материала, по предварительным данным – натурального хлопкового, который был тут же передан на изучение в лабораторию. Сам же телефон оказался элементарной одноразовой игрушкой фирмы «Эй-Ю», которую можно безо всякой официальной регистрации, полагающейся при покупке постоянного аппарата, купить за три тысячи иен в любом круглосуточном магазинчике и пользоваться им в течение года, проплачивая время от времени авансом свои разговоры. Нисио распорядился срочно проверить по имеющемуся на тыльной стороне корпуса серийному номеру хотя бы приблизительный регион продажи, а мы с Мураками сели обрабатывать накопившиеся за сутки документы.
Главное разочарование нас ждало в первых же документах, на которые мы жадно набросились, – в отчетах телефонной компании «До-Ко-Мо», которой принадлежал мобильник Ирины Катаямы. Кроме данных о продолжительности входящих и исходящих разговоров за последние трое суток и номерах, с которых звонили Ирине и на которые звонила она, более никакой информации не имелось. Как уже мы знали, звонков было всего одиннадцать – девять, связанных с Ириной, и два последних – сделанных Мураками, требовавшей от старика Кириллова задирать руки кверху. Оказалось, что местонахождение звонящего на телефон или с телефона «До-Ко-Мо» может установить только внутри своей собственной системы, а входящие звонки с телефонов фирм-конкурентов, какой в данном случае оказалась «Эй-Ю», фиксируются только на уровне номера и продолжительности. Дальше – больше: «Эй-Ю» же, как выяснилось, вообще не контролирует реальное расположение на местности своих одноразовых аппаратов, считая их сущим пустяком, не требующим особого внимания. На нашу запись разговоры Ирины были поставлены только после предъявления «До-Ко-Мо» ордера, то есть в районе двенадцати, и, судя по куцей докладной записочке дежурного по «прослушке», никаких звонков на ее аппарат не было и с ее – тоже. Короче говоря, уже через пять минут мы с Мураками разочарованно вздохнули, осознав, что с телефонной «прослушкой» дела плохи.
Пролопатив протоколы опросов гостиничных служащих и двух десятков гостей отеля, мы также ничего примечательного в них не отыскали: никто ничего и никого подозрительного не видел, ничто и никто ничьего внимания не привлек. Подробный отчет об отпечатках пальцев в номере Селиванова показывал, что убийца тщательно протер все поверхности, к которым он или она, возможно, прикасался, так что надеяться на хоть какую-нибудь дактилоскопическую зацепку не приходилось. Кипятильник оказался старым, еще советского производства, а переходник, через который обстоятельный покойник подключал его к японской сети, – китайского. Этим электронным китайским ширпотребом сейчас, насколько я знаю, завалена вся азиатская часть бескрайней России, так что собирающиеся в Японию командировочные без труда могут купить его в том же Новосибирске или Хабаровске.
К девяти вечера я закончил печатать на компьютере суточный отчет, уместившийся на четырех жалких страницах, а Мураками накатала для своего руководства целых семь, распечатала их на нашем принтере и принялась отправлять в Ниигату по факсу. За этим занятием ее застал старик Нисио, вернувшийся из очередного похода к начальству. Полковник пробежал по моему рапорту, громко откашлялся и посмотрел на меня, как мне показалось, с жалостью:
– Что думаешь о Кириллове?
– Не знаю пока, что про него думать, – честно ответил я. – В принципе непохоже, чтобы он был связан с Катаямой.
– Да, непохоже, – согласился Нисио.
– Если так, то остается версия, что сотовый ему подбросили, – продолжил я.
– Зачем?
– Если у Ирины в Саппоро есть сообщник и он неглупый человек, то расчет его ясен и понятен, – начал я размышлять вслух.
– Понятен? – поднял брови Нисио.
– Конечно. Ему или ей должно быть ясно, что раз мы взялись за Ирину сразу же по ее приезде на Хоккайдо, вопрос об установлении «прослушки» – дело времени.
– Значит, если сообщник имеется, то он побаловался сначала телефоном, а потом с телефоном? – спросил полковник.
– Именно так. Последний звонок был сделан утром, когда Ирина находилась в «Гранд-отеле» под нашим присмотром. Она наверняка могла сказать ему или ей о том, что мы ее пасем, вот он и решил избавиться от одноразовой улики.
– Не проще было бы просто его выбросить? – логично предположил Нисио.
– Проще и безопаснее, это безусловно, – кивнул я ему. – Но, может быть, не слишком рационально.
– Не рационально?
– Подбросить сотовый Кириллову, если, опять же, Кириллов не врет и он все-таки был подброшен, нужно было с одной очевидной, но не слишком глобальной целью и с другой целью, менее заметной, но, на мой взгляд, более важной.
– И что это за цели? – Нисио вперил в меня свои мудрые очи. – Очевидные и не слишком?…
– Очевидная – навести нас на Кириллова как на потенциального соучастника Ирины в предполагаемом убийстве ее мужа, – ответил я. – Но, понятное дело, она хороша только до поры до времени, потому что рано или поздно мы установили бы его непричастность.
– Логично, – кивнул Нисио.
– А неочевидная – выиграть время, то самое, которое мы потратим на установление причастности, вернее, непричастности Кириллова. У меня такое чувство, Нисио-сан, что если телефон был подброшен, то именно для того, чтобы затянуть на пару дней наши действия.
– А зачем ему время? – Нисио присел на краешек моего стола и забарабанил по нему костяшками своих жилистых пальцев.
– Время – вещь чрезвычайно ценная и нужна всем, Нисио-сан, – с серьезным видом изрек я.
– А как насчет «Поспешишь – людей насмешишь»? – лукаво улыбнулся Нисио.
– А так, что если человек спешит, потому что его мамка со скипидаром в одном месте родила, – это одно. А вот если его обстоятельства вынуждают спешить – это уже совсем другое.
– Ты имеешь в виду Иринин билет на завтра? – Нисио перестал долбить по столешнице.
– Его тоже, но во вторую очередь.
– А в первую? – искренне удивился Нисио.
– А в первую – окончание этой конференции, на которой мы с Мураками-сан отловили Кириллова и на которой сегодня присутствовала та же Катаяма. – Я скосил глаза на притихшую подле факса Аюми: меня интересовала ее реакция на мои слова о том, что Кириллова сцапали «мы с ней», а не она одна.
Хладнокровная Мураками проглотила извращение исторической действительности с должным спокойствием младшего по званию и низшего по полу и продолжала сверять нас с Нисио своими мышиными буравчиками, во вдохновенном блеске которых отражался активный мыслительный процесс, обещающий вот-вот завершиться извержением интеллектуального вулкана. Нисио, вообще не жалующий женщин, демонстративно разговаривал только со мной. Мне же неловко было апеллировать к ней при таком откровенном нежелании Нисио вовлекать в беседу двух мудрых мужей неразумную женщину, или, как он частенько любит смачно исторгать из себя любимое с сахалинских времен слово, «бабу».
– Значит, ты считаешь, что приезд Ирины в Саппоро связан с этой конференцией? – спросил Нисио.
– Слишком уж соблазнительно их связать, Нисио-сан, – облизнулся я. – Больно символичное совпадение.
– То есть ты гнешь к тому, что если у Ирины есть сообщник, то он русский? – прищурился Нисио.
– Или русская, – кивнул я.
– Женщину ты не отвергаешь? – Нисио наконец-то соизволил взглянуть на Мураками.
– Теоретически – нет, – сказал я. – Но практически… Смысла не вижу Ирине связываться с женщиной.
– А с мужчиной связываться у нее смысл есть? – хмыкнул Нисио. – Она все-таки пока замужем!…
– Верно, но за крайне неприятным ей мужем, – подкорректировал я Нисио.
– Любовник? – произнес Нисио то слово, которое и у него, и у меня, и, уверен, у девицы Аюми уже вторые сутки свербило в мозгах.
– Ничто на нашей японской земле не ново, Нисио-сан, – согласился я. – Версия с любовником, конечно, тривиальна, но наиболее вероятна в данном случае. Боюсь, что Селиванов попался этому любовнику под горячую руку… Просто оказался…
– А Кириллов? – перебил меня Нисио.
– Что Кириллов?
– Он на любовника не тянет?
– Зависит от того, что от любовника этой Ирине надо. – Я не стал сбрасывать со счетов не тянущего на ловеласа по возрастным соображениям хабаровского сэнсэя.
– А что ей может быть нужно от любовника? – опять поставил вопрос ребром циничный полковник.
– От любовника женщине обычно требуются две вещи. – Я покосился на Мураками и с удовлетворением ответил появление на ее пухлых щечках знакомого румянца.
– Только две? – удивился Нисио, по моим сведениям в категорию любовников никогда не входивший.
– Да, постель и деньги. Можно – только секс, можно – только деньги, но лучше, конечно, и то и другое.
– Ну в этом случае версия с русским любовником, приехавшим на конференцию по русской литературе, критики не выдерживает, – разочарованно покачал головой полковник.
– Почему это? – удивился я.
– Да потому, Такуя, что филологи у них бедны как церковные крысы! Это у тебя отец – человек обеспеченный, а у них вон тот же Кириллов… Посмотри на него… Какие у них деньги?!
– Верно, – кивнул я. – Но я же сказал, что и койка и бабки вместе – это идеал. А идеал в нашей жизни практически недостижим. Если же ограничиться только приятным для Ирины сексом, то здесь для нее может сгодиться тот же Кириллов, потому как она нам с Мураками-сан про своего мужа Ато такого порассказала, что ее чисто женское желание может понять даже мужик.
– А деньги? – Нисио покраснел вслед за Аюми от разговора на такую животрепещущую тему.
– А деньги у Ирины есть…
– Были, – поправил меня Нисио.
– Ну почему «были»? Мы же не знаем, куда она их перевела. Может, на свой же счет – только другой. Когда ордер на переводной счет получим, Нисио-сан?
– Прокуратура ждет от нас предъявления конкретных улик против Ирины Катаямы. До этого они против банка ничего делать не будут, – грустно сообщил Нисио. – Сам понимаешь, какой это щепетильный вопрос! Не дай бог, она окажется ни при чем, а мы вскроем счета получателя… Это ж мы с тобой перьев не соберем!…
– Я не вижу ничего, за что можно было бы зацепиться, – в унисон нисиовской грусти печально констатировал я и постучал по папке с бесполезными пока документами.
– Извините, можно мне сказать? – вдруг подала голос молчавшая последние полчаса Мураками.
– Конечно! – благосклонно кивнул Нисио.
– Ситуация складывается такая, что если в ближайшие два-три дня мы не получим никакой новой информации, мы окажемся в тупике, из которого после окончания конференции выйти будет невозможно, – сурово выпалила капитанша.
– Что вы предлагаете? – Нисио даже не удостоил ее взгляда, предпочтя задать этот вопрос пустоте перед собой.
– Я считаю, что Минамото-сан должен войти к Ирине Катаяме в доверие, – безапелляционно заявила она.
– Чего?! – сорвалось у меня с языка.
– Если мы не разговорим ее, вряд ли мы достигнем прогресса в расследовании, – все так же сурово продолжала она. – Поэтому я считаю, что Минамото-сан должен сейчас встретиться с Ириной один на один и еще раз попробовать поговорить с ней.
– Встретиться с ней один на один?! – переспросил я и машинально оглянулся по сторонам – в испуге увидеть рядом свою Дзюнко, которой предложение Аюми вряд ли пришлось бы по душе.
– Именно, – кивнула она.
– У нее в номере? – Я начал успокаиваться и возвращать себе утерянное на пару секунд легкомысленное отношение к жизни.
– В номере, я думаю, будет излишним, – сжалилась над моей Дзюнко радикально настроенная к ночи Мураками.
– А где же тогда? – поинтересовался я.
– А вот она сейчас как раз в ресторан спустилась в «Гранд-отеле». – Мураками пощелкала пальцем по светящемуся дисплею компьютера, на который в режиме реального времени выдавались данные «наружки». – Вы ведь еще не ужинали?
– Вообще-то я планировал это сделать дома с женой. – Я взглянул на часы. – Поужинать, я имею в виду…
– Завтра с женой поужинаешь! – очнулся вдруг Нисио, неизвестно с каких пор начавший вдруг прислушиваться к «бабскому» мнению. – Мураками-сан права: ты, Такуя, единственная наша надежда! Давай-ка отправляйся на подвиг!
Не скажу, что роскошный ресторан нашего саппоровского «Гранд-отеля» особо смахивал бы на израильскую Голгофу, но заходить в него спустя десять минут после предательства Нисио было для меня не слишком приятно. Ирина Катаяма сидела одна за щедро сервированным серебром и хрусталем, но пока свободным от яств столиком. Она была в том же ярко-желтом костюме, что подтверждало данные «наружки» о том, что из педагогического университета она направилась в торговый центр «Джаско», где прослонялась два часа по бесконечным бутикам, в которых ничего не купила, но зато миллион раз оглянулась, видимо определяя, следим мы за ней или нет. Из «Джаско» она вернулась в номер, но через минуту вышла из него для того, чтобы прийти вот сюда.
– Разрешите, Ирина? – Я слегка поклонился и почувствовал исходящий от нее свежий аромат «Элизабет Ардан», объясняющий, зачем она заходила к себе в номер, перед тем как пойти ужинать.
– Вы? – без намека не протокольную вежливость спросила она, поднимая на меня свои холодные глубокие глаза.
– Как видите. – Я слегка развел руками, а затем положил их на спинку стула напротив. – Так разрешите?
– Садитесь, все равно не отвяжетесь! – буркнула она. – Прилипли ведь вот!…
– Вы уже заказали? – спросил я, не увидев на столе меню.
– Естественно! – хмыкнула роковая красотка. – Я вас не ждала! А что меню унесли, так это ваша дурацкая японская привычка!
– Привычка? – Я сделал вид, что не понял ее упрека нашей ресторанной культуре.
– Меню после заказа сразу со стола забирать! И как эти заведения еще не прогорели у вас все?
– Меню – дело поправимое, – успокоил ее я и, словно по «сотовому» приказу пославшей меня на голгофу Мураками, поднял руку.
– Ужинать будете? – насмешливо спросила Ирина.
– Да, я, знаете, голоден, – ответил я, принимая из рук немолодой официантки огромное ламинированное меню.
– А где же спутница ваша? – оставаясь холодной и колкой, поинтересовалась русская.
– Мураками-сан? – не отрывая глаз от меню, уточнил я.
– Пускай будет Мураками, – согласилась она.
– Мураками-сан в управлении, работает. А вы что заказали, если не секрет? – Я медленно поднял глаза на Ирину, но до лица они у меня не дошли, а застряли на приоткрытой расстегнутой черной блузкой впечатляющей ее груди.
– Филе-миньон с грибами и салат со шпинатом, – весело отчиталась она, перехватив мой заинтересованный взор.
– А пить что будете?
– Белое, – ответила она.
– К мясу полагается красное. – Мой взгляд наконец-то преодолел минную полосу на ее груди и добрался до глаз.
– Плевать мне на то, что к чему полагается! – заявила она, пальнув по мне огненным взором. – Вы-то, японцы, что, всегда что положено, то и делаете?
– Стараемся, по крайней мере, – сказал я скромно.
– А я с Сахалина, как вы уже наслышаны! – опять выстрелила она в меня. – У нас, на Сахалине, пыжся не пыжся, все равно будет одна большая лажа!
– Лужа? – Мне показалось, что она оговорилась.
– Лужа – это потом, когда облажаешься. А сначала – лажа! – просветила меня хорошо подкованная в социально-лингвистическом плане Катаяма.
Я заказал себе то же самое, только вместо белого вина попросил бокал пива, что вызвало у Ирины очередной приступ желчного сарказма:
– Вот все вы такие! Мужики японские!
– Какие «такие»?
– Копируете все у других, а сами за себя решить ничего не можете! Еще мужиками называетесь!
– То есть вы, Ирина, не допускаете, что я тоже могу любить говяжье филе и заедать его шпинатом в имбирном соусе?
– Да ешьте чего хотите! Я вам что, жена, что ли! – Она зло прищурилась и уставилась на меня.
– Кстати о жене! Вернее, о супружеском долге!… – Я предусмотрительно отключил сотовый перед входом в гостиницу и теперь мог вести беседу без опасений оказаться в двусмысленной ситуации. – Что слышно от вашего мужа, Ирина?
– Ничего не слышно! – огрызнулась она. – Почему мне должно быть от него что-нибудь слышно?
– Ну как же, муж все-таки…
– Муж, как же!… Две тонны груш!…
– Ирина, если завтра местонахождение Ато Катаямы не будет установлено, полиция Ниигаты официально объявит его в розыск, и тогда вас будут допрашивать уже не при хрустале с серебром и крахмальными скатертями.
– Пугаете? – язвительно поинтересовалась она.
– Предупреждаю. По-дружески, – улыбнулся я.
– В друзья напрашиваетесь?
– Нельзя?
– А зачем? – Она вдруг замерла, как кобра перед жалящим броском. – Зачем мне с вами дружить?
– Разговаривать легче, когда дружески к человеку относишься, – объяснил я свою коммуникативную позицию.
– А может, лучше сразу в койку? – Она сделала свой прыжок. – Чего нам с вами разговаривать! Мы с вами не дети – и так все понятно! У вас – палочка, у меня – дырочка, дважды два – четыре…
– Заманчиво, но нереально, – не без искреннего сожаления отреагировал я на ее пошлый змеиный наскок.
– Ага, с Мураками вашей вам, значит, приятнее? – задала она риторический вопрос.
– Ирина, скажите, пожалуйста, куда вы перевели сегодня деньги в банке «Мичиноку»? – Мне надоело пикироваться с этой тигрицей. – Куда и кому?
– Следили за мной? – Неожиданная смена темы застала ее врасплох, и ей, как я уже успел понять, опять требовалось несколько секунд, чтобы перегруппироваться.
– Ирина, вашего мужа нигде нет. – Я положил локти на стол и наклонился к ней. – Вы уезжаете из своего города за тысячу километров, переводите неизвестно куда огромные деньги, принадлежащие вашему мужу, и потом – этот мешок, который вы вчера сбросили в Японское море. Имея в виду все это, у нас есть самые веские основания контролировать ваши действия.
– А этот совок в банке, он тоже на вас работает? – Она бросила в меня презрительный взгляд.
– Какой совок? – До меня не сразу дошло, что она имеет в виду Ганина, который у меня с этим мерзким словом никогда не ассоциируется.
– Который сначала в банке около меня терся, а потом на конференции ошивался!
– А-а, этот!… Нет, не на нас, успокойтесь! Мы не имеем права по закону к сыскной работе привлекать граждан иностранных государств. Тем более россиянина.
– А чего же он тогда на конференции тусовался?
– А он филолог профессиональный, русский язык тут преподает. – Я восхитился ее блестящему умению не только моментально восстанавливать свои защитные ряды, но и самой переходить в контратаку при помощи незатейливых, но сжигающих драгоценное время вопросов.
Принесли ее заказ, и она принялась за филе, демонстрируя довольно сносное для сахалинской девицы владение ножом и вилкой.
– Как мясо? – поинтересовался я в предвкушении своей порции.
– Хорошее, – буркнула она. – Я люблю мясо с кровью…
– Ирина, скажите все-таки: где ваш муж?
– Я вам сказала: не знаю. – Она бойко макала обжаренные в чесночном масле до золотистой корочки шампиньоны в бордовый сок, исходивший из растерзанной ее безжалостным ножом багровой говяжьей плоти. – Отвяжитесь и дайте спокойно поесть!
– Ешьте-ешьте! – успокоил я ее.
– Ем, – опять буркнула она набитым мясом и грибами ртом.
– Ирина, у вас есть любовник? – Я посчитал, что теперь настала моя очередь ввести в бой тяжелую артиллерию.
– Чего? – По на мгновение остановившимся в терзании податливого мяса челюстям я понял, что мой первый серьезный снаряд угодил точно в цель, и, хотя уже через мгновение челюсти вновь заработали, интенсивность, с которой они продолжили это делать, уже не была прежней, а в шоколадных глазах неприступной красавицы, вдруг затлел фитилек тревоги.
– Я спрашиваю: кто ваш любовник? – стараясь звучать как можно беззаботнее, переспросил я.
Она не удостоила меня ответом, подцепила вилкой кусочек мягкого шпината, но почти у самого рта вдруг уронила его обратно в тарелку. Шпинат плюхнулся в лужицу маслянистого соуса, его крошечные брызги угодили Ирине на пиджак.
– Блин! – прошипела она и машинально промокнула их мокрой салфеткой «осибори», которые в наших ресторанах подают перед едой для освежения лица и протирания рук.
– Итак, о вашем любовнике, Ирина…
– Что – о моем любовнике?! – вновь змеиным голосом прошипела она. – Что вы до меня докапываетесь?
– Кто он?
– Мужик! – фыркнула она, продолжая автоматически разглядывать закапанный пиджак.
– Русский?
– Какая разница?… – Она вдруг с шипения перешла на шепот. – Мужик – он везде мужик, и в России тоже…
– Как его зовут?
– Его зовут «хороший мальчик», – усмехнулась она.
– Мальчик?
– Мальчик!
– Мальчик с пальчик? – попытался я несколько разрядить накалившуюся до предела обстановку.
– С пальчик это, может, у вас. – Она облила меня едкой кислотой вселенского презрения.
– А у «хорошего мальчика»? – Я достойно выдержал этот мощный удар ниже пояса.
– А у «хорошего мальчика» «мальчик» именно «хороший», «конкретный мальчик»! – Она запустила в рот последнюю порцию сочного миньона. – Двадцать шесть сантиметров в рабочем состоянии, как, ничего вам? Что еще бабе нужно!
– Деньги, очевидно, – предположил я, оставив без внимания габаритные характеристики виртуального пока конкурента.
– Так он потому и «хороший мальчик», что у него не только в трусах все в порядке! – Ирина вдруг внезапно повеселела.
– Значит, он у вас богатый?
– Я под бедными на Сахалине належалась! – игриво поведала она. – Надоело потеть забесплатно!
– А муж ваш – тоже человек состоятельный, – заметил я.
– Ради вашего паспорта японского под какого только козла не ляжешь! – смачно заявила она.
– Неужели наш японский паспорт стоит таких унижений?
– Паспорт стоит! – Она закивала, отхлебывая вино из бокала. – Ваша ксива того стоит!…
Передо мной вдруг таинственным образом появились огромные тарелки со шпинатом и мясом, но я решил пока не уделять им внимания:
– А что тогда не стоит?
– Под вас, японцев, забесплатно ложиться! Как это ваши бабы часто делают, – пояснила она.
– Часто? – переспросил я.
– Конечно, часто! Чего с вашего среднего пыльного мужичка поимеешь? Ни денег внятных, ни двадцати шести сантиметров! Какая с японского мужика еще может радость быть…
– Значит, с вашим Ато радости у вас не было совсем? – Я внимательно посмотрел в ее все еще прекрасные, несмотря ни на какие сальные подробности, карие глаза.
– У нас был законный, классический натуральный обмен, – улыбнулась Ирина.
– Обмен?
– Я ноги под ним исправно раздвигала, когда его припирало меня послюнявить, а он мне, как перед свадьбой обещал, гражданство справил.
– А зачем вам японское гражданство, Ирина? На японку вы непохожи, адаптироваться среди нас сложновато, особенно когда с мужем проблемы, да и с его родней тоже.
– Все уже пронюхали! – Она в сердцах качнула головой. – И про родню поганую!… Стукачи корявые!…
– Работа такая… Так что насчет причины получения гражданства? – Я вернул Ирину в проложенное мной русло нашей светской беседы.
– А вы сравните российскую ксиву и вашу! Мне Япония ваша как свинье – туалетная бумага!
– А паспорт зачем?
– Чтобы в загранку без виз ездить! С нашим кривым паспортом пока визу получишь, три тонны геморроя заработаешь! А тут я хоть в Штаты, хоть в Сингапур – безо всякой визы!
– И ради этого ноги раздвигать под слюнявым козлом? – не без удовольствия процитировал я ее собственные признания. – Может, другие способы поискать? Поцивильнее?
– Не вам нас, русских баб, упрекать! – отрезала она. – Вы с этим вонючим паспортом рождаетесь, а мы его должны хочешь – на спине, хочешь – раком зарабатывать! Так что нечего бочкотару на нас катить!
– «Нас»? – поймал я ее на слове. – И много вас таких?
– Все!
– Кто «все»?
– Все русские девки, которые замуж за вас, за японцев, повыходили! И москвички, и хренички, и мы – шмыры сахалинские! – Она снова отхлебнула вина и промокнула теперь уже не влажной «осибори», а сухой накрахмаленной салфеткой свои намагниченные алые губы.
– Ну вы-то на шмыру не очень тянете, – сделал я ей скромный комплимент.
– Бог не обидел! – с удовлетворением согласилась она со мной. – Что есть, то есть…
– Да и остальные, мне известные, тоже. – Я на всякий случай решил охладить жаркий пыл ее женского самолюбия, вспомнив свою токийскую приятельницу Наташу Китадзиму.
– Так вам же красивых подавай! Чтоб девка классная была – с грудями и ногами. А уродин вислозадых у вас у самих вон пруд пруди! – Она обвела точеным подбородком ресторанный зал.
– Вы, я погляжу, Ирина, не только японцев, но и японок не любите, – констатировал я давно всем понятный факт.
– За что мне вас любить? Паспорт я честно на спине, и на животе, и ртом отработала. Зад Ато мой потребовал бы – подставила бы не задумываясь. Бизнес есть бизнес, и в сексе – тоже. Так что все чин чинарем: паспорт в обмен на приятные утехи. Какие ко мне претензии?
– Претензии? В сексуальном плане мне вам предъявить нечего. Но вот в уголовном… Мешок в море – раз, – я отогнул на своем правом кулаке большой палец, – пока непонятно куда переведенные вами деньги вашего мужа – два, – здесь разогнулся указательный палец, – ваша встреча здесь, в ресторане, с Владимиром Николаевичем Селивановым за полтора часа до того, как он был убит, – три, – я отогнул средний палец, – и разговоры по вашему сотовому телефону вчера и сегодня утром – четыре, – завершил икебану безымянный палец.
– Какие разговоры? – Ирина задумчиво посмотрела сначала на меня, а затем – на остывающие передо мной мясо и шпинат.
– С абонентом, которого мы сейчас устанавливаем. – Я решил пока не прикасаться к мясу и ограничился только глотком свежего холодного «Сантори».
– Ну устанавливайте! Я вам что, мешаю? – ухмыльнулась она. – Мне вообще бай-бай пора!
– Время детское еще. – Я взглянул на часы. – Вы с Ато Катаямой когда обычно спать ложитесь?
– Спать или трахаться? – Она вперила в меня свои прекрасные, но бесконечно наглые глазищи.
– Бай-бай, – улыбнулся я.
– Бай-бай… – хмыкнула она. – Когда ваш разлюбезный Ато дома тусуется, его уже полдесятого на койку тянет. Чего ему дома делать? Только дрыхнуть!
– А когда нет дома, как вот сейчас, например?
– Да с чего вы взяли, что его дома нет? – Она тряхнула своей очаровательной головкой, в которой, как показали последние полчаса, спрятан заряд цинизма и человеконенавистничества такой силы, что его в критический момент хватит на вторую Хиросиму.
– Это не я взял, это полиция вашей Ниигаты взяла, – объяснил я причину своей уверенности.
– А вы еще раз позвоните им! Может, он уже вернулся… – Она уставилась на мой безнадежно остывший миньон.
– Хорошая идея. – Я решил действительно проверить, не поступило ли в управление новой информации, достал из кармана свой сотовый, которому я собственноручно заткнул глотку при входе в отель, и обнаружил, что мне, пока я погружался в пучину низменных человеческих страстей и еще более низких людских помыслов, кто-то звонил. Я нажал на кнопку фиксации оставшихся без внимания звонков, и бледный дисплей сообщил мне, что трижды за последние пятнадцать минут звонил Нисио.
– Ну что? – с оттенком легкого упрека в своем хрипловатом, удивительно сексуальном голосе спросила Ирина.
– Сейчас проверим, не появился ли ваш муж. – Я нажал на кнопку соединения, но, прослушав более десятка занудных сигналов, так и не добился от телефона затребованного контакта со своим любимым начальником.
– Что, райком закрыт, все ушли на фронт? – язвительно ухмыльнулась русская.
– Да, видно, все ушли на борьбу с накопившейся за день усталостью, – согласился я с ней и набрал номер дежурного по отделу.
– Полиция Хоккайдо, русский отдел, – вялым голосом отозвался на другом конце лейтенант Исима.
– Исима-кун? Это Минамото!…
– О, Минамото-сан! – с неожиданным энтузиазмом откликнулся на мое обращение Исима.
– Да, я. Где наш Нисио?
– Он вам звонил несколько раз – не дозвонился, – затараторил лейтенант. – Его нет, он уехал срочно. Вместе с этой женщиной из Ниигаты… Как ее?…
– Девушкой, – автоматически поправил я его.
– Что? – не понял моей тонкой физиологической поправки Исима.
– Девушкой из Ниигаты. Ее фамилия Мураками. Так куда они исчезли, ты не знаешь?
– Знаю, конечно! Они поехали на место обнаружения трупа! Да, он просил вам это передать, когда вы объявитесь.
– Трупа? – переспросил я и поймал промелькнувшую в глазах Ирины легкую тревогу.
– Да, там ребята из Айно-сато нашли труп… Как его?…
– В Айно-сато? – Первый раз за всю мою долгую служебную практику мертвеца находили в моем родимом микрорайоне, где я обычно все больше отдыхаю и не имею обыкновения работать.
– Да, в Айно-сато…
– А почему полковник туда поехал? Что, труп русский?
– Нет-нет, труп японца… Черт, где же эта бумажка?…
– Какая бумажка, Исима-кун? Ты что, в туалете, что ли, сидишь? – ехидно поинтересовался я.
– Да нет… Нисио-сан мне назвал его имя и сказал, что для вас это будет очень интересно… А, вот она!
– И?
– Значит, труп зовут, то есть звали, пока он жив был, Китадзима Хидео, – с чувством исполненного долга выдохнул на том конце провода, если это клише применимо к мобильной связи, исполнительный, но не слишком организованный Исима.
– Как? – Я не поверил тому, что услышал.
– Китадзима Хидео, – повторил Исима. – Господин полковник сказал, что вам это будет интересно.
– Еще как! Сейчас бегу! – Я отхлебнул еще глоток потеплевшего «Сантори» и посмотрел на Ирину.
– Что, убили кого-то? – поинтересовалась она.
– Этого я пока не знаю, но вот точно могу сказать, что должен вас покинуть.
– Наконец-то! – выдохнула Ирина из себя не без удовольствия циничное признание.
– Но я скоро вернусь, – поспешил я ее расстроить. – Мы наше приятное знакомство обязательно продлим, как то очарование…
– Какое очарование? – проявила она позорное незнание своей национальной классики из окрестностей школьной программы.
– Которое нормальному мужчине продлить хочется, – ответил я, бросил прощальный взгляд на холодное мясо, встал из-за стола, поклонился сексапильной сахалинской блуднице, быстро расплатился на кассе за не съеденный в компании прекрасного врага ужин и поскакал к управлению за машиной, чтобы немедленно отправиться к себе в родные края – впервые не для желанного сна, а на работу.
Глава 9
Когда коренной москвич и закоренелый гиперболизатор Ганин говорит, что Саппоро – город маленький, он, разумеется, либо хохмит, либо опять цитирует кого-нибудь в полном отрыве от суровой правды жизни. Ему прекрасно известно, что Саппоро, на самом деле, город большой, и внезапно возникшая ситуация лишний раз это доказывает. То, что сейчас мне пришлось погнать служебную «тойоту» в свой Айно-сато не для свидания с обделенной моим мужским вниманием Дзюнко и общения с растущими в условиях перманентной безотцовщины Морио и Норико, а для обследования места очередного преступления, мне показалось весьма символичным, поскольку получалось, что я впервые еду в свой «спальный» район для бодрствования и бдения. Адрес, который дал Исима, мне ничего не говорил: это было по левую сторону от шоссе, разделяющего район пополам.
Айно-сато некогда являлся гордостью Саппоро, и жить в нем стремились самые продвинутые из наших граждан. Застраивать целинные поля на северо-востоке затеяли в начале семидесятых, на волне прилива интернационалистических эмоций и бюджетных дотаций, вызванных зимней Олимпиадой семьдесят второго года, когда город фактически впервые открылся для массового нашествия горластых, неугомонных гайдзинов. Айно-сато стал первым и, к счастью, последним оазисом североамериканской цивилизации на хоккайдской земле. Его возводили по принципу американских и канадских предместий, заставляя нарезанные ровными ломтиками сасимного тунца кварталы отдельными двухэтажными домами в европейском стиле, то есть с симметричным расположением окон и дверей и более или менее привлекательными фасадами. Земля, правда, изначально в Айно-сато была не намного дешевле, чем в других районах Саппоро, так что по виду дома американские, а вот участки вокруг них наши, японские – мангал для барбекю поставить еще можно, но шезлонги вокруг него – уже проблематично. Со временем около железнодорожной станции отгрохали несколько многоэтажек и большой торговый центр, и первые годы жизнь здесь казалась раем.
Когда я получил лейтенанта и мой годовой доход принял более или менее вразумительные очертания, у нас с Дзюнко ребром натруженной ладони встал вопрос о покупке жилья. До второй половины восьмидесятых мы снимали квартиру, но затем Нисио пробил постоянный контракт, закрепивший меня пожизненно, точнее – «попенсионно», в главном управлении, и Дзюнко, обрадовавшись тому, что нам не придется в будущем скитаться по долинам и по взгорьям второго по площади острова японского архипелага, начала капать мне на мозги относительно приобретения собственной крыши над головой, поддерживаемой как минимум четырьмя стенами. Мне лично, откровенно говоря, была тогда гораздо милее идея покупки квартиры: во-первых, она хоть на пять – семь миллионов иен, а дешевле дома, во-вторых, будучи по долгу службы осведомленным в вопросе текущей статистики по ограблениям жилых помещений, я, разумеется, знал, что в этом плане отдельно стоящие частные дома более уязвимы, нежели квартиры. Но домовитая жена моя намертво, как когда-то в меня, вцепилась в идею покупки обособленного жилища, да еще не где-нибудь, а именно в модном Айно-сато по причине его расхваленной газетчиками и риелторами идеальной экологии (до ближайшего промышленного предприятия – больше десяти километров, и то – безобидный молокозавод) и обилия зелени, что автоматически снимало с повестки дня такой обязательный для пожизненно нанятого государственного служащего вопрос, как покупка дачи.
Я, конечно, в силу своей природной проницательности и профессионального опыта сразу подумал о том, что самой же Дзюнко быстро наскучит жить на таком уж слишком удаленном от центра города отшибе, но она била себя кулачками в обе аппетитные как тогда, так и сейчас персиковые груди и клялась, что ей будет в центр на электричке ездить не только не хлопотно, но, напротив, приятно. К этому времени мы собрались стругать Морио – первым по плану (по моему, конечно, Дзюнко все время девочек подавай!) У нас непременно должен был быть мальчик. Поэтому нам нужно было задуматься не только на девять месяцев, но и на шесть лет вперед, чтобы загодя решить вопрос со школой, то есть, опять же, с местом постоянной оседлости потому как менять школы у нас не рекомендуется. Травить новенького, издеваться над ним и доводить до психоза а часто – и до самоубийства, в японских школах дело привычное и, я бы даже сказал, обязательное. Данные по смертельным исходам и увечьям детей, подвергшихся в школах издевательствам со стороны одноклассников при полном попустительстве учителей, ни одному японскому родителю оптимизма не внушают, и в конце концов я смирился – вслед за детородным – с природоохранным рвением Дзюнко, глубокомысленно вздохнул и отправился в банк оформлять ипотечный кредит.
Не то чтобы у нас совсем не было средств: после смерти мамы мне перепало двадцать миллионов иен, что составляло тогда две трети стоимости дома, а на счету у меня уже лежало порядка пяти миллионов. То есть в данном случае конкретные деньги на конкретную покупку у нас имелись, но во мне сработал стадный инстинкт, основанный на извечном, ничем не истребимом в наших куцых японских душонках страхе быть не таким, как все. Это сейчас, когда мне до «полтинника» три зимы и два лета и до полковника – столько же, я весь из себя крутой и смелый и без дрожи в коленках и отроческого заикания с красивыми русскими бабами в ресторанах беседы светские веду, и ладони у меня при этом сухие. А семнадцать лет назад во мне не только килограммов поменьше было, но и самоуверенности: я себе тогда даже представить не мог, как в один прекрасный день заявляюсь в отдел и объявляю, что прикупил дом в продвинутом Айно-сато без всякого кредита – с полной разовой оплатой из собственных средств. Может, и смотрели бы на меня после этого мои молчаливые коллеги, обремененные тридцатилетними дебиторскими обязательствами перед нашими прожорливыми банками, без особой ненависти – примитивной зависти с их стороны было бы вполне достаточно, но отважиться на такую антиобщественную выходку я не решился. Контракт с банком на ипотеку я подписал стандартный – на все те же тридцать лет, до истечения которых теперь осталось тринадцать.
Непритязательный двухэтажный домик в обывательском духе американского Среднего Запада конца шестидесятых, справленный на полученные в банке двадцать шесть миллионов иен и послуживший местом сотворения сначала шкодливого и бестолкового Морио, а затем спокойной и смышленой Норико, мы уже дважды ремонтировали – не забесплатно, разумеется, а к самому Айно-сато моя Дзюнко успела тысячу раз охладеть, и теперь ей все труднее на людях декларировать свою бескрайнюю любовь к нашему «полю любви». От изначальной прелести экологического рая у нее и у других жителей района осталось в душе только это сентиментальное название: «Ай» – любовь (причем бесплотная, платоническая; для плотской любви у нас есть отдельное слово – «кой», хотя и чисто японское, но все-таки попахивающее – не без причины – латинским «коитусом»), «но» – суффикс родительного падежа, «сато» – поле, то есть выходит «поле любви», в пределы которого я теперь вторгся на скорости шестьдесят километров в час – ехать быстрее не позволяла, понятное дело, профессиональная принадлежность, но больше непроглядная тьма за окнами машины, после ослепительного неонового моря центра Саппоро напоминавшая о том, что наше «поле любви» – все-таки деревня, а не город.
Домой я, естественно, не заехал: промчался мимо нашего квартала, да еще отключил на всякий случай мобильник, чтобы Дзюнко, не дай бог, не позвонила бы и не примчалась в дом Китадзимы с ужином в коробочке, упреком в голосе и слезами в глазах. Как я и предполагал, обитель филологического семейства Китадзима выглядела посолиднее нашей – все-таки две зарплаты больше, чем одна: добротный кирпичный двухэтажный дом в современном европейском стиле, гараж на две машины, большой по японским стандартам участок, засаженный неопределенными по причине темноты деревцами, кустами и цветами. В проезде около дома стояло три наших черно-белых легковушки и два микроавтобуса – видимо, те же самые, что приезжали вчера в «Альфу». За дальним микроавтобусом притулился хорошо знакомый мне «мицубиси-галант» с номером «Саппоро 52, Я-92-08». Интересно, а что здесь делает друг мой Ганин?
Отогнав удостоверением шкафоподобного сержанта, преградившего было мне путь в глубь дома, я прошел в гостиную. Наши ребята деловито суетились по всему дому, выполняя святые марксистско-энгельсовские заветы по капиталистическому разделению труда и социалистическому объединению ответственности. Тело Хидео Китадзимы лежало закрытое белой простыней вдоль комнатного отопителя, выполненного в стиле модернового камина. Напротив на широком кожаном диване, прижимая обеими руками к глазам комок бумажных салфеток, сидела новоиспеченная вдова, рядом с ней притулился взъерошенный и ошарашенный Ганин, а на кресле около них вальяжно развалился Нисио. Из соседней комнаты – судя по куску попавшего в поле моего зрения интерьера с книжными полками кабинета, доносилось знакомое посапывание и покряхтывание Мураками.
Йосида из уголовного управления, майор, как и я, на которого повесили это дело, пресно поведал мне, что труп профессора филологического факультета университета Хоккайдо Хидео Китадзимы обнаружили его законная супруга – гражданка Японии Наталья Китадзима и небезызвестный как в филологических, так и правоохранительных кругах Саппоро преподаватель отделения иностранных языков полицейской академии Хоккайдо, разлюбезный мой дружок Ганин. По предварительному заключению медэксперта, смерть университетского сэнсэя наступила в результате единственного проникающего ножевого ранения в область сердца. Обычный кухонный нож для разделки мяса остался в ране и теперь выпирался из-под импровизированного савана. Поскольку тело, когда его обнаружили Ганин с Наташей, не успело даже толком остыть, время смерти медэксперт без труда установил довольно точно – между девятью тридцатью и десятью часами вечера, то есть буквально за десять – пятнадцать минут до приезда моего приятеля и его прекрасной и теперь бесконечно печальной спутницы. Об отпечатках пальцев говорить определенно было пока рано, но Йосида промямлил, что в принципе никаких отпечатков с рукоятки ножа криминалистам снять не удалось, из чего следует закономерный вывод о том, что убийца тщательно протер ручку, прежде чем покинуть гостеприимный дом. Главная в таких случаях версия об убийстве с целью ограбления, по мнению Йосиды, успевшего опросить хозяйку дома, где среднестатистическому домушнику-мокрушнику было чем поживиться, отпадала, и никаких внешних следов пропаж дорогостоящих вещей или заявлений о таковых от Натальи Китадзимы в протокол предварительного осмотра места преступления майору включить не удалось, хотя, я уверен, очень хотелось бы. Ведь чем, извиняюсь за непроизвольный цинизм, хороши убийства с целью ограбления? Правильно, тем, что рано или поздно краденое где-нибудь да всплывет, и тогда выйти через вещицу на продавца, который чаще всего по совместительству является и душегубом, для нас дело техники. А в данной ситуации, как подсказывало мне мое многоопытное чутье, одной только техникой мы не обойдемся.
Я не стал мучить находящегося при исполнении своих прямых служебных обязанностей Йосиду дальнейшими расспросами, понимая, что раз покойник – японец, мое дело здесь пока сторона, о чем дремавший в мягком кресле Нисио, видимо, ему уже сообщил, а поманил пальцем Ганина, показав, что ему неплохо было бы подняться и перенести свой чувствительный филологический зад в соседнюю комнату, где я бы смог не только из первых уст узнать от него подробности, но еще и проконтролировать служебное поведение ретивой Аюми, которая, как я успел заметить, слишком увлекается проявлением своей самостоятельности и инициативности.
Лохматую Мураками мы с Ганиным застали за просмотром книг на книжных стеллажах, встроенных во все четыре стены кабинета и, собственно, этими самыми стенами являющимися. Она стрельнула в меня озабоченными глазками затем покосилась на Ганина, потом – вновь на меня, после чего спросила без излишних протокольных условностей:
– Поговорили?
– Поговорил, но не договорил, – ответил я. – Некстати это все случилось…
– Убийство никогда кстати не бывает, – буркнула она и перенесла поле своих исследований на письменный стол со стареньким раздолбанным ноутбуком, большой хай-тековской лампой и грудой разношерстых бумаг.
– Смотря для чьей стати, – не согласился я с ней.
– Это уж тогда не стать, а прыть получается, – ни к селу ни к городу ляпнула Мураками.
– Так что, Ганин, – я отвернулся от Аюми, не желая вступать с ней в словесную битву, – давай поведай, как ты здесь оказался.
– Да дело, в общем-то, блеклое, – вздохнул явно расстроенный случившимся Ганин. – Я Наташу домой привез, высадил, развернулся и собрался домой ехать, а она как из окна закричит мне…
– Из гостиной? – уточнил я.
– Ну, конечно, он же там лежит… – Ганин покосился в сторону рокового зала. – Ты же видел…
– Да, видел, окна до сих пор распахнуты. Значит, это она их открыла? А сэнсэй, стало быть, взаперти сидел…
– Октябрь на дворе, Такуя, – укоризненно взглянул на меня Ганин. – Ты что, сам с открытым окном спишь?
– Я женатый человек, как ты знаешь, Ганин, – напомнил я ему о своем социальном статусе. – Так, ладно, хватит опять про это спанье! Я сегодня уже наслушался про него выше крыши! Значит, Наташа вошла в дом, потом открыла окна и закричала. Так?
Ганин молча кивнул.
– И ты что?
– Как что! Тормознул, конечно, развернулся, остановился выскочил из машины, прибежал в дом… Наташа вся белая… А Хидео с ножом в груди лежит… – Ганин был как никогда серьезен и бледен. – Меня аж пот прошиб от ужаса!… Вон рубаха до сих пор мокрая… В сауну в какую-то провалился от этого кошмара!… И в зобу дыханье сперло… Первый раз в жизни маску кислородную захотел…
– Вы с ней когда приехали? – Влажная от пота рубашка Ганина и его опыт использования в личных целях кислородных масок, аппаратов, а заодно и коктейлей меня как-то не взволновали.
– Двадцать минут одиннадцатого где-то, – ответил он, машинально продолжая ощупывать свою одежду.
– И естественно, у дома никого и ничего не видели?
– Нет. – Он крутанул головой. – Темно же… Да и кто в такой ситуации будет по сторонам смотреть? Я здесь не первый раз, а у Наташи вообще никаких причин для тревоги не было.
– Да, человек даже и не предполагает, что за него кто-то где-то там располагает… – согласился я с Ганиным и про себя подумал, что на его месте тоже смотрел бы не на безрадостную тьму за окнами, а на роскошные Наташины коленки по левую от себя сторону. – Откуда, говоришь, вы приехали?
– Мы в ресторане всей нашей литературоведческой компашкой ужинали…
– Где?
– В центре, около вокзала, в «Лайоне», – пояснил Ганин. – Конечно, ребятам после смерти Селиванова особо не до радостей жизни, но кушать тоже ведь надо, иногда хотя бы…
– Они не все ведь из-за него расстроились? – спросил я. – Мне они сегодня в университете перепаханными не показались. Или я ошибаюсь?
– Естественно, их это не слишком перепахало, – кивнул Ганин. – Они же все из разных мест, знакомы кепочно…
– Как? – Я не смог с ходу распознать очередной ганинский каламбур. – Кепочно?
– Ну, панамно. – Литературовед Ганин поспешил выказать раздражение по поводу моей лингвистической нерасторопности и языковой глухоты. – Оно же шляпно и беретно!
– Шапочно, что ли? – дошло до меня наконец-то.
– Слава богу, доперло, – удовлетворенно выдохнул Ганин.
– Сколько вас было человек?
– У шляпника? – наконец-то в первый раз за все наше текущее свидание улыбнулся сэнсэй.
– У шмятника!
– Я, Наташа, Олег, Нина, Марина, еще две профессорши из Новосибирска, два доцента из Питера, какой-то парень из Южно-Сахалинска… Кириллов опять же… Большая компания…
– Кириллов тоже? – удивился я. – Вы что, сразу в таком составе уселись?
– Нет, – закрутил головой Ганин. – Заречный не сначала был, он из университета в какой-то магазин отправился, а потом уже к нам, в ресторан, в начале восьмого приехал: я его предупредил, что мы в «Лайоне» будем. А после девяти Кириллов присоединился…
– Присоединился? А где он до этого был? – Я решил не посвящать пока Ганина в наши с Кирилловым шашни.
– Шлялся где-то… Вы его куда отвезли? – Ганин никогда не преминет показать, что от его зоркого, сейчас немного опечаленного взгляда ничто не ускользнет.
– К себе возили, в управление, – промычал я. – Поговорили малость и подвезли до «Йодобаси Камеры».
– А-а, ну да, он и сказал, что электронику смотрел и покупки кое-какие сделал!
– А как же он вас нашел?
– Отдельная песня: по сотовому Наташе позвонил…
– По какому сотовому? – Я вздрогнул от неожиданного известия. – У него что, мобильник есть?
– Он странный, понимаешь. Сказал, что купил себе одноразовый телефон – только что, в «Йодобаси Камере»…
– Почему он «странный»? – перебил я Ганина.
– Ну как же! Говорит, что только что неизвестно для чего купил какой-то безумно дешевый одноразовый аппарат, а я же помню прекрасно, как вы его с… – Ганин покосился на молча перебиравшую бумаги на столе Мураками, – ну, в общем… вы его в университете именно с сотовым в руках сцапали. И чего врать было, не понимаю…
– Интересные вещи рассказываешь, Ганин! – Я не предполагал, что наши встречи с Кирилловым продолжатся именно на почве мобильной телефонной связи.
– Я же говорю: интересный мужик! Забавный – одновременно странный, но неглупый, такие в России иногда попадаются.
– А Китадзимы, ныне покойного, с вами не было, да? – Я кивнул в сторону гостиной. – Я правильно понимаю?
– Не было, – подтвердил мое предположение Ганин. – Хидео с нами в ресторане не было и быть не могло.
– Чего вдруг?
– Ну мы же в чисто русском составе собрались. Чего ему с нами было делать?… – задумчиво изрек он.
– А на конференции он был?
– Нет, Наташа говорит, он целый день дома торчал, как ты выразился – взаперти. Он мне рассказывал, что книжку пишет. – Ганин печально посмотрел на компьютер и бумаги, перебираемые младенческими пальчиками Аюми. – Писал, вернее…
– Значит, на конференции его не было?
– Говорю, не было. Он вообще Достоевским занимается. Что ему эта наша современная литература!
– Достоевским? – переспросил я и взглянул поверх ганинского плеча на книжные полки, забитые знакомыми с детства по кабинету моего ученого папаши томами и фолиантами.
– Тебе же Наташа вчера сказала, что он у твоего отца аспирантом был. Забыл? – не преминул проапеллировать к моему родителю Ганин. – Вчера она тебе говорила…
– Нет, Ганин, не забыл. – Я покачал головой. – Во сколько вы ужинать начали?
– Где-то в шесть, может, чуть позже. Мы туда сразу из университета поехали. Ребята хотели саппоровского пивка попробовать… В будни вечером на вокзале поесть без проблем.
– Попробовали?
– Что?
– Ну пиво! Сам же сказал… – Я и сам толком не понимал, почему вдруг ко мне прицепилось это пиво, но по привычке получать ответы на свои вопросы решил дожать удивленного Ганина.
– А-а, разумеется! – Его, как мне показалось, эта моя привычка не слишком обрадовала. – «Лайон» же фирменный ресторан, как раз по пивной линии…
– Понравилось?
– Что понравилось? – Ганин распахнул свои серые глазищи. – Ты чего, Такуя, у тебя человека убили! Вон с ножом между ребер валяется! А ты про пиво!
– Не знаешь, Ганин, где найдешь, где потеряешь, – осадил я его. – Так всем пиво понравилось?
– Ну мужикам, конечно, – сник Ганин. – Кроме Олега только…
– А что Заречному не понравилось в нашем пиве?
– Да нет, не то что не понравилось. Он просто говорит, что ему больше «Кирин» по душе.
– А он, как я погляжу, знаток! – Не зря мне сразу в глаза бросилась эта его как внешняя, так и внутренняя независимость. – В японском пиве разбирается, да?
– Так он же в Аомори когда-то работал. Там пиво «Саппоро» и попробовал первый раз. И «Кирин» тоже…
– Хорошо. – С пивом мне все стало понятно. – Когда вы разошлись? Вернее, разъехались…
– Мы с Наташей сидели до упора, то есть пока все расползаться не начали… Наелись-напились и стали расползаться…
– Это во сколько?
– Без двадцати десять приблизительно. Оттуда на моей тачке мы с ней сразу сюда и поехали… – не без гордости сказал он.
– А остальные?
– Нина с Мариной первыми отчалили – еще восьми не было, где-то без пяти…
– Чего это они так рано?
– Да якобы у них животы от японской хавки прихватило!… Я так думаю, просто на много наедать не хотели… Они же все деньги экономят… Только для виду хорохорятся… Хотя в принципе никто даже и не намекал, что они должны за себя платить…
– Они пешком в гостиницу пошли?
– Нет, мы им такси заказали, – посетовал Ганин.
– Понятно. А остальные?
– С остальными мы вместе расходились.
– Кто платил? – Я прищурился в сторону сэнсэя.
– Кто, кто! Дед-пихто, его баба-тарахто и внучок ихний – бухто! – пробурчал недовольный моим вопросом Ганин. – Давай с трех раз попробуй угадать, кто платил!
– Ты один, что ли?
– Втроем с Наташей и Олегом.
– Наташа – понятно, – полушепотом сказал я и оглянулся на гостиную. – Но Заречный, значит, тоже копейку вложил?
– Тридцать три процента, – не без глубокого мужского удовлетворения по поводу все еще существующей на нашей многострадальной и многополярной земле мужской солидарности ответил Ганин. – Он нормальный мужик, Такуя, все как надо понимает, с чувством юмора, да и побогаче других ребят будет: все-таки в Японии работал, еще где-то в загранке…
– Значит, Ганин, с девяти до десяти с вами за столом не было Нины Борисовны и Марины Валентиновны?
– Наоборот, – брякнул Ганин.
– Что наоборот? Они с девяти до десяти были за столом в «Лайоне», а вас никого не было, что ли?
– Нет, мы были, их – не было, это правда, святой истинный крест и чтоб я сдох! – Ганин щелкнул ногтем большого пальца по задней поверхности верхних передних зубов. – Просто Борисовна не Нина, а Марина, ну а Валентиновна, получается, Нина.
– Хорошо, я рад за нее, что у нее получается.
– Не у нее, а у них, – педантично поправил меня известный хохмач и словоблуд Ганин.
– Это намек?
– Прозрачный, – ухмыльнулся мой не упускающий возможности не только схохмить, но и спошлить дружок.
– Ты его хорошо знал? – Я указал затылком на скорбную гостиную. – Хидео этого…
– В «прозрачном» смысле? – Вопрос, помноженный на затеплившуюся в пепельных очах Ганина лукавинку, означал, что сэнсэй уже благополучно пережил легкий шок, окончательно вернулся в свое боевое психическое состояние и готов к новым подвигам и свершениям, включая труд и оборону, а при возможности – и нападение.
– Я туманности не люблю, Ганин, – напомнил я. – Я же ведь не Андромеда какая-нибудь.
– Мы с Хидео знакомы через Наташу, – ответил Ганин. – Уже лет десять как…
– Ты мне о нем никогда ничего не рассказывал, – констатировал я факт, добавив в свой голос привкус разочарованности и недоверия. – Тем более что, оказывается, и сюда приезжал, а мы с Дзюнко здесь в двух шагах проживаем!
– Такуя, я с ним не дружил! – отрезал сэнсэй. – Хочешь – верь, хочешь – не верь!
– А что же тогда ты с ним делал?
– Общался время от времени. – Ганин стыдливо опустил глаза и повел носом в сторону гостиной. – Не более того…
– То есть идей у тебя относительно того, кто и почему или зачем, у тебя нет? – Развивать тему Наташи, которая, натурально, десять лет назад была еще свежее и натуральнее, чем сейчас, я по-джентльменски не стал – до поры до времени, разумеется.
– «Как» и «когда» ты опускаешь? – Ганин внимательно посмотрел мне в глаза.
– Это не я опускаю, – усмехнулся я. – Это кухонный нож в сердце и теплое тело такие вопросы опустили.
– Да, я слышал, – задумчиво кивнул Ганин. – Тогда на твои вопросы у меня ответов нет. Я в его личные дела не лез…
– Совсем? – сыронизировал я.
– В его – да! – отрезал Ганин.
– Ладно, Ганин, ты давай езжай домой! – смилостивился я. – Саша вся извелась, наверное. А завтра, когда Заречного с его девушками привезешь, заодно мы твои показания запишем.
– Я еще побуду, – тихо ответил он. – Я Саше уже позвонил, все рассказал…
– Как хочешь, – сказал я и вернулся в гостиную. – Ребята тебя знают, гнать не будут, но ты особо не мельтеши перед ними, ладно?
За время допроса Ганина Нисио из гостиной исчез – видимо, старик понял, что ему лично здесь ловить нечего, и отправился к своей старухе. В комнате копошились два эксперта с кисточками в руках, обтянутых мерзкими, навевающими противозачаточные настроения резиновыми перчатками, и еще три парня в синих комбинезонах отделения медицинской экспертизы укладывали покойного Китадзиму на тележку. Его бледная, с черными разводами под влажными глазами супруга безучастно наблюдала за процедурой выноса – точнее, вывоза – тела мужа, по-прежнему сидя на своем роскошном диване и ежась от октябрьской прохлады, проникшей в комнату через все еще настежь распахнутые стеклянные, от потолка до пола окна.
– Китадзима-сан, – обратился я к ней.
– Наташа, – прохлюпала она в салфеточный комок – Я же вчера вам сказала…
– Наташа, – с радостью согласился я с ее демократичным этикетным предложением, – можно задать вам несколько вопросов?
– А вот этот офицер… – Она повела вокруг красными глазами, видимо отыскивая Йосиду. – Я же ему все рассказала…
– Йосида-сан ведет официальное расследование, – пояснил я. – А я занимаюсь другим делом, которое гипотетически может оказаться связанным с вашем горем…
– Ганин сказал, что вы ищете убийцу Селиванова, – проявила она свою информированность.
– Совершенно верно, и поэтому я хотел бы с вами поговорить не как следователь, ведущий дело о вашем муже, а как, если вас устроит, частное лицо.
– Здесь? – Она покосилась на криминалистов, распыляющих на мебель из спринцовок тальк для снятия отпечатков пальцев.
– Где вам будет удобно, – ответил я.
– Пойдемте наверх, в спальню, – тихо сказала она, вызвав в моих сознании и подсознании нездоровую реакцию.
Она поднялась с дивана и направилась из гостиной в прихожую, откуда вела лестница на второй этаж, где, по логике вещей, и должна была находиться опочивальня. Я двинулся следом за ней и вдруг осознал, что попал в протокольную ловушку. Она и не думала задерживаться, перед тем как ступить на лестницу, не оставляя мне никаких шансов обойти ее и первым взобраться наверх. Это означало, что я должен теперь подниматься вслед и восхищенно лицезреть ее замечательные ноги под серой юбкой, а заодно попытаться наконец-то решить вопрос о чулках и подвязках. На секунду мне даже почудилось, что она умышленно сделала этот бестиальный рывок вперед меня, но я поспешил отогнать от себя эти черные, как ее чулки или колготки, мысли и отнес ее непродуманное движение к шоку, стрессу и им подобным проявлениям здоровой женской реакции на смерть любимого мужа.
Она поднималась не торопясь, и если на время предположить, что она специально выставила мне напоказ свои главные физические достоинства, замечательно сохранившиеся до пятидесяти трех лет, то следовало признать за ней одну непростительную ошибку: она была в домашних тапочках. Естественно, войдя в дом час назад, она буднично переобулась, но теперь вся прелесть ее призывно раскачивающихся при каждой следующей ступеньке бедер под короткой юбкой седуктивно компенсировалась банальными коричневыми тапками. Впрочем, едва мы добрались до спальни, ошибка эта была с лихвой исправлена. Она открыла белую дверь в уютный семейный эдем и, прежде чем ступить на мягкий бежевый ковер с высоченным ворсом, изящным движением скинула поочередно обе тапки, а затем плавным жестом профессиональной стриптизерши сняла с себя жакет и осталась только в юбке и алой блузке.
Разумеется, видеть во всем этом откровенный призыв вместо эфемерного пресного допроса без лишних слов обрушиться единым телом на широченную кровать, занимающую три четверти комнаты, и подарить друг другу радость, которой и мне, и особенно ей (она все-таки старше меня, да к тому же русская, а они живут меньше японцев…) в жизни осталось не так уж и много, заставляли меня длительное отсутствие сна и распаленное «гранд-отельской» Ириной воображение. На деле все оказалось гораздо прозаичнее: в спальне действительно было жарковато, и Наташа даже поднесла руку к решетке отопителя, как бы проверяя, не включился ли он случайно ни с того ни с сего в начале октября, тогда как обычно мы начинаем топить у себя дома не раньше конца ноября. Убедившись, что печка не работает, она раздвинула желтые портьеры на окне и отодвинула правую раму, после чего от свежего воздуха нас осталась отделять только пластмассовая антимоскитная сетка.
– Вы давно здесь живете? – поинтересовался я.
– В Японии? – Она взглянула на меня своими синими глазами и села на огромную постель, не потрудившись одернуть юбку на чрезмерно открывшихся коленях.
– В Айно-сато, – уточнил я и уже в который раз оценил их замечательные формы.
– Десять лет. – Она опять посмотрела на меня и вдруг расстегнула на груди одну пуговицу. – Душно как!…
– Это пройдет, – успокоил ее я.
– А почему вы спросили?
– Да у меня здесь тоже дом. – Я попытался начать играть на соседских чувствах. – В двенадцатом квартале.
– Да? – нехотя удивилась она. – А двенадцатый квартал – это где? Около станции?
– Нет, ближе к выезду на Саппоро.
– А-а… – рассеянно протянула она. – Мы с Хи здесь ни с кем не общаемся. У нас все связи в университетах…
– Кстати о связях! Наташа, скажите, пожалуйста, у вашего мужа были враги? – Я увидел, что она снова уставилась на отопитель, и не отказал себе в удовольствии посмотреть сначала на ее ноги, а затем на фривольно приоткрытую расстегнутой блузкой грудь, после чего искренне пожалел, что отопление еще не работает, а то у меня был бы шанс увидеть и что-нибудь пофундаментальнее.
– Враги? – Она взметнула свои тонкие, идеально подбритые и безупречно подведенные брови.
– Враги, люди, которые могли бы… – я осекся, подбирая нужное русское слово, – сделать это…
– Вы действительно его не помните? – Она посмотрела на меня, как мне показалось, с некоторым упреком.
– Наташа, у моего отца было столько аспирантов, не говоря уже о студентах…
– Я понимаю… Просто если бы вы его знали хотя бы немного, вы бы меня о его врагах не спрашивали… – печально протянула Наташа. – Если бы вы его знали…
– Что вы имеете в виду?
– Вам известно, что такое «никакой» человек?
– «Никакой»? – Ох уж мне эти русские филологи с их бесконечной игрой в слова и их непрорубаемые значения.
– Ну когда вы интересуетесь кем-нибудь, вы спрашиваете: какой он человек, да? – Наташа внимательно посмотрела на меня. – Понимаете, о чем я говорю? Извините, мне трудно сейчас по-японски…
– Понимаю, – согласился я с нею. – И?…
– Так вот вместо там «плохой» или «хороший» вам говорят: «никакой». Понятно?
– Ни рыба ни мясо то есть, да?
– Не совсем. – Она явно огорчилась моей идиоматической ограниченности. – Не совсем…
– Тогда не понимаю…
– Хидео был именно рыбой. – Она грустно вздохнула. – Понимаете? Рыбой!
– Рыбой? – Этого мне еще не хватало…
– Да, холодной, безразличной, немой рыбой… – Она погладила своей немолодой, но все еще притягательной для мужских губ рукой пуховое покрывало на постели.
– Значит, врагов у него не было? – Я сделал робкую попытку все-таки получить ответ на свой конкретный вопрос.
– У таких людей-рыб ни врагов, ни друзей не бывает… – грустно констатировала Наташа.
– Значит, грубо говоря, ваш муж никому не мешал, да? – Я на всякий случай перефразировал свой вопрос.
– Не мешал? – Она вдруг вздрогнула и посмотрела на открытое окно. – Ох, то душно, то мороз… Вам не холодно?
– Нет. – Я поспешил отмахнуться от ее дезориентирующего вопроса и испугался, что теперь, когда ее бросило из огня да в полымя, она застегнет блузку. – Если вам холодно, я могу закрыть.
– Пока ничего… – Она опять принялась гладить рукой покрывало. – Пускай еще проветрится…
– Наташа, когда вы его последний раз видели? – Я решил продублировать Йосиду.
– Хидео? – удивленно спросила она.
– Разумеется, – кивнул я.
– Сегодня утром.
– Перед конференцией?
– Да, перед тем как ехать в университет. – Она внимательно посмотрела на изголовье постели.
– А почему Китадзима-сэнсэй с вами не поехал? – Мне захотелось послушать ее версию истории, уже рассказанной Ганиным. – Почему его не было на конференции?
– Я же вам сказала, Минамото-сан, что Хи был рыбой… – Наташа опять расстроенно вздохнула.
– Верно, сказали, но толком не пояснили, что вы под этим подразумеваете.
– То, что ему было на все и на всех наплевать! – вдруг вырвалось у нее из трепетной груди.
– Значит, научные симпозиумы его не привлекали?
– Только те, где он мог сам что-нибудь сказать. – Она вытащила из коробки на тумбочке около постели бумажную салфетку и принялась осторожно стирать разводы теней под припухшими глазами. – А там, где говорят другие, ему делать было нечего… Вы же, наверное, от папы своего знаете, что на филологических конференциях народ собирается не для того, чтобы других послушать и ума набраться, а только для того, чтобы себя показать…
– К тому же, если он был аспирантом моего отца, он, должно быть, занимался кем-нибудь типа Достоевского, – поспешил я воспользоваться ганинским подарком. – А вы сегодня все больше про Петрушевскую с Нарбиковой, да?
– Да мне тоже все эти нарбиковы и петрушевские!… – в сердцах, как обычно говорят о наболевшем, выпалила прекрасная Наташа и поспешила добавить: – Как, впрочем, и Федор Михайлович…
– Вы ему из университета сегодня звонили?
– Минамото-сан, вы женаты ведь, да? – Она вдруг внезапно для меня сменила тему – с абстрактной филологической на животрепещущую физиологическую.
– Женат, – признался я.
– Вы сегодня своей жене сколько раз звонили? – Она вперилась в меня двумя лоскутками глубокого сумеречного неба.
– Это, Наташа, к делу не относится. – Мне не понравилось изменение курса в нашем дискурсивном маршруте.
– Относится, – декларативно заявила она. – А вам ваша жена сколько раз сегодня звонила?
– Хорошо, Наташа. – Я покорно опустил голову. – Вы хотите сказать, что сегодня мужу не звонили, он вам – тоже, и это в порядке наших, японских, семейных отношений, так?
– Именно это я хочу сказать, – согласилась со мной она. – Вы очень понятливый японец.
– Спасибо! – Я почувствовал прилив клюквенного сока к своим потрепанным хоккайдским ветром и собственными детьми щекам. – Тело обнаружили вы, я так понимаю?
– Да, так…
– Вы вошли и увидели…
– Увидела Хидео… – Она поднялась с постели и медленно подошла к окну. – Он лежал с ножом в груди… Как сновидение какое-то!… Хичкок, что ли…
– А может, всего-навсего элементарная достоевщина? – осторожно поинтересовался я.
– Чай, не Настасья Филипповна!… – Она обернулась ко мне и изобразила на своем тонком лице подобие грубой гримасы.
– И вы позвали Ганина?
– Я не знаю, что бы я без него делала! – В ее небесных глазах блеснула оптимистическая зарница.
– Как вы его позвали?
– Как? Он разве вам не сказал? – В голосе Наташи послышалась легкая досада.
– В самых общих чертах…
– Открыла окно и закричала…
– Извините, Наташа, может быть, тупой вопрос, но все-таки: а почему через окно?
– Что значит «почему через окно»? – Наташа прикоснулась тонкими увядающими, но все еще хранящими в себе живительное тепло пальцами к сетке на окне.
– Логичнее было бы выбежать за дверь, нет?
– Вы думаете, я соображала тогда, что было логичнее? – усмехнулась она. – Да и пока я до дверей добежала бы, он бы тысячу раз уехать успел…
– А зачем вы открыли обе створки окна, – решил я продемонстрировать блестящие результаты своей наблюдательности, – если кричать Ганину можно было бы и через одну?
– Вы полагаете, я помню? – Она продолжала улыбаться.
– Надеюсь, что помните или вспомните. Надежда, Наташа, вещь не самая слабая…
– В каком смысле?
– В том, что она умирает обычно последней, когда все остальные чувства в человеке уже почили в позе.
– В бозе, – пробурчала она. – Что?
– Почить в позе звучит, по крайней мере, двусмысленно, – пояснила она и машинально взглянула на кровать. – Получается нечто фривольное в духе нашего с вами Ганина…
– А в бозе – это уже не по-ганински? – улыбнулся я.
– В бозе – это по-божески, – глубоко, но не слишком печально вздохнула она.
– Наташа, а можно задать вам вопрос совсем на другую тему? – Ее последний глубокомысленный, но с привкусом цинизма вздох вкупе со взглядами, обращенными на супружеское ложе, заставил меня вспомнить недавнее проницательное наблюдение Ирины Катаямы о том, что все русские женщины, вышедшие замуж за японцев, мазаны одним миром, или, опять же не дожидаясь поправок со стороны грамотных российских филологов, миррой.
– Смотря на какую, – осторожно откликнулась она. – Темы, они разные бывают…
– На деликатную, – предупредил я, не испытывая абсолютно никаких желаний от задуманного вопроса отказываться.
– Деликатную? – Она насторожилась еще больше.
– Скажите, почему у вас с Китадзимой-сэнсэем нет детей? – рубанул я наотмашь.
– Упс-с-с… – прошипела она от неожиданности.
– Посудите сами, – начал я комментировать свое срочно требующее словесных индульгенций изречение, – благополучная пара, два пожизненных университетских контракта…
– А-а, вы в этом смысле… – Она начинала успокаиваться.
– Именно. Так почему?
– Вы интересуетесь, почему вот здесь, – она обвела взглядом свою роскошную спальню, – ничего не зародилось?
– Здесь или… – Я стыдливо опустил глаза. – Дом у вас, как я успел заметить, не маленький…
– И вы о том же! – как мне показалось, с радостью в своем немолодом надтреснутом голосе констатировала она.
– О чем?
– О койке!… – Наташа в мгновение ока превратилась в незабвенную сахалинско-ниигатскую Ирину.
– Я не имел в виду секс… – Я попытался отыграть несколько моральных миллиметров.
– А про детей зачем спросили? – язвительно поинтересовалась она. – Если про секс не хотели?…
– Мне просто странно, что у такой красивой пары нет детей.
– Не было, – поправила она меня.
– Не было, – согласился я.
– И Хидео мой красавцем не был, – добавила она и села на пуфик перед высоким трюмо.
– Я его не видел никогда, – признался я и чуть было не добавил: «И Ато Китаяму тоже…»
– Немного потеряли. – Она уставилась на себя в зеркало.
– Да? – деланно спросил я.
– Я же сказала вам: Хи был холодный и безразличный, как жирный, скользкий карп… Как внутри, так и снаружи…
– Я не знаю, насколько жирен и скользок может быть карп… – грустно протянул я. – Особенно изнутри.
– Да, вы, японцы, на карпов только любуетесь, а в руки не берете и в рот не кладете! – заявила она.
– В рот? – ехидно переспросил я в лучших ганинских традициях.
– Я же говорю: и вы туда же! – Наташа продолжала демонстрировать блестящую реакцию.
– Куда туда? – поинтересовался я.
– Туда, куда и все другие мужики, и Ганин, кстати, ваш тоже! – прошипела она.
– А куда мой Ганин? – Мне стало любопытно разрешить загадку Ганина без его помощи.
– А вот сюда! – Она вдруг медленно моргнула своими длинными, мастерски подклеенными ресницами и не спеша, все с той же сноровкой публичной девки, подтянула на своих бедрах туго обтягивающую их юбку и – боже, наконец-то! – обнажила две белые полоски своего прекрасного тела над ажурным верхом черных чулок. – Ганин тоже сюда хочет!…
– Да? – Я не мог отвести глаз от открывшегося мне райского вида на альковном фоне пушистой спальни.
– Да! – Она скосила глаза на оттянутую юбку и обнаженные прелести. – Как?
– Впечатляет, – признался я.
– Глупости! – Она вернула юбку на прежние позиции, переместив все увиденное мной из плоскости физически грубой реальности в высокую сферу виртуального, бестелесного обладания.
– Время позднее, Наташа, – я посмотрел на часы, но вместо циферблата увидел на них все те же черно-белые бедра, – так что давайте на сегодня закончим!
– Да мы толком и не начинали, – язвительно улыбнулась она и снова медленно перевела взгляд с меня на кровать.
– Вам завтра надо будет дать показания по обнаружению тела вашего мужа, хорошо? – предупредил я ее.
– Завтра? – Она поднялась во весь свой небольшой, но удивительно шедший ей рост; будь она чуть выше, она не выглядела бы такой складной.
– Если сегодня вам больше нечего мне сказать. – Я сжалился над ней и дал ей лишний шанс выговориться.
– Больше – есть! – Она не преминула этим шансом воспользоваться. – Что вы хотите услышать от меня? Почему детей нет?
– Ну, для начала… – кивнул я.
– Да потому что я себе представить не могла, как от этого своего карпа я бы могла родить!
– Он вам был неприятен? – Будучи перфекционистом по натуре, я люблю расставлять горизонтальные двоеточия над «ё».
– Он был мне мерзок, – вдруг абсолютно будничным тоном произнесла она. – Так и запишите: мерзок!
– Он вас слюнявил? – автоматически вырвалось из меня.
– Слюнявил? – удивилась Наташа.
– Извините, музыка навеяла, – сконфузился я. – Это я случайно из другой оперы… Вернее, оперетты…
– Когда его припирало, я, конечно, терпела, но чтобы понести от него! Понимаете, он недостоин был этого!…
– Не совсем.
– Вам не понять… – вздохнула она.
– Вы так думаете?
– А вы в квадрате на его стороне! – Она тряхнула своими идеально уложенными короткими волосами. – Чего мне перед вами тут распинаться! Без толку!…
– В квадрате? – Я опять не сразу вник в смысл ее хитроумного математического заявления.
– Во-первых, вы мужик, – она придирчиво посмотрела на меня. – А во-вторых, японец.
– Это не «квадрат», Наташа, это уже, насколько я знаю, «квадратура круга» называется. – Мне надоело все время обороняться, и я решил перейти в контратаку.
– Круга? – Она подошла к окну.
– Замкнутого, – пояснил я.
– Непонятно. – Она потрогала антимоскитную сетку. – Замкнутого круга, говорите?
– Это проще вяленой трески, Наташа. – Я решил ее просветить. – Жена не хочет доставлять мужу лишнее физиологическое удовольствие, а муж, соответственно, не желает потакать ее постельным прихотям. Вот и выходит замкнутый круг.
– А вы лицемерны, Минамото-сан! – Наташа внимательно посмотрела на меня.
– Чем же это я лицемерен? – поспешил обидеться я.
– Круг очертили верно и замкнули его правильно, но начали ведь не с себя, а с нас, женщин то есть. По-вашему получается, что первопричина в нас, так?
– Тут, Наташа, все хороши, – успокоился я. – Если вам так будет угодно, могу переиначить свои слова: мужу побоку интимные потребности жены, его интересует только собственное удовольствие, и потому жену не тянет его ублажать в постели.
– Извинение слабое, но лучше, чем никакое, – резюмировала она. – Ну ладно… Допустим, вы меня понимаете…
– Полагаю, что можно обойтись без «допустим»…
– Чего ж вы тогда меня спрашиваете, почему у нас детей с Хидео не было, а? – Ее синие глаза в этот момент превратились в фиолетовые, и я даже на мгновение застыл от этой цветовой метаморфозы.
– Хочу получить от вас формальные подтверждения результатам собственных умственных потугов, – признался я, глотая вставший в горле тугой комок шокового спазма.
– Считайте, что вы их получили!
– Спасибо! – улыбнулся я.
– Еще что вас интересует? – Она медленно провела рукой по своим густо-черным, видимо, так же, как и брови, мастерски подкрашенным волосам. – Спрашивайте, Минамото-сан, раз у нас такая ночь намечается – в духе Достоевского.
– Кто мог его убить? Это сейчас самый главный и, пожалуй, единственный серьезный вопрос.
– Ну да, а то, что вот здесь, – она показала подбородком на постель, – его интересовал только единоличный успех, это несерьезно.
– Про ваши сексуальные отношения, Наташа, мы можем поговорить потом, когда найдем ответ на главный вопрос… – успокоил я ее. – Арестуем убийцу, сядем с вами в кафе и за чашкой кофе обсудим все ваши личные проблемы. Обещаю!
– А то, что ваш главный вопрос для меня не имеет никакой важности, вас не интересует?
– Как майора полиции Хоккайдо – нет, – огорчил ее я.
– А как нормального мужика? – Она пристально осмотрела меня с ног до головы.
– Я для вас нормальный мужик? – удивился я. – Я же, как вы сами сказали только что, японец. Следовательно, мужик не только ненормальный, но и конченый. По крайней мере, для вас, русских женщин.
– Да нет, вы на карпа не похожи… – наградила она меня двусмысленным комплиментом. – На первый взгляд, по крайней мере…
– Спасибо! – кивнул я ей. – Так что вы про мужиков там начали? Я недопонял.
– Да это я так, в сердцах… – Наташа опустила глаза, и мне теперь было не видно, вернулся ли к ним изначальный синий цвет, или же они все еще лиловые.
– Простите, Наташа, но вы сейчас даете мне понять, что гибель Хидео Китадзимы вас не очень огорчила?
– Давайте так: вы прикиньте, может ли огорчить смерть мужа жену, которая за двенадцать лет супружества испытывала с ним в постели оргазм только три раза? – Она опять села на постель и вновь принялась гладить покрывало.
– У вас хорошая память. – Это было единственным, на что меня хватило в данной ситуации.
– Как же! Не забывается такое никогда!…
– Вы так спокойно об этом говорите, потому что у вас имеется стопроцентное алиби? – поинтересовался я.
– А что, для японской полиции алиби уже никакого значения не имеет? – улыбнулась она.
– Имеет, – успокоил я ее.
– Тогда чего ж мне волноваться?
– Решили с огнем поиграть?
– С огнем?
– Ну да, дескать, мужа ненавидела, сама бы подушкой придушила, но вот не повезло – кто-то другой опередил. Так получается?
– Обижаете, Минамото-сан! Хотела бы подушкой придушить, – она вытащила из-под покрывала длинную, батонообразную подушку, набитую по нашей древней японской традиции гречишной шелухой, – давно придушила бы…
– Чего ж не придушили, если так невмоготу было? – не без язвы поинтересовался я.
– А Хи тогда совсем уж в карпа превратился бы! Лежал бы весь такой пухлый, задохнувшийся… Да и потом – жалко мне вас, японцев…
– Спасибо вам за вашу жалость, – все так же ернически отреагировал я на ее исповедальное признание.
– Ничего, с меня не убудет.
– Значит, Наташа, к японцам вы снисходительны. – Я решил коснуться смежной, сегодня уже обмусоленной за ужином в «Гранд-отеле» темы. – А как вы относитесь к японскому паспорту?
– При чем здесь паспорт? – Она вмиг посерьезнела.
– Ну как при чем! Если человек имеет паспорт Японии, значит, он японец, так ведь?
– Нет, не так! – возмутилась она.
– Не так?
– Не так! У меня японский паспорт, но я русская и от своего русского происхождения отказываться не собираюсь!
– А если вы, Наташа, такая крутая патриотка, то зачем вам тогда японское гражданство? – Я решил, что нам пора спускаться с идеологических небес на грешную землю – в смысле, нашу, японскую.
– Вы думаете, я Россию свою разнесчастную люблю?! – закричала вдруг она.
– Хорошо, Наташа, – я попытался ее осадить, – если я лицемерен, то вы противоречивы.
– В чем это я противоречива, позвольте узнать?
– Да вот в этих ваших патриотических русофобских декларациях, – напомнил я ей.
– Ах это! – Она опять тряхнула своей очаровательной гривкой. – Да мне Россия нужна здесь, у вас, не как собственно Россия, а как просто другая страна. Не Япония ваша то есть!
– Понятно, – закивал я. – Россия для вас не «родина-уродина-но-она-нам-нравится», а этакий грандиозный «экскьюз» для вашей японофобии, так получается?
– Ну, может быть, немного примитивизированно, но в целом, мне кажется, именно так, – кивнула Наташа.
– А может быть, есть и более прозаические причины? – осторожно спросил я.
– Например? – равнодушно парировала она.
– Например, постоянная работа в японском университете… Зарплата сэнсэя, а?
– Университет! Да я ненавижу этих ваших тупых студентов! – Она опять перешла на крик.
– Так и учили бы себе ваших, «острых», у себя в Москве, – резюмировал я.
– Они же у вас не знают ничего! – Она предпочла проигнорировать мою колкую ремарку. – Не учат ничего! Спят на занятиях! Им все побоку, абсолютно!
– Я в курсе, – прервал ее я.
– Значит, вы меня понимаете?
– По-житейски – да, по-человечески – нет.
– Что?
– Не что, а как. – Теперь уже настала моя очередь поправлять собеседника.
– Хорошо, как? – покорно согласилась она.
– Рационально рассуждая, вы абсолютно правы: за такой вот дом (сколько, кстати, платили? миллионов сорок?), семьдесят тысяч долларов в год за непыльную работу читать русскую грамматику сорока спящим вечным сном красавицам и красавцам, за возможность ездить без визы в Штаты и Европы разные можно и потерпеть и мужа-карпа, и его мерзкую родину.
– А по-человечески? – Против моих житейских рассуждений у нее ничего не нашлось.
– А по-человечески, Наташа, это как же надо себя не любить, чтобы заставлять себя с, как вы смачно изволите выражаться, холодным и жирным карпом сюда вот каждый вечер укладываться. – Я печально взглянул на просторное супружеское ложе четы Китадзима.
– Ну уж тогда предлог и падеж используйте правильный! – упрекнула вдруг меня Наташа. – Раз в грамматику со мной решили поиграться!…
– Я ошибся, извините! – Я судорожно попытался сообразить, чего такого грамматически неправильного я ляпнул. – Какой предлог с каким падежом, говорите?
– Не «с карпом», а «под карпа»! – цинично пояснила она. – Если только «с» ним, это еще куда ни шло…
– Насчет «под» точно не знаю, – успокоился я за свои познания в области практической грамматики русского языка, – у каждого, знаете, ведь свои привычки и приемы…
– Не скабрезничайте! – одернула меня Наташа.
– Хорошо, не буду! – послушно пообещал я.
– И еще о житейском, если можно… – скромно начал я.
– Что еще?
– Скажите, теперь, после того как Китадзимы-сана не стало, каково ваше личное финансовое положение?
– Я не бедная женщина, – гордо заявила она. – Вы же сами только что точно мой годовой доход назвали.
– Конечно, я, так сказать, «профессорский сынок» – мне положено знать такие вещи. Я, собственно, их и знаю, как вы успели заметить. Скажите, Наташа, у вас с мужем банковские счета раздельные?
– Были раздельные, – вздохнула она.
– Что значит «были»?
– Три года назад Хи решил, что нам надо объединить капиталы! – фыркнула Наташа.
– Объединить?
– Да. Ему вдруг взбрело в голову, что, если я во время одной из своих поездок в Москву или еще куда разобьюсь на самолете, все мои денежки пропадут. Тогда как раз у нас под Иркутском самолет упал. Вот они решил общий счет сделать.
– Вы часто в Москву летаете?
– Минимум два раза в год. – Она грустно посмотрела на постель. – Бывает, и чаще.
– У вас там родители?
– Да, мама с папой… Старые уже… – вздохнула Наташа. – Хочу как можно чаще их видеть.
– Значит, на сегодняшний день у вас с мужем имеется общий банковский счет, да?
– Счета, – ответила она.
– Счета? – не понял я.
– Два счета, – объяснила она. – Один иеновый и один – долларовый. Мне в Москве иены не нужны…
– Понятно. Получается, что теперь со смертью мужа вы являетесь единственным держателем этих денег.
– Владелицей, – поправила она меня.
– И, извините, как много у вас на этих счетах денег?
– Не отвечать на этот вопрос я могу? – Наташа взглянула на меня грустными, уже снова темно-синими глазами.
– Сейчас – да, – лицемерно обрадовал я ее, – но завтра в полиции, на официальной даче показаний, вам этот вопрос зададут опять, и, чтобы не доводить дело до прокурорских ордеров на досмотр ваших счетов, вам, я думаю, все-таки придется на него ответить.
– Хорошо, - покорно кивнула она. – У нас с ним на иеновом счету сейчас шестьдесят восемь миллионов, а на долларовом – около двухсот тысяч.
– Понятно, а что насчет страховки?
– Медицинской? – недоуменно взглянула она на меня.
– Нет, я имею в виду страхование жизни.
– А-а, это… – Она усмехнулась. – Хи застраховал только меня: я же сказала, что летаю без конца.
– А на него у вас страховки нет?
– На случай смерти – нет, только медицинская, – она отсекла одну из возможных причин избавления жены от ненавистного мужа, которой из год в год все охотней пользуются наши японские домохозяйки, с волшебной помощью мышьяка или стрихнина получающие от страховых компаний по триста миллионов иен страховых выплат за своих незадачливых мужиков.
– Хорошо, Наташа. – Я обнаружил на своих часах сошедшиеся в экстатическом порыве на числе «12» часовую и минутную стрелки и почувствовал в глазах очередной приступ липкого сна. – Время позднее, ситуация мне пока более или менее понятна, так что давайте закругляться, хорошо?
– А что, завтра мне надо к вам в полицию являться? – Наташа подошла к двери, чтобы выпроводить меня вниз.
– Официально расследование ведет Йосида-сан, он вам сейчас внизу все скажет.
– А вы? – разочарованно протянула она.
– А я пока сбоку припека, с краю корочка, – улыбнулся я и про себя испытал некое вялое подобие чувства гордости. – Если все повернется в сторону России, тогда начнется моя епархия, а пока следствие будет вести обычный отдел.
– Жаль, – кисло улыбнулась прекрасная Наталья. – С вами можно по-русски разговаривать, а Йосида этот ваш по-русски не понимает…
Мы спустились вниз тем же макаром, что и поднимались: Наташа впереди, я – следом, но только теперь из-за обратной пространственной перспективы ее замечательные бедра передо мной не колебались, да и, честно говоря, после увиденного в спальне все эти лестничные подглядывания казались мне тупой детсадовской забавой.
Едва мы сошли с лестницы, как из входных дверей показался взъерошенный Ганин. Он мельком глянул на меня, затем – гораздо медленнее – окинул взором фигуру Наташи, крякнул и принялся рыться в кучке бумажек, лежащих на высокой обувной тумбе около входа. Я поплелся было за Наташей в гостиную, чтобы передать ее Йосиде, как тут мой друг Ганин выдавил из себя нечто нечленораздельное, похожее одновременно на возглас радости и вопль утопающего, и поманил меня к себе правой рукой. В ней была зажата тонюсенькая квитанция, какими обычно забрасывают наши почтовые ящики инспектора, снимающие в наше отсутствие показания наружных счетчиков расхода воды, газа, керосина и электричества, чтобы снять потом уже с наших банковских счетов сумасшедшие деньги за потраченные литры, кубометры и киловатты. Он подождал, пока Наташа зайдет в гостиную, а затем протянул мне эту самую бумажку, оказавшуюся квитанцией за потребленный четой Китадзима в сентябре керосин. Я автоматически отметил смешную сумму – двести тридцать иен и тут же так же автоматически напомнил самому себе, что и у нас с Дзюнко счет за теплый сентябрь будет не больше.
– Видел? – интригующе поинтересовался Ганин.
– В смысле «больше не увидишь»? – осторожно спросил я в ответ. – Ты чего, Ганин?
– Увидишь, еще как увидишь! – воскликнул радостно сэнсэй. – Причем именно «больше»!
– Больше чего? – Мне захотелось уточнить, изобилием чего собирается порадовать меня мой друг.
– Пошли-ка, – требовательно сказал он и потащил меня за руку из уютного теплого оплота японско-русской филологии в промозглую темноту холодной хоккайдской ночи.
Глава 10
Когда через две минуты мы с Ганиным вернулись из мрачного холода во все еще хранящее тепло домашнего очага и тела его покойного владельца пространство, я который уже раз в своей профессиональной жизни оказался в роли конного бродяги-самурая, упершегося на развилке трех дорог в бесформенный булыжник с пророческими объяснениями того, что ждет его, то бишь меня, в случае выбора одной из них. Спокойнее всего было бы сейчас же вывести за руку ответственного за весь этот ночной бедлам Йосиду туда, куда меня только что сводил наблюдательный Ганин, ткнуть носом в то, во что ткнул меня тот же Ганин, и со спокойной душой, но не самой чистой совестью отправиться домой на короткую побывку. Перспектива поступиться некоторыми своими принципами относительно санитарно-гигиенического состояния собственной совести меня как-то не прельстила, и я принялся разглядывать два оставшихся пути. Оба требовали не пускать дело на самотек, хоть и под управлением опытного парня из уголовки, а предполагали мое личное в нем участие. В первом случае, предлагавшемся самым агрессивным максималистам, я должен был прижать сейчас к теплой еще стенке русскую раскрасавицу сэнсэй-шу – в переносном, увы, смысле этого слова – и, воспользовавшись ее нынешним состоянием, попытаться с ходу решить эту головоломку. Главным плюсом этого шага стала бы его внезапность для Наташи, и, думается, расколоть ее в такой ситуации было весьма реальным. Но с другой стороны, если эта не только привлекательная, но и, несомненно, самостоятельная в решениях и твердая в принципах дама вдруг немедленно уйдет в отказ, рассчитывать на что-нибудь более или менее существенное в дальнейшем не приходилось. Кавалерийский наскок имеет шанс напороться на неприступную стену, и тогда моей могучей интеллектуальной армии придется начинать долгую, изнуряющую не столько окружаемых, сколько окружающих осаду. Посему мне ничего не оставалось, как последовать логичным требованиям разума и ступить на третий – менее эффектный, но, как подсказывали мне интуиция и опыт, более эффективный – путь, а именно: лицемерно распрощаться с Йосидой и его ребятами, которым предстояло еще часа три колдовать над сбором вещдоков и улик в просторном гнездышке бездетной японо-российской филологической четы, оставить им служебную машину, на которой я приехал из центра, забрать с собой возбужденного Ганина и отправиться вместе с ним на его «галанте» на другой конец моего родимого Айно-сато, где, по идее, все еще ждало меня мое благородное семейство.
– Не стал, значить, лаврами с конкурентами делиться? – проницательно хмыкнул мне в правое плечо Ганин, едва мы тронулись. – Честолюбивый вы наш!
– Всему свое время, Ганин, – осадил я его. – Поспешишь – козла насмешишь…
– Прямо как в кино!… – ухмыльнулся он.
– В каком кино? – не понял я.
– В американском, про козлов, – ответил Ганин. – Полиция прячет улики от ФСБ, ЦРУ следит за полицией, а ФСБ подсиживает цэрэушников. Все в лучших традициях Голливуда!…
– Ты же понимаешь, Ганин, что наша уголовка об эту вашу русскую стену себе лоб расшибет. Все равно рано или поздно дело это к нам вернется – я чувствую! – выступил я перед ним с небольшой профессиональной исповедью. – А в этом случае мне всегда нужно иметь что-нибудь существенное в резерве.
– Ну имей! Ты меня знаешь: мне для друга ничего не жалко! – кивнул великодушный Ганин. – Да, кстати, о Голливуде и «имении»: что это за Линда Хант с тобой второй день шатается?
– Кто? – Вечно этот образованный – начитанный и «насмотренный» – Ганин ввернет чего-нибудь такое гиперинтеллектуальное!
– Ну девица эта – колченогая и лохматая! – как обычно, перевел он сам себя. – И ростом с детсадовца… Полицейская вроде тоже, нет? Ты ее вчера в Читосэ встречал!…
– А-а, Аюми… – наконец дошло до меня.
– Пускай будет на этот раз не Линда Хант, а Аюми, – согласился Ганин с ее именем. – Кто такая? Что ей нужно от нас? Я ее раньше в твоем отделе не видел.
– Капитан Мураками из Ниигаты, – объяснил я. – Приехала по делу той самой Ирины, за которой ты по банкам и университетам бегал. Она ее там, на Хонсю, пасла и теперь вот дорвалась…
– Понятно, – пропел Ганин. – Обожаю женщин, которые наконец-то дорвались!… С ними жизнь нелегкая, конечно, но страшно впечатляющая!… Русский у нее очень неплохой!…
– Она филфаки всякие разные кончала в Осаке, да еще в Питере училась два года, так что уровень высокий…
– А чего это она в ментуру подалась, раз она вся такая-растакая из себя филологическая? – скривился Ганин.
– А ты поди найди работу у нас, в Японии, по вашей тоскливой русской филологии! – предложил я надежно трудоустроенному Ганину. – Времена, когда отец мой мог безо всяких конкурсов-шмонкурсов теплое место в университете получить и мусолить там за приличные деньги вашего Достоевского, прошли давно!
– Да я, в общем-то, в курсе, – с пониманием и сочувствием к самому себе вздохнул Ганин.
– Тем более она женщина, – добавил я. – Девушка то есть… А у нас пока феминизмом только чуть-чуть подванивает…
– Кстати о девушках! – Ганину, слава богу, надоела эта неведомая мне Линда Хант с ее треклятым Голливудом, а заодно и Мураками с ее дурацкими волосами. – Ты Дзюнко позвонил?
– Зачем? – удивился я. – Предупредить, что ее законный муж домой едет?
– Нет, предупредить, что он не один едет, – уточнил Ганин. – Время второй час, а тут я заваливаюсь!…
– Брось! – успокоил я его. – Дзюнко тебе всегда рада. Вот, правда, как узнает, что ты сюда, в Айно-сато, к другой девушке шастаешь, тогда, может, радоваться перестанет…
– Если бы я действительно шастал!… – запыхтел Ганин. – Где твой поворот? Этот, что ли?…
– А то ты не помнишь!
Ганин безошибочно подрулил к нашему дому. Окна были безнадежно темными, что свидетельствовало о моей наивности в плане мечтаний по поводу ночных бдений Дзюнко в безрадостном ожидании своей недисциплинированной служивой половины. Ганин заехал левой половиной своего «галанта» на тротуар перед домом, чтобы не загромождать проезд моим работящим соседям, которые уже через пять часов начнут разъезжаться по своим далеким конторам и офисам. Я открыл дверь своим ключом, и мы зашли в дом.
– Жрать хочешь, Ганин? – полушепотом обратился я в полутьме к силуэту Ганина.
– Хочу, – прошептал мне в ответ силуэт.
– Ты же ужинал сегодня в ресторане! – напомнил я ему. – С красивыми женщинами!
– И мужчинами! – уточнил Ганин. – И не сегодня, а вчера! Ты на часы посмотри! Я полночи не ел!
– Тогда ползи в столовую! – приказал я ему и на часы смотреть на всякий случай не стал.
– Нет, я сначала в другое место поползу. – И Ганин на ощупь стал двигаться в направлении ванной с туалетом.
Я же впотьмах добрался до нашей крохотной кухни, отделенной от столовой стеной с огромным раздаточным окном, включил наконец-то свет и убедился в том, что Дзюнко все-таки хоть немножко, но ждала меня: на открытой полке буфета светились, соответственно, оранжевым и зеленым огоньками шарообразная, в виде элегантной хай-тековской кубышки, никелированная рисоварка и высокий белый пластиковый чайник-термос, что предполагало наличие в них, опять же соответственно, свежесваренного и сохраняемого в горячем состоянии риса и крутого кипятка, которым я могу залить сублимированную лапшу, пенопластовая миска с которой стояла непочатой рядом с чайником. В это время где-то в сумрачных недрах нашего скромного жилища Ганин, как сказал бы русско-американский классик, «обрушил дом» и, сопровождаемый медленно угасающим рокотом туалетного водопада, триумфально вошел в столовую, как сказано в уже несколько иной классике, «с огромной улыбкой на лице».
– Ребята твои спят, что ли? – спросил он, праздно оглядываясь по сторонам.
– Нет, Ганин, в поле вышли! – огрызнулся я на его тупой вопрос. – Есть будем?
– Нальете – выпью! – опять процитировал свою бессмертную теперь уже киноклассику Ганин.
– Пиво в холодильнике, – указал я ему подбородком на гигантский бежевый шкаф, который полгода назад проглотил ровно половину моей месячной зарплаты.
– Ты будешь? – поинтересовался Ганин уже изнутри холодильника, по-страусиному засунув туда голову и одновременно загромоздив своим задом проход из гостиной в кухню.
– Те же и они же!… – раздался из темноты сонный, но снисходительно спокойный голос Дзюнко. – Приезжают только ночью – и то для того, чтобы пива надраться!
– Ой, Дзюнко, привет! – Ганин был вынужден перейти на японский, что означало введение временного моратория на бесконечные цитаты и каламбуры. – Извини, мы тут…
Дзюнко, широко зевая и продирая глаза, обогнула застывшего с банками пива «Саппоро» в каждой руке Ганина, зашла в столовую и плюхнулась за стол. На ней была ее любимая розовая осенняя юката – достаточно теплая для холодных октябрьских ночей, но и не такая толстая, какие она носит зимой, когда весь наш Айно-сато засыпает стометровым слоем снега и дома, невзирая на гордость большинства местных домов – централизованное отопление, как, скажем, и у давешних Китадзим, стоит такая жуткая холодрыга, что не спасает и сотня напяленных байковых юкат. Я сел напротив и внимательно посмотрел в ее глаза.
– Чего? – буркнула она сердито, взглянула на меня, затем на Ганина и поплотнее запахнула на не к ночи будь помянутой зрелой груди свою злополучную юкату.
– Извини… – вздохнул я и отвел взгляд.
– Если бы я, Такуя, каждый такой вот раз тебя извиняла, – она опять глубоко и как-то очень аппетитно вздохнула, – у меня «извинялка» давно сломалась бы, как та «обижалка»…
– А что, «обижалку» ты так до сих пор и не починила? – стараясь звучать не слишком уж ехидно, поинтересовался я. – Приятно слышать!… И вообще давно тебя не видел…
За одни резиновые сутки, начавшиеся для меня утром в понедельник, который все никак не хотел кончаться, невзирая на никакие там часы и календари, это была третья женщина, в чьем внимании к моей персоне я был заинтересован и, соответственно, к кому я должен был тоже отнестись с повышенным интересом. Я еще раз посмотрел на Дзюнко и понял наконец, что именно в ней меня слегка, но ощутимо стукнуло по мозгам, едва она появилась в столовой. Это были именно ее глаза. Про фигуру сейчас речи и быть не могло: юката – халат длинный, до пола, дешевая вариация на тему предусмотрительно скрывающего все женское тело – от шеи до пят – кимоно. С кожей на лице у Дзюнко, в отличие от миллионов других японок, все более или менее в порядке, то есть даже когда она по японской традиции и женской привычке замазывает себе лоб и щеки жидкой пудрой, разительного отличия от того, что было до этой лицедейской косметической процедуры, я не наблюдаю, хотя, конечно, с пудрой оно все-таки красивее – глаже и нежнее как-то, ближе к одновременно гладким и бархатистым персикам, которые страстно хочется если не надкусить, то хотя бы погладить. Основное же число ее соотечественниц независимо от возраста страдает серьезными изъянами кожи, начиная от не проходящих и спустя десятилетия после полового созревания прыщей и угрей и кончая глубокими оспинами и внушительными рытвинами неизвестного, скорее всего – генетического, происхождения, благодаря которым наша, отечественная, а заодно и французская косметическая промышленность могут не бояться за свое светлое профицитное будущее.
С глазами все гораздо сложнее: дело в том, что у подавляющего большинства японок отсутствуют сколько-нибудь вразумительные веки, отчего и ресницы на них найти даже при хорошем искусственном освещении или же ярком солнечном свете не так-то просто. Когда с этой проблемой сталкиваются смотрящие на них мужики, которым не с чем – вернее, не с кем – сравнивать своих жен и любовниц, то тут никаких серьезных трудностей не возникает. Ведь если среднестатистический, ограниченный в кругозоре и средствах японец никогда в жизни не видел ног Клаудии Шиффер и бедер Синди Кроуфорд, то он ничтоже сумняшеся будет принимать за единственно возможный в этом мире идеал сексапильности и объект вожделения кривые и короткие ноги своей, как он свято считает, «прекрасной» половины. Но когда японскому мужику по работе ли или на отдыхе доводится лицезреть виртуальных – например, в печатной или телевизионной рекламе – или же, как в моем сегодняшнем случае, живых, натуральных не японских женщин, тогда-то и начинаются тягостные эстетические проблемы, часто влекущие за собой и фатальные физические. Опять же про ноги и бедра сейчас речи не было: спасибо длинной юкате и тому, что Дзюнко села за стол в столовой, а не продолжала торчать в дверном проеме, но ситуация с глазами срочно требовала хотя бы формального разрешения. Конечно, она у меня постоянно приклеивает себе длинные, надо заметить, очень красящие ее ресницы, а заодно и подрисовывает себе тенями веки. Более того, из-за дурацкого графика своей беспокойной службы – точнее, из-за перманентного отсутствия этого самого графика – я гораздо чаще вижу ее в полной боевой форме, то есть с наклеенными ресницами, нарисованными веками и в джинсах со штанинами точно подобранной ширины, которая идеально подчеркивает общую прямизну ее довольно длинных ног, но одновременно скрывает их неровности и шероховатости. Наше спонтанное интимное общение происходит, разумеется, без софитов и прожекторов, поскольку дети пока еще не достигли того возраста, чтобы жить отдельно от нас (парадоксально и грустно, что, когда они этого возраста наконец-то достигнут, нужда в альковных прожекторах и софитах постепенно угаснет), так что возможности разглядывать по ночам ее веки и ресницы у меня нет вот уже много лет.
Сейчас же был тот редкий случай, когда я мог посмотреть на Дзюнко в ее первозданном виде – пускай и не на всю нее, а только на лицо, но это в данном случае было самым важным. Я попытался себя успокоить тем, что и у главных объектов моей стихийной компаративистики – Ирины Катаямы и Наташи Китадзимы – ресницы были если и неподклеенными, то, по крайней мере, искусственно удлиненными. Плюс те же тени, пудра, румяна – короче, стандартный, прекрасно известный всему миру ассортимент лицемерных женских уловок и ухищрений, позволяющий им вводить в заблуждение и распалять воображение охотно играющих в наивных простачков джентльменов, которым в конечном счете всегда требуется от них одно и то же. Но, глядя сейчас на Дзюнко и сравнивая ее в затуманенной вынужденной бессонницей и физиологическими переживаниями голове с Ириной и Наташей, я не мог не признать очевидного – наличия у двух последних более подходящего для игр в роковых красавиц исходного капитала. Тот изначальный, подаренный Дзюнко моей тещей с тестем материал, который сейчас сонно – главное, без укора и претензий – смотрел на меня, был тоже по-своему неплох и по размерам значительно превосходил наши местные стандарты, иначе стал бы я сто лет назад обременять себя на всю свою долгую жизнь формальной связью с откровенной дурнушкой, какой бы умной-разумной она ни была. Но объективное сравнение все-таки было явно не в ее пользу, и это еще принимая во внимание тот факт, что я уже три недели не имел удовольствия видеть ганинскую Сашу – еще одну русскую женщину, приятную во всех отношениях. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что так, как все сложилось к сегодняшнему дню, будет до самого конца, когда бы он ни наступил – завтра к вечеру или еще через двести лет. Но щемящее и звенящее чувство того, что все-таки что-то – большое и прекрасное – прошло в моей жизни мимо меня и никогда не вернется, с тем чтобы одарить простой, но невероятно сладкой радостью обладания этим самым большим и прекрасным, вдруг коварной змейкой заползло в мои воспаленные мозги и зашипело в унисон крутому кипятку, которым за моей спиной домовитый Ганин заваривал сухую лапшу.
Я вдруг физически ощутил прилив столь редко посещающего меня чувства зависти – зависти к тем двум, в одном случае – уже, в другом случае – пока не виденным мной Хидео Китадзиме и Ато Китаяме, которые нашли в себе силы побороть наши национальные и сословные предрассудки и своими пальцами прикоснуться к этой более или менее идеальной плоти. И главным здесь было не примитивное физическое обладание броскими русскими женщинами, а то, что эти два абсолютно разных по всем параметрам мужика смогли осознать в один прекрасный день, что если не взять и не соскочить в последнюю секунду с уходящего в беспросветную тьму фатального постоянства скорого поезда нашей общей японской жизни, запрограммированной предками и очередным правительством от начала до конца, то остаток этой долгой жизни обернется для них бесконечными мучениями и страданиями. Конечно, на их антиобщественные женитьбы можно было бы посмотреть и с чисто фрейдистской точки зрения, то есть свести все к довлеющему над мужским самосознанием и подавляющему в мужике все созидательные начала либидо, но в этом случае Хидео и Ато переставали быть в моих глазах национальными – точнее, антинациональными – героями и превращались в хрестоматийных сексуально озабоченных типов предманьячного состояния. Думать о маньяках ночью не хотелось совсем, и я отогнал эти черные мысли, вновь попытавшись восхититься мужеством и достоинством покойного наверняка Китад-зимы и покойного гипотетически Китаямы. Я попробовал вписать в сложившуюся структуру еще и Ганина с его Сашей, но тут о его и своем присутствии в столовой напомнила моя жена.
– Ты, Ганин, ночевать у нас будешь? – зевнула Дзюнко, глядя поверх моей головы.
– Нет, Дзюнко, у вас я буду бодрствовать!… – отозвался из-за моей спины Ганин, освоивший, как оказывалось теперь, на мою беду, за долгие годы японский язык до такой степени, что мог сейчас на нем вполне сносно язвить и хохмить.
– Тебе футон дать или на диване поспишь? – не обратила внимания на его шутку давно привыкшая к моему неуемному другу и его своеобразному чувству юмора Дзюнко.
– На диване посплю, – сделал свой в пользу возвышенного состояния выбор Ганин и поставил передо мной миску с лапшой. – На, Такуя, хлебай половину и мне оставь немного!
– Там, в буфете, еще есть. – Дзюнко мотнула головой в сторону нашей кухонной кладовой. – Ты, Ганин, эту ешь всю, а Такуя себе сам другую заварит. Давай, Такуя, поработай! Чего расселся!
– Да я чего-то лапшу не хочу. – Я попытался прикрыть маленькой ложью свою большую лень и страшную усталость. – Я вот лучше риска поем, ладно?
– Ешь, – холодно отрезала Дзюнко и даже не удосужилась встать и подойти к рисоварке.
Ганин сел за стол, подвинул к себе исходящую паром лапшу и принялся палочками выуживать ее из огненного бульона, а я нехотя оторвался от стула, положил себе в плошку горячего риса из рисоварки, достал из буфета пакет с присыпкой «фурикаки» из жареного кунжута, сушеных водорослей и чего-то розово-оранжевого химического, посыпал этой радужной смесью свою нехитрую ночную трапезу и вернулся за стол.
– Ну, за успех нашего очередного совместного предприятия! – Ганин щелкнул алюминиевым колечком на пивной банке. – Дзюнко, выпьешь с нами граммулю?
– Чуть-чуть только. – Дзюнко протянула ему свой любимый стакан, на котором желтый диснеевский Винни Пух сидел в обнимку с горшком меда, а над ним зависла жестокосердная пчелка.
– Кампай! – брякнул я наш самый короткий и универсальный тост, который обычно трактуется как «До дна!», после чего мы выпили, но данный тостом приказ никем из нас выполнен не был.
– Вы чего вместе приехали-то? – Дзюнко решила поддержать беседу, а заодно и получить новую информацию, которой она, запертая в четырех стенах дома и стольких же кварталах нашего Айно-сато, напрочь лишена уже семнадцать лет.
– А ты что, не рада, что ли? Ганин тебя видеть очень хотел!
– Ага, как же… – зевнула Дзюнко.
– Ты такого Китадзиму Хидео не знаешь? – спросил я ее.
– Из университета Хоккайдо, что ли? – вдруг проявила она неожиданное для меня познание в наших дальних соседях.
– Да, из университета Хоккайдо. – Я подцепил палочками комочек пресного риса, облагороженного кисло-соленой присыпкой. – С филологического факультета…
– Знаю немножко. – Она не без аппетита отпила пива из своего «инфантильного» стаканчика. – Они здесь живут… В Айно-сато… На востоке где-то…
– Они? – переспросил я.
– Он и жена, – ответила она. – Она у него русская, Наташа зовут, броская дама – лет ей уже, насколько я знаю, много – постарше нас с тобой будет, но выглядит блестяще. И ты, кстати, Такуя, и его, и ее в принципе должен знать тоже.
– В каком принципе? – Мне иногда приходится обезьянничать и имитировать ганинские выкрутасы.
– В историческом. – Дзюнко показала в очередной раз, что палец ей в рот не клади. – Мы как-то лет двадцать, что ли, назад или больше даже их у твоего отца в гостях видели. Этот Хидео, как я понимаю, у него аспирантом был или студентом… Не помнишь?
– У моего отца гостей столько бывало и бывает, что, если всех помнить, как ты говоришь, «помнилка» сломается! А если еще студентов с аспирантами перебирать!…
– Уж тогда – аспирантками!… Я ее, Наташу то есть, пару раз в нашем торговом центре, в супермаркете, видела. – Дзюнко хладнокровно проглотила мою шутку, исполненную, правда, уже в ее духе.
– Давно?
– В том году последний раз, кажется… – Дзюнко ласково посмотрела на добивающего последние дециметры лапши Ганина. – Бабы наши говорят, она тоже сэнсэй, так что ей по магазинам шляться и еду мужику готовить зазорно, а сама она с возрастом и не ест уже ничего… Да и вообще в наших краях ее редко видно…
– А самого сэнсэя ты видела у нас здесь? – продолжил я допрос своей всеведущей супруги.
– Тоже пару-тройку раз, – зевнула она. – На станции, по-моему, и в кафе…
– Значит, видела? – переспросил я.
– Видела, – подтвердила Дзюнко.
– Больше не увидишь! – огорчил я ее.
– Переехали, что ли? – Она посмотрела на меня как-то уж слишком равнодушно, особенно на контрасте с теплыми и нежными взорами, подаренными секунду назад проглоту Ганину.
– Его убили сегодня вечером, – продолжил я будничным тоном радовать ее.
– Что? – Она потрясла головой, видимо посчитав, что остатки сна не дают ей верно понять смысл моих слов.
– В их собственном доме, здесь, в нашем Айно-сато… – пояснил я и заодно убедил Дзюнко, что услышала она меня правильно и что сон из ее мозгов улетучился.
– Убили?! – В ее припухших глазах блеснула настоящая жизнь. – Как убили?
– Кухонным ножом прямо в сердце, – ответил я, повернулся к полке с посудой около раковины и вытащил из нее один из наших больших кухонных ножей. – Вот таким вот…
– И ее тоже убили? – спросила Дзюнко подозрительно спокойно и даже как-то задумчиво-протяжно.
– Нет, ей ничего, – успокоил я ее. – Она с Ганиным в ресторане в это время ужинала… Так что жива-здорова!…
– Да?… – Дзюнко вдруг посмотрела на Ганина таким агрессивным взором, каким она смотрит на людей после очередной нервотрепки или после четырех чашек «эспрессо». – Кстати, как Саша твоя, Ганин?
– Саша – хорошо, – протянул Ганин и лукаво улыбнулся Дзюнко. – А что до ресторана, то мужик твой не пояснил, а мне теперь вот приходится: нас там много было, так что успокойся!
– Мне-то чего волноваться! – покраснела разоблаченная мудрым сэнсэем в своих коварных феминистических планах Дзюнко. – Это Саша должна волноваться!
– Саше тоже волноваться не надо, – успокоил ее Ганин. – У нас с Наташей высокохудожественные отношения.
– Тебе Саша задаст за твои художества! – погрозила ему Дзюнко своим тоненьким пальчиком.
– Не задаст, она не в моем вкусе! – возразил Ганин.
– Кто? Саша? – искренне удивилась Дзюнко.
– Наташа! – отозвался Ганин. – Саша…
– Да?… – не без желчи поинтересовалась Дзюнко.
– Два!… – отрезал он.
– А я думала, такие женщины в любом вкусе… – Она добавила к желчи немного иронии.
– Какие женщины? – вмешался я в умную беседу.
– Как эта Наташа Китадзима, – пояснила Дзюнко. – Ты ее видел сегодня?
– Ну видел. – Врать в моем положении было глупо, но правда, сказанная мной, означала вызов на ночной идеологический бой, затеянный Дзюнко, выиграть в котором мне как законному супругу, обязанному всегда и во всем потакать жене, не светило.
– И как она тебе? – дерзко и проницательно вперилась в меня моя законная Дзюнко.
– Как человек или как женщина? – Я попытался выиграть хотя бы пару секунд, чтобы прикинуть возможные способы обороны.
– Как крокодил!… – хмыкнула умненькая Дзюнко. – Не прикидывайся наивным мальчиком!
– Перед тобой прикинешься, пожалуй!… – посетовал я, отыграв еще пару секунд.
– Так как она тебе? – Спорить с моей Дзюнко бесполезно: если она решила получить ответ на какой-либо поставленный хоть ребром, хоть на попа вопрос, она получит его обязательно, каким бы упорным и изворотливым ни оказался ее респондент.
– Эффектная женщина, – поспешил я сдаться ей на милость. – Врать не буду…
– Чего в ней эффектного! – В Дзюнко вдруг проснулась ревность, и мне на мгновение стало страшновато за то, что это могла быть ревность к Наташе не меня, а Ганина. – Как там, Ганин, у вас в революцию писали на заборах: «Всем! Всем! Всем!» – так, кажется?
– Сама же сказала, что она выглядит блестяще! – напомнил я ей ее же совсем недавние слова и одновременно прервал абсолютно неуместный экскурс в подробности далекого как исторически, так и географически мятежа голодных и рабов.
– Ты, Такуя, представь, что мне не надо было бы с Морио и Норико возиться, а нужно было бы только по заграницам разъезжать и книжки умные читать! – явно искренне выпалила она. – Я бы тоже блестяще выглядела!…
– Да будет тебе, Дзюнко! – своевременно вмешался в намечавшуюся ночную семейную разборку всепонимающий и очень деликатный Ганин. – Ты прекрасно выглядишь!
– Мне не семнадцать лет, Ганин, чтобы верить в такие дешевые комплименты! – отрезала она.
– Дешевые? – обиделся Ганин.
– А то ты сам не знаешь! – Дзюнко вся раскраснелась, что свидетельствовало о ее кровной заинтересованности в обозначившейся теме нашей спонтанной дискуссии. – Ты что, Сашу свою ненакрашенной и в бигудях не видел никогда, что ли?!
– Подожди! – Я попытался перехватить у Ганина инициативу миротворчества, а заодно и отвести от него удар. – Чего ты вдруг взбеленилась?
– Того! – Она отвернулась к окну.
– Чего «того»? – Мне действительно было непонятно, с какой стороны информация о смерти Хидео Китадзимы могла ее так сильно задеть. – Речь вообще не о тебе! И уж тем более не о Саше!…
– А о ком?! – Она сердито посмотрела на меня: слезы в глазах, слава богу, не намечались пока, что говорило не о постигших ее обиде и разочаровании, а о бушующих в ней менее опасных для меня и Ганина злости и недовольстве.
– О Китадзиме, конечно. – Я взял ее за руку.
– Что «о Китадзиме»? – Она, похоже, забыла, с чего вообще начался весь этот ералаш.
– Убили Хидео Китадзиму, так что вопрос о том, как ты выглядишь, вообще не стоит! – Я погладил ее по запястью.
– Так и я, в общем-то, об убийстве… – буркнула она и посмотрела на Ганина – уже без прежней теплоты.
– У тебя что, какие-нибудь идеи есть? – поинтересовался я на всякий случай. – В связи с убийством, а?
– Какие у меня могут быть идеи! – воскликнула она. – Несправедливо только это – и все!
– Что несправедливо!
– Да то, что у этой вашей прелестной Наташи теперь не будет никаких проблем и забот!
– Подожди, а при чем здесь Наташа? – настала моя очередь реализовывать свою привычку доходить во всем до самой сути. – С какого бока здесь Наташа?
– Вам, мужикам, не понять… – тихо пробурчала она. – Тем более вон Ганину!…
– Вот и я в опалу попал! – раздосадовался давно умявший лапшу сэнсэй. – Почему это я, Дзюнко, не пойму?
– Потому что ты русский! – Она опять без особого пиетета посмотрела на него.
– А это-то тут при чем? – пожал своими мощными плечами Ганин. – Чем тебе моя национальность не нравится?
– Не национальность твоя, а страна, – ответила Дзюнко. – Эта Наташа русская, и ты тоже русский – вам японскую психологию не понять. Я это имею в виду…
– Дзюнко, мы с тобой сто лет знакомы, – напомнил явно недовольный ее словами Ганин, – но я от тебя первый раз этот националистический бред слышу! Ты чего?
– Извини, Ганин, но вы же с Такуей сами все это начали! – сказала она без малейшего раскаяния.
– Что начали? – спросил я.
– Про Наташу про эту…
– Да при чем здесь Наташа?! – Я начинал закипать в пару к термосу, уютно булькавшему у меня за спиной.
– Да при том, что теперь она получила все, понимаешь, все! – Дзюнко опять отвернулась к окну.
– Ну она не иждивенка у Китадзимы-сэнсэя была, – ответил я, – и тем более не содержанка. Зарплата у нее большая и честная – сэнсэй все-таки, опять же детей нет…
– Вот именно! – прервала меня Дзюнко.
– Что именно?
– Что детей нет!
– А какое в данном случае это имеет значение? – спросил Ганин и пристально посмотрел на мою жену.
– Прямое! – огрызнулась она.
– Какое «прямое»? – спокойно продолжил свой допрос терпеливый Ганин.
– У таких женщин детей нет не случайно. – Дзюнко подлила себе пива. – Они не хотят рожать от японцев…
– У вас в Японии, что нет бездетных семей? – опять обиделся за свои национальность и страну Ганин.
– Есть, конечно, но здесь другой случай… Я же их всех насквозь вижу. – Дзюнко отхлебнула пива. – Тут же никакой любви нет и быть не может! Никогда и ни за что!…
– Потому что она русская? – перебил ее Ганин.
– Потому что она из России, – ответила Дзюнко. – Я же сказала тебе, что к национальности твоей у меня претензий нет, а к стране твоей, Ганин, не столько у меня, сколько у тебя претензии имеются, иначе вы с Сашей здесь столько лет не торчали бы!…
– И? – Ганин прищурился в ее направлении, явно понимая, к чему она клонит.
– Зачем ваши девки, Ганин, из России к нам едут? – Дзюнко уже почти успокоилась.
– За тем же, за чем и я сюда приехал, – спокойно изрек Ганин, – для лучшей доли.
– Потому что дома у вас бардак и нищета, так ведь? – Она сердито посмотрела на него.
– Так, – согласился разумный и покладистый Ганин.
– Ты мужик, и ты должен деньги себе и своей семье работой зарабатывать, так? – продолжила она свою сентиментальную прогулку в социально-этнических дебрях.
– Так, – кивнул сэнсэй.
– А девкам вашим работать, в общем-то, и не нужно! Так ведь получается, нет?
– А жить-то как? – спросил Ганин, естественно прекрасно зная ответ на этот вопрос.
– Не как, Ганин, а с кем! – Дзюнко потыкала воздух перед собой своим указательным пальчиком.
– То есть ты, Дзюнко, считаешь, что наши русские, как ты изволишь выражаться, девки охмуряют ваших японских мужиков и спят с ними в обмен на всякие там блага, да?
– А ты считаешь, что это не так? – усмехнулась она. – Возрази, если сможешь!…
– Понимаешь, в случае с Наташей, наверное, все-таки не так, – спокойно парировал он.
– Ну да, она из другого риса склеена! – Дзюнко всплеснула руками. – Разуй глаза, Ганин!
– Да мне их и разувать не надо! – закипел он. – Я ее давно знаю! Она не профурсетка хабаровская, а достойная женщина, самостоятельная, сама себя обеспечивает, так что вся эта твоя теория, Дзюнко, про русский секс в обмен на японский паспорт в данном случае не работает. В других случаях – безусловно, я таких потаскух здесь десятками за год встречаю, но с Наташей ты не права!…
– Красиво говоришь, Ганин! – опять усмехнулась она. – Я уж не знаю, чего там у вас с ней происходит и как к этому Саша твоя относится, но только готова с тобой поспорить, что и года не пройдет, как она заведет себе на наши японские денежки кого помоложе, и заведет именно для того, чтобы компенсировать в койке все то, что за годы ее жизни с ее японским мужем было потеряно!
– Ты тоже, Дзюнко, красиво говоришь! Тебя послушать, так она прямо исчадие ада! – Ганин встал на защиту своей доброй знакомой. – А заодно и сексуальная маньячка!…
– При чем здесь ад, Ганин! – Дзюнко горестно закачала головой. – Просто все бабы одинаковые!
– Я заметил, – недовольно буркнул Ганин.
– Ты что думаешь, если бы у нас, в Японии, сейчас было бы то же самое дерьмо, что до войны, наши бы девки не пытались за американцев с европейцами замуж выскакивать?
– Ты хочешь сказать, что, если бы я мало получал, – вмешался я, – ты бы себе иностранца начала искать?
– Я хочу сказать еще раз, что все бабы одинаковые! – Дзюнко предусмотрительно оставила мой лобовой вопрос без внимания. – Всем бабам нужен мужик, дети, дом и деньги!
– Ну, Дзюнко, мужики тоже все одинаковые, – протянул Ганин и посмотрел на меня.
– За тем лишь исключением, что вам, как правило, не нужны мужики, а часто – и дети и что многие из вас спокойно могут жить без надежного дома, – мудро заметила Дюзнко.
– Так ты о бабах начала. – Я вернул ее в прежнее русло, поскольку вопрос о своеобразии сильной половины человечества в контексте двух последних дней меня волновал мало.
– Да, начала… – Она без особых проблем вернулась к своим овечкам. – Получается, что такие, как, Ганин, твоя Наташа, обрекают себя на мучения на всю свою жизнь. Ведь она прекрасно понимает, что за японское гражданство и иены она должна терпеть своего мужика от начала до конца. Согласен?
– Ну если она честная женщина, то да, – кивнул Ганин. – Согласен безоговорочно!
– Ты же сам говоришь, что она вся из себя высокоморальная и шибко интеллектуальная! – съерничала Дзюнко.
– Говорю, – негромко, но твердо констатировал Ганин.
– Вот, соглашается! Значит, такая Наташа всю жизнь томится в своей золотой клетке, радуя себя раз в месяц, не чаще, развлечениями на стороне с каким-нибудь своим крепким и таким же ищущим развлечений соотечественником. – Она демонстративно покосилась на внимательно слушавшего ее Ганина.
– Дзюнко, я же сказал тебе!… – отмахнулся он.
– А я тебя конкретно в виду не имею, успокойся и расслабься! – улыбнулась она. – Вот, и такой она видит себе всю свою дальнейшую жизнь, потому что у нас здесь, в этой дыре под названием Айно-сато, никакой другой жизни быть не может. Все сыты, обуты-одеты – и все, и не более того!…
– То есть никакой духовной жизни? – уточнил Ганин.
– Ни духовной, ни душевной, ни физической! – развила Дзюнко ганинскую мысль. – Одно только серое, материально обеспеченное существование!
– Дзюнко, ну, если ты хочешь, давай переедем отсюда, поближе к центру! – робко предложил я, впервые слыша из уст моей давно изученной вдоль, поперек и по обеим диагоналям законной супруги такие апокалиптические заявления.
– Не подлизывайся! – отмахнулась она.
– Да хватит вам! – перебил нас Ганин. – Ты про Наташу закончи, Дзюнко! А тут про переезды у вас пошло-поехало!…
– Так я и говорю, – с удовольствием вернулась она к прежней теме, справедливо посчитав мое предложение переехать пустым и лицемерным, – у бабы трагедия на всю оставшуюся жизнь.
– Так уж и трагедия! – возразил я.
– Да, трагедия! Я тебе слово даю – будет возможность, спроси у нее: когда мужа дома нет, она часто плачет? Сидит и плачет в своем гордом одиночестве! Плачет!
– Как это? – не понял я.
– Слезами! – пояснила Дзюнко.
– Ты думаешь, она плачет?
– Уверена! Потому что мужика своего она не любит, не любила, вернее, раз детей от него иметь не захотела. Деньгами в свое удовольствие воспользоваться не может, потому что любой бабе приятнее деньги с любимым мужиком на пару тратить, а одной ни цацки, ни «шанели» не нужны ни с какого бока! Ну и в такой ситуации даже шикарный дом в тюрьму превращается!
– Ого, как ловко ты все по полочкам расставила! – Я искренне удивился железной житейской логике своей не только прекрасной, но и весьма разумной половины.
– Да это несложно, Такуя! – горько усмехнулась она. – Когда мужика до двух часов ночи дома нет, чего только не передумаешь!
– Ты что, об этой Наташе и раньше думала? – Я испугался этому ее признанию.
– Я про ее существование до того, как вы с Ганиным двадцать минут назад вломились к нам пиво пить, даже и не помнила. Мне, Такуя, своей проклятой жизни достаточно в качестве, так сказать, повода для печали и сомнений…
Последняя фраза была произнесена ею явно в сердцах и потому звучала более чем искренне, и это полностью парализовало мою изрядно ослабевшую за последние полсотни часов волю. Тело еще как-то хорохорилось и крепилось, мозги у меня вообще редко останавливаются в своем когда хаотично, когда упорядоченном верчении-кручении, а вот с волей такое случается. Когда приходится слышать про то, какой я козел, падла и дерьмо, от такого же козла-дерьма с «пушкой» или финкой в руке, воля моя крепчает в момент, и, если даже этот падла оказывается габаритно больше и физически сильнее меня, мне неизменно удается либо на время, как требует лицемерное начальство, либо насовсем, что часто случается в нашей шальной работе, его утихомиривать. Но когда близкий, знакомый до мельчайшего сокровенного изгиба человек вдруг обвиняет тебя в своих собственных несчастьях (причем ладно бы еще в одном, а то во всей жизни, которая оказывается у нее проклятой!…), с моей волей случается что-то непоправимое. Оказывать сопротивление жене, отцу, другу я не могу, но и согласиться с таким вот обвинением тоже не в силах, и от этих мощнейших противонаправленных импульсов моя воля вдруг замирает, зависает, как это обычно случается с перегруженным взаимоисключающими командами и операциями компьютером.
– А пиво еще есть, мужики? – с деланным весельем в усталом голосе спросил Ганин.
– Вот у тебя, Такуя, друг есть – Ганин. – Дзюнко поднялась со стула и пошла к холодильнику. – Он тебя выручит в трудную минуту, как сейчас, например…
– Спасибо тебе, Ганин, за разрядку семейной напряженности! – Я потрепал сэнсэя за плечо.
– А у меня нет ни одной настоящей подруги, понимаешь? – Она с глубоким вздохом поставила перед нами две банки «Саппоро». – И это назвать жизнью я не могу…
– А почему у тебя подруг нет, Дзюнко? – уже вполне серьезно поинтересовался Ганин, открывая пиво.
– Потому что, Ганин, я домохозяйка, на которой дом и дети, – так же серьезно ответила она. – А у домохозяек подруг не бывает – только знакомые, в лучшем случае – приятельницы…
– Понимаю… – кивнул Ганин, разливая на троих запотевшую белую банку с черной этикеткой и золотой пятиконечной звездой.
– А это значит, – задумчиво продолжила она, – что выбор моих потенциальных подруг ограничен только этим треклятым Айно-сато, где всех – понимаешь, всех! – теток волнуют только цены на рис и то, чем им кормить вечером своих ненавистных мужиков!
– Прямо так вот всех? – с недоверием спросил Ганин.
– А я, Ганин, как и Саша твоя, тоже, между прочим, университет окончила и специальность имею, – напомнила она, как я понял, не столько Ганину, сколько мне.
– То есть, грубо говоря, ты бы тоже могла, как Наташа Китадзима, быть полезным членом не только японской семьи, но и всего японского общества, да? – улыбнулся Ганин.
– Полезной – да, могла бы, а вот как Наташа – нет, не смогла бы, – замотала она головой.
– Чего бы ты конкретно не смогла бы? – спросил я. – За иностранца замуж выйти не смогла бы! – пояснила она. – Никогда не смогла бы!
– А что в нас такого отталкивающего? – Ганин машинально провел ладонью по своим густым темно-русым волосам.
– Ничего отталкивающего в вас, Ганин, нет! – поспешила успокоить его Дзюнко. – Тебе вон полсотни скоро, а ты еще парень хоть куда!
– Тогда в чем же дело? – успокоился он.
– А в том, что я почему-то уверена, что если бы я должна была жить в браке с гайдзином, рано или поздно мне в голову пришла бы мысль его убить!
– Ого, какие мы грозные! – удивился Ганин.
– Поэтому, когда ты, Такуя, сейчас сказал, что Китадзиму-сэнсэя убили, я совсем не удивилась. – Она оставила без внимания ерническую ремарку Ганина.
– Не удивилась? – удивился я.
– Нет. – Она тряхнула головой.
– Ты хочешь сказать, что ждала этого убийства? – Во мне вдруг проснулся дремавший последние полчаса майор русского отдела полиции Хоккайдо.
– Не передергивай! – Она пресекла мои попытки выдать, как любит говорить Ганин, «желание за действительное».
– Я не передергиваю! – На всякий случай я решил обезопасить себя от дальнейших нападок.
– Передергиваешь! – продолжала настаивать на своем Дзюнко. – Я сказала, что не удивилась, что Китадзиму убили, но я не говорила, что ожидала этого!
– Конечно, ты сказала именно так, – кивнул я. – Почему, разреши спросить, ты не удивилась его смерти?
– Потому что она логична в контексте его брака, – хладнокровно ответила она.
– То есть ты считаешь, что Наташа дозрела наконец-то до решительного шага и всадила своему ненавистному суженому ножик в сердце, да?
– У нее есть, насколько я понимаю, это твое любимое алиби? – Дзюнко вдруг отреагировала на мой философский вопрос конкретным профессиональным вопросом. – А? Как насчет ее алиби? Имеется оно у нее или нет?
– Алиби у нее есть, – ответил за меня Ганин.
– Ты, что ли, Ганин – ее алиби? – усмехнулась она, вспомнив про ресторан.
– Я, – кивнул сэнсэй.
– Так тебе только Такуя поверит! – злорадно хмыкнула она. – Ты же сам намекнул, что у вас теплая дружба!
– Я и еще восемь человек, Дзюнко! – поспешил разочаровать ее Ганин. – В момент убийства Наташа была в ресторане, в нашей большой компании, и отлучалась только пару раз в туалет, а за эти семь минут на два раза по-маленькому и косметические подмазки до вашего Айно-сато и обратно даже на самолете не доберешься.
– Значит, она еще что-нибудь придумала! – продолжала гнуть свою русофобскую линию Дзюнко. – Сам же говоришь, она умная, тонкая, образованная!…
– Да уж наверняка! – согласился я, и мы с Ганиным переглянулись, вспомнив нашу ночную вылазку из дома Китадзим.
– Вот и ищи, Такуя, мужика! – потребовала от меня моя проницательная жена.
– Мужика? – переспросил я.
– Конечно, мужика, она же нормальная! – ответила Дзюнко. – Хотя нож в сердце – это, безусловно, романтично…
– А как тебе кипятильник в горло? – вдруг вырвалось у меня.
– Какой кипятильник? – не поняла она.
– Да это уже из другой русской оперы, – сказал я. – Когда я тебе вчера звонил по поводу убийства, там русского дядьку убили именно кипятильником…
– Кипятильником – это не романтично и, скорее, по-женски, – сделала Дзюнко свое очередное мудрое умозаключение.
– Зато надежно, – добавил я.
– Тебе виднее, – заметила она.
– Мы спать-то будем или нет? – тоскливым голосом напомнил о своем присутствии Ганин. – А то уж светать скоро начнет…
Дзюнко молча вышла из столовой, а Ганин принялся по своей дурацкой привычке, сводящей с ума всех его японских знакомых женского пола, мыть стаканы из-под пива и мою рисовую миску.
– Кончай ты, Ганин! – непроизвольно по-женски попытался я его остановить, не надеясь заранее на положительный результат.
– Чего тут мыть-то! Три стакана всего… – буркнул Ганин, ловко орудуя намыленной губкой.
– Ты всегда так говоришь!
– А ты в следующий раз молчи по поводу моего мытья, – посоветовал Ганин, – я и говорить так не буду. Тем более не ори на меня, чтобы я кончал!…
– Хорошо, Ганин! И вообще спасибо, что ты со мной приехал! – искренне признался я.
– Да я уж гляжу, – прошептал он, оглядываясь на дверной проем. – По мне, правда, тоже проехались, но я-то гайдзин, чего с меня взять, а тебе с ней дальше жить…
– Да уж… – вздохнул я.
– А чего это она сегодня? – деловито поинтересовался Ганин. – Я ее первый раз такой вижу, вернее – слышу.
– Чего, чего! – пробурчал я, вспоминая позавчерашний супружеский отказ. – Время такое у нее сейчас напряженное, ее то есть время, ну, время месяца, в смысле…
– А-а, вон что! – глубокомысленно заключил Ганин. – Время месяца, время года… То-то я гляжу, она на Наташу так накинулась.
– А на меня чего? – Меня задело ганинское невнимание. – Я-то ей чем не угодил?
– С кем не бывает, Такуя!
– С ней! По крайней мере, раньше такого не было! – Я действительно за все долгие годы нашей совместной с Дзюнко жизни никогда не сталкивался с таким агрессивным ее отношением ко мне, хотя, по идее, должен был сталкиваться двенадцать раз в году. Может, действительно, на нее так подействовало известие о чудесном освобождении из ненавистных семейных пут Наташи Китадзимы?
– Ничего, вода камень точит, – констатировал Ганин, закручивая кухонный кран.
– Иди, Ганин, я тебе на диване постелила, – раздалось из полумрака дверного проема.
Дзюнко вернулась на свое место за столом и, как мне показалась, удивилась отсутствию на нем стаканов и пива.
– А душ сначала можно принять? – скромно спросил чистюля и гигиенист Ганин.
– Я там тебе полотенце специально повесила, – сказала давно и хорошо знакомая с бытовыми повадками нашего русского приятеля Дзюнко. – Голубое, как ты любишь.
– Спасибо, Дзюнко, но я и розовое люблю! – улыбнулся ей Ганин своей обезоруживающей улыбкой. – Встаем завтра во сколько?
– Сегодня, – поправил я его.
– Ну сегодня, садист, – расстроился Ганин.
– Нам в восемь надо в «Альфе» быть… – начал я.
– Мне, – перебил меня Ганин. – Я же обещал Нину с Мариной и Олегом забрать и к вам в управление доставить.
– Помню, – кивнул я, – но после сегодняшнего мы с тобой туда вместе поедем.
– Вместе не поместимся, – скептически поморщился Ганин.
– Чего это? – возразил я. – У тебя же трое сзади входят?
– Трое войдут, это если мы с тобой и Олегом сзади сядем, – ответил Ганин. – А так не выйдет ничего! Вернее, не войдет!
– Ты имеешь в виду габариты Марины с Ниной? – Я вспомнил этих двух громадных толстушек-хохотушек.
– Ну! – кивнул Ганин.
– Ничего, как-нибудь доедем, – сказал я. – В крайнем случае, такси возьмем.
– Разве что такси… – вяло отозвался Ганин. – Так во сколько поднимаемся?
– Полседьмого.
– Ого, у нас впереди целых пять часов сна! – картинно пропел Ганин. – Надо поспешить ими воспользоваться!
– Иди пользуйся душем сначала! а то мне тоже мыться надо! – замахал я на него руками, прогоняя сэнсэя, как нечистую силу, в наш совмещенный санузел.
Ганин удалился, а я повернулся к Дзюнко, которая, в свою очередь, повернулась к окну и демонстрировала мне сейчас свой вихрастый затылок. Она уже несколько лет как коротко стрижется, что опять автоматически вызвало в моей голове файл Наташи Китадзимы. В отличие от Наташи ей пока красить волосы не нужно, да и, как у обычной японки, они у Дзюнко изначально намного чернее и гуще. Я посмотрел на виденный и целованный миллион раз затылок и подумал, как вчера в Читосэ, что дело тут не в цвете, благо нация наша удивительно единородна в своих иссиня-черных, подобно крыльям жирного ворона, волосах, а именно в их длине. Ведь традиционный японский мужик должен соблазняться при виде традиционной японки не самыми видными ее формами – ногами, бедрами, грудью и, разумеется, лицом. Это примитивный удел грубых гайдзинов типа русских или американцев, о котором, впрочем, мечтают тайком миллионы наших похотливых ребят. Хрестоматийный самурай должен иметь максимально большой кайф от самых тонких, самых изящных частей женского тела, а именно от щиколоток, запястьев и шеи. Чем тоньше и изогнутее переход от голени к стопе и от предплечья к кисти, тем больше удовольствия от их созерцания и прикосновения к ним должен испытывать настоящий японский мужик. То есть наши календари и куртуазная классика предполагают, что истинный «нихондзин», то бишь японец, никогда не испытает подлинной радости от цапанья дамы за ее округлости и хватания за ее выпуклости, а если испытает, то недостойным будет высокого звания «нихондзина», подобно тому как никогда не принесет радости голодному эстету запихивание горстями в рот приторной японской черешни. Для утоления голода – духовного или физического – японец должен издалека любоваться пенными цветами той же черешни только бесплодной, известной во всем мире как «сакура», и при интимном общении с женщиной «нихондзин» потребует от нее обнажения щиколоток и шеи, а не груди или еще более категоричных мест.
А шея у моей Дзюнко удивительно изящная: не то чтобы очень тонкая и не слишком длинная, но чудесным образом гармонирующая и с худенькими плечами, и с круглой головкой, и с коротко подстриженными волосами. Когда в молодости она носила длинные волосы, я даже и не подозревал о том, какая прекрасная у нее шея – честно говоря, просто редко ее, шею, видел. В молодости что японец, что американец ищет живой и внятной плоти, а не тонкостей и эфемерности. Но с годами, когда и сама мужская плоть, и ее некогда душераздирающий по силе интерес к плоти женской начинают угасать, как компенсация этому необратимому натуральному процессу в некоторых из нас просыпается тяга к нюансам и деталям – особенно к тем, которые постоянно существовали рядом с тобой, но к которым ты до поры до времени был абсолютно индифферентен. Я хорошо – подозрительно слишком хорошо – помню тот момент, когда встал вопрос о переходе Дзюнко на короткую стрижку. Это было шесть лет назад, тоже, кстати, в октябре, только в конце. Я пошло валялся перед телевизором, в тысячный раз восхищаясь «крепким орешком» Брюсом Уиллисом, а она была в ванной. Затем она вышла, в ярко-желтом халате, с подобранными под свитое тюрбаном оранжевое махровое полотенце длинными тогда волосами. Она зашла в гостиную что-то взять с журнального столика, по-моему, это был очередной разоритель нашего семейного бюджета – каталог мод, и, когда она наклонилась за ним, я непроизвольно перевел взгляд со зловредного Джереми Айронса, пытавшегося с вертолета расстрелять бесстрашного Джона Мак-Лейна, на ее шею и внезапно обомлел от открывшейся мне близкой красоты. Она, разумеется, будучи женщиной понятливой и податливой, перехватила мой жадный взор, и мы с трудом дождались, когда наконец наши безумные дети угомонятся в своих комнатах. А потом я взял и предложил ей сменить прическу, причем не половинчато укоротить волосы сантиметров на пять – семь, а расстаться сразу с двадцатью.
– Такуя, ты меня извини за… – она повернулась ко мне, – за… ну, в общем, за сегодня…
– Да будет тебе! – Я старался звучать как можно беспечнее, но раз она сама напомнила о нанесенной ею обиде, делать вид, что совсем уже ничего не произошло, я не стал.
– Я устала очень, понимаешь? – Она печально посмотрела на меня. – Устала… Очень устала…
– Понимаю, – кивнул я и сел напротив. – Я, Дзюнко, тоже каждое утро не в дом отдыха уезжаю…
– Извини. – Она опустила глаза.
– Я чем реально могу тебе помочь? – риторически поинтересовался я.
– Ничем ты мне помочь не можешь. – Она резко повела головой из сторону в сторону. – И ты это лучше меня знаешь!…
– Чего ж тогда нервы друг другу портить? – Я внимательно посмотрел на ее тонкие запястья.
– Тебе, пожалуй, их испортишь! – усмехнулась она.
– Ты опять?!
– Не буду, не буду! – Она снова завертела головой.
– Что-нибудь случилось? – на всякий случай спросил я, держа в мыслях стандартный для таких ситуаций набор из фатально-сакральных «У нас будет ребенок» и «У мамы нашли рак».
– Да нет, ничего не случилось, – вздохнула она.
– Что тогда? – успокоился я.
– То, что я сказала раньше, – она опять пристально посмотрела на меня. – Просто мне больно слышать, что совсем рядом живут здоровые, красивые и нестарые еще женщины, которые способны самостоятельно устраивать свою судьбу, и страшно осознавать, что я в их число не вхожу.
– Подожди! – Я несколько опешил от этого ее заявления. – Ты завидуешь Наташе Китадзиме?!
– В какой-то степени да, – кивнула она.
– Чего ты несешь?!
– А что?
– А то, что получается, я тебе осточертел до такой степени, что ты бы обрадовалась, если бы вдруг я помер?! Или если бы меня зарезали ножом в сердце?!
– Нет, не обрадовалась бы, – грустно призналась она. – Я вообще говорю о другом, а ты меня не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь…
– Делаю вид?
– Да, потому что тебе так удобнее. – Дзюнко запустила левую руку в свои волосы. – Тебе вообще удобнее делать вид, что ты по горло занят на работе и что менять в нашей жизни ты ничего не собираешься! Тебе так легче, я понимаю…
– Зато я ничего не понимаю! – Я, конечно, осознавал, что с объективной точки зрения она глубоко права, но признать это как мыслящий субъект и сознательный индивидуум я отказывался.
– Да врешь ты все! – прошипела она. – Все ты понимаешь, просто ты мужик, и ты спокойно можешь с этим жить, а я не могу – я женщина, как ты, надеюсь, знаешь!
– Чего ты от меня хочешь? – прошипел я в ответ.
– Ой, только не начинай мне про деньги, про то, что все так живут! Умоляю тебя! – Она опять отвернулась к окну. – Эта новость твоя о Китадзимах как раз и говорит о том, что не все…
– Что «не все»?
– Не все так живут! – Она опять вперилась в меня. – Есть, оказывается, люди, которые не плывут по течению, а гребут против! И мне больно, что это не ты и не я! Я об этом тебе толкую, а не о том, чтобы там от тебя, боже упаси, избавиться!
– И на том спасибо! – выпалил я раздраженно.
– Не за что! – язвительно откликнулась она.
– И что теперь? – спросил я.
– Теперь ничего. – Она вдруг резко сбавила обороты. – Теперь ты пойдешь в душ, потом в постель, а с утра ты опять уедешь в свой «дом отдыха» гоняться за своими русскими бандитами, а я останусь дома, и вся моя последующая жизнь будет такой же, как предыдущая.
– Значит, все так плохо, и мы только лицемерно делаем вид, что все прекрасно, да? – теперь уже я посмотрел за темное окно.
– Не плохо, Такуя, не плохо! У нас с тобой все нормально, а не плохо! Дело-то как раз в этом «нормально»! Это как наше японское «ойси», абсолютно то же самое!
– А «ойси»-то здесь при чем? – Я даже вздрогнул от такого неожиданного скачка к гастрономической теме, ведь «ойси», как известно, – это всего-навсего банальное японское «вкусно».
– При том, что мы, японцы, почти всегда говорим «ойси» не тогда, когда еда нам действительно нравится, когда она правда вкусная, а когда она всего лишь съедобная, не отрава то есть – в смысле, «есть можно». Отсюда и трагедия наша…
– Какая трагедия? – Я все еще не понимал, к чему она клонит. – О чем ты говоришь?
– Вот смотри. – Она, как было видно, окончательно успокоилась. – К примеру, дают всем в супермаркете бесплатно попробовать какое-нибудь новое блюдо. Подходят десятки теток наших, айно-сатовских, и я подхожу, конечно, потому что я такая же и от коллектива мне отделяться боязно. Продавщица спрашивает: «Ну как?» – а мне неудобно говорить правду, то есть что мясо ее или рыба просто нормальные, съедобные, не отрава то есть, но не более того. Я должна следом за моими предшественницами изобразить на лице оргазм – хотя бы в супермаркете! – и пропищать это гнусное «ойси», не веря самой себе, а после всего еще и переставая себя уважать…
– То есть ты считаешь, что, когда мы с тобой думаем или говорим, что у нас все хорошо, на самом деле у нас не хорошо, а только нормально? – Я решил вернуться из абстрактных кулинарных сфер в конкретные семейные. – Так получается?
– Да, – спокойно кивнула она. – И пойми, это совсем неплохо! Ты можешь даже сказать, что миллионы людей об этом только мечтают! И еще больше этого не имеют…
– Я могу сказать? – переспросил я.
– Да, ты, потому что я лично так говорить не хочу! Сегодня, по крайней мере…
– Почему? – Я искренне обрадовался, что пыл у Дзюнко заметно охладился и я могу обращаться к ней в традиционном, спокойном и рассудительном, ключе.
– Мне сорок пять, и в этом возрасте думать о миллионах других как-то не хочется, – холодно ответила она.
– А хочется думать о себе?
– Женщине – да, – согласилась она. – Я понимаю, ты мужик, Ганин – мужик, вам надо мир спасать, злодеев, как ты последнее время любишь говорить, «валить», а мне вот уже несколько лет на этот мир совершенно наплевать… И говори обо мне что хочешь!
– Понятно. А если бы сегодня Хидео Китадзиму не убили и имя его русской жены, Наташи, не всплыло бы, этих твоих признаний я бы не услышал, так?
– Не услышал бы сегодня, – с усмешкой парировала она, – услышал завтра: у тебя ведь постоянно кого-то убивают!…
Я почувствовал вдруг, что, если нам сейчас в этой затянувшейся и, честно говоря, абсолютно неожиданной для меня разборке не остановиться, может случиться непоправимое. Как бы мы с Дзюнко ни были притерты друг к другу, разница в характерах и мировосприятии у нас огромная, и я прекрасно знаю, что у нее сегодняшние катарсические переживания завтра улетучатся, как радостный новогодний дух из оставленной под утро первого января незакрытой бутылки шампанского. А в моей дурацкой слоновьей памяти они засядут навечно и будут свербеть и шелестеть всякий раз, как я вижу ее, и, что бы я ни делал, избавиться от такого болезненного и разрушительного в плане человеческих отношений массива горьких мыслей я никогда не смогу.
Спас меня, а точнее – нас, как всегда, все тот же Ганин. В раздаточное окно из кухни в столовую просунулась его влажная русая голова, из нижней части которой раздалось веселое:
– Идите спать, неугомонные вы мои! И откуда у вас столько слов друг для друга имеется!
– И то верно, – так же радостно откликнулась на его призыв Дзюнко, давая понять, что и для нее явление Ганина японскому народу принесло долгожданное облегчение.
– Помылся не запылился? – поинтересовался я у сэнсэя.
– Не запылился – это когда в сухой химчистке моются, без воды и мыла, – поправил меня Ганин, – а в моем случае – явился из пены шампунной, Такуя!
– И что бы мы без тебя, Ганин, делали? – ласково спросила Дзюнко, подошла к окну, обняла его за шею и притянула к себе левой рукой, мягко чмокнула нежными губами в небритую щеку и царственной походкой вышла из столовой.
– О! Командир назначил меня любимой женой! – зарделся Ганин. – А с тобой, майор, все ясно!
– Что тебе, балагур, ясно?
– Трибунал – и в бурьян, товарищ сержант! – Ганин ловко щелкнул невидимыми мне босыми пятками.
– Не в бурьян, Ганин, а на диван! И побыстрее – нам вставать через четыре часа! – приказал я, вытолкал его из кухни в гостиную, после чего с не слишком чистыми к концу очередного утомительного рабочего дня телом и совестью пополз в нагретую добряком Ганиным ванную.
Глава 11
Заснуть, однако, несмотря на страшную усталость и на идеальные домашние условия, мне так толком и не удалось. Не в пример моему престарелому храпуну-полковнику Дзюнко под боком никаких лишних звуков, кроме сладенького, едва уловимого невооруженным ухом посапывания, не издавала. Просто лежала уткнувшись своим точеным носиком в жесткую подушку, шершавую от наполнявшей ее гречневой шелухи. С тех пор как мы с ней одновременно с покупкой дома завели широкую, человеческую кровать и бросили эту дурацкую японскую традицию храпеть-сопеть на полу, на жиденьких матрасах-футонах, которыми до сегодняшнего дня якобы в благотворных ортопедических целях пользуются миллионы моих соотечественников, Дзюнко неожиданно выработала стойкую привычку спать на животе, что довольно быстро стало меня раздражать. За первые годы нашей «напольно-половой» жизни в бесконечных казенных и съемных квартирах я привык к тому, что даже в темноте в случае душевной необходимости всегда могу видеть ее лицо; и действительно, на футоне она почти всегда лежала на спине, в худшем случае – на боку, повернувшись ко мне своей тонкой кошачьей спинкой. Но как только мы перебрались на возвышенное в физическом смысле семейное ложе, ей без каких-либо объективных предпосылок, причин и поводов понравилось засыпать лежа на животе – для нее, видите ли, постельный матрас мягче, чем футон, и эта ее новая привычка мне сразу пришлась не по душе – иными словам, нарушила мое ночное душевное равновесие раз и навсегда.
Любой здравомыслящий циник немедленно отнес бы эту мою метаморфозу к сдвигу по фазе и порекомендовал посетить ближайшего психиатра, но раз я никого, даже циничного Ганина, в появившиеся вдруг проблемы посвящать не рискнул, то, соответственно, с этим моим психозом я и по сей день остаюсь один на один. И вот уже столько лет мне еженощно становится жутко неуютно, когда я вижу справа от себя только ее пушистый затылок. Мне постоянно кажется, что, если вдруг ее сейчас потрясти за перерезанное тонкой белой бретелькой легкомысленной ночной маечки плечо и разбудить, она повернет ко мне совсем не то лицо, к которому я привык, которое знакомо мне в дневном свете. Какое именно, чье это будет лицо, до сегодняшней ночи я не представлял – знал только, что это будет не моя Дзюнко, а кто-то другой, то бишь другая. Сегодня же мои многолетние кошмары приняли наконец-то вполне конкретные очертания: стоило мне на мгновение окунуться во влажную тьму тяжелой дремоты, как из-под взбитой дзюнковской челки на меня начинали поочередно смотреть испепеляющие глаза Ирины Катаямы и Наташи Китадзимы. Очнувшись в миллионный раз от этого бесконечного ужаса, причудливо извивавшегося в моем сознании ленивой лентой Мебиуса, я попытался судорожно найти хоть какое-нибудь объяснение тому, что эти конкретные лица конкретных красавиц ждали своего часа в глубинах моего озабоченного подсознания так много лет. Как раз озарение, высветившее сей позорный факт, а не сама подмена законной жены игривыми японскими россиянками не давало мне спать. И страшно было опять же не от того, что пускай и в секундном эротическом сне, но я все-таки видел рядом с собой вместо многолетней подруги серой провинциальной жизни находящихся в соблазнительном горизонтальном положении роскошных иностранок, а оттого, что они материализовались только сейчас – как будто последние двадцать лет я только и делал, что ждал именно их, а не кого-нибудь другого. Оказывается, именно это – точнее, эти – мне и были нужны все эти годы, раз, повидав на своем веку немало особей противоположного, или, как любит острить Ганин, «противоположенного», пола, я так и не сумел до нынешней ночи сгенерировать в своем больном воображении точный образ своей прекрасной ночной соседки.
Я вяло доворочался до половины седьмого, когда на тумбочке Дзюнко жалобно запищал будильник и она, подняв над подушкой голову, сначала уделила ему секунду внимания, а затем нехотя повернулась ко мне, развеяв мои навязчивые ночные фантасмагории на страшную готическую тему карнавальной смены ложного лица на истинное. Она посмотрела на меня своим «традиционно-истинным» сонным взглядом, так что я окончательно подавил в себе предательскую тошноту ночного ужаса и почувствовал внезапный высокий прилив усыпляющей волны, но спать было уже поздно.
– Детей не разбудишь? – зевнула мне в ухо Дзюнко. – А я пока завтрак приготовлю…
– Давай наоборот, – предложил я, попытавшись избежать инквизиционной процедуры, в которую обычно превращается процесс будничной побудки наших отпрысков.
– Хитрый какой… – вновь сквозь зевоту выдавила она, – вечно у нас папа хороший, а мама на сдачу!…
Констатация давно известного всем членам нашей семьи отрадного для меня факта окончательно меня отрезвила, заставив в очередной раз поверить в то, что, как спел бы один из любимых ганинских поэтов, «всё как всегда, всё по местам». Я пополз вниз будить горячего поклонника поющих стихотворцев, но на диване в гостиной его не обнаружил, зато унюхал из кухонного отсека аромат свежесваренного кофе. Ганин, бурча себе под нос какую-то древнюю советскую песенку про упорно не желающую просыпаться и радоваться призывному зову фабричного гудка кудрявую подругу, с ножом в руке колдовал над разделочной доской, на которой возвышались горки порубленных сэнсэем-кулинаром розовых сосисок и ядовито-зеленой итальянской петрушки.
– Давно встал, Ганин? – поинтересовался я в предвкушении очередного ганинского кулинарного шедевра.
– Привет, Такуя… – грустно протянул он. – Я и не ложился, можно сказать…
– Чего так?
– Да, знаешь, как-то все про Наташу эту думал-думал, а там уже и светать стало. – Ганин вывалил в шкварчащую беконными полосками сковородку сосиски.
– Про Наташу… – буркнул я. – Тебе Саша твоя покажет Наташу! Про Наташу он думал!…
– Да ладно!… – отрезал он. – Иди чисть зубы и выводи народ к столу!
Дзюнко пинками и тычками прогнала сквозь туалет и ванну перманентно сомнамбулических по утрам Морио с Норико, которые пустыми глазами нынешнего «нинтендовско-сотового» поколения, облившегося «пепси» и объевшегося «биг-маков», осмотрели с пеленок знакомого им Ганина и, не соизволив хотя бы поздороваться с ним, синхронно плюхнулись за стол, на котором доморощенный повар уже расставлял тарелки с нехитрым европейским завтраком в упрощенном российском варианте.
В начале восьмого мы с Ганиным – два безнадежных романтика, прозаично накачавшиеся спасительного кофе, забрались в его остывший за ночь и покрытый хрустальной росой «галант» и двинулись прочь из благословенного, экологически чистого Айно-сато в сторону большого, чадящего выхлопными газами города. Я попросил его проехать мимо дома Китадзим, чтобы, если вдруг новоиспеченная вдова уже соизволила продрать прекрасные очи, предложить подвезти ее в управление для беседы с майором Йосидой. Но у профессорского жилища нас ждал сюрприз: прямо перед нами к нему подъехала и припарковалась белая «субару» с красно-зеленым логотипом, из которой упруго выпрыгнул на асфальт моложавый джентльмен приблизительно наших с Ганиным лет в дорогом черном двубортном костюме. Он нагнулся внутрь салона, блеснув на неярком пока солнце окольцованным в золоченый «Ситизен» запястьем, выудил из машины черный кожаный «дипломат» и твердым офицерским шагом двинулся к нужному нам дому.
– Риелтор?… – удивленно протянул Ганин, ознакомившись с надписью под логотипом на машине. – Такую рань!…
– Ей в управление ехать, – объяснил я непонятливому Ганину. – Вот и заказала визит на полвосьмого… Чтобы к нам не опаздывать…
– Какой визит? Ты чего, знал, что ли, про это? – промычал ошеломленный Ганин.
– Не знал, успокойся, Ганин…
– Чего ж тогда?…
– Не знал, но догадывался… Правда, не предполагал, что все пойдет именно по этому конкретному пути и так быстро…
– По какому пути? – продолжал выказывать недоумение наивный по случаю раннего часа сэнсэй.
– По материалистическому, Ганин, – пояснил я. – Пойдем-ка и мы проведаем нашу прекрасную вдовушку!
Мы нагнали представительного визитера уже на самом пороге, и дверь Наташа открывала для нас троих. Она, увидев специалиста по недвижимости с двумя потрепанными ангелами-хранителями за плечами, застыла в дверях в очевидной растерянности. На ее ничуть не изменившееся за ночь лицо, как и вчера, был безупречно наложен макияж, словно она и не умывалась со вчерашнего вечера. На ней был тонкий, но свободный белый свитер и голубые джинсы, обтягивающие два стройных объекта дон-жуанского воздыхания и казановского вожделения.
– Доброе утро, – вежливо поклонился ей солидный дядя, перехватил ее удивленный взгляд и машинально обернулся на нас с Ганиным.
– Здравствуйте… – прошептала Наташа.
– Извините. – Я ласково отстранил ничего не понимающего риелтора и шагнул вперед.
– Доброе утро… – тихим разочарованным голосом обратилась Наташа уже ко мне.
– Доброе утро, Наташа. – Я перешел на русский, чтобы не посвящать посторонних риелторов в наши секреты. – Мы с Ганиным проезжали мимо и решили предложить подвезти вас до управления…
– До управления? – Она вцепилась тонкими белыми пальцами с ярко-красными ногтями в шоколадную плоть входной двери, которую явно не собиралась распахивать перед нами.
– Да, у вас ведь встреча с майором Йосидой, – напомнил я ей. – Разве нет?
– Встреча в девять… – возразила она уже громче и тверже. – И потом, я собиралась ехать сама…
– Конечно. – Я лицемерно улыбнулся. – Просто я подумал… мы подумали, что после вчерашнего вам будет несколько не с руки садиться за руль… Хотели предложить подвезти.
– Ничего, спасибо. – Она уже оправилась от первоначальной оторопи и даже изобразила тонкими губами некое подобие кислой улыбки. – Я хорошо вожу…
– Безусловно, – кивнул я. – Тем более, как я вижу, у вас тут еще дела имеются…
– Да, у меня дела. – Она отвела от меня свой прекрасный взор и натянуто улыбнулась застывшему в недоумении продавцу недвижимого имущества, который, судя по его напыженности, не знал, куда себя пристроить в сложившейся ситуации, но определенно не хотел выглядеть при этом идиотом или изгоем.
– Какие, если не секрет? – Я все-таки решил попробовать закинуть удочку, хотя надежды на реальный улов не было никакой.
– Не секрет, разумеется, но и вас они никак не касаются, – подтвердила она мои опасения.
– Ну тогда извините. – Я отступил с порога, открывая ей вид на умолкнувшего от моей неожиданной прыти Ганина.
– Ганин, ты на конференции сегодня будешь? – Наташа вновь поменяла объект своего сосредоточенного внимания.
– Не раньше обеда, у меня тоже дела, вернее – те же, – тоскливо отозвался он. – А ты?
– Ну вот, – Наташа указала своим острым подбородком на меня, – перед полицией в центре отчитаюсь и сразу в университет.
– Тогда увидимся! – Ганин махнул ей рукой, и мы оставили прекрасную Наталью вдвоем с акулой недвижимого капитализма.
– Чего ты вдруг на нее прыгать стал? – искренне поинтересовался Ганин, падая за руль «галанта».
– Того, Ганин, чего ты сам знаешь! – Я проводил глазами заходящего в дом риелтора и скользнул юношеским взором в последний за сегодняшнее утро раз по обернутой в небесный «деним» прекрасной плоти.
– Откуда я могу знать! – недовольно буркнул он и завел двигатель. – Тоже мне нашел ясновидца!… Тут с утра только и мыслей, чтобы в столб не въехать с недосыпу! А ты от меня мозгового рентгена требуешь!
– Ты, Ганин, не бурчи, а давай-ка лучше тормозни у его машины, чтобы я с нее все переписал. – Я похлопал Ганина по богатырскому плечу и полез в его «бардачок», чтобы найти в калейдоскопичном хламе хоть какое-нибудь внятное стило.
– Чего ты там роешься? – спросил Ганин, останавливаясь справа от риелторского «субару».
– Ручка есть у тебя, Ганин?
– Зачем тебе ручка? – язвительно поинтересовался Ганин. – Мысль умная в голову в кои веки раз пришла?
– Не столько умная, сколько черная… – парировал я, продолжая перебирать левой рукой бесконечные кассеты, мини-диски, салфетки, пластыри и мятные таблетки от запаха изо рта.
– Так тогда тебе не мой «бардачок» открывать нужно, а шампанского бутылку… – хмыкнул грамотный сэнсэй.
– Ну да или перечитать чего-нибудь веселенькое, да? Из французской классики… – достойно парировал я, в очередной раз помянув про себя добрыми словами своего образованного батюшку.
– Типа того… На, держи! – Он протянул мне свой сотовый телефон. – Действуй!
– В каком смысле? – Я взял с его ладони сложенный пополам увесистый фиолетовый аппарат с серебристыми вставками.
– В прямом, – пояснил он. – Тут видеокамера встроенная, сфотографируй ею, чего тебе нужно, – и все! Потом на компьютер скинешь по почте или через переходник…
– Это последнее чудо нашей японской техники, Ганин?
– Предпоследнее. Есть аппараты и поновее, – поправил меня педантичный Ганин. – Чудеса, Такуя, ваши, а пользоваться вы ими не желаете!
– Всеми нашими японскими чудесами пользоваться – никакой жизни не хватит! – Я решил поставить его на место.
– Всеми не надо, только самыми необходимыми… – резонно заметил Ганин.
Он забрал абсолютно бесполезный в моих руках мобильник, раскрыл его, навел на риелторскую машину, несколько раз нажал большим пальцем на одну из многочисленных кнопок, закрыл аппарат и, глубоко вздохнув, нажал на газ.
У центрального подъезда «Альфы» мы были без пяти восемь. Пока Ганин, чертыхаясь и сопя, парковался на крошечной пригостиничной стоянке, я разглядел за живой изгородью из изумрудного можжевельника знакомую русую голову русского филолога-красавца. Статный Заречный, облаченный в темно-синий адидасовский костюм, с белым полотенцем на шее, ретивой рысцой подбегал ко входу в отель. Я хлопнул Ганина по плечу, взглядом попросил его прервать стояночные маневры, выскочил из «галанта» и бросился наперерез Олегу Валерьевичу.
– Заречный-сан! – крикнул я ему.
– А-а, господин Минамото!… – приветливо откликнулся он, перейдя с трусцы на шаг.
– Доброе утро! – поприветствовал я его по-русски. – Вы даже вдали от родины себе не изменяете! Бегаете по утрам, да?
– Здрасте! – кивнул он и, прищурившись, взглянул на часы. – Привычка – вторая натура, да и останавливаться в нашем возрасте нельзя: бока отвиснут в два счета, о брюхе уж и не говорю. А вы чего-то рано, Минамото-сан… Мы вас к девяти ждали…
– Ждали? – переспросил я.
– А что вас удивляет? – Заречный посмотрел на меня впервые за эти дни без очков, и я автоматически отметил, что так он выглядит несколько моложе. – Факт нашего ожидания?
– Нет, его множественное число.
– Вы же сами хотели нас сегодня видеть: и меня, и Марину с Ниной. – Заречный вытер своим шейным полотенцем необильный пот со лба. – Или вы уже потеряли к нам интерес?
– Напротив, – улыбнулся я. – Только я не могу никак прочитать ситуацию с этими вашими Ниной и Мариной, раз уж вы сами их первым упомянули.
– Да какая там ситуация! – усмехнулся Заречный. – У нас просто хорошие отношения. Могут ведь у меня, хорошего мужчины, быть хорошие отношения с веселыми женщинами, Минамото-сан?
– Безусловно, тем более что, как я успел заметить, женщины они не только веселые, но и так же, как и вы, и ваши с ними отношения, хорошие. – Я жестом предложил ему пройти в вестибюль. – Что меня несколько беспокоит, так это то, что вы можете начать давать в управлении коллективные показания, а это, должен признаться, не в моих профессиональных интересах. Все-таки тут убийство иностранного гражданина, а не кража велосипеда.
– Понял вас. – Дипломатичный Заречный пропустил меня вперед в разъехавшиеся перед нами огромные стеклянные врата. – Проведу с девушками беседу, чтобы не было накладок. Обещаю, что никакого предварительного сговора между нами не будет.
– Не надо никаких бесед. Пусть все будет так, как было до сих пор: не натужно и естественно. Мы с Ганиным ждем вас здесь, внизу, через полчаса с вашими девушками. – Я головой указал ему на гостевые кресла возле стойки администратора.
– А Ганин тоже здесь? – Заречный оглянулся.
– Да, паркуется, мы с ним вместе приехали.
– Отлично!
Лучший спортсмен российской филологии Олег Валерьевич упругими шагами направился к лифтам, а я подозвал прятавшегося за традиционной газетой «наружника» как и положено по инструкции, дежурившего в штатском параллельно следственной группе, которая в открытую пахала в гостинице по делу об убийстве Селиванова. Тучный сорокалетний мужичонка из оперативного отдела, явно сразу же опознавший меня в лицо, сдержанно поклонился, и мы отошли к боковому выходу.
– Ну что? – не глядя на него, спросил я.
– Все русские вернулись в отель до десяти вечера, – бойко прошептал он. – Возвращались либо маленькими группами, по двое, либо по одному. В любом случае в десять все были в номерах.
– Мужчины?
– Все, – кивнул сержант.
– Выходы на контроле? – Я огляделся по сторонам в поисках его незаметных напарников.
– Как было приказано, по четвертой схеме: на каждой двери по двое плюс по машине снаружи, – успокоил меня он.
– Хорошо!
– Мы сидим до самого упора? – на всякий случай поинтересовался сержант.
– До упора, – стараясь не казаться сержанту слишком уж немилосердным и холодным, подтвердил я.
Сержант направился на место, прижимая к левому уху край воротника своего пиджака, видимо передавая мои категоричные директивы так и не вычисленным мною в гостиничной толпе коллегам по тоскливым гостиничным бдениям, а освободившееся перед моими глазами пространство тут же занял Ганин.
– Поговорил с Олегом? – деловито спросил он.
– Слегка. Кофе хочешь?
– Ну раз до пива еще далеко, то давай подзаправимся кофеинчиком, – кивнул сэнсэй.
Мы с Ганиным успели выпить по три чашки кофе, благо в кои веки раз в кафе при фешенебельном отеле добавочные порции оказались бесплатными, пока наконец из лифтового холла не раздался стереофонический женский смех. Мне пришлось спешно выдвигаться из-за столика, чтобы изучить текущую диспозицию своих сегодняшних оппонентов загодя, не давая им возможности сгруппироваться перед официальной беседой в управлении.
– Ой, Олежка, какой ты здесь молодой! – заливалась искренним звонким смехом то ли Нина, то ли Марина (как мне, в конце концов, запомнить, кто из них кто?…), разглядывая белую картонную карточку. – Сколько же тебе здесь?
– Тридцать восемь, – бурчал ей в ответ контрастно настроенный Заречный, выдергивая на ходу из ее пухлых рук прямоугольник белого картона со знакомой мне голубой полосой.
– Здравствуйте. – Я раскланялся с филологическими матронами и проводил взглядом спешный жест Заречного, засунувшего карточку в нагрудный карман строгого серого пиджака.
– Здрасте, – хором поздоровались Нина-Марина, синхронно покраснев за свои легкомысленные настроения в столь щекотливой ситуации, когда элементарная вежливость требует даже от самых жизнерадостных жителей нашей планеты определенной сдержанности в проявлении положительных эмоций.
– Поедем? – обратился я к веселой троице.
– Мы готовы, – ответил за всех Заречный.
Как и предупреждал рассудительный Ганин, места в его скромной машине для раздобревших к началу шестого десятка как душой, так и телом дам оказалось не слишком много, и Олег Валерьевич, севший в середину заднего сиденья, оказался зажатым в их плотные плотские тиски, что тут же стало поводом для тихого возрождения их перманентных фривольных настроений. Держался Заречный достойно, уверенно делая вид, что ничего сверхъестественного не происходит, однако ни мне, ни, уверен, Ганину не хотелось бы оказаться на его месте. Я же, имея гнусную профессиональную привычку пользоваться ради извлечения деловой пользы подобными щекотливыми, оттягивающими у интересующих меня людей внимание и энергию для побочных целей ситуациями, не преминул ее, привычку, в очередной раз проявить.
– А у вас, Олег Валерьевич, права японские есть, как я заметил? – спросил я его, полуобернувшись через правое плечо.
– Да, есть, – холодно улыбнулся он.
– Олежка на них такой молодой! – ласково пропела у него на левом плече то ли Нина, то ли Марина.
– Где получали? – поинтересовался я.
– В Аомори, я же вам говорил, – корректно напомнил Заречный. – Я там два года преподавал, машина, разумеется, была, а российские и международные права у вас в Японии не действуют, так что пришлось на японские сдавать.
– Про Амори говорили, – уточнил я, – а про права нет.
– Просто про права вообще вчера никакого разговора не было, – равнодушно отрезал он. – А я, как учил один из героев Аркадия Гайдара, «не выскочка».
– Так они у вас недействующие? – встрял в нашу умную беседу любопытный Ганин.
– Конечно, недействующие, – ответил Заречный. – Зачем мне в Москве действующие японские права! «Сгорели» еще шесть лет назад…
– Значит, как сувенир с собой возите? – продолжил свой праздный допрос Ганин.
– Вроде того, – согласился Олег Валерьевич.
…В управлении, где в самых дверях нас встретила нетерпеливая Аюми Мураками, мы разделились на группы по интересам: ниигатской капитанше я передал Нину с Мариной, а себе оставил Ганина с Заречным. Серьезно опрашивать Ганина в данной ситуации было смешно, поскольку ответы на большинство своих протокольных вопросов я знал и без него, поэтому я послал все еще сонного сэнсэя, несмотря на литры поглощенного у меня дома и в отеле кофе, в сопровождении дежурного лейтенанта в уголовное управление, где он должен был, пока не подъехала Наташа Китадзима, поделиться информацией о своей вчерашней поездке с ней в Айно-сато с майором Йосидой. А сам я отправился вместе с Заречным в нашу комнату для допросов.
– Садитесь, пожалуйста, – указал я ему на казенный стул, стоящий перед не менее казенным столом.
– Благодарю, – сдержанно кивнул Олег Валерьевич и с показным чувством собственного джентльменского достоинства занял предложенное мною место.
– Олег Валерьевич, я как майор полиции Хоккайдо, ведущий дело об убийстве Владимира Николаевича Селиванова, должен задать вам ряд вопросов, – начал я зазубренную два десятка лет назад сухую протокольную речь.
– Минамото-сан, – прервал он меня домашним, дружеским тоном. – Я все понимаю и готов ответить на все ваши вопросы. Все, что знаю, расскажу без утайки, поэтому давайте пропустим формальности и сразу приступим к делу. Гибель Владимира Николаевича, конечно, большая трагедия для всех нас, но жизнь продолжается, и мне хотелось бы успеть сегодня на конференцию. Понимаете меня?
– Понимаю, – кивнул я. – Без вступительных формальностей мы действительно пока обойдемся. Просто после нашей беседы я попрошу вас собственноручно вписать в протокол ваши биографические, паспортные и адресные данные. И раз вы сами предложили работать в деловом, практическом русле, прежде чем заниматься Селивановым, я бы хотел спросить вас о Китадзиме-сане.
– О Наташе? – Пушистые брови Заречного взлетели над холодным металлом его узких очков.
– Нет, если бы я интересовался Наташей, я бы не стал склонять наше словечко «сан». Я бы хотел сначала спросить вас о ее муже.
– О Хидео? – Он искренне удивился.
– Да, о нем.
– Не совсем понимаю, с какого он тут бока… – По всему было видно, что к вопросам о Наташе Заречный готов больше, чем к интервью о ее покойном муже. – А что именно вас интересует?
– Вы давно с ним знакомы?
– Видите ли, Минамото-сан… – Он смущенно закашлял в кулак. – Я с ним вообще-то не знаком… То есть не то чтобы совсем… Лично не знаком, я имею в виду…
– А мне показалось, что знакомы.
– Вернее, как вам сказать… Мы с ним действительно знакомы, вы правы, но не близки, – нехотя пояснил он. – Так, чистая формальность… Пересекались на конференциях несколько раз – и не более того… В Москве, в частности. На этой конференции он даже и не показался до сих пор, хотя Наташа говорит, что он сейчас в Саппоро. Дома сидит, на улицу носа не кажет…
– И вы с ним в этот свой приезд контактов не искали? – Я внимательно посмотрел на русского красавца.
– Минамото-сан, мы же, как два нормальных мужика, должны друг друга понимать, нет? – Он мудро прищурился в моем направлении. – Мы же пока неформально беседуем…
– Неформально. – Я демонстративно отодвинул в сторону непочатую пачку протокольных бланков.
– То есть вы меня понимаете?
– Понимаю только то, что пора переходить к Наташе Китадзиме, так? – Я ответил ему «зеркальным» рентгеновским взором.
– Если по-прежнему без протоколов, – Заречный покосился на мои бумаги, – то можно перейти…
– Только на таких категоричных условиях?
– Только на таких, – отрезал он и расслабленно откинулся на спинку стула.
– Хорошо, согласен, продолжаем без записей… – Я автоматически пригнулся к столешнице, чтобы лучше слышать его ответы. – С ней, с Наташей то есть, вы давно знакомы?
– С девяносто первого.
– Со времен Аомори?
– Да, – кивнул он. – Если быть абсолютно точным, на конференции здесь, на Хоккайдо, в Хакодатэ, познакомились. В августе.
– Вы женаты, Олег Валерьевич?
– Ну что вы, Минамото-сан! – широко улыбнулся он, выказывая великодушие и мудрость. – Адюльтер – дело, знаете ли, хлопотное, и если сразу с двух сторон его организовывать, то это уже будет чересчур! Перебор будет!…
– Значит, с вашей стороны переборов, проблем и трудностей нет? Семейных, я имею в виду…
– С моей стороны семейных препон нет, – подтвердил мои слова Заречный. – Такие проблемы, Минамото-сан, порождают нервозность, а нам с вами в нашем ответственном и серьезном мужском деле нервничать ни к чему. Это женскому организму все равно, нервничает его хозяйка или нет в интимной ситуации, а у нас, сами знаете, рабочий инструмент тонкий – в плане внутренней сути, разумеется, – деликатный, и лишние стрессовые эмоции ему противопоказаны. Ничего хорошего они не приносят – ни нам с нашими инструментами, ни тем женщинам, которым наши инструменты нравятся.
– Вы, Олег Валерьевич, как я погляжу, множественное число очень любите, – заметил я. – Обобщаете вот так все одним махом, русских с японцами на ходу братаете.
– А что, у вас лично, Минамото-сан, от стресса и невроза мужской силы больше становится? – ехидно спросил Заречный. – Может, у всех японцев такая завидная особенность имеется?
– Да нет… – Я несколько сник от столь неожиданного физиологического вопроса. – Мы, японцы, – народ дисциплинированный, не любим отрываться от дружного коллектива.
– Все мужики, Минамото-сан, какими бы там идеалистическими философиями ни прикрывались, имеют абсолютно одинаковые проблемы. Равно как и женщины… Что в России, что в Японии, что где… Это правительства у нас разные…
– Наверное, – наконец-то очухался я. – Как регулярно, Олег Валерьевич, вы за эти двенадцать лет встречались и продолжаете встречаться с Наташей Китадзимой?
– Менее регулярно, чем ей хотелось бы, но со вполне удовлетворяющей меня лично частотой, – улыбнулся он. – Если опять же быть более-менее точным, то встречаемся мы с ней два-три раза в год, на таких вот скоротечных конференциях. Их сейчас и в России достаточно проводится, и на нейтральных территориях…
– Кто от этой нерегулярности страдает больше: вы или она? – Я перешел на характерный для последних дней моей профессиональной практики излишне откровенный, «русский» регистр.
– Минамото-сан, – хмыкнул Заречный, – между мной и Наташей почти десять лет разницы, так что ответ на ваш вопрос, я думаю, вам и так ясен, без моих слов…
– Значит, она?
– Ну естественно! Для нее это единственная отдушина в ее тоскливой японской жизни… – Он пристально посмотрел на меня в поисках мужского понимания.
– А для вас?
– А для меня… – Он постучал пальцами по поверхности стола и в очередной раз «мудро» улыбнулся. – Я, знаете ли, люблю разнообразие… Она, Наташа то есть, конечно, еще очень и очень как внешне, так и по темпераменту, но думать о чем-то перспективном в этом направлении мне как-то даже в голову не приходило…
– То есть никаких далеко идущих планов у вас с ней не было? Точнее, на нее?
– Минамото-сан, – он подался вперед в моем направлении, – вы же, как сами справедливо заметили, японец, так что посудите со своей японской колокольни! Какие здесь могут быть реальные планы! Что сверху, что сбоку!… У нее же есть все, что красивой русской бабе нужно для формального счастья в предзакатном блеске состоявшейся жизни: паспорт японский, зарплата японская, да и муж – не мужик, а муж, уточняю! – тоже японский, который, не знаю, как вас – вы тут все долгожители, – а меня, русского, переживет точно!…
– Он, я имею в виду – в единственном числе, вас, Олег Валерьевич, не переживет, – успокоил я его, подаваясь назад.
– Что вдруг? – Его удивление было весьма естественным.
– Его убили вчера вечером, – пресек я его патетичный прояпонский монолог.
– Кого убили? – осекся Олег Валерьевич. – Хидео?
– Да, Хидео Китадзима убит вчера вечером в собственном доме, в районе Айно-сато.
– И кто его?… – растерянно спросил Заречный.
– Мои коллеги, Олег Валерьевич, сейчас как раз этим вопросом и занимаются.
– Дома, говорите? – Он рассеянно посмотрел на локтевой сгиб левого рукава своего пиджака.
– Да, дома, где-то в половине десятого вечера. Вы что, об этом ничего не слышали?
– Откуда я мог слышать?… – вяло бросил он. – В половине десятого… Что за чертовщина… Сначала Селиванов, потом Китадзима… Что вообще тут у вас, в Саппоро, происходит?
– Вы считаете, эти убийства связаны между собой? – Я посмотрел на озадаченного красавца филолога.
– Это, насколько я понимаю, ваша обязанность считать что-либо в данной ситуации, – недовольно откликнулся Заречный. – Единственное, что этих покойников объединяло, – это русская литература…
– …об убийственной силе которой хорошо известно во всем мире, – услужливо продолжил я.
– Да уж, – согласно кивнул Олег Валерьевич, – крови в ней проливается более чем достаточно…
– Вы вчера весь вечер провели в общей компании, так? – Я решил несколько облегчить задачу Йосиде.
– Да, мы до начала десятого были вместе, в ресторане на вокзале Саппоро.
– Вы туда поехали прямо из университета?
– Вы в единственном числе или в моем любимом, множественном спрашиваете? – Заречный показал, что способен прекрасно сохранять свое острое чувство юмора в неколебимом состоянии даже в столь непростой ситуации.
– В единственном. Я, Заречный-сан, хотя и японец, его, в отличие от вас, предпочитаю множественному. – Я посчитал своим патриотическим долгом продемонстрировать и нашу, японскую стойкость в плане сохранения фривольного духа.
– Я – в единственном числе, Минамото-сан, – приехал в ресторан где-то в семь, – хладнокровно ответил Заречный.
– Из университета?
– Не совсем. По дороге я заехал в хозяйственный магазин, чтобы купить батарейки для японских часов, которые у меня в Москве. Большие настенные часы «Сейко»…
– На чем ездили?
– На такси, разумеется, – пресно ответил он.
– Понятно, а ушли из ресторана во сколько?
– Зачем вам все это, Минамото-сан? – Он резко сбросил с лица ироническую гримасу. – Вы же с Ганиным постоянно общаетесь и, я уверен, знаете от него все, что хотите знать. Он же наверняка вам сказал, что мы разошлись где-то в половине десятого!… Все же происходило в его присутствии!…
– Сказал, – кивнул я.
– Чего же вы тогда время тянете? – хмыкнул Заречный.
– Хорошо, не буду тянуть, – согласился я с его рационалистическим намеком. – Смерть Хидео Китадзимы была в ваших интересах, Олег Валерьевич, не так ли?
– Ах вот вы к чему! Про неостывшее ложе песнь заводите! Я же вам сказал: никаких серьезных видов на Наташу я не строил! Вы же должны меня как мужчина понимать, Минамото-сан!
– Что конкретно в вас, Олег Валерьевич, я должен понимать как мужчина?
– Вы же видели Наташу! – Он нешироко развел перед собой руки, словно показывая нижние габариты упомянутой красавицы.
– Видел.
– Еще бы вы отказались! – процедил он.
– Не понял…
– А то я не заметил, как вы в Читосэ по ее груди и бедрам зорким своим взглядом стреляли!
– Какой вы наблюдательный! – Я решил, что от лишнего комплимента с меня не убудет.
– Жизнь и не такому научит! Так вот вы, Минамото-сан, должны понимать, что все ее прелести, – он продолжал держать руки разведенными, – могут возбуждать нас с вами еще два-три года, максимум – пять, не больше!
– А вам этого мало?
– Мне – нет, мне достаточно, а может, даже и много. Я, в отличие от вас и Наташи, не японец. – Он вновь начал улыбаться. – Это ей мало, она-то хочет, чтобы это вечно продолжалось! Как тут, в вашей идиллической Японии, все циклично и бесконечно!
– А вечно именно это продолжаться не может… – констатировал я давно известный мне как, увы, немолодому уже мужчине непреложный физический факт.
– То-то и оно, что не может, – закачалась передо мной аккуратно подстриженная русая голова.
– Значит, вам нужен спальный объект помоложе? – Мне понравилось время от времени переходить на циничный русский, который по емкости и красочности намного превосходит наш заковыристый, но ужасно пресный японский.
– Это во-вторых, – кивнул он.
– А во-первых?
– А во-первых, я сам не хочу становиться этим вашим злополучным «спальным объектом»! – горько усмехнулся Заречный.
– А что, распрекрасная Наташа Китадзима вас именно в него пытается превратить?
– Есть у меня такое подозрение, – вздохнул он. – Понимаете, Минамото-сан, не в обиду вам, японцам, будет сказано, но, насколько я знаю из своего личного опыта, подкрепленного еще и горьким Наташиным, русская женщина в постели с японцем никогда счастлива быть не может. Как, впрочем, и в личной жизни вообще…
– Да? – Этот его националистический выпад несколько задел. – Вы считаете, что мы как мужики ни на что не годимся?
– Не обижайтесь, Минамото-сан, – завертел он головой из стороны в сторону, – но все знакомые мне русские женщины, которые замужем за японцами, именно об этом говорят. В постельном плане, я имею в виду, и в плане общего мужского внимания. Что касается паспорта и денежного обеспечения, то там все прекрасно – нет проблем, а вот как дело до плотских утех доходит, просто беда!…
– И много у вас таких неудовлетворенных русских знакомых среди всех охочих до земных радостей?
– Немного, но есть, – Заречный посмотрел на свои часы, – и все они в своих коечных приговорах японским мужикам единодушны!
– Чем же мы им не угодили? Размером?
– Размер здесь ни при чем! – Заречный напустил на свое сексапильное лицо туман философичности. – Отношением прежде всего!…
– Отношением?
– Конечно! Для вас женщина именно, как вы сами только точно определили, «объект», и не более того. Это мы, русские, витаем в абстрактных эмпиреях. Это мы испытываем оргазм от одного только упоминания о светлом будущем. Это нам чуждо вокруг себя все материально прекрасное, потому что нам достаточно иметь в башке эфемерные образы этого самого прекрасного. Зачем стараться руками, если есть богатое воображение! Зачем строить красивые дома, если достаточно вообразить их в своих мозгах! А вы, японцы, – нация конкретная, материалистически ориентированная, и к абстрактному мышлению вы не приучены! Вам вещественное, физически осязаемое вынь да положь! А с воображением у вас откровенные напряги!…
– Как это?
– Так это! – весело парировал, как оказывалось, далеко не глупый плейбой Олег Валерьевич. – Возьмите хотя бы ваш дурацкий культ еды! Я четвертый день в Японии, давненько не был, а со времен Аомори, как погляжу, ничего не изменилась. Телевизор включишь – одна сплошная еда! И ничего, кроме еды, под разными соусами! Вам главное, чтобы все можно было руками взять и в рот положить. А если за эту ниточку потянуть, можно более глубокие вещи обнаружить. От этого же у вас, например, и театр на нуле, и актерская школа как понятие отсутствует!
– Подождите, Заречный-сан! – Я притворился, что ему удалось сбить меня с толку. – Мы начали про женскую неудовлетворенность, а вы мне сначала про гастрономию с кулинарией, а теперь вдруг про театр и лицедеев!…
– Постель, Минамото-сан, – тот же театр, и ничто больше! – Разошедшийся в своем обличительном японофобском раже Заречный еще вальяжней, чем прежде, раскинулся на узком стуле. – Даже если вам, японцам, как и нам, русским, от бабы нужно только одно – понятно что, по законам того же театрального действа вы обязаны сымитировать, сыграть приступ неистовой любви к ней, к «объекту» вашему с раздвинутыми ногами, а не отваливаться от вашей пассии, томной и разомлевшей, сразу же после того, как вы кончаете это свое сладенькое «одно дело».
– А мы, значит, сразу же отваливаемся? – поинтересовался я на всякий случай.
– Насколько я знаю, да, причем во множественном числе! – язвительно заметил Заречный. – У вас же, в Японии, хороших актеров нет и быть не может! Это гены! Вы абстрагироваться от материальной действительности не можете по определению. Для вас же сыграть роль исключительно для того, чтобы телесно близкому человеку угодить, равносильно самоубийству. Перед чужими и физически далекими от вас людьми вы будете лицемерно на коленках по татами ползать и лбом из того же татами многовековую пыль выбивать – ради контракта, скажем, на строительство чего-нибудь глобального, например нефтепровода какого-нибудь. А на женщину, которая вам детей рожает и трусы ваши стирает, вы после соития смотрите с презрением, а то и ненавистью. Она, дескать, вас в неподобающем, распаленном виде поверх себя наблюдала, и вам теперь за это ваше якобы недостойное поведение перед самим собой стыдно. И чтобы стыд этот заглушить, вы бабу свою презрением и обливаете. А ей, бедной, и податься из-под вас некуда, потому как у нее, в большинстве случаев, ни образования, ни профессии.
– Страшные вещи рассказываете, Олег Валерьевич! – Я изо всех сил старался сохранить хоть какие-нибудь остатки хладнокровия. – Глаза на нас открываете, да так, что солнце вашей русской правды нам эти глаза ножом режет!
– Да будет вам, Минамото-сан! Вы ведь женаты, что тут для вас нового! – усмехнулся Заречный. – Тот же Китадзима-сан, который, как теперь оказывается, уже покойник, именно таким образом и поступал с Наташей, несмотря ни на какие там аспирантуры и достоевщину!
– А вот тут, Заречный-сан, я позволю себе с вами поспорить. – Я обрадовался внезапному расширению поля битвы и поспешил воспользоваться предоставившимся шансом. – Достоевщину придумали вы, русские, и теперь носитесь с этим жупелом по всем океанам и континентам. Однако если к этой вашей достоевщине повнимательнее приглядеться, выйдет все та же банальная постель – и ничего более… Та же приправленная длиннющими – абсолютно пустыми и тоскливыми – диалогами многострадальная койка, ради которой, собственно, и созданы вашим распрекрасным Федором Михайловичем все эти сонечки мармеладовы, Настасьи филипповны и грушеньки-яблоньки…
– Да я и не спорю! – неожиданно легко согласился со мной Заречный. – Это отец ваш или наши старики-литературоведы будут вам перечить и о бесплотной духовности кричать, а я не буду. Для меня эта наша достоевщина – один сплошной разврат, квинтэссенция похоти и садизма! Тут у нас с вами полное взаимопонимание.
– Значит, Наташа вам на своего мужа жаловалась? – Я попытался вернуть распалившегося умного красавца в старое русло.
– Естественно! Вы что думаете, ей конкретно я нужен был? – иронически заметил он. – Если бы так, то тогда, может, мы бы с ней о долгосрочных планах задумались. Но я же понимаю прекрасно, что нужен ей только в качестве антипода глухонемого, слюнявого мужа…
– Слюнявого? – Меня поразило это знакомое с недавних пор определение.
– Ну не слюнявого, а… – Олег Валерьевич замялся, подыскивая нужное слово, – размазни, в общем…
– Хорошо, Заречный-сан, значит, если я правильно понял, убийство Хидео Китадзимы вас ничуть не расстроило?
– В общечеловеческом плане – нет. Почему оно должно меня расстроить? – хладнокровно спросил Заречный. – Я к нему никаких эмоций не питал, и он ко мне – тоже.
– А в каком плане «да»?
– В личном. – Олег Валерьевич вдруг погрустнел.
– Боитесь, что вдова теперь будет вас атаковать?
– Не то чтобы боюсь… Чего мне бояться! – Заречный дернул сильными плечами. – Я уеду в воскресенье отсюда… Просто опасаюсь, как бы действительно Наташа, раз такое стряслось, не начала бы сейчас делать глупости…
– Какие, например? – Я пристально посмотрел Заречному в его умные, холодные глаза.
– Минамото-сан, когда немолодая, скованная по рукам и ногам нелюбимым мужем и ненавистной работой женщина вдруг получает в подарок от наконец-то улыбнувшейся ей судьбы долгожданную свободу, она способна на большие глупости, на очень большие, поверьте, я знаю!
– Дом, например, может вдруг продать, да? – подсказал я ему один конкретный пример проявления таких глупостей. – Хороший дом, в хорошем районе хорошего города…
– Дом продать? Ну нет, это уже будет слишком! – не согласился со мной Олег Валерьевич. – Зачем ей продавать прекрасный дом?
– А откуда вы знаете, что он именно «прекрасный»? Вы что, Олег Валерьевич, там были?
– Когда-то доводилось… – Заречный по-отрочески покраснел. – Дом неплохой у них… Мне такие нравятся…
– А в этот раз вы там были?
– Когда?! Что вы! – отмахнулся он.
– Олег Валерьевич, а в каком магазине вы батарейки покупали? – Я сделал свой коронный заход с противоположной стороны.
– Какие батарейки? – Он недоуменно посмотрел на меня.
– Для часов, – напомнил я ему. – Для ваших японских часов. Фирмы «Сейко», которые у вас в Москве на стенке висят. Вы же сами мне сказали, что по дороге из университета в ресторан заезжали в хозяйственный магазин…
– Ах батарейки!… Магазин?… «Хомак», кажется… Это на выезде из района Сироиси…
– То есть не совсем по дороге из университета к вокзалу, а чуть севернее, да?
– Может быть, – кивнул он.- Я на такси ехал, да и Саппоро я плохо знаю… Но в принципе таксист не особо плутал. Мне показалось, что до вокзала было не так уж и далеко…
Я отпустил Заречного через двадцать минут, получив от него пустые с точки зрения следствия ответы на вопросы о Селиванове. Как и в случае с Китадзимой, об убиенном соотечественнике он не горевал, знал его опять же шапочно, никаких ни прямых, ни косвенных причин убивать бедного специалиста по Владимиру Сорокину с его салом и льдом у него не было. Внизу его уже дожидались «обработанные» Мураками Нина с Мариной, которые были теперь не столь веселы, как час назад в гостинице. Я помог им вызвать такси, отправил их на конференцию, а сам поднялся в отдел, где застал за своим столом всклокоченную Аюми.
– Ну что наши болтушки-хохотушки, Мураками-сан? – обратился я к ее лохматой голове, присаживаясь на краешек стола. – Чем они с вами по-женски поделились? Какие секреты поведали?
– Показания дали адекватные, расхождений серьезных нет. – Аюми царапнула меня своими крысиными глазками.
– А несерьезных? – Я вдруг почувствовал по ее умненькому взгляду, что за эти дни мы с ней так тесно сработались, что сегодня с утра параллельно двинулись в одном и том же направлении.
– Из того, что имеет отношение к убийству Селиванова, различаются только данные о времени отсутствия за их общим столом в ресторанчике «Унаги-Дом» господина Заречного.
– В понедельник вечером?…
– Да, в вечер убийства Селиванова, – тряхнула она своей ершистой гривой.
– Значит, наш разлюбезный Олег Валерьевич из-за стола выходил? – Я вновь порадовался единству наших с Мураками мыслей.
– Дважды, – опять кивнула она. – Оба раза, естественно, в туалет, или, как он им якобы каждый раз говорил, «на ветер».
– До ветра, – поправил я ее.
– Хорошо, пускай будет «до ветра», хотя «на ветер», по-моему, логичнее, – колко откликнулась она на мой краткий курс русской идиоматики, данный в ответ на ее недавние поучения об обитателях темного омута.
– «На ветер», Мураками-сан, русские обычно деньги бросают, когда эти деньги у них имеются, а «до ветра» выходят, чтобы облегчиться…
– Да? – Она ехидно улыбнулась. – А я до сих пор была уверена, что они все облегчаются «против ветра»! Мужчины по крайней мере…
– И это тоже. Это все в их, русском духе… – охотно согласился я. – Так что не стыкуется по Заречному? По его прогулкам до кафельной «розы ветров»?
– Первый раз, как сказали и Нина Валентиновна, и Марина Борисовна, он вышел в туалет спустя полчаса после их прихода и отсутствовал минут пять – семь.
– Это нормально, – проявил я мужскую солидарность.
– Я догадываюсь, – хмыкнула капитанша.
– А второй раз?
– А второй раз минут через пятьдесят, и вот тут-то, Минамото-сан, у наших с вами девушек показания расходятся, – задумчиво констатировала Аюми.
– Сильно расходятся?
– Нина Валентиновна сказала, что его не было минут десять, а Марина Борисовна говорит, что не меньше пятнадцати.
– И почему, по-вашему, в их показаниях оказалась такая разница, Мураками-сан?
– Ну, во-первых, они обе вообще какие-то неорганизованные, несобранные дамы. А во-вторых, когда они уже выпили по два бокала пива, так что восприятие времени у них, по их же признаниям, несколько нарушилось.
– Понятно. А сами они до нашего холодного хоккайдского ветра выходили?
– Да, по одному разу.
– И сколько каждая из них отсутствовала?
– Нам, Минамото-сан, пятью минутами отделаться труднее. – Аюми по-девичьи зарделась.
– Значит, из всей этой развеселой троицы каждый за столом отсутствовал по десять – пятнадцать минут. Так получается? – Я сполз со стола и ступил на шершавый серый палас.
– Так. Более того… – Тут она запнулась, и румянец на ее бурундучьих щеках вспыхнул с новой силой.
– Более чего? – Я слегка нагнулся к ней и осторожно потянул носом в надежде унюхать какое-нибудь подобие духов, но, разумеется, так ничего и не почувствовал.
– Я сегодня встала рано, не спалось что-то. – Она смущенно посмотрела мне под ноги.
– И? – Я постарался посмотреть на нее взглядом строгого учителя, уличившего хулиганистого ученика в очередной проказе.
– И пошла в «Альфу».
– Следственный эксперимент проводить? – проявил я сэнсэйскую проницательность.
– Неофициальный, – виновато кивнула она.
– Провели? – спросил я ее с деланной лаской. – Провела, – уже весело отозвалась она.
– Успешно?
– От главного входа «Унаги-Дома» до заднего, служебного входа «Альфы» всего две минуты нормального хода. У меня ноги короткие, но даже я в две минуты уложилась, – самокритично поведала она. Если предположить, что убийца Селиванова – один из этих троих, скажем тот же Заречный, то, учитывая физическую слабость Владимира Николаевича и, наоборот, хорошее физическое состояние Олега Валерьевича, в принципе он бы мог уложиться в двенадцать – пятнадцать минут вполне реально.
– Олег Валерьевич мог бы, – согласился я, вспомнив нашу с ним утреннюю «спортивную» встречу около той же «Альфы», а также его сегодняшнюю исповедь на тему альковных ублажений Наташи Китадзимы. – Форма физическая у него действительно неплохая…
– А вот Нина Валентиновна с Мариной Борисовной не смогли бы! – Аюми поковыряла пальчиком воздух.
– Чего это вы их так недооцениваете?
– Физически они, конечно, могучи, и одному Селиванову против них было бы тяжеловато, но вот только…
– Сколько у вас этих «только», Мураками-сан? – Она продолжала удивлять и радовать меня своей служебной прытью.
– Сколько жизнь подбрасывает, столько и есть, – мудро заметила Аюми. – Короче, все мои!
– И это последнее ваше «только» что в себе таит?
– Мне утром повезло: из понедельничной смены в «Унаги-Доме» сегодня три человека было – две судомойки и один уборщик.
– Действительно повезло! – ехидно заметил я. – Целых две судомойки! Редко такое случается!
– И они показали, – она хладнокровно проглотила моего очередного «ежа», – что эта троица попарно тем или иным составом в тот вечер стол не покидала, то есть как минимум двое за столом сидели всю дорогу.
– Зоркие какие судомойки!
– Да, и уборщик тоже! – Аюми продолжала показывать, что класть ей палец в рот не стоит. – А вообще, как я выяснила сегодня, в понедельник на них весь ресторанный люд пялился! Когда еще в типичный японский ресторанчик, где жареного угря подают, такие массивные иностранки заходили! В общем, и официанты, и кухонные – все на них в тот вечер смотрели в четыре глаза.
– В основном на Нину с Мариной, да? – догадался я.
– Естественно, – хихикнула субтильная Мураками.
– Понятно. А нашу прекрасную Ирину, землячку вашу, вы утречком не навестили случайно? – Я напомнил ей, что кроме Нины с Мариной у нас с ней имеется и объект постройнее.
– Никаких телефонных контактов по ней ни ночью, ни утром не было, – отчиталась капитанша. – Ваша «наружка» проводила ее в университет, более ничего.
– А выписываться из «Гранд-отеля» она не собирается? Сегодня же среда!
– Когда она утром выходила, то задержалась у стойки администратора, – сказала Мураками. – После я проверила, оказалось, что она проплатила еще две ночи.
– Две ночи?
– Да, до субботы.
– А что у нас случится в субботу? – спросил я не столько Аюми, сколько воздушное пространство, разделяющее нас.
– Много чего может случиться, – философски заметила она. – До субботы еще далеко…
– Верно, но нас с вами из этого многого должно интересовать только окончание великой филологической конференции.
– Она завершается в пятницу, насколько я знаю, – проявила Мураками свою информированность.
– Тоже верно, но только отчасти.
– От какой части? – съязвила она.
– От экскурсионной.
– А именно?
– На субботу у них запланирована экскурсия в Отару – для всех жаждущих и страждущих, – сообщил я Аюми.
– Понятно, – кивнула она.
– А мне не очень.
– Филологи приедут в Отару, у Ирины Катаямы тоже обратный билет в Ниигату из Отару… Все сходится…
– Билет ее, Мураками-сан, сегодня «сгорел», – напомнил я ей непреложный факт, – а в Ниигате вся наша с вами филологическая братия и без Отару окажется. У них билеты в Россию Через нее.
– Ну тут тогда вывод только один напрашивается…
– Да, только один… – Я согласно кивнул.
Я попросил Мураками закончить бумажную канитель попозже, а сейчас выдвинуться в педагогический университет, сам же прошел в управление к Йосиде, чтобы поставить еще над одной «и» округлую птичку. У дверей его кабинета тосковал на табуретке взъерошенный Ганин.
– Ты чего, Ганин, тут торчишь? – поинтересовался я. – Йосида с тобой переговорил?
– Да, я ему уже исповедался, – невесело отозвался вялый сэнсэй.
– Так чего тогда сидишь?
– Наташу жду, – буркнул он.
– Она еще у него? – Я указал подбородком на дверь.
– Да, еще там. – Ганин качнул головой в том же направлении. – Мы с ней договорились, что я ее дождусь, и мы отсюда вместе на моей машине прямо в Отару поедем.
– Куда? – удивился я.
– В Отару, – равнодушно повторил Ганин.
– Почему в Отару? Почему не в университет? – Я терпеть не могу, когда по интересующей меня проблеме кто-то информирован лучше меня. – Зачем в Отару, Ганин?
– А ты что, не в курсе? – Он поднял на меня свои бездонные серые глаза. – Тоже мне, полиция называется!
– Я делом занят был, Ганин, а не в коридоре красивых женщин караулил!
– Сегодня все заседания на конференции отменили, – ровным, спокойным тоном поведал сэнсэй.
– Отменили?…
– Ну! – Ганин лениво пожал плечами. – Мне приятель по сотовому позвонил, сказал, что там все в трансе…
– В каком трансе?
– В траурном, разумеется… – Ганин грустно вздохнул. – За два дня два трупа, и оба филологические…
– Так что, конференцию свернули, что ли?
– Непонятно пока. Сказали только, что из-за трагических событий сегодня все запланированные заседания и доклады отменяются, а взамен желающие могут поехать на экскурсию в Отару.
– Вместо субботы, что ли? – спросил я, лихорадочно проигрывая в голове все возможные теперь варианты расклада нашего с Мураками славянофильского пасьянса.
– Ну да, – кивнул Ганин. – Вот Наташа и просила меня с ней в Отару съездить.
– Как это?!
– Молча, Такуя… – мрачно откликнулся он.
– А как же покойный муж? Приготовления к похоронам? Какая в ее положении вообще может быть экскурсия?
– Она сказала, что всем начнет заниматься завтра, а пока ей необходимо развеяться, – поделился со мной занятной информацией всезнающий Ганин.
– Логично, – не веря своим словам, сказал я.
– Для кого как… – грустно произнес сэнсэй.
– А почему она не вместе со всеми на автобусе едет?
– А это тебе твой Йосида пускай скажет! – недовольно огрызнулся Ганин. – Он ее второй час мурыжит. Автобус от университета через полчаса отходит. Ей никак на него не успеть…
– Интересные вещи говоришь, Ганин, – признался я. – Заречный со своими дамами тоже в Отару поедет?
– Откуда я знаю! Они что, уже уехали отсюда?
– Да, пятнадцать минут назад…
– Наверное, поедут тогда, – предположил Ганин. – Чего им в городе-то торчать.
В этот момент дверь раскрылась, и в коридор шагнула прекрасная Наталья. На ней был эффектный деловой костюм цвета спелой калифорнийской черешни с юбкой выше колен, светло-розовая блузка и лакированные шоколадные туфли на высоком каблуке, подчеркивающие ее неотразимую стройность. Она окинула меня безразличным взором, удостоила едва уловимым поклоном и перенесла все свое внимание на по-мальчишески вскочившего с табуретки при ее царственном появлении пажеподобного Ганина.
– Поехали, Ганин? – В ее словах было больше от приказа, нежели от просьбы.
– Поехали, – покорно отозвался тот.
Мне же ничего не оставалось, как немедленно вскочить в разгоняющуюся карусель, пока это было еще относительно безопасно.
– Я тоже с вами поеду, если вы, конечно, Китадзима-сан, не возражаете?
– Я так полагаю, что, даже если бы я стала возражать, вас это не остановило бы, – резонно заметила она.
– Верно, – кивнул я ей. – Вы спускайтесь, а внизу мы к вам присоединимся.
– «Мы»? – Ганин вопросительно посмотрел на меня, намекая, видимо, на то, что сегодня с утра заднее сиденье его скромного «галанта» уже испытало перегрузки.
– Да, я должен захватить с собой капитана Мураками из Ниигаты, – обрадовал я Ганина.
– А-а, эту Линду Хант!… – Сэнсэй вспомнил мою новую напарницу. – Ее возьмем, она маленькая.
Я забежал в отдел, извлек Мураками из кресла перед компьютером, по дороге обрадовал ее информацией об отмене на сегодня всех конференционных заседаний, и уже через две минуты мы вчетвером оккупировали ганинскую машину. Пока Ганин выбирался переулками к скоростному шоссе на Отару, я с переднего сиденья успел переговорить с «наружкой», ведущей Ирину Катаяму, и узнать от нее, что она в данный момент выезжает на своем «мицубиси» с гостиничной стоянки. Мураками, усевшаяся сзади вместе с Наташей, за это же время выяснила, что автобус с участниками конференции через несколько минут отчаливает с университетской стоянки и так же, как и мы, берет курс на Отару. Аюми юркими глазками в зеркальце заднего вида и мягкими пальчиками на моем левом плече дала мне понять, что все три интересующих нас университетских объекта находятся в автобусе, из чего оставалось сделать несложный вывод о том, что и с Заречным, и с его Ниной-Мариной мы скоро увидимся.
Глава 12
Едва ганинский «галант» взобрался на высокую эстакаду, ведущую от Саппоро к Японскому морю, я прервал затянувшееся молчание, извернулся выброшенным на берег угрем и ухитрился наконец посмотреть на сидящих сзади дам. Мураками тут же вопросительно стрельнула в меня своими пулеподобными глазенками, а прекрасная Наташа инстинктивно попыталась натянуть на отделанные черным, полупрозрачным латексом колени туго сидящую на бедрах юбку. Я демонстративно долго задержал свой пылкий взор на этих роскошных коленках, не без удовольствия вспомнил вчерашний импровизированный striptisus-interraptus, устроенный мне их обольстительной обладательницей, и деланно сердобольно обратился к ней с банальным на первый взгляд вопросом:
– Замерзли, Наташа?
– Я могу печку включить, – ответил за нее предупредительный и проницательный Ганин. – Как, Наташ?
– Да нет, это, пожалуй, будет лишнее, – кисло улыбнулась она, продолжая сжимать в кулаках неподатливый скользкий подол вызывающей, в сущности, для ее возраста юбки.
– Кстати о печке! – Я мысленно поблагодарил Ганина за якобы невзначай оброненное им слово.
– Что «о печке»? – настороженно спросила Наташа.
– Да так… – Я выдержал длинную паузу, отвернулся на несколько секунд от призывных выпуклостей, тупо посмотрел на пожираемый широким капотом ганинского «галанта» серый бетон, после чего вновь вывернул на двести семьдесят градусов свою уже давно немолодую шею и взглянул в чудесные глаза русской красавицы.
– Что «так»? – Беспокойство ее за эти секунды не оставило. – Вы меня хотите о чем-то спросить, Минамото-сан?
– А что, майор Йосида у вас печкой не интересовался? – Я мудро прищурился, чтобы усилить беспорядок и хаос в смятенных рядах своего достойного, но, увы, откровенно уязвимого противника. – Как, Наташа, а? Про печку он вас не спрашивал?
– Почему этот ваш майор должен был интересоваться какой-то печкой? – Наташа изо всех сил старалась сохранять хладнокровие.
– Ну не совсем «какой-то», – ехидно поправил я ее.
– В каком смысле? – нервно переспросила она.
– В прямом, Наташа. – Я отвернулся от нее и продолжил разговаривать уже с внутренней стороной лобового стекла. – Октябрь вон за окном… Прохладно становится… Вы у себя дома печку уже включаете?
– Иногда… – промямлила Наташа. – Вообще-то у нас не печка, а отопитель дома…
– Да? Так вот тогда о вашей отопительной печке и должен был вас майор Йосида спросить. – Я решил, что момент для наступления назрел и следует вводить в бой основные силы.
– О моей печке? – сдержанно, но твердо переспросила она. – А что такого в ней особенного?
– В ней? Да ничего в ней особенного нет, – успокоил я ее. – Ну а раз я тоже майор, то какая вам, русской, разница, Йосида вас о печке спрашивает или Минамото!
– Вы же, как я поняла, не о печке… – с зыбкой надеждой в голосе протянула Наташа.
– Верно, – кивнул я, но не ей, а, скорее, Ганину.
– А о чем тогда?
– О том, почему нашему с вами другу Ганину было жарко, когда он вчера на ваш зов явился. – Я опять посмотрел на строгий ганинский профиль, почти полностью лишенный губ, что свидетельствовало о его искренней заинтересованности и полной вовлеченности в разворачивающуюся словесную баталию.
– Жарко?… – В Наташином голосе прорезались вдруг предыстеричные нотки.
– Да, на улице – холод, супруг ваш дома уже несколько часов неживой лежит, печка не работает, – по крайней мере, когда Ганин вошел, как он говорит, и когда полиция приехала, а дома все-таки не по-осеннему жарко, – пояснил я.
– Тебе, Ганин, вчера правда у меня жарко было? – поинтересовалась Наташа у ганинского затылка.
– Да было немного… – промычал в ответ Ганин, не отрывая глаз от наматывающейся на колеса и днище его машины бесконечной бетонной ленты.
– Итак, как я понимаю, в доме до вашего приезда было натоплено, да? – Я не выдержал и опять обернулся к аппетитным коленям.
– Да нет, кажется… Мне не показалось, что жарко было, – тихо сказала Наташа. – Мы же когда пришли, Ганин, отопитель не работал, да?
– Не совсем, Наташ, – твердо возразил ей наш водитель. – Ты первая в дом вошла.
– Да? Разве? – не столько с надеждой, сколько с разочарованием в голосе переспросила она.
– Конечно, – не отступал мой строгий друг и почетный следопыт Саппоро и окрестностей. – Я только через пару минут зашел, после того как ты окна открыла и меня звать стала. А мне еще развернуться и припарковаться надо было.
– Да? У меня это все после того, что я увидела, из головы выскочило, – тем же тихим, мягким голосом поведала Наташа.
– Именно так оно и было. – Ганин решил отрезать ей пути к отступлению. – Ты вошла первой, а когда я примчался, отопитель действительно не работал.
– А вы, Наташа, говорите, что, когда вошли в дом, печка тоже не работала? – вставил я.
– Нет, конечно. Почему она должна была работать? – отрезала она себе все пути к отступлению.
– Да потому что, Наташа, наш с вами друг, – я кивнул ей на Ганина, – обнаружил подле вашего дома одну интересную вещь.
– Какую это вещь ты, Ганин, обнаружил? – Наташа вяло попыталась поднять тонус своего гаснущего дискурса.
– У вас около дома бак керосиновый стоит, из которого керосин в отопитель подается, – ответил я за Ганина. – А сверху – поплавочный индикатор.
– И что? – Она искривила в кислой улыбке малиновые губы. – Что такого в этом индикаторе?
– Да то что индикатор этот вчера вечером, когда трагедия случилась, показывал, что у вас в баке где-то литров сто остается, не больше.
– Замечательно! – Наташа дерзко провела белой рукой по темным волосам.
– Кому как! – возразил я. – Вчера первое число было, так? Первое октября, да?
– Первое, – покорно кивнула она.
– И вчера вам, как полагается во всем нашем с вами Айно-сато, в почтовый ящик бросили счет за керосин за сентябрь, так?
– Наверное. У нас дома всем этим Хидео занимается… Занимался то есть, – поправилась она без видимых эмоций. – Все счета он проверял, контролировал, проплачивал…
– Безусловно, – согласился я с ней. – Только вот в счете, который у вас вчера в прихожей лежал, значится, что на последнее число сентября, то бишь на минувший понедельник, у вас в баке остается сто сорок литров керосина.
– Прекрасно! – по-театральному жестяным тоном пропела мне в правое плечо Наташа. – Значит, зимой не замерзну! Замечательно!
– Вы так считаете? – поморщился я.
– А что здесь может не радовать?
– А то, Наташа, что если на утро первого октября у вас в баке имелось сто сорок литров керосина, а к ночи второго – только сто, получается, что за двое суток вы сожгли сорок литров топлива, но при этом заявляете, что печку пока не раскочегаривали.
– Я на конференции целыми днями торчу, – сообщила Наташа почему-то не мне, а достойно хранящей молчание Аюми, – может, Хидео без меня отопителем пользовался.
– Сжечь сорок литров за два дня, Наташа, можно только в том случае, если на несколько часов врубить ваш отопитель на полную мощность, – сообщил я ей пренеприятнейшее известие, – а в наших, хоккайдских условиях без этого можно обходиться даже в январе, не говоря уже о том, что в октябре действительно отопителем можно вообще не пользоваться. Мы с вами, слава богу, в одной местности проживаем…
– К чему вы клоните, Минамото-сан? – колко спросила она.
– К тому, что ваш отопитель работал вчера вечером на эту самую полную мощность несколько часов, вплоть до вашего с Ганиным приезда. И когда вы первой вошли в дом, вы его выключили, отчего наш друг Ганин и обратил внимание на неестественную духоту и жару в гостиной, где находился ваш покойный муж.
– Чушь собачья! – Наташа шлепнула себя по округлым бедрам. – Ну допустим… только допустим!… я вошла и выключила печку. Но зачем мне понадобился весь этот цирк? Вы можете мне объяснить?!
– Без напряжения! – поспешил я ее огорчить.
– Слушаю вас! – тоном прожженного бюрократа откликнулась она.
– Обвинять вас в том, что вы убили своего мужа, никто не собирается, Наташа…
– Спасибо вам за это! – опять театрально закричала она. – Очень вы меня этим порадовали!…
– Но вот доказать соучастие в его убийстве, я полагаю, мы сможем.
– Какое соучастие?!
– Банальное, Наташа. – Я опять вперился в прозрачную изнанку лобового стекла. – Хидео Китадзима был убит вашим сообщником за несколько часов до вашего с Ганиным приезда. Для того чтобы сместить время смерти вашего супруга на три-четыре часа вперед, убийца воспользовался старым, но безотказно действующим на профессиональное сознание медэкспертов способом.
– Каким еще способом?! – не столько из реального интереса, сколько по упрямой женской инерции визгливо поинтересовалась Наташа.
– Для медиков главный показатель времени смерти – температура тела. Чем она ближе к температуре окружающей среды, тем дольше жертва пребывает в состоянии трупа.
– Замечательно!… – буркнула она.
– У наших медэкспертов есть специальная таблица, выстроенная много лет назад именно на основе подобных опытов…
– Каких опытов?
– Таких… – я на мгновение повернулся к ней, но на этот раз посмотрел не на коленки, а в налившиеся страхом и отчаянием пронзительные глаза, – которые позволяют с точностью до получаса определить момент, когда подопытный начал безвозвратно остывать.
– И что?
– А то, что ваш Хидео нашим медэкспертам достался вчера, извините за служебную скабрезность, тепленьким. Со взопревшим Ганиным они поговорить не догадались, да и не их это дело со свидетелями разговоры разговаривать, и брякнули майору Йосиде с ходу про девять часов. На самом же деле, учитывая тот факт, что супруг ваш, вернее, его тело лежало аккурат около отопителя, временные рамки преступления выглядят совершенно иными.
– И какой вариант этих самых временных рамок в вашем, Минамото-сан, буйном служебном воображении напрашивается, можно поинтересоваться? – стрельнула в меня очередной порцией яда загнанная в угол Наташа.
– Думаю, что убийца совершил свое дело гораздо раньше, скажем, где-то в шесть или семь. После этого он – или она – включил на полную мощность печку, что, собственно, и позволило телу не остыть до приезда нашей бригады, и удалился. А раз никаких следов взлома дверей и окон наши эксперты не обнаружили, значит, ваш муж сам его впустил, что косвенно подтверждает факт его знакомства с убийцей.
– Хорошо, – кисло улыбнулась она. – Допустим, если все оно так и было, то какое я имею к этому отношение?
– Самое непосредственное, Наташа, – уже в который раз за последние двадцать минут огорчил ее я.
– Непосредственное?
– Именно. – Я мельком взглянул на Ганина, затем – на затаившуюся в уголке Мураками. – Убийце имело смысл врубать на полную печку только в том случае, если он знал, когда и, главное, кто ее выключит.
– Вы меня имеете в виду?
– Но ведь вы ее выключили, не так ли? – напомнил я ей.
– Я. – Она согласно кивнула.
– Тогда я вас и имею в виду, – согласился я с Наташей.
– Хорошо, что только «в виду», – вздохнула она, внимательно посмотрела на невзрачную Аюми и демонстративно сдвинула с колен на насколько сантиметров свою примечательную юбку.
– Так вот, – продолжил я лекцию на тему экономии топливных ресурсов в условиях терпимой в плане температурного режима хоккайдской осени, – раз убийца был уверен в том, кто выключит отопитель, причем сделает это до приезда полиции, значит, что он с этим лицом, то есть с вами, по крайней мере, должен быть хорошо знаком. В вашем случае – это отопитель, в других случаях люди используют электроодеяло или что-нибудь еще в том же духе. Голь на выдумку хитра…
– А зачем, по-вашему, Минамото-сан, мне, как вы изволили выразиться – «голи», и этому вашему якобы знакомому со мной убийце эти фокусы с печкой? – холодно спросила тронутая налетом осеннего увядания, но все еще по-августовски красивая русская, призывно сверкая оголенными коленями.
– Только для введения нас в заблуждение по поводу времени убийства, – легко парировал я.
– Заблуждение? – опять по инерции переспросила она.
– Конечно! Если убийство было совершено, скажем, сразу после шести и на это время у убийцы никакого алиби нет, то печка помогает сделать так, что полиция будет направлена по ложному следу. После успешных манипуляций с поддержанием температуры тела время смерти медэкспертами устанавливается как девять, а на девять убийца уже имеет солидное алиби. Например, он или она в это время при десятке свидетелей в ресторане ужинал…
– А я, значит, соучастница, да? – вяло съязвила Наташа.
– Получается так. – Я не стал ей возражать.
– В управление тогда, что ли, сначала? – профессионально резюмировал Ганин.
– В управление, – кивнул я ему.
Сразу же после въезда в город Мураками вдруг подала голос, оказавшийся достаточно твердым и требовательным после долгого молчания, и попросила Ганина высадить ее около «Майкала». Он притормозил у стоянки автобусов, куда, по нашим расчетам, должны были привезти экскурсантов-филологов. Аюми вывалилась из «галанта» и тут же затерялась в среди бесчисленных туристических групп, наводнявших пристояночное пространство. Мы же с Ганиным продолжили путь на северо-запад, где нашу очаровательную пассажирку ожидал сердечный прием местных правоохранительных органов.
Войдя в здание отарского управления, я принялся оформлять на стойке дежурного документы на временное задержание Наташи Китадзймы. Оставшийся поджидать меня в машине во дворе Ганин проводил нас с ней многозначительными вздохами, молча взывая своими огромными серыми глазищами к моему милосердию по отношению к падшей красавице. Но иначе я поступить не мог: хотя в принципе можно было подождать с этим делом и до вечера, то есть отвезти ее обратно в Саппоро, в управление, какое-то неуемное чувство колкой тревоги продолжало копошиться в закоулках моей темной совести, не оставляя Наташе никаких шансов на наслаждение экскурсией по скромному, но не лишенному прелестей портовому городишку.
– Меня что, в камеру посадят? – не теряя собственного достоинства, поинтересовалась стоявшая рядом со мной Наташа.
– Не думаю, – не глядя на нее, ответил я. – Если вы все нам здесь расскажете и, главное, назовете убийцу вашего мужа, то вас перевезут в Саппоро и поместят под домашний арест до окончания следствия. Ну а потом уже суд будет решать…
– А обойтись без этого задержания нельзя? Это же фарс какой-то! – не без удовольствия фыркнула она.
– Поверьте, Наташа, так будет лучше для вас же самой! – Я попытался как можно более ласково посмотреть на нее.
В эту секунду кто-то легко тронул меня за правое плечо, и я, повернувшись в сторону вторжения в мою личную жизнь, увидел распахнутые глаза сержанта Сомы.
– Извините, господин майор, – робко начал он, – но Ивахара-сан узнал, что вы приехали, и попросил вас через меня срочно зайти к нему.
– Срочно? – недовольно переспросил я.
– Срочно, – утвердительно кивнул он.
– Хорошо. – Я поставил последнюю закорючку в приемном бланке. – Проводите, пожалуйста, Китадзиму-сан в отдел дознания, я по этому поводу введу Ивахару-сана в курс дела.
Сома, держась на почтительном расстоянии от притягательного «спального объекта», повел ее в сумеречные закрома муниципального сыска, я же, проводив взором точеную фигурку сочной сэнсэйши, поспешил отправиться к срочно нуждающемуся во мне Ивахаре. В кабинете у майора наблюдалось необычное оживление: разглядеть за столом его хозяина было не так-то просто, поскольку перед ним сгрудились в кучу на стульях и креслах разнокалиберные четверо мужчин и три женщины. Судя по всему, между ними и Ивахарой шла долгая и не слишком плодотворная для каждой из сторон дискуссия на неведомую мне пока тему.
– Я вам в сотый раз объясняю: полиция Отару заниматься этим делом не может! – отбивался от семерых штатских закипающий под синим мундиром Ивахара.
– А кто же тогда этим делом должен заниматься?! – бил себя в обтянутую дешевой спортивной кофтой с начесом грудь, видимо, самый старший из собравшейся перед майором компании мужичок предпенсионного возраста.
– Не знаю! – закричал Ивахара. – Спасатели! Или служба безопасности на море! Но только не полиция!
– Вы охраной порядка занимаетесь, вы нам его и ищите! – заверещала в унисон мужичку средних лет дамочка. – Это же непорядок, когда человека дома который день нет!
– Да подождите вы! – рявкнул на них увидевший меня Ивахара. – Сидите смирно!
Он выпрыгнул из-за стола, явно обрадовавшись моему появлению, и, приобняв меня за плечи, вытолкал в коридор.
– Здравствуйте, Минамото-сан! – выдохнул он. – Слава богу, вы меня спасли!
– Что это за народное вече здесь у вас, Ивахара-сан? – кивнул я в сторону плотно закрытой майором двери в его кабинет.
– Это родня Катаямы!
– Какая родня? – не понял я.
– Дяди, тети, братья и сестры!
– Катаямы?
– Ну да! Ато Катаямы – мужа нашей с вами понедельничной Ирины! – Ивахара дико вращал выпуклыми глазами, которые грозили на очередном витке вырваться из-под набрякших от груза лет и ответственности майорских век. – Все взяли сегодня и приехали! Кошмар какой-то!
– Как приехали? Зачем?
– Так сегодня же среда!
– И?
– Что «и»?! – Ивахару явно раздражило мое непонимание критичности сложившейся ситуации.
– Это я спрашиваю: что «и»?
– Того, Минамото-сан, что сегодня в шесть утра полиция Ниигаты официально объявила Ато Катаяму в розыск как без вести пропавшего, вот они и примчались первым самолетом в Читосэ!
– А почему к вам-то? – Я на всякий случай при помощи лицемерного «к вам», то есть в его, майорский Отару, а не «к нам», то бишь на Хоккайдо, находящийся в моей юрисдикции, отрезал себя от него, поскольку приехал в Отару вовсе не для того, чтобы разбираться с многочисленными родственниками обладателя сахалинской красотки.
– Да они все в один голос орут, что эта самая Ирина их Ато в Ниигате убила, на паром в багажнике машины ввезла в виде трупа и в море утопила! Они уже в курсе всего того, что здесь в понедельник было!
– Откуда они могут быть в курсе? Они же в Ниигате были все это время! – Я завертел головой в такт ивахаровским зрачкам.
– Оттуда! – горько вскрикнул майор. – Оказалось, что наша с вами Ямада…
– Ямада?
– Да, Марико Ямада, тот самый божий одуванчик, что позавчера капитана парома…
– Парома?
– Да, «Тохоку-мару-восемнадцать», – напомнил мне Ивахара самое начало всей этой истории.
– На котором Ирина Катаяма приплыла?
– Ну да! Так вот, оказалось, что эта болтливая бабка не только капитана Игараси о предрассветных проделках Ирины информировала. – Почтением к нашим долгожителям Ивахара явно не отличался, сегодня, по крайней мере. – Она тогда же, в понедельник, позвонила своей ниигатской подружке и рассказала о том, что на палубе увидала, та пересказала эту историю еще кому-то… Короче, уже к обеду понедельника вся эта информация в лучшей упаковке была доставлена родичам Ато Катаямы! Ниигата – город маленький, на нашу с вами беду!
– Вот это, Ивахара-сан, и называется в нашем деле, как я понимаю, «оперативно сработать», да?
– Ага! – Глаза Ивахары на мгновение остановились.
– А от вас они хотят немедленно убийцу найти? – подсказал я майору дальнейшее направление его веселого рассказа.
– И это тоже, разумеется, – кивнул майор.
– А чего же вы тогда им заливали только что, что это не ваше дело? – осторожно поинтересовался я, подумав, не собирается ли трусливый и ленивый Ивахара переправить всю эту орущую братию-тётию в Саппоро, к нам в головной офис.
– Да они от меня уже третий час требуют, чтобы мы им тело достали! – Ивахара опять принялся раскручивать свои жемчужные зрачки. – Похоронить они его, видите ли, хотят по-человечески!
– Тело?
– Ну!
– Тело Ато Катаямы? – Я все еще не верил своим ушам.
– Разумеется!
– Они что, уверены, что его нет в живых?
– Конечно! – твердо, с собственной верой в данный печальный факт, ответил Ивахара. – Они утверждают, что он без вести исчезнуть не мог. Говорят, не в его это, дескать, правилах!
– И что тело?
– Достать требуют, проклятые! – Майор в сердцах так сильно тряхнул головой, что я инстинктивно дернулся к нему, чтобы не дать ей упасть на пол, если вдруг она оторвется от такого резкого рывка.
– Достать? – Я непроизвольно улыбнулся. – Достать из моря?
– Ну конечно! По их, да и по нашему с вами мнению, тело Ато Катаямы должно действительно находиться в море. Только вот район поисков настолько абстрактен, что даже заикаться о водолазной операции не приходится…
– Понимаю. – Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться от осознания перспективы того, как майор Ивахара и его подчиненные типа малахольного Сомы с утра пораньше дружно выходят на байдарках и каноэ в открытое море и начинают бороздить его в тщетных поисках затерявшегося в пучине бренного тела автомобильного дельца из провинциальной Ниигаты.
– Даже если он вдруг всплывет через пару дней, все равно у нас нет таких сил, чтобы организовать в море его поиск! Даже на поверхности! Для этого вертолетов одних три десятка потребуется! – посетовал майор.
– Ну рано или поздно его к берегу прибьет, – попробовал я успокоить разнервничавшегося не на шутку Ивахару.
– Ага, прибьет к берегу!… Как же! Через полгода и к северокорейскому! – съязвил он мне в ответ.
– Да пошлите вы их куда подальше! – посоветовал я ему.
– Пробовал! Не посылаются, проклятые! Кричат хором, что я на их налоги живу и что сейчас наконец-то наступил такой момент, когда они могут за свои налоги получить частичную компенсацию!
– Веселенькая история! – заметил я. – Налогоплательщики наши грустить не дают…
– Обхохочешься! – грустно согласился со мной Ивахара. – Что делать прикажете?
– Да ничего, Ивахара-сан. – Я решил воспользоваться внезапно предоставленной мне катаямовской родней возможностью пошуровать в ивахарской вотчине без него. – Продолжайте заниматься дипломатическими переговорами с этими буйными родственничками. Безусловно, ни о каких поисках Катаямы в море и речи быть не может. Мы даже не уверены до конца в том, убила его жена или нет. А я пока посмотрю здесь за гостями нашей саппоровской конференции.
– Они что, сегодня в Отару? – удивился майор, давая мне понять, что он был готов к их субботней встрече.
– Да, из-за гибели Селиванова-сана, да плюс еще убийства Китадзимы-сэнсэя, заседания сегодня отменили и всем желающим предложили посетить ваш город.
– Понятно. – Глаза Ивахары вернулись на прежнее место. – Я сводки вчерашние читал… Жуть какая-то в Саппоро по русской линии творится! А где, кстати, наша драгоценная Ирина Катаяма?
– Ею капитан Мураками сейчас занимается, но я полагаю, что тоже в Отару.
– Вы думаете, она сегодня уедет в Ниигату? – Успокоившимся глазам майора вернулись наконец-то спокойствие и рассудочность.
– Не думаю… Думаю, что если она приехала сейчас в Отару, то, скорее, для контактов с кем-то из причастных ко всем этим темным историям, – ответил я.
– Задерживать ее будете?
– Еще не знаю. Но пока на всякий случай я вам там одну русскую дамочку доставил! Позаботьтесь о том, чтобы с ней до моего возвращения ничего не стряслось. Я подъеду через пару часов, мы ее вместе с вами расспросим, и я ее в Саппоро отправлю.
– Что за дамочка? – встрепенулся Ивахара. – Хватит с меня этих русских девиц!
– Да она уже не девица, что, впрочем, ее только украшает, – проинформировал я Ивахару. – Мы с ней попозже будем разбираться, как я сказал, через пару часиков, когда я диспозицию с филологами уясню по Отару.
– Она что, тоже имеет отношение к исчезновению Катаямы? – прищурился недоверчивый Ивахара.
– Нет, к Катаяме она никакого отношения не имеет. Я подозреваю ее в соучастии в убийстве Хидео Китадзимы.
– Китадзимы?!
– Да, его.
– У него жена тоже русская, как я по сводке понял…
– Вот именно ее-то я вам и привез, Ивахара-сан!
Соню Ганина во дворе управления мне пришлось будить: сэнсэй спал завалившись на руль своего «галанта», являя тотальное равнодушие к окружающей его суете полицейских будней. До того как самому свалиться на соседнее сиденье, я успел позавидовать его способности отключаться хотя бы на несколько минут в любой ситуации. Моему тонко устроенному организму это почти никогда не удается, из-за чего десятичасовые перелеты, скажем, в Москву или на Гавайи оборачиваются для меня страшнейшей пыткой. А теперь и смотреть на сопящего в обе дырочки Ганина было тоже пыткой, потому как за последние трое суток я задолжал самому себе больше десятка часов благотворного сна. А бессонница, как известно, испепеляет человека, выжигает внутри него все доброе и разумное, оставляя только вечное недовольство и перманентную злобу.
– Вставай, страна огромная! – пробасил я ему в самое ухо.
– Надоел ты мне, Такуя, со своей патриотической работой и со своими смертными боями!… – вяло зевнул в ответ Ганин, отрывая локти от черного пластика послушного руля. – Чего такую рань ты меня, Такуя, поднял? Опять, что ли, смело мы в бой пойдем?
– Заводи свою таратайку и давай выдвигаться к «Майкалу», защитник советов!
– Мы ж там были только что, комиссар. – Ганин послушно повернул ключ в замке зажигания.
– Я там пару вещиц себе недокупил.
– А Наташа где? – с робкой надеждой спросил Ганин, выводя «галант» за пределы полицейской стоянки.
– В надежных руках, Ганин, – успокоил я его. – Цела будет твоя Наташа, не бойся!
– Хороша Наташа, да не моя она, Такуя, как и та Маша… – мечтательно вздохнул Ганин. – И не была никогда…
– Это к лучшему, Ганин, – сообщил я ему. – Твоя Саша в миллион раз красивее этой Наташи! Не говоря уж о характере! Разве нет?
– Разве да, – согласно кивнул он в ответ. – Я ведь, Такуя…
Договорить ему не удалось, потому что в моем нагрудном кармане заверещал сотовый. На дисплее высветилась фамилия Нисио, и я обрадовался в предвкушении получения информационной поддержки из центра по главным вопросам современности.
– Алло, Такуя! – прохрипел невидимый полковник.
– Я, Нисио-сан! Кто же еще!
– Ты в Отару? – проглотил мою формальную колкость строгий начальник.
– Да, в Отару. Только что сдал на хранение Ивахаре-сану Наташу Китадзиму, – бойко, сержантским тоном отрапортовал я.
– На хранение или на сохранение? – цинично переспросил Нисио.
– На сохранение ей, видно, уже не ложиться… – констатировал я печальный с демографической точки зрения факт. – Мы сейчас едем в «Майкал», куда должны из Саппоро наши филологи подъехать. Потом, когда вернусь, с Ивахарой-саном допросим ее под протокол и перевезем к нам, в Саппоро.
– «Мы» – это кто? – сердито спросил он.
– Я и Ганин-сэнсэй.
– Зря ты его с собой таскаешь, Такуя! – уже менее сердито, скорее по-отечески, нежели по-полковничьи, сказал Нисио. – Посади ты его где-нибудь кофе попить, пока с этими филологами разбираться будешь.
– Да не отвяжешься от него никак! – пошутил я и фамильярно качнул подбородком в сторону ухмыляющегося Ганина.
– Ладно, твое дело, – согласился со мной далекий Нисио. – Она, эта Наташа твоя, что-нибудь сказала?
– Не моя, а наша, – поправил я его. – Нет, не сказала, но, я уверен, Нисио-сан, это вопрос времени. Упираться долго не будет, она интеллигентный человек… У вас для меня есть информация?
– Затем и звоню! – обиделся полковник.
– И раз мое известие о задержании Наташи у вас начальственного гнева не вызвало, значит, новости не в ее пользу, так понимаю? – всегда, даже на расстоянии полусотни километров, не следует упускать возможности напоминать начальству о своей проницательности и сообразительности. – Так чего там ребята накопали?
– По Наташе следующее, – кашлянул мне в ухо Нисио. – Риелторская компания, фотографию которой… названия которой фотографию то есть… привез ты в телефоне… Надо же! Фотография в телефоне!…
– Что по Наташе? – перебил я ошарашенного успехами нашей электроники деда, еще десять лет назад не ведавшего, что такое компьютер и с какой стороны его едят. – И по ее риелтору что?
– Компания надежная, с хорошей репутацией, – вернулся к отчету Нисио. – «Саппоро Лэнд» называется. Китадзима-сан обратилась к ним по телефону в прошлую субботу, попросила подъехать и оценить ее дом. О сроке тогда разговора не было. Она взяла у одного из менеджеров, которые у них за Айно-сато отвечают, телефон и неожиданно для него позвонила сегодня рано утром. У риелторов сейчас времена не самые сахарные, так что парень руки в ноги и поскакал к ней.
– Кто с ним говорил?
– Я сам ему звонил, – поведал Нисио, подчеркнув тем самым важность ситуации.
– И что он вам сказал?
– Сказал, что она сегодня утром, то есть, как я понимаю, после того, как вы с Ганиным уехали, показала ему дом и попросила рассмотреть возможность продажи.
– Чем-нибудь она это ему объяснила?
– Нет, конечно, – хмыкнул Нисио. – Сам понимаешь, не риелторское это дело – такие вопросы задавать.
– Сам понимаю… – подтвердил я. – Во сколько он дом оценил, он не сказал?
– Он не сказал, но я его шефу перезвонил, – самодовольно сообщил полковник, – объяснил, что дело исключительно серьезное, что все другие риелторы с правоохранительными органами тесно сотрудничают, значит, и «Саппоро Лэнд», если не хочет из колеи выбиваться, должна помогать нам вести расследование убийства.
– Они что, про убийство ничего не знали? – удивился я.
– Нет, и Наташа своему гостю ничего сегодня утром не сказала. Так вот директор мне сообщил, что его сотрудник сегодня ей заниженную цену выдал – у них, у риелторов, так принято народ дурачить – двадцать миллионов иен. Себе они десять процентов от продажной цены берут. Но реально, как он мне сообщил, его компания миллионов за двадцать пять – двадцать семь этот дом продать сможет.
– Значит, у Наташи Китадзимы, не считая сбережений, еще двести тысяч долларов в руках может оказаться, – констатировал я очевидный факт. – Неплохие деньги…
– Ну да, богатая баба!… – согласился циничный Нисио.
– Это все?
– По Наташе да, – ответил он.
– А по кому нет?
– Ну, у тебя же теперь две зазнобы! – напомнил мне о существовании Ирины Катаямы ехидный старикан.
– А что по Ирине?
– По ней дело с утра пошло быстрее, потому как семьдесят два часа прошло, прокуратура стала все ордера подписывать, и Наката наш только что из банка «Мичиноку» вернулся.
– На коне и со щитом, надеюсь? – Я этого молоденького лейтенанта Накату знаю плохо: он недавно у нас, но на всякий случай авансом сделал ему боевой комплимент.
– На ишаке и с бумажкой! – натянуто пошутил Нисио.
– И что на бумажке написано?
– Суммы вчерашних переводов подтверждены, деньги действительно остались в системе «Мичиноку» и за пределы Японии не вышли.
– Не тяните душу, Нисио-сан! На чей счет она их перевела? – Любит этот проклятый Нисио тянуть волынку, когда ситуация требует свингового саксофона.
– Да ты и сам небось догадываешься, Такуя! – продолжил вместе с волынкой тянуть из меня душу, обмотанную жилами, веселый полковник. – Нетрудно догадаться-то!
– Понятно, – буркнул я. – К этим счетам доступ из России есть?
– Конечно, – подтвердил мои догадки Нисио. – Во всех трех отделениях – в Москве, в Хабаровске и на Сахалине – с них можно без проблем свои японские деньги получить.
– Все?
– Теперь вроде все. – Нисио еще громко кашлянул мне в ухо. – Ты там ивахарскими ребятами обойдешься или тебе подкрепление, прислать?
– Думаю, обойдусь, Нисио-сан! – Я нажал кнопку отбоя аккурат в тот момент, когда Ганин завел «галант» в сумеречное чрево левиафаноподобной «майкаловской» стоянки.
– Как стемнеет, будем брать, – брякнул он, вглядываясь в паркинговый полумрак в поисках свободного места.
– Знать бы только кого, Ганин, – лицемерно отреагировал я на его очередную цитату.
– Если уж даже я знаю, то ты-то и подавно, Такуя! – Ганин не может и дня прожить, не напомнив мне о том, что его ни на мякине, ни на мякише не проведешь. – Не набивай себе цену, а лучше подумай, как жить дальше, лицемерный ты наш!
– Дальше? Дальше, Ганин, раз ты говоришь про «жить», пошли искать женщину!
– Линду Хант твою, что ли? – брезгливо поморщился главный эстет и закоренелый женолюб всей федеративной России и императорской Японии Ганин.
– Линда Хант, как я, Ганин, полагаю, – теоретически, разумеется, чисто умозрительно – девушка. Я же говорю о настоящей женщине – молодой, красивой, полной сил и энергии…
– … достаточных для того, чтобы без посторонней помощи вытащить из багажника труп собственноручно убиенного супруга и выкинуть его за борт белоснежного лайнера, – быстренько подхватил и окончательно сформулировал мою мудрую мысль догадливый сэнсэй.
– Именно так, Ганин! Найдем эту женщину, найдем и девушку нашу, – пообещал я ему. – Черешня от вишни далеко не падает!
Мы вышли из пахнущей автомобильными выхлопами и прорезиненным бетоном пещеры на свет божий – прямо на второй этаж залитого светом торгового зала супермаркета в левом крыле комплекса. Не добрались мы и до его середины, как впереди послышался вой сирен – то ли пожарных, то ли «скорой».
– Это «з-з-з» неспроста, – серьезно заметил Ганин, и мы синхронно кинулись вперед.
Преодолеть карьером и галопом более чем километровую длину заполненного праздным народцем торгового центра оказалось для нас не так-то просто, благо из-за наших с Ганиным габаритов нам приходилось то и дело останавливаться и извиняться перед задетыми нашим широкоплечим сиамским тандемом ротозеями. Чем ближе мы подбирались к северному концу широкого коридора, нанизавшего на себя бесчисленные бутики и кофейни, тем беспокойней становилась аура пространства. Когда мы потной рысью выскочили на пандус под навесом, соединяющий основное здание с железнодорожной станцией, то увидели слева, прямо у касс колеса обозрения, огромную толпу. Судя по тревожному гулу, который она издавала, а также по примешанным к нему сиренам двух «скорых», стоящих под пандусом, собрался народ не для развлекательных поездок на чертовом во всех отношениях колесе. Мы с Ганиным остановились на секунду, чтобы оглядеться и сообразить, куда двигаться дальше, как вдруг из-за наших спин выскочил десяток добрых молодцев в синей униформе, один из которых притормозил подле нас и обрел скромные черты все того же сержанта Сомы. Он явно был не готов увидеть здесь меня с Ганиным и теперь замер, раздираемый болезненным противоречием между желанием продолжить свой коллективный забег на первенство управления полиции Отару и долгом задержаться около меня как старшего по званию и, как этого требует приличие, внятно доложить обстановку.
– Что там, сержант? – Я постарался побыстрее вывести его из служебного оцепенения.
– Там… – Сома перехватил дыхание, собрался с силами и выплюнул наконец: – Там эта русская разбилась!
– Наташа?! – крикнули мы хором с Ганиным: я – с неподдельным удивлением, он – с искренним ужасом.
– Наташа? – переспросил Сома уже гораздо спокойнее.
– Китадзима-сан! – подсказал я ему искомое слово.
– Нет, Китадзима-сан у нас в управлении, – Теперь настала очередь Сомы удивляться и недоумевать. – Вы же ее сами только что к нам привезли, господин майор!
– Да кто разбился-то?! – Мне не понравилась идея сержанта направить меня в путешествие по волнам моей памяти, которое может затянуться на несколько часов, а то и дней.
– Ирина эта позавчерашняя! – наконец-то выдал Сома нужную, но уж больно нежеланную информацию.
Мы втроем с большим трудом продрались сквозь монолит не страдающих отсутствием любопытства и свободного времени в разгар рабочей среды наших с Сомой сограждан, по дороге заметив примешанных к ним крупногабаритных особ обоих полов европейской наружности – явно тех самых участников филологического форума, лишившихся сегодня удовольствия послушать что-нибудь сверхзаумно постструктуралистическое про Дмитрия Александровича Пригова или В. Ерофеева, что бы первое «В.» ни означало. Ближе к эпицентру событий я краем глаза разглядел в толпе и высокого Заречного, и стоявших метрах в пяти от него, шушукавшихся Нину-Марину. Под чертовым колесом сгрудилась кучка людей в белых халатах и синих мундирах, из которых штатской вороной высвечивалась малюсенькая, облаченная в детский фиолетовый пиджачок и свои коронные широченные коричневые штаны Аюми Мураками. – Что там? – Я положил руку на ее узкое плечо.
– Ирина, – тихо, задумчиво ответила она, не выразив никакого удивления по случаю моего внезапного появления.
Я оставил Ганина позади себя и, размахивая служебной бляхой, протерся к бетонному пятачку, который обступила бело-синяя когорта блюстителей порядка и здорового образа жизни.
Первое, что меня обрадовало, – это то, что не было крови, да и видимых следов падения тоже. Она лежала на правом боку, затылком к морю, выставив на всеобщее обозрение обтянутое голубой джинсовой тканью тугое бедро. На ней была коричневая кожаная куртка, волосы собраны в изящный хвостик, и золотая шейная цепочка тонкой змейкой вытекала из-под точеного подбородка на холодный бетон. Только после очередной вспышки полицейского фотографа я разглядел предательски выползающую из-под правой, невидимой мне щеки густую жижу давно знакомого бордово-бурого цвета.
– Я так и не нашла ее… – вздохнула Мураками. – Даже подумать не могла, что она на колесе будет кататься.
– Когда это случилось? – задал я идиотский в данной ситуации вопрос, на который, спохватившись, сам же попытался ответить: – Минут десять назад, да?
– Где-то так, – качнула Аюми своей безнадежно лохматой головой. – Или двенадцать…
– Свидетели есть?
– Вон их сколько! – Мураками стрельнула по толпе дождавшихся наконец-то зрелищ сытых обывателей.
– Сколько она падала?
– Говорят, где-то с половины последней четверти. – Мураками задрала голову на продолжающее вращаться у нас над головами колесо, которое грустно поскрипывало на морском ветру пустыми кабинками. – Надо опрос свидетелей начинать…
– Конечно! – согласился я с ней и огляделся по сторонам. Ганина нигде не было, из знакомых русских лиц в поле моего зрения попали только бледные Нина с Мариной, и я, раздвигая полицейских и врачей, колдовавших над трупом, двинулся к ним.
– Здравствуйте! – обратился я к ним, чуть было не добавив коронное ганинское «девушки».
– Здрасте, – хором отозвались они и растерянно завертели головами, словно выискивая кого-то в толпе.
– Вы все это видели, Нина Борисовна? Марина Валентиновна?
– Нина Валентиновна я! – буркнула одна из толстушек-хохотушек. – А она Марина Борисовна!
– Извините, запамятовал! Так вы что-нибудь видели?
– Да как же! – всплеснула руками Марина Борисовна. – Мы же все кататься стали, как приехали…
– А она… – перебила ее Нина Валентиновна, указав глазами на накрытое теперь уже белой, увы, не постельной, простыней тело Ирины. – Она уже здесь была, у касс, когда мы подошли…
– Она одна была? – спросил я.
– Одна, – кивнула Нина Валентиновна.
– Она, видно, как услышала, что мы русские, к нам и пошла, – добавила Марина Борисовна. – Их тут много таких, в Японии, которые замужем за японцами, по-русски тыщу лет не говорили. Им скучно здесь, они к нам и липнут!…
– Дальше что было? – Я постарался ускорить процесс выбивания требуемой информации из необъятных тел русских филологинь.
– Ну, мы поехали, нам уже билеты вручили, – продолжила Марина Борисовна. – А Олег с ней как раз задержался, внизу, он ей, как мы поняли, понравился…
– Она девка видная, стройная, не то что мы с Маринкой – коровы! – порадовала вдруг меня своей неожиданной самокритичностью Нина Валентиновна.
– О чем они говорили?
– Да вы у Олега спросите! – мудро посоветовала мне Марина Борисовна. – Мы-то думали, они как раз вместе поехали, в одной кабинке то есть, а оказалось вон как!
– Как оказалось? – переспросил я.
– Кто ж знал, что она суицидная! – пояснила Нина Валентиновна. – А Олег, наверное, в другой кабинке поехал…
– Почему вы так думаете?
– Ну если б они вместе поехали, разве он дал бы ей упасть? Сами подумайте! – опять всплеснула руками Марина Борисовна.
– Вы с ним с самим поговорите! Он же лучше расскажет! – вновь дала бесплатный совет теперь уже Нина Валентиновна.
– Да, они стояли здесь, внизу, и разговаривали, – подтвердила правоту слов своей подруги Марина Борисовна. – Вы Олежку спросите, он все и расскажет!
– Его нет нигде!… – заполз ко мне в левое ухо змеиный шепоток Ганина. – Тю-тю наш Олежка!
– Как «тю-тю»?! – Этого мне еще не хватало! – Он же только что здесь был!
– Был да сплыл! – зло прошипел Ганин. – Вон море рядышком, кораблей навалом!…
– Он же секунду назад здесь стоял! – Я все еще не мог прийти в себя от такой страшной оплошности.
– Не секунду, а две минуты! – уточнил Ганин. – Я его заприметил и отслеживать начал. Он сначала действительно вон там в толпе стоял, а потом раз – и все! Нету его, пустое место, причем оно, как известно, долго пустовать не может! Толпа сомкнулась, и Заречный того!
– Подожди, Ганин! – Я поклонился филологическим «девушкам» и отвел за локоть Ганина подальше от толпы. – Давай соображай, куда он мог дернуть?
– Машина? – предположил Ганин.
– Сюда он на автобусе вместе со всеми приехал, – возразил я ему. – Хотя права у него просроченные имеются.
– Ты думаешь, он по ним вчера машину напрокат взял, чтобы к Китадзиме до семи поспеть?
– Именно так! В прокатных конторах пацаны работают, Ганин. А тут тем более гайдзин, да с настоящими японскими правами! Не то что другие там с международными приходят! Они его небось как увидели с правами – обомлели сразу и на срок действия удостоверения и не посмотрели даже. Понимаешь?
– Понимаю! – кивнул Ганин. – Так где тогда эта машина?
– Полагаю, что сдал он ее. Зачем ему такой хвост за собой долго таскать? Сегодня утром, под видом пробежки, и сдал. Это проверить пара пустяков и пяток фигулин!
– Логично, – согласился задумчивый Ганин. – Тогда, может, угон? Тут вон столько тачек стоит! Хозяева на шоппинге время прожигают. Пока хватятся – он уже в Саппоро будет.
– Не думаю, Ганин, – возразил я логичному сэнсэю. – Он же умный, он же соображает, что все три дороги на Саппоро – и скоростную, и «пятое» шоссе, и через перевал – мы перекроем в момент. До Саппоро ему не доехать!
– А если на юг, по «пятому»? На Хакодатэ?
– И «пятерку» сейчас перекроем! – Я стал набирать по сотовому номер Нисио. – И потом, что ему делать в Хакодатэ?
– Как что? – взвился Ганин. – Там же аэропорт! Два рейса в неделю на Южно-Сахалинск!
– Только по понедельникам и четвергам. А сегодня среда, да и как он намерен в самолет попасть? Думай чего говоришь, Ганин!
Я начал объяснять огорошенному печальным известием о гибели Ирины Прекрасной Нисио ситуацию и требовать от него срочно вводить карантины на всех выездах из Отару, подъездах к Саппоро и дороге на Хакодатэ. Через минуту разговора Ганин вдруг затряс меня за левую руку, да так сильно, что я едва не выронил мобильник, и из его бешеных глаз куда-то мне за спину посыпались сверкающие молнии.
– Чего тебе, Ганин? – Я извинился перед Нисио за срочную нужду выслушать своего ученого друга, способного в критической ситуации выдавать чего-нибудь не только рациональное, но и талантливое. – Чего ты?
– Поезд! – Ганин мотнул головой опять мне за затылок. Я оглянулся: прямо за нами поблескивал стеклянными дверями вход на железнодорожную станцию, пристроенную к «Майкалу» сразу после его открытия, с тем чтобы ленивый и нежный хоккайдский народ мог даже в суровую зимнюю пору приезжать сюда в легкой одежде, чтобы не преть в натопленных торговых залах в куртках и пальто, а прямо из электрички нырять в пучину тотального консьюмеризма и прожигания жизни.
– Поезд! – еще раз прокричал Ганин. – Понимаешь, Такуя!
– Ты считаешь, что он на поезде в Саппоро поедет?
– По крайней мере!
– Пойдем посмотрим! – кивнул я Ганину в сторону дверей.
На самой станции было немноголюдно, но внизу на платформе довольно плотная толпа насладившихся шопинговым раем и уже реализовавших свой сегодняшний семейный бюджет граждан штурмовала только что подошедший состав. Я мельком взглянул на расписание, которое мне тут же поведало о том, что предыдущая электричка на Саппоро ушла сорок пять минут назад, что, собственно, и объясняло такое большое количество жаждущих уехать в стольный град.
– Если он поедет в Саппоро на поезде, Ганин, то только на этом, – заключил я.
– Так чего ж ты стоишь тогда, Такуя?! – закричал Ганин. – Это ж проходящий! Тут же не конечная! Он с отарского вокзала сюда идет! Давай вниз!
Мы ворвались в тамбур последнего вагона подобно паре потрепанных Лаокоонов – плечами и предплечьями разодрав тугую резину смыкавшихся перед нашими носами дверей. Электричка мягко тронулась, и я решил перевести дух, с ним же, с духом, собраться и, перед тем как отправляться в вояж по вагонам, договорить по сотовому с Нисио, поставить в известность Ивахару, а также потребовать от Мураками, чтобы она собрала в управлении всех свидетелей и опросы россиян начала бы проводить лично до моего возвращения, не доверяя сей деликатный процесс лингвистическим девственникам типа сержанта Сомы. Только после выполнения всех этих пунктов спонтанно сложившегося плана я указал Ганину место у себя за спиной и первым выдвинулся в горячую духоту вагона.
В поезде не только не было свободных сидячих мест, но и в проходах и тамбурах особого простора не наблюдалось. Я не стал занимать свою голову думами о том, почему это в разгар буднего дня мои сограждане предпочитают в массовом порядке разъезжать на пригородных поездах, а не трудиться в поте лица и тела на благо нашей японской родины, – сейчас меня занимала не критика сограждан, а поиск злого гайдзина. Однако через двадцать минут нашего с Ганиным пластунско-постеночного рейда по всем бесконечным девяти вагонам элементарной электрички выяснилось, что предпринят он был напрасно. Ни Заречного, ни вообще иностранцев, кроме кряхтевшего у меня за спиной Ганина, в поезде не оказалось. Мы трижды задерживались у запертых дверей туалетов, терпеливо дожидались раскатов и грохота водопадов с последующим щелканьем запорных щеколд, но каждый раз нас ожидало разочарование в лице, точнее, с лицами то прыщавого старшеклассника в пуленепробиваемой школьной форме, то курносой девчушки неопределенного возраста с двумя серебристыми серьгами в левой ноздре, то симпатичного пенсионера в старомодных золотых очках с верхними дужками из толстой коричневой пластмассы над каждым из стекол.
Когда мы уткнулись с Ганиным в кабину машинистов, поезд уже проехал Соэн – предпоследнюю перед центральным вокзалом станцию, и подползал к конечной цели своего скоротечного пути. Я дал по мобильному отбой на встречу нас на вокзале Саппоро с цветами и наручниками и сообщил Нисио, что наш с Ганиным железнодорожный проект потерпел фиаско. Через минуту толпа вынесла нас на саппоровский перрон навстречу такой же по размерам толпе, жаждущей поскорее занять освобождающееся пространство. По этому встречному движению, а также по тому, что половина из севших в Отару пассажиров даже не подумали оторвать свои крепкие, тугие зады от темно-синего бархата сидений, я догадался, что это одна из тех электричек, которая выходит из Отару на Саппоро, но здесь, в Саппоро, претерпевает метаморфозу, превращаясь в поезд Саппоро – Муроран или Саппоро – Ивамидзава. В данном случае, как бесстрастно извещало всех желающих электронное табло над нашими бестолковыми головами, мы с Ганиным покинули электричку Саппоро – Читосэ.
Нам с моим другом синхронно взгрустнулось, и мы, как истинные изгои и парии, решили дать толпе стечь под платформу, во чрево вокзала, и уже только потом повлечься в город. Поезд быстро наполнился, перрон, напротив, опустел, и за нашей спиной произошла смена бригады. Двое мужиков, облаченных в мерзко-коричневого цвета костюмы, такие же фуражки и кожаные сандалии, вывалились из кабины, уступив место паре своих близнецов, и потопали к спуску с платформы. Электричка зашипела дверями и заскрежетала по рельсам по направлению к Читосэ. Мы с Ганиным тоже тронулись с места и на лестнице нагнали отработавших свой скоротечный рейс машинистов, которые вели негромкую и неторопливую беседу.
– …Смешной мужик, да? – говорил первый.
– Ничего, забавный! – соглашался с ним второй.
– И по-японски немножко может, да?
– Не очень, конечно, но разобрать, чего он хочет, можно вполне! Я так по-английски не могу!
– А он чего, думаешь, американец?
– Ты, Ганин, давай-ка подумай, как нам твой «галант» тебе вернуть. – Я повернулся к остановившемуся вдруг на ступеньке сэнсэю.
– А ты, Такуя, лучше послушай, о чем, вернее, о ком эти локомотивщики говорят! – воскликнул Ганин, указывая на спины только что миновавших нас машинистов.
Тут только до меня дошел смысл пойманных ухом, но не пропущенных ни через мозги, ни через сердце слов.
– Извините! – Мы кинулись к ним, и я на ходу извлек из кармана свой служебный жетон в кожаном «переплете». – Я из полиции! Можно вас на минутку!
– Чего такое? – буркнул один из них.
– Вы что, сейчас в своей кабине кого-то везли?
При этих моих словах они дружно переменились в лице и сразу как-то скисли и опали.
– Не беспокойтесь! – поспешил я их успокоить. – Я не собираюсь об этом сообщать вашему начальству. Нас интересует только тот иностранец, которого вы везли.
– Ну иностранец, – опять буркнул один из них.
– Ну везли, – согласился с ним второй.
– Из Отару? – спросил я.
– От «Майкала».
– Высокий, красивый, средних лет, да? В хорошем пиджаке, очки узкие, затемненные, да?
– Вроде да…
– Что он вам сказал?
– Сказал, что никогда на японском поезде не ездил. Попросил в кабину пустить, чтобы на дорогу из переднего окна посмотреть. А нам чего? Нам не жалко! А что мы у него билет не проверили, так это…
– Да подождите вы с билетом! – остановил я его. – А где он вышел? На какой станции?
– А он не вышел, он дальше поехал, – обрадовал нас с Ганиным машинист.
– Как – дальше?
– Так, дальше. Этот поезд сквозной, на Читосэ. Он нас поблагодарил, подождал, пока народ рассосется, и в вагон пошел. Мы на перрон, он – в вагон, обычное дело…
– В Читосэ поехал! – констатировал Ганин. – В аэропорт!
– Там сегодня сахалинский рейс есть?
– Нет, рейс на Южно-Сахалинск там по воскресеньям. Но есть шанхайский и, по-моему, еще на Сеул…
– Поезд ваш – экспресс или с остановками идет? – спросил я растерянно топтавших нижние ступени широкой лестницы машинистов.
– Экспресс, – ответил один из них и посмотрел на свои часы. – В Син-Саппоро остановка только через две минуты. Потом сразу Читосэ…
Ехать в Отару за своим «галантом» и тем более пассивно ждать его в управлении, благо Ивахара по телефону предложил свои услуги по перегонке его в Саппоро кем-нибудь из своих подчиненных, упрямый Ганин наотрез отказался, и мне пришлось умолять Нисио разрешить сэнсэю вылететь с нами в аэропорт. Взлетать с крыши здания главного управления полиции Хоккайдо мне еще ни разу не доводилось. Строение новое, суперсовременное, оборудованное всем, чем только можно оборудовать казенный небоскреб за счет средств налогоплательщиков, включая вертолетную площадку на крыше. Наши ребята ею практически не пользуются – так только, чтобы перевезти в аэропорт тайком от газетчиков и телевизионщиков какого-нибудь депутата-коррупционера или тяжелораненого бойца невидимого фронта, спасти жизнь которому могут только в Токио.
Сейчас же иного выхода не было: пока мы доскакали с Ганиным с вокзала в управление, Нисио успел поднять на ноги все три оперативные бригады, словно ловить нужно было не одного Заречного, а целую армию вооруженных отморозков, а также добиться у начальства разрешения отправить меня и пятерых оперативников в аэропорт на вертолете. Машины в данном случае не спасали. Собственно, беспокоиться за результат теперь не приходилось: все было только делом времени и техники. Деваться в аэропорту Заречному некуда – через десять-пятнадцать минут он будет нашпигован нашими ребятями из Читосэ, затем явимся мы, а через полчаса подъедут и опергруппы, которые полетят на крыльях любви к человечеству по скоростной магистрали на не менее скоростных джипах со скоростью звука и света, вместе взятых.
Едва шасси дрожащего брошенным на произвол экологической судьбы осиновым листом вертолета оторвалось от нагревшегося за день бетона крыши, я вдруг ощутил то же предательское чувство, которое испытал в понедельник, когда сдуру решил прокатиться на «майкаловском» чертовом колесе вместе с ивахаровским Сомой. Одно потянуло другое, и через мгновение, отстраненно наблюдая сквозь толстый пластик под ногами удаляющуюся твердыню, я вдруг почувствовал весь тот ужас, который должна была пережить час назад Ирина Катаяма. Меня несколько успокаивало то, что я сейчас двигаюсь не сверху вниз, а в обратном направлении, но страшная сила пускай секундного, но все-таки четкого понимания неотвратимости близкого конца долбила мое взвинченное синхронно гигантскому винту над головой сознание – сознание того, что ни бешеные миллионы долларов и иен, ни приторная, ослепляющая радость точечного пика постельных услад, ни ощущение безграничной власти над зависящим от тебя и твоей плоти человеком не стоят ровным счетом ничего, когда до шершавого, неколебимого бетона остаются сперва метры, затем – сантиметры и после – миллиметры. Чтобы отвлечься от безотчетного страха высоты и заглушить растущее свербение в паху, я постарался задуматься над тем, ради чего, собственно, лежащая сейчас в анатомичке отарской полиции русская красотка затеяла всю эту игру. Чего ожидала она в конце пути, на который ступила, снисходительно согласившись на роль «спального объекта» при так и не увиденном мной Ато? Если в этом ее первом шаге был только жесткий расчет, не стал ли сегодняшний ее полет закономерным итогом ее житейских притязаний?
– А Селиванова-то он за что кокнул? Как думаешь? – прокричал мне в правое ухо явно не испытывавший никаких проблем в нижней части живота Ганин.
– Как за что? – Я искренне обрадовался тому, что Ганин отвлек меня от философских мыслей и, как это ни каламбурно звучало на полуторакилометровой высоте, вернул меня на землю. – Селиванов же сам нам говорил о разных там тайнах личной жизни… Вот, видно, обнародование этих тайн в планы Заречного не входило!
– А Ирину-то он за что? Красивая девка была! – посетовал ничуть не выбитый из седла подъемом в стратосферу Ганин.
– А зачем ему она, Ганин! – прокричал я ему в самое ухо, пытаясь собственным криком и сменой темы оттеснить весь ужас, обуявший нижнюю половину моего тела.
– Тоже верно! – кивнул он в ответ. – За ее миллионы он себе в Москве покрасивей и, главное, поумнее найдет!
– Не найдет! – поспешил разочаровать я наивного земляка Олега Валерьевича.
– Ты думаешь? – Ганин недоверчиво взглянул на меня.
– А чего тогда мы сейчас с тобой в аэропорт премся, а?
– Ну, может, кофе попить? – робко предположил сэнсэй.
– Ты-то действительно там будешь кофе пить, – предупредил я его, – а мне вот немножко побегать придется!…
– Побегай-побегай, Такуя! Тебе полезно! – отозвался ехидный Ганин. – Чем на вертолетах-то на казенных разъезжать!…
Если сказать, что приземление на вертолетной площадке аэропорта Читосэ принесло мне избавление от мук и страданий, значит, не сказать ничего. Есть у русских замечательный глагол – «ухайдакаться». Меня ему сначала отец обучил, когда пытался мне различие склонений русских существительных втолковать, а затем и Ганин, который регулярно «ухайдакивается» на уроках в нашей полицейской школе, курсанты которой ни в какую не хотят вестись на разницу в окончаниях предложного падежа единственного числа между существительными первого и второго склонения. Причем когда доходит дело, время и руки до откровений типа наличия в русском языке еще и третьего склонения, сэнсэй ухайдакивается еще больше, потому как втиснуть сей природный факт в косные мозги будущих наших Шерлоков Холмсов и комиссаров Мегрэ ему редко когда удается.
Короче говоря, из вертолета я выпал ухайдаканный до предела, и если бы не ответственная задача, поставленная перед моим мужским честолюбием, я бы немедля пополз в ближайший туалет, где вернул бы природе часть преподнесенных мне за последние двенадцать часов даров. Но обстановка требовала собрать волю и кишки в железный кулак, изобразить на лице нечто напыщенное и значительное и выслушать не самый подобострастный доклад встречавшего нас под винтом злополучного вертолета капитана, командовавшего опергруппой, которая к нашему прилету уже успела блокировать аэропорт. Как только мы через служебный вход прошли в здание аэровокзала, я приказал Ганину отправляться в какой-нибудь ресторан или кафе и накачаться там за меня и за того парня кофеином. Ганин грустно вздохнул и поплелся восвояси, а я переключился на капитана:
– Что по зданию, капитан?
– Сто сорок человек рассредоточены по всем уровням, господин майор, – отрапортовал капитан.
– Вылеты разрешены?
– Здесь проблема возникла, господин майор… – замялся он. – Дирекция аэропорта умолила нас не отменять рейсы…
– Еще бы они согласились! – Я посчитал нелишним подыграть растерянному капитану.
– Мы перекрыли все проходы в зал вылета, зал прилета также блокирован, так что задержание вашего подопечного – дело двадцати – тридцати минут.
– По поездам что?
– Пока информация от вас дошла, мы пропустили три электрички. Остальные проверялись по прибытии. Иностранцы есть, но вашего Заречного мы, видимо, прозевали раньше.
– Ничего, капитан. – Я еще раз его подбодрил. – Никто же не виноват в том, что Читосэ так близко от Саппоро! Пойдемте посмотрим, как ваши ребята работают!
– А ваши бойцы что? – Капитан покосился на прибывшую со мной великолепную пятерку.
– Насколько мы знаем, Заречный не вооружен, так что это, скорее, военный парад. Пускай здесь остаются, – указал я капитану на служебную подсобку, числящуюся за дислоцированным в Читосэ взводом муниципальной полиции, – а мы давайте выйдем в свет!
Внешне в аэропорту ничего о критической ситуации не говорило: сотни бестолковых пассажиров суетились в магазинчиках сувениров и тосковали в кофейнях, и все они были японцами. Редкий иностранец тут же привлекал наши с капитаном взгляды, но через мгновение мы оба разочарованно смотрели уже друг на друга.
– В Россию сегодня рейсы есть? – на всякий случай спросил я капитана, поймав себя на мысли, что даже не удосужился до сих пор поинтересоваться его фамилией (он, впрочем, тоже не спешил представляться).
– По расписанию нет, но через десять минут на Южно-Сахалинск вылетает чартер.
– Какой чартер? – Я не люблю неожиданностей: любая непредсказуемость или непредвиденность нарушает мое внутреннее равновесие, а разрушение гармонии не менее болезненно, чем срывание всех и всяческих масок.
– Да я сам толком не понимаю! – посетовал капитан. – То ли «Эксон», то ли «Сахалинская энергия»… Короче, нефтяники сахалинские – американцы, англичане, голландцы – к нам почти каждый день чартеры гоняют… Сейчас вот обратно летят. Они сюда или в гольф играть прилетают, или в горячих источниках попариться. Там, на Сахалине-то, как я понимаю, всех этих излишеств нет, а у нас… Но вы не беспокойтесь, господин майор! Мы, конечно, поначалу думали этот рейс стопануть – на Россию все-таки, вашему Заречному сам Бог велел на него стремиться. Но потом решили: чего зря американцев с голландцами нервировать. В международном секторе у меня тридцать человек сейчас! Так что никто не проскочит! Да и вряд ли он туда сунется! Вообще деваться-то здесь некуда. Оба сектора – и прилета, и вылета – от внешнего мира изолированы. На входах и выходах по три-четыре моих бойца. Если сунется, на вылет напрямую или через прилет, то все равно ему никуда от нас не деться. Скорее всего, если он у вас, как в ориентировке написано, действительно умный и тонкий, его здесь, в аэропорту, и нет вовсе.
– Логично, капитан, – кивнул я ему в знак согласия. – Но береженого, как известно, берегут все придуманные человечеством боги и божки, так что давайте-ка прогуляемся до международного сектора. Не против?
– Конечно, нет! – искренне ответил капитан. – Давайте прогуляемся! Я с удовольствием!…
Но дойти до международного сектора, отодвинутого нашими ксенофобами в дальний закуток левого крыла огромного здания аэропорта Читосэ, кстати носящего благодаря этому закутку статус международного, нам с капитаном было не суждено. Едва мы прошли через центральный зал с безмятежно растущими под его прозрачным куполом в синтетическом окружении стекла и никеля нашими родными хоккайдскими березками, как на груди у капитана захрипела рация.
– Всем номерам! Всем номерам! – рыгал в микрофон невидимый боец невидимого фронта. – В ресторане «Роял Тайгер», третий этаж, драка! Оба дерущихся – лица иностранной наружности! Всем ближайшим номерам выдвинуться в зону ресторана! Повторяю…
Повторять нам с безымянным капитаном было не нужно, тем более что мы только что миновали винтовую лестницу на третий этаж, к которой поспешили вернуться. Для того чтобы взлететь наверх, в широкую ресторанную галерею, опоясывающую по балюстраде весь центральный зал второго этажа, капитану потребовалось три секунды, а мне, к моему стыду, покраснению щек и легкой одышке, не меньше десяти. Ресторан «Роял Тайгер» оказался довольно большим, обращенным огромными окнами ко взлетной полосе и, несмотря на послеобеденное время, изрядно заполненным поклонниками холодного пива и горячего риса. На затылках посетителей, повернутых к нам с капитаном, читалась некоторая озабоченность ситуацией в дальнем левом углу, где за кассовой стойкой начинался узкий проход в кухню. Мы бросились именно туда, куда были обращены обратные стороны трех десятков черных затылков моих соотечественников, и, как только нам удалось благополучно, не задев никого из посетителей и ни один из столиков, миновать обитаемое пространство, в мои уши выстрелил залп отборного русского мата.
Вообще-то мой друг Ганин матерится редко, да и бессмысленно это делать у нас, в Японии, где мата как такового нет и в ближайшие столетия не предвидится, если только наш северо-западный сосед не потребует в обязательном порядке введения в наш обиход японского мата, скопированного с мата русского, в обмен на дармовые нефть, газ и электричество. Тогда, кстати, у Ганина не будет никаких финансовых забот и материальных проблем, ибо кому, как не ему, придется сеять на Хоккайдо это разумное, не слишком доброе, но безусловно вечное. Но это – в далекой перспективе. Пока же Ганин-сэнсэй, прислонившись к дверному косяку источающей миазмы и фимиамы ресторанной кухни, сидел в луже подозрительно коричневого индийского соуса «карри» и смотрел на меня своими удивительными – одновременно грустными и смешливыми – серыми глазами.
– Извини, Такуя! – пролепетал он, обтирая вымазанные в «карри» руки о деревянную кухонную стойку. – Я бы его завалил! Он и не такой сильный! Поскользнулся я просто!…
– Где он, Ганин? – Мне было сейчас не до ганинских реверансов. – Куда он делся?
– Там… – Ганин махнул мохнатой от забористого индийского соуса рукой в глубину кухни. – Там он где-то…
Капитан кинулся вслед ганинскому жесту, увлекая за собой четверых подоспевших своих подчиненных.
– Он вооружен? – на всякий случай спросил я у явно выбитого одновременно из седла и колеи сэнсэя.
– Нет, – качнул головой Ганин.
– Как это тебя угораздило на него напороться?
– Ты же сам меня послал кофе попить!
– Это не я, это Нисио!
– Пускай будет Нисио. – Ганин мне явно не поверил. – Захожу, а он бочком к кухне пробирается…
– Ну и ты его тут…
– Типа того, – кивнул Ганин. – Но если честно, то накачан он здорово. Я, Такуя, правда сейчас встать не могу. Он мне в пах ногой заделал, сука!
– Я тебе, Ганин, руки не подам! – Я в мыслях порадовался, что компенсаторная система продолжает успешно функционировать: когда полчаса назад в небе над Хоккайдо у меня в паху все скручивалось и выворачивалось, сэнсэй посвистывал только, зато сейчас пускай себе помучается моими проблемами.
– Чего это? – сердито буркнул Ганин.
– Во-первых, она у тебя в этом вонючем «карри», а во-вторых, если я тебя на ноги поставлю, ты же поквитаться с Заречным захочешь, а мне тебя надо Саше живым вернуть. Опять же в Отару и Наташа осталась – женщина тоже по-своему выдающаяся.
– Жестокий ты и немилосердный, Такуя! – Ганин поморщился и попытался подтянуть под себя ноги, чтобы подняться из ароматного болотца, в котором он сидел.
– Сиди смирно, Ганин! – приказал ему я и помчался за капитаном и его ребятами.
Я застал их пролезающими в выбитое окно – крайнее слева, под которым тянулся широкий козырек навеса над коридором зала вылета. Капитан с досадой взглянул на меня:
– Полюбуйтесь! Стекло выбил, на маркизу прыгнул, по опоре сполз и теперь вон по полю бежит!
Я посмотрел вслед капитановскому взгляду вниз, на летное поле. Заречный легким лошадиным шагом бежал по направлению к ближней взлетной полосе, на которую медленно выруливал бело-голубой российский Як-40.
– Это, что ли, ваш чартер? – спросил я капитана.
– Да, «Владивосток-авиа»…
– Давайте останавливайте его! – приказал я ему.
Капитан принялся орать что-то непотребное в свою черную рацию, а я завороженно следил за тем, как Заречный без видимых усилий добежал до выехавшего на взлетную разбежку самолета с несоразмерно большим хвостом. Олег Валерьевич легко, по-мальчишески вспрыгнул на левое заднее шасси и принялся облаченной в модный пиджак гориллой взбираться по стойке наверх, внутрь колесного отсека.
– Ну что? – спросил я капитана.
– Поздно! Он идет на взлет! Да и ребята мои не поспеют… – Капитан невесело посмотрел на четверку своих ребят, которые по горячим следам Заречного также пролезли сквозь разбитое окно, спустились через опору навеса на летное поле и теперь безнадежно пытались успеть добежать до Яка, до которого им оставалось как минимум метров четыреста. – Я приказал вернуть его сразу же после взлета.
– Понял, – кивнул я.
Только Заречный исчез во внутренностях лайнера, самолет начал свой традиционный разбег, перед тем как взмыть в поднебесье. Он легко, как тот же Заречный, пробежался по бетонке, без видимых усилий оторвался от нее и украсил собой на время пронзительно голубое, холодное октябрьское небо.
Я посмотрел на капитана, тот уверенным жестом показал мне, что в ближайшие минуты самолет вернется на посадку, и я с якобы спокойной душой пошел извлекать из ресторанных помоев своего неугомонного друга. Застал я его в уже полуподнятом состоянии: Ганин стоял под углом в сорок пять градусов, опираясь правой рукой на кухонную стойку. Его брюки и легкая куртка были безнадежно испорчены «карри», но, судя по прижатой к драгоценному причинному месту левой руке и страдальческой гримасе на интеллигентном лице, волновали его в данный момент совсем другие вещи.
– Жив, Ганин? – наигранно весело спросил я его.
– Частично, – достойно парировал сэнсэй.
– Чего ты такой скрюченный-то?
– Да я не думал, что он по-бабски так…
– Что «по-бабски»? – не понял я.
– Ногой по…
– Чего «ногой»?
– Ногой мне по всем моим белкам с желтками и скорлупками врезал, козел! – Страдающий Ганин наконец-то восстановил утраченный благодаря коварному женскому удару Олега Валерьевича прямой угол между полом и своим телом.
– Пошли, Ганин! – Я по-прежнему не испытывал особого желания прикасаться к нему, но из вежливости протянул на всякий случай в его направлении руку, искренне надеясь, что он, как воспитанный человек, от нее откажется.
– Где он? – Мои ожидания меня обманули, и Ганин зацепился своей обделанной «карри» клешней за мою правую кисть.
– Он улетел, но обещал вернуться, – грустно вздохнул я не столько по убежавшему Заречному, сколько по испачканной индийским зельем руке. – Не грусти, Ганин!
Я провел Ганина через толпу дико оглядывавших нас, как принято выражаться в наших кругах, «гражданских лиц». Мы вышли из гостеприимного и хлебосольного ресторана на широкую смотровую площадку в центре зала третьего этажа и подошли к окнам.
– Может, помоемся пойдем, Такуя? – робко предложил горестно оглядывающий себя с груди до пят и все еще сжимающий левой рукой свои разбитые скорлупки Ганин.
– Сейчас Заречного нашего дождемся – и помоемся.
– А что, он точно вернется? – недоверчиво спросил Ганин.
– Конечно! Смотри, какую мы ему встречу приготовили. – Я указал чистой пока еще левой рукой на летное поле, где под глухие из-за толстого стекла в окнах стенания сирен у нас на глазах растекалась по бетону черная масса спецназовцев.
– Тогда давай дождемся, – согласно кивнул Ганин.
– Больно? – Я повел глазами по закрытому кулаком левой руки сектору ганинских брюк.
– Еще как! – проскрипел он. – Зато, Такуя, теперь никаких проблем! Спасибо Заречному!
– В каком смысле «никаких»?
– В прямом, Такуя! Один точный удар в пах – и с нас, мужиков, снимается тяжкий груз грешной похоти. И пускай там эти наташи с иринами-малинами прыгают себе…
– Ну не знаю, Ганин, – не согласился я с ним. – Без малины все-таки как-то несладко…
– Сначала – да, а потом ничего, привыкаешь… Опять же для вечного в мозгах место освобождается!
– Вон он твой освободитель! Возвращается! – Я указал Ганину на растущую с каждой секундой белую точку в синем, уже подернутом поволокой ранних осенних сумерек небе.
Мы замолчали и принялись завороженно наблюдать, как светлый невнятный комочек трансформируется в белокрылого лебедя с павлиньим, хотя и бело-голубым хвостом, как завершает он свой короткий, неудавшийся полет, возвращаясь на ледяной бетон, всего пять минут назад подаривший ему радость свободы и безответственности. Як-40 был уже на самом подлете к аэродрому: как и положено по всем инструкциям, невидимые пилоты выпустили шасси, и тут из-под левого крыла, из чернеющей дырочки колесного отсека, вывалилось что-то невнятное – маленький темный комочек, живорожденный птенчик белого лебедя, не донесенный матерью до спасительной земли. Земля, впрочем, охотно приняла этот комочек – он упал, провожаемый нашими с Ганиным взглядами, а также взорами сотни оперативников, рассчитывавших по японской наивности своей взять птенчика живым, в высокую бурую траву в нескольких сотнях метров от серой взлетной полосы.
– Вот и все, Ганин, – вздохнул я.
– Красиво… – заключил он.
– Ты так считаешь?
– Все лучше, чем перед тобой на допросах ужом вертеться!
– Думаешь?
– Да не могу я, Такуя, сейчас думать! У меня ноги от живота отклеиваются!
– Так пошли давай! Тебе в больницу надо!
– Откуда ты знаешь, куда мне надо!
– Ну будет тебе! – урезонил я расстроенного упущенной возможностью поквитаться с обидчиком честолюбивого Ганина.
– Ты полагаешь, еще будет? – скаламбурил он.
– А то! Наташа вон жива-здорова! В Отару тебя дожидается!
– Мне теперь, Такуя, долго не до наташ будет! – Ганин сделал шаг мне навстречу, но тут же согнулся в три погибели и четыре смерти и замер.
– Давай уж помогу, горе луковое! – Я подставил воняющему «карри» сэнсэю свое чистое плечо, на которое он не без удовольствия оперся. – Я тебе даже завидую сейчас, Ганин!
– Да? – с недоверием шепнул он мне в ухо.
– Да. Действительно, самые жгучие наши проблемы снимаются. Может, выйдет так, что этот Икар доморощенный – Заречный – тебе действительно помог…
Мы медленно спустились – вернее, я спустил на себе Ганина – в центральный зал, где копошился вечный людской муравейник, не подозревающий о том, что там, снаружи, только что оборвалась жизнь примечательного по-своему человека. Тащить на себе раненного в деликатное место Ганина до выхода мне как-то не улыбалось, и я решил прислонить его к березкам, а самому покумекать на предмет вспомоществования. Я сбросил Ганина на колючий щебень, которым было обсыпано подножие диссонирующих с хай-тековским антуражем беленьких представительниц хоккайдской флоры, и дернулся было по направлению к полицейскому посту, но тут мое сознание пронзила толстенная стрела тяжелого, липкого сна. Я рухнул подле Ганина на абразив колкой щебенки, и последнее, что запечатлелось в моей памяти, перед тем как я провалился в черную бездну, был все тот же Ганин, правой рукой обнимающий тонкую талию кудрявой березы, а левой – комкающий в бессильной злобе на всех и вся свой драгоценный гульфик.
Кунио Каминаси
«Это – Кунио Каминаси! Профессиональный журналист, корреспондент-хроникер криминальных рубрик в ведущих хоккайдских газетах, он знает все о японской и международной преступности»
Начнем с того, что в Японии нет никакого Кунино Каминаси и на японском языке романов серии "Полиция Хоккайдо. Русский отдел" никогда не выходило. Хотя бы потому, что в полиции Хоккайдо никакого русского отдела нет, а Кунино Каминаси это псевдоним русского филолога Эдуарда Власова, много лет прожившего в Японии.
Не подумайте что я книгу ругаю. Очень хороший иронический детективчик. Для тех кто в теме будет заметно много историй нашумевших в кругах русских живущих в Японии и сам взгляд "наших там" на это "там". Во многом правдивый, во многом субъективный, во многом шутливый, но безусловно интересный, как для околояпонцев, так и для простого читателя.


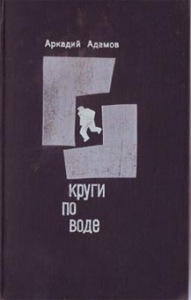

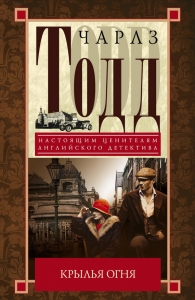
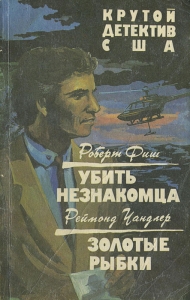
Комментарии к книге «Допрос безутешной вдовы», Кунио Каминаси
Всего 0 комментариев