I
Прошло более часа, а он все еще неподвижно сидел в старом черном кожаном кресле в стиле «Луи-Филипп» с чуть выгнутой спинкой — оно кочевало вместе с ним в продолжение сорока лет из министерства в министерство и стало легендарным.
Когда он подолгу застывал в такой позе, плотно зажмурив веки и лишь изредка приоткрывая глаз, чтобы украдкой метнуть исподлобья зоркий взгляд, можно было подумать, что он спит. Он не только не спал, но и очень хорошо представлял себе, как выглядит со стороны: прямой, в слишком широком для него черном пиджаке, похожем на сюртук, в туго накрахмаленном высоком воротничке, подпиравшем подбородок и неизменно фигурировавшем на всех его фотографиях. Он носил его, как носят мундир — с раннего утра, с той самой минуты, когда выходил из спальни.
С годами кожа на его лице делалась все более прозрачной, разглаживалась, покрывалась белыми пятнами, становилась похожей на мрамор. Теперь она туго обтягивала выдающиеся скулы, от этого иссохшие черты его лица казались тоньше, обозначались яснее и резче. Однажды, гуляя по деревне, он услышал, как какой-то мальчишка крикнул своему товарищу:
— Смотри-ка, вон Череп идет!
Сидя у камина совсем близко от пламени, которое порой начинало дрожать и метаться от порывов ветра, он застывал в неподвижной позе, скрестив руки на животе, — им придадут такое положение, когда его положат в гроб. Посмеют ли вложить в его пальцы четки, как сделали это с одним из его коллег? Тот тоже много раз был председателем Совета министров и носил одно из высоких званий в масонской ложе.
Все чаще и чаще — в любой час дня, особенно в сумерки, когда мадемуазель Миллеран, его секретарша, легкой, скользящей походкой бесшумно входила зажечь лампу под пергаментным абажуром и вновь исчезала в соседней комнате, — он замыкался в молчании и застывал в полной неподвижности. Он как бы окружал себя непроницаемой стеной или, вернее, плотно закутывался в некое покрывало, чтобы не ощущать более ничего, кроме своей собственной жизни.
Дремал ли он в это время? Если и так, он решительно не желал в этом признаваться, убежденный, что ум его все равно не перестает бодрствовать, а чтобы доказать это себе и окружающим, развлекался при случае тем, что перечислял всех, кто к нему входил в это время.
Например, как раз сегодня днем мадемуазель Миллеран — ее фамилия очень напоминала ту, что носил один из его старых коллег, ставший в отличие от него президентом республики, правда, на весьма короткий срок, — дважды входила на цыпочках в его кабинет и, во второй раз убедившись, что он еще жив и дышит ритмично, поправила в камине головешку, грозившую упасть на ковер.
Он выбрал для личного пользования комнату, соседнюю со спальней, и любил проводить в ней почти все свое время. Тут стоял его письменный стол из неполированного дерева, массивный, грубый, как стол мясника.
Это и был знаменитый рабочий кабинет, который часто фотографировали и который с некоторых пор стал легендарным, так же как и самые укромные уголки усадьбы Эберг. Весь мир знал, что спальня его похожа на монастырскую келью: стены выбелены известкой, а спит Президент на простой железной кровати.
Во всех подробностях были известны и все четыре комнаты с низкими потолками. Ранее тут помещались конюшни или стойла, но уже с давних пор двери между ними были сняты, а по стенам сверху донизу рядами тянулись полки из простых сосновых досок, сплошь заставленные книгами.
Чем занималась Миллеран, покуда он лежал с закрытыми глазами? Ведь сегодня он ей ничего не диктовал. Ей не надо было отвечать на письма. Она никогда не вязала и не шила. Газеты она просматривала по утрам, отмечая красным карандашом статьи, которые могли его заинтересовать.
Он был уверен, что она старательно ведет дневник, где все записывает, подобно тому, как некоторые зверьки тащат в нору все, что им попадается. Он часто пытался застать ее за этим занятием, но это ему не удавалось. После его смерти она, конечно, станет писать мемуары. Он пробовал иногда поддразнивать ее в надежде, что она проговорится, но все его уловки оставались безрезультатными.
Можно было поклясться, что в соседней комнате она тоже сидит не шевелясь, как он, и оба они исподтишка следят друг за другом.
Помнит ли она, что включить радио надо ровно в пять часов?
С раннего утра дул яростный ветер, грозя снести крышу с дома и свалить стену, выходившую на запад. От его бешеных рывков окна содрогались; казалось, кто-то настойчиво стучится в них. По радио передали, что пароход-паром, курсирующий между Дьеппом и Ньюхейвеном, после трудного пути чуть было не вернулся в Англию и только после третьей попытки смог благополучно войти в гавань Дьеппа.
Тем не менее около одиннадцати часов утра Президент решил выйти как обычно на прогулку и укутался в старую шубу на меху с каракулевым воротником, свидетельницу стольких международных конференций — в Варшаве и Лондоне, в Москве и Оттаве.
— Неужели вы собираетесь сегодня гулять? — запротестовала мадам Бланш, его сиделка, увидев его одетым для прогулки.
Она знала, что, если ему чего-нибудь захочется, ей не удастся его отговорить, но все же каждый раз начинала безнадежную борьбу, заранее зная, что потерпит поражение.
— Доктор Гаффе только вчера говорил вам…
— Речь идет о моем здоровье или о здоровье моего доктора?
— Послушайте, господин Президент, разрешите мне по крайней мере позвонить доктору и спросить его…
Он лишь пристально поглядел ей в лицо своими бледно-серыми глазами — в газетных статьях их называли стальными. Она всегда некоторое время выдерживала его взгляд. Со стороны в такие минуты можно было подумать, что они ненавидят друг друга.
Может быть, хоть он и терпел ее присутствие в продолжение многих лет, он и вправду ее ненавидел? Он часто задавал себе этот вопрос. И не мог на него ответить. Кто знает, может быть, она была единственным человеком, которого не подавляла его слава? Или же притворялась, что это так.
В прежние дни он без всяких колебаний разрешил бы этот вопрос, ибо был уверен в безошибочности своих суждений, но по мере того, как старел, он становился все более осторожным.
Во всяком случае, эта женщина — немолодая и не очень приятной наружности — начинала занимать его внимание больше, чем так называемые серьезные проблемы. Дважды в порыве гнева он выставлял ее за дверь и запрещал ей переступать порог своего дома. Кстати, он никогда не разрешал ей ночевать в Эберге, и, хотя там была свободная комната, ей пришлось поселиться в деревне.
Но каждый раз она являлась как ни в чем не бывало к тому часу, когда ему полагалось делать уколы, и ее весьма обыкновенное лицо степенной пятидесятилетней женщины не носило следов какой-либо обиды, оставаясь по-прежнему невозмутимым.
Он не выбирал ее в сиделки! Десять лет тому назад, когда он в последний раз был премьер-министром, в конце трехчасовой речи, с которой он выступал в палате депутатов против беспощадной оппозиции, он вдруг упал в обморок и, очнувшись, увидел ее подле себя.
Он все еще помнил, как удивился, лежа на запыленном паркете, при виде этой женщины в белом халате, со шприцем в руке, — она была единственной среди взволнованной толпы, чье лицо хранило безмятежное, успокаивающее выражение.
Некоторое время она ежедневно приходила делать ему уколы в особняк на улицу Матиньон, а после падения министерства стала появляться в его холостяцкой квартире на набережной Малакэ.
В ту пору Эберг был всего только небольшим домишком с садом, купленным по случаю, чтобы иногда проводить там кратковременный отпуск. Когда он решил переехать в Эберг окончательно, она, не спрашивая его согласия, заявила:
— Я поеду с вами…
— А если мне не нужна сиделка?
— Вас все равно одного туда не отпустят. Надо, чтобы кто-то ухаживал за вами.
— Кто «не отпустит»?
— Во-первых, профессор Фюмэ…
Более тридцати лет Фюмэ был его врачом и другом.
— …и эти господа…
Он понял ее. Это выражение его позабавило. И с того дня он сам стал так называть те несколько десятков человек — неужели их было так много! — которые управляли страной.
«Эти господа» были не только глава правительства и его министры, Государственный совет, Судебная магистратура, Французский государственный банк и некоторые бессменные должностные лица, но также и Сюрте Женераль — управление безопасности на улице Соссэ, которое зорко наблюдало за тем, чтобы с прославленным государственным деятелем ничего плохого не случилось.
Разве в соседнюю деревушку Бенувиль не прислали двух полицейских агентов, чтобы охранять его? Они устроились в сельской гостинице, а третий жил с женой и детьми в Гавре и приезжал оттуда на велосипеде, когда наступал его черед стоять на сторожевом посту в Эберге.
В эту самую минуту один из них, несмотря на бурю и проливной дождь, когда, казалось, потоки воды обрушиваются на землю одновременно с моря и с неба, наверное, не спускал глаз с его окна, прислонившись к стволу мокрого дерева у калитки.
Вслед за ним переехала в Бенувиль и мадам Бланш. Долгое время он думал, что она либо вдова, либо незамужняя, но желает, чтобы ее величали «мадам» для большего престижа, как многие старые девы, которым приходится зарабатывать на жизнь.
Прошло целых три года, пока наконец он узнал, что у нее есть муж, некий Луи Блэн, он держит книжную лавку в Париже около церкви Сен-Сюльпис и торгует религиозной литературой. Она никогда ему об этом не говорила и довольствовалась тем, что ездила в Париж всего раз в месяц.
Однажды, когда она, как обычно, с безмятежным челом делала ему необходимые процедуры, он, будучи в скверном настроении, проворчал:
— Признайтесь, вы гордячка! Думаю, вами скорее руководит тщеславие, чем своего рода извращенность… Вы — такая свежая, с самого утра тщательно причесанная, бодрая телом и духом, — входите в комнату к старику, который медленно разлагается. Скажите, кстати, в моей спальне воняет по утрам?
— В ней тот же запах, что и во всех других спальнях.
— Прежде, когда я еще не был стариком, старческий запах был мне отвратителен. А вы делаете вид, что даже не замечаете его, и с удовлетворением говорите себе: «Вот человек, которого я вижу каждое утро раздетым, он старый, некрасивый, полуживой, но вскоре ему поставят памятник или, по крайней мере, назовут его именем улицы во многих городах Франции — ведь он историческая личность…» Как Гамбетта… Как бедный Жорес, я хорошо его знал…
Она ограничилась тем, что спросила:
— А вы не прочь, чтобы вашим именем назвали какой-нибудь проспект?
В самом деле, не потому ли он злился и досадовал на нее, что она видела его во всей его старческой немощи и наготе?
Ведь не досадовал же он на Эмиля, шофера и камердинера, посвященного во все непривлекательные подробности интимной жизни своего хозяина.
Не потому ли, что Эмиль мужчина?
Как бы там ни было, мадам Бланш и Эмиль вышли на прогулку вместе с ним. Яростный северо-западный ветер заставлял их наклоняться, а плащ мадам Бланш развевался, как парус, сорвавшийся с реи. Эмиль был в черной форме шофера, кожаные краги туго охватывали его икры.
В это утро им не повстречались туристы, которые обычно их фотографировали, не видно было и репортеров, кругом не было ни души, кроме Сула, самого темноволосого из полицейских агентов. Он курил отсыревшую сигарету, укрывшись под деревом, и время от времени взмахивал руками, чтобы согреться.
Дом состоял из двух зданий, соединенных вместе. Он был одноэтажным, если не считать трех чердачных комнатушек над кухней, и одиноко стоял, вернее ютился, на крутом скалистом берегу моря, в полкилометре от деревни Бенувиль, между Этрета и Феканом.
Как всегда, Эмиль шел по левую сторону от Президента, готовый поддержать его в случае, если нога ему откажет, а мадам Бланш, исполняя раз и навсегда данное ей приказание, шла за ними следом, отставая на несколько шагов.
Благодаря газетам эти ежедневные прогулки были широко известны, и каждое лето один предприимчивый хозяин транспортной конторы в Фекане доставлял сюда автобусы, полные туристов, которые издали наблюдали за гулявшим Президентом.
Узкая дорога начиналась сразу за домом и вилась через поле до тропинки пограничной охраны, проходившей по самому краю крутого берега моря. Весь этот участок земли принадлежал одному фермеру, который пас здесь свое стадо. Время от времени почва оползала под копытами какой-нибудь коровы, которую потом находили внизу, на морских валунах.
Он сознавал, что был не прав: не следовало выходить на прогулку в такую скверную погоду. Всегда, когда бывал не прав, он прекрасно это сознавал, но тем не менее всю свою жизнь, как бы бросая вызов судьбе, упрямо старался добиться поставленной цели. И разве ему это плохо удавалось?
Тревожное свинцовое небо низко нависло над землей, темные тучи мчались с моря и рвались в клочья, в воздухе чувствовался привкус соли и водорослей, буйный ветер вздымал на море злые пенистые волны, брал штурмом береговые скалы и яростно набрасывался на сельские просторы.
В хаосе звуков он расслышал позади себя голос мадам Бланш:
— Господин Президент…
Нет. Он твердо решил, что дойдет до самого берега и посмотрит на бушующее море, прежде чем вернется домой и снова усядется в привычной старческой позе в свое кресло «Луи-Филипп».
Он внимательно следил за ногой. Он хорошо ее знал — лучше, чем Гаффе, молодой доктор из Гавра, посещавший его ежедневно; лучше, чем Лалинд — бывший больничный врач, приезжавший к нему «по-дружески» раз в неделю, и, наконец, лучше, чем сам профессор Фюмэ, которого беспокоили лишь в случае крайней необходимости.
Нога могла подвести его каждую минуту. Со времени припадка, случившегося три года тому назад, когда ему пришлось пролежать девять недель в постели, а затем некоторое время в шезлонге, походка его все еще не стала нормальной. Левая нога двигалась как-то неуверенно, мышцы ее ослабели. Она слушалась его не сразу, на каждом шагу судорожно дергалась, ступала куда-то в сторону, и помешать этому он был не в силах.
— Я стал ходить вразвалку, по-утиному, — пошутил он как-то.
В ответ никто не улыбнулся. Лишь он один не придавал болезни серьезного значения и все же с неотступным вниманием следил за тем, что с ним происходило.
Это случилось однажды утром, во время прогулки, и погода была приблизительно такая же, как сегодня. Правда, в то время он гулял больше и спускался к самому морю, туда, где берег носит название Ложбины Кюре.
Его беспокоило лишь сердце, иной раз оно пошаливало, и врачи советовали его не переутомлять. Ему никогда не приходило в голову, что ноги, а тем более руки могут ему тоже отказать.
Был март, в тот день погода стояла ясная и холодная, вдали можно было разглядеть даже белые утесы у берегов Англии. Вдруг он почувствовал в левой ноге, где-то под кожей, от бедра и ниже, жжение и легкое покалывание. Нога немного замлела, как бывает, например, если долго сидишь у печки или у горящего костра.
Без всякого опасения, испытывая лишь любопытство к тому, что с ним происходит, он продолжал идти, опираясь на свою неизменную палку (газеты называли ее «посох пилигрима»), но когда он машинально потер бедро свободной рукой, то очень удивился. Казалось, он коснулся чужого тела. Контакта не было! Он щупал собственную ногу, мял ее, но она оставалась как бы картонной.
Возможно, он немного испугался. Не успел он обернуться к мадам Бланш, чтобы сказать ей о случившемся, как в ту же минуту нога отказала, перестала его слушаться, и он как подкошенный упал на тропу.
Он не испытывал боли, не чуял опасности, а лишь сознавал смешное положение, в котором очутился совершенно неожиданно из-за ноги, зло подшутившей над ним.
— Помоги-ка мне, Эмиль, — проговорил он, протягивая руку.
В палате депутатов, где большинство было друг с другом на «ты», он всем говорил «вы». Он обращался на «вы» даже к своей кухарке Габриэле, прослужившей у него более сорока лет. Свою секретаршу он называл по фамилии — Миллеран, как называл бы мужчину-секретаря, и никогда не обращался к ней на «ты». А мадам Бланш неизменно оставалась для него мадам Бланш.
— Вы не ушиблись?
Он заметил, что наклонившаяся к нему сиделка побледнела — впервые с тех пор, как он ее знал, — но не придал этому значения.
— Не поднимайтесь покамест, — посоветовала она, — скажите сначала…
Он силился с помощью Эмиля подняться на ноги, однако взгляд его стал несколько напряженным и голос, вопреки обыкновению, прозвучал нетвердо, когда он бросил:
— Забавно, она меня больше не держит…
У него не было больше левой ноги — она не принадлежала ему, она ему отказала!
— Посадите его, Эмиль. Надо пойти за…
Мадам Бланш, конечно, уже все поняла, как позднее поняли и другие. Фюмэ, прекрасно знавший, что у него за характер, предложил как-то раз откровенно объяснить ему положение вещей. Он ответил категорически отказом. Он отвергал болезнь. Он знать ее не хотел и ни на одно мгновение не полюбопытствовал заглянуть хотя бы в одну из принадлежавших ему медицинских книг.
— У тебя хватит сил понести меня, Эмиль?
— Конечно, господин Президент.
Мадам Бланш запротестовала. Но он настаивал на своем. Привести сюда автомобиль было бы невозможно, тропа для этого была слишком узкой. Значит, пришлось бы идти за носилками, вернее всего к кюре, у которого они должны быть на случай похорон.
Он предпочитал держаться за шею Эмиля — тот был крепкий, коренастый, со стальными мускулами.
— Если ты устал, положи меня на траву.
— Ничего, выдержу!
Габриэла, стоя на пороге кухни, смотрела, как они возвращаются. В ту пору Мари еще не наняли ей в помощь.
Не прошло и получаса, как доктор Гаффе, которому, очевидно, пришлось гнать машину на бешеной скорости, стоял у его изголовья, он сразу же вызвал из Руана доктора Лалинда.
Приблизительно в четыре часа, поглядев на свою руку, Президент нашел, что она стала какой-то странной. Он стал по-ребячьи перебирать пальцами, но, против обыкновения, пальцы не сгибались.
— Посмотрите-ка, доктор!
Но это не удивило ни Гаффе, не поехавшего завтракать в Гавр, ни Лалинда, который явился к двум часам, а затем долго разговаривал по телефону с Парижем.
Позже Президент узнал, что в течение нескольких дней у него был остановившийся взгляд и кривой рот.
— Местный, односторонний паралич, не правда ли?
Он говорил с трудом. Ему не ответили ни да, ни нет, но сам профессор приехал в тот же вечер, за ним следовала карета «скорой помощи», и Президента, врачей и сиделку отвезли в Руан.
— Даю вам слово, дорогой мой Президент, — говорил Фюмэ, — вас не будут держать в клинике против вашей воли. Никто не собирается укладывать вас в больницу. Просто вам необходимо сделать рентген и разные анализы, а это невозможно в домашних условиях…
Против ожидания, воспоминание обо всем этом не было для него неприятным. Он безучастно, как бы со стороны, глядел на все происходящее. Он наблюдал за каждым из окружающих: вот Гаффе, который перестал волноваться, только когда появился Лалинд, разделивший с ним ответственность; вот Лалинд, рыжий, розовощекий, голубоглазый, с густыми нависшими бровями, он изо всех сил старался выглядеть уверенным в себе: наконец, сам мэтр Фюмэ, которого ничем нельзя было смутить, привыкший к больным знаменитостям и появлявшийся в сопровождении почтительной свиты учеников, ходившей за ним по пятам от кровати к кровати во время больничного обхода.
Когда обеспокоенные врачи отходили в угол и шептались, совещаясь между собой, он развлекался тем, что подробно изучал характеры всех троих. Мысль о смерти ни на одно мгновение не пришла ему в голову.
В ту пору ему было 78 лет. Когда его привезли в руанскую больницу, раздели и стали готовить к рентгену, первым его вопросом было:
— А агенты последовали за нами?
Никто о них не подумал, но, вероятно, они уже были здесь, по крайней мере, один из них, и министерство внутренних дел уже, несомненно, все знало.
Ему пришлось пережить несколько неприятных минут, особенно когда у него брали пункцию костного мозга и когда перешли к энцефалографии. Однако он не переставал шутить, и к четырем часам утра, в то время как в лабораториях решалась его судьба, попросил принести ему бокал шампанского.
Самым комичным было то, что шампанское для него нашли в одном из руанских ночных кабаков, пользовавшихся дурной славой, и за вином, по всей вероятности, послали одного из агентов, его «сторожевых псов», как он называл их иногда.
Теперь все это было далеко позади. И могло представлять интерес лишь как сюжет для рассказа. В продолжение двух месяцев французские и иностранные журналисты наводняли деревню Бенувиль, чтобы не пропустить момента его смерти. В редакциях уже сочинили некрологи и заготовили более или менее исторические фотографии. Ждали лишь сигнала, чтобы все это опубликовать.
Не пригодятся ли те же самые статьи очень скоро? Придется лишь проставить дату и прибавить некоторые мелкие подробности, ведь с момента написания этих статей он не принимал никакого участия в политике…
Больше он не падал, как подстреленный заяц, но все же у него порой бывало ощущение, правда, уже не такое отчетливое, как раньше, будто левая нога не сразу его слушается. Иногда ночью в кровати он вдруг чувствовал, что ее свело, вернее, что она занемела. Во время прогулок Эмиль замечал это почти одновременно с ним. Между ними как бы установилась связь, которую они осуществляли посредством определенных сигналов. Эмиль подходил вплотную к Президенту, а тот впивался пальцами в его плечо и останавливался, не переставая глядеть вдаль. Потом, в свою очередь, приближалась мадам Бланш и протягивала ему розовую облатку, которую он проглатывал, не говоря ни слова.
Все трое ждали в молчании. Как-то раз это произошло в самом центре деревни. Служба в церкви окончилась, и проходившие мимо них крестьяне недоумевали, почему эти трое застыли на месте как вкопанные. Президент не выглядел больным, не задыхался, и на губах его даже блуждала смутная улыбка.
Он очень досадовал, если это случалось именно в те дни, когда мадам Бланш настойчиво советовала ему не выходить из дома. Вот почему сегодня утром он наблюдал за своей ногой внимательнее, чем обычно. Из опасения, что сиделка окажется права, он не задержался на воздухе, что не помешало ему, однако, дважды чихнуть.
Вернувшись домой, он торжествующе бросил:
— Вот видите!
— Подождите до завтра, еще неизвестно, может, вы подхватили бронхит.
Вот какой был у нее характер! Приходилось принимать ее такой, какая она есть. Зато Миллеран никогда не бывала резкой, она всегда старалась стушеваться, он почти не замечал ее присутствия в доме. У нее было бледное, невыразительное, какое-то расплывчатое лицо, и те, кто видел ее всего раз или два, наверное, не смогли бы узнать ее при встрече. Но она очень добросовестно относилась к своим обязанностям, и он был убежден, что, например, сейчас она внимательно следит за часами на его письменном столе, чтобы в нужную минуту войти и включить радио.
Министерский кризис продолжался уже целую неделю, и, как всегда, говорили о кризисе режима. Курно, президент республики, безуспешно обращался по очереди к различным политическим деятелям и окончательно потерял голову.
Он знал Курно совсем молодым человеком, когда тот только что приехал из Монтобана, где отец его торговал велосипедами. Активный член социалистической партии, Курно был из тех, кто занимается в унылых канцеляриях скучными секретарскими делами и чьи имена называют лишь во время ежегодных конгрессов. В палате депутатов он выступал крайне редко, только во время ночных заседаний, да и то, как правило, при полупустом зале.
Предчувствовал ли Курно, когда выбирал этот незаметный путь, что он приведет его в Елисейский дворец, куда вместе с ним въехали две его дочери со своими мужьями и детьми?
Прищуря один глаз, скрестив руки на животе и выпрямившись в кресле «Луи-Филипп», он следил за часовой стрелкой, как, вероятно, и его секретарша в комнате рядом. Эти часы подарил ему президент Соединенных Штатов к концу одной чрезвычайно успешной поездки в Вашингтон — они считались историческими и в один прекрасный день отправятся в какой-нибудь музей.
Если только весь Эберг не станет музеем, как предсказывают некоторые, тогда все вещи останутся на своих местах, а Эмиль получит должность хранителя музея.
Он был убежден, что Эмиль последние годы часто подумывал об этом, как некоторые подумывают об уходе на пенсию.
Не казалось ли порой Эмилю, что ждать приходится слишком долго? Наверное, он представлял себе, как будет обращаться с речью к посетителям музея, мечтал о чаевых, которые, уходя, те будут совать ему в руку, и, может быть, о продаже открыток «на память» с видами Эберга.
Без двух минут пять Президент, опасаясь, что Миллеран его опередит, протянул руку и торопливым жестом включил радио. Шкала светилась, но радио молчало еще несколько секунд. В соседней комнате, которая не отделялась от кабинета дверью, секретарша встала со стула, но как раз в это время послышалась музыка; звуки джаза, казалось, силились перекрыть шум бури.
— Простите… — пробормотала она, входя.
— Как видите, я не спал!
— Я знаю.
По лицу мадам Бланш в подобном случае, наверное, скользнула бы ироническая или недоверчивая улыбка. Но Миллеран просто исчезла в своей комнате, как бы растворившись в воздухе.
«Третий короткий сигнал дается ровно…»
Сейчас еще не станут передавать новости дня, их передадут в четверть восьмого, а пока между двумя музыкальными программами передавали краткий обзор последних известий.
«Говорит Париж… Господин Франсуа Бурдье, лидер социалистической группы, провел всю ночь и последующее утро в совещаниях, в три часа дня он был принят президентом республики и заявил, что отказывается формировать кабинет…»
На лице Президента, как всегда, неподвижно сидевшего в кресле, не отразилось ровно ничего, ни малейших переживаний, но пальцы его судорожно сжались и кончики побелели.
Простуженный диктор дважды кашлянул. Послышалось шуршание бумаги, а затем:
«В кулуарах палаты депутатов ходят непроверенные слухи, будто господин Курно вызвал к концу дня господина Филиппа Шаламона, лидера группы независимых левых, чтобы поручить ему образовать коалиционное правительство… Аргентина… Всеобщая забастовка разразилась вчера в Буэнос-Айресе, в ней принимают участие семьдесят процентов рабочих и служащих…»
Голос диктора вдруг оборвался на полуслове, и в ту же секунду в кабинете и в соседних комнатах погас свет. Слышался лишь шум ветра, да пламя танцевало в камине.
Он не пошевелился. В комнате рядом Миллеран чиркнула спичкой, открыла шкаф, где держала наготове свечи, так как подобные происшествия случались не раз.
Вдруг с быстротой молнии зажегся свет, но лампочки казались матовыми, как ночники в вагоне, потом они стали медленно гаснуть, и снова наступила кромешная тьма.
— Я сейчас принесу вам свечу…
Не успела Миллеран вставить свечу в фаянсовый подсвечник, как в проходе, соединявшем бывшие стойла с кухней и остальными комнатами, показался свет. Этот проход называли туннелем, ранее его не было, а сделали его по указанию Президента.
По туннелю шла Габриэла, старая кухарка, она несла большую круглую керосиновую лампу, разрисованную розовыми цветами.
— Молодой доктор только что приехал, господин Президент, — доложила Габриэла — она называла так доктора Гаффе, которому в отличие от доктора Лалинда было всего тридцать два года.
— Где он?
— На кухне с мадам Бланш.
Внезапно им овладел гнев, может быть, из-за фамилии, услышанной по радио, и тех новостей, которые только что передавали.
— Почему он вошел через кухню?
— Право, я его не спрашивала.
— Что они там делают?
— Разговаривают, покуда доктор греет руки у печки. Не может же он выстукивать вас ледяными руками.
Он терпеть не мог, когда его не держали в курсе всего, что делается в доме.
— Я сто раз говорил…
— Знаю! Знаю! Только не мне это надо говорить, а посетителям. Не могу же я захлопывать перед их носом дверь в кухню!
В доме был главный вход, и вводить через него посетителей входило в обязанности Миллеран. Он был достаточно заметен, ибо освещался фонарем. Но почему-то многие предпочитали проходить через кухню. Иногда оттуда доносился приглушенный шепот незнакомых голосов.
— Скажите доктору, что я его жду…
Потом он позвал:
— Миллеран!
— Да, господин Президент.
— Телефон работает?
Она сняла трубку.
— Да. Я слышу гудок…
— Спросите электрическую компанию, сколько времени понадобится им для ремонта…
— Хорошо, господин Президент…
Он не улыбнулся доктору, не сказал ему и слова приветствия, и поэтому Гаффе, застенчивый от природы, почувствовал себя еще более неловко.
— Мадам Бланш сказала мне, что сегодня утром вы ходили на прогулку.
Молодой врач произнес это нарочито небрежным тоном и открыл свой чемоданчик. Ответа не последовало.
— В такую погоду, — продолжал смущенно Гаффе, — это было, пожалуй, несколько опрометчиво…
Мадам Бланш подошла, чтобы помочь Президенту снять пиджак. Он остановил ее взглядом, снял пиджак сам и засучил рукав рубашки. Из соседней комнаты доносился голос Миллеран, говорившей по телефону, затем она вошла и доложила:
— Они еще не знают. Повреждена вся линия. Они предполагают, что провод…
— Оставьте нас.
Доктор Гаффе являлся всегда в одно и то же время и почти ежедневно с серьезным видом измерял ему кровяное давление.
Однажды Президент спросил:
— Вы считаете это необходимым?
— Это прекрасная мера предосторожности.
— Вы на ней настаиваете?
Гаффе смутился. В свои годы он еще умел краснеть. Пациент внушал ему такое уважение, что когда однажды он вознамерился сделать ему укол, то стал действовать очень неловко, и мадам Бланш пришлось взять у него шприц.
— Вы придаете этому большое значение? — настаивал Президент.
— Дело в том…
— В чем?
— Мне кажется, что профессор Фюмэ тоже считает…
— Это он распорядился?
— Конечно.
— Один он?
К чему заставлять доктора лгать? Фюмэ, наверное, получил распоряжение свыше. Оттого, что Президент считался еще при жизни исторической личностью, он не имел права лечиться как ему вздумается. Все они только делали вид, что слушаются его. Но кто распоряжался ими на самом деле? Перед кем, Бог знает когда, Бог знает зачем, они отчитывались?
Не по распоряжению ли тех же лиц посетители проходили через кухню вместо того, чтобы позвонить у главного входа?
Габриэла не солгала: у Гаффе все еще были холодные руки, и Президент решил про себя, что у него преглупый вид, когда он нажимает маленькую резиновую грушу и с серьезным лицом смотрит на круглый циферблат прибора.
Он был в скверном настроении и поэтому нарочно не спросил доктора, как спрашивал обычно из вежливости: «Сколько?»
Но Гаффе все-таки пробормотал с удовлетворением, которое было не менее комичным, чем его серьезная мина:
— Сто семьдесят.
Как и накануне, и за день до этого, как ежедневно в течение многих месяцев!
— Никаких болей, никакого недомогания минувшей ночью?
— Ничего.
— А нога?
Гаффе считал его пульс, и Президент невольно задержал на докторе неприязненный взгляд.
— Никаких затруднений с дыханием?
— Никаких затруднений с дыханием, — сухо ответил он, — и могу сразу сказать вам, что мочусь нормально.
Он знал, что это будет следующим вопросом…
— Мне думается, неисправность линии…
Не слушая его, Президент надевал пиджак все с тем же недовольным видом, стараясь не встречаться взглядом с мадам Бланш, так как не хотел окончательно выйти из себя.
По всей вероятности, оттого, что линия была повреждена и радио, бывшее единственной его связью с внешним миром, безмолвствовало, он чувствовал себя, как в тюрьме, в этом домике, ютившемся над скалами на полпути меж черной пропастью моря и чернотой сельских просторов, где больше не мерцал ни один огонек и не заметно было ни малейшего признака жизни.
Керосиновая лампа в его кабинете, свеча, пламя которой колебалось при малейшем дуновении в комнате Миллеран, напоминали ему о самых унылых вечерах его детства, когда в доме еще не было электричества, а газ в Эвре еще не провели.
Кажется, Гаффе только что спрашивал, не задыхается ли он. Он мог бы ему ответить, что внезапно ощутил какое-то удушье, не только физически, но и морально.
Его засадили в Эберг, и те несколько человек, которые его окружали, вольно или невольно стали его тюремщиками.
Он забывал, что сам добровольно покинул Париж, театрально поклявшись в минуту раздражения, что ноги его там больше не будет. Потому что… Но это была уже совсем другая история. Причины, побудившие его так поступить, никого не касались, и все, решительно все: и журналисты, и политические деятели — давали его уходу совершенно ошибочное толкование.
Разве он когда-нибудь требовал, чтобы молодой врач, приятный, но нелепый человек с манерами застенчивого мальчишки, приезжал ежедневно из Гавра мерить ему кровяное давление и задавать всегда одни и те же дурацкие вопросы? Разве он заставлял двух бедных малых — этих несчастных полицейских агентов — жить на постоялом дворе в Бенувиле, а третьего селиться в Гавре с женой и детьми для того, чтобы торчать на сторожевом посту под вязом у калитки?!
Он был сегодня в дурном настроении, допустим. С ним это случалось, как у других, например, кровь бросается в голову, или как некоторые женщины подчас впадают в меланхолию. Когда он выходил из себя, дрожали не только его ближайшие сотрудники, но и многие должностные лица, в том числе генералы, высокопоставленные чиновники и государственные деятели. И так продолжалось сорок лет.
Гнев действовал на него подобно тому, как на других действует алкоголь, который не всегда затемняет рассудок, но иногда его и окрыляет. В гневе он вовсе не терял головы. Напротив!
Электрический свет еще долго не загорится. Он не стал бы утверждать, что аварию подстроили нарочно, хотя, конечно, в этом не было ничего невозможного.
— До завтра… я приеду к обычному часу, господин Президент, — запинаясь, проговорил доктор.
Мадам Бланш приготовилась вывести его через туннель.
— Не сюда! — сухо сказал Президент. — Через главный выход, пожалуйста.
— Прошу прощения…
— Ничего.
Он сам подошел к туннелю и позвал:
— Эмиль!
— Да, господин Президент.
— Поставь машину под окном и сделай, как в прошлый раз. Можешь?
— Конечно.
— Постарайся, чтоб в семь часов оно работало, если повреждение еще не исправят.
— Я сейчас же займусь этим.
В ту же минуту раздался телефонный звонок и послышался монотонный голос Миллеран:
— Да, Эберг слушает… Кто говорит? Из Елисейского дворца? Одну минутку, пожалуйста… подождите… не кладите трубку…
Он не остерегся и, как всегда, попал в ловушку.
— Слушаю…
Как только он услышал, кто говорит, он все понял, но тем не менее выслушал до конца.
— Это ты, Огюстен?
Минутная пауза, как обычно.
— Говорит Ксавье… Пора бы поторопиться, старина… Не забудь, я поклялся прийти на твои похороны, а сам снова в больнице…
Слабый дребезжащий смех. Молчание. Наконец трубку положили.
Миллеран поняла.
— Простите меня… — пролепетала она виновато и растворилась в полумраке соседней комнаты.
II
Книга «Мемуары Сюлли»[1] лежала у него на коленях, но он не переворачивал страниц. Следившая за ним Миллеран только собралась проверить, достаточно ли ему светло, чтобы читать, как вдруг он заговорил. Он никогда не повышал голоса, обращаясь к ней. Порой после двухчасового молчания он отдавал ей приказание или задавал какой-нибудь вопрос так, будто она сидела возле него, и был настолько в ней уверен, что не простил бы ей малейшей оплошности.
— Спросите на телефонной станции, откуда мне звонили.
— Сейчас, господин Президент.
Все еще глядя в книгу, он слушал, как она говорит по телефону. Вскоре, не вставая с места, она доложила:
— Из Эвре.
— Благодарю.
Он так и думал, хотя в последний раз Ксавье Малат позвонил ему два месяца назад из Страсбурга, а задолго до этого — из госпиталя Кошэн в Париже.
За всю свою жизнь Президент ни к кому не чувствовал настоящей привязанности, и не столько из-за каких-либо принципиальных соображений или черствости сердца, сколько из-за того, что хотел сохранить полную независимость, ценя ее превыше всего. Единственная женщина, на которой он был женат, промелькнула в его жизни незаметно, пробыв с ним всего три года. Она успела родить ему дочь. Но дочь, теперь уже сорокапятилетняя замужняя женщина, мать единственного сына, первокурсника юридического факультета, осталась ему навсегда чужой.
Ему было восемьдесят два года. Он желал лишь покоя — заслуженного, как он считал, покоя. Странно, но единственным, кто цеплялся за него и оказался способен даже на расстоянии взволновать его настолько, чтобы помешать ему читать, стал человек, который и теперь, и в прошлом был для него никем.
Не потому ли Ксавье Малат имел на него такое ощутимое влияние, что из всех более или менее близких между собой сверстников только он сам да этот Малат оставались еще в живых?
Малат с твердой уверенностью заявлял, как бы изрекая непреложную истину:
— Я обязательно побываю на твоих похоронах.
Десятки раз Малата отправляли в больницу — в Париже и других городах. Десятки раз доктора заключали, что жить ему остается несколько недель. Но каждый раз он поправлялся, всплывал на поверхность и был тут как тут, не потеряв ни капли уверенности в том, что, конечно, переживет своего старого товарища.
Когда-то давно кто-то — не все ли равно кто — сказал о нем: «Он просто безобидный дурак».
И был чрезвычайно удивлен, когда вдруг с Президента слетела вся его приветливость и он сухо заметил, как если бы его задели за живое:
— Безобидных дураков не бывает. — Помолчав, он прибавил в некотором замешательстве, точно не решался высказать свою мысль до конца: — Дураков вообще не существует.
Он так и не пояснил своей мысли, которую было бы трудно выразить. За глупостью известного рода ему чудился некий макиавеллизм — хитрость и коварство, внушавшие ему страх. Он не желал верить, что они могли быть бессознательными.
По какому праву Ксавье Малат вторгался в его жизнь и упорно приставал к нему? Какие чувства, какие мысли руководили им и подсказывали ему все новые хитроумные способы вызывать по телефону своего школьного товарища и скрипучим голосом оповещать его о своем зловещем намерении?
Президент хорошо знал больницу в Эвре на улице Сен-Луи, откуда ему позвонили. Больница находилась как раз на перекрестке, в двух шагах от дома, где когда-то была типография папаши Малата.
Он и Ксавье учились вместе в городской школе, были одноклассниками. И, помнится, это случилось, когда они были в третьем классе. В ту пору им было, вероятно, около тринадцати лет.
Позднее Малат утверждал, что зачинщиком являлся тот, кто потом столько раз бывал министром и председателем Совета министров. Возможно, хотя вряд ли это действительно было так. Президент не помнил такого случая, чтобы затея принадлежала ему, уж очень она была не в его духе.
Тем не менее он тоже участвовал в заговоре. Английский язык в их классе преподавал человек, чью фамилию — несмотря на то, что в течение четырех лет человек этот играл в его жизни известную роль, — он забыл, как забыл фамилии доброй половины своих одноклассников.
Однако он хорошо помнил, как выглядел этот учитель: маленький, бедно одетый, всегда в просторном поношенном сюртуке; он носил котелок, из-под которого выбивались пряди седых волос. Его можно было принять за священника. Он был холостяком и постоянно читал томик Шекспира в черном переплете, похожий на молитвенник.
Учитель казался им очень старым, на самом деле ему, вероятно, было лет пятьдесят пять — шестьдесят, мать его была еще жива, каждую неделю он ездил к ней в Руан и оставался там с субботнего вечера до понедельника.
Ученики считали его глупым, может быть, потому, что на уроках он не замечал их, по-видимому, питая к ним высокомерное презрение, если не явное отвращение. Правда, когда кто-нибудь из них начинал ерзать за партой, он в наказание заставлял провинившегося учить наизусть двести строк скучного текста.
Каким он был в действительности и чем он жил — об этом теперь было поздно думать.
Для того чтобы привести их затею в исполнение, потребовалось некоторое время, успех зависел от тщательной подготовки. С помощью старого рабочего из типографии отца Ксавье Малат взял на себя осуществление самой трудной задачи: составить и отпечатать штук пятьдесят извещений о смерти учителя английского языка.
Извещения в черной рамке разослали почтой в субботу вечером, с тем чтобы они были получены в воскресенье утром (в те времена почту еще доставляли по воскресеньям). Было установлено, что учитель сел в поезд и отправился в Руан, откуда вернется в понедельник в восемь часов семь минут утра, чтобы успеть отвезти чемоданчик домой, а затем явиться к началу урока в девять часов.
Его соседями были такие же мелкие служащие, как и он сам. Жил он в одном из кварталов, населенных беднотой, на втором этаже, в доме, где помещалась бакалейная лавка, в которой торговали консервами, конфетами и разными овощами. Входная дверь лавки скрипела, как скрипят двери всех бакалейных лавок.
В извещении сообщалось, что вынос тела состоится в половине девятого, и каким-то образом устроили так, что к тому же часу из бюро похоронных процессий к дому прибыл катафалк (по четвертому разряду).
Адресаты были тщательно подобраны, приглашения разослали чиновникам, муниципальным советникам, поставщикам учебных пособий и даже родителям учеников некоторых младших классов, не посвященных в эту проделку.
Заговорщики не присутствовали при осуществлении своей злой шалости, так как в тот день уроки у них начались в восемь утра. Что же именно произошло? Президент, довольно отчетливо помнивший все приготовления, совершенно не помнил, что было потом. Ему пришлось положиться на память Малата, который рассказал об этом много лет спустя.
Во всяком случае, урок английского языка не состоялся. Учитель отсутствовал около двух недель, уверяли, что он заболел. Директор школы начал следствие. Вину Малата нетрудно было установить, и в продолжение многих дней все гадали, выдаст он своих сообщников или нет.
Он никого не выдал и стал чем-то вроде героя. Но этого героя, кстати, больше никогда не видели в школе, так как, несмотря на все хлопоты его отца, издававшего местную газету, Ксавье Малата исключили из школы. Потом родители поместили его в закрытый интернат в Шартре.
Правда ли, что он убежал оттуда и полиция нашла его в Гавре, где он пытался сесть без билета на отплывавший пароход? Правда ли, что его отправили учиться к дяде, у которого была контора в Марселе, занимавшаяся импортом?
Возможно, так оно и было, но все равно это не имело решительно никакого значения. Ксавье Малат перестал существовать для Президента, так же как и учитель английского языка и все одноклассники. Прошло тридцать лет.
Он снова увидел его в здании своего министерства на бульваре Сен-Жермен, когда впервые, в возрасте сорока двух лет, стал министром общественных работ.
Восемь дней подряд к десяти часам утра курьер министерства неизменно приносил ему список посетителей, в котором стоило имя Ксавье Малата и в рубрике «цель визита» было написано: «По сугубо личному делу».
Ксавье Малат… Он смутно припоминал какую-то физиономию, длинные волосы, худые ноги. Он ничего не мог больше вспомнить.
Семь дней подряд он говорил курьеру:
— Скажи, что я на заседании.
На восьмой день он сдался. По опыту депутата он знал, что отделаться от чрезмерно назойливых посетителей можно только одним способом — надо их принять. Он помнил одну старуху. Всегда в трауре, с дряхлой больной собакой под мышкой, она изо дня в день в продолжение двух лет обивала пороги приемных, чтобы выхлопотать ордена за многолетнюю службу для своего брата, мелкого чиновника в министерстве народного просвещения.
Малат торжественно вошел к нему в кабинет. Из тощего мальчишки с острыми коленками он превратился в высокого пучеглазого толстяка с красным лицом пьяницы. Малат весьма непринужденно протянул Президенту руку с таким видом, будто они только вчера расстались.
— Как живешь, Огюстен?
— Садитесь.
— Ты меня не узнаешь?
— Узнаю.
— И что же?
В глазах Малата промелькнула неприязнь, казалось, взгляд его говорил: «Ты не желаешь узнавать старых друзей оттого, что стал теперь министром?»
Было всего десять часов утра, а от него уже разило спиртным, и хотя костюм его был от хорошего портного, однако имел какой-то неопрятный вид, чего Президент терпеть не мог.
— Не бойся, Огюстен. Я не собираюсь отнимать у тебя много времени. Знаю, оно для тебя драгоценно. Хочу попросить тебя о весьма незначительном одолжении…
— Я действительно очень занят.
— Еще бы! Мне это знакомо. С тех пор, как мы покинули школу в Эвре, — я сделал это раньше всех, как ты помнишь, — прошло немало лет. Из мальчиков, какими мы были в ту пору, мы стали мужчинами. Ты шел своей дорогой, с чем тебя и поздравляю. Я женат, у меня двое детей, и для полного счастья мне нужна лишь небольшая поддержка…
В подобных случаях Президент становится ледяным, движимый не столько черствостью сердца, сколько трезвостью ума. Он сразу понял: сколько ни помогай Ксавье Малату, он будет нуждаться в поддержке всю жизнь.
— В будущем месяце состоятся торги на подряд по расширению Алжирского порта, а я, по счастливому совпадению, работаю в крупном строительном предприятии, в котором мой шурин состоит пайщиком…
Президент незаметно нажал кнопку звонка, вызывая курьера, не замедлившего появиться в дверях.
— Проведите господина Малата в кабинет господина Берина.
Малат, очевидно, ничего не понял, так как восторженно воскликнул:
— Благодарю, старина, я знал, что на тебя можно рассчитывать! Ты, конечно, прекрасно понимаешь, что, если бы не я, тебя тоже выгнали бы из школы, и, кто знает, где бы ты был сейчас. Во всяком случае, не сидел бы на этом месте. Словом, добрые дела за нами не пропадают, что бы там ни говорили. Значит, все в порядке?
— Нет.
— То есть как?
— Тебе придется побеседовать с заведующим отделом публичных торгов.
— Но ты ему скажешь, что…
— Я позвоню, чтобы он уделил тебе десять минут. Вот и все.
Он все же назвал его на «ты», однако сразу же пожалел об этом, укоряя себя если не в малодушии, то, во всяком случае, в непростительной слабости.
Вскоре он начал получать длинные дурацкие послания. Малат рассказывал в них о своей жене, дважды покушавшейся на самоубийство, он теперь боялся оставлять ее одну, о голодных детях, которых он не мог отправить в школу, так как у них не было приличной одежды.
Малат уже не просил дать ему государственный заказ, он просил оказать ему помощь, предоставить хоть какую-нибудь должность, пусть самую скромную, — на худой конец, он согласился бы стать смотрителем шлюзов на канале или сторожем где-нибудь на стройке. Но он и не подозревал, что его бывший одноклассник из Эвре распорядился собрать о нем подробные сведения и завести на его имя карточку в Сюрте Женераль. Он продолжал писать ему пространные письма, то пошлые, то душераздирающие.
Таких писем, написанных, за малым исключением, на бумаге с эмблемой какого-нибудь кафе, Малат за последние двадцать лет отправил великое множество; иногда он менял адресатов, и порой это увенчивалось успехом. Но если он и в самом деле был когда-то женатым человеком и отцом семейства, то бросил жену и детей много лет назад.
— Он опять явился, — докладывал Президенту время от времени курьер.
Малат попробовал применить другой способ: он стал бродить, жалкий и небритый, около министерства в надежде разжалобить своего бывшего товарища.
Но в одно прекрасное утро тот подошел к нему и сухо сказал:
— Если я встречу вас еще раз в этом квартале, вас немедленно отправят в полицию.
За время своей деятельности на посту министра ему не раз приходилось разбивать «надежды» подобного рода и со многими поступать безжалостно.
Но один Малат по-своему отомстил ему, и неприязнь Президента к нему не смягчилась с годами.
Разве не достигла цели его месть? Президент несколько раз обращался в Сюрте Женераль, чтобы узнать, где находится Малат и что с ним.
«Я лежу в больнице в Дакаре, у меня приступ болотной лихорадки. Но не радуйся раньше времени. Я и на этот раз не сдохну, ведь я поклялся прийти на твои похороны», — писал Малат.
Он действительно был в Дакаре. Потом в бордоской тюрьме, где отбывал наказание за подделку чеков. Оттуда он написал на тюремном бланке:
«Забавная штука жизнь! Один становится министром, другой — каторжником».
Слово «каторжник» звучало преувеличением, но было драматично.
«И я все же приду на твои похороны».
Звание председателя Совета министров не внушало Малату ни малейшей робости, именно с того времени он начал звонить в особняк Матиньон, выдавая себя то за политического деятеля, то за какое-нибудь известное лицо.
— Говорит Ксавье… ну, как тебе живется? Каково быть государственным деятелем? Знаешь, даже это мне не помешает прийти на твои…
Линию все же исправили, теперь керосиновая лампа горела и у Миллеран. Круги неяркого света в полумраке комнаты напоминали дни далекого детства и родной дом в Эвре. Президенту даже показалось, что пахнуло вдруг тем особенным запахом, который приносил с собой его отец, городской врач, когда возвращался домой. От него пахло камфарой и карболкой. И красным вином.
— Позвоните по телефону, узнайте, как с повреждением…
Миллеран попыталась соединиться и через минуту сообщила:
— Телефон тоже не действует.
Показалась Габриэла и доложила:
— Пожалуйте к столу, господин Президент.
— Сейчас иду.
Он не чувствовал за собой никакой вины перед Малатом. Если он в чем-то и упрекал себя, то лишь в том, что угроза его старого одноклассника, бесспорно, производила на него гнетущее впечатление. Он, который ни во что не верил, кроме как в человеческое достоинство (в чем оно заключалось, он, пожалуй, не мог бы определить), а также в свободу — во всяком случае, в относительную свободу — мысли, дошел теперь до того, что чуть ли не приписывал Ксавье Малату некую тайную, сверхъестественную, злую силу.
Сын типографщика из Эвре в течение сорока с лишним лет вел настолько неправильный образ жизни, что ему давно полагалось быть в могиле. Каждый год он ложился на более или менее продолжительный срок в какую-нибудь больницу. Как-то раз у него даже признали туберкулез и отправили в горный санаторий, где больные умирали ежедневно, но он вернулся оттуда выздоровевшим.
Он перенес три или четыре операции, из которых две последние были названы раком горла, и вот, как бы завершая круг земного существования, он снова был на том же месте, откуда начал, — в Эвре, по-видимому, решив окончить свои дни в родном городе.
— Миллеран!
— Да, господин Президент.
— Завтра вы позвоните в больницу в Эвре и попросите, чтобы вам зачитали историю болезни некоего Ксавье Малата.
Подобные поручения она исполняла не в первый раз и поэтому ни о чем не спросила. За окном послышался шум мотора: это Эмиль подводил «роллс-ройс» к стене дома. Черный автомобиль со старомодными колесами прослужил более двадцати лет и, как многие предметы, находившиеся здесь, стал в некотором роде частью личности Президента. Этот «роллс-ройс» от имени жителей английской столицы преподнес ему когда-то вместе с ключами от города лорд-мэр Лондона.
Заложив руки за спину, Президент медленно направился по туннелю в столовую с низким потолком, продолженным почерневшими балками. Длинный узкий стол, какие встречаются обычно в древних монастырях, был накрыт на одного человека.
Стены столовой были выбелены известью, как в самых бедных деревенских лачугах, на них не висело ни одной картины, ни одного украшения, пол был выложен такими же серыми, стертыми от времени, каменными плитами, что и в кухне.
Посреди стола стояла керосиновая лампа, и прислуживала ему не Габриэла, а Мари. Ее наняли два года назад, когда ей исполнилось всего шестнадцать лет.
В первый же день он услышал, как она громко спросила Габриэлу:
— В котором часу обедает старик?
«Старик» — никем другим он для нее никогда не будет… Мари туго затягивалась в платье, из которого выпирали ее большие груди, и раз в неделю, в выходной день, мазалась, как девка из публичного дома. Как-то вечером Президент увидел ее из окна: держась обеими руками за ствол дерева и подняв юбки до пояса, она благодушно предалась земным утехам в компании одного из полицейских агентов. Должно быть, ее расположением пользовался не он один. В жарко натопленных комнатах Эберга от нее исходил крепкий запах здорового женского тела.
— Правильно ли вы делаете, господин Президент, что держите у себя такую девушку?
На это он ответил Габриэле не без некоторой грусти:
— А почему бы нет?
Разве не случалось ему в прежние дни заставить ту же Габриэлу в интимной позе с каким-нибудь курьером или рассыльным, а как-то раз даже в объятиях полицейского?
— Не понимаю вас. Вы все ей прощаете. Ей одной в этом доме все с рук сходит.
Может быть, так оно и было, но лишь потому, что он не ожидал от Мари ни привязанности, ни преданности и требовал только, чтобы она исполняла ту работу, для которой он ее нанял. А может быть, и потому, что ей было всего восемнадцать лет и она была самой обыкновенной, здоровой, выносливой девушкой, но, главное, ведь именно ее жизнь ему было дано наблюдать в последний раз…
Она была представительницей неизвестного ему поколения, для которого он был и останется «стариком» и только.
На обед ему подавали неизменно одно и то же, строго по предписанию профессора Фюмэ, и это до сих пор повергало Мари в изумление: яйцо, сваренное в мешочек, на ломтике хлеба, поджаренного без масла, стакан молока, кусок нежирного сыра и фрукты.
Такая диета давно перестала быть для него лишением. Он даже испытывал удивление, если не отвращение, когда видел, как умные люди, ежедневно занятые серьезными проблемами, но придающие еде слишком большое значение, иной раз, находясь в обществе красивых женщин, делали из обсуждения очередного меню излюбленный предмет беседы.
Однажды, гуляя по улицам Руана в сопровождении Эмиля, он остановился как вкопанный перед витриной великолепного гастрономического магазина и долго рассматривал всевозможные деликатесы: жареных цыплят, фазана с хвостом из ярких перьев, покоящегося в желе молодого барашка на подстилке из нежной изумрудной зелени.
— Что ты об этом думаешь, Эмиль?
— Этот магазин считается лучшим в Руане.
Но он говорил скорее с самим собой, нежели с Эмилем:
— Из всех живых существ только человек испытывает потребность украшать трупы своих жертв для возбуждения аппетита. Посмотри-ка на эти круглые ломтики трюфелей, образующих симметричные узоры под кожей пулярок, на этого аппетитного фазана, которому так искусно приделали клюв и хвост…
Двадцать пять лет тому назад он выкурил свою последнюю сигарету, лишь изредка ему позволяли выпить бокал шампанского.
Он не восставал против этого, не ожесточался, не раздражался. Если он слушался предписаний докторов, то не потому, что боялся умереть, ибо смерть давно его не страшила. Он жил в постоянной близости от смерти, это, конечно, не могло его радовать, но он безропотно покорялся неизбежному.
Если только за последний год Эвелина не умерла, значит, он ошибся, когда подумал, что Ксавье Малат и он — последние из сверстников, которые еще оставались в живых. Эвелина была полной противоположностью Ксавье Малату. Президент хранил о ней довольно неясное воспоминание, несмотря на то, что двенадцатилетним мальчиком был в нее влюблен.
Ее отец был жестянщик на улице Сен-Луи, его мастерская помещалась почти напротив школы. Эвелина на два-три года старше Президента, и теперь ей было около восьмидесяти пяти лет.
Говорил ли он с ней когда-нибудь? Возможно. Но, конечно, раза два-три, не более. Он не был уверен, что не путает ее с сестрой или с другими девочками своего квартала. Зато он отчетливо помнил, какая она была: рыженькая, худая и высокая, две длинные косы болтались у нее за спиной, и она носила передник в мелкую красную клетку.
Она дождалась, пока он стал не только министром, но и председателем Совета министров, и лишь тогда решилась написать ему. Это было как раз накануне чрезвычайной важной международной конференции, на которой — как принято считать во время всех подобных конференций — решалась судьба Франции. Он и сам так считал в те дни.
Эвелина ничего у него не просила, она послала ему маленький, освященный в Лурде образок с запиской:
«Молю Бога об успехе Вашей миссии, этот образок поможет Вам спасти родину. Девочка с улицы Сан-Луи — Эвелина Аршамбо».
Она, очевидно, не вышла замуж, так как на фирменном бланке мастерских жестяных изделий по-прежнему стояла фамилия Аршамбо. В ту пору, когда она прислала ему это письмо, ей было далеко за пятьдесят, а адрес на конверте говорил о том, что она живет все на той же улице и в том же доме.
Вся ее жизнь протекла там. Иногда перед его мысленным взором возникала маленькая старушка, вся в черном: пробираясь вдоль стен, она идет к ранней мессе хмурым сереньким утром. После того, как Эвелина прислала ему образок, она взяла за правило ежегодно поздравлять его с днем рождения и обязательно посылала в конверте то ладанку, то образок, то крестик.
Из сведений, полученных через префектуру, он убедился, что она ни в чем не нуждается, и, в свою очередь, послал ей фотографию с подписью.
На застекленной двери, которая вела из столовой в кухню, висела красная клетчатая занавеска, как в деревенских тавернах. Он различал за ней мелькавшую тень Габриэлы. Мадам Бланш уже ушла, готовить Президента ко сну лежало на обязанности Эмиля. В дом на окраине деревни, где мадам Бланш снимала себе комнату, провели телефон. Она обедала и ужинала в старой таверне Биньон. Теперь таверну называли «Отель Биньон», там жили полицейские агенты.
Он услышал голос Эмиля, потом увидел через занавеску его силуэт. Эмиль вошел со двора в кухню и громко воскликнул:
— Все в порядке! Заработало.
— Что заработало? — проворчала Габриэла.
— Радио.
Но радио не интересовало старую кухарку, она жарила над очагом селедку для прислуги, и Эмиль грузно опустился на скамью и налил себе стакан сидра.
Президент с пяти часов не разрешал себе думать о Шаламоне, о котором шла речь в передаче из Парижа, и телефонный звонок был для него спасением, так как резко изменил ход его мыслей. Кстати, он теперь умел безо всяких усилий направлять свои мысли по желаемому руслу и уже не уклоняться от него.
Думать о Филиппе Шаламоне было рано; пока что передавали только непроверенные слухи, и даже если президент республики предложит ему формировать кабинет, не было никаких оснований предполагать, что Шаламон на это согласится.
Мари, стоя над ним, рассеянно наблюдала, как он ест. Она никак не могла научиться вести себя, как подобает приличной горничной. Без сомнения, в один прекрасный день она займет свое настоящее место — станет официанткой в каком-нибудь портовом кабачке в Фекане или Гавре.
— Господин Президент выпьет липового чаю?
— Я всегда пью липовый чай.
Он удалялся, сгорбленный, не знал, что делать с руками: по мере того, как тело его оседало, они становились чересчур длинными. Иногда он говорил о самом себе:
— Если человек действительно происходит от обезьяны, я возвращаюсь к своим предкам — становлюсь все более и более похожим на гориллу.
Эмиль поставил на стол приемник — провод шел через окно к приемнику в автомобиле. Когда наступит время передачи последних известий, шоферу достаточно будет повернуть ручку приемника. Это придумал Эмиль в первый же год их жизни в Эберге. В такую же бурную ночь, как сегодня, свет вдруг погас как раз во время небывало яростных дебатов во Дворце Объединенных Наций.
Разгневанный Президент ходил из угла в угол по кабинету, освещенному, как и сегодня, керосиновой лампой, с той только разницей, что тогда на ней не было абажура, и вдруг Эмиль постучал в дверь.
— Если господин Президент разрешит, я хочу внести предложение. Подумал ли господин Президент о приемнике в нашей машине?
В ту же ночь он, закутанный в плед из меха дикой кошки, подарок канадцев, устроился в «роллс-ройсе» и просидел в нем при тусклом свете радиолампочки до полуночной передачи.
С тех пор Эмиль, охотно выполнявший разные мелкие работы по дому, усовершенствовал свое изобретение, купил второй приемник и подключал его к приемнику в автомобиле.
Там, в Париже, не было никаких аварий и, конечно, они не подозревали, что в Нормандии ураган вырывал с корнем деревья, валил на землю телеграфные столбы, срывал с крыш печные трубы. Журналисты и фотографы дежурили по дворе Елисейского дворца. Шел дождь. В кулуарах палаты и в буфете у окон толпились группы возбужденных депутатов.
Тревожное молчание царило, должно быть, в министерствах, где падение каждого кабинета кому-то сулило продвижение, а кому-то грозило отставкой. В своих департаментах префекты ждали с неменьшим волнением радиопередачи с 7 часов 15 минут вечера.
Когда-то в течение сорока лет при подобных обстоятельствах неизменно произносили одно и то же имя — его имя. Оно было якорем спасения. Чаще всего он сидел, запершись, в своей квартире, которую занимал с тех пор, когда стажером записался в сословие адвокатов.
Миллеран еще не служила у него в те времена. Она была тогда, вероятно, совсем маленькой девочкой, а вместо нее в одном с ним кабинете в молчаливом ожидании стоял у телефона, готовый схватить трубку при первом же звонке, нескладный молодой человек по фамилии Шаламон.
Между ними было двадцать лет разницы. Любопытно было наблюдать, как секретарь подражал походке, голосу и манерам своего начальника. Он перенял у него даже нервный тик и отвечал по телефону так, что большинство людей по ошибке обращались к нему, как к самому «господину министру». Но еще удивительнее было на лице двадцатипятилетнего секретаря выражение бесстрастности, присущее зрелому человеку, чья душа черствела в течение долгих лет.
Не из-за этого ли подобострастного желания во всем ему подражать, не из-за постоянного ли поклонения, бесспорно искреннего и трепетного, которым секретарь его окружал, Президент приблизил Шаламона к себе и брал с собой из министерства в министерство то в качестве чиновника для особых поручений, то личного секретаря, то, наконец, начальника своей канцелярии.
Теперь Шаламон стал депутатом шестнадцатого округа и жил с женой, за которой получил солидное приданое, в роскошной квартире у самого Булонского леса. Как средство к существованию политика была ему вовсе не нужна, но он продолжал заниматься ею ради собственного удовольствия. Кое-кто говорил даже, что политическая деятельность стала его пороком, ибо он отдавался ей с каким-то неистовым увлечением.
Однако, несмотря на то, что Шаламон являлся лидером одной из довольно значительных группировок, министром он был лишь раз, да и то всего три дня.
Он выбрал себе тогда министерство внутренних дел, которое располагает секретными сведениями о многих лицах. Не изобличало ли это в какой-то мере его подлинный характер?
Но общественность и большинство политических деятелей и не подозревали, что в течение этих трех дней телефонные разговоры между Эбергом и Парижем не прекращались и что непривычно большой поток автомобилей с номерами департамента Сены мчался через Бенувиль к домику, прилепившемуся к прибрежной скале.
В утро, когда новое правительство предстало перед палатой депутатов, с электричеством все было в порядке, и старый человек в Эберге слушал радио. По мере того, как разгорались прения, все ярче и веселее блестели его глаза.
Прения длились целых три часа, и правительство, едва родившись, было свергнуто, а Шаламону так и не удалось водвориться в министерстве внутренних дел на площади Бово.
Обладал ли еще Президент прежней властью? Или государственный деятель, пренебрежительно отстранившийся от политики и уединившийся на нормандском побережье, был постепенно забыт? Дети, встречавшие его имя в учебниках, наверное, считали его давно умершим…
— Можно мне пойти пообедать, господин Президент?
— Приятного аппетита, Миллеран. Скажите Эмилю, чтобы он включил радио в восемь часов десять минут.
— Я вам еще понадоблюсь?
— Сегодня вечером нет. Спокойной ночи.
Она занимала комнату над кухней, там же жили Габриэла и Эмиль, а Мари спала в комнатушке внизу, бывшей кладовой, в стене которой прорубили окно.
Один в своих заставленных книгами комнатах, из которых сегодня только две были освещены, Президент медленно ходил из одной комнаты в другую, разглядывал книжные полки, переплеты некоторых книг и иногда проводил пальцем по корешкам. Однажды Мари застала его, когда он с придирчивым видом как бы проверял, все ли книги на месте, и спросила:
— Я плохо вытерла пыль?
Он не спеша повернулся к ней. Посмотрел на нее долгим, пытливым взглядом и отрезал:
— Нет.
Может быть, она, может быть, Миллеран или даже Эмиль… Оснований для того, чтобы подозревать кого-то одного из них больше, чем остальных, у него не было. Вот уже несколько месяцев, как он все понял, и был убежден, что поисками заняты, по крайней мере, двое: кто-то из домашних и кто-то со стороны — возможно, один из полицейских агентов.
Когда он это установил, то не удивился, не вознегодовал. Вначале это его даже позабавило.
Для человека, которому оставалось только достойно умереть соответственно возникшей о нем легенде, это явилось неожиданным развлечением.
Но кто? Кто рылся в его книгах и бумагах и что именно искал?
А главное — для кого?
Он тоже когда-то царствовал на площади Бово, но не один раз, а многократно, и не три дня, а по нескольку месяцев, однажды даже в течение целых двух лет. Вот почему он знал методы работы Сюрте Женераль так же хорошо, как и те секретные документы, которые находились там и являлись таким соблазном для Шаламона.
Почти каждый вечер после того, как он догадался об этих поисках, он расставлял во всех четырех комнатах ловушки, которые про себя называл «свидетелями». Обычно это был кусочек нитки, или волосок, или едва приметный клочок бумаги, а иногда книга, задвинутая чуть-чуть поглубже, чем остальные.
Утром он делал обход, как рыболов, проверяющий свои снасти, и ни при каких обстоятельствах не позволял кому бы то ни было заходить в комнаты раньше себя. Уборка комнат начиналась только после того, как он вставал, но он запрещал пользоваться пылесосом, потому что не переносил его шума, и требовал, чтобы пыль смахивали метелкой из перьев.
Почему раньше всего взялись за Сен-Симона? Однажды утром он заметил, что томик его мемуаров стоит вровень с другими книгами, между тем как накануне он задвинул этот томик на полсантиметра вглубь. Не полицейские же агенты, живущие в таверне Бенувиля, догадались что всю жизнь он читает на ночь мемуары Сен-Симона!
Массивный фолиант Овидия в толстом кожаном переплете, представляющий собой идеальный тайник, тоже привлек чье-то внимание. Затем несколькими неделями позже у кого-то вызвали интерес хранившиеся большей частью в картонных футлярах альбомы с репродукциями картин.
Поиски начались приблизительно с того дня, как он поведал одному иностранному журналисту, что пишет мемуары.
— Но, господин Президент, ведь вы их уже опубликовали, и они даже печатались в самом популярном журнале нашей страны.
В тот день он был в прекрасном настроении. Этот журналист ему нравился. Президента забавляло, что он сообщает ему сенсационную новость хотя бы для того, чтобы позлить тех из журналистов, которых он всегда терпеть не мог.
Он возразил:
— Напечатали лишь мои официальные мемуары.
— Значит, в них вы сказали не всю правду?
— Может быть, и не всю…
— А теперь скажете? В самом деле?
Тогда он еще не был в этом уверен. Его слова были скорее шуткой. Но задолго до этого разговора он действительно начал писать заметки о событиях, участником которых он был, и о кое-каких их подробностях, известных лишь ему одному.
Это стало для него как бы тайной игрой, и даже теперь он иногда усмехался про себя, размышляя над тем, кто же в конце концов найдет эти заметки и каким образом это произойдет. Их уже искали, но пока что никто не делал этого в нужном месте.
Пресса не замедлила опубликовать его слова по поводу «секретных записных книжек», как их окрестили, и журналисты стали гораздо чаще наведываться в Эберг. Все они задавали ему один и тот же вопрос:
— Вы намерены напечатать эти документы при жизни? А может быть, они, подобно дневникам братьев Гонкур, увидят свет лишь спустя несколько лет после вашей смерти? Вы разоблачаете закулисную сторону современной политики, как внутренней, так и внешней? Пишете ли вы также и об иностранных государственных деятелях, которых вы знали?
Он отделывался уклончивыми ответами. Не только журналисты заинтересовались этими знаменитыми мемуарами, но и кое-какие важные лица, в том числе два генерала. Он уже давно никого из них не видел, но в то лето все они как бы случайно проезжали нормандским побережьем, и каждый почел своим долгом навестить его по дороге.
Едва посетитель усаживался в его кабинете, как он спрашивал себя, скоро ли последует обычный вопрос. Все они задавали его одинаково равнодушно и небрежным тоном:
— Да, кстати, вы в самом деле упоминаете обо мне в своих секретных записях?
Он довольствовался тем, что отвечал:
— Пресса сильно преувеличивает. Я кое-что набросал вчерне, но еще не уверен, получится ли из этого что-нибудь путное…
— Мне хорошо известно, что кое-кто уже дрожит.
С наивным видом он восклицал:
— О!
Он прекрасно знал, о чем шептались за его спиной и что осмелились даже напечатать в двух ежемесячных журналах: будто бы раздосадованный тем, что его окружили стеной молчания, забыли, он мстит некоторым людям, занимающим видные посты, держа их под неопределенной, но постоянной угрозой.
Он несколько дней подряд настойчиво спрашивал себя, не заключается ли в этом доля правды, и совесть его была не совсем спокойна.
Но ведь если бы это действительно было так, он не стал бы продолжать свои заметки и у него хватило бы честности уничтожить все, что было им до сих пор написано.
Он дожил до того преклонного возраста, когда уже нельзя быть нечестным с самим собой.
Он решил не отступать от своего намерения именно из-за Шаламона, своего бывшего секретаря, о котором только что говорили по радио, и вовсе не потому, что личность Шаламона была незаурядной, а потому, что поступок его был типичным.
По всей вероятности, как на это намекали в передаче, президент республики собирался поручить Шаламону формирование нового правительства.
Когда его однажды спросили, есть ли у его бывшего секретаря шансы попасть в состав правительства, он сухо ответил:
— Пока я жив, он никогда не будет председателем Совета министров. — И, сделав паузу, как если бы хотел подчеркнуть значительность своих слов, он прибавил: — Но и после моей смерти — тоже.
Шаламон, безусловно, запомнил, что сказал тогда его давнишний шеф.
В этот самый час, когда буря силилась сорвать черепицу с крыши и оторванная наружная ставня с грохотом колотилась о стену дома, Шаламон находился в Елисейском дворце, а во дворе, под проливным дождем, журналисты ждали его ответа.
Дверца «роллс-ройса» открылась и закрылась. Через минуту в приемнике, стоявшем на дубовом столе, послышалось потрескивание. Президент сел в свое кресло «Луи-Филипп», сложил руки и, закрыв глаза, тоже стал ждать.
III
Сначала по радио передали несколько коротких телеграмм:
«Париж… Последние политические новости… Сегодня в пять часов пополудни президент республики принял в Елисейском дворце господина Филиппа Шаламона, лидера группы левых независимых, и предложил ему сформировать коалиционное правительство. Депутат шестнадцатого округа обещал сообщить свой ответ завтра утром. В конце передачи слушайте краткое интервью, которое господин Шаламон дал нашему сотруднику Бертрану Пикону… Сент-Этьен… Пожар, возникший прошлой ночью на фабрике электрической аппаратуры…»
Президент не стал слушать дальше и продолжал сидеть неподвижно, искоса посматривая на одно из поленьев, которое каждую минуту грозило скатиться на пол. Уже два или три раза оно с треском вспыхивало при порывах ветра. В конце концов Президент встал и осторожно, так как не забыл о своей ноге, присел на корточки перед камином и щипцами восстановил в нем порядок.
Ему пришлось ждать целых полчаса. Один за другим корреспонденты французского радиовещания передавали последние известия из Лондона, Нью-Йорка, Будапешта, Москвы, Бейрута, Калькутты. Прежде чем снова усесться в кресло, он несколько раз медленно прошелся вокруг стола, поправил фитиль керосиновой лампы.
«Передаем спортивные новости…»
Через пять минут настанет очередь Шаламона.
Затем послышался невнятный шум, продолжавшийся, пока радиопередачу не переключили на магнитофон, так как интервью было записано на пленку. Это было заметно по тому, как изменился звук. Судя по голосам, звучавшим иначе, чем прежде, микрофон был установлен на открытом воздухе.
«— Дамы и господа, сейчас без четверти шесть. Мы находимся во дворе Елисейского дворца — несколько моих коллег по перу и я… В Париже, под аккомпанемент ветра и дождя, подходит к концу восьмой день министерского кризиса, и, как и в предыдущие дни, в политических кругах оживленно обсуждают создавшееся положение. В настоящий момент вопрос заключается в следующем: будет ли у нас правительство Шаламона? Немногим более получаса назад господин Филипп Шаламон, приглашенный господином Курно, вышел из своей машины и быстро поднялся по ступенькам крыльца, жестом дав нам понять, что пока ничего сказать не может. Лидер группы левых независимых, депутат шестнадцатого округа, чей портрет часто появляется в газетах, — человек энергичный и выглядит моложе своих шестидесяти лет. Он очень высокого роста, с лысеющим лбом и склонен к полноте… Как я уже сказал, идет дождь. Для всех нас не хватило места под навесом главного входа, где привратники разрешили нам укрыться, и одна из наших очаровательных коллег храбро раскрыла красный зонтик… Перед воротами, на улице Фобур Сент-Оноре, муниципальные гвардейцы исподволь наблюдают за небольшими группами любопытных, которые временами собираются на тротуаре… Внимание!.. Мне кажется… Да… Скажи, Дане, это он? Спасибо, старина… Простите… Мне сообщили, что господин Шаламон в эту минуту пересекает обширный, ярко освещенный вестибюль Елисейского дворца… Приглядевшись, я действительно вижу его… Он надел пальто. Он принимает из рук привратника перчатки и шляпу… Его шофер открыл дверцу машины… Сейчас мы узнаем, согласился ли он сделать попытку найти выход из кризиса».
Было слышно, как прошел автобус. Потом послышался непонятный шум, какой-то треск, отдаленные голоса…
«— Не толкайтесь…
— Пропустите меня, старина…
— Господин Шаламон…»
Снова раздался звучный, слегка манерный голос Бертрана Пикона.
«— Господин министр, я хотел бы, чтобы вы сказали слушателям французского радиовещания…»
Хотя Шаламон был министром всего три дня и фактически провел лишь несколько часов в здании на площади Бово, для привратников, курьеров, журналистов и всех посетителей Бурбонского дворца[2] он будет «господином министром» в течение всей своей жизни, подобно тому, как каждого, кто когда-либо председательствовал хотя бы в одной из второстепенных парламентских комиссий, всегда будут называть «господин президент».
«… и прежде всего сообщите нам, с какой целью господин Курно пригласил вас сегодня… Не правда ли, речь идет о том, чтобы поручить вам создать коалиционное правительство?»
Пальцы старика, сидевшего в кресле, совсем побелели. Он услышал смущенный кашель и наконец голос:
«— Действительно, президент республики оказал мне честь…»
В микрофоне раздался автомобильный гудок. Почему-то обитателю Эберга показалось, что Шаламон окинул взглядом темный и мокрый двор Елисейского дворца, как бы ища в нем чей-то призрак. В голосе Шаламона чувствовалась странная тревога. В первый раз, в результате упорных стараний, заполнивших всю его жизнь, ему предлагали управлять страной, а он знал, что где-то сидит у приемника старый человек — он не мог не подумать о нем, — и человек этот делает отрицательный жест.
Чей-то другой голос, вероятно, одного из журналистов, прервал течение мыслей Президента.
«— Можем ли мы сообщить нашим читателям, что вы приняли предложение и уже сегодня вечером начнете консультации?»
Молчание. Такое напряженное, что даже микрофон передал неуверенность, колебания Шаламона. Вернее, микрофон, от которого ничего не ускользает, подчеркнул их с особой силой, а затем послышался смех, не совсем понятный в такой момент, и веселое шушуканье.
«— Дамы и господа! Вы слышите смех наших коллег, который, поверьте мне, не имеет никакого отношения к словам господина Шаламона и одного из нас. Господин Шаламон резко взмахнул рукой, словно почувствовал чье-то неожиданное прикосновение, и мы заметили, что на его руку упали капли дождя с зонта журналистки, о которой я уже говорил… Извините за это отступление, господин министр, но иначе наши слушатели не поняли бы… Будьте любезны говорить в микрофон… Мы просили вас сказать…
— Я поблагодарил президента за честь, которую он мне оказал и за которую я очень признателен… и… гм… я попросил его… (послышался автомобильный гудок, совсем близко, очевидно, с улицы Фобур Сент-Оноре)… разрешите мне… я сказал ему, что должен подумать и смогу дать окончательный ответ только завтра утром…
— Однако ваша группа заседала сегодня в три часа и, по словам компетентных лиц, предоставила вам полную свободу действий.
— Совершенно верно…»
По-видимому, Шаламон пытался пробраться сквозь толпу журналистов к своему автомобилю, дверцы которого шофер держал открытыми.
Корреспондент радио счел нужным упомянуть в начале передачи о его склонности к полноте, ибо она прежде всего бросалась в глаза.
Шаламон отяжелел, как человек, бывший долгое время худым и еще не сумевший приспособиться к своей полноте. Двойной подбородок и круглый животик, казалось, были приставлены к нему, нос же оставался острым, а тонкие губы были едва заметны на обрюзгшем лице.
«— Господин министр…
— Разрешите, господа…
— Еще один вопрос, только один! Можем ли мы узнать, с кем вы намерены совещаться в первую очередь…»
Снова пауза… Те, кто монтировал передачу, могли бы, собственно, вырезать эти пустые места. Не потому ли они их оставили, что тоже почувствовали в нерешительности Шаламона нечто необычное и даже паническое? По всей вероятности, в это время у дворца вспышки магния одна за другой вырывали из темноты сетку дождя и бледное, встревоженное лицо Шаламона.
«— Пока что я не могу вам ответить…
— Вы предполагаете встретиться с кем-нибудь сегодня вечером?
— Господа…»
Он почти умолял, пытаясь вырваться из толпы осаждавших его журналистов, которые не пропускали его к автомобилю.
В эту минуту чей-то резкий, визгливый голос, похожий на мальчишеский, по которому Президент сразу узнал одного старого известного репортера, прокричал:
«— Вы, может быть, собираетесь провести ночь в дороге?»
В репродукторе послышалось невнятное бормотание.
«— Господа, я больше ничего не могут вам сказать. Извините…»
Снова пауза… Стук захлопнувшейся дверцы, шум мотора, скрип гравия под колесами автомобиля и наконец — тишина.
Затем снова голос Бертрана Пикона, он говорил уже не во дворе Елисейского дворца, а в студии радиовещания. Пикон продолжал более размеренно:
«— Мы только что передавали интервью господина Филиппа Шаламона, записанное на пленку в тот момент, когда он выходил из Елисейского дворца. Отказавшись что-либо прибавить к сделанному им заявлению, депутат шестнадцатого округа вернулся в свою квартиру на бульваре Сюше. Группа журналистов, несмотря на непогоду, дежурит у его дверей. Завтра мы узнаем, можно ли надеяться на то, что Франция в скором времени выйдет из тупика, в котором находится больше недели, и будет ли у нас новое правительство…
— Говорит Париж-Интер… Радиопередача последних известий окончена…»
Послышались звуки музыки. За стеной дома открылась дверца «роллс-ройса» и раздался тихий стук в окно. За стеклом возникло расплывчатое молочно-белое пятно — лицо Эмиля. Президент жестом разрешил ему выключить радио. Шум бури слышался теперь яснее.
Озаренное мягким светом керосиновой лампы лицо старика казалось осунувшимся. Он сидел в такой торжественно-неподвижной позе, что Эмиль нахмурил брови, когда, продрогший от сырого воздуха, вошел немного позже к нему в кабинет.
Глаза Президента были закрыты. Эмиль кашлянул, стоя у входа в туннель.
— В чем дело?
— Я пришел спросить, оставлять ли машину во дворе до последней радиопередачи?
— Можешь отвести ее в гараж.
— Вы уверены, что не захотите послушать?..
— Вполне. Миллеран за столом?
— Да, она ужинает…
— А Габриэла и Мари?
— Тоже, господин Президент.
— Ты поел?
— Нет еще.
— Ступай ужинать.
— Спасибо, господин Президент.
Когда шофер направился к выходу, он опять позвал его:
— Кто дежурит сегодня ночью?
— Жюстен, господин Президент.
Не имело никакого смысла предлагать инспектору Жюстену Эльвару, маленькому меланхоличному толстяку, идти спать или хотя бы укрыться от дождя; он получал распоряжения на улице Соссэ и там же отчитывался в своих действиях. В лучшем случае дежурные агенты изредка соглашались заглянуть на кухню по приглашению Габриэлы, и она, смотря по погоде, угощала их стаканом сидра или рюмкой кальвадоса, а иногда и куском горячего пирога, только что вынутого из печи.
Эмиль не уходил, ожидая дальнейших распоряжений. Ему пришлось долго ждать, прежде чем Президент произнес неуверенным тоном:
— Возможно, сегодня ночью у нас будет гость…
— Вы желаете, чтобы я не ложился?
Шофер почувствовал, что хозяин неизвестно отчего внимательно наблюдает за ним. Глаза Президента, теперь открытые, изучали его лицо с необычной настойчивостью.
— Подожди, пожалуй.
— Я готов не спать… Вы же знаете, мне это вовсе не трудно…
Президент отпустил его наконец, повторив не без раздражения:
— Ступай ужинать.
— Хорошо, господин Президент.
На этот раз Эмиль ушел и минутой позже беззаботно усаживался за кухонный стол.
Может быть, у того журналиста с визгливым голосом, который задал вопрос Шаламону, — Президент вспомнил, что его фамилия Солас, — есть какие-то сведения, которых нет у него? Или Солас задал этот вопрос просто на всякий случай, основываясь на опыте, приобретенном за тридцать лет, в течение которых он посещал кулуары палаты депутатов и приемные министерств? Прошло двенадцать лет с тех пор, как два государственных деятеля изредка мельком видели друг друга. Незадолго до того, как Президент покинул Париж, им случалось присутствовать на заседаниях в Бурбонском дворце, но один из них сидел на правительственной скамье, а другой — среди депутатов своей группы, и оба избегали друг друга.
Всем было известно, что они в ссоре — некоторые газеты писали даже, что они ненавидят друг друга, — но относительно происхождения этой вражды мнения расходились.
Объяснение, которое казалось наиболее вероятным молодым членам парламента, принадлежавшим к новому поколению, заключалось в том, что Президент якобы приписывал своему бывшему сотруднику главную роль в махинациях, преградивших ему путь в Елисейский дворец.
Но сторонники этой версии явно преувеличивали влияние Шаламона, и, кроме того, они не знали, что если бы Шаламон осмелился хоть в чем-то противостоять Президенту, то, по определенным причинам, это было бы для него равносильно политическому самоубийству.
Президент предпочитал не останавливаться на этой странице своей жизни. Но его отношение к Шаламону объяснялось совсем другими причинами, нежели те, которые предполагали его коллеги.
В тот давнишний период он был в зените своей славы. Ему только что удалось с помощью энергичных и крутых мер спасти от катастрофы страну, находившуюся на краю пропасти. Во всех городах Франции его фотографии, увенчанные трехцветной кокардой или обвитые трехцветными лентами, красовались в витринах магазинов, а дружественные страны устраивали в его честь триумфальные приемы.
К моменту смерти главы государства он уже собирался уйти из политической жизни, считая, что выполнил свою миссию. И если он все же не сделал этого, то не потому, что им руководило тщеславие или честолюбие.
Впоследствии он рассказал об этом профессору Фюмэ, когда однажды обедал у него на авеню Фридланд. В тот вечер он был в хорошем настроении, и тем не менее в его голосе порой звучали раздраженные нотки, столь для него характерные.
— Видите ли, дорогой доктор, есть истина, которая ускользает не только от народа, но и от тех, кто создает общественное мнение, и это смущало меня каждый раз, когда я читал жизнеописания прославленных политических деятелей. Обычно говорят об их заинтересованности, об их гордости или жажде власти и при этом упускают из виду или не хотят понять, что, начиная с определенного момента, когда успешная карьера государственного деятеля достигает известной точки, он перестает принадлежать себе и становится как бы пленником государственного механизма. Я выражаюсь не совсем точно…
Фюмэ, человек гибкого ума, лечивший к тому же наиболее выдающихся людей Франции и зачастую бывший их близким другом, наблюдал его сквозь дым сигары.
— Или, если угодно, скажем так: при продвижении политического деятеля на самые ответственные посты наступает такой момент, когда его личные интересы и честолюбие полностью совпадают с интересами и стремлениями его родины.
— Иначе говоря, для него на определенной ступени измена, например, становится немыслимой?
Несколько мгновений Президент молчал. Ему хотелось дать как можно более точный ответ, в котором не было бы и тени неясности. После паузы он, решив высказаться до конца, проговорил:
— Да, если речь идет об измене в привычном смысле этого слова.
— И, конечно, при условии, что этот деятель на высоте положения?
В эту минуту ему припомнился Шаламон, и он ответил:
— Да.
— Но ведь не всегда бывает так?
— Это всегда было бы так, если бы не человеческая подлость — индивидуальная или коллективная — и в особенности трусливое попустительство некоторых кругов.
Движимый подобными воззрениями, он счел долгом выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики. Вопреки слухам, которые тогда распространялись, он не собирался изменять конституцию или ограничивать прерогативы исполнительной власти.
Возможно, он внес бы некоторую суровость в политическую жизнь. Те, кто знал его лучше других, предсказали наступление эры светского янсенизма.
Он не поехал в Версаль[3]. Он остался в своей квартире на набережной Малакэ вместе с Миллеран, занявшей место Шаламона.
Уже во время завтрака, который последовал за церемонией открытия конгресса, выяснилось, что он не получит большинства, и по телефону он в двух словах снял свою кандидатуру.
Три недели спустя он покинул Париж, добровольно удалившись в изгнание, и, хотя оставил за собой свою холостяцкую квартиру, ни разу с тех пор в нее не возвращался.
Может быть, после его отъезда Шаламон решил, что теперь ему будет легче получить прощение и что путь к власти перед ним наконец откроется. Депутат шестнадцатого округа попробовал нащупать почву и прибегнул в этих целях к типичному для себя приему. Он не стал писать писем и не явился в Эберг. Он никогда не шел напролом, и все его ходы были тщательно продуманы.
Однажды утром Президент был удивлен появлением своего зятя Франсуа Мореля, прибывшего в Эберг без жены. Когда Констанс познакомилась с ним, это был незначительный, бесцветный, самодовольный человек, работавший землемером в окрестностях Парижа.
Почему она остановила свой выбор на нем? Она не была красива, у нее была мужеподобная внешность, и в отце она всегда возбуждала отнюдь не нежность, а скорее любопытство, смешанное с удивлением.
Что же касается Мореля, то его намерения были ясны: не прошло и года со дня их свадьбы, как он заявил тестю, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах.
Два раза он терпел поражение, в первый раз в департаменте Буш-дю-Рон, где по легкомыслию лично предстал перед избирателями, во второй раз — в Орийаке. Однако при вторичной попытке в том же Орийаке ему, правда, с трудом, но все же удалось пробраться в палату депутатов.
Чета Морелей жила в Париже на бульваре Пастер, а лето проводила обычно в Кантале.
Франсуа Морель был рыхлый мужчина высокого роста, одетый с иголочки, он всегда первый протягивал руку при встрече и неизменно был готов расплыться в улыбке; один из тех, кто, прежде чем высказаться по какому-либо, даже самому незначительному поводу, изучает выражение лица собеседника, пытаясь угадать его точку зрения.
Президент не пришел ему на помощь и молча смотрел на него с таким выражением, с каким смотрят на слизняка, попавшего в салат.
— Я был в Гавре, провожал одного из моих друзей на пароход и решил засвидетельствовать вам свое почтение…
— Нет.
Его неоднократно упрекали за его манеру произносить слово «нет». Его «нет» было знаменитым, так как он часто говорил его без всякого раздражения, не меняя интонации. Он не возражал, а как бы констатировал бесспорный факт.
— Уверяю вас, господин Президент…
Старик ждал, что он скажет, не глядя на него.
— По правде говоря… Заметьте, во всяком случае, я не приехал бы специально ради этого… Но случайно позавчера, когда я разговаривал о своей поездке с некоторыми коллегами…
— С кем?
— Разрешите, одну минутку… Главное, не думайте, что я надеюсь повлиять на вас…
— Это было бы невозможно.
— Я знаю…
Морель улыбался. Если бы дать ему сейчас пощечину, то пальцы, вероятно, увязли бы в его пухлых и рыхлых щеках.
— Я, конечно, поступил неправильно, и прошу вас извинить меня… Я всего-навсего обещал передать вам одну просьбу… Речь идет об одном из ваших бывших сотрудников, который очень страдает вследствие того обстоятельства…
Президент взял лежавшую на столе книгу и, казалось, погрузился в чтение, не обращая больше никакого внимания на посетителя.
— Как вы догадываетесь, я имею в виду Шаламона… Он не обижен на вас, он понимает, что вы поступили так, как должны были поступить, но, выражаясь его словами, он нередко спрашивает себя, не достаточно ли он наказан… Ведь он уже немолод… Перед ним открылись бы блестящие перспективы, если бы вы…
Президент захлопнул книгу и спросил, поднимаясь:
— Он говорил вам о завтраке в Мелене?
— Нет. Я об этом ничего не знаю. Я допускаю, что он совершал ошибки, но ведь это было двадцать лет назад…
— Шестнадцать.
— Извините меня. Тогда я еще не был депутатом. Я хотел бы знать, могу я передать ему…
— … что сказал «нет». Всего хорошего.
Оставив оторопевшего зятя, Президент прошел в спальню и закрыл за собой дверь.
На этот раз Шаламон, конечно, не удовольствуется тем, что пошлет к нему такое ничтожество, как Морель. Теперь речь идет не о более или менее важном министерском посте. На карту поставлено все: цель, к которой он стремился всю жизнь, роль, к которой он готовился с двадцатилетнего возраста и которую ему наконец предстояло сыграть.
Годы, проведенные им в качестве секретаря, вернее — преданного ученика Президента, женитьба на богатой женщине, скучная работа в различных комиссиях, даже уроки дикции, которые в сорок лет он брал у одного профессора консерватории, изучение трех иностранных языков, а также его огромная эрудиция, заграничные путешествия, личная и светская жизнь — все было направлено к одной цели — к завоеванию власти. Но вот во дворе Елисейского дворца под проливным дождем ему задали, казалось бы, невинный, однако страшный для него вопрос:
— Вы, может быть, намерены провести ночь в дороге?
Тот, кто это спросил, знал, что его вопрос потрясет Шаламона.
Судьба Шаламона зависела сегодня от человека, изолированного более чем когда-либо от всего мира и аварией на электрической станции, и прекращением телефонной связи, зависела от старика, сидевшего в кресле «Луи-Филипп» вблизи от бушевавшего моря — оно яростно билось о скалы, а все более яростные порывы ветра грозили сорвать крышу с дома.
Два или три раза Президент произнес вполголоса:
— Он никого не пошлет.
Затем, после некоторого раздумья:
— Он приедет сам…
Но тут же спохватился, так как был в этом далеко не уверен. Когда ему было сорок или пятьдесят лет, он считал свои суждения о людях непогрешимыми и высказывал их без колебаний и без жалости. В шестьдесят лет он уже иногда сомневался, а теперь, когда ему минуло восемьдесят два года, он, понимая, как трудно разобраться в людях, лишь старался составить себе о ком-либо из них правильное, но не всегда окончательное представление.
Несомненно было одно: на предложение главы государства Шаламон не ответил отказом. Он попросил дать ему время для размышлений. Это еще не означало, что он намерен преступить запрет, который налагал на него его бывший шеф.
Следовательно, Шаламон надеялся…
Тихий треск, раздавшийся снаружи, — по всей вероятности, ветер сломал ветку — показался Президенту подозрительным, и, хотя он уже закончил обход, который производил каждый вечер, он все же встал и прошел через кабинет Миллеран, где горела настольная лампа, слабо освещая две соседние комнаты.
Он вошел в комнату, наиболее отдаленную от спальни, где стояли книги, которых он никогда не открывал. Здесь хранились редкие издания и книги с посвящениями авторов, преподнесенные Президенту.
Он не был библиофилом и никогда не покупал книг из-за роскошных переплетов или оттого, что они редкие. Он воздерживался от каких бы то ни было страстей и причуд, от каких бы то ни было hobby[4], как говорят англичане, не занимался ни рыбной ловлей, ни охотой, не увлекался никаким спортом; красоты природы, морские и горные пейзажи, так же как и литература, живопись, театр, оставляли его равнодушным. Всю свою энергию он сосредоточивал — как это пытался делать в подражание ему его ученик Шаламон — на государственной деятельности.
Он не хотел становиться отцом семейства и был женат всего лишь около трех лет, и, хотя у него бывали любовницы, он довольствовался тем, что они дарили ему очаровательный изящный отдых, а порой и немного нежности, но сам он давал им взамен лишь мимолетное снисходительное внимание.
Легенды, которые ходили о его любовных похождениях, отнюдь не соответствовали истине, особенно во всем, что касалось Марты де Крево, «графини», как ее называли в те времена и как друзья продолжали называть и после ее кончины.
Доведет ли он до конца свои заметки, свои истинные мемуары, исправляющие ошибочное о нем представление, или оставит, не заботясь ни о чем, нетронутым тот образ, который создавался постепенно и успел прочно утвердиться в умах людей?
Прежде чем нагнуться к нижней полке, он задернул занавеси на окнах, так как ставни, по его распоряжению, закрывались снаружи только после того, как он ложился спать. Когда они были закрыты, он чувствовал себя как бы отрезанным от всего мира и, случалось, в глубокой тишине прислушивался к порой неправильному биению своего сердца, как к некоему постороннему звуку. Однажды он слушал его с особым вниманием, так как ему показалось, что оно перестало биться.
«Приключения короля Позоля» стояли на своем месте. Это было сверхроскошное издание, иллюстрированное довольно эротичными рисунками. Художник прислал ему книгу со своим посвящением в ту пору, когда Президент был председателем Совета министров. Несшитые тетради японской бумаги вкладывались вместе с гравюрами в футляр из серого картона.
Догадаются ли после его смерти пересмотреть одну за другой все эти книги, прежде чем отправят их в зал Друо для распродажи с аукциона?
Его дочь, насколько он ее знал, никогда не открыла бы их. Ее муж — тоже. Может быть, они оставят себе на память кое-какие произведения, но, во всяком случае, не «Приключения короля Позоля», так как иллюстрации, конечно, их испугают…
Его забавляла мысль о том, что документы первостепенной важности после торгов могут случайно попасть в руки людей, которые даже подозревать не будут об их существовании.
Для того чтобы спрятать исповедь Шаламона, написанную лихорадочным почерком на бланке президиума Совета министров, он выбрал книгу Пьера Луиса совсем недавно, когда решил перепрятать этот документ в другое место. Он остановился на «Короле Позоле», его поразило сходство короля Беотии, каким его изображал художник, с разжиревшим Шаламоном.
Он выбирал и другие тайники, столь же неожиданные и часто забавные. Что же касается его знаменитых «настоящих» мемуаров, то это не было цельное и законченное произведение в отдельных тетрадях, как думали все, а лишь заметки, объяснения и поправки, мелким почерком написанные на полях трех томов его официальных мемуаров. Но он использовал для этого не французское издание, а американское, которое стояло на полках рядом с переводами на японский и другие языки.
Документ, который он искал, находился на своем месте, между сороковой и сорок первой страницами. Чернила на нем успели уже потускнеть.
«Я, нижеподписавшийся, Филипп Шаламон…»
Он вздрогнул, услышав какой-то шорох, и с видом провинившегося школьника поставил книгу на полку. Но это был Эмиль — он готовил ему на ночь постель и не мог видеть его из спальни.
Может быть, Эмиль удивился, не застав его в кабинете, и заглянул к Миллеран? Если так, то не показалось ли ему странным, что Президент чем-то занят в самой отдаленной, полутемной комнате?
Пытался ли Шаламон позвонить сюда из Парижа?
Или он уже выехал? В таком случае, несмотря на ужасную погоду, не позже, чем через три часа, он будет здесь.
— Мари просит разрешения пойти в деревню…
Он ответил равнодушно:
— Пусть идет.
— Она говорит, что ее мать, наверное, родит сегодня ночью…
У Мари было уже шесть или семь братьев и сестер. Он не знал точно, сколько именно, ведь это не имело никакого значения. Однако он поинтересовался:
— Как они дадут знать врачу?
Ближайший врач жил в Этрета, и вызвать его по телефону было невозможно.
— Принимать будет не врач, а Бабетта…
Он не спросил, кто такая эта Бабетта. Он просто хотел предложить свой автомобиль. Но раз они не нуждались в этом…
— Вы ляжете спать в обычное время?
— Разумеется. В десять.
У него не было никаких оснований менять что-либо в своих привычках. Он всегда ложился в десять часов, независимо от того, чувствовал он себя уставшим или нет, и вставал неизменно в половине шестого, зимой и летом.
Одна Мари протестовала против этого расписания, хотя, прежде чем поступить к нему в дом, была работницей на ферме и поднималась доить коров в четыре утра…
— Придется поддерживать огонь в камине…
Президент чувствовал какое-то нервное нетерпение. Это его раздражало, ибо он считал бы для себя унизительным, если бы его настроение в какой-то степени зависело от поступков и мнений других лиц.
Если в восемьдесят два года он еще был подвержен внешним влияниям, мог ли он надеяться когда-либо от них избавиться?
На мгновение ему припомнилась смерть одного из его друзей, тоже президента — председателя Совета министров, самого непримиримого антиклерикала Третьей республики, который ко всеобщему удивлению в последнюю минуту пригласил священника…
Он снова сел в кресло и открыл мемуары Сюлли, а Эмиль вернулся на кухню, ожидая, когда его позовут, чтобы помочь Президенту раздеться и лечь в постель.
Он не стал читать. Он считал себя обязанным еще раз вспомнить с самого начала историю Шаламона и заново ее пересмотреть, как бы для того, чтобы проверить себя. Памятный эпизод он называл завтраком в Мелене, и название это звучало одинаково зловеще как для него, так и, по крайней мере, еще для трех лиц.
Дело было в июне. Стояли солнечные, жаркие дни. Машины мчались непрерывным потоком к лесу Фонтенбло. Парижане намеревались провести день за городом, не думая о назревавших трагических событиях или же рассчитывая, по привычке и по своей беспечности, что их родину все равно выведут из тупика те, кого они для этого выбрали.
Страна переживала чрезвычайно серьезный финансовый кризис, какого она не знала со времен бумажных ассигнаций. Правительство уже испробовало все меры и почти вымаливало кредиты за границей. С каждым днем средства страны истощались, и газеты сравнивали ее с телом, истекающим кровью. Самые мрачные прогнозы казались реальными…
За три недели до этого завтрака правительство к концу бурного ночного заседания, которое отнюдь не способствовало престижу парламента, получило от палаты депутатов неограниченные полномочия. С тех пор газеты повторяли каждое утро один и тот же вопрос: «Что же предпримет теперь правительство?»
От директора Французского банка каждый час поступали все более тревожные известия. Министр финансов Аскэн, согласившийся принять этот пост, зная, что он не сулит ему ничего, кроме непопулярности, и что на карту поставлена вся его политическая карьера, каждое утро совещался с премьер-министром.
После разорительных опытов предыдущих правительств, которые с трудом перебивались со дня на день и залезали в долги, чтобы заткнуть то ту, то другую дыру в бюджете, не оставалось ничего иного, как произвести девальвацию. Причем для того, чтобы она принесла пользу, нужно было сделать это в благоприятный момент, совершенно внезапно и при помощи крутых мер, чтобы избежать спекуляции.
Журналисты дежурили днем и ночью перед особняком Матиньон на улице Варенн или на улице Риволи напротив министерства финансов, а также перед квартирой директора Французского банка на улице Валуа.
Три человека, от которых зависело решение этого вопроса, находились под непрестанным наблюдением; их слова, их настроение, малейшее движение бровей и выражение лица служили поводом для самых неправдоподобных предложений.
Мало-помалу, однако, все подробности задуманной операции были детально разработаны, и оставалось лишь установить новый денежный курс и назначить дату.
Принимая во внимание нервозность биржи и иностранных банков, три ответственных лица больше не отваживались собираться вместе, опасаясь, что это будет истолковано как сигнал к девальвации.
Поэтому они решили встретиться в одно из воскресений за завтраком в загородном имении, принадлежавшем Аскэну, недалеко от Мелене. Свидание держалось в строгой тайне, даже их жены ничего о нем не знали, и госпожа Аскэн не приехала принимать гостей.
Когда Президент прибыл в сопровождении Шаламона, бывшего тогда начальником его канцелярии, он, разумеется, заметил, как нахмурился директор Французского банка Лозе-Дюше, но не счел нужным объяснять ему присутствие своего сотрудника.
В самом деле, разве Шаламон не следовал за ним повсюду как тень? Но еще и до Шаламона Президент всегда нуждался в том, чтобы кто-то постоянно находился при нем.
Дом из желтого, вернее, золотистого камня выходил фасадом на улицу и был окружен с трех сторон прекрасным садом, огороженным чугунной решеткой. Он принадлежал раньше отцу Аскэна, который был нотариусом. С левой стороны над главным входом еще виднелся след от щита с нотариальным гербом.
За завтраком они не говорили о делах из-за присутствия слуг. Затем им подали кофе в укромном месте — под густыми липами в глубине сада, где никто не мог их услышать. Сидя там в плетеных креслах за столиком, уставленным бутылками с разными ликерами, к которым, впрочем, никто из них не притронулся, они определили размер девальвации, а также день и час операции, которую по техническим причинам можно было объявить только в понедельник, перед самым закрытием биржи.
Когда после нескольких напряженных недель они приняли наконец окончательное решение, то сразу почувствовали себя легко, потому что отныне события больше от них не зависели. Маленький толстяк Аскэн вдруг предложил, указывая туда, где высились платаны:
— Не сыграть ли нам в кегли?
Это было так неожиданно после секретного разговора, который только что состоялся, что все разразились смехом, в том числе и сам Аскэн. Ведь его предложение прозвучало как заглавная шутка.
— Вон там, под платанами, — объяснил он, — устроили когда-то площадку для игры в кегли. Мой отец очень любил эту игру, и я сохраняю площадку. Хотите посмотреть?
У директора Французского банка Лозе-Дюше, служившего раньше в финансовой инспекции, была черная с проседью борода лопатой, которая как бы подчеркивала редко изменявшую ему строгую сдержанность.
Четверо государственных деятелей, еще не зная, будут ли они играть, пересекли лужайку по направлению к платанам и обнаружили там посыпанную песком площадку с большой каменной плитой, на которой министр финансов стал устанавливать кегли.
— Попробуем?
Об этом эпизоде никогда не писали в газетах. В течение целого часа, а может быть и дольше, люди, только что решившие судьбу франка и участь миллионов, играли в кегли, сначала как бы нехотя, а затем все с большим увлечением.
На другой день, через четыре часа после открытия биржи, в кабинете председателя Совета министров раздался телефонный звонок. Шаламон взял трубку и сказал после небольшой паузы:
— Пожалуйста, сию минуту.
И, обратившись к своему шефу, прибавил:
— Лозе-Дюше хочет говорить лично с вами.
— Алло!
— Это вы, господин Президент?
Президент сразу почувствовал в голосе директора Французского банка какое-то замешательство.
— Извините меня за вопрос, который я хочу вам задать: я полагаю, вы никому не сообщали о решении, принятом нами вчера? Вы не упоминали о нем, когда говорили, например, по телефону с Аскэном?
— Нет. А в чем дело?
— Я еще ничего точно не знаю. И пока могу говорить лишь о слухах. К моменту открытия биржи мне сообщили о некоторых довольно подозрительных фактах… о спекуляции.
— Со стороны каких банков?
— Этого еще не удалось установить… Слишком рано… Меня информируют каждые четверть часа… Разрешите снова позвонить вам?
— Я буду все время у себя в кабинете…
В половине третьего на рынок были выброшены государственные ценные бумаги стоимостью более тридцати миллиардов. В три часа Французский банк был вынужден скупать их через подставных лиц, чтобы избежать полного краха.
Телефонные переговоры между Лозе-Дюше, министром финансов Аскэном и председателем Совета министров не прекращались. Возник вопрос, не следует ли отложить задуманную операцию. Вследствие неожиданных спекуляций, предвидеть которые было невозможно, девальвация уже не могла дать ожидаемых результатов.
Но идти на попятный было теперь опасно, так как это могло вызвать панику.
Президент был мертвенно бледен, когда дал наконец сигнал к операции. Он чувствовал себя примерно так же, как командующий армией, который начинает сражение, заранее зная, что оно наполовину проиграно.
Это уже не было кровопускание, затрагивающее более или менее одинаково всех французов. Осведомленные лица не только избежали его, но к тому же получили чудовищные прибыли за счет мелких и средних вкладчиков.
Во время всех переговоров Шаламон находился в кабинете Президента. Он был так же бледен, как и его шеф, и, стоя у письменного стола, непрерывно курил сигарету за сигаретой, зажигая новую после нескольких нервных затяжек.
В ту пору он еще не был толстым. Карикатуристы часто изображали его в виде ворона.
Через несколько минут продавцы газет станут с громкими криками продавать на бульварах экстренные выпуски. Телефонистки президиума Совета министров, министерства финансов и Французского банка не успевали отвечать на звонки.
Президент сидел в своем огромном кабинете с резными панно, постукивая карандашом по бювару и устремив пристальный взгляд на какой-то узор ковра, висевшего на противоположной стене.
Когда он наконец встал, его движения напоминали движения автомата.
— Сядьте, Шаламон. — Голос его прозвучал непреклонно, бесстрастно, размеренно, как звук машины. — Нет. Не там. За мой письменный стол, будьте любезны.
Он зашагал по кабинету, заложив руки за спину.
— Возьмите перо, лист бумаги…
Тогда-то он и продиктовал, продолжая расхаживать взад и вперед с опущенной головой, заложив руки за спину и время от времени останавливаясь, чтобы подыскать точное выражение:
«Я, нижеподписавшийся, Филипп Шаламон…»
Было слышно, как перо скользит по бумаге. Шаламон прерывисто дышал, один раз у него даже вырвался стон, похожий на рыдание:
— Я не могу…
Но ледяной голос оборвал его:
— Пишите!
И Президент продиктовал до конца.
IV
— Вы думаете, — скептически проговорил Эмиль, — кто-нибудь решится приехать в такую погоду?
Было без пяти десять. Полчаса назад лампочки слабо загорелись, будто хотели воскреснуть, но, вспыхнув два-три раза, вновь погасли. Немного позднее вошел Эмиль и спросил:
— Что господин Президент думает делать ночью?
И так как старик не мог сразу сообразить, чем вызван вопрос Эмиля, тот пояснил:
— Я насчет света… Я был в лавке и купил самый маленький ночной фонарь, который там нашелся, но, боюсь, он все-таки будет гореть слишком ярко…
Уже много месяцев старик спал при свете маленькой электрической лампочки особой модели, за которой посылали в Париж. Доктора настояли на этом после одного прискорбного случая, из-за которого Президенту довелось пережить чувство глубокого унижения.
Долгое время Гаффе и Лалинд настаивали, чтобы сиделка не уходила ночевать в деревню, а неотлучно находилась в Эберге и спала на раскладной кровати в одной из комнат нижнего этажа, например, в кабинете или туннеле.
Он наотрез отказался от этого, и профессор Фюмэ, к которому они были вынуждены наконец обратиться с просьбой, чтобы тот помог им убедить старика, неожиданно посоветовал ни в коем случае больше к Президенту не приставать.
Фюмэ понимал, что для человека, который никогда не прибегал к чьей-либо помощи и больше всего ценил свою независимость, постоянное присутствие сиделки явится как бы сигналом к полной сдаче позиций.
Уже то, что его шофер утром и вечером превращался в камердинера и помогал ему раздеваться и ложиться в постель, было для Президента достаточно неприятно. Ведь он никогда не соглашался делать кого бы то ни было свидетелем интимных подробностей своей жизни.
— Если мне понадобится помощь, я всегда смогу позвонить, — сказал он тогда, указывая на звонок в форме груши, висевший у его изголовья.
И прибавил:
— А если не позвоню, значит, мне так плохо, что ничто уже не поможет.
На всякий случай очень сильный звонок, трезвонивший, как в школе или на фабрике, провели не в комнату Эмиля, который часто отлучался, а на площадку верхнего этажа над кухней, чтобы, таким образом, его могли услышать сразу трое.
Но однажды ночью и эта предосторожность оказалась недостаточной. Проснувшись среди кошмара, от которого он никак не мог очнуться, но о котором впоследствии ничего не мог вспомнить, Президент сел на кровати в полной темноте, подавленный, весь в холодном поту, с ощущением смертельной тоски, какой доселе никогда не испытывал. Он знал, что ему необходимо что-то сделать, это было решено, они настойчиво требовали от него действий, но он не помнил, что именно он должен сделать, и растерянно шарил руками вокруг себя.
Он испытывал почти такое же мучительное ощущение, какое пережил в восьмилетнем возрасте, когда болел свинкой и ему как-то ночью казалось, что потолок медленно опускается на него, а его матрац поднимается навстречу потолку.
Он силился сбросить с себя оцепенение и сделать то, что ему приказали, ибо не был против них, что бы они там ни думали… Вдруг его рука коснулась чего-то гладкого и холодного. Он бессознательно искал у изголовья, с той стороны, где стоял ночной столик, выключатель электрической лампы. Раздался грохот: что-то опрокинулось, и поднос с бутылкой минеральной воды и стаканом полетели на пол.
Он никак не мог найти ни электрической лампочки, ни выключателя. Ночной столик, должно быть, немного отодвинули, позднее он постарался выяснить, почему это случилось, а пока что испытывал лишь непреодолимое желание немедленно действовать.
Должно быть, он слишком перегнулся, ибо, как сноп, свалился с кровати на пол. Поза, в которой он очутился, была не менее нелепой, чем в тот день, когда левая нога сыграла с ним скверную шутку во время прогулки на прибрежных скалах.
Обнаружив на ощупь мокрые осколки стекла, он решил, что на его руку неизвестно откуда льется кровь. Напрасно он старался подняться, ему никак не удавалось этого сделать, и, выбившись из сил, в полном отчаянии, движимый инстинктом младенца в колыбели, он закричал.
Никакой бури в ту ночь не было. И тем не менее, как это ни удивительно, из трех человек, спавших наверху, довольно близко от него, ни один его не услышал. На его крик прибежала лишь заспанная Мари в ночной рубашке, хотя обычно она спала как убитая и по утрам ее всегда было трудно добудиться. Она включила электричество и с минуту стояла на пороге как вкопанная, с ужасом глядя на него и не зная, что предпринять.
Возможно, она решила, что он умер или умирает. Она тоже закричала и, вместо того, чтобы помочь ему встать, метнулась к лестнице позвать на помощь остальных. Когда они прибежали, Мари следовала за ними на почтительном расстоянии, все еще напуганная. Он действительно порезал себе запястье, но рана была неглубокая. Гаффе так и не смог определить, что же с ним, собственно говоря, было.
— Это может случиться с каждым и в любом возрасте. Вероятно, кошмар вас мучил из-за судороги или плохой циркуляции крови. Вот почему вы никак не могли подняться без посторонней помощи…
Доктор опять заговорил о том, чтобы мадам Бланш ложилась в спальне на раскладной кровати. Но ему удалось добиться лишь того, что Президент обещал отныне спать при слабом свете ночника. Ему раздобыли лампочку чуть побольше карманного электрического фонаря. Постепенно он привык к этому ночному освещению, и оно стало частью окружающего его мира.
Эмиль подумал об этом сегодня вечером. Не говоря ни слова, он отправился в деревню и купил там ночной фонарь. По воле случая, именно в ту минуту, когда он вернулся, электричество вдруг зажглось, снова погасло, зажглось еще раз, и по ровному, яркому свету стало ясно, что больше оно не погаснет.
— Все-таки я лучше оставлю вам ночной фонарь.
По утрам и вечерам, когда Эмиль исполнял обязанности камердинера, он надевал белую полотняную куртку; ее белизна особенно подчеркивала черноту его волос и независимое выражение неправильного лица с резкими чертами. Раз кто-то даже сказал о нем: «Ваш слуга скорее всего похож на бандита с большой дороги».
Эмиль родился в Ингранне, среди орлеанских лесов, в семье, где испокон веков все мужчины из рода в род были лесниками и охраняли охотничьи угодья. Его братья и сам он росли вместе с собаками. Между тем наружностью он гораздо больше напоминал браконьера, чем лесного сторожа. Несмотря на крепко сбитое тело и стальные мускулы, двигался он еще более бесшумно, чем Миллеран с ее скользящей походкой, и временами в его глазах, одновременно насмешливых и наивных, вспыхивали опасные огоньки.
В год, когда Президент получил портфель министра иностранных дел, ему как бы в наследство достался Эмиль. Впервые он увидел Эмиля, только что вернувшегося с военной службы, среди шоферов на Кэ-д’Орсе, куда тот попал благодаря рекомендации каких-то орлеанских помещиков. Эмиль так резко отличался от элегантных шоферов, работавших при министерстве, что Президент обратил на него внимание. Эмиль сразу же ему понравился.
Приручить его было нелегко, ибо, как только Эмиль чувствовал, что кто-то пытается это сделать, он замыкался в себе и застывал, лицо его становилось невыразительным и в то же время неуловимо вызывающим.
В тот раз кабинет министров продержался у власти три года, но, когда правительство было низвергнуто, Эмиль, опустив голову и смущенно теребя в руках фуражку, пробормотал, запинаясь:
— Вероятно, вы не захотите, чтобы я остался у вас?
Эмиль прослужил у него двадцать два года, повсюду следуя за ним преданно и верно, как собака за своим хозяином, и никогда не выражал желания обзавестись семьей. Вероятно, он не испытывал в этом ни малейшей потребности, но стоило какой-нибудь особе женского пола — худой или толстой, молодой или в летах — появиться в поле его зрения, как он, недолго думая, кидался на нее, как петух, без колебаний, и не усматривал в этом ничего особенного, как если бы подобные ухаживания тоже входили в круг его обязанностей.
Президент не раз, посмеиваясь про себя, наблюдал за Эмилем и считал, что во всем, что касается женщин, его шофер обнаруживает инстинкт браконьера, подстерегающего лесного зверя. При приближении новой жертвы Эмиль принимал безразличный вид. Только его маленькие черные глаза становились более задумчивыми, жесты более замедленными, и сам он делался молчаливее, чем обычно. Он сливался с окружающей обстановкой, как браконьер сливается с деревьями или скалами, и терпеливо ждал, час, день, неделю или дольше, но в подходящую минуту — инстинкт никогда его не обманывал — он стремительно нападал.
Мари, конечно, побывала в его объятиях в первую же неделю, если не в первую же ночь, и если бы Президент узнал, что и Миллеран время от времени, пассивно, но не без удовольствия, принимает знаки внимания со стороны единственного полноценного мужчины в доме, то не удивился бы.
Однажды в Париже Президент стал свидетелем одной из таких безмолвных побед, относившихся скорее к области зоологии и, пожалуй, не лишенных некой безыскусной поэзии. Незадолго до этого там сменили прислугу, и в утро одного большого приема в здании министерства появилась молодая свежая девушка, только что из деревни и еще совсем «зеленая».
В огромных залах шли лихорадочные приготовления, и потому царил известный беспорядок. В одной из комнат, где делали уборку, Президент случайно около девяти утра присутствовал при встрече Эмиля с новой служанкой.
Он почувствовал в воздухе какую-то неуловимую напряженность. Если птицы, как утверждают некоторые, могут принимать волны, излучаемые другими птицами, Эмиль, очевидно, тоже обладал способностью излучения и восприятия, ибо, как только увидел спину девушки, сделал стойку, и темные его зрачки сузились.
Позднее, в то же утро, когда Президент выходил из своих апартаментов, где переодевался к приему, он заметил в коридоре выскользнувшего из бельевой и бесшумно закрывавшего за собой дверь Эмиля; раскрасневшийся, с довольным лицом, он наспех приводил в порядок свой костюм.
Взгляды мужчин встретились, и вдруг Эмиль еле заметно подмигнул, что означало: «Готово!»
Совсем как если бы какой-нибудь зверек попался в расставленные им силки…
Девушки не давали ему покоя и вечно приставали к нему, утверждая, что он отец их будущего ребенка. Порой в дело вмешивались родители этих девушек, иные из них обращались к Президенту, который до сих пор помнил стереотипную фразу:
«…я очень надеюсь, господин министр, что вы заставите этого мерзавца исправить причиненное им зло и жениться на моей дочери…»
На что Эмиль отвечал без тени смущения:
— Разве переженишься на всех бабах, с которыми словечком перекинулся!
Какие истории станет когда-нибудь рассказывать Эмиль тем, кто будет посещать Эберг? И что чувствовал он в глубине души к старику, у которого столько лет прослужил?
— Если вы не возражаете, я останусь на кухне и сварю себе кофе. Таким образом, в случае, если эти господа приедут…
Не Эмиль ли рылся в Сен-Симоне и других книгах?
Миллеран тоже была глубоко ему преданна, и его смерть выбьет ее из колеи гораздо больше, чем остальных. В сорок семь лет ей будет трудно подчиняться требованиям кого-то другого и привыкать к новому шефу. Согласится ли она на предложения издателей, которые, несомненно, попросят ее написать все, что ей известно о его личной жизни?
Эти глупцы и не подозревали, что у него никогда не было личной жизни и теперь, когда ему уже восемьдесят два года, по существу, его контакт с людьми — он не осмеливался употребить слово «дружба» или «любовь» — сводился к отношениям с теми несколькими лицами, которые жили с ним в Эберге.
Габриэла Митэн, родом из Ньевра, была когда-то замужем. Оставшись в сорок лет вдовой с ребенком на руках, она поступила к нему на службу и до сих пор каждый месяц ездила в гости к сыну в Вильев-Сен-Жорж. Сыну ее было уже сорок девять лет, он был женат, имел троих детей и работал метрдотелем в вагоне-ресторане на линии Париж — Вентимилья.
Габриэле исполнилось семьдесят два года. Может быть, и ее, но гораздо больше, чем ее хозяина, преследовала неотвязная мысль о смерти?
Что до Мари, то, по всей вероятности, со временем она еле вспомнит о годах, проведенных у «старика».
Кто знает, возможно, больше всего он запечатлеется в памяти мадам Бланш, хотя именно с ней чаще, чем с другими, он бывал резок, а подчас даже груб.
Если глубоко вдуматься, то людей, для которых он по-настоящему что-то значил, было лишь двое. Они находились на противоположных полюсах и, так сказать, являлись противовесом друг другу. Это были Ксавье Малат, преследовавший его своей многолетней неприязнью, столь же постоянной, как неразделенная любовь, и цеплявшийся за жизнь с единственной целью — не уйти из нее раньше его, и Эвелина, рыженькая девочка с улицы Сен-Луи, потерявшая его из виду на целых шестьдесят лет и теперь ежегодно присылавшая ему образочки с благословениями.
Его дочь, его зять и внук были не в счет, они никогда не играли никакой роли в его жизни и постепенно стали для него посторонними, совершенно чуждыми ему людьми.
Что же касается Шаламона…
Правда ли, что в эту самую минуту тот спешит на машине по дороге Париж — Гавр? Имело ли смысл ложиться спать, когда в любую минуту ему, возможно, снова придется вставать?
— Если они приедут, куда мне их провести? — спросил Эмиль.
Президент задумался и не ответил. Ему не хотелось бы оставлять Шаламона одного в своем кабинете. Ведь тут было не министерство, где в приемных всегда находятся служащие. Когда являлся какой-нибудь посетитель, Миллеран предлагала ему подождать в одной из комнат, уставленных полками с книгами.
Ежедневно Президент принимал по меньшей мере одного посетителя. Чаще всего, по совету профессора Фюмэ, этим дело и ограничивалось, ибо, несмотря на свое внешнее равнодушие, он при гостях слишком расходовал свои силы.
Уже на пороге Миллеран предупреждала:
— Прошу вас не задерживаться больше получаса. Доктора запрещают Президенту утомляться.
На поклон к великому человеку приезжали разные люди, среди них были государственные деятели почти всех стран мира, историки, профессора, студенты; некоторых из них Президент принимал.
Все они хотели его о чем-то спросить. Те, кто писал о нем книги или доклады, приезжали с внушительным списком различных вопросов.
Почти неизменно, за очень редким исключением, он соглашался повидать их. В начале беседы он обычно вел себя так, будто исполнял скучную обязанность, и, казалось, замыкался в скорлупу.
Но через несколько минут он оживлялся, и посетитель не всегда замечал, что Президент сам задает вопросы, вместо того чтобы отвечать на них.
Некоторые гости по истечении получаса собирались уходить. В противном случае в дверях молча появлялась Миллеран, давая понять, что время истекло.
— Мы сейчас закончим наш разговор… — говорил Президент.
Это «сейчас» длилось иногда очень долго, полчаса превращались в час, затем в два, и кое-кто из гостей бывал чрезвычайно удивлен, когда его вдруг просили остаться и приглашали к обеду.
Эти визиты утомляли Президента, но в то же время и развлекали его, и когда наконец он оставался один на один с Миллеран, то потирал руки с довольным видом.
— Он приезжал кое-что выведать у меня, а я у него выведал все, что хотел!
Иногда, перед тем, как должно было состояться свидание, он шутливо спрашивал:
— Какой же из моих акробатических номеров мне следует сегодня исполнить?
В этой шутке заключалась доля правды.
— Надо же мне позаботиться о своем памятнике! — бросил он однажды, когда был в веселом настроении.
Не признаваясь в этом, даже в глубине души, он заботился о том образе, который по себе оставит. Случалось, что его сердитые реплики, которыми он так славился, были не совсем искренними, они относились скорее к его «акробатическим номерам». В подобные минуты он не терпел присутствия Миллеран, ибо несколько стеснялся ее, так же, как стыдился в присутствии мадам Бланш наготы своего немощного тела.
— Вам больше ничего не понадобится, господин Президент?
Старик бросил взгляд вокруг себя. Бутылка с минеральной водой и стакан были на месте. Рядом лежал порошок, который он принимал на ночь для того, чтобы заснуть. Миниатюрная лампочка-ночник была уже зажжена. Ночной фонарь тоже был наготове.
— Спокойной ночи, господин Президент. Надеюсь, мне не придется будить вас до завтрашнего утра.
Лампочка на потолке погасла, шаги Эмиля затихли, дверь кухни открылась и вновь закрылась. В комнату вошли тишина и одиночество — они были почти осязаемы, их особенно подчеркивала буря, шумевшая за стенами дома.
С тех пор, как он стал стариком, он почти не испытывал потребности во сне и в течение уже многих лет каждый вечер по два-три часа перед тем, как заснуть, лежал без движения на своей постели, — казалось, жизнь в нем еле теплится.
Строго говоря, это была не бессонница. Он не ощущал ни раздражения, ни нетерпеливого желания заснуть, его состояние отнюдь не было мучительным. Напротив! Днем его часто радовала мысль о той минуте, когда наконец ночью он останется наедине с самим собой.
Теперь, когда в спальне появился ночник, одиночество стало еще приятнее; при бледном голубоватом свете он сильнее ощущал — даже когда у него были сомкнуты веки — атмосферу деятельной сокровенной жизни, которая продолжалась вокруг него.
Все сливалось воедино: стены, мебель, очертания которой были так хорошо ему знакомы, привычные вещи, которые он видел, не глядя на них. Ему казалось, он даже чувствует их вес и плотность. Ветер, дождь, крик ночной птицы, шум прибоя, береговых скал, скрежет оконных ставень, чьи-то шаги в комнатах наверху — все, вплоть до звезд, мерцающих в безмолвии небес, составляло симфонию, а в центре ее, безучастный на вид, был он сам, и сердце его своим биением как бы дирижировало этим ночным концертом.
Может быть, скоро, такой же ночью, его настигнет смерть? Он знал, что никто в доме не будет удивлен, если однажды утром его найдут в постели уснувшим навеки. Он знал, что порой старики незаметно для самих себя угасают во время сна.
Миллеран, как он указывал, боялась, что это произойдет скорее всего в предвечерний час, когда он задремлет в своем старом кресле со скрещенными на животе руками.
Теперь и лежа в кровати, он принимал эту позу, позу мертвеца в гробу. Он делал это неумышленно, но оттого, что мало-помалу стал находить это положение удобным и естественным.
Было ли это предзнаменованием?
Он не верил ни в какие предзнаменования. Он не желал верить во что бы то ни было, он не верил теперь даже в полезность того дела, которое совершил. За всю свою жизнь он по крайней мере раз десять почел себя обязанным сделать нечеловеческое усилие, абсолютно необходимое, как он думал тогда, и в продолжение долгих дней, месяцев, многих лет жил в лихорадочном напряжении, преследуя поставленную перед собой цель наперекор всему и всем.
В этих случаях его неиссякаемая энергия, его могучая жизненная сила, приводившая в восторг профессора Фюмэ, сообщалась не только ближайшим его соратникам и палате депутатов, но всей стране, всему народу. Миллионы неведомых ему людей, вначале настороженных и недоверчивых, ловили себя на том, что слепо, в конце концов, идут за ним.
Из-за этого, почти биологического его свойства именно к нему прибегали за помощью в самые трудные минуты, когда, казалось, нет никакого выхода.
Сколько раз слышал он одни и те же слова доведенного до отчаяния очередного главы государства: «Спасите Францию!», или «Спасите Республику!», или еще «Спасите Свободу!». Во время каждого кризиса он незыблемо верил в свою миссию и не мог бы действовать без этой веры. Она была так глубока, что во имя ее он пожертвовал бы всем на свете — не только самим собой, но и другими людьми, а это было самое трудное.
Он до сих пор с ужасом, с содроганием вспоминал о первых своих шагах на посту министра внутренних дел… Он снова видел себя в черном, неумолимом кольце угольных шахт и доменных печей… Он стоял один между негодующими забастовщиками и отрядом солдат, которых вызвал, пытаясь договориться в последний раз…
Как только он намеревался что-то сказать, гул протестующих голосов покрывал его слова. Потом, когда он замолчал, бессильно опустив руки, застыв на месте, как темный, зловещий и, несомненно, нелепый силуэт, наступила долгая напряженная пауза, свидетельствующая о колебаниях, о нерешительности обеих сторон.
Оба лагеря исподволь наблюдали друг за другом с недоверием и опаской, и вдруг, как по сигналу, — позднее было установлено, что сигнал действительно был, — кирпичи, камни, куски чугуна взлетели в воздух, а кони начали ржать и рыть копытами землю.
Он знал, что за это решение его будут упрекать, пока он жив, что назавтра большая часть страны проклянет его.
Но он считал своим долгом…
— Атакуйте, полковник!
Спустя восемь дней на стенах города были расклеены плакаты, изображавшие его с отвратительной усмешкой на губах, с окровавленными по локоть руками, а правительство было низвергнуто.
Но порядок был восстановлен…
Десять, двадцать раз он уходил в тень, исполнив то, что считал необходимым, и угрюмо и молчаливо ждал в рядах оппозиции, пока его снова ни призовут на помощь.
Однажды какой-то человек, ничем не примечательный, вроде Ксавье Малата, пришел просить его о назначении на пост, на который не имел права. Президент отказал ему. Выйдя из его кабинета, проситель выстрелил себе в рот прямо в многолюдной приемной.
С некоторых пор по совету врачей — его трех мушкетеров — он принимал на ночь легкое снотворное. Оно действовало не сразу, он постепенно погружался в приятное забытье, к которому теперь привык.
Порой он не сразу прибегал к этому лекарству, желая сохранить ясность мысли и продлить на полчаса, а то и больше разговор с самим собой. Он стал жаден к жизни. Ему казалось, что необходимо решить еще множество вопросов, и не только вполне спокойно и хладнокровно, но и без тени лицемерия, и это он мог сделать только ночью, лежа в постели.
Это дело, самое сокровенное из всех дел и касающееся лишь его одного, ему хотелось закончить прежде, чем он уйдет. Хотелось, ничего не оставляя в тени, пересмотреть все свои поступки и бесстрастно, и нелицеприятно. Не для того ли, чтобы помочь себе в этом, он начал читать такое множество мемуаров, исповедей, дневников?
Но его неизменно постигало разочарование, это чтение его раздражало, и у него подчас было такое чувство, будто его обманули. Он искал неприкрашенной, голой правды, как искал ее в самом себе — пусть отвратительной и ужасающей, но истинной правды.
Однако все, кого он читал, приукрашивали себя, — он достаточно долго прожил, чтобы понимать это. Все притворялись, а может быть, и в самом деле считали, что нашли, в чем заключается правда, а он, ищущий так ожесточенно, так страстно, не находил ее!
Всего час или два назад, когда по радио он услышал голос Шаламона, ему пришлось напрячь все силы, чтобы не поддаться порыву чувств. Но разве в своем кабинете на улице Матиньон он не считал, что абсолютно прав, когда диктовал уничтожающий документ своему сотруднику, а тот, обливаясь потом, запах которого распространялся по всему кабинету, послушно писал, и в конце разве не он поставил свою подпись.
Если Президент нуждался в других доказательствах, кроме этой безмолвной покорности и полного повиновения, их было больше чем Достаточно в последующие дни, когда секретное расследование министерства финансов установило, что за спекуляциями, из-за которых страна потеряла несколько миллиардов, стоял банк Волларда.
Банк Волларда на улице Вивьен, малоизвестный широкой публике, был частным предприятием и состоял в тесном содружестве с группой самых влиятельных финансистов Уолл-стрита, Этьен Воллард, директор банка, приходился Шаламону тестем.
Но разве председатель Совета министров, знавший о родственных связях своего секретаря, не нес ответственности за то, что взял его на завтрак в Мелен и навязал его присутствие остальным приглашенным?
Ни на мгновение ему тогда не пришла в голову мысль, что Шаламон способен обмануть его доверие. В саду Аскэна до и после игры в кегли он верил своему сотруднику, как самому себе.
Точнее говоря, он верил не столько человеку, сколько его миссии. Эту мысль он и высказал в беседе с профессором Фюмэ на авеню Фридланд. Он был убежден, что Шаламон уже давно перешагнул ту невидимую черту, за которой личность человека целиком растворяется в государственной задаче, выполнению которой он себя посвятил.
В день, когда он диктовал Шаламону письмо, мировоззрение Президента пошатнулось, грозило опрокинуться.
Он снова видел начальника своей канцелярии… Когда, закончив письмо, тот направился к двери и взялся за ручку, мысль о том, что Шаламон намерен покончить с собой, как это сделал когда-то обманутый в своих ожиданиях проситель, не пришла Президенту в голову, да она и не повлияла бы на него.
— Подождите.
Шаламон стоял спиной к Президенту, не решаясь повернуться и очутиться лицом к лицу с ним.
— Я не могу сегодня в течение еще некоторого времени принять вашу отставку или же немедленно выставить вас за дверь. — Он говорил быстро, вполголоса, отчеканивая каждое слово. — Чрезвычайно важные причины мешают мне, к глубокому моему сожалению, предать суду вас, вашего тестя и его соучастников…
Начать судебный процесс — значило бы вызвать грандиозный скандал, а это пошатнуло бы доверие к правительству и только усугубило бы трагическую ситуацию.
Ввиду этих обстоятельств предательство Шаламона становилось еще более гнусным. Ведь тот знал: что бы ни случилось, его вынуждены будут покрыть, поступок обойдут молчанием и замнут дело, а это окончательно выводило Президента из себя. Банк Волларда сыграл наверняка, и назавтра все увидят Этьена Волларда в светло-сером цилиндре на трибуне владельцев скаковых конюшен в Отейе или Лонгшане на скачках, в которых будут участвовать его лошади. И если через две недели Воллард выиграет приз Республики, главе правительства неизбежно придется поздравить его и пожать ему руку.
— Впредь, до новых распоряжений вы будете, как обычно, выполнять свои обязанности, и для посторонних в наших отношениях ничто не изменится.
Это испытание продолжалось две недели. Правда, Президент в то время был настолько занят, что ему было некогда думать о своем секретаре.
Когда они оставались наедине, он избегал обращаться к Шаламону, а если это было необходимо, то отдавал приказания безразличным тоном.
Не раз за эти дни Шаламон открывал рот, казалось, он испытывает мучительное желание что-то сказать, в эти минуты он бросал на своего начальника умоляющие взгляды.
Он уже не был ни юнцом, ни молодым человеком, ни даже, как говорится, начинающим политическим деятелем. Это был зрелый человек, на заметном посту, и потом, его унижение было не трагическим, а омерзительным.
Как он держался с женой вечером за обеденным столом? Что говорил тестю и его сообщникам? Какие мысли мелькали у него в голове, когда он называл адрес министерства своему шоферу, усаживаясь за его спиной в автомобиле?
В одно прекрасное утро Президент нашел на своем письменном столе письмо, адресованное на его имя и написанное почерком начальника его канцелярии. Пока Шаламона не было, он не притронулся к письму, но, как только тот появился и подошел к нему, Президент взял двумя пальцами нераспечатанный конверт, изорвал его на мелкие куски и бросил под стол в корзину для бумаг.
Им предстоял последний разговор. Президент был краток. Ни разу не взглянув на собеседника, стоявшего по другую сторону его письменного стола, он проговорил:
— С этой минуты вы можете считать себя свободным.
Шаламон не шевельнулся, а Президент положил перед собой папку с текущими делами.
— Да, я чуть не забыл… в будущем я избавлю вас от необходимости раскланиваться со мной… Ступайте!
Он открыл папку и взял красный карандаш, которым имел обыкновение делать заметки на документах.
— Я сказал: ступайте!
— Вы категорически отказываетесь выслушать меня?
— Категорически. Будьте любезны выйти.
Сейчас он вздрогнул на своей постели — снаружи ему почудился какой-то шум. Но через минуту он различил шаги одного из полицейских агентов, ходившего взад и вперед возле дома, чтобы согреться.
Вот уже восемь дней, как бедняга Курно взывал поочередно к представителям различных партий. Некоторые отказывались сразу же. Другие начинали консультации, длившиеся день-два. Рассматривались различные комбинации, в печати назывались имена, даже публиковались предполагаемые списки, но в последнюю минуту все рушилось, и карусель в Елисейском дворце начиналась сызнова.
Там, где остальные потерпели неудачу, Шаламон имел некоторые шансы на успех. Влияние его малочисленной группы объяснялось ее промежуточным положением арбитра между центром и левыми, а кроме того, у нее было еще одно преимущество — она не была связана какой-либо жесткой доктриной. И наконец, именно сейчас, когда мнения партий по вопросу о заработной плате и по другим экономическим вопросам разошлись, многим казалось, что независимые левые способны более или менее удовлетворительно разрешить эти неотложные проблемы.
Главным козырем Шаламона была его гибкость, умение маневрировать. Кроме того, ему было шестьдесят лет, и его относили к старой гвардии Бурбонского дворца, а потому он мог рассчитывать на поддержку старинных друзей и на свои обширные связи, созданные благодаря различным услугам и мелким компромиссам.
Что ответил бы Президент теперь, если бы в данную минуту его спросили?
— Считаете ли вы, что Шаламон способен найти выход из правительственного кризиса?
Осмелился бы он промолчать? Или откровенно ответил бы то, что думал:
— Да.
— Считаете ли вы, что его приход к власти позволит избежать всеобщей забастовки, которая грозит стране?
И на это он, бесспорно, ответил бы:
— Да.
Неоднократно в прошлые времена, когда Шаламон был его правой рукой, он помогал ему разрешать конфликты с профсоюзами. Сей зять банкира, живущий у Булонского леса, представитель самого богатого парижского округа в палате депутатов, маневрировал лучше, чем кто бы то ни было, при переговорах с делегатами от рабочих.
Президент едва не прервал своих размышлений, ибо ему становилось все больше не по себе от этих мыслей. Но желание добраться до самой сути одержало верх.
— Обладает ли Шаламон качествами истинного государственного деятеля?
Он не желал, он отказывался отвечать на этот вопрос, но тогда возникал следующий:
— Кто среди теперешних политических деятелей больше Шаламона подходит на пост премьер-министра?
Пожалуй, действительно никто. Может быть, и Президент испытывал на себе неумолимое воздействие закона старости, в силу которого в определенный момент начинают искажаться самые непоколебимые, самые устоявшиеся взгляды?
Но в таком случае вместе с ним постарели и газеты; возможно, это и в самом деле было так, ибо во главе прессы и в составе редакций многих газет бессменно стояли все те же люди, которых Президент знал лет тридцать-сорок тому назад.
Ведь и они тоже при каждом кризисе намекали на страницах печати, что в былые времена государственными деятелями становились люди более крупного масштаба, и оплакивали отсутствие достойных людей, которые были бы под стать прежним «великим»; отсутствие смены ощущалось не только во Франции, но и в дружественных ей странах.
Впрочем, можно ли утверждать, что человечество действительно пережило эпоху по-настоящему великих государственных деятелей, из которых, кроме графа Корнели, итальянца, доживавшего свои дни в санатории для душевнобольных в предместьях Рима, оставался в живых лишь Президент…
Он снова прислушался — на сей раз Эмиль задел табуретку на кухне. Он чуть не позвонил, чтобы приказать шоферу идти ложиться спать. Его мысли приняли неприятное направление, и ему даже захотелось немедленно проглотить порошок, лежавший подле стакана с водой.
Маяк Антифера за Этрета и маяк Богоматери-спасительницы у порта Фекан шарили прожекторами по небу, покрытому тучами, и скрещивали сияющие снопы своих лучей у прибрежных скал Эберга.
По бурному морю плыли, конечно, какие-то корабли, и закоченевшие моряки в клеенчатых плащах, капюшонах и резиновых сапогах, стоя на скользких капитанских мостиках, следили за курсом по холодным, влажным приборам.
В деревне светилось только одно окно — окно той комнаты, где мать его служанки Мари лежала в ожидании родов.
Он не полюбопытствовал, прежде чем лечь спать, действует ли телефон, и не проверил его. Вряд ли линию починили. Неполадки с телефонной связью всегда длились дольше, чем неполадки с электричеством.
Сейчас было одиннадцать часов. А что, если автомобиль Шаламона потерпел аварию и застрял где-нибудь на обочине безлюдной дороги?
Действительно ли в последние годы Шаламон пытался получить обратно свою исповедь, которую подписал при столь драматических обстоятельствах?
Если бы не эта, уже пожелтевшая бумага, против него не осталось бы никаких улик, кроме показаний одного дряхлого старика, которого столько людей считали разочарованным, озлобленным против всего человечества за то, что ему не удалось стать под конец жизни президентом Республики.
Аскэн умер в своем чудесном особняке в Мелене, куда удалился после тяжелого поражения на выборах и где, несомненно, провел свои последние годы за игрой в кегли. Он не оставил ни мемуаров, ни состояния, и двое его сыновей, из которых один был ветеринаром, а другой посредником по продаже фармацевтических препаратов, продали имение и особняк, на котором когда-то блистал щит с нотариальным гербом.
Итак, Аскэн уже никого не мог обвинять. Что касается Лозе-Дюше, то и он давно умер от кровоизлияния в мозг, когда произносил заключительную речь на каком-то банкете в Брюсселе.
Остальные ничего не знали. Ведь в живых оставалось лишь несколько чиновников, игравших в этой истории весьма второстепенную роль, причем каждый из них был посвящен в нее только частично.
Но был клочок бумаги…
Не его ли искали в Эберге последние месяцы? В других книгах, помимо «Приключений короля Позоля», хранилась добрая сотня документов, столь же опасных для некоторых лиц, как этот клочок бумаги для Шаламона. Невозможно не быть свидетелем многочисленных подлостей, когда большую часть жизни, к тому же столь долгой, проводишь не только на политической арене, но и за ее кулисами.
И если бы теперь его спросили:
— Знаете ли вы хотя бы одного-единственного политического деятеля, который на определенном этапе своей карьеры не…
Он сразу же прервал себя, подобно тому как обрывал других:
— Нет!
Сегодня он отказывался продолжать начатую игру. Он не желал себя обманывать!
Внезапно, приподнявшись на локте, он схватил порошок, проглотил его и выпил глоток воды.
Ему хотелось заснуть, и притом как можно скорее, чтобы ни о чем больше не думать.
Последним смутным видением, которое промелькнуло перед его мысленным взором, был человек с какими-то стертыми чертами лица, лежащий на больничной койке. По всей вероятности, то был Ксавье Малат. Какая-то сиделка заботливо меняла ему белье, как ребенку, а он тихонько посмеивался и заявлял, что ни за что не умрет раньше, чем наступит черед Президента.
— Сначала Огюстен! — повторял он, лукаво подмигивая.
V
Даже не открывая глаз, он знал, что на дворе еще ночь и бледный ночник, как крошечная луна, слабо озаряет угол комнаты. Он чувствовал также, что происходит нечто странное, но не мог определить, что именно. Чего-то не хватало; скорее это было чье-то отсутствие, чем присутствие, и когда он окончательно очнулся от сна, то понял, что его тревожило безмолвие, царившее за стенами дома; глубокая тишина пришла на смену яростной буре последних дней. Казалось, Вселенная вдруг перестала вибрировать.
Слабый свет крался из-под двери, он видел его сквозь полузакрытые веки. Для того чтобы посмотреть на будильник, пришлось бы повернуть голову, но он предпочитал не шевелиться.
Он прислушался. В соседней комнате кто-то двигался без особой осторожности, он различил стук поленьев, которые складывали у камина, и знакомое потрескивание. Наконец он уловил легкий запах дыма и только тогда позвал:
— Эмиль!
Шофер, еще не успевший побриться и надеть свою белую куртку, открыл дверь. После бессонной ночи глаза его казались особенно блестящими.
— Вы меня звали, господин Президент?
— Который час?
— Начало шестого. К концу ночи вдруг похолодало, возможно, будет мороз. Поэтому я зажег огонь в камине. Я вас разбудил?
— Нет.
Немного помолчав, Эмиль заметил:
— Ну вот, как видите, никто не приехал.
Старик отозвался:
— Никто не приехал, ты прав.
— Вы хотите, чтобы я подал вам чай?
Лежа на спине, он следил за пламенем, которое причудливо извивалось в камине.
— Да, пожалуйста!
И когда Эмиль подошел к двери, он попросил:
— Сначала открой ставни, хорошо?
Вечерами он любил, отрешаясь от всего, погружаться в тишину и одиночество, но по утрам, охваченный тревожным волнением, граничившим со страхом, торопился возобновить контакт с повседневной жизнью.
День настанет еще не скоро, рассвет еще не начался, но ночь была нетемной, прозрачная дымка, оказавшаяся туманом, успела проникнуть в комнату, пока Эмиль, высунувшись из окна, распахивал ставни.
Мороз щиплет, как в середине зимы, и скоро из-за этой сырости, которой земля пропиталась, как губка, не видно будет ни зги.
Когда Эмиль открыл окно, установив таким образом контакт с внешним миром, они услышали где-то далеко глухой жалобный вой сирены. Среди ночи ветер вдруг стих, но жизнь, приостановленная штормом, еще не успела войти в свою обычную колею, и сельские просторы все еще были погружены в какое-то странное оцепенение.
— Я принесу вам чаю через пять минут.
Пить кофе ему запретили, он имел право только на жидкий чай. Из всех предписанных ему ограничений только это было для него тяжелым. Иногда он заходил на кухню в те часы, когда Габриэла готовила утренний завтрак для персонала, лишь для того, чтобы вдохнуть аромат крепкого кофе.
Шаламон не явился, но рано было думать о нем, ведь ничего еще не было известно. Тем не менее несостоявшийся визит, которого Президент ждал почти с уверенностью, принес ему смутное, еще неосознанное разочарование. Ему было тревожно и как-то не по себе, словно чего-то не хватало, словно жизнь утратила свою полноту.
Сидя в постели, он выпил чаю, пока Эмиль готовил ему белье и костюм. Он всегда был одет с самого утра, и очень немногие могли бы похвастать, что видели его неодетым. Даже халат, с его точки зрения, полагалось носить только в спальне, и он никогда не появлялся в нем у себя в кабинете.
Он пошел принимать душ — по настоянию врачей ему пришлось отказаться от ванны — и по дороге бросил взгляд в окно: невдалеке от дома он заметил красный огонек сигареты.
— Это все еще Эльвар?
— Нет. Руже сменил его около двух часов ночи, приблизительно в то время, когда погода изменилась. Я только что угостил его чашкой кофе.
Дом пробуждался. Зажегся свет в комнатах Миллеран и Габриэлы. Скоро Габриэла спустится растапливать печь на кухне. Где-то потекла вода из крана. В ближайшем хлеву замычала корова, ей слабо отвечала другая откуда-то издалека. Пока длилась буря, коров не было слышно.
Он быстро принял теплый душ, как ему было предписано, после чего Эмиль помог ему вытереться и одеться. От Эмиля, особенно по утрам, сильно несло табаком. Президенту это было неприятно, но он не считал себя вправе требовать от своего шофера, чтобы тот бросил курить.
— Если я вам больше не нужен, я пойду оденусь и побреюсь.
Президент любил эти ранние часы. Летом, когда рассветало, он видел, как дети гнали стадо на луг, расположенный вдоль высокого берега. Постепенно в доме пробуждалась жизнь. Он ходил взад и вперед мимо полок с книгами по всем четырем комнатам с низкими потолками, скучал от безделья, но не раздражался. Он то останавливался, то шел дальше, то выходил на порог, чтобы вдохнуть запах влажной земли и травы. С недавних пор земля и трава вновь обрели тот запах, который он знал во времена своего детства.
Зимой и осенью он наблюдал за тихим рождением дня, и почти всегда вялый дымок испарений неслышно поднимался с земли, образуя рваную пелену, сквозь дыры которой порой можно было различить церковную колокольню.
Сегодня у зари не было красок, заря была цвета белой с черным гуаши, и наступление дня отмечалось лишь тем, что молочно-белый туман постепенно становился все гуще.
На кухне садились завтракать. В окно он увидел смутное очертание дерева у главного входа. Ствол его клонился к востоку из-за постоянных ветров с моря, к востоку тянулись и оголенные мокрые ветви. У дома зыбко, словно привидение, вырисовывался силуэт полицейского агента. Казалось, он находится где-то очень далеко, в ином мире, не слышно было даже его шагов, как будто утренний туман заглушил все звуки и стер все линии.
Время от времени Президент посматривал то на свои часы, то на небольшой приемник на столе. Незадолго перед тем, как настало время включить его, он из окна увидел Мари: медленно вырастая из тумана, она выделялась все отчетливее, и ее красная фуфайка была единственным ярким пятном на фоне белесого пейзажа.
На каждом волоске ее растрепанной головы, должно быть, трепетали росинки, как и на каждом стебельке травы, по которой она ступала. Когда она шумно распахнула двери в кухню, послышались восклицания и смех Эмиля. В эту ночь ее мать, наверное, родила, но Президент не позвал Мари, чтобы спросить об этом.
Хоть он и считал минуты, но повернул выключатель слишком рано и вынужден был прослушать какую-то глупую песенку, потом метеорологическую сводку, которая его совсем не интересовала.
«…Четверг, четвертое ноября. День святого Шарля. Цены на Центральном парижском рынке. Фрукты и овощи…
«Итак, наш первый выпуск информации. Новости Франции. Париж. Как того и ожидали вчера вечером, шумное оживление царило всю ночь на бульваре Сюше, где господин Филипп Шаламон, которому президент Республики поручил сформировать коалиционное правительство, принял некоторых политических деятелей, принадлежавших к разным партиям. Около четырех часов пополудни из квартиры депутата шестнадцатого округа вышел лидер партии радикалов Эрнест Грушар, который предварительно встретился с представителем социалистической группы. Он высказал удовлетворение по поводу происходивших переговоров. Ожидают, что сегодня утром господин Шаламон, как он вчера обещал, приедет в Елисейский дворец и даст окончательный ответ главе государства. На борту парохода «Мелина» общества «Морских транспортов»…»
Президент выключил радио, не заметив, что Миллеран вошла в кабинет. Его охватило тоскливое недоумение и ощущение пустоты, напоминавшее чувство, которое он испытывал ночью, когда глубокая тишина сменила яростный шум вчерашней бури.
Он ждал Шаламона, почти уверенный, что тот приедет. Может быть, в глубине души он этого хотел? Он и сам не знал. Он не желал признаваться в этом, особенно теперь.
Пока он воображал, что его бывший сотрудник мчится к нему сквозь дождь и ветер, и даже предполагал, что тот, потерпев аварию, застрял в дороге, Шаламон в квартире на бульваре Сюше с холодным спокойствием продолжал свою игру и принимал одного за другим представителей различных политических партий.
Это было столь неожиданно, столь невероятно, что Президент никак не мог стряхнуть с себя оцепенение и раз даже машинально притронулся указательным пальцем к уголку глаза, где скопилось немного влаги.
Заметив наконец, что перед ним стоит Миллеран, и сердясь на нее за непрошеное вторжение, он спросил, словно возвращаясь откуда-то издалека:
— В чем дело?
— Я хотела узнать, не позвонить ли сейчас в Эвре?
Он молчал, собираясь с мыслями, а Миллеран продолжала:
— В больнице обычно круглосуточное дежурство, может быть, не стоит ждать до девяти часов?
Он неподвижно сидел в кресле, и его остановившийся взгляд начинал беспокоить Миллеран; но, зная по опыту, что должна притворяться, будто ничего не замечает, она объявила на всякий случай, чтобы прервать затянувшееся молчание:
— У Мари появилась еще одна сестренка. Пятая девочка в семье.
— Оставьте меня одного на некоторое время, прошу вас.
— Можно, я пойду к себе в кабинет?
— Нет. Куда-нибудь в другое место. Куда хотите.
Оставалось одно объяснение, которое, с его точки зрения, было естественным. Он надеялся, что Шаламон не приехал только потому, что ему удалось завладеть своей исповедью. Чтобы проверить это предположение, он удалил Миллеран и, как только она отворила дверь в кухню, направился в последнюю комнату и с лихорадочной поспешностью схватил «Приключения короля Позоля» в тяжелом футляре.
В этот миг ему так хотелось…
Но вторая тетрадь открылась сама на сороковой странице, и лист бумаги со штампом президиума Совета министров, как бы в насмешку, оказался на месте, похожий на старое, никому не нужное любовное письмо или засушенный цветок, забытый меж страницами книги. Столь же мало значил теперь и этот лист бумаги, несмотря на свой трагический смысл и те заботы, которыми Президент его окружал, ибо выцветшие строки ничему не помешали.
«Я, нижеподписавшийся Филипп Шаламон…»
Нетерпеливым жестом, который он позволил себе всего два-три раза в жизни и которого сразу же устыдился, он с силой швырнул книгу на пол и тут же с унизительной торопливостью стал собирать разлетевшиеся по полу листы и гравюры.
Да, из-за своего бывшего секретаря он ползает по паркету и в страхе оглядывается на дверь, боясь, что кто-нибудь войдет и застанет его на четвереньках! И как смешно и жалко выглядел бы он, если бы нога сыграла с ним прежнюю шутку сейчас, когда он согнулся в такой нелепой позе!
Миллеран ждала на кухне, не зная, что происходит здесь, в кабинете, и чутко прислушивалась. Прошло, по крайней мере, минут десять, пока звонок не позвал ее обратно.
Президент по-прежнему сидел в кресле «Луи-Филипп». Его волнение улеглось, уступив место ледяному спокойствию, от которого ей стало не по себе, ибо оно было столь же неестественным, как и его глухой голос с непривычными интонациями.
— Можете позвонить в Эвре.
В данный момент здоровье Малата мало его беспокоило, но необходимо было, чтобы жизнь немедленно вошла в свою обычную колею и мелкие каждодневные события чередовались в привычной последовательности. Это было своего рода нравственной гигиеной и единственным способом сохранить душевное равновесие.
Если бы бумага исчезла из книги Пьера Луиса, он бы понял, он бы принял, может быть, даже одобрил поведение Шаламона, и лично его это не задело бы.
Но документ по-прежнему находился в его руках, а это коренным образом меняло дело. Вывод мог быть только один: его бывший секретарь цинично считает, что дорога для него теперь открыта и препятствий на его пути к власти более не существует.
Правда, где-то там, в Нормандии, на крутом берегу у самого моря, еще живет старик, долго пугавший его клочком бумаги, но документ этот успел потерять всякую цену, а чернила, которыми он был написан, давно выцвели…
Шаламон вел себя так, будто Президент был уже мертв.
Тщательно все продумав, взвесив все «за» и «против», ясно сознавая, что он рискует, и предвидя все возможные последствия, в эту ночь Шаламон принял окончательное решение.
Ему и в голову не пришло позвонить. Повреждение на линии не играло здесь никакой роли! Он не предпринял поездки в Эберг и на этот раз не послал никого, кто бы выступил в его защиту или вел бы переговоры от его имени.
— Алло! Больница Эвре?
Неужели Президент был способен проявлять сейчас заботу о маньяке, преследовавшем его столько лет? Неужели он дошел до этого? Ему хотелось броситься в соседнюю комнату, вырвать трубку из рук Миллеран и дать отбой. Все раздражало его, в том числе и туман, неподвижный и бессмысленный, который прильнул к окнам и придавал миру такой потусторонний вид.
— Да, я слушаю… Вы говорите, он… Я вас плохо слышу, мадемуазель… Да, да… Теперь лучше. Вы не знаете, с какого часа… Понимаю… Вероятно, я снова позвоню вам… Благодарю…
— Ну что? — буркнул он сердито, когда вошла смущенная Миллеран.
— Доктор Жакмон или Жомон, я не расслышала, сейчас его оперирует… Операция началась в четверть восьмого… Предполагают, она займет много времени… По-видимому…
— Почему вы сказали, что опять позвоните?
— Не знаю… Я думала, вы захотите узнать…
Он отрезал:
— Вы здесь не для того, чтобы думать!
Все было до такой степени глупо, что он готов был биться головой о стену. С какой стати он волнуется за судьбу совершенно ему различного человека, которого давно следовало бы упрятать в психиатрическую больницу… Но, собственно говоря, за что? Очевидно, лишь за то, что в течение сорока лет этот человек повторял:
— А все-таки я приду на твои похороны…
И вот сам Малат, которому было восемьдесят три года — он был на год старше своего школьного товарища, — угодил на операционный стол: рак горла так и не вылечили, несмотря на предыдущие вмешательства. Выдержит ли он операцию? Впрочем, какое это могло иметь значение!
— Скажите Эмилю, чтобы он отправился в Этрета за газетами.
— Кажется, едет парикмахер, — доложила Миллеран, повернувшись к окну и увидев человека на велосипеде. В густом тумане его фигура принимала какие-то фантастические очертания.
— Пусть войдет.
Парикмахер Фернан Баве, шорник по основной профессии, приезжал по утрам брить Президента, ибо тот был одним из немногих представителей далекой эпохи, когда мужчины сами не брились, и ни за что не желал изменять этой своей привычке, так же как не хотел учиться водить автомобиль.
Баве, краснолицый, полнокровный толстяк с хриплым голосом, вошел к нему со словами:
— Ну, что вы скажете, господин Президент, об этой мерзкой погоде? На три метра ничего перед собой не видишь, и у калитки я чуть не наехал на одного из ваших ангелов-хранителей…
Обычно пальцы парикмахеров пахнут табаком, и это уже достаточно неприятно. Но от пальцев Баве к тому же пахло сыромятными ремнями, а изо рта несло водочным перегаром.
С годами обоняние Президента становилось все более чувствительным. Некоторые запахи, на которые он раньше не обращал внимания, теперь вызывали у него отвращение, словно по мере того, как его тело высыхало, все земное начинало ему претить.
— Скажите-ка, вы ведь в курсе этих дел, будет у нас хоть какое-нибудь правительство?
Но Президент не ответил на развязный вопрос Баве, и тому пришлось замолчать. Баве немного обиделся, так как имел обыкновение говорить в кафе своим приятелям:
— Старик?.. Я ведь брею его каждое утро, для меня он такой же человек, как все, и я разговариваю с ним совершенно запросто, ну, как с вами, например.
Но ведь у каждого бывают хорошие и плохие дни, не правда ли? Покончив с бритьем, парикмахер собрал инструменты, попрощался со своим клиентом и направился в кухню, где Габриэла обычно угощала его рюмкой коньяка. Послышался шум мотора, Эмиль разогревал машину, чтобы ехать за газетами в Этрета. В бенувильском гастрономическом магазине получали только гаврскую, да с большим опозданием две-три парижские газеты.
Каждый час по радио сообщали краткий обзор последних событий, и в девять часов Президент включил приемник, но услышал лишь повторение того, что передавали рано утром.
Повернувшись к Миллеран, которая разбирала корреспонденцию, он спросил ее таким нетерпеливым тоном, что она даже вздрогнула:
— Ну? Когда же вы позвоните в Эвре?
— Простите, пожалуйста…
Она не решалась звонить, ибо совершенно растерялась и не знала, что же ей можно делать, а чего нельзя.
— Дайте мне Эвре, мадемуазель… Да, тот же номер, что и в прошлый раз… Вне очереди, правительственный, да…
Каждое новое правительство делало красивый жест и оставляло ему приоритет в телефонных переговорах, как если бы он все еще был министром. Будет ли он по-прежнему пользоваться этой привилегией и при правительстве Шаламона?
Почему сегодняшний день казался ему таким пустым и унылым, хотя ничем не отличался от других дней? У него было такое ощущение, будто он кружит в пустоте, как рыба в тесном аквариуме, и, как рыба, хватает ртом воздух…
Никогда раньше время не тянулось так долго. Через несколько минут после того, как Миллеран распечатает все конверты и отложит в сторону счета, рекламные брошюры и приглашения (некоторые упрямо продолжали присылать их), она принесет ему письма.
Обычно они его развлекали: среди них всегда попадалось что-нибудь неожиданное или забавное, и он не считал для себя скучным занятием указывать Миллеран, какой следует составить ответ, или же сам диктовал ей, когда думал, что это имеет смысл.
В предыдущие дни он не сердился на бурю, которая, казалось, должна была его раздражать, а теперь почему-то с ненавистью глядел на утонувшие в тумане поля, как если бы подозревал природу в коварном намерении его задушить.
Ему трудно было дышать. Через четверть часа мадам Бланш придет делать ему укол. После вчерашней прогулки, которой она хотела воспрепятствовать, и еще потому, что он стал чихать, и это от нее не ускользнуло, она будет подозрительно наблюдать за ним, думая, что он от нее что-то скрывает.
Он не выносил женщин, считающих всех людей детьми, у которых необходимо вырвать признание в каком-нибудь обмане. Мадам Бланш пригрозила ему бронхитом и будет искать симптомы бронхита. Разве не от него умирают старики, у которых нет других болезней?
— Я слушаю… Да… Что?! Нет… Не стоит его беспокоить… Благодарю вас…
— Кого беспокоить?
— Хирурга.
— Почему?
— Старшая сестра, с которой я говорила, предположила, что вы, может быть, захотите узнать подробности…
— Подробности чего?
Не успела Миллеран ответить, как он воскликнул:
— Он умер, да?
— Да… во время операции…
— А мне-то какое дело до этого? Вы, кажется, воображаете… Подождите! Напишите записку директору больницы, чтобы его не хоронили в общей могиле! Пусть его похоронят прилично… Спросите цену, я подпишу чек…
Почувствовал ли он облегчение оттого, что его школьный товарищ, несмотря на свое фанфаронство, ушел первым? Ксавье Малат ошибся. Ему не помогло то, что он так цеплялся за жизнь. Правда, у Ксавье еще оставался единственный и последний шанс для исполнения его желания — их обоих могли похоронить в один и тот же день. Однако Президент твердо решил, что этого не произойдет.
Из тех, кто знал улицу Сен-Луи их детства, кроме него, в живых теперь остался лишь один человек — старушка, которая была когда-то маленькой рыжей девочкой. Но, может быть, иона опередит его на пути к смерти и он окажется последним?
В течение многих дней по дороге в школу он глядел с нежностью и волнением на вывеску, где черными буквами по серому фону было написано: «Эрнест Аршамбо, жестянщик». Дом, в котором жила Эвелина, был таким же, как и все остальные в их квартале, с кружевными занавесками на окнах и цветами на подоконниках. За домом виднелись двор и застекленная мастерская, где раздавался громкий стук молотка, доносившийся до самой школы.
В классе Ксавье Малат сидел через две парты от него, около печки. Топить эту печку было его привилегией. Среди школьников выделялся своим ростом, костюмами и изысканно-вежливыми манерами один мальчик. Он жил в родовом поместье неподалеку от города и иногда приезжал в школу верхом на маленьком пони, в сапожках, с хлыстиком в руках, в сопровождении лакея на лошади. Этот мальчик был графом, но он забыл его фамилию, как забыл и многие другие фамилии.
Кто жил теперь в том доме, где он родился и прожил до семнадцати лет? Стоит ли дом на своем прежнем месте? Может быть, его давно разрушили? Кирпичи, из которых его сложили, уже тогда казались почерневшими от времени: к входной двери, выкрашенной в зеленый цвет, была прибита медная дощечка, оповещавшая о часах приема у доктора, его отца.
У него еще хранилась где-то шкатулка со старыми фотографиями, которые он столько раз собирался разобрать. Среди них был и портрет его отца, у которого были рыжеватые усы и бородка клинышком, как у Генриха III. Президент хорошо помнил кисловатый винный запах, исходивший от него.
Но он едва помнил мать, умершую, когда ему исполнилось пять лет и когда, по рассказам, он был толстеньким, как шарик. После ее смерти из деревни приехала его тетка, чтобы смотреть за детьми — за ним и его старшей сестрой. Потом сестра, еще девочка, в короткой юбочке и с косичками за спиной, стала вести хозяйство с помощью очередной служанки — они часто менялись по каким-то таинственным причинам.
По правде говоря, его никто не воспитывал, он рос совершенно самостоятельно. Он еще помнил названия некоторых улиц — возможно, именно эти названия повлияли на выбор его карьеры.
Например, улица Дюпона де Л’Эра (1767–1855). Он помнил даже даты его рождения и смерти. У него всегда была прекрасная память на цифры, а позднее на номера телефонов.
Улица Байе (1760–1794). Известный своей неподкупностью политический деятель. А также известный патриот, жирондист во время революции. Но не на эшафоте умер он тридцати четырех лет от роду. Он покончил самоубийством в Бордо, куда бежал, когда его партия отреклась от него.
Улица Жюля Жанена. Литератор и критик, член Французской Академии…
Из-за него он в пятнадцать лет мечтал о Французской Академии и чуть было не выбрал литературную карьеру.
Улица Гамбетта (1838–1882).
Если бы детство он провел в Париже, а не в Эвре, возможно, он был бы лично знаком с ним.
Улица Жана Жореса (1859–1914).
Мальчиком он и не подозревал, что в один прекрасный день станет коллегой этого трибуна по палате депутатов и будет свидетелем его убийства.
Он не признавался ни в официальных, ни даже в секретных своих мемуарах, что с юных лет твердо знал: будет время, когда его именем тоже назовут какую-то улицу и где-нибудь на площади поставят ему памятник.
В далекие дни своей юности он не испытывал ничего, кроме снисходительной жалости к отцу, который со своим тяжелым потрепанным саквояжем днем и ночью, в любую погоду ходил навещать больных. В остальное время он принимал на дому самых бедных из своих пациентов. Они наводняли переднюю и часто в ожидании доктора сидели даже на ступеньках подъезда.
Он не мог простить отцу, что тот занимался медициной, не веря в нее. И только гораздо позднее, когда отец уже умер, он задумался над одной из его излюбленных фраз:
— Я сделал столько же добра моим пациентам, как и мои верящие в медицину коллеги, с той только разницей, что реже, чем они, шел на риск и реже причинял им вред.
По-видимому, отец, к которому в детстве он относился с некоторым пренебрежением, не был лишь беззаботным неудачником и любителем выпить, как он тогда считал.
Когда ему было двадцать лет, он снова вернулся в Эвре, чтобы присутствовать на свадьбе сестры с одним из служащих муниципалитета. Потом он видел ее еще раза три… Она умерла в возрасте семидесяти лет от перитонита. Он не поехал на ее похороны. Сейчас он припоминал, что как раз в то время путешествовал с официальной миссией по Южной Америке. У него были племянники и племянницы, у тех, в свою очередь, были дети, но он ни разу не выразил желания с ними познакомиться.
Почему Миллеран бросилась на кухню, как только увидела вдали силуэт мадам Бланш? Чтобы сказать ей, что сегодня он не совсем в своей тарелке или что смерть Ксавье Малата очень его потрясла?
Во-первых, это неправда. А кроме того, он не выносил этих подозрительных взглядов, которые все они бросали на него украдкой, будто каждую минуту ждали…
Ждали чего?
Он посмотрел прямо в лицо вошедшей сиделке, которая держала в руках стерилизатор со шприцем, и заявил, поспешив опередить ее вопросы:
— Я прекрасно себя чувствую, и никакого бронхита у меня нет. Поскорей сделайте мне укол и оставьте меня в покое.
Никто не знал, чего ему стоило каждое утро в спальне, дверь которой он собственноручно запирал на ключ, спускать перед ней брюки и обнажать мертвенно-бледное бедро.
— Сегодня в левое.
Попеременно то в левое, то в правое…
— Вы мерили температуру?
— Не мерил и мерить не собираюсь.
Зазвонил телефон. В дверь постучала Миллеран, она ни за что не войдет, потому что знает, как ее встретят.
— Что там?
— Какой-то журналист настаивает на разговоре с вами…
— Скажите, что я занят.
— Он утверждает, что, когда вы услышите его фамилию…
— Как его фамилия?
— Солас.
Это был вчерашний репортер с хриплым голосом, который во дворе Елисейского дворца поставил в тупик Шаламона вопросом, не собирается ли тот провести ночь в дороге?
— Что я должна ему ответить?
— Что мне нечего ему сказать.
Мадам Бланш спросила:
— Я вам сделала больно?
— Нет.
Это ее не касалось. Застегнувшись, он открыл дверь и услышал, как Миллеран говорит по телефону:
— Уверяю вас, я ему сказала… Нет… не могу… Вы его не знаете… Как?
Она вздрогнула, почувствовал, что он стоит у нее за спиной.
— Чего он хочет?
— Одну минуту, пожалуйста… — сказала она в трубку и, прикрыв ее ладонью, повернулась к нему: — Он хочет, чтобы я обязательно задала вам один вопрос.
— Какой?
— Правда ли, что вы помирились с Шаламоном?
Она повторила в телефон:
— Подождите… Нет… Но ведь я просила вас подождать…
Застыв на месте, Президент, казалось, с минуту не знал, что предпринять, затем вдруг бросился к телефону и отчеканил в трубку:
— Спросите лучше у Шаламона. Всего хорошего! — И резко положил трубку на рычаг.
Потом, повернувшись к Миллеран, он спросил голосом, почти столь же неприятным, как голос журналиста:
— Знаете, почему он позвонил сегодня утром?
— Нет.
— Чтобы убедиться, что я еще жив.
Она заставила себя улыбнуться, как если бы он пошутил.
— Поверьте мне!
— Но…
— Я знаю, что говорю, мадемуазель Миллеран.
Он называл ее «мадемуазель» в очень редких случаях, когда язвительно подчеркивал это слово. Президент продолжал, отчеканивая каждый слог:
— Логически рассуждая, он пришел к выводу, что с сегодняшнего дня меня уже нет в живых. Он-то понимает, в чем дело!
Какая разница, дойдет до нее смысл его слов или нет? Он говорил не для нее, а для себя, может быть, для Истории, и сказал лишь сущую правду.
Будь он жив в полном смысле этого слова, было бы немыслимо, чтобы Шаламон…
— Включите радио, будьте добры. Уже десять часов. В Елисейском дворце начались аудиенции. Сейчас вы убедитесь!
Она не понимала его и не знала, в чем ей придется убедиться. В полном замешательстве она бросала умоляющие взгляды на мадам Бланш, но та взяла свой стерилизатор и спокойно удалилась.
«— Последний сигнал дается ровно в…»
Он схватил часы и перевел стрелку.
«Последние известия. Сейчас нам стало известно, что господин Филипп Шаламон, которого вчера днем вызвали в Елисейский дворец, только что снова посетил президента Республики.
Он дал официальное согласие сформировать правительство широкой национальной коалиции, состав которого в общих чертах уже известен. В хорошо осведомленных кругах выражают надежду, что во второй половине дня можно будет объявить о распределении министерских портфелей…»
Миллеран не знала, пора выключать приемник или нет.
— Оставьте, черт возьми. Разве вы не понимаете, что репортаж еще не кончился!
Он оказался прав. Через несколько секунд послышалось шуршание бумаги и диктор продолжал:
«Уже называют фамилии…»
Она видела, как он, побледнев, напряженно глядел то на радио, то на нее, будто с минуты на минуту готов был разразиться яростной вспышкой гнева.
«…господин Этьен Бланш, радикал-социалист, возможно, будет министром юстиции…»
Один из бывших коллег Президента, он дважды был министром в его кабинете — сначала министром торговли, затем министром юстиции.
«…господин Жан-Луи Лажу, секретарь социалистической партии, государственный министр…»
Этот впервые появился на политической арене, когда Президент уже подал в отставку, и если Президент и знал его, то весьма смутно и как очень незначительное лицо.
«…господин Фердинанд Дюссе, социалист…»
Тоже из его прежних сотрудников, справку о нем он засунул в один из томов Ла-Брюйера.
«…господин Вабр и, наконец, господа Монтуа и…»
— Довольно! — бросил он.
И едва не прибавил: «Соедините меня с Парижем!»
Десятки телефонных номеров готовы были сорваться с его губ, он знал их на память, и ему достаточно было позвонить по одному из них, чтобы мгновенно пустить ко дну намечавшееся правительство.
Он чуть было не схватил трубку, и ему пришлось сделать такое усилие, чтобы удержаться, остаться достойным самого себя, что он почувствовал приближение сердечного приступа. Его пальцы, его колени начали дрожать, и нервы, как всегда в такие минуты, не слушались: машина потеряла управление и мчалась под откос с неудержимой скоростью.
Не сказав больше ни слова, он быстро прошел к себе в спальню, надеясь, что Миллеран ничего не заметила и не побежала звать на помощь мадам Бланш. С лихорадочной поспешностью он схватил две антиспазматические таблетки, которые ему были прописаны для подобных случаев.
Минут через десять, самое большее, лекарство окажет на него свое обычное действие… и он успокоится, станет вялым и расслабленным, как после бессонной ночи.
А пока он прислонился спиной к стене возле окна, глядя, как в тумане, уже более светлом, но все еще густом, Мари в красной фуфайке вешает белье на веревку, протянутую от одной яблони к другой.
Ему захотелось открыть окно и крикнуть ей что-нибудь, например, что глупо ожидать, чтобы белье высохло в такую сырую погоду.
Но к чему вмешиваться? Все это его не касалось.
Да и было ли на свете еще хоть что-нибудь, что его касалось?
Ему оставалось лишь ждать, когда лекарство подействует, стараясь как можно меньше волноваться.
Эмиль все еще не возвращался из Этрета; Габриэла, наверное, надавала ему массу поручений.
— Тихо!.. Раз… два… три… четыре…
Стоя на месте, он считал свой пульс, словно жизнь его еще имела какое-то значение, была еще кому-то нужна.
VI
По назначению докторов Гаффе и Лалинда и с одобрения профессора Фюмэ, в случае припадка принимать надо было не две таблетки, а одну. И только если этого было мало, спустя три часа разрешалось принять вторую. Зная об этом, он превысил дозу, во-первых, потому, что торопился как можно скорее покончить со своим паническим состоянием, но главное, из чувства протеста и желания бросить вызов судьбе.
В результате не прошло и обычных десяти минут, как в глазах у него потемнело, зарябило, началось головокружение. Как к последнему прибежищу, он бросился к креслу и, сев в него, погрузился в забытье.
Если бы он был таким же человеком, как и все остальные, то с облегчением поддался бы этому состоянию, но у него отняли это право. Стоило в малейшей степени измениться его поведению или самочувствию, как немедленно вызывали молодого врача из Гавра, тот, в свою очередь, звал на помощь доктора из Руана, и оба они, слагая с себя ответственность за последствия, звонили профессору Фюмэ.
Возможно, что и профессор отдавал отчет кому-то, стоявшему выше его на иерархической лестнице, и три агента полиции со своей стороны уже оповещали свое начальство о нездоровье Президента. Как если бы речь шла о каком-то священном животном.
Эта мысль возмущала его, хотя всего несколько минут назад он грустил о том, что в Париже его позабыли, и выходил из себя оттого, что кто-то не желал считаться с его запретом.
Миллеран принесла корреспонденцию и увидела, что он сидит с недовольным лицом, глаза у него были усталые, но злые. Она собиралась положить письма на стол, но он остановил ее повелительным жестом.
— Читайте.
У него не хватило смелости читать самому, веки его налились свинцом, а мозг как бы затуманился.
Сначала он спросил:
— Где мадам Бланш?
— В передней.
Так называли самую дальнюю от его спальни библиотеку, иногда служившую передней, ту комнату, в которую открывалась дверь главного входа. Если мадам Бланш расположилась в ней с книгой или с иллюстрированными журналами, значит, состояние, в котором она его застала, беспокоило ее, и она ждала, что ее помощь может понадобиться. А возможно, ее попросила остаться Миллеран.
Но к чему волноваться из-за этого, пережевывать все те опостылевшие подозрения и те же мелкие обиды? Он повторил, смиряясь:
— Читайте.
Все были уверены, что он получает массу писем, как и в прежние дни, когда он был председателем Совета министров. В действительности же почтальон приносил по утрам лишь небольшую пачку писем. Исключением были те дни, когда накануне в журнале или в газете публиковали какой-нибудь репортаж, посвященный ему.
Время от времени его беспокоили корреспонденты, приезжавшие из разных стран. Они задавали ему одни и те же вопросы, снимали его в одних и тех же позах, поэтому он, зная, какую позу его попросят принять, заранее принимал ее.
Письма, которые он получал, были приблизительно одинакового содержания. Его неизменно просили об автографе, часто — на приложенной к письму фотографии, с тем чтобы вставить ее в альбом, присоединив к обычной коллекции, или же почтительно предлагали подписать почтовую открытку с его портретом, из тех, что продавались в писчебумажных магазинах.
Шестнадцатилетняя девочка из Осло старательным почерком писала ему на плохом французском языке; она убедительно просила ответить на серию вопросов, оставляя место для ответов, и объясняла, что должна представить своему преподавателю сочинение по меньшей мере на шести страницах на тему о карьере Президента.
Как в анкете для получения паспорта, там стояло:
Ваше место рождения?
Дата рождения?
Образование?
Она могла бы найти эти сведения в любой энциклопедии у себя на родине.
Что заставило Вас выбрать политическую карьеру?
Кем из государственных деятелей в начале Вашей политической карьеры Вы восхищались больше всех?
Были ли у Вас в молодости определенные убеждения и взгляды и меняли ли Вы их в продолжение Вашей жизни?
Почему?
Каким спортом Вы занимались?
Каким спортом Вы занимаетесь до сих пор?
Довольны ли Вы своей судьбой?
Миллеран очень удивилась, когда он вполне серьезно ответил на все вопросы молодой особы, обещавшей стать в недалеком будущем прекрасной матерью семейства.
Чета стариков, но гораздо менее старых, чем он, простодушно просила его помочь им осуществить давнишнюю мечту и обеспечить их будущее, подарив им домик в деревне неподалеку от Бержерака (муж-почтальон только что ушел на пенсию).
Многие считали его богатым и не могли понять, как человек, так часто и долго стоявший у кормила власти, живший в государственных дворцах среди официальной помпы, не имеет в восемьдесят два года никакого состояния.
Однако это было именно так, и, хотя он не ходатайствовал об этом, палата депутатов назначила ему пенсию. Кроме того, государство выплачивало жалованье мадам Бланш, а с тех пор, как Президент покинул Париж, также и Эмилю.
Возможно, это делалось только для того, чтобы позже никто не мог сказать, что Франция оставила умирать в нужде одного из своих великих людей.
Поэтому, даже когда он уединился в Эберге, отказавшись от политической деятельности, он вовсе не был материально независим, но оставался как бы на жалованье.
— Содержание исторических памятников требует расходов! — шутил он порой.
Или же говорил, что закон запрещает владельцам исторических зданий, находящихся под охраной государства, вносить в их архитектуру малейшие изменения. А разве он не подпадал под действие этого закона? Разве он имел право вести себя иначе, чем было принято писать о нем в учебниках истории?
О том, чтобы он был именно таким, каким его описывали, неусыпно заботились изо дня в день, поэтому три полицейских агента, сменяя друг друга, постоянно торчали у его дверей. Он был уверен, что его телефонные разговоры подслушивают, его корреспонденцию, особенно из-за границы, проверяют, прежде чем переслать ему. А может быть, Миллеран взяла на себя обязанность давать отчет вышестоящим инстанциям обо всем, что он пишет и говорит?
«Господин Президент, я готовлюсь к серьезному исследованию о человеке, которого Вы хорошо знали. Разрешите мне просить Вас…»
Он не был ревнив, но все же писем подобного рода, право, было слишком уж много! Когда-то, в течение приблизительно двух десятилетий, пятерых человек называли Пятеркой Великих. Каждый из них являлся более или менее бессменным представителем своей страны, и впятером они давали направление всей международной политике.
Они собирались периодически то на одном из континентов, то на другом, в большинстве случаев на курортах, и устраивали конференции, привлекавшие сотни журналистов и фотографов из всех стран мира.
Газеты подхватывали каждое их слово, и достаточно было одному из них слегка нахмурить брови при выходе из зала заседаний, чтобы депеши тут же летели во всех концы и сообщения об этом под крупными заголовками публиковала вся мировая пресса.
Порой им случалось ссориться, чтобы затем публично разыгрывать сцену примирения, — часто все это было попросту комедией, которую они играли для своего удовольствия. Некоторые их беседы, за которыми затаив дыхание наблюдал весь мир, в действительности касались очень незначительных тем.
Англичанин, самый забавный и циничный из них, иногда, если это происходило не в присутствии посторонних, смотрел на часы, когда являлся на совещание.
— Сколько часов нам полагается спорить, прежде чем мы придем к общему соглашению относительно этого коммюнике?
И вынимал из кармана уже заготовленное официальное коммюнике.
— Жаль, что они не настолько любезны, чтобы оставлять нам карты, мы могли бы пока сыграть в бридж…
Они все принадлежали к одному поколению, кроме американца; впрочем, он умер раньше остальных, еще молодым, всего шестидесяти семи лет.
Они так часто мерились силами, что представляли себе очень хорошо настоящую цену друг другу. Знали друг о друге буквально все.
«Господа, по чрезвычайно важным соображениям в связи с предстоящей выборной кампанией я вынужден отбросить сегодня всякое стеснение» — так, очевидно, напишут журналисты. Итак, мы сообщим, что я стукнул кулаком по столу и что мое упрямство завело конференцию в тупик.
Обычно тенистые парки окружали роскошные отели, отведенные для подобных совещаний, и стоило одному из них отважиться выйти погулять, как он становился жертвой репортеров и фотографов.
Все пятеро привыкли к власти и славе, и все же они злились и обменивались колкостями, когда им казалось, что печать уделяет одному из них больше внимания, чем другому, и очень часто эти убеленные сединами государственные деятели, чьи портреты гравировали для почтовых марок, были обидчивы и тщеславны, как актеры.
Президент делал о них заметки на полях своей книги, но писал не обо всем, а лишь о самых характерных их чертах, особенно тех, которые имели общечеловеческое значение.
Но даже и теперь, когда, кроме сошедшего с ума Корнели, лишь один он из этой пятерки был еще жив, у него щемило сердце, если приходили письма с просьбой сообщить что-нибудь не о нем, а об одном из его старых коллег!
В Лондоне, Нью-Йорке, Стокгольме — во всем мире продолжали выходить в свет книги о каждом из пятерых, но он во что бы то ни стало хотел дать их деятельности собственную оценку.
— Я отвечу завтра. Напомните мне. Можете продолжать.
Какой-то неизвестный просил помочь ему получить место в тюремной администрации:
«Я из Эвре, как и Вы, и, когда я был молод, мой дед часто говорил мне о Вас, так как Вы жили на одной с ним улице и он хорошо Вас знал…»
Миллеран украдкой наблюдала за ним, ей казалось, что он заснул, но он делал жест своей белоснежной тонкой рукой, ставшей наконец прекрасной, как произведение искусства, давая ей понять, что она может продолжать чтение.
«Господин Президент, я обращался повсюду, стучался во все двери, на Вас последняя надежда. Весь мир говорит о Вашей человечности, о Вашем глубоком знании человеческих душ, и я не сомневаюсь, что именно Вы поймете…»
Профессиональный попрошайка.
— Не надо. Дальше.
— Все, господин Президент.
— На сегодня у меня ни с кем не предполагалось свидания?
— С испанским генералом, но он предупредил, что задерживается в Сан-Себастьяне из-за гриппа…
Он знал одного генерала, который по долголетию превзошел их всех. Президент вспоминал о нем с некоторой долей зависти и смутным раздражением. Генералу было девяносто три года, и по четвергам он, бодрый и подвижный, присутствовал на заседаниях Французской Академии, членом которой состоял. Месяцем раньше в одном еженедельнике появился репортаж об этом генерале, иллюстрированный фотографией, на которой тот был изображен в коротких штанах, с обнаженным торсом — он делал гимнастику у себя в саду, а его жена, сидя позади него на скамейке, казалось, с нежностью наблюдает за ним, как за играющим ребенком.
Стоит ли печатать подобные репортажи?
В этот самый час в Эвре Ксавье Малата готовили в последний путь… Вот кто мог больше уже ни о чем не беспокоиться. Он покончил со всем и всеми.
Всю жизнь Ксавье обуревала забота о чужих похоронах, но на его собственных не будет ни единой души, разве что какая-нибудь старая дева, как это порой бывает, безучастно побредет по улице за гробом.
Было время, когда Президента не слишком волновала смерть его родственников или знакомых: они почти всегда были старше его, и он считал, что они отжили свое, даже если уходили из жизни в пятьдесят лет.
Потом, когда начали умирать люди приблизительно одного с ним возраста, ему случалось если не радоваться, то, во всяком случае, ощущать некое эгоистическое удовлетворение.
Еще один ушел, а он оставался!
Мало-помалу, однако, круг его сверстников сужался. Пятеро Великих уходили один за другим, и каждый раз он с удивлением замечал, что ведет счет без грусти, но с таким чувством, как если бы впервые открыл, что однажды наступит и его черед.
Он никогда не присутствовал на похоронах, кроме тех исключительных случаев, когда должен был представлять правительство. Он избегал этих последних прощаний, гражданских панихид, отпеваний в церкви не потому, что они производили на него сильное впечатление, а потому, что считал все эти пышные обряды проявлением дурного вкуса.
Он посылал либо свою визитную карточку, либо кого-нибудь из чиновников и никогда не оставлял ни писем с соболезнованиями, ни телеграмм, предоставляя это своему секретариату.
Но смерть Ксавье Малата сильно повлияла на него и оказала особое действие, он затруднился бы определить, какое именно. Из-за лекарства мозг его работал в замедленном темпе, как в полусне, и между его сознанием и реальностью наступал разрыв.
Например, перед ним без конца возникал образ какой-то старой женщины с редкими волосами и длинными зубами. Бог знает, откуда она появилась. Было совершенно непонятно, почему он находил в ней сходство с Эвелиной Аршамбо, ведь в последний раз он видел ту маленькой девочкой.
Тем не менее он был совершенно уверен, что это именно она, такая, какой стала теперь. В ее глазах сквозило выражение непонятной нежности, к которой примешивался немой укор.
Она молилась о нем всю жизнь, и, без сомнения, особенно о том, чтобы перед смертью он примирился с церковью, как будто слова, сказанные священнику, могли что-либо изменить! Она сидела в кресле, как он, ноги ее были покрыты старым пледом, и от нее пахло чем-то приторным.
Он понял в конце концов, что плед был тот самый, который покрывал ноги его матери в последние недели ее жизни. Но откуда взялось все остальное?
Если бы он не боялся показаться смешным, то попросил бы Миллеран снова позвонить в Эвре, например, в мэрию, чтобы справиться об Эвелине: жива ли она, не больна ли, не нуждается ли в чем.
Он чувствовал себя очень усталым, хотя знал, что это всего лишь следствие двойной дозы лекарства. Тем не менее он испытывал тягостное чувство бессилия и, если бы имел на то право, отправился бы спать.
Соседская корова вышла из хлева и бродила по двору, натыкаясь на ветви яблони, за ней бегал мальчишка с прутиком в руках.
Этот мальчишка будет жив, когда он уже давно сойдет в могилу. Все те, кто его окружает, и огромное большинство из тех, кто ходит сейчас по земле, переживут его…
Скажет ли Эмиль когда-нибудь правду об Эберге? Очень возможно, так как Эмиль любит скабрезные истории, и, если будет смешить посетителей, ему станут больше давать на чай.
Ферма, расположенная на прибрежных скалах, была построена и превращена в дачу не Президентом, а одним руанским адвокатом, приезжавшим когда-то с семьей проводить здесь свои каникулы. Президент позднее лишь переделал кое-что по своему вкусу, в частности, соединил проходом два соседних здания, которые теперь стали широко известны как «дом в Эберге».
Не придавая никакого значения названиям, он не изменил прежнего названия усадьбы, когда купил ее.
В окрестностях ему сказали, что слово «эберг» обозначает наживку из трески, приготовленную особым способом, и, так как порт Фекан был центром рыбного промысла и весь берег Нормандии жил ловлей рыбы, он удовлетворился этим объяснением. Когда-то в этом доме, наверное, обитал рыбак или судовладелец.
Но однажды Эмиль, очищая край каменной кладки старого колодца от густых порослей хмеля, нашел грубо выбитую на камне надпись: «Эберн. 1701».
Президент случайно упомянул об этом в разговоре с учителем, который был секретарем сельской общины и приходил иногда брать книги из его библиотеки. Учитель заинтересовался и, просматривая старые описи земельных владений, обнаружил, что в них название усадьбы упоминалось в том же написании, что и на камне.
Однако никто не мог сказать, что означало это слово, и в конце концов он нашел ему объяснение в толковом словаре Литтре:
Эберне — подтирать за ребенком.
Эбернез — подтирушка, та, кто подтирает за ребенком.
Какой женщине, давным-давно здесь обитавшей, дали это прозвище, которое стало в дальнейшем названием усадьбы? И кто из последующих владельцев стыдливо решил изменить прежнюю орфографию?
Он упомянул и об этом в своих секретных мемуарах, но выйдет ли когда-нибудь эта книга? Теперь он уже не был уверен, что все еще желает этого. Он, столь стремительно принимавший важнейшие решения, когда речь шла о судьбе его страны, и никогда не сомневавшийся в своей правоте, становился нерешительным и мучился сомнениями, когда перед ним вставал вопрос, какие именно факты из своей жизни он предаст гласности.
То представление, которое создалось о нем, незыблемый образ, не подлежавший неизбежным изменениям, которое вносит время, был не только весьма схематичным, но часто глубоко неверным. В частности, в легенде о нем была одна ложь, которую он столько раз безуспешно пытался опровергнуть.
Однажды в бульварных газетках и позднее в одной из крупнейших газет появилась как-то статья, озаглавленная «Его портной».
В продолжение тридцати лет во время избирательных кампаний инцидент, о котором шла речь, использовали все его противники. Лишь заголовок статьи менялся время от времени, например: «Вход с кухни» или «Субретка графини».
И субретка и графиня действительно существовали, но обе они уже умерли, в живых оставался лишь муж графини приблизительно одного с ним возраста, до сих пор каждый день ездивший на скачки, все еще статный, но с трясущимся подбородком.
Знаменитый скандал, известный как «дело де Крево», не раз лишал его возможности войти в состав того или иного правительства, подобно тому как позднее одно письмо, спрятанное меж страницами «Приключений короля Позоля», долго не допускало к кормилу власти другого человека.
Но в отличие от того человека он не был виновен — во всяком случае, не был виновен в том, в чем его обвиняли. Ему тогда едва минуло сорок лет, и он впервые получил портфель министра. Он стал министром общественных работ, почему Ксавье Малат и решил вскоре нанести ему визит.
Разве не любопытно порой наблюдать, как события, цепляясь одно за другое, разворачиваются во времени и образуют некий узор, своего рода причудливую арабеску? И в самом деле, может быть, именно в тот день, когда к нему пришел Ксавье Малат…
Но последнее не имело значения. На улице Фэзандери, в особняке Марты де Крево — Марты де К… как ее называли в скандальной хронике, был в ту пору модный политический и литературный салон, куда она из честолюбия старалась привлечь всех, кто играл роль в правительственных и дипломатических кругах. Она приглашала и некоторых писателей, но лишь при условии, что они являются или в скором времени станут членами Французской Академии.
Новый министр никогда раньше не посещал ее приемов, ибо уже в то время мало где бывал и считался бирюком. Карикатуристы часто изображали его в виде медведя.
Пожалуй, именно эта репутация побудила Марту де Крево пригласить его в свой салон. А может быть, она слышала, как наиболее дальновидные люди предсказывали, что в недалеком будущем с ним придется считаться…
Единственная дочь богатого бордоского негоцианта, она вышла замуж за графа де Крево. Он дал ей не только имя и титул, но также ввел ее в высший свет. Успокоившись на этом, он вернулся к холостяцкой жизни, и часто случалось, что в одно и то же время на первом этаже за завтраком у Марты собирались министры и послы, а на втором этаже ее муж в своей холостяцкой квартире, как он выражался, принимал веселую гурьбу актрис и драматургов.
После второго посещения министром общественных работ салона на улице Фэзандери распространились слухи, что графиня решила заняться им — до этого она играла роль Эгери при двух или трех политических деятелях. В этих случаях была известная доля правды. Высший свет был ей знаком и близок, а будущий Президент плохо его знал, и она решила сделать из него светского человека.
Была ли она так хороша, как утверждала пресса? После всего, что о ней говорили, при первой встрече неожиданно поражал ее маленький рост и то, что она была очень хрупкой и беззащитной на вид. Она казалась гораздо моложе своих лет, в ее манере держаться не было ничего вызывающего или властного.
Хотя свое призвание она видела в том, что «выводила в люди» и опекала тех, кто ее интересовал, ее саму хотелось защитить от всех, в том числе и от нее самой.
Он не был уверен, что его полностью одурачили. Откровенно говоря, в ту пору он прекрасно знал, чего он хочет, и понимал, что она может помочь ему этого достичь. К тому же ему льстило быть ее избранником, ведь он только начинал свою карьеру и был всего лишь «многообещающим». Даже роскошь обстановки особняка на улице Фэзандери сыграла известную роль…
Двумя неделями позже соединять их имена стало уже привычным, и, когда граф де Крево встречался с молодым министром, то подавал ему руку, с подчеркнутой иронией роняя:
— Наш милейший друг…
В противоположность тому, что думали тогда, а кое-кто, считая себя посвященным в их тайну, думал и по сей час, страсть не играла роли в их отношениях. Правда, Марта, которая отнюдь не была темпераментной, все же считала нужным придать их знакомству романтическую окраску, но тем не менее можно было пересчитать по пальцам те из их встреч, которые носили интимный характер.
Больше всего ей нравилось давать ему уроки светской жизни, и она даже начала учить его, как надо одеваться.
Было как-то неловко припоминать все это в возрасте восьмидесяти двух лет в маленьком домишке на нормандском побережье, где одним из ближайших посетителей будет смерть.
Из-за воспоминания об этом и еще кое-каких воспоминаний он наотрез отказался бы начать жизнь сначала, если бы ему и предложили.
Разве в течение многих недель, многих месяцев он не изучал перед зеркалом свои манеры и осанку, те манеры и осанку, что подобают, как она уверяла, истинному государственному деятелю!
И он, всегда одетый корректно и строго, однако не придававший большого значения элегантности, кончил тем, что уступил настойчивым просьбам Марты и поехал к самому знаменитому в те дни портному на улице Фобур Сент-Оноре.
— Одеваться можно только у него, дорогой мой, ведь не ехать же в Лондон! Кстати, этот портной шьет моему мужу.
Он спрашивал себя сегодня, не предпочел бы он иметь на совести настоящую подлость, как Шаламон, чем мучиться этим унизительным воспоминанием…
Он снова видел надменного, чуть насмешливого портного и свое собственное отражение в зеркале: в пиджаке с еще не пришитыми рукавами…
Разве он не уверовал во все это, пусть на очень короткий срок, разве не дошел до того, что стал носить самые модные шляпы и тщательно подбирать цвета своих галстуков и перчаток!
По утрам он совершал прогулки верхом по Булонскому лесу.
Люди, называвшие его «господин министр», и не подозревали, что он ведет себя как неоперившийся юнец! В довершение беды он познакомился у Марты де Крево с девушкой по имени Жюльетта, о которой потом много говорили.
Она была одновременно и камеристкой и компаньонкой, так как Марта не выносила одиночества, и, даже когда ходила по магазинам, или на примерки к портнихам, а в отдалении за ней следовал ее автомобиль, она нуждалась в спутнице. Жюльетта исполняла также обязанности секретарши, назначала свидания, напоминала о них, отвечала на телефонные звонки, расплачивалась в магазинах за мелкие покупки.
Она происходила из зажиточной буржуазной семьи и, строго одетая в черное или темно-синее, выглядела как молоденькая девушка, только что вышедшая из закрытого пансиона.
Страдала ли она уже тогда нимфоманией? Очень возможно, так же как возможно и то, что многие мужчины могли в этом убедиться.
Часто, когда Марта еще одевалась, Жюльетта оставалась одна с будущим председателем Совета министров и вела себя при этом так, что в один прекрасный день, доведенный до крайности, он повалил ее на кушетку тут же в салоне.
Их связь стала для него привычкой, необходимостью, для нее же опасность была непременным условием наслаждения, и она старалась всячески усилить эту опасность, придумывая самые рискованные ситуации.
Случилось то, что должно было случиться: Марта де Крево застала их на месте преступления, и оскорбленная гордость, вместо того, чтобы подсказать ей необходимую сдержанность, толкнула ее на бурную трагикомическую сцену, привлекшую внимание всей прислуги.
Министру, выставленному за дверь вместе с Жюльеттой, не оставалось ничего другого, как поместить свою соучастницу в скромном отеле, так как он не мог поселить ее в здании министерства и не желал ее присутствия в своей квартире на набережной Малакэ!
На следующий же день одна газетка в нескольких строках довольно точно рассказала о происшедшем, закончив заметку фразой, которую якобы произнесла графиня де Крево: «Подумать только: я сделала его светским человеком, да притом и одевала его!»
Произнесла ли она эти слова на самом деле? Возможно, ибо это было похоже на нее. Но, без сомнения, она и не подозревала, что эха фраза будет его преследовать в продолжение всей его карьеры и весьма затруднит его продвижение вперед.
В восторге от сенсационной находки репортеры занялись расследованием, и оно закончилось нашумевшей статьей под заголовком «Его портной».
В статье подробно рассказывалось, что Марта де К… отправила одного молодого министра к портному своего супруга — следовал адрес портного, — но самое пикантное состояло в том, что костюмы этого министра в конечном итоге оплатил по счету граф де Крево!
Такой же мертвенно-бледный, как и Шаламон в тот день, когда написал свое письмо, министр общественных работ схватил телефонную трубку и позвонил портному. Он не помнил более тягостного чувства, чем то, которое ему пришлось испытать, пока он слушал голос, отвечавший ему на другом конце провода.
Все оказалось правдой! Репортер не солгал, не выдумал! Вежливым, но развязным тоном портной извинялся, но он считал… он полагал…
— Вы что же, меня за сутенера приняли? — крикнул он в трубку.
— О, господин министр, поверьте…
Обычно он платил своим портным, как и поставщикам, по получении счетов. Прошло всего три месяца, как он побывал в ателье на улице Фобур Сент-Оноре, поэтому он не удивлялся, что с него еще не требуют денег. Некоторые ателье, особенно из дорогих, имели обыкновение предъявлять счета лишь к концу года.
Оплачивала ли Марта де Крево расходы всех тех, кому покровительствовала? Он так и не узнал этого, ибо никогда больше ее не видел, хотя, когда он стал председателем Совета министров, она написала ему, желая «рассеять недоразумение и заключить мир». Кончина ее была тягостной. Она, всегда такая подвижная и деятельная, пять лет была прикована к постели, ее разбил паралич, и когда наконец она угасла, то была такой исхудавшей, что весила не больше восьмилетней девочки.
Жюльетта недолго оставалась на содержании у Президента. Она ушла к одному журналисту, тот ввел ее в круг своих коллег, и вскоре она сама стала сотрудничать в газетах.
Неоднократно она приходила брать интервью у своего бывшего любовника и каждый раз не скрывала изумления, так как он не пользовался представившимся случаем, что, по-видимому, делали почти все, к кому она являлась с деловым визитом.
На ее долю выпала внезапная смерть, которая произвела на всех не менее сильное впечатление, чем кончина ее бывшей хозяйки. Она была в числе пассажиров, летевших в Стокгольм, но по дороге самолет упал и сгорел на полях Голландии.
Что же до него, то, хотя он немедленно же отправил чек портному, тем не менее сотни тысяч людей считали…
Но, принимая во внимание все в целом, разве это было не одно и то же? Строго говоря, разве они не были до некоторой степени правы?
Он себе совсем не нравился таким, каким он тогда был. Но он не нравился себе также ни ребенком, ни юношей.
А все кривлянья и выходки, все акробатические трюки Пятерки Великих казались ему теперь сплошным гротеском.
Очевидно, он относился со снисхождением лишь к старику, каким он стал, — к старику, который медленно высыхал, как графиня, и превращался в скелет, обтянутый кожей, с головой, похожей на череп, и с мозгом, продолжавшим работать впустую…
Ибо о чем он думал целыми днями, меж тем как вокруг него, Великого Человека, все ходили на цыпочках и ужасались, стоило ему чихнуть?!
О себе! О себе! Всего лишь о себе!
Он непрерывно копался в своих переживаниях и только изредка испытывал удовлетворение, но почти всегда недовольство и злобу.
В первый раз он рассказал историю своей жизни, так, как того хотелось публике. То были официальные мемуары в трех томах, и для того, чтобы в них зазвучала правда, недостаточно было заметок на полях, нацарапанных слишком поздно…
Все было ложью, ибо рассматривалось с ложной точки зрения.
И заметки тоже были ложью — всего лишь слабые возражения на возникшую о нем легенду.
Что же до того, каким он был на самом деле и раньше и теперь…
Он окинул непонимающим взглядом Габриэлу, стоявшую перед ним, возможно, позабыв, что она ежедневно является в один и тот же час, чтобы произнести одни и те же слова:
— Пожалуйте к столу, господин Президент.
Приглашать его к столу было привилегией Габриэлы, и она не доверила бы этого Мари ни за какие блага на свете. Не пора ли ей было в семьдесят лет избавиться от подобного детского тщеславия?
Стоял такой густой туман, что казалось, за окнами столовой лежит снег под однотонным, тяжело нависшим небом, которое зимними вечерами как бы сливается с землей.
Мари наконец перестала носить свою красную фуфайку и надевала теперь черное платье и белый передник. Ее научили, как подавать ему стул, когда он садился, и ей всегда было страшно — она боялась, что не поспеет вовремя и тогда он упадет на пол.
— У вас, кажется, появилась еще одна сестричка?
— Да, господин Президент.
— Ваша мать довольна?
— Не знаю…
Ну к чему? К чему произносить никому не нужные слова? Меню почти ничем не отличалось от вчерашнего. Половинка памплемусса, чтобы пополнить в организме запас витаминов, восемьдесят граммов поджаренного на решетке мяса, которое приходилось подавать рубленным с тех пор, как вставные челюсти больше не держались у него во рту, две картофелины и какие-то вареные овощи. На десерт яблоко, или груша, или несколько виноградин, которые он ел без кожицы, по предписанию докторов.
Соберет ли Шаламон, согласно традиции, своих новых сотрудников в одном из больших парижских ресторанов, где за десертом они наметят вкратце основную линию политики кабинета министров?
В его дни это происходило почти всегда в салонах ресторана Фойо около сената или у Лаперуза.
За этим завтраком встречались старые коллеги, обменивались воспоминаниями о предыдущих министерствах; ветеранам неизменно предлагали те же второстепенные министерские портфели; нередко присутствовали и новички, еще не посвященные во все ритуалы и с беспокойством наблюдавшие за «стариками».
Даже гул голосов, звон вилок и стаканов в такие дни звучал как-то особенно, а метрдотели, знавшие всех приглашенных, казалось, всем своим услужливым видом и понимающими улыбками участвовали в распределении правительственных постов.
Иной, но не менее характерный гул доносился из большой залы на первом этаже, где завтракали журналисты и фотографы; они, как и те, что находились этажом выше, всецело сознавали, какую роль играют в происходящих событиях. В общем, эти два часа были самыми приятными в жизни очередного правительства. Позднее, к вечеру, после приема в Елисейском дворце и группового снимка вокруг обязательно улыбающегося главы правительства, ему приходилось отделывать до мельчайших подробностей декларацию нового кабинета министров, возникали всякие затруднения, бесконечные споры по поводу какого-нибудь слова или запятой.
Кроме того, каждый сталкивался с семейными и материальными проблемами. Переезжать ли в казенную квартиру, не дожидаясь голосования в палате депутатов? Хватит ли места для детей? Что из мебели перевозить и какие туалеты заказывать для официальных приемов?
Он пережил всю эту сутолоку двадцать два раза, как подсчитали его историографы, и восемь раз был центральной фигурой.
Сегодня настал черед Шаламона… Но тут неожиданно произошло нечто странное: как ни старался Президент, отчетливо помнивший, какое возбуждение царило в салонах ресторана Фойо, вообразить в этой обстановке своего бывшего подчиненного, ему, к его удивлению, это никак не удавалось, хотя много лет он прожил бок о бок именно с Шаламоном и беседовал с ним чаще, чем с другими.
Всего два дня назад он видел его фотографию в газетах. За эти годы Шаламон изменился, как того и следовало ожидать. Но перед его мысленным взором Шаламон вставал не таким, каким он был десять лет назад, а двадцатипятилетним молодым человеком с упрямым и озабоченным выражением лица, которому он как-то сказал:
— Вам следовало бы отделаться от вашей эмоциональности.
— Я знаю, мэтр. Я стараюсь, поверьте мне.
Он всегда называл его мэтром, как ученики крупного хирурга или известного врача называют своего учителя. Шаламон не был сентиментален. Он был холодный и циничный человек. Однако порой его щеки внезапно загорались ярким румянцем. Это особенно бросалось в глаза, ибо обычно он был очень бледен.
Задумывался ли иногда и Шаламон над своей жизнью или в свои шестьдесят лет он был еще слишком молод для этого? Согласился бы он начать жизнь сначала? И в таком случае… Президент отлично помнил, при каких именно обстоятельствах его секретарь неизменно вспыхивал до корней волос, несмотря на все свое умение владеть собой. Это происходило каждый раз, когда он правильно или ошибочно считал, что его собеседник старается его унизить.
Он верил в себя. У него было определенное представление о собственном характере, оно казалось ему правильным, и, возможно, так оно и было. Он цеплялся за него, и, как только чувствовал, что его вере в себя что-то угрожает, кровь бросалась ему в голову, и он густо краснел. Он не спорил, не возражал. Он не пытался отразить нападение, но, стоя на месте как вкопанный, хранил осторожное молчание, и лишь краска на щеках выдавала его взволнованность.
Тогда в кабинете Президента на авеню Матиньон лицо его не вспыхнуло, напротив, он так смертельно побледнел, что, казалось, в нем не осталось ни кровинки…
— Вы устали? — спросила вдруг Мари, возникая из какого-то далекого мира.
Он посмотрел на свою руку, которой только что провел по лицу, потом огляделся вокруг, как бы просыпаясь. Он почти не прикоснулся к еде.
— Может быть, — согласился он тихо, стараясь, чтобы его не услышали на кухне.
Он сделал попытку встать, и Мари кинулась ему на помощь. Он выглядел таким разбитым и дряхлым, что она поддержала его под локоть.
— Благодарю… я уже сыт…
Она не знала, должна ли она последовать за ним, и провожала его взглядом, сгорбленного, с длинными руками, висевшими, как плети, пока он, пошатываясь, шел к своему кабинету. Она, наверное, боялась, как бы он не упал, и была готова броситься на помощь.
Но ему даже не понадобилось держаться за стену, и, когда наконец он скрылся из виду, Мари пожала плечами и начала убирать со стола.
Когда она вошла на кухню, держа в руках тарелки с нетронутой едой, Миллеран встревожилась:
— Что с ним?
— Не знаю. По-моему, он лег спать. У него такой усталый вид.
Но Президента не было в спальне, и, когда Миллеран на цыпочках вошла в кабинет, она застала его спящим с полуоткрытым ртом в кресле «Луи-Филипп». Его нижняя губа немного отвисла, как бывает у человека, когда он очень устал или когда ему все опостылело.
VII
На этот раз он в самом деле заснул. Он не слышал, как вошла мадам Бланш, которую позвала Миллеран, и не чувствовал, как, стоя возле него с часами в руках, она, еле касаясь его кисти, считала пульс. Он не знал также, что сиделка полушепотом вызвала по телефону доктора, а в это время Миллеран, сидя против него и не отрывая от его лица пристального взора, глядела на него серьезно и печально.
Потом женщины разговаривали друг с другом жестами, перешептывались. Миллеран уступила место мадам Бланш и ушла в свою комнату.
В полной тишине прошло более получаса, лишь размеренно тикали часы, отсчитывали время. Наконец послышался шум мотора, у дверей остановилась машина, и Эмиль, тоже полушепотом, заговорил с кем-то.
Вокруг Президента словно исполнялся некий импровизированный танец: мадам Бланш, в свою очередь, уступила стул доктору Гаффе, и тот, легонько пощупав пульс Президента, уселся напротив него, выпрямившись в напряженной позе, как если бы находился в приемной министра.
Потом вошел Эмиль и подбросил дров в камин, но обо всем, что украдкой делалось вокруг него, Президент и понятия не имел. Однако он мог бы поклясться, что ни на минуту не перестает сознавать, что спит в своем кресле, полуоткрыв рот и тяжело дыша.
Произошел ли действительно временный разрыв между оцепеневшим телом и все еще деятельным сознанием, которое, подобно птице, носилось теперь то в каких-то неведомых пределах, то в мире, близком к реальному?
Откуда мог он знать, например, что, когда ему становилось слишком трудно, он хмурил свои косматые брови и порой стонал от бессильной досады? Позднее ему подтвердили, что он действительно хмурился и стонал. Как же это объяснить?
Сам он был убежден, что, оторвавшись в достаточной мере от себя, глядит со стороны на свой неподвижный остов, который становился ему все более чужим и внушал ему скорее отвращение, чем жалость.
За два часа он повидал многих, среди них были и незнакомые ему люди, и он недоумевал, зачем, собственно, они теснятся подле него. Некоторых он немного знал, но все же никак не мог объяснить их присутствия, — например, почему в их числе оказался начальник станции одного городка на юге Франции, куда в продолжение ряда лет он ездил отдыхать?
Почему сегодня он был здесь? Президент знал, что начальник станции давно скончался. А маленькая девочка в локонах, с трехцветным бантом в волосах — ее нарядили, чтобы она поднесла ему букет цветов, — означало ли ее появление, что и она тоже умерла?
Вот что его особенно мучило, пока Гаффе сидел в ожидании, неотрывно глядя на него и не смея закурить. Он старался уяснить себе, кто среди этой толпы был еще в живых, а кто уже умер, и ему казалось, он наконец понял, что грань между жизнью и смертью трудно установить и что, может быть, ее вовсе не существует…
Не в этом ли заключалась тайна бытия? Он знал одно: за эти два часа напряженнейшей жизни — вопреки полной бездеятельности тела — десятки раз он был близок к разрешению всех проблем.
Но задача, стоявшая перед ним, чрезвычайно осложнялась тем, что ему никак не удавалось задержаться на одном месте. То ли ему недоставало гибкости и чувства равновесия, то ли влияла тяжесть его тела. А может быть, ему мешали привычные представления? Он подымался и спускался то медленно, то стремительными скачками и посещал различные миры, одни — довольно близкие к тем, которые принято называть реальными, и более или менее ему знакомые, другие же — столь далекие и столь необычные, что все в них — и природа, и живые существа — было непостижимо…
Он встретил и Марту де Крево. Но она была совсем не такая, какой он ее знал. Она не только весила столько же, сколько весит маленькая девочка — как об этом писали газеты в день ее смерти, — но и лицо ее дышало невинной чистотой ребенка; к тому же она была совершенно голенькая.
В то же время он упрекал себя за то, что вспоминал ее лишь тогда, когда ему хотелось хоть чем-нибудь оправдать свое поведение, и не только в истории с портным, но и в истории с орденом Почетного легиона. Ложь, будто он никогда не обходил законы и не делал уступок! Он создал и эту часть легенды о себе самом, выдумал политического деятеля, неподкупного и непреклонного, неукоснительно исполняющего свой долг и твердо идущего по своему пути, невзирая ни на какие личные соображения.
Разве он не наградил орденом Почетного легиона одного из многочисленных протеже Марты — ничем не примечательного провинциального дворянчика, единственное право которого на почетную награду состояло в том, что он владел псовой охотой?
А несколькими днями позже не воздавал ли он официальные почести одному африканскому патентату, за которым следовало ухаживать по некоторым довольно грязным соображениям, хотя настоящее его место было на каторге?
Он никогда и ни у кого не просил прощения, и не в его годы начинать это делать. Кто мог быть ему судьей, кроме него самого?
Он силился разобраться в происходящем. У большинства из тех, кто смотрел на него, — так иногда после уличного происшествия пешеходы бросают мимолетный взгляд на пострадавшего и продолжают свой путь, — у большинства из них глаза ничего не выражали, и он пытался кого-нибудь остановить, чтобы спросить, не проходит ли перед ним процессия умерших.
Если так — значит, он тоже мертв. Но, очевидно, не совсем, потому что они не принимали его в свой круг.
Так кто же он в самом деле, если может летать зигзагами, неловко, как ночная птица?
Хорошо! Если они обдают его холодом из-за Шаламона, он оставит его в покое. Он понял. Давно, может быть, уже со времени встречи в отеле «Матиньон», он понял, но не пожелал тогда пощадить его и смягчиться, ибо считал, что не имеет на это права.
Он не щадил и самого себя. Так почему же он должен был отнестись иначе к своему сотруднику?
— Пора платить, господа!
Чей-то голос прокричал эти слова, как кричат на танцульках в перерыве между танцами: «Пожалуйте деньги за вход!»
Разве он возмутился, когда Шаламон сообщил ему, что, взвесив все, считает, что быстрее сделает карьеру, если будет крепко стоять на ногах, то есть женится на состоятельной женщине, чьи средства позволят ему вести более широкий образ жизни?
Нет, он не возмутился и даже присутствовал при бракосочетании.
Одно проистекает из другого. Ничто не проходит даром. Все зреет во времени. Все видоизменяется. Все приводит к тем или иным последствиям. В день свадьбы в Сент-Оноре д’Эло жребий был брошен, и ему следовало бы это знать.
Настала минута, когда Шаламону предъявили счет — он расплачивался за свое положение, возмещал затраты жены и тестя, чтобы не окончательно пасть в их глазах…
Собственно говоря, чем отличался в данном случае Шаламон от любовника Марты де Крево, наградившего орденом владельца псовой охоты?
Все это происходило где-то на самом дне его сознания, куда он беспрестанно спускался, захлебываясь в грязи. Но за эти два часа он сделал и другие открытия, посетил такие непостижимые, запредельные высоты, что глазам своим не верил и чувствовал себя недостойным этого видения.
Ему было холодно, и позднее это тоже подтвердилось. Доктор сказал, что несколько раз он вздрагивал. Его проняла дрожь, когда он встретился со своим отцом и Ксавье Малатом. Он уже не помнил, где именно и каким образом это произошло, но он повидал их и был потрясен тем, что они держали себя друг с другом как добрые друзья.
Этого он никак не ожидал. Это смущало его, сбивало с толку, ниспровергало все его прежние представления о ценности людей. И почему они, не имевшие между собой ничего общего, кроме того, что оба были уже покойниками, глядели на него с одинаковым выражением? То была не жалость. Слово это уже ничего не означало. И отнюдь не равнодушие, а… Пусть выражение было неточным, высокопарным, но он не находил более подходящего: то была высокая ясность души.
Его отец — куда ни шло. Это было еще понятно. Против этого он не возражал. Но приписывать Ксавье Малату, может быть, только оттого, что тот скончался под ножом хирурга, высокую ясность души!..
Он совершенно не знал, что с ним будет дальше, и спрашивал себя, проснется ли он в кресле «Луи-Филипп» в Эберге? Он не был уверен, что ему этого хочется, и тем не менее немного беспокоился.
Его застигли врасплох, не дали времени подготовиться к уходу, и ему казалось, что у него еще столько дел, которые необходимо закончить, столько вопросов, которые надо разрешить.
Боль в правой руке свидетельствовала, что он еще не окончательно покинул свою земную оболочку, и Президент открыл глаза. Без удивления увидел перед собой доктора Гаффе, который счел нужным успокоительно ему улыбнуться.
— Ну, господин Президент, вы хорошо поспали?
Спускалась ночь. Теперь доктор мог наконец двигаться, он встал, чтобы включить свет. Миллеран из соседней комнаты бесшумно прошла в переднюю, очевидно, чтобы сказать мадам Бланш, что Президент проснулся.
— Как видите, — произнес серьезно старик. — Кажется, я еще не умер.
Почему Гаффе постоянно испытывал потребность возражать, хотя знал, что все равно это должно произойти со дня на день и что нет никакой причины, чтобы это не случилось сегодня?
Президент не пытался острить, он просто констатировал факт.
— Вы не чувствовали легкого недомогания во время завтрака?
Он чуть было не начал ломать свою обычную комедию и едва не поддался желанию отделаться односложным, непонятным или резким ответом. Но к чему?
— Я разволновался из-за пустяков и принял две таблетки.
— Две! — воскликнул с облегчением доктор.
— Да. Теперь все прошло.
Язык еще вяло ворочался у него во рту, и движения оставались немного скованными.
— Посмотрим, какое у вас давление… Нет! Не вставайте… Мадам Бланш поможет мне снять с вас пиджак…
Он позволил им раздеть себя и не спросил, какое у него давление, а доктор на сей раз, намеренно или по забывчивости, ничего не сказал. Гаффе, как всегда в такие минуты, с вдохновенным видом прогулялся своим стетоскопом по его спине и груди.
— Кашляйте… Еще… Хорошо… Дышите…
Президент никогда еще не был столь послушным, и, конечно, ни доктор, ни мадам Бланш, как и Миллеран, стоявшая на страже где-то сбоку, не подозревали, отчего это так. Дело было в том, что в глубине души он уже отрешился от всего. Он не мог бы сказать, когда именно это произошло; очевидно, это было следствием его странного путешествия в те часы, когда он временно освободился от своей бренной оболочки.
Ощущение это не было ни болезненным, ни тем более горестным; пожалуй, оно походило на пузырь, который вдруг всплывает на поверхность реки и растворяется в воздухе. Полное отрешение… Оно так облегчило его, что он мог бы воскликнуть с восторгом, как ребенок, который глядит на улетающий воздушный красный шар:
— О!..
Ему хотелось в благодарность за их внимание и заботу пошутить с ними, но они бы не поняли шутки и, конечно, подумали бы, что он бредит.
Он никогда не бредил, поэтому у него не было возможности сравнивать, но был глубоко уверен, что еще никогда в жизни его сознание не было столь ясным.
— Вероятно, если я попрошу вас лечь в постель, вас это огорчит, — лепетал Гаффе, переглядываясь с мадам Бланш. — Заметьте, это следовало бы сделать просто из предосторожности. Вы сами только что сказали, что немного тревожились последнее время…
Он никогда этого не говорил. Должно быть, это Миллеран сказала доктору, когда — как они полагали — он спал…
— Наверное, ударит мороз. Ночью будет очень холодно, и, безусловно, постельный режим в течение суток… Вы отдохнете…
С минуту он размышлял над этим резонным доводом и со своей стороны предложил:
— С сегодняшней ночи, хорошо?
По правде говоря, он был не прочь послушаться Гаффе, но прежде ему необходимо было еще кое-что сделать. И доктор с мадам Бланш, наверное, очень удивились бы, если бы могли прочитать его мысли.
Он торопился поскорей покинуть их всех — Миллеран, Эмиля, Габриэлу, Мари… Он устал. Он сделал все, что мог, и хотел покоя. Если бы это было возможно, он попросил бы их надеть на него чистое белье и уложить в постель, закрыть ставни от тумана на улице, погасить всюду свет, кроме бледного маленького ночника…
И тогда, укрывшись одеялом до подбородка, сосредоточившись в полной тишине, в одиночестве, где спутником ему будет лишь его слабеющий пульс, он уйдет медленно, без сожалений, но немного печальный и, освободившись наконец от стыда и гордости, быстро покончит все земные счеты.
— Я прошу у вас прощения…
У кого? Это не имело значения, как он понял. Можно не называть имен.
— Я старался делать, что мог, со всей энергией, отпущенной человеку, и со всеми слабостями, ему присущими…
Увидит ли он вокруг себя внимательные лица Ксавье Малата, Филиппа Шаламона, своего отца и многих других, в том числе Эвелины Аршамбо, Марты, начальника станции и маленькой девочки с букетом цветов?
— Я сознаю, в моих поступках было мало хорошего…
Они не поощряли его, не стремились ему помочь. Но он не нуждался в этом. Он был один. Все остальные являлись всего лишь свидетелями, и он понял наконец, что свидетели не имеют права становиться судьями. И он также. Вообще никто.
— Простите…
Ни звука, тишина, лишь кровь толчками еще текла по артериям да потрескивали поленья за дверью.
Он встретит смерть с открытыми глазами.
VIII
— Будьте так добры, мадам Бланш, пойдите на кухню и подождите, пока я вас не позову. У меня кой-какие дела с Миллеран. Обещаю вам, что долго не задержусь и волноваться не буду.
Гаффе согласился на отсрочку, сделал ему укол, тонизирующий сердце, и заявил, что вернется около семи часов вечера.
— Говоря откровенно, — сказал молодой доктор, — ведь вы просили меня ничего от вас не скрывать, — у вас легкие хрипы в бронхах. Однако это меня не беспокоит, так как температура и пульс у вас нормальные, следовательно, никакого воспалительного процесса нет…
Его непривычная кротость тревожила их, но чем мог он их успокоить? Как бы ни вел он себя, они все равно будут взволнованно переглядываться. Он и они больше не понимали друг друга — вернее, он их еще понимал, но они были уже неспособны следовать за ним.
— Пойдемте со мной, Миллеран. Давайте займемся генеральной уборкой.
Сбитая с толку, она пошла за ним. Он не сразу нагнулся к нижней полке, где стояли «Приключения короля Позоля»; сначала он взял третий том Видаль-Лаблаша, в котором был спрятан уничтожающий документ против одного бывшего и, безусловно, будущего министра.
Он вынул документ, поставил книгу на место, взял другую книгу, затем третью и из каждой вынул либо письмо, либо обрывок измятой бумаги.
— Почему вы бледнеете, Миллеран? Можно подумать, вы вот-вот упадете в обморок.
Он не смотрел на нее. Но был убежден, что не ошибается. Наконец, нагнувшись к тому Пьера Луиса, он сказал ровным голосом, без упрека, без гнева:
— Вы давно знаете об этом, не правда ли?
Когда он, выпрямившись, добавил к бумагам, которые держал в руках, исповедь Шаламона, Миллеран вдруг зарыдала, сделала несколько шагов к двери, будто хотела убежать, скрыться в ночи, остановилась, бросилась к его ногам, пытаясь поймать его руку:
— Простите, господин Президент… Я не хотела… клянусь…
К нему мгновенно вернулся резкий, повелительный тон, он не выносил слез и драматических сцен, так же как не терпел проявлений грубости или глупости. Он не мог допустить, чтобы женщина ползала перед ним на коленях и целовала ему руку, обливаясь слезами.
Он приказал:
— Встаньте!
И прибавил уже менее сурово:
— Спокойно, Миллеран… Расстраиваться не из-за чего…
— Уверяю вас, господин Президент, я…
— Вы делали то, что вам поручали делать. Что ж, прекрасно. Кто?
Он хотел, чтобы она поскорей успокоилась, и, чтобы помочь ей, даже легонько потрепал ее по плечу совершенно не свойственным ему жестом.
— Кто же?
— Комиссар Доломье.
— Когда?
Она не решалась ответить.
— Еще в Париже?
— Нет. Около двух лет назад. В свободный день я как-то поехала в Этрета, он ждал меня. Он сказал, что его командировали с официальными полномочиями и что от имени правительства он поручает мне…
— Правительство правильно сделало. Я поступил бы, конечно, так же. Вам предложили снимать копии с документов?
Все еще всхлипывая, она отрицательно покачала головой. На ее щеках блестели слезы.
— Нет. У инспектора Эльвара есть фотоаппарат…
— Значит, вы передавали ему бумаги, а на следующий день он их возвращал?
— Иногда через час. Ничего не пропало. Я следила, чтобы он отдавал мне все бумаги до единой.
Она не понимала поведения Президента, не могла поверить, что оно искреннее. Вместо того, чтобы прийти в ярость, как того можно было ожидать, или огорчиться, он был таким спокойным, каким она его редко видела. Его лицо светилось мягкой улыбкой.
— Думаю, сейчас не будет иметь уже ровно никакого значения, если мы уничтожим все эти бумаги, не так ли?
Она силилась улыбнуться, и это ей почти удавалось, ибо он выглядел как человек, у которого с души свалилась тяжесть, и ей невольно сообщалось то ощущение свободы и легкости, которым веяло от него. Впервые он обращался с ней как с равной, и между ними даже возникла некоторая близость.
— Пожалуй, все-таки-лучше уничтожить оригиналы…
Он показал ей письмо Шаламона.
— Вы нашли и это?
Она утвердительно и не без гордости кивнула.
— Забавно! Если Шаламон назначит министром внутренних дел какого-нибудь любознательного человека и тому придет в голову посмотреть секретные сведения о своем премьер-министре…
Он хорошо знал Доломье, когда-то тот был его подчиненным, а теперь ведал сыскным отделением на улице Соссе. Воспользуется ли Доломье приходом Шаламона к власти, чтобы получить место начальника Сюрте Женераль или даже префекта полиции?
Но все это было так незначительно!
— Раз уж вы знаете, где находятся все эти бумаги, то помогите мне…
В первой комнате она не обнаружила лишь двух тайников, и он с детской радостью показал ей, где они находятся.
— Так вы их не нашли?
Во второй комнате ей были известны все тайники, а в его кабинете она пропустила только один.
Если дежурный агент наблюдал за ними в окно, то, наверное, недоумевал: Президент и его секретарша, стоя у камина, бросали в огонь бумаги, которые взвивались в ярком столбе гудящего пламени.
— Мы должны сжечь и книги.
— Какие книги?
Значит, она не заглядывала в американское издание его мемуаров! Она поразилась, увидев страницы, исписанные заметками, и не могла понять, как он мог написать их тайком от нее.
— Не стоит жечь толстые переплеты, и не надо бросать в огонь по многу страниц…
Она отрывала страницы небольшими пачками и ворошила их щипцами, чтобы они быстрее сгорали. Все это длилось довольно долго. Пока она, сидя на корточках перед камином, бросала бумаги в огонь, он стоял позади нее.
— Мадам Бланш тоже? — спросил он, зная, что она его поймет.
Она и в самом деле поняла, утвердительно кивнула и прибавила после минутного раздумья:
— Ей ничего другого не оставалось…
Он немного помолчал в нерешительности.
— А Эмиль?
— С самого начала.
Другими словами, Эмиль сообщал на улицу Соссе обо всем, что он делал и говорил, еще в те дни, когда он был министром, а затем председателем Совета министров.
Разве он не подозревал этого всегда, он, считавший своим долгом устанавливать наблюдение за другими?
Было ли это наивностью с его стороны? Или он кривил душой, когда желал убедить себя в том, что представляет собой исключение из общего правила и что правило это его совершенно не касается?
— А Габриэла?
— С ней дело обстоит иначе. В Париже в ваше отсутствие к ней время от времени заходил полицейский инспектор и расспрашивал ее…
Он был на ногах слишком долго, и ему хотелось сесть в привычной позе в свое старое кресло — оно было родным и удобным, как старый халат, который надеваешь по возвращении домой.
Танцующие языки пламени жгли ему щеку и бок, но скоро все будет кончено. Локтем он задел безмолвствующий, отныне уже ненужный ему приемник и сказал:
— Возьмите и это…
Она не поняла или сделала вид, что не поняла, желая внести веселую нотку в сцену, которая ее угнетала.
— Вы хотите, чтобы я сожгла радио?
У него вырвался тихий смешок.
— Отдайте его кому хотите.
— Можно мне оставить его себе?..
Она вовремя удержалась, чтобы не прибавить: «На память».
Он понял, но не огорчился. Никогда прежде он не казался таким добрым, он напоминал сейчас одного из тех стариков, что сидят на солнышке на пороге дома где-нибудь в деревне или в предместье и часами задумчиво созерцают какое-нибудь дерево, птицу или облако…
— Я уверен, что Гаффе позвонил доктору Лалинду.
Теперь, когда он посвятил ее в свой секрет, она тоже могла быть с ним откровенной.
— Да. Он сказал, что вызовет его.
— Он очень испугался, когда увидел меня спящим?
— Он не знал, что вы приняли лекарство.
— А вы?
Она не ответила, и он понял, что не следует приставать к ним с вопросами. Ведь и они старались делать, что могли, как Ксавье, как Шаламон, как эта каналья Доломье.
С кем еще было связано слово «каналья»?
— Эта каналья…
Он никак не мог вспомнить, и тем не менее, когда у него в уме промелькнуло это слово, оно приобрело особый смысл.
Чье-то имя готово было сорваться у него с языка, но к чему делать усилие? Теперь, когда он окончил свой жизненный путь, все это его уже не касалось.
Можно было ни о чем больше не думать, и это вызывало странное ощущение, одновременно приятное и немного томительное.
Еще несколько вспышек пламени, несколько тлеющих страниц, которые рассыплются под щипцами на тонкие слои пепла, и все пути будут отрезаны.
Пусть Габриэла приходит приглашать господина Президента к столу. Он послушно последует за ней, сядет на стул, который подаст ему испуганная Мари, боясь, как всегда, что он упадет на пол. У него нет аппетита, но он будет есть, чтобы доставить им удовольствие. Он станет отвечать Гаффе, когда тот в семь часов приедет, может быть с Лалиндом, задавать ему докучные вопросы, он позволит им снова считать свой пульс и ляжет в постель, как обещал.
Он ни с кем не будет язвителен и перестанет отпускать колкости даже всегда чуточку напыщенному Лалинду.
С этих пор он вооружится терпением, заботясь лишь о том, чтобы не закричать, не позвать на помощь, когда настанет его последний час. Он должен встретить его в полном одиночестве, сдержанно, тихо.
Пусть это будет завтра, через неделю, через год — он будет ждать. И когда взор его упал на мемуары Сюлли, он прошептал:
— Можете поставить книгу на место.
К чему читать чьи-то воспоминания? Его уже не интересовала ни одна книга на свете, и дальнейшая судьба его библиотеки была ему совершенно безразлична.
— Так-то!
В конце концов, ничего драматического в этом не было, и он был почти доволен собой. В его серых глазах искрился даже лукавый огонек, когда он представлял себе, как отнесутся к этой перемене окружающие.
Увидев, какой он тихий и кроткий, разве не станут они грустно покачивать головами и шептаться за его спиной: «Вы заметили, как он сдает?» Габриэла, безусловно, прибавит: «Можно сказать, как свеча, угасает…» А все потому, что он перестал обращать внимание на разные пустяки.
— Вы спите? — внезапно встревожилась Миллеран, увидев, что он закрыл глаза.
Он покачал головой, взглянул на нее и улыбнулся от всей души, как если бы перед ним была не одна Миллеран, но все человечество.
— Нет, дружок.
И добавил после некоторого молчания:
— Нет еще…
Примечания
1
Герцог де Сюлли (1559–1641) — министр и ближайший советник короля Генриха Четвертого. (Прим. перев.)
(обратно)2
Бурбонский дворец — здание палаты депутатов.
(обратно)3
В Версальском дворце согласно конституции собираются раз в семь лет на совместное заседание (конгресс) обе палаты французского парламента для выборов президента республики. (Прим. перев.)
(обратно)4
Hobby (англ.) — любимое занятие или развлечение.
(обратно)




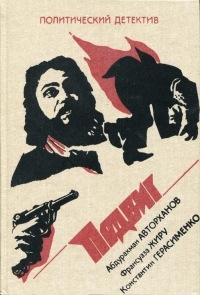
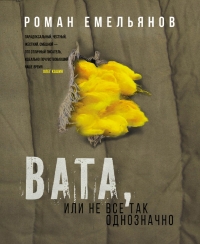

Комментарии к книге «Президент», Жорж Сименон
Всего 0 комментариев