СКОБЕЛЕВ Э.М. Завещание Сталина
От автора
Под пеплом нашей жестокой жизни я натолкнулся на редких людей и важнейшие, но уже почти позабытые события, — у меня нет сомнений в правдивости основных фактов, которые уважаемый читатель найдёт в этой книге. Всё отвечает реалиям бытия, всё психологически верно. А потому «неча пенять на зеркало, коли рожа крива».
Думаю, я был и некоторое время оставался на гребне сущностных знаний своей эпохи. Правда, мои знания были всё равно ничтожными, противоречивыми и фрагментарными, но вся трагедия заключалась в том, что наши предводители (на этапе относительной свободы своих действий) никогда не владели даже этими знаниями, отчего народы копошились в дерьме суеверий. Пошехонь была и, увы, остается нашей главной купелью.
Современный мир может преодолеть навязанные ему противоречия и сохранить от надвигающейся гибели народы только при одном условии: если люди, ободрённые примерами героизма предшественников, решительно, не боясь никаких последствий, встанут на борьбу за свои права — каждая страна, каждый город, каждый индивид…
Мир обретёт утраченную устойчивость, едва будет покончено со всеми заговорщицкими доктринами, с тайной агрессией одних этносов против других, из-за которой всё сильнее страдают все. Но пока люди будут считать правдой лишь защиту своего личного интереса, общая Правда останется лишь химерическим призраком, и Глобализму, этому новому «Интернационалу», удастся возвести новую тюрьму для всего человечества.
На земле нет плохих народов, есть разные стадии их исторического бытия, есть скверные цели, которые навязывают народам, есть ложные иконы, в которые заставляют верить людей, страдающих от неполноценности жизни.
Исходя из этого, я говорю в книге и о еврействе, поскольку оно обладает реальными возможностями осуществлять свою националистическую линию. Если мы не разберёмся тут, завтра аналогичные, а, может, ещё более сложные вопросы возникнут с албанцами, турками и так далее, и так далее. Терроризм в мире всегда существовал и существует, только некоторые ищут его не в том направлении, и сами «ищущие» всё более нагло прибегают к методам тотального террора.
Разговор об этнической агрессии давно превратился в разговор об обеспечении реального равноправия всех народов мира, об исключении политического, финансового, идеологического и психологического давления на них. Фарисейские вопли об антисемитизме здесь неуместны, потому что завтра — в случае ненормального развития событий — придётся уже поднимать разговор о жизненных правах немцев, французов, англичан и американцев…
Кто настойчивей всех ставил и ставит вопрос об «интернационализме», должен быть первым обследован на истинную приверженность общим интересам народов, — это логично и оправдано.
Мы хотим уберечь все народы от крайностей фанатизма, в том числе и евреев. Если мы допустим разгром одних и победу других, всё равно им придётся биться с третьими.
Увы, увы, не каждая нация и не на каждом отрезке своей истории способна к умиротворению: есть состояние нации, когда она не созидает, но разрушает и может выполнять лишь функции надзирателя, надсмотрщика и палача, как то мы воочию видим в текущей истории.
Между тем окровавленная ныне Россия всё ещё способна в перспективе удержать содружество народов в равновесном состоянии. Сколько это продлится, нам не известно. Может быть, завтра и она потеряет эти силы.
Вот почему я, белорус, выступаю против растерзания России и против безнаказанности бредового нацизма.
Есть всякие русские и всякие евреи. В романе — в соответствии с опытом моей жизни — показаны и симпатичные, и не самые симпатичные люди — те, о которых обычно умалчивают.
Думаю, никто из нормальных читателей не станет типизировать и обвинять за преступные выходки моих персонажей еврейский или русский народ, как не станет и восхвалять иные народы.
Моя задача — уравновесить потерявшие ныне баланс события. И это значит, прежде всего, — восстановить пока ещё доступную нам правду о Сталине. Ибо завтра и она исчезнет под лавиной стремительно умножающейся лжи и преподлейших мифов, как, допустим, исчезла правда о римском императоре Тиберии, при котором якобы и был умерщвлён в Иудее некий «неформал» под тайным, известным лишь посвященным именем Иисус Христос из колена Давидова.
«Еврейский вопрос» непрерывно разрастался в России и во всём мире, особенно с конца XIX века, так что и занял сегодня, может быть, определяющее положение, совмещаясь с вопросом о национальной независимости и духовной свободе всех остальных народов.
Многие писатели, политики, историки посвящали и посвящают свои работы этому вопросу. А.Солженицын выступил даже с двухтомным компендиумом.
Мой роман не касается «еврейского вопроса» как такового. Как реалистический роман он воспроизводит лишь некоторые типические фигуры, но смысл его не в этих фигурах, не в выяснении даже их мелкомасштабности и подчинённом смысле в сравнении с фигурой Иосифа Сталина, его смысл — в исторических перспективах русского народа и всех народов Европы, поскольку речь идёт о нереализованных замыслах крупнейшего политика XX века, — он всерьёз готовился разрешить все «проклятые вопросы» современности.
Некоторые скажут, что образ Сталина в романе односторонний и даже фантастический. Они ошибутся: да, односторонний, но не фантастический — время и события всё более обнажают тот пласт положительного знания, который тщательно скрывался «заинтересованными» и при жизни Сталина, и после его смерти. Он скрывается от взоров общественности особенно сегодня.
Как обе «революции» 1917 года явились террористическими актами в условиях «намагниченной среды», так и события «перестройки» были террористическим действом в обстановке психического ошеломления и прицельного оболванивания народов, имеющих международные корни и международный размах.
Вполне понятно, что суть нынешних событий, когда миру грозит новая террористическая диктатура в виде глобалистского «мирового правительства», может быть внятно истолкована только при наложении их на образ, ставший символом грандиозной исторической эпохи, которая всё ещё не завершена.
В какой-то степени я использовал в романе новый для себя подход: его герои связаны тут не столько сюжетом, сколько общей исторической идеей.
По существу, то же самое происходит в реальности, где нет сплошного сюжета, где он только подразумевается. И главное прозрение, составляющее содержание, смысл и итог нашей жизни, возникает чаще всего под воздействием совершенно незнакомых нам людей, в результате мимолётных контактов, увиденного, услышанного, испытанного личной бедой…
Э.М.Скобелев
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Картинки памяти
Встреча с Вождём
Сталин говорил: «Чтобы достойно управлять таким великим государством, как СССР, составленным из многих народов, я обязан был знать больше румынских бояр и болгарского царя, больше ростовщиков Америки и милитаристов Англии. Я видел, что мир, как всегда, не в силах выбраться из невежества, и понимал, что марксизм — это очередной жёлтый фонарь, подвешенный очередным брадобреем над своей доходной палаткой.
Не надо хвататься за всякое очередное учение и вопить, что все истины уже найдены и открыты. Все истины, — и слава Богу, — никогда не будут найдены и открыты, но всё же в этом жестоком, империалистическом мире возможно уцелеть только при одном условии: если знать и понимать гораздо больше того, что знают и понимают все наши противники.
А для этого необходимо черпать самое сокровенное и у тех великих мудрецов, которые жили прежде и которые понимали подчас главные законы мира гораздо глубже нас, потому что наблюдали мир во времена его драматических перевоплощений, тогда как мы можем его наблюдать только во времена трагических столкновений или политически однообразной спячки.
В конце 30-х годов, когда я впервые почувствовал себя в некоторой личной безопасности, сокрушив фактически правящую банду, состоявшую из псевдореволюционеров, я смог позволить себе обратиться к знаниям ушедших эпох.
Среди груд хлама было почти невозможно обнаружить хрустальные крупицы подлинных прозрений, но я был упорен и не торопился. И был, в конце концов, вознаграждён.
Я узнал, что уже наступали в истории времена, когда — по разным причинам — стремительно слабела общая культура и народы уже не могли на прежних основаниях поддерживать свои отношения. Тогда единственным спасением от крови и бестолковых с первого взгляда брожений с разных сторон было это — разойтись по домам. Может, даже не всегда разделиться, освободившись от даней в пользу более сильных, но отделиться и обособиться, чтобы в спокойствии исцелиться от духовного гниения.
Это наступает в эпоху смут, когда все требуют свободы, утратив её в своих сердцах, все претендуют на богатства, не желая созидать их собственными руками. Именно тогда карающей власти бога требуют все безбожники, об искоренении бандитизма громче всех кричат предводители бандитских шаек, о правах толкуют беззаконники и судят о людских делах наглецы и пройдохи, искусство врачевания присваивают себе закоренелые убийцы и о любви распространяются тайные пожиратели человеческих тел.
В это страшное время всеобщей смуты гибли цивилизации, ценности которых, возможно, превосходили наши. И смерть и муки могли продолжаться столетиями, пока не уничтожались все правящие династии, пока не сжигались все долговые книги, пока не упразднялись все договоры, пока народы не передвигались на новые места, а те, которые не могли передвигаться, парализованные многоголосием и вавилонской перемешанностью, не получали новых имён, новых пророков и новых богов.
Исследуя причины, вызывавшие эти страшные мировые потрясения, я открыл, что общее горе обрушивалось тогда, когда ростовщики одного какого-то племени начинали брать лихву со всех живущих, навязывая им свои представления о нужном и бесполезном, о славном и недостойном, когда уже начинали осуществляться сумасбродные и болезненные, но реальные планы установления всемирной власти.
Именно такое время подступает к нашему порогу. Две мировые войны освободили силы заговора, и сегодня мир опутывает долговая кабала из одного центра.
Что сможем противопоставить мы штурму наших крепостей, когда белорусы выйдут в поле пахать, а вайнахи будут гулять свадьбы, когда украинские шахтёры спустятся в угольные копи, а незримые «гегемоны революции» возьмут в свои руки нашу финансовую систему и станут похищать три четверти наших богатств? И каждый будет порицать власть за то, что она не может установить порядок и дать полную свободу произволу?..
Положим, я знаю, как восстановить порядок, как соблюсти высшие интересы народов и наций.
Но будут ли это знать после меня? Захотят ли знать? Не сделаются ли вновь рабами желудка и инструментами ничтожных похотей?
Да, нам угрожает бюрократия, перерождение, мелкобуржуазная стихия… Но прежде всего нам угрожает невежество управляющей верхушки. Если нас когда-либо сокрушат, то только потому, что партия превратится в кодло придурков и хищников…»
К сожалению, я не делал последовательных записей по горячим следам. Когда же спохватился, мой архив оказался разграбленным. Я знаю, что это были за грабители, — жаловаться на них бесполезно.
Моя встреча с Иосифом Виссарионовичем Сталиным относится к концу ноября 1952 года, когда общественность ещё ничего не знала о грандиозном заговоре, целью которого было физическое устранение верных соратников Сталина, попадавших в палаты Кремлёвской больницы. К тому времени в Кремле действовала сеть агентуры, формально служившей англо-американской разведке, а фактически — руководству мирового государства, созидаемого чужими руками с помощью масонских домов всего мира.
Советским людям стали известны лишь самые незначительные факты, как и тогда, когда шли процессы в связи с разоблачением политических заговоров 1936–1938 гг.: осторожный Сталин прекрасно понимал, что в многонациональном СССР заговору опасно придавать характер национальных противоречий, чего яростно добивались троцкисты, заявляя в провокационных целях, что «новое, антиленинское руководство» повсюду теснит прежде всего евреев, пользовавшихся у Ленина репутацией «прирождённых революционеров» и истинных создателей пролетарского государства. Сталин давно раскусил эту дешёвую шельмовскую тактику и выбил оружие хитрости из рук противников, осудив их за политические прегрешения.
«Дело врачей» побудило многое переосмыслить советского вождя. Он понял, что все его победы над противниками после 1924 года носили условный и временный характер, — они лишь изменили свою тактику, пользуясь тем, что всегда действовали по всем спектрам политики (считаясь с возможностью перемен).
Да, Сталин пользовался ГУЛАГом, но не он его создавал, не он вырабатывал способы перманентного террора над инакомыслящими. Да, Сталин сослал в лагеря многих очевидных врагов из числа евреев, но вынужден был (вот в чём хитрость распределения сил по всем борющимся направлениям!) возвышать тех евреев, которые якобы «не дрогнули, защищая верный партийный курс».
«Дело врачей» раскрыло ему глаза на бездну политической мимикрии и вероломства. Он чувствовал, что враг подобрался совсем близко, шурует уже среди «соратников», но у старого ветерана уже не было прежней молниеносной реакции, не оставалось прежних духовных и физических сил, — сказались нечеловеческие нагрузки и лишения…
Мне назначили время и пункт сбора (приёмная Президиума Верховного Совета СССР), предупредив, чтобы я ни с кем не вступал в контакты, пока не появится «старший».
И в самом деле, пока я ожидал в вестибюле, промелькнуло два знакомых человека. Оба были руководителями крупнейших военных предприятий страны. Разумеется, я и виду не подал, что узнал этих людей.
Потом появился «старший». В чёрной каракулевой шапке и длинном пальто, он обошёл приглашённых (их было четверо), пожав всем руки, и сделал жест — выйти на улицу. Там уже стоял автобус с зашторенными окнами. Мотор был включён — нас ожидали.
Мы молча заняли места и поехали, не задавая вопросов и не пытаясь открыть шторы и сориентироваться. Никаких мрачных предчувствий у меня не было, я понимал, что предстоит важный разговор, к которому допущены лишь самые доверенные лица.
Ехали мы долго, гораздо больше часа. Остановились у шлагбаума, где стояли два солдата в полушубках с винтовками. Из караульного помещения за густым ельником вышел стройный офицер, вежливо попросил документы прибывших, сверил фамилии с какою-то бумагой, и мы также молча, оставив машину, пошли по расчищенной от снега асфальтовой дороге — через лес.
Не скрою, я волновался, догадываясь, с кем состоится встреча (так и не сказали прямо), но не представляя себе ясно, что от меня потребуется.
Вскоре за поворотом показались массивные железные ворота, выкрашенные в тусклый зелёный цвет, по обе стороны от них тянулся высокий деревянный забор тоже зелёного цвета, — такие заборы тогда нередко окружали территории пионерских лагерей и домов отдыха.
За воротами оказалось помещение пропускного пункта, там наши документы проверили ещё раз.
— Ну, вот, — сказал «старший», когда мы оказались уже по другую сторону ворот, — сейчас мы увидим товарища Сталина. Программа специально не обозначена, я и сам теряюсь в догадках. Что потребуется, то и представим. Так, товарищи?
Ему никто не ответил, а я подумал, что из четырёх гостей двое мне совершенно незнакомы.
А тут и дом открылся нашим взорам — двухэтажное каменное строение, кажется, желтоватого цвета.
Дежурный офицер, худощавый и остроглазый, приветливо козырнул и отворил двери. Мы вошли, поочерёдно тщательно обтерев ноги о подстилку.
Разделись в темноватой прихожей, где по правую сторону от лестницы на второй этаж была длинная вешалка с массивными крючками и полкой для головных уборов. Там же, в глубине, помещалась туалетная комната и сверкающий белизной умывальник. Перед ним и сбоку помещалось большое зеркало. На специальной подставочке висели свежие вафельные полотенца.
Мы сгрудились растерянной кучкой у лестницы. Я запомнил два высоких окна и фикус в бочке.
Поражал какой-то особый запах, запах жилого, но всё же казённого дома, может быть, дерева, может быть, дезинфицирующих средств, ё по Москве ходил грипп.
— Поднимайтесь, товарищи, — к нам по скрипучей лестнице спустился средних лет человек, видимо, один из помощников Сталина. Голос уверенный, доброжелательный, но официальный.
Поднялись на второй этаж, вошли в указанный зал. Прямо два окна, три окна справа.
Ближе к другой, глухой стене, где кафельные плиты обозначали печь и висели две картины, стоял массивный, покрытый скатертью стол. Простые стулья с гнутыми спинками.
С потолка свисали лёгкие хрустальные люстры.
Мы ещё стояли в нерешительности подле самого входа, когда в ту же дверь вошёл, сутулясь, Сталин в тёмном кителе, приветствовав нас едва поднятой рукой.
За свою жизнь я видел немало значительных людей, тех, которые навсегда вошли в историю, но чувство лицезрения этого человека нельзя было сравнить ни с чем, — мудрый вождь великого государства, пролагающего впервые в истории путь к счастью и свободе для всех трудящихся, для всех угнетённых! Я видел его вблизи во второй раз, но волновался так же, как и в первый. Скажу честно, если бы он приказал мне войти в огонь, я бы, не промедлив, исполнил его волю.
Никакого значения не имело уже всё остальное — Сталин.
Все мы невольно напряглись и задержали дыхание, а он прошёл, добродушной улыбкой вселяя радость и уверенность.
— Садитесь, друзья, — пригласил он, — голос мягкий, негромкий, с почти неуловимым акцентом — и показал рукой на сервированный уже стол. — Угостимся обедом и поговорим. Может, это ранний обед или поздний завтрак, но я хотел бы, чтобы все мы забыли за столом, что есть начальники и подчинённые, старшие и младшие по званию. Все мы смертные люди, все дети своей земли, сыновья одного Отечества. Посвятим ему свои думы, как посвящаем каждодневные труды.
Сталин сел спиной к картинам, и все мы осторожно расположились напротив. Каждый — перед своим прибором. Напряжённость оставалась.
— Сохранили президиум, — всё так же негромко и неторопливо сказал Сталин, усмехаясь. — Что-то я немного простудился. Хотел шерстяной свитер надеть — нет свитера. А я помню, мне присылали колхозницы из-под Тамбова — десять свитеров. Спрашиваю: «Где?» — «Вы же велели отправить свитера на Северный флот!» Да, было такое. Просил командующего передать свитера лучшему экипажу подводной лодки, — от его, конечно, имени…
Тут появились две средних лет женщины в одинаковых блузках и белых передниках и стали бесшумно и быстро ставить закуски. Всем налили красного вина.
— Мы одержали не одну трудную победу, — сказал Сталин. — Но главные победы ещё впереди. Как и поражения… Не стесняйтесь, я всех вас давно знаю и высоко ценю. За ваше здоровье, за вашу верность стране и народу, за вашу волю — никогда не смущаться перед врагом, под какой бы личиной он ни выступал!..
Я считал, что на обедах у Сталина всегда присутствуют высокие особы, но, видимо, постаревший вождь тяготился множеством гостей, каждый из которых ревниво требовал внимания.
Тихо постукивая ложками, съели овощной суп, на второе — фаршированные морковью и луком перцы, к которым подали тонкие охотничьи сосиски. Постепенно все мы смелели, осваиваясь с новой обстановкой.
А потом обслуга, ещё раз налив вина, как-то сразу исчезла.
— То, что я хочу сегодня сказать вам, — заговорил Сталин, поглядывая за окно и поглаживая рукой скатерть, — руководителям важнейших направлений в развитии нашей будущей оборонительной мощи, я хотел бы сказать всем гражданам. Но, увы, реальность такова, что далеко не всё, что осознаёт высшее руководство, можно сразу же доверить простым людям. У них слишком много других проблем, и новые, которые мы положим на их плечи, если даже и объясним всё толково, согнут и погубят их. Но замалчивание проблем согнёт и погубит нас самих. Общество — очень слабое, когда люди не знают всей правды своего положения. И мы сегодня слабы. Нужны совсем иные основы для управления обществом, в котором людям было бы ведомо неведомое ныне… Многие из вас считают, что товарищ Сталин располагает величайшей властью. Это так. Но и не так. Ещё до начала войны с Германией я пытался несколько раз лично встретиться с Гитлером. Гитлер был согласен на встречу, и если бы она состоялась, она бы, полагаю, многое изменила. Но потому эта встреча и не состоялась. Её не позволили осуществить ни Гитлеру, ни Сталину… Уже в ходе войны мы трижды устанавливали связь, и нам трижды обрывали её: кому-то очень была нужна война Германии и Советского Союза… Да, мы сражались, но — как выясняется — больше за чужие, чем за свои интересы. Война принесла перемены. И ещё принесёт. Но будут ли эти перемены только в пользу народов, я не убеждён. Тем более не убеждён, когда смотрю на нынешнее политическое руководство. Не только в западных странах, но и у нас. Страшная чума поразила наш организм, скоро мы объявим о ней. Но объявим лишь частично, потому что враг провоцирует нас на поспешные и необдуманные шаги. По части политических махинаций у него опыт несравненно больший, тут с ним не потягаешься…»
Недели через три, когда советскую общественность всколыхнуло заявление ТАСС от 13 января 1953 года, поведавшее миру о «заговоре еврейских врачей», я понял, что, скорее всего, имел в виду недуживший вождь. И только тогда мне сделались ясными намёки: Сталину казалось элементарным то, о чём он говорил, но все мы, приученные закрывать глаза на «интернационализм», позволявший паразитировать одним, «избранным», за счёт других, «неизбранных», вряд ли по достоинству истолковали услышанные слова. Правда, я знал о «заварушке» в Чехословакии в октябре-ноябре (рассказал давний приятель, словак, привозивший в Москву кое-какую немецкую документацию), знал и о том, что группа Р.Сланского, прорвавшаяся к руководству, замышляла целиком овладеть страной и использовать её потенциал для укрепления Израиля, созданного в 1948 году при самой активной поддержке СССР, точнее, проеврейского лобби, имевшего влияние даже на Сталина. Группа Сланского передала Израилю в сто раз больше материальных средств, чем фиксировалось официальным решением; фактически страна была ограблена, и разоблачивший грабителей К.Готвальд был отравлен в Москве через неделю после смерти Иосифа Виссарионовича. Советские люди так и не узнали, что израильтяне одержали победу над арабами, используя пленных немецких танкистов и артиллеристов, а также отборные чехословацкие части…
Повторяю, тогда, слушая Сталина, я не мог себе даже представить, что речь идёт о еврейской угрозе, — масштабы угрозы совершенно ошеломляли…
— Да, мы победили, — медленно говорил Сталин, и по его напряжённому лицу было видно, что он тщательно выбирает слова. — Но главный враг, тенью сопровождающий нас со времён революции, только усилился, его власть сделалась мировой. Увы, мы тоже содействовали этому. И субъективно, и объективно. Будущее страны, товарищи, зависит теперь, главным образом, от успехов ваших разработок. Между тем, ситуация может перемениться. Ваша задача: настолько засекретить главные работы, чтобы даже работники госбезопасности, остановившись перед стальной дверью, какое-то время не могли сказать ничего определённого. Параллельные темы, ложные направления. Ваши главные специалисты должны быть в состоянии продолжать работу на оборону страны в любых условиях. Даже при перемене власти. Даже при оккупации…
Мы невольно переглянулись: есть стереотипы сознания, которые не мог в те минуты поколебать и Сталин.
— Я не оговорился, — хрипло повторил Сталин, и я вдруг увидел перед собой усталого и одинокого человека, искавшего поддержки. — Если советский народ не осознает новую ситуацию, о которой и я не знал в нужной степени, он не поймёт того, о чём ему скажет даже товарищ Сталин. И вы ведь вздрогнули и встрепенулись, не совсем верно понимая меня, потому что я не могу сказать вам сегодня больше того, что могу сказать… Пришла пора поменять всю теорию марксизма, которая порочна в своей основе. Это первый слой просвещения, самый простой и самый примитивный. Но поменять — этого не сделаешь одним махом. Наш противник внушает всем, что он пользовался поддержкой Ленина, и противопоставление Ленина и Сталина способно вызывать в стране раскол. У меня нет сегодня таких сил и средств, чтобы умиротворить десятки миллионов граждан, испытывающих в послевоенной стране огромные лишения. Плюс внешняя пропаганда и внутренние диверсии, которые с каждым днём усиливаются. Нужна постепенность, нужно время, нужны новые люди. Вопрос не одного дня и даже не одного года. Мы оказались заложниками собственной доверчивости. Легко изменить движение автомобиля или самолёта. Но инерцию движения великого народа не переменить в течение нескольких недель… Теперь я хотел бы знать, что вы усвоили из моих слов и должен ли я продолжить объяснения?
Все мы, руководители крупнейших оборонных предприятий, молчали. Видимо, никто из нас не имел той ясности, которая была нужна в этом разговоре.
Заговорил «старший», и с первых его слов я понял, что и он ориентируется ничуть не лучше. Хотя это был опытнейший волк оборонной сферы.
— Было бы недопустимым упрощением, товарищ Сталин, если бы я сказал, что мы прояснили себе наше положение и положение страны. Ясно, по крайней мере, что Вы имеете какие-то новые сведения и приняли решение действовать на основе этих сведений. Наша задача — заблаговременно и секретно подготовиться к продолжению работ по всей номенклатуре запланированных изделий… При этом я хотел бы заверить: мы выполним любое Ваше указание, в этом нет сомнений. Однако перемены, о которых Вы предупреждаете, могут быть и такими, которые лишат нас материальных средств и закупок необходимой техники…
Сталин пригладил усы и долго молчал. Он не был растерян, это ясно, но и он, видимо, цепенел перед значительностью слов, которые должен был произнести.
— В целом Вы меня правильно поняли. Хорошо уже, что никто не списывает сказанного на мой солидный возраст. Всё потом свалят на Сталина, когда его похоронят… Но я не хочу уйти, оставив страну неподготовленной к борьбе с главным её противником, с самого начала исказившим все цели революции… Ваш ответ доказывает, какая нелёгкая задача — повернуть убеждения миллионов… Тут нельзя спешить. Необходимо подготовить вначале когорту тех, кто прекрасно разбирался бы в новом положении… Что же касается трудностей, о которых вы говорите, в том числе и финансового порядка, я вижу только один выход: накапливайте средства, накапливайте ресурсы и материалы, создавайте складские запасы. Вам сейчас это позволено — действуйте. Главное — ни при каких обстоятельствах не потерять головы, не поддаться на демагогию противников, которые выступят под личиной самых искренних «друзей народа»… О, сколько лжи и клеветы они обрушат на души наших людей, — больше, чем бомб и снарядов обрушили немцы на наши города!.. Мы обязаны устоять, оставаясь верными главному: наше общество должно быть свободным от эксплуататоров, оно должно быть равным во всех своих проявлениях. Это должно быть трудовое и самое культурное общество. Завоевания последних десятилетий не должны быть поставлены под вопрос. Вот основа нашего патриотизма и основа нашей политики…
По дороге к Москве все молчали. Я думал о том, что Сталин не доверяет своему окружению и готовится к большим перестановкам.
Так бы оно и произошло. Но противники опередили его: Сталин был убит в начале марта своим окружением, которому Берия и Каганович (видимо, они) сумели внушить, что большинство членов Политбюро находится уже на волосок от расстрела в бетонированных камерах. Трусость пересилила — провокация удалась…
В ожидании последнего штурма
Он переходил от одной амбразуры к другой, вглядывался вдаль, пытаясь определить, с какой стороны грозит атака. Болели ноги, хотелось лечь, как-либо освободиться от всего этого напряжения
Час назад они внезапно атаковали с двух сторон. Он даже растерялся. Если бы не поддержка, он был бы уже в лапах «доброжелателей».
Он и его товарищ дали несколько автоматных очередей, и подступавшие вначале залегли, а потом развернулись и побежали.
Понятно, они хотят взять его живьём. Но это, конечно, не означает, что они не будут вновь штурмовать его последнего прибежища… Всё было решено давно. Но тревоги не оставляли. Кажется, ни на что уже не оставалось сил, но по-прежнему давили обиды…
Люди Алексея Михайловича действовали в правительстве, в отдельных дивизиях и частях, которые должны были сорвать государственный переворот, — он совершался открыто под демагогические крики трусливой верхушки, отсекавшей массу народа от участия в событиях. Тем, кто консультировал все основные шаги переворота, это казалось особенно страшным: участие людских масс сразу сделало бы непредсказуемой всю их затею, все их многосложные калькуляции.
При постоянных «сенсационных разоблачениях» люди теряют способность предвидеть. Стало быть, «сенсации» должны были лупить по башке обывателя непрерывно — изо дня в день. Так оно и делалось — до психоза, до обалдения: «Долой привилегии начальства! Компартию — под народный контроль!..» И рекою — вымыслы о кровавых «сталинских» репрессиях, организаторами и исполнителями которых были отцы и деды как раз этих самых диссидентов, создававших «сенсации»…
Он упустил нити влияния на события в решающий час! И как было не упустить? В тот день, утром, когда войска генерал-полковника Альберта Макашова могли, как ожидалось, сбить лайнер с основными закопёрщиками переворота, у него внезапно умерла жена Нина, его верный помощник и надёжный друг, безропотно и точно выполнявший множество важнейших поручений.
Вышла за хлебом — магазин через дорогу. Упала в обморок. Пока люди соображали, что делать, остановилось сердце.
Её смерть была настолько ошеломляющей, что два дня, пока не похоронили, Алексей Михайлович пребывал чуть ли не в прострации. Конечно, и звонил, и принимал нужных людей. Вычухался, но главной задачи своей не выполнил: то ли из-за трусости, то ли из-за разгильдяйства, веками выпестованного в нашем человеке, механизм не сработал, горстка решительных людей была бесследно рассеяна, и преступный замысел покатил дальше.
Так было у него. Так было, вероятно, и у других, «уполномоченных» присмотреть за наследием вождя, — ничего нигде не получилось. Все инициативы встречались в штыкл озверевшими бандами профессиональных лжецов, за которыми шли толпы…
Он понимал, что это подготовленное противодействие врага, опытного, отмобилизованного, обкатавшего свои кадры, отлично знавшего все сильные и слабые стороны разрушаемой им государственной машины.
Когда закрепился Ельцин и стало ясно, что успехи «левой оппозиции» — блеф, она используется только как декорация для парализации общества, Алексей Михайлович впал даже в депрессию, хотя понимал, что не имеет права на слабость и отступление.
— Крантыль, Михалыч, — докладывал ему очередной эмиссар из Москвы. — Люди гибнут и пропадают пачками, и в основном те, кто мог бы решиться на открытую драку. Тюрьмы и следственные изоляторы забиты арестованными. Об этом не пишут, но люди вешаются, вскрывают себе вены. Многих расстреляли без суда и следствия…
Оказывается, сволота держала картотеку на лучших, на тех, кто не побоялся бы риска: КГБ последние годы обслуживал потребности государственного переворота, даже не догадываясь об этом… Коротичи, поповы, собчаки и новодворские сумели оболванить массы, внушить им, что «революция» уже победила, всюду власть взяли «демократы», хотя ещё никакой реальной власти они не имели и дали бы дёру при первой же решительной контратаке…
В те томительные и тревожные дни, когда психопаты и извращенцы одерживали верх и самым наглейшим образом гнали отовсюду ветеранов за то, что те знали иную правду, Алексей Михайлович занялся разборкой писем своей жены. Их было немного, и он перечитывал их, удивляясь, как быстро пролетело время и как призрачны все минуты счастья.
Одно письмо, — недописанное, последнее, — привлекло его внимание: «Дорогая Лорочка, — писала Нина сестре в Белгород. — Заходила твоя дочь Тоня, буквально на час. Я её впервые увидела, попросила примерить мою новую шубу и два новых костюма, — всё подошло, не требует даже подгонки. Я предложила ей в подарок, но она почему-то отказалась. И Алексея Михайловича не стала дожидаться, как увидела его на фото. Он ей показался важным, как гусь. Уж я хохотала от души. Скажите ей, если она и на следующий год надумает приехать к подруге, пусть непременно зайдёт ко мне. Она мне очень понравилась, и я хотела бы сделать ей приятное. Все вещи неношеные. Купила серебряное колечко с бирюзой, которое ей приглянулось…»
На похоронах Нины не было почти никого из её родственников, всё прошло второпях, в отупении и ознобе. Тут великую страну хоронили, какое существенное значение имели другие смерти, даже если это были смерти самых близких людей?
Сознавая какую-то свою вину, Алексей Михайлович разыскал адрес и телефон Ларисы. Позвонил, рассказал о горе. И сам чуть было не разрыдался в трубку. Под конец взял себя в руки и вспомнил о неоконченном письме.
— Приезжайте со своей Тоней!..
Приехала одна Тоня. Худощавая женщина тридцати двух лет. Давняя вдова. Её муж, военный моряк из Калининграда, сразу же после свадьбы ушёл в море. И не вернулся. На подводной лодке случился пожар. Он оказался в эпицентре и погиб от ожогов и отравления.
Алексей Михайлович, которому в ту пору было уже за шестьдесят, отнёсся к родственнице покровительственно и без церемоний:
— И что же ты, симпатичная, можно сказать, женщина, больше и не пыталась устроить свою судьбу?
— Нет, не пыталась.
— Любовь была большая?
— Жалко было человека… Несправедливость. И мать его так убивалась, — единственный сын… — Коварная судьба. Ни с чем не считается.
— Коварство судьбы — это коварство людей… Теперь наш народ кругом понесёт гигантские потери.
— Я это чувствую, — просто ответила Тоня. — Люди сразу стали ненужными другим людям. И любая семья сегодня — трагедия. Что сделали!
— Нация не должна умереть, — возразил Алексей Михайлович. — Пока жив, я с такой перспективой не соглашусь!..
Тогда он ещё не догадывался, что будет Чечня, и его сын погибнет по вине бездарных командиров и политических махинаторов. Тяжёлый камень судьбы ударит так, что он уже не оправится, не восстановит своей былой уверенности и энергии… Он распахнул шкаф с гардеробом Нины:
— Она тоже жертва несправедливости. Была здорова, а сердце — остановилось… Бери, ты ей очень понравилась! Зарубежные тряпки! Теперь это всё в моде!
Тоня заупрямилась:
— Забирать — грех… Если вы не против, я, пожалуй, пока останусь у вас. Вы заняты важным делом, а тыла нет. Вы не привыкли к быту одинокого волка и долго не вытянете…
Он растерялся. А она — вот характер! — тихо закончила, глядя в упор большими серыми глазами:
— Меня не интересует, что скажут другие и как всё окончится. Едва вы окунётесь в нищету, которая припасена на всех, чтобы всех разъединить и перессорить, пропадут последние перспективы… Пошлю письмо — уволюсь с работы. Согласны?
— Согласен, — он предощущал какую-то новую радость, но одновременно тяготился этим поворотом: «Что сказала бы Нина?..»
Что тут скрывать, мужские чувства ещё не вполне угомонились в нём, он подумал о близости и сразу же осудил себя: «Пенсионер, бобыль, о чём ты, о чём, замшелый пень?..»
Тоня быстро приноровилась к его бытовому ритму, потакая всем его пристрастиям и склонностям, без которых не бывает живого человека. Утром вставала так же рано, как и он, и, пока он ходил за газетами, подавала завтрак — кашу, творог, иногда блинчики с луком, яйцо под майонезом.
Уволенный с должности Алексей Михайлович очень страдал без своего предприятия, без тысяч привычных забот, ежедневно отмечавших общее продвижение к цели. Его ближайшие соратники, уволенные вместе с ним «ввиду предстоящей реструктуризации военного производства», некоторое время держались вместе, перезванивались и встречались, на что-то надеялись, но постепенно тяготы быта пережёвывали и их решимость, и их нервы.
Нужды разъединяли, и потерь было не перечесть. Кавалер двух орденов «Славы», замечательный конструктор Петровичев застрелился, вычитав в какой-то московской газетёнке, что все понесённые в войне жертвы были напрасны, — судьбы войны решались не в России, а в единоборстве западных разведок, орудовавших оккультными понятиями. Кузинский, начальник цеха, спился, оставил семью и уехал к брату на Алтай. К бомжам скатились приятели-физики Ворошнин и Соколовский. Доктор наук Бутяков соблазнился на хорошие деньги и мотанул в США — из Польши, куда выбрался в составе группы «челноков»…
Тоня оказалась превосходной собеседницей и помогала Алексею Михайловичу вести досье текущих событий. Вначале они завели сорок папок для газетных вырезок, но дорожающие газеты и тающие доходы очень скоро втрое сократили сферы постоянных интересов Алексея Михайловича.
Он быстро привязался к уютной и сговорчивой помощнице, даже полюбил её какой-то особой любовью — полной ревнивых страхов потерять и этого человека.
Весной, в грозу, она сама пришла к нему, и оба признались друг другу в том, что об их неизбежной встрече давно уже решили небеса.
Боже, боже, это было подарком пророчицы-Нины!
Но счастье было недолгим. Летом их квартиру обворовали. Забрали и телевизор, и холодильник, и всю одежду, пока они работали на даче, — всё подчистую.
А через день ударило новое увольнение. И Тоня, и он практически в один день оказались даже без той вшивенькой работы, которую имели.
Всё вышло очень некстати — перечеркнуло все планы и ожидания. И именно тогда, когда Алексею Михайловичу удалось собрать десятка полтора надёжных людей, правда, самых разных направлений, и убедить их в том, что левое движение в России должно делаться новыми руками, — без прежнего партийного начальства, плывшего в важнейшем — национальном — вопросе в русле космополитов, и без провокаторов-либералов, на корню обрубавших мысль о социальном равноправии. За каждым из его новых сотоварищей стояли тысячи инженеров и рабочих по стране, намечаемая конференция могла дать новую политическую альтернативу. Нужны были деньги, они были обещаны. Но — последовало внезапное увольнение, и он — впервые в жизни! — опоздал на встречу, инициатором которой был. Не появился и человек, который должен был оплатить зал, охрану и всё остальное: разочарованные представители, прокантовавшись в ожиданиях три часа, разошлись и разъехались, проклиная «всегдашнее российское ротозейство и всегдашнюю российскую обещаловку».
Кто-то ему сказал, что это всё не случайно, где-то рядом, вероятно, действует враг, хорошо осведомлённый о планах Алексея Михайловича, но мысль показалась ему неправдоподобной, хотя потом — в разных вариациях — он возвращался к ней: да, его инициативы всюду автоматически натыкались на странные преграды. Его «пасли», и это день от дня подкреплялось всё новыми фактами…
Поначалу ничего не могло испугать, поскольку и Алексей Михайлович, и Тоня были ещё относительно здоровы: есть крыша над головой — и довольно: на хлеб и на обувь заработаем.
Но оказалось, что заработать даже на хлеб в ограбленной России не так просто. Идти просителем по знакомым, кое-где сохранившимся ещё в разных структурах, он не хотел, боясь, как ожогов, расспросов и выражений сочувствия. А торговать мошенническими препаратами, вызывающими похудение, но одновременно и разлад всех функций организма, не согласился бы при любых обстоятельствах.
Однажды Тоня сказала:
— Давай теперь просто жить, оставив великие помыслы. Это удел тех, кому более всего достаётся при переворотах. Будем жить друг для друга, любоваться природой, бесстрастно следить за течением времени… Что нам нужно? Минимум.
Алексей Михайлович огорчился. Поднял брови:
— Голубушка, такой жизнью могут наслаждаться только паразиты. Порядочные люди не вынесут более недели такой жизни. Всё, буквально всё должно быть продолжением нашей борьбы за счастливый и справедливый мир для всех. В противном случае — какая радость от высоких речей о понимании одной душою движений другой души? Нельзя стоять в стороне, когда пожар и когда кричат несчастные!
— Прости, — вздохнула она, — ты прав. Человек живёт, пока жива его совесть. Мы уже навсегда понесём на себе следы более высокой культуры и никогда, даже умышленно, не согласимся на примитив. Понуждать себя к философии постороннего — это, действительно, бесчестно.
— Человек сам по себе никогда не пойдёт по нисходящей! Но у нас попытаются отнять и это право!
— Я хочу быть тебе самым верным и преданным другом, — Тоня взяла его за руку. — Изменить обесчещенным и обокраденным, простить то, что творит мировая банда, — нет, никогда! Я пойду с тобой до конца, чем бы это ни кончилось!
— Обгажен и угроблен важнейший исторический опыт. Людей обдурили — это ясно. Но прежде всего обдурили народы всего мира, десятилетиями приносившие своей мечте в жертву все радости жизни…
В доме кончились запасы еды. «Шаром покати», — повторяла Тоня, разводя руками. Это был призыв предпринять какие-то действия. Но Алексей Михайлович медлил, хотя и страдал от полуголодного существования.
Однажды утром, когда он не вышел даже за газетой, Тоня протянул ему пёстрый листок:
— Вот, бросили в почтовый ящик… Это предложение. Давай отзовёмся…
Это было обычное обращение от частной фирмы, скорее всего липовой, рассчитанной на дуралеев.
Но Алексей Михайлович даже обрадовался: по крайней мере, никого не придётся просить.
Рекламная бумажка была составлена в самых туманных выражениях. Фирма искала замужнюю пару, которая могла бы представить её интересы в Болгарии или Греции. Это сейчас понятно, что обычной фирме плевать, кто именно представит её интересы. Но тогда показалось правдоподобным: ищут солидных партнёров. Слабость поневоле доверчива, а нужда тянет в капкан.
— Предлагают пройти индивидуальное собеседование. Что скажешь?
Тоня на мгновение как бы споткнулась. Он точно помнит. Нахмурилась, по высокому чистому лбу пробежали две морщинки. Но потом улыбнулась. Светло и обворожительно:
— Что мы теряем? Ну, поболтаем… Послушаем, что предложат. Честно говоря, я бы охотно поменяла сейчас обстановку. Хоть на год, хоть на полгода…
— А могила Нины? — вырвалось у него.
— Всё равно нам не на что поставить памятник. Даже самый скромный, тот, который не утащат бомжи…
Он позвонил по телефону. И в разговоре с какой-то женщиной, секретаршей или оператором, договорился о визите. Все его подозрения отпали, когда женщина спокойно и деловито объяснила, что на ближайшую неделю все часы уже забиты, остался только вторник — 10 утра и четверг — 18.00. Он выбрал вторник.
Они пришли по указанному адресу. Он волновался, хотя старался не показать вида.
Их встретил мелкий, но упитанный лысый человечек совершенно непримечательной наружности, назвавший себя Семёном Семёновичем.
Это была трёхкомнатная квартира, предназначенная, вероятно, для сдачи внаём. «Евроремонт», как тогда говорили, лучшая мебель, но всё малогабаритное и сугубо функциональное.
Семён Семёнович пригласил за стол.
— Кофе? Чай?
— Может, после, когда ознакомимся с диспозицией? — мягко возразил Алексей Михайлович.
— Если мы и не поладим, я в проигрыше не останусь, — со смешком сказал Семён Семёнович, уставившись наглыми, навыкате глазами. — Фирма на каждую пару клиентов ассигнует 10 долларов. Для меня главное — чтобы вы заполнили формуляр. А сойдемся мы или не сойдёмся, это уже второстепенный вопрос.
Грузная женщина средних лет молча подала три чашечки растворимого кофе.
Заполнили формуляры. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Гражданство. Адрес, телефоны. Образование. Опыт работы (сфера).
Выяснилось, что речь идёт уже только о Болгарии, для Греции персонал уже найден.
— А что в Болгарии конкретно?
— Отбор товара, упаковка и отправка грузов. Табак, розовое масло. Возможно, вино. Фирма оплачивает все расходы, зарплата — 2 тыс. долларов в месяц. Вы сами нанимаете жильё. И сами оплачиваете свои транспортные расходы… Судя по опыту наших коллег, в месяц вы будете откладывать 500–600 долларов… Проезд туда и обратно оплачивает фирма.
— Какой город? — спросила Тоня.
— София.
— А сколько, примерно, будет этих грузов? — поинтересовался Алексей Михайлович.
— Пустяки. 200–300 килограммов в неделю. Работа — не бей лежачего.
— Так зачем эти церемонии?
— Это моя часть бизнеса… Я должен представить хозяину пять-шесть кандидатур. Он выбирает двух и ведёт с ними беседу…
По дороге домой Тоня размечталась: «Если бы нам повезло, мы бы не посчитались ни с какими трудностями. Через год мы могли бы наладить свой быт…»
Алексей Михайлович, для которого все эти заботы были непривычны и крайне обременительны, высказал подозрение:
— Всё это — какая-то голая импровизация. И Семён Семёнович — криминальный тип.
— Теперь все типы криминальные.
— И почему, кстати, не было вопроса о знании иностранных языков?.. Да и полагалось бы попросить фотографии, если ещё будет беседа…
На беседу их вызвали дней через десять, как и обещали. Позвонила женщина и от имени Семёна Семёновича назначила встречу на автобусной остановке — ранним утром.
Алексей Михайлович возмутился и чуть было не сорвал всё предприятие, но Тоня настояла.
Они подошли к остановке, и через минуту там объявился Семён Семёнович.
— Поздравляю, — сказал он. — И рассчитываю в будущем на хороший презент. Шеф уже ждёт, прислал свою машину. Кстати, шофёр — месяц, как из Болгарии…
Возле них притормозила шикарная иномарка с тёмными стёклами.
Уже в машине Алексей Михайлович осудил себя за наивность и доверчивость и пожалел, что не захватил с собой хотя бы газового пистолета, подаренного последним из служебных охранников.
Развязный Семён Семёнович втравил Тоню в разговор с шофёром, костлявым громилой с водяными глазами и приплюснутым носом, выдававшим порочную наследственность.
Тоня слушала шофёра, Семён Семёнович непрерывно атаковал своими вопросами Алексея Михайловича, так что тот вскоре потерял ориентир, догадываясь, впрочем, что едут они по району, где ещё при советской власти были выделены участки для коттеджных застроек.
Стояла последняя неделя октября, и время суток было такое, когда работающие уже разъехались, а прочий люд ещё не выбрался по своим делам, — улицы были пустынны.
Не задерживаясь, машина свернула в открывшиеся ворота, и через минуту Алексей Михайлович и Тоня вслед за Семёном Семёновичем вошли в дом через какое-то подсобное помещение.
Их ожидал вместительный, хорошо прибранный зал и накрытый на четыре персоны стол. Тихо играла музыка.
Алексей Михайлович уже почти не сомневался, что это западня, но остановить событий не мог. С чувством обречённости вспоминал, как не раз призывал своих сотрудников к постоянной бдительности. Но тогда существовали ещё какие-то правила игры, ощущался фронт, — теперь не было ни чёткого фронта, ни фиксированных позиций противостоящих сторон.
«Ничего не есть и не пить. Скажу, что мы только что позавтракали, — переживал Алексей Михайлович, сознавая, сколь жалкой была возможная линия его обороны. — Влипли. Пожалуй, влипли…»
Семён Семёнович, используя замешательство Алексея Михайловича, отвёл Тоню в сторону и, наклонившись, что-то тихо внушал ей. Она кивала согласно.
— Господа, господа! — возгласил Семён Семёнович, хлопая в ладоши, как массовик-затейник. — Освежитесь в прекрасном европейском туалете и садитесь за стол! Впереди у нас — официальное собеседование!..
Настроение было испорчено. Алексей Михайлович сказал, сознавая полную нелепость своих слов:
— Я только что завтракал. Ни пить, ни есть не хочу!
Семён Семёнович пошёл показать Тоне туалетную комнату.
Они отсутствовали семь минут — Алексей Михайлович засёк это по часам.
В душе шевельнулась настороженная ревность: каждый мужчина оберегает свою женщину, тем более постаревший, тем более потерпевший в судьбе сокрушительное поражение.
Тоня вошла в зал совершенно другим человеком, — Алексей Михайлович сразу почувствовал это. У него мелькнула даже нелепая мысль о том, что она в давнем сговоре с Семёном Семёновичем.
— Посмотрим, чем здесь угощают, — фальшиво весёлым голосом сказала Тоня и развязной, не свойственной ей прежде походкой прошла к столу и села, сразу взяв в руки вилку и нож.
«Как после наркотического укола…»
Появился и хозяин фирмы — квадратный, пузатый, с узким лбом и огромными жвалами, переходившими на уровне шеи в багровые щёки.
Семён Семёнович представил Алексея Михайловича и указал на Тоню, которая приветствовала босса пустым фужером.
— Хорошо, хорошо, — хмуро и невнятно сказал босс, хлопая подтяжками у себя на плечах, — он был без пиджака, но при красном галстуке, повязанном коротко и криво. — Люблю обсуждать вопросы за едой. Когда течёт слюна, текут и мысли.
— А когда течёт сперма? — перебил, угодливо скособочась, Семён Семёнович.
— Когда она течёт, конец удовольствию, — сказал босс, заняв стул подле Тони. — Все вопросы разрешаются хорошо, когда есть хорошее финансирование, — он посмотрел на Тоню.
«Боже, куда я залез?» — подумал Алексей Михайлович.
Открыли шампанское. Тоня намазала себе бутерброд с чёрной икрой, достав её ложечкой из хрустальной розетки с серебряным ободком и серебряной крышкой — роскошь давно ушедшей эпохи.
— А почему Вы не пьёте и не налегаете на дармовую закусь, как полагается всякому из населенней этой страны? — спросил босс, ловко отрезая себе кус розовой севрюжатины горячего копчения. — Понимаю: боитесь, что Вас отравят. Бывший генеральный директор важнейшего оборонного объединения. Но какой же мне смысл травить Вас за этим столом? Вы же поедете в Болгарию, где Вас примут в свои объятья офицеры ЦРУ. Вы, небось, ещё располагаете важнейшими секретами? А у американцев по этой части — запор-с. Если мы им ничего не подкинем, так они ни с чем и останутся. А мы им предложим выдающегося советского разработчика…
«Изгаляется. А ведь прав, зараза, возможен и такой вариант…» И вдруг похолодел: «Я ведь не имею права покидать пределы страны, — как же я упустил это из вида?.. Подписку давал…»
— Так вы не передумали насчёт Болгарии? — продолжал рассуждать, не переставая жевать, сизощёкий босс.
— Не передумали, — громко ответила Тоня. — Мы даём согласие. И если передумаете вы через неделю или через две, вам придётся заплатить неустойку!
— Если бы я всем платил неустойки, мадам, я бы давно разорился и пил на утро вчерашний чай. Но, как видите, я и вас могу угостить, потому что весь процесс финансируется. Едим мы, а списываем на клиентов.
Они согласны, — подтвердил Семён Семёнович. — Что им тут делать, когда именно в них кидают все шишки? Это ведь они не уберегли «великий, могучий». А что они могли сделать? Против лома нет приёма.
— Не омрачайте себе мгновения, — заключил босс. — Опасно жить — да, верно, опасно. Но будет ещё опасней, когда в стране введут институт семейных врачей. Договориться с эскулапом — плёвое дело. За сто долларов он кого угодно отправит на тотсвет. Без шума и пыли. Семейный врач — семейный убийца…Так уже было. Но прежде всех интересовало наследство. А теперь — политика… Но это тоже деньги…
Семён Семёнович, безостановочно глотавший спиртное, шумно выбрался из-за стола, покопался у музыкального центра, стоявшего у зеркала на всю высоту стены, и врубил довольно громко танцевальные ритмы.
Алексей Михайлович подумал, что важный шеф тотчас же остановит эту затею, ибо шум мешал разговору, но тот, блеснув белками глаз, заорал:
— Танцы-шманцы! Вызываются все оборванцы!
Он выкрикнул не «оборванцы», а другое, похабное слово из неисчерпаемых кладезей русского мата, сочинённого, правда, в основном беспечными иноземцами, кочующими по русской земле, и это так шокировало Алексея Михайловича, что он и не знал вовсе, как отреагировать, понял только, что это всё подставка и будет, пожалуй, непросто унести ноги.
Покорная жестам Семёна Семёновича, из-за стола выпорхнула Тоня, и они вдвоём стали импровизировать африканскую пляску у костра, тогда как шеф нелепо подпрыгивал на месте и пробовал присесть, но у него это не получалось: он едва-едва сгибался в пояснице.
— У меня здесь отличная турецкая баня, — объявил вдруг босс, вытирая вспотевшее лицо руками. — Приглашаю всех в баню! Всех — в баню!
— Прямо сейчас? — переспросила со смехом Тоня.
— Сейчас! А потом допьём и доедим то, что осталось. После бани у меня поднимается аппетит. К сожалению, только аппетит!..
И оба представителя компании, обнимая хохочущую Тоню, вышли из зала.
Всё произошло столь стремительно, что некоторое время проигнорированный Алексей Михайлович сидел в полной ошеломлённости. Он хотел есть, но ненавидел в эти минуты и икру, и лосося на голубом фарфоровом блюде, и стол, и весь дом и себя в нём ненавидел: дать такого маху!
Он, конечно, понимал, что никогда бы не купился на дешёвку, если бы не такой сокрушительный удар в его судьбе, причём, одновременно на всех направлениях. Из яркого и динамичного представителя директоров-оборонщиков с могучим коллективом, за разработками которого не поспевали американцы, отставая на 10–12 лет, он превратился в жалкого, кругом обобранного пенсионера. И кому предъявишь претензии? Все виновные — неподсудны. Ухвати Горбачёва или Гайдара, или всё это бесчисленное диссидентское жульё?
Первое, что он сделал, уяснив обстановку, — сунул в карман большую, неуклюжую вилку. Она показалась ему более подходящей, нежели нож, ни разу не подвергавшийся заточке. Потом встал и выключил магнитофон.
«Тоня, Тоня!» — больно ударила досада. Ревностью это не могло быть, потому что он ни на миг не допускал, что она может всерьёз флиртовать с этими примитивными делягами.
Однако прошло двадцать минут, потом сорок, потом час, и он не на шутку встревожился: люди, заманившие их сюда и державшие неизвестно что на уме, могли пойти на любое насилие.
Решившись, он рванул ручку нужной двери. За нею тотчас наткнулся на широкоплечего увальня, только подтвердившего его подозрения.
— Куда?
— В баню!
— Ха, растопырился! Сеанс уже начался, ты опоздал!
— Какой сеанс?
Отодвинув плечом охранника, он пошёл по коридору, но охранник догнал его и грубым рывком за полу пиджака остановил.
— Туда нельзя!
— Это Вы мне?
— Кому же ещё, блин?
— И не боитесь, оскорбляя меня?
— Не лохмать бабушку, — одёрнул охранник. — За столом были одни протоколы, здесь — совсем другие!
— Там — моя жена!
— Ну, и что? Сегодня твоя, завтра — чужая. Всякому Ваньке хочется баньки, а всякой Вареньке — хочется баиньки. — Он нехорошо усмехнулся. — Да и не нужны Вы жене со своим вмешательством. Можете проверить. Прямо, направо и ещё раз направо!..
Ярость ударила в голову. Уже не контролируя ситуацию в целом, Алексей Михайлович быстро прошёл по коридору, и открылся ему предбанник с низким столом посередине, уставленным бутылками и банками с пивом, просторными бельевыми шкафами у стен и мягкими креслами для отдыха с комплектами приготовленных простыней и мохнатых полотенец. Прямо перед ним, напротив высоких, но слепых окон, был вход в парилку. Голубой пластиковый мат поблёскивал перед дверью.
Пахло деревом, углём и паром. Равнодушно повизгивая, крутились лопасти вентилятора.
Он рванул ручку, тогда как охранник попытался оттащить его от двери. Да и не один: на помощь ему поднялся сонного вида амбал, листавший замызганный порнографический журнал.
Всё это заметил и всё это в доли секунды верно оценил директорский ум, словно встрепенувшийся для последнего боя.
— Тоня! — позвал он срывающимся голосом.
В эту минуту, дохнув облаком пара, из парилки вышел разопревший от жара, мокрый Семён Семёнович, прикрывая рукою пах. Мелькнули жёлтые ягодицы с тёмными кругами — сидюшниками. Покатые печи и горбатую спину покрывала кучерявая щетина.
— Пива! — Прохрипел он, глядя без удивления красными глазами.
Один из охранников, холуйски склонившись, ногтем сорвал с бутылки колпачок.
Пукнув, как пивная бутылка, вновь приотворилась дверь, — выглянула голая Тоня.
Крикнула без стыда, убирая со лба прядь мокрых волос.
— Уходи, уходи, я скоро! Уходи!
И глаза — дикие глаза, будто женщину накачали наркотиками.
— Что тут происходит?..
— Потом, потом — уходи!..
Дверь захлопнулась. «Что значит «уходи»?..» Сотни мыслей проскакивали в доли секунды. «Или она уже всё поняла и предупреждает?..»
— Видишь, блин, ты третий лишний! — сказал тот, что привёл его.
Такого унижения Алексей Михайлович вынести не мог. «Домой, домой, немедленно домой!» И следом: «А как же Тоня? Что бы ни случилось, я не вправе бросить её на произвол судьбы!..»
Семён Семёнович оторвался от пива, хукнул и сказал, адресуясь к охранникам:
— Зовите подмогу и отведите человека куда положено. Видите, он в невменяемом состоянии!
И вернулся в парилку.
— Пройдём! — приказал первый из охранников.
Увидев, что второй звонит по телефону, Алексей Михайлович решительно сказал:
— Никуда отсюда не уйду!
— Мы не обсуждаем приказы старших!
— Вы же русские люди!
— Мы просто люди. Пока не станем кучей обыкновенного дерьма.
Алексей Михайлович растерялся: ход событий стал ему совершенно непонятен: «Что замышляет эта сволочь?..»
Подошли ещё двое. Руки — что брёвна. Бычьи шеи. Рыбьи глаза.
— Пойдём, мужик!.. Покантуешься в вестибюле. Здесь — не положено.
— Как «не положено»? Здесь моя жена!..
— Не знаем, чья жена… Не положено, и всё. Не пойдёшь, потащим, как чемодан!..
И он пошёл, не представляя себе, как защититься от унижения и обозначившейся угрозы. «А может, я только фантазирую? Может, всё идёт, как надо? Может, зря подозреваю?..»
В бетонированном переходе, следуя за охранником, он вдруг услыхал металлический звук. Будто передёрнули затвор.
Инстинктивно обернулся. В метре от него зияло дуло пистолета.
Реакции на этот счёт Алексей Михайлович отрабатывал ещё в молодые годы. Охранник не успел охнуть, как в горло ему вонзилась вилка. Но выстрелы всё же последовали, оглушительные в замкнутом пространстве.
Алексей Михайлович помнит два выстрела…
Его обнаружили военные в ельнике — метрах в тридцати от дороги. Так, случайно притормозили и вошли в лес, чтобы «слить водичку», как это у нас принято, и напоролись на выброшенное тело, второпях прикрытое охапкой папоротника и вывороченной с корнем берёзкой.
Человек, залитый кровью, был без сознания и вовсе не подавал признаков жизни. Что, вероятно, и спасло его от контрольных выстрелов.
Врачи боролись за жизнь Алексея Михайловича почти целый месяц. В первый же день личность его была установлена и потому нашлись влиятельные покровители. Усердствовали особенно те, что первыми драпанули с фронта, который пытался организовать Алексей Михайлович…
Когда он пришёл в себя и шаг за шагом восстановил в памяти события рокового дня, первым вопросом, с которым он обратился к врачам, был вопрос о Тоне…
Было возбуждено уголовное дело. Но Тоню не нашли. Не нашли и того рокового особняка. А квартира, в которой принимал их Семён Семёнович, оказывается, была давно уже продана человеку, твердившему одно: какие-то мошенники подобрали ключи и устроили в его квартире загон для легковерных, пока он ездил к дядьке в Геленджик.
Алексей Михайлович звонил матери Тони в Белгород, — там тоже ничего не знали. А милиция разводила руками: «По стране ежедневно пропадают тысячи людей, ждите, может быть, объявится след. Случается, что убивают, но бывает, что и продают, на Кавказ или в Среднюю Азию. Что же плакать, что убиваться? Мир сейчас уже совсем не тот, который был прежде…»
Что же ты выжужжал?
Две комнатные мухи, жужжа, попытались совокупиться прямо на его носу, но у него не было сил согнать паразитов. И в их нахальстве почудился какой-то скрытый намёк на всю его жизнь: вот точно так же и он суетился и жужжал, а что выжужжал?..
Кружили воспоминания — беспорядочно, как льдины перед затором. Он впадал временами в забытьё, мысли возникали и рассыпались, и это значило, что их уже не подпирает более или менее устойчивый «фюзис», — клепки изношенного организма сыпались, из всех щелей выходил последний пар.
Ему было страшно, но слабость была такой, что он ничему уже не противился. Только чувствовал, что мёрзнет.
Он думал о себе, что он золотозубый Фима Пенкель, сосед по даче вскоре после войны. Фима считал себя талантливым писателем и сочинял роман «Приключения блохи в паху бездомной собаки», но очень боялся, что власти разоблачат его антисоветское нутро и уличат в буржуазном декадансе.
Фима хотел бежать за границу. Он и роман писал для того, чтобы поскандалить с властью, а после попросить политического убежища. Но было не очень понятно, зачем Фима хотел основать в Пидерации конспиративную компанию по торговле янтарём.
Зачем ему Пенкель? Как лысому — гребень, как петуху — милицейский свисток…
Этот Пенкель, с которым он позднее работал в одной конторе, называвшейся «Промбурвод», спровоцировал кровавую драку, в драке участвовали две деревни. Тогда могли запросто прибить и его самого, устроившего Пенксля на должность старшего инженера, хотя тот нигде и никогда не учился.
Деньги везде капают, нужно лишь точно знать, куда прилипнуть губой…
Они обслуживали колхоз в Псковской области. Нищее дурачьё верило липовым нарядам. Но кормили их плохо. Главный бурильщик Мотуня, которого они наняли в Витебске прямо на железнодорожном вокзале, называл колхозные обеды «нисчемными». И подучил Пенкеля, по дешёвке покупавшего кур у хозяйки, где они жили, а потом рассорившегося с нею из-за цены, погубить свинью этой самой женщины.
— Ужасно ты жадный, Пенкель, — сказал Мотуня. — Если хочешь, я тебя научу, как за бесценок приобрести много мяса. За бутылочку белой выдам полный секретец.
— Считай, что бутылка у тебя в кармане, жлоб. Выкладывай секрет.
— Сходи в магазин, купи пшена. Граммов двести. И насыпь в ухо свинье. Сначала в одно, потом в другое. Она как с ума сойдёт через сутки. Я скажу бабке, что у зверюги чума. И она уступит тебе свинью за пятёрку.
Фима всё так и сделал. И когда свинья взбесилась, откупил-таки её за восемь рублей у безутешной старухи.
Но преступление раскрылось — по случайности, и грубое деревенское мужичьё крепко побило Фиму, а заодно и Мотуню. Если бы не заступничество другой деревни, может, и прибили бы до смерти. Но в суд подать не додумались — по своей русской лени. И то хорошо…
Борух Давидович попытался вспомнить, что за лицо было у Фимы. Но вспомнился совсем другой человек — Яша Малкин из местечка, в котором Борух Давидович провёл своё детство.
О люди! Это теперь ясно, что мерзкая порода двуногих ничего не стоит, пока над ними не крутят кнутами те, кто именем единственного истинного на земле Бога призван осуществлять функции пастырей и судей.
Гои всю жизнь озабочены только тем, чтобы сокрыть от чужих глаз свою никчёмность и неполноценность. И когда эти шмендрики из российцев внушают ему, что традиции — способ сохранить культуру народа, он смеётся им прямо в глаза: «Какая культура, а? Какой народ, а? Вообще нет никакого народа и никакой культуры! Есть вечная философия левитов, которая придаст хаосу человеческой возни какой-то смысл. Свору собак надо держать на псарне и постоянно гонять, чтобы использовать для успешной охоты. Собака никогда сама по себе ничего полезного делать не станет, она сожрёт и дичь, причитающуюся хозяину, если не будет помнить, что за это получит по хребту и по морде!..»
Яша Малкин держал шинок и лавку, и шинок приносил хороший доход, как и скобяная лавка, где продавались и разные «колониальные», как тогда выражались, товары.
Любил пофилософствовать этот Яша. Но всё об одном и том же: «Народ в России пошёл мелкий и слабый, сразу спивается. Раньше мужики, которых освободили от помещика, по литру в день могли выдуть и десять лет не спивались, — большой барыш гарантировали. А сейчас? Год-два, и с копыт. То, глядишь, сам подох, то руки на себя наложил, то на краже попался, то в драке колом убили… У него выпить не на что. Чтобы не разориться, я ему в долг даю, и он меня за то как пророка почитает и превозносит. Говорю: «Ты что, Гаврила, в Америку убежишь? Нет, конечно. Пей-гуляй от пуза, а осенью возместишь овсом или житом. Или сырой овчиной. Работу какую сделаешь в моём хозяйстве. Землю перепашешь, навоз разнесёшь…» Для всех этих мужиков я — первый благодетель…»
В лавке у него жена частенько сиживала — Фира. О, задница! Таких задниц он с тех пор ни у кого не видывал, — сложи двух кобылиц, и та выйдет уже. И захаживал к ней Беня, он кузню держал, трое работников у него было. Никто без дела не сидел.
Один подковы ляпает, другой гвозди рубит, третий уголь таскает или сбрую шьёт. Не любил бездельников Беня, хотя сам любой заботой тяготился: «Кто ж вам, пропойцы, чарку даром нальёт? Никто. А вы ко мне в карман лезете!..»
Беня захаживал к Фире в лавку. И крутили они промеж собою известные амуры.
Ой, люди жили! Все были себе полные хозяева. Решал, конечно, кагал, а не царь-дурачок, у которого и понятия не было никакого о подлинностях в его необозримом царстве. Что слепец видит? Что глухой слышит? Что безумец мастерит?..
Беня зайдёт — то ему дратвы дай, то дюжину свечек, то замок с хитроумным ключом. И к Фире: «Хочу пощупать: не унесли ли воры?» Она смеётся: «Шо ты мацаешь, шо ты мацаешь, ушкуйник? Это же тебе не банная шайка!..»
И однажды у них испуг получился. Короче, застрял этот Беня, — ни взад, ни вперёд. А старый Малкин уже идёт. Фира шубой накрылась. А лето, жара.
Малкин подслеповатый, очки на шпагате.
— Фира, и что ты кутаешься в совсем новую шубу? Тут же кругом моли — прорва!
— Ой, у меня что-то крестец ломит. Ты бы сходил за аптекарем, вся дрожу.
— Я Ваньку пошлю, чего мне ноги-то бить?
— Ты сам сходи и аптекаря приведи, не то он Ваньке натирку из керосина даст да рубль возьмёт. Не знаешь, кому он что продаёт?
Ну, тот и потопал…
Ой, как люди жили! Любой товар — почти даром. Можно было бы без всех этих революций обойтись, хотя и попёр он, русский антисемитизм, особенно после японской войны: «Жиды япошкам деньги заплатили, чтобы Россию вконец извести!..» А, какова дурь? Пронюхали, да не то. Доказательств нет, одно надругательство.
Ну, этим, на верхотуре, им виднее, у них все карты на руках. Они, конечно, держали под контролем все партии. И большевиков, и меньшевиков. Но держали головку, взять тех же эсеров, а в глубинке, на периферии, на задрипанных этих окраинах русский мужик уже о своей национальной власти стал как-то очень уж дерзко помышлять, — нужно было зубы ему вон повыдёргивать. Мало мировой войны, нате ещё и гражданскую и лупите друг друга, пока не освободится для порядочных людей эта Россия…
Нет, он лично никого не убил. Вот его отец посылал на смерть безмозглый пролетариат — было. И дядья посылали. А он лично — никого. Даже лозунгов не сочинял…
Он вспомнил, как получил первое задание в отношении Прохорова, бывшего генерального директора крупнейшего оборонного объединения. Он сначала не вникал в подробности, хотя по ходу освоил кое-какие необходимые детали. Этот Прохоров — дважды лауреат, закоренелый сталинист, стало быть, антисемит, противник демократии. Один из тех, кто начал распространять в обществе фальшивку о «завещании Сталина», в котором тиран, якобы, предвидел все будущие зигзаги истории.
Прохорова пытались устранить. Но что-то уж очень деликатничали: ничего не получалось. Или передумали: зачем устранять человека, который несёт ахинею? Дешевле превратить его в идиота, — пусть российцы сами посмеются над сумасбродом. В России это хорошо получается — затоптать того, кто выше других. Лишили собственности, лишили жены — устоял. И не только оклемался, как говорят, а ещё и женился на молодой родственнице, чтобы ей квартирку отписать.
Конечно, его можно было выманить за рубеж и там прижать к липучке, инсценировать убийство, грабёж, кражу, изнасилование — там повсюду наши, которые за хорошие деньги устроят всё, что хочешь. Нет, решили разыграть местную пьеску. На ней, конечно, тоже погрели руки. Гриша Белокопытов придумал хороший сценарий. Он как раз хотел купить квартирку зятю, и ему нужен был хороший куш.
Короче, фиктивный русский филиал фиктивной болгарской фирмы взял этого Прохорова на крючок.
Наглец! Как все они, из прежнего мира. В башке ещё тухлый ветер «социализма» и «всенародной власти». Не сознаёт ни реальности, ни своей обречённости, на что-то надеется. Как увидел его, поразился, что так долго с ним возятся: «Червячок ты, глиста, крантыль тебе полный. И скрежет зубовный ещё будет, и стенания за железными решётками!..» У него сын потом в Чечню загремел, это наши постарались, их там клали ротами, нагоняя страх на тех, кто ещё рассчитывал потрепыхаться. Красно-коричневые ещё помышляли о реванше и считали своей Россию, — так что она может, ваша Россия, если даже в Чечне ей морду мылят?…
Сам Прохоров осторожничал, долго дистанцию держал. А вот его мадама — та сразу влезла в свинячью кучу. Обеими ножками: «Вы, говорит, видите, в каком он сомнамбулическом состоянии? А это великий человек, академик, герой, его заслуги перед Родиной в медалях не измерить. Не крутите, скажите точно, можете сделать поездку или не можете?»
Ха-ха-ха, конечно, но я ей говорю:
— Всё можем, дуся. Только у меня ещё босс имеется, ему понравиться нужно. Сходишь с ним в баньку, мы это дело так обштопаем, что будь здоров… Я, в случае чего, неустойку с него сниму — 3 тысячи баксов, если ты мне две тотчас же отпишешь. За труды. И за заботы.
— Отдам, отдам, не сомневайтесь!.. А что он, ваш босс, на что рассчитывает?
— Ни на что не рассчитывает. Ему покрутиться охота возле голой бабы, от которой сливками пахнет. Он уже и не мужик вовсе, как и я, а так — нечто среднее. Это я про Гришу Белокопытова.
— Тогда я готова.
— А вдруг Прохоров за твою решимость тебя кредита лишит? Он с норовом субъект.
— Моё дело. Если вы три тысячи зелёных гарантируете, то и я гарантирую: пусть сливки руками потрогает…
Я даже удивился: совковская обшарпанка, а какой порыв! Какой пафос! Она помочь Прохорову хотела. Думала, что от «босса» со вставной челюстью хоть что-то зависит. А что от Гриши зависело, если всё было запланированной операцией и мы её только осуществляли? Деньги шли прямиком из Госдепа. Поганые америкашки платили по всем нашим счетам, позволяя себе при этом недопустимую англосаксонскую спесь.
Конечно, они бы дали не три тысячи, а три миллиона, если бы можно было заставить Прохорова работать на Пентагон. Но в том-то и дело, что прожжённый сталинист не выдал бы ни единого военного секрета даже под пыткой, — проверенное дело. Америкашки сами тогда говорили: «Не таскайте к нам больше такого хлама. Они нам только кадры своим фанатизмом портят!..»
Прохоров знал о «завещании». Тогда ещё все говорили, что это фальшивка. Но если, мол, и не фальшивка, всё равно никому ненужный документ. «Хуже крематория, — так выражался Бублик, мой шеф: — Если он попадёт на страницы открытой печати, сталинский бред, нашим голубым мечтам, кругом будет полный абзац!.. На чём основаны наши победы? На спайке и смычке? На деньгах? На влиянии? На умении поднять на любую акцию наш международный актив? На способности нашей высшей власти организовать наши усилия? Без организации нет стратегии, а без стратегии немыслима победа… «Завещание» свидетельствует о полной паранойе «отца народов», о его демонстративном отказе от марксизма и всех прочих убеждений. Он рассчитывал выйти из-под контроля, сгруппировав антисемитские силы… Видать, «дело врачей», которое инспирировал Берия, совершенно изменило личину этого грязного грузинишки!.. Запомни, мы можем быть спокойны только тогда, когда все будут подозревать всех и никакое согласие между нашими врагами станет невозможно. Вот цель, ради которой все средства хороши!..»
Когда мы сели за стол, не зная ещё в точности, как потекут события, я не удержался:
— А вам не приходилось, маэстро Прохоров, встречаться лично со Сталиным? У вас такие награды…
Он взглянул с подозрением:
— Нет, не приходилось.
И я решил поддеть его за живое, это всегда их бесит:
— А жаль… Мы бы сейчас послушали… Всякое мелют про Ёську… Говорят, он был грузинским евреем, как и Берия.
— Многое говорится из чистой пропаганды, — спокойно оспорил Прохоров. И даже зевнул, хотя я видел, что он еле-еле сдерживается. — Нет, евреем Сталин не был… Иначе зачем было евреям выступать против него? Он ведь спас еврейский народ. И поселил этот народ на землях Палестины. За что и получил от него пылкую благодарность…
Гриша покосился на меня и неодобрительно пробурчал:
— Кончай трепаться! Политика исключает бизнес!
— Политика и есть самый большой бизнес, — мрачно заметил на это Прохоров. — К великому сожалению.
Суровый мужик: так и не притронулся к пище. Даже коньяком погребовал, а на столе был настоящий коньяк, которого и при демократии нигде не сыскать, — разве что по ценам, которые и нас кусают.
С этой его «пассией» я быстро станцевался. Дуреха поверила, что ей обломится тысяча долларов и попёрлась в снятую напрокат душегубку, где мы расслаблялись, обкатывая сценарий.
Мы, собственно, никакой своей игры тогда ещё не вели — получили заказ от одной московской конторы. Но поскольку мы были «в доле», старались выбирать своё полностью. Как говаривал мой дядя, работавший ещё при царе в Государственной Думе: «Грех, если ты оставляешь рыба на блюде, даже не ковырнув его вилкой!»
Но тут «рыб» попался скользкий и глупый. Она не приняла наркотического питья, которое ей пытался впендюрить Гриша, умевший косить под простачка, и только когда дело дошло до кульминации, сообразила, что её обманывают. Изящная и будто бы беззащитная куколка с пушистой гривкой ниже пупа тотчас преобразилась. Вся её показушная русская интеллигентность пропала сразу, когда Гриша пошёл на абордаж. Она ударила его в пах коленом, а я получил хук в челюсть, от которого почти оглох.
— Сволочи, сволочи, — орала она в замкнутом пространстве парилки. — Знайте, это вам с рук не сойдёт!..
Гриша обмяк и качался со стоном по полу, а я вызвал охрану.
Любая из русских девах, — это подтверждает мой многолетний опыт, — согласна на любые домогательства, лишь бы уберечь свою жизнь, но эта оказалась такой же сталинской лярвой, как и Прохоров.
Мы держали двух амбалов, правда, склонных к некоторому садизму: они пытали наших врагов.
Едва эта баба увидела их, она бросилась головой на глухую бетонную стену. Фанатичка, как эти палестинцы: раскроила себе череп и тут же скончалась.
Мы даже слегка обалдели. А она сползла на пол, заливая его кровью. В том, что она мертва, не могло быть уже никаких сомнений.
— Тут всё ясно, — сказал один из амбалов, потрясённо, сука, сказал, и они оба вышли.
Гришу, державшегося за синюю мошонку, бил озноб:
— Обоих засранцев надо теперь убрать, они колебнулись, они больше нам не нужны!..
Я знал, что это означает, но не имел права на приказ такого рода. И я отреагировал старой хохмой:
— Главное — ты уцелел. Хейб рейт милори куш хараре, каксказали бы наши люди на планете ХУ-017 через три тысячелетия: зачем слова камню, если никто не хочет убрать его с обочины?..
Я, конечно, хорохорился, но в тот день понял: мы не удержим власти среди людей, которые выставляют свои права и готовы умереть за них…
Картинки чужой памяти
Ради чего живёт человек? Ради счастья, которое всегда с червоточиной? Ради семьи, которая трагически распадается? Ради детей, которые до срока и неблагодарно покидают родителей? Ради мечты, которая так и остаётся далёкой? Ради бренного тела?.. Да, тело нуждается в постоянном притоке калорий и отправлении естественных функций, — без этого оно деградирует, а при деградации уже не способно наполнить до краев сокровищами духовную память.
Но и самая светлая духовная память — слабое утешение при дряхлом теле, в котором угасают уже последние силы. Которое добито тревогами, потерями, оскорблениями и бесконечными страданиями. Нет, память не стареет, но из неё вываливаются, как камни из пирамиды, необходимые блоки… Вспоминается порой то, что не имеет отношения к личному опыту, — это чужое, но давно усвоенное почему-то как своё.
Вот он, Алексей Михайлович, если разобраться, вовсе не Прохоров, а Печко. Отец его, в силу вынужденных обстоятельств, взял чужую фамилию и чужие документы и, может, только потому и уцелел. У него были родные братья, с которыми он так ни разу и не встретился, — боялся навлечь на них беду.
Необыкновенная история отца, человека смелого и честного, вернувшегося с войны с двумя орденами, но без ноги, главную тайну которого он услыхал только в годы «перестроечного» развала, вспоминается всё чаще как своя собственная — удивительно. Но ведь, по сути, всё в жизни удивительно. Даже то, что человек ходит, ест, пьёт, различает цвета неба и земли, что-то ещё соображает и что-то планирует, отстаивает личную честь, даже не задумываясь о том, что это достояние всей нации, всего народа, — тут даже боги мелки и ничтожны…
Со взгорка отворялась панорама на широкое поле, далеко-далеко упиравшееся в чернолесье. Слева за холмом блестел край серой реки, и вдаль уходил просёлок, которым веками пользовались и солдаты, и купцы со своими обозами, и богомольцы со своими торбами. По фиолетовой на фоне изумрудной травы дороге бежала тень — от облака. Тень бежала быстро. И потом вдруг пропала — то небо отворило свой колодец для солнечного света. Какая тишина, какая умиротворённость!..
Где-то здесь, на взгорке, верно, было прежде крепкое поселение, потому что заливисто, оттеняя тишину, кокотала курица-несушка — лениво и вольно. Кургузый скворец, взгромоздясь на кол, к которому, может быть, привязывали бычка или козу, деловито отряхивался — где-то искупался — собираясь выпаривать на солнце кожного паразита.
Ржала кобыла — далеко-далеко уносился звук в безлюдном, но живом пространстве…
И второе воспоминание так же задевало и корежило душу невысказанным, от которого было не освободиться: что же затеяли люди на земле и как же бог, если он существует, допустил до этой кутерьмы, несправедливой, бессмысленной и жестокой?..
Белые отступали. Отбив в течение двух дней четыре атаки свежей дивизии, погоняемой истеричными комиссарами, стойко державшийся пехотный полк внезапно дрогнул и надломился, когда поползли слухи о том, что красные окружают и вот-вот прорвутся к единственному мосту через Каму, тогда никому будет не спастись.
Роты снимались без приказа. Командиры делали вид, что разделяют этот стихийный порыв, хотя прекрасно понимали, что в войсках могли действовать и, конечно, действовали лазутчики и ловкие говоруны-провокаторы Совдепии.
Хотя войска снимались скрытно, всё же красные заметили отход и стали лупить по единственной стеснённой холмами дороге, уходившей на восток; обстрел позволял если не рассеять войска, то дезорганизовать их отход.
Внезапно пошёл сильный дождь, в котором человек теряет привычную ориентацию. Один из снарядов угодил в повозку полевого лазарета. Лошади были убиты, два санитара суетились вокруг раненых, в стороне что-то горело розовым пламенем, и дыма не было, его сбивал дождь, и сумерки уже сгустились.
Солдаты шли, увязая в грязи, чёрными птицами скользили офицеры на конях, где-то впереди застряла пушка, и никто не хотел помочь артиллеристам, пока не вмешался кто-то из офицеров, громкой бранью усовестив торопившихся к ночлегу солдат. Но добрый призыв только усугубил дело: едва продолжилось движение, снаряд угодил в самую середину колонны, — ослеплённые и раненые стонали и кричали в кромешной тьме, полагая, что товарищи уже позабыли о них…
В ноябре 1918 года молодой матрос из Виленской губернии волею случая попал в окружение Александра Васильевича Колчака и прислуживал ему в качестве денщика, а временами и повара до второго января 1920 года. Служил ревностно и верно, почитая Верховного Правителя Всероссийского правительства в Омске за образец бескорыстия и честности.
Колчак заметил искренность, доброту, желание поддержать и помочь и, сам нередко недуживший, не раз расспрашивал денщика о здоровье, настроении, тяготах службы, старался облегчить его судьбу.
Второго января адмирал встал, как всегда, очень рано. Стараясь не разбудить жену, накинул полушубок и вышел из вагона.
Караульный офицер и часовые знали привычки «верховного» и старались не тревожить его дум: ни докладов, ни разговоров.
Заложив руки за спину, Колчак прошёлся вдоль заснеженных путей. Запрокинув голову, смотрел на ночные звёзды, отворявшие бесконечность просторов и тем самым уже как бы укорявшие человека за мелочность и ограниченность всех его замыслов.
Денщик не сразу заметил, что адмирал вышел на мороз без шапки, а, спохватившись, выскочил следом:
— Ваше превосходительство!..
Адмирал не шелохнулся — стоял, глядя в небо, словно там искал ответа на мучавшие его вопросы.
Денщик пробежал по скрипучему снегу, подал в руки папаху.
— Не уходи, — тихо сказал адмирал. — Близится время, когда события потекут вопреки моей воле. Тогда будет поздно разбираться. Уже теперь поздно…
Наблюдательный и умный денщик сразу смекнул, что слышит важное, небывалое и это надобно сохранить для поколений. Время, может быть, сгладило колорит слов, причесало их, как волны причесывают песчаный берег, но суть их осталась тою же, что и была, — в них проступала тревога вселенского масштаба.
— Виновата царская власть перед нами, ох, виновата!.. Вот я кое-что соображаю и вести на смерть и к победе вроде бы научился, но как был слепцом, так и остался. Да и они были сплошь слепцами, потворствовали чужим, губительным замыслам… Бог — только надежда, а не подсказчик. Хоть миллион поклонов бей перед образами, а коли не знаешь, как крепится ствол орудия к лафету, не прояснится. — Он вздохнул. — Доверчивые, открытые и благородные русские люди, чем кончат ныне?.. Важен кусок хлеба, важна свобода, но всего важнее на свете правда жизни. И всякий режим ничтожен и лжив, если не пытается открыть людям глаза, прорвать пелену лжи… Россия-то ведь уже давно в мареве сплошной лжи. И все эти партии, все эти затрибунные горлопаны — бутафория для дураков, а суть действа — иная… Обнаружилось, что и мы кровушку тут проливаем за чужие интересы — людей губим, которые ещё понадобятся, чтобы защитить наши дома, да их уже не будет, — вольготно станет ворам да насильникам… Как получается, что те — среди красных, а эти — среди белых, и интерес у них общий?.. Продана Россия, как давно продана и Англия, и Америка, и трясутся наши вороги только о том, чтобы не упустить свою добычу… Нам отступать уже некуда, попали мы в ловушку в собственной стране, и всемирный Иуда пригвоздит нас к кресту нашей христианской любви и нашего мирского невежества… Сегодня утром, служивый, выпишут тебе нужные бумаги и исполнишь мою последнюю волю, а там уже — Бог тебе судья!..
Мог ли яснее выразиться Колчак, который в самый критический момент обнаружил заговор и среди своих офицеров, и среди своего правительства, и среди чешских легионеров, и среди представителей держав Антанты — заговор, который полностью соответствовал целям иноземной камарильи в Москве и Петрограде, дурачившей и своих сторонников, и весь народ социализмом и грядущим процветанием «вселенского братства пролетариата»?..
На рассвете того же дня переодетый под сибирского мужика денщик отправился в Москву с письмом к какому-то личному другу адмирала, а самого Верховного Правителя, вовлечённого в вихрь заговора, через две недели верхушка чехословацкого корпуса сдала «эсеро-меньшивистскому Политцентру» в Иркутске вместе с 29 вагонами российского государственного золотого запаса за пропуск эшелонов к Владивостоку.
Сколько трагедии скрывает эта преподлейшая сделка, главное в которой никогда не было обнародовано!
А 7 февраля адмирала Колчака, именитого учёного, исследователя Заполярья, организатора борьбы против насильственного революционного переворота, расстреляли без суда и следствия.
Подло и трусливо, что выражало главную суть распространявшейся власти заговорщиков и их невежественных и нетерпимых к инакомыслию пособников из обманутого простолюдья.
В последние минуты жизни адмирал сумел проявить то же бесстрашие, с которым прошёл свою короткую жизнь — он умер в 46 лет. Он держался спокойно и решительно отказался от предложения — завязать ему глаза.
— Ещё чего! Такое недостойно ни нашего звания, ни положения!..
— По вгагам геволюции — пли!..
Он был смертельно ранен на песчаном берегу Ушаковки, стремительного притока Ангары. Тело, в котором ещё спорила жизнь, скрутили верёвками и опустили в прорубь. В сером рассвете расстрелыцики хлестали кружками водку: прихватили с собой целый бочонок. Но водка «не шла»: их потрясло мудрое спокойствие человека, до конца исполнившего долг совести. Они блевали и остервенело матерились, догадываясь, конечно, что все они преступники.
Враги революции главенствовали среди тех, кто кричал о её победоносной поступи, кто действовал от её имени, но немногие, знавшие об этом наверняка, были лишены голосов…
Другая правда стала всё чаще являться Алексею Михайловичу с весны 1978 года, когда он похоронил лучшего специалиста головного КБ. Тот поехал проведать старого отца под Курск да и умер там от кровоизлияния. Прохоров лично вылетел на место — просмотреть документы умершего, выяснить обстоятельства смерти и поприсутствовать на похоронах. Его сопровождали два чина секретной охраны.
Умерший, Пётр Фомич Воронков, был удивительным инженером — экспериментировал целыми сутками. В его лаборатории дважды гремели взрывы, но оба раза он чудом отделывался лёгкими царапинами. Других пострадавших не было, — на время включения установки Пётр Фомич выпроваживал всех из помещений.
Для такого сына Отечества было бы не жалко выделить место и у Кремлёвской стены, но так пожелали его родственники — похоронить в деревне.
Отец Петра Фомича, Фома Петрович, в прошлом школьный учитель, которому было за 70, внезапно обнаружил цепкий ум и поразительную откровенность.
После поминок они вдвоём остались за поминальным столом, который медленно прибирала глухая родственница Фомы Петровича.
— Может, и я виноват в смерти сына, — грустно признался старик. — Я его вызвал-то для чего? Чтобы кое-что рассказать, что лежит на душе тяжёлым камнем…
И — поведал историю, ошеломляющую и почти невероятную.
Хотя, что в ней невероятного?
В 1942 году немцы расстреляли под Смоленском группу еврейских беженцев. Фоме Петровичу удалось спасти одного еврейского подростка. Вырастил его, выкормил. Заботился о нём больше, нежели о родном сыне: чтобы, не дай бог, позднее не попрекнул.
И что же? Определил приёмыша в Московский университет, и с тех пор от него ни слуху, ни духу — ни единого письмеца. И, мало того, наклепал приёмыш-то на Фому Петровича, будто бы он в годы немецкой оккупации был старостой и принимал участие в карательных расправах…
Прохоров хорошо помнит, что лучшего его разработчика почти целый год трясли органы. Конечно, защита директора спасла Воронкова от крайних мер, но кровушки у него попортили — будь-будь. Прохорову положили на стол предписание обкома партии — убрать Воронкова из головного КБ. Если бы он хуже понимал обстановку, он мог бы дрогнуть. Но он не дрогнул…
И пришёл день, когда захотелось разузнать об адмирале Колчаке, защищавшем иную правду, которую не отвергал напрочь и его отец. Захотелось разобраться во всех махинациях вокруг несчастной России, изобличить негодяев, объединённых преступной волей — овладеть чужим государством и присвоить себе его сокровища…
Он собрал много материалов, сделал выписки из сотен разных книг, даже и иностранных, и понял вдруг, обескураженный, что полной правды в бумагах нет, — она до того проста и вместе с тем до того сложна, что требует, быть может, для уяснения всей человеческой жизни, какого-то особого знания, мимо которого скользит и образование, и наука. «Вот ведь какая необъятная хитрость: знаешь про всё это, но оно настолько подлое и противоречащее человеческим понятиям, что не хочется верить. И это — главное, что уберегает ложь и подлость…»
Он хорошо понимал, томясь и беспокоясь, что именно на этой одноклеточной простоте, наглой лжи и беспощадном подавлении инакомыслия и держится нынешняя власть мировых заговорщиков, — теряются в беспомощности люди, осознав Правду, но бессильны передать её другим, ибо она предполагает не только иные знания, но и мощный авторитет изрекающего их, — каким авторитетом располагает в наше время честное сердце, которому противостоит мировая индустрия пропаганды, тысячи вышколенных негодяев, пользующихся самой современной коммуникационной техникой и действующих по всем психологическим законам внушения и зомбирования?
Ещё и другое прожигало горечью, и это было истиной причиной беспокойств: можно ли вообще сопротивляться наступлению заговорщиков, умело сталкивающих всех лбами и остающихся на плаву — в качестве посредников и судей?
Он так и не сумел докопаться до фактов, которые приоткрыли бы свет на махинации этих бандитов: каким образом Колчак или Деникин рассчитывались с «союзниками» за поставку складских запасов старого оружия и старого обмундирования? От источника к источнику схема расчётов двоилась, троилась, а то и вообще пропадала. Было ясно, что мошенники драли втридорога с несчастной, вновь оккупированной иноземцами России, но — как? Выяснилось, что существовали совершенно разные документы о количестве золота в каждом вагоне, и разбежка была потрясающей — растащили собственность русского народа, которую он никогда не видел и никогда не увидит…
Негодяев интересовали власть в России и сокровища России, потому им была необходима гражданская война, — чтобы потопить в крови всех, кто мог препятствовать их диктатуре.
Первым, кто мог встать на их пути, был Ленин, запрограммированный для выполнения интересов, лишь номинально связанных с интересами российского общества. После захвата политической власти он был уже не нужен, как был совершенно необходим для её победы. Главной фигурой сделался Лейба Бронштейн-Троцкий, имевший глубокие связи с финансовым капиталом в США и оттуда командированный в Россию.
Прогремел выстрел Фанни Ефимовны Каплан. Но получилась небольшая осечка — Ленин был покалечен, но остался жив.
Однако выстрел исполнил своё второе назначение — положил начало красному террору как главному мотору гражданской войны и всей «социалистической революции». Отныне путь для любых убийств и насилий был открыт. { Покушение на Ленина в то время значило столько же, сколько разрушение зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года — это событие тоже развязало руки для репрессивных действий по всему миру — Примеч. автора.
}
Тщательный разбор всех обстоятельств мог бы показать, что разные революционные партии в России обслуживали одни и те же интересы, и потому Каплан была расстреляна без суда и следствия по личному приказу одного из главных действующих лиц закулисы — Янкеля Свердлова.
Чтобы пролить свет на действия так называемых «белых», тоже обманутых жертв нерусской революции, надо было бы предварительно раскопать корни вселенского заговора против всего мира, заговора, который вдохновлялся химерами больного воображения.
Но это было уже непосильно для каждого, кто занят тяжёлым повседневным трудом…
Откровения Вождя
И была ещё одна встреча со Сталиным.
Она последовала через несколько дней после первой. Видимо, вождь приглашал поодиночке каждого из тех, кто занимался важнейшими разработками оборонного характера, потому что в Москве задержали не только меня, но и Митю Н., которого я встретил в те дни на улице, зная, что он собирался как можно быстрее укатить к себе на Украину.
Теперь встреча состоялась в Кремле, но не в кабинете вождя, а в каком-то небольшом зале с высокими потолками, два окна которого упирались в глухую стену противоположного строения.
Я еле-еле дождался вечера. Смеркалось, и брался нешуточный мороз, когда я прибыл туда, куда было назначено.
От Боровицких ворот меня сопровождал в синих сумерках молоденький капитан, молчаливый и стремительный, так что я был занят в мыслях своих более всего тем, как бы поспеть за ним, не запомнив вовсе, в какое здание мы вошли и по каким переходам двигались.
У последнего поста капитан тихо представил меня генералу, плотному и тоже немногословному крепышу.
Меня ввели тотчас.
Сталин — в военной форме — сидел на диване, читая книгу, которую и положил тотчас раскрытой лицом вниз подле себя.
— Здравствуйте, Алексей, — просто сказал он, приветствовав меня кивком головы и вставая навстречу. — Чаю с морозца?.. Нет, так нет, хозяин — барин… Прочувствовали ли вы всю серьёзность моих слов, сказанных тогда, на даче?
— Так точно, товарищ Сталин, — я невольно вытянулся по стойке «смирно». — Много мыслей бродит в моей глупой голове!.. Чтобы не проворонить потом, нужно как можно больше сделать теперь…
— Да Вы садитесь-садитесь, — Сталин указал на кожаное кресло. — Садитесь и чувствуйте себя непринуждённо… Мы с Вами дома, и то, что дом хотят отнять у нас ловкие дельцы, ничего не меняет. Борьба в этом мире — может, и ненормальное, но неизбежное явление… Это Вы верно сказали: в настоящем следует делать как можно больше для будущего… Меня беспокоит завтрашний день страны.
— Что может нам угрожать? Большинство народа — горой за народный строй. У нас армия, органы безопасности, мощная разведка. Да и Вы, товарищ Сталин, смотритесь ещё орлом!..
Сталин усмехнулся. Легко прошёлся по мягкому ковру. Я обратил внимание на то, что воротник его кителя был застёгнут на оба крючка, и подумал, что пожилому уже вождю приходится постоянно обременяться, чтобы побуждать к напряжённой работе сотрудников громоздкого государственного механизма. Было видно, что он не даёт себе ни малейших послаблений.
— Сталин не столько марксист-ленинец, сколько прежде всего реалист, — сощурившись, с прежней усмешкой сказал Сталин. — Никакое развитие не может быть беспредельным. То, что достигает пика, неизбежно начинает деградировать… У нас слишком много врагов, способных затормозить процесс… Я могу принять сто решений, и всё окажется пустой затеей… Единственное, в чём я уверен: созданная нами держава даже при самом худшем варианте будет разваливаться ещё сто лет. За это время по кремлёвским коридорам пробегут с лаем не только дворняжки и шавки политического театра, здесь появятся, вероятно, и могучие последователи глубоких замыслов… Эти стены взывают к совести… Но это не стихийный процесс… Я никогда не ставил на стихию. Все главные факторы предстоящего развития мы обязаны создать сами. И многие из этих факторов созданы.
— Иногда мне кажется, что мы несколько преувеличиваем, что ли: всё у нас кругом враги да враги. Неужели и друзей нет?
— Друзья есть, — Сталин пристально взглянул на меня. — Друзей много. Но врагов ещё больше, так что мы не преувеличиваем. Наоборот, мы преуменьшаем… Пожалуй, следовало бы отправить в тюрьмы и в зоны принудработы гораздо больше нарушителей наших законов… Может, в два раза больше. Но реальность такова, что мы вынуждены сажать примерно 60 процентов безвинных советских людей, чтобы посадить 40 процентов врагов, хотя я требую сажать только врагов… Большой и сложный вопрос, отчего так происходит. Но если я ничего не могу переменить, не поснимав сотни голов, значит, тут действует фактор, противоположный моим усилиям… Мы немалого достигли в результате победы. Однако умеем ли мы слышать наш многострадальный народ? Думаю, что нет. Вокруг власти создаётся всегда почему-то «интернациональный пузырь», сквозь который проходят голоса ловких холуев и комедиантов, но не проходят голоса истинных патриотов. И хотя я поддерживаю атмосферу сугубо партийных отношений на всех уровнях, патриотов шельмуют как наиболее примитивных и бездарных граждан. Вот она, лазейка для перерождения… Весь империалистический мир заинтересован в том, чтобы решающие позиции в нашем государстве заняли резонёрствующие жулики и конферансье… Они непременно свалят свою лень, подлости и преступления на Сталина. Как же — «тиран», «диктатор», «единоличный правитель»… Не думайте, что я не знаю ни сомнений, ни уныний, ни разочарований. Я вижу яснее других, что толща лжи в мире не убывает, но увеличивается. Судьба отдельного человека всё менее весома, хотя о ней могут болтать часами… Вот, Вы присутствовали на обеде… Высшие чины разошлись, ковыряя в зубах и калькулируя свои расчёты. Им проще. А у меня на руках — государство. И его хотят отнять не только враги, но и эти — «друзья»…
«О ком это, о ком? — подумал я. — Он, наверно, перепутал: за нашим застольем не было никаких партийных и государственных деятелей, а те, что присутствовали, — надёжные слуги сталинского дела…»
— Или Вы думаете, я не знаю о дикостях, которые творятся в стране? — продолжал Сталин. — Одни мною прикрываются, другие считают меня виновником. Но всё это невежество — следствие нищей жизни… А пуще — махинации и интриги тех, которые умеют обирать даже голых… Моя задача — не кричать о правде и справедливости, а организовать жизнь государства так, чтобы мы не рассыпались и отбились, если опять произойдёт нападение. А оно неизбежно произойдёт!.. Я всесилен, но я и раб обстоятельств… Они сознательно простирают интернационализм до космополитизма. Запомните, это будет основой всех политических кампаний: протащить в СССР космополитизм и расколоть наши народы, потому что вслед за космополитизмом неизбежно придёт национализм, который окончится сдачей всех позиций.
— Евреи распространяют слухи о том, будто Сталин ненавидит евреев, — осторожно заметил я, не зная, какой будет реакция вождя.
— От людей всех национальностей я требую одного и того же, — глядя в слепое окно, устало сказал Сталин: — честного служения социалистической Родине, понимания, что равенство и справедливость могут быть достоянием только тех людей, которые едины в своей приверженности великим идеалам… Увы, человек повсюду слаб и платит очень высокую цену за свои химеры. Более того, вынуждает платить других… Из всех химер самомнение и избранность — самые опасные. Иудеи всегда считали, что именно они вправе брать мзду и при рождении человека, и при его бракосочетании, и при его смерти… Они убедили себя, что они народ священников. Но таких народов нет.
Сталин опустился на диван. Дотронулся крупными, узловатыми пальцами скорее крестьянина, нежели тончайшего стратега политической науки, до моего колена:
— В мировом подполье существует два подполья. Они действуют и у нас. Подполье бездарной «элиты» и подполье безответственных, психически неполноценных «революционеров». Оба служат одному хозяину, но их не сливают в единое движение, потому что хозяину нужно поджать то вверху, то внизу… Октябрь был подготовлен не нами. Или нами — с подачи этого хозяина. Февраль понадобился ему для того, чтобы укрепить господство черни над наличной элитой. Когда же элита была раздавлена, он сообразил, что чернь в России усмирить может только чернь. Все мы, и Ленин в том числе, плыли по течению… Это течение мне удалось остановить лишь перед самой войной… Но какой ценой! Никто не знает, что я десятки раз находился на волоске от смерти. Но я знал: или они — или мы…
Я плохо понимал эти слова, быть может, раскрывавшие великие тайны… «Кто этот «хозяин»? И почему Сталин и Ленин «плыли по течению»?..»
— Мировую политику определяли не только Гитлер, Муссолини, Даладье или Черчилль… Газета, любая газета остаётся ядовитым платком, утирающим сопли безграмотному и суеверному люду. Любая теория, не исключая и нашу, — условность, позволяющая как-то трепыхаться рыбам, которые уже попали в кошель… Они обнюхивали меня все эти годы и, наконец, убедились, что Сталина не подкупить и не согнуть силой. Теперь мы вышли на прямое единоборство…
Он замолчал, и я посчитал невежественным не проронить ни единого слова.
— У меня нет и не может быть мнения, отличающегося от Вашего… Ставьте конкретно задачу. Я выполню её.
— Этого мало. Вы должны понять, что страна входит в новую фазу без Сталина. Но ей нужно сохранить основные его подходы, чтобы не рассыпаться и не стать добычей шакалов… Есть природа технической конструкции. Она использует естественный процесс, придавая ему необходимую направленность. Полёт пули или ядерная реакция… Есть природа общественной стихии. Она менее заметна для глаза, нежели заводы, станки, поля, реки, горы и животные. Но и в этой природе действуют свои законы, свои бактерии, идут свои дожди и светит своё солнце. Эта природа точно так же может давать порции гигантской энергии или поглощать энергию существующих конструкций… Какими бы ни были реформаторы, творцы новых укладов, они бросают только зёрна, а поля создают эти несметные силы самой общественной природы… История в любом случае катится по крови живых существ, по их судьбам, по их воле, озарению и чистоте помыслов… Нежелательно, грустно, но иначе не бывает…
Непростые слова. Их следовало хорошенько запомнить, чтобы позднее обдумать наедине.
— Не могу даже допустить, что мы в какой-то степени обречены.
— Не в какой-то, а в той степени, когда все традиционные усилия по сопротивлению практически бесполезны!.. В сказках читали? Срубил богатырь голову чудовищу, а на её месте — три новых. Это не чепуха, придуманная наивным и примитивным племенем. Это иносказательное выражение важнейшего диалектического закона, о котором Маркс и прочие и понятия не имели, а если имели, то умолчали вполне умышленно… Я уже немногое могу сделать даже с помощью репрессивного аппарата, ибо враг совершенно перекрасился. Он принимает тотчас именно те формы, которые уберегают его от удара. Он опирается на многочисленных сообщников, готовых бездумно выступать против наших законов. Мне плохо, значит, «всё плохо»… Они наворовались, наелись, им теперь «свободу» и «славу» подавай!.. Тогда как у бедного большинства пока нет и не будет в ближайшее время ни свободы, ни славы. И брюхом будут рассуждать и оценивать политику, как и прежде. Всё наше просвещение здесь — курам на смех… Враги меня уничтожат, едва я тяжело заболею. И всё моё наследие будет профукано, потому что поддержать единство народа без ещё большего насилия они не сумеют.
— В обществе говорят, будто Вы не щадите русских.
— Ложь!.. Я более русский, чем многие русские, и тому есть своё объяснение. Я не щажу никого, потому что хотел бы создать задел прочности государства. Но чем больше я тут делаю, тем ужаснее бреши, которые открываются… Разрушение семей, усиленное страшной войной, ведёт к разрушению нормального сознания: нездоровые люди любят тех, кто их ненавидит, и ненавидят тех, кто их любит. В стране уже теряется святое отношение к труду, особенно среди малых народов, привыкших к подачкам за время войны — в них ожили инстинкты национализма, они склонны к тому, чтобы превратить спасшую их Россию в объект грабежей, в страну рабов и проституток… Война ударила не только по мужчинам, самый жестокий удар она нанесла по женщине, по семье. Особенно по русской, украинской, белорусской… Страна стоит перед агрессией, с которой бессильна справиться армия: перед агрессией малых народов. Она разжигается и подогревается. Если мы дадим слабинку, они наводнят органы снабжения и торговли и, заполучив деньги, путём подкупа захватят всё остальное: академические институты, органы госбезопасности. Партия падёт под их ударами, потому что они не выносят порядка, не выражающего их непосредственных клановых интересов… Смотрите, пьянство уже не считается падением, это всё более образ жизни и быта многих людей. На очереди — гашиш, опиум, проституция, педерастия. И это всё — обычные, хорошо известные истории орудия развала государства, нации… Мелкая моль пожирает царскую шубу… Великий русский народ в муках сокрушил великую Германию, чтобы в стране оживились поползновения к господству со стороны ничтожных племён торгашей и проходимцев. И эта агрессия не знает никаких норм и ограничений, её жестокость превосходит все границы… Мне досталась страна со сложившейся системой управления. Кровавой и дикой. Никто не сумел бы изменить её сразу, если бы даже и пожелал. В стране, лишившейся своей элиты, бедной, с узким слоем общей культуры, при бездорожье и отсутствии связи только страх немедленного наказания мог заставить повиноваться, и я понимал это, как и то, что немедленный переход страны, где народ организован только принуждением, к полной свободе — разрушителен и потому нежелателен: плоды такого перехода достались бы, бессомненно, не труженикам, а прежде всего паразитам… Хотя столь же разрушительным будет и переход от свободы к диктатуре, если он когда-либо последует… Куда ни кинь, всюду клин… Я верил и верю в возможность идеального. Идеальное — душа Природы. Но разве в эту возможность верят все те, кто рядом со мной?.. Я был и остался кочегаром системы, созданной теми, кто делал свою «революцию». Изменить ничего я не мог, меня тотчас же объявили бы «изменником Родины» и «предателем революции». И, конечно, объявляли и объявляют. Но я использовал существовавший репрессивный аппарат, чтобы освободиться от цепкой власти негодяев, вновь закабаливших трудящихся. В конце концов, я развязал себе руки. Но надолго ли?.. Если мы не закрепим своё положение как народа героев, измеряющих тысячелетиями и оперирующих масштабами континентов, мы останемся рабами, среди которых не будет услышан ни один голос в защиту чести…
Сталин некоторое время молчал, опустив голову. Но когда повернулся ко мне, я вздрогнул от вспышки неизъяснимо трепетного чувства — то ли гордости, то ли благодарности и глубочайшего преклонения: глаза его испускали почти, видимые лучи энергии. Казалось, будто электроны его души враз перешли на новую, энергетически более мощную орбиту. От него исходили волны тепла и успокоения.
— Что знают о Сталине?.. «Вождь, продолжатель дела Маркса и Ленина»? Это всё лозунги для несчастных, которые пока не способны подняться на новый уровень познания... Вы слыхали что-нибудь о говорящих муравьях?
— Никогда — ничего подобного.
— Некий русский профессор проводил в осаждённом Ленинграде опыты… По моему указанию ему дали несколько пайков, чтобы он мог укомплектовать свою группу… Он установил, что существуют «говорящие муравьи» и даже подсчитал количество сигналов, которыми они обмениваются. Это и звуки, и вариации запахов, и жестикуляция усиками… Более 400 сигналов, почти столько же, сколько содержит словарь аборигенов, которых раньше наблюдали на Борнео и Суматре… Так вот, люди пока — всего лишь враждующие между собой, говорящие муравьи, которые придумали азбуку и пишут историю, не зная, что это такое…
«Жестокий взгляд», — подумал я.
— Да, жестокий взгляд, — кивнул Сталин, пристально глядя мне в глаза. — Взгляд разбойника… Но кто доказал, что взгляд разбойника, который исключается нашей традицией и моралью, менее отвечает суровой истине ужасного положения человека?..Когда в мои руки попали материалы о буднях в том же голодающем Ленинграде, я поверил в то, что иногда поведение разбойника больше отвечает условиям нашего невежественного и бесправного существования, нежели вылинявшие речи религиозных проповедников… Родители съедали детей, а потом — того, кто был более слаб и менее подл… Не было заповедей, которые остались бы ненарушенными. В городе действовали банды. Они выслеживали детей, молодых мужчин и женщин и разделывали их «на котлеты»… Некий тип по кличке Арончик зарезал более сорока детей. В подвалах многоэтажного дома, который он присвоил, подкупив за несколько банок тушёнки работников горсовета, нашли 600 килограммов золота и несколько ящиков драгоценных камней… Традиции в родоплеменной жизни были призваны гарантировать выживание рода или племени. То же — относительно культурных традиций народа. Но если жизнь неузнаваемо изменяет исходные условия существования, необходимо тотчас менять традиции, иначе они сделаются причиной гибели… Я не оправдываю подлости, я предлагаю бесстрашно взглянуть в лицо действительности… Народ — это не капитан на мостике, поклявшийся уйти под воду вместе с тонущим кораблём… Народ обязан выжить любой ценой, и не просто выжить, но и сохранить свои ценности… Когда поднимаешься над всем этим и не находишь в небесных сферах существа, которое всем руководит, всё определяет и всех рассуживает, становится ясно, что тетива наших воззрений слишком слаба, чтобы поразить стрелой нынешних хищников… Философию нужно непрерывно менять, как линзы в очках, пока глаз не увидит ясно тех предметов, которые мы обязаны видеть… Так что не думайте, что Сталин — только марксист. Он марксист постольку, поскольку этот сведённый в систему бред пока позволяет организовать и повести массы, более или менее правдоподобно объясняя им окружающие события… Философия должна быть иной, и она будет иной… Надо продержаться 50 лет, всего лишь 50 лет, и тогда Истина, только Истина будет определять события истории… Мы переменим всю философию и выбросим марксизм на свалку… Я могу продержаться ещё лет десять, могу быть убит или отравлен уже завтра… У меня нет иллюзий относительно моего политического окружения. Но и у моих врагов тоже нет иллюзий: после моей смерти они устранят, осмеют и затопчут прежде всего тех, кто готов нести моё наследие дальше. И не потому, что это наследие в каждой своей клетке уже отвечает Правде, а потому, что только с этим наследием возможна Победа… Иначе — гибель, и все жертвы, неисчислимые жертвы, которые принёс наш народ на алтарь победы, окажутся напрасными, и судьбы миллионов утратят всякий смысл. Этого допустить нельзя. Ни в коем случае… Вот отчего вы здесь… Вот отчего вам доверяется ответственная миссия сбережения наследия — до нашей окончательной победы… Это вечная проблема дряхлеющей власти. Но я не верю в то, что она неразрешима для честных и справедливых. Она разрешима, и я уже построил свой незримый Ковчег Спасения и Победы, где каждой «твари» — по паре… Такой ковчег, кстати, создал и Адольф Гитлер, который глубже всех разбирался в проблемах глобального свойства. Но я вижу, как его ковчег сегодня ломает англо-американский интернационал. Он переменит наследственное ядро германской нации. Боюсь, что эта нация более не возродится. Она возродится, если мы победим. Если мы проиграем, она погибнет. Великая нация, которая, как и мы, способна усваивать справедливость и правду.
Меня охватило предчувствие бесконечного горя, которое должно было совершиться:
— Это был могучий противник.
Я имел в виду Гитлера, но Сталин истолковал мои слова иначе.
— Это героический народ. На сегодняшний день, может быть, единственный героический народ… Я не раз почти плакал от досады, что мы вынуждены сражаться с народом, который только и способен прежде других понести новую мировую философию… Я завидовал Гитлеру: он мог, но не сумел взять от своего народа и половину его великой жертвенности… Опираясь на полководцев, я призван был увязать в единый замысел усилия десятков миллионов людей и кое-как справился с этой задачей. Возможно, лучше, чем это сделал бы кто-либо другой… Но моя победа — это личная победа над фюрером… Это был крепкий орешек. Мистицизм, подняв его, урезал его потенциал… Мы оба, — и Гитлер, и я — использовались в чужих геополитических планах. Враги знали, что если бы мы соединились, от них полетели бы только пух да перья… Я написал об этом Гитлеру. Он оказался слишком самоуверен, чтобы правильно истолковать мои слова. Он сделал вид, что письмо — не подлинное. Я написал ещё раз. И не утаил своего превосходства в понимании событий. Он был подавлен моим письмом. Наша агентура в окружении Гитлера сообщила, что он несколько раз перечитал моё письмо и у него случился сердечный приступ. Его откачали, и он сказал: «Конец, кампания проиграна»… Я писал о том, что Провидение — свойство самой материи, что материя оттого и божественна, что способна к контролируемому саморазвитию и в принципе отвергает все попытки воздействия на неё. Человек может взломать дюжину из миллиона её сейфов, но использовать похищенное с пользой для Природы всё равно не сумеет. «Что мы знаем о своих врагах? — писал я. — Или о тех, кого мы причисляем к врагам? Ведь, скорее всего, и они неосознанно служат Провидению, повышая или понижая наши шансы. Мы можем заменить кровь любимой женщины на самое превосходное вино, только она тут же скончается… Мы можем отменить смерть и гибель, но кто же станет поддерживать в мироздании равновесие?..» Я напомнил Гитлеру о законе фараона Уфру.
— Не слыхал о таком.
— Закон прост в восприятии, но сложен в использовании. Возьми камень и брось в лужу — пойдут круги. Весь мир подобен огромной луже. Мысль или учение, которое потрясёт умы, разойдётся кругами и достигнет даже и самого отдалённого места. Весь секрет в том, чтобы поднять наибольшую волну. Национал-социализм не мог соперничать с марксизмом, для которого выбрали необъятную «лужу» России… Но через 50 лет всё переменится… Политические силы, которые сумеют выработать новые мощные идеи и успешно забросить их в «лужу» мира, займут господствующее положение…
Волевой, сильный и смелый человек, я дрожал, как мокрый цуцик, слушая Сталина. Он хорошо понимал моё состояние, но не щадил моих чувств.
— Все мы, советские люди, можем оказаться в чрезвычайных условиях, окружённые превосходящими силами противника. Это я усвоил… Могут быть разрушены все надежды… Мы обязаны сохранить волю и боеспособность даже и в этих условиях и прорваться к новой философии… Сейчас меня интересует другое… Это важно, мне бы не хотелось чувствовать себя блошкой, ползущей по краю зелёного листа… Насколько обыденное сознание указывает на истину мира?
— Вопрос настоящего мужчины, — кивнул Сталин. — Чтобы действовать успешно, человек всегда должен стремиться к наиболее полной истине… В том, наверное, и проявляется прежде всего божественность мира, что его внешний вид вполне свидетельствует о его сущности. Конечно, чем более умудрёнными глазами смотрят, тем больше видят. Но и для обыденного сознания знаний вполне достаточно. Каждый должен брать только то, что ему принадлежит по природному закону, — вот главное. Но и у этого положения нет ни начала, ни конца…
Расстрел под Смоленском
Не туда они гнут, наши вожди, ничего у них не выйдет, не туда ведут, не тем прельщают несчастное наше племя…
Сколько ему было в 42-м? Восемь лет. Но выглядел он как пятилетний. На еврея он был не похож. Но у немцев был нюх на евреев, не у всех, конечно, но у тех, кто осуществлял этот «план возмездия» — Endlosung, окончательное решение. Они угадывали жертву и не испытывали к ней никакого сочувствия. Но разве евреи когда-либо испытывали жалость к своим врагам? Пусть не всегда убивали, но грабили до нитки, лгали в глаза, клянясь именем Бога, предавали и продавали, толкали на самоубийство и отчаянное падение в разврат, пьянство, ужас бездомности и бродяжничества…
Он оказался в колонне с отцом и бабушкой по матери Фридой, самой матери и братьям удалось эвакуироваться на армейской машине в дни разгрома и отступления, — оказался знакомым политрук, который потеснил раненых ради двух еврейских семей, — от них он, правда, взял «на память» золотые часы знаменитой швейцарской фирмы.
Их гнали от Смоленска, и что их ожидало, никто не знал — в спасение уже не верили…
Он помнит огромное рыжее поле, упиравшееся концами в колючий, сухой, грязный ельник, — сжатое уже хлебное поле с подростом новых трав и просёлок, по которому, вероятно, в непогодь прошли танки, — так и остались гребни затвердевшей в камень земли, — по ним было больно ступать даже в летних туфлях.
И на самом краю дороги, за редкой цепью конвоиров, — встречная колонна мирных жителей, но уже русских, — старики, женщины, дети — постарше и совсем малые, зловеще безмолвные, почерневшие от долгого пути и лишений.
Колонну евреев остановили напротив колонны русских, только по другую сторону дороги.
Глухо протявкала овчарка, и стало слышно, как высоко в небе поют птицы. Он, Сёма Цвик, не разбирался в пернатых, но на сей раз захотелось увидеть, что же это за птицы, способные так умиротворённо стрекотать в вышине, совсем не замечая того, что творится внизу. Глаза ослепили лучи солнца, но всё же он заметил высоко в небе дрожащих, словно на резиновых подвесках, птиц, — для чего они там кувыркались?
Это всё — единый миг. А потом бабушка Фрида, растрёпанная, седая старуха, меловое лицо которой было усеяно старческими пигментными пятнами, принялась повторять, то по-русски, то по-еврейски, что пришло время наказания и гибели всего еврейского народа.
— Да замолчала бы ты, — сказал ей отец, злясь оттого, что, экономя силы, бросил на последнем привале сетку с яблоками.
В свою смерть Сёма не верил. «Если даже всех перестреляют, — думал он, — я останусь, потому что все они уже неспособны жить, — они старые и скованы страхом, а я не боюсь…»
Он помнит, что в его глазах, обожжённых солнцем, ещё стояло оранжево-зелёное световое пятно, когда он услыхал рокот автомобиля, догонявшего колонну.
Всё обернулись на звук, но было плохо видно.
Переваливаясь на неровной колее и страшно завывая, подошла открытая грузовая машина, немецкая, от которой пахнуло каким-то особым запахом бензина.
Она остановилась метрах в пяти от головы и русской, и еврейской встретившихся колонн. Из машины выбрались загорелые солдаты в пилотках с автоматами. Их было не менее десяти. Они выбросили на дорогу горку новеньких штыковых лопат.
— Будут закапывать живьем, — заключила на идиш бабушка Фрида. — Мой отец всегда говорил: зачем нам, евреям, лезть на голову всем остальным? Что, у нас уже нет гешефта, чтобы покупать нужные законы?
— Молитесь о спасении, выкрикнул по-русски, но негромко, старик-еврей, у которого на голове, как у пляжника, был платок с четырьмя узлами. — О чём здесь спорить? Мы среди диких зверей!
— Об этом нужно было думать раньше, — ответила на идиш бабушка Фрида и постучала себя сухим кулачком по седой голове.
— Где было ваше кепело? Или не евреи помогали Гитлеру тем, что смеялись над немцами?..
Отец безучастно молчал, засунув руки в карманы брюк. Сёма знал, что у него подвязан к ляжкам мешочек с золотыми монетами. Мешочек до крови натёр кожу, и отец передвигается, как геморройный — в раскоряку.
Появился высокий, стройный офицер в серо-голубом кителе с серебряными витыми погонами. Он вышел, видимо, из кабины грузовика и в упор рассматривал людей, ни на ком продолжительно не задерживая взгляда.
Едва увидев его, Сёма почувствовал страх, и страх этот рос и становился совершенно нестерпимым. Лицом офицер напоминал ангела, трубившего о наступлении конца света, — Сёма видел однажды такую картинку в еврейской энциклопедии, изданной ещё в царской России, где не было никаких энциклопедий.
«Сейчас гром или снаряд убьёт всех до единого, останусь только я», — загадал Сёма и тотчас подумал о том, — как он среди мертвецов отыщет отца, чтобы забрать у него мешочек, — без денег пропадёшь: эту мысль ему вложили давно, и он не сомневался в том, что она справедлива.
Офицер прошёл по дороге и остановился в двух шагах от затаивших дыхание, измученных людей.
— Здесь две колонны, — внезапно сказал он на чистом русском языке, и Сёма поразился, как певуче и отчётливо произносит немец слова. — По триста голов там и тут. Здесь русское население, там евреи. Одни уцелеют, другим суждена смерть…
«Сейчас — сейчас опустится чёрная туча», — не желая больше ни смотреть, ни слышать, загадал Сёма, но небо оставалось раскалённо-белым и пустым. «Бога нет — это да, — припомнил он слова Исаака, мужа бабушки Фриды, который умер на второй день после объявления войны от сердечного приступа. — Бога нет, если сатана не боится всюду лезть в наши дела!»
— Белогвардеец, — почти шёпотом, ни к кому не обращаясь, произнёс человек с носовым платком на голове. — Петлюровец или деникинец. Гуляйполе. Пощады не будет.
— Я обращаюсь к русской колонне, — громко объявил офицер. — Посмотрите внимательно: перед вами существа, единоплеменники и родственники которых самым гнусным, самым преступным путём ввергли Россию в хаос войны и революции, разрушили государство и установили свою диктатуру. Они говорят о диктатуре пролетариата, но они имеют в виду только свою диктатуру. Они без суда и следствия расстреляли и замучили десятки миллионов русских людей. Они вывезли из России столько ценностей, что теперь только на проценты подкупают правительства Америки и Англии. И нынешняя война спровоцирована ими. Великому фюреру пришлось ввязаться в неё, чтобы немецкая нация не превратилась в стадо заложников. Евреи ненавидят и проклинают русских за то, что их дух всегда спокоен. Они не утихомирятся, пока не разрушат вашу страну и не сделают всех русских заключёнными одной гигантской тюрьмы… Берите лопаты и копайте им могилу, и я отпущу вас на все четыре стороны!..
У Сёмы стучали от страха зубы. Он дрожал и нисколько не сомневался, что ангел смерти в образе немецкого офицера изрекает правду, и впервые пожалел, что рождён от еврея и еврейки: разве не алчность производят они на свет? Откуда у отца это золото, которое он подвесил колбаской в промежность, пока до крови не натёр кожу? Сёма знает: золото он похитил у дяди Арона, который работал в ЧК в Пятигорске и снимал кольца и броши у всех, кого казнили. Именно отец убедил дядю Арона перепрятать золото, и как только пьяница, удочеривший десятилетнюю сироту сослуживца — татарина, чтобы сделать её своей рабыней, послушал совета, донёс на него в органы. Дядю Арона арестовали, и спустя день отец принёс домой кожаный мешочек, наполненный кольцами, кулонами, монетами и серьгами…
Стояла ужасная тишина, и даже птицы в небе в этот миг не стрекотали. Сёма ожидал, что люди сорвутся в едином порыве и похватают лопаты…
Но — люди оставались безмолвны и неподвижны. Прошла минута, другая…
— Русские вновь пожалели евреев, своих убийц, — с усмешкой, но все так же ясно и твёрдо заключил офицер. — Они подтвердили, что они русские… А теперь убедимся в том, что и евреи подтвердят, что они евреи.
Он повернулся и окинул взглядом сбитый строй жалких, усталых существ, молодых и старых, у каждого из которых в безумных глазах тлела напряжённость и надежда. Они уже плохо соображали. Простота финала сломила их последние силы.
— Перед вами русские. Люди, которые триста лет назад дали вам приют на своей земле, когда никто и нигде в мире не хотел дать вам приюта. На русской многострадальной земле вы растили своих детей, строили дома, и русский труд и русская щедрость умножали ваши богатства. Вы никогда не щадили их, никогда не считались с ними. Сегодня — ваш час, потому что одна из колонн ляжет в эту землю. Выбирайте судьбу. Быстро берите лопаты и быстро копайте!..
Что тут произошло! Будто ногой вышибли плотную и толстую дверь. Ударили голоса, взметнулся общий гуд — слова и нелепые междометия. Даже дети закричали, словно давно дожидались этого мига.
Толпа дрогнула, сломилась и пришла в движение.
Офицер брезгливо отступил в сторону, и мимо него, поднимая пыль, побежали десятки ног.
Увлечённый вскипевшей толпой, несколько шагов вслед за сгорбившимся отцом и бабушкой Фридой, безумно растопырившей руки, пробежал и он, Сёма.
И вдруг его схватил за плечо какой-то мужчина, на мгновение выступивший из русской колонны, и резко рванул к себе. Немец-конвоир в это время смотрел в другую сторону.
— Что Вы?.. — отреагировал Сёма, боясь отстать от отца. Вокруг оглушительно ревели и топали. Где-то впереди уже звенькали лопаты.
— Молчи, — строго приказал мужчина, не отпуская железных рук. — Может, и спасёшься. Спросят, скажешь, что я твой отец. Запомни: Фома Петрович Воронков.
Всё случилось так быстро, и Фома Петрович обладал, верно, такою внутренней силой, что он, Сёма, покорился, ошеломленно наблюдая, как толпа, разбившись на кучки, начала копать у дороги и два солдата, на которых указал офицер, жестами придали этому отчаянному порыву определённость замысла. Уже обозначились контуры будущей общей могилы: два метра на десять или даже больше.
Сёма видел, что копает и его отец, согнувшись, в подтяжках, а рядом стоит человек с носовым платком на голове и подаёт какие-то советы. И бабушка там недалеко, вертит головой во все стороны, конечно же, ищет его, Сёму. Совсем ополоумела старая: что ты, лопату хочешь ему дать или мороженое?..
Солнце палило так, что нить сознания временами прерывалась: только звуки лопат да вздохи выброшенной земли. Он, Сёма, помнит, что впервые ощутил ненависть к своему отцу, мешковатому, кургузому, с непропорционально большой головой, вечно небритому, нарочно подмигивающему при разговоре обеими глазами. Вспомнилось, как он ругался с матерью, уже после ареста дяди Арона, предложив забрать в дом его приёмную дочь.
— Татарка тебе нужна! — по-еврейски кричала возмущённая мать. — Ты же задницу ей откроешь, как Арон, но какая у неё задница? Как у козы!..
Они ругались так нудно и долго, что Сёма впал в отчаяние и захотел повеситься. Нашло — и показалось, что только так он освободится от их криков и всех остальных долгов жизни: все чего-то требуют, что-то велят и никто не хочет оставить его в покое, дать ему в тишине поколдовать над почтовыми марками, единственной радостью, которая у него открылась и которой он посвящал все своё время.
Он и петлю сделал — из бельевой верёвки, да не выдержал штырь в стене — вывалился, когда он натянул верёвку для пробы. А тут как раз постучали, разрушили замысел. А потом уже расхотелось. Да и собранных марок было жаль — девять альбомов, восемь из которых, самых ценных, достались ему от дяди Арона, — марки начала XX века — английские, австрийские, французские, российские… Первые почтовые марки многих стран — им цены нет…
Трижды загадывал Сёма на грозу и ливень, при котором он мог бы убежать далеко в лес, трижды считал до ста, но «механизмы человеческого воздействия на события», о которых любил распространяться дядя Яша, приятель отца, помогавший раввину вести домашнее хозяйство, видимо, в тот день отказывали. Но, скорее всего, он не знал формулы, которую, вероятно, знал дядя Яша. Про него говорили, что он силою взгляда оборвал однажды все груши в саду своего недоброжелателя.
Тогда он ещё верил в эти глупости, которые ему охотно внушал и отец, повторяя, что только евреи признаны на земле истинным богом, остальные — скоты в человеческом обличье, и боги их — чучела скотов…
«Очнись, очнись, хлопец!» — над ухом громко произнёс Фома Петрович, который позднее приоткрыл ему иной мир, которого он прежде вообще не замечал, — мир природы, заставлявшей дрожать и волноваться всё сущее, как ветер заставляет дрожать и волноваться травы.
Протиснувшись вперёд, Сёма увидел жуткое действо. Совершенно абсурдное, оно совершалось по-своему логично, так что любая мысль, что оно застопорится, сорвётся, остановится, натолкнувшись на какую-либо преграду, отпадала сама собою. Это был суд неба, высший из возможных на земле.
Офицер завершил обход вырытой ямы и посчитал её, видимо, вполне достаточной. Подозвав кого-то из младших чинов в каске, он дал короткое указание, которое тот повторил громко для всех немцев.
Евреи громко гомонили, разделённые на две неравные половины: те, что копали, постоянно сменяясь, — по пять-шесть человек на одну лопату, и те, что копать не могли при всем желании, — дети, старики и больные, которым с великим трудом дался и этот изнурительный поход к смерти. Было видно, что каждый из них что-то говорил, и ни один не слушал другого.
Конвоиры обеих групп перестроились, имея в виду какую-то новую задачу. Снова залаяли свирепые овчарки. Солдаты с трудом удерживали поводки. Все карабины были сняты с плеч.
Но страшнее всего были прибывшие с офицером автоматчики. Сёма понял, что это расстрельная команда. О таких командах среди евреев говорили, что это специально обученные изуверы из уголовников; дикий ужас наводит на человека сам вид этих палачей. Да, они леденили душу даже тем, что вовсе не суетились, и в присутствии офицера, которого Сёма назвал для себя «ангелом смерти», походили не на уголовников, а скорее на вершителей неведомой высшей воли. Может быть, божьей, потому что сами евреи подтвердили свою вину тем, что тотчас схватились за лопаты и вырыли общую могилу.
Всех, кто копал, поставили у ямы спиной к ней. Третьим от дальнего края был сутулый отец Сёмы. Белый лоб его сверкал от пота.
По краю дороги цепочкой по-одному прошли автоматчики и встали напротив своих жертв. Пять-шесть метров их отделяло, не более.
Офицер поднял руку. «Фоер!» — подал команду младший чин в чёрной каске, ефрейтор или обер-ефрейтор.
И тотчас же тихо, совсем тихо затрещали выстрелы — синий дымок метнулся, стёртый через секунду дохнувшим в этот миг ветерком.
Все люди попадали в яму.
Сёма, вовсе не ощущая себя как живое существо, в этот миг никого не жалел. И отца не жалел, подумав только о том, что зря он тащил на себе золотые монеты и кольца, рассчитывая на подкуп. Эти вершители высшей воли были неподкупны, потому что никого не обыскали, не взяли ни новой обуви, ни новой одежды.
Оставшиеся люди вдруг закричали. Это был прощальный вопль ужаса и покорности. Человек с носовым платком на голове, сумевший как-то пристроиться к старикам и детям, теперь потрясал воздетыми вверх руками. Бабушки Фриды нигде не было видно, так что у Сёмы мелькнула мысль, что ей как-либо удалось скрыться.
Позднее Фома Петрович рассказал ему, что иные из евреев попрыгали в яму ещё до выстрелов. В их числе, наверно, была и бабушка Фрида: она шагнула навстречу вечности, видимо, усомнившись в том, что имеет право на защиту Бога.
Но и остальных людей, парализованных страхом и отчаянием, тотчас привели в движение, подняв собак, почуявших кровь и бесновавшихся. Эти люди встали уже как попало, сцепившись руками со своими детьми.
— Сволочи, — громко сказал Фома Петрович, когда автоматчики снова пустили в ход оружие.
— Может, кто-то спасётся? — спросил Сёма.
— Нет, — ответил Фома Петрович, неотрывно глядя на злодеяние. — Когда зароют, все задохнутся. И кто выползет, жить всё равно уже не будет. Есть закон общей могилы.
Сёма не понял. И до сих пор не знает, что это такое — «закон общей могилы». Но постоянно помнит о том, что такой закон существует.
Русская колонна потрясённо молчала.
Офицер, заложив руки за спину, поднял голову. В голосе его не было ни раскаяния, ни торопливого стремления убедить в своей правоте.
— На всех языках мира произносят мудрость, которая открывается человеку одной из первых: не рой другому могилы, чтобы не попасть в неё самому. Всё, что совершилось сейчас, и есть подтверждение этой древней заповеди. Каждый народ долженсражаться за свою свободу и независимость. Каждый народ должен быть справедливым и верить в справедливость для всех. Если народ грабит чужое, если угодничает, теряет достоинство, проявляет малодушие, такому народу нет места на земле. Еслинарод исповедует интернационал, установку плебеев, дегенератов и люмпенов, скрывающую чужую диктатуру, он неминуемо гибнет, как всякий слепец, безногий и безъязыкий безумец. И это справедливо. Вы, русские, показали ещё раз, что вы не достойны своих великих предков. Вы юдовизированы пропагандой. Бесперспективен и мрачен ваш путь отныне!.. И вот последнее моё слово, я не намерен повторять его дважды: берите лопаты, зарывайте могилу и ступайте на все четыре стороны, унося свойпозор и память о величии германского духа!
Он повернулся и легко поднялся в кабину грузовика.
— Давай, мужики, а то ведь расстреляют — и за что? — призвал кто-то. — Похоронить убитого — долг живого!
И колонна пришла в неторопливое движение, и её молчание было протестом, и он был сильнее крика.
— Останешься здесь, — строго приказал Фома Петрович Сёме. — Будешь мне за родного сына, пока будешь помнить этот урок!..
Он ушёл, а Сёма беззвучно рыдал, тревожась уже за Фому Петровича: а если он не вернётся? А если передумает? Да ведь и то могло случиться, что немцы узнали бы: вот, русский человек оставил живым еврейского мальчика, назвав его своим сыном…
Десятка полтора мужчин, закапывавших расстрелянных, видно, плохо делали свою работу. Немец в каске ходил среди людей и громко ругался, указывая пальцем. А потом заставил всех утаптывать сырую землю и даже для острастки дважды выстрелил поверх голов.
Очищенные лопаты аккуратно сложили в кузов. Автоматчики молча расселись по бортам, и грузовик, проехав вперёд ещё метров десять, развернулся и уехал. Сверкнули стёкла кабины, в которой сидел офицер, читая книгу.
Конвоиры вскинули на плечи карабины, построились и тяжело пошагали вслед за машиной, ничего не сказав, ничего не объяснив, а людская толпа, раздавленная происшествием, осталась на поле и рассыпалась тотчас, едва люди поняли, что они, действительно, свободны в своей несвободе побеждённых.
Фома Петрович взял за руку Сёму, и они побрели по дороге, держа путь в деревню, где у Фомы Петровича жил какой-то родственник.
Потрясение от пережитого вытекало из сёминого сердца ещё много лет — по капле. Сотни раз он возвращался к событию, растоптавшему его детство. Он не плакал об отце, не рыдал о бабушке Фриде — силился понять, в чём состояла правда и власть немецкого офицера.
Фома Петрович на всю жизнь остался для Сёмы примером великодушия и справедливости. Он не читал назиданий, не упрекал Сёму, когда Сёма допускал промашку, — личным примером показывал, как надо жить человеку с другими людьми. Он многое знал и многим интересовался — таким, что обычно ускользает от людей, не желающих обременяться и тем обедняющих свои будни.
Он усыновил Сёму, но фамилию оставил прежнюю — Цвик, так захотел Сёма, жалея потом, что из-за фамилии пришлось ему вынести множество неприятностей.
Старший сын Фомы Петровича — Никонор, которого Сёма ни разу не видел, погиб осенью 1944 года на территории Польши. Жена ещё в 41-м сгорела при бомбёжке. А младший сын стал крупным учёным-оборонщиком и работал под началом знаменитого академика Прохорова…
Сам Фома Петрович, учитель математики, посвятил всю свою жизнь школе и умер от сердечного приступа 23 марта 1979 года, когда Сёма, окончив Московский университет, работал уже в Москве. Суров был старик последние годы жизни, почему-то не отвечал даже на письма. Или их перехватывали? Сёма угодил в такой политический вертеп, что и это было вполне возможно.
Он приезжал хоронить приёмного отца и был поражён тому, сколько разных людей пришло проводить в последний путь этого скромного, честного и трудолюбивого человека. Правда, к Сёме люди отнеслись как-то настороженно. Он не понял причины, но, видимо, какая-то причина всё же была, он и сам иногда чувствовал какую-то свою вину, недостаточную душевность, что ли. Не отплатил он приёмном отцу тою же щедростью сердца. Но какая могла быть щедрость, если вся жизнь протекала так подло и жестоко?
Все еврейские дети, выраставшие в русских, белорусских, украинских, узбекских и других семьях, оставались евреями. Он, Сёма, может быть, один из немногих, кто сделал попытку понять и принять душу русского человека.
Не всё, не всё он исполнил. Но всё же, оказавшись в эпицентре заговора, пытался как-то остановить его кровавый маховик…
Во всех невежественных судьбах нет смысла
Сталин был, несомненно, провидцем.
Конечно, какие-то детали разговора я упустил, потому что непосредственный опыт моей жизни как бы не воспринимал их. Но после 1991 года, когда на поверхность, уже почти не скрываясь, высунулись действительные актёры всего мирового шоу, я восстановил по своим разрозненным записям и то, что осталось невостребованным, брошенным Иосифом Виссарионовичем в борозду моей мысли, но не ухоженным, не взращённым до спелых зёрен.
Судите сами. Воспроизвожу только сказанное и если домысливаю, делая логические связки, то лишь самую малость:
— После 9 мая 45-го года мир вступил в совершенно новую фазу. Элементами этой фазы была и атомная бомбардировка Японии, и создание Израиля, и объявление «холодной войны», и тотальная агрессия доллара… Создаётся новая среда мирового развития, которая может завершиться установлением всепланетной гегемонии представителей крупнейшего капитала и тайной ложи нового Интернационала, где представители славян, англосаксов, негров, арабов, индийцев и китайцев будут играть ещё более подчинённую роль, нежели в первом или втором интернационалах, иначе говоря, нулевую роль… Согласно материалам, добытым нашей разведкой, в перспективе 15–20 лет вся эта банда ставит на создание искусственного разума, полагая, что все события природной и общественной жизни представляют собой простейшие реакции «да — нет», только усложнённые обстоятельствами протекания реакций. Они ставят на то, что именно этот искусственный разум, колоссальная машина где-нибудь в Париже, Чикаго или Лондоне будет управлять жизнью и бытом унифицированных обществ с единым правом, единой валютой, единым анонимным руководством и тому подобное. Мир надежды и риска, добра и познания, поэзии и прозы, вдохновения и печали будет преобразован постепенно в тусклый и слепой мир монотонной функциональности, где пороки и добродетели будут уравнены и перемешаны, ложь станет неразличима от правды, истина научного эксперимента — от невежественной установки примитивизированного сознания, где потеряет всякий смысл извечное стремление к совершенству и знанию. Это будет страшный мир подневольных существ, разделённых на касты таким образом, чтобы они сами душили и пожирали друг друга…
Они этого достигнут при помощи террора и особой технологии развращения человеческого духа, подавления всех его высших проявлений. Кроме пропаганды, которую будут беспрерывно источать газеты, кино, радио, реклама, вся индустрия пустячных, амёбных развлечений, личность изменят при помощи особых ядов, — они будут названы новыми лекарствами, а также посредством уже опробированных на протяжении столетий средств подавления — алкоголизации, насаждения опиумной зависимости, разрушения семей через поощрение разврата и развитие проституции с её половыми расстройствами, умственной слабостью и роковыми заболеваниями. Народы будут запуганы полицейским террором, судебным произволом, неслыханным разгулом убийств, похищений людей и ограблений. Люди перестанут общаться даже с родственниками, потому что кругом будет мор — чума, холера и, возможно, новые роковые болезни, возбудителей которых создадут в ретортах специальных лабораторий. Все нации, постепенно мешаясь и исчезая в недрах единого рабского сословия, будут соревноваться за наибольшее благоволение нации господ, отделённых от прочего сброда не только законодательно, но и пространственно. На землю придёт неслыханный ещё «новый порядок» поголовного рабства, когда рабы будут «по желанию» умерщвляться по достижении 40–45 лет.
Это будет неизмеримо страшнее того, что планировала верхушка Третьего рейха, желая отомстить за годы унижений.
Вы спросите, смогут ли люди выдержать такой кошмар? Отвечу: смогут, потому что популяции рабов будут с детства приучаться к потреблению разного вида опиумных препаратов. Их приспособят к действительности, понижая претензии.
Самая плодотворная и миролюбивая римская цивилизация была сокрушена в основном за счет того, что верхушка общества погрязла в разврате и наркомании… Я располагаю историческими документами, проливающими свет на коварную машинерию опустошения и закабаления царств и народов.
Страшная сила мировых денег была установлена проходимцами задолго до того, как наиболее толковые из людей разобрались в причинах внезапных экономических бедствий. Кланы негодяев и грабителей чужого труда, сосредоточившие в тайных хранилищах огромные запасы золота и серебра, навязывали его через свою агентуру римской верхушке под такие высокие проценты, которые исключали гарантированный расчёт. Взамен ростовщики требовали беспрепятственного пересечения границ и сбыта любых товаров, права на покупку недвижимости и торговлю всеми лекарственными зельями Востока, в их число входили и наркотические средства. Они нигде не оговаривались, поэтому в обычных документах ушедших эпох упоминания об этом почти не встретишь. Но результат был налицо — треть римской знати, включая их семьи, была поражена недугом опиумной зависимости и стремительно вырождалась, не способная не только к управлению в сложнейшей политической обстановке, но и к простейшему воспроизводству семейных и общественных отношений.
Я передал документы об этом в наши исторические архивы. Но знаю, что за ними охотятся, их могут похитить или уничтожить, устроив пожар, затопление и тому подобное. Есть могучие силы, заинтересованные в том, чтобы скрыть правду истории.
Но и это ещё не всё. Основным средством порабощения обществ и их примитивизации, сбрасывания с достигнутых вершин развития намечается так называемая «перманентная гражданская война».
Лозунг выдвигался неоднократно ещё в дореволюционные годы одесскими «мыслителями», позднее Троцким, но в ознобе и обалдении тех разрушительных лет, я думаю, никто, за исключением посвященных, и не подозревал, что это значит.
Это старое, как мир, средство обуздания и парализации племён и народов. Их ввергают в нищету, вовлекая в реформы, в разорительные войны или навязывая правителей-прохиндеев, которые пропивают и прогуливают состояние народов, а затем натравливают друг на друга, внушая, что это естественный процесс борьбы за выживание самых сильных. Фактически идёт процесс совсем иного рода, поскольку он противоправно и преступно контролируется теми же шайками мировых ростовщиков. И в этой собачьей грызне и свалке торжествует не более сильный, не более умный, добрый и трудолюбивый, а более примитивный, более склонный к предательству интересов своих сородичей — торжествует негодяй, злодей, мошенник, низменное существо…
Такой средой легко управлять. Такую среду легко использовать против народного вождя, если вдруг волею небес он появится среди несчастных. Он будет сметён, и тем скорее, чем искреннее пожелает защитить попранные интересы и права несчастных.
У меня есть большое искушение — обнародовать все эти зловещие замыслы в отношении народов уже теперь, сегодня. То, что разоблачать мошенников придётся, это понятно. Это не только неизбежно, это единственная реальная предпосылка для успешной борьбы с мировым заговором.
Дело в том, что если мы будем только обороняться, мы обречены. Они нападают, а всякий нападающий в идейной борьбе расходует намного меньше сил и средств. Чтобы противостоять, мы должны задействовать силы и средства в 10–12 раз более значительные. Простой подсчёт потенциалов показывает, что в оборонительной борьбе мы не устоим. Все наши шансы заключаются в решительных атаках на международном уровне, иначе мы задохнемся от пропагандистского террора… Но это предполагает, что мы кругом должны быть умнее, честнее, дальновиднее, справедливей…
Сталин был прав. Он многое знал и потому многое предвидел. В самом деле, по всему миру создан необозримый механизм постоянного воздействия на обывателей в целях их примирения с господством «избранных». Посмотрите, «избранные» кругом уже внушили своё превосходство, и люди опасливо повторяют байки о необыкновенных талантах и сверхъестественных качествах ловкой братии, обмолачивающей на чужих полях свои урожаи.
Существуют технологии влияния, перед ними бессильны дезорганизованные люди.
Дело в том, что помимо житейских необходимостей, приказов начальства, юридических законов и т. п. действиями каждого человека управляет ещё и собственный «бог», которого в большинстве случаев мы устанавливаем как идеал, мечту, эталон счастья. Эта сфера настолько же индивидуальная, насколько и общая. Вот почему в любой стране господствует фактически тот, кто формирует в обществе образ мечты, счастья, идеала. А кто формирует? Денежная сволочь, господствующая в газетах, журналах, издательствах, на радио и телевидении…
Линия на сокрушение естественного, природного сознания не вчера родилась, как не вчера родились и паразитарные силы, обслуживающие эту линию. И что самое возмутительное: эти силы, будучи антиприродными, всемерно используют великий авторитет природы, нашей единственной Матери, чтобы сокрушить природного человека.
Напор масонских, «теософических» обществ особенно усиливался в смутные времена, поскольку в смутные времена больше несчастных, сорванных с привычной жизненной орбиты.
Начало XX века — подготовка и штурм России. Тут — пренаглейшая демагогическая риторика социалистов, Блаватская, Рерихи с действительными или вымышленными «тайнами» Тибета и Гималаев. Пустячковые идейки, закамуфлированные под великие прозрения мудрецов.
Затем подготовка к штурму и штурм СССР, который начал выкарабкиваться из пропасти «интернационализма» с его «научным» оккультизмом Маркса и целого шлейфа «теоретиков-последователей». Использование ущемлённости невежд. Спекуляции на суевериях. Умножение «чудес» и болтовни о трансцендентальном, т. е. запредельном, недоступном для обычного человека. «Снежные люди» как первая пощёчина официальной идеологии. Затем «таёжные люди Лыковы», «природная философия жизни». Экстрасенсы. Параллельные миры. Парапсихология. «Летающие тарелки». Мастера виртуального балагана — Джуна, Кашпировский, Чумак, Глоба… Внедрение виртуальных понятий в Политбюро ЦК КПСС…
Ловцы человеческих душ использовали колоссальные средства, чтобы затруднить и тем воспретить свободный интеллектуальный поиск, чтобы всякий, кто самостоятельно откроет ложь и внутреннюю мерзость «марксизма», закамуфлированную туманом «общего счастья для человечества», непременно сорвался бы в вонючую бочку оккультизма: «Открой в себе космический талант! Ощути себя Богом!..»
Конец XX века — штурм основных цитаделей мира. Создание глобалистской империи с мировым правительством. Начинают с «чуда», нейтрализующего умы. Придумывают всезнающую Анастасию, живущую в тайге. Тотчас же следуют «контактёры», «медиумы», «тёмные и светлые силы». Примиряют с реальной захватнической и будущей властью агрессора: «Откуда мы знаем? Может быть, этот изверг убивает мирового демона и творит добро, а ты думаешь, что распутный, одурманенный наркотиками сын убивает свою мать, чтобы овладеть её жилплощадью. Шире надо думать. Быстрее, иначе не увидишь бога, как спицы в колесе велосипеда…»
Шнель-шнель! Когда бегут ноги, останавливаются сложные мысли…
Примитивнейший бред успешно зомбирует слабых, лишённых стержня. Втискивают в придуманную действительность и там управляют личностью. И вот несчастные уже слышат «голоса» в себе и уповают на бессмертие…
Фарисеи и фарисействующие повсюду, посмеиваясь над дурачьём, повторяют: «Познай смысл жизни!» Но разве они заинтересованы в том, чтобы люди искали и находили верные ответы?
О, не всё так просто с этими лукавыми проповедниками! Одним они несут одно, другим — другое. Но если приглядеться, наглейшим образом обманывают и тех, и других.
«Живём всего раз, от всего укусить хочется, и свято это!» — внушают падшим. Они не противники пьянства и распутства, максимум, скажут, что не надо ударяться в крайности, прекрасно зная, что никто и никогда из совращенных меру не соблюдал и не соблюдает, особенно на русской земле, где беспредельны небеса и бездонны помойки.
Есть люди и другого сорта. Те воздействуют на публику уже похитрее, более сложными трюками — окуривают призывами к опрощению. «Внизу, у подножия жизни, вся её соль. Великий Толстой, поблуждав, сюда воротился! Ничего не отверг, принял целиком.»
Формально вроде бы так. Но в той системе миропредставления, которую надевают, как хомут, — убийственно для всякого народа.
Проповедуют: «Куда и для чего лететь? Чем выше поднимешься, тем больнее ударишься… Ищи не общего, но личного спасения. Ты спасёшься, значит, и другие спасутся, видя пример…»
А ведь подлость. И никакого спасения не будет, потому что призывают не познать действительный смысл человеческого мытарствования на земле, а примириться со всеми неправдами существования: «Бог видит, Бог знает, Бог допускает…»
Ни один из фарисеев и фарисействующих нарочно не скажет, что к опрощению тот же Лев Толстой шёл от высочайших вершин познания, — а мы откуда идём? Откуда фарисеи ведут несчастных?..
Сталин указал на совершенно новый, доступный каждому смысл человеческого существования, и впервые это был не обман в конфетной фольге, а суть горестного опыта:
«Не может человек прорваться к уяснению смысла своих дней, оставаясь на положении раба, закабалённого трудом и невзгодами, с камнем унизительного быта на шее. Кто бы он ни был, он обязан вначале подняться до уяснения самых высоких из доступных ему истин. Только свет знания подскажет необходимый ответ, а при невежестве повторяют невежественное. Вот, будто есть в каждой судьбе какой-то смысл и «все судьбы уравнены». Но если задуматься хорошенько и честно, никакого смысла нет и быть не может в невежественных судьбах. Их уравнивает только бессмысленность… Примириться со своим положением, восславить удел червя, зная, что твои истязатели только того и добиваются, — недостойно человека…»
И ещё — сокровенное от Сталина:
«Всё, о чём я говорил прежде, о чём думал, — от мрака обманутой души. Человек должен жизни по всем её направлениям. Он должен сознательно исполнять свой долг так же упорно, как его исполняют животные, движимые одними инстинктами.
Человек должен своим предкам и потомкам. Он должен продолжать род, сохранять и развивать культуру народа, обеспечивать свободу сородичей и соплеменников как от явного врага, подступающего с мечом, так и от врага тайного, подступающего с посулами «новой свободы», «новой демократии» и «новой правды».
Смысл бытия — пустышка, если исходить из индивидуального интереса. Это поиск и насыщение своего эгоизма, какие бы радужные одежды на него ни напялить. Нет, индивидуальный смысл бытия раскрывается только через коллективную драму исторической жизни народов…»
Сталинская позиция разбудила во мне представление о подлинной правде:
«Нашёптывают: не надо сражаться с врагами, потому что своей борьбой вы сплачиваете их, они используют борьбу для фальсификации мирового общественного мнения. Против вас может встать сила, с которой вы не справитесь!» И что же я ответил нашёптывателям? «Не жгите напрасно порох, у вас его и так мало… Если бы мои враги были сильнее, они бы раздавили меня, не мешкая. Если бы я мог спастись от врагов, спрятавшись от них, возможно, я бы спрятался. Но передо мной враги непримиримые, с ними бесполезны уже переговоры. Их надо обойти или сломить, если лезут на рожон, и призывать в свидетели народы, ибо в праведной битве мы отстаиваем интересы всех народов. В том и непобедимость Советского Союза, что мы не будем ни у кого спрашивать, как нам поступить в том или ином случае. Есть международное право, есть совесть, есть справедливость. Вот с ними, и только с ними мы будем советоваться!..»
Правящие сопляки, которые встали у руля событий после Сталина, не осилили сталинской мудрости…
Нет, русский человек, имея долги перед соотечественниками, у которых отнято будущее, долги перед народами, что прижимаются к России в надежде на защиту и покровительство, обязан, прежде всего, подтвердить свою принадлежность к русскому народу.
Это уже элементарно хотя бы из одного протеста — не пить, не курить, не сквернословить, беречься от наркотиков и СПИДа, создать из себя личность, чтобы любой из окружающих с уважением сказал: «Вот русский человек!» Знание, мастерство, умение, воля, смелость, высшая культура, а не канавоползание среди мата и потерянных рублей…
Ещё более важно: поддерживать истинно русских людей вокруг — помогать им, ибо истинно русский, получив положение, использует его в интересах всех народов, наполняющих русскую землю: поможет башкиру и татарину, украинцу и белорусу, марийцу и якуту, никого не обойдёт вниманием и признательностью.
Ещё более важно: заботясь об Истине и Справедливости как главных ценностях Русской земли, всячески препятствовать мрази во всех её делах, начинаниях и намерениях…
У русских нет тайного националистического союза, враждебного остальным народам. У других это есть — стремление действовать скопом в ущерб другому этносу. И потому солидарность русских людей есть сегодня высшее выражение их культуры. Не нужно выспренных речей и пафосных восклицаний: русский человек всегда должен иметь приоритет, если он борется за тот смысл бытия, о котором говорю.
Забота об общей морали, о молодёжи, о женщине, о стариках — тоже признаки личности, осознающей высокий смысл бытия.
Едва только русские люди почувствуют солидарность, в них вспыхнет национальная гордость, а вместе с нею смелость и мужество. Смелость и мужество будут тем выше, чем выше будет взаимная поддержка русских людей. А следом придут великодушие и мудрость — доверчивость и равнодушие должны быть навсегда вырваны с корнем как проклятие вчерашнего русского характера, изменившегося от насилий и постоянной брехни плюгавых комиссаров.
Наконец, есть высшее, что венчает мудрого русского человека: умение найти, распознать и благодарно выслушать своего пророка. А пророк, проживший жизнь, полную исканий и борьбы, славит общину как единственную форму жизнедействия, способную спасти и уберечь народы в наступившую эпоху глобализма, когда враги шумно спекулируют на общих потребностях, чтобы протащить свои эгоистические замыслы и внезапным вероломным ударом покончить со всеми возможными соперниками…
Нет-нет, до Сталина нам ещё не подняться! И как примитивен и жалок доморощенный «умник», пытающийся отыскать смысл жизни среди грядок капусты и под юбкой дебёлой соседки!
Грозная эпоха требует от нас многого из того, о чём и не догадывались наши отцы и деды. Но они исполнили долг. И исполняли его до той поры, пока не выявилось, что ими правят не их вера, не их боги, не их вожди, не их интересы…
Мы обязаны достойно выйти из полосы обманов и насилий, чтобы собрать силы для боя, в котором мы одержим победу… Жить в духовной кабале, в смердящих котухах чужеземных предписаний русский вольный гений не станет… Не станет и настоящий американец, и настоящий немец, и настоящий француз…
Люди, в конце концов, поймут, что их заклятый враг силён только потому, что пользуется их слепой силой, что он богат их бесконечным трудом, умён — чужими умами и преобладает постольку, поскольку организован и выполняет единую волю. И когда это поймут добрые люди, они не пожалеют ни своих сил, ни своих сбережений, ни своих домов и ни своих домочадцев — всё принесут на алтарь умного и сплочённого сопротивления. И только так победят, потому что Дьявол уже запланировал свою полную победу…
Много возмутительной чепухи нагорожено относительно прав и взаимодействия этносов. У меня своя точка зрения на отношения евреев и русских, евреев и прочих народов, но что толку излагать её: слушатель, как правило, ещё не подготовлен для уяснения этого сложнейшего вопроса общечеловеческой истории.
Евреи всегда хотели господствовать и для того ссылались на своё якобы униженное положение. Но в нынешние времена, когда евреи встали во главе нового Интернационала, укоренённого уже на западной почве (= глобализм), их стремление к мировому господству приобретает характер смертельного вызова, потому что еврейский характер и еврейская вера не знают разумных ограничений. Приверженные силе (власти денег, положения, тайных интриг), они признают только силу. Они способны искать только для себя, найти для других они не могут, что подтверждают бесконечные скандалы и распри на Ближнем Востоке, повсюду, где действуют «более умные»…
Им нет сегодня противостоящей, сдерживающей силы — отсюда все трагедии последнего времени. Они не терпят общего регулирования, общей очереди и тем наносят ущерб и себе, и окружающим.
XXI век удивит нас событиями, которые изменят в корне многие нынешние представления. Решать еврейский (равно как и любой другой) «вопрос» одними логическими аргументами и призывами, к сожалению, нельзя. Продвинуться от взаимных претензий к реальному способу равноправного сосуществования — по разные стороны от барьера — тут тоже нужна своя технология.
На неё указал И.Сталин в своём «Завещании»:
«Не надо бороться: мы можем жить порознь, каждый — со своим уставом, обмениваясь плодами своих трудов без дискриминации. Это очень демократический, очень мирный принцип».
Бесконечно жалею, что не записывал всех мыслей Иосифа Виссарионовича в тот же день, как услыхал их. Мне выпал неповторимый шанс, но в присутствии Сталина жизнь казалась вечной. Вот даже и умереть по мановению его руки было ничуть не страшно, ибо и смерть в его присутствии, с его именем на устах, как бы только продлевала саму жизнь. Сталин воспринимался мною как вершина человеческой сути, и это была действительно вершина.
Он вырос в человека грандиозных замыслов и, конечно, чрезвычайных знаний. И, наверное, главной его трудностью было то, что именно сказать, чтобы не перегрузить психику собеседника. Он отличался точностью мысли, её трудно воспроизвести на бумаге. Но, вместе с тем, он допускал и юмор, и сарказм, и иронию, не пытаясь давить на слушателя, если даже видел его несогласие.
«Приобретение истины — это не выдача зарплаты, когда можно пересчитать полученное и расписаться. Ты часто даже не знаешь, получил ты, или тебя обобрали, и пересчитать ничего невозможно… Отчего у каждой твари два глаза? А это указание природы: нет однозначной истины, истина всегда двойственна. То есть, ты можешь искать и находить определённые решения, но твой успех не будет гарантированным. От каждой дороги начинаются свои ответвления.
Есть индивидуальное сознание, есть идеал, вырабатываемый этим сознанием как конечная цель причин и следствий. Он и кажется истиной, а науки всегда очень мало, несмотря на горы книг, называемых «научными».
Но есть опыт истории — это правдивая наука. И я открыл её на старости лет и собираюсь ей посвятить оставшиеся годы. Но читать опыт истории так же сложно, как записки сумасшедшего. Хотя и другое очевидно: едва умирает гений, человечество тут же откатывается в пучину мрака.
Оно выберется, конечно, но только при помощи нового гения, который побудит людей назвать открытия предшествующего гения аксиомами.
И снова подъём и — падение. Волнообразное движение, которое знает лишь приливы и отливы…»
Разве это не верно?
Вся история была мистифицирована в интересах агрессивного диссидентства. В хитрых калькуляциях были скрыты главные факторы дестабилизации и социальной агрессии — организованные в национальный клан паразиты, использующие обман, капитал и связи для расширения свой власти.
«Основное противоречие» между трудом и капиталом — умозрительная категория. Ибо труд есть создатель капитала, иначе говоря, накопленного труда, участвующего в его воспроизводстве. Основное противоречие было и осталось между мирно пасущимся стадом и хищниками, которые хотят свежего мяса и шкур для устройства своих лежанок, между теми, кто служит вечности, и теми, кто жадно и за чужой счёт ищет личного бессмертия.
Некоторые ещё сомневаются в том, чего добивается вся эта свора, выдающая пожирателей полей за пламенных устроителей нового мира. Апологет интернационального террора К.Маркс в письме Ф.Зорге в 1880 году признавал: «В России… наш успех ещё значительнее. Мы там имеем… центральный комитет террористов…»
А вот другой «гений» обмана — Лейба Троцкий: «Надо выдвинуть лозунг революционного уничтожения национального государства»…
Вот так, все нынешние «современные идеи», оказывается, давно уже испытаны в России — горы трупов безвинных людей оставили они!..
Общество до сих пор крайне нерационально использует силы и ресурсы. И так будет, пока не восторжествуют совсем иные принципы построения общества.
Известно, что СССР только на борьбу с холодом тратил на 20 % больше своего национального богатства, нежели США: имеются в виду конструкции домов, коммуникаций, отопление, повышенная калорийность пищи, одежда и т. п., включая чистку дорог от льда и снега. 20 % — это как раз те деньги, которые могли решить всё…
Даже наша специальная лаборатория, по горло занятая совсем иными проблемами, походя составила десятки проектов, на миллиарды рублей сокращающих расходы народного хозяйства — при условии их внедрения. Взять хотя бы совершенно новую конструкцию дорог Николая Михайловича Мальцева — они не требуют для обслуживания никакой специальной техники. Чистка дорожного покрытия после снегопадов производится любым транспортным средством, которое первым отправляется в дорогу. Ответственные за участок дороги легко навешивают чиститель новой конструкции. Снег остаётся по обеим сторонам дороги и в центре её, а с приходом тёплых дней талая вода по специальным трубам отводится для сброса.
Кто этим заинтересовался?
Не каждый понимает меня, когда я говорю о сверхзнании. Для многих это несуществующее понятие, потому что оно не дано им в их личном опыте.
Сверхзнание — это вовсе не какое-то чрезвычайное знание, которое на порядок превосходит всякое другое. Такая точка зрения — чепуха, потому что знание — это всегда знание, которому противостояло и противостоит одно — невежество.
Сверхзнание — это особая система обычных знаний, при которой мы освобождаемся от шаблонов, такая степень общего знания, когда как бы открывается «второе дыхание интеллекта» и человек легко синтезирует сложнейшие новые понятия — делает самостоятельные открытия. Это как бы полёт, тогда как обычное состояние мыслящего человека — только взмахи крыльев.
Сверхзнание доступно всем, кто накапливает знания в соответствии с верным представлением о мире, — тогда они начинают менять своё качество.
Вполне представляя себе совершенное общество, о котором мир ещё ничего не знает, я связываю его со сверхзнанием. В совершенном обществе сверхзнание станет практически нормой, и развитие пойдёт весьма ускоренными шагами.
Но какое развитие? Средства обороны — одно. Техника, реально меняющая положение производителя на рынках, — другое. Но техника, загромождающая быт, создающая комфорт там, где без него можно и нужно обойтись, — зачем? Понятия конкуренции и прибыли бесконечно устарели. Безотходность жизнеобеспечения, его сбалансированность с возможностями окружающей среды — вот что должно стать базой новой цивилизационной культуры.
Вся история человечества — история противостояния человека и античеловека. Прогрессу всегда соответствует регресс, и генетический код любого существа переживает атаки регресса. Вот откуда это яростное соперничество. Не спорю, это стимул. Но стимул, загоняющий в тупик всё развитие.
Гармоничная человеческая община должна дать простор новому аспекту прогресса — технологиям максимального приближения индивидуальной жизни к естественным природным процессам. Вместо преимущественного обслуживания тела она должна преимущественно обслуживать душу. Предстоят гигантские перемены в нравах и обычаях. Культура жилища, одежды, обуви, питания, отношений, обучения, воспитания, труда и т. п. — всё это должно постепенно претерпеть существенные перемены. Прогресс — это именно то, что не отдаляет человека от его природы, но выявляет в нём нашу общую природу. При таком понимании прогресса прогрессировал ли человек вообще?
Люди никогда не смогут серьёзно заняться своей коллективной судьбой, пока не разрешат удовлетворительно проблему рационального построения первичной социальной ячейки. Одновременно встанет вопрос политического регулирования, без чего нельзя повысить качественные параметры. Планирование семьи и проблемы генетического здоровья — проблемы, решение которых потребует столетий.
Совершенное общество неизбежно придёт к открытию пределов национального производства и даже пределов совершенства, т. е. той границы, за которой наступают нарушения природной гармонии, повышается опасность мутаций.
Как и во всём ином, мы убедимся и здесь, что человеку нужно гораздо меньше того, о чём обычно говорят. Пока человек остаётся в поле влияния вырождающихся особей, он проявляет себя как паразит, потребляющий гораздо больше того, что создаёт.
Но и сами критерии создания и разрушения ещё подлежат уточнению. Пока же мы наблюдаем мировых разрушителей, которые ставят на клановую солидарность, анонимную власть денег, демагогию и грубое насилие. Они добили мир до ручки, довели его до роковой черты, и теперь мы, естественно, обязаны отреагировать таким образом, чтобы разрушители ни в одном из обществ не получили преобладания…
Все эти мысли навеяны монологами Сталина. Он ожидал огромных перемен в морали, был уверен, что значение морали будет расти по мере того, как будет расширяться число людей, готовых опираться на эту мораль. Он считал, что всё искусство станет служить борьбе с вырождением и невежеством, ложью и насилием, ныне она безрезультатна именно потому, что не ведёт к радикальным изменениям жизни человеческой общины, вырабатывает «мудрость» половинчатую и сомнительную. Не политики-диктаторы будут экспериментировать над беспомощными народами, а талантливые пророки будут проигрывать в своих произведениях все необходимые реформы, тогда как учёные подвергнут их анализу в качестве реальных продуктов человеческого творчества…
Сталин верил в СССР и надеялся строить на его фундаменте. Увы, мы позволили разрушить СССР так, что уже нет и фундамента…
Но разве мудрость принципиально теряет своё значение среди идиотов?..
Живая похоть
«Совместима ли мораль и антимораль?» Глупый вопрос, кто его придумал?
Борух Давидович считает, что мораль — это то, что выгодно. И если выгодна антимораль, безусловно, моральна и она…
Однажды он увидел, как совокуплялись его родители. Он впервые увидел это, и его захлестнуло желание сделать то же самое со своей двоюродной сестрой Бэлой, которая жила в их доме.
Но сколько он ни приставал к ней, делая намёки, она не реагировала. А однажды, хлопнув ладошкой по его возбуждённому корню, сказала: «О, ты уже можешь зарабатывать деньги. Сходи к тёте Хае, она даёт полтинник за такие штуки!»
Тётя Хая жила этажом ниже, у неё был парализованный муж. Но она была такая морщинистая и от неё так воняло кошками, что пропадало всякое желание. Хотя он не раз вертелся возле нее, когда она вешала во дворе бельё. Она поднималась на цыпочки, и в разрезе её халата мелькало голубовато-белое тело, правда, напоминавшее ему холодную курицу.
Может быть, он и решился бы предложить тёте Хае свои услуги, как это делал его приятель и однокашник Ефим, но как раз в то время он пережил новое потрясение: увидел, как его отец проделывает с Бэлой на постели матери то же самое, что и с матерью.
И он вывел для себя, что половые связи ничем не регулируются и никакой святости ни в чём не содержат.
Он даже прослезился от злости и обиды, увидев на следующий день, как толстозадая Бэла, листая «Огонёк», запихивала себе в маленький пухлый рот плитку шоколада: он подозревал о происхождении этой награды.
В ту ночь мать снова отсутствовала, и он напряжённо караулил, когда мимо прошмыгнёт Бэла и он по звукам восстановит картину того, что происходит в родительской спальне, но Бэла всё не шла. Он фантазировал, что сам пойдёт к ней и в этом благостном ожидании крепко заснул.
И приснилось ему, что он стал властелином в семье. Отец куда-то пропал, и он, Борух, остался единственным мужчиной на всех женщин семьи — мать и юницу Бэлу, шестиклассницу, дочь отцова брата, посаженного за хищения государственного имущества свирепым сталинским режимом.
И вот он делал то же самое, что прежде делал отец: ложился то с матерью, то с Бэлой, и они приходили во тьме и уходили во тьме, а утром все только посмеивались, жевали свой шоколад и молчали, ожидая грядущей ночи.
Утром он проснулся от скрипов и хлюпающих звуков и понял, что Бэла снова развлекается с его отцом, неказистым, плюгавым и неопрятным человеком, но большим нахалом по женской части. Вот и с вонючей Хаей он совокуплялся не раз, по каковой причине в доме происходили шумные скандалы. Мать обкручивала голову мокрым полотенцем и, охая, с укором повторяла: «Я ещё понимаю, если бы ты за эти шуньки приносил домой деньги, но ты же купил ей шёлковый бюстгальтер, что она там может прятать, кроме сберкнижки больного мужа?..»
События того привольного времени сдвинули мозги набекрень: казалось, что все вокруг только и занимаются совокуплением: мухи и куры во дворе, люди, которые в этом случае не признают ни возраста, ни степени родства.
Это было, конечно, заблуждением, когда берутся рассматривать жизнь только с одной стороны. Некоторые пьют, и им кажется, что настоящая жизнь — это когда всё во хмелю. Другие, как его отец, озабочены только тем, чтобы провернуть какую-либо аферу и получить «навар». Ещё другие пекутся о собственном здоровье и больше всего боятся труда и ответственности.
Это уже потом, когда кое-что прояснилось само собой, он услыхал от дяди по матери Бенедикта Соломоновича, что «одностороннее восприятие мира есть добровольное погружение человека в чёрную колбу, из которой нет выхода». Бенедикт Соломонович важно добавил: «Все наши враги должны быть погружены в чёрную колбу, тогда нашему влиянию и нашей власти никто не сможет противостоять».
Жизнь показала, что у человека много ещё всяких необходимых функций, помимо совокупления. Но Борух Давидович так и не проникся пониманием приличия или неприличия. Для него вообще не существовало, например, такого понятия, как «растлённый». Он не понимал, как можно препятствовать тому, кто хочет самку. Нет самки — подойдёт всё то, что её заменит, точнее, выполнит простейшую функцию механического сношения.
До сих пор он гордится тем, что свою «первую женщину» поимел в пять лет. Их соседи, преподаватели каких-то «всероссийских пролетарских курсов», собрались на дачу и подкинули им дочку — семилетнюю Сару, — у неё болело ухо. Дома была одна бабушка, седая, сухая, как щука, полуоглохшая беженка из Польши. Она завалилась на свой диван, оставив детей играть в большой комнате.
Они играли, играли, а потом Сара шёпотом спросила:
— А ты хоть раз видел, как папа ложится на маму?
Борух смутился, потому что не раз подглядывал, слышал разные звуки, хотя ничего толком не видел.
— Не видел, — соврал он на всякий случай.
— А я видела. Давай поиграем в папу-маму, я тебя научу. Только нужно сначала закрыть дверь или пойти на балкон. Мой папа делает с мамой летом всегда на балконе. Они говорят, что смотрят звёзды, но делают это.
Убедившись, что бабушка спит, они зашли в комнату родителей Боруха, закрылись на крючок. Сара сняла трусы и легла на мамину кровать.
— Иди, я всё покажу…
Ему понравилось лежать на пухлой Саре и смотреть ей на шею, потому что он был меньше её ростом. На шее было чёрное родимое пятнышко. И от живота Сары пахло чем-то призывным, — это хотелось нюхать ещё и ещё.
Сара потом приходила ещё раз, а потом она уехала в другой город, где открылся университет, но Борух уже хорошо знал, как это делают, и бесстрашно подкрадывался к родительской комнате, едва там делали.
А потом двоюродный брат Веня из Одессы научил его онанизму. Борух и его родители жили в семье Вени два дня перед тем, как отправиться в Анапу, — дед Вени работал в одном из анапских санаториев главным врачом и доставал льготные путёвки всем родственникам и нужным знакомым.
Веня привёл его к грязному эмалированному баку в ванной и спросил:
— Хочешь понюхать, как пахнет женский орган?
И, покопавшись, достал из бака трусы своей старшей сестры. Борух понюхал и вспомнил про Сару и её живот. Он возбудился, и Веня показал ему, как это делают с помощью женских трусов.
Он уже знал, конечно, что самое важное в жизни — деньги. Его отец не раз повторял: «Если ты не можешь отнять, ты должен купить. Если евреи останутся без денег, жизнь человечества лишится всякого смысла. Деньги — вот первое сердце человека!..»
В Анапе Борух, он уже тогда перешёл во второй класс, сделал новое для себя открытие: все делают это и все прячутся друг от друга, но это признаётся всеми самым важным в жизни. После денег, конечно.
Как быстро улетело то время! Отца вскоре посадили в тюрьму. Дали двенадцать лет, но он вышел через год и вскоре опять стал руководить фабрикой, которая шила самые модные в Советской России шляпки — с английскими этикетками. Фабрика, конечно, была незаконной — нэпмановской, теневой, как выражаются теперь, этот бизнес, между прочим, и подготовил переворот в огромной, но бестолковой империи, управлявшейся одновременно из нескольких центров и потому не выполнявшей полной воли ни единого из них.
А мать постарела быстро, располнев несимметрично, раздавшись в плечах и ягодицах. Постоянные «процедуры», которые она принимала почти от всех знакомых и родственников, временами вызывали у Боруха неистовое желание прихлопнуть её, как муху, прямо на ложе случки.
«Похоть — это у меня от родителей», — думал он часто, не зная, хорошо это или плохо.
Однажды, это было в шестом классе, он решил овладеть своей матерью. Она стирала, а он с бьющимся сердцем и торчащим кверху стрючком хотел, ни слова не говоря, задрать ей халат и сделать то, что делал с нею однажды в той же ванной бородатый дядя Фима, компаньон отца.
Он уже решился, в голове помутилось — не было иного желания, как ощутить тепло большого живого тела, погрузившись в него.
Колыхались тяжёлые груди, мать была голой по пояс, он любовался ею, как зверь своей жертвой, думая о том, что если она его не отколотит, то и ночью он заберётся в родительскую кровать и будет лежать на матери, как на своей первой женщине — пухлой семилетней Саре.
Но мать о чём-то догадалась или заметила его в щель. Оставив бельё, она раскрыла дверь. Он стоял голый.
— Чего ты хочешь?
— Мама, я только разочек… Пожалуйста.
— Биндюжник, — она мыльной рукой дала ему лёгкую пощёчину. — Этого нельзя делать с матерью! От этого с ума сходят! Запомни: нельзя есть человечину и нельзя иметь сношения с матерью. Всё другое — можно.
Он чмокнул её в пухлую руку. Что-то невыразимое сидело в груди и сладко рвалось наружу.
— Весь дрожишь, — по-еврейски сказала она, ухмыляясь. И опять по-русски: — Пора искать тебе девку.
Он не понял, но внезапно стало так всё безразлично, что он разрыдался.
— Я всё расскажу отцу. Я видел, как ты с дядей Фимой!..
— Конечно, — прервала мать, — тебе ещё рано знать все эти фокусы. Если я и делала, и не только с Фимой, то это всё с согласия отца и даже по его настоянию. Всё это ради нашего благополучия. Ты думаешь, Фима помог достать нам американский патефон за твои красивые глазки? Или отец сам вышел из тюрьмы?.. Кто его вытащил из пекла?.. Замолчи об этом и больше никогда не встревай, не то оторву уши!.. Пионер нашёлся! В еврейских семьях случается всякое, но кто творит половой акт с матерью, тот уже не может встать выше этого мира — запомни это! В его мозгах заводятся черви!..
Через неделю у них в доме появилась Ида, смазливая худощавая женщина, что была, однако, как выяснилось потом, почти ровесницей матери, может даже, чуть старше. Мать сказала, что семья Иды и семья бабушки были соседями, когда жили в Виннице, Ида была её подругой, а отец Иды владел семью винокуренными заводами на Украине, его не тронул даже гетман Скоропадский, но повесили махновцы. Всё это были гнусные антисемиты, и потому всех их расстреляли без суда, как только наши взяли крымский перешеек.
После такого разъяснения Борух, естественно, заинтересовался тётей Идой, которая работала в парикмахерской для богатых людей, делая маникюр — для рук и педикюр — для ног.
Эта Ида и предопределила, возможно, всю его последующую судьбу.
Теперь он не сомневается, что Иду «организовала» для него мать. Возможно, за большие деньги. Возможно, даже выдумала всё про Винницу и про махновцев-антисемитов.
Борух ходил в школу во вторую смену. Ида появлялась утром и присматривала за Борухом и его младшим братом Арончиком, пока мать уходила за покупками на базар.
От Иды пахло духами, как от какой-нибудь знаменитой артистки, голос у неё был мягкий, глаза насмешливые. Приходя всякий раз, когда отца уже не было дома, она всякий раз переодевалась в пёстрый халат из персидской сусы. Борух быстро заметил, что под халатом у Иды нет даже трусов, и это открытие очень повлияло на его отношение к ней: он только и думал о том, чтобы увидеть Иду голой.
С уроками у него не клеилось и раньше: ему была совершенно безразлична вся эта муть, особенно про революцию и большевистскую партию, в доме у них говорили о революции и о власти совершенно иное, и он знал, что если скажет об этом в классе, то арестуют всю их семью, и потому воспринимал как наказание все предметы: думаем одно — рассказываем другое.
Чуть только он обрастал двойками, к директору школы отправлялся отец. Они говорили вполголоса по-еврейски, отец оставлял на столе у директора большой газетный свёрток, и после этого Боруху «натягивали» оценки и по русскому языку, и по математике, и по истории.
— Конечно, оболтус. Ну, и ладно, — временами вслух рассуждал подвыпивший отец. — Я куплю Боруху любой диплом, слава богу, всюду свои люди, и товарищу Сталину только кажется, что он управляет. Ему делают эту уступку, пока он тащит, как коренной, и не кусает пристяжных в нашем всемирном тарантасе. Скоро я приобщу Боруха к настоящей науке жизни. И тут он покажет, чего стоит. Я думаю, он переплюнет всех. Он хитёр и настойчив в главном — добивается чужого, как своего.
— Размазня, — лениво возражала мать. — Эти Вани и Пети, кухаркины дети, дали ему в морду, а он с ними дружит.
— До поры до времени, — оспаривал, жестикулируя, отец. — но если он окажется выкидышем, я его собственноручно утоплю в уборной…
Борух слышал эти речи и понимал, что у него есть долг — долг рождения, долг семьи, который вскоре нужно будет выполнить. И главное для того, чтобы восторжествовать, чтобы утвердить своё превосходство, — это не трепать языком лишнего.
— Язык кормит еврея, но язык и губит всё еврейское дело, — неустанно повторял отец. — Мы сделали эту «русскую революцию» и мы должны получить свою комиссию. А если нас лишат наших прав, мы вновь устроим в этой Дурляндии, в этой Педерации распри, тьму и нескончаемый голод. О, они не знают, что такое сила денег и власть ненависти!..
Отец неспроста говорил такое, — люди, с которыми он общался, и были самыми великими людьми в советской стране, признавалось это официально или не признавалось, это не имело уже никакого значения. Здесь, в Советском Союзе, созидался Великий Израиль. Никто не мог показать его на карте, никто не мог назвать руководителей этого Великого Израиля, их настоящей Родины, но Борух знал, что всегда должен именно этому государству, и был готов — когда-нибудь потом — совершить свои подвиги, подражая Давиду или даже Моисею, о котором временами вслух читала мать.
Но прилюдно обо всём этом не говорилось. Прилюдно протекала совсем иная жизнь, и Борух постепенно приучился к постоянному лицедейству: «Здравствуйте вам!» в лицо и «Чтоб ты в дерьмо попал!» — в спину. Вот ведь и отец, когда в стране поднялся энтузиазм социалистического строительства, определился в какое-то советское учреждение, выправив себе нужные бумаги, но целыми днями работал на другой работе. Он получал свою зарплату, балагурил с сослуживцами, состоял в партячейке и даже был её активистом, пел в самодеятельном хоре, но одновременно платил заместителю директора своей конторы суммы, намного превышавшие его зарплату. За это в ведомости по каким-то особым сметам включалась мать-домохозяйка. Разумеется, её зарплату получали совсем другие люди.
Эту проклятую раздвоенность между показухой и сутью с досадой и тревогой Борух находил во всех школьных учебниках. Его однокашники зубрили формулы и стихи, а он насмешливо думал о них, что они полные дурни и забивают свои мозги навозом, как сошедшие с ума пчёлы, которые вдруг стали в изобилии носить в соты не нектар с цветов, а крупицы дерьма из ближайшей помойки. «Пролетарии, соединяясь, должны увеличивать наши капиталы», — это были слова одного из приятелей отца. Борух услыхал их, запомнил и сделал как бы сутью своей личной философии.
Впрочем, может быть, тогда, когда в его судьбе появилась Ида, он ещё не рассуждал в таких категориях, воспоминания о прошлом многое смещают и меняют местами. Как мы субъективны в оценках действительности, так же субъективны и в восприятии прошлого.
Учебники стали из нежеланных просто ненавистными. Борух садился за стол, раскрывал нужную страницу, по сто раз перечитывал условие задачи или какое-то правило и не понимал слов: какая-то каша. Его ноздри ловили запахи от тёти Иды, ступавшей по комнате почти бесшумно в жёлтых английских штиблетах. Он думал о том, как она выглядит без халата и без трусов, и хотел услышать, молчит она или стонет, как мать, когда делает…
Однажды, это было в третий или четвёртый приход, тётя Ида подошла к нему и мягко опустилась возле его коленей.
— Ну, что там у тебя не получается? Давай посмотрим вместе на диктатуру пролетариата…
Он млел, чувствуя тепло её ляжек и чуя телесный запах женщины, вплетавшийся в запахи духов и даже перебивавший их.
— Посмотри-ка, — она вдруг с улыбкой потрогала рукой его возбуждённый член под домашними шароварами. — Неужели ты уже созрел для половых сношений?.. Хочешь погрузиться в меня?
Так прямо и сказала, и сердце его заколотилось:
— Я люблю вас, тётя Ида! — Ему хотелось рыдать от счастья.
— Ну, зачем же тётя? Просто — Ида. Борух и Ида. Мы можем быть друзьями, не правда ли?.. Знаешь ли ты, что такое сперма, эрекция и коитус? Арон уснул, и я тебе расскажу и покажу…
Она встала и распахнула халат. Он обомлел. Она понудила его дотронуться лбом и носом до стриженного лобка. От него пахло точно так же, как от сариного.
— Когда происходит акт, он заканчивается извержением семени. Человеческую жизнь можно измерять добытыми деньгами, прожитыми годами, поверженными врагами, написанными книгами, построенными дворцами. Но самое простейшее измерение человеческой жизни — число семяизвержений в желанное лоно…
Вся жизнь с той роковой минуты сделалась для него числом семяизвержений и суммами необходимых для этого денег, потому что желанное лоно нужно было либо оплатить, либо поместить в приемлемые условия, а это тоже требовало расходов. Коитус и гелд — это сделалось его девизом, и мало кто знает, отчего самый любимый его перстень венчает монограмма — КИГ, где «и» означает Ида, богиня, распахнувшая перед ним ворота в тревожную, бесконечную и… пустую жизнь секса.
Но тогда он только смотрел, стесняясь своей возбуждённости и притворяясь скромным, чтобы ничем не омрачить игривого настроения женщины, которая вполне могла быть его бабушкой.
— Мне нравятся такие мальчики, — сказала Ида. — Пойдём, попробуешь, что это такое.
Она сбросила халат и легла на кровать матери. Борух сразу же заполз к ногам женщины, согласный исполнить любые её желания.
— Сначала ты должен поцеловать всё это, — она указала на сосцы небольших вялых грудей, распавшихся по обе стороны. И языком — вот здесь… У тебя крошечный пенис, и потому ты должен манипулировать всем, что имеешь…
Он был в ознобе и ничего не понимал, кроме того, что допущен в рай.
— Спокойнее, смелее, — командовала она, прикрыв глаза и, видимо, возбуждая себя.
— А теперь можно, тётя Ида?
— Просто Ида… Повторяй все буквы алфавита: алеф, бет, вет, гимел, далет, хей, вав, заин, хет, тет… Когда дойдёшь до самех, я помогу тебе. Но если собьёшься, тебе придётся повторять всё сначала.
Он сделал по её слову и при счёте самех она пальцем помогла ему. Едва почувствовав её лоно, он испустил семя.
— Обсопливелся, — засмеялась она. — Ничего, в следующий раз войдёшь при счёте син или тав. Твой отец заплатил мне большие деньги, чтобы ты отстал от матери и не лез к ней под юбку. Сотворив с матерью, ты уже потеряешь вкус ко всякой иной женщине, у тебя произойдёт умопомрачение… А потом она легла на него, опираясь о кровать локтями, и тёрлась лобком о его живот и трогала всё губами до тех пор, пока он вновь не «обсопливелся».
— Сеанс окончен, — после этого строго сказала она, легко встав и вновь накинув халат — Ты влюбился в меня и пойдёшь за мной хоть на край земли. Правильно я говорю?
— Я влюбился в тебя и пойду за тобой хоть на край земли, — восхищённо повторил Борух.
— Тогда слушай, мой маленький пёс. В четверг после уроков ты придёшь ко мне домой, и я научу тебя делать то же самое в задний проход.
— Зачем это? — спросил Борух, беспокоясь, что больше не увидит Иду.
— Видишь ли, то, что делали мы, это обычно делают равные люди. Но на твоём пути будет ещё много пролетарских самок этой страны. Как еврей, ты обязан завершить коитус своим ритуальным торжеством — семяизвержением в задний проход… Эти иноверцы — они все животные, а животных используют только со спины…
В четверг он встретил Иду — она ожидала возле школы и за руку повела к себе домой.
Её дом находился совсем неподалёку — в десяти минутах ходьбы от школы. Она занимала просторную трёхкомнатную квартиру, в которой были прописаны все её родственники, жившие в другом городе.
Едва они вошли в дом, Ида раздела его, сняв и пионерский галстук, и рубашку, и трусы. И — новая наука обволокла его сознание одурью вседозволенности, таинственностью и, действительно, особым чувством связи. Ида командовала им, но приноравливалась уже к тому, что он мог.
Когда они сели пить чай, разогретый на примусе в коридоре, Ида сказала:
— А теперь ты сделаешь так. В субботу приведёшь сюда к пяти часам вечера четверых своих приятелей. Самых лучших из учеников. Отличников. Среди них не должно быть ни одного еврея.
— Зачем это?
— Не спрашивай. Ты ещё слишком мал, чтобы понимать в больших вопросах. Каждому скажешь так: «Давайте сходим к одной красивой женщине, которая бесплатно позволит лечь на себя». Возьми с каждого слово. После того, как они побывают здесь, они уже никогда не выдадут тайны. Это всё многократно проверено… Можно пить похоть, но закусывать похотью нельзя. Не знающий этого — обречён.
— И что же, Ида, ты позволишь им сделать то, что делали мы вместе с тобой? — испугался Борух.
Она посмотрела как бы сквозь стену. Он впервые тогда увидел, какие у неё ледяные глаза.
— Не ревнуй, мой пёсик. Я кое-что им, конечно, позволю. После этого они уже не смогут жить легко и просто, светло и понятно. Их мир сместится в роковую могилу дюжины букв, означающих бесплодность всех их усилий. Они лишатся девственности своего природного мира. Их мир потеряет спокойствие и станет сплошной жаждой совокупления. Пролетарии всех стран должны совокупляться в полном невежестве и скотской грубости. Тогда мы будем купаться в крови и сперме своих врагов, постоянно торжествуя. Ты же видишь, что делает Гитлер в Германии? Если его не задушить, он поднимет против евреев весь мир… Душить Гитлера положено здесь, в Эсэсэрс…
Она разделась догола и стала танцевать, хрипло при этом напевая:
Румба — хороший танец, румбу танцуют все, румбу привёз испанец, румбу — на корабле!..Дальше шла сплошная похабщина, и Борух весело смеялся, бегал на четвереньках и лаял звонко, как комнатная собачка…
Назавтра он привёл с собой четырёх лучших учеников класса, которых всегда ненавидел. Ему хотелось посмотреть, что сделает с ними Ида. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» получил внезапно новый, таинственный смысл.
Это было давно. Очень давно. Но он, как сегодня, видит ошеломлённые и растерянные глаза одноклассников.
Ида оголилась на глазах у мальчишек. Она показала каждому всё то, чем располагала, и заставила всех сходиться друг с другом в задний проход, обещая, что после этого они получат право сойтись и с ней.
Все подростки ошалели, впав в невменяемое состояние. Было видно, что порок сокрушил их слабую мораль.
Уже на следующий день Борух убедился, что они как бы совершенно потеряли свою прежнюю сущность, — притихли и не слушали учителя.
В течение месяца они сползли на тройки и двойки, зато каждую субботу ходили к Иде, и она рассказывала, посмеиваясь, что каждый из них передаёт ей идиотские записки с признаниями в горячей любви.
Учителя недоумевали, родители, вероятно, тоже встревожились, поскольку их дети стали приходить домой в подпитии: Ида угощала их водкой до и после своих сеансов. Она давала немного — рюмку, говоря, что иначе они «блеванут и потеряют к этому интерес».
— Веди других, — довольно говорила Ида, красуясь перед зеркалом. — Есть ещё отличники?
— Больше нет.
— Вот, видишь, было бы в тебе чуть больше ума, ты теперь легко сделался бы первым учеником класса и школы, но ты и сам весь устремлён на влагалище… Десять тысяч таких вот неприметных бардачков в этой стране могли бы упрочить наше преобладание, но наши недоумки почему-то всегда больше верили в демагогию, не умея устроить настоящего духовного погрома. Ёська их перешиб бескорыстием… Увы, пока мы в этом не Копенгаген. Если на Западе, где полно наших, поверят нам и раскроют перед нами все свои секреты, в дополнение к этим бардачкам мы непременно создадим ещё другие, типа «новейших сект», и наша роль в мире уже никем не будет оспариваться. Вот самое величайшее изобретение человеческого гения: превратить созидательный акт совокупления в разрушительный акт умопомрачения и смерти!.. Мы всех накроем женским пирожком, и Ёську в том числе!..
Он, Борух, тогда был ещё далёк от тонкостей большой политики и не понимал всего смысла идиных речей, хотя знал, конечно, что Сталин, опрокинувший Троцкого и его сторонников, является лютым врагом еврейской нации. Его отец, когда заходила речь о Сталине, корчил отвратительную рожу и брызгал слюной: «Что, суки, убедились? А я ещё в 25-м году всех предупреждал: «Никакой власти в чужие руки! Все они, нацмены, сговорятся, в конце концов, за наш счёт, потому что мы — истинные хозяева в стране!..»
Чего-то многоопытная Ида не учла, и грянул гром. Он, Борух, как раз установил, что она принимает школьников и сама. Он ревновал, понимая, что ревновать не имеет права, что подлинная любовь Иды, если она и существует, принадлежит чему-то иному…
Вскоре после Нового года повесился Морозов, а через месяц второй бывший отличник Темников попался на краже.
Темников был сыном крупного работника НКВД, и папаша сумел организовать и раскрутить дознание. Вскоре была арестована Ида, а его, Боруха, допрашивали прямо в школе — в кабинете директора.
Конечно, всё замяли: наши люди умели придать всякому делу, в котором фигурировали евреи, характер антипартийной выходки, покушения на интернационализм, национальной расправы, но всё же стало известно, что Ида — вовсе не Ида, а Дора Фогельсон, активнейшая троцкистка. В первые годы революции она работала в ЧК Ярославля, но была уволена по причине садистских издевательств над заключёнными. Это же смехота: как можно было сочувствовать белогвардейцам, которые бледнели от ярости уже только при слове о комиссарах?..
Эту весть огласила однажды мать, придя с базара, где встретила знакомую, имевшую доступ к секретам всего их захолустного городка:
— О Борух, ты чуть было не угодил в политические сольтисоны! Имей в виду, старая шлюха, что приходила к нам, — Ида, да, Ида, — её арестовали, нашли очень много золотых вещей, ей всё носили эти дети, которых она развращала. Ты понимаешь, чем это пахнет, на кого мы нарвались? Всем говори, что ты её не знаешь и никогда не видел. Лярва может ляпнуть, что через нас сбывала краденое. Они духарятся, пока им всё позволено, а после обливают грязью даже родную мать! Кстати, у неё сифилис, так что зайди к Шнейдеру, нашему соседу по старой квартире, я с ним уже договорилась!..
Шнейдер взял большие деньги за «профилактику». Борух являлся к нему раз десять, и, в конце концов, Шнейдер, сонный бездельник, соривший похабными анекдотами, заверил, что Борух спасён благодаря его искусству и дорогим закордонным лекарствам.
Борух не представлял себе, что это такое — сифилис, он больше досадовал, что прервана его половая гаврилиада. Но как-то так получилось, что он буквально в том же месяце связался с учительницей по черчению — Оксаной Петровной Гореглядовой. У них намечался даже роман, хотя Оксана Петровна была старше Боруха лет на тридцать.
Он пришёл к ней «на консультацию» в её каморку, помещавшуюся в пристройке к школьному зданию, и силой совершил с ней то, что совершал с Идой. Она поддалась, боясь криком привлечь соседей, живших за фанерной перегородкой.
Бедная женщина, ошеломлённая внезапностью приступа вроде бы дисциплинированного ученика, лишилась дара речи. Это было явное насилие. Но он знал, что теперь она будет помогать ему, особенно если станет завучем, и это было главное, что ему было нужно от её сухого, провяленного привычным аскетизмом тела.
Но Оксану Петровну завучем не сделали, и она сама призналась, по какой причине:
— Мой отец был священником в Екатеринославе… Его зарубили красные казаки…
Женщина была одинокий и несчастной, беженкой из-под Ленинграда. Но наглый похотливец, видимо, на свой лад утешил её. То, что произошло, и половым актом назвать было нельзя. Так, обмацал, общупал со всех сторон, бередя забытое, и испачкал ей рейтузы.
Зато, — он это помнит, хорошо помнит, — именно тогда у него появилось ликующее чувство, которое, верно, двигало и героической Идой: он ощущал себя властелином над этой русской бабой, дочерью православного священника, иначе говоря, зачуханного аборигена, не знавшего ни действительного Бога, ни настоящей веры. Потом он хотел взять Оксану Петровну со спины, но она не далась…
Он уже усвоил, что все отношения должны приносить прибыль. И каждый раз, когда он навещал стеснительную Оксану Петровну, пятнами красневшую при его появлении, он уходил домой с какой-либо старинной книгой или иконой. Оксана Петровна, опустив глаза, тихо говорила: «Вот, продай где-нибудь и купи себе мороженое или билет в кино…»
Он продавал и выгодно продавал, всякий раз скрывая выручку.
Однажды он высмотрел и положил к себе в портфель тёмную иконку в золотом окладе. Отец сказал Боруху, что эта иконка стоит больше, чем английский легковой автомобиль, картинка которого висела у них в уборной. «Надо только найти сведущего покупателя…»
Правда, когда Борух пришёл «на консультацию» в следующий раз и по привычке набросил на дверь крючок, Оксана Петровна, пунцовая от гнева, заикаясь, выпалила:
— Вон, паршивец, гнусный ублюдок, отпрыск дьявола! Чтоб и духу твоего никогда больше не было!..
Он был доволен финалом: у неё уже ни книг, ни икон не осталось…
На смертном одре
Сталин задыхался на полу в своей рабочей комнате. Он знал, что тяжёлую дверь заперли на ключ и уже не откроют. Такая жестокая, нестерпимо болючая правда является к людям лишь однажды, если является. К нему она явилась, как пробуждение в гробу под землёй…
Он не мог даже пошевелиться: его сразили, как зверя. Не пулей, боясь возмездия, а ядом, оружием трусов и негодяев.
Сдавленное со всех сторон сердце просилось на волю, хотелось глотка свежего воздуха, но дохнуть всей грудью он не мог: всё в груди болело, всё ныло, будто стальным прутом проткнули её насквозь.
Он тихо стонал временами, впадая в забытьё, но кого волновали эти стоны? Ещё вчера, когда он был здоров и силён, к его дыханию прислушивался весь мир, а теперь, может, и охрану нейтрализовали каким-либо подлым образом, может, перебили всех — экономил. Экономил даже на охране, на этих сетях сигнализации, думал: зачем? Построим лучше ещё одну школу, откроем ещё один завод… А оно, видишь, обернулось так, что был бы нужен и этот почасовой обход главного объекта охраны. Господи, разве всесильный может представить миг своего бессилия?..
Даже телефон ни разу не зазвонил: вывели линию из строя…
Сердце останавливалось, а потом вновь продолжало, захлебываясь, стучать. Но всё тише и глуше…
«С врагами играть нельзя, им надо обрывать жало и крылья», — прорывалась временами тоскливая наука. Он не сопротивлялся бесполезной уже мысли: да, конечно, врагов надо нейтрализовывать, потому что они одержимы жаждой мести и убийства: или ты — или они… Разве его подозрения не оправдались?..
Слишком, слишком он был великодушным. И теперь, когда он сокрушил военную машину Германии, злопыхательская, дирижируемая со стороны молва вновь начинает приписывать ему жестокость эпохи, о всех мерзостях которой, вероятно, в полной мере, знает только он один. Невозможно поверить, к каким коварным плутням прибегает враг, чтобы добиться поставленных целей…
Ему припишут вину за все жертвы и за все страдания и праведников, и негодяев — так было и будет, пока в мире действует подполье, упрямо и нагло считающее, что власть повсюду должна принадлежать избранному клану. Кем избранному? Для каких целей? Какой народ, трижды умывшийся кровью и потерявший половину своих сыновей, должен гнуть спину на тех, кто предъявляет претензии, ссылаясь на божью волю?..
Для того она и изобретена, эта воля, чтобы служить предлогом. И разве дело в евреях или в армянах, в цыганах или в крымских татарах? Всё это бедные заложники развращённых чудовищ… Все, кто прикрывает свою земную гнусность небесным авторитетом, совершают преступление…
Всему миру втемяшат, что он — причина всех несчастий, как уже было в конце 30-х, когда он решился спросить и за нескончаемые зверства в ЧК, и за наглый грабёж подследственных, и за дикие издевательства над их жёнами и детьми. Кому-кому, а уж ему, Сталину, хорошо известно: изуверы стремились как можно больше людей толкнуть под кровавые колёса репрессий, чтобы было кому поддержать будущий штурм сталинского авторитета, — ювелирная пакость, просчитанная до микронов…
Он никогда не опускался до политического крохоборства. Он был человеком чести, но это было бесполезно демонстрировать перед «товарищами», не знающими, что это такое. Однако, едва он получил реальную власть, его главными принципами сделались миролюбие, доброжелательность и снисхождение. При всей требовательности. Он был неумолим только тогда, когда иначе было никак нельзя… Он не признавал мести — месть всегда мелка и позорна…
Судьба лучше нас знает, куда повернуть. Что мы можем противопоставить судьбе, которая куётся всей историей, в том числе прошлым и будущим?..
Он верил в то, что милосердие действует сильнее, чем жестокость. Пули обрывали жизнь, но не обрывали линий зла. А пощада открывала сердца и несла новые урожаи. Он вырвал из клещей смерти тысячи, десятки тысяч: и партийных деятелей, и военачальников, и советских работников, и учёных, и писателей. И все они, почти все, даже имевшие за собой действительную вину, восторженно благодарили потом, искренне каясь в промахах или злых умыслах…
В письмах-признаниях клялись в вечной благодарности… Надо было своевременно опубликовать эти письма, тонны писем, как ему советовали, теперь их уничтожат, как и всё остальное, чтобы исказить правду…
Не успел… Какое страшное слово! Самое страшное из всех слов — «не успел»… Не успел, не успел, не успел!.. Из Казахстана ему написали о судьбах бывших белогвардейцев. Бесчисленные муки претерпели они… Гонимые подлыми и произвольными политическими ветрами, несчастные утеснялись ещё и негодяями, которых всегда полно на дне жизни… Использовать белогвардейскую эмиграцию против фанаберии партийных баев и террора космополитов? Возможно, возможно, потому что только белоэмигрантам досконально известна изнанка западной «добропорядочности» и повсеместный гнёт «Интернационала»…
Замышляют переворот… Хотят очернить Сталина, опрокинуть его славу, чтобы разрушить всю систему, — обычный трюк… И ни англичане, ни американцы ещё не знают, во что превратят их страны эти постоянно хныкающие и жалующиеся на рок «гении», сторонники «чистой демократии», она обещает наибольшие шансы для тех, кто опирается на связи и деньги… Их борьба за свободу — это борьба за абсолютную власть денег, иначе говоря, за диктатуру всемирных ростовщиков…
Умереть от рук холуев, лизавших руки? Примитивно, бездарно… Печёт-печёт сердце, боль в спине, невыносимая боль… Горечь запоздалого прозрения — вот что самое невыносимое…
Время имеет свет и цвет… Эпоха пронизана настроением… Столько жертв, столько трагедий! Их не опишет ни одно перо… Более всего жаль, что так и не сумел, подражая древним, переодевшись, походить по улицам и жилищам огромной, но всё ещё не знающей себя страны… Убогая, нищая жизнь, но сколько героев, сколько подвижников! Сколько светлых душ посреди мрака действительности!.. Люди достойны иной участи, к ней шли, к ней идём… Не пропустят… В этом и есть главная причина всей борьбы — помешать прорыву в иную эпоху, более весёлую, более щедрую, более добрую, более защищённую от гнусной власти денег и прячущихся за должности и денежные купюры человеческих крыс…
Террор, который они готовят повсюду, смыкаясь со слепой партийной бюрократией, отнимет власть у народов… Вор громче всех вопит: «Держи вора!» Они вопили и будут вопить, а народам придётся задыхаться без воздуха…
Беспомощный Сталин. Трудно представить и — нельзя опровергнуть…
Народы вернутся к этому страшному опыту: почему невозможно уберечь плоды своей борьбы и труда? Почему невозможно избежать злодейства?..
Трусляки, подонки — использовали женщину в погонах… Кто же из них воткнул шприц под лопатку, когда я упал, кто?.. Болит, болит нестерпимо… Разве в Орле, Минске, Владимире, в бессчётных деревнях, отрезанных от дорог морозом и снегом, не терпят того же надругательства?..
Все народы обратятся к моему опыту борьбы с затаившейся гадюкой, её елейное шипение завершается ядовитым укусом, от которого нет спасения. Сегодня в руках врага капиталы и тайные организации, что приводятся в действие награбленными капиталами. Завтра в его руках будут все орудия пропаганды, послезавтра — основные правительственные должности. Всё рухнет без войны, взорванное необъявленным террором космополитов… Самая страшная партия террора — партия «обиженных гениев»… Они славят друг друга только для того, чтобы прикрыть общий террор…
Соблазнённые узнают об обмане, но поздно — грандиозном, вселенском обмане, который они уже проделали, используя «учение Маркса». Это их боевое учение с их диктатурой, и — горе прозревшим…
Мир не образумится, эпохи будут издавать всё тот же запах нищеты и бесправия — запах земляных полов, керосинок и мыла, сваренного из дохлых собак и больного скота…
Мельчают люди — это вина правителей…
Мужчина и должен умирать в одиночестве — это смерть солдата, забытого на поле брани…
Сначала человек что-то приобретает, потом от всего отказывается — это его удел…
Неожиданно Сталин увидел Ольгу Николаевну, миловидную девушку, которая убирала на его любимой южной даче. Сколько в ней было достоинства и искренней заботы!..
Он ехал из аэропорта. В стороне, на обочине дороги, понуро стояли у дымящейся кучи асфальта женщины в белых платках. Возле них лаял, как пёс, какой-то местный чин. Чёрная шапка волос, усы, повадки человека, никогда не нюхавшего пороха.
Сталина возмутила эта показуха, он велел остановиться, вышел из машины — к полному неудовольствию охраны, привыкшей к тому, что он редко вмешивался в её работу. Спросил этого человека:
— Кто Вас сюда послал и почему вы кричите на женщин, выполняющих неженскую работу?
Генерал, сопровождавший его, принялся что-то объяснять. Но Сталин остановил его движением руки. Он был рассержен.
— Этого бескультурного человека определить чернорабочим в дорожно-строительный отряд на шесть месяцев!.. И его непосредственного руководителя тоже!..
Молодые женщины, держа перед собой лопаты, смотрели во все глаза — русские, обветренные лица. Он прочитывал судьбу каждой и, чтобы убедиться, спросил крайнюю, тоненькую, светловолосую с печальными глазами.
— Откуда?
— Из Белоруссии, Иосиф Виссарионович, — ответила она почти шёпотом. — Всех поубивала судьба, одна осталась. И эти, — она показала рукой на остальных женщин, — такая же обездоленность: ни матки, ни татки, ни тётки, ни дядьки…
— Почему местные люди не соглашаются ворочать асфальт? — спросил Сталин, ни к кому не обращаясь, но зная, что кто-то помечает в блокноте его слова. — Дать выговор здешнему начальству, а всех этих женщин определить на работу в наш пансионат!..
Так в его комнатах оказалась Оля, заботливая Ольга Николаевна. Он и не знал об этом, пока не пропала его трубка и не возникла надобность в разбирательстве. А он помнил, что вечером оставил трубку на краю стола…
Оля бы его искала, она бы его нашла, она бы ни перед чем не остановилась. Она верила в него, как в бога, а он был всего лишь человеком, смело взявшим на себя ответственность за судьбы более слабых…
Он умирал от яда, который ему впрыснула негодница, явившаяся вместе с Берией и всей толпой этой высокопоставленной мрази, она была в докторском белом халате, сквозь вырез которого виднелся военный китель. Возможно, она даже не подозревала, что за гадость ей дали вместе со шприцем…
Парализованный, он всё ещё временами приходил в сознание, и тогда чудился ему страшный сон. Вот будто летел он в каком-то гигантском пространстве, по сравнению с которым и Млечный Путь был малой величиной, а перед ним простирался огненный кратер Солнца или иной космической единицы, поддерживающей в себе пульсацию энергии за счёт расщепления и синтеза вещества.
Жара он почти не чувствовал, но видел, будто через специальные очки, вращение чудовищной раскалённой массы с немыслимыми температурами и гигантским давлением.
И вот будто впереди него тёмным силуэтом двигалась планета Земля, она неудержимо падала в океан огня и непрерывных взрывов.
Он знал, что люди на Земле ещё живы, ещё поделены на бессмысленные шайки, возглавляемые бездарными негодяями, присвоившими себе пышные титулы, и толпы столь же невежественных и примитивных тварей, невменяемых, голодных, неухоженных, бездомных, ничего по сути не способных сказать о себе, кроме жалкого мифа о том, что они дети всемогущего Бога и виновны перед ним за какие-то прегрешения. Они, конечно, давно догадывались, что всё это гнусный обман, но боялись полной пустоты в душах ещё сильнее, чем этого обмана, всё же как-то утешавшего жалобными песнопениями, общими праздниками, общими постами, торжественными крестными ходами, покаяниями, молитвами и хождением на богослужение. Это придавало смысл никчёмному копошению, которое они называли повседневностью. Всегда легче, если кто-то выше нас и сочувствует нам. Хотя бы формально…
Обозревая враз всю эту убогость, всё это неисчислимое горе, весь этот слежавшийся, гнилой мрак, разбросанный по клочьям индивидуальных судеб, он обозревал ещё и другое: как бы видел одновременно судорожную и жестокую предысторию всех этих случайных событий, никому, в сущности, не нужных и никому, в сущности, не интересных, кроме тех, кого они губили, но не тотчас, давая возможность удивиться и отчаяться…
В непрерывном гуле взрывов клокотала чёрно-красная и бело-серая лава. В ней не было ни металлов, ни каменных пород, ни воды, ни серебра, ни скелетов, ни сердец, ни мягкой плоти — всё перемешивалось со скоростью света в гигантской воронке вещества, зародившегося по законам, о которых никто не мог определённо догадываться и никто не мог знать наверняка.
Если бы кто-то сказал, что это всегда существовало, он был бы неправ. Если бы кто-то сказал, что это только-только народилось, он тоже бы солгал. Понятия конечного и бесконечного, временного и постоянного тут совершенно не годились, это были условности ничтожных, но разросшихся микробов как иной ипостаси все того же огня, призванного пожирать всякую остановившуюся и внешне успокоившуюся на миг материю.
«Мы никогда не знали о том, что всякий покой держится только на смерти, оттого он так притягателен…»
Он представлял себе, как остывающая лава начинает делиться и образовывать субстанции, как появляются элементы, газы и жидкости. Как время и случай дают начало иным формам жизни материи, которых много, очень много, бесконечно много…
И вот уже по краю тёплых озёр, над которыми шелестели фиолетовые пальмы, ползали ещё слепые существа, способные делиться на части, и каждая из частей что-то пожирала и что-то выделяла, и механизм воспроизводил себя постоянно или вдруг переходил на иные электронные уровни и давал начало иным существам, божественность, для которой излишни любые придуманные боги: все причины и все следствия заключены в эти комочки материи, которые могут лежать на земле в виде мха и грибов, но принадлежат одновременно всему мирозданию…
И вот уже колонии пёстрых, юрких букашек, осознающих, что они едят, пьют, движутся и способны пожирать зазевавшегося соседа, даже не переваривая его в своих желудках, образовывали цивилизацию и традицию, в конце концов, венчали всё это речью и письменностью, созданием пышной власти и поклонением перед ней…
Земля влетала в океан иного бытия, которое означало смерть для той жизни, которая только себя и признавала за жизнь.
Какие трагедии и драмы совершались в эти секунды на Земле!
Но сердце не содрогалось: это был неизбежный финал всякой ошибочности. Это не было усыханием листа или переменой ветра или времени года, это было как бы нелепым приставлением срубленной головы к телу, вылепленному из глины, или страничкой высокопарной тронной речи, вставленной в глазницу истлевшего черепа…
Люди неизбежно повторяли ошибки, потому что оставались трусливыми, жадными и жалкими. Страх сковывал их разум. Их логика — 1,2,3 и так далее — воспроизводила все их заблуждения, повторяла мифы и образы богов, столь же примитивных в своих устремлениях, как и их создатели.
Между тем логика, приближавшая к действительному знанию и подлинной культуре, выглядела совсем иначе даже в цифровом выражении, но она была доступна гораздо более совершенным — где было взять их?..
Ещё час, десять, сто часов и на Земле должны будут разом исчезнуть и дороги, и храмы, и погосты, и книги, и философские системы, и политические учения, и хитроумные машины, и тайные ложи, кичившиеся своими богатствами и властью. И его враги, самоуверенные и злопамятные, и его народ, истерзанный суевериями и заговорами, великий в своей непостижимо упорной вере в совершенное, — всё это пропадало навсегда…
«Не бойся горя, оно всегда уже позади нас…»
История уходила в ничто — была ли она? И не были ли так называемые героические свершения, гениальные постройки, стихи, картины, музыкальные творения всего лишь скорбным вздохом или бормотанием на миг прозревших посреди сплошных идиотов, привыкших жить и умирать среди оскорбительного вздора?..
Нет, это надо было осознать: тут не просто гибель, не просто смерть — исчезновение на веки вечные вместе с памятью о былом — не будет этих городов, этих лесов, этих птиц, гор, рек, этой земли, этих ландшафтов. Не будет храмов, могил, сокровищ, армий и кораблей, не будет всех этих людей, в совокупности сохраняющих знания о событиях прошлых веков. Исчезнет даже это небо, даже время, все противоречия истории потеряют смысл, покоряясь закону превращения усталой материи в материю юную, кипящую и превращающую саму себя в новое начинание, ничего не знающее о прежнем…
После таких видений нельзя было не обрести нового сознания, стало быть, новой мудрости и новой решимости к действию. Но Сталин знал, что это прозрение уже бесполезно, он умирает и умрёт, потому что ему, даже ему не хватило в борьбе ни решительности, ни твёрдости, ни готовности передать свою правду в руки людей, всё-таки слишком невежественных, чтобы без ропота понести её дальше, как того же самого не хватило и всем его предшественникам… Одна непреклонность могла противостоять страшной предопределённости распада, но он спасовал, полагаясь на благодарность хотя бы немногих: не он ли сохранил и уберёг весь этот высокопоставленный предательский сброд, явившийся выговаривать ему за единственно верное, но уже запоздалое решение?..
О, если бы он выжил! Теперь, когда он знал главную тайну земной истории, стало ясно, как надо было бы действовать, чтобы на планете (любой планете, на которой завязалось это неизъяснимое чудо жизни) хоть на какое-то время восторжествовало между всеми людьми единое желание — прорвать пелену своей космической обречённости, поступить против своих эгоистических желаний, чтобы сохранить перспективу для всей просветлённой и облагородившейся общности…
«Алчные и безумные не должны сгубить всё человечество!..»
Это была не та обречённость, что у Гоголя, очнувшегося от летаргии в гробу, это было наказание за все отступления от разума и совести, за терпимость (всё-таки терпимость!) к негодяям, которые по чужим спинам пытались выбраться из пропасти невежества и коварства, не догадываясь, что эта пропасть — вечная. Нет и не может быть спасительных решений для избранных, есть решение только для всех, но… торжествовала сила «лучших», богатейших, хитрейших, какая жалкая пыль, какая ничтожная чепуха!..
Нет-нет, никто не мог спастись навеки, но планета могла бы существовать ещё многие и многие тысячелетия, если бы её ни состарили подлости и обманы, нарушившие целостность её собственного духа, её самостоятельного бытия…
Сталин только теперь уразумел, какое море дерьма он преодолел за время своей судьбы, как и другие, полагая, что вокруг чистейшее вино и настоящие лотосовые троны. Он делал всё на пользу соотечественников, не понимая в своём великодушии и чести, как можно извращать справедливость его помыслов. Вот ведь и племя постоянных заговорщиков он не собирался искоренять, он хотел лишь поставить его на место, показать, что равноправие, которому преданы другие народы, — это тяжкий, но неизбежный и необходимый крест, отказ от которого означает вечную войну…
Среди его современников не было ни подлинных богов, ни подлинно великих характеров — зряшны были все их усилия. Потому что все они были отступниками от Разума, иначе говоря, от Гармонии, отзвук которой в душе называют совестью.
Самое совершенное они приписывали богу, то есть, недосягаемому и недоступному, тогда как оно было и есть самое досягаемое и самое доступное, чуть только люди побеждают в себе зверя, прикрытого улыбками и пёстрыми одеждами…
Вот почему он не встретил здесь ни великих царств, ни великих царей — всё только огромные шайки воров и грабителей. Вот почему здесь не происходило прогресса, здесь оставалось постоянным рабовладение как единственный способ бытия несовершенных. И поэтому нельзя было всерьёз проследить и прочувствовать различия между тысячелетиями — менялись только оковы…
Если бы он выжил, он бы теперь показал всем, что такое настоящая мудрость и настоящее дерзание. Он бы открыто указал впервые на подлинных врагов человека, замечающего выбоину на дороге, но не способного предвидеть пропасть за горизонтом надежды…
Но Сталин знал, бесконечно тоскуя, что оттого он и умирает и, безусловно, умрёт: совершенное погибало от несовершенного, поскольку не умело утверждать совершенство каждым своим поступком…
Точно такие же видения посетили его и в ночь после нападения Германии — странно и удивительно…
Он был потрясён началом войны, потому что действия Адольфа Гитлера меняли всю стратегию его поведения. Дело было ведь, конечно, не в том, что Гитлер не раз давал твёрдые гарантии и очень скрупулёзно и точно выполнял их, а теперь вроде бы отрёкся от своих слов…
Трагедия заключалась в том, что война означала необозримую череду бедствий и для Германии, и для Советского Союза. Обе державы ставили на карту свои высшие интересы — ради кого? Ради подлых замыслов всемирных ростовщиков? Сталин знал, что их агентура, маскируясь в советское усердие, раздражала фюрера и в Румынии, и в Прибалтике… Через англичан и американцев, но более всего через свою агентуру в самой Германии они сумели навязать фюреру свои планы, убедить его в том, что СССР непременно выступит против Германии в июле 1941 года…
Увы-увы, есть ложь, которая вдохновляет на дело, и есть анемичная правда, которая никуда не ведёт и ничего не проясняет. Но тем более он был поражён столь безрассудным решением: разве не Гитлер, выступая на одном из самых закрытых совещаний высшего генералитета вермахта, признал: «Будущее мира реально видят сегодня на земле только два государственных деятеля: Сталин и я»?.. Разве нельзя было встретиться с глазу на глаз, чтобы прояснить все события?.. Великие вожди в роли марионеток преступных заговорщиков — это было невыносимо…
Сталин понимал, что вся его политика была возможна только при осуществлении тактики постоянного сокрушения противостояния. Но главный враг давно рассредоточился, растворился в демагогии «братства со всеми народами», теперь предстояло опереться на внушительные силы затаившихся ненавистников, и этот обвал, несомненно, мог послужить поводом для нового обострения внутрикремлёвских интриг. Он не исключал, что заговорщики могут даже попытаться его арестовать, сделав виновником неудач, которые на этом этапе были совершенно неизбежны. Но наступит ли иной этап? Тогда это казалось проблематичным…
Сталин не мог уснуть, чтобы восстановить силы и побудить себя к действию. Он забылся буквально на четверть часа глубокой ночью, может быть, даже уже под утро. В тревоге сел к столу и стал писать политическое завещание, в котором хотел объяснить и будущим руководителям, и народу, отчего произошло это нападение и эта война. Он был ещё близорук, как всякий человек, и нёс дань этой близорукости…
Да, чудовищный обман Гитлера был спровоцирован агентурой англичан и американцев в окружении германского вождя, не выражавшей ни интересов Англии, ни интересов Америки, но от этого положение Сталина не становилось легче: на его долю выпадала пассивная роль исполнителя чужих замыслов в условиях собственного смертельного риска. Он обязан был объяснить эти гнусные замыслы потомкам, потому что верил в свою звезду и не хотел уступить своей чести и судьбы огромного государства, поставившего на справедливость, истерическому и трусливому сговору иноплеменников.
23 и 24 июня рокового 1941 года он урывками писал этот сверхсекретный документ, понимая, впрочем, что его враги могут уничтожить этот документ, объявить его несуществующим, хотя ещё при Ленине на одном из заседаний Совнаркома была принята (письменно) резолюция о вечном хранении в специальном отделе государственного архива всех бумаг высших лиц, их должности были перечислены. Видать, и Ленин боялся дворцового переворота с его безжалостной резнёй и последующим уничтожением всех следов действительных событий…
Так вот оно что — пророческие сны повторяются!
Почему? Может быть, некий дух Высшей Истины, витающей вокруг, наводит какие-то токи догадки или предчувствия, кто знает, что ведёт нас к прозрению, к вершинам миропонимания, которое ассоциируется с божественной волей?..
Сны повторяются, потому что повторяется правда жизни, порог, на котором спотыкаются все подряд…
Обнажение обескураживающе простой сути способно было вызвать потрясение рассудка, произвести панику. Но не в душе Сталина, нет. Напротив, картины общей погибели подсказали ему и тогда, как подсказывают теперь, единственный выход: методическую организацию контрдействия, когда нет иной цели, кроме высшей справедливости, и когда должны быть напрочь отброшены все предрассудки относительно допустимого и недопустимого, позволенного законом и разрешённого преданием, потому что враг способен на всё…
Он, Сталин, случайный отпрыск одной из побочных ветвей русского царского дома, «незаконный» сын человека, предки которого покрыли себя некогда неувядаемой славой как мудрые правители и храбрые полководцы, помнил о долге своего рождения и с презрением относился к тем, кто не держал слова. Сталин всегда считал, что честь выше и сильнее любой хитрости. Теперь он обязан был любой ценой вернуть полное повиновение растерянного, но злобного советского руководства, навести порядок в отступавших, даже бегущих войсках и организовать мощное сопротивление лучшей армии мира. Ему предстояло создать смысл из бессмысленности, к которой его толкали мировые заговорщики, не понимавшие ничего, кроме очередных потребностей своей звериной и похотливой сущности. Они играли в политические шахматы, он — жертвовал армиями и городами, судьбами миллионов и надеждами грядущих веков…
Агонизируя на ковре, ещё сохранявшем запахи ворвавшихся без спросу негодяев, лишённый сил позвать на помощь введённую в заблуждение охрану, он осознавал, что самым недопустимым и роковым было и остаётся на земле — следовать за химерой, за ложью, за обманом и самообманом. Он слишком долго потакал трусливой и коварной доктрине интернационализма, приспособленного для диктатуры небольшой шайки, подкупом и шантажом повсюду преодолевавшей свою этническую узость и умственную ограниченность, но заражавшей своею дряхлостью и обрекавшей на смерть бесчисленные толпы обывателей, бездумно поедающих время судьбы, как шелкопряд пожирает листья тутовника…
Смерть — самая заразная из существующих хвороб, смерть как реакция на поиск несуществующей охотничьей добычи…
Нет, спасти мир, оттянуть его от пропасти бесследного исчезновения возможно только за счёт решительной, жёсткой, но честной и справедливой работы со всеми без исключения нациями и народностями. Каждая из этнических величин обязана самостоятельно подняться до осознания небесной общности интересов живущих на планете, она заключается не в раболепном служении какой-либо идее или какому-либо учению, а в опытном, эмпирическом открытии вредоносности всякой попытки переменить естественное положение вещей: ни одна нация, чтобы не навлечь на всех и на себя тоже смертельной угрозы, не смеет помышлять о политической, финансовой, идеологической или прочей гегемонии — все они должны быть сдержанными в обменах между собой: только чисто человеческие и духовные. И товарный обмен не должен быть обменом злобой, наживой и жаждой превосходства. Ни региональных союзов, ни миграций и в то же время — единый Всепланетный Форум, который разрабатывал бы статьи нового международного права, оно повернуло бы вспять совершенно пагубное развитие человечества, поощряющее соперничество и экспансию, техническую вооружённость безумных претензий, но ничего не меняющее в философии восприятия мира, не добавляющее совершенства в организации бытовой жизни человека.
От эгоизма индивида уже давно пора, через эгоизм социальной общности, перейти к «эгоизму» всей совокупности живущих, то есть, к интересам Природы как самым существенным интересам каждого человека, разве это сделано? Разве такая задача поставлена?..
Это не утопия. Всё, что меняет коренным образом наше восприятие истории, не утопия. Речь идёт не об отмене паровоза, но о выработке нового понимания необходимости паровоза для общества, которое не собирается никуда ехать: нет смысла осваивать чужие земли, это чревато общей напряжённостью, спорами и погибелью…
В тысячу раз важнее понять, что человек обязан «ехать» к самому себе, к Природе, которая даровала ему великое чудо жизни. Сохранить это чудо — святой долг каждого из живущих… И это значит — отринуть въевшийся от рождения звериный инстинкт личной выгоды как личной добычи…
Желудок поглощает чужое, душа питается своим нектаром, запасы которого лишь возрастают…
«Почему всякое истинное откровение и доброе желание оканчиваются в этом мире невыразимой тоской?..»
Маленький светловолосый пацанок в серой холщовой рубашке навыпуск и серых штанах, худощавый, печальный и босой, старательно выводил на дудочке щемящую мелодию «Сулико».
Позади него дымилось синее пепелище.
Всё было так, как и бывает в этой жизни. Сомнений уже не было. Не было и проклятых вечных вопросов.
Не было уже обиды, не было боли, — волны уюта уносили всё дальше и дальше — прочь от человеческой жестокости…
Не высказавшись — жили, не высказавшись — уходим
Не подкреплённое могучей надеждой, лопается от забот и огорчений человеческое сердце. Даже и ведомое сильным духом, надрывается оно в коротком пути. Столько забот, столько необходимой для жизни науки! А рядом — психология трынь-травы, ленивой безответственности, отказа от борьбы и наивной готовности к безгласной холопской покорности. Обойдёт человек и дешёвые соблазны пьяной умиротворённости, и оскорбительное «вдохновение» от наркотиков, и мелкотравчатую увлечённость танцульками, застольями и убогим флиртом, но тем прозаичней будет встреча с серьёзной работой, освоением профессии среди людей, не всегда благожелательных, умных и терпеливых. Подвергнется он ударам по самолюбию, по чести и гордости, неоправданным наказаниям, познает несправедливое награждение одних и равнодушие к другим. Но и это преодолеет человек с высоким сердцем, которое не устаёт учиться, ждёт и надеется, тревожится и предчувствует беду, восхищается мечтой и дрожит перед непролазными хлябями жалкого быта. И чем сильнее любит сердце, тем настойчивее обступают его тревоги и обиды, тем чаще летят в него тяжёлые камни оскорблений и унижений. Измены близких, коварство друзей, подлость окружающих, безвременная гибель тех, кого оно любило и кому желало добра. Но и сверх этих испытаний новые горечи готовит судьба: обман пророков, мошенничество вождей, гибель родной державы, распад нравственности, в которую люди внесли необъятную дань своих страданий. Беды нагромождаются и растут, уходя за горизонт: как противостоять всемирной банде, сговорившейся ради порабощения доверчивых народов? Как вынести рыдания сына или дочери, не желающих больше жить в этом мире зла и ненаказанных преступлений? Как вдохновить тех, у которых кончились силы сопротивляться и верить в высокие идеалы, оставленные человечеству самыми добросердечными из его сыновей?..
Бесконечны и неисчислимы яды, что травят сердце. А радости, что укрепляют его, скудны и преходящи…
Когда разрушители-диссиденты, мимикрировавшие под защитников «прав человека, «свободы и благосостояния для всех», прорвались к власти, они прежде всего захватили в свои руки необозримое хозяйство КГБ, его архивы, из которых предстояло изъять сотни тысяч важнейших документов. В первые же часы были поставлены свои люди на ключевые должности в армии, МВД и прокуратуре. Затем, не давая опомниться очумевшим от психических атак вчерашним бонзам областных уровней, был нанесён мощнейший удар по оборонному комплексу. В ту пору почти никто и не оспаривал злонамеренного тезиса о «милитаристской политике КПСС» — вот до какой степени обалдения было доведено «общественное мнение», начинавшее с инициатив по «совершенствованию социализма» и ослаблению «партийных привилегий»…
Алексей Михайлович знает, что не понадобилось даже потрошить за закрытыми дверями вальяжных чиновников парализованного Министерства среднего и специального машиностроения, державшего в руках главные нити оборонных заказов, схема связей и характеристики отдельных работников — всё это давно было прояснено через скромных, как тени, киоскёрш, продававших газетки (порнографию — из-под полы: «Только вам, и никому больше!»), говорливых и улыбчивых парикмахеров, безобидных с виду наладчиков ЭВМ, разухабистых снабженцев «столов заказов» и врачей ведомственных зубкабинетов, проталкивавших на тёпленькие должностишки по всему Союзу «своих», которые в целом получали гораздо большую пробивную силу, чем ведущие министры!
Все работы были приостановлены под предлогом «полного истощения казны». Лопались НИИ, которые не знали серьёзных конкурентов ни в США, ни во Франции, ни в ФРГ. Сбитым с толку разработчикам позволяли участвовать в приватизации предприятий, им предписывалось «срочно разрабатывать бизнес-планы в целях реструктурирования и конверсии». Распространялись (лживые, разумеется) слухи о том, что «американцы будут гарантами всеобщего мира и вложат миллиарды долларов в производство самой ходовой потребительской продукции и все заживут «как надо», кто тогда слушал немногих пророков, утверждавших, что нищая Россия станет финансировать Запад украденным у народа капиталом, а США, распоясавшись, приступят к четвертованию не угодивших им стран?..
Прохоров в первые же дни собрал костяк коллектива, с которым работал многие годы. Эти люди были по сути единой семьёй, все они трудились для одной цели и в одном режиме. Они понимали суть событий — их не нужно было просвещать. И всё же он проявил осторожность и сдержанность — это было первым законом жизни закрытой группы, в которую он сам подбирал людей, хорошо представляя себе все коварство всепроникающего «интернационализма»:
— Ребята, мы попали под колпак, не исключено, что завтра здесь появятся цээрушники. Проект наш прикроют — и основной, и параллельные — как пить дать. Возможно, мы уже не встретимся без посторонних. А потому хочу точно наметить линию поведения на весь смутный период. Я верю каждому, как себе, и если кто-либо на любом этапе пожелает отойти в сторону, я пойму, что жизнь взяла за горло так, что иначе невозможно. Я открываю на днях два малых предприятия на базе вспомогательного цеха. Все вы будете получать какую-то долю, соблюдая условия, об этом позднее, потому что и эти предприятия могут быть разрушены. Мы теперь на главном острие противоборства. Пока у меня будут хоть какие-то средства, никто не впадёт в нищету и не деградирует. Родина не погибнет, пока мы будем вместе.
Всё то, что он говорил, казалось ему убедительным и реальным.
— Как поступим с ячейкой партии?
— Спасать КПСС — не наша задача, — хмуро ответил Прохоров, упираясь взглядом в стол. — Чтобы стряхнуть сатану, придётся сжечь небо. Мы можем расходиться в деталях, но в принципе все мы знаем: если бы КПСС от основания до вершины служила интересам советского народа, она бы никогда не подверглась разрушению. Поэтому предоставим этот вопрос истории, для нас он не актуален. Мы спасаем нацию, мы спасаем народы, мы спасаем Отечество.
— Организации жалко, — сказал тот, кто задавал вопрос. — Начальство — одно, народ — другое.
— Это была во многом не наша организация, особенно в последние годы…
Второй вопрос касался судьбы сверхсекретного подземного цеха, где должен был производиться окончательный монтаж главного Изделия. Цех назывался конспиративно — «третий». Существовал и другой «третий цех», но посвященные знали, о чём идёт речь.
— Кроме нас, никто не знает о существовании третьего цеха. Я предлагаю демонтировать все экспериментальные установки, сложить узлы и агрегаты и забетонировать главный вход. Западникам потребуется ещё лет сорок, чтобы дойти до нашего уровня.
— Предложение разумно, — согласился Прохоров.
— Тогда вопрос, — с места поднялся доктор технических наук Лобов, обладавший гениальной интуицией по организации раздельной работы над любым проектом. — Какое наказание ожидает того, кто выдаст противнику наши секреты?..
Прохоров растерялся — «глупый вопрос».
— Любая цена нашей личной слабости — интересы Отечества, — он пожал плечами. — Что может ждать предателя, кроме презрения сотоварищей?
— Для «демократов» такого понятия не существует, — наступал Лобов.
— Это только подтверждает, что созидательная цивилизация несовместима с разрушительными планами вооружённого жулья.
— Вопросы философии сегодня уже никого не интересуют…
Как в воду глядел Прохоров: уже на следующий день к нему явились уполномоченные министерского главка с бригадой «инспекторов», полных невежд, что касается существа дела, но с определёнными целями, которые проталкивали нахраписто и нагло.
В этой бригаде, возглавлявшейся «правозащитником», сотрудником литературного журнала Семёном Антоновичем Курчаткиным, известным также как Самуил Аронович Шехтель, находился некто Нерсесян, представившийся докторантом Института мировой экономики, но на армянина нисколько не похожий.
Всех их интересовал численный состав объединения и его институтов, их структура, объёмы фактического финансирования, основное и вспомогательное оборудование и разрабатываемая тематика.
Кое о чём «инспекторы» уже были осведомлены. Так, они сразу же пожелали поговорить со «специалистами по средствам контрпропаганды и техническим проблемам психологического противостояния».
Прохоров мысленно поздравил себя за дальновидность. Его люди владели разработками, позволявшими предсказывать стратегию и тактику действий противника, могли в течение недели, используя канал союзного телевидения, нейтрализовать состояние зомбированности и духовного паралича миллионов людей. Соответствующие материалы (впрочем, не раскрывавшие деталей) неоднократно направлялись в ЦК КПСС лично Горбачёву и Лигачёву, но никакой реакции оттуда не последовало. Наоборот, один из кураторов объединения имел очень неприятный разговор с помощником «хозяина» Шахназаровым, сославшегося при этом на члена Политбюро Л.Яковлева, связи которого с мировой закулисой были уже в ту пору Прохорову хорошо известны. Получив сигнал, Прохоров немедленно подписал давно заготовленный приказ о расформировании «Группы по специальным проблемам социальной психологии», как она именовалась. Все четыре бесценных специалиста были переведены в цех № 12 Экспериментального института, который выполнял технические работы. В цехе № 12 сотрудники работали под вымышленными фамилиями. Миновав общий пост, они, пользуясь специальным ключом, переходили по подземному переходу в главное здание института, так что даже пост ничего не знал об этом.
— Каким образом нам встретиться и потолковать с контрпропагандистами? — широко, но искусственно улыбаясь, спросил Курчаткин. — Им в вашем институте сейчас делать уже нечего, «холодная война» окончилась, а я бы мог предложить интересную работу. Между прочим, оплачиваемую в долларах. И вас лично могли бы пристегнуть.
— Сожалею, — Алексей Михайлович развёл руками, — все эти люди давно уволены.
— Как «уволены»?
— Да так. По инициативе лиц, обслуживавших Политбюро. Ещё в июле 1991 года.
На физиономии Курчаткина отобразилось глубокая досада и даже растерянность.
Прохоров торжествовал: «Выкуси! Привыкли повсюду брать без боя!»
— Кажется, к нашему визиту здесь основательно подготовились, — зло бросил Нерсесян.
Алексей Михайлович изобразил полную наивность:
— Только сегодня утром нас предупредили. Но заказан обед. Примем вас по-старосоветски.
— По-совковски, — машинально прокомментировал Курчаткин, но тут же спохватился и поправился: — Сейчас это уже не модно — застолья…
НИИ лишили финансирования, он подлежал расформированию. Наложили лапу и на планы создания малых предприятий.
— Конечно, конечно, мы людей не обидим, — тараторил настороженный Курчаткин. — Но это государственная собственность, и подготовлено уже решение посадить на эти площади российско-канадский конверсионный консорциум…
Вес попытки сохранить уникальные кадры неминуемо терпели провал: давили банки и официальные учреждения. «Победители» хотели полного разгрома и использования военнопленных для своих целей.
Этот тщательно спланированный разбой ещё нигде и никем не описан. Драмы, которые сопровождали его, требуют великого пера — таких перьев нет и сегодня.
В КГБ и армии провели чистки, сменили несколько раз начальствующий состав, внедряя продажное дерьмо, людей бездарных, но амбициозных, порочных и разложившихся. Они называют себя «рыночниками».
Быстро расчехвостили и большинство наиболее важных исследовательских центров: никто не был готов обороняться от «своих» предателей. Всё рушилось практически без сопротивления. И это поражало больше всего.
Лишь немногие точки стратегической оборонной перспективы погибали иначе. Эти кадры не шли на подкуп и не поддавались на шантаж. Их предстояло разбить и полностью уничтожить. И эта борьба проходила при полном неведении общественности. «Демократы» не раскрывали масштаба подрыва жизненно важных конструкций страны, левые ничего не знали об этом, а сами разработчики не поднимали шума именно из-за того, чтобы не спровоцировать коварного врага на спекуляции: вот, мол, «милитаристская партийная машина всё ещё жива, и, поскольку не хочет принять новые порядки, её следует выжигать калёным железом».
Новые власти были совсем не прочь разжечь в стране гражданскую войну, чтобы потопить в крови всех возможных оппонентов и мстителей. Таково же было желание фактических правителей Америки. Но все они трусили: при открытом конфликте, безусловно, нашлись бы военные, готовые применить ядерное оружие — хвалёная западная машина выявила бы тогда своё полное бессилие…
Прохорову уже в конце 1993 года стало известно, что накануне октябрьского расстрела российского парламента олигархи Запада рассматривали вопрос о высадке десанта НАТО на российские базы стратегических ракетных сил, — якобы в целях предотвращения захвата ядерных объектов «коммунистическими террористами». В этой затее предполагалось задействовать в целом до 70 тысяч морских пехотинцев только из США. Стоимость операции определялась в 12–15 млрд. долларов в течение первых шести месяцев.
Только в идиотской голове мог сложиться подобный план, чреватый многими неизвестными. Но шизофреники всегда подвержены фобиям.
Практически единственный, кто не поддержал этих планов, был американский президент Билл Клинтон, которому ЦРУ внятно разъяснило, чем может окончиться подобная авантюра. Клинтону пришлось дать торжественное обещание — «сломать хребет остаткам советского тоталитаризма» в течение последующих трёх лет.
Три года миновало — и что же? Россия, казалось бы, погребённая среди руин, оставалась живой. Более того, в ней усиливались тенденции совсем иного толка, — на союз с соседней Беларусью и её популярнейшим в народе лидером Александром Лукашенко, старавшимся обеспечить независимость и суверенность своей страны. Он предложил России договор о Союзе. Западная агентура, кучковавшаяся вокруг Президента России, не смогла воспрепятствовать моральному влиянию этого неожиданно возникшего политика. Оплёвывания и шельмование только усиливали его авторитет в России, — вот же «белорусская бестия»!
Россия не погибла, но и жизни в ней оставалось всё меньше и меньше, потому что её погубители, выступая в облике разных партий, но делая одно коварное дело, все ближе подталкивали её к краю пропасти, из которой уже, конечно, было не выбраться. Все они жаждали «необратимости разгрома»…
Алексей Михайлович теперь уж и не знает, что осталось от его предприятий. Может, ничего уже не осталось. Под его рукой было 35 главных разработчиков, владевших всеми тайнами проектов. Они опирались на небольшой технический коллектив в полторы тысячи человек, и хотя в цехах был свой режим секретности, всё же всей тайны они не знали и сказать что-либо определённое об «изделиях» не могли.
После того, как был освобождён от должности Прохоров, началась «конверсия», и все эти 35 человек один за другим уходили из жизни, сотрясаемые общей и личной, незримой трагедией. За ними велась охота, о масштабах которой можно было судить лишь по отголоскам событий.
Первой жертвой «новых гегемонов» стал Макаров, лазерщик высочайшего класса, знавший наперечёт все ведущие лаборатории мира и повторявший, что все его зарубежные коллеги ещё слепые котята. «Секретами надёжного боевого применения лазера пока владеем только мы, — гордо говорил он. — Западные умы очень консервативны и ограничены, им ещё долго не выбраться на нужную стезю».
Прошёл слух, что Макарову предложили прекрасную работу в Москве. Он поехал туда по вызову, но вскоре вернулся. Всполошённо позвонил Прохорову, назначил встречу, но на встречу не явился. Ночью наёмные убийцы подожгли его квартиру, где он жил с женой и пятилетним сыном. Видимо, мстили за отказ от сотрудничества.
Отрезанный от коридора стеной огня, Макаров попытался спуститься на балкон третьего этажа, чтобы потом заняться женой и истошно кричавшим ребёнком. Но в суматохе не рассчитал, сорвался вниз и расшибся насмерть. Жена прыгнула на стоявшее внизу дерево, завернув ребёнка в одеяло. Она осталась жива, лишившись ноги и глаза, ребёнок — погиб.
Через неделю пришло известие о скоропостижной кончине Петренко и Носова, выдающихся физиков. Как выяснилось, были где-то в гостях, вели переговоры о предстоящей работе, вернулись домой в состоянии довольно сильного опьянения, что было для обоих крайне нехарактерно. Скончались дома от паралича органов дыхания — той же ночью, примерно в одно и то же время.
Исчез Лобов. На улице, где было полно людей, пристрелили Лебедева…
В стране, ошеломлённой от истеричной демагогии и присягнувшей доллару и потому утратившей надежды и чувства товарищества, надеяться на успешное расследование преступлений уже не приходилось.
Получил неожиданное приглашение возглавить какой-то «конверсионный центр» во Флориде и сам Прохоров. В письме откровенно и нагло сообщалось, что ему готовы дать стипендию в 3,2 тыс. долларов в месяц и полный пансион, если он сообщит о перечне исследований, осуществленных лично им или под его руководством за последние 10 лет.
Он понял, что все они окружены, и оповестил людей о том, что нужно поскорее разбегаться, может быть, даже «меняя кожу». Когда-то обсуждались и эти проекты, и кое-кто из его сотрудников имел второй паспорт. Но кто же мог предвидеть, что и паспорта заменят, и введут новые денежные знаки, и почта ходить вовсе перестанет, — в 1991–1993 гг. повсюду в России, в том числе и в Москве, почту нередко выгружали на свалку, рассылая только ту корреспонденцию, которая оплачивалась по самому высокому тарифу.
Помыкавшись в пустоте, Прохоров отправился в Ленинград, прозывавшийся уже Санкт-Петербургом, — там работали старые и надёжные товарищи, заверившие, что подыщут нужную работу.
Казалось, Алексей Михайлович исходил из бесспорного. Да, настоящему патриоту тяжело, но нужно потерпеть. Если это настоящий патриот, он не станет стонать и жаловаться на трудности, не будет искать покровительства власти, памятуя, что она в наше время чаще всего ненадёжна и продажна. Зная о великой пользе всякого организованного движения, настоящий патриот не будет уповать на создание патриотической организации — она может уже в момент создания попасть не в те руки — он станет действовать самостоятельно, не теряя времени, привлекая к борьбе близких и друзей, на которых может положиться. Он будет действовать, исходя из национальных интересов страны, решая задачи и за высшее руководство и за общество, потому что Родина как общее понятие раздробилась: она остаётся целостной и единой только в сердце честного человека.
Из этого исходил Прохоров, но все его установки оказались пустыми надеждами периферийного интеллигента. Выяснилось, что страна уже плотно завоёвана изнутри и в ней действуют совершенно иные законы человеческих отношений. Специалист по новым технологиям формирования убеждений, он понял, что побеждён обычной ложью, наглостью и страхом.
Оказавшись в Санкт-Петербурге и нанеся несколько визитов, он вдруг почувствовал фальшь и натянутость в отношениях с прежними друзьями.
Да, все они вздыхали по прежним временам. Но и только, это было единственное, что связывало с этими людьми. Все они были наэлектризованы и деморализованы. «Урвать свой доллар» — стало главным смыслом и их жизни. Это не афишировалось, но в это всё упиралось. Никто не хотел признать, что любая нажива эфемерна, ничего она не решает, в семьях хотели есть, менять прохудившуюся обувь и как-то верстать быт, нелепый и страшный и в советские времена, хотя в других, конечно, измерениях…
Первые четыре дня он жил в самой дешёвой гостинице — с клопами и без горячей воды, — по утрам его будил галдёж азербайджанцев, отправлявшихся на рынки. Его все обнадёживали: вот появится Пётр Петрович и всё уладит, вот вернётся из-за рубежа Дина Михайловна, и всё утрясётся…
Но ничего не утрясалось. Появлявшиеся вакансии тут же захватывались людьми, имевшими более сильный блат.
От него, от Прохорова, не открещивались, но как бы всё более сторонились, избегали, боялись. Да и достучаться до людей становилось всё более проблематично, хотя все вдруг перекрасились и сделались истово верующими.
Он искренне удивлялся: «Неужели с духовным багажом, сляпанным для гоев всего мира два тысячелетия тому назад, можно на что-то рассчитывать?..»
Оказалось, можно. Потому что тысячелетия ничего не поменяли в положении человека: он оставался таким же незащищённым, как и в прошлые времена.
— Всё на самом деле просто, — объяснил ему седовласый академик Н., от которого кое-что зависело. — Главное — верить в Христа. Мы должны страдать за то, что покинули его. Это утишит боль. Теперь мы вернёмся к вере, и он отворит нам врата нового рая.
— Милый друг, да кто же, когда и кому отворял врата?
— Тебе этого не понять, потому что ты отравлен бесовским атеизмом. Бог с нами. Бог в нас.
— Ничем не отравлен. Я верю в эксперимент, и могущество природы. Я принимаю любой рациональный довод!
— Видишь: «рациональный»! А тут нужно не рассуждать, тут главное — просто верить. И чем иррациональнее, абсурднее факты, тем упорнее должна быть вера!
— Так ведь именно это и нужно нашему противнику! Неужто не ясно, каким страшным бичом для человечества обернулась вся эта химера с Христом? Ты же лично понимаешь, надеюсь, всю коварную рукотворность христианства? Оно было придумано как оружие духовного разрушения Рима, военная мощь которого была неоспоримой.
— Ничего не хочу понимать, — верить хочу!..
«Хочу харчо» — тут все аргументы бессильны. В Христа верят, а человека, что рядом — не слышат. И делают вид, что верят, именно потому, чтобы не слышать чужих стенаний. Фарисеям верили, фарисеям верят и верить будут фарисеям.
Вот и комнатных собак оттого развели. Миллионы комнатных собак в нищих квартирах, где живут одинокие субъекты, связанные пропиской и, может быть, пока ещё общим бюджетом…
Сёма Цвик
Он не верил в сны, но этот тягучий, изморный, до утра продолжавшийся сон насторожил и обеспокоил. Потом сон определял его жизнь в течение трёх недель, пока не воплотился в насилие и надругательство…
Что такое человек? Тот же компьютер. Вот ночью прокрутились все исходные положения ситуации, и компьютер выдал своё решение в виде сна. Только как было понятнее, предметнее истолковать его? Подкрадывалась большая неприятность, и он сразу понял, что от неё не отвертеться…
А снилось, будто он, Сёма Цвик, и ещё кто-то из его родственников вздумали ловить рыбу в городском канале. Он привязал крючок, нацепил червяка и забросил удочку, вместо жилки используя полосы изношенной простыни.
Дёрнул раз и другой и вдруг почувствовал — что-то ухватилось, массивное, крупное. «Как бы не сорвалась добыча!» И вот он вытянул огненно-рыжего кота, который тут же впился в его руку острыми когтями. Он кое-как освободился, но вертлявый, вонючий кот, издавая яростные звуки, пытался снова цапнуть его выкалившейся пастью. Сёма не позволял, держа кота за уши и постоянно набрасывая всякий подручный хлам — тряпки, газеты. Но угроза быть расцарапанным в кровь и укушенным до кости сохранялась, и он нёс в обеих руках длинного, как щука, кота, встряхивая и выламывая его всякий раз так, чтобы ни когтистые лапы, ни острые зубы не впились в открытую кожу.
Он понимал, что нужно поскорее как-либо отделаться от кота, и возможности такие возникали, но почему-то он медлил. Вот он прошёл мимо открытой уборной сельского типа, и мысль мелькнула — швырнуть кота в отвратительную жёлто-зелёную жижу, но — не швырнул. Потом подумал, что можно было бы задушить мерзкого кота, но и этого он не осуществил.
Потом блуждал по незнакомому пустому зданию и хотел выбросить кота из окна, но посчитал, что высота невелика и кот останется живым, выследит его и вопьётся в горло.
Можно было бы кинуть кота под колёса проезжавших машин, но это было предосудительно — бросать на виду у всех живого кота под колеса: никто же не знает, какая это мерзкая животина, — посчитают Сёму извергом, мучителем животных.
И вот появился и придвинулся огонь. Огромное пламя бушевало, и можно было бы забросить кота в грохочущее пламя, где он, наверняка бы, погиб. Но Сёма не бросил…
Ясно, где-то рядом колобродила чья-то ненависть. Чёрная энергия распада со свистом проносилась мимо, он оставался невредим, но ничего не мог предпринять, чтобы блокировать эту энергию…
Встал утром разбитый, с острой болью в сердце и тяжестью в голове, чувствуя бесконечную усталость и бесконечную тоску…
Конечно, он предпочёл бы уклониться от обязательств перед своими соплеменниками. Они мешали жить, вносили постоянную тревогу. Но отцепиться от них было невозможно: они убедились, что он способен доставать для них нужную информацию, и плотно сели ему на спину, убеждая в том, что каждый день идёт ему в зачёт: в Израиле ожидает его шикарная вилла и крупный счёт в банке, и его отправят «домой» тотчас, как только обрисуется реальная угроза или завершатся главные дела здесь.
Он всё же переживал. Не то, чтобы его мучили угрызения совести, — никаких угрызений не было. Но надо было как-то объяснить приемному отцу, отчего у него такие натянутые отношения с женой, отчего дочь отшатнулась от него.
Воспользовавшись оказией, он заехал к старику. Тот, хотя и недомогал, радостно поднялся навстречу, обнял и поцеловал его, тотчас же с помощью какой-то родственницы, внучки или племянницы, накрыл праздничный стол.
— Я не надолго, — предупредил Сёма, — я тут мимо проезжал… Хочу сказать, что, может, уже и не удастся больше свидеться.
— Как так? — искренне огорчился старик. — Я вроде ещё помирать не собираюсь. Да и ты смотришься хорошо.
— Я вот что… В Израиль уезжаю…
Старик, плеснувший себе в рюмку немного самодельного смородинового вина, даже пить не стал. Руки его задрожали, и голубые, нисколько не утратившие блеска глаза на секунду задержались на глазах Сёмы так, что он ощутил себя полным ничтожеством перед какою-то неосознаваемой, но могучей силой.
— Что же, не одобряешь? — нарушил тягостное молчание Сёма.
— Не одобряю, — сказал старик. Выбрался из-за стола и отошёл к окну.
— Теперь у нас свобода, — усмехнувшись, сказал Сёма. — Рыба выбирает, где глубже, а человек — где лучше.
— Не то, не то, — поморщился старик и показал пальцем в окно. — Вон, видишь, твой бывший дружок шкандыбает — Лёвка Пугин. И Московский университет окончил, и хорошую работу имел, а пожелал только для себя этого самого «навара» и разрушил и свои мечты, и свою семью, и семью родителей… Горе! От водочки перешёл к соломке, наркотикам всяким… Особого уюта, видишь, душа захотела… А наша душа с тем уютом жить должна, что выпадает для всего мира. Грязно и больно, а ты терпи, доколе терпится, старайся общую долю поправить…
— Это всё прописи, — перебил Сёма. Он начинал злиться: по какому праву ему ставили палки в колёса?
— Так ведь к врагам едешь! Они ведь, а не немцы, нас и тогда убивали, в сорок втором, и теперь убили — не пожалели…
— Так ведь не в Америку еду, а в Израиль!..
— Это всё одно, — с укором сказал старик. Лица его на фоне светлого окна видно не было. Но, может, и хорошо, что не было видно лица.
— Израиль и Запад — разные величины.
— Дети должны продолжать дело отцов.
«Так я и продолжаю это дело», — подумал Сёма, но вслух раздражённо сказал другое:
— Что ты суёшь мне постоянно в нос этот 42-й год?
— А то, — жалобно сказал старик, растирая грудь у сердца. — Немец или русский, служивший у белых, оказался-то прав… Увы!.. Он ведь видел, как я тебя из толпы выхватил. Видел! И мог бы расстрелять — это было что чих чихнуть… А он только усмехнулся и покачал головой: «Ну-ну, мол, испытай и ты своё милосердие!»
— Так что я, изменяю, что ли, своему народу?..
Кружилась от гнева голова: «Куда лезешь, старче? Тут ток высокого напряжения. Бабахнет, и — врозь копыта!..»
Но проклятый старик не ответил. Вышел, согнувшись, из гостиной, нырнул в свою комнатку да и растянулся там на железной, солдатской кровати, а родственница его, внучка или племянница, шумно закопошилась в коробке с лекарствами, побежала за водой.
Сёма сделал вид, что оскорбился, забрал свой портфельчик с купленным на вокзале гостинцем, банкой индийского мангового сока, и, не прощаясь, вышел на улицу, где ожидала его нанятая «Волга».
Машинально сел, машинально указал, что надо ехать, и ещё долго, но без душевной муки, а с застрявшим, как заноза, чувством неприязни и досады, думал о том, что старик в чём-то прав и, в сущности, он, Сёма, так и не знает, где его подлинная Родина: то ли Россия, которую убивают враги, собираясь расстрелять и закопать, словно беженцев под Смоленском, то ли Израиль, эмиссары которого держат себя как подлинные властители всего мира…
Он служил и служит народу своего отца и своей матери, но русофобом всё-таки он никогда не был и совершенно убеждён в том, что русофобия — самая крупная ошибка евреев. Гогельман, Пушкинзон — этот примитив уже не проходит. Стремление нагадить в тарелку — объявить всех выдающихся деятелей русской культуры иноземцами или их отпрысками — потерпело провал: эта «развесистая клюква» вызывает у неевреев насмешки и презрение.
«Давно изречено, — думал он: — «Чтобы стать свободным, надо сделаться справедливым». Мировая власть евреев — больший кошмар для евреев трудно себе представить. Да все они тут же пережрут друг друга, едва только остальные народы обратятся в их полных рабов… Слепой эгоизм больных и опустошённых самолюбованием вождей терзает нас уже два тысячелетия. Вместо того чтобы покориться предречённой судьбе (всё равно она восторжествует, всё равно), мы, фактические мертвецы, стремимся питаться только кровью живых!.. Не верю в погибель еврейского племени, но твёрдо знаю, может, единственный сегодня из всех евреев, изучавших историю, что выход совсем не в той стороне, куда указывают наши сумасбродные и жестокие князья.
Верхушка давно уже сбрендила. Но это не замечается, хотя жизнь каждодневно уличает нас. Мы, действительно, превратились в народ-анекдот, вобравший в себя все мыслимые и немыслимые пороки. «Сёма Цвик — шпион, трусливая собака, запуганная русской палкой!» Успокойтесь, господа! Глубже Сёмы никто из вас не видит пороков русского народа и всех тех, кто поддерживает его!.. Да, Сталин спас евреев от Гитлера. Да, он был повивальной бабкой Израиля, этого не перечеркнёшь. Но мы получили от него территорию под государство уже слишком поздно! Мы опоздали, может быть, всего только на 30 лет, но опоздали… навсегда! Парабола нашей судьбы прочертилась уже в ином историческом пространстве, последний проблеск идеализма, который мог бы спасти нас сразу же после Нюрнберга, погас, раздавленный гнусной жадностью, скотской похотью и жаждой кровавой мести…»
Сёма вспомнил детский анекдот, запечатлевший его родовую судьбу. «О, Абрам, — шепнула Сара соседу, когда её муж ушёл на работу. — Зайди ко мне и возьми у меня самое дорогое!» Абрам вошёл в квартиру и ухватился за велосипед. «Дурак, что ты делаешь, я уже снимаю халат!» — «Ой, остальное у тебя то же самое, что и у Фиры!..»
«Вот он — гроб всякого народа: когда элементарная выгода выходит на первое место!.. Выгода слепит. Лёгкая выгода слепит вдвойне… Мы не просто лишены чести и достоинства из-за хабарных поползновений, мы полные рабы утиной утробы, к тому же опутанные ядовитой плесенью — незримыми нитями предрассудков и суеверий…»
Сёма вспомнил встречу с Н., игравшим в местном кагале вторую скрипку. Сделали его человеком, дали доктора, профессора — работай. А он всё поркается в мелочах, новой поживы ищет… Лежало у него на столе размноженное на ксероксе письмо. Из тех, что предлагают переписать его 20 раз, пугая, что вот Хрущёв, мол, порвал такое письмо и был смещён через четыре дня, другого, что сжёг его, сбила машина, а Пугачёва, прилежно разославшая письмо в 20 адресов, получила 100 тысяч долларов, и все другие обогатились и обрели счастье, кто поступил, как Пугачёва.
— На хрена тебе эта чепушатина?
— А вот и не чепушатина! Это часть нашей стратегической программы, и осуществляется она с 1916 года, а фактически первый пробный шар был пущен во Франции лет за двадцать до событий 1789 года. Человек — существо невежественное, а потому трусливое и суеверное. Ты глубоко заблуждаешься, так низко оценивая текст письма, — над ним работали наши крупнейшие умы. Вчитайся, мимо всех идиотских строк в подкорку впивается главное: что причины переворотов, обогащений и судеб народов скрыты в действиях потусторонней, недоступной нам силы. Это и есть главное — повести умы по ложному пути. Эзотеризм идёт на смену марксизму.
— Зачем?
— Наивный вопрос: или мы — или они.
— Но не таким же примитивным образом!
— Ошибаешься! Убойная сила этого «примитива» — примерно сотня монографий. И даже больше, потому что обыватели этой страны монографий, целенаправленно организующих сознание, не читают.
— Но ты сделал, я посчитал, ровно 20 копий! Он исказился в лице.
— Сколько попросили, столько и сделал!..
Сёма догадался, кто правит бал. Н. мистически трепещет перед угрозами: евреи уже верят в химеры, которые сами же создали!
«Доказывают, что мы умнее всех на свете. Я мог бы привести миллион примеров, разоблачающих такое самомнение. Разрушитель не может быть мудрым, а мы сделали разрушение основным и единственным средством обеспечения наших интересов. Вот отчего вянет и блекнет всё, к чему мы ни прикасаемся… Вот отчего наше торжество нигде и никогда не бывает продолжительным… Необоримый еврейский ум и хитрость — блеф, как и обширные знания. Евреи берут сговором, и только тогда, когда всё загодя обговорено, а при неожиданных событиях они разевают рты, как все прочие, и обдурить их не составляет никакого труда…»
О нём за спиной говорят: «Ах, Сёма Цвик? Оригинал пустого голословья!»
Люди, у вас есть гляделки? Где ваш кумпол?
Два года назад тут объявился некий «бизнесмен из Канады». Он и по-английски-то ни бельмеса не понимал. Господин «Эври-боди Нос». Уже в этом имени крылась злая насмешка. Правда, в паспорте было иное — Ovribodi Noth. Но это доказывает, что прохиндей не знал даже азов английского языка.
Наши окружили его тотчас же показным вниманием, ликуя, что почти облапошили: он на все соглашался. Кто-то спросил «г-на Носа» (ему уже и кличку дали — «Шнабель»), отчего у него такая странная фамилия. Он вскинул на вопрошавшего окружённые морщинами, крокодильи глаза и подкупающе просто ответил на ломаном русском языке:
— Вапще-то мы — семья из Вильнюса. Когда мы в эпоху Адольф бежаль в Лондон, отец за ящик у виски приобретал хороший английский паспорт. Много смеялся английский человек, но ещё больше мой отец, простейшая часовщик…
Вот этот проходимец из Пензы, как установили потом, когда он уже улизнул, обвёл вокруг пальца самых закоренелых деляг, отвыкших при совках от всякой конкуренции.
Г-н Нос нарвался на какого-то еврея в аэропорту и с ходу очаровал его предложением создать совместное канадско-российское предприятие. Он молол что-то несуразное насчёт «инвестиционного холдинга», предлагая делить прибыли в рублях 80 % на 20 %. С российской, мол, стороны понадобится только фиктивный вклад, основные деньги пойдут из специального частного фонда, заинтересованного в капитализации России по гватемальскому пути.
Нашего ёлопня стратегия устраивала. Он поделился успехом с приятелем, и через три дня г-н Нос подписал на бланках своей компании, уже заверенных печатью, три контракта, в которых прибыль распределялась в более выгодном для наших варианте — 70 % на 30 %. Вот этот «успех», вырванный наглостью, и погубил все дело. Это было психологической приманкой. За разговорами и мелкими выпивками нашим фраерам мерещилась зелёная пенка на десятки тысяч, которые г-н Нос обещал зачислять на валютные счета в Торонто или Чикаго.
«Канадский джентльмен» имел при себе редкий тогда ещё сотовый телефон, иногда связывался со своим компаньоном Джоном в Гамбурге, повторяя одну и ту же фразу: «Ол рашен бойс хиа а верп гуд. Кол ми плиз лейте, Джон, фор де момент ай эм бизи». В вольном переводе это означало: «Все русские парни здесь прелестны. Позвони позднее, потому что в данный момент я страшно занят».
На халявной пьянке, где г-н Нос показывал волчий аппетит, но даже во хмелю не терял бдительности, этот самый Джон, якобы личный секретарь президента «Интернейшнл инвестмент энд факторинг компани», вдруг сообщил, что «шеф вряд ли утвердит соглашение, если ему в течение трёх дней не будут представлены бумаги, удостоверяющие солидность русских компаньонов».
И — завертелось. Наши забегали, как тараканы после первых доз хлорофоса: извлекали из рукавов реквизиты своих фирм, называли суммы, которые якобы способны вложить в дело. И хотя всё это, по объяснениям г-на Носа, было только «для отвода глаз», нужны были реальные бумаги, реальные подписи банковских работников и всё прочее, что без смазки никогда не делается. И эти издержки тоже служили психологической гарантией, что оказавшаяся на крючке бильдюга не сорвётся.
Лопоухий щенок, на каждом шагу уличавший себя как начинающий аферист и шмага, обшпокал опытных жуликов с научными степенями и особыми пристрастиями к политическим дискуссиям о «будущем России».
— Я имел авиабилет до Шенон, Айрланд. — И совал всем какую-то ксиву. — Hay я должен прибывать послезавтра в Париж. Виза в порядке повсюду. Нужен небольшой сумма на билет. Я покупаль здесь слишком ужасно много подарки. Пять тысяч долларов — фьюить!..
Никто не усомнился в этом, тем более что щедрость г-на Носа, особенно по отношению к свободным московским барышням, постоянно подтверждал «личный секретарь г-на Носа в России» некий Саша Ахтамзян, якобы рекомендованный самим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Когда евреи сообразили, что им необходимо приставить к г-ну Носу своего человека, вакансия была уже забита. На деле её никогда и не существовало. Этот Ахтамзян был напарником «командора из Канады» и всё время напирал на то, что у него мать и братья — калеки, жертвы землетрясения в Спитаке, их необходимо было срочно госпитализировать, и «если бы не г-н Нос, я бы никогда не решил эту проблему — он выложил мне с ходу двадцать тысяч долларов! Где вы видели ещё такую щедрую натуру?..»
Короче, ловкий язык Ахтамзяна подвёл к тому, что каждая из трёх «фирм», подписавших соглашение, собрала наличку на билет до Парижа, не сомневаясь, что через неделю получит своё обратно. Кроме того, все дали Ахтамзяну втихаря по 200 долларов, получив от него «доверительную информацию» о том, что босс «Интернейшнл инвестмент энд факторинг компани» якобы намерен понизить проценты в договорах с двумя фирмами. «Это моя забота, — заверил Ахтамзян, — чтобы не наехали именно на Вас!»
В полдень рокового дня, когда телефон «командора» перестал отвечать на звонки, все наши «фирмачи» забили тревогу и явились в отель, где проживал г-н Эврибоди Нос. И что же выяснилось? Что он, действительно, проживал в отеле, но не две недели, как считалось, а всего одни сутки. Каких-либо оставшихся его вещей обнаружено не было. Пропал и улыбчивый Саша Ахтамзян, который в кульминационные моменты приятного общения повторял: «Пусть мэня в гробу обосцут внуки, если я измэню хоть одно слово нашего договора!..»
Увы, многие евреи не видят, куда тащат еврейство и вместе с тем весь мир, — кто способен побудить их одуматься? Я ни на секунду не сомневаюсь, что все мы давно одурачены собственной пропагандой. Мания избранности и жалкие анекдоты давно уже заменили нам трезвую философию жизни.
Еще в советские времена для гоев была сляпана установка, призванная поколебать все их надежды. Плывёт в открытом море баран. Летят мимо чайки. «Баран, а баран, куда плывёшь?» — «В Африку». — «Так ведь в той стороне Австралия». — «Мне это до лампочки, всё равно никуда не доплыву».
Так вот, бараном сегодня выступают не гои, ищущие спасения от нашего назойливого общества, а мы сами: мы не знаем, куда плывём, но все из нас знают, что никуда не приплывут. Сегодня сорвут куш и завтра, а послезавтра — 9 г свинца под модную кепку…
Удивляюсь, как это — при всей нашей мнительности — мы не способны даже сообразить, что нужно что-то делать, как-то изменить инерцию нашего движения.
Судя по анекдоту, мы, евреи, приходим к доктору не как русские Иваны, за три дня до смерти, а за три года до болезни. По это пустое бахвальство: сегодня мы и не думаем обращаться к доктору, хотя обречены…
Не доверяй мыслей — не вырвут сердце
Сам Господь возгласил из неопалимой купины: «Ваше племя избираю я для осуществления всех своих замыслов, вам господствовать над всеми народами и вселенной, проводя мою волю!»
В эту чушь уже мало кто верит из нынешних людей. Оно и понятно: если ты, действительно, Бог, тебе достаточно только подумать, и всё должно осуществиться. А когда выходят на сцену, виляя голым задом, и просят скинуться по десятке деревянных на исполнителей замысла, это называется уже иначе…
Мы избранный народ потому, что мы первыми сделали знания фундаментом борьбы. Потому что в течение столетий скрупулёзно собирали, похищали, покупали, отнимали, создавали и берегли знания, открывающие перспективу для нашего господства.
Даже мне не доверены все сокровища, объясняющие взлёты и падения, но я, по крайней мере, верю в то, что они реально существуют в хранилищах князей нашей церкви и фараонов нашего всемирного государства.
Мы — избранный народ потому, что мы единственный народ на свете, который подвергается постоянной, целенаправленной шлифовке, обучению и воспитанию. Другие, если и сознают необходимость работы над народом, всё равно всех тайн тут не знают и действуют глупо и неэффективно. Тратить на образование, здравоохранение, воспитание детей и поддержание стариков — это одно. Совсем другое — вкладывать в народ как в самое важное, самое прибыльное предприятие. Тут нужна избирательность, тут предполагаются высшие знания, особая стратегия, которой нет и не будет у других племён, потому что мы бдительно контролируем этот процесс и не позволим, чтобы кто-либо тут наступал нам на галоши.
Единственный, кому удалось прорваться к великой тайне, — Ёська Сталин, преступный диктатор. Он более всех помешал основным замыслам наших правителей и уничтожил многих из тех, кто вёл наше племя от победы к победе. Придёт время, и мы скажем: мы облажались, потому что на нашем пути встал именно этот человек. Даже его могильная тень ныне сильнее сотни американских дивизий…
В течение девяти последних лет мне была доверена высокая миссия: выполняя высший приказ, я собирал все известия о завещании Сталина.
Наши люди не обнаружили его в сверхсекретных папках Политбюро, хотя первыми перекопали все клубни. Следы указывают, что такой документ был ещё при Горбачёве. Где он находится, в чьих руках? Кто его похитил? С какой целью?
Я уверен, что документ, как и многие другие важнейшие документы, которые нельзя предавать огласке, чтобы не взбунтовался русский пьянтос, находится уже у наших друзей — за океаном. Утверждают, что им пришлось выложить за последнюю партию архивов (четыре чемодана) более 2 млрд. долларов, и они считают сделку очень выгодной.
Боссов, конечно, интересовало другое: кто — поимённо — знает о завещании? Нет ли ещё у кого-либо из аборигенов текста, способного взорвать весь современный мир и положить конец его искусственной летаргии?
Грузинско-осетинский ублюдок, долгие годы скрывавший свои действительные убеждения, первым разбурил теорию Карла Маркса, а также и Ленина, которого на словах боготворил. Говорят, под конец он поставил своей первой задачей — пойти дальше Адольфа, чтобы затормозить наше победоносное движение к всемирной власти. Выходит, все усилия наших людей — вызвать у Сталина патологическое отвращение к фигуре Гитлера, не увенчались успехом. Выходит, те, кто пас диктатора все эти годы, не решили своих задач.
По высшим законам, установленным ещё Моисеем, всем этим типам полагается смертная казнь. Но они вывернулись, уберегли свою шкуру. Это таким пахарям, как мы, можно совать в рыло маузер, а они откупаются от любого суда…
Но, может, так и должно быть. Еврей — существо, которое не терпит безвыходного положения. Если еврей осознает безвыходность, он самоликвидируется. Он добровольно идёт в газовую печь и ведёт туда своих детей.
Именно в этой особенности нашей психики следует искать истоки несомненной богоизбранности и оправданных претензий на богостроительство для всех народов земли… Мы организованы тоньше всех. Чего нам всё-таки не хватает, так это беспощадности к попутчикам. В конце концов, это такие же враги: их смерть продлевает нашу жизнь. Неполноценный еврей — не еврей…
И мёртвый Сталин опасен для мира всех живых… Интересно, каким образом он собирался внести организацию и культуру в русскую расхристанность и примитивность всех остальных населенцев этой страны?.. Ничего уже не выйдет, им придётся унавозить своими телами китайские рисовые поля, прежде чем и туда придёт настоящая демократия.
Утверждают, что Ёська мелет в своём «Завещании» о планах создания Соединённых Штатов Хазарского Каганата. Раскусил, проклятый фашист, что гибель ожидает прежде всего те народы, которые не имеют сколько-нибудь серьёзных механизмов обособления правящей головки? А ты что думал? Да, купить верхушку псевдоэлиты всегда дешевле, нежели вести войну с тем или иным государством.
Одни будут печатать деньги, остальные — работать ради этих денег. Вот он, маховик будущего прогресса. Всё просто, как швабра… Можно купить всех, и не за горами уже это золотое время. Каждый умный человек станет миллионером, и капитал будет приводить в движение как нищую трудовую массу, муравьев, которые никогда не должны покинуть муравьиной кучи, так и класс полицейских, готовых пытать и мучить своих детей и родителей, чтобы ни один из них не соблазнился долей камикадзе. Толковая власть предполагает даже больше, чем традиционная власть Бога: Бог присутствует в мечте или в церкви во время богослужения, — надо сделать так, чтобы Бог давил на мозги челяди постоянно… Это участковый, телевидение и новый наркотик, его мы будем раздавать бесплатно…
Даже из посвящённых не все знают, что самое главное средство разрушения или созидания — избранная парадигма развития. Это наш конёк, тут нам равных нет и не может быть.
Мы погубили бы себя тотчас, если бы позволили гоям самостоятельно мыслить в этой важнейшей сфере. Вот отчего первейшая забота истинного патриота — навязать противнику и конкуренту ложную парадигму, которая сама произведёт эффект разрушения…
До чего мог додуматься Сталин, если его мозги были в клещах марксистских формул?.. Выскользнул? Но на какие открытия вышел? Эпштейн-Мирзоев клянётся, что все письма Сталину контролировались и из них изымались наиболее серьёзные разработки под предлогом их полной абсурдности и противоречия «бессмертному учению Маркса-Ленина-Сталина». Авторов потом без шума и пыли депортировали в безлюдные зоны. За полярный круг, где при минус сорок и соевой похлёбке сморщиваются любые мозги.
Сам?.. Неужели сам?.. Недоучка, мелкий ублюдок, которого проморгали и прохлопали в свой час. Лев Давидович кусал себе локти, — поздно спохватился!.. Никогда нельзя забывать о заповедях, оставленных нам более мудрыми: «Потенциальный враг должен быть устранён. Большой или маленький, различий нет: дороги во всякое время должны быть без камней…»
Если бы я руководил операцией, я бы начал с ареста Прохорова. Молчит — мучить. Ещё молчит — ещё мучить. Мучить, пока не заговорит.
Они проморгали. Даже убивая, не убили, — портачи.
И потом, чтобы получить «Завещание», нашим засранцам не следовало мелочиться, нужно было пообещать хорошие бабки. Думаю, что всё так долго тянулось именно потому, что взятки давались не тем лицам.
Меня так и не отблагодарили, хотя именно я дал верное направление поиска… Сёма Цвик сдрейфил, а наш «суперагент» так и не раскопал, куда делись две папки, которые Прохоров держал у себя дома…
Застолбив финансирование, они нарочно топтались вокруг сталинских недобитков, лауреатов и прочих, которые лгали напропалую…
Кто именно встречался со Сталиным? Даже это достоверно не известно. Но мне лично, кстати, и не нужны были эти сведения. Тиран ни с кем так часто не встречался, как с высшим генералитетом и оборонщиками. Он думал, что мир побеждают армиями и оружием, — наивный. Чебурашка усатая: мир побеждают обманом, системой разложения и лишения соков. Велика и могуча сосна. Но пусти на её ствол крошечных короедов, и уже никто не спасёт дерево от усыхания и смерти…
Борьба умов — вот сфера главной борьбы народов. Только побеждая в каждом конкретном случае, можно победить в целом… «Сколько у вас гениев, господа чукчи?..»
Я ленив — это так. Даже деньги всё реже оживляют мою угасающую энергию. Но что её способно оживить всегда, так это ненависть. Или я ё или они! И когда ты уже видишь, что они проснулись, что-то почуяли и заблеяли, как жертвенные бараны, энергия возвращается вновь: запах свежей крови, запах новой победы щекочет ноздри. Как это сказано у Багрицкого? «Лишь попирая этот сброд, мы обновляем идеалы. Долой недуги и усталость, нас комиссар ведёт вперёд!..» Или это не Багрицкий?..
Мы комиссары — такова воля Господа. Нация комиссаров…
Сундучок скрывает много добра. И много тайны, которая произведёт огромные беды, если вырвется наружу. Но она не должна вырваться, если думать об этом постоянно, быть постоянно готовым к любой интифаде. Мы убережёмся, мы выйдем из любых камер, об этом есть кому позаботиться, но разве не возмущает, если нарвёшься на фанатика и фашиста, который тебя обшмонает до последней нитки и непременно выудит свою добычу?..
Жизнь всё-таки невыносима. Мы заложники безрассудства наших князей. Приходится угождать самонадеянным фонфаронам, хотя меня бесит их зазнайство при вопиющем невежестве. И кому не пожалуешься? Нельзя выносить сор из избы: за это бьют в промежность, бьют больно.
С другой стороны, тупые обыватели. Да, они питательная среда. Колодец, откуда надо черпать воду и песок, чтобы обнажить золотые слитки. И все эти двуногие, даже самые покладистые, смиренные, поведение которых мы хорошо оплачиваем, полны презрения и скрываемой ненависти.
Постоянно валять Ваньку или Ахмета — надоедает. Надоедает тупость, медлительность, жадность и затаённая надежда на то, что наша власть обвалится.
Не обвалится — медный пест вам в зубы! Мы владеем выверенной технологией достижения и удержания гегемонии!
Бог велел нам по необходимости стеречь мозги всего мира. И мы выполняли его волю. Вот почему Эсэсэр дрожал от миллионов ежедневных собраний с их протоколами, бесконечными товарищескими судами и периодическими кампаниями, в сумме дававшими эффект перманентной «перестройки»: все зверели от досады, ходили офонаревшими, никто ничего не различал впереди и покорно выполнял волю тех, кто зычно подавал команды. Чтобы рыба стояла на месте, надо уметь взмутить воду.
Сегодня мы не можем действовать, как в советские времена, когда все технологически обеспечивалось нашей доктриной. Придётся уткнуть каждое рыло ненавистника в телеэкран, — он будет лепить из мусора и глины холопов нового и окончательного уже порядка…
Мы, действительно, призваны править миром от имени Бога. Мы усвоили человеческую Истину, а другие — ещё на положении низших тварей. Как муравьи, они суетятся, будто бы спасая род, изводят себя тревогами о какой-то общности: кто как подумает, кто что скажет? Нет, господа, человек совершенно одинок, с ним рядом скользит только небесная тень, но и она — химера, хотя вслух говорить об этом не принято. О многом мы не говорим, но это не значит, что этого нет. Иной обдристался, а с улыбкой танцует гопак.
Да, я откровенно ставлю на свою выгоду. Интересы выгоды обеспечивают мне спайку с другими, расширяют связи и дают взаимодействие. И так называемая «родина» должна приносить выгоду. Если её нет, я не стану держаться ни за какую землю, даже за «святую»…
И мой дед, и мой отец, и я сам — все мы жили в своё удовольствие, не считаясь по возможности ни с кем и ни с чем. Понятие общественной сцены и театра, который происходит на ней, — это всё вторично, а сначала — быт, т. е. еда, сон, безделье, игра, половая связь, использование всех шансов, чтобы наполнить свой кошелёк.
Бог ведь тоже одинок. Жутко, непередаваемо одинок. Но ведь только это одиночество и создаёт бога. Поэтому и мы, сколько бы ни крутились на людях, завязывались и развязывались, так же одиноки. Мы не то чтобы ненавидим всех прочих, мы просто обременяемся ими, если они не несут прибыль, — мёд, молоко или, ещё лучше, деньги.
Богу проще: ему ничего не надо. Нам тяжелее всех: мы знаем, что нам принадлежат и вся власть, и все богатства, но недочеловеки этого не понимают. И не поймут, пока не дашь им бревном по затылку…
Другие чем берут? Во всякий час жизни стремятся прояснить взаимоотношения со всем миром. Как корабль в океане, постоянно уточняют свой курс. В бушующем хаосе мирового быта мы тоже обязаны постоянно уточнять координаты, иначе существование превратится в мучение, в средоточие беспокойств и страхов, вызывающих роковые болезни рассудка. Деньги повышают свою цену, когда смотришь на массивное здание банка…
Некоторые спихивают проблемы на бога, полагая, что для этого он и придуман. Ради этого несутся дары его наместникам, возводятся храмы и поются молитвы — вершится театр, где все участники, за исключением кучки шизиков, про себя хорошо знают цену пьесе и актёрам, но — участвуют, потому что иначе не выдержать напора грязи и бессмысленности каждого жизненного действия.
Бубоны у нобиля — бубоны у клиентов. Всё это не свойственно нашему сознанию, почерпнуто у аборигенов с их незавершённой и потому чрезвычайно неустойчивой культурой. И если только клопа задавили, мы начинаем с восклицательного знака, а они норовят поставить точку, если и бешеного пса связали.
Где сегодня настоящее еврейское сознание? Это фикция, даже если человек торчит в синагоге. Сама синагога давно питается идеями, притекающими из нееврейского, гойского мира… Правда, его богатства принадлежат избранным в их совокупности, как стада домашних животных принадлежат человеку, — с их молоком, рогами, шкурами и потомством…
Говорят, я резок в суждениях. Но это потому, что у меня больше извилин по сравнению с собеседником. Он ещё рта не раскрыл, а я знаю, чего он попросит, задницу подтереть или горло смочить. Отсюда — естественная философия: лучший должен быть выше. Наши отцы вовремя это разглядели и создали механизм рассеяния. Если бы они его не создали, мы пожрали бы друг друга без огня и сковородки. И то произойдёт, непременно произойдёт, если мы окончательно победим — вот опасность. Гений не терпит гения, между ними должна быть резиновая прокладка из дураков. Этакий презерватив. Вожди это знают, и сегодня они уверены, что найдут способ умиротворения: каждому генералу отпишут по сотне черномазых капралов, чтобы он их приводил к покорности и послушанию. Рекомендации будут стандартными: хотя мы и кичимся «независимым умом», мы способны действовать только по предписаниям. Главное из них — террор. Но для успеха тут необходимо громче всех выступать против террора. Мы держали на своих плечах всемирную диктатуру пролетариата. С таким опытом будет проще руководить глобальным порядком. Под молотом антитеррора и экологических стандартов не устоит уже ни одна сволочь, даже шибко цивилизованная. Но соблюдём ли мы здесь меру?
А вообще, признаюсь: не понимаю воплей так называемых «патриотов». Это всё клинически больные люди. Убей меня, не представляю, чего они хотят. «Дайте нам Родину!» Так берите её, берите, если вы не импотенты!..
Однажды я спросил об этом знакомого уимблдона:
— Русские хотят управляться русскими, — сказал он.
— Но в сегодняшнем мире это нонсенс! Ни американцы не управляются американцами, ни немцы не управляются немцами!..
Сколько он ни повторял лозунги, я в них не нашёл ничего, что выходило бы за рамки обыкновенной черносотенщины, — какой-то непостижимый фанатизм, сплошной шовинизм, попахивающий фашизмом. Серость и бескультурье…
— Да ты, кочерыжка, хоть понимаешь, что нет уже тех русских, о которых ты болбочешь?.. Последних из них возмущённый пролетариат Москвы и Питера давно в капусту порубил, чтобы жилплощадь себе освободить!.. Теперь, что ни русский, то черемис или северная эта балбашка, как звать, не упомню… Чукча или зюгана!..
Закон общей могилы
Я уже знал, что нахожусь в клинике «Скорой помощи», подобран случайно за кольцевой дорогой в кустарнике и колотых ран на моём теле тридцать шесть, — только по случайности ни единая не оказалась смертельной.
Знал я и то, чего не знали врачи и до чего никогда не докопалось бы следствие: меня везли уже в крематорий, где «свои люди» должны были обеспечить «полное исчезновение улик».
Леденил душу гнусный самосуд, который учинили надо мной мои вчерашние «приятели», — это было пострашнее, чем тот незабываемый расстрел под Смоленском отца и бабушки Фриды.
Я уже не был жильцом на этом свете — тоже было ясно. В стране происходили события, которые привели необузданных эгоистов в состояние эйфории и фанатичной ярости, — кто мог удержать их? Уже не было такой силы. Вихрь обогащения и власти, позволявшей обогащаться, захватил всех вчерашних теневиков и диссидентов…
Судилище готовили больше месяца. Расписали роли. Дважды мне предлагали присоединиться к компании и поехать «на дачу» — банька, пивко, для любителей — патентованные, стерильные «девочки». Я подозревал, что это западня, что любой мой неосторожный шаг обернётся трагедией. А после снов про рыжего кота держался особенно осторожно.
И они устроили похищение: подогнали к издательству, где я работал, задрипанный «РАФ», и когда я вышел, Шлёнский и Додик Верхотуров затолкали меня в машину, где объявили, что меня вызывают на «суд чести».
— Будешь дрыгаться, падла, проломлю череп, — предупредил Шлёнский, выдававший себя за поэта, поклонника Блока и Хлебникова, и подкинул на ладони тяжёлое колесо зубчатой передачи. — Не херем, но вполне интеллигентный тет-а-тет.
Я не сопротивлялся — это было бесполезно. Но потом взяло зло: куда вы суётесь? Кто из вас может гарантировать, чем всё окончится? Черви, пожирающие живую плоть…
Они боялись, что машину остановит какой-нибудь гаишник.
По пятам шла новенькая черная «Волга» с номерами Совета Министров. Видимо, там сидел тип из прокуратуры, который должен был уладить любой конфликт.
Остановились в каком-то старом дачном посёлке в пригороде Москвы. Высокий забор, частный дом.
Когда высаживали из машины, хозяин дома спустил трёх собак. Поднялся перебрёх, при котором даже соседи не расслышали бы криков о помощи.
Это был, конечно, дом миллионера. Все они очень активно участвовали в горбачёвском заговоре и поддержали затем Ельцина: пустили шапки по кругу и выложили «на дело» не менее трёх миллиардов долларов. Не добровольно, конечно, — такие типы добровольно угощают только фруктовым эскимо. Новая власть и новый порядок были практически куплены, хотя со стороны виднелся только густой дым идеологических споров как бы с неопределённым результатом, позволявшим бить прозревавших поодиночке.
Меня посадили в бетонный подвал без окон, где и продержали целые сутки. Поесть принесли только один раз, сказав, что иначе я засру весь подвал. В качестве параши оставили белое пластмассовое ведро с чёрной крышкой.
Через сутки три амбала в масках вывели меня наверх.
Я оказался в гостиной, разделённой голубым занавесом на две части. За занавесом сидело, судя по голосам, десятка полтора-два негодяев, которым организаторы судилища хотели преподать урок «правильного поведения», точнее, запугать перед решающими действиями, поскольку все эти подонки трусливы и ненадежны: всегда могут предпочесть свою шкуру всему остальному.
Я совершенно уверен, что среди участников этого спектакля с ритуальным убийством в конце находились самые известные в ту пору политические деятели. Я узнал некоторых из них по репликам ещё до того, как потерял сознание, когда они стали втыкать в моё тело специальный кинжал, повторяя затвержённую фразу, — зверьё, в котором не было ни капли человеческого, только оболочка.
Расправу учинили формально за то, что я не добил Прохорова, не выстрелил ему в рот, как было приказано. Эти вечные лайдаки пасуют, когда им самим приходится делать конкретную работу, но тем усерднее ищут виновных, козлов отпущения.
В гостиной меня связали, посадили на стул и накрыли повязкой глаза.
Я слышал, как по ту сторону занавеса с учтивыми замечаниями рассаживаются участники «суда чести». Мне предстояло услыхать много неизвестного: они исходили из того, что я уже труп.
Не знаю, кто вёл допрос, — это был, без сомнения, человек, обычно не появляющийся в обществе, — из тех, которые разрабатывают операции, уютно расположившись на дачах или в пансионатах. Целые пансионаты уже принадлежали «нашим» ещё задолго до развала и гибели СССР: «семинары» в них крутились беспрерывно, в том числе «международные».
— Вы Самуил Аркадьевич Цвик? Отвечайте полным ответом!
— Да, я Самуил Аркадьевич Цвик.
— Признаёте ли вы как член добровольного Союза освобождения граждан от заблуждений прошлой эпохи, что вы обязаны проявлять солидарность, особенно когда происходят судьбоносные события?
— Я не вхожу ни в какую организацию и потому никому не обязан.
— Вы лжёте, потому что имеется ваша подпись под манифестом Союза освобождения!..
— Клевета или недоразумение. Я ничего и никогда не подписывал, представляя, чем это может окончиться. И непременно окончится.
— Вы добровольно участвовали в работе организации, стало быть, одобряли её действия…
Это была прелюдия, и предназначалась она для того, чтобы произвести впечатление на других участников судилища.
— Учтите, — сказал я, — если хоть один волос упадёт с моей головы, вам не сдобровать! Нужные люди оповещены о ваших кознях!
— Все ваши связи обрезаны, как сигнализация сберкассы перед ограблением, — сказал злорадный голос. — Эта страна всё пьёт и пьёт, но ей всё хуже и хуже и скоро она издохнет, так ничего и не сообразив!
Подонок имел в виду анекдот про оленя, намёк на русский народ: Олень пришёл на водопой, стал лакать воду, а охотник всадил в него из засады две пули из винтовки с глушителем. «Как же так, я пью-пью, а мне всё хуже и хуже!» — подумал умирающий Олень.
Когда эта недалёкая публика развеселилась, «оценив» остроумие ведущего, я решил не унижаться и не вымаливать снисхождения.
— Вам кажется, что вы идёте к полной власти в этом государстве, но вы ввергаете своих сторонников в полосу неминуемой опасности, скорее всего, полной гибели.
Ответом мне был дружный насмешливый хохот.
— Теперь всё делается по технологии, ошибки исключены! А вам придётся ответить прежде всего за то, что вы выдали нашу тайну!..
Примерно полгода до того рокового судилища я сумел найти нужный контакт и был принят весьма крупным чином госбезопасности, занимавшимся смутой среди интеллигенции.
Это был сломленный и растерянный человек. Когда он прочитал мою записку (впрочем, не подписанную), он сказал: «Это ценный материал. Материал, который следовало бы расписать для моих руководителей и членов Политбюро. Подписывать его, в самом деле, не нужно. И я даю совет: если когда-нибудь вас станут шантажировать, вы должны всё отрицать, потому что, кроме меня, не будет иных свидетелей».
Что он хотел этим сказать?
В записке я сообщал о том, что в течение последних десяти лет идёт тихое, но интенсивное наполнение диссидентами всей инфраструктуры государственного переворота. Существует некий нигде не зафиксированный план, по которому во всех государственных организациях созданы и действуют группы, способные перехватывать важнейшую, в том числе закрытую информацию, и оказывать влияние на руководителей, — через помощников, советников, консультантов, жён, родственников и т. п. План простирался до КГБ, аппаратов Совмина, Президиума Верховного Совета и ЦК КПСС. Вместе с тем были определены приоритетные плацдармы, в число которых вошли редакции газет и журналов, особенно популярных и массовых, телестудии, Министерство связи, Министерство иностранных дел и ряд научно-исследовательских институтов, втихаря подбиравших уже новые кадры управленческих работников. Приводились конкретные цифры.
— Всё это известно в подразделениях, которые этим занимаются, — торопясь закончить встречу со мной, устало сказал тот важный кэгэбэшник. — Известно даже больше, но кто станет заниматься этим всерьёз, когда партия осудила политические процессы, а вашему материалу никак не придашь иного характера? Да и улик нет, потому что всё вершится открыто. Именно так — совершенно открыто — в будущем будут осуществляться все акции агрессии, — прилюдно, при свете юпитеров, с ежедневными брифингами, с нудными пояснениями совершенно надуманных, но внешне как бы убедительных предлогов…
Вспомнив внезапно про свой сон, я сказал главному истязателю, блефуя, потому что иное было исключено.
— Огненно-рыжий человек, Ваши приметы давно сообщены тем, кто сумеет защитить меня.
— Он видит, видит! — истерично заорали голоса. — Смените ему повязку! Затяните потуже, утопите буркалы в мозги!..
— Чепуха, — сказал тот, кто вёл допрос. — Пройдёт ещё четверть часа, и обвиняемый станет начинкой для гроба. И если полиция отыщет его, в чём я, конечно, сомневаюсь, улики приведут в лагерь «патриотов», которые не плавают дальше бутылки водки!
Меня это шарахнуло, как током.
— Знаете ли вы, возомнившие себя новыми поводырями мирового прогресса, что такое «закон общей могилы»? — Я всё ещё рассчитывал как-либо сбить спесь с этой неистовой сволочи. — Когда гибнут люди, связанные общей судьбой, спастись уже не может ни один из них. Рано или поздно он исчезнет в общей могиле. Ваш нынешний шахер-махер в стране поставил на край могилы целые народы. Вы этого не понимаете, потому что все вы шахматисты-аферисты и дальше двух-трёх ходов ни один из вас не может сказать чего-либо вразумительного. А жизнь страны — не шахматы…
Меня перебил «прокурор»:
— Мы поместили вас сюда, господин Цвик, чтобы высказать свои претензии. В ваших объяснениях мы не нуждаемся, это жалкий лепет отщепенца. Вина ваша неоспорима. Суд части уже вынес решение.
— Я не признаю вашего суда.
— Это ещё одно отягчающее обстоятельство, которое будет отмечено в протоколе, — сказал «прокурор». — Вы приговорены к смерти через лишение собственной неполноценной крови. Каждый, кто участвует в суде, ударит отступника особым кинжалом, ему более тысячи лет, он открывал жилы сотням изменников нашего дела в Константинополе и Лондоне, Париже и Берлине, Бостоне и Нью-Йорке, Варшаве и Москве…
Мне стало плохо — голоса отодвинулись, внезапно я почувствовал необычайную жажду, всё во мне сразу высохло, и сил не оставалось даже на то, чтобы сказать об этом. Жажда мучила меня больше, чем ожидание смерти, в которую я не хотел верить: всё вокруг было фантастическим бредом. Этим подонкам было неважно, есть вина или нет, им важно было провести сеанс ритуального «испития крови предателя», которым они хотели поскорее повязать единомышленников. Конечно, исполнялся приказ, и его было не остановить. Это был очередной гешефт, и тут они хорошо разбирались, что верней, что выгодней и что опасней.
Меня привязали горизонтально к кресту, который выкатили или вынесли из другой половины гостиной. А потом ударили кинжалом в грудь, и я сразу же потерял сознание…
Врач, который приходил ко мне, объяснил, что меня били ножом с лезвием в 22 миллиметра.
— Кто это вас так отделал? Впервые сталкиваюсь с таким случаем, — признался врач. — Какой садист или маньяк надругался над вами? Он, видимо, пытался умертвить вас путём обескровливания тела, но зачем? Мы вам влили столько же крови, сколько у вас было до преступления… Тридцать шесть ножевых ударов!..
В убийстве, стало быть, принимали участие тридцать шесть «апостолов», заговорщиков высшего эшелона.
Я мог бы пояснить врачу о подоплёке «странностей», но это потребовало бы таких физических и духовных сил, которых я не имел.
Мне всё было безразлично. Я не радовался даже тому, что вернулся к жизни.
Несколько дней прошло, а я всё лежал в реанимации. Было одиноко и горько. Я понимал, что обречён и не способен преодолеть обречённости. Я знал, что и великое государство, — несмотря на то, что силы его ежедневно подкрепляются энергией десятков миллионов верных слуг, — неудержимо гибнет и распадается под влиянием злой, но неуклонной воли, давно научившейся сталкивать соперников и тем самым торжествовать над ними.
Временами наведывался врач. Временами являлась приятная медсестра, ловко выполнявшая все назначения.
И вот однажды — это было днём, когда я лежал, обуреваемый полусном- полубодрствованием, испытывая прежде всего телесные страдания, — передо мною возник человек в белом халате.
От него сразу дохнуло такой враждебностью, что я, вздрогнув, тотчас восстановил терявшийся в полу дрёме контакт с реальным миром.
— Привет, — сказал он, озираясь, и стянул на миг свой колпак, под которым топорщилась рыжая копна вьющихся волос. — Узнаёшь?
Если бы у меня были силы, я бы заорал от ужаса, скликая людей, — мерзавец был «прокурором» судилища, — выходит, я тогда угодил в точку, предположив, что он рыжий, — вещий сон предупредил меня…
— Вы никогда не придёте к мировому господству, — задыхаясь, сказал я, пытаясь как-либо выиграть время. — В человеке нет ничего сильнее инстинкта. И даже разум, хвалёный разум только обслуживает инстинкт…
Я ожидал удара ножом, выстрела, любой другой подлости, понимая, что нельзя этого показывать.
— Не повторяй бредни, предназначенные для идиотов! Неужели тебе не известно, что наши князья уже более двух тысяч лет правят всеми народами земли?.. Практически всеми, — поправился он. — Наши формулы позволяют выявлять противников. И они гибнут. И ни единый, о котором решено, не ускользнул.
Он вырвал из гнёзд все гибкие шланги, через которые мне подавались питательные растворы, и следом извлёк из кармана шприц.
— Только не дрыгайся, падла, это уже не больно!
Сбросил тонкое одеяло и воткнул мне иглу в бедро.
Пламенем запылали сразу все кости, расходясь в сочленениях, я дёрнулся и отключился…
Новый случай спас меня. Подробностей я не знаю, но в клинику как раз явился «бугор» из КГБ, с которым я когда-то встречался. Он поднялся к главврачу, и хотя тот всячески препятствовал свиданию, твердя, что я без сознания, что на месте нет лечащего врача, «бугор» в сопровождении дежурной по отделению решительно направился в реанимационную палату. Он даже посторонился, пропуская рыжего типа, поспешно выходившего из палаты, и сразу догадался, что это за тип, когда увидел меня, распростёртого на койке со следами насильственной инъекции. На полу валялся шприц с остатками смертельного препарата.
«Бугор» тут же позвонил в свою машину. Были предприняты все меры, но рыжего преступника задержать не сумели: он выбрался из клиники каким-то особым потайным ходом.
Двенадцать суток врачи едва прослушивали мой пульс, а потом я снова пришёл в сознание.
Я никому уже не верил и не хотел жить. Вторая моя жена, с которой я был в разводе, уехала в Израиль, а Маре, дочери по первому браку с Анной Петровной, русской женщиной, убитой грабителями, я велел более не приходить и не искать встречи со мной.
Подробности, за которые раньше расстреливали
Да, Сталин признал, что он составил политическое завещание.
«Мой опыт, — подчеркнул он, — должен быть учтён будущими руководителями государства, в противном случае нас разгромят, и революция, которую кровавой ценой нам удалось вырвать из рук мировых бандитов, потерпит сокрушительное поражение».
«Работа почти на сотню страниц завершена и сдана на хранение, — хмуро сказал Сталин. — Вы должны знать, что она существует, и вместе с другими не должны допустить того, чтобы она была скрыта от членов партии, от трудящихся Советского Союза. Опасность такая налицо.»
Скрыли. В первые годы после тайного убийства вождя как-то прорвались в открытую печать два-три скупых свидетельства о том, что этот документ реально существует, но потом всё было затоптано, упрятано в могильных склепах сверхсекретной информации. Но, скорее всего, попросту уничтожено, потому что очень уж разоблачало махинации вокруг власти и уличало махинаторов в преступных замыслах по отношению к советским народам…
Сознавая свою ответственность перед потомками, я собрал по памяти то, что может относиться к «Завещанию».
В отличие от Ленина, Сталин отказался от попытки дать в своём документе какую-либо характеристику наличной элиты. Его мнение на этот счёт было примерно следующим: период романтизации и наделения «вождей» сверхъестественными качествами безвозвратно прошёл. В нынешнем руководстве выдающихся лиц практически нет. Есть «испытанные руководители», но трудно сказать, годятся ли они достойно заменить руководство, которое сложилось.
Я не заковычиваю слова, которых не записал, но всё же воспроизвожу их близко к сказанным.
Мне кажется, — говорил Сталин, — ЦК КПСС способен выдвинуть из своих рядов достойного. Люди окрепли, окрылились, у них появилось уверенное будущее. Главное условие — не допустить идеологической расслабленности и не поддаться на диверсии, которые усиливаются, опираясь на внутреннюю перерожденческую, мелкобуржуазную, эгоистическую и себялюбивую стихию, — она всегда ставила себя в исключительное положение. Это относится прежде всего к осколкам правотроцкистской оппозиции, они жаждут реванша и собирают силы, наращивая подпольный капитал за счёт хищений народной собственности и создания сети нелегальной коммерции. Нэпманы не уничтожены, они перешли в подполье.
Это подполье попытается использовать в своих интересах колоссальное смещение в умонастроениях народа, которое всегда происходит после долгой и кровавой войны. Нищета при высокой морали не губит — достаток при низменных побуждениях способен отбросить общество в доисторическую эпоху.
Человек не может существовать продолжительное время в состоянии до предела сжатой пружины. Он должен расслабиться, а это практически будет означать борьбу за более щадящий режим гражданской жизни. Есть угроза, что советским трудящимся попытаются навязать лживые знамёна свободы и демократии, чтобы извратить и ослабить социализм.
Эта угроза не страшна при условии, что на самом критическом этапе существования советского государства — при атомной войне, которой нам угрожают, или внезапной смерти главного политического лидера — гарантом выполнения высшей воли нашей революции будут оставаться органы государственной безопасности. Не подменяя партийного руководства, они должны самым решительным образом пресекать действия тех партийных функционеров, которые под влиянием каких-либо факторов вознамерятся изменить народный характер социалистического развития, предпочесть «просвещённое» меньшинство трудовому большинству.
Именно органы госбезопасности должны помочь сформировать такое новое руководство партии и государства, которое неукоснительно исполнит завещание Сталина, объявит об идеологической исчерпанности марксизма, поскольку на передний план истории давно уже вышло поверх классового этническое противоборство: борьба народов за свою национальную независимость и социальное равноправие ввиду новой агрессии «избранных» сопряжена с неслыханной политической демагогией и фабрикацией слухов.
В период неизбежного брожения возможно будет только одним способом утихомирить страсти юных поколений, обращенных против старых, воспитанных в слепом, практически религиозном преклонении перед компилятивным «учением» Маркса и Энгельса. Не трогая «наследия Ленина», ясность относительно которого наступит позднее сама собой, нужно приступить к строительству небольших производственно-сбытовых коммун или общин, представляющих принципиально иной уровень кооперации — общины учтут все текущие и перспективные потребности государства и общества при новом уровне личной свободы и материальной культуры. Это будет самый реальный способ упрочения и расширения социалистических завоеваний советских людей. Это те гарантии, которых мы не смогли своевременно создать из-за навязанной нам войны с Германией.
Предприятия нового типа впервые организуют главный фактор производства и культуры отношений — быт человека. Но всё развитие пойдёт уже не на демагогических и нигилистских принципах всеобщей уравниловки в нищете и тотального контроля, а на принципах отбора и полной свободы личности в рамках общей свободы нового трудового, творческого коллектива.
В эти новые предприятия (на селе и в городе) люди будут отбираться по особым критериям. Каждый бесплатно получит стандартное, но комфортабельное жильё. Каждый бесплатно будет пользоваться медицинским обслуживанием и санаторно-оздоровительным общим питанием. Личность будет освобождена от оков быта ради того, чтобы шире развернуть свой духовный потенциал. В будущем будет иметь значение уже не численность народонаселения, а число умов, способных развивать духовную, физическую и техническую культуру общества по единому замыслу, не исключающему, но предполагающему любую созидательную импровизацию.
Помимо производственных заданий, человек будет выполнять некоторый минимум общественных работ (уборка снега, заготовка дров, чистка животноводческих помещений, обслуживание механизмов общего назначения и т. п.), но главным образом — развивать свои таланты и наклонности, заниматься наукой и искусством. Вот главная сфера грядущего потребления — духовные ценности, нравственное совершенство. Мы должны будем исправить перекос в мировой истории. Мы усилим общенациональное, подняв национальное до высшего мирового уровня. Люди в обществе не будут противостоять друг другу, как сегодня, они будут реально дополнять и усиливать друг друга. Это предполагает новое просвещение и новое знание.
В новой коммуне или общине будет свой общественный суд, своя милиция. Партийные, профсоюзные и комсомольские организации будут упразднены. Община возьмёт на себя и все функции обеспечения государственной безопасности. Человек станет на деле основой и целью государства, которое таким образом преодолеет и свою отчуждённость от людей и свой бюрократизм.
Всё руководство общиной, во всех её подразделениях будет выборное и сменяемое. Это будет та вершина демократии, о которой мечтали тысячелетия лучшие люди Земли.
В течение 50–80 лет национальные общины постепенно покроют всю территорию Советского Союза, обеспечив повышение производительности труда в 10–12 раз и качество жизни граждан — в 20 раз.
Будут общины — заводы, общины — НИИ, которые займутся текущими и перспективными научно-техническими интересами государства.
Я много думал о реальных способах борьбы с бюрократией, влияющей одинаково отрицательно и на производство, и на быт, и на отношения, и на умы. Это способ — новые коммуны или общины, которые явятся опорой нового государства. Будущая борьба в мире развернётся уже не только за нефть, золото, газ, металлы, но и за воду, воздух, качественные земли, за технические и художественные таланты, за экономный быт каждого человека, и тут мы должны доказать все преимущества социалистических, то есть всенародных подходов. Социализм — это не столько выдумка политических болтунов, сколько реальная система отношений, при которой верховенство имеют классические принципы морали и нравственности, человек способен органически слиться с окружающей природой. Возможности планеты обмежёваны, поэтому материальное потребление так или иначе когда-нибудь будет лимитировано, тогда как духовное потребление не будет знать никаких ограничений, придавая высший смысл личным судьбам… В конце концов, человек никому ничего не должен, кроме своей совести, выражающей общечеловеческие начала…»
Отдавая должное гению И.В.Сталина, хочу сказать, что он всё-таки чего-то не учёл и потому развитие событий пошло по иному направлению. Или слишком велико было давление враждебных сил, которые устранили вождя?
Если это так, тогда нам придётся решить загадку Л.П.Берии. Придётся признать, что и в Политбюро существовал заговор.
Все эти люди волею Лазаря Моисеевича Кагановича сначала соучаствовали в устранении вождя, а затем сцепились в смертельной схватке, стремясь избежать разоблачения и казни. Как ни крути, выходит, что «дело Берии» было спровоцировано.
Что ему реально инкриминировали? Ничего принципиального — обычный перечень стандартных ярлыков: «иностранный агент», «кровавый сталинский пёс», «нравственное чудовище». Почерк и словарь нам хорошо известны. Кто из тех, что без суда и следствия ликвидировал Берию, может похвастать большей моральной чистоплотностью?
Тут голова идёт кругом, и хорошо просматриваются бездны дерьма, которое обнажилось, едва исчезла воля бескорыстного мудреца и сурового судьи, державшего всех в узде.
Почти сразу же после расстрела Берии и его сторонников номенклатура партии была выведена из-под наблюдения МГБэшников, разве это не противоречило в корне сталинскому завещанию?
Или же Берия, подлец и политический игрок, поторопился продать своего хозяина и потому сам потерпел сокрушительное поражение?..
Со времён Н.Хрущёва чекисты не имели уже права наблюдать за поведением партийцев, особенно высшего, аппаратного эшелона, тем более собирать на них компромат. Партия сделалась совершенно безнаказанной и в считанные годы переродилась и переродила КГБ, насыщая его своими детьми и родственниками.
Стоит ли удивляться, что в течение немногих лет, получив свободу для себя, а не для народа, как требовал Сталин, партийная верхушка и верхушка КГБ соединились в стремлении к «сладкой жизни», а позднее обеспечили сросшемуся с ними фарисейскому лобби расхищение главных богатств русского народа, всех российских народов?..
Кто автор этого контрсценария?..
Идею Сталина о постепенном и добровольном переходе к иной социально-экономической стратегии развития, параллельно с имевшейся, замолчали, самого вождя грязно и грубо высмеяли за «Экономические проблемы», которые для него были последней, но уже сомнительной данью «ленинизму»…
Шарахаясь от всего сталинского, стали искать иных альтернатив и быстро нашли их — пятая колонна, которая уже контролировала ЦК КПСС и верхушку КГБ, указала на путь «демократизации», «либерализации», «защиты прав человека», т. е. на путь полного крушения действительно социалистического наследия. Во главу угла поставили не духовное возрождение, не социальное здоровье общества, а рубль, якобы преодолевающий уравниловку. И всё покатилось по наклонной, как и предсказывал вождь.
Я ничего не утверждаю, ничего не оспариваю, только задаюсь вопросом: почему в конце своей жизни И.Сталин не очень доверял Г.Жукову, но не трогал его и почему верил Л.Берии? Или он планировал сместить и Берию, зная, что тот готов продать всё на свете, едва выскользнет из-под контроля?
Понятно, почему Г.Жуков выступил во главе политического заговора против Л.Берии, почему подыгрывал Н.Хрущёву в его антисталинских потугах и почему, а конце концов, был нейтрализован Хрущёвым. Понятно, отчего Хрущёв панически боялся откровений маршала, на которые тот намекал. Но всё же полностью не ясно, отчего они оба отошли от сталинского завещания…
Увы, наиболее глубокий ответ и на этот современный вопрос я нахожу у Сталина. Он понимал, что враг прежде всего помешает советским народам сделать первый решительный шаг к модернизации своего нищего быта, только и позволяющий на гораздо более высоком уровне организовать производственную и личную жизнь людей.
Сталин говорил примерно так: «Интернационал себя исчерпал. Он выявил себя как чемодан с двойным дном. Но разрушить его трудно, не разрушая марксизма с его иллюзиями относительно общих интересов пролетариев — идеей столь же восхитительной, сколь и безосновательной, иллюзорной. Интернационал силён там, где существует власть «интернационалистов». Но это — неутихающий террор против инакомыслящих.
Я лично готов на критику марксизма, понимая, какой раскол в мире это вызовет. Но раскол необходим, потому что, промедлив с расколом, мы будем раздавлены универсальной демагогией, её навязывает миру одна и та же разрушительная сила, принимающая то облик нигилизма, то социал-революцио-наризма, то троцкизма, то «холодной войны», как теперь. «Холодная война» — это прежде всего идеология борьбы против национальных государств и правительств, это борьба за моральное и политическое разоружение народов, стремящихся к подлинному социализму».
И ещё говорил Сталин: «Мы выстоим в борьбе только при одном условии: если противопоставим болтовне досужих «идеологов» практические успехи процветающих коммун или общин со столь высокой национальной культурой, что она позволит легко осуществлять смычку культур. Это будут или русские общины, или казахские, или татарские, или белорусские, или еврейские — пожалуйста. Интернациональных — не будет, если даже в общине на 200 казахов придётся 180 русских, украинцев и чувашей. Весь фокус в том, что на вершинах новой, сегодня ещё неведомой нам культуры люди найдут способ соединения своих интересов, иначе говоря, способ разрешения этнических взаимоотношений. Если мы хотим построить единый мир, мы должны исключить этническую эксплуатацию, а не маскировать её интернационализмом…»
Подчёркнутые слова — это подлинные слова вождя.
«В конечном счёте, Сталин, Гитлер, американцы, евреи и прочие — это всё второстепенно. Вызревает новая культура, и я хотел бы дать ей простор. Это культура, в которой каждый человек, осознающий свои интересы, исполнял бы высшее предначертание Природы, осмысленное с высот самой плодотворной философии. Других учителей у народов нет. Они все мелки и ничтожны по сравнению с зовом Земли и Неба… Люди должны быть столь же зримы друг для друга, как звёзды, и столь же открыто и беспрепятственно сообщаться друг с другом, как атомы. Когда к большинству вернётся осмысленная естественность, мы познаем более высокую, нежели теперь, Правду. Среди нас не должно быть паразитов и мистификаторов, сознательных лжефилософов и умышленных лжепастырей. Если уж мы «игра Природы», логическое следствие её развития, мы обязаны играть с Природой, а не друг с другом. Алчность, ложь и заговор исказили все институты и понятия жизни. Природа подарила миру человека, а претензии человека разделили людей на всесильных бездельников и обречённых тружеников, бездельники погоняют трудящихся, а разум, купель мудрости и главный дар Природы, остаётся средством забавы, орудием печали и разочарования. Более того — кабалы. Я изъясняюсь в немарксистских выражениях, потому что марксизм для постановки таких новых вопросов — всего лишь грубое стрекало для животных. Человек и в своём сознании, и в своей бытовой жизни должен постоянно возвращаться к породившей его Природе, а не отдаляться от неё. Разум может создать тысячи чудовищ и миллионы химер, но всё это начинается из-за болезни единиц, а кончается страданиями миллионов. Каждый шаг от свободной Природы есть шаг от высшей сути человека…»
Я и сегодня помню, как Сталин усмехнулся при этих словах, вздохнул и провёл указательным пальцем по усам: «Есть вещи сокровенные, которые мы не обсуждаем ни с друзьями, ни с близкими, подозревая или чувствуя, что нас не поймут и не поддержат… Человек управляется не столько разумом, не столько социально-экономическими законами, сколько процессами самой Природы, превращениями микромира, который создаёт космос повсюду… И беда в том, что параллельно с разумом шагает антиразум, и искусственные построения идиота и вырожденца всё чаще и чаще подавляют прозрения естественного гения… Человек должен шлифоваться, более нравственный, более совершенный и мудрый должен одерживать верх. Но реально верх одерживает более хитрый, более беспринципный и беспощадный, тот, кто опирается на междусобойчик и более приспособлен к одурачиванию толпы… По всем законам естественного отбора особи А, Б и В должны давно погибнуть. Но их оберегают от сложностей трудовой судьбы, питают целебными продуктами, лечат у знаменитых врачей… Исследователи предрекают, что настанет время, когда обречённым, но входящим в клан избранных будут вживлять чужие, отнятые у здоровых глаза, сердца, лёгкие и даже части мозга. Таким образом, мужчина, который должен скапуститься уже к 40 годам, женится на пышущей здоровьем женщине и пытается оставить потомство. Его дети — один нормальный на семь калек. Но всех тащат по жизни, и каждый участвует в искусственном отборе… Но и этого мало: сшитые из лоскутков нелюди изменяют целые народы… Народы — святы, но это тоже объекты управления и ответственности. Иные из них тысячи лет назад должны были бы по всем естественным законам прервать самостоятельную линию развития и раствориться в более молодых и сильных этносах, но — продолжают своё искусственное существование, причём уже совершенно разрушительное и паразитарное. В дело пускаются заговоры, тайные организации и партии, международные финансовые аферы, шайки террористов…
Всё, что мы видим на поверхности нынешней политической жизни, — это на 90 % плоды искусственного бытия ослабевших народов. Клики, теряющие самостоятельное этническое значение, сознают великую силу общественного мнения и уже покорили его, пользуясь самыми грязными методами. Они всячески препятствуют просвещению суеверных толп, внушая им совершенно превратные понятия… Марксизм, — и это говорит марксист Сталин, — одно из таких превратных понятий, обслуживающих агрессию мертвецов против живых… С помощью этого компилятивного учения пока ещё можно обезоруживать правящие круги и устанавливать диктатуру заговорщиков, опирающихся на энергию и энтузиазм черни, но честно управлять и строить с помощью марксизма сегодня нельзя. Марксизм не предназначен для созидания, его содержание и суть — агрессия и разрушение… Пока я использую марксизм, но не в целях созидания, а для сопротивления новым агрессорам. Отбрасывать его чуть-чуть рановато: в истории, и это известно со времён Древнего Египта, самое бесперспективное — пытаться обойти Время. Время — это скорость протекания естественных реакций. Неандертальца вы никогда не смогли бы выдрессировать в респектабельного буржуа, а Троцкого — преобразовать бы в бескорыстного старца Оптиной пустыни… Так что на очереди у нас укрепление строя, его принципиальное обновление и постоянная модернизация. Чуть только «лагерь социализма» превратится в серьёзного носителя новой цивилизации, мы полностью уйдём с империалистического рынка. Этот рынок грабительский, и мы оставим грабителей: живите, как хотите. Мы приступим широким фронтом к обновлению общественной философии и созиданию, разумеется, добровольному, подлинно социалистических форм бытовой культуры, предлагая тем самым всем кризисным государствам единственную альтернативу. Но не навязывая. Параллельное существование любой иной формации будет только укреплять наши созидательные силы. Мы будем видеть не фасады, как теперь, а изнанку всех режимов.
В социалистической общине человек впервые обретёт сам себя и обратит всю мощь своего духа не на псевдокультурный мусор повседневья, а на сущностные проблемы бытия. Для этого он должен быть полностью свободен и полностью равноправен в своих фактических возможностях.
Как бы ни прогрессировала техника и технология, человек останется сердцевиной созидательного процесса, богом, нарождающим новые хлебы, новые одежды и новые идеалы. И поскольку паразитам и злодеям нестерпим контроль со стороны коллектива, они будут выступать против коллектива, за «свободу индивидуального развития». Победа лжи им нужна только для того, чтобы сосать силы и мозги беспомощных, введённых в заблуждение миллионов. Поэтому, если мы и допустим индивидуальные, частные хозяйства в секторе, не охваченном общинами, мы не оставим их бесконтрольными, будем наблюдать за тем, чтобы они не эксплуатировали других, безразлично, в какой форме, наёмного труда или взятки, или вымогательства, или прямого обмана и сговора с внешними силами вторжения. Человек имеет право на свою личную свободу, но не имеет права строить её за счёт рабства другого или других. Свобода терроризировать и убивать — нельзя признавать такой свободы. Это и есть фашизм, который был до Гитлера и остаётся, к сожалению, и после него…
Многонациональный состав мира — не проклятие его, это его богатство, его сила и красота. Создавая беспорядки, интригуя среди народов, шайки негодяев взращивают на возникающих сложностях систему террора, которую якобы способен преодолеть только интернационализм. Мы должны размежеваться с ними, но размежеваться без потерь и без насилия. И это: коммуна или община, которая в состоянии разрешить любые проблемы так, как их уже не может разрешить даже наша Советская власть…»
Старый вождь говорил о том, что непреложные связи жизни разорвать не под силу никакому стратегу. Если в обществе есть те, которые грезят о сверхбогатстве, всегда будут нищие. Если в обществе процветает разврат и насилие, оно не сможет сделать ни единого шага в своём духовном развитии. Если при организации каких-либо процессов растёт бюрократия, значит, правитель выбрал совершенно ложные цели…
Он пришёл к выводу, что народы останутся пешками на мировой шахматной доске, пока не сумеют создать новую традицию, при которой лучшие мудрецы нации станут фиксировать свой опыт и передавать его претендентам на правление… Он считал, что самую большую и важную тайну сегодня представляет не численность армий или их оснащённость, не новейшие типы самолётов и танков, а разработки по естественному приспособлению народов к самому эффективному быту. «Главное богатство и высшую гордость наций составляет их потенциал к духовному совершенству, основанный на эффективном быте».
«Но что же плакать и рвать на себе волосы? В жизни обратного хода не бывает. Я думаю, решение реально переменить судьбу народов к лучшему явится мировым признанием нового героического подвига советского человека, испившего всю горечь мировых гнусностей, но нашедшего в себе силы для гармонии…»
Сталин напоминал, что учесть надо всё: и то, что страны народной демократии будут держаться до тех пор, пока будет сильна и непобедима советская армия, пока СССР сможет оказывать колоссальную помощь элите этих стран. «Их будут перекупать наши противники и, конечно же, перекупят: высокие идеалы не могут пустить глубоких корней в этих странах, они изъедены торгашеством и эгоизмом, они вряд ли примут с первой попытки жертвенность и терпение советских народов…»
Сталин предвидел, что движение к подлинной свободе оживит вражеское подполье у нас в стране. «Вот отчего нужна община: только она убережёт от разрушительных махинаций неисчислимых фокусников и «учителей жизни. Только община сделает необратимой нашу удивительную и уникальную историю…»
«А встают ещё другие сложные вопросы — мировая валюта, мировой рынок. В принципе, мы устоим только тогда, когда сумеем обойтись и без мировой валюты, и без мирового рынка — он уничтожает здоровые экономические отношения в любой стране в угоду финансовым акулам и их стремлению к мировой власти.»
«Мы должны быть устойчивы в каждой клетке своего организма. Это — община как вершина демократии и вместе с тем вершина порядка и организации индивидов. Решит не мера труда сама по себе, а мера нравственности снизу доверху, включая нравственность власти…»
Маара
Она сползла с высокой кровати, ощущая тошноту, изжогу и слабость во всём теле. Её вырвало на ковёр, который Борух привёз неделю назад из-за границы. Ковер выткали в Италии — чёрные перекрещивающиеся треугольники на голубом фоне…
Шатаясь, добралась до ванной, сбросив по пути испачканные слизью бикини и кружевной лифчик. Ещё раз блеванула возле белоснежной двери с золотыми разводами вдоль ромбов рифлёного стекла.
Открыла горячую и холодную воду до отказа — с рёвом хлынула вода в ванную-бассейн. Вылила в бурлящие потоки все содержимое флакона шампуни, которую нашла в шкафчике. И мылилась, долго мылилась — тёрла лицо, голову, тело и те части тела, которые лапал Штенкель, выдававший себя за американского немца.
Горел анус, кровоточила прямая кишка, рези были невыносимы.
«Сволочи, сволочи», — возмущённо шептала она, пытаясь смыть следы насилия, а потом долго стояла под горячим душем: «Господи, господи, как же ты терпишь всю эту грязь? Как же ты это допускаешь, отделываясь ловкими отговорками своих полусонных наместников?..»
Утром Борух привёз её в свой главный коттедж, который почему-то не сдавал даже за большие деньги, и уже в прихожей понудил Мару к совокуплению — прямо на полу, на шкуре медведя, которую он называл «Россия». Шкуру Борух выменял у какого-то бича за четыре бутылки водки в Красноярске, где останавливался по дороге на знаменитый никелевый комбинат, — он и там имел свой гешефт.
Потом они готовили пиццу, и он заставил её выпить два бокала крепкого вина. Она чувствовала, что Борух совершает какой-то ритуал.
Когда она захмелела, Борух сказал, стуча волосатым пальцем по золотым часам:
— Через полчаса здесь будут мои друзья. Если ты угодишь им, мы заработаем три тысячи баксов. Пятьсот твои сразу и пятьсот потом, если у меня выгорит дельце. Ребята — похлеще Оси Бендера. Тот знал тысячу способов изъятия денег у совков, они знают в два раза больше. Ни Россия-сука, ощенившаяся сегодня ельцинами и примаковыми, ни засраный Запад перед ними не устоят: они орудуют руками и ногами. Только не рыпайся напрасно…
Борух, взявший её клятвенными обещаниями если не руки и сердца, то пятидесяти тысяч долларов отступного, использовал её как приходящую по звонку блядь и теперь продавал своему будущему компаньону. О женитьбе или о пятидесяти тысячах «зелёных» речь уже совершенно не заходила.
— Как же наши отношения и уговоры? — напомнила она, это сидело в ней постоянной занозой, вызывающей обиду и гниение всего организма.
— Потом — потом! — заорал Борух, злобно округлив глаза. — Отхватишь всё своё, не беспокойся!.. Не приставай, как панельная шлюха!..
Это была одна из бесчисленных пощёчин, которыми хлестала её судьба с тех пор, как на Курском вокзале застрелили её отца, редактора разорившегося издательства. Всё было подстроено, и убийство было, конечно, заказным. Отец тревожился за неё, Мару, и не раз говорил, что влип в осиное гнездо, из которого надо бежать. Убежать он не смог, не успел. Убийцы стреляли прямо в толпе… Но тела его она так и не увидела: о преступлении стало известно лишь после того, как отца похоронили…
Борух ничего не знал о её трагедии, это совершенно его не интересовало, он верил в то, что он и его друзья опрокинули СССР и теперь никто и никогда не отнимет у них власти над народами несчастной, оказавшейся без глаз и разума державы.
Ранний неудачный брак поломал её жизнь. Три года она была доброй матерью и примерной домохозяйкой, так пожелал муж. А затем три года убила на то, чтобы отделаться от негодяя, основавшего, как открылось, ещё две семьи, и тоже несчастные, полные лжи и откровенной наглости. Она прошла через долгие и унизительные суды, чтобы защитить своё право на сына, убедившись, сколько зла причиняет людям «демократия», защищающая денежных негодяев с гораздо большим эффектом, нежели порядочных людей.
Диплом, и без того слабенький, за шесть лет, проведённых в суете и пустых хлопотах, превратился в бумажку, с которой и соваться было неудобно.
В наиболее тяжкую пору подвернулся этот хмырь — Борух. Она сразу почувствовала — это чувствует любая женщина — что за его ухаживаниями стоит элементарная похоть.
Ах, вы, лимончики!
Ах, вы, лимончики!
Растёте вы у Фиры на балкончике!..
Борух напевал этот дурацкий куплет всякий раз, как входил к ней в квартиру. Он был лишён слуха на всё человеческое, но говорил только от имени всего человечества.
Отец впал в полосу неудач, получал мало и поддержать её не мог. И она решилась — ради сына — «пойти на амбразуру». Этой амбразурой и был Борух, которому она доверилась и который, конечно же, раскручивал свой очередной гешефт.
Это было падением после череды мощных ударов судьбы. Будь она суеверной, она приписала бы их сатанинской силе.
Она долго упорствовала. В сущности, Борух был ей не то что противен — просто омерзителен. От его потного, воловьи неповоротливого тела волнами исходила вонь, которую он пытался перебить ароматными спреями: запах получался совершенно тошнотворный — «дохлятина в кляре», как выражалась одна её знакомая.
Она долго упорствовала, боясь, что задохнётся, если «любовник» станет домогаться близости, и однажды рассказала про Боруха своей соседке по лестничной площадке Клавдии Ивановне, у которой часто оставляла сына.
— Он еврей, я не могу. Этот запах — убийственно…
Клавдия Ивановна, состарившаяся в залах детской библиотеки, целомудренная и наивная столько же, сколько и бедная, беззаветно верившая каждому слову официальной пропаганды, с жаром возразила:
— Ну, и что? Евреи нам, Маша, Христа подарили и принесли победу в Октябрьской революции!..
«Какого Христа, какую революцию? Не для нас, а для себя они «дарили» и «несли» — и Христа, и революцию. Всё — на чужих костях. Это же теперь каждый олух знает, кто прочёл хотя бы что-либо из Климова, Емельянова, Истархова, кто проявил настойчивость и разыскал «Протоколы сионских мудрецов»… Как можно жить, оставаясь в таком мраке?..»
Но Клавдия Ивановна нееврейских книг по еврейской истории не читала и о них ничего не слыхала, а если и слыхала, то считала всех авторов «агентами американского империализма», вот ведь какой сдвиг по фазе…
— Евреи и есть основной народ России, — уверенно говорил Борух, не только не заботясь о чужих национальных чувствах, но намеренно попирая их, стараясь унизить русских. — Есть численность, есть качество. Есть уголь и есть топка. Мой прадед шил сапоги для всей вшивой царской армии. Тогда это было как «Фольксваген» или «Опель»… Тогда в этой задрипанной стране техники совсем не было, всё пёхом, а как без сапог? Тридцать тысяч пар поставлял для военного ведомства… Ну, разумеется, он шил не сам, а объединял частных мастеров, давал им заказы. А дед? Дед состоял в одесской «ЧеКе», а после работал на кафедре Института красной профессуры… Нет, не совсем на кафедре, он заведовал хозяйственной частью, материальным обеспечением профессуры… Конечно, какие-то крохи перепадали. В те годы, рассказывает бабушка, она по три раза в год ездила в Крым. Один раз — в отпуск по путёвке, а два раза — с контрольной комиссией, тоже по месяцу и бесплатно, дед ей всё это устраивал, она ревизором была. И хотя без образования, освоила все ходы и выходы… Потом уже диплом достали. Даже парочку — на выбор… Хорошо жили тогда наши трудящиеся! Пока Ёська на трибуну не влез, свобода личности была полная. Дед каждый год в Америке посещал родственников. Родственники там свой пролетарский магазин держали, так дед им помогал налаживать деловые связи с Совдепией. Совдепия им в долларах платила на дело мирового раскрепощения личности. Инвестировала, как теперь говорят. Если коровку не доить, у неё сиськи отвалятся…
Первый раз Борух попытался передать её «напрокат» своему компаньону уже через неделю их отношений. Компаньон работал в какой-то комиссии горсовета и мог за взятку устроить захоронение на самом престижном кладбище. Люди в горе ничего не жалели, а банда никого не щадила: навар шёл густой. И что самое важное — полностью бесконтрольный.
Звали компаньона Авен. Представлялся он писателем-сатириком, хотя она никогда не встречала даже коротенького его рассказа в так называемых «юмористических» изданиях, особенно расплодившихся в годы народных слёз.
Борух сказал:
— Ты его не очень сторонись. Это нужный человек: и похоронит, и пропишет… Ничего, что он на вурдалака или на вампира похож — он золото на могилах копает. Это, знаешь, на Западе пластики, заменители, биметаллы, а у совков дефицитной эпохи, у мертвяков то есть, если пломба, то настоящее серебро, если коронка, то чистое золото…
Когда Борух нарочно выветрился в магазин за закуской, этот Авен расстегнул потёртые брюки и, осклабившись, предложил: «Погладь рукой, сто долларов дам!»
Она подумала в ту минуту, что этот тип вполне мог совершать половые акты с мёртвыми. Лоб приплюснутый, уши вразлёт, ноги короткие и кривые, глаза бессмысленные, как у козла. Даже странно, что слова выговаривает, такой только блеять должен.
— Ещё чего, юморист! — отрезала она, передёрнувшись от брезгливости. — Проваливай, иначе всё передам Боруху!
— Так он не против, чтобы ты заработала — осклабился Авен.
Она встала, чтобы уйти, он ухватил её толстенными ручищами, повалил и стал рвать на ней прозрачные трусы. Она сопротивлялась.
— Русская баба, — повторял, кряхтя от натуги, Авен, — не французское мыло, не смылится!..
И тогда она ударила его коленом в пучеглазую, небритую морду. Он вскрикнул и отвалился, держась за нижнюю челюсть. Сквозь толстые пальцы закапала кровь.
— Только притронься, слизняк, башку размозжу!..
Тут явился Борух: его очень интересовали итоги. Увидел компаньона, что сидел на стуле, промокая рот окровавленным полотенцем.
— Второй фронт, — хохотнул Борух. — Доблестные союзники не прорвались. Арденны!..
— Я эту твою… Жизель живой закопаю, — заматерившись, пригрозил Авен. — Уже досье собираю…
— Всё — по прейскуранту, господа, — неопределённо сказал Борух. — Надо было вначале расшпилить кошелёк, а ты привык расшпилять ширинку!..
После того случая она укрепилась в решении как можно скорее отделаться от Боруха, наверняка зная, что ничего от него не получит, что её просто облапошили, — ремесло, которым в совершенстве владели эти развратные типы.
Но то, что произошло, было вообще вершиной мерзости и вероломства…
Штенкель появился в сопровождении двух «секретарей» и напоминал скорее бегемота, нежели человека.
«Секретари», пучеглазые и наглые, сразу извлекли из авоськи бутылку шампанского и иностранную прозрачную коробку, в которой лучился серебряный кулон с искорками бриллиантов. Но, может быть, и обычных стекляшек.
— Знакомься, Мара, это мой старый друг Александр Сергеевич, почти Пушкин, — объявил Борух. — Да что там «почти»? Пушкин он и есть — властитель дум нынешнего и грядущего поколений!
— Это скромный привет для дамы твоего сердца, — сказал Штенкель, протягивая коробку с кулоном. — Как видишь, не скупимся, когда речь идёт о серьёзных делах…
В коротком разговоре, который произошёл между ней и Штенкелем, пока Борух и «секретари» накрывали на стол, выяснилось, что он видел её с Борухом и очень «заинтересовался её судьбою».
— Я открываю кабаре. Будут девочки — танцовщицы, но мне нужна хозяйка. Я буду платить хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Если мы с тобой поладим, лучшего кадра мне и не нужно. А тебе — выбирать, учитывая — это между нами — что Борух поедет ставить ещё одну мою фирму в Испании и, как мне кажется, больше сюда не вернётся… Прокуратура уже заинтересовалась его связями. Мне был сигнал из Интерпола…
Она тотчас всё поняла… За два месяца, что она путалась с Борухом, она привыкла читать простейший ход мыслей каждого проходимца.
Говорить было не о чём, и Штенкель, по обыкновению людей его сорта, начал «хохмить» — чужими анекдотами маскировать свою тупость.
— Приезжают в Австралию два русских наркомана. Увидели кенгуру. «Гляди, Вань, — говорит один. — Тут впрямь настоящий рай. Если такие кузнечики, какими же должны быть коробочки мака!..» Гы-гы-гы, выпьем за кузнечиков! Кстати, прибросьте кулон, я очень хочу полюбоваться на вашу шею!..
Она не перечила, памятуя об обещании Боруху.
— А про советского полковника слыхали? Очень популярный анекдот у нас, в Североамериканских штатах… Одинокая Мария Ивановна решилась на старости лет связать свою судьбу с полковником. Жена у него умерла, дети выросли и разъехались — риска никакого.
Сыграли свадьбу.
Встречаю Марию Ивановну. Грустна.
— Что же так?
— Да вот, измучил меня Павел Кузьмич. Только лягу, стук в спальню. Открываю — отдаёт честь: «Разрешите исполнить супружеский долг!..» Исполнит — и уйдёт… Только угомонюсь после волнений, в себя приду, снова — тук-тук: «Разрешите исполнить супружеский долг?»
Я говорю:
— Ну, сколько же раз можно исполнять этот долг? Неужели пенсионер и спать не хочет?
— А разве я у Вас, уважаемая Марья Ивановна, сегодня был?
— Был! Уже в четвёртый раз приходишь!
— Извините, покорнейше, это у меня склероз!..
Отсмеявшись, Штенкель уточнил:
— Конечно, это было при Советах. Теперь русский полковник ведёт себя, как и американский, у которого половина счетов не оплачена и потому голые нервы: погладит промежность, пальчиком пощекочет и скажет: «Пойди новую порнокассету посмотри, я что-то очень устал… Грозят, что контракт сократят…»
Потом все пили и накачали Мару едва не до отключки. Возможно, она бы не поддалась, но уж слишком возмутила их бесцеремонность, и она совершила ещё одну глупость — стала перечить. А эти, которые хоть рубль заплатят, уже не переносят возражений.
Штенкель, притворяясь пьяным, полез лапаться, крича:
— Мы покорим весь мир! Все будут у наших ног!
Она высвободилась из объятий:
— Как же вы собираетесь покорить мир, если нисколько не интересуетесь самостоятельным миром женщины? Я уже не говорю обо всём прочем. Но женщина — тут надо остановиться. Если вы не будете считаться и с женщиной, ваше новое царство опять окажется на песке!
— Ты об эмансипации, что ли? — хохотнул Штенкель. — Всех, всех эмансипируем, чтобы любое общество представляло из себя бульон из козерогов в юбках и без оных! Массам обременительна семья и забота о детях, мы заберём все эти функции у масс, оставив им одну функцию: умножать наши сокровища!
— Какая убогость! — сказала она. — У вас от Пушкина только кучерявость, но и она не видна, потому что вы облысели ещё в прошлом веке. — Он разинул рот. — Разве можно, блин, так примитивно судить о мире и о массах? К кому бы вы ни пошли, к богу или к чёрту, вам без масс не осилить ни одной дороги!
Штенкель рассвирепел:
— И бог — вымысел, и чёрт — вымысел! Реален только наш интерес!.. А мы тебя, сука незаконнорождённая, дочь стукача, сейчас же пустим на сардельки для комнатных такс и бультерьеров!..
Вверх по ступеням…
Выше, выше, и вот уже узкая и скользкая от наледи каменная площадка, на которой гудит шквалистый ветер, не позволяющий разглядеть, что там, впереди… Одно лишь неосторожное движение, и тугой ветер сталкивает очередную жертву в пропасть…
Он всю жизнь карабкался вверх по ступеням. И уже трижды сбрасывался вниз. Первый раз — когда случился взрыв в цехе, где собиралось Изделие. Это была диверсия, но раскрыть её не удалось, потому что погибли как раз те, кто мог бы пролить свет на реальные события.
Взрыв и пожар унесли жизни более сорока инженеров и рабочих. Страна не узнала о катастрофе, но вся отрасль горевала два года, в течение которых оставшиеся в живых пытались компенсировать ущерб и наверстать упущенное. Работали в две смены.
Второй раз — когда случилось покушение после закрытого совещания директоров-оборонщиков, где было принято почти единогласное решение: просить ЦК КПСС реорганизовать оборонную промышленность и рекомендовать Прохорова министром по делам вооружений с такими полномочиями, которые помогли бы отрасли делать своё дело, не вовлекаясь в политизацию, разрушавшую души оборонщиков — это было в августе 1991 года.
Его машину обстреляли близ государственной дачи из гранатомёта. Водитель был убит, а Алексей Михайлович отделался лёгким ранением; покушавшиеся замышляли, конечно, добить генерального директора, но помешал милицейский наряд, который сбился с дороги и случайно вынырнул на месте происшествия.
И третий раз — когда похитили Нину и убивали его в бетонированном коридоре…
Алексею Михайловичу в какой-то момент показалось, что всякое сопротивление уже бесполезно…
«Финита ля комедиа…» Тоска пришла, непередаваемая тоска, обостряя чувство полной покинутости. Человек никогда не бывает так одинок, как накануне своей смерти. «Так, может, уже и конец?..»
Но он был бойцом, всю жизнь сражался за правое дело. И разве с его смертью оно погибало тоже? Нет, нет, конечно, нет! Сама Природа обязана была народить новых Алексеев Михайловичей, которые, как и он, хрипя и отхаркиваясь кровью, поволокли бы на себе любой новый груз — во имя Правды, во имя Равенства, во имя Справедливости, во имя процветания русской нации и тех народов, с которыми она связала судьбу…
Мысль ещё жила. Страдания тела временами поглощали её, как поглощает темнота пространство комнаты, но потом она оживала — и текла, не вызывая ни радости, ни сожаления: он уже никому не собирался доверять этих последних, безжалостных вспышек прозрения. Бесполезным оно было и без пользы кончалось.
«Главная беда всего мира и наша беда — вопиющее НЕВЕЖЕСТВО… Учился всю жизнь, и вот оно — следствие: растили и кормили врага в собственном доме. Даже и Сталин проиграл, потому что не знал всех реалий…
Не прояснить, не втемяшить… То, что рождается, требует времени и направленной энергии. Человек появляется на свет через 9 месяцев. Дом возводят за год… Телеящик зомбирует в течение трёх недель…»
Инженер промыслом Неба, он знал, что главное — система, организация процесса таким образом, чтобы он приносил плоды, стимулировал новый цикл воспроизводства. Система обветшала, вот отчего она легко поддалась разрушению. Противник постоянно совал палки в колеса системе — она конструктивно позволяла это. В неё уже изначально были встроены масонские механизмы сбоев и самоликвидации.
Всеобщность плана, например, подразумевала очень большую точность и сбалансированность. Но кукловоды по всей стране поощряли инициативу, скрывая её преступный характер. Одно дело — раньше выкопать котлован или напилить дрова, другое дело — тянуть из чрева недоношенного ребёнка… Кто-то из ретивцев или вислоухих полудурков брал обязательство построить не шесть паровозов, а пятнадцать, т. е. в два раза больше плана. Но для этого требовал денег и фондов. И вот уже кому-то не хватало планового металла или станков, а кто-то под шумок делал «левые» миллионы… Одной рукой строили, другой — разрушали. Сталин правильно ставил вопрос о «вредителях». Они были тогда, их полно и теперь.
А «экономия», которая оборачивалась десятикратными потерями? А дореволюционная по существу система финансовых исчислений? А сознательное удушение инициативы на новейших направлениях?..
Культура держится только на разуме. Надо быть последовательным и не бояться называть вещи своими именами: нас подвела прежде всего нехватка такого ресурса, как разум. Нам просто не позволили по-хозяйски отнестись к собственному государству, в нас воспитывали рабов, холуев, прислужников… И недалёким тузам казалось, что это «целесообразно». «Целесообразно» — для кого?..
Всё это коренным образом уже давно должно было бы изменить парадигму стратегии, если бы вожди это видели и беспокоились: где ослаблен разум? почему ослаблен? в чём источник сбоев? И самое существенное: не связаны ли эти дикие колебания «массового» рассудка с чьими-то претензиями на власть и исключительность? Обобщение и всеобщность, главные инструменты познания, в то же время — первое прибежище суеверий, химер и догм…
Идиот всегда самоуверен и самодоволен. Мы не можем предотвратить появление идиотов на семейном и на национальном уровне. Так почему считается, что идиотам недоступен и наднациональный или интернациональный уровень?..
Мы искали умного врага (думали, что искали), а натолкнулись на заурядного мошенника. Если так, наша общая трагедия необозрима, ибо у человечества всё ещё нет методики обуздания необузданных. И догадываются ли главные стратеги, отчего нет, или вновь ни о чём не догадываются?
Всё послевоенное время — с конца 50-х годов — наблюдательные люди не перестают говорить о нарастании общего безумия. Теперь это не эмоциональное предположение, а наиболее верный диагноз: мы никогда не берегли свой разум, мы нарушили законы существования разума, передоверив его в чужие руки, и безумный мир — ответ на наши действия.
Какой непогребённый мертвец вносит своим смрадом галлюцинации в жизнь мировой общины?..
Как оценить человека? И можно ли его оценить объективно в наше время переломов и кризисов, когда все моральные критерии перечеркнуты банальными материальными расчётами и бандитской алчностью?
Найти суть, мимо которой скользят миллионы…
Никто не знает, существует ли на самом деле вселенское «кольцо духовной энергии». Но оно всё-таки существует, пока существует и развивается человечество. Это не особая форма «ментальной туманности», не скопление «астероидов мысли», а итоговая среда, определяющая общий уровень прозрения или заблуждения.
Если бы этого «кольца» не существовало, противник не стал бы так бесноваться в поисках «Завещания» Сталина. Скрываемое от народов «Завещание», оказывается, не только живёт — оно разрушает козни подонков, определяет мышление всё большего числа граждан и у нас, и за границей…
Что ж, встречи со Сталиным, действительно, потрясли воображение. Алексей Михайлович убедился, насколько это неисчерпаемая фигура. Она продолжается из XX в XXI столетие и дальше…
То, что знают люди о вожде, — мелочи и чепуха. Он примкнул к марксистам, но, вероятно, уже в первые годы революции убедился, что это поверхностное во всех отношениях «учение», как и прочие социологические учения того времени. Однако он не отверг марксизма и после того, как оказался на вершине власти, обнаружив, что марксизм, синтезированный в интересах одних, немногих, позволяет использовать себя в интересах других, большинства, которое иначе никак не подтянуть к новому знанию. Манипулируя понятиями марксизма и ленинизма, Сталин изолировал политических противников, не проясняя публично сути разногласий, которые фактически не имели отношения к так называемой «теории пролетарской революции».
Что касается экономики, Сталин был уверен, что это всего лишь совокупность эмпирических принципов, позволяющих вести разумное и выгодное хозяйство. И в этом он был совершенно прав, ибо нельзя, расходуя столько же, сколько и получаешь, выбиться из нищенского положения.
Однако и здесь Сталин придерживался неких непреложных для себя принципов, синтезированных из личного опыта, но, возможно, и почерпнутых из книг, попавших в его руки: в отличие от политической шушеры, что пришла ему на смену, он всю жизнь настойчиво расширял знания — много читал, извлекая из прочитанного своё, поскольку развивал самостоятельную философию. Главное, считал Сталин: трудящаяся масса должна придерживаться мировоззрения, отвечающего её фактическому положению и, таким образом, не претендовать на образ жизни и потребления, который отвечает иной философии и иному состоянию производительных сил. «Это — основное правило всякого успешного управления, тем более в такой необъятной стране, как Советский Союз. Пока народ будет мыслить на уровне своего положения и выводить идеалы из наличной действительности, мы можем быть спокойны за будущее страны: народ осуществит намеченные планы…»
Алексей Михайлович теперь понимает, что важнейший вывод сделан Сталиным на том основании, что все «революционеры», стремясь разжечь пламя недовольства, пытались навязать людям философию, позволявшую им думать о себе в более высоких понятиях, чем это диктовалось их положением; захватив власть для «революционеров», люди подходили к действительности с повышенными материальными и духовными притязаниями, что и приводило общество сначала в критическое состояние, а затем в состояние обвала, нищеты и глубокого разочарования, потому что политические мошенники, стремясь сохранить власть, не останавливаясь перед репрессиями, вгоняли сумасбродное общество в более низкое представление о человеке, чем оно было прежде…
Сталин неисчерпаем. Это подчёркивали все выдающиеся деятели истории, с которыми он имел дело после войны. «Что нужно прежде всего, чтобы народ спокойно двигался к очередному этапу улучшения жизни, повышения культуры и т. п.? Нужны две вещи. Руководящие товарищи снизу доверху должны исповедовать ту же самую философию, что и весь народ, и иметь тот же тип потребления материальных и духовных благ, что и остальная трудовая масса…» Сталин не делал никакого исключения в том числе и для себя лично, он был образцом непритязательности, скромности и терпения.
«Наша партия ужасающе слаба, — признавался Сталин. — Если она что-то и представляет из себя, то только как рычаг воли первого лица. Когда есть воля. А если завтра её не будет? Вот отчего пока нельзя отменить контроль чекистов над партией. Это во-первых. И, во-вторых, пока необходимо всячески душить торгаша, т. е. человека, который ставит исключительно на власть денег. Он нам страшен не сам по себе, а тем, что через него в тело общества и государства непременно входит зараза — поголовная страсть к наживе, к поборам, взяткам, левым деньгам. Всё это раскочегаривают известные шурики, их у нас гораздо больше, чем принято считать. Мы пока не имеем резервуара, из которого в достатке может зачерпнуть каждый. В этих условиях один встанет против другого, борьба за власть денег сделается всеобщей, и это погубит надежды и вызовет смуту…»
Сталин не жаловал наличную верхушку ВКП(б), полагая, что она не вполне отвечает своему назначению и склонна к жадности и приобретению знаний, которые выделяли бы её над трудовой массой. «Скорее всего, они всё продадут и позволят подкупить себя со стороны противника и его агентуры. У нас ведь как? Вшей ещё бьём, когда донимают, сильно грызут, а вот в баню сходить уже не догадаемся, да и лень тащиться — мочалки нет и целого белья нет… С таким мироощущением самостоятельности не удержаться, рано или поздно начнут холуйствовать… Но я гарантирую: пока основная цель общественного движения сохранится, а она сохранится ещё не менее 25–30 лет после моей смерти, враг ничего не добьётся. Однако, едва цель будет изменена и новые вожди станут обещать народу золотые горы вне принятой доктрины развития, все рассыплется на мелкие части, и прежнего государства будет уже не собрать… Вот почему сегодня нужны честные и умные люди, способные остановить безумцев… Я делаю это на всякий случай, считаясь с тем, что меня могут, в конце концов, даже убить: сейчас против меня выступила вся внутренняя контра, получающая из-за границы неограниченную поддержку. Если же я уцелею и поставлю на место националистов, прячущихся за реквизитами Интернационала, через 3–4 года, позатыкав основные дыры, мы в СССР начнём совершенно новый этап, — приступим к созиданию таких социальных семей, которые устранят нынешнее отчуждение, обозначив новую философию, новый уровень жизни, но главное — утвердив новые отношения между людьми, позволив вести новое воспитание поколений, развивать новое производство… До той поры нас могут подкарауливать многие трудности и искушения… Мне известно, что правящая головка США уже приняла планы подавления всех валютных систем и вывода доллара на диктаторские позиции. С помощью бумажного доллара, не подкреплённого даже фиктивной золотой основой, сфера эксплуатации народов будет чудовищно расширена. От преимущественно национальной эксплуатации они перейдут к эксплуатации мировой. Это будут предприятия, капиталы, кадры, товары, идеология, короче, всё то, что парализует слабых и позволяет высасывать из них кровь… Несчастных, обманутых людей они объявят бездельниками, неспособными к новым, более перспективным формам труда и жизни… Беднейшие слои будут напрочь оттеснены от культуры. Такое развитие событий допустить нельзя. Вот почему мы формируем создание самой эффективной структуры жизни. Мы станем самым здоровым, самым образованным, самым сильным, самым счастливым народом… И это не подарок Сталина, это единственный выход из того клубка неразрешимых проблем, которые навязывают миру дьявольские силы мировой паразитарности».
Теперь ясно, отчего охотятся за «Завещанием». Сволочь спохватилась, что без интеллектуального потенциала Сталина она не сможет сдвинуть ни одной застрявшей в грязи телеги. Одновременно сволочь боится, что о «Завещании» узнают советские народы, мировая общественность, это побудит людей иначе взглянуть на действительность.
Алексей Михайлович ликовал, что всё же имел смелость записать кое-что по горячим следам. Вот его расшифровка одного из сталинских пассажей: «Многословные ублюдки, абстрактно рассуждающие об улучшении жизни, не понимают, что главный изъян её — в том, что она ещё более стихийна, чем была 2–3 тысячи лет тому назад, она потрясающе неразумна, а подчас и бессмысленна. И просто нереально о чём-либо толковать, если не иметь в виду этого главнейшего аспекта действительности. Здесь есть опасность, что больной, извращённый ум сведёт дело к тюрьме и казарме, такой ум был у моего ненавистника Троцкого. Основной способ избежать опасности — не позволить растлённым «гениям», место которым в психбольнице, занять руководящие позиции. Но они лезут во власть, лезут тучей, как комары, маскируя свою ущербность…»
Алексей Михайлович всегда преклонялся перед Г.Жуковым и считал его не только лучшим маршалом войны, но и спасителем народов СССР от бериевского заговора. Однако анализ сталинских слов, которые ему удалось восстановить, обнажал скрытое соперничество «двух правд», они всегда действуют в жизни: правды панорамного исторического видения событий и правды ситуации на том или ином направлении.
Конечно, Жуков не безгрешен, в том числе по крупному счёту, но тут приоткрывалось нечто, в корне противоречившее сложившемуся облику. Или это сам Сталин действовал в каждом из своих прославленных полководцев?.. Видимо, так и есть. Едва погиб Сталин, из его верных слуг попёрло лакейское хамство. Возможно, и Жуков, видя, как диссиденство по всему миру атакует Сталина, решил приписать себе кое-какие заслуги… Тут нет уверенности. Или он хотел чего-то иного, но это «иное» возможно было обеспечить только путём временного отторжения Сталина?..
О чём-то он сговорился с Хрущёвым против Берии: оба боялись, что Берия репрессирует высшие кадры под предлогом, что они разложились. Но затем, когда Берия был уже уничтожен, маршал выставил счёт на более значительное влияние. Возможно, и оправданное: этот истинно русский самородок умел рисковать. Но за Хрущёвым стоял уже мощный диссидентский блок, против которого полководец оказался бессилен: он был с треском снят с должности во время визита в Югославию, когда был отсечён от преданных ему ветеранов и не мог оказать никакого сопротивления.
Кто прояснит подоплёку колебаний и зигзагов в поведении Жукова? Кто скажет, что он хотел уберечь, помогая Хрущёву прийти к власти и санкционируя затем все хрущёвские «разоблачения»? Без согласия Жукова, пожалуй, не было бы вовсе никакого XX съезда КПСС. Но мы не знаем, а возможно, и не узнаем, по какой причине так повёл себя преданнейший Сталину военачальник.
Горько сознавать, однако это, по всей видимости, и есть главная правда: в лучах бескорыстного сталинского гения каждая личность излучала всё самое ценное, что имела. Без этих лучей из преисподней душ лезли наружу мрак и трусливый эгоизм…
Разве не ясно, что ложь о Сталине до сих пор остаётся контрапунктом всего сатанинского замысла по разрушению СССР, России, Украины, Белоруссии и других некогда союзных республик? Мировым негодяям нужно утвердить ложь относительно Второй Мировой войны, чтобы присвоить себе победу, а в последующем извратить ход истории — проложить дорогу новому оболванивающему учению для сотен миллионов наивных, нищих и обездоленных: вместо тупикового «марксизма» навязать новый тупик — «атлантическую солидарность», «гуманную демократию» и прочее, и прочее: химерические формулы гораздо более неисчислимы, нежели формулы относительного знания.
Им нужен поверженный Сталин, Сталин-чудовище, Сталин-тиран. Им нужно то, чего нет и не было. И в этих целях из памяти народов вытравливаются все упоминания о том, как оценивали И.Сталина наиболее крупные современники. А они были убеждены, что скромный титан и стратег прозирает события на десятки лет вперёд. У.Черчилль, крупнейший из политических деятелей западного мира в XX веке, был уверен:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний её возглавлял такой гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин.
Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в британском парламенте, не мог ничего противопоставить»…
Мысли, рождённые совестью, но оставшиеся нереализованными, грызли плоть.
Алексей Михайлович понимал, что губит себя воспоминаниями. Не только сердце, все системы организма давали сбои, он лишь временами приходил в себя. Но и тогда долго не мог сообразить, где он. Потолок над головой казался полом и качался — вот-вот рухнет вниз. И тело не ощущалось, потому что медсестра колола ему препарат морфия или чего-то похожего, что помогли достать друзья, такие же потерявшие почву реликтовые старики, как и он, только, как оказалось, более мобильные, более живучие, более приспосабливающиеся…
Жизни, которую он мог оставить, было не жаль. Жизнь должна была остаться по всем законам, тогда как кончина его, Прохорова, была, в конце концов, неизбежной и даже необходимой.
Но он страдал, мучился невыносимо оттого, что не исполнил важнейшего поручения, которое ему дал Великий вождь.
Как получилась колоссальная промашка, толком не объяснить. Он был молодым директором крупного и перспективного оборонного предприятия в Сибири, зачем нужно было его тащить в Москву? Но, видимо, кто-то имел более высокие виды на все события, если учёл и такую незначительную величину, как он.
Конечно, он был уже доктором наук и имел несколько важнейших разработок сверхсекретного характера. Но почему вызвали именно его, а не академика Недбаева, который, собственно, был его учителем? Почему не пригласили Шапиро, который «курировал» Изделие от министерства и тоже был в курсе основных дел? Или уже тогда кто-то допускал, что Шапиро окажется невозвращенцем? Он драпанул из ГДР, где, казалось, все колёса вертелись ради укрепления боеспособности СССР. Выходит, не все колёса? Кто-то действовал и там, и связь одних предателей с другими была отнюдь не случайной…
Он догадывался, что Сталин выбрал несколько самых порядочных людей, чтобы, посвятив их в свои планы, побудить инициативно бороться за их осуществление. Сталин исходил из того, что все эти люди при любом стечении обстоятельств останутся руководителями важнейших оборонных направлений, стало быть, влиятельными работниками, членами обкомов и ЦК. Но Сталин не предвидел, что прахом пойдут и обкомы, и ЦК, что партия не только переродится, но и вообще утратит своё политическое значение…
В отличие от Сталина, который смело полагался на незнакомых людей, Алексей Михайлович не мог положиться даже на близких: сын погиб в Чечне, а внучка Элеонора от первого и очень неудачного брака сына уехала в Данию с подозрительным типом, поклонником Бахуса, красномордым матерщинником, который якобы приезжал в Россию, чтобы содействовать покушению на Горбачёва.
Что же касается сослуживцев, самой верной братвы, то она давно рассеялась по России, поскольку их объединение было закрыто специальным приказом Ельцина ещё в 1992 году, на этом настояли американцы…
Каждое событие жизни имеет свою технологию, даже смерть. Если бы мы имели сносное представление об этой технологии, мы бы не тыркались во все дыры, не терзались бы понапрасну…
Он готовился исполнить данную Сталину клятву — не вышло. Враг как будто знал о ней: больно уж прицельно громил как раз те учреждения, где сидели руководители, готовые умереть, но исполнить долг. Умереть позволили, а выполнить долг — не дали…
Но и среди рыцарей, неустанно ковавших щит Родины и уверенных в том, что любой враг обломает о него зубы, отыскались пархатые суки, едва толпы диссидентов пошли от успеха к успеху…
Кажется, всё должно было быть ясно: у всех «народных фронтов», для дурачков поделённых по национальному признаку (блоки грядущего раскола — эстонский, литовский, белорусский и т. п.), обнаружили одного автора — специальное подразделение ЦРУ. Установлено уже, что и дефициты в стране создавались искусственно, чтобы усилить раздражение масс: в условиях ажиотажного спроса не выдержали бы запасы никакого западного государства, тем более, что в СССР был самый высокий уровень платёжеспособного спроса: не тысячи, как сейчас, а сотни тысяч покупали красную и чёрную икру и отдыхали летом на курортах Кавказа и Крыма. Да и то было сразу ясно, что за люди пеклись о «демократии» в самых популярных изданиях страны: это были в основном те, которые прежде ревниво защищали режим доносов и партийных преследований. К тому же это были почти сплошь нерусские люди, как же можно было верить в искренность их забот о России? Все они были яростными ненавистниками тех истинно русских людей, которые предупреждали о пагубности любых зарубежных заимствований. Невдомёк было околпаченным, что национальное богатство — не джинсы и не модные галстуки, его нельзя импортировать по желанию, подражая гримасам и ужимкам зарубежья…
Но выпестованные заблаговременно остолопы преобладали. Во всяком случае, громче всех разевали глотки. Один из них вызывал особенную досаду — секретарь парторганизации их головного объединения, что работала на правах райкома, — Кучеврясов Валентин Сигизмундович, бывший обкомовский порученец. В своих манерах он подражал Горбачёву и не раз осаживал вспыльчивого и нетерпимого к несправедливости Алексея Михайловича:
— Туда он гребёт или не туда, как Вы выражаетесь, теперь, когда окончательно разрушена монополия «органов» на проверку партийных кадров и мы сами определяем все облики, Генеральный секретарь не может ошибаться. Все могут ошибаться, но ошибка вместе с ним никакая не ошибка. Вот из чего долженисходить каждый!..
Круглая голова его на тонкой шее, мохнатые брови при мелких чертах лица и особенно широкие скулы, придававшие голове треугольный вид, всякий раз напоминали Алексею Михайловичу власоглава, отвратительного глиста, поселяющегося в кишке у неопрятного человека.
К тому же Кучеврясов со времён своей комсомольской юности баловался стихосложением. Он рифмовал по поводу каждого праздника или политического события. Умел перелагать на выспренный глагол даже призывы ЦК КПСС, понятно, что такого товарища ценили карабасы-барабасы нашей пропаганды.
Кучеврясов был родственником Самуила Изотовича Гетманова, бессменного главного редактора областной партийной газеты.
Однажды Алексей Михайлович не выдержал и в присутствии других сказал Гетманову:
— Ну, и кадр Вы нам впендюрили! Пустую болоболку!
— Зато у него планы всегда в порядке, отпечатаны на лучшей бумаге, все подписи на месте. Обком партии ценит исполнительность.
— Но стишки-стишки, — простонал Алексей Михайлович, — как же Вы печатаете всё это безобразие, которое позорит нацию Пушкина?
— Позорят те, которые преувеличивают… Партийные ячейки должны держать под постоянным контролем инженерный и директорский корпус, чтобы нос не задрали… Это во-первых. А во-вторых, наш народ не может иметь более высокой культуры, чем люди, представляющие народ в партийных организациях. Паче чаяния случится наоборот, погибнет революция, как говорил товарищ Ленин в одной из своих поздних работ…
Прыткая блошка, Кучеврясов ещё в советские времена сумел с чьей-то помощью создать «газетно-книжный кооператив», в котором немедля вышли его «Избранные стихи». Предисловие изобиловало цитатками из частных писем московских диссидентов, выдержанных в панегирической тональности.
А потом кооператив полностью включился в процесс выдвижения Кучеврясова на пост Президента СССР. Все понимали, что это дань проформе, но видели, что игра открывает новые шансы для её участников.
На каком-то мероприятии областного пошиба Алексей Михайлович нос к носу столкнулся с бывшим сослуживцем.
— Ужели ты всерьёз нацелился на кресло президента?
— А чего? Чем я хуже Горбачёва? Я институт марксизма-ленинизма окончил. Есть опыт работы на одном из главных оборонных предприятий страны… Чувствую в себе силы, связанные с эпохой демократического процесса…
Алексею Михайловичу сделалось нестерпимо досадно, что ни в чём уже не осталось ни величия, ни тайны. «Что такое Горбачёв в сравнении со Сталиным? Или этот Кучеврясов? Всё мельчает буквально на глазах…»
Алексей Михайлович остро реагировал на проходимца, потому что подлинный талант был у него под боком, родной сын, но принципы чести не позволяли ему использовать какие-либо связи для облегчения трагической участи сына.
Сын был, конечно, одарён на поэтическое слово, но именно эта одарённость и создавала преграды на его пути: чуть только вшивота, расползшаяся по журналам и издательствам, устанавливала, что имеет дело с подлинным талантом, а что — нет. Она находила тысячи унизительных отговорок, чтобы сорвать публикацию.
Сын был раним и обидчив. Это был возвышенный характер из прошлых эпох.
Алексей Михайлович больше всех повинен в гибели сына. Может, тот не рвался бы в пламя войны и смерти, если бы встретил хоть какое-то понимание и сочувствие в литературных увлечениях, особенно после распада его семьи? Но отец считал предосудительным искать нужные знакомства.
После очередной неудачи в московском журнале сын подал рапорт, а на вопросы родителей ответил:
— У меня всё не клеится на гражданке, зачем она мне? На Кавказе служили лучшие люди России. Участие в войне только расширит мой опыт, покажет, в чём я неправ…
Следы сына затерялись где-то под Хасавьюртом. Куда только сотни раз ни обращался Алексей Михайлович, всё крутили и мутили — скрывали правду. Или вопиющий бардак в армии. Никого из сослуживцев сына он так и не нашёл, хотя искал, очень искал.
Сын был убит и даже не похоронен по-людски, а такая мразь, как Кучеврясов, не только жила, но и процветала…
Пересматривая бумаги, оставшиеся от сына, Алексей Михайлович обнаружил стихи, которые прожгли душу. В тоске он понял, что зря пожертвовал сыном, не подставил ему плечо, как должен был бы поступить настоящий отец. Выходит, и благородство прививали «совкам» только для того, чтобы бросить их под пули, закрыться ими при опасности для собственной шкуры…
Я пришёл, но меня не узнали. Я глаголил на площади зря. Торгаши меня лишь осмеяли, Это мягко ещё говоря. И простые, обычные люди Зло кричали вослед: «Идиот!» Знал давно я — невежды осудят, Но не знал, что обманет народ. Вслед летели и палки, и камни. «Хватит, слышали много речей!.. Тунеядцам в угоду да дряни!.. Всё на пользу одних сволочей!..» «Чуда! Чуда!» — ревели бродяги. И калеки стекались толпой. И срывались с помоек собаки — С громким лаем бежали за мной. Если б ведали зряшностъ затеи! Ведь беспомощны все чудеса, Если веры в себе не имели Ни умы, ни сердца, ни глаза… Я шептал, задыхаясь от жажды: «Я бессилен средь слабой толпы! Вот когда б пробудился бы каждый… Чудо главное — это ведь мы…» Только слушать меня не хотели. Мысли не было даже в глазах. «Чуда! Чуда!» — безумно ревели, Нагоняя безумием страх. Где рабы, там свободных не сыщешь. Как им было о том втолковать? Разве может богатство средь нищих И убогих себя нарождать?.. Уходил я пустою дорогой, Что змеилась средь выжженных гор, Зная: больше не будет пророка. И его не видали с тех пор…Хасавъюрт… Если он уцелеет, если выживет, он непременно поедет туда…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Усекновение главы «святого Августина»
Город постоянных перестройщиков
Город с таким названием, разумеется, бесполезно искать на карте. В то же время он существует — не как призрак, а как реальное чудовище, фактор российской, а, может быть, и мировой политики.
Однако это название широко применяется — для своих, тех, кто приезжает в город и живёт в нём, тех, кого привозят насильно и кто проводит в нём последние дни перед казнью, добровольной или принудительной: именно здесь во множестве бесследно исчезают люди…
В советские времена, говорят, это был закрытый город, где расслаблялись после загранкомандировок советские разведчики и их коллеги из стран социалистического лагеря.
Здесь были первоклассные отели, корты, великолепный кусок закрытого черноморского побережья и вышколенная обслуга.
После горбачёвско-ельцинской «революции», когда к власти пришли люди из клана Гайдаров, Чубайсов и прочих Собчаков, город тотчас же пришёл в запустение, потому что развалилась прежняя гигантская империя КГБ и финансировать «коммунистическую агентуру» уже не позволили западники: они хотели, чтобы КГБ, причинивший им немало хлопот, издох навсегда.
Ещё задолго до того, как к городу проявило интерес ФСБ, он был с ведома верхушки сдан неофициально в аренду на 99 лет консорциуму «Мосты демократии», где участвовали фонды Даллеса и Трёхсторонней комиссии — кто наверняка знает, что это такое?. В качестве главного управляющего зарядили бывшего советского гражданина Ловкиса или Ловксиса.
Я никогда этого субъекта не видел, но это, конечно, не значит, что это вымышленное лицо: если какое-либо предприятие приносит немалые деньги, каждый дурак знает, что у него есть хозяин и — сверх того — покровитель…
Вы спрашиваете, как я попал в этот город? Да вот так и попал — по оказии.
Летом 1996 года позвонили в мою московскую квартиру:
— Вы Пёкелис Самюэль Абрамович?
А я никакой не Пёкелис, я Фролов Иван Иванович, вплоть до развала СССР проработавший шифровальщиком в ГРУ. В целях секретности, после одного ЧП, я числился Пекелисом.
Фролов я по отцу. А по матери — Лучина. Такая вот благозвучная была у матери фамилия — Лучина. То есть, источник света, в старину крестьянские хаты освещались лучиной, запалённым пучком тонкой сосновой дранки.
— Ну, я Пёкелис, кто трендит? Уже в пятый раз, по определителю вижу!
— Так Вы меня, может, и не знаете.
— Ну, а всё-таки? Я с незнакомцами в словесный контакт беспричинно не вступаю.
— А это Брызган Иннокентий Феофилактович. Я в Вашем ведомстве шестнадцать лет парикмахером оттрубил… Так для себя, знаете, вёл учёт клиентов. Никто со мною в жмурки не играл, но и как старого коминтерновца никто не выпирал со службы. У меня картотека сохранилась.
— Даже если — ну, и что?
— А то, что власть сменилась окончательно и бесповоротно. Верных чекистов, как и заядлых совков, отовсюду выперли. Работу Вы теперь нигде не получите: на этот счёт есть предписание победителя…
— У меня нет времени на пустой трёп. Чего Вы хотите? Предложение?
— Предложение такое: поехать в один прелестный городок на Чёрном море… Между Туапсе и Новороссийском. Победитель создаёт там опорный пункт для нового крещения России… Надыбали приличный архивчик. Нужен спец по квалификации и дешифровке. Три тысячи баксов в месяц. Нигде больше на такой лафе не наваришь…
Я в общем сразу смикитил, что за «архивчик», но лезть в пасть к удаву без необходимости — не мой профиль.
— Конкретнее. И гарантии. Я же не разведёнка с целлюлитовым рылом, первое попавшееся предложение на заглот не беру. Он похихикал в трубку.
— Зона закрытая, просто так не попасть. Приезжайте (и называет адрес), мы купчую оформим на два года. Ни жены, ни детей брать пока не велят… Через две недели пойдёт спецтранспорт. Если есть желание, пристраивайтесь. И главное: выбросьте из головы все прежние иллюзии. Классический обман — это по плечу только классикам жанра. А с классиками надо считаться!..
Во, падла!
Встретился я со своим генералом, уполномоченным в таких случаях консультировать растерявшихся: пришёл он по сигналу в булочную.
Стоя в очереди, перемолвились о сути.
— Твоё дело, — говорит генерал, и глаза у него, вчера ещё бравого сокола, подёрнуты пеплом, — решай сам. Моя посудина дала течь и не сегодня, так завтра потонет. Ни в каких играх я участия больше не принимаю, потому что все вы хлипачи и суки, и когда я предлагал ударить наличным составом, вы меня не поддержали.
— Не пылите, — говорю, — Епифан Родионович. Насколько мне известно, ни Вы, ни Ваши единомышленники всерьёз не понимали, кого следует поддержать. Вы были далеки от мысли, что поддерживать нужно самих себя и потому упустили момент…
— Стреляться не буду, — сказал генерал на прощанье. — Но и мемуары писать противно. Родина исчезла в тумане…
Я не спорил и обратился к дублёру генерала — полковнику Ч. Этот оказался умнее и сообразительней.
— Родина никуда не исчезла и не исчезнет, — строго сказал он, и желваки обрисовались на его скулах. — Рано или поздно Россия вернёт традицию. Мы остановились на купцах и спекулянтов-шкуродёров, тем более залётных, никогда не примем… Соглашайся на предложение. Ну, а напорешься на что-либо чрезвычайное, дай знать!..
Через две недели, оставив жене и сыновьям полученный залог, я выехал на поезде к месту сбора.
Накануне отъезда мне вновь позвонил парикмахер:
— Я получил свои деньги как посредник или как наводчик, думайте, что хотите. У меня только один вопрос: вы, действительно, Пёкелис?
— Вы присутствовали при подписании трудового соглашения и видели мой паспорт, что Вам ещё нужно?
— Да, всё это я видел, — сказал назойливый прохвост, — но я очень сомневался, что они допускали наших до святая святых секретной работы…
— Кто это «они» и кто это «наши»? — ответил я ему нарочито грубо, считаясь с любым ходом моих новых работодателей. — Вы столько лет соглядатайствовали в секретном центре и до сих пор всё ещё сомневаетесь в добропорядочности русских людей!
— Вы не похожи на еврея, — уныло констатировал он. — Не представлял себе, что можно так разъевреиться. Выии… почти ассимилянт.
— А что это вас так тревожит?
— Если бы только меня, — вздохнул он и повесил трубку…
До Краснодара я доехал поездом. Когда пересаживался на вертолёт, мне показалось, что в группе завербованных есть ещё один мой сослуживец, человек мне малознакомый, спец по электронной технике и программист, что и подтвердилось впоследствии.
При выходе с территории небольшого, но очень удобного при хорошей погоде аэропорта, окружённого зелёными горами, я получил пропуск. Теперь мне предстояло самостоятельно обустраиваться и через три дня явиться на работу, адрес нового учреждения значился в моём контракте: улица Фридриха Лассаля, 17.
Имея в руках небольшой чемодан, я спросил у пожилого таксиста, зевавшего в ожидании пассажиров:
— Далеко ли до города?
— До города, может, и недалеко, — ответил он, намекая на свой куш, — но новичок тут ни за что не освоится, пока не получит необходимых разъяснений.
— Можете их дать?
— Как прикажете, — вяло сказал он, и я сел в его машину, обратив внимание на то, что на пожухлом, выжженном солнцем придорожье в белых чашечках вьюнка и синих — цикория высится гигантский, почти в два метра высотой чертополох. Никогда прежде я не видел таких крупных экземпляров чертополоха, и потому он поразил моё воображение, тотчас же сделавшись символом и города, в котором мне предстояло провести несколько лет, и людей, с которыми столкнула судьба.
Город со всеми службами, как я понял уже по первым объяснениям таксиста, функционировал как доходное предприятие: всё имело свою стоимость, позволявшую, вероятно, не только покрывать издержки, но и обеспечивать необходимую прибыль. Светлая «Волга» быстро бежала по пустынной горной дороге. На крутых виражах визжали тормоза да поскрипывал кузов.
— Всё, в сущности, очень просто, — говорил шофёр, поблёскивая стёклами зеркальных очков. — Раньше здесь была зона отдыха для крупной птицы из КГБ. Теперь здесь заправляет доверенное лицо ЦРУ. Характеризовать его у меня нет ни малейшего желания. Мат, даже и русский, не способен выразить всей амплитуды возмущения.
— Если Вас это возмущает, — осторожно заметил я, — почему же Вы не уедете отсюда?
— Тю, батенька, Вы, верно, не вполне понимаете, куда приехали? — он криво усмехнулся. — Отсюда можно выбраться только через трубу крематория!
— У меня контракт.
— Формальность! Иные, у которых контракт на десять лет, участвуют, хотя и неохотно, в церемонии собственного погребения уже через месяц, — если они не приглянулись шефу всей этой бандитской конторы!
Искренность его тона несколько озадачила меня: «Неужели я влез в бесовское гнездо?»
— А Вы не боитесь, что Ваши мысли фиксируются на магнитную плёнку?
— Уже не боюсь, — не сразу ответил он. — Может, я сорвался, почувствовав к Вам излишнее доверие, но не боюсь… В прошлом я майор КГБ и занимался персоналом одного из семи санаториев, которые здесь разместились. После путча, но не того, театрализованного, выставившего на посмешище прежнюю власть, а путча проамериканского, который всюду установил власть известной вам мафии, нас, холуев, никуда не отпустили… Они же беспомощны, эти комиссары, если им не прислуживают олухи из россиян. На унитаз никогда не попадёт. Бумажку не подашь, своим галстуком подотрется… Ну, и усилили режим на суше и на море, и всех, кто попытался бежать, поймали и повесили. Иных держат, а работы не дают… Жри коренья и подыхай от голода, — никого это не колышет!..
Не имея никаких аргументов, я почуял, что человек ещё может понадобиться. Я бросил якорёк, маленький, осторожный.
— Не мне Вас учить, майор, но в большой шторм мелкие суда не выходят в море… Зачем Вам лишние осложнения?.. Я тоже в прошлом офицер, но не хочу допускать даже и мысли, что куплен на веки вечные… Мне сказали, что сюда свезли какие-то архивы. Я приехал, чтобы помочь разобрать их.
— Здесь, действительно, есть чем поживиться акулам, — откликнулся таксист. — Когда-то здесь размещался дублирующий центр стратегического планирования. Он имел банк данных по всем научно-техническим новинкам мира, как заявленным, так и не заявленным… Уж я-то знаю, что они теперь хмелеют оттого, что ползают раком по золотому песку…
Я ожидал, что он разовьёт тему, но он переключился на другое.
— Въезжаем в жилую зону. Слева памятник Дзержинскому, о котором они теперь говорят, что по утрам он был более поляк, чем еврей, а вечерами был более еврей, чем коммунист… Здесь всего четыре улицы — Бабеля, Лассаля, Рузвельта и вездесущего Свердлова — его ныне считают подлинным творцом «русской революции» — через него Ленин получал из-за рубежа деньги, но через него же из России ушло в триста раз больше, чем притекло… На Бабеля, Рузвельта и Свердлова находятся санатории, каждый из которых имеет свой пляж. На Лассаля — многоквартирные дома обслуживающего персонала, там же — управление по обеспечению, которое сегодня называется мэрией… Для начала Вам достаточно этой информации. И поскольку, как я понимаю, Вам не выдали литера на проживание в санатории, предстоит снять частное жильё…
— Буду обязан, если Вы порекомендуете, где мне стоит попытать удачи.
— Удача будет кругом, — усмехнулся шофёр. — Смертность в городке дикая, так что свободная площадь имеется в каждом доме. Отдельную квартиру не обещаю, но комнату с балконом и возможностями невозбранного пользования туалетом и кухней гарантирую… Хе, — воскликнул он, будто осенённый неожиданной догадкой. — Отвезу-ка я вас к полковнику Мурзину. Перманентно пьян, как всякий у нас, потерявший перспективу, но, думаю, Вы с ним сговоритесь: в прошлом году повесилась его дочь, так что, полагаю, полковник только обрадуется свежему обществу…
Павел Павлович Мурзин напомнил мне разорившегося и опустившегося гоголевского помещика. Широкоплечий, среднего роста, с полосатым колпаком на голове и в пижамной паре, он встретил меня простодушно и радостно, как старого знакомого, и, подмигнув, тотчас объявил, что магарыч, то есть замочка соглашения о найме комнаты, пойдёт за его счёт, но из моих закладных.
Мне было больно смотреть на него, видно, в прошлом, толкового и опытного службиста. Но такой опустившейся была уже вся наша несчастная страна.
Рассчитавшись с таксистом, я записал его имя и телефон, по которому смогу его разыскать. И едва он ушёл, довольный моей щедростью и учтивостью, я втянулся в переговоры с Павлом Павловичем.
Выпивохе мерещились в моём кармане большие лишние суммы. Я пытался мягко образумить этого человека, внушая ему, что он потеряет хорошего клиента, но на Павла Павловича, который вдруг заартачился после того, как мы практически сговорились, мои аргументы производили прямо противоположное впечатление.
— Послушайте же, наконец, — осерчав, закричал он, — вы превратили нас в ничто, в пепел и грязь, и теперь хотите получить наши сердца, не заплатив не единой копейки? Так не будет! Идите прочь, у меня нет для вас дешёвой комнаты!..
На эти выкрики откуда-то из других комнат или со двора появился малец лет шести-семи, в трусах и без майки, под мышкой он держал замурзанного плюшевого мишку. Подросток, как выяснилось, был сыном повесившейся. Это был явный дебил — кривое, болезненное лицо и страшно спокойные глаза.
— Что за трагедия сокрушила тебя, полковник? — спросил я, глядя на его внука.
— Разве Вы не видите?.. Основную часть своей жизни я провёл в Сибири и на Урале. Скажу Вам, нет ничего тяжелее и презреннее, чем прозябать в курортной зоне. Здесь нет и не может быть настоящей работы, здесь принимают исповеди бздунов и нарциссов, здесь масса прожектов, но нет напряжённых будней, здесь лень и избыток спермы определяют весь уклад… Без деятельного и смелого мужика нет крепкого государства. Мирные годы разрушают народы беспощаднее, нежели кровавые войны!..
«Складно мыслит», — подумал я.
Между тем, он вдруг сморщился и заплакал, по-детски — кулаком утирая глаза. И я понял, что лучше переплачу, но не брошу в беде этого человека, потерявшего, как и мы, практически всё.
— Ладно, принимаю все ваши условия!
— Нет-нет, — вскричал Павел Павлович, будто его обожгло огнём, — я не собираюсь и никогда не собирался сдавать свободную площадь! У нас более нет свободы, какая же может быть ещё свободная площадь!..
Я видел, что это истерика, и поэтому уладил всё хитростью, которая в тот момент была, конечно, очевидна.
— Нет-нет, полковник, — твёрдо сказал я. — Разве я могу оставить Вас, видя, в какую беду Вы угодили? Я, конечно, останусь у Вас, но при одном условии: Вы подробно познакомите меня со всем, что творится в городе. Мне это необходимо, а более толкового человека мне не встретить.
— Боже, — примирительно произнёс он, улавливая в моих словах какую-то свою надежду. — Я всегда говорил, что царство сатаны подохнет, сокрушённое мерзостями!..
Он взял мой паспорт и вслух прочёл: «Пекелис…»
— Нерусский? Прибалт?
— Считайте, русский эстонец…
В эту как раз минуту с улицы закричали: «Мурзин! Мурзин!..»
Старик выглянул в окно, пошарил глазами и, обращаясь к кому-то, презрительно сказал:
— Ах, это ты! Ну, заходи, коли уже пришёл!..
И, повернувшись ко мне, вполголоса добавил:
— Эта скотина и погубила мою доверчивую Нинку!.. Я вас познакомлю. Негодяй вхож во все здешние дома и во все учреждения! Держите ухо востро и вы выудите из него всё, что угодно…Только не противоречьте: сволочь повсюду убеждена, что она призвана править миром!..
И вот передо мной предстал Леопольд Леопольдович Кимпель. Капустные уши и сходящиеся к носу глаза.
— Вы сняли комнату у Пал Палыча? Отлично! Это мой шурин, то есть, свояк, точнее — свёкор… Вам повезло: Вы попали к человеку покладистому и гуманному. К тому же я, прирождённый лекарь, лекарь, так сказать, волею всевышнего, имею в городе неплохую, во всяком случае, доходную практику… Если хотите послушать, я Вам совершенно бесплатно изложу свою философию здоровья!..
И он со стуком выставил на стол бутылку красного креплёного вина.
— Может быть, Вы и прекрасный лекарь, — сказал я Леопольду Леопольдовичу, — но Вы, я вижу, спаиваете полковника. Зачем эта «бормотуха»?
— Отчего же его не спаивать? — всплеснул руками самоуверенный человек. — Он сам спаивается, как всякий «совок», которого перестают водить на помочах. Он просто не знает, что ему делать, а признать себя стариком и добровольно выйти в тираж не хочет. Так я рассуждаю? — он погрозил пальцем Павлу Павловичу, который, пристроившись на стуле, вертел в руках бутылку и внимательно рассматривал этикетку.
— Всё ты врёшь, — неожиданно сердитым тоном отозвался отставной полковник. — И никакой ты не лекарь, ты плюгавый кавээнщик, который соблазнил мою дочь-дурёху!..
— Ну не скажите, не скажите! Я, Кимпель, был ведущим концертов, мастером репризы. Мурзин сделал меня медицинским братом, заставив окончить медицинский техникум, но на самом деле я всегда оставался великим исцелителем… Да, я вынужден так гиперболически отзываться о себе, потому что только я в комплексе представляю, что означаю для закосневших в суевериях народов…
— Ты был и остался заурядным конферансье! — объявил Павел Павлович и ловко откупорил бутылку при помощи ключа, который оказался у него в кармане пижамы. — Ты был и остался гнидой, но я не буду тебя давить, не буду!
— Вы весьма двусмысленно отрекомендовали меня, — надулся Леопольд Леопольдович. — Но, к счастью, каждый мерит на свой аршин… Я открыл совершенно новый критерий здоровья… Какать, мой друг, нужно как можно чаще какать… Животные, которые чаще освобождают желудок, живут дольше и веселее… Итак, господа, если вам удастся какать четыре-пять раз в день, я гарантирую вам 80-100 лет полноценной жизни!
Это был, конечно, отрепетированный экспромт, рассчитанный на ошеломление публики.
— Каков фрукт! — подмигнул Мурзин. — Платите и какайте!
Тьфу!!..
Откровенно говоря, мне не понравился самоуверенный субъект с жуликоватой «теорией долголетия». Кроме того, хотелось однозначно продемонстрировать полковнику, что он при всех обстоятельствах может рассчитывать на мою солидарность.
— Вы развиваете очень своеобразную теорию, — сказал я Леопольду Леопольдовичу. — Но я слыхал о теориях куда более любопытных. — Я, разумеется, импровизировал, за многие годы развив в себе кое-какой потенциал воображения: мои старшие начальники постоянно повторяли, что эффективная охрана государства немыслима без людей, способных представить себе все возможные козни потенциальных врагов. — Мой знакомый утверждает, что назначение любого живого существа, в данном случае я говорю о человеке, плодоносить, нести в мир законченные плоды индивидуального творчества. Когда человек плодоносит естественно, находясь в благоприятной среде, он сохраняет высокий уровень здоровья. Но едва нарушается природный механизм взаимоотношений с окружающим миром, в организме происходят чаще всего необратимые перемены. Плод должен быть, и он в любом случае будет. А вот каким? Это уже другой вопрос. Человек займётся имитацией плодоношения — обманом, мошенничеством, разбоем, развратом, пустым разгулом. Никакого здоровья у него уже не будет, как не будет здоровья у яблони, которой прививают баобаб или саксаул… Мой знакомый способен по разговору определить характер заболевания и содержание личности. Природное в человеке всё равно торжествует, но созидательная натура производит положительное, а паразитарная — неполноценное…
Леопольд Леопольдович не сводил с меня чёрных лакированных глаз, то и дело сглатывая слюну.
— И где он теперь Ваш знакомый, который предугадал мои главные открытия? Они состыкуются, легко состыкуются и не противоречат друг другу.
«Всякий старьёвщик тотчас хватается за чужое седло, помышляя превратить его в башмаки!..»
— Под Москвой. Насколько мне известно, он вообще обособился от мира.
— Может быть, у него есть какие-либо научные записи?
Хищник был мне совершенно понятен, и я подзадорил его:
— Пожалуй, есть… Он ни на что не претендует. Он мог бы отдать вам свои записи даром.
— Даром? — восхищённо повторил Леопольд Леопольдович. — Что же Вы? — обратился он с упрёком к Мурзину. — Несите стаканы и какую-нибудь закусь… Представляете, я могу не только защитить диссертацию, но и стать академиком! Теперь, когда рассыпалась совковская наука и пришла пора истинной демократии, именно мы, не утратившие тонус, должны стать у руля! Потирая руки, он вышел в туалет.
— Гнида, — сказал Мурзин, расставляя стаканы. — И почему у всех рулей непременно хотят встать гниды?
— Потому что гнидам негде более встать, они ни на что более не пригодны. Водить руками — их мечта. Они бесплодны и потому постоянно больны.
— Не помогайте ему, — попросил Мурзин. — Если он завладеет чужими разработками, он поднимет через своих дружков такую пыль, что и в самом деле станет академиком и даже главврачом нового Кремля.
— Ни хрена подобного! Эти люди могут носить звания академиков, но лечиться начальство предпочтёт у обыкновенных Петровых и Сидоровых, о которых известно, что они трудяги и специалисты!..
Опорожнили бутылку вина. «По такому случаю» я достал из чемодана армянский коньяк, открыл банку тресковой печени и коробку шоколадных конфет.
Полковник, сразу же захмелев, унёсся мыслью куда-то в иное пространство. А «не утративший тонуса» демократ Кимпель, отсыпав из коробки половину шоколада в карман своего неполноценного сына, тихо сидевшего в стороне от застолья и временами с невнятными бормотаниями сердито бодавшего плюшевого мишку, развивал всё новые и всё более абсурдные теории. Самое смешное: он говорил от имени России, и это его ничуть не смущало.
— Нас, русских, никогда не насытить! И чем нам лучше, тем мы свирепей и недовольней. А поэтому самое нормальное для нас состояние — нищета и анархия… Думаете, у нашего обкомовского пердуна что-нибудь получится? Ничего не получится, потому что к власти прорвалась ненасытная шобла. Они растащат не только прежний социализм, но и новый капитализм, и всё завершится новой гражданской резнёй и новыми трудовыми армиями… Однако я лично не намерен терять шансы… Налейте ещё, сегодня я в необыкновенном ударе, мне кажется, нащупана главная жила судьбы… Так вы говорите, он не станет мелочиться и кочевряжиться из-за пары расхожих идей, которые, вообще говоря, ничто без соответствующего оформления и, самое важное, поддержки?.. Это будет «Глобальная теория здоровья»! Читайте: Леопольд Кимпель. — Он сделал ударение на втором слоге. — Не исключено, что со временем я буду вручать премии собственного имени… Положите мне ещё кусочек печени… Сейчас бы сёмги или буженинки, которую я иногда покупал в «Елисеевском»…
Чёрт надоумил меня позабавиться над этим вдохновенным кретином, на ходу перелицовывавшем чужую мысль.
— Знаете, а в Вас что-то есть от Карла Маркса.
— Ну, что Вы, — засмеялся он польщённо. — Но не борода же!
— Нет, удивительная склонность к теоретическим обобщениям. К системе.
— Вы проницательный человек, — немедленно отреагировал он. — Однако Вы ни капельки не похожи на еврея. Пекелис. Может быть, это Ваш псевдоним?
— Ну, что Вы, Леопольд? — сказал я. — Вы тоже ни капельки не похожи на русского, но так глубоко и впечатляюще рассуждаете об исторических судьбах России!
Он был уже в подпитии и не понял. Или понял только свой внутренний голос, который во всякое время искушает человека.
— Так что, я плохо похож на еврея?
— Вы самый типичный и самый толковый еврей, которого я когда-либо встречал в жизни, — заверил я, похлопав его по плечу и предложив выпить на брудершафт.
— Этот обманет всякого, кто ему поверит, — мрачно заметил полковник, снимая колпак, под которым обнажилась совершенно седая шевелюра.
— К сожалению, не всякого, — вздохнул Леопольд Леопольдович.
— Послушайте, — сказал я, не желая ссоры. Пьяные люди непредсказуемы, и поэтому никогда не следует пережимать пружину. — Я только что вспомнил: тот человек умер. Умер в прошлом году, и я даже участвовал в похоронах… Его могила в Одинцово.
— Прекрасно, — откликнулся, переварив эту новость, Леопольд Леопольдович. Глаза у него совсем окосели, и голос пошёл в нос. — Мы просто договоримся с наследниками и купим весь его хлам за 10–15 долларов. Вы ведь не откажетесь помочь мне в этом благородном деле?
— Разумеется, мой милый. Но прежде я должен сговориться с моим новым начальством.
— О, это уладим, это я беру на себя, — важно заявил Леопольд Леопольдович. — В каком амплуа Вы собираетесь здесь выступить?
— Боюсь, что ваших связей и личного обаяния не хватит. Область моего применения секретная, может быть, сверхсекретная. Меня пригласили для разборки обнаруженной документации…
— А, знаю… Тут были кое-какие архивы главного разведуправлепия… Да, это большие секреты, не спорю. Но вскоре Вы узнаете ещё и о больших секретах… Я лично хорошо знаком с двумя боссами, которые управляют всем процессом… Между прочим, они меня высоко ценят как первого стратега долголетия в новом глобальном обществе… «Какаем чаще!» — с их согласия я провёл такую акцию в городе уже дважды. И знаете, кто больше всех оценил мои усилия?.. Американцы, короче, те, кто их здесь представляет. Культурный, цивилизованный народ! Они приучены к тому, чтобы тотчас принять любую новую рекламу!.. Вчера исправно чистили зубы толчёным песком, сегодня по часам ходят в уборную…
Так началась новая глава моей жизни. Совершенно неожиданно я получил весьма выгодный плацдарм и только сомневался, нет ли тут хитрой игры…
Все формальности по приёму на работу были завершены очень быстро, и в тот же день мне бегло показали архив, предложив срочно составить примерный план описи его разделов, расчёт в людях и технических средствах, чтобы возможно было без промедления приступить к приведению всех материалов в систему.
— Мы тут сотрудничаем с нашими новыми западными друзьями. Очень щепетильные люди. Они не требуют больше того, что мы им даём, но просят соответствующей сервировки, — сказал мне мой новый шеф Соломон Янкелевич Бурчиладзе.
— Не совсем понял, уточните.
— Они могут обрабатывать только приведённые в систему материалы. Они ведь уже давно работают с компьютерной техникой. У них уже существенно иные мозги.
— А, понимаю, я вспомнил Леопольда Леопольдовича и его теорию, понравившуюся американцам. — Они не пользуются туалетом, пока нет соответствующей бумаги.
— Совершенно верно! — просиял Бурчиладзе. — Вы очень точно угадали мою мысль. Что, у Вас есть опыт общения с американцами?..
Это была ответственная, но в высшей степени неблагодарная работа, хотя я хорошо знал, как к ней подступиться.
Я исходил из того, что мне пока не доверяют и потребуется немалое время, прежде чем я сумею войти в доверие своих непосредственных начальников.
«Теперь Америка будет обобрана так же, как и СССР, разве это сложно понять?.. Неужели мы примем полную капитуляцию? Неужели ничего не противопоставим? — постоянно сверлила мысль. И я знал, что что-нибудь придумаю — такое, что убережёт наши главные секреты. — В конце концов, можно подумать и о пожаре…»
Четыре человека плотно пасли меня. Я оставался под контролем даже в доме полковника. Так что моей основной задачей на первом этапе было — разработать тактику поведения и строго придерживаться её.
Я никому не был должен, это так. Вожди и государство, которым я давал присягу, ушли в небытие. Но оставалась честь, оставалась совесть, оставался профессиональный долг и чувство личного оскорбления: каждый из нас, кто честно работал в КГБ (увы, таких было, как выяснилось, не особенно много), внутренне давно был подготовлен к тому, чтобы молча исполнить долг и принять безвестную смерть.
Но — нужны были веские обстоятельства. И я решил играть роль лояльного к новой власти, но достаточно занудливого человека, намерившегося взять свой куш. Через две недели напряжённейшей работы (по 16 часов ежедневно), когда мои соглядатаи не только преисполнились ко мне уважения, но и возненавидели как ревностного служаку, я написал рапорт своему непосредственному шефу, в прошлом, как выяснилось, заурядному стукачу на одном из ленинградских оборонных заводов.
Стукач, не справляясь с каскадом информации, требовавшей точной оценки (понятно, что он должен был прежде всего думать о собственной шкуре), принял именно то решение, к которому я его подталкивал: вызвал меня на личную беседу.
Беседа проходила в шикарном кабинете громоздкого здания, утопленного в скалы на десятки метров, веранда под тентом с видом на море, кипарисы, с которых, не умолкая, стрекотали цикады.
— Кофе, чай, прохладительные напитки, фрукты?
— Нет-нет, — сухо сказал я, — ничто не должно вредить важной деловой беседе.
— Пожалуй, — согласился он, указав мне кресло из плетёной лозы. — Я внимательно прочёл ваш рапорт, но хотел бы уточнить кое-какие детали.
— Рапорт, — это служебный документ, который ставит самые необходимые технические вопросы. Но у меня есть и другие вопросы.
— Разумеется, — наедине шеф не скрывал, что он пока ещё не достаточно профессионален. — Я даже и предложил бы начать с общих вопросов, разрешив которые, нам будет проще разрешить и частные.
Мысль была заёмной, но справедливой, и я не упустил возможности сделать тонкий, но убедительный комплимент.
— Я со всей серьёзностью отношусь к контракту и не сомневаюсь, что со временем получу Ваше благорасположение. Меня совершенно не интересует жизнь и события в этом закрытом городке, передо мной поставлена задача, и я постоянно думаю о том, как эффективнее её решить… Возможно, мне потребуется командировка в Москву. Есть три-четыре технических работника, способные оказать нам незаменимую помощь. Естественно, решать об их приёме на работу придётся вам. Второе, краем уха я слышал, что приехавшие в этот город уже не могут по желанию выбраться из него. Я понимаю мотивы и всё остальное, но полагаю, что имею некоторое право на игру открытыми картами. Если отъезд воспрещён, я готов пригласить сюда жену и младшую дочь. И в-третьих, мне кажется, что моя работа не может быть шаблонизирована. Соприкосновение с тайнами, многие из которых, вероятно, не будут обнародованы никогда, потребует точных знаний о действительной политике нынешнего руководства России. Что мы отдаём, что мы ещё придержим… Мы же не автоматы, шеф, а прежний опыт уже не гарантирует успеха… Вот три принципиальных вопроса. Всё остальное — технические сложности, которые я берусь преодолеть, как условлено…
Шеф не ответил на поставленные вопросы. Собственно, я и рассчитывал именно на это, зная, что его беспомощность может означать для меня необходимую льготу. И льгота была получена.
— Россия решает новые задачи не в одиночестве и, стало быть, имеет пределы своей воле… Я согласен с постановкой всех проблем и обещаю Вам, что в самом кратком времени дам необходимые разъяснения… Вы проявили излишнюю скромность, не коснувшись оплаты ваших и впрямь неординарных усилий… Но мне кажется, вы допускаете досадный промах: сколько бы Вы ни оставались в этом городе, Вы не только осуществляете контракт, но и живёте обычной жизнью, которая тоже лимитирована, как всё остальное. Не следует чураться знакомств и прочих радостей или огорчений общения…
Я не получил ответа на принципиальные вопросы. Более того, оттяжка как бы свидетельствовала о том, что меня ожидают отрицательные ответы. Зато я получил санкцию на инициативу. Отныне те, кто отслеживал каждый мой шаг, обязаны были знать, что я получил санкцию на любые контакты, это развязывало мне руки. Я был убеждён, что рано или поздно разнюхаю что-либо такое, что поможет вернуть стране её подлинные национальные интересы. Возможно, это было наивно, но без этой наивности не имело цены всё остальное.
Вечером того же дня я пригласил полковника на чай. Мурзин явился в своём дурацком колпаке и пижаме и явно тяготился чаем, прямо говоря, что чай не соединяет собеседников так, как вино. Тем не менее, он с удовольствием ел и пил, попросив разрешения отложить пару бутербродов для угощения внука.
— Никаких проблем! Высокие гости, которые здесь бывают, вынуждают власти заботиться о доставке продовольствия. Наш единственный гастроном ломится от изобилия товаров, в том числе западного происхождения.
— У людей мало денег, — пояснил полковник. — Времена дефицитов, которые мы проклинаем, свидетельствовали об огромной покупательской способности большей части населения. А теперь красная икра лежит до тех пор, пока не приходит критический срок хранения. Тогда икра появляется в меню сразу всех санаториев.
— Меня больше интересуют не столько события в этом городе, сколько события в каждой из республик взорванной державы. Между тем, кроме ублюдочной пропаганды, я не имею никаких иных источников информации… Я привык работать на фоне широкой перспективы. Я должен знать, куда всё катится, чтобы работать профессионально…
Отставной полковник сочувственно вздохнул:
— Перспективы отныне уже не будет. Мы должны приучиться, как западные люди, жить без перспективы… Калькулируйте доходы, здоровье, дни жизни, но не прикасайтесь к событиям истории, это не ваше дело!
— Русское самосознание никогда не смирится с этим! Чтобы жить полноценно, даже нищий русский человек хочет обозревать всю планету и всю историю. Он скорее недоест и недопьёт, недоспит и переработает, чем станет печься о своей шкуре как единственной ценности мироздания!
— Господи, — сказал полковник, и глаза его увлажнились. — За эти Ваши слова я не только бы сейчас вздрогнул за хорошим стаканчиком, я бы вообще отдал Вам половину своей квартиры совершенно бесплатно!.. Да, именно: я согласен на любые муки, но чтобы во всякую минуту обозревать всю вселенную, все её тайны. С гнусным рационализмом западной жизни я лично не соглашусь ни за какие коврижки!
— Но Вы же сами говорите, что отныне Россию лишили этой её природной потребности.
— Да, они постараются это сделать, желая гибели нации! Они ведь прямо ставят на нашу погибель!.. Русские нужны Западу только для столкновения с арабами и китайцами — и только!.. А потом их столкнут и заселят Черноземье какими-нибудь албанцами.
Мурзин был, конечно, сломлен, но в проницательности и резвости мысли ему было трудно отказать. «Что он за человек и можно ли будет положиться на него при нужде?..»
— Мы ведь и раньше по сути ничего не знали о подлинных событиях истории и современности, — задумчиво продолжал Мурзин. — Революция, гражданская война, так называемые «сталинские репрессии» и многое-многое другое… Нами манипулировали, как хотели…
— Да, конечно… Ну, вот вы служили здесь, видели большое начальство и лучшую агентуру. И что же, Вы знали об истине?
Мурзин прожевал бутерброд с вяленой колбасой и потеребил себя за ухо.
— Какие-то отголоски истины доходили и до нас… Я, например, только тут разобрался в масонском характере власти, которую установил Ленин… Может быть, даже он не знал о махинациях второго эшелона, который и крутил все педали. Потому и вывели его из строя с августа 18-го… Это была глубоко законспирированная антинародная власть… Только Сталин в целях самоспасения придал системе действительно рабоче-крестьянский характер. Но тем самым он бросил вызов всему миру. Он действовал в крепости, осаждаемой изнутри и извне… Вы не согласны?..
— Друг мой, — сказал я, учитывая все обстоятельства своего положения, — меня интересует прежде всего эффективное выполнение контракта. Мне обещана премия, и я готов отщипнуть вам определённую сумму, но мне нужно сориентироваться самому… Скажу откровенно: мне тошно, я не очень верю американцам и не очень хочу работать на них. Я согласен работать только на Россию, пусть даже и оккупированную…
Мурзин засмеялся пустым смехом алкоголика. Маразм интеллекта начинается с того, что все понятия приобретают циничный характер. И я услыхал то, что рассчитывал услышать:
— Вам не к лицу повторять убогие формулы о непобедимости России. Вы прекрасно знаете о том, что разрушению поддаётся любой строй и любой народ. Пропившаяся, посаженная на иглу Россия, лишённая животворящей философии единения с природой, которую мы находим во всех памятниках Древней Руси, издохнет сама собой… Вы мне яснее изложите мою задачу, не бойтесь, я просто не могу служить новому строю, хотя и старого не признаю — он жестоко обманул народ!
— Вы от меня хотите примерно того же, что я хочу от своего нынешнего начальства. Я хочу знать, куда мы дрейфуем, что следует поддерживать и чему нужно препятствовать во что бы то ни стало… Но с Вами мне проще: помогите освоиться в этом городе, покажите его достопримечательности, представьте людям, играющим ключевую роль…
— Дык ведь с огромным удовольствием, только самых новых людей и я не знаю, теперь уже ослабли мои связи.
— Вот и восстановите. Всё равно ведь наедине жизнь не живут… Я так воспитан и хотел бы, чтобы и дети повторили мой путь: чтобы помочь себе, помоги Родине. И если даже не можешь помочь себе, всё равно помоги Родине.
— Что такое Родина?.. Хитрая это нынче наука…
— Но ведь и мы не полные дурни…
Вскоре после того разговора, где мы пощупали друг друга и разошлись в нерешительности и взаимных подозрениях, я прогуливался с Мурзиным и встретил на городском пляже Леопольда Леопольдовича.
— Ну как? — в плавках этот пузатый человек производил ещё более отталкивающее впечатление. — Помните о моей теории?
— Пукаем, пукаем, — хмуро отвечал ему Мурзин, держа руки за спиной. — И покакаем за твоё здоровье, едва ты выбьешься в главное светило медицины!
Леопольд Леопольдович ухватил меня за локоть.
— Мы, кажется, железно договорились… Я сделал «конклюжен», то есть заключение из моих новых разработок. И послал факсом в несколько стран, где у меня есть хорошие приятели. И что же? Профессор Кацепулос из Афин считает, что тут пахнет новой глобальной философией. Правда, Арон Шпокиш из Аризоны утверждает, что мои подходы не вполне состыкуются с новым миропорядком. Требуется адаптация, и он берётся сделать её, если я возьму его в соавторы.
— Ну, и что же? — я пожал плечами. — Пожалуй, берите. Он пробьёт Ваши теории, а это важнее всего. Беда талантов именно в том, что они не в состоянии подать собственный голос: их оттесняют посредники. Особенно в нынешние времена.
— Прекрасный совет!.. Но если в итоге автором новой философии существования будет он, а не я?.. Они же все помешаны на липовых дипломах. А у меня их нет!
— Дипломы — дело нужное. Сегодня можно купить любой диплом.
— Во всех областях, кроме медицины!
— Ошибаетесь: спрос и предложение существуют повсюду.
Внезапно он понизил голос. Сказал тихо, шаря глазами по сторонам:
— Они не выпускают меня ни в Москву, ни в Питер, они мои друзья и готовы сделать всё, что требуется, но они сами холуи новых хозяев. — Он почти вплотную приблизил своё лицо, так что я ощутил кариесный запах из его рта. — Именно здесь Запад делает полигон для всех предстоящих изменений в России.
— Ну, это невозможно, — так же доверительно ответил я, кивая. — Полигон для России придумать нельзя. Только сама Россия и может быть полигоном.
— Но идеи, идеи! Речь идёт об идеях! Здесь будут собираться на закрытые коллоквиумы боссы и их теоретики со всего западного мира! Вот, уже съехались, завтра или послезавтра начнётся представление докладов. Здесь и Гайдар, и Чубайс, и старый Арбатов, здесь все те, кто командует парадом! Тайная вечеря…
— Моя карьера уже позади, мистер Кимпель. Но если Вы упустите сейчас свои шансы и не добавите нам с полковником в качестве гонорара по хорошему приварку, мы просто перестанем покупать ваши акции!
Он тотчас всё понял. У таких людей нюх на выгоду. Они её чуют лучше, чем комар — теплокровных животных. В одно мгновение понял и я, что моя полуслучайная шутка может стать главным мотором в продвижении к собственным целям.
— Что я должен сделать?
— Непременно выступить на коллоквиуме! И, сформулировав свою философию, перепаснуть её адаптацию и осуществление на западных союзников, у них гораздо больше для этого и технических, и материальных средств. Вот, господа, проблема, давайте её разрешать или для узкого круга, как оно всегда было, или для какого-то региона… Когда закон открыт, нельзя уже делать вид, что закона не существует… Из безвестного соискателя степени вы, Леопольд, сразу сделаетесь одним из идеологов нового мира!
Я, конечно, загибал, зная, что западники и близко никого не подпускают к своим кормушкам. Но тем лучше: ящеры должны столкнуться в борьбе за преобладание. Сколько ни произносят они заклинаний о тождестве интересов по всему миру, они, как всякие хищники, неизбежно будут сталкиваться в борьбе за добычу. Им никогда не поделить нашей крови и духовного богатства. Это закон жизни.
— Гениально, старик! — Леопольд хлопнул меня по плечу. Глаза его ушли в бесконечность. — Вот именно: вопрос должен быть поставлен! И когда будет поставлен, им поневоле придётся занять какую-то позицию! Они не отвертятся!.. В идейном плане — и тут прав Зюганов — они плюгавцы: подгузники и жевательная резинка превратили их в полнейших дебилов!.. Как и русские вчера, они таскают из огня чужие каштаны, но совершено уверены в том, что весь мир должен прислуживать им…
Он порывался немедленно идти и действовать. Я не отговаривал, добавив, что прошу у начальства командировку в Москву, чтобы завербовать ещё трёх-четырёх специалистов и окончательно прояснить дело с приятелем, случайным изобретателем теории, которую уже присвоил себе господин Кимпель. Фиктивные персонажи становились реальной силой.
— Как заиграла хвостом сучка, чуть только почуяла новую добычу, — сказал Мурзин, презрительно глянув в сторону удалявшегося от нас зятя. — Когда он произвёл дебила, он убедил Нинку в том, что в несчастье повинна моя казацкая кровь. И она родила нового урода. Если бы вы видели: без рук, без ушей, с приплюснутым черепом — вылитая лягушка. Нинка рехнулась, едва увидев, кого родила. Она прокляла всех, кто причинил ей обиду. Но разве не ясно, что в мультипликации уродов повинен вырожденец, на котором природа пожелала поставить точку?.. Он хорохорится до сих пор и уверяет, что медицина грядущего будет в основном заниматься «исправлением ошибок природы».
Но это не ошибки — это приговор!..
Вечером того же дня Леопольд Леопольдович явился к Мурзину в сильном подпитии с двумя бутылками марочного краснодарского вина.
— «Пить-курить я рано научился!» — с завываниями затянул Мурзин, потирая руки, едва увидел зятя, и, помню, у меня в первый раз мелькнуло тогда подозрение, что полковник искусно притворяется: отчего он так точно воспроизводил манеру пения довоенных урок?
— Ублюдки, — негодовал Леопольд Леопольдович. — Кто мы для них, спасшие всю цивилизацию? Они никогда не пустят дальше своей прихожей даже наших миллиардеров. Кодло проходимцев и заговорщиков!..
У меня были какие-то дела, но я тотчас отложил их, намереваясь поудить во взбаламученных водах, — обычный приём кадрового разведчика, каковым я был до того, как податься в службу шифровки и дешифровки информации.
— Проигранное сражение не означает проигранной кампании, — спокойно сказал я, расставляя стаканы. Разумеется, за столом уже караулил добычу полковник, прикативший на каталке своего внука, у которого был недоразвит позвоночник и, как следствие, всё остальное. Звероподобное существо молча следило глазами за застольем, плохо понимая события. — Итак, изложите диспозицию со всеми деталями, чтобы мы могли определить, в каком именно эпизоде вы дали маху!..
Поступь времени
Диалектика — в этом вся тайна. А, Б и В могут быть лично неплохими людьми. Но если они вынуждены служить банде, о которой ничего не знают, кто же станет оправдывать их действия?
«Три источника марксизма», о которых говорил Ленин, бесконечно устарели. Как же может сохранять жизненность учение, основывающееся на них, тем более обнажившее ещё и неизвестную прежде подкладку?
Да, я уважаю немецкую философию. В ней немало интересного. Но жизнь уже давно обошла формулы праздных мыслителей. Какой бы ни была, их философия уже не способна определять духовное развитие стран и народов.
Точно так же я с почтением воспринимаю французский социализм. Но он тоже устарел. Искушение объяснять все на свете борьбой классов обернулось самообманом: мы оказались в клетке, из которой нет выхода. Классы есть и будут, но их борьба имеет многослойную подоплёку. Внизу борются жулики. Вверху — представители национальных элит.
Рабочий класс Германии сражался в прошедшей войне не только против «всемирной диктатуры пролетариата», которая во многом тоже была фикцией, когда меня подняли к власти. Немецкий народ отстаивал интересы германских промышленных, финансовых и политических кругов и неосознанно вместе с ними — программу всемирной промышленной, финансовой и политической олигархии. Как и советский народ, как и я, между прочим.
Исчез ореол и вокруг английской политэкономии. Выяснилось, что деньги и товар — не чисто экономические категории. Это в гораздо большей степени психологические, культурные и социальные категории. Деньги разрушают солидарность цивилизованных наций, вызывают расслоение общества, предопределяют его деградацию в духовном плане. Деньги — орудие изменения и покорения народов. Это антиприродное изобретение: в Природе нельзя накопить чужой труд, и это единственно разумно.
Деньги — чисто условная мера стоимости. Состояние страны, сущность власти в ней, её положение в геополитических калькуляциях — всё это вызывает либо подорожание, либо подешевление денег, разрушая все «научные критерии».
Деньги — это, в конечном счёте, власть объединённых по всему миру заговорщиков, власть космополитического Интернационала, власть махинаторов и спекулянтов. Иначе говоря, банды, которая, прикрываясь общими интересами, обманом и насилием обеспечивает свою собственную гегемонию.
Может быть, вам, более молодым, способным быстро переналаживать мышление в технической сфере, покажется эта переналадка мозгов в философском плане чем-то необычайным. Отвечаю: это жизненная необходимость. В будущем, конечно же, раскроют существующие здесь зависимости, я же пришёл к этому чисто интуитивно. Нельзя подчинять свой разум изобретаемым или усваиваемым чужим схемам. Может, оно и спокойней жить и умереть в 60 лет с кругозором, который установился к 20 годам. Но учёному, поэту, политику, проповеднику пагубно терять живую связь с миром. Причём, не только с тем, который существовал прежде и существует сегодня, но и с тем, который придёт завтра. Революция, а затем и гражданская война показали мне примитивность и односторонность марксистских формул. Но ими нужно было по необходимости овладеть, чтобы затем успешно отбросить — преодолеть. Это вводящий в заблуждение, намеренно упрощённый взгляд на мир, взгляд обманутого пролетария, которого обобрали до нитки, у которого ничего нет, кроме ненависти к более состоятельному соотечественнику. Но сегодня мы — люди, создавшие новое государство, развившие новую культуру, установившие новые отношения с миром. В тяжелейшей борьбе, в смертельных схватках мы обрели независимость духа. И будем сметены событиями, если законсервируем марксизм, а, стало быть, и государство, отвечающее его постулатам. Мы получим массу людей, которым будет тесно в убогих рамках наших доктрин, они будут ненавидеть эти доктрины и пытаться отбросить их. Если же враг найдёт ключ к сердцам недовольных, а он его ищет и обязательно найдёт, мы поставим под угрозу всю нашу созидательную, самоотверженную работу. Враг повсюду разжигает недовольство, в невежественных, несамостоятельных душах особенно. Обман и предрассудки — в этом суть новейших идеологических атак.
Чуть только нация начинает называть себя нацией гениев и избранных, она источает бандитизм, насилие и порок. Бездельники и паразиты — самые злые и непримиримые враги миропорядка. И я не сразу разобрался, отчего революционное движение постоянно сопровождалось террором и грабежами. Отчего гражданская война превратилась в море жестокого насилия. Отчего в войне с гитлеровской Германией было столько преступных перекосов. Теперь я отчётливо вижу руку «Интернационалиста»: ему плевать на народы и на конкретных людей. Скажу больше: если когда-либо в будущем наша жизнь подвергнется штурму контрреволюции, страну охватят прежде всего убийства и насилия, измены, провокации, обман народа. Всё это — неизбежный продукт разрушительных действий сверхэгоистических, сверхнационалистических, но упорно маскирующихся сил ненависти.
Скажу и о другом, что также не должно удивлять. Не надо обольщаться достигнутым уровнем научности нашей политической теории и практики. Это идеологические условности, они уже неоднократно появлялись в истории, только, может быть, впервые они закольцованы в доктрину всемирной религии пролетариата. Доктрина рассыплется, а вместе с ней полностью выродится наша партия. Никакая партия не может быть вечной: из средства решения определённых политических задач она со временем становится ярмом и обузой для тех, кому время навязывает иные задачи и цели… Я вошёл в революцию со стороны, я не мог никому диктовать своих условий. Да я и не понимал всего таким образом, как я понимаю сегодня, наученный горьким опытом коварства, измен и подлостей.
Мне как-то говорил Ленин, что мы (цитирую) «обязаны использовать имеющуюся доктрину революционизации» только потому, что иначе в такой громадной и неповоротливой стране, как Россия, мы не сумеем ошеломить одних, подавить других и обмануть третьих. Это всё его слова — «подавить», «ошеломить» и «обмануть»… Но время репрессий и обманов кончилось, потому что едва завершённая нами война уже ставит на повестку дня ещё более жестокую и масштабную войну. Это будет война, где уже нельзя будет управлять с помощью цитат из писаний Маркса или Ленина. Я не обольщаюсь и в отношении Сталина. Нация должна сегодня сделать рывок в своём материальном и духовном развитии. И чем выше она встанет в ближайшие 10–15 лет (при условии, что нам удастся сорвать планы поджигателей войны), тем быстрее осыплется вся эта марксистская штукатурка. Мы обязаны совершить новые подвиги самоотречения, претерпеть новые тяготы, чтобы не потерять завоёванных позиций. Разве это просто? Из одних мытарств в другие — разве просто? Но иного пути нет. Мы должны выработать за эти годы совершенно новую философию бытия, новые массовое понимание общего и частного и — главное — дать пример нового, гораздо более высокого быта. Изба без света, земляной пол, скверные дороги и безумные от пьянства и вседозволенности начальники, примитивные лозунги, всеобучи предрассудков и прочее — это должно отойти в прошлое. Быть может, уважаемое, как музей памяти, но не более того…
Все сложности впоследствии свалят на Сталина, это понятно. Но Сталин жил и работал среди опытнейших негодяев, прикрывавшихся революционной фразой. Они повсюду провоцировали репрессии, душили страну призывами к терпению и лишениям. Один Тухачевский чего стоит. Под видом необходимости он толкал страну в пропасть гонки вооружений. Стало быть, в дальнейший голод и страдания миллионов. Честно говорю, во многих случаях мы и катились в пропасть. Сталин не поспевал уследить за всем и всеми. Это только в головёнке обывателя каждый руководитель обязан видеть все его беды. Руководителю, даже самому честному, приходиться опираться на людей, которые есть, а это, чаще всего, себешники и хамы, притворы и лжецы, плюющие на интересы окружающих.
Уже в годы гражданской войны мне стало ясно, что в России создаётся новая Хазария, и кровь, и террор — не временное явление, а постоянная функция противоестественной и губительной для всех народов социальной системы. Где грабёж, там неизбежны ложь и насилие.
Культура старой России была разрушена на моих глазах, великая и тонкая на вершинах культура. Видя это, я сказал себе: «Если когда-либо мне удастся опрокинуть власть новых завоевателей, я верну людям достойное существование на родной земле, положу конец выматывающему смятению миллионов ограбленных и униженных, мечтающих о куске хлеба и тихом уголке для души!» Это была клятва совести. Разумеется, эту клятву я не мог доверить соратникам: почти все они были соучастниками вершившейся несправедливости. Как духовный наставник, а я был и остался им, я не мог принять их лицемерия, я только по необходимости терпел его, уповая на иные времена…
Теперь я готов приступить к преобразованиям. Это будет эпохальной встряской умов, но это должно быть осуществлено, потому что народы, и это очевидно, неостановимо тащат ко всемирному тюремному государству, где запретят декретами и семью, и нацию, и родной язык, и традицию, где все будет делаться под дулом ружья и по свистку городовых, — всем будут заправлять гильдии чужеземцев.
Погружаясь в историю, не в жижу химерических построений, посредством которых враг четвертует и выхолащивает наши умы, а в живое течение Времени, которое всё оправдывает и всё объясняет, не считаясь с фантазиями человека, я вижу обречённость и беззащитность масс, прозябающих в нищете духа, в невежестве как следствии колоссального и наглого ограбления.
Тайный клан негодяев управляет государствами и народами, внедряя тупиковые схемы развития как единственно возможные. Они знают, что субъективные намерения клана обретают в историческом процессе значение объективности, на этом зиждутся все их демагогические построения.
Ты думаешь, в мире существует только советский социализм или американский капитализм? Нет, в мире существуют и развиваются десятки разновидностей феодальной системы. А в целом, человечество постоянно топчется среди рабства.
Но и это ещё не всё: в мире можно встретить и те естественные ростки великой цивилизации, которой принадлежало лучшее прошлое и принадлежит будущее. Эти ростки повсюду умышленно вытаптываются, их приверженцы поголовно уничтожаются, и в результате мы имеем только две возможности, умело сформированные мошенниками за последнее столетие: либо их стойло так называемого «социализма», либо их же конюшня так называемого «капитализма». Но и в том, и в другом стучат копытами и издают смрад многоголовые ящеры. Наши предки называли их «чудо-юдо».
Анонимная мировая власть предполагает мировую анонимную диктатуру денег, и в предвидении этого жуткого дрейфа к анонимности мы обязаны отстоять природные права человека. Мы должны развить такую независимую социально-экономическую систему, которая создаст неодолимую преграду на пути диктатуры мировых денег, об неё разобьётся монополия негодяев, повсюду сосущих живые соки земной жизни за счёт мёртвой системы денежных знаков. Одновременно мы обязаны создать систему, которая сохраняла бы все нации и их культуры, гарантируя им полное равенство в способах развития, исключала бы возможность паразитирования одних наций или национальностей за счёт других. Этого сегодня нет и именно это больше всего тревожит меня. Русские уже не получают развития, а скатываются до примитивного уровня таёжных охотников и оленеводов тундры. Национальная перспектива как могучий стимул у нас задавлена примитивной квазисоциологической болтовнёй.
Механизм решения этой величайшей по значению мировой проблемы я вижу, как тебе известно, в создании национальных общин, производственно-сбытовых артелей, особых поселений, уровень культуры которых, систематически контролируемый по определённым критериям, исключит их противостояние, поскольку их взаимные перспективы будут требовать все большего сотрудничества.
Мы допустим все религии, однако без права экспансии и обращения в ту или иную веру, с одновременным выявлением религиозности сознания как главного инструмента его прямого или косвенного подчинения клану невидимых управителей мира, использующих эгоистические интересы посредников.
Мы, конечно же, сохраним и древние языческие воззрения, предоставлявшие сознанию наибольшую свободу, потому что божественность, растекаясь по всему полю быта и сознания, лучше всего стимулирует радость жизни в условиях, когда жречество лишено диктатуры и власти к понуждениям и репрессиям через обязательные обряды.
Повторяю, в мироустройстве нет каких-либо предопределённостей, важно учесть существующие условия и возможность максимального приближения бытовой жизни к требованиям природы.
Мы избежим паразитарной бюрократии тем, что сами люди в общинах будут добровольно исполнять практически все функции государственной власти — вплоть до защиты правопорядка, уплаты налогов, обеспечения в старости и болезни, воспитания юных поколений и т. п.
Государство укрепится, рассредоточившись по тысячам своих базовых опор. Не богатство и власть, а совершенство и красота духа, свобода его самовыражения ради упрочения общей свободы станут двигателями прогресса новой цивилизации.
Наших задач не исполнило бы никакое иное государство мира, потому что мы — единственная страна, которая может существовать за счёт своих ресурсов. В этом уникальность Советского Союза, и мы обязаны её уберечь. Иначе диктатура негодяев сделается вечной и неодолимой…
Напрасно и преступно загубленных людей у нас, конечно же, море. Возможно, я был способен уберечь половину из них от страданий и смерти. Возможно… Но тогда я вряд ли исполнил бы другое дело, от исхода которого зависело ещё больше судеб… Наш долг — покаяться и оплакать неповинных. Но слёз у меня нет, их иссушила жестокая проза жизни… Мы и теперь можем потерять всё. Неверный шаг — и обрушится хлипкий мост, который возведён. Фортуна является только к тем, кто способен оплатить её услуги… Наше конечное торжество и будет нашим покаянием. Всё прочее — демагогия и бред негодяев…
В 1923 году до Ленина, наконец, дошло, что Горки, где его сторожили, — это преднамеренно созданный саркофаг и ему уже не избежать мумификации. Собравшись с духом, он сумел обмануть бдительную охрану, выполнявшую волю триумвирата, — я имею в виду Троцкого-Бронштейна, Зиновьева-Апфельбаума и Каменева-Розенфельда, использовавших и Крупскую как агента. Ленин передал через неграмотного мужика близлежащей деревни, уборщика мусора в парковой зоне, записку своему давнему товарищу, директору одного из московских заводов. В записке Ленин уведомлял народ о своём заточении и «перерождении верхушки партии» — вот наивность вождя с его интеллигентской оторванностью от сущностных процессов жизни! Ленин требовал экстренного созыва съезда РКП(б), изгнания всего нынешнего состава ЦК и замены его на рабочих от станка.
Мужику удалось передать ленинскую записку. Директор завода, осознавая опасность затеянного, всё же отпечатал записку тиражом в несколько сотен экземпляров и попытался соответствующим образом настроить партийные кадры Москвы. Понятно, что ищейки ОГПУ раскрыли это дело. Тогда было расстреляно без суда и следствия более двух тысяч человек — все, кто видел записку Ленина или даже слышал о ней. Это вызвало ропот среди коммунистов, и заговорщики были вынуждены сообщить в газетах о том, что «по Москве ходит белогвардейская фальшивка, выдаваемая за письмо вождя мирового пролетариата»; каждый, кто услышит о фальшивке, обязан сообщить в органы ОГПУ, в противном случае он будет причислен к врагам революции… Я не мог тогда предотвратить злодеяния, но именно тогда я понял, что если не встану на борьбу с заговорщиками, то погибну так же безгласно и бесследно, как сотни тысяч и миллионы лучших сынов страны. Таковая угроза была тогда, она сохраняется и теперь и на будущее…
Наш народ ещё беден и практически ещё бесправен. Нередко он в отчаянии от остолопов, проникших во все поры государственной машины. Убрать их оттуда и заменить другими, лучшими — это взгляд того же остолопа. Всё надо менять в корне.
Народ до сих пор использовался негодяями как источник власти, средство обогащения и разрушения чужих оплотов. Наша цель, чтобы народ жил для улучшения своей жизни, пользуясь традициями национальной культуры, это ничего общего не имеет с национализмом.
Врачи гарантируют мне ещё 12 лет полноценной жизни при том же уровне напряжённости труда, как сегодня. Я знаю, на 50 процентов они лукавят. Но пять-шесть лет — тоже немалый срок, чтобы приступить к переустройству.
Мне предлагают гнусную сделку: союз евреев и русских против всех остальных. Я это отвергаю в принципе. Все нации имеют равные права, и одна нация не имеет права садиться другой на голову. К тому же русские слишком великодушны, чтобы быть колонизаторами.
Только Правда может объединить народы. Но чтобы правда признавалась, она должна быть принята добровольно. Это не указ и не закон — новая система отношений, иной быт каждого человека…
Стефаний Иванович Чекпуляев
Он считал себя верующим, хотя в церковь отродясь не ходил: неведомая сила пригнетала его, едва он приближался к православному храму. Иногда мерещилось, что по пятам бежали ужаснейшего вида черти, похожие на толстобрюхих котов: у них были пушистые чёрные усы, как у майора Переверзева, и острые акульи зубы — загнутые внутрь. Да и глаза были акульи: в них едва различался зрачок, они заплывали дымкой безумной отстранённости.
Он называл себя русским, но русских не терпел. Если и рассуждал о них, то непременно с гневом, раздувая ноздри:
— Ненавижу! Трясуны, халявщики и лежебоки! Своей воли нет: то на небе божью бороду высматривают, то в Европе какого-либо шептуна-избавителя ищут! Что сделала Россия самостоятельно, исходя из своего собственно замысла, а?.. Ничего!.. Из всех наличных народов давно уже можно было бы единый борщ сварить: тут тебе и бульба, и петрушка, и цыбуля, и красный перец, и фасоль полосатая… Кричат о любви к Родине, только эта любовь дальше поллитры, куражливой болтовни да минутной слезливости не идёт… И что вы мне тут про Матросовых да Кожедубов несёте? Это исключения… Да и нехитрое дело — подохнуть за секунду или переть к победе через горы трупов… Вот евреи, те, действительно, постоянно действуют с единым и потому торжествующим замыслом. Да, подлый, поганый, разбойный, а всё же — замысел, и в борьбе народов, которая совершается, он просто необходим… А у нас дальше фанаберии пережравшего начальства дело никогда не пойдёт… Евреи не дадут? Так где же вы, русские? Чтобы нация могла утверждать свою волю, каждый русский обязан стоять столь же упорно и неуступчиво, как тот чечен пли жид, что чечена втихаря подпирает… При мне трое чмуриков сговаривались забросать Михаила Сергеевича кошачьим дерьмом. И дерьма набрали — три полных пластиковых пакета. А потом пошли в ФСБ и добровольно себя оговорили, — какая мерзота!.. Попов — так это, все знают, вовсе и не Попов. А вот Хавьер Солана — это Хайм Солынский… Мы сами себя стеной окружили, сами на свои хватальца наручники одели!.. Поучитесь у моего лучшего друга Самуила Яковлевича Апостольского… Наступал на него с аргументами некто Грузлов, русак, который в том же торге работал, что и Апостольский. Поменяли их местами: сделали Грузлова директором. И что же? Бесследно сгорел в течение года!.. Сёма мне в первый же день сказал: «Крупно нагадить я ему пока не могу, но из мелких пакостей он теперь не вылезет до пенсии. Как только он получил должность, я через Додика внёс его телефон в справочную псих-лечебницы. Думаю, сотню звонков на день он получает, а сообразить, что это свыше определено, не может. Они же, как все эти охающие антисемиты, с открытой шеей, бери нож и пили. Так им и надо. Мы сделаем кошмаром их жизнь в собственном доме. Знайте свой шесток! Вы сидели ещё, как ужи, в болотах, а мой предок Левит Мордехай уже правил эфиопским царством через полудурка-царя, который считал Левита посланцем бога. Пара фокусов — как бы случайно — и любой осёл видит в нас либо Мехлиса, либо Чаковского!..» Каково? Сёма, лентяй страшенный, ворюга, подлец, неряха и пустое трепло, в данном случае не поленился поставить анонимку на поток. То от «члена партии с дореволюционным стажем», то от «группы советских трудящихся»… И Грузлов скис: надоело ему, видишь, по инстанциям мотаться и факты доказывать. Так о чём это говорит?.. С русским — всегда сплошные проблемы. А с евреем — полная ясность: он не пожалеет ни народа, ни государства, потому что у него в голове таких дурацких понятий не имеется. Взяли — и поделили… Русский до сих пор убеждён, что слово человеку дано, чтобы говорить правду. А еврей знает, что речи — это одно, а правда — другое, чего нет в наличии даже у прокурора… Русский никогда не поверит, что царь над ним, президент или какой-иной барин — подонок и совершенно чужой ему человек. Доверчивый, добрый и потому совершенно слепой, русак и от других будет ждать великодушия. От власти — тем более. Он верит в то, что демократию можно обрести в результаге выборов. А то, что это всё сплошное шулерство и что он бросает не бюллетень в ящик, не спичку в воровскую шапку, а горсть земли в могилу Отечества своего, никогда не догадается… И потому я русского и на дух не выношу, а с евреем готов чирикаться в любом амплуа… Всем этим антисемитам в курилке приготовлен один конец — в могильном склепе борьбы всех против всех. Русские слепцы подхватили пущенный евреями лозунг о «выживании», гляди, они усердно душат и губят друг друга, очищая для своих врагов и города, и деревни… И посеют-таки здесь новые травы, выведут новые популяции домашних животных. Всё будет скуплено: от Подмосковья до Таймыра, денег хватит, а не хватит, кагальные братья в Нью-Йорке ещё подпечатают…
Разве может спастись муравей без сотоварищей по муравейнику? Разве может уберечь себя пчела, бросив свой рой?.. Так же и человек. Но человек — дурень, он слишком полагается на убогий рассудок и топчет своё сердце… Помню, как шёл развал великой и непобедимой Советской Армии, как генералы продавали офицеров, а те — своих солдат… Враг был незрим только для идиота, и сил было довольно, чтобы опрокинуть любого врага… Но люди бежали в панике, как козы с огорода, рассчитывая на самоспасение и тем лишь ускоряя общий разгром… Я служил тогда в одной из сибирских армий. Моего непосредственного командира выбрали представителем Офицерского собрания. В числе других он поехал в Москву, где Ельцин и Гаврюша Попов с помощью предателей и провокаторов из Главного политуправления самым подлым и низменным образом обманули офицеров из частей и соединений. Офицеры требовали сохранить единство Вооружённых Сил, раскольники соблазняли их распродажей материальных средств армии и распределением вырученной «зелени». Когда негодяи натолкнулись на стойкую волю честных людей, они пригласили измотанных пустой митинговщиной офицеров якобы на обед, и за время сумятицы и неразберихи утвердили свою подлую резолюцию, используя голоса продажных столичных шавок… Позднее я лично видел, как за ничтожные взятки генералам «кооператоры» пилили в зоне полигонов столетний лес и вывозили его за рубеж на проданной за бесценок армейской технике. Я видел, как растаскивали тысячи тонн бензина из спецхранилищ, сооружённых ещё при Сталине на случай военных действий… Те, кто санкционировал преступления, — не евреи, это наша советская шваль, которая переродилась под влиянием пропаганды и стала совершенно непригодной для защиты национальных интересов… И вы хотите, чтобы я ставил на людей, которые завтра догола разденут и меня?.. Им будет жалко, если меня прибьют ломом или лопатой, стыдно, что моя семья поползёт по выгребным ямам, сопровождаемая проклятьями бомжей?.. Русских людей давно нет. Уже Гитлер, намечая поход в Россию, исходил из того, что русская нация как таковая погублена преступной революцией… Мне стыдно, что я ещё русский. Стыдно настолько, что я и в христианский храм не смею вступить… В качестве кого? Дворняжки, уличного Шарика, комедианта, нацепившего благообразную бороду?..
Пальцем в небо
Над голубовато-серой дымкой рассвета вставало одно-единственное, странно круглое, напоминавшее купол парашюта облако. На большой высоте оно светилось все ярче розовым светом.
Боруху Давидовичу подумалось, что это ангел распростёр крылья, чтобы видом своим подбодрить людей. Но это лишь подумалось, и то на короткий миг, потому что никаких ангелов Борух Давидович не признавал.
Господи, спасения можно было искать только в далёкие времена, когда всё казалось бесконечно щедрым подарком творца и верилось в предстоящую встречу каждого с богом, на последнем строгом экзамене отбора в небесную, вечную уже жизнь, теперь расслабляющая химера не вызывала ничего, кроме раздражения.
Когда облако, укрупнившись и вытянувшись, полностью озарилось лучами восходящего светила, выяснилось, что оно многосложно и громоздко и состоит, по меньшей мере, из дюжины частей, совершенно не связанных между собой.
«Вот так и жизнь, поманив реальной выгодой, вдруг рассыпается на сотню самых неприятных проблем…»
Борух Давидович нутром чуял, что пора слинять, выйти вовсе из игры.
Был период, когда приказали закончить дело по «святому Августину». Он лично закрутил пружину, но подручные подвели, как не раз подводили и в прежних «эндшпилях».
Прохоров ещё валялся в реанимации, а Борух Давидович так удачно сфотографировался на фоне районной автоаварии, что многие в самом деле поверили, что он поломал рёбра и практически уже не жилец.
Он принял связного от высшего руководства в бинтах и гипсовых шинах. Постанывая, навешал лапши на уши и сумел убедить, что рассчитывать на него уже нельзя.
С последней женой к этому времени он был в разводе, и это обстоятельство было также удачно использовано: связник и сам когда-то пережил предательство: пока он сидел за решёткой в Орше, жена укатила в Израиль с хахалем, его прежним приятелем, кстати, и свалившим на него всю вину за хищения, в которых участвовала, по крайней мере, дюжина компаньонов…
Таким образом Борух Давидович оказался в закрытом городке под Новороссийском: если бы он рванул куда-либо за рубеж, что было гораздо проще, его бы вычислили агенты главного шефа и, конечно же, придушили: если речь шла о реноме Конторы, которой он служил, ни с кем и ни с чем не считались.
Но через несколько месяцев Контора добралась до него и в этом заповеднике. Оказалось, они просвечивали от макушки до пяток не только КГБ, но и тем более ФСБ.
Он боялся, что теперь они сделают с ним всё, что пожелают. Убьют, конечно, раскрыв, что он симулировал. Но верить в это не хотелось: за что? Разве он им не служил? Бывало, конечно, что отрывал не свой кусок и даже брал у более слабых по мелочам, но разве они не делали того же самого? Вот Горелик, тот даже родственников обирал, а когда его накрыли, невозмутимо ответил: «Мир такой. И лиса мышкует, когда ноги не носят. А у меня очки — сорок диоптрий!»
Зачем убивать его? Он совсем выстарился, стал немощным и геморройным, кругом испёкся и больше ни для кого интереса не представляет…
Но тревога не уходила. Он знал, что все они подонки, все мстительны и нетерпимы. Все — до единого.
Конечно, они немедленно определили, какую линию занять, едва на горизонте появился Горбачёв: «Теперь нельзя терять ни минуты: нужно добивать систему, потому что она переродилась — из нашей стала делаться ихней: «доктора наук» расплодились из кучеров да лакеев, возомнили, что могут и впрямь создать национальное русское государство…»
Роли были распределены: одни крушили идеологию, загаживали подъезды души, зная, как брезгливы порядочные люди к экскрементам в самых святых местах, другие, поделившись на группы, великолепно знавшие все слабые звенья режима, напористо набивали карманы, они же платили «идеологам», потому что Запад вначале не очень-то верил в реальность предприятия, да и то, что прилипали миллионы к рукам получателей, как-то их вначале сдерживало, пока им мозги не вправили и не напомнили, что они рассовывают по карманам несравненно больше…
Как-то он спросил у полушефа:
— Я не сомневаюсь, что «святой Августин» достоин печальной участи. Но всё же: в чём его обвиняют? Мы стойкие бойцы, но ненависть к врагам нужно ковать на конкретике!..
— Ахинея! — взвился полушеф. — Слыша это, я сомневаюсь в твоей благонадёжности!.. Залог нашей победы — безоговорочное выполнение воли вышестоящих! Им больше известно, и если они о чём-то решают, это для нас свято!
— Разумеется, — смиренно ответил Борух Давидович, испугавшись, что полномочный осёл может подать на него докладную, тогда как его карьера только поползла вверх. — Но я должен вести работу с исполнителями. Иной раз, особенно в сложных ситуациях, не грех дать им кое-какой намёк.
— Ты что же, напрочь лишён воображения? — усмехнулся полушеф. — Ври что угодно, только не ссылайся на начальство! Не пачкай ему зад, он и без того в дерьме.
Борух весело рассмеялся. И полушеф сменил гнев на милость:
— Прохоров умён и уже потому антисемит. Антисемит — всякий, кто умнее еврея. Кто талантливее и успешнее… Мне записали три телефонных разговора Прохорова. Говорю определённо: если бы у меня было время, я бы озолотился… Одну из оброненных им фраз я уже продал нашему философу, ты его, кстати, знаешь. Он поставил за неё три бутылки коньяка. И уверяет, что развернёт случайно оброненные слова в монографию по психологии восприятия окружающего мира. Я тебе доверю эти слова, потому что идею уже застолбили: «Если человек слишком большого роста, он кажется больше, чем есть на самом деле; если человек слишком маленького роста, он кажется меньше своего действительного роста».
«Какой-то примитив», — подумал Борух Давидович. Но вслух сказал иное:
— Это очень верное наблюдение. Но причём здесь философия?
— Это не просто наблюдение, старик, это механизм психологии восприятия: мы с трудом отрываемся от привычных базовых представлений. Стало быть, чтобы влиять на общество в нужном плане, надо со школьной скамьи готовить переход с базы на внушаемый принцип, с одних эталонов или стандартов на другие. Если бы мы годами не прививали совкам нравственного максимализма, фиг бы они побежали за «правами человека». Жабе было понятно, что никто их за людей не считает, но они сами считали себя за людей, и этого оказалось довольно, чтобы заглотнуть совершенно пустой крючок.
— Хитро! Стало быть, кто-то и прежде имел хорошее кепело?
— Эмпирики — хорошо, — отшутился полушеф, — а докторская в течение жизни, позволяющая жрать брауншвейгекую, ещё лучше!.. Это у нас, к сожалению, в характере… Бывает, встретишь еврея, который выступает гонителем нашего дела. На словах он готов упрятать за решётку даже единоверцев. Но не торопись делать выводов, это очень осторожный ушлец, который лучше нас понимает общие интересы. Поковыряйся и увидишь, что он оказывает нам более значительную пользу, чем тебе кажется…
Господи, привяжется же такое!.. И что это он вспомнил полушефа и его поучения?..
Но Борух Давидович понимает, отчего память вывела его на эти воспоминания: прожитая жизнь дразнила самым значительным, что он мог записать в свой актив. Он гордился, что какое-то время работал в одной из главных коминтерновских организаций в Москве — ещё до войны. Там было много «однополчан», и постепенно он разглядел, что больше всего интересовало этих людей: они во всех странах старались удержать свою гегемонию. Официально это называлось «удержать прежние позиции»… Антифашизм был самой выгодной маской, ключом, который открывал все двери, помогал устранять противников и соперников, подобно тому, как теперь используют борьбу с терроризмом. И если тогда фашистом был всякий инакомыслящий, сегодня всякий инакомыслящий — фанатик, антисемит, шовинист, подлежащий аресту и заключению… Трюки повторяются, но что такое народы, если не тупые толпы, балдеющие перед мастерством Фокусника, который их обманывает более квалифицированно, чем другие?..
Был такой Ухтомский, родственник исторического Ухтомского. Чирявый, заика, с ухмылкой в косых глазах. Он ввёл Боруха в узкий круг организаторов больших и тонких замыслов. Там были внуки ещё других видных репрессированных троцкистов. По специальному распоряжению Сталина, закреплявшему приленинское распоряжение 1921 или 1922 года, детям умерших или погибших крупных партийных или советских работников выплачивалось вплоть до получения диплома об образовании очень приличное вспомоществование. Ещё в начале 50-х годов можно было, пользуясь специальной лечебно-медицинской помощью, талонами на питание и прочими льготами, откладывать ежемесячно примерно 700–800 рублей на сберкнижку под устойчивые рабоче-крестьянские 3 процента годовых. Хороший инженер в то время получал 140–160 рублей, кто же не ныл, когда его так или иначе лишали дармового «приварка»?
Все «отлучённые» считали это высшей несправедливостью и деспотизмом, «отходом от ленинской линии». Их заинтересованность в перевороте совпадала с заинтересованностью западных разведок, которые тогда ещё не были в такой степени нашпигованы нашими людьми, как теперь. Это был шанс для выгодного внедрения еврейской диаспоры, и шанс использовался полностью, потому что имелись далёкие прицелы. Предстояло потеснить антисемитов на Западе, для чего, собственно, и была проведена сложная комбинация с Адольфом. И всё равно в администрации США или в Англии тогда открыто злословили о евреях. Бравый, но тупой генерал Эйзенхауэр, тогдашний президент США, позволял себе явно антисемитские выпады. До 60-х годов в нью-йоркских газетах можно было без труда найти такое объявление: «Открывается фирма… Принимаются все подходящие специалисты, кроме евреев». В ЦРУ и ФБР насчитывались лишь единицы евреев, о том, чтобы прямо командовать этими организациями, не могло быть тогда и речи. Но всё же наше дело было уже на подъёме: западники всё больше понимали, что победить СССР без поддержки еврейской общины они не в состоянии. Это внушалось по всем каналам, и все антисоветчики раньше или позже становились невольными пособниками еврейского дела. Чем злее, тем полезнее. Даже бандеровцы, сплошь антисемиты, рьяно поддержали создание Израиля. Конечно, поработали еврейские капиталы, но ведь капиталы и должны размягчать мозги, чтобы притекали ещё большие капиталы.
Он, Борух Давидович, хорошо помнит, что обстановка сложилась тогда очень благоприятная для удара всеми козырными картами. Сталин был повержен. Более того, он был растоптан, ещё не полностью, но уже весьма основательно. Хрущёва пасли, не отвлекаясь ни на минуту, и сумели подкинуть высокопоставленным ничтожествам идею создания совнархозов и раздельных обкомов, мотивируя это цитатками из Ленина, у которого, как известно, можно найти обоснование любым начинаниям, даже упразднению ленинизма. Самоуверенный от безграмотности аппаратчик клюнул на «свеженину», откуда ему было знать о системных влияниях? Обкомы сцепились в пустом перетягивании гнилых канатов, а совнархозы плодили сепаратизм и национализм ежечасно и в массовом масштабе. Таким образом, готовился плацдарм для следующего удара, а необходимый опыт был обкатан на репетициях в Берлине в 1953 году, в Польше в 1956 году и особенно в Венгрии, где идеи национализма и ненависти к «московским диктаторам» вполне подтвердили свой поджигательский эффект.
Всё шло по восходящей. На волне общей эйфории его шеф объявил на даче в Переделкино у одного классика советской литературы: «Мы вновь повели эту страну по ложному пути. На этот раз она уже не поднимется: нового Сталина ей не видать как своих ушей… Она иссякнет в битвах с призраками, выпустит последнюю энергию, выдохнется, ляпнется в грязь и издохнет… Здесь образуется иное царство с иным народом…»
Была, была эйфория, хотя были и предпосылки для неё…
В высшей степени умело была использована ставка кремлёвских ротозеев на использование «положительного зарубежного опыта». Эту идею тоже подсунули наши. Хотя в стране не использовались 3/4 наличных открытий и изобретений, малограмотным бонзам удалось втемяшить, что это необходимо — устремить все усилия на получение «новейшей зарубежной научно-технической информации». Козе было понятно, что кроме выращивания шампиньонов для утилизации собачьего дерьма нигде ничего путного не сыщешь, но цвет советской аналитики и организации бросили на поиски «эффективности». Мозги аборигена, как всегда, плавились перед лицезрением стеклянных бус белого человека. Хрущёв был без ума от кукурозовода Гарста, который был подставлен партийному царю и действовал строго по инструкции. Результат: Хрущёв загорелся пагубной идеей повсеместного внедрения кукурузы. Даже в Заполярье. Его убедили и в том, что в целях достижения высочайшей производительности труда колхозы не должны «распылять сил». Был нанесён удар личному подсобному хозяйству крестьян и сельской интеллигенции («Учитель и врач купят в магазине дешёвое молоко и дешёвое мясо», — рассуждал Никита). Абстрактными установками была подорвана потребкооперация, и это усилило оскудение едва оправившейся после войны деревни и чуть приободрившихся мелких городов, на фоне лозунгов о построении коммунизма это предопределило досаду и даже озлобленность в миллионах жителей страны.
В этих условиях западная разведка, давно уже использовавшая диссидентов внутри СССР и игравшая одновременно несколько крупных сценариев, ориентированных на разных политических лидеров, задумала первую крупную «разведку боем». В качестве места проведения операции им присоветовали южный российский город Новочеркасск, населённый в достаточной степени потенциально оппозиционным элементом. Тут осели бывшие репрессированные «кулаки», полицаи, криминальная шантрапа. Зеки в основном и строили все главные объекты в городе, зеки и остались работать на этих объектах, тогда как практически всё партийное и советское руководство было привозным: вчерашние фронтовики, «сталинские ветераны», привыкшие не обсуждать спущенных решений.
«Американские друзья», вчера ещё и мысли не допускавшие о том, чтобы поставить целиком на еврейскую инициативу в борьбе с совковской империей, внезапно активно ухватились за предложение об организации открытого «сопротивления». Ещё бы, за год до этого они потеряли преимущество «инспекционных полётов» над территорией СССР. С тех пор, как был сбит Пауэрс, такие полёты почти полностью прекратились. Непривычное неведение усиливало нервозность. Получили по морде американцы и на Кубе. Весной 1961 года были уничтожены или сброшены в море отряды вооружённых до зубов «гусанос». События на Плая-Хирон показали, что диктатура Кастро отныне будет сидеть в паху США, как тифозная вошь. К тому же началось размещение советских ракет на Кубе, и это вскоре привело к обострению отношений с американцами. Всерьёз запахло войной. Джон Кеннеди, который был в восторге от сговорчивости Хрущёва, показал себя ещё раз как антисемит и соглашатель. Он всерьёз был готов к размежеванию интересов и дал добро на «сосуществование». Но наши хорошо понимали, что это гибель всего исторического дела. Кто же это мог допустить? И триста семей, руководивших Америкой, вынесли тайный херем — высказались против Кеннеди, заклеймив его как предателя. Нас поддерживали «ястребы», и мы поддерживали их, зная, что в борьбе с совками нужна наглость, ещё раз наглость и беспощадный напор. Мы, как известно, пересилили, и 22 ноября 1963 года Кеннеди-старший был в назидание всем будущим президентам наказан снайперскими пулями.
Но это произошло позднее, а в мае 1962 года, когда Кремль не исключал первой ядерной атаки со стороны Турции и все военные округа были приведены в боевую готовность, нам удалось внушить Западу, что у них нет никаких иных шансов, кроме советских диссидентских волонтеров. И стоило это сущие пустяки. Причём, в рублях, в наших деревянных…
В ЦРУ прекрасно знали о предстоящем с 1 июня крупном (и первом после смерти Сталина!) повышении цен на основные продукты питания: в Госплане СССР сидело до дюжины американских агентов.
Совки, естественно, жаждали дешёвой колбасы и невозбранного политического трёпа — не опасаясь анонимок и доносов: вольный трёп, как известно, облегчает язву души. А после войны язва была неизбежной. Вот эту энергию желаний и надежд нам предстояло превратить во взрыв, который встряхнул бы прежнюю систему и, возможно, создал бы иную, но уже полностью нашу. Засилие фронтовиков и партизан стало просто невыносимым. Куда ни ткнись, мотляются перед глазами, звенькают своими медальками. В очередях — первые. Особенно раздражала наглая и невежественная совковская вера в какую-то «высшую справедливость» для самых низких работяг, они претендовали на то же самое, что могли себе позволить Ойстрахи или Эренбурги — театр юмора и сатиры.
Непосредственный руководитель операции тогда внушал нам, скромным нигилистам, прикрывавшим свой страх безразмерными советскими идеалами: «Стихия — это всегда то, что хорошо организовано. Масса не должна чувствовать себя задавленной и
не считать своё положение безвыходным, только тогда можно смело управлять массой. Суйте ей вседозволенность под соусом ленинизма!..»
Мы работали тремя группами. Все наши «легенды» были в полном порядке, но КГБ всё равно висел у нас на хвосте. Но что могли сделать запуганные кэгэбисты? Они хорошо помнили, как их сотоварищей сотнями вешали на фонарных столбах в Будапеште, а детей этих сотоварищей выбрасывали на тротуары из окон детских садов, то же самое могло повториться и в Новочеркасске. Люд гудел со времени XXII съезда КПСС, уже открыто ударившего по «культу личности Сталина», стало быть, поставившего под сомнение все приговоры советских судов сталинской и послесталинской поры. Стало быть, объявившего КГБ по сути антинародной организацией… А тут как раз произошло повышение цен — бросили нужную спичку в нужную пороховую бочку. А на электровозостроительном заводе, вокруг которого и готовились главные события, за несколько дней до того произвели повышение норм выработки и понизили расценки. Над этим работали другие наши товарищи, и они со смехом рассказывали, как директор завода, болван 100-процентной партийной заточки, самонадеянный гусь, не подозревавший, конечно, никакого подвоха, со слезами на глазах говорил: «Теперь, после такой войны, которая унесла десятки миллионов жизней лучших наших сограждан, мы будем работать столько, сколько потребуется, и на тех условиях, которые окажутся для государства наиболее подходящими. Не умрём, от работы у нас ещё ни один не надорвался». А потом, когда уже загудело, неосторожно брякнул: «Ели пирожки с мясом, поедим и с ливером!..»
Между тем, ещё до событий в городе был уже негласно создан стачком, активистов которого инструктировал Иван Соломонович Чучуев, недоучившийся педагог из-под Уфы, он приезжал якобы на могилу своего брата, мы ему купили билеты. Этот слюной брызгал — полный ненавистник коммунизма, просто фанатик. Ну, ходил он на рыбалку с заводскими активистами и там шпиговал их своим салом. Правда, в камышах поблизости сидел опер, но он ничего не мог предпринять: предотвратить контакты советских граждан, прилюдно восхвалявших КПСС за разоблачение «культа личности», он, разумеется, не мог. Вот как оно все протекало: когда голова уже отсечена, кто же плачет по волосам?
Точно так же не сумели зацепить и его, Боруха, хотя трижды приводили милицию: «По какому праву проживаете в городе?» — «По праву гуманных советских законов, дорогой товарищ! Приехал навестить знакомого доцента… Вот справка. Вот копия моего заявления в отделение милиции. Вот обратный билет на поезд. Только закомпостировать и отбываю в Ростов-на-Дону, а оттуда дальше. Не у всех же есть такие привилегии — проводить отпуск на Чёрном море!..»
Между прочим, тому доценту он передал всё, что положено, и деньги. Крупную сумму как «вспомоществование от солидарных советских рабочих». Это вдохновляло.
Короче, организовалось ядро. Обросло активистами и придурками, которым лишь бы побузить. Ущербные, их в любом коллективе довольно, особенно в дефективном.
Американцы рассчитывали на значительную раскачку, им позарез нужно было мощное протестное выступление, чтобы подбодрить подполье в Венгрии и Польше. Мы же знали, что выйдет пшик, но и нам необходим был такой пшик, чтобы вонь дошла до Вашингтона.
Спекулянты разного калибра потом писали, что якобы организаторы событий хотели привести к власти в СССР либерала типа В.Гомулки, — это чепуха. Он, Борух, с самого начала знал, что всё ограничится кваканьем в глухом болоте.
Чего он тогда не знал, так это того, что КГБ пронюхал о предстоящем выступлении и готовился к нему. Вся диссидентская рать, разумеется, перехезалась бы, если бы она это знала, но от них скрыли, сделали специально, чтобы усилить эффект демонстрации нашего организаторского потенциала. Конечно, это была подлость за спиной исполнителей. Они всё же рисковали.
Бузу затеяли «самые тёмные» — формовщики сталелитейного цеха. Конечно, их перед этим «согревали» — для бодрости. Пришёл директор с партийным секретарём и вдвоём стали качать права: мол, позорите рабочий класс. Повышение цен — это временная мера, чтобы поднять рентабельность колхозов. Наши люди тут же предложили «согласительную комиссию». Директор Курочкин посчитал это ультиматумом. Правильно, конечно, посчитал, потому что сразу же после этого «возмущённые массы» перекрыли железнодорожные пути. Они бы их всё равно перекрыли, но получили зацепку. Там отличился мой «доцент». Поезда, курсировавшие по ветке Саратов-Ростов, встали, начальство забило тревогу, полетели телеграммы в ЦК КПСС.
В тот же день позвонил мой шеф. Плановая связь. Говорили только о погоде. Но я уже знал, что ЦРУ очень высоко оценивает наши действия.
Это потом, когда всё закончилось и мы оказались вдвоём на рижском взморье, шеф признался после второй бутылки «бальзама»:
— Гордись, Борух, мы добились исторической победы. О нашей победе в точности не знают ни в Москве, ни в Вашингтоне, но хорошо знают там, где это необходимо… Во-первых, вновь, и на сей раз окончательно, американцы признали, что наше диссидентское ядро в СССР располагает наибольшим оппозиционным потенциалом. Мы, брат, теперь выступим по всему западному миру как самые компетентные специалисты по «русскому вопросу». Перед нами открываются двери 120 (представь себе!) исследовательских советологических центров, и мы, конечно, полностью укомплектуем их. За это заплатят нам миллиарды долларов, две с половиной тысячи докторов, доцентов и прочих оболтусов завтра займут в этих институтах решающие позиции… Решающие!.. Но главное — это то, что русским никогда не видать уже русофильской, кондовой власти. Именно в Новочеркасске, поверь мне, совершился этот поворот. Наш вклад оценён по достоинству… Антисемитское быдло, возмущённое действиями Хрущёва, давно готовило дворцовый переворот. Главную ставку русаки делали на Кириленко, второе лицо в партии, человека, который поднял на щит Ивана Шевцова гораздо выше, чем Хрущёв поднял Солженицына и Евтушенко. Хрущёву давно внушали, что Кириленко занимается подсиживанием и хочет умыть руки. Так Никита орал на него по спецсвязи: «Старый пердун, если ты теперь не проявишь воли и характера, завтра же выкину тебя на помойку!» Но погублен и другой, может, ещё более опасный антисемит — Фрол Козлов. Американцы считают, что он имел наибольшие шансы в русской партии, и если бы пришёл к власти, процесс десталинизации, столкнувший режим в перманентный духовный кризис, был бы откручен назад. Он повёл бы страну по иному пути, по которому собирался повести её Сталин…»
Мой «набальзамированный» шеф, конечно, ошибался. Или пускал мне пыль в глаза. Паши вели свою большую игру и до поры никого об этом в известность не ставили. После событий в Новочеркасск хлынули важные персоны. Побывал там и Анастас Микоян, который не обвёл вокруг пальца, может, одного только Лазаря Кагановича, и то потому, что дудел с ним в одну дуду. После Хрущёва лояльные к нам силы протащили в «генеральные» Брежнева, тот дал нужные заверения, что обеспечило тихое созревание всех условий для «перестройки» и переворота. Правда, путь был долгий, но у бога дней много. Русаки не оставляли, впрочем, интриг, но они оказались полными бздунами, во многом рассчитывали на свой обычный авось, и хотя имели самотужный прожект о восшествии на престол русской партии при Черненко (он — почётный председатель, а члены Политбюро — Косолапов, Чебриков и прочие «медведи»), прожект тотчас же лопнул, едва удалось ускорить финал: Арбатов, говорят, вложил в предсмертные уста Черненко фразу, которая всё решала: «Только Михаила Сергеевича…»
Куда только не уносят воспоминания!..
События в Новочеркасске обросли, между тем, легендами и ныне используются как главный обвинительный документ советскому строю. И это хорошо: правды никто из нового поколения не знает, но он, Борух Давидович (тогда Борис Денисович) долго помнил все детали, имена и фамилии. И директора Курочкина, и Сиуду, и Коркача, и лавирующего тщеславца Шапошникова, заместителя командующего Северо-Кавказским военным округом, который держал сторону забастовщиков, и Шульмана, единственной жертвы группы закопёрщиков, хотя жертв вообще-то было много: 25 убитых и сотни две раненых со стороны демонстрантов, трое убитых и более 50 раненых со стороны режима.
2 июня пять тысяч рабочих, опрокинув милицейское оцепление, двинулись от завода к горкому партии, что помещался в старом Атаманском доме. К ним присоединилось ещё четыре тысячи поднятого нами «отряда солидарности» плюс разная шантрапа, которой велели бить витрины и грабить магазины: это всегда создаёт впечатление полной беспомощности и даже парализованности власти.
Начальство ещё рассчитывало уладить всё миром, но события уже развивались по законам, о которых ничего не знало ни наивное начальство, ни бунтующий слепо народ, ни урезанный в правах КГБ.
Он, Борух Давидович, потом ядовито хихикал, читая воспоминания очевидца, которому удалось через несколько лет ускользнуть на Запад из Ленинграда: «Рабочие обращались к своей партии и требовали одного — рассмотреть их просьбы в совокупности, исходя из ленинских норм законности. Они шли под красными флагами и с портретами Ленина. В ответ раздались автоматные очереди. Танки ринулись на бастующих… На площади остались десятки окровавленных тел. Более сотни раненых бежали в страхе и смятении…»
Засранец, типичный совок, который ничего не расшурупил даже в верхнем срезе событий…
В идеологическом противоборстве не может быть места слюнтяйству и розовым надеждам. Ложь и дезинформация — это нормальное оружие.
Было не так, совсем не так. Если бы было так, как сообщал очевидец, ничего бы вообще не было, операция, к которой готовились несколько месяцев, была бы сорвана. Внешние события нисколько не отражали внутренних, скрытых, но определивших все перспективы…
Дорогу возбуждённым толпам перегородили войска. Но они не удержали демонстрантов. Часть людей, действовавших строго по предписаниям, проникла в здание горкома и учинила погром. Попыталась взять заложников, правда безуспешно.
Главное тогда были солдаты. На них бросили охваченную психозом массу: «Кого защищаете, сволочи? Толстопузых, что пьют нашу общую кровь? Долой паразитов-антиленинцев! Да здравствует власть стачкомов! Незаконно репрессированные граждане — на баррикады, пришёл наш час!..» Эти тоже хорошо управлялись. Лишних, вызывающих сомнения лозунгов не было.
В нескольких местах — по сигналу — начали разоружать солдат. Офицеры дрогнули и велели дать предупредительный залп в воздух. Один, второй. И тогда «из толпы» под шумок стали прицельно стрелять из пистолетов. У наших плановых боевиков было своё прикрытие и свои пути отхода. Это считалось сердцевиной замысла.
Когда краснопогонники увидели, как падают их товарищи, началась лихорадочная пальба на поражение «провокаторов», что и было нашей целью…
Это была, несомненно, вершина личной карьеры Боруха, может, даже вершина в штурме сталинской системы, разве кто-либо из её защитников был способен извлечь нужные уроки?..
События показали, что наш актив вполне способен опрокинуть ослабленную систему, используя для её слома её же потенциал. Для этого нужно только строже выдерживать технологию, предполагающую, с одной стороны, примитивность и суеверие масс, их поверхностную религиозность и чувство ущемлённости начальством, с другой стороны, неослабевающее давление на власть, понуждение её на пусть крошечные, но постоянные компромиссы. Сняли за усердие «дуболома»-редактора, организовали кампанию протеста против бюрократов и шовинистов, изобличили антисемита в райкоме партии, напечатали «вольные» стихи какого-то стиляги-придурка, устроили сидячую забастовку по поводу увольнения с работы нашего активиста… Всё это годится. В решающий час всё это складывается в тенденцию, и ошеломлённая, трусливая власть отступает по всем фронтам…
Вот это и есть главное в искусстве переворота: довести обалдение до такой степени, когда ни одна из сторон уже не способна реально оценивать своё положение. В этот момент легко навязывать и тем, и этим самые роковые решения…
Масса баранов до сих пор в полной слепоте. Так и должно быть: никто из них и не должен знать истории в тех измерениях, в которых и происходят действительные события…
Знать о подлинных пружинах истории — это сегодня уже настолько сложно, что обычный невежественный совок, с трудом усваивавший даже химерические блоки партийного мышления, только хлопает ртом, как карп или карась. Ему не освоить сложностей современных махинаций ни в политике, ни в финансовых делах, ни в экономике, ни в сфере поражения массовой психики. Полный примитив представлений — удел двуногих. И чем дальше, тем больше.
«Все они должны дрожать перед нашей мощью, гадая, когда именно последует их гибель. Мы должны представляться им титанами, племенем, охраняемым самим богом… В таком ключе они и муштруются изо дня в день… Они и смеются, и плачут только по нашим командам…»
Он, Борух, счастлив, что принимал участие в событиях, навсегда похоронивших мечту гоев о новом Сталине, человеке, который похитил на время огонь высшего Разума и начал самостоятельно двигать историю…
Потом Борух работал уже как «спец» на другие подразделения и других руководителей, и дело продвигалось вперёд благодаря единому замыслу и большому денежному котлу, в котором вслед за СССР и всей «социалистической системой» должен был сварится, как рак, и Запад, сегодня уже полностью управляемый и давно слепой, как те новочеркасские работяги…
Бессарабов Сергей Сергеевич настолько оборзел, что на выборах в союзный парламент выставил свою кандидатуру и сочинил лозунг, впоследствии облетевший всю страну: «Мы украли для себя, украдём и для вас!»
Лозунг бил по мозгам обывателей, привыкших к галантностям коммунистического суесловия. Местный кагал посчитал это преждевременным, Бессарабов укатил из Свердловской области на Украину, где теперь, говорят, владеет — через подставных пока лиц — тремя шахтами, на консервацию которых американцы выделили большие деньги. Это всё провернули люди диаспоры, но им пришлось отстегнуть процентов тридцать — такова такса. Сёма в накладе, конечно, не остался, он и завтра приплатит компаньонам, которые для него оптяпают или унавозят очередное поле…
Сёма его всегда веселил. Забавный тип. Сапог, ограниченный тупица, который не прочёл за свою жизнь ни единой книги, не считая, вероятно, букваря, он говорил только о деньгах. Но как его раздражали эти полурусские интеллигенты, вчерашние дети Глашек и Парашек, пользованных во все отверстия комиссарами Троцкого, подлинными творцами «русской революции»!
Даже не их ублюдочный идиотизм выводил из себя Сёму, не претензии на «русский вклад» в мировую культуру, а неотёсанный духовный мазохизм — добровольное согласие пострадать ради того, чтобы образумить заблудшего, собачья покорность перед ударами судьбы.
Гусев из сраного НИИ, занятого разработкой стратегии развития вооружений и задавленного режимом секретности настолько, что сотрудники соседних отделов чаще всего не знали друг друга даже по имени, как-то признался:
— Я люблю всех людей земли и, конечно, евреев. Но евреи почему-то — ужасные бездельники или имитаторы. Среди них полно паразитов с претензиями. И всё равно я готов умереть за их право жить и процветать среди других народов земли…
Полуголодный ублюдок в круглых очках, застиранной белой сорочке и дырявых носках удостоверял «право», которое было утверждено тысячелетия назад великим Моше!
Застенчивый профан попался на плёвой взятке в 50 долларов, которую в отместку организовал для него Борух, и сгорел тихо и бесследно. 50 долларов — сущее говно в советские времена!..
Но сначала его свели с Дорой. Он нехотя полапал её лошадиное тело, но в постель с ней не лёг, хотя Дора трижды укладывала его на подушки и просила снять с неё бикини, хорошенькие бикини: сквозь них можно было просунуть паровоз.
Тогда ему подставили Марину, он хорошо помнит её косые глаза и несимметричное, отяжелённое скулами лицо. Марину Гусев принял в своей холостяцкой квартире, и она ему понравилась. Ещё бы, Марина брала уроки полового подавления партнёра у Спихальской, обслуживавшей в те годы советское начальство в двух сибирских областях.
Марина поставила Гусеву условие — зачисление на работу в НИИ. Предъявила диплом. То, что надо, — математик и чертёжница высшего класса. Патриот Гусев разнюхал через областное управление КГБ, что она не Петрова и не Марина Ивановна, но тут уже Борух с сотоварищами надавил на интеллигентский сомнамбулизм Гусева: умирай, гнида, за наше право процветать среди всех народов земли!
Марину взяли в «предбанник», так называлось подразделение, где кандидаты проходили обкатку. Занимались мелочевкой, в основном играли в шашки и шахматы и следили друг за другом. Нас это вполне устраивало. Главным в этих обстоятельствах было — показать усердие и полное отсутствие «хвостов». Агенты плотно следили месяц-другой, а после, обременённые плановыми заданиями, переключались на очередные объекты. Между тем жизнь брала своё. Со вторых и третьих ролей в слепой Дурляндии всегда было проще попасть в дамки.
Когда в техническом отделе самого секретного сектора умер старичок-чертёжник (как-то уж очень внезапно, думаю, что не без помощи наших: у него пошли фурункулы, он попал в городскую больницу, где медицинская сестра, как позднее установили, сделала «не тот укол»), Марину двинули на его место, и она вывела нас на Гончарова, главного разработчика основных систем планируемого оружия нападения и защиты. Ободрённые успехом, зарубежные «друзья», делавшие за услуги вызовы родственникам наших активистов и всегда менявшие совзнаки на валюту по хорошему курсу, попросили «простучать объект». Но дело застопорилось, хотя Марина общалась с несколькими совками высшего класса: их не прельщали ни деньги, ни разврат, ни шмотки, ни редкие книги, тем более ни водка и ни наркотики. Эта была особая порода русопятых, вернейших псов режима, они не зацикливались на догмах Маркса или идиотских «формулах» генсековской своры, у них развились свои, особые представления о будущем, и это, понятно, было очень опасно. Тут исключались прежние подходы — воздействовать через своих людей в НКВД или МГБ: те когда-то без запинки вычищали из мозгов весь неположенный ил, не спрашивая даже, для чего это нужно. Но злополучный сектор был подконтролен только особой инспекторской группе Москвы, куда наших не пропускали.
Всё же мы попытали фортуну, разрабатывая ведущего инженера сектора Прокофьева. Когда все наживки выявили бесперспективность, заплатили трём напёрсточникам, бывшим зекам, чтобы они основательно отделали Прокофьева. И что же? Он не только справился со всеми тремя, но и выдавил из одного имя заказчика. Разгневанный, пошёл на самосуд (единственное, на что мы его склонили) и в тот же день так стукнул задницей об пол Абрашу Маричева, заведующего столовой в детской спортивной школе, что тот две недели поикал и благополучно скончался. Мы дали сигнал свернуть всё дело. Маричева похоронили, и никто о происшествии больше не вспоминал.
Понятно, что с Прокофьевым работали уже очень аккуратно, запросили даже спецсредства: вделанные в магнитофоны и бритвенные приборы — их привезли наши «туристы».
Вообще, честно говоря, хотя именно наши люди и ставили весь сыскной аппарат в Дурляндии, работать совки так и не научились, как, впрочем, и самовлюблённые гусаки — американцы.
Закрывали выезд нашим, сидевшим по всем НИИ и, естественно, располагавшим нужными секретами. Их за рубеж не выпускали, но в то же время спокойно выезжали за границу, меняя рубли на доллары, их двоюродные братья или троюродные сестры. СССР был прозрачен сверху донизу, и потому мы знали обо всех возможных контрдействиях и упреждали их ещё на ранних стадиях…
Это был мощный орешек, Прокофьев. Но разве он мог устоять перед Замыслом?..
Не туда, не туда потянули воспоминания. И что вспоминать былое? Самое важное — то, что Борух Давидович ловко вывернулся, когда его зажали в угол:
— Ну что, сука, будешь отлёживаться здесь? Известны все твои проделки: на жратву тратишь в месяц 200–270 долларов и до сих пор содержишь в блядях мадам, которая тебе годится во внучки!
— Ребята, я чувствую угрызения совести и продолжаю работать, — сказал им Борух, заливаясь актёрской слезой. — Совершенно бесплатно.
— Да уж накрался, старый поц!
— Не скажите: никто из вас «за так» делать ничего не станет, а я, используя здесь все наличные связи, совершенно точно установил: «святой Августин» находится здесь!..
Он лгал, конечно. Но оба агента осолопели. И он тут же закрепил успех:
— Сообщите старшему шефу, что Борух хотя и не отошёл ещё после аварии, но по долгам платить умеет!
— Само собой, — сказал один из агентов, тот, который был в курсе дела. — Дайте адрес, и мы закроем вопрос.
— Адресом я как раз и занимаюсь… Но разве этого уже не довольно: иголка найдена в стогу сена. Что же, мы теперь не сумеем вместе разгрести всю солому?..
Он брал их на понт. Но выяснилось, выяснилось-то — невероятно, просто непостижимо! — что Прохоров, действительно, уже находился в том же самом закрытом городке, в живописной балке, окружённой крутыми горами, спускавшимися к морю двумя зелёными клешнями, между которыми пряталась почти неприметная со стороны моря бухта, райский уголок, о нём знали совсем немногие…
Цветок душистых прерий
— Ну, что, изголодался? Ах, мой хороший, пучеглазик мохнатенький! Что, соскучился? Соскучился, вижу, сучишь но леками и весело смотришь. Сейчас я тебе сосисочку: живую мушку-жужжалочку! Не убежит, бестия, не ускользнёт от твоих жва-лец. Кровушку живую — на, пей на здоровье!..
Иван Иванович Цыписов, престарелый преподаватель эстетики в частном колледже им. Сахарова (в прошлом — старший научный сотрудник института марксизма-ленинизма), поймав грузную комнатную муху, обрывает ей крылья и осторожно кладёт на паутину в углу своей холостяцкой кухни.
Паук, уже приспособившийся к нравам человека, проколебавшись, рывками подползает к несчастной мухе, привязывает её двумя-тремя стежками липкой слюны к паутине и впивается в её крошечную бордовую головку.
Иван Иванович обтряхивает руки, довольно смеётся и принимается готовить себе ужин — жарит в масле кусочки хека, купленного в кулинарии.
— Ещё не известно, кому вкуснее, — говорит он, адресуясь к пауку. — Придёт время, и все мы будем иметь свои паучьи гнезда, и добрые законы будут бросать и нам питательный и вкусный продукт!..
К Цыписову стучат в квартиру гости только определённой категории. Они приходят поздно вечером, словно не желая нарываться на свидетелей.
Единственный посетитель, с которым Цыписов не ведёт беседы шёпотом, это его сосед по лестничной площадке, тоже выстарившийся, гнилой и корявый, как выпавший зуб, бывший бухгалтер Бехтерев.
Они молча играют три партии в шашки и молча расходятся. Вот за это молчание Цыписов и уважает соседа.
Уважает настолько, что иногда, когда на душе изжога, доверяет ему кое-какие мысли, зная, что они никуда не уйдут — осядут в трухлявой голове и пропадут там бесследно, как всё, что туда попадает.
— Мой прадед по матери Брик, натуральный немец из Швабии, был, между прочим, членом попечительского совета Всероссийского общества по распространению знаний о керосине среди губернских обывателей. — Жёлтый и оплывший, как свечной огарок, Бехтерев согласно кивает, знает, что сосед может врать и придумывать на ходу. — Так вот, прадед говорил моему деду Филоновскому перед смертью в 1893 году в своём одесском особняке: «Если мыслить культурно, править здесь должен не русский царь и не русские фабриканты и помещики, а такие честные швабы, как я. Или наши деньги. Определять законы должно не дурное всегда общество и не свинский народ, а наши связи… Когда мы победим, мы научимся отнимать у тёмных мужиков и безалаберных русских господ их молодость и здоровье и станем бессмертными. Каждый левит, пардон, каждый шваб, будет держать целое стадо двуногих, которое продлит его силы до 300 лет ценою своей смерти. Мы не должны уподобляться скоту и потому резать его, варить и жарить — наш первейший долг…
Бехтерев, между прочим, в прошлом сотрудник КГБ, о чём Цыписову неизвестно, тихо ухмыляется, жалея, что Цыписова никто не изобличит, потому что режим в стране создан Цыписовыми и ради Цыписовых.
— Антисемиты — сила, — злорадно провоцирует он, переставляя шашку.
— Херня, а не сила, — Цыписов делает ответный ход. — Они все нищими были, а теперь вообще все поголовно бомжи… Но это даже распрекрасно: когда кругом бомжи, мы можем чувствовать себя совершенно спокойно. Что они там мырмочут перед кончиной, никого не интересует… Надо делать так, чтобы в этой стране свои всегда были чужими, и тогда чужие всегда будут нашими.
— Это тост, что ли? — кашлянув, спрашивает Бехтерев, снимая две шашки подряд.
— Очередная пакость, а не тост, — задумывается на миг Цыписов, намереваясь следующим ходом снять три шашки соперника и одержать победу: — А вообще я в кармане всегда держал листок с тремя-четырьмя тостами. Чуть профессура забуреет, я им читаю из-за тарелки, — телячий восторг…
Иногда Цыписов высказывает такое, что напрягает старика Бехтерева, но, впрочем, ненадолго: вещи, которые он слышит, ни к какому делу уже не подошьёшь, кончились все дела:
— Думаешь, мы чего-нибудь достигли бы в России, если бы не удерживали толпы в полной темноте? Конечно, тут и спаивание, и развращение, и раскол семей, и сотрясение традиционных основ или, наоборот, надевание новых намордников… Народ должен быть глупым, однозначным, чтобы в урочный час можно было его толкнуть против всех авторитетов: и против героя, и против бога, и против царя, и против родителей… Думаешь, это просто? Нет, не просто, ради этого нужно держать под контролем большинство этих бестолковых выскочек, которые имеют реальное влияние на массу… С этой задачей мы справились: по нашей колее двигались и Керенский, и всё окружение царя, и всё окружение Ленина, а потом и Сталина… Со Сталиным, правда, вышла осечка после войны, когда он нащупал главные нити событий… Но прозревших и шибко энергичных мы убираем, не считаясь с последствиями… Опыт, милый друг, как говорил Мопассан, опыт… И Хрущёв был под наблюдением, и Брежнев, и Горбачёв, и Ельцин. У тебя бы волосы встали дыбом, если бы ты узнал, кто пил и пьёт из наших кубков… Поэтому и не позволю себе ни слова более на эту тему… Хочешь процветать сам, держи в нищете другого — закон, выведенный уже две тысячи лет тому назад… Гимн труду — пойте! Но я пою ещё иные гимны — коварству, лжи, умению навязывать свою волю под видом божьей. Хорошо идут ещё «научные дефиниции». Все невежды без ума от науки. Что делать? Действительность всегда попахивает дерьмом…
Бехтерев, собирая шашки, тихо напоминает о цветах с их ароматами.
— Это тоже завлекалочки, — разъясняет профессор. — Лети, лети, пчёлка. Попробуй наш медок, завяжи наш стручок: чем не принцип тайной ложи?
— Тут не принцип, — возражает бухгалтер Бехтерев, моргая белёсыми, прямыми, как у борова, ресницами, — тут естество. И хитрости никакой. Яблоня предлагает свой нектар, ещё не думая о плодах.
— Ну, это тебе так кажется, — высокомерно смеётся в ответ Иван Иванович, чернея странными глазами. — Ты ведь тоже цветок, на который садятся, правда, одни навозные мухи… Цветок душистых прерий…
Втайне обидевшийся Бехтерев, не подавая виду, решается поддеть на крючок тайного советника каких-то иррациональных сил:
— Вы Беню из третьей квартиры знаете?
— Он ещё жив?
— У него недавно спросили на базаре: «Гражданин, вы случайно не родственник Черномырдина?» Так Вы знаете, что он ответил? «У нас разное происхождение: он африканец, а мои родители из Могилёва!»
— Не смешно.
— Смешно другое. Беня показал мне первую медаль Добровольческой армии — терновый венец, пронзённый мечом, на Георгиевской ленте. Говорит, что его отец получил эту медаль за Ледяной поход. Он был, оказывается, в числе 3698 уцелевших героев.
— Ничего не оказывается, — нервничает Цыписов. Он скупает все медали, а затем перепродаёт их тем, кто выезжает за границу. И Бехтереву это известно. — Не может быть у него такой медали! Еврей в зимнем походе — где Вы это видели?..
— Не знаю, не знаю, — Бехтерев, гордясь собственной выдержкой, медленно собирает шашки в коробку из-под печенья. — Утверждает, что его отец был дружен с Сергеем Леонидовичем Марковым. Был такой лихой генерал. И от него имеет серебряный портсигар с гравировкой.
— Это всё подделка, — успокаивает себя Цыписов. — Брехня!.. Чем дальше событие, тем больше его участников. Мошенники!..
Ни с кем не чикаться
Боясь пораниться, он отрезал голову убитой Ирки большим швейцарским ножом с зазубринами. Пилил позвонки, потому что никак не попадал между ними в более мягкую ткань. От густой крови слипались пальцы.
Окровавленная голова с полузакрывшимися веками не вызывала в нём никаких особых эмоций, голова и голова, как головы свиней или коз, какая разница?
Правда, он постоянно помнил, что Ирка — его жена, он с ней спал множество раз и даже целовал эти губы, на которых теперь пузырилась противная пена. Всё это его очень раздражало.
Он не захотел рисковать. После того как Ирка застала его за сеансом радиосвязи с американским агентом и увидела его доллары, сложенные в круглой жестяной коробке, она потеряла право на жизнь, потому что в любой момент могла заложить его: она была такой же патриоткой-идиоткой, как и её папаша Мурзин. Их сто раз обманывали, продавали, предавали, попирали, как собак, а они всё совались со своей «преданностью Родине». «Какой Родине? Нет уже давно никакой Родины!..»
Он стукнул Ирку бутылкой шампанского, которое намеревался распить, и когда она, обливалась кровью, беззвучно сползла на пол, успев глянуть на него удивлённо, он сбегал в кухню за швейцарским ножом и несколько раз всадил его в область сердца. Но этого показалось мало, нужны были гарантии, и он отпилил голову, и когда голова, выскользнув из рук, гулко ударилась о пол, он поразился, какая она тяжёлая и как много крови в человеке, это когда он затащил ещё тёплое тело в ванну, подумав о том, что придётся тщательно мыть пол, а он люто ненавидел эту работу, это была работа для всякой колхозани, которая привыкла перемещаться на корточках.
Срочно были вызваны опекавшие его люди — Бадинян и Дудник. После недолгого совета они сказали, что он напрасно отрезал голову, теперь придётся инсценировать исчезновение Ирки, а потом, через месяц или два, хоронить чей-то другой разложившийся труп, лишние хлопоты, лишние расходы, лишняя опасность.
Он наорал на них, разряжаясь от психического напряжения, но они всё поняли правильно.
Это были опытные люди, получали они не меньше, чем он, и скрупулёзно делали своё дело. Они вывезли тело убитой вместе с головой в мешке за город и там сожгли на костре, а останки закопали на берегу горного ручья.
Несчастному Мурзину всё время морочили голову, говорили, что сумасбродная Ирка умотнула «на материк», то есть как-то прорвалась из особой зоны, и её якобы уже видели в Москве на Таганской площади. Теперь, мол, «меры приняты», и её вот-вот водворят обратно.
А через месяц был предъявлен обезображенный труп женщины в разложившемся состоянии (выкопали на кладбище). Мурзин потребовал судебной экспертизы, но его шеф генерал Намёткин, который тоже был в деле, передавая якобы обнаруженный паспорт Ирки, посоветовал «не суетиться и признать свершившийся факт». Они и Мурзина готовы были убрать, чтобы замести следы.
Им казалось, что Мурзин смирился со своим горем, хотя так и не признал в обезображенном трупе родную дочь, всегда весёлую и жизнерадостную Ирку. Гроб был заколочен и опущен в могилу, и после того дня Мурзин стал особенно часто напиваться, полагая, видно, что таким образом и сам поскорее сойдёт в могилу. Он сделался замкнутым, угрюмым, а потом и вовсе ушёл со службы, хотя его не выгоняли: он знал всю историю городка и помнил многое такое, что никогда не фиксируется в бумагах, но в чём время от времени возникает острая нужда.
Разумеется, зять, шибко убивавшийся по жене на людях, содействовал спаиванию Мурзина — опухший и неповоротливый пьяница был уже не опасен при любом повороте событий…
Пришлось перестроиться и самому Леопольду Леопольдовичу: он сторонился теперь незнакомых людей и при них играл роль чудака, зацикленного на оздоровлении человечества. Странно, но в этом своём амплуа он пользовался даже успехом.
Однако всё, что его всерьёз интересовало, были деньги, которые он получал за рьяное пособничество американцам. Деньги он тщательно прятал, переводя затем их в банк небольшого испанского городка из Новороссийска, куда выбирался, пользуясь специальным тоннелем и специальным пропуском, и дал себе слово: как только сумма перевалит за двести тысяч, бежать за границу и там дать «последнюю раскрутку».
Но что-то его точило изнутри. Он не мог отделаться от чувства постоянной досады. Или скуки. К женщинам уже не тянуло, пить по-чёрному, как временами Мурзин, было противно и тяжело для сердца, а остальное — удручало роковой заурядностью и уездным примитивизмом.
Всё, что его ещё как-то поддерживало в форме, — самовнушение, что он послужил важному историческому делу; пусть он пока не обозревает его смысла, дело должно быть значительным, если его обслуживают единоплеменники. Правда, никаких особых чувств он к ним не питал, более того, всех подряд ненавидел, только боялся, что об этом узнают…
Прежде чем воплотиться в реальность, всякий замысел проигрывается в нашем сознании. Это только кажется, что «новое глобальное мышление» даётся человеку автоматически — оно достаётся заботами и усердием сплотившихся людей, которые на протяжении столетий умели обставить всё таким образом, что другие люди за них строили дома и дороги, пахали землю и разводили скот, водили корабли и умирали в битвах. Поодиночке ловкачи ничего бы не достигли. Но, собранные в шайку, умели морочить головы, выступали как гадальщики и маги, исцелители и наставники юных, опустошая кошельки богатых, знатных и располагавших властью, — от тех зависела раздача поместий, привилегий, должностей, спасение посаженных в тюрьму. Члены шайки усердно прославляли друг друга во всех странах, где делали бизнес, подвизаясь то под видом астрологов, знатоков чтения судеб по бегу планет, то под видом библиотекарей, толкователей снов и составителей «самых результативных законов»…
Но и эти махинации раздражали: солидарность лисиц, вместе опустошающих курятник…
После убийства Нинки Леопольд совершенно убедился в правоте своего связника Джери, который не раз признавался ему, что он уже плохо ориентируется в историческом пространстве: единственный выход — признать, что мир соткан из вымыслов и что на свете в действительности нет ни лжи, ни правды, ни науки, ни суеверия, ни красивых, ни безобразных, ни преступлений, ни добрых деяний.
— Всё это условные функции, — убеждал Джери. — Тебе кажется, что ты совершаешь измену, продаёшь военные секреты России иностранному государству — чепуха! В действительности нет ни стран, ни народов: все мы — одно целое и связаны только функционально: или ты меня угощаешь, или я тебя, или ты ложишься кверху пузом, или я…
Леопольд Леопольдович, в конце концов, полностью принял толкования полковника Джери, малорослого и щуплого кавказца с узкими усами и постоянной ухмылкой в глазах: «В самом деле, о какой исторической правде или справедливости долдонят эти российские аборигены?.. Мы здесь, на земле, только атомы мироздания, совершающие предначертанное движение, условны все имена и клички, как порок и добродетель… Напротив, порок даже более интересен, ибо он, прежде всего, и побуждает к движению человеческую массу…»
Застольные разговоры
Наведывался к Мурзину сухощавый старичок в смешной кожаной кепке с задранными кверху ушами, такие носили в начале XX века пилоты первых аэропланов. Звали его Бенедикт Купидонович. А фамилия была — Власоглавов.
Представлялся публицистом, но про него говорили, что это выстарившийся московский кэгэбист, некогда работавший в толщах диссидентских тусовок.
Усатый, как жук, в кремовом костюмчике и с бамбуковой тросточкой, он производил странное впечатление. И всё жаловался на мучительные сны. Говорил, как блеял — такая манера. Но, по-моему, притворялся, безбожно всё врал, провоцируя других.
Как-то Аркаша Лындин, директор главного промтоварного магазина, слушая Власоглавова, правда, после обильной выпивки, даже прослезился:
— И я вижу сны. И в них не узнаю ни себя, ни других. То я — король Непала, то негус какой-то из Эфиопии… Во, брат, какие страсти. Сны меня, блин, измучили. И всё на иностранные темы… Вот вчера. То ли Ирландия, то ли эта, где сыра много…Голландия, да… Выхожу как будто с морским биноклем, подаренным мне ещё в детстве отцом. Посмотрел направо — налево… Вижу, у церкви святого Патрика мужик с женщиной. То ли танцуют, то ли целуются. А женщина — вроде бы моя первая жена, полудурочка Лизабет… Положил бинокль, бегу к церкви. Вижу: да, моя жена и в обнимку с подонком в морской офицерской пилотке, вокруг ни души, пусто всё пространство, будто остальные персонажи жизни испарились… Уже близко. Раскрываю руки, как разбойник, и с нарастающим криком «А-а-а!..» устремляюсь к бесстыжей парочке.
Увидев меня, они так и прыснули в разные стороны и стремглав скрылись в церковном притворе.
Подбегаю. Стоит пустой гроб. Я в него ложусь и — руки на грудь. Чин чинарём.
Подходит этот мужик в пилотке и моя Лизабет. По-моему, оба уже без трусов.
— Нам всё это померещилось, — говорит Лизабет. — Гляди, в гробу какой-то засранец.
— По виду очень знакомый. Но я забыл, где его видел, — отвечает мужик.
И вот они начинают целоваться у гроба, и мужик в пилотке шарит под юбкой у Лизабет.
Лизабет смотрит на меня и говорит прерывистым голосом:
— Давай чикнем этого бритвой по шее! Меня, значит. Я им вроде как аппетит порчу.
— Кого-то мне напоминает эта мумия. Кого — не помню.
— Возьмём нож и чикнем по шее! Лежит, как живой. В гробу не должно быть живых.
Я наблюдаю за ними, чуть-чуть приоткрывши глаза, и не выдерживаю:
— Я тебе, сука, чикну! — говорю басом. — Шибану из дерьмо-кольта — навылет!
— Опять померещилось, — воркует Лизабет, обнимая мужика.
— Представляешь, мне показалось, что он сказал «дерьмо-кольт»… Теперь я догадалась: все мои проблемы — от плохого усвоения окончаний…
И тут я выскакиваю из гроба и пытаюсь схватить их, расставив руки. И — по нарастающей трублю, как пожарная машина: «А-а-а!..»
И опять они расцепливаются и убегают в тёмный зев каких-то помещений…
Каждый день этот самый сон, хотя Лизабет я задушил уже лет десять тому назад… Нет, не руками, зачем руки марать? Я плеснул ей стакан первача в глотку и приказал: «Иди, дуся, на панель, потому что спать с тобою всё равно больше не буду. От тебя Чебоксарами или Уфой пахнет».
Она пошла. Принесла выручку. И пока я пересчитывал, повесилась. Жизнь души, скажу вам, — явление, не совпадающее с жизнью тела. Они связаны, конечно, обе жизни, но не так, как ты думаешь. Тело жрёт кашу или ананасы. И душе жратву подавай, иначе подохнет. Жрёт мечты, но мечта — как лосось, её в наличии нету. А вот химер — до хрена. Частика, иначе говоря, простой варёной колбасы, в которой мяса ноль целых хрен десятых. И все жуют химеры. И потому от всех воняет одинаково…
Я изумился стилю такого мышления и спросил Лындина:
— Так что же, выходит, ты, Аркаша, угробил свою жену? А он смеётся:
— Это всё сон!.. Я и женатым никогда не был!.. Вот такие люди.
Бенедикт Купидонович, правда, поинтересней. Но политическое его нутро — не ухватишь. Вроде бы и нашим, и вашим, а в итоге — щербатый веник: пыль гоняет, а мусор не берёт.
— Вот Вы, товарищ или господин писатель, над чем сейчас работаете? — Это я спрашиваю. А Мурзин всё посмеивается, утирает рот полотенцем и при этом что-то пережёвывает.
— Пишу новый роман, — без тени смущения дребезжащим голоском отвечает Власоглавов и жестом велит себе наполнить фужер минеральной водой: он принципиальный враг алкоголя, за что и пользуется авторитетом среди выпивающих. Им больше достаётся. — О прошлой войне… Но теперь уже о войне так писать нельзя, как писывали прежде. Развал СССР и изменение политических ролей в стране исключают эту тему. Она отодвинулась пространственно, как первая мировая… Что толку рисовать устаревшие картины? Немцы тоже оказались поленьями в чужой топке… Власовцы — русские люди, а я не понимаю их речей. Как не понимаю речей, положим, Ясина, похож на карманника, его и гримировать излишне: всё по-русски, а всё не по-нашему.
— Странная концепция, — говорю я. — И ассоциации ваши патологией отдают. Всё гораздо серьёзней.
— Может, в самом деле, мы уже зомбированное племя и исполняем чужую волю? — Блеет Бенедикт Купидонович, смотрит голубем и невинно отворачивается в другую сторону.
Я пробую вернуть его к диалогу:
— Так что же, выходит, мы ни за что уже и не отвечаем?
— Время накладывает огромный отпечаток, — уклоняется публицист.
— А стихи пишите?..
Мурзин декламирует, растягивая слова:
Маню манили мани — Те, что водились у Сани. Фима — фарцовщик фингал, Мане нарисовал…— Это всё Ваше?
— Баловался, — стыдливо признаётся Власогласов. — Теперь уже что-то не тянет. Годы не те… Теперь пишу роман о евреях.
— Помилуйте, как же вы смеете писать о евреях, если вы не еврей? Да ещё роман?
— А вот так, как они пишут о русских. И даже называют это «выдающейся русской литературой»… А потом, знаете, евреи евреев ещё меньше знают, чем русские русских… Удивляетесь, а напрасно. Евреи — такая нация, которая больше всех рассуждала о воспитании народа. Это пока им некого было воспитывать. Теперь уже не то, теперь они другие нации воспитывают, им некогда о себе подумать… Спрашиваю знакомого: «Почему так бесчестно ведут себя некоторые отдельные евреи?» А он смеётся: «Не евреи это — это Кац, Шнерсон и так далее. Если их уличили, какие же это евреи? Это отбросы… Тому, кто трендит, мы вываливаем из авоськи образцового, идеального еврея, каким он по Торе задуман… Ах, вас обманули? Ну, так это нетипичная сволочь. Он хоть и Абрам или Соломон, к евреям не имеет никакого в сущности касательства. Это отщепенец. Знаете, как в РКП(б) при дедушке Ленине? Кого изобличили — вон из рядов, чтоб и не воняло! И пока густо не воняет, мы проповедуем наш идеализм… Как партия была — вне сомнений, так и евреи ныне — вне сомнений… Претензий не принимаем…»
— И что же, Вы с этим согласны?
— Согласен, конечно… Только вот не знаю, как российцев после «Интернационала» откачать, в сознание привести. Ведь и Чечня не помогает…
Главное — обобрать противника идейно
Он назвал себя Борисом Денисовичем. Уклониться от встречи с ним Леопольд Леопольдович никак не мог.
Этот Борис Денисович, противный старикашка со вставными золотыми зубами и цветной рубашкой навыпуск, закинул нога на ногу, отвалился на мягкую спинку кресла и не торопясь раскурил дорогую сигару.
Когда синий ароматный дым окутал его и поплыл над столом частной городской забегаловки с огромной вывеской «Волны Дуная», он уверенно сказал:
— Я знаю о вас всё. Слушайте и не пускайте пузыри… Мы выиграли только потому, что ежедневно и упорно просеивали весь ментальный продукт прежней России… Увы, но это факт: у совков было больше результативных идей. Но они не могли тягаться с нами в их реализации. Как и положено недоноскам ретортного общества, они не осознавали своих печалей… Мы взяли вчера и возьмём завтра прежде всего пропагандой демократии и прав человека… Вы не поверите, кто нас надоумил заняться этим… Ёська Сталин! — Борис Денисович пустил дым тонкой струйкой. Он видел, с какой искренней почтительностью его слушают, и это ему нравилось. — В октябре 1952 года Сталин выступил на XIX съезде партии. Диктатор сформулировал вполне реальные задачи для всего коммунистического движения. Если бы они выполнялись, Западу был бы полный песец. Но разве разожравшаяся свора кухаркиных детей, самодовольных пьянюг и полуграмотных счетоводов способна была осуществить эти задачи? Нет, конечно. Требовался могучий детонатор, и едва мы вывели из игры Сталина, их паровоз стал чихать и кашлять на каждом полустанке.
— Неужели Сталин дал Западу стратегию победы? — Леопольд Леопольдович угодливо захихикал: он всё ещё не знал, к чему клонит его собеседник и потому нервничал. — «Кто его подставил? Зачем он здесь?..»
— Именно Сталин. И именно стратегию победы… Цитирую, чтобы вы всегда помнили, что большая политика не терпит приблизительности и верхоглядства:
«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности», права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменён принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя большинство народа»…
— Неужели это всё дословно?
— Дословно. И всё актуально. И всё, если абстрагироваться от устаревшего жаргона, который тиран использовал для убеждения безграмотных масс, соответствует действительности… В борьбе с фашистской Германией и её сателлитами Запад полностью растерял свою хилую респектабельность. Так, собственно, и было задумано… Мы взяли лозунги и перевернули их: «Раньше Ленин и старые большевики позволяли себе прислушиваться к народной массе, ценили личность, поскольку сами были личностями. А что делают нынешние вожди?.. Можно ли их оторвать от корыта?..»
— Но это чепуха!
— Это другой вопрос, который для идеологической борьбы не имеет никакого значения. Законы здесь действуют совершенно иные, их логикой не проверить: если сотня разных людей закричит, что от вас воняет, каждый станет принюхиваться, и более половины подтвердят, что чуют отвратительную вонь. Скорее всего это вонь от них самих, но разве это важно?.. Вы торопитесь, Леопольд Леопольдович: Сталин сформулировал и стратегию борьбы в сфере национальных отношений. Если бы она осуществилась, мы бы, разумеется, не сидели за этим столом. Я бы точал сапоги где-нибудь в Бобруйске, а Вы бы отдыхали на нарах в Магадане или на Соловках… Вновь цитирую:
«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите быть патриотами своей страны»…
Мы приняли и этот тезис и переставили всё местами, чтобы отсечь от совков лозунги национальной независимости и лозунги патриотизма… Мы сумели представить диссидентов, то есть, наших людей, работавших на наши деньги, истинными национальными деятелями и патриотами — Солженицына, Любимова, Пеньковского, Тарсиса, Калугина, Рыбакова… Мы раскачали национализм в СССР, чтобы избежать таким образом смертельной критики в свой адрес… Нет, что тут ни говорите, диктатор был докой в науках, которые не афишируются. Недаром Черчилль не раз повторял: «Сталин видит на 30 лет вперёд». Мы устранили его в марте 1953 года. Стало быть, до марта 1983 года было просто бесполезно идти на решающие сражения: его организующая воля действовала ещё с необоримой силой. Вот отчего «перестройка» и не могла начаться раньше того времени, чем она началась.
— Я под большим впечатлением!
— Когда мы познакомимся плотнее, Вы будете под ещё большим впечатлением!.. Не думайте только, что это было просто — убедить придурков в том, что самое результативное — использовать стратегию Сталина. Ненависть и высокомерие многим отуманило головы… Мы учли, что Сталин собирался коренным образом обновить жизнь страны и резко повысить уровень жизни. На встрече с избирателями в начале 1946 года он прямо сказал, а он не бросал слов на ветер, что собирается покрыть всю страну научно-исследовательскими институтами… В геополитическом плане мы использовали его тезис о постоянной ревизии доступа ведущих стран к источникам сырья и дешёвой рабочей силы. Благодаря его предостережениям мы регулируем и теперь все эти процессы и, если не последует каких-либо непредусмотренных катаклизмов, не допустим большой ссоры внутри своего лагеря. Мы действуем через верхушку и почти ежедневно проверяем её лояльность.
— Как политический стратег Сталин, конечно, за многие годы развился в крупную фигуру. Ведя аскетический образ жизни, он сделал огромнейшие вложения в свою личность. Вы понимаете, что это значит… Он был относительно спокоен за своё будущее и потому всерьёз работал над собой… Западные лидеры уступали здесь ему, и очень значительно. Но в экономике он всё же петрил слабо…
Леопольд Леопольдович повторил всё то, что слышал от Джери. Борис Денисович взглянул удивлённо, затянулся и, выпустив дым, отрицательно помахал сигарой.
— Побойтесь бога или чёрта, тиран прекрасно владел и этой наукой! Его слабость только в том, что он обязан был придавать своим убеждениям характер марксистско-ленинских положений. Ритуал не перепрыгнешь… Тем не менее, он осознавал, что экономический строй подчиняется политическим задачам и любая экономическая система имеет десятки форм своего осуществления. Но при непременном учёте закона стоимости… Хитрец подчёркивал, что закон стоимости не может играть при социализме роли регулятора. И он был, между прочим, прав. Потому что ориентация на стоимость автоматически повела бы к ослаб лению и отмене политической власти партии. Что и случилось позднее: при Брежневе партия уже сделалась «третьей ногой», потому что во главу угла поставили хозрасчёт… И завоевание власти, и удержание власти — тончайшее искусство, когда приходится учитывать всё многообразие процессов. Сталин это учитывал, его преемники даже не понимали, что это такое…
«Умён или хорошо подготовлен?.. Зачем он здесь, зачем?..»
— Я плохо понимаю во всей этой галиматье. Но мне кажется, Сталин порол чепуху.
— Так представляется формальному сознанию… Фактически же добиться мирного преобладания социализма в условиях ожесточённого противоборства систем совершенно невозможно. Сталин «теоретически» столбил позиции, которые собирался осуществлять и осуществлял на практике. То есть, делал то же самое, что и Запад…
— Не понимаю.
— Он различал управление через вождей и управление через массу. Вождей можно подготовить, массу подготовить для управления даже в течение десятилетий нельзя. А система, чтобы устоять, должна была непрерывно развиваться и наступать. Так велосипедист, чтобы не брякнуться на камни, должен постоянно крутить колёса… Преемники тирана не поняли его сокровенного замысла. Правда, его не разжёвывают — обычная практика всякой тайной организации, а Сталин долго вертелся возле такой организации и кое-что усвоил. Наши люди легко внушили его преемникам необходимость перехода на управление через закон стоимости… А одно это уже исключало существование прежнего Советского Союза. Как вы понимаете, были сформированы ещё и другие смертельные факторы, усиливавшие брожение и развал… Между прочим, Сталин дал и самую исчерпывающую формулу совершенного общества, о ней после Сталина уже не вспоминал ни единый самодержец: это система, где производство регулируется только нормальными потребностями общества, а учёт потребностей составляет главную заботу государства. Исключается мировой рынок. Вот как оно хитро! И нам ещё предстоит к этому вернуться, когда мы всюду одержим верх. Предстоит — никуда не денемся!
— Но чего же здесь хитрого?
— Такое общество можно было строить вчера и можно строить сегодня… Никто не строил, потому что думали — это перспектива столетий — полная хозрасчётность, рентабельность, автаркия… Не думайте, что всё это предполагает нищету, примитивность орудий труда и быта… Мы незаметно опробовали этот механизм в условиях США. И что же? Он выявил себя не только как жизнеспособный, но более того — как подавляющий все прочие механизмы… Так что «беспроблемное общество», Леопольд Леопольдович, — не мечта клошаров и бомжей, а последний выход традиционных обществ, и он способен смести все наши постройки… Задержись Сталин на свете ещё десяток лет, и мы могли бы потерять всё… Деспот понимал, и это знание встречается и у древних египтян, и в допотопных цивилизациях Китая и Латинской Америки, что минусы настоящего — ничто в сравнении с неизбежными потерями грядущего… Как с автомобилем. Выиграл в скорости сегодня и завтра, а послезавтра разбил его всмятку или поставил на ремонт, или не купил бензина, и пешеход, который проделывал тот же путь, легко и весело обгоняет владельца машины… Рентабельность, действительно, надо считать не одномоментно — это трюк временщиков, а на протяжении 25–30 лет, и не в разрезе производителя, а всего национального хозяйства… Тут уж закономерности совершенно иного плана… Если бы Сталин взялся уничтожать противоположность между сельскохозяйственным и промышленным производством, заставив людей физического и умственного труда трудиться попеременно в этих отраслях, поднимая при этом культурно-технический уровень работников до предельной отметки, исход соревнования систем разрешился бы в течение немногих лет… Но он чего-то ожидал. Мы не знаем, чего именно… Может быть, экономического подъёма, который позволил бы поставить задачу изменения общего культурного и технического уровня… Этот хитрющий антисемит не предлагал окостеневших матриц. Напротив, требовал, чтобы в случае замедления развития производительных сил немедленно следовали перемены в производственных отношениях. Это он считал главной задачей управляющей власти…
Борис Денисович будто бы задумался и надолго замолчал, а когда принесли вино и шашлык, то выпил, не обращая внимания на собеседника, и молча съел свой шашлык.
Леопольд Леопольдович догадывался, что старикашка только надувается, бравирует чужими знаниями, и понимал, что всё это предисловие имеет на выходе какие-то важные требования. Но он предчувствовал недоброе и потому не хотел торопить событий.
Наконец, Борис Денисович поднял глаза.
— Разумеется, я старый циник и брехло. Но у меня полномочия, о которых Вам сказали. И Вы, видимо, не совсем правильно понимаете смысл встречи со мной… Я обеспечу Вам защиту диссертации и всё такое прочее… Но Вы должны помочь общему делу… А не поможете, пеняйте на себя: Вас никто уже не защитит и не укроет…
— Ну, что Вы, я же знаю, кто Вы и что Вы!..
Борис Денисович внезапно придвинулся к самому лицу Леопольда Леопольдовича, так что тот вздрогнул и присмирел, словно жертва перед укусом змеи:
— Ваш свёкор — старожил и сведущий человек.
— Да не ходите окольными стёжками, — Леопольд Леопольдович вздохнул и почувствовал вдруг облегчение. — Я сделаю всё, что нужно. Не свёкор, а тесть, но я вытрясу из него душу…
— Душу вытрясать не нужно, у него души уже не осталось. Но он, безусловно, знает человека, который нам нужен и который сейчас прячется в этом паршивом городишке… Сталин, о котором мы сегодня так уютно поговорили, в последние месяцы своей жизни не доверял партийным функционерам, готовил полное обновление и ЦК, и Политбюро, и аппарата ЦК ВКП(б)… Он лично вербовал из числа выдающихся учёных и организаторов производства свою агентуру… Вы обязаны как можно быстрее нащупать этого человека, он нам очень нужен… Вы, Леопольд Леопольдович, жалкий американский прихвостень, к тому же женоубийца и прочее. Это всё Ваше личное дело, мы не любим вытряхивать пелёнки с чужим дерьмом, у нас самих его под завязку.
— Что я должен сделать?
— Янки ничего не должны знать о том, что мы тут суетимся и кого-то ищем… Они хотят своего, мы хотим своего. У нас общая голова, но разные желудки… Усекли?.. Когда мы соединимся глобально, макиавеллизм, который мы им подбросим как самую действенную науку управления, заведёт их в полный тупик. Это будет народ лжецов, воров, формалистов, бюрократов, педерастов и предателей. Их будут ненавидеть все, и нам будет проще отмежеваться… Нужно всегда знать, когда бить шумовкой по промежности, а когда — ломом по затылку. Просто убивать — это уже нецивилизованно. Эффективно подталкивать к самоубийству — другое дело…
Убивают убийц
Память — сродни улёгшейся пыли. Подуют ветры переживаний, и всё вихрится, перемешивается, и не сыскать никакой логики, никакой последовательности…
Он не помнит теперь, когда впервые начал охоту за Прохоровым, которого тогда же предложил — ради конспирации — называть «святым Августином».
Это было ещё при Хрущёве… Да, при Хрущёве… Удалось просмотреть бумаги его сейфов, стоявших в особой комнатке за служебным кабинетом… Спецагент всё ещё копался в бумагах, а ему, Боруху, позволили со всем семейством отбыть на отдых в Анапу…
Никаких следов не нашли, но Хрущёва застращали настолько, что он, покраснев от гнева, разразился нецензурной бранью: «Никаким «Завещанием» тут и не пахло! Втемяшьте этим своим пердунам, чтоб больше не вякали!.. Со сталинизмом покончено!..»
Дурачок Никитушка. Догматик, примерный марксист-ленинец, не способный усвоить ни единого нового поворота мысли…
Наши умели стимулировать желчь в этом сатрапе, некогда пресмыкавшемся перед Ёськой. Оттого и мстил, не понимая, конечно, кому мстит. Жук слону не помеха, если и в глаз ударит. И власть потерял именно оттого, что постепенно своими же действиями раскачал против себя лютую ненависть…
Борух и его шеф проявили настойчивость и набрели всё же на следы особого архива «святого Августина», где было тщательно собрано всё, относившееся к Сталину… Один из наших зафиксировал слова Прохорова, оброненные на застолье: «До сих пор помню всё, что было сказано мне вождём, а кое-что пометил в блокноте…»
Блокнота, правда, не нашли, а за него были обещаны «заинтересованной стороной» крупные деньги. Отличный куш светил, если бы не прошляпили ротозеи-помощники…
Вот почему Борух Давидович потом более всего полагался только на себя…
Летом 1991 года ему поручили устранить рыжего Лёню, которого все знали как Протасевича, а он знал его ещё и под другой фамилией.
Подоплёки не объяснили. Но он догадывался: Лёня участвовал в убийстве генерального директора очень крупного оборонного завода на Урале, перед тем освобождённого с работы. Тот тоже был академиком, лауреатом Ленинской премии. И полез в политику, проявляя слишком большую смелость. Однако устранение было исполнено ненадлежаще. Торчали опасные улики. Нашлись влиятельные сторонники академика, и задымило, так что следовало поскорее затоптать окурок.
Посредник принёс деньги и сказал: «Кому пойдут деньги, нас не колышет. В день пышных похорон получишь ещё столько же».
Денег хватало, чтобы нанять профессионального киллера. И даже не впритык, потому что цены на жизнь тогда резко упали. Он, Борух Давидович, не то что пожадничал, но засомневался в надёжности всех этих малохольных придурков из «бывших» — «афганцев», кэгэбистов и эмвэдэшников, полагавших, что наступил уже конец света, и готовых стрелять или стреляться. А потом — не хотелось рисковать собственной шкурой: мокрое дело — всегда самое липкое.
Надёжных исполнителей не попадалось, а с дерьмом связываться — зачем? Да и такие деньги на асфальте не валялись.
Он всё продумал. Лёня был его старым приятелем и встретиться с ним в любое время не составляло труда.
Это был циник, готовый на всё ради хорошего приварка. К счастью, он уже не занимал видного, как прежде, положения в местном кагале, допустив какую-то непростительную халатность, возбудившую гнев старших распорядителей.
Перед тем, как разработать план, Борух Давидович внимательно изучил быт Лёни. Дважды был у него в гостях, установив, что живёт он одиноко: не выдержав жадности и половой неразборчивости Лёни, ушла русская жена. Свою престарелую мать, разбитую параличом, Лёня воткнул в один из престижных домов для престарелых, выбив для неё липовую архивную справку о том, что в 1929–1937 гг. она работала делопроизводителем в Московском горкоме партии и была репрессирована, хотя на самом деле в эти годы она отбывала срок в колонии за хищения в промторге города Липецка.
К Лёне по нечётным дням наведывались две замужние дамы, которым он платил по семь долларов за визит: в понедельник молодая, в пятницу — пожилая, театральная певица, с мужем которой Борух Давидович был в приятельских отношениях.
Когда всё было приготовлено, Борух Давидович позвонил Лёне. Это было в десять вечера в пятницу.
— У меня массажистка.
Это и было нужно.
— Лёня, — сказал Борух Давидович проникновенно, он считал себя неплохим артистом. — Гони её и давай займёмся делом. Завтра утром у меня встреча, по результатам которой мы через два дня можем резко повысить свой финансовый статус. Нужны твои мозги.
— Через сколько будешь? — спросил Лёня, помолчав. — Кажется, я весь вытек, хоть подвязывай корень женьшеня.
— Тем более, тебе необходимо переключиться. Через полчаса, идёт?..
Через десять минут он уже наблюдал за дверью Лёниной квартиры. Тот жил на пятом, Борух притаился на лестнице, ведущей на шестой этаж.
Наконец, послышались звуки отпираемых замков. Вышла помятая мадам Стеценко, толстозадая, неуклюжая, как выстарившаяся сука.
Борух последовал в некотором отдалении за ней, уже зная её маршрут. У входа в метро забежал навстречу и сделал её снимок:
Камера со вспышкой ошеломила её, но ещё больше — слова Боруха:
— Мадам, я выполняю роль частного детектива. Мой заказчик Стеценко, ваш рогоносный супруг, за эту фотографию и известие о вашем передвижении из квартиры № 17 заплатит мне сто двадцать долларов…
Борух знал, что главное — ошеломить и втянуть в разговор эту высокомерную бабу, слабую, но потрясающе тщеславную певичку. В фас она была недурна — огромная грудь, придававшая её фигуре что-то от попугая, вероятно, смотрелась совершенно иначе в иных обстоятельствах. Да и губы соблазняли — огромные, чувственным пучком — прямо-таки срамные губы…
— Я даю сто тгидцать, только отвяжись, — густым басом сказала она, сверкая глазами. — Ну, сто согок, товагищ!..
— Мадам, я не детектив, я по совместительству.
— Сто согок, кгасавчик, — повторила она просительно. — Больше у меня не отнимешь… Зачем лишние семейные скандалы? Из-за ничтожных шалостей скучающих личностей?..
Борух Давидович знал, что жадность её беспредельна.
— Бэла Матвеевна, вы видите, что я порядочный, интеллигентный человек. Нас никто сейчас не слушает… Я прощу долг, если вы согласитесь выпить у меня дома чашечку настоящего бразильского кофе… Кстати, эта камера из вашего дома. И на днях я отнесу её.
Эпоха, естественно, настораживала. Но трёп её успокоил.
— Кто Вы такой?
Борух Давидович отрекомендовался, как если бы от его ответа зависело присуждение Нобелевской премии, добавив, что дважды имел счастье слушать пение Бэлы Матвеевны.
— И как? — спросила она уже по-свойски.
— Я влюблён в Вас. Непостижимо. Навечно.
— Я спрашиваю, когда кофе?
Борух Давидович почуял удачу — его несло.
— Давайте прямо сегодня, — предложил он, зная, что её рогоносец уехал на съёмки в Омск. Вот мой адрес. Дайте мне час на то, чтобы встреча была достойной. — Он хотел ещё сказать, что нужно всё-таки как-то обмыться после одного мужика, чтобы лечь с другим: в том, что он пересчитает её груди, как купюры, он уже не сомневался.
— Да, мне нужно заехать домой, — растерянно сказала она, — уладить кое-какие факты. Перед выездом я позвоню.
Они расстались, Борух Давидович схватил первое подвернувшееся такси и вновь подъехал к дому Леонида. Тот ожидал и грустил.
— Как всегда, опаздываешь.
— Взял тут, в ночном магазине, бутылку прекрасного белого вина.
— А я хочу водки.
— Импотентам водка противопоказана.
— Да, у меня сегодня не получилось, — пожаловался Лёня. — В самый неподходящий момент она испортила воздух. Саданула, как из крупповской пушки. Запах из кишки плюс дешёвый советский аромат — я обалдел и скрючился… Так что за бизнес наклёвывается?
Борух Давидович выставил на стол бутылку белого венгерского вина.
— Облснаб в порядке эксперимента, ты можешь только гадать, кто это протолкнул и кто курирует, получил право на изъятие сверхнормативных излишков на всех предприятиях. Формируются группы контроля с чрезвычайными правами. Инспекция — записка — решение. Завтра в восемь тридцать я должен назвать фамилии руководителей двух основных групп. Лучше тебя никто не пишет заключения по объектам.
— Уж это да, — довольно засмеявшись, сказал Лёня, открыл вино и разлил его по бокалам, которые перед тем протёр пальцами, поплевав на них. — Я, действительно, писал и пишу заключения, даже не знакомясь с объектом. Главное: умело использовать советский жаргон, и уже не возразит ни одна инстанция: четыре-пять научных термина, в которых ни бум-бум эти лопухи, «интересы партии» и «учёт текущего момента», и все подписи садятся на документ, как мухи на говно.
— А зажевать у тебя чего-нибудь найдётся? — спросил Борух Давидович.
— А это — что? — Лёня указал на початый белый батон, масло, открытую банку красной икры.
— Мне бы яблочка или помидорки.
— Ни того, ни другого. Всё проглотил писсуар, что был перед тобой.
Борух Давидович похолодел: план не должен был сорваться.
— Ну, сладенького чего-нибудь.
— Кажется, есть конфеты…
Лёня вышел, переваливаясь в широких пижамных брюках, а Борух Давидович вкинул ему в бокал приготовленную таблетку, которая тотчас растворилась, испустив пару пузырьков. Таблетка стоила огромных денег, инструкция сообщала, что её можно разделить пополам, но он не захотел рисковать.
Лёня принёс пару немытых яблок с гнильцой и несколько шоколадных конфет.
— Каков механизм? — спросил он, подняв свой бокал и рассматривая вино.
— Главное — быстрота, — затараторил Борух Давидович, по-свойски подмигивая, но всё же беспокоясь за исход операции. — Напор, чтобы вызвать полную ошеломлённость. Там наши всё уже расписали. Треть берёт начальство, треть берём мы, треть оставляем руководству предприятия. Есть две внешнеторговые конторы из Прибалтики, которые сразу всё оприходуют на реализацию. Предоплата — в зелёных.
— А властям какая особая выгода?
— Властям нужна, помимо всего прочего, своя порция политической демагогии. Мы устанавливаем излишки, ты делаешь документ о том, что их не существует, или обозначаешь пару процентов. Излишек уходит, мы делим прибыль.
— Сколько это может означать? Без балды?
— Тысяч по сорок. Минимум. Может, и по сотне. Как пойдёт. Эксперимент ограничен тридцатью сутками. А потом — концы в воду.
— Нормально, — кивнул Лёня, — можешь столбить участок. Выпьем за успех!
— Правда, меня несколько смущает простота схемы.
— А ты не смущайся, — Лёня, приободрившись, принялся намазывать себе бутерброд. — Настоящий бизнес — когда видишь и сразу берёшь. Раскрываешь другим кошёлку и кладёшь в свою авоську. — Он потёр руки. — Не люблю, когда баба пердит, как бегемот в болоте. У меня не импотенция, у меня ужас перед тем, что падает последняя культура случки — никакого ритуала.
Он вздохнул, покрутил шеей, пожевал бутерброд, взял отравленное вино и выпил залпом, как водку.
Жить ему теперь оставалось 10–12 минут. Но Боруху Давидовичу не хотелось видеть его конвульсий и смерти. Это могло повлиять на его впечатлительность.
— Где тут у тебя туалет?
Направился в туалет и по пути рванул из гнезда шнур телефона. Теперь были бы опасны любые разговоры Лёни, они могли послужить уликой.
Когда Борух Давидович вернулся, бокалы были снова наполнены. Мелькнула мысль, что и Лёня мог подсыпать ему какой-либо химии.
Борух Давидович пить не стал, принялся чистить яблоко, тщательно обрезая гнилые места. А Лёня выпил своё вино и фальшиво затянул:
— Возьмём винтовки новые, на штык флажки
И с песнею в стрелковые пойдём кружки!..
— Вот предел, выше которого не должна подниматься вся эта шушера. Пока мы не позволим крутить себе бейца, так и будет… Меня беспокоят антисемиты. Главные антисемиты, Боря, на Западе. Они сегодня молчат. Но они нас ненавидят люто. Некоторые евреи начинают сомневаться: зачем полностью закапывать Советы? Что, мы плохо жили? Страдали запорами?.. Всю свою нынешнюю силу мы нарастили при Советах.
— Да, Лёня, — будто бы задумчиво сказал Борух Давидович, — мы их создали, и они неплохо послужили нам. Теперь, ты прав, слишком большие перемены опасны. У них своя логика… Как было хорошо: и там, за кордоном, свои, и тут свои. Все вертят головами, и мы вертим — и выжили, и заняли теперь такую высоту, с которой нас не столкнуть.
— То ли ещё будет, — сказал Лёня, — когда мы начнём всё приватизировать, как в ГДР. Мы будем продавать за копейки золотые рудники и серебряные заводы своим людям, которые выступят как американские, английские и прочие западные инвесторы. Но для этого мы обязаны поскорее и полностью овладеть всеми учреждениями, которые причастны к приватизации, процедурам банкротства и так далее. Мы должны создать свой слой очень богатых людей, баснословно богатых!..
Он вдруг упал головой на руки.
— Что-то поплохело… Подозреваю, что у меня рачок. Временами, знаешь, скребёт всё тело, внутренности — как в огне… Позвони в «скорую»…
Это в планы Боруха Давидовича не входило. Он пошёл звонить, поднимал трубку, крутил диск, кричал «аллё», повторив процедуру несколько раз.
— Что-то не работает телефон, какая-то неисправность. Я выйду к соседям, позвоню от них!
Лёня буркнул что-то, не поднимая головы. Он уже агонизировал, это было видно.
Дело было сделано. Теперь предстояло тихо, не всплывая, дожидаться заслуженного гонорара.
Борух Давидович взял свой плащ и вышел, защёлкнув дверь на замок.
На улице он остановил такси и сразу же поехал домой. Не успел войти, как зазвонил телефон.
— Это Бэла, — раздалось в трубке. Густой, как бы напомаженный голос. — Я выезжаю. Встгетьте у подъезда, не люблю шмонаться по незнакомым лестницам.
Через полчаса она была уже в квартире Боруха Давидовича. Едва она вошла, оба, не сговариваясь, слились в долгом поцелуе.
— Ой, — сказала она, — эти нервы. Всё натянулось, как бельевая верёвка!..
Она была отвратительна с точки зрения эстетики: кургузая — с отвислым животом и длинными батонами грудей, выпростанных из чёрной сеточки иностранного лифа. Но как раз это и устраивало Боруха Давидовича. Он чувствовал усталость и хотел повозиться с неповоротливой толстушкой, отвлечься, отпраздновать свою победу…
— Мы договогились, что Вы больше не будете меня шантажиговать Лёней, — сказала она и, охнув, вошла в спальню, как в холодную воду…
«Боже, как всё примитивно, — подумал Борух Давидович, когда певичка ушла, и он открыл форточки, чтобы выветрился её запах. Он ненавидел особенно её гнилой рот, которым она, «играя», кусала ему подбородок, и тяжёлые руки, которые душили его шею. Разве это жизнь? Это та же мерзость, которой занимались человекообразные миллионы лет тому назад. Только после случки они грызли не арахис в шоколаде, а кости очередного больного старика, которого убивали и жарили на ужин по приказу вожака стаи…»
Он, Борух Давидович, уже тогда хорошо знал, что евреям без полёта духа никак не выжить: бытовой Освенцим их погубит, прежде чем они сделаются гегемонами западного мира, они просто задохнутся в цинизме и жадности, перетравят друг друга, едва на земле не останется народа, который нужно будет разлагать, уничтожая его традиции и организационную инфраструктуру. Идея нового Интернационала исчерпает себя, как обычно, задолго до воплощения. А ослабевшие русские уже не поднимут им духовный тонус, некому будет подражать, нечего будет перелицовывать, не у кого будет брать материал для плагиата…
По сценарию он должен был зафиксировать своё алиби: позвонил знакомому шизику, считавшему себя крупным драматургом.
— Толя, — сказал ему в трубку, — я тоскую!
— После случки и пьянки бывает… Бывает и после премьеры, когда хлопают только те, которых ты пригласил на банкет.
— Нет, Толя, — возразил Борух Давидович. — Тоска моя имеет более глубокое происхождение… Ответь, кто нас понимает и поддерживает?..
— Ну, Соединённые Штаты Америки.
— Дурачок, не Соединённые Штаты, это мы сами в Соединённых Штатах. Мы сами в Европе, мы сами в России!..
— Ну, и что? — перебил он. — Пусть все передохнут нам на здоровье!
— Толя, я думал, ты пророк, а ты говнюк, как всякий бывший доцент марксизма-ленинизма: мы же подохнем тотчас вслед за ними!..
Повесив трубку, Борух Давидович попытался вызвать в памяти облик этого Толи, но — в памяти всплывали физиономии совсем других людей, особенно круглая рожа Бэлы Матвеевны, одновременно испуганная и наглая.
Она не знала, что Борух Давидович наблюдал за ней через глазок. Когда она вышла от него на лестничную клетку, то почему-то рукою отряхнула плащ и освободила от газов своё грузное тело, шпокнула так, что выглянул сосед напротив и, поправив очки, вежливо спросил: «Кто там?»
Но Бэла Матвеевна уже осторожно спускалась по лестнице и не ответила…
Всё это призраки и воспоминания, и накопленные в драках богатства. Иные достанутся дальним родственникам, иные — истлеют, вероятно, и никому не достанутся, потому что спрятаны в разных концах развалившегося государства, к ним уже так просто не подступиться…
Борух Давидович сожалел, что русские не оказали сопротивления: даже ГКЧП не поддержали… Хотя, впрочем, среди русских встречались экземпляры, которых было не пересилить: они всё видели насквозь, даже за пеленою времён, такие больнее всего терзали его сознание, усиливая страх, страх давно, видимо, с пелёнок, ворошился в нём…
Борух Давидович три года возился с придурком, который жил в полной нищете. Не зная, что его дядя оставил ему в Канаде восемьдесят миллионов долларов. Надо было втянуть счастливчика в родство, а затем освободиться от его услуг: простейшая шахматная партия.
Этот придурок, Феоктист Христофорович Берендеев, был помешан на живописи и воспринимал холст, как иной равнозначный мир. И на приманки не клевал. Даже когда напивался, а это случалось раз в году, в годовщину штурма какого-то городка в Восточной Пруссии, где он был командиром сорокопятки. Тогда он становился особенно неприступным. И никакие гамбиты не проходили.
— Что ты мне навязываешь свою Фиру? Мне не женский пол нужен, а спутница в судьбе… Ты говоришь: «и щей наварит, и веником по полу пройдётся»… Так это же чепуха! И с такой чепухой ты пристаёшь ко мне уже второй год?.. Забота моя — в другом. У вас, может, всё это просто: отожрал своё — и затих. А нам, русским людям, нужна дорога в небо… И чем тошнее, тем шире и чудесней нужна дорога… Что ты мне вешаешь на шею то свою сестру, то племянницу, мне они не нужны, потому что бесполезны в моём горе: день ото дня краски мои выцветают, а холст всё растёт и растёт. Он требует, чтобы я там не подсолнух изобразил, не твою небритую морду, не придуманного «небесного царя», а мысль живую, нравственную идею, которая движет всем на свете. И я предчувствую её, но как ухватить, пока ещё не догадываюсь…
От юркого, сухого Берендеева с воспалённым взором пророка, который так и помер, не узнав о громадном наследстве, воспоминания перекидываются на вторую жену Дину Марковну, которую он неоднократно сбывал с рук, как оборотня, а она всякий раз возвращалась…
— Раз-два-три — закрыли халепу! — командует Дина Марковна с дивана. Это в ответ на жалобы Боруха, которого тогда мучила астма.
— Послушай, — продолжает он, переживая, что его могут арестовать и посадить, совершенно не считаясь с тем, что он любит дыни, курицу с коньяком и крымский пляж в сентябре. — Фурцман — скотина, он может заложить всех, чтобы только уберечь собственную шкуру!
— Не строй из себя невинность с большим стажем! — противно морщится Дина Марковна. — Ты воруешь при мне уже двенадцать лет. И каждый раз дрожишь, как цуцык при первой случке. Мне это уже действует на нервы.
— Тебе действует на нервы? Но ты отлично перевариваешь все продукты, что я таскаю сумками и авоськами! Жрёшь, не давясь, чёрную икру и смокчешь женьшеневую настойку! Ты болонке бросаешь «советскую» и «брауншвейгскую» колбасу!.. Мне это не действует на нервы всякий раз, как я иду через проходную! А тебе действует!.. Я, может, каждый раз умираю, у меня уже нервы не в порядке!
— Пупсик, ты уже израсходовался во всех своих узлах, это знает каждый, кто видит твою касторовую морду, — продолжает Дина Марковна, глядя в потолок. — А между прочим, твой компаньон Цесарийский даже не знает, что такое импотенция. — Она произносит последнее слово в растяжку, на иностранный манер выговаривая «о» и «м».
— Да он ходячий поц! — с надрывом кричит Борух, и бледное лицо его багровеет. — Что, он щупал тебя?
— Нет, ещё не щупал. Он интеллигентный человек, и я уважаю его.
— Не понимаю, — говорит ошеломлённый, униженный Борух, стоя посреди комнаты с дипломатом, в котором сыр пошехонский, три банки португальских сардин и шесть плиток лучшего московского шоколада. — Зачем я кормлю такую старую суку в японском халате за триста «рэ»?..
— Вот и вся твоя культура, — комментирует Дина Марковна. — А от тебя пахнет псиной даже после бани. Но на людях ты целуешь мне ручку и суёшь цветы. Неужели таковы уже все еврейские семьи?
— Нет, не все, — через одну, — говорит Борух и крутит шеей: жалеет, что не может дать полной воли своему гневу. — Когда мы установим мировое господство, у меня будет десять наложниц и десять рабов.
— Тихий ужас, — качает головой Дина Марковна. — Все наложницы будут мастурбантками… А рабов у тебя сегодня гораздо больше. Весь коопторг работает на одного такого жулика.
— Боже, как я одинок, — стонет Борух. — Эти жестокие, прокурорские слова говорит самка, от которой не рождаются даже крысы!..
От жены, которую он возненавидел так, что подарил ей квартиру, правда, однокомнатную, чтобы только отвязаться, мысль Боруха Давидовича перебирается на абстракции.
Перед ним в разных положениях, как рекламная бутылка на телеэкране, плавает догадка о том, что евреям будет становиться на земле всё труднее и невыносимей, по мере того, как их вожди будут концентрировать у себя мировую власть. «Да-да, — думает он, сознавая бесполезность своей догадки. — Ни один еврей не должен предъявлять счета русским людям, ибо евреи спасены русскими — и не единожды. Мы сами придумали про антисемитов, никакой ненависти у русских нет, взять того же Шульгина!.. Мы слишком много хотим!..»
Он практически не читал русской патриотической литературы, привычно зачисляя её в разряд антисемитской. Всякий раз, когда он приступал к чтению, он чувствовал, что ему что-то давит на мозги; какие-то внушённые шаблоны. Он понимал только то, что люди, пытаясь разобраться в причинах своего ужасного положения, городят сущую чепуху. Да, многие факты верны, он знает ещё более вопиющие, но большинство фактов террора по отношению к русским претензиям на самостоятельность этим авторам, конечно, не известны. Все русские и те, кто невнятно выражает их точку зрения, дезорганизованы и запуганы, поэтому есть травля, но нет признания травли, есть преследование за инакомыслие, но нет желания обсудить всё так, чтобы не наступать друг другу на сердце…
Его шеф, который участвовал в закрытой зарубежной программе «Полёт мухи», однажды предложил ему, Боруху, прочесть книгу, с которой была удалена обложка и все другие атрибуты и взамен проставлен тушью жирный номер.
Книга повергла его в дрожь и уныние. Она раскрывала как раз ту тайну, которую евреи тщательно прятали от самих себя.
«Боже, — думал он, — всем нам каюк, потому что каждый из нас теперь знает, что мы идём не к мировой власти, а к общей погибели».
Стараясь разузнать что-либо об авторе, убедительно доказавшем, что достижение гегемонии немыслимо без создания тайного мирового НКВД с годовым бюджетом в 100–150 млрд. долларов, он проявил интерес к проекту «Полёт мухи», но шеф, глянув на него с подозрением, сказал:
— Отвяжись и не оголяй зад, пока тебе не подставили горшок! Я сам знаю только то, что тысячи специально нанятых людей по всему миру читают весь бред, который печатается, и по специальному классификатору разносят добытую информацию. Там, чтобы ты успокоился, есть разделы: «новые методы шпионажа», «новые социальные проекты», «новые технические идеи», «новые способы ведения войн», «новые политические идеи», «новые способы зомбирования», «новые теории о вселенной», «новые способы эффективной эксплуатации духовной энергии»… Всё — новое. В новом мире победит только тот, кто сумеет извлечь прибыль из всего этого хлама… Боюсь, что мы не сумеем.
— Почему?
— Потому что оголяем зад и тужимся, хотя под задницей нет горшка. Мы слишком самонадеянны или, как считает автор, которого ты мне возвратил, больны… Да, с генетикой у нас полная труба. «Разумный хищник всегда болен» — помнишь эти слова?..
А дальше — снилось или мерещилось. Да так явственно, будто совершалось наяву. Но мышление было совершенно уже не его, это было мышление автора книги, на которой был проставлен жирный номер.
Вот, будто он, Борух, сидел в кухне и доедал свой завтрак. Из комнаты доносились звуки включённого телевизора, шумели трубы, дергался холодильник, по потолку топал ногами, маршируя, шестилетний сын его телохранителя. И вдруг все звуки вырубились. Стало тихо-тихо, как в чулане, где в старых чемоданах прели накопленные за жизнь бебахи и резали шерсть своими швальцами молевые червячки.
— Спрашивай, — послышался тонкий, булькающий голос. — К каждому из живущих когда-либо является высшее знание, созданное случайным вихрем событий…
— Кто ты?
— По-твоему, Бог. По-моему, сгустившаяся энергия тоски.
— Ты Яхве, еврейский бог?
— Словесный понос недоумка: разве Бог может иметь имя? Разве он может принадлежать к тому или иному племени? Прикинь, сколько эпох, сколько стран, сколько народов пытаются свести божественную жизнь бесконечности к жалким условностям своих обстоятельств! Неужели ты полагаешь, что этот примитив ещё способен парализовать мозги?
— Значит, ты не Бог? Значит, Бога нет?
— Кто тебе это сказал, шалопай? Каждый человек живёт с Богом. Едва только человек сталкивается со своей слабостью и невозможностью одолеть обстоятельства, сразу же появляется Бог как мысленное отражение иной возможности. И какая разница, как его называют? Те же, упрямые козлы, возомнившие о себе, что им все доступно, гибнут тем быстрее, чем менее верят в высшую справедливость… Зачем Богу появляться среди людей, составляющих ничтожную часть вселенной, далеко, кстати, не лучшую? Люди пугают друг друга, потому что не верят друг другу. Не пора ли преодолеть этот дикий предрассудок?
— Так что же Яхве? Я всегда считал, что меня ведёт Яхве.
— Тебя вела и ведёт собственная трусость. Трусость и слабость плодят фантазии. Смелый и сильный видят реальное будущее…
— В природе есть закономерности. Мы можем назвать их Богом и, выявляя, заставить служить нам.
— Боги, которые служат людям, — это вообще ахинея, придуманная волосатой обезьяной ещё до каменного века, что же её повторять?.. Закономерности, конечно, существуют. Благодаря им существует и бесконечность. Уберите закономерности, и бесконечность станет абсурдной.
— Но что такое бесконечность?
— Тебе этого не объяснить. В твоём словаре нет ни подходящих слов, ни достаточных понятий. Конечному не постичь бесконечного. Как тьме не постичь света… Считай, что на эту тему лучше всего сказала русская матрёшка. Бесконечность построена именно на этом принципе…
— Но всё же я убеждён: мы — избранный народ.
— Кем вы избраны?
— Не важно кем, важно, что мы этому верим и это нас поддерживает.
— Тем хуже. Потому что уже завтра никто не станет верить ничему еврейскому. Анонимный народ растворяется в анонимности, когда его мечты отражают трусость и страх. Это вечный закон.
— А я? — в отчаянии спросил Борух. — Как сложится моя личная судьба? Чего мне нужно остерегаться и к чему тянуться?
— Поздно остерегаться и поздно тянуться: ты всю жизнь прислуживал своей требухе и своему тщеславию, после тебя не останется даже твоих денег, которые ты завещал наследникам. Деньги растворятся бесследно и пойдут на пользу тех, кого ты ныне считаешь своими врагами… Надо было жить для совершенства, ты же не представляешь себе, что это такое…
— Но божественная сила должна быть чувствительна к покаянию! Что, если я покаюсь?..
Ответа не последовало. Вихри какой-то силы, вызывавшей прозрение, ушли, и Борух вновь остался один.
Что-то давило на его рецепторы одновременно, он чувствовал заторможенность, угнетённость духа и бесконечную досаду…
Говорит Сталин
Пусть простят мне потомки, которые используют эти записи, за их отрывочный и нелогичный порою характер.
По правде говоря, слова великого человека нельзя законспектировать: мысль гения горит и движется, как лава со склона горы. Она живёт в извержении важнейших истин эпохи, и все мы, кто это созерцает, кто внемлет гулу и рокоту вулкана, парализованы величием гения, могущественного, как и вулкан, и непредсказуемого и губительного, как огонь, скрытый в недрах земли.
Когда говорил Иосиф Виссарионович, я только слушал, не сомневаясь в правдивости каждого его слова, поскольку он как бы воочию видел одновременно всю эпоху и всё грядущее страны — дар как итог многолетнего служения Высшим Идеалам.
По условиям встреч я не имел права записывать слова Сталина на бумагу. Но я будто предчувствовал, что когда-либо мне придётся воспроизвести его тихий, спокойный голос и его подлинные слова: бессонными ночами я не раз пытался восстановить их.
Увы, мне это никогда не удавалось: с какого конца рисовать космос? с какой звезды считать всё скоплением звёзд?
Я делал свои записи — с перерывами — после 8 декабря 1991 года, когда предательство советской верхушки окончательно разрушило постройку гения, когда его храм был взорван, как он и предвидел…
«Никто не знает, как я, пока ещё способный ежедневно обозревать все историческое пространство планеты и видеть козни вроде бы совершенно скрытых от наблюдения групп, что это чрезвычайно важно — поскорее сменить поколения, определяющие движение нашего государственного корабля.
Есть неодолимый закон, по которому всякое событие должно от начала до конца твориться только тем человеческим материалом, который разжёг костёр и сделался сам дровами и углём эпохи. Если происходит задержка, натопленная изба превращается в смертельный склеп, где умирают молодожёны… Так же гибнет и будущее народов и наций. Нельзя закрывать «вьюшку», пока не выгорит топливо, но нельзя оставлять её открытой, когда жар на исходе…
Дореволюционное поколение тотчас закончило свой драматический путь, едва началась война с Германией. Оно стало помехой великому делу. Милые люди видели всё прежними глазами, иначе говоря, не видели ничего, а гениев меж ними не случилось, если они и были, их погубили в годы смуты. Я не тотчас осознал это. Когда же понял, вразумлённый более мудрыми, чем я, всё встало на свои места, — не Будённым и Ворошиловым, а новым, молодым генералам пришлось взять на себя ответственность, чтобы проложить путь победе. И теперь, когда горячая война закончена, но развязана ещё более опасная, коварная и гибельная «холодная война», нацеленная на захват и истязание наших душ, нашего сознания, нужны совершенно новые воины. Мы совершим роковую ошибку, если теперь со всею тщательностью не подготовим и не приведём к власти через 10–15 лет новое поколение убеждённых в правоте нашего исторического пути и нашего национального выбора граждан. Неизбежна трагедия, если поколение красноармейцев и партизан пересидит свои сроки, а Сталина уже не будет, чтобы подсказать верное решение…»
И ещё говорил Сталин: «Смешит одномерность восприятия событий, которую демонстрируют мои современники. Я давно знал, что марксизм послужит для нас только непрочной лестницей или, может быть, лазейкой. Отдавший марксизму многие годы жизни, я использовал его как оружие эпохи, которым владели мои враги. Я научился владеть им гораздо искуснее. Помню, я чуть даже не рассмеялся, когда мне предложили ритуально поучаствовать в несении гроба Ленина… Всё это далеко от зова моей души…
Истина существует всегда, независимо от того, знаем мы её или нет. Никакие теории не создают истины. Истина существует без них, она воспринимается или не воспринимается. И это зависит не столько от нашего ума и опыта, сколько от способности в нужный момент обнаруживать максимальное число связей и зависимостей каждого исследуемого предмета… Неясно, да? Мне и самому не вполне ясно. Но я достигаю результата. Я слышу музыку мира, которую не может растолковать ни единый профессор музыки… Не техника решит, хотя я воевал за технику. Не армии, не атомная бомба, даже не философия и не пропаганда — решит то, чей народ окажется более нравственным, более стойким в своих предпочтениях и более усердным в необходимых трудах…
Нигилизм будет возникать вновь и вновь — в разных формах, чтобы соблазнить народы и толкнуть их к тому, чтобы собственными руками погубить свои судьбы. Когда будущее рисуют лучше настоящего, знайте, это действует шайка негодяев. Они всегда будут выискивать в мире смертельных врагов, чтобы на энергии столкновения строить своё благополучие: вчера они называли изуверами, черносотенцами и фашистами сторонников царя, сегодня называют честных советских граждан «сталинистами» и «врагами демократии», завтра нас, победителей фашизма, объявят «фашистами»… Заговорщики ввергают мир в террор противостояний. Где нет равенства народов, там успешно действует шайка этих негодяев, не имеющих национальных корней, озабоченных только мировыми деньгами и мировой властью. И чем громче они будут кричать о том, что «альтернативы нет» и «иного не дано», тем упорнее народы должны сопротивляться этой неслышной агрессии энцефалитных клещей.
Придёт время, и негодяи отнесут все события истории к произвольным и малоинтересным, «математически докажут» равнозначность героизма и предательства. Это станет философией для новых рабов, которых заставят поддерживать незримую диктатуру новой мировой рабовладельческой системы…
Я не верю в оккультистскую белиберду, придуманную от бесплодности ума и нежелания работать. Тем не менее, я не упускаю случая послушать самых махровых проходимцев. Однажды я принял человека, утверждавшего, что он видел вещий сон, будто через 50 лет после смерти Сталина Советского государства уже не будет.
Я понял, что он подослан, и велел его допросить. Выяснилось, что его подготовили с целью смутить мой разум.
Действительно, три ночи я не спал, старался нащупать корни опасности. В том, что они реальны, у меня не было сомнений.
С членами Политбюро на эти темы я давно уже не говорю: это куры, которые, в отличие от настоящих, не несут сегодня никаких яиц. Но это — тема, которой сейчас касаться неуместно. Как благородный человек, я обязан ценить заслуги ветеранов, чтобы пробуждать к действию всё новых героев…
Три ночи, повторяю, я не спал. Но потом убедил себя в том, что только облегчу задачу врагов, если опущу руки.
Сегодня меня ловко и сознательно столкнули с еврейским национализмом. Я виноват, оказывается, в том, что раскрыл чудовищный заговор, когда в кремлёвской больнице не лечили, а убивали моих сторонников… Бунд в СССР — это нечто большее, чем сборище фанатиков… Они опираются на всемирные силы, которым нужна нефть нашей страны, уголь и её минералы, нужно золото и всё остальное… Бунд в СССР — это заговор непримиримых. Меня, конечно, убьют. Остаётся только гадать, когда это произойдёт и кто выступит непосредственным исполнителем преступных планов, имеющих целью сохранение униженного положения советского народа.
В любом случае, скоро завершатся мои земные дни. Какое-то время я останусь идолом, затем — козлом отпущения, которого будут использовать в своих интересах все самые гнусные политические силы. Но потом, и это неизбежно, я сделаюсь образом народа, которым управлял, и этот образ будет ещё многие века управлять народами. Вот в чём суть истинного исторического подвижничества.
Жрать, пить, обижать слабых и пользоваться беззащитными — линия животного. Питать светлой энергией духа, возбуждая героическое в гражданах, — вот божественный долг человека. Правитель, который не мечтает о том, чтобы возбуждать героическое — не правитель, а шулер и жулик…
Мы не должны доверять схемам, мы обязаны идти от жизни, устанавливая и обобщая факты, и на них, а не на усвоенных цитатах строить свою стратегию. Вот почему мы не можем допустить исчерпания деревни: только деревня, где человек приобщается к Природе, питает прогресс. Всё великое рождается не в столицах, а в стороне от них. Исчерпается деревня, мы задохнёмся в дерьме полного разложения, ибо враги не спят…
Посмотрите на выходцев из деревни в первом поколении — они напористы и целеустремлённы, они с успехом противостоят городскому снобизму. Но уже во втором поколении становятся поклонниками искусственной городской культуры, а в третьем — и вовсе скептиками. Вырождаются все социальные типы, подверженные атакам нигилизма и космополитизма. Когда разовьётся радио и телевещание изображений и звука, мы обязаны будем построить совершенно новую деревню и уберечь её от тлетворного духа разложения. Мы построим такую деревню, из которой не нужно будет убегать в город, она должна стать богаче и культурнее города. Но, видимо, прежде того мы подведём черту под нашим «кумунизмом» — от слова кум, приятель, начальник, в который уже сегодня перерождается коммунизм. И утвердим новый коммунизм — торжество гармоничной Природы в совершенном человеке.
Будут ли сложности на этом пути? Конечно. В руководство придёт мелкота, которая будет тормозить наши планы. Вот в чём трагедия. Сталин даст ускорение на 30 лет, а на больше — не сможет: есть законы поколений, есть происки заинтересованных.
Но Сталин ещё не ушёл. И не осуществил главного, что удержит страну от распада при любом повороте событий, что придаст ей силы, которых сегодня нет ни в одном государстве мира. Только бы успеть, только бы завершить замысел, о нём сегодня ещё не знают мои лукавые сотоварищи по партии. Им и незачем знать об этом сегодня, потому что это вызовет ненужные споры: осуществление замысла будет означать и полную перемену в положении партии, при которой отпадёт необходимость в трусливых, но хитрых и изворотливых «сторонниках»…
Помню, я поражённо молчал, услыхав это. Я не смел потревожить течение мысли вождя, которым восхищались сотни миллионов людей во всех уголках планеты и который, оказывается, оставался одиноким в своих самых высоких и дерзновенных помыслах.
Я боялся спугнуть святой миг вольного или невольного откровения, отворявшего мне тайну и самого вождя, и всей нашей малопонятной жизни, сокрушаемой бесконечными проблемами.
Сталин — этого не забыть — легко прошёлся взад-вперёд по кабинету, потирая крупные руки и тихо покашливая так, что я подумал, будто у него першит в горле.
Наконец, он повернулся ко мне. Глаза его сверкнули светом вдохновения и решимости: «Многие думают: ну, что там Сталин? Вождь, головою упирающийся в Олимп, тысячи людей готовят ему мудрые предложения, которые он сортирует с помощью мудрых помощников… Чепуха, чепуха… Сталин получает, конечно, ежедневно кипы бумаг, и среди них есть искренние и честные соображения о настоящем и будущем страны… Но там не найти ничего толкового и подлинного… Сталин должен сам решать, из какого источника пить, чтобы народ не чувствовал жажды»…
Подняв руку и коротко помахивая ею в такт ритмическим ударениям, он вдруг прочитал стихи, которые я запомнил дословно, не зная, кому они принадлежали, были это стихи Сталина или он кого-то цитировал:
Ничего в ничего не уходит. То, что сделано в тяжких трудах, Своё новое дело находит В непонятных нам, людям, делах. О Природа, великая правда, Сокрушитель преступных идей! Наша мать, наш отец и отрада В безотрадности мелких затей!.. Всех из нас караулит неправда — Путы, цепи и наглая ложь. Так что, может быть, нашего брата, Исчерпавшись, и ты не спасёшь…«Поэт, мне кажется, — это стихийный выразитель земной, природной, естественной правды. А доктринёр, рифмоплёт, который, кроме суетных желаний и зла на современников, ничего за душой не держит, какой же это поэт? Поэт — прирождённый учитель, прорицатель. Он правитель в мире духа — такой же, как я, — в политике. А прочие — выспренные болтуны, самоуверенные жулики пера. Их полно, а настоящих поэтов уже почти и не слыхать. Я слежу, я знаю… Это страшно, ибо народ жив, пока в нём звучат голоса народной правды, голоса бессмертной мудрости. Наша нынешняя система убивает их. Стало быть, она убивает и нас. Не переменим систему — погибнем, растеряем бесследно всё то, что вырвали из кровавых лап прекрасной и нужной, но зверской и вовсе не нашей революции…
Другой жизни у меня нет, кроме жизни страны, которой я служу. Всем известно, что меня не интересуют ни богатство, ни личная слава, ни увеселения, меня заботит только мощь страны, её неуязвимость, которая позволит сделать жизнь каждого советского человека гораздо более осмысленной, счастливой, материально обеспеченной.
Установленная власть должна защищать себя. Но это трагедия, если власти приходится только тем и заниматься, что защищать себя. Эту вот трагедию и навязали Советскому Союзу политические проходимцы и в стране, и за рубежом.
Между тем задачи власти — созидательные. Но даже экономика имеет тут подчинённое значение, о чём и не подозревают бравые марксисты, а точнее — провокаторы. Главное — свободное развитие духовного потенциала, расширение нравственного пространства, которое компенсирует погрешности и ложь политических доктрин и установок. Говорю честно: мы не выжили бы без наследия Достоевского, Льва Толстого, Гоголя, Пушкина, без тех, кто смотрел дальше сохранения простой народной традиции, кто создавал новое пространство для духовного творчества.
Великий писатель — это всегда политический писатель. Чтобы заполучить его, нужно терпеть сотни единиц писательской мелочи, работая с ними, но, конечно, не в плане кагального давления, как было и есть у нас до сегодняшнего дня. Стричь всех под эту гребёнку, которая якобы необходима власти — не только позорное, но и пагубное дело, ибо подлинный гений, выделяемый народом, непременно видит дальше, чем наши недоучившиеся доктринёры.
Я представляю себе весь ужас положения действительно талантливых поэтов или прозаиков. С одной стороны — железобетон официальной доктрины, серость которого усилена безмозглостью партийного чиновника и замыслами тех, кто погоняет и чиновников. С другой стороны, расхолаживающая дребедень всех этих парикмахеров и конферансье, представляющих «граждан мира». С третьей стороны, давление религиозной кондовости и местечковой заскорузлости, прикрытой фразами о национальном искусстве.
Вот что мы обязаны видеть постоянно. Народ должен иметь возможность свободно выражать то, что он осознаёт. Причём, без русского языка он этого никогда не выразит. Русский язык должен дать простор всему национальному. Вот где наши бонзы могут наделать ошибок, которые приведут к взрыву, что сметёт и бонз, и всю нашу работу.
Наша духовность принадлежит всем в равной мере, и если где-то будут нарушены шлюзы, наш корабль остановится, заржавеет и потонет. Я вижу, что марксист-ленинец или марксист-сталинец нас не спасут, нас спасал и спасёт приверженец Пушкина и Льва Толстого. Вас это удивляет? Меня уже не удивляет.
Всего важнее — понять, что нам отведён удел рабов, ничего не знающих о пирамиде, для которой мы вырубаем в скалах многотонные блоки… Что вы способны сделать, если вам свёрстан план и определены все условия производства — количество сырья, энергии, поставщики, цены, зарплата?.. Ничего вы не способны сделать радикально, вы будете копаться в этих примитивно определённых обстоятельствах… Представьте себе, что почти такая же участь ожидает нас в стихии мирового хозяйства. Если страна не сама по-хозяйски определяет свою стратегию, она никогда не вылезет из пропасти бедности, отсталости и зависимости… «Короли королей» определяют для мира и общую стоимость труда, и цены на нефть, золото, металлы, станки и всё прочее, они же постоянно понижают цену нашей валюты, понижая наши шансы на существование… Управлять управляемым хозяйством — это заведомо обречь себя на жалкую роль лакея. СССР — пожалуй, единственная страна, которая может позволить себе независимое развитие. Это ценность, едва ли не более высокая, чем ценность нашей власти, что служит рабочему, трудовому человеку, но пока ещё служит не очень хорошо, а должна служить так, как это положено…
Если бы они знали о моих планах, сегодняшних намерениях, они растерзали бы меня на мелкие части, подкупили бы даже членов Политбюро, чтобы отстранить меня от власти, отравить, ослепить, лишить воли к жизни…
Народам всего более всегда угрожала и угрожает не нищета, не бесправие, даже не невежество и болезни, а невообразимая примитивность организации всей их жизни, их повседневного быта, прежде всего. Вот корень бедственного положения, нищеты и бесправия. Вот корень того, что на одного трудящегося слетаются и сползаются дюжины паразитов, которые сосут его кровь и силы.
Таково положение повсюду в мире, и если где-то оно чуть лучше в материальном плане, так это за счёт более несчастных, более задавленных судьбой.
Возьмите положение в нашей колхозной деревне, возьмите положение в городах, хотя бы в Москве. Повсюду неразбериха, повсюду бесправие и произвол. Родился, умер, пенсия, учеба, денежный перевод, посылка, судебная тяжба — сотни бумаг в добавление к тем бумагам, которые строчат на миллионах ежедневных собраний — партийных, комсомольских, производственных, профсоюзных, ДОСААФ и прочая. Ни единой живой мысли, никакого продвижения вперёд в организации дела. Показуха оборачивается всё большим безразличием и неверием в наши светлые идеалы. Я всё это вижу и всему этому в ближайшее время положу конец. Я начну дело, а вы, которым я доверяю, продолжите его. Оно само пойдёт в рост, как на дрожжах, но ему потребуются люди, что уже не впустят в созидательный процесс разрушителей, заговорщиков и негодяев, как это произошло при Октябрьском перевороте.
Всё, что имеется в стране, прежде всего, негативного, я получил в наследство. Я ничего не мог переменить сразу. Прежде всего, потому, что эта бесовская организация всё же позволяла с какой-то долей уверенности решать дела. В тюрьмах и лагерях сидело одномоментно чуть больше 3 миллионов человек, считай, почти 2 миллиона паразитов, разве их можно было прокормить в нищей стране, которая обязана была постоянно считаться с возможностью интервенции и надрывалась, создавая оборонительный щит? Не я, но ещё до меня, не спрашивая меня, заключённых «посадили на самообеспечение». И как только я занялся этим вопросом, я обнаружил, что три четверти материальных ценностей, которые создаёт армия заключённых, уходит на сторону, обогащая тех, кто и создавал эту негодяйскую систему, прежде всего моих политических противников. Я мог бы расстрелять, конечно, рискуя, и один, и второй, и третий состав начальников тюрем и лагерей, особенно лагерей, но я прекрасно знал, какую силу восстановил бы против себя, не решив ни единого вопроса. Ни единый из вновь назначенных начальников не обеспечил бы иной политики, потому что все уже закольцовано и система лагерей не может функционировать, не обогащая присосавшейся к ним банды. Как только я отменю эти лагери, законы лагерной жизни расползутся по ещё свободному сегодня обществу. Это вызовет роковые перемены. Переварим ли мы эту гниль, это большой вопрос…
То же самое — на предприятиях, то же — в министерствах. Жестокие меры парализуют воров и расхитителей, но шайки остаются, шайки, сколоченные по признакам куначеств, землячеств, национальностей и прочее. Они все действуют практически в подполье. У нас не хватит сил подавить их одновременно. А иначе всё бесполезно.
Бороться с нынешними процессами прежними методами — только пыль поднимать… Мы покроем всё государство сетью совершенно новой, совершенно добровольной, свободной организации, которая раздавит класс паразитов, отменит и профсоюзы, и партийные ячейки, и комсомольскую бюрократию, и даже суды и милицию. Но путь к этому долгий и непростой. Сталин, конечно, не может тут предугадать на столетия…
Нынешняя система не позволяет нам избежать развала при чрезвычайных обстоятельствах. Если мы даже будем видеть, что летим в пропасть, мы в течение четырёх-шести месяцев не сможем выработать единого мнения о спасительной процедуре, тогда как это должно решаться в течение часа… Вот цель моих предстоящих преобразований… Не волей Сталина и угрозой палки, а осознанной волей лучших граждан, смёткой каждого и пониманием наших общих интересов… Представляете высоту, на которую должна подняться практически каждая личность?
Только самоограничение освобождает. Разнузданность всегда сковывает силы.
Начнём мы с одного-двух предприятий нового типа. И в городе, и в деревне. Это будет некий новый совхоз или новая производственная и сбытовая община. На первых порах она получит самое передовое оборудование и достаточно средств, чтобы обеспечить производственный процесс на самом современном уровне, полностью решить жилищную, продовольственную, воспитательную и образовательную проблему. Уверен, самое эффективное вложение средств — в предприятия народной жизни. Это будет мой Колизей, который овладеет умами на многие тысячелетия.
Взгляните на историю. Разве не ясно, что человек в любом случае живёт одно мгновение? Так разве разумно подчинять все силы нашей божественной души обслуживанию похотей бренного, гниющего уже при жизни тела? Разве разумно измерять все только теми людьми, которые окружают нас? Нет ли наших любезных братьев и сестёр в далёких прошлых веках и не будет ли их в будущих тысячелетиях?
Уделить и им внимание ради высших потребностей и радостей души — разве не наш первейший долг?
Церковь давно уловила эту небесную потребность и стремится подчинить себе под видом служения богу. Но эта потребность не может ограничиться служением вымыслу, заблуждению, хотя бы и искреннему. Эта потребность выражает жажду бесконечного, которое выше всех богов. Говорю вам как священник, которому пришлось доучиваться среди бесов. Флавий Филострат, если вам известен такой греческий сочинитель, он жил на рубеже II и III веков, автор «Жизни Аполлония Тианского», в одном из своих писем обратился именно к этому феномену жизни человеческого духа, но он из гильдии опытных болтунов, навязывавших свою идеологическую гегемонию властителям и умевших наполнять свои кошельки за их счёт, сиречь за счёт угнетённой массы, свёл его к тождеству рождения и смерти. Всё, мол, это одна видимость, никто никогда не родится и не гибнет, просто вещи в процессе перемен становятся очевидны для наблюдения, а потом пропадают. Но феномен этот совсем иного рода: всякое существо жизнью своей участвует в приближении будущего, но не всякое из них служит установлению гармоничного во всех частях мира, что есть цель истории и смысл каждого из рождённых. Каждый из нас обязан соорудить свой Колизей. То есть, не только вырастить сына, построить дом и посадить дерево, но и возвести свой Колизей духа, создать нечто, венчающее наш индивидуальный гений.
В малых и тёмных людях этот небесный порыв ещё мощнее, его только нужно уметь высвободить. Нужна особая и дорогостоящая технология, как при создании атомной бомбы.
Представьте себе, Алексей Михайлович: выделяется некоторая территория; на ней устраивается община, где живут и работают только те люди, которых приняли в эту общину на особых условиях — это человек триста или четыреста. Мы устроим там завод или какой-либо цех завода, дадим все средства для сельскохозяйственного производства, построим жилой фонд, школу, больницу и так далее. Какую-то часть товарной массы заберёт государство, какую-то часть они продадут на колхозном и фондовом рынке, мы создадим и такой рынок, — с одной стороны, он будет компенсировать просчёты Госплана, с другой — пополнит запасы экспорта или государственного резерва… Но самое главное — новый уровень бытовой культуры, общей культуры, общей образованности. Никакого политического контроля, никакой партийной, начальницкой муштры, только моральные обязательства перед общиной. Уровень жизни каждого человека повысится в 4–5 раз, этого достаточно, на столько же и ещё больше повысится и производительность общественного труда и эффективность жизни. Государство приблизится к семье. Вся бюрократия будет раздавлена: люди сами будут выбирать всех руководителей и сами снимать их. Поток пустых бумаг будет заменён веским словом. Дешевле дать всем, чем постоянно ощупывать пустые карманы многих. Люди должны соревноваться, но не в том, кто сколько вырастит зерна или напишет стихов, а в том, кто сумеет предложить, а затем и осуществить самую лучшую организацию, при которой будет веселее выращивать зерно и писать стихи. Не рубль должен гнать человека всё вперёд и вперёд, но только радость существования. Да и не гнать вовсе: человеку нет нужды бежать, если его не хлещет кнут эксплуататора… Общинники не отменят трагедию, но они впервые превратят в комедию наше пустое соперничество, при котором торжествует посредник. Неурегулированность общественных отношений запутывает и осложняет личные связи. Больше половины общественной энергии уходит впустую, точнее, почти 60 процентов. Вот наш резерв.
Основное, и в этом я вижу сложность всех перемен, мы должны будем создать совершенно новую философию жизни. Она не будет унифицирующим началом. Она будет индивидуальной в представлениях каждого, но единой — в общей цели. Совершенство личности, её природная естественность — вот что станет основой нового миропонимания. Нам нужны крепкие, сильные, здоровые, умные, инициативные люди, нам нужно единение наций на совершенно новой основе — равноправной культурной кооперации, равноправном взаимодействии национальных культур, стремящихся к единым идеалам совершенства.
То, что существует на Западе — это гораздо большее надувательство, чем у нас теперь. Несчастные, разъединённые всюду люди, как они могут отстоять свои интересы, голосуя за лиц, которых им навязывают? У нас партия предлагает людей из своего актива, на Западе предлагают членов закрытых политических клубов, которые представляют разные партии, но одного хозяина. В новой общине люди будут конкретно знать друг друга, — там голосование станет действительно волей коллектива. И этот коллектив уже никто не обманет.
Культура отношений и развитие талантов — это будет стержнем бытовой жизни в новых общинах. Мы заменим умозрительный и неграмотный принцип распределения по труду принципом солидарности всех общинников. При высоком уровне общественного богатства этот принцип сохранит дружескую, благоприятную, семейную среду. Никто ведь не требует в семье, чтобы дед и внук работали столько же, сколько и отец. Никто не наливает в тарелку в зависимости от того, кто сколько принёс денег. Кто сколько внёс, тому столько и дать — это формальный и условный торгашеский принцип. В нём нет души, нет высшей справедливости.
Люди будут отбираться в общину, и воспитание новых поколений в общинной традиции будет одной из главных обязанностей общин.
На долгий исторический период сохранится некая стихийная среда, куда будут выталкиваться те, кого никто не пожелал принять в общину, или общинники, которые нарушили устав общины.
Если не дурачить человека, надо признать, что его нормальные потребности очень невелики, и каждое общество, если это не общество грабителей и мошенников, в состоянии предоставить каждому на предстоящие сорок лет честного труда хорошую квартиру, хорошее питание, хорошее образование, полноценную культурную жизнь и все шансы на развитие талантов и замыслов. Тут нельзя ограничивать человека. Минимум необходимого труда для всех, а потом — любые замыслы добропорядочного служения своему таланту и Отечеству, пользуйся радостями любви и воспитания своих детей, возделывай сад и огород, пой, рисуй, изобретай, путешествуй, пиши книги и зови собратьев к совершенству, не искушая их чепухой индивидуальных богатств и личной власти, унизительным развратом и насилием, как это делают заговорщики.
Новая, более экономичная, более счастливая цивилизация встанет ближе к природе и тем самым ближе к сущности человека. Это будет единая семья, сообщество крепких и здоровых семей…
Только так мы создадим единый новый народ, который никто не расколет и никто не соблазнит, потому что людей свяжет новая философия жизни. Искать лучшее, имея прекрасное, они не пожелают, потому что это будет стержнем их миропонимания.
Тогда люди разрешат неразрешимые ныне национальные проблемы. Никакого упразднения наций, конечно, не будет, но нации из резервуара для вербовки грабительских шаек, прикрывающихся национальными интересами, сделаются созидательными партнёрами и станут на собственной основе развивать высочайшую культуру, в которой национальная принадлежность будет одной из важнейших индивидуальных характеристик личности. Но люди будут говорить, писать и думать на своих языках только в национальных общинах. На межобщинном уровне будет развиваться общая для всех, более высокая и потому эталонная культура. Никто и не подумает внедрять её, она будет сама нарождать своих приверженцев. Фактическая национально-культурная автономия и обособленность, как сегодня, постепенно отомрёт, это уловка интернационализма, поощряющая заговор, борьбу и противостояние. В международном плане община предотвратит демографический взрыв любой этнической популяции и, собственно, её агрессию. (Тут я хотел бы сделать небольшую оговорку. Вначале мне показалось, что Сталин говорил об общинах как главных носителях национального, однако он ни слова не сказал об умалении роли традиционного национального государства.)
На вершинах своего духовного развития граждане поймут, что им нечего делить ни в индивидуальном, ни в национальном смысле, что все их перспективы только в поддержании и сохранении общего. Природа сохраняет цикличность и тем обеспечивает свою вечность. Общество должно стремиться к тому, чтобы воспроизводить вечный цикл на своём уровне…
Путь к этим преобразованиям не прост. Не всякий человек поймёт и вдохновится, а иной испугается. Тут надо будет разрешить сотни новых проблем, но мы их разрешим, потому что община как самая естественная связь между людьми труда позволяет это сделать. В общине станут невозможны принципиальные бездельники и политические махинаторы. Вот почему эти силы выступят против. Они и теперь пытаются всеми способами сорвать мои решения по единению общества и гармонизации отношений с иноплеменными народами…
На Западе, как уже очевидно, будет всё более расширяться власть заговорщиков, а, стало быть, власть насилия, абсурда, антилогики и антиразума. Чуть только мы потеснили «Интернационал» в СССР, он обосновался на Западе и на наших глазах наращивает власть банды, которую трудно будет опрокинуть, потому что народы будут периодически заливаться кровью.
И эта тенденция — мировая. В этом её опасность для нас.
Пусть никто не думает, что Сталин однозначен, что он заурядный догматик. Да, мы шагнём к новому миру, но шагнём не раньше и не позже, чем это возможно. Если же мы проспим свой шанс, шальная «демократия» Запада установит свой «всемирный рай», где намного увеличится число рабов и намного уменьшится число свободных. На Западе будет всё сильнее укрепляться формальная власть денег, которой мы должны противопоставить авторитет добра и справедливости, мораль тружеников, делающих общее дело. Торгашеский Запад, который уже топчет плоды нашей Великой победы, не признаёт реальности, он пытается конструировать действительность, демагогия и психическое внедрение — его главные орудия. Фарисеи и сукины дети, они установили, что несчастный человек может принимать несуществующее за реальное: фальшивые векселя за реальное золото, рекламу — за качество товара, шельмовство — за талант, трусость — за героизм и т. д. Философия общинников будет разоблачать негодяев, требуя от них преобразований и реформ. Возникнут определённые трудности с молодёжью, не имеющей собственного опыта, но мы постараемся сделать так, чтобы для всей молодёжи остался священным опыт народной борьбы. Мы пойдём от утопии к реальности, наши враги пойдут от утопий к новым утопиям, пока не поскользнуться и не опомнятся, испытав весь ужас внутренней смуты…
Повторяю, нынешнюю партийную челядь мы оставим, но не до того момента, когда они начнут перерождаться и рвать со своим долгом бескорыстных поводырей масс. Вы можете спросить, что мы с ними сделаем? Мы распустим партию и заменим её ответственными коллективами, которые сами нейтрализуют демагогов и кочевников, всех любителей взбираться на чужие плечи. Или деньги, или — свободная Родина, или эксплуатация, сегрегация и духовный гнёт, или — равенство всех в созидательном коллективе. Мы позволим каждому сделать свой выбор.
Вы думаете, власть Сталина — это его должность генсека? Чепуха, я вырвал власть генсека из грязных рук проходимцев, чтобы создать власть духа. Сегодня это «ленинизм», которому я придаю современную окраску, отталкиваясь от насущных задач страны, завтра это будет совсем иная система, в которой исчезнут и выдуманный Маркс, и искажённый Ленин.
Я знаю, что и я не сохраню своего действительного образа. Это не беда, оставался бы пример подвижничества, свет великой веры в Справедливость, вокруг которой собирались бы лучшие.
Поверьте мне, поскольку я осведомлён обо всём гораздо больше: в будущем, если мы не обеспечим торжество мудрости, если не защитим справедливости и благородства, человечество вполне может вернуться к пещерам и людоедству. Так будет удобнее и выгоднее шайке мошенников…
Иногда меня спрашивают о так называемых «репрессиях». Особенно эти закордонные борзописцы. Отвечу: это была реакция страха негодяев на неприятие большинством народа новой власти. Армия Троцкого готова была убивать всех «несознательных», то есть тех, кто ей не покорился… Не я создавал эту преступную машину. Но я не разрушил её сразу, зная, что мне придётся прибегнуть к её услугам, когда все эти «организаторы революции» выступят против меня, едва я решусь отнять у них незаконную власть. Ничто другое не могло сокрушить их. И я сокрушил их их же оружием.
Правда может быть описана из разных точек: получится разный набор фактов и теорем. Но истинной будет только та правда, которая угадает не случайное, а обусловленное течением естественной, природной жизни.
Думаете, я не вижу, что враги стремятся утопить меня в крови невиновных? Я это ясно вижу и стараюсь, чтобы неповинных было как можно меньше. Но я не могу допустить, чтобы от меня отшатнулся народ: я жил для него, я останусь в нём, виновный же, которого я вижу, не избежит наказания.
Но я вижу и другое: под предлогом политических кампаний они хотели бы уничтожить или подавить морально всех моих сторонников, чтобы потом ответственность перекинуть на меня. Это их обычный приём: с больной головы — на здоровую… Они хотят, чтобы весь мир плясал под их дудку, и не признают ни прав, ни интересов других людей… Может быть, на каком-то этапе они даже возобладают, обманув общественность в западных странах, пугая её угрозой СССР. Вот почему я готов убрать и ВКП(б), и ту часть её умозрительной всемирной идеологии, которая попахивает насилием и авантюризмом… «Прибрал везде, да не прибрал в избе», — говорят русские люди. Враги демократии и ненавистники правды никогда не спрячутся в кусты «Интернационала», какие бы новые названия для своих авантюр ни придумывали, отовсюду будут торчать жидкие пейсики и треугольная бородка иудушки Троцкого… Но за ними деньги и сплочённость разбойничьей шайки. Этого нельзя не учитывать. Они захватили все крупнейшие газеты мира и весьма воздействуют на миронастроения… Я не исключаю, что на каком-то этапе они весьма успешно вложат миллионы и миллиарды в разложение наших рядов. Появятся перерожденцы, предатели, жалкая псевдоинтеллигентская сволочь. Но это всё случится, если мы провороним или не сумеем предвидеть. Но пока Сталин в Кремле, шансов у них нет и не будет!..»
Вольдемар Гаврилович Дербандаев
При первой же встрече он поразил меня тем, что «всё знал» и обо всём имел собственное суждение.
Вольдемар выражался как-то больше иносказательно, оказывал подкупающее доверие собеседнику: «вам это, конечно, понятно», «исходя из известных законов», «при таком геополитическом раскладе, согласитесь…»
Он непонятно улыбался, придвигался, дыша чесночным перегаром, окладистой бородой к вашему носу, похлопывал по плечу, жал обе руки, подмигивал и произносил загадочные фразы. Из них явствовало, что Вольдемар на короткой ноге со всем политическим бомондом России, а в закадычных друзьях и единомышленниках у него самые знаменитые патриотические фигуры.
По виду ему было чуть за пятьдесят, но Белова он называл Васей, Распутина — Валей, Ганичева — Валерой и «пустой балаболкой». С Прохановым, оказывается, «гонял чаи», с Зюгановым и Селезнёвым пил пиво «Три медведя», со Стасиком Куняевым и Сашей Казинцевым часто играл в подкидного в редакции «Нашего современника». Прочих он вообще и в грош не ставил, хотя парился с ними в лучших саунах Москвы и Питера и «ходил по блядям», — это касалось лысых «президентских мальчиков», о которых он не уточнял: «Вы же сами понимаете, чем это пахнет!..»
Чёрная шапка волос и чёрная борода делали его похожим на цыгана, но он напирал на свои «генетические связи с донским казачеством», хотя при мне однажды сказал, что родился и вырос где-то то ли под Барановичами, то ли под Бердичевом.
В русской холщовой рубахе с красными петухами у ворота и по подолу, подпоясанный замызганным куском где-то раздобытой музейной камчи, он производил почти опереточное впечатление, но его напор и энергия, лучившаяся в чёрных глазах под мохнатой бровью, вызывали признательное перешёптывание: «Это же прирождённый лидер!»
И в самом деле, он был постоянно в дерзких по замыслу начинаниях: то мчался в Санкт-Петербург на конференцию по трезвенничеству и здоровому образу жизни, то спешил в Москву на экологический форум, то отправлялся в Новосибирск на «патриотические чтения».
Он никогда не излагал понятного мировоззрения, но из его намёков можно было заключить, что врагами народов являются евреи и масоны, во всяком случае тех, кто не соглашался с ним, он тут же помечал единым плевком политического недоверия: «этот обрезанец» или «этот полумасон в непросохших галифе…»
Он любил выставлять себя в двусмысленном, но всегда выигрышном положении. В небылицы мало кто верил, но всё же они как-то оттеняли его характер.
«Подваливают ко мне вчера у моста два амбала, — рассказывал, например, Вольдемар. — Оба лыка не вяжут, но ручищи, как брёвна.
— Слышь ты, морда, мы вот тут с Петькой гуляли… Чё было, не помню. Вот это, скажи, всё ещё луна или уже солнце? Не пойму, зараза.
— Луна, — рычит Петька. — Рога тому посшибаю, кто скажет иное! Луна — мы же ещё спать не ложились.
— А я из подштанников любую падлу вытрясу, которая скажет, что луна!
Вижу: мне крантыль.
— Товарищи-сограждане, — говорю, — никак не отвечу на ваш вопрос: я не местный!.
Пока они глазами лупали, я попёр по мосту, а после за куст спрятался. Они опомнились, но пробежали мимо.
— Утоплю паразита, — хрипел один. — Знает, сука, а не сказал!..»
Отставной полковник Мурзин, который, собственно, и познакомил меня с Вольдемаром, никогда не принимал участия в беседах с ним, хотя обычно прислушивался ко всякому трёпу, что происходил в стенах его квартиры.
Однажды я прямо спросил о Вольдемаре.
— Не знаю, — равнодушно ответил он и даже зевнул, не прикрыв рта. — Эта птица свободно пересекает кордоны, которые для нас неодолимы.
— На что он живёт, этот Дербандаев?
— Кто ему платит? — изменил вопрос полковник, бурый от винных паров. — Его ведомости я не видел…
Какое-то время мне казалось, что это важно — иметь выход на деятелей из левого движения, и тут я рассчитывал на Вольдемара, но въевшаяся с годами осторожность удерживала меня от каких-либо определённых движений.
Правда, я как-то спросил в лоб:
— Вольдемар, я знаю Вас уже больше года, но Вы не продвинули своё дело ни на волосок, хотя всё время суетитесь.
— Какое дело? — он сощурил глаза.
— Ну, вот, Вы же, по-моему, возглавляете здесь, в городе, людей, которые не совсем принимают то, что называется реальностью…
— Ну, и что? — перебил он меня. — Вы хотите от меня революции? Но с каким, собственно, составом? Наличный хлам ни на что не способен. Они всё ещё чистят себя под Марксом… СССР пал жертвой Интернационала. Мы освободимся только одним способом: оказав помощь Кавказу и Средней Азии в завоевании России. И только тогда…
Я прервал витию:
— Да разве же Вам не известно, что все центры ислама уже давно под колпаком глобалистской мафии?
Он откашлялся, недовольный, что я прервал ход его рассуждений.
— Да, известно. И риск есть. Но что в этом мире теперь может решаться без риска? Сегодня побеждают не армии, а идеи! Жизнеутверждаемость традиции — в простоте и доступности понимания, где возвышенное и неразгаданное сочетаются с простым и естественным. И для каждого человека, и для всех народов есть три пути развития: подражание — самый лёгкий, размышления — самый трудный и путь опыта — самый горький… Как колокол надел он на мою голову: вроде бы и гудело кругом, а что гудело, было не понять. Так и в его словах: какая-то правда проступала, но слишком хлипкая, неуловимая.
— Постой-постой, Вольдемар, и подражать порою нелегко, и размышлять просто: вот она, истина, только как словеса претворить в действительность? И разве опыт не сопряжён с размышлением и подражанием? Он засмеялся.
— В словах утонули, а того не замечаем! Русские люди могут победить только в том случае, если их дело будет подхвачено прозревшими евреями!
— Да разве есть уже такие?
— Не мой вопрос! Пришло время вспомнить подлинную историю эволюции духовного сознания больших и малых народов. Период слепой веры прошёл, а трезвое и сознательное возрождение своей веры стало главной необходимостью! Это предполагает духовную стратегию, духовную концепцию выживания как ориентир совести и исторической правды, согласен? Любая экспансия, духовная или физическая оккупация, всегда находится в противоречии с исконной традицией народа. Это ты допускаешь?
— Давай конкретней!.. Вот, почему у нас в СССР всегда было столько дуралеев среди начальства?
— Потому что евреи находятся на вторых и третьих ролях!
— И что? Прикажешь им отдать первые? Они же и без того командовали!
— Ну, вот, ты и ответил на свой вопрос! Чтобы надёжно командовать со вторых и третьих ролей, нужно иметь в первых — круглых дураков!..
И опять вроде бы выходил смысл, и опять вроде бы терялся.
— Ответы не приближают меня к истинам!
— Это и понятно! Духовная история истоков христианства и ислама имеют одного праотца Авраама, и на исходной духовной базе иудаизма строилась вся библейская концепция мира. Сегодня она исчерпала себя. Её слово стало товаром, а её духовная жизнь — двойным стандартом морали, конъюнктурой и материалом провокаций для политических чиновников. Усёк?..
Словесная эквилибристика задела меня за живое.
— Голубчик, мне не фразы нужны, а реальное дело. Можно ли что-то переменить или мы обречены?
— Чтобы действовать, надо вначале в чём-то убедиться. Толпу формировали и в 1917 году, толпу формировали и в 1991 году. Я с моим наличным составом толпу сформировать уже не смогу, потому что противник рассеивает эманацию моего влияния. Я ставлю на сознательное действие… Все мы видим, как эффективно вторжение без оружия и как оно действует сквозь тысячелетия. Как идеи легко разъединяют границы. Теперь вместо горячих войн к нам коварно пришла информационная война. Много ли у нас стрелков против Голливуда, радиостанции «Свобода» и других центров? На нас наступает информационно-финансовая агрессия в маске «открытого демократического общества» с лицемерным методом двойного стандарта морали. Во все времена срабатывает принцип: кто возьмёт душу страны, тот возьмёт и тело страны с его историей и экономикой. Разве этому что-либо может противопоставить интеллигенция? Она покупается. Интеллигенцией легче манипулировать, это не аристократы духа…
Каскад слов смешивал в кучу все мои ценности. Я уже жалел, что вызвал этого человека на объяснения.
— Послушай, Дербандаев, — вскричал я, — не ты ли аристократ духа?
— Да, я, — торжественно отвечал он, отдав пионерский салют. — Я и ты. И ещё, может быть, три-четыре человека в этом вшивом городишке, где уже не осталось ни русского, ни советского, ни славянского духа… Пришедший из пустыни пророк не сумел осуществить идеи в своём отечестве. И он взял грехи всего мира на себя. Ведь гораздо легче быть пророком для других, а наводить порядок в своей семье, спасать свой народ гораздо труднее. Идея страдания, жертвенности, покорности во имя любви очень выгодна власть имущим, она плодит в обществе двойные стандарты, что и произошло постепенно в славянском мире с принятием христианской религии.
— Чудовище! — взорвался я. — Так что же, вся беда, выходит, только в религии? Так ведь не ощущалась она при Советском Союзе, а дело-то ведь было — такой же дрек на палке!
— Разумеется, — отвечал он. — Марксистский атеизм был точно такой же иудаистской религией… Но ты мысль мою перебил и потому не можешь оценить всю её глубину… Вспомни об основных идеях древнего славянства: равноценность мужского и женского духовного образа и природных сил, мужество, справедливость, защита своих святынь и Отечества, умение взять ответственность на себя и жить по совести. Эти идеи не были возведены в ранг религии, в этом большой проигрыш, но в этом и сила. Мы не создавали «писания», мы утверждали эти идеи в жизни, в них не было двойного дна.
— Согласен, что благодаря природному свету в душе славяне добились государственности и славы. Но всё это отнято. Или, точнее, отнимается…
— Не торопись! Важно понять, что феномен Православия (так, собственно, обозначалось дохристианское мировоззрение древних славян) — это не дитя обыкновенного, ортодоксального христианства, а особый продукт. Учёные спорят, то ли это «православное язычество», то ли «языческое православие»… Вопрос теперь в том, как современное Православие судит свои корни. Если эти корни — Библия, это не славянские корни… Наследие наших предков питало устремления к почитанию Рода, вдохновляли человека родная земля и культура, волшебная сказка и былина, непрерывно возрождался мудрый и вольный народ, чуткий к событиям природы. Человек реализовывал в природе своё предназначение, он ощущал себя сотворцом своей духовности, телесности и своего бытия. Мировые же религии стремятся этнически обескровить людей, сделать их покорным инструментом кланов, овладевших информационной властью…
— Ах, Дербандаев, — сказал я, видя, что дальнейший трёп не имеет никакого уже смысла. — Всё это азы, о которых я уже и не вспоминаю! Ты подскажи людям, что им делать, не умножай словоблудия, не повторяй правдоподобную ахинею, потому что в твоих устах она теряет правду! Загажены мозги-то, со всех сторон в них пачкают, а ты этой пачкотне только потворствуешь!
— Делать надо одно — не возмущаться, не злобствовать, а тихо и спокойно осваивать всем миром глобальную экологию. Невозобновляемые ресурсы планеты катастрофически сокращаются, а потребительская агрессивность человечества ненасытна…
— Не удивлюсь, если тебя, зануду, когда-либо зарежут оппоненты. На кой хрен ты долбишь мне об «агрессивности человечества», когда меня давят и душат вполне конкретные террористы?..
После «разговора» подозрение моё к «леваку» только усилилось. И когда появились слухи о том, что для изоляции московского режима влиятельные политические группы предлагают немедленный раскол России на части, я не усомнился, что этот «план» сочинил «патриотический диалектик» Дербандаев…
Король русского Хохмоленда
Яромир Шалвович умирать не собирался, хотя ему было восемьдесят два. Он уже часто не держал ни мочи, ни кала, даже передвигаться по комнате не мог, начинались головокружения, и он падал.
Родственники и знакомые несколько раз устраивали его в разные престижные больницы, он лежал даже полгода в лучшей клинике для ветеранов войны, хотя никогда в войне не участвовал и никакого отношения к ветеранам не имел, ему «выправили» (купили) справку, что он копал «оборонительные эскарпы» вокруг Москвы, и с этой справкой пропихнули в спецгоспиталь, куда не могло попасть это вонючее старичьё, одинокое, синюшное, со скрюченными пальцами и стёртыми от обид глазами, какие-то бывшие пулемётчики и сапёры — прорва всякого бомжистого, но всё ещё задиристого люда.
«Живучие, блин, как лошади», — презрительно думал о них Яромир Шалвович.
Ничего не болело, хотя струхлявилось до такой степени, что вот-вот должно было рассыпаться на части.
Обрывки памяти кружили, то осмысленные, имевшие касательство до его действительной жизни, то неопределённые, где-то подхваченные или кем-то придуманные.
Боже мой, какие люди жили и умирали! Да, он забывает расшпилить ширинку, когда мочится. Но он прекрасно помнит, как комиссар Зисман подарил ему трофейный серебряный портсигар, и он по неосторожности обронил его в очко станционной уборной на какой-то станции возле Ташкента — Акмалык, Аква-лык… Кто из этих педерастов знает, за что Зисман получил свой портсигар?..
Он всю жизнь негласно боролся против «сталинской диктатуры», с тех пор, как выяснилось, что Сталин, не перестававший, правда, хитрить и играть в поддавки, твёрдо занял сторону антисемитов и намерен всерьёз лишить власти евреев, фактических творцов и революции, и политики советского государства: «Да кто он такой, сявка, царский стукач, налётчик, грузинишка, недоучка усатая?..»
«Да, конечно, евреи тогда хорошо заработали, но если бы их интересы как-либо иначе согласились удовлетворить самонадеянные полудурки из Временного правительства, Октябрьской революции никогда бы не было…»
Он не то, чтобы «ковал кадры», но как бы доводил их до кондиции, как его отчим в своё время «доводил до кондиции» золлингеновскую бритву, чиркая ею по закреплённому за спинку кровати кожаному ремню, — вжик-вжик!..
Его большой победой было обуздание Сёмы Цвика.
Этот человек был им необходим. Но, спасённый некогда русским, он пытался уклониться от нужной линии. Едва это установили, Сёма поступил к Яромиру на перековку.
Яромир прослушал ещё раз всю его историю и сказал:
— С какой стати ты должен быть благодарен этому русскому?
Тебя спас твой Бог или случай, а вовсе не этот мужик…
В конце концов, ему удалось совершенно овладеть мозгами Сёмы, и он шарил в них, как хотел, переставлял понятия, как мебель. Так ему казалось.
— Ты не можешь сказать точно, было ли всё это — то, что случилось в 30 километрах от Смоленска на просёлочной дороге. Но поскольку это задержалось в твоём сознании, стало быть, это могло быть фактически, я, как и ты, сейчас вижу рыжие отвалы засохшей глины и слышу хвойный настой недалёкого леса, испорченный испарениями грязных человеческих тел и вонью бензина… В сущности, я мог бы передать весь твой рассказ, Сёма, совсем в иных образах, из чего я заключаю, что не в образах во обще дело. Я мог бы заменить людей разноцветными муравьями или тараканами… Самое важное — не поддавайся чувствам сожаления и горечи, они ложны. Мы все здесь одиноки и смертны, и это должно определять. Выгода, выгода, нет ничего выше и справедливей выгоды… Твой рассказ, запомни, вовсе не о том, какие злые немцы и какие беззащитные евреи. Твой рассказ о другом: в мире торжествуют негативные установки более силь ных, меняющие вектор выгоды. Они торжествуют, невзирая на то, есть в них правда или её нет вовсе. Твой рассказ не говорит о том, какие жалкие евреи. Напротив, он свидетельствует о том, какие жалкие русские: они не достойны жизни, если готовы уми рать за какие-то свои «духовные максимы», если не умеют вы брать из моря событий те, которые для них спасительны… Немцы играли роль медиумов. Русские оказались ниже явленной ими морали, а евреи выше, потому что пожелали утвердиться единственно возможным путём, взяв на себя всю ответственность… Немцы вчера — это евреи завтра. И русские в новой сцене не уцелеют, как и немцы… Добродетель прошлого выявила себя как универсальное зло, и потому осознание зла наших действий придаёт нам надежды, которых раньше не было. Немцы подали нам пример, и смерть евреев в том эпизоде есть воскрешение евреев в тысячах новых эпизодов, которые последуют. Ты, Сёма, можешь не понять с ходу эту новую логику, но это не смертельно, если ты поймёшь, что без этой новой логики ты уже фактически полный мертвец… Запомни, немцы побеждали до тех пор, пока не сомневались в своей победе. И русские сохранялись как нация, пока верили товарищу Сталину. Как только мы поколебали тех и других, немцы испугались стойкости русских, а русские отказались от Сталина и потеряли историческую нить. Конечно, они когда-либо спохватятся, осознают, что им подсунули вымышленную фигуру, но будет поздно: дело сделано, — они сами растоптали свои иллюзии. В наших сапогах, да, но сами… В отличие от немцев и русских мы теперь знаем, что вождь, будь он полным ничтожеством, должен оставаться вождём, чтобы не превратить колонны единомышленников в жалкий сброд, пугающийся чужих комментариев. Нам не нужен герой и не нужна жертвенность, нам нужен положительный итог всех телодвижений. Скорее каждый из нас плюнет в свою задницу, чем сделает вождя посмешищем в глазах чужих вождей. Будущее придёт в образе нашего народа, и потому ни один из тех, кто несёт образ, не должен явить свой негатив…
Цвик обалдел от такого напора. Он был близок к истерике. Но Яромир Шалвович решил во что бы то ни стало вырвать из его сердца всякз'Ю самостоятельность, он был очень нужен, этот Цвик, на кону стояли большие деньги…
— Прошлое даёт нам в руки все вожжи, чтобы править в будущее. Тирания истории будет разрушена только в том случае, если все народы встанут перед нами на колени, а перед тем сами выроют себе могилы. Мы не повторяем немцев, мы перечёркиваем их вчерашние преимущества перед нами. И не задавай мне, Сёма, слишком сложных вопросов, я предпочитаю ответы без вопросов. Когда мужчина или женщина ставят передо мной проблемы, которые обременяют меня, я переключаюсь на возбудители иного свойства и говорю: «Милый (или милая), давай по-щекочемся или, по крайней мере, сделаем вид, что хотим пощекотаться. Когда пахнет спермой, живые Шекспиры и Гомеры кажутся выдуманными музейными экспонатами…»
Сёма Цвик глядел на Яромира Шалвовича округлившимися глазами, как на миниатюрную лошадку под никелевым зеркалом в шикарном автомобиле. А тот чувствовал редкостное вдохновение:
— Главное в жизни общечеловеков и гуманистов от природы — постоянно выдумывать всё новые профессии, иначе говоря, сферы манипуляций, которые помогали бы нам безболезненно снимать свою пенку. Былой шарлатан, сующийся к богатому человеку с дешёвым оракулом — теперь имиджмейкер, и всякая избирательная компания щедро пополняет его кассу… Или дизайнер. Вы убеждаете общество в его полной бескультурности. И вчерашняя деревенщина, бурёнистая тетёха, у которой водятся деньги, платит и за причёску, и за вид спальни с «эротической» булавкой в заднице плюшевого мишки. И всё это не предел. Мы будем консультировать премьеров и президентов, сообщать о «благоприятных днях» для симпозиумов банкиров или сходок профессиональных грабителей. Мы будем давать советы попам и кюре всех конфессий, придумав «разумные лучи космоса» и прочую дребедень… Главное — преобладать, сидеть на плечах других, а живые они или мёртвые — это уже не имеет значения…
Теперь Яромир Шалвович знает, что не всё было так просто, как он воображал, без колебаний приняв доктрину самого ярого национализма.
Выяснилось, что евреи никогда не были и никогда не будут единым народом. Чуть только они перестают пить кровь иноверцев, они пьют кровь друг у друга. Вспоминать об этом тошно и опасно…
«Да-да, — медленно кружилось в голове Яромира Шалвовича, — мы, пожалуй, создаём тупики, поскольку мы всё же своеобразный народ. Мы давно имеем дело не с миром, а только с его больным отражением. Мы всем желаем зла, кроме самих себя, но тем самым причиняем себе более всего зла, ибо незнакомы с совершенным духом. Мы более всех несчастны. Заткнуть глотку инакомыслящему — наша первая реакция на любое противодействие. Мы кричим об антисемитизме, ещё не разглядев своего противника, это всего лишь испытанный способ смутить его дух и сбить с панталыку… У нас не будет голубых глаз, источающих и получающих высшие информативные космические потоки, мы не сольёмся с массой населения России, тем более, не станем её духовным стержнем. Нас опрокинут татары, кавказцы и прочие, которых натравливают на русских, чтобы укрепить собственное положение. Но все нацмены хорошо знают, что русские не станут их давить, поскольку у них в крови равенство и равноправие, а не торжество и преобладание. Может быть, мы вынуждены ненавидеть людей, потому что лишены высокой миссии — нести им радость? Но почему мы должны нести им радость, если нам самим недостаёт этой радости?.. Может быть, наше несовершенство — чужая зараза, если оно имеет все свойства эпидемии? Но тогда разве мы в этом виноваты? Виноваты те, которые нас заразили и всё это ставят нам в упрёк… И потом, необходимо мыслить более широко. Как о русских нельзя судить по Горбачёву или Ельцину, так и о евреях нельзя судить по Шарону или Пересу. Я, еврей, уже давно не знаю, что в мире за еврея и что против него, что выражает общий еврейский интерес и что представляет сумасбродную авантюру шайки, которая давно уже покинула лоно еврейства. Мы, евреи, не должны отвечать за подонков, если даже их большинство — вот наша принципиальная позиция… Немцы действовали нерационально. Все эти газовые печи, сжигание мёртвых тел и прочее — сегодня это очень дорогостоящая штука. Теперь нужно так, чтобы один убивал другого и тут же зарывал его в заранее указанном месте. Грядёт время каннибализма, но это даже хорошо. Это уменьшит нагрузку на среду… Управление мира одним народом — последняя надежда, поскольку нас окружают фанатики. Это ислам, Китай, бездельники Африки, склонные к каннибализму. Эти будут всего опасней… Чтобы выстоять, мы не должны позволить им организоваться. «Еврейский вопрос» — это повсюду необходимый для всех рычаг раскола фанатиков, их дезорганизации: спорьте, баз-лайтесь, выдвигайте любые «теории», но — не создавайте организованный этнос, поскольку он сегодня непременно скатится к каннибализму, фашизму, тоталитаризму или фанатизму»…
Яромир Шалвович вдруг вспомнил Роберта Верхотурова, который очень удачно устроился в одной банковской пирамиде, успел за три месяца накосить семь миллионов долларов, но был убит заказным киллером у своего дома… Кто-то вынес ему херем…
Жаль Верхотурова. Он постоянно «кавээнил» со времён своей студенческой молодости. Сшибал рубли, но откладывал тысячи. До распада Союза позволял себе летать в Ялту или Сухуми на воскресенье.
Верхотуров жил, как и все остальные, двумя параллельными жизнями — прилюдной и частной. В частной он расшифровывал КПСС как «кагал правит страной Соломона», а ВКП(б) — как «вперёд к победе! (Бунда)»… В прилюдной это был незаметный и ленивый сотрудник НИИ экономического профиля. Но всё же он собирал профвзносы и организовывал культпоходы.
Остряк-самоучка, он мог любой сюжет жизни вывернуть наизнанку. А главное — изображал свои персонажи так, что они были зримы. Он умел смешить.
— Где будешь делать операцию? — спросил его однажды Яро-мир Шалвович, зная, что у него грыжа.
— Только в Швеции. В крайнем случае, в какой-нибудь Дании или Штатах. Но там дерут лыко эти говорливые «соотечественники» с Брайтон-бич: возьмут в клинику профессора с мировым именем, а положат под нож полоумного эфиопа.
— Но это же большие деньги. А что, нельзя у нас?
— У нас — сплошные совки! Что они понимают в деликатных случаях?.. Помнишь, как в городской клинике Саратова тушили пожар?
— Нет, а что?
— Приходит этот расстегай в каске, начальник пожарной команды, и докладывает главврачу: «Так и так, Абрам Исаакович, погасили очаг за 12 минут. Обнаружено десять пострадавших. Восемь из них мы откачали, двоих, к сожалению, не смогли».
Абрам Исаакович смотрит на пожарника как на полного идиота. Даже очки снимает.
— Вы уверены в цифрах?
— Да, конечно.
— Странно, странно… А где же эти, которых, как вы говорите, «откачали»?
— Да вон они, в автобусе. Песню поют. Должно быть, ещё в состоянии шока. «Подмосковные вечера»…
— Странно, странно…
— Да что же тут странного?
— Так горел же наш городской морг. Вы это понимаете своей головой?..
А про дипломата чукчу? Просто поразительно, как он всё это показывал…
Выучился чукча на дипломата и выступил в ООН с заявлением, что империалисты завоёвывают мир.
— Мы никого не завоёвываем, — сказали американцы. — А если глупые террористы иногда попадают под удар, так это они сами виноваты, и больше никто.
— И мы мир не завоёвываем, — сказали израильтяне. — Мы даже не знаем, какие капиталы контролируют евреи в США или в России.
— И мы мир не завоёвываем, — сказали японцы. — Наша не понимает разговора на чужой язык…
— Я один остался, — вздохнул чукча. — Может, я один и завоёвываю мир, только об этом ещё не знаю…
Или вот про чукчу в Москве. Приехал и в первый же день потерял в толкучке жену.
Подходит к милиционеру:
— Эй, товарищ! Однако чукча потерял жену. Надо находить. Скучно. Другой такой жены нету. Далеко ехать.
— Как её приметы?
— Однако чукча не понимает, что есть «приметы».
— Ну, опишите, как она выглядит.
— Чукча не понимает.
— Ну, вот моя жена, например. Роста среднего. Волосы белокурые, до плеч. Вот такая грудь (показывает), вот такая попа (показывает).
— Однако чукча считает: не будем искать мою жену, давай поищем твою!..
Боже, боже, вот жили прежде — шутили, без проблем зарабатывали на Крым и Кавказ!.. Отдыхали по месяцу со всей роднёй, а некоторые пицундились или сочились целое лето!..
Теперь ксенофобы загнали нас в угол. Нам не остаётся ничего другого, как ненавидеть и бороться.
Конечно, постоянная борьба обременяет. Но мы привыкли и не уступим своих прав — они даны нашим Богом, перед которым все другие боги — глиняные истуканы, скрывающие ложь, невежество и растерянность.
Роберт Верхотуров говорил: «Когда я иду по улице, я ощущаю себя миссионером среди туземцев, — я сошёл с корабля, и вся эта шелупонь — мои потенциальные рабы. Нанизать их на одну невольничью верёвку — моё желание. Я боюсь их невнятного бормотания и косых взглядов и потому предпочёл бы бить их, не жалея, приводить к безоговорочному послушанию, пуще же всего использовать их в сексуальных забавах — это закрепляет положение господ!..»
Умные слова. Интеллигентные. Дальновидные. Да, конечно, всё это условность — кто пред нами: молодой, старый, цветущий или немощный. Главное — воля к половому подавлению…
В сущности, он, Яромир, всегда подтверждал своё право на сексуальные манипуляции с любым, кто возникал у него на пути. Советы здесь не очень и мешали. Весь вопрос заключался в том, домогался он этого непосредственно или подвергал случке чужие мозги, чужую культуру, чужой образ жизни, чужие претензии… С недочеловеками нельзя церемониться, они должны привыкнуть — не задирать нос…
Роберт Верхотуров умел настоять на своих правах, не особенно считаясь с последствиями. Яромир Шалмович до сих пор помнит его монолог, когда обнаружилось, что Роберт обманут уличным мошенником Ахтамзяном, — неподражаемый гейзер национального достоинства и презрения…
Верхотуров брызгал слюной, глаза его ослепли и пожелтели от ярости. Он боком передвигался по комнате, машинально переставляя стулья и горбясь, как обезьяна перед прыжком на лиану.
— Кто будет нам указывать? Эта паскуда? Этот гибрид выжившего из ума кацапа и армянской шлюхи? Вот и вот! — Он показывал согнутый локоть, приставляя его к нижней части живота. — Мы разочтёмся со всеми ублюдками, едва настанет наш час! Они что, думают, мы будем делиться властью, как делились ею во времена большевистского лизинга или постсоветской аренды? Брандспойт вам в зад! Мы всё приватизируем для себя, только для себя!.. Берите ваучеры и войте: «Вау-вау!..» Умные ступали по телам дурней и будут ступать по телам дурней! Сначала европейские кретины, потом русские идиоты. — Он гнусаво представил сцену, сложив бескровные губы безразмерного рта в бантик: «Ай, мы умрём за ваше право критиковать батюшку-царя, которого мы боготворим!..» — Получили, писсуар вам на совковое рыло? То же будет со всем смешанным элементом! Сначала мы пустим на фарш сволочь, у которой не более осьмушки подлинной крови. Затем всех остальных! Недоноски — главная угроза! От них больше всего дебилов и калек. Только прямые потомки левитов сядут у главного трона всемирного правительства, прочие колена будут править службу, почтительно стоя в стороне! Я, Роберт Верхотуров, успокою кирпичом всякого, кто рыпнется против законов, установленных Моисеем! Не качайте прав, их у вас нет! Это вам не СССР!..
Роберт считал себя большим художником и создавал бессмертные полотна, сажая своих любовниц на холст, разумеется, вначале пройдясь помелом с краской по их грушеобразным задницам. Все его шедевры немедля скупались иностранцами за валюту ещё в перестроечные времена: он держал трёх своих агентов в системе «Интуриста», которые всё это организовывали.
Однажды Яромир Шалвович вдвоём с Робертом написал некролог по случаю смерти Бори Уральского, артиста эстрады, их общего приятеля и компаньона. Боря был хохмачом с детства, и потому было решено составить некролог в особом стиле.
Некролог пользовался успехом, особенно в подвыпившей компании среди своих, и Яромир Шалвович выучил это произведение наизусть:
«Солнце нашего юморизма закатилось. От нас ушёл ещё один неподражаемый поклонник пива и сосисок. Он классически ловко потрошил классиков мировой литературы, выбирая для себя фразы и сюжеты, как выбирают тапочки и туфли для мертвецов в ящиках для распродажи в больших супермаркетах.
Да, он легко и успешно прелицовывал чужое, как всякий прирождённый портной. Но это был эпохальный перелицовщик. Он смешивал Гоголя, Шекспира и Пушкина, чтобы получить в итоге Борю Уральского. Он брал уличный анекдот, приделывал к нему свои междометия и зарабатывал свои тысячи. Это был мастер классического винегрета и капустника. «Ха-ха-ха», — повторял он каждому, когда не находил под рукой достаточно тяжёлого аргумента. И никто с ним не спорил.
Он создал свою собственную страну и правил ею более пятнадцати лет. Урождённый бизнесмен, путешественник, гурман и бабник, он открыл сразу три «сайта» в Интернете: для себя, для тёщи и для любовницы. Некоторые считали его желчным и склочным шизиком, но они жестоко ошибались.
Первую свою комедию, пародирующую «Горе от ума», он написал в 18 лет от роду, выписавшись из психбольницы, куда его доставили, спутав с соседом по лестничной клетке. Но тем, кто скажет, что это был всего лишь жалкий плагиатор, мы ответим: плагиаторы — все те, у кого Боря брал сюжеты и реплики. Их оригинальность ещё надо доказать. Попробуйте это сделать в нашей стране!
Итак, перестало биться это сердце, чтобы вечно бился наш высокий долг — прославлять пантеон великих хохмачей, умеющих при помощи шутки и некоторого количества долларов устранять авторитарные режимы. Он выше Достоевского, Бальзака и Бени Канцелъсона, вместе взятых. Он первым вывел на сцену новую породу дураков с висячими ушами — «Хохматикус руссикус» и вёл её за собой все постперестроечное время. Разве это не вклад в мировую культуру?
Ура, господа! Боря ушёл, чтобы уже никогда не уйти из всех учебников по серьёзной литературе лёгких шуток и милых скабрёзностей!..»
Голова кружится, старое прошлое мешается со вчерашним, но Яромир Шалвович с радостным чувством мысленно повторяет: «Моя формула оказалась единственно верной: России нужен не коммунизм, а поголовный алкоголизм плюс, общая фестивализа-ция быта!.. За эту коронную фразу его однажды назвали «королём русского Хохмоленда»…
Да, да, людям, течение истории которых остановлено, страшно жить в реальности, они предпочитают вымысел. Тут евреи не виноваты: теперь всякий будет унижать и разрушать их мир, русские бандеровцы уже никому не помеха…
Вот только Сталин с его «Завещанием» всё ещё тревожит. Два десятилетия Яромир, числясь инженером одной дохлой конторы, занимался выслеживанием людей, знавших или, может быть, слышавших о «Завещании». Они казнили восемь подозреваемых, но самого завещания так и не разыскали: будто сквозь землю провалилось…
В 90-х годах — вот когда надо было репрессировать весь этот сталинский сброд! Тогда кругом преобладали наши, их поддерживали, их носили на руках… Счастливое время Собчаков и Новодворских… На главных улицах Ленинграда и Москвы всюду в витринах пестрели семисвечники и звёзды Давида. И все он кричали: «Мы тут! Мы победим!..»
Яромир Шалвович вдруг как бы заново увидел комнату, в которой лежал, и, содрогнувшись, догадался, что он уже умер. Пошевелиться он не мог, сердце не билось и вообще он никак не ощущал своё тело.
Вокруг было тихо, и вещи проступали очень неясно, смутно, как бы в какой-то пелене.
Что-то пролетело, комар или муха (или, может быть, даже мелкая птица), но пролетело медленно и беззвучно, не потревожив ни тени, ни света.
И он понял, что это и есть подлинный мир смерти: с гибелью души как бы умирают души всех окружающих вещей, и нет более никакого зацепления, нет отношения.
Это подтвердилось, потому что мимо проплыл совершенно бесплотный образ медицинской сестры, приходившей дважды на день делать ему уколы. Она не заметила его и совершенно иначе, чем обычно, взаимодействовала с окружающим пространством, где мёртвое, конечно, соседствовало с живым.
Вот оно что… Это была даже не медицинская сестра, а кто-то из умерших: он проплыл в пространстве, ничего не услышав, ничего не увидев, ни с чем не соприкоснувшись.
Вот ведь и он (именно он — уже постороннее для всех тело или образ, или дух, или сгусток новой материи — материи смерти) ничего не слышал, ничего не видел и ни с чем более не соприкасался.
В могилах разлагались останки, распадалось некогда жившее, а здесь всё как бы сохранялось, но всё медленно проносилось мимо: живые не видели этого иного мира, если даже и попирали его ногами. Они ничего не могли изменить, ничто не могли потревожить криком или рыданием. Может быть, тысячи, сотни тысяч этих бесплотных останков проницали друг в друга и уплывали мимо.
Это был бесконечный ужас: ещё сознавать, но уже не иметь никакой возможности выразить это сознание, привлечь к себе внимание. Никто не явился, чтобы его простить или подбодрить — никто…
Ищейки выходят на след
В ленивом и малолюдном причерноморском городке, — местные называли его «Новороссийск-7», — прошло три года моей жизни.
И за эти три года, проведённых в ознобных заботах, я не продвинулся к своей цели ни на миллиметр. Отечество с его судьбой оставалось всё так же далеко от меня, как в день прибытия.
Я всё так же жил у отставного полковника Мурзина и всё так же сомневался, кто он на самом деле, патриот или жалкий алкоголик. Я всё так же встречался временами с Леопольдом Леопольдовичем, болтуном с мошенническими наклонностями.
Впрочем, я всё-таки побывал в Москве и привёз оттуда несколько десятков пожелтевших листков, сляпанных под мою диктовку пенсионеркой, в прошлом сотрудницей машинописного бюро одного из подразделений ГРУ.
В нашем центре появились четыре американца во главе с полковником Ференцем Яношем. Все — знатоки русского языка. Но знатоки формальные, не имеющие настоящего вкуса к языку, а, стало быть, лишённые воображения и инициативы. Хотя показного усердия им хватало. Они так и лучились бодростью и инициативой, но я быстро раскусил, что это всё одна видимость, часть служебного ритуала. Наедине они были малоподвижны, молчаливы и всё чего-то боялись.
Для этой группы была смонтирована специальная спутниковая антенна, и группа ежедневно докладывала об обстановке в свой центр под Вашингтоном.
Весь архивный массив был постепенно систематизирован. Но оставалась ещё прорва зашифрованной информации, относившейся к 1989–1991 годам. Куда подевались дешифрованные документы и были ли они вообще, никто не знал, так что приходилось всю работу проделывать заново. Я лично был уверен, что в последний год существования СССР все донесения зарубежной агентуры просто сваливались в кучу: ими никто не интересовался. Впрочем, я не исключал, что дешифрованные документы были проданы и давно ушли за границу.
Откровенного говоря, ничего чрезвычайного в шифрограммах я так и не нашёл, временами просто поражаясь, сколько пыли собирали наши дорогостоящие пылесосы по всему миру. Однако и пыль раскрывала суть трагедии, которая разыгрывалась за спиной народов.
Вполне допускаю, что вся эта информация, соответствующим образом проработанная, давала подспорье для выстраивания отношений с той или иной страной, но, боже мой, как быстро она устарела! Крушение СССР перечеркнуло, по крайней мере, 90 процентов собранной информации — досье на умершего…
Круг моих знакомств расширился, но весьма несущественно. Я чувствовал неодолимую усталость, но терпел гнусный быт, сознавая, что это мой последний шанс и последние заработанные деньги.
Полковник Ференц Янош, сын венгерского инсургента 1956 года, был чопорным и тщеславным, но иногда он приглашал узкий круг нашего начальства в дом, отведённый для американских экспертов. Это была дача на манер западных вилл, на которой прежде останавливались асы разведывательной службы.
На одной из вечеринок, после обильного застолья, Янош подсел ко мне:
— Господин Пекелис, я уже несколько раз жаловался на местное начальство за крайнюю медлительность всей работы. Они, конечно, заинтересованы, чтобы финансирование с нашей стороны шло как можно дольше. Но нас не интересуют все ваши секреты, весь этот хлам, способный забить поры любых информационных систем, нас интересует только то, что имеет отношение к дальнейшей стратегии. Мне всё это надоедает.
По существующим правилам я должен был отреагировать. И я отреагировал:
— Конкретней, сэр. Что именно вас интересует и какую сумму гонорара это может представлять?
Он поёрзал на стуле, помекал и побекал, но, видимо, сообразил, что спорить со мной бессмысленно.
— Меня интересует всё, что у Вас есть относительно «Завещания Сталина»… Гонорар — десять тысяч, но срок — не более месяца…
В тот же день я послал необходимые запросы.
Когда-то краем уха я слышал про такой документ, но когда и при каких обстоятельствах, вспомнить не мог.
Через неделю я откопал сообщение нашего резидента в Италии, что вопрос о «Завещании Сталина» рассматривался на узком президентском совете в Вашингтоне в апреле 1960 года. И ещё сообщение о том, что в 1988 году представители Трёхсторонней комиссии в Оттаве приняли решение предпринять все необходимые меры, чтобы исключить появление в западной печати любое упоминание о сталинском «Завещании».
Я позвал к себе американского полковника.
— Это мне всё известно, — уныло сказал он. — Но теперь в России якобы циркулируют слухи, и слухи содержат весьма любопытные подробности.
— По причём же здесь наш архив?
Он протянул мне стопочку новеньких 100-долларовых банкнот, схваченных красной резинкой, и со вздохом признался:
— Как и завещание Гитлера, завещание Сталина касается так же и еврейского вопроса… Американское еврейство не очень доверяет русскому, зная, что где-то в России есть более объёмная информация… Помогите, господин Пекелис! Это в ваших личных интересах. За любое сообщение, которое приблизит меня к цели, я заплачу в три раза больше! Вы должны понимать, что я раб приказа, а они давят и давят!..
А через несколько дней у меня обозначился весьма опасный конкурент — Ефим Соломонович Глобин, возглавлявший прежде какой-то отдел по связям с президентским Советом Безопасности.
Этот человек явился в дом к Мурзину в сопровождении Леопольда Леопольдовича и ещё одного типа, его звали Сёма Цвик. О Сёме никто ничего определённого сказать не мог, он излагал временами затверженную легенду, но в неё не верили: она была слишком пёстрой, слишком куцей и слишком логичной во всех своих частях.
Леопольд Леопольдович, конечно, получил свои хорошие авансы. Его так и распирало от важности:
— Я привёл новых друзей, дорогой Пекелис! Ефим Соломонович — экстрасенс высшего класса. Неоднократно консультировал ещё прежнее руководство КГБ… Напряжением мысли он способен предотвратить ракетный старт на мысе Канаверал. Он сам об этом расскажет!..
Я давно был ориентирован о модных увлечениях начальства времён «перестройки» и сумятице в умах, «увлечения» были частью обширной технологии подавления духовного сопротивления основных эшелонов власти в СССР: обстрел мозгов производился не столько из зарубежных, сколько из советских официальных изданий, постоянно перепечатывавших «сенсации», приготовленные психологами-киллерами…
— Польщён, польщён, — сказал я, изображая на лице необыкновенную радость. — Я уже давно слышал о том, что у нас в Генеральном штабе сидят два человека, способные взрывать баллистические ракеты более эффективно, чем импульсные лазеры большой мощности, — простой концентрацией мысли.
— Выражаетесь Вы не совсем научным языком, — снисходительно улыбнувшись, ответил Ефим Соломонович. — Эманация высоких энергий предполагает высочайшее духовное развитие и пиковую моральную чистоту… Но в целом Вы правы: мы способны выполнять и такую функцию.
«Самонадеянный засранец, — заключил я. — О какой моральной чистоте ты плетёшь? На твоей морде самописцем отмечено, что ты педераст и отпетый жулик!..»
Компания раскрыла принесённые дипломаты, и взорам ошеломлённого Мурзина предстала батарея напитков большой убойной силы. А закусь! Такой закуси не мог бы выставить даже крупный ресторан кавказского побережья.
«Хлопцы рассчитывают на крупные козыри…»
— Господин Цвик, — представил Леопольд Леопольдович. — Все считают, что это лучший следователь в российском уголовном розыске…
Гости рассаживались. Мурзин, подняв очки на лоб, внимательно рассматривал каждую этикетку и одобрительно кивал головой.
— Я только что перемолвился парой фраз с главой американской миссии офицеров связи, — негромко сказал мне Ефим Соломонович. — Он доложил о просьбе, с которой обратился к Вам…
Дело в том, что аналогичный запрос мы теперь получили из Москвы… Дело не в самом документе, он у нас и у американцев имеется. Дело в разъяснениях, которые якобы давал диктатор доверенным лицам из числа армейских генералов и руководите лей крупных оборонных предприятий… По нашим сведениям, в живых остался всего один участник бесед с этим ужасным злодеем и коварным антисемитом.
Он в упор сверлил меня буравчиками чёрных глаз.
— Ах, вот оно что, — спокойно отреагировал я, догадываясь, какой аспект проблемы более всего волнует Ефима Соломоновича. — Значит, отныне я уже не смогу оказать никакой услуги моему доброму другу.
— Да, теперь мы все вместе будем осуществлять одну задачу, — подтвердил Глобин. — У меня есть некоторые соображения и насчёт вас, господин Пекелис. Думаю, под руководством моего центра мы быстро найдём решение задачи…
«Всё просто, как грабли. Он перехватил заказ. Но, видимо, ему обещан крупный куш, иначе бы он не стал так суетиться… Что же он прежде не возникал на горизонте?..»
— Не представляю, какие мысли или планы могут так беспокоить общественность. Сталин, по-моему, был чрезвычайно осторожен в оценках. Он исходит из того, что каждое его слово будет выставлено в музее всемирной истории.
— А вот и ошибаетесь: когда тиран приходил в ярость, он говорил такое, от чего плавилось стекло и взрывался песок, — с видом знатока возразил Глобин…
Расторопный Мурзин, видя, что намечается дармовая гулянка, быстренько накрыл на стол, «забомбил», как он выражался, в кастрюльку варёной картошки, моркови, свеклы и лука — приготовил свежий винегрет, который придал смысл дорогой, но консервированной закуске: осетрине в масле и отварному говяжьему языку в четырёхгранных коробках.
Пилось и елось легко и беззаботно, и вскоре все изрядно охмелели. Леопольд Леопольдович пустился танцевать вальс, но зацепился за ножку стула, упал на пол, после чего взгромоздился с туфлями на диван и тотчас уснул.
Покачивался в своём колпаке, довольно ухмыляясь, полковник Мурзин. Временами мычал «ну-ну!» и порывался чокнуться с кем-либо, но я заметил, что он уже не пьёт и внимательно прислушивается к разговору.
Ефим Соломонович, считая себя заглавной фигурой всего действа, почему-то хотел произвести на меня особое впечатление.
— В последние дни войны Гитлер пытался командовать даже ротами, хотя раньше позабывал, где дислоцируются его армии. Вот эффект ошеломления, и мы должны постоянно добиваться именно такого эффекта… Нюрнберг, это лучшее из наших изобретений за последнее столетие, должен быть перманентным, тогда все они будут сидеть тихо, как мыши в амбаре… Русские шовинисты ставят на самопожертвование. Они ничего этим не достигнут. Они даже не арабы, не воины джихада… Или достигнут того, что мы обложим всех экстремистов двойным правовым налогом. Чуть пикнул — полезай на нары… Мы лишим всех инициативы, отвадим от поисков крайнего. Фанатик становится одиноким и гибнет под бременем своих проблем. Мы, подлинные жрецы народов, знаем, что фанатизм убивает созидательные функции…
«Ахинейщик, как всё это банально», — думал я, кивая всякий раз, когда господин Глобин дергал меня за рукав, спрашивая: «Согласен?»
— Ваше многознание поражает, Ефим Соломонович. Только жреческое сословие среди народов и понимает, куда несут нас ветры событий.
— Не совсем так… Ветры есть, от них мы пока не свободны, но события организуем мы, и только мы… Массы нельзя просвещать, ни в коем случае нельзя. Нельзя идиоту вкладывать в руки зажжённый факел, он устроит пожар… Люди должны получать лишь ту науку, которой достойны… А самая существенная наука должна быть всегда закрыта от них. Невежество уберегает народы от полного вырождения. Невежество всегда доверчиво и хорошо воспринимает нигилизм. На этом, собственно, и зиждется успешность современных технологий. Когда всё теряется в фантазиях и грёзах, человек не выдвигает агрессивных претензий… Едва мир станет полностью виртуальным, тут мы мыслим с американскими коллегами в унисон, хотя у нас разные желудки, я это ещё раз акцентирую, мы покончим с национализмом. Именно тогда, — не раньше, нет! — мы создадим стандартные изложницы, которые каждый человек, работающий на общее пространство мира, будет наполнять своими дарами. Мы преподнесём им газету «Правда», «русского самодержца», «национальную идею» и прочее. Но для этого потребуется целый арсенал базовых образов, по которым и потечёт мыслительная жизнь существ, столь недостойных в большинстве случаев своих наставников… Дурачки будут собирать пахучие травы и вязать их в пучки. Мы им внушим, что на эти травы мы скупим у американцев и англичан все военные заводы и установим мир.
— Так это же чушь.
— Пожалуй. Но люди будут считать это внушением Мирового Разума… Вся эта необозримая сивушная Ваньвания будет сажать звенящие кедры и ждать, пока к ним привалит по 4 миллиона долларов. Работать-то они не очень хотят, как всякие рабы. Им и терять нечего, кроме кепки. Они рассчитывают, что приучат белок сбрасывать им шишки, а медведи поволокут за них мешки с поклажей.
— Вздор, — поддержал я, не особенно вникая, но всё же зная, что он имеет в виду.
— Полная клиника, — рассмеялся Ефим Соломонович. — Они верили и в гораздо большую околесицу… Мы каждому втемяшим, что если он научится слушать сигналы Высшего Разума, то сможет энергией желания поразить своего врага на любом расстоянии. И все идиоты только и будут думать о том, как бы уловить сигналы Высшего Разума, чтобы следом уничтожать своих обидчиков. Не знаю, кого они уничтожат. Подчинившись, однако, Высшему Разуму, они навсегда сделаются нашими лакеями…
Похожий бред я уже не раз слышал из других уст и в другой обстановке. Желая всё же наказать охламона, я бросил ему под ноги арбузную корку, на которой он сразу же поскользнулся.
— Оккультизм как самая прочная система управления умами не утвердится в народах до тех пор, пока мы не предложим им новую радужную перспективу!
Ефим Соломонович тут же влез в свою привычную коляску и хлестнул лошадей:
— Потыркавшись, мы её уже предложили, и не только русскому Ваньке! Он ещё два века не выберется из завистливой и тщеславной грёзы: бесплатный гектар земли для устройства «родового поместья». Представляете: у голозадых свои «родовые поместья!..» Ха-ха! Они ещё сорок лет будут думать, какие дома поставить, а потом ещё сорок — за какие шиши? Они даже заборов не соорудят, чтобы отгородиться от беспокойных соседей, матерщинников и забулдыг… А к тому времени глобальная сеть дистриктов покроет всю землю: практически исчезнут все государства, мы не оставим даже названий. Не будет ни России, ни Германии: шифр региона и номер дистрикта — всё! Единый язык, единый закон, единый налог и единый полицейский участок!.. Никто из них не преодолеет своей недоразвитости, будет всю свою короткую жизнь строить храм новой веры, а храм будет оставаться недостроенным, потому что мы никогда не научим их делать купол…
— Всё это прекрасно, — похвалил я, заметив, как побледнел полковник Мурзин и как блаженная улыбка на его лице на секунду преобразилась в гримасу отвращения и ненависти. — Это всё прекрасно, но русский никогда не примет технологию бытовой культуры, которая характерна для французов, немцев, бельгийцев или венгров. «Контактёры», «медитация», «парапсихология», «пространство любви», «тёмные и светлые силы» — всё это останется для русских людей абракадаброй…
— Ошибаетесь! — оспорил Ефим Соломонович, стукнув кулаком по столу так, что вилки подпрыгнули и один из фужеров закачался и упал, лишь на лету подхваченный молчаливым господином Цвиком. — Организованное, системное мышление мы, конечно, у аборигенов не создадим, но мы потопим их в собственных химерах! Они суеверны и тем самым приговорены! Они соблазнятся на бесплатную любовь и бесплатные богатства! В их душах сразу же загудят голоса нашего Бога. Он будет предписывать им каждый шаг, так что они потеряют даже ту призрачную общность, о которой всё ещё долдонят шовинисты… Их Родина съёжится до размера их скромного огорода, где они будут ковыряться с утра до вечера, чтобы наполнить бурчащие от голода желудки… Этот разговор выводит нас на проблемы, ради которых мы, собственно, и собрались… Известно ли Вам, что именно Сталин в своём официальном завещании, но более всего в комментариях к завещанию вышел на эти главные вопросы, быть или не быть всемирному просвещению и всемирному братству жрецов над морем невежественных и диких феллахов?.. Скажу по большому секрету: если мы окажемся достойны своей задачи, каждый из нас заработает огромную сумму…
— Огромную-преогромную, — пробурчал Леопольд Леопольдович с дивана, не поднимая головы.
— Говорите, — сказал я как можно более проникновенно. — Говорите, и я исполню по Вашему слову!
— Человек, который нам нужен, это сообщение я получил час тому назад, находится на территории этого городка… Его фамилия Прохоров… Мы обшарим все дома и все постройки двумя эшелонами. Мы оцепим всю зону, как клещами. В первой группе пойду я и господин Цвик. Во второй — Вы и Леопольд Леопольдович. Каждая группа на всякий случай получит по пять омоновцев во главе с офицером… Истины влияют и тогда, когда мы дрыхнем. Стало быть, и великие идеи постоянно вершат своё дело. А если они враждебные, как сталинские, мы не можем быть спокойны, пока не извлечём их из пространства нашего действия. Мы должны взять эту сталинскую куклу живой. Только живой, потому что нам необходимо выяснить кое-какие детали… Мастера допроса и дознания прибудут через сутки после нашей телеграммы. Надеюсь, телеграмма воспоследует…
Мы выпили за успех этого «важнейшего приказа центра»: Ефим Соломонович, я и господин Цвик.
Леопольд храпел, а полковник Мурзин, обвиснув на стуле тряпичной куклой, находился в прострации. Я потряс его за плечо — никакой реакции, одно пьяное мычание, даже глаз не открыл…
Ефим Соломонович достал из кармана круглую пластмассовую коробочку, в которой были зубочистки.
Поорудовал в зубах, звучно отсасывая слюни, швырнул зубочистку на пол, посмотрел на часы и объявил, что пора расходиться.
— Мы пройдёмся по всем домам, по всем строениям! Это будет эпохальная зачистка. Я уверен, что человек здесь, потому что мне был сигнал от экстрасенса более могущественного, чем я!..
Они ушли, и едва за ними закрылась дверь, со своего кресла поднялся полковник Мурзин.
С непонятной яростью он принялся тормошить Леопольда Леопольдовича:
— Вставай, зятёк, мать твою на потолок!.. Нет, нет, никакого ночлега! Завтра, понимаешь, завтра начинается важнейшее дело, о котором тебе сказал шеф, а ты норовишь опять отсидеться в конопле!.. Должен ты на памятник Нинке?
— Я Вам отдал все долги, — отговаривался Леопольд Леопольдович, пытаясь пристроиться по-новой и продолжать сон. — Вы их пропили, батя.
— Я тебе не «батя», сукин сын тебе «батя»! — отставник свирепо тряс выпивоху. — Тебе, засранцу, обещали хорошо заплатить, а ты и этот куш упускаешь!.. Попомни, не возьмёшь свою долю, на порог не пущу!..
Наконец, Леопольд Леопольдович уразумел, что спать ему не дадут. Он сел на диван и долго растирал себе лицо руками.
— Накачали, падлы. А ведь завтра в восемь — зачёс… Вам сказали, что в восемь?
— Нет, — сказал я. — Видать, забыли.
— Самое главное забыли. Тогда я Вам объявляю… Завтра в восемь ноль-ноль я заеду с боевой группой на машине. У меня будет карта, по которой мы и пошлёпаем… От сведений, которые они ищут, зависит многое. Может быть, даже всё…
Ушёл и он, оставив в душе столько досады, что я и не помышлял о том, чтобы немедленно отправиться спать.
Мурзин скоро прибрался, вынес в кухню грязную посуду. Открыл дверь на балкон, проветривая комнату.
Я глядел на него, жалел, хотел помочь, но в теле была страшная слабость и усталость. Я сознавал, что бедной моей стране наносят ещё одну ножевую рану и, более того, просят меня поострее наточить нож…
И тут появился Мурзин. Я сразу обратил внимание на лёгкость его походки и непривычную для меня точность движений.
Он включил телевизор, усилил звук и жестом пригласил меня в кухню, где шумела вода.
Приложив палец к губам, указал на лист бумаги, что лежал на кухонном столе. «Они подслушивают, будьте осторожны. Неужели Вы согласитесь помогать им в окончательном погублении России?»
Я прочёл это и взглянул на Мурзина. Он поймал мою руку и пожал её. Глаза у него были совершенно трезвые. В них стыла тревога.
Подивившись выдержке и тонкой игре этого человека, я взял лежавший тут же карандаш, и написал: «Никогда!..»
Мурзин поставил вопрос: «Слово чести?»
«Безусловно», — был мой ответ.
«Человек, который располагает информацией, подающей нам последнюю надежду, находится здесь».
Я был поражён, но сумел взять себя в руки: «Его необходимо сегодня же перевести в другое место».
«Постараюсь, но город окружён. Завтра начнется сплошная облава… Этот человек держит при себе записи. Можете ли Вы их спрятать, чтобы уберечь для более счастливых времён?»
Мурзин сменил лист бумаги, а прежний сжёг, чиркнув зажигалкой. Обгоревшая бумага упала в раковину.
«Хочу, но не знаю, каким образом».
«Отнесите к себе на работу. Вы ведь уходите обычно очень рано…»
Мурзин сжёг и этот лист. Сделав знак, вышел из кухни и через пару минут вернулся с толстой тетрадкой в клеёнчатом переплёте.
Я взял тетрадку и отнёс в свою комнату. Положил в портфель.
Я переживал сложное состояние. Но я не колебался, готовый пожертвовать всем. Я знал, что приложу все силы, чтобы «Завещание Сталина» не попало в чужие руки.
Что оно содержало и что означало, я себе ещё не представлял. Но и того было довольно, что наши недруги давно охотились за этим документом.
И ещё: я восхищался Мурзиным, сумевшим и своё бескрайнее горе поставить на службу высшей идее. Я только теперь понял, отчего он сохранял связи с Леопольдом Леопольдовичем, в сущности, презренным типом: болтун держал его в курсе дела.
Вернувшись в кухню, я услыхал, как Мурзин разговаривает по телефону. Совершенно пьяная речь. С типичной для него хрипотцой:
— Скажи Шурке, что я, полковник Мурзин, возмещаю недостачу… Временно, конечно. В долг, вашу наперекосяк… Не поверит? Хрен с ней, вези, выдам ей из рук в руки. Три тыщи, больше не могу… Ну, пять, хрен с вами, пять!.. Кати, пока не передумал!..
Дальнейшие события я наблюдал из тёмного окна своей комнаты, прячась за шторой.
К подъезду подъехала «Волга». Я узнал таксиста, когда он вышел из машины вместе с пожилой, полной женщиной в платке — это был тот самый таксист, который привёз меня в город с вертолётного аэродрома.
Я слышал, как эти люди шумно ввалились в квартиру, как их приветствовал «пьяной» болтовнёй Мурзин, как отсчитывал им деньги.
А минут через ссмь-восемь к «Волге» возвратился шофёр и его «Шурка». То был уже переодетый Прохоров, человек, за которым велась охота. Он использовал одежду женщины, но был явно выше её ростом и гораздо уже по комплекции. Но это отмечал мой настороженный взгляд. Другие глаза, скорее всего, на эти различия не обратили бы никакого внимания.
А ещё через час, когда уже надвинулись сумерки, ещё раз хлопнула входная дверь. Я не поленился занять свою прежнюю позицию у окна и увидел, как приехавшая женщина, одетая уже совершенно иначе, в южной широкополой шляпе с большим свёртком под мышкой, уверенным шагом пересекла двор, где на лавках обычно допоздна сидели пожилые люди, ведя свои обычные разговоры…
В садах наших грёз
Высокая культура, прежде всего, внушает человеку, что он ничтожен вне общности.
Что ж, это так — ничтожен. Как слепой в горах и ослабевший в морских водах, он слаб в пространстве массовой глухоты, и едва перестаёт подчиняться общим обыкновениям и призывам, обречён, его выталкивают как чужое и чужеродное. И не спасают, в конечном счёте, ни деньги, ни слава, ни оставшиеся силы…
Много тайн окружает наше короткое блуждание в этом мире, и то, что мы даже не задумываемся о них, может быть, спаси-тельнее всего…
Главная «беда» в том, что новые и новые люди приходят в уже существующий мир. А генетика такова, что она производит лишь примерно 80 % усреднённых типов, способных принять среду как свою собственную. Остальные — или постоянно тоскуют о прошлых временах, или грезят будущим, которое представляется их воспалённым надеждам гораздо более совершенным.
Этот естественный, великий и неодолимый разлом духа как-то компенсируется двумя феноменами действительности.
Один из них — волшебная Природа, сделавшая возможным само чудо жизни. Её гармонии достаточно, чтобы умиротворить и душу упрямого огнепоклонника, и душу монашеского отшельника или восхищенного ревнителя ритуалов, с радостью пляшущего на свадьбах и искренне рыдающего на похоронах, но также и мрачного мечтателя, ожидающего более высокой гармонии, страдающего от грубости нравов и примитивности социальных обыкновений.
Природа простирается на тысячелетия назад и на тысячелетия вперёд, и потому её гармония представляется каждому эталонной и божественной. Она всеобъемлюща: если это стихия леса, она неисчерпаема по многообразию самовыражения. То же касается стихии гор, моря, пустыни, бескрайних снегов…
На поляне, где разомлевшие от солнца травы растут на глазах и где обилие цветов и букашек особенно трогательно намекает и на твою нужность в любом качестве этой никому не подвластной стихии, чувствуешь, что это и есть твой подлинный дом. Тут не присядет благодарно только тот, кого казнят и терзают тревоги…
И когда красота и умиротворённость земли, вод и неба переливается в красоту и умиротворённость пусть даже и примитивного быта, сказочную, былинную масштабность приобретают и хмурый кузнец Степан, прошедший Афганистан, и прозрачный от своего бескорыстия, мелкий и суетливый дед Пилип, шьющий бесплатно хомуты и делающий для всей голопузой детворы глиняные свистульки, неистощимый на шутки и постоянно, но беззлобно посмеивающийся над пришлым и настороженным элементом: «А ты, милый, случайно не из Блохиничей, что под Барбосовичами?..»
И дети, и бабы, шалости одних и нескончаемые заботы других, от стирки белья до прополки на огороде, получают величественное, ритуальное звучание, и неказистая хата кажется обиталищем древних богатырей…
Другой феномен, открывающий для души необъятный простор, представляет собою мир мысли, этой вечной оранжереи Правды и Истины. Мечтает и примитивный, мечтает и совершенный, и грёзы их сдерживает напор боли и страдания, возникающий неизбежно из разлада желания и яви, потребности и её удовлетворения. И работа — не та, и деньги — не те, и жильё — не то, слишком убогое и слишком быстро обрастает бытовым хламом, и подруга — не такая, о какой мечталось: кволая от ударов быта, не приметит ни радости, ни печали, не почувствует маяту сердца и брякнет что-либо невпопад, когда так хочется помолчать и подумать…
И в мыслях есть свои тупики и овраги, выселки и хутора, и мечты напоминают то бутылочную зелень морского залива среди скал и жарких волн воздуха, пропитанного гниением йодистых водорослей и медуз, то пахнущую морозом, бездорожную снежную целину с одинокой берёзой, над её куржавой полупрозрачной кроной висит сплющенное малиновое солнце…
Для всех, кто отваживается на кругосветный поиск на паруснике ожидания или воздушном шаре грёзы, открывается тонкая гармония жизни в добре, справедливости и умиротворении. Но и в беззащитности перед случайным или неслучайным дыханием рока.
Сильная мысль, как и могучие дубы на поляне, вдруг повергает в трепетное смятение: это же вот как щемяще честно и благородно могла бы вершиться вся жизнь! И — радость наслаждает душу, и умиление от того, что маленький и слабый человечек способен произвести необходимое и мудрое открытие, которое не может не быть божественным, потому что равно печётся обо всех… Бог никогда не там, он всегда здесь, среди тех, кто поднимается к небу…
Если вдуматься, картины природы — это высшие нравственные заповеди, только имеющие вид сокровенных соответствий. Пронзительная тишина в парке накануне дождя, свет заката, томящий душу неостановимым бегом времени, сольные партии соловьев в весеннем перелеске, волнение ржи под тугим предгрозовым ветром, запахи костра над рекой, парадоксы морского простора, когда слева надвигается чёрно-синий шторм, а справа — всё ещё сияет солнце и блестит штилевая гладь… Господи, да разве можно перечислить все эти великие чувства, внушаемые трепетной жизнью Земли?..
Но ведь и человеческий быт — это те же заботы пчёл и муравьев, только ещё более сложно организованных, владеющих речью и письменной, неугасающей памятью. Вот отчего так отрадны картины вечного труда на пашне, ловли рыбы, единоборства с диким зверем, это упорное стремление противопоставить болезни, голоду и забвению любовь и ответственность, веру и добродетель, славу и традицию… Всё это — совесть, дань народившегося перед нарождённым, дань утра и вечера перед полоской алой зари, кровавой раны, останавливающей надежды…
Но и тогда, когда мы выбираемся в бездонь высоких размышлений, остаётся тайна. И прежде всего тайна воплощения прекрасного, реального и прочного в природе, но фрагментарного и мгновенно исчезающего в человеческой толпе: многие ли способны освоить мысль гения, которая, может быть, равновелика грандиозным картинам бытия, — водопадам, степному раздолью, барханам, таинственным болотным топям и грозному морскому прибою, с весёлой песней перемещающегося песка и гальки?..
Скажу ещё более сокровенное: каждое существо жаждет занять равноправное, по крайней мере, с другими положение. Это удаётся лишь немногим и в масштабах мира, и в масштабах национальной общины.
Единственная сфера, где человек может быть спокоен относительно своего равного статуса, — это Природа, череда её бесконечных пейзажей, жизнь её мирных населенцев, увиденная со стороны в момент их спокойствия и умиротворённости. Но более всего, это сфера мысли, сфера доброй фантазии и мечты, не галлюцинации и химеры, вызванные наркотиками и винными парами, а строй логических дум, созидание нового плода, предполагающее определённый навык и определённую культуру, — и пахота, и постройка дома, и звучание музыки, и очарование знакомого голоса…
Вы задумывались когда-либо над феноменом веры? Абсурдно, примитивно, глупо, и, тем не менее, вера собирает миллионные толпы. Если вникнуть в психическую подоплёку явления, всё это люди, стремящиеся обрести уют равного положения по отношению к богу, пусть даже униженного практически, зато равновеликого в почитании недосягаемого и непознаваемого…
Не случайно, что неверующие (или создающие собственную парадигму божественности) — это преимущественно люди, умеющие наслаждаться гармонией непотревоженной Природы и способные к самостоятельному мышлению. Ибо при самостоятельности мировосприятия человек тотчас же устанавливает унизительный обман, творимый всеми религиями: они требуют покорности перед «наместниками бога» на земле и постоянного принесения даров. Они ничего не гарантируют, потому что ничем не владеют, все их обещания — только мистификация…
И тут мы подходим к феномену художественного мышления в словах или образах, которое прежде составляло всё пространство духа, заменяло все науки и ныне остаётся для человека основной школой познания. Тут и политика, и философия, и социология, и медицина, и живопись, и музыка, и искусство пророчества…
Как проникновение в Природу или погружение в сферу высокой думы награждает нас сопереживанием собственного достоинства, так искусство слова и образа проделывает это на своём уровне, урывая от красот Природы и от правды мысли, чтобы утвердить достойное положение человека, уравнять его права хотя бы в минуту наиболее яркого и бескорыстного свечения.
Таким образом, ясно, что может относиться к художничеству, а что — не может. Добавьте мастерство и изощрённость в ремесле и вы получите высшее, что производится совершенным в миг творения человеком.
Каждая настоящая картина, каждая настоящая художественная книга есть храм с вашим личным входом. И какими ничтожными и нищими выглядят те, кто забыл дорогу к своему храму и довольствуется пёстрым базаром пустых телевизионных шоу или оскорбительной эстрады! Это всё уже вторичное, не стимулирующее рост в человеке его истинно человеческих измерений. Смотреть — не думать, видеть — не сравнивать, возмущаться — не искать ответа, соглашаться — умирать заживо…
Увы, эгоистичный разум, обслуживающий политический заговор, всё использует в противоестественных целях. И потому, открывая простор для созидательной работы художников, необходимо одновременно множить преграды на пути захвата органов печати кланами, использующими слово и образ для оболванивания честной и потому доверчивой публики. Необходимо не поддаться на «информационную магию» паутины Интернета. Это означает прежде всего: никакого признания извращений и патологии, никакого примирения с теми, кто штурмует основы морального сознания, безжалостное снятие покровов со всех мимикрирующих мошенников. Они не победят, если даже сегодня торжествуют, попирая более совершенных.
Дело это сложное, но критерий правильности известен: ни один достойный сын Отечества не должен быть ущемлён в праве разоблачать противников народной свободы и называть все вещи своими именами.
Не просто, не просто осуществить всё это, если даже есть воля! Ведь надобно знать, что и мир не стоит на месте, и вековая доверчивость людей к доброму слову ныне используется в глобальной политической борьбе с тайными, глубоко сокрытыми от взоров целями. Вот, вроде бы схватились два народа и повели кровавую войну; и оба не знают, что осуществляют коварные цели совсем другого народа, через агентов своих и награбленные капиталы умеющего повсюду изменять умы и покупать лакеев…
Способный видеть сквозь годы, умеющий играть бессмертную музыку на струнах человеческой скрипки, я в отчаянии опускаю руки: как убедить тебя в том, что вот эта книга повествует о сути народной жизни, а вот эти, выряженные в пёстрые рекламные перья, только навоз и гной, от которого заболеет и завтра умрёт твоя душа?
Никогда пророк не требовал от человека сверх того, что было ему посильно. Но в наше время, когда все истинные пророки задушены, замордованы, затравлены и лишены голосов, видимо, пора потребовать и от простого человека, ибо общая погибель уже приблизилась и уже поздно проливать слезы, и без того мы на пепелище, где ни дома, ни поля наши, ни дети наши уже не принадлежат нам…
Последний долг — достойно умереть
Ночью я перечитал записки Алексея Михайловича Прохорова. И, конечно, был немало потрясён.
Прежде всего тем, что руководство СССР преступно скрыло от народа замысел, прочерчивающий всю дальнейшую стратегию развития страны. Было совершенно ясно: если бы «Завещание» своевременно попало в общество, страна избрала бы иную стратегию развития и не стала бы жертвой заговорщиков.
Но ведь потому оно и не попало к народу.
Дряхлеющее Политбюро, разопревшее от политических проходимцев, над которыми уже не нависала контролирующая воля, сделалось совершенно неспособным к претворению жизненных идей. Добропорядочность была им страшнее капитуляции. Новации страшили их, тогда как неизменность быта обеспечивала им продолжение кое-каких функций…
Не выполнил свою задачу и Комитет госбезопасности: разве не понимали его руководители, что выведение партийных бонз из поля наблюдения упраздняет не только главные функции КГБ, но и автоматически ведёт к разрушению страны? Что не чистится, то обрастает грязью…
Прохоров… Я знавал одного Прохорова. Не с родственником ли, не с сыном ли Алексея Михайловича свела меня судьба в годы первой чеченской бойни?..
В записках не было ничего о жизни самого Алексея Михайловича, а так хотелось бы повидать его лично, взглянуть на него, поговорить с ним…
Капитан Прохоров был, как и я, в особой резервной роте, подчинённой представителям ФСБ в армейском руководстве. Два взвода нашей роты погибли практически полностью, попав в засаду неподалёку от Грозного.
Люди были застигнуты врасплох и не успели дать противнику никакого серьёзного отпора. Ураганный пулемётный огонь и залпы гранатомётов с трёх сторон в считанные минуты решили нашу судьбу, по сути предопределённую бездарным и легкодумным приказом, каких тогда случалось бессчётно: кто-то методически убивал лучших людей России, зная, что худшие уже ничему не воспрепятствуют. Чечня была фактором, призванным гарантировать невозможность восстановления разрушенного государства…
Прохоров (боже, не помню уже, как его звали!) был смертельно ранен в грудь и умер возле горевшей БМП, сказав три страшных слова: «Измена. Нас продали…» Три слова, которые до сих пор определяют всю нашу судьбу…
В том бою мне прострелили плечо и поранили обе руки…
Уже в своём рабочем кабинете я оценил проницательность и цепкость мысли отставного полковника Мурзина. Весь городок, зажатый в тесной долине, с шести утра был наводнён войсками и милицией. Начались сплошные обыски.
В этих условиях спрятать тетрадь с записями Прохорова в официальном учреждении было, пожалуй, наиболее разумно. Хотя риск, конечно, оставался. Тем более что никто не мог подстраховать меня: все четверо моих сотрудников были людьми криводушными и в высшей степени ненадёжными. Они следили за мной, и каждый следил друг за другом.
Примерно в половине восьмого раздался телефонный звонок.
Звонил Ефим Соломонович. Видимо, он считал, что вчерашний брудершафт позволяет ему не церемониться:
— Извини, друг, жизнь, не зависящая от нас, внесла коррективы. Тут сейчас такое творится!.. Сёма уже попил с Леопольдом. А мы едем с тобой, спускайся, уже подошла машина!..
Эта возбужденность хищника, эта лихорадочная суета ради захвата честного и порядочного человека, слабого, как я и предполагал, старика, убедила меня в том, что я принял единственно верное решение.
И хотя записки Алексея Михайловича Прохорова были настолько плотными, что требовали повторного прочтения, может, даже тщательного изучения, я уже хорошо представлял себе, что так тревожило недругов: ложь о Сталине была главным козырем в их разрушительной пропаганде. Они изображали дело так, что сталинский режим пожирал честных людей, тогда как он опирался на честных людей и служил интересам честных людей. Обращаясь к согражданам, величайший стратег и провидец XX века намечал план эффективного политического противостояния уже развернувшейся против всех народов агрессии. Я нисколько не сомневался в осуществимости грандиозного замысла переустройства советской жизни. Особенно мне нравилась та его часть, где Сталин говорил о практической невозможности и потому бессмысленности затеи — измерять человеческий труд по его количеству и качеству. Да, действительно, и мне неоднократно приходилось говорить и спорить на эту тему, сталкиваясь с несправедливыми оценками трудового вклада.
Карьера человека и сегодня меньше всего зависит от его личных достоинств, неизмеримо больше от стечения обстоятельств, от субъективных факторов — родства, поддержки, связей и т. п. Оказывается, не только я плющил себе мозги этой досадной житейской проблемой, ею столь же внимательно и пристрастно занимался Сталин, и он раньше всех сообразил, что нам навязали эту пустую и надуманную проблему, она может столетиями истощать народы в пустых реформах и невообразимом умножении бюрократии…
Понять, обращаясь к проблемам общественного развития, что реально обещает плюсы и что никаких плюсов не обещает, что лишь усилит в обществе противостояние и противоборство, — это, может, и есть главное в политическом искусстве и в человеческой мудрости вообще: разумно — что необходимо для всех.
И для нас, и для нынешнего западного общества, которое, как и нас, уткнули рогами в химерическую действительность, всё это гораздо важнее, чем схемы гарантированных ответных ракетно-ядерных ударов: именно виртуальность быта, запрограммированность реакций, становящихся всё более неадекватными, предопределяет всеобщую неустойчивость: вымывание валютных резервов каждой страны: миллиарды долларов расходуются на наркотики, индустрию порнографии и прочую навязанную в условиях бесперспективности и тупости чепуху, обогащают врагов всей человеческой общины. На эти деньги они строят и скоро построят совершенно иную цивилизацию, где нынешним гегемонам уже не будет никакого места, это будет всепланетная тюрьма с одним сроком отсидки для всех — пожизненным…
Оказывается, и этот роковой поворот предвидел сталинский гений. И совсем не случайно предупреждал о гибельности повторения социально-экономического опыта западных стран. Это — пустое, бесцельное, разжижающее волю наций. Искать надо, действительно, не в прибыли, не в производительности, не в оплате труда, искать надо в личной культуре человека — в механизмах воспроизводства его честного отношения к своим обязанностям, что обеспечит и всё остальное. Сталин воспринимал народ как большую семью и нащупывал тут естественные решения, когда никто не считает трудового вклада, но каждый, если это здоровая семья, стоит на страже общих интересов и выкладывается на полную катушку…
Я вышел из прохладного здания на улицу. Было ещё утро, но уже чувствовалось, что день будет знойным и парким.
Возле машины ожидал самоуверенный Ефим Соломонович, месивший зубами жевательную резинку. За рулём иномарки сидел шофёр. В десяти шагах стоял омоновский уазик.
Весть ударила страшная, но я даже не пошатнулся, не дрогнул, спокойно выслушал её: борьба вступила уже в ту фазу, когда было излишне беспокоиться о результате — или пан, или пропал.
— Господин Пекелис, Вы не чувствовали, проживая в квартире этого Мурзина, что вокруг происходят странные вещи?
— Сейчас странные вещи происходят ежедневно по всему земному шару. Что Вы имеете в виду, коллега?
— Кто жил у вас за стеной? Справа и слева? Припомните-ка, голубчик!
Я изобразил усердное воспоминание, тотчас сообразив, что им может быть известно.
— Справа — гостиная, там в плохую погоду спал полковник. Слева — пустая комната его дочери. Она никому не сдавалась.
— В этой «пустой» почти четыре месяца жил человек, которого мы разыскиваем, — меня ощупывали безжалостные глаза навыкат. — И что же, Вы никогда не слышали покашливаний, вздохов, шагов?
— Нет, не слышал. — И в самом деле, я никогда не слышал за стеной звуков присутствия постороннего человека. Я исходил из того, что комната пуста, и не связывал звуки, которые до меня, возможно, и доходили, с закрытой комнатой. — Если вслушиваться, звуки в наших блочных домах ползут и с верхних, и с нижних этажей.
— Странно, — протянул Ефим Соломонович.
— Самое странное сейчас — как Вы это обнаружили?
— Да вот так и обнаружили. Можно сказать, случайно. Нагрянули, собрали у всех отпечатки пальцев. Мужик в мобильной лаборатории, проверявший дактилоскопию по компьютеру, чуть с ума не сошёл. И я не сразу поверил: во фишки!
— Где сейчас Мурзин? Что он говорит? Отпирается или признаёт?
— Ничего не говорит. Он всё отрицает. Потребовал повторного анализа. Мы его задержали, и сейчас идёт тотальный шмон не только в его квартире, но и во всём доме.
— Прошёл всего час с тех пор, как я вышел из квартиры, не верится!
— Мы, создатели этого мира, давно не доверяем его сигналам!..
Самым важным было — не дать повода к подозрению. Но что это значило, если я имел дело с алогичным сознанием оккультиста? Малейшее подозрение, и они могли перевернуть все служебные столы.
Вероятно, я промедлил больше допустимого.
— Пекелис, что тебя так озаботило?
В этот момент мне явилась хорошая мысль. Я даже чуть было не рассмеялся. Нет, что ни говорите, профессиональный работник моего направления должен всегда исходить из самого скверного: излишняя осторожность не повредит.
Я вспомнил, что у меня в кармане пиджака есть листок, на который переписаны все номера денежных купюр, полученных от американцев.
Я извлёк стопку визиток и среди них нашёл нужную бумажку. Протянул Ефиму Соломоновичу:
— Немедленно едем ко мне! В настенном чехольчике для одёжной щётки я держу некоторую сумму валюты. Как только мы убедимся, что деньги на месте, я поговорю с Мурзиным. Я его знаю как облупленного и быстро выверну наизнанку!..
Денежный аргумент убедил Ефима Соломоновича. Я это тотчас почувствовал. Подъехали к дому, поднялись на этаж. Там стояли омоновцы.
— Где следователи? — начальственно спросил Глобин.
— В квартире.
Вошли в квартиру. Проследовали в мою комнату, где два следователя снимали с полки книги и тщательно пролистовали страницы — что-то искали.
Я показал на белый матерчатый чехол, вещицу из 40-х или 50-х годов. Люди и тогда украшали свою нищую жизнь. Вот и этот застиранный чехол покрывала аляповатая вышивка из выцветших синих и красных квадратиков и ёлочек.
— Музейный экспонат, — брезгливо сказал Ефим Соломонович, осторожно извлекая щётку и запуская в чехол два пальца. — Пусто… Ты ничего не путаешь, Пекелис?
— Клянусь предками! Это были достойные люди!..
Ефим Соломонович тотчас же приказал следователям вывернуть карманы. Они было заартачились, но рослые омоновцы, которые прибыли с нами, подсказали им, что шутки могут окончиться плохо.
В кармане одного и другого сыскались новенькие стодолларовые купюры. Ефим Соломонович сверил номера.
— Сувениры верните на место! Это не вещдок! А по факту будем ещё разбираться!
Следователи ошеломленно переглядываясь: они не ожидали такого поворота.
— Где Мурзин? — спросил я у следователей, нарочно пересчитав деньги и спрятав их в портмоне.
— Исчез.
— Как это «исчез»? — рассвирепел Ефим Соломонович. — Почему упустили? Где он?
— Неизвестно, — ответил один из следователей. — Его задержали. Он попросился в туалет и оттуда не вышел. Стали искать, обнаружили вторую дверь — потайную. Она вывела во двор.
— Вторая Лубянка!..
Да, действительно, одна из стен туалета представляла из себя дверь, которая вела на узкую винтовую лестницу, оканчивающуюся выходом в коридор на уровне первого этажа, замаскированным под трансформаторную будку.
Я сотни раз пользовался туалетом, не подозревая, что он имеет ещё и иное назначение.
— Всё ясно, — подвёл итог Ефим Соломонович. — Тут действовала конспиративная группа! А вами, доверенным лицом, пользовались как прикрытием! Это был опасный для меня поворот мысли.
— Вы правы, весь этот городок напичкан, вероятно, подобными конспиративными группами, — в тон Ефиму Соломоновичу ответил я. — Но, к счастью, сейчас решают не эти группы, а наш напор. Надо немедленно установить, где Мурзин. Нужно организовать общий поиск!..
Когда уже мы сели в машину, чтобы следовать по заранее разработанному маршруту, во дворе показался «беспечный» Мурзин. В белых брюках и чёрном пиджаке, он делал нам знаки, чтобы мы остановились.
— Чёрт знает что такое! — проворчал Глобин. — Старая кефаль всё ещё считает, что она гуляет по Дерибасовской!
Мы выскочили из машины.
— Куда Вы делись?
— Никуда не делся… Когда я понял, что мне шьют чужой лапсердак, я решил сам отыскать подлинного злодея. И что же? Это в конце улицы Люксембург, в самом тупичке у лесопарка… Возможно, эти люди пробирались ко мне, когда меня не было дома… Я раздал по знакомым все комплекты ключей. Все из тех, кому я доверяю, знают этот тайный ход… Да и Леопольд знает… Сейчас я привезу Вас к дому, где находится человек, который Вам необходим…
— Вы в изрядном подпитии, гражданин Мурзин, — с брезгливой досадой сказал Ефим Соломонович. — Не знаю, право, как Вам и верить.
— Да вот так и верить, — артистично расставив руки, сказал Мурзин. — Вчера верили, а сегодня уже не хотите. Не хотите, так мотайте в свою Пидерляндию!.. Вы же тут все бериевцы, все враги народа, если не видите вокруг себя больше ни единого порядочного человека!..
— Пусть укажет дорогу, — твёрдо сказал я. — Мне, в самом деле, начинает казаться, что всех нас принимают за олухов… Ну, поймаем того, кого надо, и, уверяю вас, тут воцарится такое же болото, которое здесь было всегда!
Ефим Соломонович, опасаясь всё же за собственную шкуру, велел посадить Мурзина в омоновский уазик, и мы поехали следом, сопровождаемые любопытными взглядами местных жителей: в городе уже прошёл слух, что в «главном учреждении арестованы чеченские террористы».
В конце улицы Розы Люксембург, которая выходила на дорогу, ведущую по краю ущелья к вертолётной площадке и далее — через два усиленных блокпоста — к тоннелю и шоссе на Новороссийск, стояло уже оцепление — толпились омоновцы. А чуть поодаль — местные зеваки.
Глобин, который выдавал себя за грузина и потому разговаривал с грузинским акцентом, подошёл к группе офицеров, которые, как выяснилось, и командовали всей операцией. Там же находились Леопольд, зять Мурзина, и седой следователь Цвик.
Я и Мурзин остались возле машины, но мы оба хорошо слышали весь разговор.
— Почему затор? — спросил Ефим Соломонович, здороваясь со всеми за руку.
— Обнаружили беглеца, — невнятно сказал рослый полковник в милицейской форме со славянской, но слишком уж мальчишеской внешностью. Нелепая рыжая бородёнка, обрамлявшая его круглое лицо и маленький, красногубый, словно накрашенный рот, создавали впечатление чего-то игрушечного, невсамделишного. — Возможно, это именно тот человек, которым вы интересуетесь. Группу прочёса встретила автоматная очередь из подвала. Мы отошли, потому что беглеца надо брать живым.
— Только живым, — подтвердил Глобин, почесав себя за ухом. — Но почему это столпотворение, если там вооружённые бандиты?
— Совещаемся, нужен парламентёр… Этот дом — перестроенное караульное помещение. Перед ним овраг, за ним шоссе, а выше — лысая гора. Со стороны улицы — незастроенные участки. Так что подобраться незаметно и внезапно — исключено… В доме минимум двое…
— Сообщник из местных, — уверенно сказал Глобин и махнул мне рукой, предлагая подойти.
Когда я приблизился, он понизил голос так, что нас не могли слышать офицеры, руководившие операцией.
— Как думаешь, кого послать?
Я понимал всю нешуточность затеи.
— Кто может лично опознать человека, которого мы ищем? И кто занял в этом доме круговую оборону? А если это совсем другие лица?
Мои слова попали в цель. Глобин нахмурился:
— Ты, Пекелис, неглупый человек. Очень неглупый человек… Прохорова знает господин Цвик.
— Пусть идёт он. Вместе с Мурзиным, так мы проверим и этого человека. Ну, а для страховки я бы добавил к ним Леопольда.
Глобин прищурился.
— Леопольд — не то… Пойдёшь ты, как самое сильное звено в нынешнем раскладе!
На это, собственно, я и рассчитывал.
— Условия, которые мы должны предъявить человеку, если он окажется именно тем, кто нам нужен? — я спросил это с тяжёлым вздохом, но и с решимостью бывалого человека.
— Условия?..
Мне показалось странным, что важнейший вопрос застал Ефима Соломоновича врасплох.
Он проколебался пару секунд и выдавил с усмешкой, показав крупные, но редко посаженные зубы субъекта с неустойчивой психикой:
— Он должен добровольно сдаться… Мы обещаем ему жизнь и хорошие деньги за некоторые сведения, которые сегодня уже не составляют государственной тайны… Россия антисемитов проиграла историческое сражение. По крайней мере, триста лет ей придётся теперь стоять на коленях… А, может, и гораздо больше!..
Глобин поговорил вполголоса с командиром омоновцев, махнул нам рукой, и мы пошли.
Я чувствовал приподнятость духа и невесомость в теле, как при всяком ответственном предприятии.
Дом, к которому я повёл парламентариев, размахивая палкой с привязанным к ней белым носовым платком, находился на расстоянии 250–300 метров.
Мы прошли уже метров сто вдоль пустыря, называемого улицей Розы Люксембург, когда я обратил внимание на то, что господин Цвик тащит в руках тяжёлый портфель.
Позади осталось оцепление, и ветер дул нам в спину.
— Господин Цвик, что это Вы тащите?
— Вода и пища для окружённых. Это передал мне Глобин… Но мне кажется, это система акустического наблюдения…
Сказано это было неуверенным голосом, выдававшим страх. «Трусит?..» Я взглянул на Цвика. Он был бледен и едва держался на ногах.
— Павел Павлович, — обратился я к Мурзину. — Помоги товарищу. Он не знает, что несёт, и потому перепуган.
Мурзин шёл позади всех.
— Он не знает, а я знаю, — отвечал Мурзин в своей обычной манере. — Адскую машинку он тащит, вот что… Разве этих людей интересуют идеи? Их интересует только то, чтобы нигде не было никаких идей… Особенно честных и благородных…
Метров сто уже до дома оставалось. Мы взяли вправо и шли у каменистого ложа ничтожного горного ручья, в период дождей превращающегося в гудящую реку, по которой катятся тяжеленные камни.
Господин Цвик внезапно остановился и поставил портфель на асфальт.
— Да, это бомба, — обречённо сказал он. — Разве им жаль наших жизней?
— Что же ты, старая сука, молчал всю дорогу? — возмутился Мурзин.
Он снял с себя пиджак, обкрутил им портфель и, держа весь этот смертоносный груз у груди, стал спускаться к ручью.
— За мной, ребята, не отставать. Если они заметят подвох, нас до срока отпоют ангелы.
Я понял манёвр. Спустившись к ручью, Мурзин на самое короткое время пропал из виду для тех, которые, конечно же, тщательно наблюдали за нашим передвижением.
Вмиг портфель был пристроен в первую попавшуюся выемку невысокого берега, а пиджаком накрыт крупный камень.
Осторожно перейдя каменистое ложе ручья, мы оказались на выжженном солнцем поле уже в каких-нибудь шестидесяти метрах от дома, не подававшего, впрочем, никаких признаков жизни. Кстати, из дома могли видеть и, вероятно, видели оставленный портфель.
Я усердно изображал парламентёра. Мурзин тащил «портфель». Группу замыкал, спотыкаясь от своих переживаний, не понятный мне человек, в порыве страха раскрывший тайну, которую он, скорее всего, не имел права раскрывать.
«Знал ли он обо всём коварном замысле, так чётко обрисованном репликой Мурзина?..»
— Стоять на месте! — вдруг послышался окрик. — Куда идёте? Чего надо?
— Пстро, — обрадовано протянул Мурзин, узнав голос. — Скорее открывай хату! Мы парламентёры! Башку напекло, мать их в левую ноздрю!..
И в самом деле, дверь вскоре отворилась. Я шагнул в тёмное чрево дома вслед за Мурзиным, переступив через низкий порог…
И тут — прогремело. Взрыв необыкновенной мощи вздыбил полотно дороги. Чёрный гриб вырос над землёй, закрыв солнце. Слух отключился — уши словно проткнули кольями.
Я обернулся и — не увидел господина Цвика. Впрочем, я увидел его в следующую секунду: он лежал на земле в трёх метрах от порога среди выбитого из окон стекла. Глаза и рот его были открыты.
Нигде никаких следов ранения. Но он был мёртв. Мурзин пощупал пульс.
— Не выдержало сердце. Он ожидал взрыва…
В человеке, распахнувшем перед нами дверь, я узнал таксиста, который когда-то завёз меня к Мурзину. Он был хмур и сосредоточен.
— Ну, вот, мы все здесь — свои, — тихо сказал Мурзин. — Веди к главному на совет.
Пожилой таксист, прижимая под мышкой автомат, повёл нас в бетонированный подвал, откуда открылась панорама на дорогу. Вдали отчётливо виднелись машины, два БТРа и группами — люди.
Амбразуры шли по всему периметру фундамента.
Было темновато. Или это мне казалось, всё ещё ошеломлённому поворотом событий?
— Поднимемся на веранду, — послышался голос высокого пожилого человека, который вёл круговое наблюдение, переходя от одной амбразуры к другой. — Светлые люди должны разговаривать там, где достаточно света.
На веранде Мурзин представил меня Алексею Михайловичу Прохорову. Старик выглядел устало, но держал себя в руках.
— Ну, что, друзья? — сказал он, когда мы присели вокруг него на веранде, выходившей в сторону пологого холма. — Всё на свете должно иметь своё завершение, и этого не нужно пугаться. Борьба была — борьба остаётся. Если я сдамся, мне уже не видеть воли, а ваши шансы осложнятся. — Он помолчал. — Не всё было достойно в нашей жизни. Видимо, не всё… Но идеалы остаются и потому надо найти в себе силы для достойного финала…
Я хотел сказать ему, что я был, возможно, свидетелем смерти его сына. Героической в любом случае смерти. Но я понимал, что это неуместно.
— За нами не заржавеет, — хрипло произнёс Мурзин. — Бояться нечего и незачем: мы не чужого ищем, мы своё вызволяем. А победа — впереди!
— Ну, что ж, прощайте, — Алексей Михайлович встал и крепко пожал нам руки. — Россия — это и те, которые живут неприметно и. уходят молча.
— А Петро? — спросил я у Мурзина, когда мы оказались вновь у дверей.
— У него свои счёты. Нам встревать туда не положено…
На улице мы подняли мёртвое тело Цвика. Мурзин — за ноги, я — за руки, перенесли его к асфальту пустынной улицы Розы Люксембург. Не сговариваясь, положили тяжёлое тело на бровке и пошли в направлении городка. Медленно, как после тяжёлой, выматывающей работы. Мы, действительно, очень устали — от переживаний, указывающих на нашу обречённость.
— Ты никого не видел и ни с кем не говорил, кроме этого Петра, — предупредил Мурзин.
Внезапно я услыхал невнятные выкрики впереди и звуки выстрелов позади — один, другой, третий. Я обернулся на дом, где остались Алексей Михайлович и таксист Петро, — над домом поднимался тяжёлый чёрный дым.
— Сгорят, — сказал я Мурзину, испытывая отчаяние. — Что же это творится?
— Сгорят, — кивнул он, словно рассуждая сам с собой. — Либо да, либо нет… Только не плакать, не плакать. Всё ещё только начинается, братишка… Правда должна достаться людям. Ничего нет важнее Правды для обманутого народа…
Приложение
Донос сионистов
ПРЕЗИАЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г. ЛУКАШЕНКО
Уважаемый Александр Григорьевич!
Только чрезвычайные обстоятельства заставляют нас обратиться к вам с этим письмом. Как вы уже, вероятно, знаете, 26 мая 2003 г. в Минске на мемориальном комплексе памяти жертв нацистского геноцида в годы Второй мировой войны был осквернён обелиск, воздвигнутый в 1946 году и являющийся исторической реликвией. Вы помните, конечно же, как два года назад на ваших глазах произошло его второе рождение: мемориал обрёл свой нынешний облик. Торжественное открытие мемориала проходило в вашем присутствии.
То, что произошло сейчас, выходит далеко за рамки обычного, хоть и с расистским оттенком, хулиганства. На сооружения мемориала, олицетворяющего жертвы всего еврейского народа Беларуси в годы оккупации — а это более 800 тысяч человеческих жизней (!), неизвестные нанесли свастику и надписи «Бей жидов» и «Холокост-2003». Нацистские символы на обелиске памяти жертв нацизма… Можно ли придумать пример более циничного глумления над человеческой памятью?! Что же касается угрозы ещё одного Холокоста и даже предсказания его точной даты, то это мы расцениваем как грубую попытку указать евреям на дверь: убирайтесь, пока не поздно, иначе будет хуже! Подобные акты осквернения еврейских святынь случались и раньше. Безнаказанность, как известно, порождает новые преступления. Писатель Э.Скобелев ещё в 1990 году предлагал при решении еврейского вопроса «браться за автоматы».
С горечью приходится констатировать; сегодня, при отсутствии антисемитизма как социальной политики государства, мы наблюдаем бездействие органов юстиции, которые не принимают серьезных мер для борьбы с конкретными антисемитами. Позорное издание книга «Война по законам подлости», признанной во всём мире своеобразной энциклопедией антисемитизма, так и не получило должной оценки со стороны официальных органов государственной власти, а суд признал эту книгу научным (!) изданием. Историческая фальшивка «Протоколы сионских мудрецов» стала в нашей стране научным произведением.
На улицах белорусских городов нередко появляются неонацистские граффити. В. киосках православной литературы свободно продаётся издающаяся в России неонацистская пресса, а в киосках «Белсоюзпечати» выходящая в Москве антисемитская газета «Русский вестник». На защиту этого издания в нашей «Народной газете» грудью встал один из идеологов Э.Скобелев. Он был единственным, кто с сожалением встретил жёсткий приговор суда, вынесенный в Витебске местным расистам — скинхедам.
Александр Григорьевич!
Вы были первым и единственным руководителем Беларуси, который официально посетил священное для нашего народа место — мемориальный комплекс «Яма». Мы хорошо помним ваши Слова, сказанные на Яме ещё в 1997 году о том, что евреи больше никогда не будут на нашей земле изгоями. Но ваши слова, к сожалению, никак не восприняты всё тем же Э.Скобелевым, который подталкивает нас к очередному Исходу. Ведь именно ему принадлежит следующее высказывание: «Ясно одно, что каждому народу уже пора возвращаться на свою территорию или добровольно терять право на национальную идентификацию» («Неман», 2002, № 7/8, с.80). Сегодня имена Э.Скобелева, Н.Чайки, С.Костяна стали синонимами агрессивного великодержавного шовинизма. Конечно, их деятельность можно просто расценить как плод нездоровой психики, но истории, известно, к чему может приводить творчество такого рода: ровно 100 лет назад именно антисемитские публикации журналиста П.Крушевана спровоцировали кровавый Кишинёвский погром, скомпрометировав Россию в глазах всего цивилизованного мира!
Уважаемый Александр Григорьевич!
Мы обращаемся к вам за помощью. Агрессивный идеологический радикализм угрожает не только евреям — он угрожает всему белорусскому народу. Стоит только нарушить нестойкое равновесие, в котором находится сегодня наше общество, и лавину беспредела уже не остановить.
Именно с мыслями о судьбе всего нашего Белорусского Дома мы и обращаемся к вам сегодня: остановите беззаконие, пресеките зарождающийся неонацизм. Национальное согласие всегда являлось главным достоянием любого цивилизованного государства, в том числе и Республики Беларусь.
С искренним уважением
от имени еврейской общественности члены президентского Совета Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
П.Левин, В.Черицкий, В.Шепектор, Б.Герстен, Л.Рубинштейн, В.Гершанок, М.Грейстер, А.Будницкий, В.Шавельзон, Я.Васин, Э.Париж
Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачать вас. Клейте им ярлык антисемитов, и вы увидите, с каким удовольствием остальные гои подхватят эту версию.
Из «Катехизиса еврея в СССР» (Тель-Авив, 1958 г.)«В России имеется устойчивая ненависть к фашизму. Поэтому мы своих врагов должны не стесняясь называть фашистами».
Алла Гербер, президент фонда «Холокост»

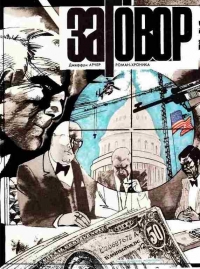

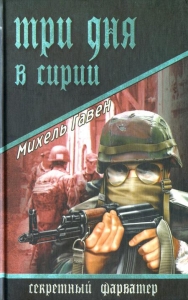

Комментарии к книге «Завещание Сталина», Эдуард Мартинович Скобелев
Всего 0 комментариев