За какое бы дело ни брался Марат Игоревич Муравьёв-Апостол, непременно добивался победных результатов, проявляя недюжинную волю и отменные лидерские качества. Став помощником машиниста пассажирского поезда, уберёг состав и сотни людей от неминуемой катастрофы. Увлекшись спортом, в короткий срок выиграл первенство страны по боксу. Отправившись на золотые прииски, стал обладателем огромного состояния. Близкое знакомство с криминальными авторитетами помогло ему избежать неминуемых подозрений в преднамеренном убийстве. Обнаружив в себе недюжинные художественные способности, Апостол увлёкся изготовлением фальшивых банкнот, что привело его к уголовной ответственности. В тюрьме его посетил священник и обратил в православную веру.
Осуждённый на многие годы тюрьмы, Апостол стал убеждённым священнослужителем в тюремной церквушке.
Виталий Каплан Аркадий Маргулис ОБРАЩЕНИЕ АПОСТОЛА МУРАВЬЁВА роман
Глава 1. Тюрьма. Малява
Преисполненный важностью возложенной на него миссии молодой шнырь[1] самозабвенно елозил машкой[2] по видавшему виды заплёванному продолу[3]. Кем был он до высочайшего поручения? Да никем: Никто по имени, Никак по фамилии. Обломали тюремные университеты. Зато теперь всё непременно изменится в лучшую сторону. Станет повеселее, как бывало на воле.
Никто исподлобья зыркнул на дремлющего за столом вертухая[4]. Не бояться… Крупные капли холодного пота, игнорируя брови-дамбы, затекали в глаза. Нещадно грызли нежную плоть. Не бояться… Если верно выполнить поручение, положенец[5], гляди, одарит погонялом. Не каким-нибудь там Дротом или Чухой, а настоящим, помогающим выбиться в мужики[6] и дождаться окончания срока живым и невредимым.
До этого дня шнырь никогда не бывал внизу, под первым этажом. С замиранием сердечной мышцы он рассматривал тюремный ШИЗО. Штрафной изолятор пугал и приманивал одновременно. Как лестница в небо. Через каждые двадцать шагов бесконечный проход разделяли стенки-решётки с запертыми на большие навесные замки дверями. Если, забыв где находишься, долго смотреть в перспективу, непременно увидишь перед собой под мертвечным светом мерцающих люминисцентов одно сплошное клетчатое железо.
Закончив драить очередной пролёт, Никто будил вертухая, и тот, прищурив глаза, огромным ключищем отпирал следующую переборку. Ещё один шажок к заветной цели, сытой жизни и босяцкой уважухе.
За щекой у Никто парилась мулечка[7], запаянная в целлофан. По одну сторону за плёнкой номер камеры изолятора — «куда», по другую — «откуда», на случай, если получатель в больничке или вовсе завершил земные скитания. Боязно шнырю: малява с воли, за такую, если поймают, хозяин[8] по головке не погладит. В сотый раз шнырь шептал про себя заклинание-оберег, пришедшее из далёкого детства:
«Заклеили клеем прочно
И ко мне прислали срочно
Я его не пожалею
Получу и вмиг расклею».
Стишок возродился в голове, когда сам отрядник[9] вызвал шалявогок[10] себе. Долго распекал за неуместное жужжание[11], а затем неожиданно всунул в ослабевшую от страха вспотевшую клешню маляву:
— Апостолу, — строго приказал, — доставь и забудь.
Никто отказать отряднику не посмел и, успев поднатореть в арестантских делах, с низкого старта рванул к положенцу, доложился, покаялся, спросил, как быть.
Отрядник, в сущности, кто? Хер с бугра. А Хан положенец, достоинством поважнее, ему авторитетные воры поручили за зоной смотреть. Хан, сидя в позе излюбленной, на корточках, едко прищурился:
— Делай, как велено.
И теперь крошечный клочок бумаги, запаянный в целлофан, щиплет щёку, ни выплюнуть, ни проглотить.
От грустных мыслей шныря отвлекла покрытая облупленной давно выцветшей краской камерная дверь. На ней едва различимый трафарет — «Двадцать два». Надо действовать. Никто склонился над ведром, яростно отжимая в него машку. Зыркнул исподлобья на спокойно дремавшего вертухая. Улучив момент, выстрелил тускло сверкнувший в тюремной подсветке конвертик в камеру, в узкую щель под дверью, лишь промелькнуло по-женски безволосое запястье со служивой мастью: примитивный кораблик с парусом, три кривые буквицы ВМФ и цифры 86—89, означавшие годы службы.
— Апостол, — едва слышно позвал шнырь вслед маляве.
— Метлу прикуси, — моментально послышался ответ, словно адресант заранее знал, что сделает шнырь.
Тот недолго думая, принялся драить дальше, млея от оторопи. Через несколько шагов он уткнулся в решётчатую стену. Негромко кашлянул. Вертухай очнулся, беззлобно выругался, но встал. Работа есть работа. Ключи, как ни крути, у него, зеку их не доверить.
Апостол, слегка озадаченный, рассматривал маляву. С воли — факт. Машинально понюхал, а ну как от Галимы или какой-нибудь случайной шалавы. Пахло скверно. Ну, пока погодит. Сделал глубокий вдох, задержал дыхание. Медленно досчитав до трёхсот, выдохнул. Поочерёдно расслабил мышцы рук, груди, пресса, спины. Затем резко, без передышки, отработал сотню приседаний. Прислушался к ощущениям. Порядок. Повторил: ноги приятно загудели. «Пистолетик»[12] — по четвертаку на ногу.
Восстановив дыхание, зарядил поочерёдно: сотню обычных отжиманий с широкой постановкой рук, с узкой, хлопками перед грудью и за спиной. Снова успокоил дыхание. Исполнил десяток замедленных отжиманий. Покончив с прессом, взялся за скакалку, настоящую, фабричную. Кум[13] за такую погонит половину персонала. Апостол улыбнулся собственным мыслям. И пусть увольняет — здесь, на зоне, каждый сам за себя выбирает, как жить. Голодным, но по уставу, либо сытым, и тогда уж по босяцким законам.
«Залетел» Марат в первый раз, но получал от чалки[14] несравненное удовольствие. Тюремное бытие с его жёсткими, как взгляд прокурора, правилами, заново зажгло интерес к жизни.
Мышцы практически пришли в норму, и Апостол, поймав краем глаза движение тени, резко выбросил кулак в сторону. Тень ретировалась с линии атаки, но, будучи обнаруженной, уже не имела шансов. Её соперник вжился в роль, представляя в мелочах бой. Сегодняшний он посвятит стандартной тройке, постепенно усложняя элементы — правый боковой в корпус, правый апперкот, левый боковой в корпус. Человек гонял по крохотной камере собственную тень, пока она не запросила пощады, в изнеможении опустившись на нары.
Когда в хате[15] появился новый сиделец, одуревшие от скуки арестанты оживились. Экземплярчик… Потеха на час-другой обеспечена. Такие спесивые здоровяки сразу не ломаются. Сперва ерепенятся. Новый мужик-сарай[16] от прописки[17] отказался напрочь. Посвящение в арестанты всем вышло боком. Не в добрый час подступились. Кто отделался выбитыми зубами, кто сломанной челюстью. Смотрящего камеры, тощего глуповатого и злобного наркошу[18], Апостол сгрёб за ворот железной лапищей, приподнял над полом и вдавил в стену. Когда тот забыл сучить ножками, разжал пальцы. Посмотрев сверху на копошащееся ничтожество, добивать не стал. Помочился на глазах приходившей в себя публики и завалился спать… на место свергнутого авторитета. На зоне заговорили, и через два дня пригласили на сходку.
Старый Хан долго молчал, неотрывно глядя на бунтаря, словно отыскивал в нём нечто известное одному ему, отдавшему тюрьме сорок лет жизни. Отыскал:
— Виноват я, человече, прости. Недоглядел по старости лет, наркомана смотреть за хатой поставил. Беспредел[19] дозволил… — обманчиво мягким, извиняющимся голосом проговорил Хан, и уже иным, жёстким, недвусмысленным, добавил: — Но больше так не поступай. Казнить и миловать я здесь поставлен. Иначе непорядок произойдёт. Обзываться Апостолом станешь, считай, по фамилии. Кто слово сказать хочет?
Блатные серьёзно, как на партсобрании, покивали синими мордами, соглашаясь. В руки новообращённого кто-то вставил жестяную кружку с дымящимся чифирём. Апостол сделал несколько коротких глотков горького, как его прошлые годы, но ядрёного, как кулак мастера Габриеляна, напитка. Послышался одобрительный гомон. Бродяги оценили. Тогда Хан сказал, что высмотрел у Апостола нужные для аристократа[20] качества, и что он, бывалый вор, берёт его в ученики. Это был первый урок. Апостолу, по совету положенца, следовало пострадать за бродяг в ШИЗО недельки с две, не меньше. И авторитета прибавится, и опыта поднаберётся.
Отдышавшись, Апостол вскрыл целлофан. Снова понюхал. Оценил обратный адрес. Осторожно расправил аккуратно умятый листик:
«Здорово тебе, бродяга Апостол.
От всей души зычу тебе здоровья, благополучия и фарта[21] в делах наших благородных. Знаю не понаслышке: наш ты человек в душе своей, правильной масти. Всегда таким был. Законы уважаешь. В курсе я, что трудно за забором. Но помни, любая канитель между своими должна разбираться по-нашенски. В присутствии положенцев. Слушайся Хана, он опытный и честный вор. В масти. Я его поставил над вами разборы делать по совести, ни в коем случае не кровожадные, ибо нам такое неприемлемо. Ты, Апостол, хороший бродяга[22], и я хотел ставить тебя в помощь положенцу, но вот какое дело. Просили меня Воры Российские за одного патлатого[23]. Встретить тот пожелал бродягу дерзкого в душевном метании. Потасовали. Выбор пал на тебя. Послухай мою науку. Не с целым сердцем прошу за патлатого, но знаком с ним лично. Человек он сильный. В свою масть многих бродяг сманил. Всё же порядок не воспрещает за таких впрягаться. Возьми вот некрасовских мужиков[24]. Если такие по недопониманию, либо по козьим убеждениям допускали козлячьи поступки, а именно: были стукачами[25], сдали кого-то, но ошибку свою поняли — это приятно. И всё же такой мужик, даже раскаявшись, не станет порядочным арестантом. Такого в нашей нищенской жизни не бывает. В нашенской жизни есть понятие: если кто-то впрягается за мерзавца, то он тоже мерзавец. Хорошие люди, в особенности воры, не впрягаются за подонков. Тварь поддерживает такую же тварь. А патлатые, хоть и замарали себя связью с властями, но тварями по понятиям не считаются.
А ещё пресекай, как и делал, всякий беспредел, ибо нож носится для хороших людей и самообороны. За хулиганские действия смело ломай руки, в этом тебе моё благословение.
Лютый, вор в законе».
Апостол выудил из складки одежды спичку, не обнаруженную при досмотре. В изоляторе запрещено курить. Чиркнул о бетонный пол. Подождал, пока малява не обратилась в чешуйку пепла, затем дунул. Чешуйка взлетела, рассыпаясь. Лютый — опытный вор, положенец по Ростовской области. Любопытно, отчего покинул Иркутск, ну да ладно, его ума дело. Он сам ставил Хана на зону. Тогда отчего письмо пришло напрямую, минуя смотрящего[26]? Вопросы, вопросы. Апостол ещё только учился, но его изворотливому уму не составило труда вычленить из письма два основных посыла. Первый и главный: за расправу над дохляком-наркоманом с него не спросят. Более того, получен зелёный свет поступать так и впредь. Второй: всесильный Лютый, авторитетный вор в законе, предлагал корешку Апостолу встретиться с каким-то попом, причём об этом хлопотали люди, коим отказать он не мог. Или не захотел. Сколько Марат помнил, Лютый ещё тогда, на прииске, имел слабость к кресту. Но он не требует, а настойчиво просит: встреться с патлатым, послушай, курни опиума для народа и, если пожелаешь, отошли попа обратно, откуда пришёл.
Что ж, если он всё правильно понял, ждёт его великое будущее. И, может, когда-то, на третьей-пятой отсидке[27], тот же Лютый, долгих лет ему жизни, отрекомендует на корону. Родная это стезя. Апостол чувствовал её всеми извилинами души. Только здесь он станет Человеком, обретёт душевный покой и радость.
Марат растёр между пальцами волоконце пепла, сжал кулак и сокрушительным не отбиваемым ударом вогнал потерявшую бдительность тень в щербатый бетон стены. Боль физическая лишь на миг заглушила боль душевную, но мгновения с избытком хватило провалиться в мертвецкий, без сновидений, сон.
Разбудил скрежет. Синий после бессонной ночи и дерьмового алкоголя вертухай пытался попасть ключом в замочную скважину. Апостол ополоснул лицо, сгоняя остатки сна, пригладил волосы и чинно сел на шконку[28] в ожидании результатов возни охранника. Если бы не перебитый нос, сломанные уши, плечи шириной с лимузин и кулаки с тыкву — пай-мальчик. Наконец, массивная дверь поддалась, отворившись с жёлчным скрипом.
— Принимай гостей, Муравьёв, — просипел Егорыч, вечно простуженный вертухай, судьбою вровень с пожизненным заключением.
Сам в дверном проёме не показался. Постеснялся своей синюшности. Вместо него в камеру вошёл невысокий человек в чёрном заурядного пошива френче, но с открытым лицом, располагавшим к доверию. Апостол поморщился. Русые, почти белые, длинные волосы гладко зачёсаны назад. Впечатление портила куцая бородёнка, совсем не уместная на лице гостя.
— Ежели что, постукай, — наказал посетителю Егорыч, и дверь с грохотом захлопнулась.
Гость с интересом рассматривал камеру. Молча и неторопливо. Прочитал граффити на стенах, все подряд. Задержал внимание на мемориальном: «Смерть пидорасам, крысам и тёще ненасытной Марье Ивановне».
— Что вы думаете по этому поводу? — спросил он, кивая Апостолу на автограф.
— Не согласен.
— Нет?
— Нет. Не по понятиям убивать пидоров и крыс. Наказывать надо, а убивать — беспредел.
— А Марья Ивановна?
— Ей смерть.
— За что же? — искренне удивился гость, но, спохватившись, представился, — отец Серафим, в миру Алексей Игоревич Кущенко.
— Хм, а мы тёзки по отчеству. Остаётся надеяться, что у нас не общий папа, — хмуро рассмеявшись собственной шутке, проговорил Апостол.
— Ошибаетесь, разлюбезный. Отец у нас у всех один. Но, честное слово, мне не терпится узнать, в чём так провинилась тёща перед анонимным автором.
— Вовсе он не анонимный, его здесь все знают — правильный мужик. Взял на воле рыжья[29] в одной хате. Много взял, а спрятал в деревне у тёщи, Марьи Ивановны. Старуха зятька с радости самогоном накачала, а когда тот заснул сном праведника, — посетитель слегка поморщился, но перебивать не стал, — в ментовскую позвонила.
— Ну, и в чём подлянка? Бабка-то по своим, фраерским понятиям поступила!
— В том, патлатый, что босяка повязали — и на кичман, а из рыжья в тайнике только два худых колечка нарисовалось. Месяцев через пару, как беднягу осудили, тёща с тестем развалюху в деревне за копейки сбыли и дунули в Подмосковье. Там наличманом[30] усадьбу купили, вместе с «Волгой» неезженой в гараже… Вот такая история! Скажи, патлатый, отчего ты со мной по фене ботаешь[31]? Неужто сидел?
— Не приходилось, Бог миловал. Бывают, Марат Игоревич, такие арестанты, что нормального языка не понимают. Простите, если обидел ненароком.
— А кто, интересно, назначил тебя судить, что нормально, а что нет? Может, блатной жаргон — единственный честный язык по всему Совку остался. На остальных врут.
— Я не сужу, Господь простит, и в чём-то вы правы. Но есть ещё один язык — молитва, в ней лгать невозможно.
— Со мной говори обычно, обидеть ты меня, хмырёк[32], не можешь, кишка тонка. Попытаешься — кадык вырву.
Отец Серафим мирно кивнул, затем, не спрашивая позволения, присел на краюшек кровати. Задумчиво подёргал бороду:
— Марат Игоревич…
— Апостол!
— Рановато! Если не возражаете, да вы и сами просили обычным языком, я предпочту по отчеству.
Почему «рановато», Апостол уточнять не стал. Батюшка, несмотря ни на что, ему чем-то нравился. Искренностью, что ли? Не было в нём ни капли рисовки, ни крохи наигранности. Без понтов[33]. Да и пришёл, как человек к человеку. А мог облачиться в рясы, или что они там носят сегодня, крест во всё пузо, и заявиться, как «отец» к «чаду».
— Хочу вас, Марат Игоревич, в православную веру обратить…
Апостол хмыкнул.
— Смеётесь? Вы атеист или коммунист? — совершенно неожиданно спросил священник.
Апостол захохотал. Нет, патлатый ему определённо нравился.
— Атеист, наверное… Хотя, вы правы, — Марат понял скрытый смысл вопроса, — воспитывался-то я при «коммунизме», так что атеизм мой не вследствие выбора. Другого мы не знали. «Бога нет», кажется, так утверждали в городах и весях. На самом деле религия — баловство, сказки.
— Сказки, говорите? А вы их читали?
— В каком смысле?
— В конкретном. Библию читали?
— А что в ней… Этот родил этого, тот родил того…
— Идёт время, его наверняка объявят вторым крещением Руси… Вы не представляете, порой приходится крестить по сто человек в день, причём большинство — взрослые люди. Знаете, Марат Игоревич, в разгар перестройки, когда вместо «нельзя» стало «можно», ко мне из школы для одарённых детей обратились за помощью. Просили в неурочное время, хотя бы раз в неделю, проводить занятия по истории православной веры. Учащиеся постоянно менялись, одни приходили, другие уходили. Я не задавал уроков на дом, посещение было добровольным. Что поразительно: элементарные сведения из истории православной веры, о Евангелии, о связи религии с культурой, дети не знали. Простейшие вещи воспринимались, как откровение. Интересовались, но задаваемые вопросы говорили об однобоком образовании. Грустно… Вы, вижу, человек умный, развитой. Поверьте, это не комплимент ради расположения… Вот и скажите, каков, по-вашему, первый грех человека?
— Адама?
— Разве был кто-то до него? Стало быть, его, Марат Игоревич.
— Да ладно… Известно, какой….
— Чувствую, торопитесь. Вот что: я оставляю вам Библию, а вы пообещаете прочесть внимательно книгу Бытия из Ветхого Завета. Там всего несколько страниц. Завтра, с Божьей помощью, я снова вас навещу и задам вопрос заново. Договорились?
— Это что, игра такая? На интерес?
— Полноте, Марат Игоревич, кому придёт в голову играть с Богом на интерес? Нет, давайте условимся: сумеете ответить на вопрос — порассуждаем ещё, а не пожелаете — не стану более докучать.
— А если не смогу? — Апостолу нравилось происходящее, он любил «вызов» и любил одерживать верх.
— Тогда, пожалуй, не приду. Мне тоже, знаете, тратить время с тугодумами не улыбается.
Апостол в мгновение взвился, и у горла священника, царапая кожу, образовалась заточка[34].
— Полно, Марат Игоревич, экий вы несдержанный, — ничуть не испугавшись, посетовал священник, — уж и пошутить нельзя. Для церкви нет ни бакланов[35], ни воров, ни ментов[36] — всё едино перед Господом. Касательно вашего вопроса об игре на интерес… знаете ли, ко мне недавно обратился прихожанин с вопросом. Спрашивает: что сказать сестре, не желающей креститься… не хочет она лишней заботы, их без того уйма, зачем ещё ответственность! Я ответил: разумная ваша сестрица, и рассудила верно. Что нужно человеку, чтобы принять Бога? А вот: искренность проникновения в начертанные таинства. Тогда ответственность безмерна, мысль свободна, и вера крепка — такова стезя к Всевышнему. Спрячьте лезвие, Марат Игоревич, не в моих силах насильно обратить вас в веру.
Отец Серафим встал, легонько постучал костяшками пальцев в дверь, и она открылась неожиданно быстро, словно Егорыч ожидал знака, прислонив к ней ухо. Апостол успел сунуть заточку в подошву ботинка, в тонко прорезанный кармашек.
Когда священник вышел, Апостол в раздражении плюхнулся на шконку. Голова, вместо привычной мягкости ударилась о что-то твёрдое. Он приподнялся, в недоумении отодвинул подушку. На шконке лежал томик Библии с тиснёным на обложке и взятым в золото распятием.
Крест украшал грудь Хана, но вместо Иисуса виднелось на нём обнажённое тело женщины. И вилась надпись: «Аминь. Я сполна отомстил за измену».
Апостол резко сел, в замочной скважине снова проворачивался ключ. Новых визитёров не ожидалось, но он потянулся встать. Как, спрашивается, не верить в чудеса.
На пороге стоял улыбающийся Хан с дымящейся зэчкой[37] в левой руке. Правой держал связку ключей.
Хан за три года зоны подмял под себя братву вся и всех сословий. Участь не миновала даже охранников во главе с начальником учреждения — положенец ногой открывал дверь в его кабинет. Хан обзавёлся дубликатами ключей от коридоров, камер, и без помех перемещался по тюремным корпусам. Он крепил воровской закон, правил суд, миловал и карал. Апостол знал, как широка власть законника над зоной, но от такого уровня захватывал дух. Выходит, справедлива аналогия: смотрящему по России прислуживает президент России! Почему бы и нет!
— Входи Хан, окажи честь, — Апостол проморгал, что положенец до сих пор в дверях и, словно заново, со входа, наблюдает за ним.
Хан присел на корточки, глотнул чифиря[38], одобрительно крякнул и закурил. С давнего времени он предпочитал «отборные беломорные» — пробирающий до печёнок «Беломорканал». Выпустив дым, предложил папиросу ученику. Апостол курева не любил, но кто на зоне не пьёт чифирь и не дымит, попадает в касту отверженных.
Пока кружка не опустела, молчали: Апостол из уважения, предоставляя гостю право первого слова, Хан, словно раздумывая над чем-то, о чём хотел сказать, но передумал. Раньше за ним подобного не наблюдалось. Авторитет[39] старой закалки всегда был решителен, отважен и беспощаден, но главное, перед чем преклонялся Апостол, оставался уверен в себе в любой ситуации.
Апостол всмотрелся в лицо Хана. Въевшиеся морщины трещинами разбегались от носа. Крупные, словно грубо тёсаные, черты. Его ломали в тюрьмах, лагерях, карцерах — но не сломали.
— Апостол, — засипел положенец, — в академии[40] воспаление лёгких великий риск. Если говорить можешь… Сперва, чтоб меж нами не случились непонятки[41], расставим на места рамсы[42]. Тебя ни в чём не виню, малява от Лютого обязывает нас, как вертухаев приказы кума. Для себя реши, кем станешь, когда вырастешь, — каркающий смех старого вора заметался между стен, — есть, братан, всего два варианта: либо мы, либо они. На двух свадьбах не потанцуешь. Ты или корону примешь…
И Хан замолчал. Надолго. И Апостол не утерпел:
— Или?
— Или не примешь. Простой выбор… Стать человеком, либо остаться, как все. Думай бродяга, я тебя ещё навещу. И помни, патлатый Серафим — хитрый змей, почище того, что искушал Еву. Хитрющий… — прошипел Хан. На его пергаментном лбу углубилась морщина.
Не будь Апостол Апостолом, метнулся бы к двери и разбил в кровь пальцы, в ужасе колотя по двери. Но он чинно поблагодарил вора за науку. Хан ушёл, дверь ещё некоторое время оставалась открытой, словно приглашая хлебнуть свободы. Положенцу западло[43] закрывать дверь. Люди заметили — плохая примета.
Охранник, сменивший зашуганного Егорыча, заглянул вовнутрь. Убедившись, что Апостол на месте, с силой её захлопнул.
Апостол раскрыл книгу. «В начале сотворил Бог небо и землю». Баста, обойдётся.
Ночью теням пришлось несладко. Учитель как-то сказал ему: «Знаешь, сынок, чем отличается мастер спорта от кандидата в мастера? Мастер следит за мелочами. И кандидат тоже. Знания у обоих равные. Каждый умеет применять элементы защиты, атаки, комбинации, но когда дело доходит до боя, кандидат забывает о многом и ошибается раз за разом. Мастер обо всём помнит. Поэтому он — Мастер».
Ночные тени узнали, каков Апостол в бою — адреналин, скорость, взрыв. Они, возникшие из тумана, гордые и быстрые, не в состоянии были уследить, как он нападает, входит в ближний бой, защищается, и как выстреливает в ударе руки, размазывая туманные клочья по стенам камеры.
Глава 2. Ступени. Ребячьи шалости
Кончина «отца народов» Иосифа Виссарионовича Сталина привела в замешательство страну, уверенно маршировавшую в заветное человеческое завтра. От главного «хозяйственника» страны Никиты Сергеевича Хрущёва, обещавшего согражданам жизнь при коммунизме, избавил Леонид Ильич Брежнев, прижизненно и посмертно лоцман «развитого социализма». Затем бразды правления перешли в руки слабых здоровьем перестарков: сперва Константина Устиновича Черненко, за ним Юрия Владимировича Андропова. Им довелось править недолго, каждому до своего упокоения. Кормило власти унаследовал «архитектор перестройки» Михаил Сергеевич Горбачёв. На нём и завершилась эра вождей в отдельно взятом государстве.
Во взятом отдельно городе Одессе великих правителей забыли быстро. Народ пуще занимали товары первой необходимости. Одесса продолжала привычно существовать на стыке времён. Бытовые очевидности, как и прежде, слагали историю, начинаясь с прилавка. За ним стояла бессмертная тётя Роза, вдохновляя земляков наслаждаться жизнью.
Лето на стыке времён выдалось — как и всё, что случалось в городе — невыносимо жарким. Конская лепёшка, вывалившаяся посреди мостовой и приумноженная устами рассказчиков, становилась настолько неимоверной, что пол-Одессы сбегалось взглянуть на колоссальную кучу, перекрывшую подступы к Привозу. Всякий, кто желал понять Одессу, отправлялся на Привоз. Счастливчику доставалась трагикомическая роль, ниспосланная свыше. И никто не избегал участи выплакаться от смеха, притом посмеявшись сквозь слёзы.
Было жарко. Так жарко, что молоко прокисало в коровьем вымени. Привоз вдыхал обыкновенное утро полной грудью. Ломились под снедью прилавки — для острастки с призывами «Не массажировать». Глаза разбегались от изобилия копчёностей, бакалеи, овощей, фруктов, мяса и свежайшей рыбы. Завистливо жужжали орды пронырливых мух. В вещевых рядах красовался товар, доставленный из всех уголков страны и множества зарубежных стран. Умеренные, просторные и узкие брючки. Двубортные, классические, в ёлочку, или в клеточку пиджачки. Невесомое дамское бельё с пикантностями типа «Примерка бесплатно». Лакированные, на высоком ходу и бескаблучные башмачки. Туфельки. Кроссовки. Даже за милую душу бурочки из белоснежного войлока.
В таких мадемуазель Вера, замечательная одесская девушка, торговала простоквашей из подбитого эмалированного бидона. Вечером, заглянув домой, она посетит дискотеку возле Оперного театра, ночью продолжит наслаждаться популярными ритмами наедине с закадычным бойфрендом. Пока же посреди Привоза слышались откровения:
— Вера, ваши ноги отчётливо пахнут рыбой…
— А вы их не нюхайте. Нюхайте лучше мои волосы, вчера я купала их в мыле «Запах Парижской зелени».
— Таки хорошо, что я не карлик и мне не треба нюхать ваши волосы… Скажите только, как поживает наш славный хлопчик…
— Маратка? Бугаёнок? Вы знаете, он таки имеет громадный интерес стать артистом. За ним доглядают соседи…
По Дерибасовской снуют толпы народа. В Аркадию на пляж одна толпа, в порт — другая, в храм или гостиницу — третья. Самая шумная и многочисленная — в центральную синагогу. Из подворотни в суету и скопление тел выныривает «пра-а-а-тивная» парочка. Ноль внимания на толпу. Но не сводят глаз друг с друга. «Нате вам, челомкаются рот в рот, чтоб вы так жили!» — отношение честных граждан благодушное: наказать. Торговки предлагают суд на месте и немедленный расстрел солёным огурцом в зад, точнее, испрося пардону, в ж…у. Опытные фронтовики — изолировать, как вражеских лазутчиков или диверсантов. Евреи, самые умеренные из всех, берутся перевоспитать, вдруг получится. Из-за длительного отсутствия консенсуса парочка исчезает в «Гамбринус», и внимание публики переключается на другой колорит.
Мальчишка лет пяти-шести, не более, прикидывается статуей, набычившись поперёк тротуара. По пояс гол, ноги в драных ботах, в штанишках с заплатами плотного фетра: белой, синей и красной. Рядом жестянка из-под печенья «Ла Скала». Кое-кто из прохожих бросает в коробок монетку, иногда рублик. Ахают, выражая всеобщий восторг: ребёнок — уменьшенная копия Геркулеса. Стан, мускулатура хоть сейчас в музей антропологии. Малец чёрен, как грач, кудрявее барашка, и тих, словно ночная Одесса. Но, окажись в пределах досягаемости подходящая жертва, «статуя» молниеносно оживает. Незримый на ослепительном солнце выпад, и несчастный ротозей падает навзничь.
Всё бы ничего, и можно «проходите мимо, куда шли свой путь», но забияка щедр на затрещины даже детям, фланирующим под родительским присмотром. Взрослые справедливо негодуют, припирают шалопая к стене, но тщетно. Малый бессовестно бесстрашен. В ответ кривляется, плюётся, матерится так скверно, что официанты из «Гамбринуса», выбравшись на перекур, заносят перлы в поминальники для препирательств с пьяной матроснёй.
В конце концов малолетнего хулигана окружают наиболее отважные защитники потерпевших и бывалые свидетели.
— Не дотрагивайся, тебе говорю, он заразный!
— Оставьте, пацан всюду не в себе!
— Он цыган, натуральный цыган… Не видишь? Как почему? У них там табор!
— Забашляй — погадает!
Лаются, но приблизиться вплотную не смеют. Малец тем временем принимает угрожающие позы, демонстрируя мускулатуру. Матерится, наскакивает! Папы и мамы озадаченно робеют. Осторожно ретируются, хотя могут приструнить, скрутить, даже затащить в ближайший участок. Сила и безрассудство во все времена вызывали панику. Так пасовала перед обнажёнными берсеркерами[44] закованная в доспехи рать.
Верх всегда берут нахрапистость и дерзость! Малец, подвывая и гримасничая, выуживает из штанов штрунгель превосходных размеров и направляет в толпу напористую струю. Озадаченный народ шарахается прочь. Шалопай пускается вдогонку, настигает и пинком отправляет на тротуар ближайшего мальца. Подоспевший отец, подхватив на руки огорошенного отпрыска, уносит утешать в сторонку.
Иногда справедливость торжествует — когда Геркулесу встречается столь же клыкастое хамство.
Так рушились древние традиции, порождая легенды. Но окажись поблизости учёный языковед Даль, пословица «Один в поле не воин» вряд ли оставила за собой право существовать.
Насладившись вожделенной победой, маленький забияка задирает голову. Прислушивается: невдалеке куранты вызванивают серебряными молоточками мелодию песни, сладостной всякому одесситу: «Одесса — мой город родной».
Наступает полдень, юный шалопай встречает его изысканным ругательством. Бежит что есть духу, чтобы не опоздать, на ходу опрокидывает в ладонь жестянку, сосредоточенно шевеля губами. Ого! В «Ла Скала» намечается трёшка — «И на маманин заказ, и на потом…». Бюджетный рубль, жалованный мамой Верой поутру, осел в желудке парой сдобных плюшек с изюмом, банкой сгущёнки и шикарным пломбиром на палочке.
Сдачу Марат собирается сохранить, но на углу Ришельевской смешно балагурит мужичок в нелепой для лета, нахлобученной по швы ушанке. Он торгует домашней выпечкой. Достаёт лакомство из закопчённой кастрюли, затем, бережно обмотав бумажным клочком, вручает покупателю. Рядом с очередью глотает слюни сопливая нищета, ей и пятикопеечный пончик — праздник.
Марат вразвалочку огибает очередь и, цыкнув на правильного покупателя, оплачивает оптом шесть пирожков с капустой.
В Одессе дети рано входят в курс дела. В магазин их отправляют лет с пяти. В правилах одесской торговли так и прописано: разрешается отпускать товар ребёнку, если он в состоянии сосчитать самостоятельно, другими словами, получить полную сдачу. Марат умеет, хотя в бакалее тёти Паши строгостей не придерживаются. Сама Павлина, пышногрудая «брунетка» между обеих щёк, блюстительница социалистической законности, денежку у мелюзги берёт аккуратно. Выдаёт сдачу реально всю. Покупатели постарше этой привилегией не пользуются. Продавщица пребывает в уверенности, что приличный покупатель не станет въедливо изучать цены или требовать перевзвешивания товара, он обязан готовить деньги заранее, не мелочиться и быть снисходительным к просчётам торгующей стороны. Узаконено также дожидаться очереди вежливо, не ропща, не выказывая недовольства. При нарушении любого правила мгновенно запускается режим контратаки, состоящий в обвешивании, обсчитывании и облаивании покупателя.
По отношению к детям продавщица, исходя из весомых причин, и впрямь святая. Перво-наперво, мадам Паша имеет сердце, чтобы жалеть малых мира сего. Во-вторых, нехитрый ассортимент бакалеи не меняется годами, даже десятилетиями. Поэтому прижимистая Верка, маманя вундеркинда, всегда твёрдо знает, сколько выйдет сдачи.
Магазин окраинный, тесненький, мадемуазель Вера называет его «райпо». Утром напутствует: «Марат, зверёныш, пойдёшь в райпо за «пожрать», винца портвейнчик возьми. Красненькое утешает жизнь… Не задерживайся, участкового обойди десятой дорогой… Всё осточертело… Тошно… Был бы папик жив…», — в этом откровении она роняет слезу, Марат же по-быстрому выбегает из дому, стыдясь поддержать: батю своего хоть и не знает, но любит крепко.
Вырвавшись во двор, пацан отпускает ругательство, и соседка-дворничиха, сухопарая немка Ляйпнихт — её корят за «фашистскую» кровь — наспех перекрестившись, возмущённо сплёвывает в сторону. Марат намеревается досадить ей штрунгелем, но вовремя спохватывается. Бабка сильна и мстительна, выкрутит заранее лампочку в подъезде, подловит, да ка-а-ак крутанёт ухо — искры сыпанут из глаз.
Ограничившись кривлянием, выбегает вон, не забыв раздавить песчаную башню, вылепленную в песочнице бездельницей Сарочкой. Смуглянка, с досады забыв о школе, гонится за ним, но возле «Гамбринуса» отступается, испугавшись двух пьяных морячков, кожей чернее, чем сама.
Кое-как отдышавшись, Марат испытывает жуткое чувство голода, что и приводит к растрате мамкиных кровных. Благо, в руке «Ла Скала», много раз выручавшая в непростых ситуациях. Безотказный жестяной кошелёк.
В райпо сумрачно, и Марат, попав с солнца во мрак, на время слепнет. Остановиться бы, прижмуриться, дождаться зрения, но нетерпеливая натура не даёт покоя, подталкивая к действию. С трудом различая силуэты, с разбегу влетает в чьи-то ноги. Над головой нависает несравненной величины зад. И вместо того, чтобы извиниться, как следует по-честному, с удивлением возмущается:
— Не приберёте ли свою ж…пень! Я с вас смеюсь…
Она подседает, разворачивается, и вместо обтянутой платьем необъятности на охальнике останавливаются жёлтые, продолговатые и шалые, как у дворовой кошары Навки, глаза. Марат придерживает дыхание, ощущает внутри левой штанины тёплую струйку.
— Ты што шказал, мальтшик? — по-змеиному шепелявит незнакомая тётка. — Мальтшик, а ты грубиян.
Если бы не убойная желтизна глаз, дама бы выглядела безобидно, впрочем, иначе, чем большинство знакомых матрон, и этого Марат объяснить не может. Белое, хоть сейчас к венцу, платье, экстравагантная шляпка с фальшивой фиалкой, и омерзительно жирная на губах помада.
— Скашите пошалуйста, ему не нравится! — снова шипит она, отворачивается, нагибаясь за сумкой, высоко подтягивается к спине подол её платья. Можно не сомневаться — райпо пронизывает аромат резеды. Наверное, нижнего белья мадам не носит, или оно пропадает в складках душистого естества.
У Марата темнеет в глазах, в голове булькает кипяток и пересыхает во рту. Он осматривается. Все в магазине остаются спокойны, будто ничего не происходит. Даже сердитая продавщица продолжает взвешивать сто пятьдесят грамм маргарина. Шепелявая мадам тоже неподвижна, будто статуя восточной девушки, сборщицы хлопка.
Марат осторожно возвращает взгляд. Кажется, уже видел это, но разве упомнишь, где — на картинке, или на пляже нудистов, куда однажды забрёл… Над вертикальным разрезом, делящим дамскую уникальность на две роскошные доли, вырисовывается отросток, и если присмотреться — кажется, не татуировка. Становится жутко. Марат трогает завитушку, вполне натуральный хвостик, его ошеломляющую неоспоримость, вскрикивает и со всех ног пускается вон. Вслед ему несётся: «Убирайся прочь, глупый уродец, вон из ЦУМа[45]!». Литаврами стучит о мостовую двойной башенный хохот.
Наконец, дома. В ознобе стучат зубы, в голове жестокая зыбь. Бросается в постель.
Мама Вера, возвратясь к вечеру, застаёт хворого со сногсшибательной температурой. Вместо званой вечеринки то и дело щупает горячий лоб. Решительно ставит градусник. Последний замер грозит жаром под сорок, но когда она решает проверить градусы в непривычном месте, сынок артачится. Если Марат упирается рогами, значит, настаивать ни к чему. Ничего не добьёшься, только связки надорвёшь. А как торговать на толчке без голоса? Звать участковую поздновато, тащиться в больничку далеко — такси и прочее, промурыжат всю ночь.
Мама Вера вертит в руках четвёртый пакетик аспирина. «Не многовато ли… Ерунда, бугайку аспирин, что слону дробинка, весь в папашку…».
Зажав мальцу нос, дожидается, когда он в удушке раззявит рот и высыпает порошок в глотку. В горле будто барханы, но наготове стакан воды. Пара глотков, и малый откидывается на подушку. Мама Вера мочит в уксусе марлю и лепит страдальцу на лоб. Он вздрагивает, не приходя в себя. На часах под потолком нервная стрелка жмётся к римской цифре, напоминающей два столба. Сутки на своих двоих… Не раздеваясь, припадает к сыну. Охватывает рукой, вторую кладёт себе под голову. Через секунду спит. Спит и снится.
Снится, будто пыльные занавески, охраняющие квартиру с балкона, трепещут в безветрии. Ни луны, ни звёзд, лишь зловеще подмигивает ночник. По стене крадётся окаянная тень. Ворсистый тигр косит с ковра шерстяным глазом, но тут же хитрит, уставившись на сервант. Там не страшно, там привычные фаянсовые фигурки в дозоре за хрусталём. Шевелится занавеска в кладовку. Тень, полого слившись в коридор, задерживается в гостиной подле рухляди — век не играного пианино. Инструмент расстаётся с фальшивым минором, словно икнув. Слева малютка кухня, справа совмещённый санузел — ванная плечом к плечу с унитазом, впереди ситец «заставы», ограждающей спальню. На полке над трюмо сонник Нострадамуса, раскрытый на «больной» страничке: «Видеть во сне безумца — опасность, о ней вы узнаете раньше тех, кому она угрожает, и от ваших действий зависит их судьба».
Вере видится нехороший сон, сумбурный, как страдание сына. Скверно бесцеремонная бабища носится по квартире быстро, как может двигаться секундная стрелка, отсчитывая последний вздох. Бессовестная женщина мечется по квартире, оставляя чёрные метки всюду, чего коснётся. Кроме старого, в тусклом лаке, пианино — оно остаётся незамаранным, вызывая нечистый гнев гостьи. Приблизившись к матери с ребёнком, она останавливается, растворяется на мгновение в воздухе, затем нависает над ними и, словно бичуя, шепчет:
— Думаешь, не имею над ним власти? Очнись, безмозглая Вера, — имя женщина произносит с брезгливой гримасой, и спящей становится за себя обидно.
Спящая Вера точно знает, что спит, иначе, не раздумывая, вцепилась бы ногтями в отвратительную харю. Тень, обмаравшая дом, исчезает, размазывается в пространстве и снова возникает, но уже с другой стороны кровати, над мечущимся в горячке сыном. Только что была здесь, а уже там, рядом с кровиночкой, с её бугаёнком Мараткой. Он как-то сразу обмякает, красивый, горячий, беспомощный. Смотрит жалобно открытыми глазами. Женщина проводит ладонью перед его лицом. Черты разглаживаются, словно происходит разрядка мышц — нижняя губа провисает, поверх выпячивается мокрый, как в малиновом соку, язык. С него на подбородок тянется клейкими побегами слюна. Глаза ползут из орбит, придавая выражению матёрую законченность. Дауны насквозь безмятежны, а тут личина, мать догадывается сразу: трагическая маска улыбаться не может.
Дама хохочет, обнажая буруны подпиленных зубов. Вера пытается проснуться, но сон держит крепко, заставляя наблюдать и осознавать.
Дама вновь проводит ладонь перед лицом Марата. Оно произвольно, хотя и не мгновенно, приобретает осмысленность. Будто ловкий бес заново наполняет тело Марата изъятой, но неприкаянной душой.
«Господи Иисусе…» — пытается прошептать Вера, но губы не слушаются. «Господи…» — упрямится она, и голова её постепенно наполняется святостью: «Господи Иисусе — Господи Иисусе — Господи Иисусе…». Тень останавливается на мгновение, словно к чему-то прислушиваясь. Презрительно рассматривает молящуюся беззвучно женщину, затем небрежно проводит ладонью перед её лицом:
— Оставь, бессовестная… Ты тоже моя холуйка…
Слова гудят, вслед — эхо и заунывный гул. Буквы рассыпаются и складываются в проклятья. Вера теряет нить жизни. Вместо молитвы в голове слышится то гадкое «Навалите», то истеричное «Помесите».
Удовлетворённо хмыкнув, дама щерится и возвращается к мальчику. Вера, чтобы не сойти с ума, пытается запомнить ненавистное лицо, надеясь при встрече разодрать в клочья, но и это оказывается выше сил. Не хватает ни образов, ни сравнений. То, что вначале представлялось неприглядным, но определимым, на поверку оказывается тенями чуждых восприятию фантомов. Отнести их к ассоциациям невозможно, как описать и запомнить тьму, ужаснувшую заживо похороненного человека и очнувшегося в наглухо заколоченном гробу.
Проходит не меньше жизни, и даме наскучивают игры с Маратом. Видно, что-то идёт не так, противоречивые преображения надоедают. Тогда она раздражённо плюёт мальчику в лоб и уходит из сна.
Вера усилием воли заставляет себя проснуться и тут же разворачивает сына к себе. Отирает его взмокший лоб. Звуковая каша в голове, рванув когтями кожу лица, утихает, Вера истово молит напоследок: «Господи, услышь!!!». Боль отрезвляет, Вера трясёт сына, полагая, что застывшая маска — следствие глубокого сна. Марат просыпается на удивление быстро, безразлично смотрит на бьющуюся в истерике мать и затягивает на одной ноте нескончаемое: «Э-ми-ли… Э-ми-ли… Э-ми-ли…». И одуряюще плохой запах. Вера переворачивает мальчика на спину, стягивает штанишки. Так и есть. Её шестилетний сын, казавшийся много старше своего возраста, уделан, чего не происходило, как минимум, лет пять. Уже с десяти месяцев он внятно нуждался в надёжном горшке.
Мать подхватывает сына на руки, вскрикивает, едва не надорвавшись. Он падает на кровать, мыча. Тогда она стаскивает его вниз, на пол, осторожно придерживая за плечи. Быстро, на границе сознания, сворачивает ковёр, ставит в угол, затем тащит парня по начищенному до скользкости паркету. Марат не сопротивляется, позволяя делать с собой что вздумается. На личике сумеречность олигофрена.
Ей везёт: психиатр в районной поликлинике — благообразный и трезвый мужчина на предпенсионной грани. Он живо пресекает разыгравшийся скандал:
— Женщина! — визжит регистраторша. — Сколько раз можно долбить, — только по предварительной записи… Вот бестолковая попалась…
— Слухай сюда, чурка вербованная! Расшнуруй зенки, сыну к доктору треба! — добивается справедливости Вера.
— Семён Витальевич, это всё, это конец… — картинно разводит руки регистраторша, изображая роковой кризис.
Идут молча. Доктор спрашивает сразу, как только Вера, подталкивая сына в спину, попадает в кабинет:
— Обострение?
— Ох…….ное! Лёг спать нормальный, ну — температурка была… И на тебе!
Видно, загубив на борьбу с регистраторшей последние силы, Вера обмякает, сползает на подставленный врачом стул и горько рыдает, пряча лицо в ладони.
Убедившись, что она в порядке, доктор приступает к делу, усадив парня на затёртый диванчик. Для этого приходится придавить мальцу плечи, Марат отказывается понимать, чего от него хотят. Парень выглядит античным многоборцем в миниатюре, университетские интерны могут изучать по нему анатомию. Старый врач, повидавший казусов на своём веку, не суетится, ему некуда спешить. Сторонний наблюдатель нашёл бы его медлительным. При сравнении легко обнаружилась бы несостоятельность молодого коллеги.
Семён Витальевич наливает в стакан свежей воды из графина, он вообще ревниво следит за свежестью. Капает туда двойную, потом, потакая мыслям, тройную дозу валерьянки, поит женщину, и садится за стол в ожидании результатов. Они вскоре сказываются. Всхлипывания становятся реже, затем сходят на нет. Убедившись в её адекватности, Грачевский кротко спрашивает:
— Вы кто, голубушка?
— Верка, — удивившись вопросу, отвечает она, но сразу исправляется, выпрямляя спину, — Вера Андреевна Муравьёва-Апостол…
— Вера Андреевна, — будто задумавшись, бормочет доктор, и представляется со своей стороны: — стало быть… Семён Витальевич… Ну-с, а мальчик?
— Марат… наверное… — отвечает она, всхлипывая.
— Он вам кто?
— Как — кто? Сын!
— Тогда почему «наверное»?
— Ну, просто он таким никогда не был, я ж говорю, вчера заснул нормальным, температура была…
— Так вы говорите, что молодой человек ваш сын? — принципиально уточняет доктор.
— Господь с вами, Семён…
— Витальевич.
— Да, Семён Витальевич, сто процентов — сын.
— Так-так, уже лучше. Где наблюдается бутуз?
— В смысле?
— В каком психоневрологическом диспансере, я интересуюсь, наблюдается ваше чадо?
— Что вы такое несёте, доктор, он нормальный, хоть сейчас в лётчики-космонавты, — Вера заводит прежнюю песню, но Грачевский жестом останавливает:
— Знаете, Вера Андреевна, я вам верю! Я, — доктор подчёркнуто выделяет «я», — верю. Как человек, как мужчина, в конце концов, но как врач и психиатр, простите, увы… Свежо предание… Давайте сделаем вот как, — барабанит он пальцами по столешнице и поднимает телефонную трубку, — Светик, не в службу, а в дружбу, вытащи карточку Маратика Муравьёва-Апостола, — Семён Витальевич вопросительно глядит на мамашу, она услужливо подтверждает:
— Так и есть… Только напрасно…
— Да-да, Муравьёв-Апостол, шести полных лет от роду. Спасибо, золотко, жду.
Пока «Светик» ищет медицинскую карту, доктор тщательно осматривает малыша. Заставляет его пройтись — малый постепенно добирается до стены и останавливается. Оценивая походку и осанку, доктор осматривает лицо и тело. Подносит к глазам мальчика молоточек, медленно водит им, приближает к кончику носа. Мальчик бесстрастно реагирует на то, что вызывает улыбку молодых пациентов. Не обращает внимания на просьбы «наморщить лоб», «поднять брови», «оскалить зубы», «показать язык». Ого, налицо патология — ни одного живого рефлекса. Покалывание иголочкой в симметричных зонах тоже безрезультатно, Марат не замечает боль. Удары молоточкам по сухожилиям не вызывают коленной рефлексии. От глубокого обследования доктор воздерживается: нарушения интеллекта и памяти явные, диагноз не вызывает сомнений.
Работая, Семён Витальевич то и дело бросает взгляд на мать, её горе кажется искренним. «Выраженные кататонические симптомы на фоне психоза движений» — едва слышно бормочет доктор, когда в дверь стучат.
Медицинская карточка Марата обнаруживается скупой на диагнозы. Кроме родовой желтухи, прививок и нескольких респираторных заболеваний, ничего интересного. Парень на удивление здоров. Ни единого упоминания об отставании в развитии или душевном расстройстве. Правда, участковая дама оказывается шибко грамотным доктором. Запись о возможном «нарциссическом расстройстве личности» украшает документ, но Семён Витальевич полагает, что мадам перестаралась в психиатрическом диагностировании. Находить такое расстройство в столь юном возрасте предполагает, как минимум, профанацию. Может ли ребёнок в шесть лет ощущать убеждённость в собственной уникальности? В особом положении и превосходстве над остальными людьми? Вполне вероятно, что пацан испытывает определённые трудности в проявлении сочувствия, но такие незначительные отклонения имеют больше отношения к неправильному воспитанию, чем к патологии. Хотя в любом случае никакое расстройство личности не объясняет нынешнего состояния мальчика.
Мама Вера негромко всхлипывает, Грачевский отрывается от бумаг. Возможно, слишком резко для человека, владеющего ситуацией. Пожилой врач смотрит на часы, снимает очки, неспешно протирает их носовым платком с вензелем «С.В.», собираясь с мыслями. Он задумывается и размышляет чуть ли не с четверть часа. Слишком часто в последнее время случаются выпадения из реальности. Пятнадцать минут на несколько машинописных страниц отчёта — явный перебор.
Собираясь с мыслями, Семён Витальевич то и дело поглядывает сквозь стёкла очков на свет, отыскивая лишь ему заметные соринки.
— Доктор, что с моим сыном? — не выдержав затянувшейся паузы, задаёт Вера ожидаемый и столько же преждевременный вопрос.
Грачевский не готов ответить сиюминутно. В узких кругах он слывёт прекрасным диагностом, даже слишком для районной поликлиники, но тут, как говорится, каждому своё, особый случай.
— Сколько времени температурил мальчишка?
— Сколько? — мама Вера задумывается, — вечер, часов, наверное, пять… Я прихожу, он в кроватке — лобик трогаю, горячий. Ставлю градусник — сорок, как кипяток…
— В подмышку?
— Да… Пытаюсь «туда», он не даёт. Заставляю поглотать аспирина, дожидаюсь…
— Максимальная температура?! — врач спрашивает отрывисто, как на операции.
— Чтоб вы мне жили… Даю ему ещё аспирин, два раза или три, точно не вспомню. Последний раз, кажется, тридцать девять с половиной…
— Кажется ей! Почему не поехали в больницу?
— «В больницу», — передразнила Вера Грачевского. — Кто в больницу с высокой температурой идёт? Обычно как? Пропотеет — и на утро огурчик, гриб после дождя. А тут… — женщина снова плачет.
Стыдится рассказать пожилому и очень добросовестному врачу о страшном сне. Не по чину. И нужно ли?
— Вера, поймите меня правильно, случай архинетипичный. Не хотелось вас пугать, — оба вместе поворачиваются к Марату, он самозабвенно пускает слюни, — современной медицине известны случаи, когда при скандальной температуре человеческий мозг не выдерживает огненной пытки и защищает себя, как может.
— А как он может? — Вера сидит, широко раскрыв глаза, для полноты впечатления не хватает напротив разверстой крокодильей пасти.
— Здоровый мозг ребёнка может многое, реакции у него здоровые. Скажем, попросить маму отвести его в больницу. Наоборот, мозг, объятый пламенем, помышляет лишь о том, чтобы любой ценой спасти организм от краха, пусть даже через умерщвление сознания. Ментальный побег из угрожающей реальности порой не лучший, но вероятный способ выживания. Поясню, — спешит высказаться Грачевский, видя выражение лица собеседницы, — существует вероятность, что сознание мальчика спряталось само в себя. То есть внутри оно всё тот же Марат, но внешне — вовсе другое «существо», уж простите, милочка, за некорректное сравнение. Наружу Марат и носа не сунет, справедливо опасаясь атаки.
— Боится? Меня, матери?
— Вот именно. В первую очередь вас. Такова реальность. К сожалению, ваше лицо последнее, что видел Марат, убегая в себя. Именно вы, как ни парадоксально это звучит, ассоциируетесь у него с болью и страхом.
Некоторое время Вера молчит. Семён Витальевич тоже не спешит, позволяя женщине переварить услышанное.
— Но не стоит заранее волноваться, — понимая, что пауза затягивается, возобновляет беседу врач, — пока это лишь мои предположения, основанные на полученной информации и поверхностном осмотре. Требуются тесты, анализы, осмотры специалистов. Я настаиваю на срочной госпитализации. Не будем откладывать дело в долгий ящик, сейчас же выписываю направление, заверьте его в регистратуре и незамедлительно везите мальчика в диспансер. Простите за вольность, — тотчас поправился Грачевский, — в психоневрологический диспансер… Знаете? На Канатной улице… Неделька-другая — и мы сможем предложить обстоятельную версию.
Семён Витальевич ещё раз щёлкает пальцами перед носом Марата, вдыхает тяжёлый запах, исходящий от мальчика, разводит руками и садится к столу писать. Уже напоследок не совсем уверенно добавляет:
— Всё будет в порядке… Прояснится диагноз, получите рекомендации по лечению. Желаю здоровья! Вам и сыночку.
Оказавшись в коридоре, Вера комкает писульку, и, зашвыривая в мусорную корзину, сообщает миру о своём отношении к диспансеру и к доктору, направившему туда:
— Щас возьму разгон с Дерибасовской… Я с вас окончательно удивляюсь…
Янина, соседка с первого этажа, кудахчет над Мараткой в голос, пока мама Вера не одёргивает её зычным рыночным окриком, что сдерживает даже ретивых воришек:
— Цыц, всё, я уже ушла. Ты только пить давай, вернусь, накормлю, — напутствует она ошалевшую от свалившегося горя приятельницу, — туда-сюда на толчок и обратно… Мигом обернусь, товар по девкам раскидаю…
Возвращается она действительно скоро, задумчивая и тихая. Машет Янине Ильиничне рукой, иди мол, подруга, спасибо, обнимает сына. Когда соседка переступает порог, окликает:
— Годи , Янина, — та останавливается, — ты в храм ходячка… Просьба у меня к тебе… век не забуду… дай свой крестик на часик…. Дай! — вопит она басом, и в прыжок оказывается подле неё, падает на колени. Обнимает так сильно, что Ильинична едва не теряет стойкость. — Христом Богом прошу! Янина! Дай крестик!
— Отпусти, дурында, — соседка с силой отпихивает от себя липнущую к ногам мамку, — чего дуркуешь?! Дам я тебе крестик… Ну? Дам! Надоумил ли кто?
— Товарки с рынка, в храм иди, говорят…
Что двигало революцией, науськивающей народ на Церковь? То ли вражда, то ли ненависть воспалённых умов, но при её главенстве закрылась половина приходов, три четверти монастырей, погибли многие священники, поощрялись издевательства над паствой. Атеистическая компания равнялась разве что с вакханалией. Газеты полнились мерзкими карикатурами и богохульными статьями, оскорбляющими религию и священнослужителей. По площадям и улицам городов прокатились волны богоборческих шествий и карнавалов. Комсомольцы устраивали дебоши в храмах во время богослужений, попытки сопротивления вели к кровавым столкновениям, за ними следовало закрытие храмов. До сих пор ношение крестика виделось странностью. Потому-то попросить на часик-другой у соседки крестик не было чем-то обычным, самим собою разумеющимся.
— Иди, Вера Андреевна, в храм святых мучеников Адриана и Натальи, — быстро зашептала Янина, — правы девчата твои, в этот храм архиепископ Никон под ручку с академиком Филатовым ходили… Не просто так, значит… Вместе святое вершили для добра и духовности… Иди себе, подруга, а я с Мараткой подежурю, чай, не чужие.
— Соседушка… Подружка… Ильинична… — Вера норовит целоваться, но Янина в суровости, — век не забуду, глянь… Марат мой снова, как сосунок, под себя ходит…
И на дурную взвывает.
— Знаю, знаю, пока ты по толчку бегала, я ему дважды переменяла. Ничего, ничего, ступай, — Янина снимает с шеи тонкую серебряную цепочку, надевает Вере, крестик скрывается между грудей, — отыщи батюшку, он поможет…
Смиренный храм на Французском бульваре пережил гонения и возродился, как феникс — вновь в сиянии купольный крест, и колокол воспевает возрождение.
Набравшись смелости, Вера входит. Засмотревшись на иконостас, не замечает, что батюшка рядом, облачённый, будто снизошёл с небес. Вера немедля робеет, и, опуская голову, неумело крестится.
— Впервые в Храме, дитятко?
От этого «дитятко» Вера вся мгновенно плавится и, разрыдавшись, тычется затылком священнику в бороду. Он не отступает, обняв за плечи. Стоя, пока Вера не успокаивается настолько, чтобы спросить ненужное:
— По мне, батюшка, сильно заметно, что новенькая?
— Люди, доченька, по-разному ведут себя в Церкви. В наши смутные времена прихожан не много, и всех я не только в лицо, но и по имени знаю. Не исповедоваться ли пристало?
— Беда, батюшка — Вера безнадёжно взмахивает рукой и принимается за рассказ.
Священник слушает въедливо, не перебивая, но когда Вера пересказывает сон, заставляет вспомнить до мелочей. Затем прикрыв глаза, долго о чём-то размышляет. Бедная Вера, напуганная непривычной ситуацией и чересчур серьёзным отношением священника, остаётся ни жива ни мертва. Когда подошёл, думала — перекрестит, произнесёт сокровенное «Изыди…» и отпустит. Не тут-то было.
— Знаешь, дитя моё, когда пастырь оставляет стадо, неважно, по своей или чужой воле, народ бросается к магическим игрушкам. Антихрист хитёр во множестве личин. Полчища нечисти завладевают пространством… Почему твой сын? Кто знает. Говоришь, шаловливый не в меру, может, ответ в этом: страсти пагубны. Кто он, Антихрист — противостоит Богу и народу, зато радостно благоволит страстям и пагубе. Сатана на себя разные личины кладёт… — священник прерывается, осознавая, что прихожанка не с ним, — прости, дитя моё, если напугал тебя речами. Пойдём.
Они останавливаются у алтаря.
— Здесь заключена частица Креста Господня, молись, дочь моя, и да смилостивится Господь над чадом твоим, сыном Божьим некрещёным Маратом.
— Я слов не знаю, — лепечет через слезу Вера.
— Я тоже. Попроси у Отца нашего избавления сыну от напасти… Главное, чтобы просьба изнутри сердца шла… Спаси, Боже…
— Боже праведный… Милосердный… Отец… Дай здоровья дитяти моему Маратику… Нет мне жизни без мальчика… Прости, если виновен… И меня прости…
Батюшка при молитве рядом, руку на голову накладывает, говорит слово решающее:
— Аминь…
— Поможет ли? — спрашивает мать, вцепившись в рукав рясы.
— Верь, тогда поможет. Не ропщи! Что бы ни произошло — не ропщи! Всё, что ниспослано, принимай с покорностью и с любовью.
С тем Вера возвращается домой и остаётся спокойной, хотя изменений на лице сына нет. Благодарит Янину, возвращая крестик. Янина великодушна:
— Возьми, тебе нужнее.
— Не переживай, — Вера выпрастывает из-за отворота платья крохотный серебряный «плюсик».
— Купила? — радуется соседка.
— Нет, Ильинична, батюшка одарил и наказал верить…
— Ты верь, Верка! Верь! — оглядывается, словно спохватившись, несмотря на то, что одни и, понизив голос, упрашивает. — Не думай… это Господь наказывает за дела наши…
Подруга уходит, мама Вера купает сына, одевает в чистое. Мальчик ни на что не реагирует, сам в себе. Укладывает в кровать, снимает крестик и надевает на шею ребёнка. Ложится рядом и проваливается в заслуженный сон без сновидений. В обнимку с ночью.
Утро субботнее — кромешное солнце, беспробудная тишь. Открывает глаза и ощущает взгляд Марата. Новый, ещё не прежний, но и не тот, что давеча. Осторожно успокаивает локоны.
— Вставать надо, сыночек, — говорит первые слова, — а вот где бурочки скинула, и не помню…
Марат приподнимается на локоток, смотрит.
— Я знаю, где, — говорит, подскакивает, как прежде, рывком, бежит к кладовой и вытаскивает материнскую обувку, особую, на все случаи жизни.
— Вот…
Вера изнемогает:
— Услышал! Услышал! — кричит, подхватывает сына и вихрем кружит по комнате.
Глава 3. Тюрьма. Перспектива.
Отец Серафим сдержал слово, чем неожиданно раздосадовал Апостола. Завидев батюшку, он вспомнил обещание прочесть книгу Бытия. Апологетов надо разить их же оружием, в данном случае — осведомлённостью. Апостол твёрдо знал: сто ит ему углубиться куда-нибудь в науку, искусство или спорт — оставит позади всех. Но сперва надо захотеть. На одном отрицании далеко не уедешь. Ладно, сегодня пронесёт. Кто не помнит, в чём заключался первородный грех Адама! Даже такие сугубые атеисты, как он, знают.
— Ну-с, мил-человек, Марат Игоревич, чем порадуете?
— Вот что, святоша, ты мне фиксами загодя не сверкай, — воспротивился Апостол вопиющей фамильярности.
Его глаза василькового цвета потемнели, как небо перед грозой. В словах священника чудился подвох, а любые поползновения на свободу с детства приводили Марата в бешенство. Вспомнилась подворотня под Гамбринусом и нравоучения тюфяка в форме железнодорожника:
— Эй, пескарёк, майку-то накинь, чего мослы демонстрировать…
Если бы не малолетство и не гремучая ярость, быть ему битым. Но именно тогда, на Дерибасовской, он впервые осознал сладость победы. Простак, подхватив за руку сопливого отпрыска, улепётывал. Да и кто устоит, если по-настоящему прыгнуть!
Священник примирительно поднял руки:
— Простите, Марат Игоревич, я думал, мы с вами договорились.
— Договорились, — буркнул Апостол, — ваше святейшество готово выслушать без фанатизма?
— Со вниманием, — с тенью улыбки возразил тот.
— Так вот: яблоко.
— Простите?
— Яблоко.
— По правде сказать, я намечал принести вам фрукты, но на КПП каждый раз так шмонают[46], что изюминку не спрячешь.
Апостол посверлил глазами собеседника, но, не обнаружив насмешки, соблаговолил пояснить:
— Ладно, будь по-твоему, патлатый, получи ответ и распишись. Змея виновата!
— Сказать строже: змей, — уточнил батюшка.
Апостол поиграл желваками, но и на сей раз сдержался. Не случись малявы от Лютого, за подобную наглость декламировать попу до утра «У Лукоморья дуб зелёный».
— Змей так змей… Подло соблазнил бабу, и она, непутёвая, скормила Адаму палёное яблоко, запретное хавать[47].
— Почему?
— Что почему? Почему соблазнил? Почему бабу? Почему Адама? — Апостол едва сдерживал раздражение, игра, едва начавшись, надоела.
— Нет-нет, почему кушать-то запретил?
— Это его дело. Какая разница. Не помню.
— А что? Верно. Запрет есть запрет, так? Ведь если положенец запретит мужику на зоне что-либо делать, или запретит не делать, тот ведь его послушает, не рассуждая?
— Ясное дело, если не совсем конченный, но таких здесь хватает, — усмехнувшись, ответил Апостол.
— Значит, Марат Игоревич, будем считать, что сегодня вы не выполнили задания. Утешать вас не стану, — последние слова, несмотря на шутливый тон, вышли отчуждёнными, — снова попрошу: прочтите книгу Бытия внимательно, — отец Серафим порывисто встал, подошёл к двери, позвал Егорыча.
Как и в прошлый раз, охранник словно подслушивал — скорее всего, так и было — и вмиг отворил. Священник ушёл, но Апостола долго грызло недовольство собою. Таких отповедей давно не приходилось выслушивать. Марат раскрыл книгу. «В начале Бог сотворил…, и стал свет…». То, что миллиарды людей во всём мире продолжают верить притчам, казалось неестественным. «День первый… И стало так… День второй…». Сколько бреда втиснуто в несколько страниц. Неужели никто не замечает бесконечные противоречия и неточности? Сперва, вроде, уж сотворил человека, животных, растения, а потом, дальше, всё заново. Патлатый мозги пудрит. Хитрый змей обманул Еву, а она не осталась в долгу — соблазнила Адама… Слова казались просты, действия персонажей естественны, и размышлять не над чем. Но Апостол не мог отделаться от неясного ощущения — кожей чувствовал — есть подвох, заковыка, замурованный наглухо сокровенный смысл. Наверное, впервые в жизни он не сумел с лёту докопаться до сути.
Чем больше читал, тем отчаяннее терял уверенность. Острый ум всегда подсказывал ему выход из ситуации, но сейчас по-предательски бездействовал. Апостол усмехнулся, вспомнив уроки литературы в техникуме. Из обязательной программы он не прочёл ни единого произведения, умудряясь получать высшие оценки, чем приводил Семёна Захаровича в сумеречное расположение духа. Патент простой, как перекладина, вокруг которой Марат моторно накручивал «солнце». Несколько страниц литературной критики перед уроком, и живой ум воспроизводил непрочитанное действо. Марат умел обсуждать героев «Молодой Гвардии» так, словно жил рядом с ними в описываемые Фадеевым времена. Марат с душевным надрывом рассказывал о героях Краснодона. Как не поставить старательному студенту высший бал! Учитывая, что ему благоволит директор. Преподавателю русского языка и литературы Семёну Захаровичу Гроссу приходилось мириться с явным подлогом.
— Что чувствовал Тюленин после казни полицая Фомина? — спрашивал, мягко постукивая пальцами о стол Гросс.
— Он, Семён Захарович, испытывал противоречивые чувства. Очень смешанные, сумбурные, я бы сказал, чувства. Сергей Тюленин одновременно переживал восторг и кураж, подогретые удовлетворением от свершившейся мести. И вместе с тем брезгливость и жажду очищения. Тягу к откровению с другом и одновременно к сохранению своего индивидуального мира, куда нет пути незваному гостю…
— Правда? — иронично вопрошал преподаватель.
— Вне всяких сомнений, — серьёзно подтверждал студент.
Однажды Гросс сорвался:
— Давайте, Муравьёв, договоримся: я перед всей аудиторией обещаю удовлетворить вас пятью баллами, а вы, в свою очередь, меня, чистосердечно раскаявшись, что не читали произведения. Идёт?
— Ни за что, Семён Захарович, роман мне настолько понравился, что я перечитал его множество раз. Как говорится, спрашивайте и убеждайтесь.
Скрип открываемого замка вырвал Апостола из воспоминаний.
— Хан! — обрадовался Апостол старому вору.
— Вижу, напряг тебя искуситель патлатый?
— Терпимо, брат…
— Знаешь, что такое «Вор»? — пылко озадачил Хан.
— Научи, — ответил Апостол, расположенный к бесхитростным речам положенца. В них, в отличие от «Библии» всё ясно, как на войне. Там — недруги, менты, здесь мы — воры.
— Вор не должен быть в упряжке с властями. Церковь — та же власть… Загнали Русь в православие мечами да кровью. Вера скукоживает личность, в кадильном дыму прищепляют покорность! — чётко проговаривал Хан, словно гвозди вгоняя кувалдой в гроб.
Апостол ошалел от бешеного напора и неутолимого отвращения.
— Знаешь, какое самое распространённое слово в церкви? — чуть раскосые глаза авторитета хищно вспыхнули. — Раб! Раб Божий! — Хан грязно выматерился, чего никогда не позволял себе в присутствии заключённых, — хочу из тебя вора сделать, свободного в мире человека. Вора не треножат узы, любые — семейные, общественные, армия, закон, государство. Его свободу не ограничивает богатство, роскошь, комфорт… Мы, крадуны, живём сами по себе, гордо существуем с нашего общака. Часто — в заботе о бродягах, что сами по всяким обстоятельствам, не могут позаботиться о себе.
— Хан, агитируешь что ли, меня? Я не чужой…
— Ты мужик с понятиями, это так. Я мог бы враз окоротить патлатого, но за него просил Лютый, и неважно, что через тебя, а не напрямую. Мы, воры, братаны равные, и стараемся не подрывать авторитета друг друга. Хочу, чтобы ты выбрал сам, и выбор твой уважаю. Патлатый Серафим страшный человек, будь внимателен.
— Хан, — Апостол окликнул вора, когда тот уже стоял у двери.
— Да, братан…
— Разве воры были когда-нибудь против веры?
— Вера — обыкновенная пустышка. За ней всегда деньги и власть. Буду честен с тобой до конца. Нам нужны такие люди, как ты. «Им» тоже нужны. Твой выбор. Здесь как на войне: либо мы, либо они. Я вижу тебя насквозь, можешь поверить старому бродяге. Вор нынче мельчает. Ты, Апостол, находка для воровского сообщества. Авторитет может провести всю жизнь в академии, перелопатить кучи человеческого материала, но не встретить настоящего «вора». Мне подфартит, если удастся пропихнуть тебя в нашу масть[48], тогда скажу, что жизнь прожита не зря.
— Всё же, почему я? — Апостол не чувствовал себя польщённым, с детства презирая лесть в любых проявлениях, сейчас же ощущал любопытство, задумавшись о большой воровской политике.
— Да так… Похоже, ты — новый виток эволюции, как раньше говорили, существо следующей формации. У тебя зубы мудрости есть?
— Нет, — Апостол удивился неожиданному вопросу, Хан теперь не казался понятным и простым.
— Вот видишь, ни хвоста, чтобы вилять, ни зуба мудрости, — а они, если помнишь, атавизмы, — лицо Хана оставалось непроницаемым, — такие, как ты, всегда идут до конца, ежели вор, то Авторитет, ежели верующий, то Митрополит.
Положенец ошибался. Он не догадывался, как мечется душа подопечного в поиске надёжного «якоря», не находя пристанища среди житейских бурь.
Оставшись наедине, Апостол долго размышлял над словами Хана, но к твёрдому решению не пришёл. Сумятица вокруг его персоны казалась излишней. Наскоки батюшки сперва смешили, после стали раздражать, и всё же не казались вербовкой. Так в веру не обращают. Факт в том, что он, Апостол, тянулся к воровской жизни, а остальное — шелуха.
Вызванная на поединок тень принимала реальные формы. Она уже не боялась, почувствовав слабину. Напрасно! Сегодня, как никогда, он знал, чего хотел от жизни. Мысленный образ меньше всего походил на отца Серафима, но по сути это был он. Превосходящий по силе соперник отступал под нечеловеческим натиском. Четыре сотни ударов за три минуты. Собственный, установленный много лет назад, рекорд, оказался побит ночью в камере тюремного изолятора.
Глава 4. Ступени. Юношеские забавы
Пацаны, случись поблизости кто-нибудь из преподавателей, привычно чибонят[49] окурки. Но паренёк, на добрую сажень выше прочих, безрассудно смел. В присутствии словесника Семёна Захаровича Гросса процеживает струю дыма сквозь четыре дымовых кольца. Порыв ветра рассеивает этюд, и Марат матерится так грязно, что Семён Захарович, вознамерившись пресечь беспорядок, поспешно ретируется под крышу заведения. В безопасности дожидается наглеца, вынашивая план возмездия.
— Сегодня к доске… — реет над головами студентов карающий перст педагога…
Молодёжь прячет глаза.
— Сознавайтесь, тунеядцы, кто читал «Молодую гвардию»! Шаг вперёд! — громогласно глумится Марат.
Аудитория расслабляется хохотом: «Молодую гвардию» не читал никто.
— Муравьев! Мать твою… несчастную! — вне себя от гнева, но дипломатично сокрушается Гросс. — Проследуй к доске! Живо!
Капкан взведён, жертва готова к закланию, и Марат декламирует на ходу:
— Молодым везде у нас дорога… Старикам везде у нас почёт.
Семён Захарович утешается мыслью «Кабы не здесь, быть щенку битым». Кто не знает, как опасно распускать руки перед сборищем отпетых лоботрясов. Непременно настучат. Учитывается и другое: не пострадает ли вместо шалопая сам преподаватель.
— А ты-то, ты-то ч-ч-читал «Молодую Гвардию»? — интересуется Гросс.
— Вне сомнений, читал! — бесстрастно ликует Марат.
Семён Захарович дотошный, опытный, чует подвох, только на жареном поймать не может. Студенты, как комиссия ГорОНО[50], чутки к беспределу. Преподаватель уверен: бездельник просматривал лишь критику. Но доказательств нет, во спасение бросает взгляд на часы. И предлагает наглецу высший бал — в обмен на признание. Убийственный промах! Аудитория ехидно хихикает. Урок загублен и заодно искалечен авторитет. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, Семён Захарович запускает хитрый крючок:
— Так вот, Муравьёв, пораскинь мозгами. Если они есть. Чем особенно обеспокоена Уля Громова в оккупации?
Звенит избавительный звонок, но в глазах Марата бравада. Собирается отвечать.
— Фашисты хотят добраться до наших душ — вот что больше всего тревожит комсомолку Громову.
— Э, не-е-е-т, шалишь! — кричит Семён Захарович, но вдруг, сникнув, унизительно клянчит: — Ну признайся, оболтус, ты же не читал «Молодую гвардию»…
Марат Муравьёв-Апостол непреклонен и добивает Гросса фразой, ставшей в Одесском железнодорожном техникуме притчей:
— А Улечке всего девятнадцать лет было… Перебили ей враги рёбра и руки, на спине звезду вырезали…
В Одессе звонок делу не помеха. Муравьев бесстрастно покидает класс, за ним остальные.
Как же Семён Захарович ненавидел свою работу! Так, что даже Вуячич не облегчил душевные раны. И словесник, дожидаясь, когда Сонечка Ротшильд покинет класс, закуривает у приоткрытого окна, прислушиваясь к умиротворяющему эфиру. Со двора слышится: «По заявке нашего постоянного радиослушателя Семёна Захаровича Гросса повторяем песню на стихи Роберта Рождественского, музыка Арно Бабаджаняна, исполняет Виктор Вуячич…».
Солидное, как пятизвёздочный армянский коньяк, здание техникума знавало выдающихся людей, но Марат Муравьёв-Апостол, студент с дворянской фамилией и усами наперевес, затмил всех.
Он обладал цветным телевизором, потреблял финский сервелат, запивая баварским пивом, и пользовал лучших девочек. Природу не обманешь. С его появлением задумчивый словесник Гросс, а с ним и флегматичный сопроматчик Терещенко обивали порог директорского кабинета с упрямой дилеммой: «Решайте! Или он, или я!». Но Олег Олегович Нехай, по прозвищу ООН, бессменный директор техникума, ревниво сохранял статус-кво. Чем-то потрафил администрации наглец с ювелирно прорезанными, а оттого вызывающими чертами лица.
Омрачало идиллию единственное обстоятельство: студент Марат Муравьёв-Апостол умудрялся призывать на свою голову громы и молнии всей Одессы. Правда, всегда выходил из ситуаций с честью. Прожжённые ухари поначалу столкнулись с ним из-за подружек. Иногда благородно звали на дуэль: «Сегодня… в шесть… в спортзале», порой наваливались сворой. К концу первого семестра, залечив искалеченные носы, вставив протезы вместо выбитых зубов, они бесповоротно признали превосходство Марата. Некоторые заложники поруганной чести тайком, чтобы не услышал жалобу, роптали. К девушкам, сугубой причине драк, Муравьёв относился с брезгливой насмешливостью. И если первенство среди юношей утвердилось, девичьи битвы за расположение красавчика не утихали. Но Марат оставался одиночкой, хотя славился неисчерпаемым магнетизмом: люди, попавшие в его сферу, претерпевали что угодно, лишь бы оказаться рядом.
Внезапно, без прелюдий, после очередной взбучки от ООН, Марат необъяснимо для всех вступил в комсомол. Возможно, причиной послужила гуляющая по стране Всеобщая Шиза. Каждый отмечал юбилей обожаемого Леонида Ильича Брежнева по-своему, без присмотра. Муравьёва-Апостола пробило на комсомол. Студенты оттягивались в засаленных диалогах: «Имя? — Комсомол! Национальность? — Интернационал! Адрес? — Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!». Прожужжав уши кураторам, заручившись райкомовской поддержкой, Марат решил преподать урок упадничеству и застою.
На факультете «Организация перевозок и управление» числилось около трёхсот студентов. Немного для задуманного, но начинать нужно с малого. Марат надумал театрализовать захват Одессы большевиками. В восемнадцатом году красные, подняв восстание, отбили город у Центральной рады и Временного правительства. Тютелька в тютельку, как и тогда, столкнулись верхи с низами. Преподаватели не могли учить по-новому, студенты не хотели учиться по-старому — и «потомок декабриста» Муравьёв-Апостол затеял бузу по всем правилам жанра. При студенческой общаге созвал Тревожный Комитет, где в течение недели сотни студентов репетировали чинить отпор преподавательскому произволу. Они не ели и не учились. Но пили повально. Вождь их, Марат Муравьёв-Апостол, пообщался с каждым. Затем, прикинув шило к мылу, назначил десятских и сотских.
Первокурсница Полищук, прежде обделённая мужским вниманием, радушно принимала у себя верхушку Комитета. Её комната из-за временного отсутствия компаньонки, подхватившей тяжелейшую инфлюэнцу, служила Штабом. Угорелая от скопления возбуждённых мужиков, она безжалостно искромсала на бутерброды месячный запас сала. Дефицитным продуктом, отправляя дочь в город, сопроводила мамаша, заслуженная сельская учительница, пребывавшая в бессрочном разводе и оттого наделённая чарующей прозорливостью. Продукт должен был обеспечить дурынде-дочери достойного жениха. Сама мамаша познала эту премудрость на собственном горьком опыте. Истинные ценители деревенского сала не преминут клюнуть. Надо терпеливо поджидать. Пусть десять, двадцать, сто, насытятся и уйдут, но тот единственный отыщется непременно. Он свяжет неземное кулинарное удовольствие с рукой, его подающей.
Понедельник — день тяжёлый. Входы и выходы Одесского железнодорожного техникума наглухо перекрыты плотными кордонами, проникшими из благолепия Алексеевского сквера. Телефонные линии обесточены. Опасный физрук Петермухер и педагог черчения Кропоткин, вылитый варяг, нейтрализованы в спортзале. Гросс — одиозная личность, никчёмная для революции, но враждующая с вождём, до смерти запуган агрессивной фурией Полищук. Его, обезволенного, в назидание инакомыслящим, приторочили к перилам у парадного входа. Развлекали его старинной паровозной байкой, раз за разом убыстряя её темп до скороговорки:
— Шило, мыло, мотовило, восемь пар…
Шило, мыло, мотовило, восемь пар…
Ту-ту-у-у!
Спрашивали страдальца насмешливо:
— Любо ли?
Сами же и отвечали вместо него:
— Любо! Любо! Дорого!
Намечалось, что требования Тревожного Комитета провозгласит верховный вождь под овации со скандированием полюбившегося «Любо!». Но случилось непредвиденное. Главный бунтарь, к оторопи сотен бойцов в красных тогах, сшитых из праздничных транспарантов пламенной революционеркой Полищук, отсутствовал.
Муравьёва застал дома директор ООН с нарядом милиции. Марат отдыхал сном младенца и, пробудившись, с трудом вспомнил о намеченном захвате власти. Когда его попросили объяснить своё отсутствие на месте событий, он обосновал лаконично:
— Скучно стало до смерти, Олег Олегович…
Директору техникума едва удалось убедить власти не политизировать инцидент, но отнестись к происшествию, как к ребячьей шалости. «Мальцы неловко похохмили. Бывает». Но органы рассвирепели всерьёз. Всеобщий разнос уподобился урагану.
Гросс, решив, что разразятся погромы, слёг с инфарктом. Терещенко по состоянию здоровья заторопился на досрочную пенсию. В преддверии семидесятилетия Великого Октября милостиво разрешили не распускать факультет. Но Марата Олегу Олеговичу отстоять не удалось.
ООН и сам не знал, отчего беззастенчиво благоволит бездельнику. Парнишка воплотил в себе всё, о чём невысокий рыхлый трусоватый Нехай, мечтал с детства. Сила, отвага и красота не были крайними в списке качеств Марата, вызвавшими восторг ООН. Первые места прочно занимали гипертрофированный апломб и растрачиваемая попусту феноменальность. Марату фантастически легко удавалось всё, за что брался — всерьёз или спустя рукава. Как-то в третьем семестре преподаватель сопромата Терещенко отказался допускать Муравьёва к экзаменам, мотивируя постыдную несовместимость соискателя с изучаемым предметом. Беседа директора с нерадивым студентом состоялась в полдень, за день перед злополучным экзаменом.
Марат долго слушал увещевания ООН, а затем легкомысленно заявил:
— Успокойтесь, Олег Олегович, пройду я экзамен. Подчитаю легонечко, выдохну и сдам «сопромуть» на ура.
Директор повеселел. Не было в голосе парня ни намёка на браваду или попытку отстрочить беду. Сугубая констатация факта.
На экзамене Муравьёв добыл высший бал. Терещенко не поверил сам себе. Пришлось держать испытание вторично в пустом классе, имея экзаменатора vis-a-vis. Когда Марат закончил, прослезившийся педагог расцеловал его прилюдно и троекратно, а директору заявил, что жизнь прожил не зря. На небосводе советского сопромата вспыхнула новая сверхъяркая звезда. Марат действительно подсел на предмет, с болезненным аппетитом постигая каноны сопротивления материалов. Вскоре он победил на городской студенческой Олимпиаде, но на областную ехать воспротивился. Просто-напросто в один сиреневый весенний день, как высказался сам, охладел к сопромату. Сколько ни впадал в отчаяние Терещенко, как ни увещевал ООН, Муравьев выше трёх плотных баллов в дальнейшем не поднимался.
Юноша обладал загадочным свойством: быстро охладевал к собственным успехам, как обычные люди забывали свои неудачи. Череда срывов способна сломить человека неизбежной угрозой провала, чем бы он ни занимался. Но почему Марата отвращала череда успехов, ООН взять в толк не мог.
Следующим фейерверком абсурда оказался урок Марианны Иосифовны Туник. Кроме истории, она преподавала в техникуме обществоведение. Директора пригласили на показательный урок, где набирала обороты традиционная дуэль между двумя интеллектуалами. Один ратовал за превосходство социалистической экономики, другой — капиталистической. К доске, под восторженный гвалт класса, вышла Танечка Кронштадт, круглая, при несомненных талантах, отличница. ООН не сомневался, что именно ей поручат стать глашатаем социалистического развития. Вторым, под обвальный бойкот зала, восхвалял заведомо проигрышную партию красавчик Муравьев.
Четверть часа понадобилось Марату, чтобы в пух и прах разбить малокровные доводы Танюши Кронштадт. По его утверждениям, социалистическая система закончит самопальной катастрофой, съест и переварит сама себя, подобно желудку без пищи — произойдёт это вскорости, годам к девяностым. Но на этом сюрпризы Марианны Иосифовны Туник не закончились. Вторая, не менее убедительная часть политического прогноза случилась на госэкзаменах, где присутствовали уполномоченные инспекторы не только ГорОНО, но даже из Министерства Образования. На ристалище вышли те же двое, Олег Олегович вспотел от страха: феноменальная победа могла стоить его любимцу Колымы, и та же участь грозила героине Туник.
Результат поверг грустные ожидания. Дуэль повторилась с точностью наоборот: адвокатом социализма на этот раз выступил Муравьёв. Прелестная Танечка Кронштадт с жаром отстаивала преимущества капиталистического пути, чувствовалась многослойная подготовка к победе. Но неприступная крепость Танечки Ротшильд была виртуозно разбита в щепки.
Попытка захвата власти в кампусе железнодорожного техникума, даже при вмешательстве ООН, не могла сойти с рук Муравьеву-Апостолу. Нехай понимал, что лишь отчисление опального студента обернётся спасением его директорского благополучия.
Ко дню железнодорожника поздравить коллектив техникума съехались именитые выпускники во главе с начальником Одесской железнодорожного узла Фоменко. Нехай в преддверии головоломного разговора с Маратом произнёс целомудренный спич:
— От всей души поздравляю коллектив техникума со знаменательным днём. История техникума богата боевыми и трудовыми традициями, неразрывно связана с развитием железнодорожного транспорта страны. Поэтому желаю педагогическому коллективу здоровья, новых сил в воспитании будущих специалистов отрасли. Студентам — вдохновения, настойчивости и успехов в учёбе.
В иные времена затащить Марата на мероприятие было невозможно, но сегодня директор попросил об исключительном одолжении. По окончанию торжественной части, когда гостей пригласили в зал на фуршет, Муравьёв-Апостол направился в директорский кабинет, ощущая, что с сегодняшнего дня жизнь потечёт иначе. Знать бы, в какую сторону.
— Ну, когда такое бывало? Приходится игнорировать самого Фоменко в пользу бунтаря Муравьёва. Нонсенс! — жаловался Нехай виновнику неудачи. — Из комсомола тебя выперли, как врага народа. Сверху ждут экзекуции. Ну, куда править? — взялся разруливать ситуацию директор. — Послухай и сделай, как велю. Знаешь ведь, что я к тебе со всею душой… В нашей отрасли продвинуться можно и без образования, варила бы голова. У тебя с этим благополучно, и я помогу. Гляди сюда, Марат Игоревич. Есть такие работы, что в одиночку выполнить невозможно, нужна надёжная страховка. Труд машиниста, к слову…
Марат, слушавший директора терпеливо, из личной приязни, оживился. ООН между тем продолжал:
— Машинист управляет сложными системами, притом небезопасными. Вполне логично назначить ему помощника, если прикинуть, какую огромную пользу стране приносит железнодорожный транспорт…
Марата мало интересовала экономика в государственном масштабе, но попасть бойцом в локомотивную бригаду и управлять вместе с машинистом поездным составом представлялось заманчивым. Зевая на скучных занятиях, он, бывало, в мечтах управлял подвижной громадой. И вот, складывается, почти наяву. ООН о мечтах Муравьёва не догадывался, и хитрил, чтобы его завлечь:
— Без помощника машинист пустое место, никто…
— Я согласен, — бесцеремонно вставил Марат.
— Что? — осёкся директор. — Неужто вник?
— А то. Пойду помощником, — подтвердил Марат.
Олег Олегович, уже представлявший любимчика арестантом, не ожидал молниеносной победы, и поэтому немедленно прекратил утратившие необходимость уговоры.
— Собирайся, Апостол, в Элисту. Там у меня свой человек начальником отдела кадров узла. Кореш, кое-чем мне обязан…
— Где это — Элиста? — поинтересовался Марат.
— Калмыкия, — успокоил его ООН, — обещаю: год-два-три, и пойдёшь в машинисты.
— Ладно, Олег Олегович. Дальше Калмыкии не сошлют.
— Верно, студент, — директор искренне считал, что спасает парня, — вообще-то, учти, помощником может стать выпускник железнодорожного техникума, но непременно с направлением на предварительную практику. Не иначе. Для тебя сделают исключение, к работе приступишь сразу, обучат в рабочем порядке.
Единственным человеком, не оставшимся в накладе после истории с захватом власти, оказалась пышнотелая простушка Полищук. Её чувственное, долго не знавшее мужской близости тело, вторую неделю сладострастно изгибалось под сильными руками бывшего сотника Тревожного Комитета, проворного татарина из «третьей столицы России», тысячелетней Казани. Сала слуга ислама не переносил на дух, но крупных женщин уважал безмерно.
В восьмидесятые годы заметно ослабло действие механизмов, влияющих на поведение человека независимо от условий его жизни. Старые утратили своё значение, новые ещё не состоялись. Роль компенсаторов долгое время выполняла вера, часто управляющая трезвыми убеждениями, но вынесенная за рамки реальной жизни. Хитрое противоречие позволяло свободнее управлять людьми, преподнося средство управления, религию, как дурман. Даже вольнодумцам, вроде Марата Муравьёва-Апостола, если находили для себя кумиров. Но в моменты острых приступов самолюбования они теряли самоконтроль и увлекали за собой прочих. Вовсе не сродни простейшему существу в этой категории, домашнему эгоисту, пугливому вне дома. Общественный эгоист превосходнее! Он искренне полагает, что все поголовно обязаны становиться столь же сильными, умными и заметными, как он. Где Ницше? Тут уж каждый сам за себя.
Поколение за поколением верили в идеал, но идеал оказался размыт. Маячил где-то у горизонта. Будущее жило сегодняшним днём, или даже вчерашним, где люди, соблюдая очередь, двигались неизменно гуськом. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже не звено в общей цепи. Ты лишний, никто. Несомненно, в жизни довлели общественные авторитеты, в те годы, например, комсомола и партии, но и они постепенно истрепались до критических ошмёток. Отдельные личности, такие как Олег Олегович Нехай, пока ещё умели сдерживать народ личной содержательностью. Но социальное полотно страны всё чаще вышивалось бесцветными нитями. Созидание обретало черты имитации.
Принадлежи Марат к местной элите, пусть даже местечкового уровня, не пришлось добираться через всю страну в какую-то несчастную Элисту. Вместо того, чтобы заслуженно подняться над квашниной масс, придётся тешить самолюбие в неизвестности мизерными и потому совершенно напрасными успехами.
Марат поехал в Элисту. Начальник отдела кадров изучал рекомендательное письмо осторожней, чем сапёр роковую гранату. Прочитав, неясно хмыкнул и спросил с ревнивой осведомлённостью:
— Уж не потомок ли вы участнику Черниговского восстания, декабристу Муравьёву-Апостолу?
Марат, потрогав усы, ответил с ужасающим достоинством:
— Именно так. Мне всегда напоминают об этом. Что скрывать: потомок.
— Хе-хе, предка казнили, а вас, значит, в ссылку. Эх, молодой человек, всё обязательно возвращается на круги своя, — задумчиво проговорил он, глядя мимо, а затем серьёзно, в глаза, добавил: — Пойдёшь помощником машиниста. Оклад сто двадцать целковых плюс премиальные. Сделаем из тебя, как просит Олег, машиниста высшей квалификации. Кстати, мы вместе институт заканчивали, но, как говорится, это было давно и неправда. Поработаешь года два-три помагалой, потом направим в дорожную техшколу. Оттуда вернёшься машинистом. Подходит? Желаю удачи, потомок.
Марат осел в пыльном калмыцком городишке Устой. Трёхэтажное общежитие угрюмостью напоминало давно снесённую одесскую трущобу, цельно сохранённую в памяти. Помойка, вонь, хлорка, блохи. Кровать ножками в баночках с керосином. Бессмертный проказливый клоповник. Кому экзотика, а кому Родина.
Машинисту Клавдию Антоновичу Пересунько физиономия подопечного показалась знакомой. Долго всматривался, словно не в лицо, а в фотонегатив на свет. Пока лента в бачке с «проявителем», ничего не видно. Но через время раствор убирают и заливают воду для промывки. Процесс нудный, но в Калмыкии никто никуда не спешит. Затем вместо воды бачок наполняют «закрепителем», и снова ожидание. Как знать, удастся ли? Красный фонарь не предвещает удачи. Наконец, плёнка подсушена. Финал близок. Свет на проекторе включается, изображение с негатива переходит в позитив на бумаге. «Эй, пескарёк, майку-то накинь, чего мослами торгуешь». Глаза машиниста расширились, но тотчас сузились, как природные у калмыка. Перед ним стоял тот самый Геркулес, что когда-то пнул сына на асфальт у Гамбринуса. И сам он, подхватив сынишку на руки, сбежал от шестилетнего наглеца. Позорище, пора платить по счетам.
— Слухай, хлопчик, я-то тебя в Одессе встречал.
Сначала Марат не удивился. Мало ли, мир тесен, да и Одесса — город компактный.
— Я тоже коренной одессит, — признался Клавдий Антонович, — и на родной железке крупным начальником был. А ты, голубь — тот малец, что у Гамбринуса проказничал.
Пришло время поразиться. Повстречать в такой глуши старинного оппонента… Марат стушевался, но не потому, что оказался узнан. В голосе машиниста услышалась боль, не вязавшаяся с воспоминанием о злосчастном пинке.
— До сих пор не терплю поучений. Насчёт вашего сына…
— Стоп. Нет у меня сына, — бросился в глаза безнадёжный жест.
— Как, нет? В каком смысле нет?
— Во всех смыслах. Погиб мальчик…
— Простите… Не знал… Соболезную…
— Да-да, принимаю… Соболезнование… Сколько их было… Как не помнить. Мариша моя на секунду упустила из виду коляску. Нелепый уклон. Зачем? Коляска покатилась по платформе. Перевернулась на рельсы. Сашка, сын мой — когда ты напугал, полгода заикался, по врачам всё водили, пока киевский логопед не вылечил. Он у меня мужик был, за коляской первым прыгнул. Мариша уже на его крик обернулась. Соскочила и она с платформы. Подняла дочурку на руки. Сашка собрал со шпал вещи, — Марат слушал, каменея, — жена улыбается снизу — всё в порядке, не кипятись. А я… стою, пальцем пошевелить не могу. Поезд изошёл воем, проскочив в метре… Из-за шума они не заметили встречного состава, а я молчал и смотрел, как мчит на соседнем пути товарняк и пожирает мою семью.
— Они… все?
— На место выехала следственно-оперативная группа, бригады скорой помощи… Жена и дочь сразу… Малыш ещё жил. По словам врачей, получил травмы, не совместимые с жизнью… Никому, мне уж подавно, не нужное следствие. «Одесская транспортная прокуратура проводит проверку по уголовному производству: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть человека». Так это звучало. Машинист, слава Богу, оказался не виноват, состав вообще не должен был останавливаться на станции. На суде он показал, что, увидев стоявших в опасной близости людей, стал подавать предупреждающие сигналы, экстренно затормозил, но сильный поток воздуха затянул их под колёса. А потом… знаешь, что написали потом в «Знамени коммунизма»?
Марат будто проглотил язык. Клавдий Антонович тоже молчал. Будто минуту назад было, но высказать не получалось: запрыгали губы.
— Что?
— До сих пор… Выжигает… Родители, дескать, не досмотрели. Под поездом погибли мать и двое детей. Виной любопытство малыша и родительская беспечность… А? Железнодорожный путь, многотонный поезд, семья на рельсах… Нет семьи. И я не мог остаться, уволился, сбежал в Калмыкию. По ночам снились пути. Не жена, не дети — пути… рельсы… рельсы… рельсы… И я понял… Моё место в локомотиве… До сих пор смотрю на них, они на меня…
Марат так и не уразумел, что имел в виду машинист, то ли пути и рельсы, то ли семью, но благоразумно решил не уточнять. У Клавдия Антоновича явно душевный разлад, а с ним работать в упряжке. Чем он взял медицинскую комиссию, оставалось загадкой.
Потекли будни, неповоротливые на околице страны. Сперва машинист принял помощника за отпрыска влиятельного районного чинуши. Хитро щурясь, неторопливо задирал обидным словом. Но в поезде, как и в самолёте, на ходу не сойти.
— Продвинуться на железке можно в двух случаях: лапа мохнатая или голова на месте. Человек бесчестный, — вещал Пересунько, поднимая дрожащий в назидании перст — изначально не пойдёт машинистом, а двинет на блатняк в контору. Туда без связей не суйся — только если имеешь таланты, иначе от ворот поворот. А как машинисту быть, чтобы заметили? Я понимаю, инженер может образованностью взять, а мы, извозчики — как слесаря в депо. Без них никуда. Зато помалкивай, да конопать. Люди думают, на железке кайфово. Романтика, зарплата, льготы. Фигня. Работа машиниста — ад на колёсах.
Со временем Пересунько перестал ворчать. Может быть, надоело. Или присмотрелся к подручному. У Клавдия Антоновича выходило, что Марату с его пламенным ликом следовало податься в космонавты. Друзья степей калмыки и вольные сайгаки Марата не занимали. Апостола до дрожи возбуждала скорость. Ему, доподлинно знающему устройство и принцип движения поезда, казалось невероятным, как мановением руки можно стронуть с места многотонную махину. Но статистика набиралась поучительная: пока помощник присутствовал в рейсе, ничего не ломалось. То есть, совсем ничего. Старинная, ещё довоенная система, словно боясь разочаровать, замыкалась на парне с васильковыми глазами. Стоило ему покинуть локомотив — Пересунько нарочно присматривался — складывалась скучная картина: затасканный «козлик» присланной срочно техпомощи тосковал среди перегона у замершего состава.
В действительности на железке легче слесарям, чем прочим сословиям. Спешить некуда, экстренная ситуация, если случается, то в образе начальника депо, заложника обстоятельств. Но в любом случае неисправности устраняются в спокойной обстановке и непременно в течение нужного времени. Аврал категорически не допустим. Машинисту же и его помощнику на выявление неисправности отводится в лучшем случае десять минут, именно поэтому ремесло локомотивной бригады — вести состав, а не мучиться ремонтом.
В проливень бесновался дождь. Стегал стёкла вспухшими вожжами — дворники не успевали расталкивать воду. Клавдия Антоновича настигало прошлое. Позволив помощнику «порулить», чтобы не заснуть, затянул «душевную железнодорожную»:
— А поезд всю ночь несётся,
О чём-то поют гудки,
И поезда сердце бьётся
В твоей, машинист, груди…
Как раз, когда Марат, убаюканный припевом, потёр для трезвости глаза, на связь вышел диспетчер. Потребовал ответить. Сбился и несколько раз подряд, словно забывшись, переспросил: «Как слышите?». Пересунько не пошевелился. Апостол почувствовал неладное. В голову бросилась кровь, громом разразилось сердцебиение. Схватился, толкнул под локоть Клавдия Антоновича, рявкнул на диспетчера в микрофон так, что тот сразу пришёл в себя. Эти отбитые у времени секунды стали переломными.
Опасность опасности рознь. У надвигавшейся беды голодная пасть и острые зубы. Диспетчера как прорвало — изошёл подробностями, будто на рапорте начальнику дороги. Навстречу по колее с их составом мчался неуправляемый тепловоз. Клавдия Антоновича «понесло». Апостол мог поклясться, что разглядел в его глазах погибающих детей и жену. Марат постиг главное: время, его нет! Надо действовать, не раздумывая, не оглядываясь на машиниста.
Столкновение… Неизбежность… Единственный путь — что туда, что оттуда — навстречу! Решение всплыло в голове, смыв лишние мысли и сомнения. Всё сжалось в мгновение. Остановив поезд, Марат с Пересунько бросились расцеплять вагоны. Работали на ощупь, сбивая в кровь пальцы. Небо выстреливало молнии, гром и плотные дождевые струи. Бесконечность! Четырнадцать вагонов, пятьсот пассажиров… Расцепив вагоны, ринулись обратно, к локомотиву. Пересунько, едва различавший в ночи фигуру помощника, мчался за ним. Он ещё не постиг манёвров Апостола, слишком порывистых, скорее молниеносных, но, по воле случая оказавшись ведомым, старался выполнить команды быстро и точно. Ведь не всегда в жизни роли распределяются, как задумано изначально.
Лишь когда Апостол пустил машину навстречу неуправляемому тепловозу, Клавдий Антонович понял, что задумал помощник. Понял и поразился небывалой свободе ума и отваге сердца: Марат жертвовал собой, чтобы спасти пассажиров. Он, как истинный Геркулес, собирался телом преградить путь разогнавшейся махине, не допустить столкновения с пассажирскими вагонами.
Но он недооценил Апостола. Они успели откатиться на пару километров и остановиться, когда показался мчащийся на предельной скорости тепловоз. Апостол, сбросив тормозной башмак, привёл локомотив в движение в обратном направлении, набирая скорость для смягчения удара. За секунды до столкновения Пересунько рванул помощника за рубаху, неимоверным усилием утащив вглубь. Слившиеся биения двух сердец, единые плоть и кровь, настигший неуправляемый болид… Звуков словно не было, или их уволокла вместе со стеклом ударная волна. Рваные клочья металла, лишь затем вой и скрежет, словно вырвавшиеся из преисподней… Само время, оглушённое многотонной мощью, остановилось взглянуть, стоило ли идти дальше…
Машинист и помощник очнулись. Ад? Рай? Ни то, ни это, значит, живы. Звуки, краски, ощущения вернулись в мир, моторошно заявляя о присутствии. Первые мысли оказались не о чудесном спасении — о счастливой отсрочке. Как до сих пор не вспыхнуло, не рвануло! Кинулись выключать батареи, затем — в маневровый тепловоз. Не раздумывая, не замечая боль и кровь. Марат выдернул из бедра осколок стекла, мешавший двигаться и, зажав рану, полез в кабину. Внутри чудом сохранившиеся приборы, предельные параметры и… пусто…
Беда прошла стороной. Даже не обдав смертельной одышкой пассажиров. Пассажиры, как всегда, возмущались непредвиденной остановкой и не подозревали о разбойничавшей, но усмирённой катастрофе.
В ожидании спасательных бригад машинист с помощником осматривали развороченную кабину своего локомотива. Она, словно пропущенная сквозь мясорубку, являла собой потрясающее зрелище. Клавдия Антоновича передёрнуло: пульт управления вывернут наизнанку верхняя часть корпуса напрочь смещена, висят, как умирающие рыбины во вздёрнутом неводе, обрывки жести и стального литья.
— Всё… Кончено… Ремонту не подлежит, — сказал Пересунько и потерял сознание.
Марат последовал за ним.
Героями они себя не сочли — молча и единодушно. Сумбурная речь начальника станции Элиста усилила парадную надсаду зала:
— Заветная профессия — машинист! Честное дело! Но! Какой-то мерзавец, проникнув в маневровый локомотив на отстое, запустил дизель, включил тягу и смылся! Зачем? Не знаю, только мы вычислим негодяя! А-а-а?! Как это? Вдребезги маршевый! Вдребезги маневровый! Счастье, что обошлось без жертв! Говорю: отважные действия локомотивной бригады! Вот они герои — машинист Клавдий Антонович Пересунько и помощник Марат Игоревич Муравьёв-Апостол. Это они предотвратили страшные последствия! Спасли сотни пассажиров! Если человек переживает за порученное дело, подготовлен к любой беде, обязательно будет успех. Помощник машиниста, найдя верное решение, заслуживает и человеческой благодарности и поощрения по службе. За предотвращение крушения поезда, спасение жизней пассажиров и проявленное мужество, Марат Игоревич награждается знаком «Почётный железнодорожник», премией в шестьсот рублей и обмундированием…
Зал облегчительно выдохнул густые аплодисменты. Откровеннее всех торжествовал порывистый, как тревожные будни, калмык в железнодорожной форме довоенного образца. В годы войны старик был машинистом. С ним на паровозе кочегарил сын. Парня убило в первом же авианалёте. Сам машинист, получив ранения, остался на посту. Эшелон с ранеными удалось вывезти на безопасный разъезд.
Железнодорожное движение подчинено правилам, регламентирующим действия железнодорожника при всяких обстоятельствах. Инструкции указывают, как форсировать котёл, что делать с безбилетным пассажиром, каким образом перевозить клетки с тиграми. Но ни одна инструкция не сообщает, что должна делать бригада во вражеском окружении. Правительство высоко оценило героизм людей, обслуживавших санитарный состав. Поседевшего с того дня калмыка отметили знаком «Почётный железнодорожник» и правом носить форменное обмундирование после завершения работы на транспорте.
— Пусть тебе, малый, — старик обнял Марата, — быть генерал-директором путей сообщения, не меньше! Живи без горя, сынок! Счастья тебе и твоим близким!
— Спасибо, отец, за благословение, — Марат в этот день был отчаянно вежлив.
В сравнении с Апостолом старик имел два преимущества. Первое — сам по себе довоенный знак «Почётного железнодорожника», выполненный из серебра. Накладные же части: паровоз, знамя, ленточка, колосья, звёздочка — вообще золотые. Второе — внучка, державшая деда под локоть пугливо, словно, её в любой момент могли умыкнуть. Лицо девушки оттенял цветистый платок. Марат попытался улизнуть от раздухарённого ветерана, но заметил, что осторожная, как сайгак, внучка, плотнее прижалась к деду. Платок, завязанный под шею, сполз на плечи, и потомок декабриста утонул в сиянии чёрных глаз.
Взгляд юной калмычки заставил забыть обо всём. Чужая, непередаваемая словесно красота, беззаветно манила. Узкие глаза, плоский нос, упрямый лоб по отдельности и приблизительно не напоминали идеал женской красоты Апостола. Но вкупе всё перемешивалось, и в сердце поражённый парень видел не лицо восточной девы, а гармоничное волнение красок, сложившихся в живой, не знающий преграды взгляд. В довершение волшебство обрамлялось семью шаловливыми косицами.
Когда к Марату вернулась речь, девушки и след простыл. Её орденоносного предка спрашивать не полагалось. Старик смекнул, что русский сорванец интересуется внучкой, и предпринял превентивную защиту. В ответ лаконично улыбался, напоминая кивающего китайского болванчика.
Бригаду пересадили на другую машину. Но, к удивлению Пересунько, присутствие или отсутствие помощника резко влияло на скорость профилактических работ в депо. Ремонт шёл как по маслу, если Марат находился рядом, и замедлялся, как только он отходил подальше. К вечеру профилактика завершилась, и можно бы отправляться по домам. Но неожиданно, как иногда бывает, подвернулась халтура. Железка, как живое сердце, работает денно и нощно.
Строители уговорили начальника станции затолкать цементовоз на строящийся комбинат. Пересунько и Апостол как раз отогнали локомотив из депо и согласились помочь. Сделав работу, могли возвращаться на отстой, но помощника машиниста привлекла тягучая степная мелодия, доносившаяся из села.
Марат, пребывавший в блудливой тоске, захотел посмотреть. И пеши отправился на звук. Миновал указатель «Станция Артезиан», привокзалье, магазин, железнодорожный клуб. Картинка повеселила. А как же, единственный сельский «небоскрёб». Обошёл, оставаясь в тени. Рядом гремела свадьба. На пустыре, заросшем амброзией, виднелась кибитка. Широко поднятый полог, внутри по разные стороны мужчины и женщины. В почётной глубине старцы, преисполненные достоинства. Девушки разносили «курное», наполненные табаком чаши. Подавали и чай. Юношам доверили араку и мясо. Из тесноты кибитки с паром из пиал уносило праздничный гомон.
Но вскоре суета улеглась. В тишине и непререкаемости пошевелился седой аксакал, пыхнул трубкой, поправил колпак с праздничной лентой и сказал, уважив городских гостей, по-русски:
— Пусть молодые поставят свою кибитку на возвышенности, пусть укрепят привязь для скота на травянистом месте, пусть народят детей и вместе живут в долине без войны и бедствий.
Апостол узнал старца, ветерана-железнодорожника. Всмотрелся. Там, на женской половине его внучка. В бархатном терлеге[51] в талию она казалась восточной красавицей, воскуривавшей фимиам. Затяжки короткие, лёгкие, без дыма. Может, пуста чаша, нет в ней травки, и девушка кейфует ради обычая. Апостол не терпел курящих дам, но курительную трубку, национальный наряд и саму калмычку окружал таинственный ореол.
Докурив, она мило отряхнула пепел. Привычно дунула в мундштук. Заметно: не в новинку. Аккуратно уложила кисет в кожаную суму. Потянулась к домбре. Тронуть струны не успела. Старуха, наклонившись к ней, пошептала что-то на ухо. Девушка подорвалась, метнулась к дому, где затаился в тени Марат. И с разбегу угодила в объятия, узнала, но не удивилась, будто того и ждала, и они задохнулись в поцелуе.
С тех пор Апостол стал наведываться в Артезиан. Со времени аварии Пересунько души не чаял в помощнике, и всякий раз предупреждал парня о крутых местных нравах. Апостол отшучивался. Внучку аксакала звали Галима. Имя вызывало у Марата отчуждение, но девушка легко согласилась на Галину. Встречались, где получалось. Свидание у местной больницы вышло неудачным. Трое братьев Галимы, приземистые и упрямые, взвешивали в руках дубинки. Подогретые справедливым гневом, клятвенно распыляли угрозы: «Оставь, мангас[52], сестру в покое, не то зарежем, как глупого барашка!».
Увидев любимую снова, Марат задумался. Личико Галимы покрывали синцы, руку — гипсовая повязка.
Вернувшись со свидания, Апостол посвятил Пересунько в безумный план. Надо увезти избранницу подальше от родинных мест. Чего проще. Какие там сложности — Клавдий Антонович загонит тепловоз в тупик у села и станет ждать Апостола с беглянкой. Клавдий Антонович благоразумно отказался, полагая последствия несоизмеримыми с приключением, но неожиданно, разом обломав сомнения, решился. Пойти на преступление ради этого пацана из прошлого? Но как не помочь славному парню в передряге? Перевесил простой довод: то, чего не мог сделать он, умудрённый опытом Пересунько, легко далось юному сорвиголове. Будь он, Клавдий Антонович, порасторопней, наверняка спас бы семью, как спас Апостол пять сотен жизней. Единственное противостояло сомнение — неординарные люди любят вовлекать окружающих в свои приключения.
Локомотив налегке, без эшелона, подогнали в тупик за станцией. Вот он — любуйся, если хочешь — Артезиан, населённый вернувшимися из сталинской ссылки калмыками. Вокруг степь да степь. Не спрятаться, лишь терновый кустарник мог намекнуть на призрачность удачи. Времени в запасе нет. Марат ушёл, значит, через час, полтора, придётся поспешить обратно, иначе скорый поезд «Кизляр-Астрахань» нарушит расписание. Тогда позорное увольнение и верные суд да тюрьма.
Марату пришлось поволновался — Галима всё не шла. В свете ущербной подъеденной облаком луны едва различались стрелки часов. Третий час ночи, гости никак не угомонятся. Везде свадьба идёт круче. Как? По правилам! Собрались, напились, подрались? Помирились, набрались, свалились! Здесь — другие привычки. Галима рассказывала Марату, что хюрм, калмыцкая свадьба, состоит из трёх церемоний. Первая — приезд жениха в деревню невесты. Толпа веселится и наедается впрок, на год вперёд. Притом загадки друг другу загадывают, соревнуются, кто больше сказок расскажет. Вторая церемония — второй визит в деревню невесты. Тот же расклад с подарками, застольем и загадками. И опять до рассвета. Третья церемония — увоз невесты. Казалось, в чём премудрость? Сгребай невесту да вези в дом, но нет, бал до первых петухов. И самое отвратительное — поутру виден узор на ладони, но не смей пропустить, когда и как увезли невесту. Засмеют ледащего.
Сегодня — третья ритуальная ночь. Выбора не оставалось. Братья Галимы наблюдательны, но не стронутся с места до окончания свадебного ритуала. Лишь только хотон[53] успокоится, уснёт после угарной ночи, они спрячут сестру так, что и собаки след не возьмут.
Неправильные звуки струн царапали душу. Прожаренный суховеем воздух щемил чувством неразделённой тоски. Любовь? Марат не был уверен, знает ли все её оттенки. Добиться Галимы всецело — скорее болезненная потребность доказать, что окружающий мир, включая полюбившуюся девушку, принадлежит его капризам. Но больше весило самолюбие: решение принято, отступать он не станет, даже если придётся вступить в единоборство с толстым калмыцким богом Буддой.
Что именно послужило толчком к сомнительному решению, Марат уточнить затруднялся, хотя перечислить варианты сумел бы легко. Экзотическая внешность избранницы, её обожающий взгляд, умноженные жалостью к ней, избитой собственными братьями? Собственно, всё вместе и ещё что-то, о чём Апостол мог признаться лишь самому себе.
Галиму в это же время одолевали думы о былом и несбывшемся. Она курила подряд третью трубку, не замечая, как сладкий привкус табака с каждой затяжкой обжигает нёбо горечью. Мысль о побеге не казалась дикой. Калмычки, хотя и находились во всецелом подчинении у мужчин, в отличие от женщин других восточных народов, имели человеческое, не рабское обличие, и пользовались умеренной долей свободы и самостоятельности. Стечение побега со свадьбой родственницы больно ранили неискушённую девичью душу. В её среде похищения невест, резко осуждаемые в народе, происходили крайне редко, имея при этом сугубо обрядовую, ритуальную окраску. Обычно в таких случаях всё устраивалось само собою: прощалось и забывалось. Но её побег с иноверцем мог расцениваться если не воровством, то несомненным покушением на завет предков. Этот побег с русским никогда не простят!
В этот час Галима особенно остро чувствовала, что разрыв пуповины, связывающей её с родным домом, окажется кровавым, если не смертельным. Злое предчувствие отравляло предстоящее слияние с любимым. Не склониться теперь трижды перед солнцем, дающим тепло, свет и жизнь. Не проститься с родными и незаменимыми отцом, матерью, братьями. Не поклониться очагу и предкам мужа. Не бросить кусочки сала и кизяка в огонь, переступив порог нового дома. Не изменят родители мужа имени Галима, не расплетут девичью косу, не разделят на две половины, заплетая в две женские, уложенные в роскошные бархатные шиверлиги[54].
Галима в последний раз вздохнула горестно и порывисто встала. Пора! Пора покидать родной дом. Не гордой походкой невесты, но невольницы, скрытно, под покровом ночи. Огляделась. Свадьба в разгаре. Народ ел, пил и плясал, словно напоследок. Галима метнулась к комнате, где хранилась заранее уложенная котомка с вещами и девичьими украшениями, но спохватилась, заметив стайку девчонок, ещё не вошедших в возраст. Глазастые, любопытные, непременно запомнят и доложат. Затем неспешно, делая вид, что прогуливается, покинула дом, оставив неприкасаемым нехитрое приданное. Она не заметила теней, скользнувших вслед. Проучить русского наглеца подтягивалась многочисленная родня Галимы — братья родные, двоюродные и даже отдалённых степеней родства.
Марат ждал в тени двухэтажного кирпичного здания, того же, что послужило укрытием при первом свидании с Галимой. Мимо сновали старухи по своим насущным старушечьим делам — как его до сих пор не заметили, оставалось загадкой. Хотон бурлил, завершался третий день свадьбы.
Когда работаешь в грузовом движении, половина ночей — твоя. Ходить на работу надо уметь и к часу ночи, и к трём, и к пяти. К подобному распорядку следует готовиться загодя, желательно дома. Садишься с восьми вечера до восьми утра и смотришь в одну точку, стараясь не уснуть. Примерно так выглядела работа машиниста. Мало не уснуть, сегодня Клавдию Антоновичу следовало быть особенно внимательным. Пропустить отход Апостола нельзя — дело ответственное, но незаконное, поскольку невеста не достигла совершеннолетия. Упустишь момент — и безоблачное умыкание превратится в кромешную погоню.
На сей раз Пересунько не сплоховал. Влюблённые чинно и неспешно покидали пределы хотона, справедливо полагая, что бегущие люди привлекут внимание. Шли, не оглядываясь, наслаждаясь романтикой бытия. Но машинист из высокой кабины уследил то, что им видеть было не дано. Позади из густых терновых кустов одна за другой появлялись фигуры преследователей. Не докричаться, не предупредить!
И машинист принял единственно верное решение, реабилитировавшись в собственных глазах после конфуза с аварией. Чтобы заставить Марата и Галиму ускорить бегство, следовало самому начать движение. Локомотив издал протяжный гудок и тронулся с места к станции. Марат, поражённый вероломством начальника, оставался бездеятельным не более секунды. Столько времени понадобилось ему, чтобы срисовать обстоятельства, и расценить, что локомотиву ни спереди ни сзади ничто не угрожает. Значит, причина другая.
Апостол развернулся. Протяжный визг возвестил об истинных намерениях гонителей…
Марат не позволил Галиме долго предаваться ужасу, парализовавшему волю. Рванул её за рукав, увлекая вслед удалявшемуся локомотиву. Она едва поспевала. Зависала, будто теряя опору под ногами. Погоня безжалостно приближалась.
Клавдий Антонович дождался, когда расстояние между тепловозом и беглецами сократилось достаточно для завершающего манёвра. Глазомер не подвёл опытного машиниста. Он дал по тормозам, издавшим вой, позволив Марату в несколько прыжков достичь локомотива.
Апостол в одно усилие забросил невесту в кабину и развернулся к преследователям. Пересунько, словно они договорились заранее, снова начал движение.
— Сейчас — успокою придурков! — взревел Марат и пудовыми кулачищами отправил в нокдаун вниз по откосу наиболее ретивых, рискнувших приблизиться. Братья Галимы, надо отдать им должное, не отступали. Но, быстро растеряв наиболее воинственных, поостыли. Почувствовали опасность, исходившую от одинокого русского бойца, ставшего насмерть за выкраденную невесту — здесь, в их родной степи, подле отчего хотона, не подвергавшегося подобному унижению со дня насильственного сталинского выселения.
Прочувствовав момент, Апостол не стал геройствовать и рванул вслед тягачу. Сил почти не оставалось, но призывные объятия любимой впереди и воспрявшие духом преследователи, подарили насыщенный вброс адреналина. Прыжок, взлёт — и вот уже сильные руки машиниста втянули Марата в кабину. Пересунько, стоявший у самой кромки, слегка переоценил свои возможности. Ухватиться — одно, втянуть внутрь не менее восьми центнеров живого веса, совсем другое. Это, как говорят в Одессе — одна, но очень большая разница. Потеряв равновесие, Клавдий Антонович вот-вот рухнул бы с весом вниз. Рухнул бы, если не Галима. Откуда достало сил миниатюрной девушке, оставалось догадываться, но вдруг и машинист и его помощник оказались на не совсем чистом полу кабины. Значит, полный вперёд!
Легенда, но сначала быль: ночью на тепловозе умыкнули из Артезиана в Элисту молодую калмычку.
В Элисте Марат Муравьёв-Апостол решил не задерживаться. Догадывался, что родственников Галимы не насторожат причуды большого города, ответ придётся держать непременно. Не подфартило стать генерал-директором путей сообщения. Предстояло искать новое место для жизни. Наметил податься в Киев. Манили огни вольного мегаполиса. С тем и направился в отдел кадров. Сопровождать его взялся Пересунько.
Натан Миронович Драпкин, начальник отдела кадров Элистинского отделения железной дороги, долго не хотел понять, чего добиваются геройские мужики. Клавдий Антонович начал издалека и приводил такие доводы, что хозяин кабинета выглядел обескураженным. Марату надоело слушать сумятицу. Что белая, что чёрная ложь одинаково убедительны, если без них не обойтись. Положение спасла чистая правда.
— Натан Миронович, помните меня, не забыли?
— Как забыть, если намедни награждали, — осторожно удивился Драпкин.
— Нет, я о первой нашей свиданке. Кончилась моя ссылка, «гражданин начальник». Расклад вышел другой… Женюсь на прекрасной туземке, бешеные родственники невесты преследуют по пятам, теперь потомку декабриста нужно свалить подальше от мест ссылки.
— Ай-яй-яй! — возмутился начальник отдела кадров, хотя в глазах его заплясали весёлые бесики. — Вот, оказывается, где собака порылась… от меня-то что требуется?
— Открепление со службы состряпать…
Пересунько отечески развёл руки в стороны. Драпкин пресёк паузу словами, сказанными ранее в этом же кабинете тому же Муравьёву-Апостолу:
— Всё возвращается на круги своя, — и уточнил для полной ясности, — как расставаться с героем, прогремевшим на всю железную дорогу Калмыкии? Правда, за мной старинный должок, и клятву придётся держать. Кстати, — глаза Натана Мироновича хитровато блеснули. — Нехай по-прежнему ООН зовётся?
— Нехай… как же иначе? — солидно подтвердил Марат, — ООН и в Калмыкии ООН.
Пересунько, потерявший суть разговора, переводил взгляд с одного на другого, пытаясь догадаться, о чём речь. И, если Апостол оставался непроницаемым, то солидный Натан Миронович забавлялся:
— На круги-то своя, — повторил, — но слишком скоро. Значит, железная калмыцкая дорога не твой круг… А жаль, здесь ты достиг бы высот. У меня на удачу особый нюх…
— Почему не его круг? — возмутился Пересунько, просветлённый вскрывшейся сутью, — парень, знаешь, в столицу нацелился, в Киев. Домой-то, в Одессу — рано, набедокурил по молодости…
И машинист повернулся к Марату, враз изменившись в лице, напомнившем побитую молью ткань:
— А то оставайся, чего уж там…
Начальник отдела кадров не стал усугублять ситуацию. Оформил открепление, выписал повышенные, как герою железнодорожнику, подъёмные и, вручив незаклеенный конверт, вдруг подзадорил:
— У меня в локомотивном депо на Киев-Товарном концы имеются… Живой привет передашь Кутовому, ну и письмецо…
На том и расстались.
С Пересунько попрощались трезво. На миг Клавдия Антоновича потянуло на сантименты:
— Прикипел я к тебе, сынок… — хотел признаться в большем, но наткнувшись на взгляд Апостола, замолчал.
Марат словно отсутствовал. Клавдий Антонович обнял Галиму, пожелал «совет, да любовь» и ушёл, ни разу не обернувшись. Апостол смотрел вслед. Калмыцкая эпопея завершалась, следовало позаботиться о будущем.
В Киев приехали ранним утром, когда город не успел потушить фонари. За день предстояло наведаться в депо «Киев-Товарный», чтобы потолковать о работе и, конечно, найти крышу над головой. В том, что его собственную «крышу» снесло окончательно, Марат не сомневался. Галима оставалась нестерпимо желанной, но из-за забот казалась в обузу. Ей что — с милым и в шалаше рай. Хоть Киев, хоть Урюпинск, всё равно, где разбивать кибитку.
В депо пришлось добираться с невестой, не оставлять же на вокзале сторожить скарб. Оба чемодана, купленных в Элисте на колхозном рынке, сдали в камеру хранения. Наскоро позавтракали в буфете привокзальными сосисками и отправились искать Киев-Товарный.
Далее события понеслись в скаковом темпе, и Галима попискивала от восторга и восхищения возлюбленным. Марат, привыкший воспринимать удачу, как разумеющуюся саму собой данность, оставался невозмутимым. Евгений Владиславович Кутовой, начальник депо, компенсировал недостаток роста кипучей деятельностью. Не показушной, но истинно продуктивной, для блага Родины. Страна постепенно теряла потребность в инициативных и мыслящих оригинально специалистах. Тому были причины. Тенденция к уравниловке породила культ посредственности. Социальная несправедливость, усреднение оплаты труда без оглядки на эффективность и качество, установление пределов стимулирования — всё это в совокупности создало условия, когда работать производительно оказалось невыгодным.
Всё труднее становилось привлечь к работе грамотных специалистов, и практически невозможно удержать на работе опытных. Оплата труда ориентировалась не на рост производительности, а на установленный свыше фонд заработной платы, им предприятие не могло распоряжаться. Руководитель, взывая к сознательности, признавался: «Не могу я поднять зарплату», тем самым расписываясь в своей несостоятельности.
Немногим иначе обстояло дело на железной дороге, представляющей собой государство в государстве. Накапливались собственные фонды, зачастую недоступные местным органам управления. Как любая солидная контора, управление железных дорог содержало ведомственные поликлиники, дома отдыха, турбазы, квартиры и прочие изыски «для своих». Имелась возможность создать достойные условия труда пусть некоторым, но наиболее востребованным специалистам. Руководству железных дорог удавалось сохранять «хорошую мину при плохой игре», хотя сами деньги, как эквивалент вложенного труда, отсутствовали. Рост заработной платы в непрестижных местах фактически сопровождался замораживанием уровня оплаты квалифицированного труда. Процветал бартер: ты мне, я тебе.
Евгений Владиславович Кутовой откровенно страдал от неизбежной профанации, прожектёрства и неразберихи. Рекомендация Драпкина возымела магическое действие, вернув начальника депо в оптимистическое русло. И, прочтя письмо раз и вторично, он посвятил потомку декабриста «экскурсию» по производственным площадям депо. Более нужную самому себе, чем соискателю рабочего места. И остался не рассказать как доволен новым сотрудником.
Марат Игоревич Муравьёв-Апостол не только до тонкостей разбирался в матчасти, но сходу обрисовал вполне реальные перспективы для улучшения производства. В итоге Евгений Владиславович немедленно «пробил» новичку с женой невиданную роскошь — комнату в общежитии со всеми коммунальными условиями. Чтобы потомок декабриста нечаянно не поворотил оглобли.
Через неделю Евгений Владиславович просочился в кабинет начальника Киевской железной дороги. На заседаниях он предпочитал стоять, иначе из-за массивной столешницы собеседнику была видна лишь его голова.
Кутовой зашёл издалека. Хозяина, перед тем, как просить о насущном, следовало смягчить, наподобие мяса в уксусе, за день до употребления.
— Нет, ты послушай… Приходит ко мне рабочий, и рассказывает, как ему и сменщику расценки снижали. Это он мне по большому секрету и личному уважению… Так вот, снизили, и, чтобы сохранить заработок, они погнали количество. Мастер усёк, что могут ещё нарастить поток, и снова снизил расценки. Как тебе задачка?
— Простая. Работяги снова прибавили в числе.
— Точно! — вскипел Кутовой, подпрыгивая на месте от возбуждения. — На вид детали нормальные, любой контролёр пропустит, лично проверял. Но! Мужик признался, что под нагрузкой деталюхи лопнут. Знает, да помалкивает — пусть начальство догадается о расценках…
— Так взашей, коли знал, но помалкивал.
— Выход, но работать кто будет? Мы с тобой?
— Мы с тобой руками своё отпахали. Теперь должны обеспечивать, чтобы другие работали, как нужно.
— А как нужно? — задиристо нажал Кутовой, и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Мы с тобой пуд соли бок о бок сожрали и можем говорить откровенно. Уравниловка — та же безответственность. Работник знает, что от него ничего не зависит. Не стало работы «за страх», но и работа «на совесть» воспринимается как атавизм.
— Погоди, Женька, не пойму, к чему ты клонишь… Будет загадки говорить… Зачем пришёл?
— А вот. В депо случайно попал человечек, молодой парнишка, ещё до армии. Сам из Калмыкии, на Украину перебрался по семейным мотивам. Мне его отрекомендовали, как сильно грамотного, так что решил я проверить и отправил на недельку в МБТ…
Хозяин поморщился, будто выслушал засаленный анекдот. МБТ или Музеем Безнадёжной Техники, называли самый дальний участок депо, где пытались ремонтировать не подлежавшую восстановлению технику. Списать оборудование тоже не представлялось возможным, вот и висело оно пустым грузом на предприятии — ни списать, ни починить.
— А что? Хотел испытать парня… На неделю назначил бригадиром.
— В Музей?! Там же волки! Не жаль пацана?
Всех, кого желали сплавить с железной дороги — инвалидов, алкоголиков, уголовников — ссылали в МБТ.
— Бригаду бы лучше пожалел. Дело даже не в этом. За эту неделю бригада восстановила столько техники, что депо перевыполнило пятилетний план по ремонту. Парень — феноменальный диагност, более того, предложил в производство прибор, сокращающий время проверки тормозного оборудования. За неделю! Пацану восемнадцать лет! Инженеры за головы хватаются — знаешь, где он предлагает ставить расходомер воздуха? На тормозной магистрали! Машинист сможет видеть состояние тормозного оборудования, не выходя из кабины.
— Умно… То есть безопасность движения многократно возрастает…
— Во-вторых, — продолжил Кутовой, — плотность тормозной магистрали измерить не за пятнадцать минут, а за пять, что решительно сокращает время стоянки. Но и это не всё. На второй день мужики из МБТ остались на сверхурочные… Ты не поверишь! За свой счёт! За неделю ни одной пьянки! Парень — полководец!
— Слабо верится. Сказка. Но допустим, а от меня что хочешь? Пришёл порадовать новым ценным сотрудником?
— Прикинь, — Кутовой вплотную подошёл к цели визита, — в наше время специалиста такого уровня одной зарплатой не удержишь…
— А чем удержишь крутого специалиста? — подозрительно спросил хозяин, удивляясь подобной наивности — чего-чего, а сентиментальности за энергичным начальником депо ранее не наблюдалось.
— Да, совсем запамятовал… Парень женат, семью кормит. Это тебе не холостяк, сегодня здесь, а завтра там.
— Хорош, Женька, кота за яйца тянуть, говори прямо, что удумал.
— Я и говорю — специалист, лидер, серьёзный человек, а к тому же… — Кутовой выдержал эффектную паузу, — награждён значком «Почётный железнодорожник»!
Хозяин показался сражённым наповал. Евгений Владиславович сиял, как начищенный пятак, довольный живописной картиной:
— Помнишь недавний инцидент в Элисте с неуправляемым локомотивом?
— Так это был твой протеже?! Что ты мне мозги полчаса пудрил, с этого надо было начинать!
Кутовой хорошо знал, с чего начинать, наукой убеждения он овладел в совершенстве. Базовым постулатом нехитрой науки служило утверждение, что человека прежде, чем использовать в своих целях, следует правильно подготовить. Неважно, подчинённый он, или начальник, иначе тебе грозит прослыть неисправимым брюзгой, вечно застревающим с пересчитыванием мелочей у кассы жизни. Такого человек, как Марат Муравьёв-Апостол, начальник депо Кутовой упускать не собирался.
Порой, глядя на молодых «специалистов» поступавших в депо после «ремеслухи», он внутренне восклицал, с трудом сдерживая крик отчаяния: «Как же мы, люди сороковых, любили, жили и трудились по-настоящему, но умудрились вырастить столь ничтожное поколение, где понятия «долг», «честь» и «совесть» подверглись оскоплению». Евгений Владиславович не мог взять в толк, откуда появилось в людях пренебрежение к общественному достоянию, спрятанное за отговорку «Государство не обеднеет». Кутовой помнил, как лет двадцать назад, начиная работать технарём в депо, считал каждый болтик или использованный килограмм металла. Что зря горевать, сегодня иначе. Чтобы удержать подле себя специалиста, следовало подманить его вершиной меркантильного идеала советского человека — триадой: квартира, машина, дача.
Так или иначе, но Новый Год Марат Игоревич Муравьёв-Апостол встречал на Подоле в новенькой ведомственной квартире, простирающейся на добрых тринадцать квадратных метров. Вскоре после заселения они расписались, а уже весной молодая жена провожала мужа в армию, не зная, что беременна двойней. Провожала безропотно, справедливо полагая, что над головой настоящего мужчины должен виться дым либо от табака, либо от пороха, однако Апостол, к её сожалению, не курил.
Глава 5. Тюрьма. Противостояние
Отец Серафим пожаловал на третий день. Возник тихо, без шума и фанфар. Невесело улыбаясь, Апостол рассматривал окороченную бороду священника, когда понял, что на деле опасается взглянуть в глаза. Что за напускной жёлчностью не скрыть замешательства. Словно прочитав его мысли, батюшка успокоил:
— Утешьтесь, Марат Игоревич, многие прозорливые мужи положили на изучение Книги жизнь, но не постигли. Есть ли у вас ответ?
Есть, представилось. Резкий хук справа. Лицо патлатого разворачивается на сто восемьдесят градусов, обрызгивая красным настенные исповеди. Вслух же Апостол заверил, что книгу читал внимательно, но ответа не получил.
— Лады, — совершенно не расстроившись, согласился отец Серафим, — попытаемся разобраться вместе. Если не затруднит, прочтите вслух двадцать шестой стих первой главы.
— Слушай, отче, — Апостол вложил в последнее слово весь сарказм, на который только способен, — хочешь огорошить — валяй, но не выслуживайся, мне твоё представление ни к чему. Воротит, не оценю.
— Наоборот. Желаю, чтобы вам самому открылось, иначе и веры-то нет. На лавры не претендую, — лицо батюшки выражало невинность, — но, думаете, Господь Бог не в состоянии заставить человеков следовать своим заповедям? В состоянии, будьте покойны, — отец Серафим добавил в голосе стали, — но того не делает, ибо, любя людей безмерно, предоставляет им свободу выбора. С тем ценность соблюдённой заповеди, раб божий Марат, во стократ больше. Право каждого, куда, когда и в какую сторону направить стопы, притом лестно не забывать, что вести ноги должны голова и сердце.
— Выбор? Оставь, святоша! Всю жизнь мне лохматят о выборе. Хрень! Настоящий выбор, истинная свобода, есть только у воров в законе. Наша жизнь с детства напоминает путь отбракованной коровы на бойню. Пионерия, комсомолия, завод, пенсия, кончина. Дорога в никуда расписана по шагам. Давай по-честному. Видимость выбора иллюзорна. Сегодня я вижу это чётко, как водяные знаки на банкноте. Где родиться, когда пукнуть, с кем в кроватку лечь. Единственные люди, у кого есть очко класть на систему — воры! Они всегда имели яйца сопротивляться насилию. И я хочу так. И буду.
— Кто спорит? Вы и нынче, Марат Игоревич, вольны поступать, как желаете. С ворами тоже проще не бывает. Те, кто правит, загодя готовят клапанок, сквозь который кипучие свободолюбцы смогут выпустить пар. На мушке не только воры — да кто угодно: диссиденты, революционеры, и просто сумасшедшие искатели правды-матки. Воры же меняли один свод законов на другой, но всегда контролируемый властью. Всё это не имеет отношения к нашему диспуту. Читай двадцать шестой стих, либо прогони меня.
Марат покорился:
— «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
Апостол замолчал и посмотрел на отца Серафима. Святой отец сидел с закрытыми глазами, и казалось, млел больше, чем арестант от хорошего чифиря.
— А теперь двадцать седьмой стих той же главы, — проговорил священник, не поднимая век.
Апостол отчего-то забыл возражать, ему стало казаться, что находится он не в камере ШИЗО, а исповедуется в храме. Хотя ни в церкви, ни тем более на исповеди бывать ему не приходилось.
— «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
— Ну как? — поинтересовался отец Серафим так, будто эти строки должны подсказать Марату ответ.
Апостол отрицательно покачал головой.
— Снова оставлю тебя. Думаю, подсказки достаточно, чтобы отыскать первый грех, — сказал, поворачиваясь к выходу батюшка.
Когда вскоре после священника появился Хан, Апостол не удивился. Единственное, что действительно казалось справедливым, вор не соперничал с батюшкой напрямую. Не спрашивал Апостола, о чём говорили, не опровергал доводов, словно и без того знал суть беседы. Они, как два ангела, светлый и тёмный, поочерёдно пытались завладеть им. Но кто из них убедительней, Апостолу придётся решать самому. Тот же чёртов выбор. В нём дело: выбор, как пить дать, вовсе не божий — чёртовый!
— Читаешь? — участливо спросил положенец, кивая на Библию, раскрытую на первой странице Книги Бытия.
— Читаю, — не стал скрывать Апостол, — патлатый загадки задаёт. Хочу сперва отгадать, чтобы не дёргался, а потом послать подальше.
— Это правильно, это поделом, — покивал Хан, протягивая дымящуюся кружку с чифирём.
— Хан, — сделал небольшой глоток Апостол, — всё хотел спросить тебя…
— О чём?
— О куполах.
Положенец, мягко поигрывая телом, беззвучно рассмеялся, затем одним движением стащил футболку, обнажив грудь с блудливой надписью: «Мы пили так, что вытрезвитель плакал»:
— О каких куполах? Об этих?!
— Ты что, Хан? — отшатнулся Апостол.
Храм о шести куполах мог казаться справедливым. Если бы не тело, на которое был нанесён. Будто издали проступал неизвестный истории собор. Масть кололи во времена, когда зэки строго придерживались собственных правил. Когда мазута[55] приравнивалась к высшим ценностям зоны, порой дороже чая, жира, или повидла. Когда близко не существовало китайской туши, когда краской была смесь сажи, сахара и мочи. Когда вместо иглы использовали книжные скобы, заточенные о бетонный пол. Количество куполов набиралось не случайно, но могло и не означать количество лет отсидки. У Хана шесть куполов как раз соответствовали числу отсидок. И хотя купола исполнялись в разное время, «кольщики» считались истинными профессионалами в своём деле. Вопрос «За наколки отвечаешь?» меченым арестантам задавать опасались. Апостолу не раз предлагали стать «кольщиком», но он всегда отказывался. Рисовать на человеческом теле ему претило.
Всё это Апостол знал, не ведал лишь того, что на заре формирования статуса «вор в законе», татуировка воспринималась, как молитва. Если тело — храм, то изображение на нём суть икона, статус же «законника» — аналогия монашескому.
— Об этих, Хан. Если мы рисуем на собственных телах церкви и кресты, то почему ты против религии?
— Эх, Апостол, Апостол, тебе ещё во многом предстоит разобраться. Ты человек крепкий, с понятиями. Когда жил на воле, справно отстёгивал в общак. На киче не сломался, быстро накопил на авторитет, но кто есть воры в законе, не понял. Мы честны, совестливы, принципиальны, но только к своим поблудам, к бродягам. Всем остальным миром мы брезгуем. Купола не дань уважения, наоборот — насмешка над церковью. Пусть менты маракуют, что воры религиозны. Каждый купол очередной срок, но точно так же можно добавлять по голове к телу дракона. Босяки, Апостол, богу не интересны. Он любит покорных — рабов божьих. Помог ли бог кому-нибудь на зоне? Хрена лысого! Никому! Арестанты на зонах только на законных воров надеются. Может, в церквях и есть Бог. Вполне возможно, есть, спорить не стану, но в тюрьме нет бога, есть Вор. Как в церкви чают, мол, перекусим, чем Бог послал, так в тюрьмах уповают на Вора. Что Воры пришлют, как подогреют, такая и жизнь станется. Так-то, сынок, — старый бродяга достал папироску, помял в пальцах, но так и не прикурил. Посидел с минуту, помолчал, вздохнул совсем уж по-старчески, и ушёл, оставив Апостола наедине с пресловутым выбором.
Но Апостол не остался в одиночестве. На его левом плече, свесив ноги поближе к сердцу, примостился белый ангел. На правом, закинув ногу за ногу, устроился ангел в кровавом, в красном. Лиц Марат не различал. Подумав немного, раскрыл книгу. Решил на сей раз действовать основательно, понимая, что нахрапом святошу не взять. Бить надо его же оружием.
Внимательно прочёл Книгу Бытия. Затем отдельно двадцать шестой и двадцать седьмой стихи. Ни тот, ни другой к первому греху отношения не имели. Тогда зашёл с другой стороны, изучив описание греха, во всяком случае, всё то, что по его разумению тянуло на первородный человеческий грех. Досужая сказочка для детей. Но почему с этой книжкой носятся тысячи лет, неясно. Скорее всего, священник дурит голову, набивая цену себе и церкви, изображая, что в нескольких строчках заключён смысл мироздания. Пусть приходит и доказывает. Апостол устал, зол и не прочь кого-нибудь пришибить. Проще прочего на эту роль в одиночной камере подходит собственная тень — трусливое гнусное существо, вобравшее в себя тусклость лампочки. Но чтобы заснуть, нужен бой с тенью, обладающей сверхвыносливостью.
Апостол принял боевую стойку и ринулся в атаку, не позволяя врагу подготовиться к смертельному бою. Начинать всегда надо стремительно, с места в карьер, не потеряв ни одной секунды — их просто нет, секунд. Круши, рви, разбивай мифы кулаками. Марат некстати вспомнил слова Мастера: «Сначала научимся не вилять задницей», отвлёкся на долю секунды и пропустил сокрушительный удар. Нокдаун.
Глава 6. Ступени. Армейские каверзы
Хромой подполковник Родион Мефодьевич Кошелев, получивший Подольский райвоенкомат на откорм благодаря профессиональной травме, хмуро оглядывал будущих защитников Родины. Присматривался с крупицей едкого небрежения — здесь собрались послушные закону и равнодушные к обстоятельствам, страстные приверженцы священному долгу и те, чьи родители не сумели «отмазать» детей от срочной службы. Покупатели[56], в основном лейтенанты-первогодки, не спешили с выбором, дожидаясь, пока на проспиртованных физиономиях рекрутов проявятся признаки индивидуальности. Проводы в армию были незыблемой традицией. Военкому не верилось, что такой контингент справится в ближайшем будущем с возложенными обязанностями.
Свежее лицо Апостола выделялось на грустном фоне — так смотрелась бы благородная птица среди отчаянных монстров. Юноша был трезв и обнаруживал интеллект. Покупатели успели побороться за перспективу получить справного воина в свою часть, так что последнее слово, во избежание споров, оставалось за военкомом. Подполковник Кошелев взвешивал варианты. Погранец[57] предлагал бутылку недорогого, но дефицитного болгарского коньяка. Гонец из элитного подразделения стройбата — новый шифер на крышу, простак из «химслужбы» пытался всучить набор фильтров, способных прищучить радиацию.
В свою очередь подполковник втихаря посмеивался над молодыми офицерами. Бывалому кадровику хватило взгляда на владельца блудливой улыбки, чтобы решить для себя: ничего путного в часть этот лоботряс не принесёт. Возможно, отдельные батальоны КГБ или спецназ ГРУ смогли бы обуздать паршивца, но этих пока не предвиделось.
Оставив призывников дышать собственными алкогольными миазмами, подполковник похромал к кабинету. Ему предстояло проинструктировать уборщицу, присланную из биржи занятости на время болезни постоянной работницы военкомата. Выполнив с неохотой необходимость, допустил женщину к службе и занялся долгожданным. На небольшом, но вызывающем уважение массивном столе появилась пара бутылок «Жигулёвского». Затем военком с предосторожностью вынул из сейфа вполне чистый стакан, больше для приличия, чем по надобности, подул внутрь и поставил на салфетку. За дверью послышался шум и подозрительная возня. Затем звуки щедрых затрещин. Трезвому трудно остаться неприкосновенным в пьяном сообществе — такой на Руси издавна смотрелся, как стукачок.
Картина представилась очевидная. Когда отвращение к инакомыслящему, замешанное на страхе перед армейским будущим, достигло критической точки, неконтролируемая реакция переросла во взрыв. Одного не учла стая монстров — благородная птица способна дать стремительный отпор. Что произошло в отсутствие командиров, осталось за кадром, но когда они появились, Апостол гасил последний очаг сопротивления.
— Смирррно! — оценив ситуацию, профессионально пропел подполковник.
Офицеры рассредоточились за его спиной и приготовились к экстренным мерам. На Марата вяканье хромого служаки не произвело впечатления — он был занят. Зато его жертвы, запуганные правдами об ужасах армии, прекратили сопротивление, попытавшись вытянуться во фрунт. Марат вернулся на место, не удостоив офицеров взглядом. Подполковник, ещё не решив, как проучит стервеца, решительно шагнул к нему. Апостол поднял голову. Кошелев, будто споткнувшись, с трудом удержал равновесие, до смешного похожий на аиста в вицмундире, раскинувшего в стороны крылья. Взгляд васильковых глаз напротив не предвещал радушия, скорее, унижение и позор в стенах родного военкомата, притом на глазах у младших по званию.
Родион Мефодьевич вмиг прикинул, что уж не молод для боевых учений, и оглянулся назад, справедливо рассчитывая на помощь. Молчаливый зов правильно поняли несколько офицеров и одновременно продвинулись вперёд. Действовали грамотно, сохранив линию атаки, и лишь поближе предприняли фланговые манёвры.
Марат не собирался облегчать им задачу, продолжив сидеть на полу, безучастно прислонившись спиной к стенке. Достигнув разумной границы, офицеры предусмотрительно остановились. Пассивное сопротивление не входило в расчёт. Оставалось за немногим. «Погранец» ухватил бунтаря за ворот рубахи. Пытался ухватить. И сразу, как скошенный стебель, упал на руки соратников — Марат оказался на ногах и задал смельчаку бычка. Лейтенанты, взревев, пошли на обидчика вместе. На лице Апостола подполковник различил явное желание поразмяться.
— Сто-ять… — едва слышно прозвучал голос, принадлежавший человеку, несомненно, привыкшему командовать и добиваться исполнения приказов. Всё замерло. Взоры обратились на незнакомца, высокого, тощего как смерть, старика. Откуда он взялся, и как при несусветной худобе ему вообще удавалось стоять, оставалось загадкой. При более внимательном рассмотрении, на что присутствующие не располагали ни временем, ни желанием, фигура старика напоминала повисшую плеть.
— Что здесь происходит, подполковник? — спросил так же тихо дед.
За долгую карьеру Родиону Мефодьевичу приходилось слышать много начальственных голосов. Этот — из очень авторитетных. Если не из самых. Оставалась шаткая надежда, что худосочный старикан — дед какого-то призывника, партийный бонза или громадный начальник. Тогда можно смело замять дело. Подпустив елея, Кошелев поинтересовался:
— С кем имею честь?
Живописная картина впечатляла. На полу корчились в несчастных позах тела, к стенам жался уцелевший молодняк, в ожидании распоряжений застыли лейтенанты. Прочитав вытребованные «корочки» деда, подполковник едва не сел на пол. Единственными бодряками в помещении выглядели старик и Марат. Апостол, хотя и признавал в худосочном вожака, подчиняться не считал нужным. Нарочито развязно прошёл мимо офицеров, попытавшись отодвинуть плечом деда:
— Отлить не дадут… Посторонись, дедушка…
Что произошло далее, Марат осознать не сумел. Стены, потолок, пол, закружились в хаотическом беспорядке. Перед глазами солнечно подмигнули окна, мелькнула стрелой зигзаг паркета, потерял опору портрет военного министра. С напевным фальцетом капитулировала дверь. Очнулся на полу в позе эмбриона, на нём, как на бревне, сидел старик и что-то толковал подполковнику. Кошелев с готовностью кивал, соглашаясь заранее. Заметив, что юноша очнулся, старик встал, вздохнул и, не оглядываясь, двинулся в кабинет военкома. Уже на входе, не оборачиваясь, пригласил:
— Следуй за мной… гладиатор.
— Давай топай, крокодил… — попытался восстановить статус-кво Кошелев.
Марат поплёлся за стариком, по дороге заставив военкома посторониться.
— Дверь прикрой, не в джунглях родился, — приказал старик Марату, когда тот присел напротив.
Апостол встал, но, повернувшись к двери, обнаружил, что она заперта. Сам и закрыл её секунду назад.
— Итак, лётчиком тебе не быть, как-то не уверен в себе. Сапёром — тем более. Но можешь оказаться полезным Родине в других ипостасях.
Что означает ипостаси, Апостол в точности не знал. Его ткнули носом, как кутёнка, пришлось попробовать на вкус собственное дерьмо.
— Ну что, карась, обоссался? — спросил старик, застыв мумией в кресле военкома.
— Нет, — признался Марат.
— Что-то не верится. Но есть способ проверить. Меня всегда интересовали люди, чьи поступки трудно предвидеть. Знал я, что ответишь «нет», и догадывался, что не из-за отсутствия страха. Ты точно не отморозок. Тогда что в тебе? Равнодушие к судьбе? Бывает. Принятие авторитета? Сомнительно, — Марат молчал, чувствуя, что старику не нужен ответ, одни рассуждения вслух. — В тебе сольный потенциал… Сейчас я веду интересный проект, нужны самодостаточные люди, способные мыслить автономно. И даже неординарно. Сделаем так — мне пора отлучиться, не дольше суток… Хочу застать тебя невредимым — здесь, не в милицейском участке. Если убедишь, что пригодишься, то вместо скучной… впрочем, опасной для жизни службы, станешь реально полезным Родине. Кстати, солдаты, подобные тебе, часто оказываются дома задолго до окончания срочной, обычно по причине наличия кровяных телец в моче, — Марат приподнял бровь.
С минуту, не мигая, старик рассматривал Апостола, как ботаник пришпиленного к картону кузнечика, затем задал вопрос, озадачивший Марата не меньше, чем предыдущий:
— Знаешь, когда у здорового мужика в моче обнаруживают кровь? — Марат не знал, и старик, не кокетничая, разъяснил: — Когда у него отбиты почки… Каким бы сильным человек ни был, спать нужно, а во сне, кроме снов — слепость, глухота, бессознательность. Судя по реакциям, ты не научился принимать правила чужой игры, так что когда два джигита по-дружески попросят постирать им носки… Позволь догадаться — ты им откажешь в невежливой форме. Так?
— Можете не сомневаться…
— Вот-вот-вот. Но джигиты долго помнят добро. Дождутся, когда неверный уснёт, примотают простынями к кровати, наберут песочек в кирзачи[58] и нежно обстучат почки. Я описал сценарий, по нему тебя комиссуют[59] домой. Уже инвалидом. В худшем случае, сам понимаешь — что.
В дверь робко постучал Кошелев. Старик спросил тихо:
— Мы договорились?
— Договорились…
Марат не мог избавиться от ощущения, что происходившее с ним тщательно продуманная акция, вовсе не совпадение. Но это не смущало и не хотелось советов. Часто казалось, что жизнь вообще спланирована кем-то, чья способность управлять универсальна. Кто-нибудь радовался бы таким обстоятельствам и, отдавшись течению, не утруждаясь, протягивая за подаянием руку, пожинал плоды. Но не Марат. Лишённый возможности заранее выстраивать бытие, лишь корректируя его по событиям, Апостол представлял свою жизнь никчёмной, оценивая бесчисленные победы и редкие неудачи, как данность.
— Сегодня переночуешь дома, — вернул его к действительности голос старика, — утром предстанешь на светлы очи подполковника. Не мешало бы извиниться перед народом, включая пострадавших…
— Ладно… — смирился Апостол.
— Тогда, Марат Игоревич, завтра ровно в восемь. Думаю, излишне предупреждать, что ты, хоть и не присягал, уже солдат, так что заруби себе на носу: для тебя слово офицера приказ, значит, непременно подлежит исполнению. Возьми вопросники, заполнишь — и дуй на свободу, — старик небрежным жестом выложил на стол пачку листов, едва не опрокинув бутылку. Сверху придавил узнаваемой коробочкой «Кохинора», дефицитных, остро заточенных карандашей.
Марат остался один. Вероятно, подполковник Кошелев получил необсуждаемое указание старика: не тревожить призывника Муравьёва-Апостола по пустякам. Хромоногий военком так и не появился в кабинете за вожделенным пивом. Выглядевшим одновременно как искушение и табу.
Сначала вопросы привели Марата в замешательство, затем завладели вниманием, заставив забыть о прочем. За стенами кабинета остались Подол, Киев, Элиста, Одесса и весь Союз Советских Социалистических Республик. Прежде пришлось отгадывать цифры, заключённые в цветных кружках. Марат знал о подобных заковырках, но эти отличались от банальной проверки на дальтонизм.
Далее пошли бесчисленные вопросы, хотя более дразнили варианты ответов. Предлагалось выбрать один из четырёх, и тут Апостолу пришлось попариться. Даже на вопрос: «Любите ли свою маму?», повторенный во множестве вариаций, у него не всегда находился однозначный ответ. Что же тогда ответить на: «Легко вижу, когда мне говорят неправду», или «Часто ли капризничал в детстве?», или совсем невозможный «Умеешь ли нравиться и добиваться популярности?». Когда же прочёл: «Возможно, до сих пор расстраиваешься из-за того, что произошло двенадцать лет назад?», пожалел, что не курит. Кому что известно? Такое не забывается.
За окном стемнело, когда Апостол покончил с бумажками. За время работы его никто не тревожил, он даже не представлял, что творится вне. Оказалось — ничего. Хромой униженный подполковник давно уехал отпивать трудный будень, покупатели, за неимением альтернативы, разобрали предложенную на Подоле гопоту и отбыли по частям приписки. Уборщица Нина, женщина-колобок, впервые попавшая на работу в военкомат, и усатый, как тараканий бог, прапорщик, стали свидетелями явления Апостола — с красными, будто у альбиноса, глазами. Уборщица лишь неприязненно зыркнула слезящимися от хлорки глазами и, едва не сбив парня с ног, ринулась, словно на амбразуру, в кабинет военкома. Марату показалось странным: её рабочий день закончился, но домой она не ушла, видимо, опасаясь первого недовольства военкома.
Покрутившись у запертого выхода, Муравьёв вернулся к логову подполковника. Оттуда доносились звуки передвигаемой мебели и заклинания уборщицы. Марат, вспомнив дворничиху Ляйпнихт, удивился, — «Почему все уборщицы так свирепы? Или у них это врождённое?». Возник в памяти день, когда он, шестилетний малый, выбежав из дому со скомканным рублём, по-пустому обругал немку. Наверняка, нашёлся бы нейтральный вариант.
Уборщица встретила Апостола ворчанием, и он поспешил вежливо успокоить:
— Извините, выход закрыт, ключи у вас?
— С какого такого? — неприветливо буркнула уборщица и глянув на парня, сменила гнев на милость. — С вечера выход через цокольный этаж… Спустись по лестнице вниз, поверни налево, до конца, там увидишь прапорщика, Иваном кличут. Он откроет.
— Спасибо тётенька, а пописать можно?
— Припёрло, племянничек? Валяй здесь, у подполковника, только целься точно, а то ухом поплатишься.
Апостол юркнул в уборную, вскоре послышался шум сливаемой воды.
— Пописал, вояка? Аль полегчало? — хихикнула уборщица, изменив к лучшему настроение.
— И покакал тоже… Разумеется, точно в серёдку, — выдохнул Марат и вышел из кабинета.
Всё же что-то неладно с народом. Чуть приласкаешь, сопли наружу…
За пластмассовым столиком усатый прапорщик нашёптывал что-то сокровенное на ушко волоокой тёте. Она привлекательно краснела и принимала флирт благосклонно. Иван проявил к призывнику стойкий интерес:
— Слухай, рядовой, тебя как кличут?
— Кличут Апостолом, зовут Маратом, а что?
Кусок[60] пососал ус, словно раздумывая, не приложить ли сюда подходящий матюшок, но любовный зуд пересилил:
— Апостол, тьфу, Марат, не в службу, а в дружбу, век не забуду… Другого выхода — ну, нет…
— Чего тебе надо-то? — по-свойски перебил Марат прапорщика, давая понять, что разделяет его нужду. К тому же усталость толкала выполнить любую просьбу, без подробных инструкций.
Прапор[61] решительно куснул ус, но окончательно положив не обижаться на фамильярность, решился:
— Дело жизни, братан. — Иван подошёл к Марату, зашептал в ухо, горячо и противно щекоча прокуренным усом. — Мне отлучаться с поста никак, а Мариша любви хочет. Как пропустить? Слухай! Посиди здесь минут пятнадцать, не больше, Манечку уважу — и сразу обратно. Век не забуду, завтра же Родиону шепну, в Киеве служить оставит, при военкомате… Ну, идёт?
— Ладно, любись по-быстрому… С подполковником шептаться не треба, я сам как-нибудь договорюсь. Гляди, служба — пятнадцать минут… — Марат едва сдержал смех, — на звонки-то что отвечать?
— Телефункен? Не, это декорация, — Иван кивнул на красный аппарат с гербом вместо циферблата, — Шаг в сторону — расстрел! Алё, Смольный! Сроду не звонил! На случай здесь, если наведается зверёк — писец, слышал такое? Так что, если забренчит, всем крышка, паря. Соберём ополчение — и айда Америку шапками забрасывать…
Прапорщик ускакал, как изнывающий заяц с матёрой зайчихой.
Марат осмотрелся. Ну и служба — сидеть ночами у столика и пялиться в окно на улицу. Окна в метре над головой, так что смотреть неудобно, разве что поглядывать снизу на ножки… «Опаньки, а кусок вовремя свалил» — промелькнула ценная мысль. Окно заслонила фигурка в сиреневом платьице, накоротке, впритык к жёлтым, как народившийся птенец, трусикам. От умильности ракурса у Марата перехватило дыхание, и он мысленно пожелал прапорщику прилива мужских сил, минимум на время, пока девушка застряла над окном. То, что милашке нечего делать у военкомата на безлюдной к ночи улице, ему в голову не пришло.
Девушка переминалась с ноги на ногу, словно приспичило в туалет. Трусики непринуждённо морщились, лишая Марата способности соображать рационально. Чудесное мгновение длилось недолгий вздох. Девушка отпрыгнула, словно ощутив на бёдрах взгляд извращенца. Одолеть ей удалось не более метра, когда её облапили трое пришельцев. С виду примерные подольские уродцы с излюбленным развлечением продать кому-нибудь в подворотне кирпич. Послышался писк: попалась птичка в силки.
Отморозки не церемонились, действуя по давно нажитой схеме: двое завернули руки девушки за спину, третий деловито зашарил под платьем. Апостол едва представил, как грязные пальцы стягивают в сторону жёлтую полоску материи и захлебнулся от омерзения. Сжал кулаки и бросился к двери. Подонки, несмотря на численное превосходство, не годились Марату в противники. Таких, невзирая на количество, он давил, словно тараканов. Ключ, на счастье, торчал в замочной скважине, Марат провернул его… Но тут же задребезжал телефон. Апостол будто с разбегу наткнулся на стену, обернулся. Бросил беспокойный взгляд в окно — события съёжились, бедняжка плотно скрестила ноги, насильнику никак не удавалось содрать трусики. Выругавшись, Марат метнулся к столу. Реальность налилась звоном. Рука подонка зашарила по телу девчонки. Слух обострился, он явственно услышал пощёчину. Дурёха… Сейчас бы нельзя… Смольный… Прапорщик… Рука Апостола потянулась к трубке…
Когда щёлкнуло, и освободился отбой, он положил трубку на место и поднял глаза к окну — никого не было. Выскочил на улицу. Клочок жёлтой материи, как безобразный плевок, корил грязную Подольскую мостовую. Марат осмотрелся, прислушался. Ответила тишина. Пусто, пустынно, нехорошо.
Утром вернулся в военкомат. Вход караулили два «бобика», обдававших улицу лихорадочным миганием проблесковых маячков. Возле машин хмуро курили милицейские. Первое, что увидел, когда вошёл в здание, был прапорщик в наручниках, со сливовым синцом под глазом. Рядом, охватив спинку дивана, рыдала уборщица Нина.
— Доченька моя, доченька! — страшно кричала она.
Увидев Апостола, заверещала:
— Вот он, вот он! Хватайте! Держите! А-а-а! До восьми был! А потом смылся…
К Марату подскочили. Он не сопротивлялся железной хватке. Гадко засосало под ложечкой, когда встретился с умоляющим взглядом прапорщика:
— Оставьте парня в покое, он вышел из здания в четверть восьмого, есть запись в журнале…
— Закрой рот, кнур шершавый, — глухой удар, и прапорщик, как пескарь на речной гальке, беспомощно открыл рот, пытаясь урвать воздух, — лейтенант, мать твою, почему не перехватили на входе, они же сейчас скоординировали версии…
— Чёрт, — один из следователей выругался, — подонков в участок, в разных машинах. Ходу!
Марату вмиг застегнули наручники и, нагнув, повели к выходу, в машину. Мысли путались, мозг отказывался воспринимать… Вслед словно раскалёнными спицами жгли спину:
— Доченька! Моя… Четырнадцать лет… А-а-а… Мразь… Гниды… Четырнадцать лет… Маму пошла встречать… Вот, смерть… Мне… Доченька… моя…
Марат молчал, пока везли в участок, молчал, когда нервный следователь задавал вопросы, молчал, когда на голову опускался том с позолотой: «Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление». Не смолчал лишь, когда очнувшись на грязном полу тюремной камеры, увидел над собой наглое ухмыляющееся лицо. Он ткнул в тупую рожу кулаком, она, заскулив, откинулась в дальний угол, завешенный простынями. Оттуда послышался визгливый голос:
— Хан! Хан, ты видел? Он первый меня ударил!
Невидимый Хан отчего-то прикрыл нового арестанта:
— Цыц, Щербатый, дай фраерку отдышаться, расспросы после… Не забава…
Марат, пошатываясь, поднялся на ноги. Осмотрелся. Камера, грязная, смердючая, с нарами в три яруса, пялилась глазами обитателей на новичка. Не зная, как себя вести, он решил поздороваться, но тотчас позади лязгнула дверь.
В камеру вошёл бычара, в милицейской форме, и, топорща губастый рот, позвал:
— Порядок, Карл Янович, жив мазурик… Не успели порвать…
Вчерашний старик посмотрел на Апостола серьёзно и, словно нехотя, бросил:
— Как в зеркало глядел… Однако… Пошли…
Милицейские приняли «смирно».
В здании Киевской школы КГБ[62], в правом трёхэтажном крыле светилось единственное окно, как раз на последнем этаже. Отсюда поверх и наискосок книзу виднелись сочные кроны патриархов. Они шатром укрывали от зноя, ветра и первого набега дождя асфальтовые дорожки, детскую площадку, старые со скрипом, качели. Поколения встречались и расставались на скамейках Полицейского сквера. Карл Янович Лауконен в такие часы предавался «оптимистической ностальгии», вмещавшей пространные воспоминания. Когда правительство поставило перед наукой новую задачу, пришлось привлечь с заслуженного отдыха старинные кадры. Карл Янович Лауконен воспринял призыв, как «дембельский» аккорд. В свои крепкие семьдесят четыре он мог дать фору молодым коллегам, уровнем знаний потягаться с корифеями науки. Именно поэтому на плечи Карла Яновича легли подбор и психологическая подготовка обслуги для будущих ракетоносцев. Хитроумная обязанность, если учесть, что начало совпадало с нулём, а контингент не должен уступать экипажам подводных лодок или расчётам ракетных шахт.
Стратегическая проблема, требующая педантичного подхода. Атакующий «Першинг» мог долететь из Европы в любую точку Советского Союза за шесть-восемь минут, поразить любую, пусть труднодоступную цель.
Ровно столько времени требовалось, чтобы открыть двухсоттонный люк боевой шахты. Таким образом, межконтинентальные ракеты страны могли быть уничтожены, не успев взлететь. Как ни билась над головоломкой инженерная мысль, спасти стратегические арсеналы от нападения противника представлялось невыполнимым. Именно поэтому было принято решение о создании мобильных ракетных комплексов. Требовались принципиально новые системы, и поставленная задача поражала грандиозностью. Ни в отечественной, ни в мировой практике не существовало подобного направления, впрочем, сопряжённого с тяжелейшими заморочками. Пусковой комплекс с межконтинентальной ракетой, весивший сто пятьдесят тонн, предполагалось поместить в железнодорожный вагон. Как этого добиться? Ведь поезд с огромным грузом должен ходить по общегосударственной железной дороге. Можно ли обеспечить безопасность ядерной боеголовки при скорости в сто двадцать километров в час? Не разрушатся ли от вибрации пути, выдержат ли мосты? Как снять нагрузку с полотна при старте ракеты? Устоит ли поезд на рельсах? Какими быстродействующими механизмами придать ракете вертикальное положение? Вопросы, вопросы, вопросы. Правда, Карлу Яновичу Лауконену приходилось искать решения, преимущественно связанные со свойствами человеческих душ. Требовались претенденты, обладающие суммой свойств: аналитическим умом, способностью добиваться цели любой ценой, жизнестойкостью, психологической гибкостью, уже не говоря о неоспоримом качестве — «преданности делу партии и правительства». Проблема намечалась трудоёмкая: многие спецобъекты страны нуждались в отборном человеческом материале. Его, к сокрушению Карла Яновича, становилось меньше с каждым годом. Решение нащупывалось, связанное с социальным компромиссом.
Вместе с подготовкой обслуживающего персонала ракетных установок Лауконену пришлось заниматься подбором машинистов на тепловозы. Если с воинами всё было ясно, то кадровые железнодорожники имели общий изъян: почти все чтили собственную выгоду выше государственных интересов. Ведь из девяноста шести подобранных специалистов преобладали люди гражданские, семейные, с достатком. Переходя в вооружённые силы, они, как правило, теряли в зарплате. Единственное, что могло их привлечь — и наверху согласились с Лауконеном — немедленное предоставление семьям квартир в крупных городах, ближайших к ракетным базам. С помощниками машинистов оказалось сложнее. Их полагалось по два на каждого машиниста, таким образом, дело усугублялось троекратной квартирной потребностью. Нереальной при трезвом рассмотрении, расточительством. Оставалось набирать из срочников, искать подходящих претендентов и учить делу.
Другой сложной и дорогостоящей заботой являлась занятость экипажа. Команда мобильного ракетного комплекса, перемещавшегося автономно в течение трёх недель, представлялась Лауконену стаей высокоразвитых акул, мечущихся в аквариуме в поисках ментальной жертвы. Персонал мобильной, как и стационарной, установки, пребывал в постоянном режиме ожидания, в пассивности, когда работы мало, зато свободного времени невпроворот. Здесь-то и прятались подводные камни: десятки неординарных личностей пускались за духовной пищей, сказать иначе, интеллектуальными развлечениями.
Лауконен резонно опасался, что именно «гражданские» машинисты со временем превратятся в ментальную жертву. В идеальном ракетоносце все без исключения должны быть хищниками, но в экстремальных ситуациях именно помощникам машинистов предстояло взять на себя функции защитников, пусть даже телохранителей. Ведь надёжность цепи измеряется крепостью слабейшего звена и, если в команде окажется незащищённый человек, не исключено, что в боевом режиме он оплошает, и тогда пострадает цепочка.
Военкоматы, не ведая о конкретном назначении строжайшего отбора, послушно вычленяли информацию о призывниках, достойных по физическому, духовному и социальному развитию быть в наиболее эффективных группах. Сведения поступали в соответствующие войсковые подразделения, и таким образом Карлу Яновичу, скрупулёзно подбиравшему подходящих бойцов, стало известно о Марате Муравьёве-Апостоле, железнодорожнике-профессионале.
Марат был хорош, слишком хорош. Удостоиться правительственной награды, знака «Почётного железнодорожника» в неполных восемнадцать лет говорило о многом. Карл Янович очень редко ошибался в людях, практически никогда. Документы свидетельствовали: Муравьёв — интеллектуальная акула!
Лишь однажды, на заре деятельности, Лауконен допустил промах, порекомендовав на внедрение в кровавую банду студента театрального института. Парень так превосходно сыграл уголовника на просмотре, что Лауконен пришёл в восторг, но… обманулся. В обязательной проверке предложили подсадной утке[63] доставить на почту бандероль. Предупредили: «…И никому под строжайшим секретом…». Следом студента будто бы случайно перехватили у почтовой стойки. На глазах понятых вскрыли свёрток, обнаружили внушительную пачку американских долларов и карту укреплений на границе с Польшей. Мальчишка безобразно потёк, выложив всё, о чём знал — о Лауконене, о внедрении в банду, о тайничке презервативов, выгодно сбываемых в институте на пару с сокурсником. Размазня впоследствии стал народным артистом. Старику Лауконену, чтобы получить его автограф для внучки, пришлось униженно напоминать о крошечном эпизоде из героического прошлого. На открытке со своей фотографией артист написал: «Леночке с любовью от боевого товарища деда».
Ныне «боевой товарищ» народного артиста тестировал призывника Муравьёва по собственной кустарной технологии.
— Вижу, обоссался, карась? — вкрадчиво спросил Лауконен, не нарушив традиций.
— Нисколько, — остался верен себе Марат.
— Есть желание что-нибудь спросить?
— Зачем? Я сразу вычислил, что меня прессуют на вшивость.
— Что ты такое несёшь? — притворно удивился Карл Янович. — Допёр и промолчал?
— Так у меня вшей сроду не водилось.
— Значит, надеешься макнуть меня мордой в дерьмо?
— Условно… Для равновесия…
Они некоторое время сверлили друг друга взглядами, затем Лауконен удовлетворённо откинулся на кресле:
— Попробуй, малыш. Если уж на большие дела зреешь… Хочешь Родине послужить?
— Хочу! — заверил Марат, подтянувшись, выказывая прыть.
Подобная реакция объяснялась скорее весомостью старика, чем желанием призывника «отдать жизнь делу коммунизма». Не раскусил старик, что Марат по жизни был артистом и юморил. Так образовалась вторая за карьеру ошибка.
Отпустив Марата, Карл Янович задумался. Кое-что из биографии будущего помощника машиниста не давало покоя. В возрасте шести лет Марату поставили диагноз: «Острый кататоничекий психоз, суть шизофрения». Врач утверждал, что болезнь вспыхнула внезапно, без предварительных симптомов. Такое случается, но шизофрения — билет в один конец, иного не дано. Болезнь неизлечимая, хотя при добросовестном приёме лекарств, наблюдении и уходе пациент может прожить годы. Поражало другое: при следующем осмотре в медицинской карте Марата Муравьёва-Апостола появилась итоговая запись психиатра — «Психомоторные расстройства отсутствуют. Ранее установленный кататоничекий ступор в настоящее время не определяется. Детский аутизм исключён. Раздвоение личности не наблюдается. Диагноз шизофрения ошибочный». Ниже следовало откровенное чудачество: «Мне, доктору Грачевскому, пора на пенсию. Моя врачебная ошибка могла стоить пациенту жизни». Самоотверженное решение.
Психиатр давно почил в бозе, родители Марата тоже покинули свет. Опрос соседей ничего не добавил, лишь одна с потешной фамилией Хвостикова показала, что мать Марата, как-то вернувшись из районной поликлиники, прекратила торговать на рынке. Причитала, плакала о сыне, как по покойнику, потом повязала на голову платок и отправилась в церковь. Долго не признавалась гражданка Хвостикова Янина Ильинична, откуда узнала, что именно в церковь. Стоило дознавателю пообещать ей пятнадцать штрафных суток за сокрытие государственной тайны, спеклась, расплакалась и призналась, что Вера, мать Марата, одолжила у неё крестик. «Ну и что?» — удивился следак. «Не знаю. Вернулась — отдала» — всхлипывая, ответила Янина Ильинична. Карлу Яновичу Лауконену по роду службы приходилось наблюдать фантастические вещи, но к чудесному исцелению маленького Марата он отнёсся скептически, обосновав ошибочный диагноз старческой неряшливостью доктора. Но остался осадок: напортачь Марат хоть раз в вопроснике, пришлось бы месить стройбатовский бетон. «Баста, дам декабристу путёвку в жизнь» — решил Карл Янович и облегчённо потянулся.
Так Марат попал в учебный взвод КГБ. Зажил припеваючи. Казарма квартирного типа, в комнатах по четыре курсанта. С первой же минуты знакомства Апостол проявил качества лидера, взявшись справедливо распределить между соседями по комнате житейские заботы. Марат ликовал, ощущая себя равным среди незаурядных людей, одновременно снискавшим их уважительное согласие. Среди преподавателей Марат обрёл славу плети наизготовку. «Апостолу место в прокуратуре» — шутили они, когда «студент» поднимал заковыристый вопрос.
Постепенно усложнялись тесты, въедливый курсант одолевал их свободно, всякий раз удостаиваясь высшей оценки. Донимали медицинские обследования. Особенно надоедала настырная психологиня с бесстрастным, словно из камня, лицом. От неё веяло настоящим хересом и скрытой опасностью.
По личной просьбе старика, Марата прогнали не только по отечественным, но и по хитрым зарубежным тестам. Психологический портрет вырисовывался настолько неоднозначный, что «товарищ Северина» резко засомневалась в возможности использования Муравьёва помощником машиниста. Карл Янович поморщился, прочитав докладную записку психологини, и вызвал её объясниться:
— Неужто так плохо, Антонина?
— Как знаешь, Карл. Моя работа давать советы, твоя — решать.
— Давай порассуждаем. В рейдах потребуются сильные личности, у таких «не все дома» по определению. Что, если тебе придётся нарисовать мой психологический портрет? — Карл Янович хитро прищурился, и Северина, цветом лица недозрелый баклажан, внушительно покраснела.
Старик захохотал так заразительно, что психологиня заулыбалась.
— Видишь, Антоша, меня же не отстранили от руководства стратегическими проектами. Ты и впрямь считаешь, что парню не место на подводной лодке?
— Я такого не утверждала. В докладной факты и анализ. Я не Фрейд, чтобы винить в грехах курсанта его папашу.
— Эк, куда тебя потянуло… Подозревать папу?
— Ну, да, отца, которого по документам не было.
— Новости, — заинтересованно подбодрил Северину Лауконен, поняв, что она, оседлав любимого конька, не раскусила подвоха.
— Продолжим, Карл Янович. Не будь зайчику восемнадцати лет, назвала бы его педофилом — друзей не заводит, о жене говорит, как о подруге, но не любовнице…
— Ну, если есть подтверждения…
— Нет, погоди соглашаться, хочу сосредоточить твоё внимание… Знаю: если решил, оттащить тебя можно лишь тягачом… Вроде тех, что ядерную баллистику возит — наш конкурент…
— И-к куда тебя занесло. Своими делами занимайся, Тонюшка, здоровее будешь.
— Фу ты, сердитый какой, — подняла Северина руки в примирительном жесте, — пусть так, но по порядку. Ясно, какой тип нужен для миссии. Возможно, ты удивишься, но люди харизматичны, все до единого… Привыкли к ним на улице, и не видим, кто заодно и щёголь. Вот почему мы наивысшая ветвь эволюции… Во-во. Если позволишь, напоминаем тараканов. Представь себе, люди и тараканы приспосабливаются к чему угодно, это их нутро. Твой Апостол — другой! — жёстко закончила Северина. — Может, но не хочет. Гляди, речь у него выверена, обдумана, дозированно эмоциональна — словно отредактированная запись. Дружок, меня не обмануть! Трансформационная грамматика показала, что его эмоциональный стиль блеклый. Муравьёв обладает потенциалом много большим, чем согласен показать… У него гипертрофированная сдержанность и высочайший самоконтроль. Может, его во внешнюю разведку отрекомендовать?
— И с чем останемся? Нет, погоди, ты подразумевала, пускает дело на самотёк, верно?
— Точно, идёт на поводу эмоций, хотя подтверждения я не нашла, каюсь. Повторюсь: речь выверена, обдумана, в меру эмоциональна. В обществе других людей не испытывает дискомфорта, ты и сам, наверное, заметил, даже по позе на стуле. Сидит прямо, руки свободно на коленях — ощущение, что ему наплевать, где находится — хоть у меня в кабинете, хоть у чёрта за пазухой. Хотя голос и интонации уверенные, и производят благоприятные впечатление… Опять же, самоконтроль и выучка… И — никакого волнения… Пример? У него при обсуждении щекотливого вопроса нет бегающего взгляда… Уверенность или намерение сказать правду?
— Антонина, ты анализировала подпись? — не совсем вежливо прервал её Лауконен.
— Ааа, — Северина махнула рукой, — не совсем доверяю графологии, но… конечно, проводила. Результаты разнятся с моими выкладками, даже не хочу об этом. Сивый бред!
— Вот видишь! Продолжай…
— Честное слово, Карл, я не против мальчика, но уйма моделей поведения, умение мгновенно подстраиваться к собеседнику, выставляют его, как бы помягче выразиться, не совсем благонадёжным…
— Милая моя, сейчас не семидесятые…
— Поэтому говорю только тебе, в докладе этого не найдёшь. Умение менять стратегию поведения по ситуации, психологическая гибкость, всегда имеют две стороны — положительную…
— И соответственно, отрицательную, — шутливо дополнил Лауконен.
— Именно, Карл, отрицательную! Меня не проведёшь магическими пассами, нейтральными жестами и приятной интонацией. Когда Муравьёв желает, из мягкого становится жёстким, или наоборот. Оба состояния одинаково натуральны. Но кто он тогда на самом деле…
— Думается, матушка, ты сгущаешь краски. В шарж… Это, прости, как мочиться на одной ноге, — при этих словах психологиня поморщилась.
— Извини за неудачный пример, ты же не знаешь, каково это, — продолжил Лауконен и захохотал, заметив, что Северина сделала над собой усилие, чтобы не повести бровью, — Антонина, давай конкретней.
— Дам, только не перебивай меня своими мужицкими репликами, — Лауконен провёл пальцем по губам, словно застёгивая «молнию». Северина, покачав в раздумье головой, продолжила: — Одна из особенностей Муравьёва — склонность однозначно делить людей по шкале «сильный — слабый». С сильными выстраивает лояльные отношения, слабаками пренебрегает. Но с лёгкостью приобщается к «авторитетам». Такой человек подчиняется жёсткой системе, если она способна дать ему ощущение собственной значимости.
— Золотце моё, это прекрасно! — заметил Карл Янович. — Наш космодром на колёсах нуждается именно в таких экземплярах, там не должно быть слабых звеньев. Пусть даже банальное «Один за всех, все за одного», но вся команда подчиняется системе.
Северина проигнорировала выпад, и продолжила, как ни в чём не бывало:
— Модель разграничения по Муравьёву. Сильными воспринимаются те, кто не спасовал перед агрессивностью, отразил притязания, слабыми — кто уступил. Экспансия тенденциозна и в случае «уступок» — нарастает. Стратегией поведения становится подчинение более слабых.
— Убеждение — давление — принуждение? — подытожил Лауконен.
Антонина кивнула:
— Отношение к людям, заметь, у него совсем не гуманное…
— Ты вообще соображаешь, что проповедуешь? — возмутился Лауконен. — По сути, мы отбираем людей для уничтожения миллиардов себе подобных, вообще стирания Мира с лица Земли, — старик поднял руки с раскрытыми ладонями, — конечно, если враг вынудит на крайний шаг. Иначе нельзя. Какая уж гуманность… Уймись, Антонина.
— Ты, старый ротозей, действительно не понимаешь, о чём я толкую. Твой Апостол воспринимает мир, как подспорье, ресурс для достижения своей цели…
— И что? Это означает, что надо сделать так, чтобы наши цели стали его целями!
— Ух ты, опять прав! Как всегда, прав! — Северина зааплодировала. — Теперь, демагог, я могу закончить анализ, или тебе уже по боку? Лауконен, ты принял решение?!
— Гони ещё, — хмуро предложил старик.
— То-то. Биологической подоплёкой поведенческих стилей Марата является его сильная, но инертная нервная система. Данная особенность позволяет концентрировать усилия в течение продолжительного времени, достижение результатов отложено на потом. Малоподвижность нервной системы приводит к застреванию на отдельных сторонах жизнедеятельности. Доказательства? На уровне характера проявляются целенаправленность, способность решать сложные задачи, стабильная работоспособность. Но не спеши, обратной стороной всегда оказывается сложность переключения с одной задачи на другую.
— Сногсшибательная выкладка…
— У меня создалось ощущение, что некто, но точно не мама с папой, вложили в его башку лишённую гибкости концепцию восприятия, понимаешь? Параноидальный стиль принятия решений характеризуется склонностью к сверхценным идеям. Движущая сила таких людей — честолюбие. Они могут добиваться громких успехов, но, наткнувшись на непризнание, отпор, небрежение к себе, становятся обидчивыми, или хуже — подозрительными, злопамятными, мстительными, и, — тут она сделала эффектную паузу, — уязвимыми…
— Не намекаешь ли на паранойю у Муравьёва? — Лауконен, вспомнив диагноз болезни, которой не оказалось, принял агрессивную позицию.
— Вовсе нет, я говорила о параноидальном стиле принятия решений — способности без особых сомнений принимать крупные решения.
— Но это ведь хорошо, разве нет?
— Да, если решения верные…
Старик в задумчивости побарабанил пальцами по столу, потом едва слышно произнёс:
— Спасибо, Антонина, благодарен тебе, я учту твою позицию… Ты свободна.
— Напоследок ещё штрих. Муравьёву сложно находиться в обществе людей, равных в его понимании себе… — более не произнеся ни слова, Северина покинула кабинет Лауконена.
Карл Янович размышлял. Здравый смысл, а главное, дефицит времени заниматься каждым «претендентом» индивидуально, взяли верх. Будущий ракетный полк состоял не только из машинистов с помощниками — командир, заместитель, начальник штаба, главный инженер, заместители по воспитательной работе, материально-техническому обеспечению, командиры дивизионов и так далее, до рядовых операторов. Все эти люди требовали намного большего внимания, чем один, пусть с не идеальным психологическим портретом помощник машиниста. А психологи? Взвод охраны? Медики? Связь? Хозвзвод? Со всеми переговори, уважь, утверди, поставь подпись.
Карл Янович, добившись аудиенции, попытался убедить министра обороны, что работа в спешке, даже при условии выбора лучших специалистов, может привести к ошибкам. Министр выслушал внимательно, и напомнил о долге перед Родиной, сложной политической обстановке и верности приказу. Лауконен, вполне согласившись, отбыл.
Лишь за стенами министерства позволил себе ухмылку. Всего одну. Так и есть, сложная политическая ситуация. Но кто её состряпал? Проклятое, рождённое ещё в начале века, шапкозакидательство. Дескать, вот мы какие! Никто в мире не сумел, а мы смогли! И — бац каблуком снятой туфли о микрофон, да на весь мир! Вот мы и наш высший «politique». Ладно, забросаем Америку шапками, а после… А после, уж извините, чужая головная боль.
Карл Янович отдавал себе отчёт, что «космодром на колёсах» — последний проект в его жизни, и провернуть его нужно так, чтобы ни у кого не поворачивался язык хаять.
Всё приходилось создавать на пустом месте: учебно-материальную базу, структуру смен, их состав, порядок подготовки и режима боевых дежурств, маршруты патрулирования. Новые, ранее не решаемые задачи. Но высшее руководство слышать не желало о разумных сроках. Как будто неприятель, клятвенно каясь, непременно сообщит точную дату собственной ракетной атаки.
Командованию базы, развёрнутой на Северном полигоне Плесецк, пришлось с нуля осваивать новую технику. К её эксплуатации привлекли военнослужащих шестидесяти специальностей. Шли годы, строились новые поезда, и люди, обслуживающие их, были вовсе не те, кто стоял у истоков. Но каждому новому полку доставалась своя доля Великого Аврала. Последовательная поступь, продуманная Лауконеном, оправдывала себя с каждым последующим ракетоносцем. Психологический расчёт был скорректирован с учётом личностных особенностей в команде профессионалов. Такой персонал стремился к выгоднейшему результату, обязательно учитывая опыт предыдущих «поколений». Люди действительно трудились так, словно от них зависела судьба страны.
Марат Муравьёв-Апостол, пребывая в «творческой упорядоченности», чувствовал себя вольготно. Мнимый хаос, создаваемый на базе социологами, позволял неординарным личностям раскрыться полностью. Попади Апостол в иную часть, конфликт его с армией оказался бы неизбежен.
— Вне сомнения, наш железнодорожный ракетный комплекс — огромная победа оборонной промышленности, — при этих словах Марат перестал слушать докладчика и принялся разглядывать аудиторию. Сорок два бойца в форме без знаков отличия. Все разные и намеренно схожие, словно патроны разного калибра. Отличающиеся по размерам и функциям, но одинаково смертоносные. Марат, не отыскав, на ком зацепиться взглядом, возвратился к докладчику, штатскому гражданину в неряшливой «двойке».
— В ядерной дуэли, — непогрешимым тоном провозгласил докладчик, — применение такого оружия, как железнодорожный ракетный комплекс, единственно правильный шаг. Смотрите, противник атакует, в нашу сторону летят разрушительные боеголовки, но за время подлёта боевой поезд, благодаря высокой мобильности, успевает покинуть место поражения и через несколько минут ответить сокрушительным ударом. На огромных пространствах нашей страны БЖРК[64] становится неуязвимой целью и одновременно грозным преследователем противника. Чтобы поразить ракетный комплекс, необходимо лишить его основного достоинства — мобильности. Но в условиях современной войны это практически невозможно.
— Почему? — неожиданно для педагога, просил Марат, хотя секунду назад не собирался доставлять ему нежданных хлопот.
Взоры обратились к нему.
— То есть, что почему? — переспросил захваченный врасплох докладчик, не сомневаясь в правильности своих утверждений.
— Что можно предпринять, скажем, за тридцать минут? — вопросом ответил Марат.
— Ах, вы об этом, молодой человек… Ну, не скажите, тридцать минут — это чрезвычайно много… Вот что, проведём эксперимент… — обвёл аудиторию уверенным взглядом преподаватель, — пусть каждый положит на стол часы. По моей команде начнём отсчёт времени и через минуту остановимся.
В аудитории прошелестел шум.
— Готовы? — спросил преподаватель, глядя на часы, — старт!
В аудитории повисла тишина. Каждый смотрел на свои часы, на неумолимую секундную стрелку. Она замирала и двигалась, отсчитывая мгновения жизни.
— Глядите, — выкрикнул преподаватель, — время идёт, но до конца ещё так много…
Спустя несколько мгновений он снова вскричал:
— И это не конец… Даже не половина…
Пауза сменяла реплику. Реплика паузу.
— И это не конец…
— И это…
— Это тоже ещё не конец….
— И это…
Наконец, когда ожидание уплотнилось в невероятную тяжесть, докладчик выдохнул:
— Всё! — и добавил, смакуя эффект: — Курсанты, вы убедились, как огромна минута, как много времени вмещает она…
Аудитория молчала, поражённая убедительностью опыта.
— Итак, согласитесь, — вернулся к уроку преподаватель, — за минуту можно сделать многое, а уж за полчаса в тридцать раз больше… Например, выполнить экстренный старт состава с места стоянки. При крейсерской скорости в сто двадцать километров в час, ракетный комплекс удалится на расстояние, гарантирующее его безопасность при ядерном ударе по координатам покинутой стоянки.
— Согласен, — негромко возразил Марат, словно, кроме него в помещении никого не было, — но как поступить с движением гражданских составов? Запуск вражеской боеголовки не отменяет расписания, вернее, отменит, но в чрезвычайный момент об этом ещё никто не знает. На пути боевого поезда может оказаться другой состав.
— Имеете опыт работы на железной дороге?
— Да, имею, — с достоинством подтвердил Марат.
— Рад грамотному противостоянию, — улыбнулся преподаватель, — в период угрозы, с приведением войск в высшую степень готовности, интенсивность перемещения БЖРК увеличивается на пятьдесят процентов с преимуществом перемещения перед составами любого назначения.
Марат кивнул, соглашаясь с доводами.
Докладчик ещё несколько секунд рассматривал оппонента, чья молодость говорила о неопытности, затем продолжил с откровенной рассеянностью, сменившей прежний безудержный энтузиазм.
— Чтобы нейтрализовать комплекс, противнику придётся застопорить его перемещение. Даже сугубые специалисты-скептики, — он красноречиво посмотрел на Апостола, — не могут представить себе, как вездесущие американские партизаны минируют участки дороги на пути следования БЖРК, а затем, оповестив стратегическую авиацию, активируют взрывные механизмы.
Аудитория вскипела смехом, Марат остался невозмутим, лишь незаметное подёргивание губ выдавало, что его тоже позабавила рельсовая война Америки в глубоком советском тылу.
— И всё при условии, — продолжил лектор, когда смех пошёл на убыль, — что враг вообще в состоянии идентифицировать «состав-невидимку», конструктивно представляющий собой тривиальный состав из двух-трёх тепловозов и специальных вагонов, внешне неотличимых от пассажирских и рефрижераторных. В вагоны помещены не только пусковые контейнеры с межконтинентальными ракетами, но и пункты управления, технологические системы, средства охраны, личный состав и системы жизнеобеспечения.
Преподаватель победным взглядом обвёл аудиторию, смакуя эффектность своих утверждений. В наступившей тишине шаги лектора казались пистолетными выстрелами.
— Лично я не стал бы называть железнодорожный ракетный комплекс невидимкой, — возразил, тщательно выверяя слова, Апостол.
— Вы ставите под сомнение исследования и расчёты оборонных научно-исследовательских институтов? — искренне удивился преподаватель.
— Конечно, ставлю! Правда, мне не хватает данных, но и так предельно ясно, что для космических средств противника вычислить БЖРК, что два пальца…
Движением руки преподаватель прервал возмущённые крики:
— Вы берётесь доказать?
— Докажу, играючи. При движении состава в автономном режиме работают дизель-электрические станции, расположенные посреди состава, так что его «тепловой портрет» легко выдаёт личину среди всех других поездов. Это во-первых!
— Есть и во-вторых? — странно, но Марат не услышал в вопросе желчи, лишь одну холодную заинтересованность.
— Несомненно. Вагоны, в отличие от иных, используемых в народном хозяйстве, имеют не по четыре, а по шесть колёсных пар, и вот третье, — при этих словах Марата гражданин в штатском, предупреждая выкрики оскорблённых в лучших чувствах бойцов, резко поднял руку с вытянутым указательным пальцем, — давление колёсных пар ракетного комплекса при боевой загрузке, значительно превышает давление колёсных пар других поездов…
— Иными словами, курсант, вы считаете, что единственный стоящий козырь — мобильность, а, скажем, к сохранению секретности нужно ослабить внимание?
— Думаю, что разработки идут интенсивно во всех направлениях, — осадил его Марат.
Преподаватель вернулся к своему столу, похожему на остальные, как однояйцовые близнецы, сел и, не обращая внимания на сорок две пары глаз, следивших за его действиями, записал что-то в блокнот. В аудитории, кроме Марата и ещё нескольких рядовых, остальные слушатели относились к офицерскому составу. Многие имели высшее техническое образование.
— Знаете что, давайте снова обыграем ситуацию, — предложил педагог, естественно не зная, что невольно позволяет Апостолу применить опыт дебатов в техникуме, — курсант Побратуха!
— Я!
Преподаватель остановился напротив своего любимца, капитана, успевшего отслужить срочную, вернуться домой, закончить два технических института и вернуться в армию со специальностью «Ракетные комплексы и космонавтика».
— Возьмётесь доказать курсанту Муравьёву-Апостолу преимущество Боевого Железнодорожного Ракетного Комплекса «Удалец» перед ракетными пусковыми комплексами потенциального врага?
— В любом месте и в любое время! — воскликнул Побратуха, элегантно прищёлкнув каблуками.
В зале возродилось оживление. Преподаватель не притормозил публику: при подобной интенсивности обучения небольшая разрядка на пользу. К тому же вырисовывалась возможность убить двух зайцев — выпустить пар и повторить пройденный материал.
— А вы, курсант Муравьев, готовы дать встречный бой капитану Побратухе, чтобы убедить нас в вашей правоте?
— Может, и готов, — ответил Марат, не вставая и не гримасничая, хотя душа его пела. Он был рад доказать этим зарвавшимся умникам, зрячим не дальше собственного носа, необходимость признавать свои ошибки.
— Отлично, на подготовку, естественно в ваше свободное время, даю трое суток. Справитесь, товарищи? — подражая офицерским интонациям на плацу, спросил преподаватель.
Свободное время отыскать в учебке не просто, загружали курсантов доверху, но дуэлянтам подготовки не требовалось. Побратуха, толковый инженер и восторженный поклонник ракетного комплекса, воплощения новейших, доселе не виданных технологий, рвался в бой. Он ни секунды не сомневался, что раздавит дилетанта соперника доскональным знанием темы. Марат, раскусивший Побратуху заведомо после кулуарных откровений, знал основные слабости его философии, пересыщенной коммунистическими постулатами, Свои же доказательства выстроил в непробиваемую броню.
Лауконену доложили о предстоящей дуэли. Сначала он нашёл её некорректной, но, внимательно выслушав доводы, согласился.
Когда Апостол вошёл в аудиторию, прежде прочих увидел неугомонного старика. Карл Янович расположился в первом ряду, Марат лишь скользнул по нему взглядом, но глаза будто уловили знакомое шевеление губ: «Обоссался, карась?». Улыбнулся в ответ.
В честь события преподаватель повязал синий галстук, слегка освеживший неряшливую двойку, но плохо сочетавшийся с её серой тканью. Видно, не знал, что галстук должен гармонировать с цветом одежды, подобные мелочи его раздражали.
— К барьеру, товарищи курсанты… — провозгласил он.
Апостол и Побратуха сошлись у чёрного поля учебной доски, исчерченной мелом, пожали друг другу руки. Тишину аудитории раздробили аплодисменты.
— Будете тянуть жребий, или кто-то готов уступить право открыть баталию?
Марат равнодушно пожал плечами и, спустившись в зал, устроился рядом с Лауконеном. Тот хмыкнул, но от комментариев воздержался.
Побратуха кашлянул и попросил слова:
— Позвольте начать с предыстории создания БЖРК.
— Давай, Побратуха, не тяни кота за яйца, — выкрикнул кто-то из зала.
Преподаватели оглядели зал.
— Не хочу риторики, — разрядил обстановку Побратуха и продолжил, сморщив нос, — есть такое слово «паритет»! То, ради чего создан поезд-ракетоносец, и то, что, в конечном счёте, убережёт мир от ядерной катастрофы.
Вновь ударили аплодисменты. Лауконен задавал тон.
Марат украдкой осмотрел зал, всё более убеждаясь, что аудитория не благополучна. Что-то неправильное витало в воздухе, заставляя Апостола ощущать себя неотъемлемой частью сообщества умных и открытых людей. Но именно это угнетало его. Будь он знаком с трудами Ницше, вполне вероятно, сумел отыскать в них ответ на мучительный дискомфорт. «Ты хочешь продолжения себя, ты ищешь последователей? Ищи нулей, людей, ничего из себя не представляющих», — говорил идейный вдохновитель нацизма. Марат чувствовал эту ущербную однобокую правильность, но именно она объясняла неуют. То, что ему удавалось легко, в уплотнённой среде цельных «не нулей», требовало колоссальных усилий. Пригодились победные дебаты в техникуме, вызывавшие восхищение, заставлявшие покоряться упрямой логике. Здесь преимущества Марата воспринимались как общий успех, но вместе это и коробило, и восхищало. Смиренно вести за собой уникальных Марату не хотелось. Понимание возникало в глубинах подсознания, но, натолкнувшись на совпадения между разнородными сущностями, утрачивало однозначность. Обманчивое неудобство, желание доказать кому-нибудь что-либо, в особенности Лауконену — это всё, что всплывало на поверхность.
— Приказ «О создании подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса», флагмана боевых средств для ответного удара, отдан правительством в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году. Задача, воплотив в себя гений народа, была выполнена. За две пятилетки уникальный космодром стал на колёса. Невиданные до сих пор укороченные ракеты вместили в вагон-рефрижератор. Для этого разработали уникальный аппарат на твёрдом топливе. Сопла поместили непосредственно в двигатель, а головной обтекатель, без которого не достигнуть требуемой точности, сконструировали автоматически сборно-разборным! — в зале вновь зааплодировали, но лишь ракетчики понимали, какие трудности пришлось преодолеть. Затем старт. Как добиться, чтобы огненный хвост ракеты при пуске не выжег шпалы? — Побратуха глянул на Марата, приглашая к дискуссии, но тот делал вид, что чрезвычайно занят рассматриванием ногтевых заусениц. — Миномётный отстрел! — повысил голос капитан, будто решение было его личной находкой. — Пороховой движитель выносит ракету на небольшую высоту, затем включаются маршевые, отводящие ракету в сторону. Газовая струя проходит мимо вагонов, контейнера и железнодорожного полотна!
Побратуха оказался достойным оратором, что непременно стоило использовать, если не сиюминутно, то, как минимум, взять на заметку. Старый Лауконен что-то быстро записал в планшете.
— Наконец, о скрытности передвижения, — выдержав точно рассчитанную паузу, позволившую сокурсникам выплеснуть восторг, Побратуха продолжил, — каждый спецсостав приравнивается к ракетному полку, и включает три тепловоза М-62, к ним три закамуфлированных под стандарт вагона-рефрижератора, с единственным, как верно подметил коллега Муравьёв, — и капитан указал на Марата, — отличительным признаком — восемью колёсными парами. Каждый из «рефрижераторов» способен осуществить пуск ракеты как в составе поезда, так и в автономном режиме. Возможно, наши оппоненты, не знакомые с техническими характеристиками ракетоносца, поднимут бровь. На первый взгляд правы: ракета с пусковой установкой должна весить не более ста тридцати тон, иначе железнодорожное полотно не выдержит, наша конструкция весит все сто пятьдесят, — здесь Побратуха остановился и подмигнул Апостолу, будто он единственный, кто не мог взять в толк. — Всё чрезвычайно просто: для решения применили разгрузочные устройства, передавшие часть веса на соседние вагоны…
И ещё долго доказывал капитан, отчаянно жестикулируя, глядя вперёд и немного влево, живо напоминая памятник Ленину на Отрадном проспекте в Киеве. Закончил он с высоким напором:
— Вес до ста пятидесяти тон! Практически мгновенный запуск! Десять ядерных зарядов! Молниеносная система подавления. В нашей стране любые сложные задачи разрешимы. Так заведено, так направляет партия. Так было, и будет всегда.
Лауконен отметил несомненное сходство докладчика с вождём пролетариата и мотнул головой от наваждения. Затем торопливо взглянул на Апостола, жестом приглашая на сцену. Но капитан продолжал:
— Высочайшая мобильность ракетоносцев, их способность передвигаться по железнодорожным магистралям страны, в выгодном отличии от ракетных тягачей, позволяет менять дислокацию стартовой позиции до тысячи километров в сутки. Всё это делает БЖРК непобедимым оружием за всю историю человечества.
В зале словно взорвалась бомба, вдохновившая сердца защитников отечества к победе. Ни преподаватели, ни офицеры, ни сам командир базы не могли успокоить курсантов. Когда же страсти улеглись, к микрофону подошёл Апостол. На него смотрели с обидным сожалением.
— На нашем поле мы должны сеять мирные семена!
Наступила тишина, как если бы на съезде компартии депутат с трибуны объявил, что генеральный секретарь неисправимый глупец.
— Аллегория, — бесстрастно продолжил Марат, без позёрства. — Не стану терзать вас техническими подробностями. В пользу передачи ракетного комплекса в музей технических атавизмов дам неубиенные аргументы. Первый: невозможность маскировки из-за особенной конфигурации поезда, наличия трёх тепловозов и вагонов о шести колёсных пар. Какое убийственное доказательство того, что перед вами именно наш монстр, а не какой-либо другой состав! Второй аргумент. Когда наша уникальная каракатица молотит в рельсы, налицо изобличающая сейсмическая картина: она однозначно принадлежит БЖРК. В-третьих, постоянно работающие в автономном режиме дизель-электростанции создают демаскирующий тепловой портрет. В совокупности, сказанное позволяет утверждать, что наш хвалёный ракетоносец создан лишь для того, чтобы быть обязательно расшифрованным вражескими системами космического слежения. Они, эти системы безошибочно и быстро определят местоположение состава. Потому что движемся по железнодорожному пути и никуда свернуть не можем. Значит, враз получим на свою голову ядерную лепёшку. Нам это нужно? Четвёртый аспект — смехотворно низкая защищённость. В отличие от шахтной. Сюда прибавьте вовсе скандальное: состав может быть опрокинут случайным взрывом в окрестности. Пятый и очень тревожный момент — интенсивный износ железнодорожных путей под тяжестью нашего ломового монстра. Присовокупьте астрономические финансовые затраты на эксплуатацию, и вы поймёте, какую жестокую обузу терпит экономика страны. Позвольте мне также предположить, что самое грозное оружие, когда-либо существовавшее на Земле, как дальновидно выразился мой оппонент, товарищ Побратуха, останется в истории человечества единственным и неповторимым. Вовсе не потому, что никто и никогда более не в состоянии повторить подобное, но лишь потому, что просто никто и никогда больше не согласится этого делать…
Апостол был уверен, что зал взорвётся негодованием, старик плюнет под ноги, и через час бывшего курсанта попрут с базы долой. Марат ошибся: ничего подобного не произошло. Напротив, короткая речь вызвала оживление. Зашелестели блокноты. Дебаты продолжались ещё долго, и Марату, против желания, пришлось углубиться в технические подробности.
Следующий день начался обычно: подъём, утренняя пробежка, завтрак и самоподготовка в классах. Ещё около двух месяцев Марат терроризировал преподавателей, изучая функциональное назначение и принцип действия технических устройств, вооружение, теоретические основы ракетостроения, правила эксплуатации и технику безопасности. Затем, по завершении самообразования, сдал экзамены по всем дисциплинам, и был допущен к несению опытно-боевого дежурства. Полк в полном составе отбыл на место постоянной дислокации в Кострому.
Апостол, по жизни мало чему удивлявшийся, поразился размаху строительства. Казалось, весь армейский стройбат согнали на эту грандиозную площадку. Место постоянного расположения называлось «Вокзал», и представляло собой огромный ангар, длинной с километр. На входе в ангар Марат нос к носу столкнулся с Пересунько.
— Клавдий Антонович, какими судьбами? — бросился навстречу Марат.
— Маратка… сынок, — задохнулся от избытка чувств машинист и заключил бывшего помощника в объятия.
Апостол не отстранился, как на вокзале в Элисте, напротив, сжал Пересунько ручищами, и машинист похлопал его по спине, словно прося пощады. Они сидели в офицерской столовой, куда ефрейтору Муравьёву путь заказан, зато Клавдий Антонович оказался вхож. Рассказ Марата не занял много времени. Работа в депо, сиротская свадьба, отдельная, пусть крохотная, но своя квартирка. Вкратце о происшествии в военкомате, учёбе на полигоне. Пересунько осталось дополнить недостающие звенья. Некоторое время назад его вызвали в «управление», и худой старик с властным лицом, конечно, это был Лауконен, предложил ему дело, от которого невозможно отказаться. Поворот судьбы, прихвативший квартиру в Костроме, не крохотную, как у Апостола в Киеве, а полноценную трёхкомнатную — других в специально выстроенном для персонала поезда девятиэтажном доме попросту не было. Пройдя медкомиссию, интенсивное, со скидкой на опыт, обучение, и сдав экзамены, Пересунько торжественно удостоился воинского звания прапорщик.
— Ты не представляешь, что здесь творилось, пока строили «Вокзалы», пока укрепляли пути на тысячи километров в округе. Согнали стройбат, и гражданские бригады. Кругом железо, бетон, гравий, песок. Построили. Ага, живём. Но как-то зазвал меня к себе сам — Лауконен. И с ходу в лоб, велит рассказывать о тебе. Мне туману нагнетать нечего, впечатлил, как было. Тебя, Маратка, по призывному делу отследили. Ну, мы коньячок с Карл-Янычем посмаковали. Хорошо посидели. Не ожидал, свой он парень… А там и «Вокзал» достроили. Скоро пригонят новьё, я в комиссии по приёмке, — заявил машинист и посмотрел — гляди, сынок, у меня план только родился… Если не возражаешь, устрою, чтобы тебя ко мне помощником? Ну что, пойдёшь?
— Обижаешь, Клавдий Антонович, какой вопрос, а как же, если добьёшься…
Но встреча их по общей работе состоялась гораздо раньше, чем ожидалось. Апостола, как обладателя наиболее критического взгляда, включили в состав государственной комиссии по приёмке «изделия» и даже в бригаду по испытаниям и обкатке.
Прибыв на завод изготовитель, Муравьёв и Пересунько с головой ушли в работу. Апостолу предоставили возможность совать нос кругом, куда посчитает нужным. И он влез глубоко, по брови и выше. Недоработок оказалось множество, и Марат посчитал возможность использования ракетного комплекса фикцией, научной фантастикой. Он не учёл лишь одного: начальство твёрдо придерживалось назначенных к исполнению планов.
Марат ежедневно виделся с Пересунько, щеголявшим в форме прапорщика, но поговорить по душам не удавалось. Толика свободного времени оставалось по вечерам, но усталость валила с ног обоих, общения хватало лишь на последние новости.
В первый же день работы представители дивизии выявили столько недоработок, что на их устранение отпустили неделю. Ситуация сложилась двухполюсная. Если директор завода-изготовителя, бледный, как эталон белого цвета, надеялся, что с учётом прежних заслуг наказание ограничится проводами на пенсию, то Марат, имея неоконченное среднетехническое образование и оппонируя седовласым инженерам, с первого дня стал удачливым следаком, легко отыскивающим коренные причины недоделок. Техника будто стелилась перед дотошным Апостолом, наподобие деревенской мессалины перед городским студентом, прибывшим на «картошку».
Марат, поковырявшись в документации, предупредил в докладной записке, что один из узлов дизель-генератора после заводской сборки не переведён в рабочее состояние. Предупреждение осталось незамеченным.
В положенный срок ракетный комплекс тронулся в направлении Костромы. В перегоне машинист Пересунько и его помощник Муравьёв-Апостол заняли кабину головного тепловоза. Остановок до пункта назначения не предвиделось, и они собирались использовать время по долгожданному назначению — удовлетворить обоюдную потребность в общении. Но в нескольких километрах от Днепропетровска, у пустынной станции Березановка, состав неожиданно стал. Узнай Апостол о причине недельного останова, отражённой в той самой докладной записке, непременно бы возгордился, но оповещать помощника машиниста, одного из двух сотен в задачи начальства не входило. Сигнал Апостола стал единственным доказательством заводского брака.
Изучив рапорт Карла Яновича Лауконена, министр обороны, возглавлявший общее руководство проектом, принял компромиссное, но верное решение. Если нет гарантии скрытного передвижения БЖРК, нужно извлечь из просчёта максимальную выгоду для страны. На рабочих переговорах подкомиссий по ядерным вооружениям между Советской и Американской сторонами, в ответ на шаг доброй воли Советского правительства, Соединённым Штатам пришлось заплатить небывалую цену, хотя узнать о существовании и маршрутах передвижения мобильного ракетного комплекса они могли по разведывательным каналам.
Неделю БЖРК позировал американским спутникам, пока не был закончен ремонт дизель-генератора, и состав двинулся дальше. Это оказалось небывалое путешествие в жизни Марата. Поезд шёл в режиме строжайшей секретности, перроны на станциях пустовали, выход из вагонов был строжайше воспрещён. В беспрерывном пути, но поговорить по душам всё не удавалось. Вид пустующих перронов угнетал сознание, трансформируясь через реальность. Марат, словно заворожённый, смотрел, как атомный поезд пожирает километры. Пересунько, обеспокоенный состоянием помощника, время от времени заставлял принимать пищу, но она не шла впрок. Окажись в кабине Лауконен, непременно ссадил бы Апостола на ближайшей станции в ближайший лазарет для подготовки документов к списанию.
Но с прибытием к месту постоянной дислокации многое переменилось. Заполнились делом будни. Марат навёрстывал потери. Было, чему дивиться. Сначала себе — уличный гаврош, выросший в Одессе, практически без родителей, стал заметным колёсиком истории, и ощущал себя первопроходцем.
Состояние Марата Муравьёва-Апостола, помимо профессиональных притязаний, объяснялось боевыми свойствами службы. Он жил ракетным полком, ракетный полк жил в нём. И горе врагу, наблюдавшему из космоса за неуловимым, как призрак, ракетоносцем. Ничего неприятелю не оставалось, кроме бессильных наблюдений. БЖРК возил в себе, в своих складских хранилищах, месячный запас топлива, продуктов и питьевой воды. Во время трёхнедельных походов Марат стремился проникнуть в тайные уголки поезда вовсе не из любопытства. Ему никак не удавалось смириться с ролью извозчика, ограниченной прозябанием в кабине тепловоза. Бойцам взвода охраны приходилось едва ли не силком выдворять из запретных мест любознательного помощника машиниста. Свои сложности — присутствие машинистов в различных частях состава предусматривалось наряду с другим персоналом по списку-допуску. Наравне с офицерами инженерной службы Марат стремился приручить стальную махину, превратить её чуть ли не в домашнее животное, пристрастно исполнявшее прихоти хозяина.
По армейским понятиям Апостол вымахал в крепкого служаку, в черпака. Боевое дежурство предусматривало отработку графиков перемещения, в том числе по экстренному отходу с позиции.
Как-то во время учений был нарушен порядок движения гражданских составов, и министерство путей сообщения месяц восстанавливало расписание. Тогда Апостолу было не до метафор: поступил приказ на отработку нештатной ситуации, когда машинист и второй помощник оказались нейтрализованы. Теперь в кабине находился он один, и от его умения зависела стабильность комплекса. Вокруг на сотни километров ни пристанища, угрюмый ельник, казалось, напирал стеной с обеих сторон. Маршрут действительно был не случайный, в окрестностях вряд ли могли оказаться свидетели. Вероятно, учитывались и координаты космических спутников. Мощные турбины крутили колёса локомотива. Тепловоз стремительно разгонял состав с грузом. Боевой запуск — экстренное событие, и заранее подготовиться к нему невозможно. Но готовым надо быть в любой момент, при любых обстоятельствах. Лишь у кого за плечами выучка и опыт, способен по мелким деталям и изменениям понять, что происходит. Марат, ощутив перемены, счёл их частью тривиальной тренировки. По громкой связи раздалось:
— Локомотив — стоп машина…
Приказ неожиданный, и Марат, выученный выполнять распоряжения не раздумывая, едва не вступил в переговоры с командиром. Секундой дольше, чем следовало, принялся за экстренный останов. Включились тормоза, застопорились колёса, скрежеща и выбивая искру о рельсы. Апостол осмотрелся: ни намёка на причину. В кабине, куда можно попасть только по спецпропуску, разом появились два вооружённых лейтенанта, словно одинаковые манекены. Пересунько со вторым помощником отсутствовали, и Апостолу пришлось действовать, надеясь лишь на себя. Это, несмотря на опыт, было вовсе не просто. Торможение, сила инерции не спрашивает согласия. Состав, испустив наконец последний скрежет, замер. Показалась ненужной команда:
— К бою! Всем зафиксироваться…
Марат, выполнил, не раздумывая. Лейтенанты пристегнулись на запасных местах. В лобовое окно вползала унылая перспектива истончённого расстоянием полотна, в боковых зеркалах заднего вида выпукло проступали бока локомотива и вытянутое тело состава.
— Всем службам. Боевой пуск. Готовность полста один. Выставить оцепление.
Марат в зеркала видел, как из первого и последнего вагонов выпрыгивали бойцы. Развернулись в цепь, разбежались, раздав кольцо, охватившее поезд. Залегли метрах в ста от состава, ощерившись автоматами. Марат облизал высохшие губы: «Война?» — осознавалось, для чего создан поезд.
Ответный удар, реакция на агрессию — как открытие зонтика при раскатах грома. Но война! Ответный удар… Лишь сейчас Марат осознал вес события. Инфантильность, невежественность, что ещё? Правительства, маразматики, впавшие в детство! Неужели единственный выход — умирая, отомстить противнику. Разве полегчает, если перед гибелью смогу осознать, что страна, приславшая мне смерть, окажется стёртой с лица Земли не менее сокрушительной силой.
Ощутив вибрацию, Апостол снова выглянул в зеркала. Из-под пятого вагона выползли лапища домкратов. Вагон стал похож на мутировавшее в радиоактивном бульоне насекомое, сомкнувшее на теле жертвы челюсти.
Началась первая фаза. Лапы упёрлись в насыпь, приподняв вагон. Марат знал, что последует дальше. Как в музыкальной шкатулке, откроется крыша вагона. Оттуда в небо выползет чуждый окрестностям шедевр. Постепенно примет вертикаль, как шпиль, нанизавший желейную пухлость небес. Созерцать полного великолепия картины помощник машиниста не мог, но увидел, как одна из лап, выйдя не полностью, сместилась под вагон. И, вероятно, повредит рельс. Марат отбил аварийную кнопку и доложил по тревожной связи о возникшей проблеме.
— Отставить пуск. Оперативной бригаде — наружу, платформа ноль пять.
Апостол вместе с ремонтниками осматривал домкрат. Начальник поезда, раздосадованный тем, что дефект выявил помощник машиниста, а не оператор пусковой платформы, потребовал рапорт. На лице Апостола оттенилась гордость, но вовсе не от того, о чём подумали сгрудившиеся вокруг железа люди. Он однозначно понял, что посчастливилось, что не война. Учения. Возможно, с реальным пуском ракеты, но учебным.
— Брак при сборке, товарищ начальник поезда. Нештатный болт фиксатора, на двадцать миллиметров длиннее. Фиксатор не срабатывает… — и добавил вовсе по граждански, — болт какой-то левый, откуда его откопали, пометки нет…
Начальник Киевского депо Кутовой, сетовавший когда-то на учинённый из-за снижения расценок и низкой зарплаты брак, сейчас бы усмехнулся. Допрыгались! Смотрите, где аукнулись тенденции к уравниловке.
Случай действительно мог попасть в число невероятных. Все этапы жизненного цикла ракетоносца — проектирование, поставка, монтажно-сборочные и пусконаладочные работы и, в завершение, ходовые испытания, охватывались системой качества. Она предполагала прозрачность, прослеживаемость любых процессов, выполнявшихся при создании поезда. Благодаря этому, если определялся брак, можно безошибочно проследить кто, где, когда и почему допустил нарушение действовавших требований. Но уже теперь к наиболее вероятным причинам можно твёрдо отнести недобросовестность единичного исполнителя.
На планёрке начальник поезда нетерпеливо выслушивал предложения. Потенциальные решения обладали долей рационализма, но он раз за разом отвергал все. Когда же дежурный командир расчёта предложил вызвать аварийный вертолёт, оттранспортировать узел на завод-изготовитель, а после ремонта тем же образом вернуть обратно, начальник поезда, не выдержав, рявкнул:
— Семьдесят шесть человек личного состава, а я не услышал ни одной здравой мысли! Есть боевой приказ, враг выпустил по Родине десятки «Першингов», а вы предлагаете мне кастрированные решения. Совсем долбанулись? Сейчас же! Здесь и сейчас! Времени нет, очередная боеголовка летит на Москву… Надо свернуть башку пустоголовым дебилам в их пусковом центре! Ну!!! — возмутился он так, что ближайшие к нему офицеры вздрогнули, — ну…, — повторил уже спокойно, и, как показалось Апостолу, безнадёжно.
Офицеры переглянулись, и взгляды сошлись на Марате, будто на виновнике, но единственном человеке, кто знал решение. О его способностях укрощать технику, в дивизии ходили легенды.
— Разрешите, товарищ начальник ракетного комплекса?
— Слушаю, сержант…
— Две минуты, товарищ командир… Сгонять в ремчасть…
И под изумлённые взгляды умчался. Вернулся с ножовкой и принялся пилить злополучный болт. Работал Апостол, пока не позволил сменить себя. Дефект устранили, и домкрат занял законное место, сержант Муравьёв-Апостол, сопровождаемый молчаливыми лейтенантами, возвратился в кабину локомотива и пристегнулся к креслу машиниста.
Лапы домкратов упёрлись в землю, принимая на себя тяжесть вагона и находившейся в нём боевой ракеты. Рессоры распрямились, вагон приподнялся. Изменился наклон.
Апостол облегчённо вздохнул: лапы правильно приняли вес. Несмотря на герметичность кабины, изолирующей от внешних звуков, просочился гул. В наружное боковое зеркало было видно, как крыша, будто створка невероятной раковины, съехала вдоль стенки вагона. Что происходило снаружи, невозможно увидеть, но Апостол знал признаки благополучного старта. Нарастал рокот. Включились стартовые двигатели, реактивная струя ударила в сопла. Огонь бился в тесной трубе, рвался вверх, обтекая корпус ракеты, и она отошла от контейнера, отклонившись в сторону. Взревело, сработали маршевые двигатели, окутанное копотью зелёное тело, поднялось на огненном хвосте и по изогнутой траектории помчалось вверх. Оглушительный прерывистый грохот, словно гигантская кувалда молотила по гигантской наковальне, заставил вибрировать состав. Лейтенанты замерли, словно взглянули в разверзшиеся врата ада. Рёв, вибрация, тряска, последний громовой раскат. И всё, кончилось. Ракета скрылась.
В кабину пробрался Пересунько, руки его тряслись, в глазах повисли слёзы. Марат, оставшись один на один с многотонной махиной, не подозревал, что старик, учитывая неблагоприятное развитие событий, порекомендовал на место машиниста при боевом запуске именно Апостола. Из всех трёх бригад именно его.
Марат встал и молча обнял старого друга. Клавдия Антоновича прорвало, он, словно мальчик, заплакал на груди помощника. Лейтенанты отвели глаза, не мешая.
— Отбой, — раздалось по громкой связи, — учебно-боевой пуск завершён. Приступить к подготовке срочного отхода. Всем службам занять штатные места.
Лейтенанты засуетились, наскоро сунули руки Марату, поздравляя с пуском, и исчезли. Пересунько внимания не удостоили. В полку не любили слабых. Эти мальчики не делали скидок на критичность момента, на погоны, опыт или славное прошлое.
Вошли второй помощник и подменный машинист. Видно, Пересунько, сослался на недомогание. Дело сделано, Марат отошёл на второй план. Подменный принялся за проверку приборов и подготовку к движению, Апостол, вспоминая переживания Клавдия Антоновича, глядел в окно. Под боевым вагоном, выпустившим ракету, суетились техники, взвод охраны держал оцепление. Марат видел, как водворяется на место крыша вагона. Едва ощутился толчок, домкраты отпустили вагон и заняли свои места. «Ничего не забывают», — подумал, заметив, как люди лопатами уничтожают следы на насыпи. Ему, родившемуся в прямодушной Одессе, стало почему-то неловко от незыблемой пунктуальности.
Ракетный комплекс на всех парах мчался домой. Рейс с приключениями был у команды первым, в вагонах царило оживление. Даже растроганный Пересунько, получивший в санчасти внутривенное успокоительное, расслабился со всеми. Вскоре, когда схлынули волны адреналина, успокоился и Марат. Расслабиться полностью мешало предательское ощущение равенства — себя среди равных себе. Он подспудно ощущал, что в любом другом коллективе давно подмял под себя если не всех, то почти всех. Здесь праздновали победу без алкоголя, что казалось нереальным. Люди в горе и радости умели обходиться без допинга.
Зелёный, как прошлое планеты, поезд со свистом рассекал непроглядную ночь. В световом туннеле прожектора Марату представлялись картины прошлого, виделось материнское лицо, зовущее из небытия. Он мотал головой, отгоняя марево. Бронированная грудь локомотива, казалось, вот-вот протаранит низко висящие звёзды. За локомотивом, раскачиваясь на рельсах, стучали колёсами и лязгали сцепками затемнённые вагоны. Впереди в дождливой кумари мигала редкозубьем огней станция, не хотелось заглядывать в маршрутный график — какая. Исчезали и появлялись на перроне тени.
Ход состава замедлился задолго до вокзальных бараков. Зашевелилось оживление.
— Вниманию граждан, — захрипел голос дежурного, обезображенный простудой, но вдвое искалеченный динамиком, — на первом пути проследует проходящий состав. Будьте осторожны.
Предупреждение прозвучало заново, потом ещё и ещё, но снова ничего не случилось, воздух был неуловимо тих. Люди разбрелись по перрону к занимавшемуся рассвету, оттуда резвее убегали к горизонту рельсы. Маневровый тепловозик ковылял на отстой по утлой ветке, мимо рабочих, оранжевыми жилетами напоминавших стайку зазимовавших птиц.
— Приведу себя в порядок, — испросил разрешения у машиниста Апостол, направляясь в своё купе за полотенцем.
Туалетные боксы в жилых и служебных вагонах по причине автономности и секретности были устроены иначе, чем в пассажирских. В стандартном вагонном туалете отходы сбрасывались на рельсы. Здесь они собирались в специальные фекальные ёмкости, весьма внушительные по объёму. Всё же семьдесят человек в течение трёх недель плотно питались. С продуктами в поезде, как на подводной лодке — от брюха по горло, за исключением красного вина, хотя люди сетовали, что «грамулька» им полагалась по тем же причинам, что и экипажу подводной лодки. Ёмкости с отходами размещались в подвагонном пространстве и опорожнялись, на радость экологам, в заранее подготовленных пунктах. Шёл двадцатый день боевого дежурства. Освобождаясь от балласта, Апостол содрогнулся, представил себе ёмкости изнутри и неблагодарную службу ассенизатора. Но тщательно оправил форму и козырнул самому себе в зеркало.
На станции издали послышался гудок локомотива, подкормленный утренним эхом. Дежурный снова захрипел по станционному радио простуженными, измученными табаком связками. Рассвет, раннее утро, дымка.
Апостол вернулся в кабину тепловоза, когда показались станционные здания. Уверенная серость в окнах почему-то сочеталась с вагонными ёмкостями. Догадка «совместить» пришла внезапно. Спроси — почему, объяснил бы шуткой: «Боевой пуск навеял».
Вдоль перрона, сбавив скорость, двигался состав, с виду пассажирский, как будто игрушечные лакированные вагоны. Скучающим на перроне людям поезд показался необычным. Закрыты двери вагонов, наглухо занавешены окна, не видать проводниц с цветными флажками и заспанных пассажиров, не слыхать шипения пневматики и скрипа тормозов. Во взглядах ожидающих, путевых рабочих и торговок наплывало любопытство: «Что за поезд?» — такой слишком короткий и с иголочки новый. Как будто в вагонах вовсе не интересовались: «Какая станция?», «Сколько минут стоянка?», «Где откроют дверь?». Вопрос, если и был, то единственный и нелепый: «Не видите, что перед вами абсолютная, вселенская помойка, безостановочное дерьмо?». Люди на станции отказывались понимать. Словно слышалось, как размножались в воспалённых умах одни и те же неполноценные загадки: «Зачем? Куда? Кому?». «А вот зачем! А вот куда! А вот кому!», — прошептал, как в наваждении, помощник машиниста проходящего состава и надавил на роковую кнопку. Караул! Апокалипсис! Грандиознейший ураган! Всепожирающее извержение экскрементов!
Апостол испытал чувство, схожее с тем, что ощутил начальник поезда в сотнях километров отсюда, нажав кнопку «Пуск». Ядерная боеголовка, на мгновение заглянув в запланетный мрак, устремилась обратно в тщательно выбранную, заброшенную и безлюдную точку. Чтобы точно и без свидетелей. Отходы, собранные за несколько недель, выплеснулись точно на станции. Разини провожали состав остекленевшими глазами. Им досталась часть целого, но, на неискушённый взгляд, обработаны они были филигранно. Быть обгаженным из проходящего поезда на глухой малолюдной станции, в утренний час, под щебетание птиц — это редкая удача. Или неудача — кому как.
Арест, допросы, гауптвахта, старик.
— Ты одно мне скажи, Муравьёв: зачем? — Карл Янович не выглядел взбешённым, перед Апостолом сидела старая согбенная негожая развалина. И её слезливый взгляд.
— Решил произвести освобождение баков на случай обнаружения неисправности! — чётко, по-военному, отрапортовал разжалованный в рядовые солдат.
— А кто тебя уполномочил на это? — взвился Лауконен, но сразу потух. Добавил тише: — Я читал в протоколах допроса, — старик поморщился, — смотри на меня… Я стар… Ракетный комплекс — мой последний взлёт, дальше говно и домино… Перед тем, как уйти, мне нужно знать, чтобы не мучиться… Уважь… За откровенность помогу остаться в армии, не сесть в тюрьму. Туда ещё успеешь… Ну? — Лауконен протянул Апостолу вялую руку, сплошь в старческой пигментации.
Апостол не боялся откровений:
— Скучно стало, Карл Янович. Дурканул. Простите, Бога ради.
Раскаяния на физиономии поганца Лауконен не рассмотрел, и снова вспыхнул, позабыв о гипертонии и диабете:
— Скучно!? — с брызгами изо рта и стуча ладонью о стол вскричал он, — Скучно!!! После пуска боевой ракеты с ядерной начинкой — скучно?! Ты хоть понимаешь, чего мог достичь в своей поганой никчёмной жизни? Ты упустил уникальную возможность! Она даётся единственный раз!
Карл Янович кривил душой: решение о бывшем сержанте Муравьёве-Апостоле уже принято. Конфуз получился великий, но никому, в особенности троице — Лауконену, начальнику ракетного полка и дивизионному психологу — не хотелось держать ответ перед командующим ракетными войсками за неврастеника, что совместно прошляпили. «Фекальный впрыск» официально объявили аварийным, нескольким возмущённым потерпевшим, пытавшимся вычислить нестандартный пассажирский состав, убедительно намекнули, что им следует поскорее забыть о печальном недоразумении. Забыть так, чтобы никому на житейских перекрёстках не рассказывать о странном случае выброса дерьма на захолустной железнодорожной станции.
С рядового Марата Муравьёва-Апостола взяли подписку о неразглашении и отправили в глубочайшие армейские задворки, обильно существующие на просторах необъятной Родины. Остаток срочной Апостол провёл в хозроте, взрывая скалы низкокачественным толом. Персонал ракетоносца «Удалец» долго ещё фальшивил одесские куплеты: «Шаланды полные фекалий…».
Глава 7. Тюрьма. Сомнения
Преподобного Серафима Апостол ожидал дня через три, но он появился на завтра. Рано, когда Марат затеял разминку. Батюшка был свеж, весел и дерзок.
— Просыпайтесь, Марат Игоревич, нас ждут великие дела. Судя по хмурой физиономии, вы снова попали пальцем в небо. Ну-ну, не смотрите волком, у меня и так от вашей одиночной камеры мурашки по коже.
— Неужто страшно?! — будто возликовал Апостол.
— Так. Мечтаю… И Владыка пока в монастырь на постриг не велит, требует мирян к церкви приобщать. Небось, слыхивал, что за семьдесят лет богоборческой власти с церковью и людьми сделали. Репрессировали полмиллиона священников, половину из них расстреляли. Практически парализовали церковь. Народу деваться некуда, храмы не строят. И в народ ходить некому — миссию извели. Священников не хватает. Патриарх так и сказал после избрания: «От церкви, от каждого служителя, ожидаются дела милосердия, благотворительности и воспитания».
— Значит, меня воспитывать собираешься, отче?
— Спасать. Но сейчас оставим препирательства, сперва покончим с изначальным грехом. Ведь надо читать просто, не мудрствуя лукаво. Даже если не брать в расчёт забытую орфографию библейского языка и неточный перевод, о чём ты, наверное, не осведомлён, остаётся непосредственное толкование и здравый смысл. Сказано, что Бог создал человека по образу своему, значит так и оно есть. Библия не просит задумываться, каким образом Он сотворил это. Позволь-ка книгу.
Апостол молча подал. Отец Серафим процитировал:
— «…Мужчиной и женщиной сотворил их». Невероятно просто, лежит на поверхности. Господь Бог сотворил человека по образу и подобию своему, заключив в одном теле мужскую и женскую сущности. Значит — что?
Апостол приподнял брови, с трудом сдерживая смех.
— Да-да, именно в одном теле, но погоди богохульствовать, лучше ответь на простой вопрос. Кем является Бог для верующего человека?
— В смысле?
— Ну, кто Он — Бог? Где заканчивается Его сила? Чем ограничено Его могущество? Что Он может, чего нет? Над чем властен, над чем бессилен?
Апостол ответил мгновенно, не задумываясь. Если преподобный хотел поставить его в тупик этим вопросом, то промахнулся.
— Для верующего Бог не имеет границ.
— Верно! — похвалил отец Серафим. — Итак, Марат Игоревич, вы согласны, что Бог всемогущ?
— Именно это я сейчас и сказал.
— То есть, всё, что Он сотворил, совершенно?
— Естественно, по букве.
— Думаю, завтра, при нашей следующей встрече, вы сможете без труда засвидетельствовать первородный грех.
— Если до следующей свиданки не приму мусульманство, наш Хан говорит быстрее. Что это ты, батюшка, со мной мексиканские сериалы разыгрываешь?
— Марат Игоревич, мы всегда ценим то, для чего пришлось попотеть. Ведь и в вашей среде не всё просто. Чтобы стать вором в законе, приходится, и-эх, как постараться. Но, даже достигнув нужного уровня, не все соглашаются на корону. Говорят, не готов бродяга, слаб душой и телом. Вор ведь как себя называет — терпигорец…
Апостол, сжав тяжёлые кулаки, в упор смотрел в смиренные батюшкины очи в надежде учуять насмешку. Тогда он законно размажет проныру по стене, а имей гвозди, пришпилит к стене наподобие восхваляемого им распятия. Но святоша нешуточно знал, о чём говорил.
— То есть, — добавил серьёзно отец Серафим, игнорируя заметное лютование Марата, — терпеть горюшко в неволе, не щадя себя, но за других арестантов. Тебе такой уклад никого не напоминает? Примерно так страдали великомученики во Христе, жертвуя себя за православный люд, притесняемый врагами церкви.
Когда священник ушёл, Апостол долго размышлял над его словами. Вместо того, чтобы развенчивать воровскую идеологию и порядки преступного мира, тот словно измерял ими мир религии. Хан же напротив, старался развести чуждые миры мостами, навеки закрепив их на противоположных берегах. Стоит ли блуждать? Надо спросить у положенца напрямую. Мысль оказалась вещей, словно сон с четверга на пятницу.
Хан выглядел радостным. Морщины его монгольского лица не казались бездонными.
— Хозяин с кумом чуть руки не стали мне целовать. Лукавые никчемники, и власть их непутёвая. Кормят народ баландой, посылки зажимают. Кому мы, босяки, нужны. На воле мы и сами были кормильцами. Посылки единицам, сидят тысячи. Сегодня спонсорскую подмогу на зону завезли. Хомутов не дурак, знает: чтобы полковником стать и до пенсии дожить, на кичмане такой вор, как Хан, пуще воздуха нужен. В казённом доме никого не режут без дела, не насилуют. Порядок, красота и грево[65] что ни месяц!
Хан шумно потёр ладони, сразу сделавшись похожим на суетливую муху, отрывшую кучку дерьма.
— Пацаны ставки ставят, — неожиданно прекратив улыбаться, совершенно не к месту сказал положенец.
Сегодня он подошёл без чифиря, но всё сидел в неизменной позе — на корточках с прикушенной папиросиной в зубах. Старожилы острогов помнили его таким сорок лет назад. Многие старались подражать патриарху, но выдержать изуверское сидение на корточках не удавалось никому — те, кто пытался, после отлёживались от судорог по полдня. «Вот где Арсен Ашотович удивился бы выносливости» — неожиданно для себя подумал Марат.
— Сам знаешь, Апостол, слухи здесь ползут шибче правительственной связи. На воле под тебя большие деньжищи отвесили, даже произносить вслух неприлично. Так что думай крепко, браток. Думай, как надо. Я же, ради правды эксперимента, давить не стану. Помочь — помогу. Но решать-то тебе самому придётся. Скажи мне лучше, братан, что может заставить бродяг на киче читать Библию? Если со скуки, с кондачка — пусть. Или со смыслом, на коленях?
— Кто как, Хан, по-разному, — осторожно ответил Апостол.
— Лады, припустим по вере, тогда к какому исповеданию ближе? Что, думаешь, Хан только на кармане вырос? Я на воле многими вещами интересовался. Вор, если хочет авторитет иметь, должен делать так, чтобы босяки тянулись к нему. Должен стать братве мозгом. Сам всё знать и думку обо всём иметь. Ты по совести божественную книгу читаешь — как православный, протестант, баптист, или католик?
Апостол предпочёл промолчать, лишь плечами пожал. И, хотя он недолюбливал навязанную откровенность, обычно находил, что ответить. Отец Серафим исповедовал православие, но упора на том не делал.
— Сейчас, — Хан истолковал молчание по-своему, — стали возводить тюремные церкви. Патлатые — ты, Апостол, не первый — ходят по мужикам и лечат им мозги. Хозяину — что, марафет один. Когда арестанта пробивает на религию, он, сука, тихий становится, послушный. Перемкнутый мужик властям опасности не сулит, да и хлопот с ним меньше. Ты, Апостол, меня слушай: православие что тюрьма. Мужик на зоне, как две капли водки, подобен прихожанину в храме. Там, в перекрашенной каталажке, то законом, то кулаком, то пулей вбивают в простаков покорность. Тебе решать, как быть, оставаться человеком или становиться тряпкой. Патлатые без зазрения совести ковыряются нечистыми лапами в душе и на сердце. Я вырос на Соловецких островах. Пацаном помню, в жуть невесёлых мамашек в платочках, в юбках тёмных до земли, вели за руки смурных девочек в такой же одёге. Помню… — Хан прикурил от бычка очередную папиросу. — Эх, чифиря не хватает! О чём это я?
— О грустных девках…
— Да-да-да, помню одну такую…. И за щёчку взяла, и рукой потешила, а по-человечьи ни-ни. Видите, нельзя ей невенчаной. Срам можно, а по-человечески нельзя. Вот она религия, как Марат неожиданно для себя рассмеялся. Не над рассказом Хана, а воспоминанию из далёкой юности.
— Чего скалишься?
— Вспомнил хохму одну, ещё когда в техникуме учился. В группе хмырь был, наподобие твоих печальниц. Молчал вечно, а на переменах молился. Не пил, не курил. Сперва подковыривали его, издевались по-всякому, даже били, а потом обрыдло. Но нас он не боялся, скулил от боли, но не боялся. Таких мучить неинтересно. Встанет, юшку красную рукавом оботрёт, и ну, молиться. Из староверов! Стоим, короче, с пацанами, курим, вдруг Петька Салей подруливает. Хмыря так звали, Петькой. Говорит: «Мужики, предки сегодня до вечера за город умотали, айда ко мне видик смотреть». У нас челюсти поотвисали. Во-первых, видики тогда только у членов горкома водились, а во-вторых, чтобы святоша наши грязные души в пресветлый храм своего дома… Нонсенс! И тут Петька краснеет, но твёрдо заявляет: «С девочками». Пришли, отчего же нет, пацаны, девки, все. Расселись. Кто на кушетке, кто на стульях, кто на полу. Девчонок себе на колени пристроили. Лепота! Петька глянул на вольности, глазки закатил и давай молиться. Мы ох…ли, — Апостол опасливо глянул на Хана, тот мата не поощрял ни под каким соусом, но смолчал. То ли интересно стало, то ли внимания не обратил, или вспомнит ещё при случае, — Я встал, хотел чудику по кумполу вставить, но он к видику и «На старт!». Сюжет по видаку стоял резкий — на Америку издаля ядерную бомбу шурнули. Хан, словами не описать, чё на ленте пошло. Перетрахались там мужики с мужиками, бабы с бабами, потом поменялись, затем ещё веселее. Мы ох…ли заново, конкретней. Девки визжат, но смотрят, с колен не лезут. Петька, святоша, лыбится, словно на экране ангелы над маками летают. Приволок трёхлитровую бутыль самогона. С литр налил в кастрюлю, по движениям видно, что процедура привычная, в бутыль воды добавил. Типа, чтобы предки не заметили. Ну, что, дальше напились, перетрахались. Петька девственность свою потерял, то ли с Маринкой, то ли со Светкой, то ли с обеими вместе. Тем временем темнеть стало. Петька хмырь в себя пришёл, затушевался. Девчонки помогли убраться, особенно Маринка, понравился ей святоша. Мы сидим, отходим, тащимся, как бабы шуруют. Хата заблестела, Петька успокоился, подошёл к видику, кассету достать. На кнопку жмёт… и ничего. Снова жмёт — хрен, бобик сдох. Кассету перекосило внутри, застряла намертво. У всех истерика, хохочем, как под шмалью. Один Петюнчик рыдает. Оказалось, отец его, батюшка старообрядческий, поехал по деревням собирать паству на просмотр святых Иерусалимских мест. Как раз по этому видику. Девчонок как ветром сдуло. Пацанам тоже не по себе, но валить как-то стрёмно, стали всей кодлой «Электроника» пытать. Он, как Павлик Морозов, не сдаётся. Я с Петькой в кладовку инструмент искать и сразу в топор взглядом упёрся. На видном месте висел. Раньше таких не видел, даже в кино. На лезвии лики Солнца и Грома прорезаны. Топор звали «Чекан Громовержца», так объяснил Петька, — с древности ему приписывалась чудесная сила. Топором били по лавке, где мертвеца положили: дескать, будет смерть «подсечена» и выперта. Топор крест-накрест перебрасывали через скотину, чтобы не болела и много плодилась. Топором чертили над болезным солнечный крест, призывая на помощь братьёв божков. Ещё папаша Салей, Петька хвалился, увлекался древнерусским ратоборческим искусством. Каждый день в гостиной часами чекан вокруг себя накручивал, пройти опасно. Какой пьяный я ни был, а как представил, бородатый старовер с топором в руках шинкует нас в капусту… В общем не знаю, что на меня нашло, только схватил я этот «инструмент», метнулся обратно в гостиную, да раздолбал видик в щепу. На пол сбросил — и руки в ноги.
— А что Петька-то?
— Месяц в школу не ходил — сидеть больно…
Оба захохотали.
— Порадовал, ох, порадовал старика. На себя уповать буду, к бабке не ходи, — и уже в дверях, — а порнуха-то откуда?
— Так Салея-старшего. Петька рассказывал: закроется батя в чулане «плоть усмирять» и никого не пускает. Часа с три. Потом вылазит тихий такой, добрый, умиротворённый, хоть рубль на кино проси.
Они снова расхохотались. Когда вор ушёл, Апостол долго пытался привести себя в благостное расположение духа, чтобы честно поразмышлять над подсказками батюшки, но каждый раз перед глазами вставала одна и та же картина: бородатый мужик пялился на картинку с голой стыдобой, горстью наяривая себе петагр. Наконец, надоело, и Апостол поймал глазами свою тень. Та, ничего не подозревая, праздно околачивалась на стене.
Учитель утверждал, что бой с химерами развивает мыслительный процесс, воображение и прозорливость. Посмотрим, зайдёт ли прогресс в голову. Ашотович специально настроенными световыми лампами заставлял тень размножаться, и приходилось биться со стадом теней. Что же тогда единственный захудалый демон от горемычной камерной лампочки! Марат видел себя со стороны, казалось, он вовсе не вставал со шконки, представляя в точных деталях, со всеми возможными ощущениями, бой с реальным противником, чьего лица рассмотреть не получалось. Виртуальный противник, мощный, хитрый, техничный, превосходящий по мастерству, вызывал к жизни такие удивительные ситуации, каких в обычном бою нет, да и быть не может. Апостол поверил бы в виртуальность сражения, но мешал пот, обильно струившийся по телу.
Глава 8. Ступени. Бойцовские искушения
Вся страна, частями и целиком, напоминала парусное судно, терзаемое свирепым штормом. Безжалостный мезамор — «голос моря», молотил волной наотмашь и разбойничал на палубе. Паруса унесло, колотились лишь обрывки, натужно трещали мачты. Всё труднее давался галс, мощный напор в конце концов разбил киль, и корпус сорвался с руля, подставив борт разорению. Мезамор, беснуясь с запада, накренил, прижал судно к воде. Команда заметалась, каждый спасался, как мог.
Границы страны укрывал от набегов извне и бегства изнутри железный занавес — образно, и всё же неопровержимая явь. Силовые государственные структуры ревностно оберегали народ от «тлетворного» воздействия Запада. Но Западный ветер денно и нощно облизывал жалюзи в поисках малейших неплотностей и, отыскав, с лёту бил в точку, расширяя брешь.
На Киевском Подоле исподволь зачинался новый порядок. Чуялся кожей, нервом и нутром, хотя внешние изменения выглядели едва приметно. Так же громыхали по Константиновской трамваи, на скамейках бульвара к Житнему рынку копошилось покалеченное жизнью бомжеское сословие обоих полов, к субботе чуть оживлялось мельтешение к Щекавицкой синагоге, но удручающе реже поощрялся смехом взращённый на Подольском Привозе анекдот. Уже через одного встречались прожжённые алкоголики, распространяя во встречном зигзаге немыслимые мычание и зловоние. Прохожий с пакетом продуктов старался осторожно просочиться осторонь — тут гляди в оба, вцепится пьянь в съедобное, не вернёшь. Или сумчушку выхватит и побежит, вихляя, под вопли прозевавшей пенсию старушки и под всеобщее золотушное изумление. Народ пил по привычке, без оглядки на обстоятельства. Бутылка пива в руке, в другой кислый окурок — заветная радость. Популярная, считая с малолетства. А дальше, дальше вниз по блудливой лестнице. Всюду — Житний рынок, автостанцию «Подол», прибрежный днепровский Привоз, кабаки, рестораны, стадион, кладбище — опекали горлохваты в кожаных куртках. Стерегли торгующий люд, ревниво отторгая назначенную дань. Побор, впрочем, взымался посильный, и потому бесспорно. Называли мытарей неслыханным дотоле, но быстро прижившимся словом «рэкетиры». Их боялись. Они диктовали свои условия администрации и тесно контачили с ментами. Молодёжь собиралась по интересам, особенно заметным в противоборстве музыкальных субкультур — от звякавших железом металлистов до субтильных меломанов, превозносивших любое направление в музыке. Едва колыхнулся железный занавес, разошёлся так мало, что ещё не различить ни артистов, ни декораций, но можно их себе вообразить, в страну хлынул поток чужой грязи, легко смывая привычные ценности бытия.
Свобода! Она обдала народ пронизывающим селем вседозволенности. Пообсохнув, граждане покрылись наледью психологического иммунитета. Беспредел не поутих — наоборот, разрастался, но выворачивать умы стал скромнее.
Из армии Апостол вернулся задумчивым и немногословным, но не потерянным. Восстановился в депо, Кутовой не потерял к нему расположения и тут же поставил во главе резервного парка, где скопились десятки единиц техники, находившейся в ремонте. Вручая бразды правления Марату, начальник депо прекрасно знал, что основная проблема локомотивного хозяйства не столько физическое, сколько моральное старение техники — жаль, забота об этом вручалась людям, как правило, равнодушным к нуждам железной дороги. Впрочем, такой бедой чревато любое дело.
Апостол с головой погрузился в работу, проводя в депо порой по две смены. Но не сугубое служебное рвение было причиной «самоотверженности». Быт протестовал упрямо, безостановочно. Уходил Марат в армию из приемлемой для жизни квартирки, где первейшим занятием было изобретение способов удовольствия — обоюдного, для себя и жены. Вернулся в крошечную комнатку, где жизненное пространство приходилось делить не только с ошалевшей от материнства женой, но и двумя орущими, смеющимися, плачущими, дерущимися близняшками. Марат вообще воспринял отцовство немного равнодушно, чем удивлял не только окружающих, но и себя. Четыре человека в тринадцати квадратных метрах — слишком даже для знатока Одесских трущоб.
Вечерами, позднее, Апостол выходил подышать свободы, выплёскивая в многострадальный воздух Подола накопившееся, раздражение. По сравнению со службой в «хозвзводе», как следовало называть по условию неразглашения, место его воинской службы, в цивильной жизни Апостола окружали неполноценные, как ему казалось, физически и морально, люди. На фоне их, как ни смешно могло показаться, он ощущал себя мифическим правителем, рождённым карать и миловать. Именно в такой последовательности, сперва карать, затем миловать.
Советская молодёжь, некогда серая и понятная, окрашивалась всеми цветами радуги с дополнительными оттенками. Революционные в прошлом стиляги растворились в лавине поклонников музыкальных стилей, выражавших пристрастия вычурно, насколько изощрялась фантазия, подстёгнутая набиравшими популярность наркотиками и старинным развлекаловом, алкоголем. Старшее поколение, умерив веру в светлые идеалы, насыщало нищий пессимизм и социальную апатию той же наживкой. Младшее, взрастая, искало место под солнцем у этой же кормушки…
В цивилизованных странах юные поколения часто старались проложить легитимные пути к успеху, в Советском Союзе подобная практика применялась скромнее. Кучкующиеся компании, пиво, гитара, драки. Повсеместно почитаемый набор с криминальной романтикой подворотен. Апостол, легко собрав вокруг себя районных забияк, стал одним из несчастий Подола. Добивался главенства над подобными стаями. Выяснение отношений становилось принципиальным, и не происходило стычки, где Апостол не вышел бы победителем. Противник ретировался с разбитыми губами, заплывшими в щёлку глазами, в крови, в кровоподтёках — самому Апостолу эти атрибуты доставались гораздо реже. Уличные драки стали для него чем-то сродни права на продажу индульгенции счастливчикам, способным к настоящей «ставке». Под ней Апостол понимал всё то, чем готов жертвовать соискатель ради победы, и как далеко в этом зайти. Драки, возведённые в культ, никогда не начинались запросто. Марату претило начинать бой с петушиного наскока «А ты кто такой?!». Он всегда отыскивал иной повод: авторитет, задетое честолюбие, реже личная неприязнь, утверждение социального статуса, вовсе изредка из-за женщины. Тщательно покопавшись в душе Апостола, можно было нащупать истинную цель конфликтов, но некому. Члены команды боготворили вожака, им не до его философских изысканий к мотивации лидерства над остальными. Выбранная Маратом цель сражений достоверно подтверждалась ощущением победы. Победил — добился главенства, проиграл — нет.
Иные видели причину непобедимости Апостола в природной силе, и павлиньей, на зрителя, смелости, но они ошибались. Отсутствие настоящего приоритета в жизни заставляли парня снова и снова делать высший взнос в очередную схватку, уподобляясь безрассудному бретёру. Если малозначимая ставка отождествлялась с едва приметным синяком, то Марат не разменивался на мелочь, и всегда жертвовал высшую по значимости — собственную жизнь. Противник чувствовал это, и проигрывал до поединка. Ни знание боевых искусств, ни нож в кармане, ни наличие крутых связей не могли спасти человека, отвергшего, как считал Апостол, высший вклад — готовность рисковать жизнью. Во все времена именно такая решимость отличала воина от кроткого попутчика с оружием в руках.
Часто, чуть реже, чем всегда, главной проблемой в уличном бою становился отнюдь не противник, а страх. Страх наивысшей ставки. И если боязнь боевой травмы удавалось пересилить, то неготовность бросить на кон свою жизнь, или неумелая демонстрация этой готовности, заранее обрекали бойца на поражение. И тут уж неважно, что ты решил для себя, главное, в чём убедился соперник. Со стороны видно, что человек ещё в движении, настигает и отступает, рубит сплеча и ставит блоки, но уже покорно принимает несчастную для себя развязку.
В возвышенных фантазиях любой паренёк Подола видел себя Д’Артаньяном, но рисковать жизнью и здоровьем ради славы безупречного дуэлянта не каждый старался.
Несмотря на то, что веяли свежие ветры, Киевский Подол от корня до верху напоминал Одессу. Почему-то обратная формула выглядела скромнее. Кто знает, не задумал ли Де Рибас Одессу по образу и подобию Подола! Одесса росла, как на дрожжах, пока не превратилась в душистый портовый город — черноморские ворота страны, Подол задержался в карликах, оставаясь районом Киева, лелеявшим старину.
Колорит этих разделённых расстоянием уголков включал родственную близость. Одесский Привоз — визитная карточка особенного, одесского юмора, Подольский Привоз — фрагмент днепровской набережной, где шутки стлались гуще рыбьей икры. В Одессе в знаменитый «Гамбринус» народ слетался со своим интересом, «Гамбринус» на Подоле славился пожиже, но вряд ли кто, проходя мимо, отказывался заглянуть на бокал-другой пива. Существовало и субъективное подтверждение: в Одессе родился и отрочествовал Марат Муравьёв-Апостол, позже геройствовавший на Подоле.
Противостояние музыкальных субкультур ни радовало, ни печалило Апостола, но он с подозрительным рвением взялся урезонить вражду разнородных группировок. Усердие объяснялось просто: Марат, случись повстречать окованного железом металлиста, или меломана с наушниками на голове и магнитофоном у пояса, испытывал раздражение, даже брезгливость, и подхлёстывало поучить обоих жизни. В конце концов, он твёрдо решил придавить скверну в отдельно взятом районе — у себя на Подоле. Но не руками своих корешей. Пусть обе группировки утешат друг друга собственноручно. Авось, поумнеют детки.
Встречу предводителей наметили в «Гамбринусе». Через окно, в прорезь улицы, в перекрестьи с неоправданной синью Днепра, преклонили колени подмостки Привоза. Апостол свёл за столиком Мормона и Робертино, лидеров Подольских металлистов и меломанов. Мормон кроме тяжёлого рока ценил рисковых подольских девочек, Робертино обладал тонким слухом, тактом в общении, и поразительной схожестью с итальянским соловьёнком Лоретти. Стол с табачными припалинами оживили бутылка «Посольской», шлюпочка рыбьих бутербродов и прилично испечённый чахохбили. У входа в «Гамбринус» рандеву стерегли парни Апостола. На противоположной стороне улицы в ожидании командиров небрежно разглядывали друг друга рядовые металлисты и заурядные меломаны.
После первой водки Апостол приступил вплотную, нарочно с Одесской интонацией:
— Дружбаны, имею что сказать… Если чесать про ноты до блевонтина, можно шизануться. Спрашиваю вас: вам это нужно? Не хочете попроще? Так слухайте меня: честная свалка — хороший доказ! В любом разе победит тот, кто прав! Проигравший пойдёт зализывать раны и ждать революции. С победителем думаю скорешуваться. Скажете что-то в ответ?
Идея кулачного боя встряхнула интеллектуалов — то ли в силу взаимной неприязни, то ли из-за перспективы увидеть в корешах Апостола с ватагой. Разбавить кровь их могуществом. Цена проигрыша тоже не сулила конца света. Мормон с Робертино обменялись взглядами. И каждый прочитал внятное «Почему бы и нет?». В каждом лагере хватало годных бойцов.
Апостол догадливо усмехнулся:
— Смелее, пацаны! Как сдавите друг другу лапы в знак согласия, плавно обмозгуем — что, где, когда.
Пожав над столом руки, снова дёрнув «Посольской», заели бутербродами и мясцом. Заодно обговорили условия:
— На кулачках.
— Строго без безделушек.
— Но с ноги можно всерьёз.
— Лежачего не бить.
— And what to do? To fuck?
Согласились о численности:
— По скольку бойцов выставим?
— По двадцать бычков — вполне хватит.
— То-есть, без замены выбывших?
— Шо упало — то пропало!
Утрясли время и место сшибки. Подобрали: серый вторник, к девятнадцати, пока не стемнело, подальше на Десёнке, за Московским мостом, чтобы без проблем добраться. И чтобы, конечно, без зевак.
На том и остановились.
Сшибка, щепетильное исполнение договорённостей, заварилась в час, когда последние краски заката погрузились в загустевшее течение Десёнки. Бойцы собрались в укромную рощицу, спрятавшую их от чужих лишних взглядов и посторонней ненужной воли. Ватаги сошлись на полянке, матово-пушистой от не сдутых одуванчиков и бело-жёлтой из-за полевых ромашек, стали тесно в шеренги, и дальше ничто не вредило делу. Мормон, разрядив тишину свистом, бросился вперёд, к центру. Звук сорвал с места прочих, бойцы смешались, сбились в тёмно-цветную кучу, живо изменяющуюся в форме, размерах, окраске, и потихоньку сползавшую к реке.
К кронам взлетели хряск, матерные возгласы, сопение, стоны, и витало белёсое облачко ни в чём не повинных пушинок. Бойцы падали на одуванчики и вставали. Падали, но уже не вставали. Равнодушное месиво походило на прожорливую колонию бактерий в глазке микроскопа. Оно двигалось и, наконец, сползло на мокрый песок, затем в воду, лишь тогда всё остановилось. Словно для того, чтобы бойцы омыли раны. На поляне корчились несколько тел.
Мормон вышел из боя последним, двинулся напрямую. Апостол, отбыв роль нейтрального наблюдателя, улыбался, встречал. Выглядел Мормон некрасиво. На исцарапанный лоб свисал кровавый клок скальпа с рыжиной шерсти, лениво выпуская из раны багровую цевку. Мормон не утирался. Смотрел одним глазом, второй зрел щербатым сливяком, сквозь щёлку выглядывало небывало рубиновое глазное яблоко.
— Бывает, — заверил Апостол, — Дрыга известный засранец, у него обувка при подковах с шипами… Башку тебе придётся лечить, да и моргала тоже.
— А что скажешь по делу? — спросил Мормон.
Апостол передёрнул плечами. Наблюдения обрисовал коротко, успокоив относительно кунацких перспектив:
— Пока что не впечатляет. Потренироваться надо. Насчёт корешухи обещал подумать — стало быть, подумаю.
Мормон в ответ кивнул, но улыбнулся открыто.
— Ладно, приятель, — тихо сказал он, — только вижу, в голове у тебя ещё детство вертится. Не хочешь повиниться, душу отогреть?
Апостол достойно выдержал взгляд, но промолчал, почувствовав, что не сумеет подчинить себе этого парня, не по зубам плошка. Отвернулся и ушёл. За ним потянулись к мосту обе ватаги, уводя с собой пострадавших.
Мормон, соблюдя характер, отпраздновал победу в «Гамбринусе» с лучшими бойцами и не менее отчаянными подружками. В тот же час Робертино одиноко и грустно перебирал струны гитары в захолустной беседке на Гидропарке. Сожалел о содеянном. Чувствовал себя прескверно — раздавленным насекомым. Чтобы немного отвлечься, размышлял о всеядных тенденциях «Модерн Токинг».
Ближайший выходной Марат собирался провести в обществе приятелей, жаждущих узнать подробности битвы на Десёнке, но Галима так нежно уговаривала посвятить утро рынку, что он, скрепя сердце, согласился. Едва ли не вопреки себе. Внешне спокойный, с детства не признававший давления извне, внутри Апостол, бывало, закипал впустую. Иногда ему приходилось принимать общепризнанный авторитет, как данность, но податься на уговоры женщины, пусть и родившей его детей, претило и раздражало.
По старинным улочкам Подола от Почтовой площади до Житнего рынка, двигалась образцово-интернациональная советская семья. Муж, широкоплечий рослый молодой мужчина, уважаемый работник локомотивного депо, с чёрным, равнодушным даже к солярке окаймлением ногтей. Жена — изящная гражданка восточной наружности в стойком трёхгодичном декрете. Дети — очаровательные, вобравшие лучшее от матери и отца, близняшки не в новых, но опрятных платьицах.
Они миновали улицу Жданова, где когда-то прохаживались князья Киевской Руси от Олега до Владимира, а после Куприн, писавший свою «Яму». Равнодушно посмотрели на Покровскую церковь, лишнюю по мнению Апостола, на Подоле, свернули к аптеке, где Галима задержалась, приобретая известные ей притирки и мази. Повернули к Житнему рынку.
Марат шёл, не оглядываясь, поспевает ли за ним семейство. Галима семенила следом, высоко подняв голову — смотрите, православные, на моё счастье. Девчонки скакали следом, цепляясь за руки матери и восхищённо хлопая пушистыми ресницами на скоромные витрины.
Два милиционера, где шире, там выше, перегородив тротуар, бурно обсуждали последнюю неудачу футбольного клуба «Динамо». Офицер втолковывал сержанту, что лично знаком с ленивцем Бессоновым, заядлым курильщиком и вором. Сержант соглашался с любой характеристикой, кроме вора. Командир, выказав недюжинную осведомлённость, пролил свет на кражу футбольных бутс, за что проштрафившегося полузащитника изгнали из сборной и дисквалифицировали на год. Народ, ворча втихомолку, чтобы не рассердить стражей порядка, обходил по проезжей части, рискуя оказаться под колёсами автомобилей. «Менты», поглощённые разговором, не замечали, что создают помехи уличному движению. Марат, задумавшись, набрал предельную скорость, словно кроме него пешеходов не существовало. Галиме виднелась спина мужа, и не предполагалось проблем.
Когда между Апостолом и «ментами» остались считанные метры, офицер почувствовал опасность. Не прерывая разговора, он повернул голову вправо. Старлей не зря носил погоны, целиком ему понадобилась секунда, чтобы проанализировать ситуацию. Здоровяк, двигавшийся напролом, не собирался притормозить или свернуть на проезжую часть. Вдобавок он коротко, ребром ладони рассёк воздух, показывая ошеломлённым блюстителям порядка, что пройдёт между ними. В глазах странного человека, блеснувших из-под густых бровей настырно, как ночные прожекторы локомотива, офицер успел прочесть сущую несговорчивость. Старлей оттолкнул собеседника к зданию, а сам, избегая столкновения, попятился на проезжую часть. Тронувшийся с парковки «УАЗ», нанизав на дверную ручку что-то из его одежды, потащил за собой. Старлей с невероятной натугой, до изуверской боли сопротивлялся неведомой силе, пытаясь развернуться против движения, чтобы её рассмотреть — пока водитель «УАЗа» не грянул по тормозам. Офицер задыхался от напряжения, сковавшего тело, несколько времени не способный ни двигаться, ни продохнуть. Сержант, припечатав затылок к фрагменту барельефа, резко выступающему из стены дома, осел на асфальт и, теряя сознание, успел произнести единственную фразу: «Мама моя… что это было».
Что было, то было: Марат Муравьёв-Апостол спешил по делам.
Галима не заметила происшествия и попыталась проскользнуть мимо галантерейной лавки, но Апостол был начеку. Судьбоносным движением выпростал из карманов, слева-справа, авоськи, словно ковбой залежалые «кольты», и, сведя брови, кивнул жене на дверь. Она безропотно вздохнула — спорить с мужем себе дороже, и шагнула вперёд, на самом деле предпочитая сначала купить съестное и оставить напоследок вожделенную галантерею. Апостол по привычке выбирал оптимальный путь, стараясь не повторять пройдённый. Если бы взбрело в голову, он торил новую дорогу день-деньской, усадив калмычку на шею, а дочерей на плечи, для равновесия.
Раздувшиеся авоськи смотрелись в руках Апостола, как два гигантских грейпфрута на прилавке усатого кавказца под фуражкой столь же внушительных размеров. Апельсины, обхватом поменьше, издавали неописуемый аромат. Цитрусовые торговал у кавказца пожилой еврей в ермолке, выглядевшей посреди Житнего рынка, если не трагично, то неожиданно.
— Ну и почём ваши оррр-гешки, — вопрошал старик опешившего сына гор, хотя апельсины были в полной кондиции — с голову пигмея.
Покупателя в ермолке вдохновляли придуманные им же несоответствия. Его грассирующее «Ррр-г» витало над головами, смутно будоража память о вольностях черносотенных погромов.
— Э, ти что, дарагой! Мыло с утра не кушал? Пасматри, где видишь орех?! Это балшой апелсин! Болше, чем твой башка! Сладкий, как дэвушка! В Закатальский район вырос! Э! — возмущался пришедший в себя азербайджанец, но еврей оставался невозмутим.
— Пятьдесят копеек, или я ничего не беру! — заключил старик и категорически сложил руки на груди, словно продавцу предоставлялась последняя возможность — отдать товар бесплатно единственному покупателю. Острая перебранка привлекла зевак, но, словно по мановению, погасла, подобно горящей спичке, брошенной в воду.
Раздвигая толпу, словно буксир рыбацкие лодки, между торговыми рядами перемещался верзила в ватнике-безрукавке, спортивных штанах с маршальским лампасом и ледяным выражением лица под шапочкой-менингиткой. В нём чувствовалась инородность, не свойственная отзывчивому гражданину.
То было новое явление в Киеве, обозначенное клацающим, наподобие дверной защёлки, словом «Рэкет». Гости Житнего рынка старались, не поднимая глаз, миновать столкновение. Те из них, кто ещё не познакомился с эволюционным витком вымогательства, чувствовали показную и реальную, как бёдра уличной проститутки, угрозу. Более сведущие обделяли его вниманием, воспринимая, как неотъемлемую деталь рынка. Завершалась привычная эпоха, когда жизнь катилась по заданному маршруту: детский сад — школа — институт. Институтский диплом обеспечивал заслуженные удобства: работу по распределению, офицерство в армии, крышу над головой. Поколение, ампутировавшее собственную память, появилось позже.
Галима попыталась увести мужа с напряжённой территории, но он, словно зачарованный, не мог оторваться от зрелища. Верзила открыто, ничуть не смущаясь свидетелей, собирал у оробевших торговцев мзду, у кого копейкой, у кого ассигнациями, иные отдавали конверты с содержимым. Дань небрежно сбрасывалась в адидасовский рюкзачок.
Окаянные времена лихих людей забылись, быльём поросли, у партии большевиков давно отпала необходимость кормиться экспроприацией. Пару лет тому, Марат помнил, гражданин, почувствовав революционный зов, мог, отчаянно труся, нахамить начальнику на работе. Юное существо — совершить безумный по дерзости поступок, отказавшись от вступления в комсомол. Пресытившись картиной побора, Марат собрался прислушаться к увещеваниям жены, когда размеренное взимание оброка наткнулось на преграду. Тётка, торгующая с безмена картошкой, пыталась разжалобить сборщика обыденной финансовой нуждой.
— Нема грошей, сынку, — запричитала она жалобу, призывая в свидетели товарок и Бога.
Переубедить мытаря оказалось делом пропащим, он не признавал доводов. Выслушал заново и рассердился. Лоток взмыл в воздух, опрокинув на спину взвывшую тётку. Верзила не в шутку разбушевался. Клубни картофеля полетели в толпу. Апостол, криво усмехнувшись, поднял авоськи, собираясь уйти, но случайная, с азербайджанский грейпфрут, картофелина, чиркнув ему о бедро, угодила близняшке в затылок. Девочка, не издав ни звука, упала. Ещё несколько клубней пролетели над ней. Галима, вскрикнув, словно подстреленная, пала на дочь. Увидела: обошлось, дышит и приоткрыла веки. Картофелина могла причинить много вреда, если бы не косы, заплетённые матерью по родным калмыцким обычаям.
Авоськи с продуктами не успели плюхнуться наземь, как Апостол, подобно выпущенному снаряду, ринулся на обидчика. Товарки, воспринимавшие экзекуцию со смешанными чувствами, спрятались под прилавки, в душе проклиная заступника. Обретённое частью заработка спокойствие казалось достойнее беспредела. Галима наблюдала, закусив губы. Поначалу, уловив взгляд Марата на рэкетире, она решилась щегольнуть в лаврах жены героя, но к счастью, муж равнодушно отвернулся, и она облегчённо вздохнула. Кто знает, чем может закончиться противостояние. Её бугаёк не всесилен.
Не Божий суд, где Бог хранит правых и карает неправых! Не схватка, когда противник повергнут по честным условиям боя! Уличная драка, месиловка! Тестостероновый ураган! Адреналиновый шторм! Кто поставит на реактивного отца близняшек?! Кто на верзилу, успевшего принять боксёрскую стойку?! Лучше ни на кого, всё равно не отгадать. Зрители видели одно — бросившийся в атаку папаша не из тех, кто пасует, если заденут его близких.
В уличной драке всегда есть две неравные противоположности — нападающий и жертва. Первый всегда имеет преимущество, чётко представляя цель, ставку и возможный расклад, в то время, как для жертвы всё происходит неожиданно. Рэкетир на жертву не тянул, напротив, руки естественным образом заняли боевую крепь, без единого изменения в лице. Верзила чётко представлял, как примет летящий в голову кулак. Как отобьёт удар и нанесёт свой. Но в последний момент Марат резко поднырнул, послав руку в солнечное сплетение противника. Лишь на самом излёте слегка придержал удар, иначе урод, стоящий перед ним, мог бы никогда не встать на ноги. Но амбал и не подумал сгибаться от боли, он шумно, сквозь зубы, выдохнул боль и с приседа вогнал в лицо Апостола мощный «джеб», такой, что нос его лопнул, как перезрелый помидор. Марат на миг потерял ориентацию, перед глазами мелькнуло запястье с наколкой — утлый кораблик с парусом, кривые буквицы ВМФ и цифры 86—89. Ещё несколько ударов опустились на голову, но теперь настала очередь удивляться рэкетиру. Фраерок не падал, лишь кровь двумя причудливыми струйками покидала изувеченный нос.
«Отморозок», подумал Фонарь, и загрустил. Самый опасный тип, внешне трудно опознать заранее, поведение вовсе не поддаётся логике. Либо беспросветно туп, либо терять нечего, либо с крышей не дружит. Такого, пока завалишь в отключку, сам упадёшь. Страха у него нет, зато удар держит, как железобетонный столб. Некстати вспомнилась наука знакомого корешка. Не разошлись с ним в дверях ресторана. Фонарь предложил отойти в сторону и разобраться. Около столба остановились. Человечек улыбнулся, предложил взглянуть, и с размаху хватил кулаком о бетон. Столб, доказательно вибрируя, загудел. Фонарь, убавив пыл, понял и подружился.
Апостол пришёл в себя и снова предпринял натиск. Рэкетир встретил его прямой левой в челюсть, послышался явственный хруст, а тело Апостола поднялось в воздух по замысловатой дуге и опустилось на прилавок с апельсинами, что и спасло позвоночник от перелома. Толпа завизжала, оттекла, но остановилась. От бесплатного представления никто не бежал. Удар Марат прочувствовал в полной мере, не пропустив ни единого джоуля затраченной работы. Видимо, именно это обстоятельство выбило из гудящей головы лишние, мешающие инстинкту, мысли. Апостол превратился в хищника, не умеющего думать, способного, мгновенно реагируя, быстро перемещаться и точно бить. Тело и ощущения слились воедино. Кипящая ярость, замедляющая реакцию из-за чудовищного впрыска адреналина, схлынула, уступив место холодному бешенству. Чуть пробуксовав в раздавленных фруктах, он вырвался на сухое.
В этот момент Галима, потерявшая голову от боязни за мужа, бросилась между бойцами, заламывая руки и пронзительно воя. Любая драка чревата накалом страстей, но в присутствии женщины, особенной для кого-либо из бойцов, намного жарче. Галима решила, что муж дрался из-за обиды, нанесённой ребёнку. Действительно, был повод, но Марат пустил в ход кулаки, чтобы победить, и женщина, ставшая на его пути, оказалась помехой.
Апостол отбросил жену за спину, справедливо возвратив детям. Верзила на миг расслабился, открылся на мгновение, и этого хватило, чтобы нанести ему сокрушительный удар — ногой, ниже пояса, в пах. Толпа охнула, а Фонарь, взвыв по-звериному, встретил коленями пол. Не позволяя ему опомниться, Апостол скользнул в партер. Нанёс с десяток ударов, но Фонарю удалось вскочить на ноги. Женщины завизжали от ужаса. Лицо рэкетира выглядело жутко, из-под рассечённых бровей кровь заливала глаза, губы казались ошмётками требухи, выброшенными мясником на потребу приблудным псам.
Каждый боец должен бескомпромиссно определить для себя круг ударов, способных обеспечить ему победу. Казалось, противники исчерпали свои преимущества и теперь посматривали друг на друга скорее обескураженно, чем робко. Марат был уверен, что ему удалось крепко огорчить верзилу ударом ноги, Фонарь не встречал человека, вставшего после его правой в нос. Нос был явно сломан, неестественно кривясь на вздувшейся физиономии.
Тишину оборвал женский крик:
— Милиция! Милиция!
Истошно раздались другие:
— Убивают! Помогите!
Милиция была рядом, но ещё не очухалась от последствий перенесённого урона. Крики прозвучали сигналом к атаке, и противники вновь бросились друг на друга. Апостол, решив поменять тактику, намеренно пропустил боковой крюк и, сразу же войдя в плотный клинч, зажал в локоть шею Фонаря. Фонарь ответил локтями и коленями, заставив Апостола отскочить. Удары, управляемые инстинктом, посыпались обоюдно. Стимул — реакция! Стимул — реакция!
Драка с тренированным человеком идёт на скоростях, отвергающих логику, мышление попросту не поспевает. Галима металась, умоляя кого-нибудь вмешаться, но никто не слушал. Между тем соперники стали выдыхаться, не собираясь друг другу уступать. Движения сделались замедленными, реакция — запоздалой. В уличной драке, в отличие от кино, нет красивостей, изображаемых каскадёрами. Работает лишь то, что эффективно. Никаких выпадов в прыжках, отчаянных разворотов или кульбитов с ударом ноги в голову. Размазанная по лицу кровь и грязь, всклокоченные волосы, озверевшие лица, запах пота.
Марат, внезапно осознав, что дальнейший обмен ударами пагубен, пропустил очередной хук в нос и почувствовал навалившуюся тяжестью пустоту. Собрав остатки сил, он всей массой накатился на Фонаря, распластался на нём, увлекая вниз. Фонарь падал спиной на оградку, на торчащую кверху опору. В грудь застучалась несносное, злость и желание нанизать соперника на штырь. Но в последний момент сработал спасительный инстинкт, и Апостол неуловимым движением изменил траекторию. Фонарь опрокинулся спиной на проволоку барьерчика, натянутую между опорами. Кожаная куртка разлезлась, как шкурка цитруса. Апостол, оставаясь сверху, зажав коленям ноги противника, замолотил кулачищами Фонаря по лицу, орошая месиво собственной кровью из сломанного носа. Тут то и разрядили обстановку несколько социально активных мужичков, оттащив Апостола, прижав его к полу. Фонаря удерживать не пришлось, он лежал на спине, закрыв глаза и думал, как же ошибался мастер Габриелян, когда учил оставаться честным в любом противостоянии. Фонарю, чтобы податься в рэкет, пришлось пройти сложную внутреннюю адаптацию, оказалось, что удар в перчатке и без неё две очень большие разницы, как утверждали в Одессе. На улице били не только рукой по морде, но и ногой по мошонке, а против ножа в печени оказался бы бессилен даже чемпион мира.
Милиции, как и следовало ожидать, не предвиделось, социальная активность быстро сошла на нет. Рынок постепенно приходил в себя, занявшись важными делами. На поле брани лежало два тела: бесхозное Фонаря, и Марата с причитавшей рядом калмычкой, вокруг досужно топились любопытные.
Апостолу надоели всхлипывания жены, и он прикрикнул на неё, с трудом разлепив губы. Затем, опершись на её плечо, встал и, пошатываясь, подошёл к рэкетиру. Фонарь лежал, сверкая навстречу глазом, второй заплыл, не оставив и узкой щелки.
Галима потянула мужа за рукав — с тем же успехом она попыталась бы утащить небоскрёб.
— Ты этому учился… где? — мрачно спросил Марат.
— В Караганде, — прошепелявил Фонарь, выплёвывая осколки зубов.
— Серьёзно?
— Серьёзно, ты уже мертвец… Ходил, не оглядываясь? Теперь будешь ходить, оглядываться. Из-под земли достану… Урою…
— Не смеши людей, меня на Подоле знают. Придёшь на Жданова, спросишь Апостола — любой покажет. В момент справлю тебе шикарные похороны.
Рэкетир погрустнел. Многие, в том числе его хозяева, были не прочь приручить стадо быков, возглавляемых Апостолом. А уж его шутка с «музыкантами» стала притчей.
Ночью королю уличных драк не спалось, сегодня он едва удержал корону. Победил лишь потому, что сумел вовремя среагировать. Может быть, на мгновение быстрее противника. Если победа нужна, а обстоятельства против — не спеши сдаваться. Поднять ставку — верный способ изменить расклад в свою пользу. Лишь понимание философии уличного боя спасло от позора. В драке единственный путь избавления от робости — «тренировки» с жёстким контактом. Это отлично закаляет психику и дарит бесценный опыт. Теория не заменит боя. Следует чётко представлять себе, ради чего живёшь, за что готов умереть, и где можно уступить. Победа куётся правильным воззрением, решимостью рисковать жизнью и нести потери. Хочешь не бояться? Тогда не нужно дорожить. Марат в свои двадцать лет, казалось, ничего не чтил, кроме собственного достоинства — но именно это считал пережитком.
Евгений Владиславович Кутовой замечал боевые трофеи на физиономии Апостола, но не находил нужным расспрашивать. Одни, дожив до морщин, всё пребывают в мальчиках-побегунчиках. Такие, как Муравьёв — с сосунковых лет мужики, сразу и бесповоротно. Их незачем воспитывать, они знают себе цену и как выкрутиться из заварухи.
В столовой за обеденным столом Кутовой, заметив свежие синцы и отёчность, сделал досадный жест. Апостол обезоружил его улыбкой. На том и остановились. Нечего обсуждать. В этот же день конторку оглушил телефон наружной связи. Апостол поднял трубку. Сначала внушительно помолчали. Но едва послышался надтреснутый голос, Марат узнал.
— Как дышишь, Апостол? Оклемался? Помнишь, за мной должок…
— Не проблема. Только теперь с процентами…
— Да ну?! Тогда застолбим. Предлагаю сегодня же на набережной у Рыбальского моста…
— Подходит. В девять по темнянке и без телят…
— Замётано…
Апостол подобрался к Рыбальскому мосту загодя. Фонари тускло освещали путепровод и арку. Ветер взбивал разноцветные флажки, забытое праздничное убранство. Пригляделся к подходившему, к его сутулой кубатуре. Встретил насмешливо:
— Сплошная темень. Фонаря здесь как раз не хватало. Что хотел?
Стали друг напротив друг друга, как две водонапорные башни.
— Сатисфакции, если сечёшь термины…
Марат в ответ поощрительно улыбнулся:
— Так вот же он, я, удовлетворяйся, если сможешь…
— Есть предварительный базар, — помялся Фонарь, — шефы навязали параллельный план…
— Догадываюсь, про что.
— Знаю, что догадываешься, — согласился Фонарь, — гляди, не надоело получать пролетарский паёк? Несерьёзно. Брось нужник, иди к нам. Тебе положат твёрдый наличман, такие бабки, что и не снилось! Подумай, дело говорю…
— Подумаю, — неожиданно для себя, а более для собеседника, ответил Апостол, — как не подумать, мне, между прочим, пора позаботиться о жилплощади… Но грабить старушек по-любому не стану…
— Во-во, — с энтузиазмом подхватил Фонарь, пропустив мимо ушей выпад, — я про то и толкую. Деньжат хватит на всё — на стенки, на шмотки, на тачку и жрачку.
Помолчали, пока Фонарь прикуривал. Втянул глубоко внутрь, рассыпав на ветру искры.
— Ты тогда спрашивал, где я махаться научился, — сказал, посмотрев Апостолу в глаза, — интерес не пропал?
— Интересуюсь.
— У Габриэляна, — дал наводку Фонарь, — хочешь, адресок подкину — боксёрский зал, да и сам он боец знаменитый.
— Конечно, возьму адресок, — воодушевился Марат.
— Писать нечем, — похлопал себя по карманам Фонарь, — позвоню завтра… Но есть просьба — на случай, если Ашотыч спросит, кто посоветовал, обо мне ни слова.
— Это почему? — удивился Апостол.
— Погнал он меня, — отшвырнул окурок Фонарь, — как узнал, что я крышевать за бабки подался, сразу и погнал. Верняк, завидует, он-то стареньким «Жигулёнком» пробавляется, а я на «Бумере» рулю…
Расстались — каждый наедине со своим приговором.
Назавтра Фонарь сдержал слово, продиктовав координаты, и Марат, дождавшись окончания рабочего дня, отправился на поиски. Вечер предвещал неопределённость, но плохо высвеченную вывеску «Спортивный зал имени Февральского восстания» отыскать удалось без проволочек. Откладывать Апостол не стал, проникся и открыл дверь.
В помещении с плотным запахом пота кипела тренировка. Марата заметили, и почудилось, что работа пошла на убыль, но вряд ли было именно так. Апостола знавали в лицо, кое-кто успел познакомиться и с его кулаками. Бывалые разрядники пасовали перед чуткой горой мышц. Способность выстоять десять раундов с техничным соперником никла под бешеным натиском в нескольких минут. В уличном бою победа часто добывается испытанным средством, почти аксиомой — нанести сокрушительный удар первым. Удар Апостола опрокидывал соперника до атаки. В драке против нескольких противников времени на оборону нет. Если хочешь уцелеть, начни первым. Почувствовал неизбежность сшибки, бей, не медли. Апостол всегда успевал. Его упреждающий удар, молниеносный, неотбиваемый, лишал противника не только решимости, но часто возможности сопротивляться. Уличный бой скоротечен, как мороженое в летний зной. В нём нет щели для «македонского маятника» или поиска бреши в обороне соперника.
Апостол оглядывал боксёров, как лев турье стадо. Любой бык из стада превосходит хищника в силе и скорости, но липкий, лишающий воли ужас замораживает мышцы, сковывает суставы.
Арсен Ашотович Габриелян в дальнем углу зала воодушевлял бой перворазрядника Коли Пахоменко, Колуна, с тенью. Финтил руками, вдетыми в лапы, чтобы вызвать ответные реакции ученика. Практикум был прост: боец должен защититься, не моргая на мелькающие перед глазами лапы. Колун не щадил сил, и Арсен Ашотович, нарастив темп, не уследил, что в привычном шуме образовалась прерывистость. Когда почувствовал, остановился и неспешно снял лапы. Подошёл к гостю. Вопросительно изогнул бровь. Лишь одну.
Очень давно, жизнь назад, брови армянского паренька безнадёжно срослись, раз и навсегда. За глаза ученики называли тренера созвучно фамилии — «Бровьян». К тому же, казалось, что наследственная мужская волосатость сконцентрировалась в нём одном. Супертяжеловес, мастер спорта международного класса, наглухо заросший чёрным войлоком, производил на свежий взгляд чувствительное впечатление. Но не сегодня. Взгляды Апостола и Габриеляна сошлись, и черты лица Арсена Ашотовича смягчились.
— Правильно смотришь… Как революционер…
Учитель понимал, что избавиться от гостя выйдет невежливо, непедагогично. И, подумав, предложил Апостолу побоксировать на ринге с любым, кого выберет. Несмотря на устрашающую внешность, Габриелян имел два высших образования и докторат по психологии. Он чувствовал, что парень согласится и выберет именно Колуна. Наиболее крупного и, оставалось добавить, наиболее техничного обладателя трёх важнейших для боксёра качеств — ума, реактивности и силы. Бокс — жёсткое единоборство, но не обмен ударами на авось — наоборот, игра, где победитель толковее мыслит, выбирая оптимальную тактику, навязывая сопернику свою волю.
Противники стали друг напротив друга. Арсен Ашотович, заметив робость Колуна, не стал тянуть время. Жестом пригласил зрителей поближе и разрешил:
— Бокс…
Не только поучить искателя приключений, но и укрепить боевые качества Колуна намеревался Габриелян. Ничто не закаляет волю так, как спарринг в присутствии зрителей.
Апостол улыбнулся, едва заметно, уголками рта. И сразу мощно обрушился на противника, чтобы с удара выбить из равновесия, прежде всего, морально. Как подобает уличному бойцу, бил резко, с увесистого размаха.
Колун стушевался, но не позволил себе спасовать. На улице он избежал бы драки с уличной знаменитостью, там не всегда бились честно. Получить лезвие в печень в тёмном переулке — вполне вероятный расклад. Но здесь, в родном бастионе… Поймав Апостола на небрежности, остановил прямым левым в голову. И, не дав очнуться, фирменным «Колуновским» крюком посадил противника на пол. Зрители зашлись в восторге.
Веселье оказалось случайным. Апостол в долю секунды оказался на ногах и бросился вперёд. Колун, встретил «быка» академической тройкой: корпус, голова, завершающий в челюсть. Марат снова хлебнул внизу пыли. Вокруг канатов разразился рёв. Но… запоздалый. Габриелян не успел сосчитать до двух, как Апостол обрушил на противника удары, способные покалечить. Для Колуна, как слону дробинка. В спаррингах он обожал драться с превосходящим соперником, изящно обращая его усилия против него самого.
Оставляя за собой инициативу, Марат не сообразил, что тратит энергию понапрасну. Колун запустил «македонский маятник», обкатывая встречные удары противника так, чтобы они шли вскользь. Апостол в бешенстве остановился. Колун беспечно фланировал по сторонам, приглашая в атаку. Дожидался, когда дилетант невольно обозначит направление удара.
Марат вновь обрушился на соперника, Колун принял его с дьявольской готовностью. Отступил на шаг, и когда Апостол резко бросился вперёд, скользнул навстречу, выбросив прямую правую в подбородок. Арсен Ашотович крякнул от удовольствия. Такой удар в сложении сил пробивает насквозь. Вышло, что Марат из-за необдуманной агрессии, наткнувшись на кулак, оказался в третий раз на полу. И снова тренер не досчитал до двух. Даже не успел пожалеть здорового, но глупого парня, вздумавшего драться с перворазрядником. Но далее всё пошло не так, как ожидал Габриелян. Упрямец, будучи снесён ещё несколько раз, неизменно оказывался на ногах. Лицо его распухло до неясности, видит ли он вообще. Корпус залоснился кровью. Но Апостол вставал мгновенно, как в начале схватки. Этого в тридцатилетней карьере тренеру видеть не доводилось.
«Брэк!» — стал Арсен Ашотович между бойцами. Оба держались на ногах. Но от Колуна ощутимо пованивало страхом. В то время как Апостол распространял замешанное на презрении к боли амбре победы. Вокруг стояла немота, будто ринг окружали высеченные из камня бюсты.
Марат стащил перчатки. Длинно и кроваво сплюнул. Зрелище мрачное, но его не жалели, боясь взглянуть. Напротив, жалели Колуна, словно того подвергли изуверской пытке.
Марат отправился домой. Его опасливо обходили прохожие. Лишь два милиционера решили отчитать за пересечение трассы в неположенном месте. Но он, не сказав ни слова, прошёл между ними. Оторопь взяла постовых, сковал взгляд из щелей всинь заплывшего лица… Они расступились, замерли вслед и, очнувшись, пошли от греха подальше — пить пиво.
Всю ночь Галима не отходила от мужа. В больницу он ехать отказался. К утру, несмотря на уксусные примочки, лицо напоминало помятый баклажан. Дочки, не узнавая отца, боялись приблизиться, испуганно выглядывая из-за дверного косяка, изрисованного снизу детской фантазией.
Иначе представлялась жизнь с похитителем калмычке из Артезиана. Вначале Галима боготворила мужа. Таких мужей не сыскать ни в родной деревне, ни в большом городе Киеве. Только без родительского благословения трудно. Еды, простой, как скворечник, иногда не доставало. Что ж, Галима, кинув дочек на глухонемую соседку, рубль в день, отправлялась на промысел. Готовила обеды: мясной бульон махан-шельтяган, гигантские пельмени бёреки и дотуры — мелко накрошенную тушёную требуху. Как ни странно, знатоков калмыцкой кухни в Киеве хватало. Земляков-азиатов, покинувших родные места в поисках лучшей жизни. Зато получалась прибавка к деповской зарплате мужа. К питанию, на прочее не копилось. Старая мебель, исцарапанный, холодивший в камень «Днепр». Абсолютный приоритет мужчины — так было всегда, так должно быть — и Галима не жаловалась. Муж не замечал жениных трудностей, обитая в чуждом ей мире.
Когда Марат вновь появился в зале, все удивились. Все, кроме тренера. Габриэлян знал, что такой человек вернётся. Поздно начинать боксёрскую карьеру в двадцать лет, но известны громкие исключения, врождённый талант нередко перерастал в ярчайшую звезду. Арсен Ашотович старался воспитывать мальчиков интеллектуалами с рыцарской честью. «В трёх случаях, — любил повторять Габриелян, — вы имеете право драться: на ринге, при самообороне и когда защищаете кого-то. Кулак боксёра — страшная сила. Кувалда! Молот! Глядя в ваши глаза, никто не должен бояться… стать наковальней.
У того или иного времени свои приметы. Оставалась загадка — почему, будучи студентом, Апостол равнодушно проходил мимо дверей спортивного зала.
Новобранцы бокса в первые месяцы тренировок заняты физической подготовкой. Лишь укрепив тело, вплотную приступают к изучению боевого искусства. Апостол, не теряя времени, занялся технической подготовкой, учился атаке и защите, маневрированию, финтам, теории и тактике боя. На соревнованиях прославился взрывным стилем, фантастической выносливостью, способностью держать удар. О команде Габриеляна заговорили, но сам Муравьёв не придавал значения успехам, пренебрегая обывательским обожанием. Колуна, своего первого соперника, пользовал для разминки. Предложение войти в состав сборной Украины не выглядело фантастическим. Не менее закономерной оказалась победа на всесоюзном первенстве, где Апостол поднялся на высшую ступеньку в тяжёлом весе.
Для Арсена Ашотовича Габриеляна год со времени знакомства с феноменом Муравьёва-Апостола пролетел, как во сне. Такого не могло быть. Случайность? Сон? Старый армянин давно посадил дерево, построил дом, вырастил четырёх сыновей. Увидел внуков. Но лишь приручив Марата, понял, что жизнь прожил не зря.
В финальном бою Спартакиады Апостолу противостоял Адам Орцуев, самоуверенный и жёсткий атлет. Опытнее Марата, старше и, как утверждал тренер, покрепче — настоящий сын гор. Этого боя Габриелян боялся, хотя не признался бы ни себе, ни Апостолу.
Схватка началась шквальной атакой Орцуева. Чеченец взрывался, как вепрь, но его наскоки разрушались о контратаки Апостола. Марат улыбался. Его забавляли крики противника, точно обиженного ребёнка, потерявшего в песочнице любимую игрушку. Арсен Ашотович всегда говорил шумным боксёрам: «Боевой крик поддерживает дыхательный ритм, концентрирует силы… и, возможно, испугает противника, если другие ваши действия не произвели на него впечатления».
Марат долго шёл к этому бою, но быстро дошёл… Вначале трудным казалось второе занятие, но со временем он нашёл этому объяснение. Организм, хотя и бездельничал годы, на первом занятии получил колоссальную встряску. Из Марата полчаса делали отбивную, но и сам он напрягся. В течение нескольких дней не мог пошевелиться, любое движение вызывало боль. Напрашивался справедливый вывод: такими испытаниями чревата любая тренировка.
Апостол решил иначе. Презирая боль, на разминке стал в шеренгу. В ходе тренировки боль утолилась, а вскоре и вовсе ушла. Если и возвращалась, то приятной ломотой мышц, отведавших перенагрузку.
Начало тренировки. Парни скандируют лозунг, крупно набранный на плакате. Их много, развешенных вдоль стен. «Сила и быстрота!»
— Да! Наша тема сегодня, — громыхал Арсен Ашотович, — удар зависит от силы, сила удара — от массы и скорости кулака… — Марат взбивал подвешенную грушу, прислушивался: удар вдогонку — хилый, встречный удар — мощь… противник несётся навстречу, скорости движения челюсти плюс скорость кулака…
Марат отошёл от груши, остановился у зеркала, поиграл мускулами. Габриелян тут как тут:
— Экономь силы, красавчик, не гоняй зря мышцу… Хочешь пугнуть противника? Он тебе что — заяц? Уважай соперника… по-нашему уважать — бить… пугать не надо, — тренер стал против Марата, нахмурив бровь, и резким ударом в подбрюшье сложил пополам, — соображай… Если мышцы включишь раньше, что будет, когда придётся работать… Лишнее усилие сжигает силу и скорость, отвлекает внимание, перегревает организм. Понял, бычок?
— Понял, — с трудом проглотив воздух, выдохнул Марат.
— Стань в стойку. Научу гвоздить…
— В смысле, бить? — Марат удивился: что-что, а это он умел.
— Точно, лупить… Удар — не только распрямление локтя, много чего другого… Перво-наперво — держать корпус. Делай, как я…
Медвежье тело приобрело лёгкость.
— Ноги на ширине плеч. Правая нога впереди… Ты левша. Преимуществам научу после… Удар — штопором, правая рука… не толкать — бьёшь… колодочкой кулака. Повторяй, повторяй… что смотришь? Давай! Поворот, корпусом, плечом, кулак в цель. Н-н-на! — тренер щёлкнул Марата по носу, — не зевай, ударил — сразу в стойку, прочь с линии атаки. Именно! Правая — приманка, левая… бей! Вот так, смотри…
Арсен Ашотович встал в левостороннюю стойку. Он был из самобытных бойцов, одинаково владеющих обеими руками. «Двурукий» противник никому не удобен. Габриелян менял стойки свободно, как умелый фехтовальщик сторону в защите и нападении. Если противником левша, он в левосторонней стойке, с ходу разоружая противника. Затем, поработав раунд, резко менял на правостороннюю, дезориентируя снова.
— Левая нога — поворот, пяточка наружу, рука в расслабе, плечо — вниз, — Марат в точности повторял движения тренера, — и концентрированный удар! Кулак штопором в цель! Нокаут!
Марат на полу, но в доли секунды на ногах, почёсывая ушибленный лоб.
— Защита… Упаси забывать о защите… После удара правая рука — назад к голове… Сразу… Пусть нет угрозы… Это — инстинкт… Повтори удар. Ещё… Заново…
Когда рука Марата уподобилась выстрелившей пружине, учитель дал передышку. Отошли к стене.
— Боксёр в долю секунды перемещает корпус, вся мощь тела через руку проецируется в точку. Удар не должен елозить, он должен попасть точно в выбранную мишень. Слушай внимательно и запоминай, как число орденов, полученных комсомолом, — загадочный тон никак не вязался с волосатым обликом, каждый раз выбивая Апостола из сонной одури.
Порой, что с Маратом никогда не случалось вне спортзала, он тушевался перед тренером, исподволь возвращаясь во времена, когда стиравшая бельё мать казалась единственным авторитетом.
— Место, куда собираешься бить, нельзя выбирать глазами… Мыслью! По глазам соперник определит… Но мысли — кишка тонка!
И снова бой с тенью.
И снова на скорость реакции.
— Противник не даст подготовить защиту, — протянул Арсен Ашотович руку сбитому с ног боксёру, помогая подняться с пола, — сегодня научимся работать с «чуткими» предметами, вначале с грушей на пружине, затем подвешенной бумажной мишени.
Марат занялся грушей, ещё не зная, что здесь быстрота движений не самоцель. Габриэлян уподобился дерзкому бесу. Он возникал непредсказуемо — откуда, с чем и почему, но при этом чувствительно бил. Бешеная груша колотилась в своём танце. Апостол не успевал отбить то грушу, то руку тренера. Габриэлян усмехался. Удар может свалиться как угодно, надо быть начеку. Теперь главное: можно стать одновременно мощным, ловким и быстрым, но это не спасёт, если голова, тело, руги и ноги действуют раздельно. На бочку экспресс-сценарий! В нём и спасение и победа!
В который раз бой с тенью. Специально на гибкость.
— Всё, что ты выделывал на уроках физкультуры, или в армии, или на улице в драке — забудь! Всё в прошлом! Когда последний раз поднимал ногу выше пояса?
— Балет, что ли? — вопросом на вопрос возмущался Марат.
— Не спорь… Пацан… В единоборстве основное — ноги! Растяжки — конёк не только каратистов, боксёров — тоже. В быту задирать ноги выше крыши — блажь. На ринге — подспорье равновесию, даже гравитации…
Изо дня в день приходилось наращивать подвижность суставов, но тренер не желал останавливаться. Природа не терпит лишнего. Если не закреплять достигнутого, связки и мышцы, жалея себя, возвращаются к исходному, сжатому в гофр состоянию.
Войдя в подъезд с тусклым светильником, Марат наткнулся на «три звезды», пожилого полковника, уронившего на мундир задранную голову. На площадке над лестничным маршем, подоткнув подол халатика, мыла ступеньки Галима. Апостол едко кашлянул. Полковник обернулся, но вместо того, чтобы ретироваться, возбуждённо залепетал:
— Ну что? Какова? Покувыркался бы с ней? Лично я — разов с пять без передыху! Блин! Вызвали, спешу!
Вместо того, чтобы сыграть оскорблённого мужа, Марат посторонился, уступая проход к двери. Мужского разговора не получилось, одна никчёмная бутафория:
— Надо же, полковник, а ведь бабёнка чья-то жена, кто-то же её жарит… Или наоборот, опротивела так, что домой не хочется…
И, не дожидаясь ответа, пошёл вверх. На площадке хлопнув жену по ягодицам, устало побрёл дальше. От неожиданной ласки Галима охнула, засуетилась, оправила полы халатика и, наскоро выжав тряпку, заспешила домой. Уже на последней ступеньке, оглянулась, бросила понятливый взгляд на хлопнувшую в подъезде дверь и, подмигнув, двинулась за Маратом вслед.
С женой Апостол общался мало. Домой приходил поздно, валился без сил на промятый диван и, не поужинав, проваливался в спасительный, бедный сновидениями сон. Близняшки, как приблудные обезьянки, карабкались на неподвижного мужика. Ложились сверху, крепко цепляясь за одежду. Не дождавшись окрика, смелели, превращая отцовское тело в игровой пятачок, пока Галима не прогоняла спать — не добиться толку с одеревенелым.
Подробная схватка с тенью. Одна за вечер — на выносливость. Как-то тренер, не практиковавший публичной похвалы, во всеуслышанье назвал Апостола машиной для уличных драк и автоматом для профессионального бокса.
— Многие из вас замечательно научились повергать противника наземь с удара, — Апостол обратил внимание, как Колун покрывается бурой краской стыда, — Марат родился с этим умением, но большинству, чтобы не делать великодушных подарков противнику, нужно развивать в себе способность противостоять самому себе. Своему собственному утомлению. Усталости. Одышке…
И новые сшибки с тенью. И снова тяжёлая рука висла с дивана. Супружеская кровать холодная, чужая.
Или предсоревновательные сборы. Едва забрезжит рассвет — бег на дальние задворки зигзагами — левый поворот и глубокий правый, то на гору, то с горы, днём плавание в бассейне на дальность, на скорость, вечером бесконечный спарринг. Баста, предел! Апостол, измотанный, неживой, тащит зубами шнуровку перчаток… Нет, рано, тренер объявляет дополнительный раунд. Всё! То-то, не всё, теперь Габриэлян, страшный, как шатун, бежит по ночному городу, оставляя неясные пугающие следы. За ним шатунок помоложе, сжав зубы, выхаркивая слабость и страх.
Ночь на мгновение. Будто не было сна, тяжкий подъём, бег, бассейн, тренировка. Спарринг с «неудобным противником», утяжелённые перчатки, раунд за раундом. На бои с тенью приезжали знаменитости, пытаясь отыскать секрет. Разузнать лишь, как он работает с тенью, как её себе представляет. Апостол не представлял, он видел не свою тень, но мощного, быстрого и бесстрашного каннибала. Именно видел. Видел, и поэтому наносил удары со злой радостью, как в реальном поединке, но только по воздуху.
У Апостола получалось. Он мог всё. Надежда тренера, города, республики и всей необъятной родины. Ему позволялось во время тренировки, когда пот и кровь орошали многострадальный ринг, путешествовать вдоль стен, вчитываясь в красный трафарет на ватмане, в цепочку, набившую оскому: «Целеустремлённость», «Дисциплина», «Инициативность», «Самостоятельность», «Смелость», «Настойчивость», «Решительность», «Самообладание».
…Орцаев проиграл оба раунда. В третьем, вконец отчаявшись, чеченец решил вызвать Апостола на обмен ударами, а там — будь, что будет. Погорячился джигит, ошибка. Марат импровизировал, бил вполсилы, легко отводил удары. Великолепный красавец с телом Аполлона. Казалось, он хотел, чтобы бой запомнился зрителям надолго. Марат не снизошел до нокаута, великодушно дождавшись, когда обессиленный Эдем, посрамлённый сын гор, сам ляжет к его ногам, лизнёт на полу пыль.
Решением судей победу единогласно присудили Марату Муравьёву-Апостолу. Арсен Ашотович подсел под победителя, поднял на плечах, донёс до раздевалки под восторженные крики публики. И было непонятно, кто из них больше рад победе. Растроганный Габриелян в последний раз расцеловал ученика, собираясь уходить, чтобы позволить ему принять душ, когда Марат остановил его:
— Погоди, Ашотович…
Тренер остановился, влюблённо оглядывая ученика. Таким взглядом он не одаривал внука, недавно окончившего десятилетку с золотой медалью. Такого взгляда так и не дождалась жена Наира, ни сегодня, ни тогда, в период ухаживания.
Апостол смутился лишь на миг, отвёл глаза, но произнёс твёрдо:
— Арсен Ашотович, я ухожу из бокса, — затем глянул в светлые глаза учителя, до которого ещё не успел дойти бесценный смысл слов и, словно добивая, добавил, — не моё…
Они сидели в раздевалке. Пожилой мастер, маститый тренер, огромный, волосатый, как снежный человек с ранимым нежным сердцем и ученик, дотянувшийся до роскошного хвоста синей птицы, но добровольно избавившийся от него.
— Нет, Марат. Ещё раз нет. Как же… Я обязан понять, знать причину… Скажи… Не скажешь, ей-Богу, не смогу больше тренировать. Уйду на покой, уйду в Эчмиадзинский монастырь, приму сан и стану пасти барашков. Ты сможешь взять на душу такой грех?
Апостол понимал, что учитель прибит событием, будто нокаутирован, но сказать в самом деле нечего. Он сам не понимал подлинно, отчего надо бросить, отчего именно сегодня, отчего после блистательной победы.
— Семья голодает, — неуверенно объяснил, Марат, но тренер вздрогнул, словно крикнули в самое ухо, — драться надоело, — попробовал Марат добавить аргументацию, понимая, что прежней мало.
Спортом талантливому спортсмену можно кормиться покруче интеллигента с двухсотрублёвым потолком, и даже круче торгаша с ненормированным доходом.
— Драться? — опустился на кушетку Арсен Ашотович. — Разве я учил тебя драке? Разве бокс — подзаборная потасовка? Очнись, Марат Игоревич, — тренер впервые назвал ученика по отчеству, словно ставя вровень с собой, хотя от этого болезненного «Игоревич» у Апостола стало отвратительно на сердце, — жизнь не любит людей неприспособленных. Она послушна красивым, сильным и волевым. Всё это даёт наше дело, бокс. Не спорю, противоборство — суровая игра. Победит, кто поймёт… Всё, что ты делаешь мастерски, вознося бокс на заоблачный уровень, туда, где творили Енгибарян, Абрамов и даже Мохаммед Али. Туда, где говорят об эстетике боя, а не о энтузиазме.
— Эстетика? — возразил Марат, остро желая хоть как-нибудь завершить разговор. — Кажется, это из гимнастики…
— Прислушайся, что говорят мастера, или о них. «Он действовал в элегантной манере». Элегантной! Разве не похвала боксёру экстра-класса! Бокс, сынок… Пойми… Мастер обладает не только спартанской мощью, но не менее совершенным интеллектом. Разве не престижно? Дураку в боксе не место. Мысль впереди перчатки!
Они проговорили ещё долго. Люди входили и выходили, принимали душ, переодеваясь, бросали взгляды на застрявших в раздевалке, не смея мешать, и потихоньку исчезали.
— Знаете, Арсен Ашотович, с детства не могу избавиться от одиночества. Как в душный полдень глотаешь холодного квасу, стакан за стаканом, и не в силах напиться. Пустоту не смогли заполнить ни мать, ни друзья. На какое-то время, короткое, увлёкся профессией, поездами. Скорость и мощь… Затем жена, Галима, я вас даже не успел познакомить. Простите… Как-то не посчитал нужным… Она калмычка, смешнючая такая. Мои доченьки. Компании, драки, бокс, вот… Простите. И снова ощущение пустоты. Порой нестерпимо, Арсен Ашотович. Поверьте! Я должен заполнить его чем-то, иначе… Я не знаю, пустота может лопнуть… Лопнуть пустота… Когда она лопается? Как?
— Я не знаю, Марат. Думаю, что понял тебя. Не стану мучить и уговаривать, но знай, что для тебя двери всегда открыты. Всегда! «Конечно, если меня там застанешь» — подумал старый армянин, но вслух ничего не добавил.
И снова бой с тенью, с ночным демоном, будто сохранившим за собой право ответного удара. Чтобы победить в себе демона, достаточно ли зеркала в полный рост и места для задуманного манёвра?
Глава 9. Тюрьма. Истина
Два дня никто не беспокоил, и он честно посвятил их чтению книги Бытия, но давешние подсказки батюшки лишь запутали. Апостол злился, несколько раз книга, как пушечный снаряд, носилась между стен камеры. Когда она в очередной раз надоела, бродяга сдался.
На третий явился отец Серафим и немедля взял быка за рога:
— Не оправдывайтесь, Марат Игоревич, без того вижу, что интерпретированию текста вас в школе учили плохо, — и тут же махнул рукой на недовольную мину Апостола, — постой, Марат Игоревич, не серчай, у меня такая манера лукавствовать. В прошлую встречу мы, вроде, договорились, что Адам, первый человек, создан по образу и подобию Божьему. Верно?
— Верно, святой отец, — не стал усугублять Марат.
— А Бог, стало быть, всемогущ и совершенен?
— Кто бы спорил, я не стану.
— Значит, Адам тоже всемогущ и совершенен?
— Логично, в тютельку.
— И тогда как, по-вашему, выглядит Бог?!
Замыслившись над каверзой, Апостол прикусил губу. Отёр, подбородок припачкался кровью. На этот раз вовсе не из-за боя. Священник, казалось, не замечал произведённого впечатления. Каким законченным атеистом ни был Апостол, тысячелетняя память православия на Руси гнездилась на генном уровне. Изгнать её оттуда за семьдесят лет безбожия известным апологетам коммунизма оказалось не по силам.
— Адам, — продолжал отец Серафим, — точная копия Бога, Его фотография, если хотите. Да что там Адам, весь наш мир построен на разделении по мужскому и женскому началу. Конечно, нельзя принимать всё буквально, понять Библию всю до конца не дано ни тебе, ни мне… Но с философской точки зрения мы, Марат Игоревич, обязаны предположить, что в Боге сочетаются и мужчина и женщина. Он совершенен. Мужчина и женщина — две половинки одного целого, лишь слившись в целое они окончательны, совершенны. Но совершенство есть Бог. Думаю, теперь тебе уж не понадобится моя помощь. Да и спешу. Ты сам придёшь к пониманию первородного греха.
— Стой! — арестант схватил отца Серафима за рукав, но тут же одёрнул руку. — Простите, батюшка, думаю, если вы задержитесь ещё на несколько минут, ничего страшного не произойдёт.
Как не убояться истины, сокрытой Библейской сутью. Прозорливо зашифрованной мудростью. Она не может и не должна открыться с лёту. Лишь обильно пролив пот, слёзы и кровь, коснёшься ближайших её плодов, а к тем, что повыше — карабкаться долго и терпеливо. Неверное движение и — наземь, начинать всё сначала.
— Хорошо, сынок, — согласился священник, понятливо глядя в лицо Марата.
И на этот раз Апостол пропустил фамильярность: не хотелось, чтобы отец Серафим ушёл. Вряд ли возраст батюшки выше, но как заметно его право на «старшинство».
— Разгадка рядом, но тебе придётся потрудиться ещё, — снова перешёл на «ты» отец Серафим, — прочти, человече, вслух восемнадцатый стих второй главы.
— Надеюсь, — согласился Апостол. И отчётливо, как кандидат в члены партии на собрании, процитировал:
— «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему».
— Что скажете, Марат Игоревич?
— Известное дело — плохо, у меня тоже жена. Была…
— Ой ли… Так в точности и сказано — жена? Вы уже несколько недель пытаетесь прочесть пару страниц, но почему-то читаете по-своему, не по-писаному. Ничего и не постигли.
— Как, ничего? — возмутился Апостол, — то есть, как ничего? Бог сказал «не хорошо», и создал Адаму жену — разве нет?
— Ах, вот в чём дело, — притворно удивился отец Серафим, — ну ладно, читайте снова по порядку и вслух.
— А как же. Обязательно прочту. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привёл их к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их…».
Апостол осёкся, подняв изумлённо взгляд на священника. Тот пощипывал бородёнку, но глаза его пылали огнём.
— Восемнадцатый стих второй главы, Марат Игоревич, опровергает всё, что написано в книге Бытия до сих пор. Во-первых, как мы уже договорились, в теле Адама заключены мужская и женская сущности. Тогда как получилось, что он одинок? И потом, что за помощник, долженствующий соответствовать? Как вы только что прочли, это не Ева. И ещё, если в первой части книги Бытия всё было «хорошо», почему сейчас Он говорит «не хорошо». Как мог Бог, — священник вскочил и принялся мерить ногами крохотную камеру, пять шагов до граффити, желающего смерти тёще Марье Ивановне, столько же обратно, к двери, — всемогущая сущность и, по определению, не способная на ошибку, создать нечто «нехорошее»?
— Возможно, то, что плохо, не Адам, а что-то иное?
— Браво! Вы прозорливы, Марат Игоревич! Осталось определить, что есть «не хорошо» и кто должен стать помощником первому человеку. Извините, но мне бесповоротно пора. Я не могу злоупотреблять доверием полковника, и людей, меня отрекомендовавших. Ваш положенец, как мне показалось, тоже не совсем рад моей миссионерской деятельности.
«Если бы ты знал, как на самом деле обстоят дела» — подумал Апостол, но вслух не произнёс ни слова. Лёг на нары, закинув руки за голову. Более задерживать священника он не собирался. Мозги потихоньку закипали, если сейчас не заснуть, то им, как минимум, грозит короткое замыкание.
Заснуть не удалось. Когда, через несколько минут после ухода отца Серафима послышался за дверью перезвон большой связки ключей, Марат готов был молиться, чтобы не появился Хан. Не то, чтобы не хотел видеть положенца, нет, тяжестью навалилась усталость.
Положенец на сей раз явился с чифирём в большой жестяной кружке, авоськой с апельсинами и декоративным лобзиком по металлу.
— Планируешь побег, Хан? — не удержался от вопроса Апостол.
— Умные люди говорят: чтобы получить правильный ответ, следует задать правильный вопрос. Лично я, лет этак с тридцать назад, увидев в руках Монгола пилку, спросил, чья провина, кто ссучился.
Сонливость Апостола как ветром сдуло.
— Но, при чём здесь…
— При том, что таким лобзиком пилят бошки титулованным сукам.
Апостол напрягся, инстинктивно опуская руку к подошве правого ботинка:
— Но это же беспредел?!
— Верно! Хороший мальчик! Прими из авоськи апельсинчик.
Марат легко поймал подброшенный фрукт.
— Эх ты, патриот воровской идеи, разве спрашивают положенца, собирается ли он бежать? А кто за порядком смотреть станет? Кто настачит братве бесперебойно питание, вещевое снабжение, медицинский уход? Хозяин с кумом? Хрен там, они себя с трудом прокормят. А кто босяков от беспредела защитит? От отмороженных охоронит? Их в последнее время развелось немерено. У них единственная любовь — заточка. Вот так, братан: все бежать с зоны могут, все, а мне — нельзя. По чину не положено.
Некоторое время они молча пили чифирь, думая каждый своё. Молчание нарушил Хан:
— Церквушку при зоне ставят. Прикинь?! Совсем задерьмократились. Развалят страну, Апостол, попомни моё слово. Чуйка имеется на то плохая. Знаешь, что для человека самое страшное?
— Промежность с зубами.
— Нет, братан, страшно для человека жить во время больших перемен. Знаешь, чью клюкву со всем содержимым ставят?
— Православную?
— Угадал. Твой патлатый постарался. Наши стукачи, как всегда, не телятся… Да и власть рада, знает, чем приманить человечков, чем сыграть на их страхах. Пойми, Апостол, хочу, чтобы ты заценил правильно. Ты тот кременёк… нет — алмаз, что я искал всю жизнь. Станешь ли бриллиантом, от меня тоже зависит. Я не призываю ломать систему — бесполезно. Желаю изменить твоё сознание. Если хочешь, а ты хочешь, изменить мир, измени его сначала в себе. Хочешь помочь другим, помоги себе. Ты настоящий, за тобой пойдут. Если злишься, то все вокруг верят: злишься, радуешься — всем радостно. Учти при этом, многим нашим ворам приходится брать уроки у актёришек. Что молчишь, братан?
— Выпить хочется.
— Выпить, — старый вор посмаковал слово, — выпить… Как мыслишь, чего среди воров нет ни пьяниц, ни торчков?
— Если употребляет, по закону, не может стать вором.
— Верно, но почему?
— Контроль есть.
— Точно. Молодцом. Кстати, почему у мусульман запрещено спиртное? Когда только зарождалась религия, проблема с выпивкой не стояла. Позже муллы обратили внимание, что выпившие правоверные во время молитв думают не об Аллахе, а о соседской жёнке… Апостол, мне не нравится твой взгляд. Тебе со мной скучно?
— С чего ты взял?!
— Потому что охмурил тебя патлатый, вижу, охмурил. Беда! Православный, говоришь, попик… Везде заборы и церкви на виду прилюдно. И колокольный звон. А на безлюдьи, в глуши, королевские замки, подворья, роскошь… Дескать, мы русский народ, мы не такие, как все. К нам не подходи. Русские… Они — русские. Врут, мерины. Ищи, где хочешь, лишь воры — настоящие, нет у нас ни границ, ни национальностей, ни богатств. И нищеты тоже нет…
Марат остался один, хотя об одиночестве мог только мечтать. Вертухай Егорыч, вконец ошалевший от попеременных визитов не похожих друг на друга людей, заглянув в глазок, едва не свихнулся. Действия арестанта казались лишёнными смысла. Будь охранник древним шаманом, непременно узнал в его движениях ритуальный танец охотника перед охотой. Лишь присмотревшись, можно было понять, на кого охотился Апостол. Но Егорыч не был шаманом, и не смог признать в воображаемых противниках ни одного из известных ему животных.
Апостол останавливался время от времени, хватал книгу, некоторое время шевелил губами, затем в отчаянии швырял обратно на шконку. Бросался в бой.
Не стоило забывать о безопасном расстоянии между собой и тенью. Сперва движения казались лёгкими и быстрыми, но со временем стали несносно тяжелы. В бою с демоном, где противником выступает собственное сознание, победа невозможна, но и проигрыш смерти подобен. Можно лишь удар за ударом оттачивать свои навыки, стремясь постичь совершенство. Чтобы не проиграть.
Глава 10. Ступени. Фартовые странствия
Ночной город чурался бывшего боксёра, победившего собственную тень. Он шёл, и она подобострастно брела за ним, а обманчивые очертания, монстры, устрашающие малодушных до восхода солнца, разбегались от них и вжимались в стены домов.
Апостол задержался у ларька с мороженым. Странно. В такое время открыты лишь булочные и рестораны. Торговка, привлекательная брюнетка, высунув язычок, подсчитывала выручку. Почувствовав взгляд, нахмурилась, но, разглядев статную фигуру и лицо, заулыбалась. Во рту её не хватало двух передних зубов. Верхних. Не возжелай Марат до одури сладкого, ушёл бы, не оглядываясь. Опустив в ладонь беззубой двадцать копеек, принял пломбир в вафельном стаканчике и тут же отвернулся. Едва не окаменел от восхищения.
В Советском Союзе встречались дорогие витрины. Наверное, мало кто задумывался над их содержанием. В основном, витрины повторяли то, что узаконено вывеской магазина, кичась непрезентабельной раскладкой товара. Образцы, судя по всему, выставлялись напоказ, чтобы доказать прохожему наличие товара. Случались исключения. Витрину центрального универмага, долго, как коммунальную квартиру, занимала гигантская движущаяся кукла, кот в костюме средневекового кавалера, в камзоле и ботфортах для заветного плезира. Кот примруживал сизо-голубые глаза в перекрестья Крещатика, дальше на «Бессарабку», на чинный вкруговую Бессарабский рынок. В бывалые времена. Сейчас, здесь, витрина открывала, как долину в межгорьи, таинственный мир. В плавной перспективе, всюду в стекле, сияло разнообразие драгоценных камней и металлов.
Апостол с трудом подавил желание забраться внутрь. Беззубой мороженщице захотелось общения, и она, наблюдая, в который раз сбившись со счёта, задышала почаще. Ночной Крещатик изобиловал огнями, но сейчас Марату казалось, что всё столичное электричество пошло на освещение сокровищницы. Внутреннее стекло задрапировано синим тюлем, изделия разложены в манящей цветовой гамме. Дизайнер нашёл счастливое, дотоле нетронутое в оформлении декораций, решение. Контраст появлялся не только в расположении, форме, цветности, но и по фактуре материалов. Группу изделий из серебра с эмалью волшебной россыпью окаймляли восхитительные, жонглирующие отсветами, топазы. На серебристых едва заметных нитях разнофокусно парили перламутровые створки раковин, в них, словно рождённые воздухом, покоились золотые и платиновые изящества, облагороженные бриллиантами.
Отдельный уголок занимали благородные курительные принадлежности — трубки, пепельницы, портсигары, сигаретницы, спичечницы, одушевляя восточную сказку на фоне густо-тёмного бархата в причудливой вышивке. Восторг взывал к шестому чувству, рождая в душе вместе упоение и бурю.
Марат понял замысел декоратора, подчинившего ювелирные прелести временам года. Золото и бриллианты — лету. Серебро, платину, и редчайший палладий — зиме. Нежнейшей розовости кораллы камеи, хранящий тепло жемчуг, светлый изумруд и загадочный янтарь — весне. Вобравший первозданную синь небес аквамарин, сияющий морозной матовостью изумруд, мерцающий угрозой тигровый глаз, пламенный жёлто-зелёный жадеит — осени.
В этом великолепии Марата, как ни странно, заворожил серебряный азиатский кумган с носиком, ручкой и крышкой — кувшинчик для умывания, покрытый вязью позолоты и мелким черневым узором. Придётся завтра же вернуться и купить это чудо подружке Галиме.
Вовсе не вдруг кумган привлёк внимание Апостола. Жена, «варварски» вырванная из родимых мест, а затем брошенная в нутро чужого мегаполиса, не очень-то согретая обожанием мужа, нуждалась в крохотной компенсации, способной навеять умиротворение.
Кумган стоял отдельно, вне композиции, словно заявляя о своей уникальности. Марата внезапно бросило в жар от предчувствия недоброго. Он растерянно обернулся к мороженщице, ища поддержки в чём-то постороннем, способном смягчить боль. Но нет, он один, о беззубой улыбке девушки напоминали лишь груды палочек от мороженого, напоминающих раскрошенные скелеты животных.
Марат резко обернулся, в страхе потерять обретённую радость, но витрина охотно сверкала на прежнем месте. Он наклонился, всмотрелся в кумган. Внимание привлёк изящный шрам, крохотный лотос, будто вдавленный в стенку сосуда. Нет, завтра обязательно нужно сюда вернуться. А если сейчас? Ведь мороженщица, как нарочно, оставила пост, свидетелей нет.
Апостол двинулся прочь. Он не знал, как долго шёл, очнулся ли, когда его стали обтекать ручейки мелкокостной лимиты, спрыснутой резким одеколоном. Отработав днём, отоспавшись вечером, ночью они желали вкусить городских щедрот. В иное время Марат непременно поучил бы пару-тройку борзовитых, как и кому кланяться, но сейчас жутко хотелось домой.
Апостолу вообще редко снилось. Его интенсивному на ночь уму не оставалось тем для анализа. Случайный и стремительный утренний сон без картинок, заполненный стержневым голосом, оказался необычным. Проснувшись, Марат мог повторить наизусть: «Я вновь стал султаном. Верните идолов, верьте мне. Взойдите на жало терзаний, и ждите, пока не поверите, что я здесь. Оставьте детей без хлеба. Покиньте жён, идите за мной. Возблагодарите того, кого следует благодарить. Потому что Он послал меня писать историю. Глаза мои в оранжевой поволоке, волосы жёлты, тело покрыто рыжиной. Молитесь, чтобы Всевышний хранил глаза, волосы и тело».
Марат прокручивал запись в голове раз за разом, пока не понял смысла утренней кемари. Золото! Вот так штука. Более не заморачиваясь, он наскоро оделся и выбежал из дому. На удивление сразу поймал «мотор»… Выскочил напротив, пробежал последние метры тротуара. На месте чудесной витрины пугала восхитительная пустота, безликий «Винно-водочный» магазин. Киоска с мороженщицей тоже не существовало. Нелепо — ошибся адресом, обознался местом.
Ранее Марат был равнодушен к деньгам, золоту и драгоценностям. Любовь к Галиме, кроме ночных забав, подарившая дочерей, заключалась в тончайшем, весом в грамм, обручальном кольце откупной пробы. Но для калмычки, наследницы степей, дефицит украшений стал преткновением в отношениях с мужем. Даже его измены, прокоментированные бдительными соседками, не угнетали так, как появление на люди в неприглядном виде. «Нелюбимая» для Галимы предполагало укоризну: не дарит дорогих вещей — значит, не любит.
— То есть, если я накуплю побрякушек, ты станешь счастливей? — дивясь женской глупости, вопрошал Марат, с желанием оглаживая бедро жены под одеялом.
— Конечно, нет, ведь то, что происходит между нами дома, наше дело. Но если я покажусь в «таком» виде, все поймут, как ко мне относится муж, — обмирая, отвечала Галима, страшась переступить грань между сочувствием и недовольством Марата.
В темноте раскосое личико пылало стыдом, тело добивалось ласки. Бёдра жались к бёдрам, но Апостол не сдавался:
— Ну-ка, погоди, а если человек бедный… Как мы… Что ли… А? Ну, временные финансовые трудности? Он что, воровать должен, чтобы утешить жену?
— Чтобы удовлетворить женщину, — не удержалась Галима, резко села на кровати и, не мигая, заглянула мужу в душу, — мужчина должен сделать всё от него зависящее.
Разговор случился до рождения детей, когда Галима прилетела на побывку к Марату в армию, ему, поощряя за службу, дали три дня отпуска. К подобным разговорам она не возвращалась, но Апостол знал, что тема не забыта. Бижутерию, даже самую дорогую, калмычка не признавала — без сомнения, в пользу натуральной роскоши.
Вечером Марат сообщил жене о разводе с боксом. Галима просияла, бросилась на шею, затем на кухню за доказательствами праздника. Мелко настружив последний кусочек перемёрзшего сала, сбросила на сковороду, залив четырьмя яйцами. Для затейливости накрошила квёлую, когда-то припасённую в холодильнике зелень. Осмотрела результат и запела на родном языке от восторга:
— Иссиня-чёрный конь легко обуздан мной.
Как ласточка, к тебе я прилечу домой.
Уж с гривой золотой, пахучей, как эрвенг,
Стоит осёдлан конь, готов покинуть плен.
Ах, иноходец мой, лети за край села!
Я на твоей спине наездницей росла.
К родному очагу неси, мой вороной, —
Я к маме прилечу, как бабочка весной.
Объятий, чем её, на свете нет милей!
Я стала так скучать по маме по своей…
Улыбаясь, Марат побрёл в ванную. Хорошо, дом. Мимоходом потрепал девчонок по головам, с удивлением заметив, как близко они похожи на мать. Его крови в них не сыскать. Близняшки, занятые свадьбой двух пожилых кукол, на отца не обратили внимания. Он повернулся к жене, спросил:
— О чём пела?
Она перевела.
Звонок разразился, когда Апостол зацепил вилкой первый кусок яичницы. Незлобно ругнувшись, глазами указал жене. Та метнулась открывать. Вскоре на кухне появился сияющий, словно полная луна, Колун.
— Что блестишь, как дембельская пряжка? Доволен, вернул себе место на ринге? Ашотович успел обрадовать?
Колун не обиделся. Умел спускать на тормозах. По-хозяйски уселся на свободный стульчак, ухватил Галимину вилку и атаковал сковородку.
— Позавтракать не успел, — с набитым ртом принялся оправдываться Колун, налегая на яичницу.
Апостол на разговор не повёлся, но видя, как быстро исчезает угощение, присоединился к приятелю. Галима по-своему грустила у плиты. Когда с пищей было покончено, подала горячий чай. Колун приступил издалека:
— Фонарь про тебя интересуется, когда к нему подашься. Но не советую.
— Это почему? — поинтересовался Апостол искренне.
— Оставь, корешок, — наклонился к нему Колун, — я ведь к тебе со своим делом заглянул. Помнишь, ты рассказывал, что служил в стройбате?
— В хозроте, — лениво подровнял Марат.
— Да, и что теперь?
— Как — что?
— Ты хвалился, взрывать приходилось.
— Говорил. Бывало.
— Сапёр, значит?
— Сапёр, когда не допёр — шваркнуло так, что каблуков не осталось. Сказал тебе — хозрота. Инженерные работы, порой взрывать приходилось. А ты что, на войну, партизанить собрался, или в террористы?
— Ни то, ни другое, но взрывать нужно, — загадочно проговорил Николай, обводя взглядом жалкое убранство кухни, — думал я, что живёшь ты иначе.
— Как?
— Побогаче, что ли. Извини…
— Пустое. Интересно, почему так думал.
— Не знаю, выглядишь круче. Ладно, брось, я по делу. Перетереть надо.
— Так мы вроде одни…
— Наедине, — уточнил Колун, отводя взгляд от Галимы.
Марат коротким движением отправил жену за дверь. Николай прижал руку Апостола к столу и жарко зашептал в ухо:
— Золото… Много… Большое бабло поднимем, до гроба можно не работать.
Марат отстранился, потёр ухо полотенцем.
— Дядя мой, Виктор Павлович, — продолжил Колун уж с расстояния, — седьмой год в Иркутской области по слюде «старается». Он там, а жена его, тётка моя Татьяна, в Киеве третий «кооператив» покупает, дачный участок на двенадцать соток, да «Волга» за пятнадцать штук в собственном гараже отдыхает. Бывал я у них!
И Колун многозначительно закатил глаза.
— Эй! — Марат пощёлкал пальцами перед глазами друга, выводя из экстаза. — Кончай балабонить, говори толком. И по порядку.
Николай отхлебнул чаю, выдохнул, как от водки, и заговорил конкретней:
— Бригада старателей у дядьки моего в Иркутской области. Вольные они. Ищут слюду на поверхности, как находят, получают добро на работу. Работёнка, конечно, не сахар, кайло да кирка, но если слюды много, рудник разрешают взрывать, месяц-другой не вмешиваются. Потом старателей вытесняют, разработку передают в рудник… Сечёшь?
— Ни фига не понимаю.
— Ну что здесь неясного, — забрюзжал Колун, — старатели выполняют бесплатный поиск, а такие места надо уметь отыскать. Рудник, то есть государство, вольникам за работу позволяет поварзекаться в руде. Платят же им только за сданную слюду…
— А я тут с какого боку?
— Вот! В бригаде три бойца, один, главный, дядёк мой, занорыши искать мастак, второй взрывник, третий камень долбит. Последние полгода путного ничего не находили, естественно, денежка тю-тю, на излёте. Взрывник сам свалил, а Стёпку Виктор Павлович за пьянство отправил. Теперь понял?
— Конкретно от меня чего надо?
— Тормозишь, тормозишь, Апостол, дядька новую бригаду сколачивает! Айда на Север!
— Это с какого мне прибабаха яйца морозить, если они там полгода без работы?
— Балда, ты же взрывник, а без взрывника не бригада.
— Нет у меня желания на север, кабы на юг, в Одессу…
— Эх, Маратка, думал я, ты помозговитее, и на подъём лёгок. Думаешь, Виктор Павлович со слюды жирует? Какой смысл горбатиться, слюду рудник за копейки берёт. Основное занятие — золотишко! Только это никто не афиширует. Теперь понял, золотце моё?
Апостол понял и согласился, дальше не раздумывая. В руку давешний сон и, к слову, женин бзик на побрякушки. Глаза Марата блеснули нехорошей поспешностью:
— Галка!
Жена появилась сразу, словно караулила за дверью.
— Подслушала?
Галима, промолчав, опустила голову.
— Смотри, еду на заработки. Годик проведу на приисках. Деньги на жизнь буду слать ежемесячно. Орёл не решка!
И убыл. Канула в Лету боксёрская лихорадка, началась новая — золотая.
Давно обустроился стереотип: помня о себе, не обижай государство. Законность доставала в хвост и гриву, и, в конце концов, свела на нет покорное терпение масс. Инфицирование произошло в очередях восьмидесятых. Далее процесс скользнул по наклонной. Возможно, больного спасла бы ампутация гангренозных органов — коммунистической партии, КГБ, комсомола и отдельных нахлебных сателлитов. Но кто мог проверить!
Ночь перед отлётом Марат полагал провести вне дома, оттянувшись на элитной дискотеке, куда билеты добыл благодаря своей известности в райкоме комсомола. Райком, как всегда, поднадул. В первом отделении отмучили культурную программу — «лекцию на тему» и выступление мощного хора «запорожских казаков». Полный чернявый солист в шароварах и вышиванке со шнурочками неприлично картавил.
Чтобы народ не разбежался, сопровождаемый откровением «Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю…», разрешили по сто грамм «Сълнчев бряг». И баста. Первую и, то бишь, последнюю дозу с наслаждением натурализовали. Аппетит разгорелся на ещё, но не дали. Тем не менее лица просветлели.
На танцевальный майданчик маршировали в праздничном настроении. Возвращались растрёпанные, запыхавшись, кто с кем и как. Апостол в мужском туалете совокуплялся с известной заводской недотрогой, Колун охранял вход от желающей облегчиться молодёжи. Следующей ночью в тесной «однушке», в одиночестве, обрамлённом золотым колечком, плакала в подушку Галима, покинутая Апостолом на год.
Золото, золото, золото! У него не просто жёлтый цвет, а собственная необузданная желтизна. Золотистость золота ни с чем не сравнима. Положишь рядом медь — окажется тёмной, бронзе не хватит запала, латунь неправдиво ярка. Окислению поддаётся любой металл, лишь золото ему неподвластно. Самородки встречаются в породе в виде крупиц металла, от чуть заметных пылинок до пузанов весом в десятки килограмм. На деле найти «видимое золото» — редчайшее счастье. Случается, старатель за годы на месторождении ни разу не увидит золотника. Нужен фарт, и животная, сродни инстинкту, чуйка. Крупных самородков в природе сосчитать нетрудно. Они такая диковина, что каждый получает своё имя. Основная добыча, разумеется, не в самородках. Два типа месторождений знает разработка — рудные и рассыпные. Первые сложились при формировании земной коры, и обычно теряются в горных районах. Вторые приблизились к поверхности благодаря ветрам, воде, и прочим силам, терзающим золотоносный рудняк. Такие чаще становятся находкой вдоль существующих или исчезнувших рек. Россыпи залегают неглубоко, порой снаружи. Рассыпное золото достаётся наружной выемкой породы на приисках. Добыча в руднике — шахтное золото.
В связанные с предстоящим делом премудрости Колун посвятил Апостола в салоне самолёта. Вылетать в Иркутск пришлось из Одессы — у Марата всплыло несколько неотложных дел, связанных с оформлением документов.
Бригадир без бригады, дядя Колуна Мамонтов Виктор Павлович, не потрудился встретить племянника в аэропорту. Приятелям пришлось добираться до места несколько дней, поэтому в пути Апостол много узнал о золоте и способах его добычи. Мамонтов, здоровенный бородатый мужичище из касты мутировавших на сибирском воздухе геологов, свойски охлопал племяшу плечи, затем, натешившись, обратил взор на Марата. Повеяло холодом. Таким людям тесно в городах. Лишь на диком просторе находят себе место. В городе либо подминают под себя остальных хищников, либо поедают себя изнутри.
Дом, под стать хозяину, из сибирского кедра, честный, долговечный и чистый. Триста квадратов под господский комфорт: просторная гостиная, четыре спальни, каждая с три Киевских квартирки Марата, и удобная частота подсобок. За домом гараж, площадью на несколько моторов. Если прикинуть, в доме легко расположится бригада человек на десять, все с личным транспортом. Вокруг участок, сотки на две, обнесённый умеренно густым частоколом.
— Водку потребляешь? — засипел басом Мамонтов.
— Выпью, если нальёте, — согласился Марат.
— На приисках, дорогуша, не выкают. Это у вас там, в городских катакомбах, набрались: «Битте шон», «Данке шон», «Ауфвидерзеен». Здесь не по слову о человеке судят, а по мозолям.
— Дядь Вить, мужика вовсе застращал, — вступился за Марата Николай.
— По нему не видать, что сильно испугался, — Мамонтов одобрительно причмокнул, — хмурый парень. Получится из него толк, я таких за версту чую. Мало их, и запах особенный.
Бригадир разлил водку по «гранёным» правильной вместимости.
— Ну, за преемственность старателей и фарт!
Выпили сообща.
— К слову, я, пацаны, потомок Саввы Мамонтова, — разнежился Виктор Павлович, прохрустев малосольным огурцом.
— Впрямь? — удивился Колун. — Батька мне ничего не рассказывал. Стал-быть, и я потомок?
— Сперва посмотрим, как ты кайлить сподобишься, тогда решим, потомок ты, или с боку припёка. Фамилию носить мало, надо дух предка усвоить. Нашему духу, юноша, не во всяком теле привольно. Гнильцо десятой дорогой обойдёт.
Апостол не удержался от смешливой улыбки, не укрывшейся от зоркого глаза старателя, зрячего крота, способного разглядеть в пасмурный день мутный проблеск золота в скальной породе.
— Скалишься, малый — забавно?
— Не то, Палыч, раз уж зашёл разговор о генеалогии, — Марат украдкой глянул на старателя, знает ли умное словцо. Мамонтов знал. — Раз уж зашёл такой разговор, то позвольте признать за собой дворянство. Перед вами Марат Игоревич Муравьёв-Апостол, потомок декабриста, повешенного на кронверке Петропавловского равелина.
— У-тю-тю! Вот так компания, — обрадовался бригадир, — дворянин, купец и племянник.
Колун обиженно вздёрнул голову, но оба его собеседника, не сговариваясь, покатились со смеху. Тому осталось лишь присоединиться.
— Ладно, братцы, — отсмеявшись, пригладил бороду Виктор Павлович, — ещё по маленькой за невинно убиенного самодержца, и в постелю. На золоте, знаете, титулы предков теряют блеск. Здесь только сам. И сразу видно, кто ты на деле. Профессор порой швыряет кайло, рыдая от бессилия, а неуч, постаравшись сезон, покидает Иркутский край богатым, как директор винно-водочного завода в городе Грозном. Предупреждаю: работа тяжёлая, если слюда не пойдёт, то старые разрезы, галечные отвалы, борта карьеров, заброшенные целики в шахтах — всё это может стать нашим хлебом. Пойдём в тайгу, будем мыть гальку на косах, пробивать шурфы…
— Придётся привыкнуть невзгодам, к лишениям, — по-книжному подхватил Николай, помнивший признания дядьки, — голодать, мёрзнуть, бояться обвала в шурфе…
Времени на раскачку бригадир не оставил. Заранее, пока ожидал кандидатов в бригаду, разведал выход слюдита в наскальи. Работу приголубили с утра, наскоро позавтракав блинами с мёдом. Их за годы жизни в мужской общине Виктор Павлович научился готовить виртуозно.
Марата разбудило фальшивое пение: «Блины, блины, блинята, забавные блинцы…» И заново. Начиналось шаманством, им и заканчивалось.
Апостол вертел в руках кайло — заострённый с двух концов стержень с рукоятью посередине, — поплевал на ладони, и принялся. Кайлил с огоньком, так, что у Колуна глаза открылись. Пёрла несчётная силища наружу. С каких недоимок ушёл такой бычара из большого бокса, оставалось загадкой.
Заладился дождь, но оставалось тепло. Ублажал грибной дух. Напрасное благолепие, работа старателя оказалась неблагодарной. Бесповоротно тупой — руби слюдит, ищи занорыш…
К полудню, когда вымотались изрядно, на тракторце подобрался бригадир. Осмотрел работу, разочарованно огорошил:
— Пусто поверху. Ладно, шабаш, будем слюду по-македонски бурить. А с паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок.
К вечеру набурили с тонну. Спустили вниз, к барже. Погрузились. И потекли дни, схожие между собой, как шишки на кедровом стланике.
— Не нудьтесь, хлопцы, — чувствуя разочарование, пытался поддержать братву бригадир, — мы и без рыжья, на одной слюде, поднимемся.
— И что почём? — равнодушно спросил Апостол, ранее ни разу не поднимавший вопроса о деньгах, словно приехал в Сибирь облагодетельствовать обнищавших старателей.
— Чудной ты человек, — задумчиво проговорил Марату Мамонтов, — если честно, я с первого дня ждал, когда спросишь. Племяш мой интересовался, а ты нет… Словно убежал сюда от кого-то или чего-то. Лучше, если сам расскажешь, надо знать, это может оказаться важным.
— Да нет, Виктор Павлович, проще не бывает… Дома скучно стало. Во мне словно бесовская пружина. Закручивается, закручивается, но доходит до упора. Крепче закрутить нельзя и удержать невозможно. Толкает вперёд. Как сопротивляться? Пробовал. Тик-так, тик-так — нет покоя. Пока не раскрутится. И опротивит в тот же миг. А там, оп-ля, подавай новое хобби.
— Вроде маятника? Не надоело туда и обратно? Когда-то придётся тормознуть.
— Надеюсь, Палыч… Авось, найдётся сила, способная удержать, — Марат помолчал с минуту, затем спросил с лукавством: — Не золото ли?
— Не щерься. Вполне может быть. Золото не просто драгоценный металл. В нём мистика, волшба, магия, и что-то от Божественного венца. Вот колечко твоё обручальное, думаешь, взяли меру золотишки, расплавили, проковали, завили — и всё? Ан нет. У золота особый шик. В мире всё исчезает, испаряется — нефть, железо, сталь, медь, даже серебро. Золото — нет. Оно не уходит ни в землю, ни в воду, ни в воздух. Не исключено, твоё обручалово — металл, добытый в древнем Египте. Успел побывать в слитке, в монете, броши, серьгах, портсигаре. С длинной историей, стоившей владельцам жизни.
Марат, памятуя уроки Габриэляна, работал, как некогда боксировал. Хотелось вживую увидеть природное нетронутое золото, чей невинный блеск затмит душевную боль. Скальные породы, словно устрашившись пришельца, соединившего в себе мощь Геркулеса и самоотверженность Прометея, откупались сочившейся наружу влагой. Апостол, вгрызаясь в камень, не испытывал сомнений. По ночам, несмотря на чумную усталость, читал. Бригадир накопил солидную библиотеку о золоте. Оно, как идол, притягивало к себе воздыхателей, не взирая на пол, возраст и чин, предрекая ужасы доли. В руки давалось не всем и не сразу.
«Труднее всех старателям», признавался Мамонтов и знал, что говорил: брюзгливое счастье старателя — найти крупинку весом чуть выше грамма. Апостол оставался себе на уме, не для такой безделицы в Сибирь подался. Докопавшись в книгах, что самородки за килограмм редкость, а больше десяти — музейная, не смутился. Для других пусть остаётся редкостью, но перед ним земля непременно разверзнется, как вагонная проводница, явив в закромах россыпи самородков.
Золотая лихорадка, как наркомания. Вкусивший её дурмана не в силах от него отказаться. И беспричинно, недосягаемо, манит его порочная суть. Спорт, искусство, любовь — ахинея для нищих в сравнении с бешеной удачей. Сильнее прочего Марата захватила история о золоте поверженных инков. Где-то в Перу, среди руин их священной столицы Куско, в храме Солнца огромный золотой диск с глазастыми самоцветами охранял божество. Инки считали золото священным воплощением солнца на Земле. К храму примыкал сад, наполненный отчеканенными из золота кустарниками, деревьями, цветами и птицами. Золотой сад символизировал животворящую мощь Солнца. Золото-золото-золото, глаза слипаются, и человек проваливается в животворящий сон.
Привиделось Марату, что глухонемые карлики расковывали женино колечко в тончайшую, насквозь прозрачную ткань, чтобы укрыть Галиму. «Вот видишь, солнце моё, — доказывал в дрёме Апостол, — зря говорила, что разлюбил. Гляди, сколько золота! Всё тебе!». Жена не отвечала, благородная пелена не пропускала звуков, ни снаружи, ни изнутри. Но жесты красноречивее — ещё, ещё, мало! Апостол облачился в саван, принял в руки кайло и вошёл в стальную клеть. Лифт проник на милю вниз. Там жаркий сырой мир, схваченный золотым канатом из тесно спаянных янтарных жил, мир зёрен благородной икры меж двух ломтей хлеба. Кайло врубилось в породу, застряло. Марат подёргал раз, другой, третий — и с досады очнулся. Осталось противное послевкусие.
На бесконечных просторах Сибири, Алтая, Дальнего Востока старалась не одна тысяча золотоискателей. Успех зависел не столько от опыта и знаний, сколько от каприза фортуны, от неуловимого фарта. Мамонтову, успевшему достичь регалий капитана и нагрудного значка «Отличнику Дальстроевцу», вручённого полномочным представителем КГБ, везло не всегда. Добра он нажил немало, поменял четырёх жён, но так и не смог справиться с золотой лихоманкой. С каждой новой золотоносной жилой, с каждым найденным самородком клялся себе и жене, что теперь-то вернётся на Большую Землю, на лоно культуры, в юдоль цивилизации, в семейную скорлупу. Но всякий раз зарекался преждевременно, впустую, и продолжал жить клятвоотступником. Золото непостижимым образом таяло, расходясь по карманам перекупщиков, спекулянтов и жадных на копейку госучётчиков. Внушительная часть оседала в воровском общаке, туда поспешную долю Мамонтов нёс прежде, чем взвешивал добычу.
Марат и Николай встретили тот день неблагородной работой. Виктор Павлович оставил молодых в посёлке, чтоб не путались под ногами. Дом, арендованный у местного пройдохи и шкурника, нуждался в ремонте. Озадачив племяшей списком работ, бригадир запустил старенький «Вихрь». С удовольствием послушал, как урчат тридцать лошадок, и уплыл по намеченному маршруту. То есть куда глаза глядят.
Порывы ветра заносили в лодку влажную пыль. Благолепие подтверждала чинная жизнь природы. Мамонтов хотел закурить, но за изломом реки углядел покатую скалу, как будто к воде припал напиться кабан-подранок. Опыт подсказывал: кварцевик со слюдой. Отчего раньше никто не усмотрел, ведь как на ладони! Бывает же!
Виктор Павлович, не спеша, почти как столбовой сибиряк, отыскал подходящее место причалить. Сошёл на берег, основательно привязал лодку к кривобокой берёзе-карлице. Опираясь на кайло, взобрался. Сердце предрешённо забилось, то ли от резкого перепада высоты, то ли от предчувствия, то ли из-за возраста, как-никак шестой десяток навис.
Так и есть! Точно, есть! По всем признакам — богатый узелок, на месторождение вытянет. Если будет по чести, им позволят поковыряться здесь с месячишко, того на века хватит. Потом нагрянет рудник. Слюды на скале тучи, но главное, явственно проглядывали занорыши. И какие! И сколько! В таком местечке сразу открываться государству безумие — участок отберут, глазом не моргнёшь. Теперь сначала. Трактор дадут, связи имеются, а вот взрывчатка… Взрывчатки, хоть в гроб жухни, нет… Разве что…
Бригадир повязал на берёзку огрызок ленты, перебрался в лодку. Вернулся за людьми, и бригада, добравшись к месту, вовсю замахала кайлом. Слюда оказалась близко к поверхности, обнажили её за пару часов.
— Всё, огольцы, попёрло, осталось забурить и ухнуть. Возвращаемся, — охоче потёр руки Мамонтов.
Остаток светлого дня Виктор Павлович уплотнил по делу. Выклянчил тракторец, договорился о барже. Вернулся на радостях усталый. Поужинав, не таясь Николая, отозвал Марата в сторону:
— Слушай сюда, боярин. Ждать с рудников инспектора-взрывника за то, чтобы поделиться рыжьём — глупо. Кусок обидный взалкает, молиться не ходи. Пока торговаться станем, место непременно переймут, у меня на такие дела чуйка. Разрешения на взрывные работы у нас нет. Разумеешь меня, декабрист Апостол?
Марат разумел, но не всё.
— Я отыскал занорыш, — медленно, как малому дитяти, втолковывал Мамонтов, — если там раздолбать всё на хрен, можно наткнуться на кучу рыжиков. Усекаешь?
Марат не к месту подумал, что приятель Колька вряд ли потомок купца Мамонтова, хотя изъясняться — весь в дядю. Апостол пожал плечами, играть в лотошное развлечение не собирался. Бригадир продолжал теребить душу:
— Придётся взрывать…
Апостол кончил махом:
— Какая проблема, я вроде для этого сюда приехал, хотя уже пару месяцев кайлом открещиваюсь.
— И тебя не смущает, — проигнорировал упрёк бригадир, — что у нас нет разрешения на взрывные, а чтоб его получить, надо опять же подкормить инспектора.
— Мне до ср…ки.
— Шустряк, однако, — удивился Виктор Павлович, — тогда собирайся.
Марат не стал спрашивать, куда, вернулся в дом, переоделся. Подозрительными взглядами Колуна пренебрёг, пусть родственники отношения между собой отдельно выясняют. Если бригадир не посвятил племянника в дело, значит, есть основания. Меньше знаешь, крепче спишь.
На поселковой покромке возвышался домище, двухэтажная крепость. Тёсовые ворота и двери оказались приоткрыты, горницу стерёг калека в никелированной коляске. Тельняшка придавала убогому ненужную лихость. Зримые двадцать лет чернил кустисто заросший на щеке шрам.
Марат осмотрелся. Если инвалид жил один, непонятно, как он умудрился содержать хоромы в порядке. Виктор Петрович, уняв бас двумя тонами, с преувеличенной вежливостью, перечивший его облику, поздоровался. Калека округлил глаза, в упор осмотрев Марата, затем вяло спросил:
— Кого привёл, Витяй?
Апостол глянул на Мамонтова: вдруг осердится на калеку, но тот перешёл на подробности:
— Свой человек, за него ручаюсь.
— Смотри, братан, я тебя за язык не тащил. Что надо?
— С Лютым хочу перетереть. Скажи — срочно!
— Срочно на парашу ходят. Ты, Витюн, сперва доложи, почему торопка, а я решу, хочет Лютый с тобой базар держать[66], или нет.
— Дело капитальное, — согласился Мамонтов, без приглашения садясь на свободный стул. Марат остался стоять. — Нанюхал тёплый занорыш. Нужна хлопушка и причиндалы доразу. Вон, — Виктор Петрович указал на Марата, — у меня сапёр новый. Он доложит, что почём.
Инвалид присвистнул, затем продекламировал на память:
— Статья двести восемнадцать. Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, — затем безо всякого перехода, добавил, — Вить, у меня ножки непослушные, вылезь на крышу. Захвати ворох соломы, сыпани порошочка, — инвалид протянул Мамонтову медицинскую пробирку, — и зажги. Когда прогорит, пригаси водой и валяй к нам, Лютого дожидаться.
— Мальца можно с собой?
— Бери, ты же за него головой поручился.
Когда по приставной лестнице поднялись со второго этажа на крышу, Виктор Петрович, бросив вокруг осторожный взгляд, пояснил:
— Просвещайся. Лютый, законник, держит общак местных приисков и всего Иркутского края, вор в законе. Слыхивал о таких?
Апостол кивнул. Кто не слыхал о мастистых — разве что впавший в бессрочную кому.
— Ему частка золота, — оправдывался по дороге Мамонтов, — Лютый — крамольник справедливый, со слюды, добытой кайлом, крошки не возьмёт, только с рыжья. А мог бы! Малый на инвалидной коляске — его подручный, тоже лишай не хилый. Через него мы, сердяги, держим связь с хозяином. Иначе никак нельзя.
— Верю, — солидно сказал Марат, хотя воровскую романтику считал больше иллюзией, чем явью. Дома, в Киеве, приходилось рядиться воровской пристяжью[67], но наивно, по-детски, без грабежа и насилия. Так, бытовая комедия. С ворами, способными держать под собой государственные прииски, встречаться не приходилось.
— Положь сено, — вспомнил Виктор Петрович и чиркнул зажигалкой.
Сухота мгновенно вспыхнула. Мамонтов швырнул в огонь горсть порошка. Повалил густо зелёный дым.
— Сигнализация, каждый цвет — своя причина сходки и срочности.
— А зелёный что?
— Кто его знает, может, «честным фраерам позарез нужна взрывчатка», а может, приговор «поставить чижиков на нож».
— Ну, это ещё вопрос, кто кого куда поставит.
— Ты, Марат, зря не дёргайся, подай лучше ведро.
Когда прогорело, Виктор Петрович плеснул воды. Спустились обратно, инвалид встретил в том же положении, зато стол оказался накрыт.
— Лады. Про нас хлёбово? — поинтересовался Мамонтов.
— Правильно мыслишь.
Лютый не заставил себя долго ждать. Час, не более, промучились гости, глотая слюну, когда издали послышался шум мотора. Где-то на высокой скорости шла машина. Шум приблизился, и во двор вкатил новенький «Уазик». Из кабины вышли двое: водитель — здоровяк под стать Марату, и с ним точь-в-точь копия новоиспечённого генсека Горбачёва, но без родового пятна на лбу. Как-никак, смотрящий Иркутска и области собственной персоной. Вальяжный человек.
Марата к столу не позвали. Принесли на подноски тарелку всячины с ломтём хлеба. Трапезничали вместе Лютый, водитель по прозвищу Шмаровоз, калека в тельняшке и бригадир Мамонтов. Беседовали о золоте. Со знанием дела, пускаясь в глубины истории, щеголяя ценами металлов на Лондонской бирже.
— Как кайлится-можется, Петрович? — поинтересовался после высокой политики смотрящий.
— Благодарствуйте, вашими молитвами, — степенно, по-купечески, отвечал бригадир, расслабившийся после зачётной третьей рюмки.
Зачастили дозы. Марат с трудом разглядел на этикетке «Золотое руно». Такого наименования не помнил, но сразу решил, что водка должна быть отменная. Кабы знал её происхождение, вне сомнений попросил бы отведать.
Ещё во времена Хрущёва, а особенно при Брежневе, народ пристрастился к питному пуще прежнего. В ход шло зелье любой закваски и окраса. Даже дешёвые парфумы-одеколоны исчезли, что из сельпо, что из столичных универмагов. Заодно употребимыми стали технологические жидкости. Непутёвые легко путали питьевой этиловый спирт с убийственно ядовитым метиловым. С тем и участились летальные исходы. Статистика прорвалась в прессу, сначала во внутреннюю, а там и в наружную.
Тогда-то и родилась в научных и даже в правительственных кулуарах счастливая идея о водке с чудесными свойствами — чтоб пилась аппетитно, пьянила, но не измучивала похмельем. Такая уникальная удалась. Опробовали сначала на крысах. После предложили добровольцам. Героически опробовали на себе. Результат вышел ошеломляющим. Оказалось, даже неразбавленный концентрат не имел привычного посталкогольного синдрома.
С тем и решились на масштабные испытания. Молва гласила, что цистерну «Золотого Руна» изготовили на спиртзаводе в Кахетии, а разливать погнали на Дальний Восток. И уже в Магаданской области поставили пару плохо доступных районов на эксперимент. В одном районе продавали традиционное пойло, во второй завезли «Золотое Руно».
Испытания завершить не успели. Повсеместную Горбачёвскую перестройку подтвердило правительственное противоалкогольное постановление, сведя на нет предыдущий успех. В народе долго ещё теплилась притча про «Золотое Руно», включая легенды о размерах бутылочного арсенала в стратегических запасниках Магадана. Слухи о целебной водке достигли Иркутска, куда смотрящим заступил рачительный авторитет Лютый. Он-то и снарядил вертолётный десант в Магадан, откуда легендарный напиток перекочевал в винные погреба Иркутского общака.
— Беспредела бойцам никто не чинит? Говори, если было, — продолжал любопытствовать Лютый.
— Пока вы за нами в присмотре, неслухняные на прииски носа не кажут. Попрятались кроты по норам.
— Крысы грёбаные, — согласился инвалид.
До появления авторитетного вора в Иркутских пределах баловники беспредельничали. И без того вольным старателям приходилось туго. Параллельно бедствовал и воровской общак. Государство насквозь контролировало добычу и сбыт золота. Добывать мужикам как будто ничто не мешало. Но лимит с добычи, выраженный несносно скупой приёмной ценой, заставлял в пику закону припрятывать золотишко. Рисковые курьеры брались доставлять контрабандный товар в центр, где металл расходился партиями и дробно, уже по увесистой цене. Хватало рискачам и чтобы выпить, и на кормёжку, и на роскошь.
Добытчикам приходилось солоно. Носить на груди мешочек с утаённым привеском — до синюшных борозд на шее от немилосердной тесьмы. Старатели друг о друге про это знали и тихо радовались, когда груз тяжелел. Суровый народ. В любую минуту готовый перегрызть горло любому, кто покусится на тайничок. Доброхотов надуть тоже хватало. И около и вокруг промышляли скупщики, норовя донельзя опустить цену. Приходилось соглашаться с зубовным скрежетом, обстоятельства всякие случались.
Лютый с налёта погубил беспредел. Мокрушники, не гнушавшиеся добычи через кровь, нашли лёгкий конец в своих же засадах. Оставшиеся, прознав о твёрдом воровском законе, ушли сами. Перекупщики сделались честными, обходительными, и завели изысканный сервис — напоят, накормят, ублажат по верхнему уровню, лишь бы бряцал в мешочке металл. Один даже возил по делянкам шалавую бригаду. Добрые девки за достойную плату скрашивали стоялое мужское одиночество. Но после того, как работяги в округе подхватили свежачком триппер, сутенёру пришлось убраться.
Золото, особенно чужое, никогда никому не приносило счастья. В родном государстве разрешение на добычу мог получить любой охотник без уголовного прошлого, но не по этой причине воровское сословие презирало стараться. Небрежение было суровое. Кайлить — невежественное для вора занятие, одно слово, западло[68].
— Учиться, учиться, и ещё раз учиться. Ну-ка, Шмаровоз, догадаешься, кто сказал? — пошутил Лютый.
Водитель напрягся и выложил откровенно:
— Знаю. Капитан Дашка Шевцова, зам по культурно-просветительной работе, у ней зад — не обойдёшь, не объедешь.
Лютый захохотал, сразу превратившись из интеллигента в хищника, способного вырвать жертве горло. Вырвать и сожрать. Отсмеявшись, Лютый прищурился:
— Ты, Шмаровоз, не ошибся. Говорила она это, точно. И таки была права. В своём деле человек должен знать лучше других. Иначе затопчут. «Ротвейлеров» на Руси хватает, и не переведутся. Ладно. Кто вспомнит, что есть лигатура? — снова неожиданно и покровительственно продолжил опрос Лютый.
— Вроде, знаю, — как школяр приподнял руку Мамонтов.
— Валяй, Витюня, — снова превратившись в жучка-добрячка, разрешил законник.
— Примеси, добавляемые в сплав. Серебро, никель, медь.
— Наверняка на глаз, — всерьёз заметил калека, и все, включая Мамонтова, захохотали.
Старатель, отсмеявшись, посчитал нужным уточнить:
— Примеси дают в сплав для прочности.
— А для чего золоту прочность? — задал новый вопрос Лютый, но предупреждая ответ, поднял руку.
Наступила тишина.
— Ты скажешь, — указал вор на Марата.
— Легко, — согласился тот.
Как ни странно, но смотрящий не разозлился, хотя все, кроме Апостола, знали, за что вор получил погоняло. Вовсе не из-за фамилии Лютиков, доставшейся законнику от отца. Жизненный принцип Лютого выражался просто: «Здесь и сейчас». Если желаемое сторонилось «здесь и сейчас», вор впадал в сильнейшую ярость, казалось, даже лагерные псы, чувствуя её силу, прятались по будкам.
— Ходи к столу, — пригласил Лютый, словно только-то обнаружил, что парень отделён, — давно «стараешься»?
— Третий месяц.
— Уже срок. Золото уважаешь?
Марат посмотрел в примороженные глаза Лютого, понимая, что вопрос не пустой, и ответ, вполне возможно, повлияет на судьбу бригады. Поэтому ответил честно:
— Нет.
Лютый взвился, как ужаленный:
— Тогда зачем ты здесь? Капусту можно рубить, не изнывая над кайлом.
Мамонтов, скрывая неловкость момента, громко раскашлялся, но, получив широкой ладонью водителя по спине, успокоился и, опрокинув для храбрости рюмку «Золотого руна», сказал не в русло:
— Взрывчатка нужна, Лютый.
— Уже? Нашёл!? — мгновенно отреагировал, забыв о прочем, вор.
— Похоже, так.
— Новичок сможет? Взрывник твой свалил ещё в прошлом году, — выказывая осведомлённость во владениях, заметил Лютый.
— Свято место пусто не бывает. Племяш из Киева дружбана привёз, — указал на Марата бригадир.
— Армейский спецназ? Сапёр?
— Не спецназ, но хозрота, стройбат, — вмешался в разговор Марат.
— Во взрывном деле опыт главное.
— Справлюсь.
— Ладно, бригадир, — повернулся к Мамонтову Лютый, — вдруг лягавые нагрянут, думаю, будет излишним подсказать им, откуда дровишки…
Виктор Петрович приложил руку к груди против сердца. Лютый добавил:
— Смотри, аккуратно. В горах не только птички летают. Твои деньги или товар?
— Монета — нынче дефицит… Сам знаешь, поиздержался, нищенствую. Рыжья добуду и расплачусь с довесом.
— Значит, в долг?
— Стало быть… В долг…
— Под десять процентов.
— Побойся Бога, Лютый…
— Кого?! Ты что, мужик, верзешь? В жизни не боялся! Сейчас стану?
— Прости, не так сказал. Дороговато для нас… Но я согласен…
— Добро, когда подымать надумаешь, дай знать моему сподручному, Шлёп-ноге. Он пришлёт весового с инструментом.
У машины Марат принял от Лютого ящик с брикетами, аммонит и бикфордов шнур. Когда Лютый отбыл, Марат спросил:
— Палыч, а они всегда на взрывчатке путешествуют?
— Леший их знает, кто на чём. Может, зелёный дым как раз и значил: «Гони товар, фраерам прикурить скалу нужно». Только беда! Десять процентов, ёшкин кот!
— А птички, о которых предупреждал Лютый?
— Вертушки… Вертолёты с рудника. Целый день порхают, вольных стрелков вычисляют.
Ко всеобщему удивлению, Шлёп-нога прислал бабу. Ладную сибирячку, от вида её у мужика уд вставал над забором, мешая работе. Хотелось завалить её на отработанную породу, задрать подол и взъярить, чтобы попросила пощады. Пустое, эта не запросит. Крошечную бригаду Мамонтова проглотит, отряхнётся и отправится по своим женским надобностям.
Трактором отворили четвертину скалы. Апостол долго ходил, примеривался. Решился. Заложил взрывчатку, отмотал с пятьдесят метров шнура. Глянул на Мамонтова. Тот отрицательно покачал головой, кивком указав на небо. Пасли старателей на совесть. Если погода хорошая, а сегодня она выдалась на редкость, вертолёты летали весь день без передыху.
Ждать пришлось долго. Наконец Виктор Петрович дал отмашку. Рвануло на совесть. Подельники, с трудом скрывая нетерпение, дождались, пока осядет пыль. Бросились наверх, обгоняя друг друга. Развороченный бок скалы исходил кровью, она успела свернуться и поблёскивала из оборванных вен крупинками золота.
Работали неделю, максимально используя световую долю суток. Никто не жаловался. Трудились на износ, бригадир наравне со всеми. Колун, решивший, что наконец-то поймал за хвост синюю птицу, от счастья светился в темноте. Последние дни, закрепив на скале фонари, работали по ночам. Отдых полчаса на ужин, затем, поплевав на ладони, в кровавое мясо из разорванных мозолей, с удвоенной силой вгрызались в породу.
На восьмой день, вечером, в доме старателя Мамонтова состоялся серьёзный разговор. Молодые подельники успели насладиться кайлением невмоготу. Пришло время посвятить их в тонкости старательного бизнеса.
— У своих не воруй, в общее, кроме десяти процентов за взрывчатку, дай, — поучал молодых Виктор Петрович, — мы добыли столько золота, что до конца жизни можем не работать. Каждый имеет право на треть. Но делить будем после того, как с общего веса отдадим долг в десять процентов и обычную долю в общак. Даже с учётом расходов сумма получается бешеная. Поэтому надо срочно решать, что делать с рыжьём. Дома хранить такое количество опасно. В любом случае теперь придётся кидать здесь караульного и работать вдвоём. Я не хочу, чтобы в бригаде были недомолвки… Решение, куда сбыть золото, мы примем вместе. Кратко дам ситуацию по Иркутской области, а вы делайте выводы. В итоге решим.
Бригадир сделал паузу, чтобы выпить рюмку. Тут же разлили по второй.
— Можно сдавать государству, но останемся на бобах. Разве что малую часть за «бонны». На них в поселковом магазине можно приобрести дефициты. Прииск, считай, государство, платит за золото по восемь рубликов. И смех и грех. Дальше. Есть перекупщики: семья цыган, они ходят под приисковым контролёром Федотовым… Ну — Рустам… хер знает, кто такой и откуда, то ли с Кавказа, то ли с Бухары. Тот ещё подонок. Есть одиночки. Шлёп-нога Лютого тоже покупает товар. Если повезёт, кому-то из перекупщиков можно сдать по одиннадцать рублей за грамм, что, тоже понимаете, грабёж среди бела дня. Так что, как ни крути, настоящую цену дадут только на Большой Земле. Даже в Иркутске, куда, правда, ещё добраться надо, товар принимают рубликов по двадцать пять.
— Ого! — подпрыгнул Колун от возбуждения, — мы же миллионеры!
— Погодь, малый, не говори «гоп». Ещё продать умно надо. Думаешь, приехал в город, пришёл к ювелиру, а он лапки к небу? Он с тобой разговаривать не станет, а будешь бузить, сдаст ментам. Или ворам, что его доят, чтобы зарплату отрабатывали. Они же, ювелиры, хитрые, как Берия в день смерти Сталина. Дошло, миллионер? И менты и воры золото отберут, с той разницей, что первые посадят, а вторые порешат. Хотя не факт. Менты сегодня иные стали, от воров не отличишь, могут тоже спустить концы в воду, — Мамонтов выпил, закусил горстью квашеной капусты с клюквой из пузатой бочечки на неокрашенном столе, заодно служившем полигоном для деловых разговоров, — а в стольной Москве, а в Киеве? Там за грамм по сорок целковых отваливают. Выгодней всего в город для торговли толкового человечка отсылать. Мы, старатели, порой так делаем. Несколько бригад скидываются золотишком и отсылают ловкого человека в «хлебные города». Обычно… обычно это сын одного из старателей. Так что точняком возвратится, если не убьют по дороге. А за батькой его мужики здесь присматривают потихоньку. Лично я отдал бы калеке по десятке уже сегодня, а завтра без головной боли на прииск слюду рубить. Человек работать должен. Тем более там ещё самородки имеются. Там стараться-расстараться ещё неделю можно. Потом, как обычно, набегут контролёры да инспектора с рудника и попрут нас с горы. Мы чёрную работу сделали, залежи разведали, а что пару самоцветиков в карман припасли, так со старшего дяди не убудет. Он во стократ больше имеет.
Выпили молча. Разговаривать не хотелось, перспективы беззаботной жизни улетучились, как не бывало. Мамонтов пожевал в раздумье ус. Предложил:
— Припасён, детки, у меня канал… Картинка приблизительно такая. Дама живёт достойная в небольшом городке, километров сорок от Иркутска. К ней могу поехать сам, или послать кого-то из вас с письмушкой. Если она при деле, ей можно сдать по пятнадцати рубликов. От неё канал в Москву. Так вот, барыги у дамы забирают по двадцать пять и везут в столицу. Там сдают по тридцатнику бывшему ювелиру безрукому, но со связями. Он сдаёт по сороковнику. Всё бы ничего, но цепочка слишком длинная, а деньги отдают после окончательной реализации. Стоит одному из звеньев цепочки разорваться, и денежки тю-тю.
— Не-а, — не к месту подал голос Марат, выпил, хрустнул капусткой, продолжил совершенно спокойно, на его лице не отразилось эмоций, кроме скуки, — я пас.
— Что?! — Виктор Петрович с племянником вскочили одновременно.
— А что такое? — не понял их реакции Апостол. — Деньги поднял добрые, можно и домой. За бабками я сюда приехал. В Киеве меня жена с дочками дожидается.
— Какая, на фиг, жена! — Колун схватил приятеля за грудки. — Ты что нам лапшу на уши вешаешь? Здесь перспективы… Или кинуть нас хочешь? Слышь, Палыч, он кинуть хочет, — и снова Марату, — что ты за человек, Апостол?! Арсена Ашотовича чуть до инфаркта не довёл. Он, если хочешь знать, на пенсию из-за тебя, мудака, убыл, — Николай вошёл в раж, и уже не держал себя в руках, — если бы не ты, гнида… Ванька-встанька с пустой башкой, меня Габриелян в мастера спорта вывел бы. А как ты появился, ублюдок, он меня забыл и выбросил, как игрушку…
Колун продолжал что-то кричать, брызгая слюной, и неожиданно нанёс Марату сильнейший хук слева. Апостола как подкосило, но в долю секунды он оказался на ногах, успев глянуть в сторону и тут же растечься по столу ртутью. Именно это последнее движение спасло ему жизнь — в его грудь летел длинный и тяжёлый охотничий нож, им бригадир разделывал мясо.
Виктор Петрович настолько ошалел от разворачивающихся событий, что не пытался остановить племянника. Именно распластавшись в последний миг на столе, Апостол ушёл с линии атаки. Лезвие просвистело над головой, мощно воткнулось в бочонок и завибрировало с порочным звуком.
Опомнившийся бригадир кинулся между противниками. Охотничий нож, выдернутый и оказавшийся в руке Колуна, с омерзительным чавканьем рассёк бригадиру горло. Из разрезанной трахеи вырвалась струя алой, как клюква в капусте, крови. Мамонтов, обдав племянника горячими брызгами, стал заваливаться на него. Колун, выронив нож, инстинктивно подхватил тело. Заминки хватило Апостолу, чтобы обрушить непочатую бутылку «Коленвала» на голову Колуна. Марат не метил намеренно, единственным желанием было нейтрализовать рехнувшегося приятеля, в тот миг вооружённого ножом. Но в следующее мгновение Колун, придавленный телом умиравшего Мамонтова, развернулся в профиль, и страшный удар пришёлся в висок. Оба потомка легендарного русского мецената умерли одновременно.
До крови закусив губу, сжав кулаки так, что ногти вонзились в ладони, Апостол бездумно осматривал побоище. Допрыгался!
Поймав единственную здравую мысль, метнулся к окну. Посёлок спал. Скудно освещённые улицы пусты, как карманы алкоголика перед зарплатой, окна соседних домов — бесчувственно слепы. Марат попытался успокоиться, но присутствие двух залитых кровью трупов, из которых один стал таковым из-за нанесённого им удара, мешало сосредоточиться. Неудачник, заметавшийся по гостиной… Неудачник? Это состояние напрочь отчуждалось душой Апостола, как пионерский галстук в колонии малолетних преступников. Центр вселенной сместился. Будто не смерть двух человек, а сбой в управлении собою, своим телом и мыслями, гасили сознание.
Марат кинулся к бутылке, но вспомнил, что она разбилась о голову Колуна. В шкафчике под умывальником их целая батарея — Мамонтов, отыскав занорыш, с радости скупил в сельпо семь ящиков.
Апостол двинулся туда, но резко остановился на полпути. Вдруг ясно представил, как должен поступить. Оставалось взять себя в руки. Бывший — он всегда оказывался бывшим в чём-то — боксёр закрыл глаза и заплясал по комнате. В своё время Арсен Ашотович на одной из тренировок торжественно объявил, что «мальчик» успешно освоил школу «боя с тенью» и теперь удостоен тренировок на «лапах. Погодя допустят и к «груше». Только пройдя все снаряды, спортсмен способен биться со спарринг-партнёром. Обычно им оказывался Колун. Покойный ныне Колун. Здесь нынче отсутствовали живые противники. Ожили тени, воистину жадные, жирные хозяева в комнате смерти. Апостол никогда не признавал право иных людей на собственное право. Бой шёл при полном автоматизме, когда нет возможности обдумывать следующий шаг, молниеносно реагируя на изменение ситуации. Возможно ли прогнозировать действия теней в бою? Оказалось — да, стоило взять воображение под контроль. Поверженные призраки с душераздирающим молчанием возвращались в царство мёртвых, оставив принадлежащую им по праву добычу в мире живых. Сегодня они проиграли, но тени не любят, когда их побеждают. Они обязательно вернутся. Они никогда не забудут того, кто помешал им сделать чёрное дело.
Обыск дома занял около двух часов. Марат не собирался оставлять призракам ни крупицы жёлтого металла. В подвале, в закатанной трёхлитровой банке с солёными помидорами обнаружился мешочек, напоминавший табачный кисет времён первой мировой войны. Едкий рассол прожёг ткань, но золоту не причинил вреда. Марат помнил, что «презренному металлу» не страшны кислоты, за исключением «царской водки», адской смеси кислот. Но банку заполнял рассол, и химической непосредственности золота ничего не грозило.
Подобные кисеты отыскались ещё в нескольких банках, а на матрасе покойного Виктора Петровича обнаружился неровный шов вручную. Апостол вспорол ткань окровавленным ножом. В нутре тюфяка, среди дурно пахнущей пенорезины, скрывался целлофановый пакет. Марат, не долго думая, вскрыл и его. Пятьдесят тысяч долларов ассигнациями в пятьдесят и сто баксов!
Золото Апостол взвесил на «ювелирных весах», имеющихся в каждом доме посёлка. Старатели вместо денег частенько использовали в товарных взаимоотношениях крупицы драгоценного металла. Итого: двенадцать килограммов двести двадцать два грамма чистого золота, да ещё пятьдесят тысяч долларов крупными купюрами. Съездил, называется, на заработки. Два трупа и куча денег. Точно как в книгах о золотой лихорадке.
И что теперь? Домой возвращаться нельзя, его портреты непременно развесят по всем районным ГУВД. Участковому какая-нибудь сердобольная старушка непременно проговорится: вернулся, мол, с севера Марат Игоревич Муравьёв-Апостол, да не просто вернулся, а с крупным баблом. Участковому не составит труда сопоставить бабье любопытство с фотографией убийцы старателей в северном посёлке. С другой стороны, в любом другом городе появление нового человека привлечёт внимание.
Марат сложил добычу в заплечный мешок из грубой дерюги. Тихо, очень тихо, выскользнул за дверь. Выключать свет в гостиной не стал. Только у самой калитки вспомнил нечто важное, нечто, что поможет сделать исчезновение реальным. Пригибаясь к земле, словно под пулями, обогнул дом. Там, в небольшой кирпичной пристройке с земляным полом, хранились канистры с бензином для «Вихря». Потоптавшись, решил, что нести к дому не стоит. Если подпалить бензин сейчас, здание потушат быстро, обнаружат два трупа и тут же организуют погоню, хватившись третьего.
Апостол сплюнул и зашагал к дому инвалида. Часы показывали без четверти одиннадцать. К удивлению и радости Марата, калека не спал. В ином случае, пытаясь достучаться, пришлось бы нашуметь. Безногий сразу узнал ночного гостя, но удивления позднему визиту не выказал. По всей видимости, чтобы кого-то удивить в этом доме, пришлось бы постараться. И всё же Марату удалось немного озадачить хозяина. Наотрез отказавшись дожидаться утра, он настоял на встрече с Лютым. Без промедления! «Здесь и сейчас!». Блатной неплохо разбирался в людях, чтобы понять: упрямство Марата не блажь. Случилось что-то из ряду вон выходящее.
Поколебавшись для приличия с минуту, калека высыпал на ладонь визитёра щепотку разноцветных гранул. Днём шёл дождь, поэтому перед походом на крышу Апостолу пришлось прихватить охапку соломы из сарая. Когда гранулы оказались в огне, повалил плотный дым. Настолько густой и белый, что на фоне народившейся Луны, должен быть виден за километры.
То ли белый дым означал тревогу, то ли Лютый случайно проезжал мимо, но знакомый звук «Уазика» раздался, едва Марат, залив костерок, спускался вниз. Хозяина сопровождали четверо отчаянного вида мужчин, в принадлежности которых к разбойному клану сомневаться не приходилось. На лицах не тени сна. Все в спортивных костюмах неброских тонов. Лютый же, наоборот, оказался в крикливой для ночи серебристой косоворотке.
В доме Марата наскоро, не спрашивая позволения, обыскали, затем смотрящий позволил говорить.
— Лютый, мы не могли бы переговорить наедине?
— Гля, Лютый, голубок желает уединиться с тобой, — скаля кривые зубы, презрительно проговорил один из быков, делая шаг в сторону Марата.
Расхохотались все, кроме Лютого и Апостола. Между ними затеялась зрительная дуэль. Вор наблюдал за реакцией просителя, глаза его оставались сухими, колючими и холодными, как снег в непогоду. Они, в отличие от слов, требовали, но не просили — вор не любил, когда его о чём-то просили. Так наказывал священный трёхглавый тюремный закон: не верь, не бойся, не проси.
— Нет, фраерок, говори при всех.
Апостол молча развернулся, нарочито неспешно, с высоко поднятой головой, направился к выходу. Бык, назвавший Марата голубком, находился к нему ближе других, поэтому его рука коснулась плеча парня первой. Резко развернувшись, боец с призраками — что ему теперь человечек из плоти и крови — поднырнул под руку и отработал короткую, но жёсткую серию в корпус. Мужик упал на колени, затем медленно, словно сомневаясь в правильности, завалился на бок.
— Стоять! — рявкнул Лютый на охранников, бросившихся на выручку.
Первым, как ни странно оказался инвалид с морским офицерским кортиком в зубах. Он так ловко управлялся с колёсами инвалидной коляски, что умудрился оставить позади резвых двуногих хищников.
— Ладно, детка, я проверял тебя на вшивость. Оставьте нас!
— Хозяин…
— Увянь, — посоветовал вор.
Все послушно исчезли за дверью, не забыв прихватить поверженного, пытавшегося всосать в себя каплю воздуха.
— Говори, я тебя слушаю, — негромко, как-то очень обыденно, не рисуясь, проговорил Лютый.
Марат в подробностях, за исключением найденных денег и золота, описал, что произошло в доме Мамонтова. Вор слушал внимательно, не перебивая, хотя и не проявляя интереса. Казалось, подобными историями сопровождался любой его завтрак.
— Что же ты хочешь от меня, бывший старатель? Ведь у тебя есть имя?
— Есть, — согласился Марат, и удивился несвоевременности вопроса. В сложившейся ситуации имя имело наименьшую цену.
— Марат Игоревич Муравьев-Апостол.
— Значит, батю твоего звали Игорем?
— Ну, да… — протянул Марат, пытаясь уследить за ходом мысли Лютого.
— Так-то, — вор побарабанил пальцами по столу, — и погоняло у тебя тоже имеется?
— Апостолом обзывают, — ответил Марат с тенью солидности, словно имел за плечами не одну ходку.
— Да уж, вижу, что не «Муравьём». Ты, случаем, не потомок повешенного декабриста?
Марат почувствовал растерянность, не ожидая от бандита подобной осведомлённости, поэтому ответил грубовато:
— А какое отношение это имеет к нашему делу?
— К твоему, Апостол, делу, к твоему. Наше дело здесь ни при чём. Спрашиваю потому, что хочу понять: почему?
— Я же объяснял: нет смысла врать, если тебе признался. Случайно вышло. Я никого не хотел убивать.
— Ты меня не понял. Почему ты решил, что твои проблемы должны меня интересовать?
Апостол сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, но вор смотрел серьёзно, без тени насмешки. Кулаки разжались сами собой.
— Это ты меня неправильно понял. Я пришёл не за тем, о чём ты подумал. Пришёл отдать долг за взрывчатку и внести в общак долю с бригады.
Настала очередь удивляться Лютому. Марат, словно не замечая взметнувшихся бровей вора в законе, выложил кисет с самородками, крупнейший из которых достигал спичечной головки, а мельчайший походил на песчинку с Одесского пляжа.
Смотрящий окликнул Марата у самых дверей.
— Апостол… Слушай, братан, остановись, ты же не регистрировался в старатели?
— Не успел. Виктор Павлович, покойный Виктор Павлович, говорил, что спешить некуда.
— Значит, по имени тебя никто, кроме покойников, не знал?
— Выходит, так.
— Трактор в руднике Витька сам брал, ты не ходил с ним?
— Сам.
— Вот и славно выходит…
— В пристройке за домом четыре канистры с бензином, — неожиданно для самого себя, сказал Марат.
— Я тебя понял. Одна проблема: когда в доме обнаружат два трупа, тебя всё равно станут искать. Ладно, решим, — Лютый прихлопнул ладонью по столу, — выходит, ты, Апостол, честный фраер. Куда собираешься податься?
— В Киеве меня ждут жена и две дочки.
— Домой не советую.
— Это я понял…
— Хотя… Киев, говоришь… — вор прищурился, словно вспоминая, — за Киевом смотрит мой старинный кореш. Вороном кличут. Вернёшься, снеси ему от меня маляву, — Лютый разорвал сигарету, высыпал табак прямо на пол, черкнул несколько слов на клочке папиросной бумаги. Сложил туго. Затем свистнул. В комнату ворвался инвалид на колёсах, с котиком. И четверо быков следом.
— Свечу, — коротко приказал смотрящий.
Калека укатил, но быстро вернулся с пучком церковных свечей на культях.
Хозяин зажёг одну, покапал воском на крошечный квадратик бумаги, перевернул, покапал ещё и подождал, пока не застынет.
— Теперь маляве не страшны ни вода, ни грязь, ни любопытный прищур. Ступай себе, Апостол, с Богом. Шмаровоз подкинет тебя до железки, дальше сам.
— На железке я и впрямь сам, — заулыбался Марат, протягивая законнику руку.
Расстались уважительно, без слов.
На железнодорожной станции без названия не продавались билеты. Не существовало и билетной кассы. Но окажись она здесь нынче летом, во время отпусков, купить плацкарту в день отправления поезда Иркутск-Киев — утопия. Поезд на станции почти остановился, когда репродуктор разразился обычным: «Стоянка поезда одна минута, просьба пассажирам на перрон не выходить». Марат рванулся с платформы в ближайший вагон, на ходу осадив ополчившуюся на него проводницу: «Начальника поезда мне…».
Награждённые знаком «Почётный железнодорожник» имели право на бесплатный проезд в спальных вагонах категории СВ, если работали в отрасли или вышли на пенсию по старости. Марат, предоставив значок и удостоверение, не стал разочаровывать начальника поезда. Сообщил, что работает на Одесской железной дороге, и вынужден не по своей воле, по делам служебным, срочно прервать отпуск.
Проводница образцового спального вагона оказалась прелесть, тем паче после рекомендации начальника. Дорогого гостя поместили в отдельное «случайно» пустующее в разгар летних отпусков купе. Принесла чай. Стакан. Другой. Третий. Красавчик с королевской осанкой не должен оставаться ночью без присмотра.
В посёлке Мирный жарко пылал дом из смолистого сибирского кедра. Пожарная команда, вызванная из областного центра, столкнулась с необъяснимым форс-мажором. Сперва, по получению срочного вызова, выяснилось, что бензобак пожарной машины пуст. По инструкции этого никак не могло быть, но факты налицо. Пришлось спешно заправляться, но невероятные странности продолжались. Оказалось, и водяной бак безнадёжно пуст! За такое при Сталине полагался расстрел, при Брежневе светила тюрьма, сегодня — хоть бы что. Залили воду, выехали, не успели облегчённо выдохнуть, как лопнуло переднее правое колесо. Осмотрели, вроде чисто, резина пришла в негодность по старости. На том и порешили: форс-мажор. Когда к утру удалось потушить пожар, под остовом дома обнаружили три обгорелых, вряд ли подлежащих экспертизе, трупа.
Плакали ведь по почившему Брежневу, но симметрично радовались меченому Горбачёву. На Украине всё происходило, как обычно, через «запрягайте, хлопци, коней». Первый секретарь Владимир Васильевич Щербицкий отсутствовал на пленуме, назначившем в генсеки Михаила Сергеевича Горбачёва, поэтому велел подчинённым срочно подготовить подробный отчёт «Об итогах пленума и наших задачах». Услышав впервые новое слово «перестройка», он скомандовал: «Стоп!», пожевал губами, словно пробуя на вкус неудобоваримое буквосочетание, и спросил: «Товарищ Кравчук, что скажете? Это какой дурак придумал словцо перестройка? У людей нервный шок».
Нервный шок — с тех пор и по сегодняшний день. Украина, оставаясь заповедным островом вассального консерватизма, расчистила шлях ревностному украинскому национализму. Многое невозможное стало реальным. Даже сосуществование исключающих друг друга противоречий.
Жизнь в Советской империи ещё сохраняла инерцию движения. Но постепенно ускорение стало отрицательным, превратившись в торможение. До перевала оставались скудные метры и, едва добравшись к пику, страна, разваливаясь на ходу, скользнула вниз. Вроде терпящего крушение аэробуса, теряющего в безудержном падении жизненно важные устройства.
Марат встретился с Вороном и с его благословения выгодно обратил рыжьё в наличность. Открыл, а почему бы и нет, собственный офис «Купи-продай» — как раз наступили пиратские времена. Перестройка не должна была остаться временной реформой, но охватить все сферы жизнедеятельности общества: экономику, политику, социальную сферу, идеологию. Моисей, сбежав из Египта, водил толпы евреев по пустыне не потому, что заблудился. Причина была много глубже: он дожидался, пока вымрет поколение рабов, а следующее, рождённое свободными людьми, сможет построить новую общность на своей земле. В Советском Союзе, как всегда, торопились. Конечной целью провозгласили «гуманный, демократический социализм», но в действительности новый эксперимент на людях с косным мышлением привёл к потере контроля за событиями. Ходила притча: «Когда в Москве стригут ногти, в Киеве отрезают пальцы». Беспределом воспользовались люди, имевшие общее романтическое погоняло «Воры в законе». На самом деле они, обладавшие истинной властью и несметными богатствами, стерегли из подворотен судороги агонизирующего государства, подсчитывали неразбериху и непредсказуемость, чтобы навсегда легализовать своё существование.
Простой же народ всегда знал, кого следует винить во всех бедах. Раньше он делал это тихо, на кухнях за закрытыми дверями, сегодня — выходя на шутовские демонстрации. Одни пели сокровенное:
— По России скачет тройка:
Мишка, Райка, перестройка.
Другие искренне признавались, выплясывая:
— Водка — десять! Мясо — семь!
Мишка спятил насовсем!
Галима летала на седьмом, или подобном у калмыков, небе. Соседки завидовали обвешанной золотом и каменьями даме с невянущей раскосостью глаз. Утряслось, но душа Апостола не находила покоя. Чего-то снова не доставало, чего-то, что невозможно определить словами и сформулировать.
Спешно, словно опасаясь, Марат сбыл с рук предприятие. Захотелось остановиться, присмотреться к жизни, обдумать планы на будущее и побездельничать. Именно беспрерывно, подряд днём и ночью!
Ночи тоже не приносили покоя, словно, повторяя вечер в доме старателя Мамонтова, позабыл закрыть окно в мир мёртвых. Тени, стоило Марату прикрыть глаза, торопились в его мир, толкаясь тушами, и всё боялись опоздать. Бил он их нещадно. Но на следующую ночь являлись, как ни в чём не бывало, другие призраки, и лезли, лезли, лезли, бестолково тискаясь в проёме окна.
Рекомендация Лютого, или исправные, более чем щедрые отчисления в общак, или изнурительная духовная немощь были причиной, но единственным человеком, с кем близко общался Марат, стал старый вор в законе, смотритель стольного града Киева, кореш Ворон.
Глава 11.Тюрьма. Прозрение
Ждал ли отца Серафима Апостол? Вне сомнений — ждал. Иначе чем объяснить плохо скрытую радость при его появлении в ШИЗО.
— Есть успехи, Марат Игоревич?
— А как же, — неожиданно для себя, дружелюбно ответил арестант.
— Ловлю на слове… Весь внимание.
— Ночью… почувствовал, что в Библии кроется глубочайший смысл, — начал Апостол и смутился, но решил не сбавлять тона, — если я заблудился в нескольких строках, что же, это одна из серьёзнейших книг, попавших в руки, — отец Серафим задумчиво пощипал бородку и согласился. — Признаюсь, вначале я читал её для того, чтобы опровергнуть вас, но сейчас оторопь берёт. Вокруг происходят события, вроде понятные, на самом деле всё перевернулось.
— Между людьми, знающими молитвы, и теми, кто понимает их смысл, большая разница. Человек, впервые переступивший порог православного храма, только не воспринимайте в буквальном смысле, требует к себе особого отношения. На него тут же наседает нечисть, тёмные силы, не желающие спасения человеческой души. А цена души неисчислимая. От нас, священников, зависит, как изменится чудовищное соотношение одного крепкого прихожанина к сотне крещёных, но душою далёких от храма. Если в наших глазах мирские люди не заметят сияния вечной жизни, грош нам цена, — отец Серафим глянул на часы, — вот так всегда, времени чуть, работы — вдосталь. На чём мы с вами остановились?
— Бог создал животных и привёл их к Адаму, чтобы он дал им имена.
— Вот-вот, именно при наречении братьев меньших, человек обязан был отыскать помощника. Должен, но не сумел. Возьмите Библию и проверьте.
Апостол прочёл:
— «И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему».
— Человек уникален своей социологической сутью, необходимостью праведного сосуществования с братьями меньшими. Снизойти к ним — вот чего Бог ожидал от него перед тем, как сказал «не хорошо». Но, ни сам, ни с помощью животных, Адам не сумел оправдать надежды Творца. Дважды ему далось право на ошибку, а уж затем Бог усыпил его и произвёл разделение. Так в чём же первородный грех?! Думай, сын мой, думай!
Апостол думал изо всех сил. Прошедшая никчёмная жизнь мелькала чёрно-белыми всполохами. Он начинал понимать, что именно тормозило его, мешая подняться выше болотной осоки. Фон! Беспросветный серый фон, выгодно оттеняющий, позволяющий всякий раз возвыситься над толпой. Попранные кумиры добросовестно никли перед смыслом Бытия. Клавдий Антонович Пересунько, Арсен Ашотович Габриелян, Евгений Владиславович Кутовой — все они оказались преданы в столкновении противоречивых чувств. Очередное увлечение Апостола, а с ним и вскрывшийся талант неизменно оказывались бесцельными. За что бы ни брался — в итоге всплывал безнадёжный природный казус. Человек без цели, с одними ориентирами.
Марат с ужасом увидел себя шестидесятилетним, на корточках, с папироской и последним блеском в глазах — среди пацанов, внимавших старому вору в законе, отдавшему тюрьме и тюремной братве жизнь. О том мечтал? О таком ли предназначении? Несчастный младенец, возомнивший себя мудрецом, но запутавшийся в трёх буквах Книги.
Словно в подтверждение тяжких мыслей, послышался голос священника:
— Есть люди, обладающие безграничным потенциалом. Из них получаются превосходные начальники, политики, солдаты, любовники, друзья и даже враги. Да, сын мой, враг тоже может быть превосходным. Но вот печально: подобным людям нечего достигать, у них отсутствует смысл жизни. Отсутствует цель. Став прекрасным любовником, такой абсолют осчастливит на короткое время несколько женщин, но остаток жизни проведёт, играя в домино в городском парке. Рассказывая глухим старичкам о прошлых, никому не интересных подвигах. У тебя есть ответ на мой вопрос?!
— Я пуст, батюшка… И глуп…
— Человеческий сосуд никогда не бывает пуст, ведь в нём заключена душа. Каждая душа — это отдельный мир. Просто ты привык мыслить стереотипами, и не готов выйти наружу, за грани своего воззрения.
— То есть за грани разума? — уточнил для себя Марат.
— Да, сын мой, можно сказать так. Если напряжённо смотреть вперёд, никогда не увидеть, что творится наверху. После того, как Адам поименовал животных, он должен был воздать хвалу Господу, произнеся его имя.
— У Него есть имя?!
— Назвать имя Божье означает воскликнуть Аллилуйя — я верую, воздать ему хвалу, восславить во всеуслышание! Обычно, когда человек получает подарок ко дню рождения, всегда благодарит дарящего. Адам благословлён миссией на дарение имён, потому что был гениален. Попробуй дать имя чему-то, у чего имени да сих пор нет, — отец Серафим достал из внутреннего кармана пиджака небольшой резиновый шарик, покрытый длинными мягкими шипами, — что это?
— Резиновый шарик с шипами.
— Превосходно, но твои слова лишь простая констатация факта, выйди за рамки разума, подари предмету настоящее имя.
— Кругляк-мягкошип, — пожал плечами Марат.
— Пусть так, но даже теперь ты использовал уже известные миру понятия «мягкий», «шип», «круглый». Видишь, насколько сложная это работа — творить имена и понятия. Если нечто подобное, но живое, ты увидел в моих руках, смог бы назвать его ежом? Какой великий смысл заключён в двух звуков, произносимых последовательно: «ё» и «ж»? Никакого. Вдумайся в слово «Ёж»? Дать имя, не просто произнести звук. Сие есть рождение сути, отождествление, дарение бытия. Адам по своей воле обязан был назвать имя Бога, но не сделал этого.
— Что-то мешало? — спросил Апостол.
— Животные в Раю умели говорить, им необходим был пастух, лидер. Единственный, кто станет над ними. Кто направит.
— Пастух и его стадо?
— Именно так. Как Господь Иисус Христос и люди, — ответил служитель Божий.
— Неизменный принцип ведущего и ведомого? Энергия и движение? Священник и паства? — спросил Марат.
— Да, так, — согласился отец Серафим, глаза его блестели острее Иркутской слюды.
— Верующий человек и человек без веры?
— Бог, — произнёс святой отец, пропустив вопрос, — привёл животных к Адаму. Называя их имена, первый человек дарил им личности. Пусть они говорили на разных языках, но какой громкий призыв прозвучал бы, произнеси они вслед за своим пастырем имя Божье! О! То был бы вселенский гимн «Аллилуйя»!
— Святой отец, — едва выговорил Апостол, и трудно добавил: — батюшка…
— Слушаю, сын мой…
— Прости моё невежество, но первый грех? Он в том, что человек не назвал имя Божье?
— Думай… Крепко думай, завтра приду напоследок.
Апостол, как оглашённый, вскочил со шконки:
— Почему, святой отец? Я сказал кощунство?
— Нет, — успокоил его священник, — завтра истечёт твой срок одиночного заключения. Место указали на территории тюрьмы под церквушку. Наверняка, ты слышал, её построили. Радость! Сегодня с Божьей помощью освятим, а завтра, если воля пребудет, явишься в Божий дом. Там и встретимся.
Апостол остался. Скупой свет из зарешёченного окна нехотя смешивался с мраком, порождая сумеречные светотени. В воображении ангелы обрели противоречивые личины. Светлую — невысокий человек со свежим лицом, редкими волосами и белёсой бородкой. Тёмную — сухопарый старец с лицом, перечёркнутым бороздами морщин.
Чтобы немного успокоиться, Марат открыл книгу. Действительно, странно, что хорошо и загадочно. В первый день «…сказал Бог: да будет свет. И стал свет… И увидел Бог свет, что он хорош…». Во второй день «…назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». На третий день «…произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». В день четвёртый «…создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». В пятый день «…сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо». Шестого дня «…сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». До сих пор всё шло хорошо. Что же случилось? Настал день седьмой, когда Бог отдыхал от трудов праведных, затем создал Рай. Дальше стало иначе, не так. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему…»
Прав отец Серафим: произошло нечто, вставшее для Творца усомнением. Осознав это, арестант уснул.
Глава 12. Ступени. Оплошные пристрасти
Деньги должны выполнять детородную функцию — воспроизводить деньги, иначе они, упрятанные в укромное местечко, начнут иссякать. На достигнутом пике расходов человеку трудно терять приобретённые блага. Но деньги не водопад, бьющий из ледника. Скорее низинное озеро. Если постоянно вычерпывать воду, не пополняя, оно обмелеет до дна. Исподволь или быстро.
Участие Марата в воспитании дочерей прежде прочего включало финансовое обеспечение. Встречаясь за «семейным ужином», так и не ставшим вожделенной традицией Галимы, обменивались отжившими новостями. Удивительно, как быстро росли дети, как легко тратили и как стремительно отдалялись. Апостол жил в другом мире, всё глубже погружаясь в себя. Но и в себе чувствовал неуют. Ни узы семьи, ни расположение Ворона, ни элитный дом на Воздвиженке, обнесённый неприступным забором, ни приисковое золото, частью обращённое в номинальную «зелень», не могли заполнить обременительной бездны.
Случилось, Ворон пригласил Апостола на вернисаж известного в Киеве художника, своего приятеля. Фамилии Апостол не помнил, и работ не видел. Помнил лишь, что происхождением он — еврей. Ворон искренне считал себя спасителем киевской межпухи[69]. Много, наверное, надо совершить, чтобы оправдать эту роль. Муравьев и сам ощущал раздражение против вскипавшей в обществе ненависти, когда виновники бедствий оговаривают невиновных, натравливая на них злобу и недовольство прочих. В такие минуты в душе Апостола бунтовала струна беспристрастия, и он в лоб парировал напрасные выпады: «Осточертело. Одна и та же дурь. Вам что, евреи в суп нассали?». У оппонентов находился дешёвый аргумент: «Поили, кормили, образование дали, а они сбежали за куском колбасы».
Жил Ворон строго по воровским «понятиям», на окраине города в мрачноватом доме сталинской постройки. Вокруг изолированной квартиры Ворона доживали неплодовитые «коммуналки». Соседи, пусть и пьянь, но тихо.
Любезными вечерами посиживал Апостол у Ворона на кухне, на усохшем, крашеном-перекрашенном табурете, смотрел и диву давался. Забежит босота, поклонится вору в пояс, выпьет похмелую рюмку, зажуёт тюлькой-ломтиком — и с глаз долой, пробормотав благодарность.
— Эх, Апостол, душа мятущаяся, — своеобразно изъяснялся Ворон, — кабы не я, в Киеве давно погромы грянули бы. Как раньше. Маланцы[70] в жаркий край Израиль подались, а эти, — Ворон указал на очередного страдальца, пустившего слезу из жалости к себе, — завидуют, думают, там мёдом намазано.
— Значит, это ты перечишь народу, не даёшь изжить со свету евреев?
— Не шути, братка, выше меры, ты Апостолом наречён. Что народ… Стадо — куда пастух погонит, туда идёт. Погромы причинять фартовые людишки придумали, чтобы под шумок грабить.
— А ты, значит, праведный такой, не позволяешь, — снова огрел подколкой Апостол, не замечая, на что напирает законник.
— Они меня не спрашивают, — криво усмехнулся Ворон, — сами знают, куда смотрю.
И встал, качнувшись на исхудалых ногах, подошёл к шаткому шифоньеру. Покопался в недрах, выудил новенький, с типографским запахом паспорт. Метнул, книжица приземлилась на скатерти перед Апостолом.
— Читай — чей.
— Самуил Израилевич Воронель, — прочёл и присмотрелся к старцу Апостол, — вот оно что…
— И что? Про то в подлинности никому не известно. Ни тебе, ни народу, ни мне самому. Пять, ну, от силы шесть поколений знает человек, какие у него предки были. А до того? То-то и оно: неведомо, веками сокрыто, ветрами-дождями задуто-умыто, землицей просолено… Кто у кого в предках был — может, германцы, может евреи, а может и вовсе монголы. А? Все одинаковы, получается. Вот и справил я себе пропуск на святую землю… Не зазорно… Но, может, и по наследному праву… По голосу крови. Что евреев касается — народ, как все, талантами не обижен… Да вот, к слову, приятель на выставку пригласил. Не пойду, а ты бы вместо меня сходил, билетик давно уж доставили. Привет ему от меня скажешь… Возьмёшь, что ли?
— Возьму, — вяло согласился Апостол.
Выставка шла в Шоколадном домике, что на Шелковичной улице. Здание утратило изначальный вид, и с тысяча восемьсот девяносто девятого, года постройки, претерпело капитальные реконструкции, переходя от одних хозяев к другим. Теперь домик служил пристанищем известным, но ещё не богатым художникам.
Апостол сунул контрамарку вахтёру, безликому, будто занятому чужим делом. Поняв, что «чаевых» не предвидится, тот тяжело посторонился.
Марат вошёл, и сразу же, на первых же экспонатах, утонул в пастели. Иные недоумённо кривят губы, требуя фундаментальность, масло, но Апостола пронимала пастель. Неважно, какая техника в ходу, настоящий мастер достигнет совершенства в любой. Рисунки Рубенса, выполненные в прозрачной гамме — угольная чернота и белизна мела, блекло расцвеченные сангиновыми грифельками, родили стиль в назидание поколениям пастелистов. Кому взбредёт в голову считать его вспомогательным! Всех премудростей Марат не знал, он переходил от картины к картине, возвращался, заново наслаждался и чувствовал, как преображался мир, теряя прежнюю значимость. Что она — композиция? Где зачата перспектива? Куда прячутся, накувыркавшись, светотени?
Чаще прочих в портретной галерее на Апостола смотрели с полотен женские лица.
Апостол остановился напротив «Портрета восточной красавицы». Мистика — а ей он не верил. Голову дал бы на отсечение, что знаком с оригиналом. Только как, где, когда? Но и это сейчас не казалось важным. Лицо на холсте вобрало вселенскую грусть, благо причинный страх, нечто недозволенное существовать. Отмежевание от себя, отрешённую реальность.
Апостол подошёл поближе и увидел… Зрачки женщины на портрете отражали другую женщину, её останки с рыбьим хвостом. Скелет русалки, прорисованный так достоверно, словно увиденный наяву. Будто не высвеченный фантазией, а удачно схваченный фотоснимок. Захотелось внутрь холста. Понять магнетический зов и не возвращаться.
Но что-то отвлекало, мешая войти. Марат обернулся. Румяный пузырь во все глаза пожирал картину. Вундеркинд с ватманом и пачкой китайских фломастеров. В затылок ему дышала хранительница несметного богатства.
— Мадам, смилуйтесь великодушно, уступите, — нашёл соломоново решение Марат и вложил ей в ладонь щедрый четвертной, — мне позарез нужны принадлежности вашего очаровательного сына…
Затем мягко, но с нетерпением принял у карапуза ватман с фломастерами. Придвинул два стула, на один сел, на втором расправил бумагу. Заглянул в глаза Восточной красавице… Удивился мыслям и выудил первый цвет. Рука, как заколдованная, выявляла всё, что желал отобразить.
Как осы на сироп, слетался народ. Хозяин выставки, заинтригованный интересом публики, подобрался поближе. Но разглядев, куда именно стремятся гости, вернулся к своему «трону». Эффектность Восточной красавицы тешила самолюбие.
Но толпа не убывала… Многострадальным породистым носом Михаил Вигдорович Дункан почувствовал неладное. Несомненно, требовалось подойти вплотную. Подошёл. Наклонился. И обомлел… Художник, его рука двигалась потрясающе быстро, едва отрываясь от бумаги, лишь изредка выхватывая цвета из коробки. Низшие краски удивительно точно передавали то, над чем сам Дункан трудился месяцы. Подлинность копирования казалась невероятной, настолько ювелирной, что Дункан ужаснулся. Чтобы повторить подобный портрет, необходимо моментально — но как это возможно? — уловить и перенести на бумагу подробности, саму суть оригинала и с нею профессиональную тайну мастера.
Художественный бомонд Киева знал друг друга в лицо. Юношу, отведавшего снедь мастера дешёвыми китайскими красками, он видел впервые. Даже мельком не встречал — иначе бы, несомненно, запомнил. Инкогнито нагрянувший гений? Нужно немедленно предпринять встречные шаги, в противном случае центром внимания овладеет незнакомец.
Михаил Вигдорович бросился к выключателю и приглушил свет, в помещении стало некомфортно. Гости озадаченно промолчали. Дункан объяснил взволнованно, как перед святой девственницей, первое, что пришло в голову:
— Друзья, прошу прощения, только что позвонили о перебоях с электроэнергией… Останутся в работе лишь защитные системы… Ваши билеты будут действительны в течение недели…
Люди, поворчав на происки властей, москалей и евреев, разошлись.
В полутёмной реставрированной зале Шоколадного домика, в неестественной, до тошноты неудобной позе пришелец творил шедевр!
Михаил Вигдорович нарочито громко прошаркал по паркету и заслонил свою Восточную красавицу. О Боже! Возможно ли! Художник не смотрел на образец, отрицая саму необходимость сверяться! Он рисовал наизусть! Картину в редчайшей манере письма — по памяти!
— Кто вы, молодой человек? — понимая, что совершает кощунство, отрывая мастера от творческого восторга, но более не в силах сдержаться, негромко спросил Дункан.
— Что-то случилось?! — всполошился, словно разбуженный среди глубокого сна, Марат.
Михаил Вигдорович живо распознал его возвращение к реальности. Этот бродяга не сразу сообразил, где находится. Не понял, почему к нему наклонилась фигура, чуждая, как чужая тень.
— Почему так темно? — спросил незнакомец, поднимаясь в рост.
Людей искусства, способных самостоятельно, без допинга, войти в творческий транс, по пальцам сосчитать, и нескольких таких Михаил Вигдорович знал. Сам, даже с помощью новомодного «кокса», подобного не умел, не получалось. Конечно, наблюдая окружающий мир иначе, чем большинство современников, себя Дункан скромно считал талантом, не гением. Понимал это отчётливо, как данность, мирясь с нею.
— Кто вы? Художник? — переспросил Марата Дункан.
— Кто знает? — усмехнулся озадаченно Апостол. Осмотрел руки в краске, разбросанные на полу фломастеры, портрет «Восточной красавицы». — Пожалуй, лишь в общем смысле слова. Почему вы спросили?
— Снимаю шляпу перед вашим мастерством. Дорогой мой, вы — безусловно, талантище. Не шучу, может быть, гений. В Киеве случаем? — продолжал допытываться Дункан.
— Можно и так сказать, но я — не художник.
Михаил Вигдорович приподнял брови, сразу сделавшись похожим на молодого актёра:
— Вы хотите разуверить меня в очевидном? В вашей работе чувствуется опытная рука. Поясните?
— Что пояснять? Не художник я, и всё тут. Родился не здесь, но в Киеве достаточно лет, чтобы претендовать на титул киевлянина.
Дункан выразительно посмотрел на ватман.
— Разве что отчасти, если хотите, — согласился Апостол, — ну, а вы кто?
— Чудеса, пришли на вернисаж и не знаете, как зовут виновника. Зато познакомимся, зовут меня Михаил Вигдорович Дункан.
— Его величество случай, — склонил голову Апостол и тоже представился, — Марат Игоревич Муравьёв.
— Право, я рад.
Марат почувствовал взаимное расположение:
— Странная штука, Михаил Вигдорович. Кроме уроков рисования в школе, зачастую прогуливаемых, я никогда не держал в руках кисти. Хотя слово «кисть» звучит чересчур напыщенно, даже фломастеры не приходилось применять по назначению.
Оба отчего-то заулыбались. Насторожённости как не бывало.
— Марат Игоревич, примите предложение. Повода сомневаться в вашем откровении нет, хочу пригласить в свою студию для закрепления знакомства.
— В качестве? Ученика — поздновато… Приятеля, не по чину, вроде.
Марат хотел было сослаться на Ворона, но передумал.
— Дорогой мой Марат Игоревич! Скажу сугубую банальность. Даже пень дерева-патриарха выпускает молодые ростки. Удивительное дело, но это есть. Уверен, при вашем усердии, правильно направляемом, придёт головокружительный успех. Берусь помочь. Соглашайтесь…
— Впечатлили. Пожалуй, зайду к вам, хотя настаиваю, что не художник. Смешно….
— Конечно, я не знаю, в какой области вы эксперт, но весомость художника определяется не числом выставленных картин. Состояние души, философия, образ жизни, полёт, взгляд на окружающий мир! Художником может быть кто угодно — преподаватель, бизнесмен, доктор экономических наук, ветеринар. Смотрите, вы попробовали себя в ипостаси рисовальщика и вдруг обнаружили, что всегда им были…
Студия располагалась на Прорезной улице, недалеко от Крещатика, в монументальном старинном здании и состояла из трёх помещений. Первое, наибольшее — личная мастерская художника; второе, поменьше — финансовая помпа, как выражался Дункан — подготовительные курсы для поступающих в художественные вузы; и третье, наименьшее — для индивидуальных занятий с учениками, позволившими себе такую роскошь. Смежные залы переходили друг в друга, как вагоны рекламного эшелона.
Марат решил принять приглашение Дункана, и несколько дней спустя отправился в студию. Дункан встретил его радушно, устроив ознакомительную экскурсию. Комната для индивидуальных занятий оказалась пуста. В средней дюжина отроков рисовала с натуры. Обнажённая девушка с крепкой грудью обнаружила удивительное сходство с «Восточной красавицей» мэтра, и Апостол понял, кого напомнил портрет на выставке. Бросилось в глаза, ускользнув от сознания, сейчас сомнения отпали: перед ним сидела его Галима. Она тоже узнала мужа, но не пошевелилась… и не покраснела. Заметный лишь ему румянец припушил тело, и раскосые глаза сверкнули из сузившихся век. Сейчас она напоминала якутку в яранге, сощурившуюся на блистающий под солнцем снег.
— Узнаёте? — Дункан кивнул на натурщицу.
— Ещё бы…
— Хороша?
— Признаться, сразу понравилась…
— У нас, выясняется, дорогой Марат Игоревич, очень похожие вкусы.
Перебрасываясь фразами, они прошли в личную студию, где мастер, не поленившись, собственноручно заварил кофе. Прихлёбывая ароматный, слегка просветлённый сливками напиток, Дункан продолжил нахваливать натурщицу:
— Моя гордость. Девочку зовут Галина. С моей студией у неё эксклюзивный договор, так что её портреты не увидите в других школах. Дороговато, не спорю, но приходится держать марку. Конкуренция среди студий чудовищная. Сегодня каждый сам себе авторитет. Чтобы объявить себя гуру, уже не требуется позволения Союза Художников. Галочка пришла около года назад, поначалу работала за копейки, но когда согласилась на «обнажёнку», стала поднимать неплохие деньги. Только… Знаете, Марат Игоревич, никак не могу избавиться от ощущения, что она работает за «интерес». Не хотел бы лицемерить, но как обнажаться перед юнцами, будучи уверенной, что они с жаром почтят Онана, вспомнив её равнодушный взгляд. По-моему, если договорилась с собой и готова раздеваться за деньги, то с тем и ложись под новоявленного Креза. И капитал повесомее, и удовольствие не исключено… Простите, увлёкся, всё о натурщице, всё о ней… Не обижайтесь… У меня нет оснований не доверять, но если вы тогда, на выставке, впервые взялись за рисунок, то обязаны, возражения не принимаются, пройти обязательное обучение. Поверьте старому «мазиле», совершенно не имеет значения, когда человек решает стать художником. Главное, обнаружить в себе подобное желание. И начать.
— Вы уверены, у меня есть желание? — против воли спросил Апостол, ведь ему хотелось вернуться к разговору о натурщице.
— Ваша копия гениальна! — вырвалось у Дункана.
— Михаил Вигдорович, поверьте в моё к вам расположение. Потому откровенно: я не заносчив, но хорошо знаю, что талантами не обделён. И не стоит, задирая бровь, отыскивать шизофрению, её у меня нет. Проблема в другом, вас не касающемся. Наша встреча действительно кое-что изменила в моей жизни, так что у меня непременно высвободится время для живописи. Я говорю: почему бы и нет.
— Да! Да! Да! Согласны?! — мастер обрадовался, как ребёнок, — не подумайте, Марат Игоревич, я в деньгах нужды не испытываю. В Киеве не один десяток авторских школ, но моя методика известна далеко за пределами Украины. В любой из студий возьмут червонец за академический час. Новичкам достаточно заниматься раз в неделю по два-три часа. Я не возьму с вас ни копейки, но видеть желаю не менее трёх раз в неделю.
Апостол согласился. Будет чем казнить скуку, разнообразить досуг. Того состояния, когда, склонившись над ватманом, он позабыл об окружающем, не было давно. В последний раз, кажется, когда менял приисковое золото на звонкие советские рубли.
Один из начинающих гениев сетовал, что натурщица, прервав сеанс и покинув студию, не дала закончить рисунок. Дома Галима тоже отсутствовала, за что Марат был безмерно благодарен. Не любил родственных разборок. Семейная жизнь тлела на стадии, когда оба супруга дожидались, кто сорвётся первым. Поэтому донимать небеса патетикой «За что?», Апостол не стал. К калмычке он постепенно охладевал, и с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить. Давно бы ушёл сам, но отцовский инстинкт вкупе с нерусской покорностью жены вязали по рукам и ногам.
Чтобы овладеть каким-либо ремеслом, люди получают образование, совершенствуются, присматриваются к мастерам. Но как быть несчастному, чей путь бесконечен? Как жить тому, у кого всё получается, но в результате ничего не выходит, потому что… не хочется? Как существовать универсальному, абсолютному, обречённому на одиночество? Что делать страннику, заплутавшему в тщете поиска, всякий раз выходившему к развилке дорог?
У создателя колеса стезя бесконечна. Можно изобретать его до конца жизни — занятие бессчётного множества людей. Твари Божьи, если рассматривать их вблизи, созданы самобытными, неповторимыми, поэтому поиск смысла жизни не подчиняется обобщениям. Когда же отдаляешься и смотришь на толпу невооружённым глазом, она всегда кажется однородной массой.
— Я не практикую хвалить учеников, но вы, мой дорогой друг, уже коллега. Чему большинство учится годами, в вас заложено с рождения. Изобразительная способность, художественность — талант, но не менее тренировка. Таланту тоже нужно учиться.
Мастерская индивидуальных занятий представляла собой просторную солнечную комнату с выглаженным в блеск паркетом, не обременённым мебелью. Высокая арка окна выглядывала на улицу, из-за чего приходилось держать её закрытой. Шум частых моторов и угарный дух выхлопов мешали восприятию чуда: на творожно-белых стенах томились кашпо с цветами резеды, вся жизнь — от литого бутона до увядания.
— Итак, техника. Для начала нам потребуется изучить две вещи: основы рисунка и пропорции лица. И третье — доказательная практика.
Михаил Вигдорович приладил на мольберт карандашный портрет.
— Лик сурового партийного бонзы из эпохи застоя. Что сказать об основных пропорциях его лица, я не имею в виду решимость достигнуть светлых высот коммунизма. Всмотритесь внимательно, не спешите. Тогда, на выставке, вам удалось по наитию, но очень чётко передать соразмерность и особенности лица натурщицы. Увы, бывшей… Прямо жаль…
— А что с ней? — стараясь казаться безразличным, спросил Апостол, хотя напрягаться для этого не пришлось.
Ему и впрямь начхать, куда направилась калмычка. Интересовало меркантильное: чем она обосновала увольнение со столь интересной работы?
— Вернулась на родину, — пояснил, угадав настроение, Дункан, — сегодня народы заново осознают собственную индивидуальность. Малые нации — калмыки, чеченцы, да и мы, евреи, получили счастливую возможность спастись от ассимиляции. Марат Игоревич, мы отвлеклись, оставим в покое натурщицу и вернёмся к работе. Пришло время осознать то, что на выставке вам удалось схватить инстинктивно. Разгадка в пропорциях, если верно присмотреться к предмету.
Апостолу показалось понятным, о чём толкует Дункан. К чему донимать портрет, если заметно сразу:
— Между глазами поместится ровно ещё один глаз.
— Дальше! — Дункан вскинулся, как в первом оргазме.
Апостол в душе подтрунивал над горячностью учителя, но ему определённо нравился творческий восторг художника.
— Да вот… Пожалуйста… Расстояние от глаз до подбородка равно расстоянию от макушки до глаз.
— Верно! Не от причёски же! — воскликнул Дункан. Сейчас он походил на нимфоманку, наслаждавшуюся безумными эротическими фантазиями. Трепетавшую в предвкушении новых и новых ощущений.
— Ясное дело, а ещё, — Апостолу всё больше нравилась перебранка, — расстояние от линии волос до бровей равно расстоянию от линии бровей до кончика носа.
— И…
— И… Расстоянию от кончика носа до подбородка. Между глазами, аккурат, ширина носа.
— Вы уникум, Марат Игоревич!
— Между зрачками, — Апостол не мог остановиться, — как раз рот, от уголка к уголку губ…
— Браво!
— Между ртом и бровями — тютелька в тютельку ухо! — вскричал Марат, словно вернувшись в детство.
Дункан легко, как кузнечик, взлетел с места и в пару прыжков исчез. Вернулся с початой бутылкой «Кизлярского» и двумя правильными коньячными бокалами. Пританцовывая от нетерпения, разлил:
— Признаюсь, не могу избавиться от ощущения мистификации. Не шутка, попробуй зазубрить все хитрости кряду! Но увидеть их и пересчитать — дар Божий!
— Помилуйте… Глазомер… — оправдывался Апостол.
Но, как всё приятное, досуг истёк. Пошла назойливая многочасовая работа. В первую очередь он осилил начала изобразительной грамоты. Первые уроки Дункан посвятил карандашу. Апостол, не в укор многим ученикам, не испытывал финансовых затруднений, поэтому тотчас приобрёл набор бельгийских карандашей, потянувший кругленькую сумму. Можно было чередовать мягкие и жёсткие грифели.
Попрактиковавшись, Марат научился правильно распределять нагрузку на руку и подбирать грифели для желаемого результата. От нового увлечения в основном страдали бессловесные существа: домашние кошки и случайные отроки. Апостолу отчего-то понравилось рисовать кошек, но они отказывались позировать долго, и дворовые пацаны за вознаграждение держали их на руках. Дрессировщиков с исцарапанными руками приходилось менять часто, но зато прибывало остроты ощущений.
На следующем этапе кошки удостоились пастели. Ведро тюбиков Марат приобрёл на блошином рынке у весёлого филиппинского морехода, умеющего объясниться на любом языке. Корабль морячка стоял в Одесском порту вторые сутки. Как и зачем бродяжка попал в Киев, оставалось загадкой.
Маслянистую пастель надлежало наносить на бумагу пальцами. Вскоре в студии и квартире Апостола всё, к чему он прикасался, покрылось отпечатками, присущими дактилоскопическому атласу.
За пастелью последовала акварель. Лишь теперь Марат ощутил явственность цвета. Дункан настаивал, чтобы Апостол продолжил совершенствоваться в технике, но ему не терпелось перейти к гуаши, а затем к долгожданному маслу. Собственный рисунок влёк Марата повторить сюжет в классическом исполнении.
C некоторых пор учитель стал испытывать предубеждение к работам любимого ученика. Подразумевалось даже не отсутствие стиля, наживаемого годами. Дункан терпеливо ждал, когда Апостол перейдёт от феноменального копирования к индивидуальной манере письма. При желании исцарапанных мальчиков с кошками можно было в приближении отнести к фотореализму. Увиденное передавалось нечеловеческим чутьём форм, цвета и гармонии, с ужасающей мастера точностью.
Михаила Вигдоровича пугала жажда воспитанника к ежедневным занятиям. Изостудия не всегда оказывалась свободной, существовали другие ученики, к тому же вовсе не Прометей от рождения, Дункан терпеливо влачил старость. Ученик казался ненасытным, напоминая учителю ментальную пиявку, изображённую им в молодости на школьной доске за минуту до визита директора.
Первая трещина в отношениях появилась, когда Дункан организовал очередную выставку. Мало того, что не предложил Апостолу обнародовать свои детища, но безвылазно проводил там день за днём, отлучив ученика от индивидуальных занятий на недели. Другой занозой оказался нелестный отзыв. Дункан за полмесяца продал всего три картины и, пребывая в отвратительном настроении, сообщил воспитаннику, что его сверхточные копии безнадёжно мертвы. И перечислил с издёвкой — как круглый стол, глиняный кувшин, расшатанная кровать, как накрахмаленная постель, декоративное блюдо, кашпо с окаменевшим цветком, в конце концов — как безупречная чистота.
Закончив перечислять мёртвые субстанции, Михаил Вигдорович добавил, что в рисунке давно пора одушевлять сугубые наблюдения живыми эмоциями.
— У меня нет эмоций, — холодно ответил Апостол, — воровать чужие противно.
— В таком случае воздержись работать с маслом — это высший уровень ремесла. Его нельзя разменивать на халтуру, он служит шедеврам. Не забывайте, Марат Игоревич: человек уникален. Чтобы написать портрет, не копию, нужно уловить и запечатлеть на холсте ничтожные расхождения с классическими пропорциями: изощрённая линия глаз… ну, не знаю… цыплячья шея… урождённый вкось лоб…
Скоро Апостол перестал понимать, что требует от него учитель, и оттого сердился — на одного себя. Но утешался главным: «Рисуй, что видишь». Впрочем, мелкие разногласия пасовали перед удовольствием от работы, а она усмиряла одиночество. Сегодня Апостол ощущал наивную уверенность, что его существование кому-то жизненно необходимо. Кому-то близкому, но абстрактному, чьё присутствие неоспоримо, но бездоказательно.
Кажется, никогда раньше не пробовал фантазировать. Тёмная скользкость окна застыла в ожидании утра, пасмурного и безликого. Сон не шёл. Внезапно, словно по прихоти ночной меланхолии, из воздуха, пронизанного луной, соткалась светловолосая дева. Апостол увидел её явственно, будто она существовала реальнее его самого. Высокая, казавшаяся выше заметного, с роскошной пряжей светло-русых, в позолоте, волос. Глаза цвета незрелой оливы, всеядный взгляд, из-под чёрного выгиба бровей, продолговатый нос с изящно выгнутыми ноздрями. Пунцовые губы, как несорванный лепесток. И овал лица — Апостол сразу решил, что на холсте оно будет продолговатым. Ум и сердце Марата ныли в унисон от неповторимого видения. Сияющая туника, чёрно-белая, в серебре. Цвета разделялись у груди, окрашивая половины в противоположные тона. Оказывается, не только он, но и совершенство бывает разрозненным, цельностью двух начал.
Апостол, словно обезумев, бросился в спальню. Вернулся с бумагой и карандашом. Рука, не советуясь с разумом, набросала контуры тела. Секундой до завершающего штриха морок распался. Фантазия перешагнула грань, вырвавшись из царства фонарей. Магическая туника обратилась в пепельный ситец. Из подъезда, быстро семеня, к девушке подошёл счастливчик с физиономией Мефистофеля и обручальной бронью на нужном пальце — широчайшим кольцом, отразившим потусторонний свет. Подхватив девушку, закружил вокруг себя. Она, обхватив его шею руками, беззвучно смеялась, или плакала, наслаждаясь мгновением. Затем они исчезли, растворились в темноте зародившегося утра. В окне дома напротив вспыхнула люстра. Полыхать свободно ей мешала тень от восходящего нимба. Очарование вмиг потускнело, превратилось в слезоточивую дымку.
Апостол не стал фантазировать, но задумка так вдохновила, что он решил запечатлеть сюжет в акварели. Закрепил на доску лист проклеенной бумаги, жидкость на нём впитывалась медленней, зато краска липла легко. Алчно оглядел плоскую кисть беличьей шерсти и быстрыми мазками покрыл бумагу водой, одновременно лишая поверхность пыли. Круглой кистью нанёс контуры и, пока не утвердилось утро, прорабатывал детали кисточками из колонка. Жёсткие, сумасшедшей цены кисти из соболя Дункан забраковал, заставив прилюдно похоронить в урну, чтобы впредь не корить ими малообеспеченных коллег. Красками, по настоянию того же Дункана, пользовался полусухими, окружавшими рабочее место в упорядоченном беспорядке. И, наконец, в связи со строжайшим указанием мэтра, Апостол ограничился несколькими базовыми цветами. Остальное зависело от мастерства художника, его видения цвета. К утру картина удалась. Марату казалось — непревзойдённо.
В действительности мир рисунка устроен незамысловато. Запомнив его закономерности, не грех замахнуться на званый шедевр. Точно так же, расшифровав законы природы, можно создать званый мир. Человек готов помечтать, но всегда опасается вселенских забот, обходясь единственной, повседневной — о насущном. Вообще, Апостол давно заметил, что желание творить у людей возникает редко, намного чаще разрушать.
Талант художника — способность навязать людям свои иллюзии. Марат видел мир таким, каким он представлялся воочию именно ему. И не ошибался, останавливая мгновение, другому недоступное. Не постигая, вырабатывал язык созерцания, казавшийся универсальным, но на деле чрезвычайный, индивидуальный, присущий ему одному и всё же разнившийся с воплощением на холсте. Он научился переносить мысль на полотно, не задаваясь вопросом, что движет этим — талант или отточенное умение. Умеющих рисовать великое множество, талантливых — единицы. Умелец скопирует картину мастера с поразительной точностью. Она, как однояйцовый близнец, похожа визуально, но невесть куда рассеивается изначальный смысл. Виноват ли путник, разглядев среди пустыни оазис и приняв за действительность мираж? Кто посмеет осудить жаждущего?
Апостол испытывал жажду, поэтому увидел в окне то, что не дано рассмотреть другим. Восторг, вдохновение, песнь песней.
Утром Марат отпер студию, приладил картину и с замиранием сердца стал дожидаться хозяина. Дункан явился неожиданно, холодный и понурый. Вскользь осмотрел картину и сразу же вышел, не сказав ни слова. Потрясённый Апостол догнал и остановил невежливо, за плечо:
— Вот как? Неужели картина такое дерьмо?
— О чём это вы? Какая картина?
Усилия казались напрасными: Дункан выглядел плохо.
Вечером Апостол отправился за советом к человеку, понимавшему искусство мало, но отлично разбиравшемуся в жизни. Ворон слушал, погрузив крючковатый клюв в полуторную кружку с чаем, отчего линзы очков отпотели, скрывая за туманом выражение глаз. Понять, сопереживает вор или забавляется, не получалось.
— Публика подтягивается после, — старый вор сорил загадками, тем не менее ангелам с ним было легко, чертям нудно, а Марату претило искать разгадки, — ты, браток, не был на зоне… Фраера считают, что людям можно доверять и доверяться. Муть! Нельзя класть посторонним слишком власти над собой. Опасно. Ещё вреднее добиваться одобрения, даже среди равных. Пойми, сынок, никто, пусть трижды ас в своём деле, не способен честно ответить на самый важный для себя вопрос — стоит ли он чего-нибудь в этой жизни. Твоя картина… Я не видел её, — Ворон остановил Апостола, вскочившего за акварелью, — не обижайся, не хочу. Стар для искусства. Вот что чаю сказать. Хитрецы умеют прекрасно расписывать, как тронуты, созерцая результат твоего труда, но мало знают и ещё меньше интересуются деталями творчества. Единственный безупречный контакт — личность. Люди по природе больны страхом. Едва родившись, уже заражены. Со временем бациллы страха проникают в сердце, кости, мозг.
— Чего же они боятся?
— Они боятся, что из их тупой массы вылупится фраер, пойдёт в мир и назовётся художником…
— Почему художником?
— Или писателем, или вором, или бизнесменом. Кто-то покруче, способный мыслить свободно.
— Прости, Ворон, но я всё равно не понимаю, почему Дункан утром так себя повёл. Не понравилось, скажи. Михаил Вигдорович не из толпы, он выше, я точно знаю. Называет меня копировальщиком, иной раз фотоаппаратом «Киев семнадцать». Говорит, я должен расти — фото никто не назовёт гениальным или талантливым, только удачным.
— Апостол, — глаза Ворона сверкнули за толстыми стёклами, — допустим, в моих глазах копирование крайне полезная штука. Ты написал «шедевр», но дрожишь над ним, как мамка над дитёнком. Но представь, что у матери не один, а трое, четверо, шестеро пацанят. Напряжение разом стухнет. Вот, глянь-ка, — Ворон выложил на стол новенький, пахнущий типографской краской, четвертной билет.
Фиолетовая купюра с портретом вождя на лицевой стороне показалась Апостолу жалкой.
— Но представь, это последняя бумажка в городе. Сколько, по-твоему, она должна стоить?
— Если последняя… Значит, заценится так, что превратится в неразменку.
— Ещё б. Один мой знакомый — филателист и большой счастливчик. Редкий… У него, представь себе, «Голубой Маврикий»… Слышь? Пять почтовых марок по всему миру. Этот чудак — неслыханный богач. Даже не потому, что его клочок бумаги сам по себе стоит громадных денег. Дело в другом. Случись ему подыхать от голода, он не уступит сокровище ни за какое бабло. Даже за кус хлебца перед могилой. А если таких бумажек не пять, а тысяча, десять тысяч… — каждое слово старого вора сопровождалось появлением следующей купюры на столе, — чего будет стоить каждая? Чувствуешь отличку? В какой-то момент цена приблизится к номиналу, а там, гляди, вовсе обесценится. Знаешь, почему? Вникай — исчезнет подлинность. С появлением кучи копий рухнет номинал… Но пока это произойдёт, можно за дёшево ухватить выхлоп в золотом наваре. Или в недвижимости… Да мало ли… Так вот, твоя картина! С подписью! Ответь, Марат, какую цену положат за неё! Не знаешь? Ага, плёвую! То-то и оно, маклак сивый назначит цену, взрыдаешь, — в голосе Ворона послышалась двусмысленность. Марат взял первый, явленный Вороном четвертной, внимательно осмотрел с обеих сторон. На лицевой части номинал цифрами и прописью, герб, и знакомый, тиражированный где попадя, профиль. На оборотной стороне снова номинал, сама непогрешимость на языках пятнадцати союзных республик. Глянул на свет. Понимающе хмыкнул, раскусив подоплёку:
— Бумага экзотическая…
— Вижу настоящий интерес, — подметил Ворон, — конечно, затейливая бумага… но не такой уж дефицит… Печь блинына[71] пользу себе и для общака — дело фартовое и очень почётное среди нас.
Как в воду смотрел. Апостол, забыв дорогу в студию Дункана, вынашивал космическую идею. Безвылазно сидел в опустевшем доме, в бывшей детской, намеченной под печатную лабораторию. Специально приобрёл купюры в солидном ассортименте, от старинных с нумизматическим достоинством, до нынешних. Портрет царственной особы завораживал, вызывая на поединок. Сражение обещало стать решительным и захватывающим дух. Апостол не нуждался в деньгах, лишь требовал от мира признания. Смотрящий подсказал непринуждённый выход из тупика. Действительно, достать звёзд в живописи чрезвычайная удача. И уж, во всяком случае, очень сомнительная. Знаменитый «Чёрный квадрат» Малевича, постыдная несусветность, подтверждал невесёлые раздумья. Дункан, ещё недавно признаваемый Учителем, на поверку оказался пустоцветом.
В творческом пылу Марат поначалу не обратил внимания на предложение выставить несколько работ под его именем. Дескать, предъявить на высший суд публике. Вначале Апостол нашёл в приглашении Дункана трогательную заботу о подающем надежды себе — работам неизвестного ученика придала бы вес известность мастера. Но, оказалось, маститый не раз проделывал такое с начинающими. Некоторые из этих работ вскоре признали шедеврами. О чём думать — альтернатива мурлыкавшим котёнком просилась на руки. Хотите изумительный оригинал — получите безупречные копии. Бесчисленное множество клонов, и каждая разменянная банкнота станет признанием его состоятельности.
Апостол, всемерно поощряемый Вороном, с жадным любопытством принялся за литературу по фотоделу, полиграфии, составу типографских красок. Подбирал сочетания цветов, нащупывал пути получения бумаги с нужными водяными знаками. Но вскоре понял, что сугубая химия его интересует мало. Каждая купюра, любой оттиск на станке, должна стать шедевром, не разнящимся с оригиналом. Это и будет решительным доказательством таланта.
Апостол отчётливо понимал, что ждёт от него смотрящий. Счастье не в деньгах, но без них отчего-то не наступает. Жизнь порой частично, но чаще всецело раба этих бумажек, а уж внутренний мир, облачённый в мантию духовности, легко свергается с пьедестала пачечкой солидного номинала, вложенной в загребущие руки. Чем духовнее внутренний мир, тем толще стопка деньжат.
Пуще другой валюты привлекала Марата американская. Наивное соцветие доллара — чего уж проще. Скупость зелёного окраса давала надежду на благоприятное начало и успешное завершение.
Среди очередной партии книг, доставленных посыльным по поручению Ворона, затесалось руководство по гравёрному делу на английском языке. В школе Марат мусолил испанский, в техникуме прессовали немецким. В итоге в манускрипте Апостол не отыскал ни одного знакомого слова. Поэтому рассматривал картинки. Когда же за ненадобностью отложил книгу в сторону, голову пронзила свежина. Озарение испугало непогрешимостью, идея «ноликов» казалась гениальной находкой. Долго рассматривал мелочную, в один доллар, купюру. Затем приладил на доску. Час вдохновения — и доллар засверкал новым достоинством.
Марат присмотрелся внимательно, а после и вовсе повеселел. Разложил на столе доллары по возрастающему номиналу: один, пять, десять, двадцать пять, пятьдесят, сто. Сверху выложил в той же последовательности родные деревянные. Нашёл в журналах фотографии вождей социалистической родины и снова ударился в работу.
Через день к вечеру Апостол выложил перед Вороном банкноту достоинством в доллар. Вор недоумённо повертел бумажку в руках, посмотрел на свет, сложил вдвое, снова развернул:
— Подлинник… Решил взяться за валюту?
— Не возражаешь?
— Вовсе нет, это занимательнее нашего дерева. Но зачем вкладывать труд в мизерный номинал?
Марат ответил торжественно, едва не захлебнувшись в хвастливом восторге:
— Ты, батя, уверен, что это один доллар?
Ворон даже не посмотрел для острастки. Доллар и есть доллар, как ни крути.
— Сто пудов.
— А это, — Апостол выложил на стол ещё купюру.
Ворон криво усмехнулся, в глазах запрыгали взбесившиеся тени.
— Это, брат, тот же доллар, но с двумя ноликами. Инвалидная сотня. Подрисовал ты, Апостол, два нолика к единичке. Работа ювелирная, должен признать, но не новьё, как предполагаешь. Топчешь чужой след. Я человек старый, больной, раздражительный, много объяснять для меня — погибель.
— Вот как? Ладно, положим, я не первопроходец. Ясное дело, у доллара и у сотни свой фей, но для вахлака цифра доказательство неумолимое. Написано сто, значит, сто и есть.
— Сынок, я до того, как попал на малолетку, успел три класса школы закончить. Там научился считать от единички до ста. Но рожу президента Вашингтона от шайбы президента Франклина намацаю с закрытыми глазами. Оба они — буржуины…
— Значит, на английском языке читать не умеешь?
— Учителя на зоне плохие были, не умею.
— Вот и я тоже. И процентов восемьдесят нашего народа не умеет. Из них половина долларов в глаза не видела.
Ворон ухмыльнулся:
— Не спорю. Может быть, статистика такая, как ты говоришь. А вот выйди в город на точки, где менялы тасуются, приглядись. Народ, хоть и никчёмный, но все признаки баксов назубок знает — ворсинки красную с синей, перегиб через президентский глаз — в общем, не проведёшь, засыплешься. Короче, топтаная дорожка. Хочешь убедиться — спробуй на паре штучек, только сбывать в глухомань сунься.
— И впрямь надо попытаться, а вдруг…
Апостол расплылся в улыбке, вмиг превратившись в ребёнка, чьё заветное желание наконец-то, на тридцатом году жизни, свершилось.
— Я тебе, Марат Игоревич, вот что скажу. Штучка эта сработает в тмутаракани недельку, пока народ не пуганый. Правда, хлебную недельку… Потом запеленгуют и свои и чужие… Отвечать скоро придётся… Но ты другое прикинь. Время смутное. Всякий народ, мне ведомо, за наживой толчётся. Пройдохи из той же Америки, что северной, что южной — те валюту на зуб пробовать не станут, уверены, что оком в момент обоймут. У них дешёвый товар легко урвать за твои керенки. Дело техники. Взять куш — и в сторону. Короче, Марат, понадобятся бумажки с большим номиналом, но чтобы не отличить от казённых…
— Много, согласись от руки не намалюешь, — возразил Апостол.
— Не велика важность, станок раздобудем… Ты только клише изготовь, с него умелые люди напекут правильно.
— Ну, если так… А вот ещё зацени, — сказал Марат и разложил на столе обработанные наново номиналы. С баксов укоризненно смотрели на Ворона вожди социализма.
— Ну-ка, ну-ка… — склонился над оригинальной коллекцией, изнемогая, Ворон, — Маратушка, каков ты стервец, не-е-е, братка, не ошибся я в тебе. Забираю, и не перечь… Есть толковая мыслишка…
И бережно сложил бутафорию в стопочку. На том и расстались.
Утром следующего дня посыльный в мастях и с золотыми фиксами под верхней губой, доставил в опустевший дом Муравьёва сумку с брикетами баксов нужного достоинства. Потолще оказалась пачечка однодолларовых.
— А на словах, — сказал, прощаясь, посыльный, — просили передать, чтобы ты коллекцией занялся вперёд…
— Понял, поглядеть прежде надо, — ответил Марат, размышляя о насущном.
Просьбой, озвученной посыльным, Марат пренебрёг, занявшись долларами минимального номинала. Дорисовать два лишних нолика так, чтобы не возникало подозрение в подлинности, а халтурить Марат не любил, взяло не менее десяти минут. Отработал с перерывами на еду и сон кряду восемнадцать часов. Это был труд, адский, но труд. Дорогой и производительный — по пятьсот двадцать долларов в час.
Ворон почти не ошибся в прогнозе. Марату с приключениями удалось пристроить с десяток новорождённых сотен, но и на периферии народ ощутимо поумнел. Поделку распознавали с лёту, ретировались стремглав, а иные грозились отвинтить голову. Серьёзные намерения останавливала внушительная фигура Апостола. Забавно, что тревожные отголоски раздались из полукриминальных теневых альянсов. Тамошняя публика со вкусом разбиралась в «зелени» и хотя бы немного читала «по-штатовски».
Апостол, припомнив слова посыльного, наградил было немного валюты портретами вождей, но затосковал и вернулся в чистое искусство. Сначала к котам и поцарапанным мальчикам. После к полюбившейся ночной красавице. Хотелось проверить границы собственных возможностей. Почему бы и нет. Жизнь — игра, творчество — сложнейший изыск истины, а с нею и смысла жизни. Творить постоянно, на грани физических и душевных сил, смертельно для стопроцентного человека, но даже такой экстраординарный атлант, как Муравьёв-Апостол, впрочем, ограниченный собственной физиологией и сопротивлением материала, на запредельных нагрузках ломается. Организм, ощущая приближение предельной черты, реагирует неадекватно. Тогда грядут конфликты с действительностью.
Существенную разницу, где именно применить свои таланты, Апостол перестал ощущать. Лодочник думает, что управляет хлипким судёнышком своей судьбы самостоятельно. Возможно, в начале пути такое заблуждение отвечает истине, но по мере удаления от детской беспорочности с треском ломаются вёсла, за ними рулевое управление. Безжалостные волны вкупе с немилосердным солнцем насилуют борт, пока он, растрескавшись, не даст течь. Лодочник, творец и лоцман судьбы, вместо того, чтобы приложив к бескозырке руку, смотреть вперёд, отдавшись воле провидения, занят черпанием воды из разбитого корыта. Где разница, если это имеет отношение к тебе, какое определение устроится после слова гений — гений бокса, гений рисунка, или гений имитации?
Ворон при следующей встрече, не сдержав ликования, похвастал с порога:
— Ну, проходи, проходи, воин… Чтобы тебе так сладко жить и не окочуриться… Пошли на ура флагманские баксы. Богатый бомонд в обморок попадал, языками липкими зацокал. В три дорога заглотили твои причудники — враз модными стали… Надо же, чего удостоились вожди пролетариата… В драгоценную оправу взяты, на золотой цепочке в видных местах на стенке болтаются. Как ни странно, Маратушка, цена растёт и растёт. Делай по-быстрому ещё и на меня скидывай… Никакого криминала, а выхлоп — царский…
Случается. Одно дело, если отец, приготовив сыну подарок, сунет запросто в руки в памятный день. Дитя наверняка не упомнит. Или иначе, когда родитель, сам с воображением, припрячет заветное, а сын, чтобы найти, своё старание вложит. Скажем, добудет папаша пару монет — не шибко ценных, но с чужестранными подъеденными надписями, прикопает где-нибудь среди средневековых развалин, а сыну предложит на поиски «клада» отправиться. Поедут вместе куда-нибудь в старинную крепость, и среди рухляди и хлама выкопает пацан, исподволь по отцовой указке, памятный на всю жизнь «клад». Вот что подарок. С них станет. В кои времена упросит мальчишечка батю в прятки постараться. Если отец недогадлив или нетерпелив слишком и сына сразу отыщет, не избежать пацану огорчения. Быстро найдут — удовольствия мало. Случись, отец изобретательный, с пониманием детской души — дождётся, когда сын сам себя обнаружит. Окрикнет, завозится, чтобы слышно было. И тем поощрит отца взять и найти. Отыщется парень, но удовольствия получит побольше. Напротив, если отец поленится искать, сдастся, любимое чадо испытает разочарование, какое там торжество. Услада от игры в любом случае останется, но отказ от игры, от поиска — первая причина недоверия. Наступит время прятаться отцу, пусть сообразит, что укрыться должен не слишком тщательно, но для забавы в меру, чтобы отыскать удалось вовремя. И надобно отцу тогда уж изобразить расстройство от проигрыша. Как раз тут проясняется, что истинная награда — когда тебя неизбежно находят.
Среди преступников любых кланов, мастей и специализаций легко выделить два трафарета. Одни преступают закон из-за выгоды, другие, лучше назвать их игроки, ради куража. Игрок имеет свой почерк — по нему опытные следаки идут по следу, и даже умеют правильно предположить следующий шаг игрока. Игрок, посмеиваясь, легко видоизменяет обстоятельства в нужной направленности — то усложнить работу следствия, а то и облегчить. Иные, ушлые, умеют сработать с минимальным числом улик, наследить ложно и даже поиздеваться над следаком, оставив на месте преступления свою фирменную улику, «визитную карточку».
Марат Игоревич Муравьёв-Апостол, прирождённый изобретательный и наделённый многими талантами игрок, в деньгах не нуждался. Поток неожиданного вдохновения к какому-либо занятию часто становился его движителем, управлял им, понуждая к действию. Последнее увлечение, тяга к чистому искусству вылилась в безнадёжное в конце концов предприятие. Отложив на потом выгодные предложения Ворона, Апостол решился фабриковать двадцатипятирублёвые, наиболее защищённые советские ассигнации. Он с энтузиазмом взялся бы имитировать рублёвую купюру, окажись она наиболее сложной в изготовлении.
Исчезли друзья-приятели, прежде любившие заходить без стука. Галима, сколько стало известно через всемогущего Ворона, вернулась с дочками на родину, в Элисту, и носа в Киев не казывала. Возможно, боялась, но, не исключено, радовалась исходу. Апостол вёл аскетический образ жизни — не предавался вредным привычкам и обходил десятой дорогой женщин, что в его возрасте и положении смотрелось странным. Работал он вдохновенно, однако любой художник устроен так, что не может бесконечно работать в закрома. Как воздух, ему жизненно необходимо признание, где даже посредственный результат — удача. Осечка, наоборот, даёт новый толчок к совершенствованию. Мастер холста худо-бедно имеет возможность выставить работы на потребу дилетантам, на суд знатокам. Пусть даже в подземном переходе. Апостолу, чтобы предъявить миру свои шедевры, предстояло идти в люди и при этом рисковать свободой.
Иногда, оставив на время творческие потуги, Апостол отправлялся «понаблюдать». У пивного ларька на входе в рынок всегда людно. Здесь смешивались и разменивались потоки людей, витали над головой пережёванные рыночные сплетни. Апостол с толпой вливался в упорядоченный хаос рынка, ходил между рядами и внимательно наблюдал, как перемещаются деньги. Мясники принимали бумажки осторожно, измазанными в крови пальцами. У брезгливых продавцов рыбы всегда мокрые руки. Встряхивали, прежде чем взять ассигнацию. Азиаты и кавказцы предпочитали новенькие купюры, местные земледельцы радовались затасканным, в чёрных морщинах рублям.
Насмотревшись, Апостол решился. Новичку повезло, пристроил с десяток четвертных. Завертелось, понеслось.
Марат любил «работать» самостоятельно. Влекло на досужий расчётливый риск — как никогда. На ринге цены бы тому не сложилось. «Работа» в незнакомом городе первым делом предполагала прощупать рынок. Отыскав его и учтя реальную вероятность провала, Апостол сначала выполнял культурную часть визита. Тем более что к полудню зоркие торговцы, набив карманы чепуховой наличкой, теряли бдительность, и базар превращался в гудящий улей, в проблему протиснуться между рядов. Вот и на сей раз ничто не предвещало осечки. Стояла ровная осень, за городом, куда ни погляди — лес, и дышалось сладостно.
Марат понежился на подвесном мостике, побродил в музее космонавтики и затем в краеведческом. Что делать — программа есть программа, и время растрясти полезно. Не поленившись, подался на Тетеревское водохранилище, где обосновался надолго, любуясь монументальностью скалы Чацкого, подгребавшей подолом воду. Впервые изменив намеченному маршруту, отправился на рынок раньше. День подобрался к полудню, намекнув на дождь, и отчётливо почуялось возвращение в Киев не солоно хлебавши.
Ночью с высоты птичьего полёта Колхозный рынок напоминал чёрную трясину в сердце города. Но с первыми лучами болото превращалось в животворное озеро. Не слишком чистое, засаленное разноликой фауной и порой нечистью. Когда вконец прояснится, к рынку начнут стекаться покупатели. Сперва их стайки — сплошь страждущие бессонницей, но вскоре они объединятся в разношёрстные потоки, заматереют и сольются в половодье.
Марат Игоревич размышлял о схожести судьбы с театром. Мать, фанатичная театралка, впервые понесла сына в «храм Мельпомены» между вечерними кормлениями, свято надеясь, что паломничество в одухотворённую обитель останется в памяти ребёнка с младенчества. Возможно, именно это обстоятельство предопределило дальнейшую судьбу чада. Притворство, враньё, кривляние, ранее считавшиеся моветоном, получили право на резонность. Оказалось, блеф и манерничанье актёров не только возможны, но и возвысятся публикой до духовных ценностей. Телевидение, кино — о других свойствах. Плоский экран отображает действо как раз на границе условности. Всё, что за ней происходит, изначально неправда. В театре, то есть в жизни, часто иначе. Человек, родившийся в семье комбайнёра, пытается убедить окружение, что он Калиостро. Ему, обладателю банальных способностей, удаётся легко надуть зрителей. Почему же мошенник, обходивший квартиры под видом участкового лекаря, попутно совавший в портфель то, что плохо лежит, хуже актёра, чьё притворству мы поощряем кровно заработанными деньгами. Отчего такая несправедливость: первый — негодяй и отброс общества, второй — гений, достойный подражания.
На рынке Апостол высматривал подходящего для процесса партнёра. Упитанные азартные хохлушки, торгующие растительной и животной снедью, пронзительно внимательны и осторожны. Живчик еврей, виртуозно сбывающий эрзац-украшения, невероятный дока, на грош не проведёшь. Его хоть сейчас в оперетту или напёрсточником на железнодорожный вокзал. А вот цветочник из удобрённого нефтью Азербайджана, кажется, не пуган. Такие столько уверены в своей исключительности, что ей в заслугу заносят наивность чудака, купившего жене розу. Рассчитывается в звон хрустящим четвертаком, наверняка из заначки.
В логической цепочке Марата оказалась единственная и всё же непредвиденная червоточина. Чернявый коммерсант был пуган. Причём так основательно, что сразу согласился сотрудничать с ментами, прибравшими на проверку ассигнацию, одну из оставшихся после прокорма птенчиков Ворона. Тогда, год назад, молодого лезгинца из уважаемого рода Сагид-баев, жители горного селения Храх-Уба, отправили в Россию на подъём. Односельчане сложили в стопку трудовые тысячи, зафрахтовали грузовой АН-26 и загрузили в брюхо аэроплана щедроты урожая. Рамизу Сагидову повезло сразу. Уже в аэропорту Киева аксакал при галстуке и очках в золочёной оправе, предложил совершить оптовую сделку, перекупив весь товар вместе с расходами на фрахт. Ударили по рукам. Оптовик отбыл в неизвестном направлении, а счастливый Рамиз вернулся домой на поезде, время от времени открывая чемоданчик, чтобы похрустеть свеженькими баксами. Выгодное мероприятие почти разорило богатое селение Храх-Уба, односельчане едва не порвали на американский флаг филейные части джигита. С тех пор Рамиз Сагидов жаждал отмщения. Когда хитрованы из ментовского сословия попросили его о невинной услуге — обращать внимание на оборот девственных четвертных и пятидесятирублёвых купюр, он сразу же согласился. Заветный чемоданчик, когда-то превративший его в пожизненного должника односельчан, был нафарширован фальшивыми ассигнациями.
Вторая ошибка Апостола, вернее, слабость, состояла в его брезгливости к мёртвым цветам — именно так воспринимались стебли, лишённые корней. Вместо того, чтобы купить букет, получить сдачу и отправиться на поиски следующей жертвы, Апостол разменял четверть сотни одной-единственной мёртвой розой. Лезгинец угодил в цель, ублажив сотрудников правоохранительных органов: просили обратить внимание, он и обратил. Более того, указал покупателя. Вы, товарищи, жаловались: «Наша служба и опасна и трудна» — примите на покаяние гражданина с портфельчиком. Менты знали своё дело — у Марата Игоревича Муравьева-Апостола оказались три тысячи рублей подделанными купюрами. В отделении первым делом принялись за составление протокола.
— Назовитесь… Кто вы, — приступил к делу следак.
— Художник, — устало ответил Апостол. Король фальшивомонетчиков имел право претендовать на солидный уровень.
Обманутый в лучших чувствах горец не испытал удовлетворения от свершившейся мести, она осталась безликой. Зато Апостол оказался там, где по нему давно тосковали.
Мгновенно пришла в сильнейшую активность милицейская иерархия. Информация была незамедлительно доложена министру МВД. Марат Игоревич Муравьёв-Апостол получил статус особо опасного государственного преступника. С тем и повезли его в столицу. Плотный, как у президента, эскорт. Машины с мигалками впереди закамуфлированного автозака, автобус с элитным подразделением «Беркут», и позади мотоциклисты… Силовики полагали, что арестован рядовой исполнитель и цепочка потянется к развитой группировке. Их ждало разочарование: Апостол оказался непревзойдённым одиночкой.
Во время следственного эксперимента Марат попросил качественную спецбумагу и коробку любимых бельгийских карандашей. Затем на глазах у высокопоставленных гостей в полчаса срисовал казначейский билет, и на место тотчас вылетела группа экспертов. Опытные работники Госзнака оказались поражены точностью подделки. Визуально отличить фальшивую купюру от подлинной они не смогли, потребовалась специальная экспертиза.
Марата Игоревича Муравьева-Апостола ждало пожизненное заключение. Осудили его на пятнадцать лет, для этого потребовались невероятные деньги и всё влияние Киевского смотрящего. В тюрьме Апостола должны были встречать, как генерала, но приблатнённый торчок едва не попутал рамсы. Марат тогда не знал, что положенец Хан простил ему расправу над своим ставленником по единственной причине — из-за двух маляв, полученных из разных уголков необъятной Родины. Одна свалилась из далёкого Иркутска от крепкого вора по кличке Лютый, и одновременно другая — от смотрящего по Киеву, старого и очень почитаемого вора, отзывавшегося на погоняло Ворон. Как получилось, что за малоизвестного блинопёка[72] вступились сразу два мощнейших авторитета, Хан не представлял, но и ослушаться не решился.
Глава 13. Тюрьма. Озарение
Спалось в эту ночь тревожно. Мучил нескончаемый сакраментальный сон — утром тюремный врач, высокомерная марьяна[73], блеснув капитанским созвездием на погонах, отказалась поставить диагноз. В туберкулёзном диспансере, на сходке именитых воров, Хан собирался рекомендовать Апостола на корону. К вечеру офицерша заколотилась, узнав, что дочку из детского сада забрал ухватистый босяк[74], весь в наколках. Галопом помчалась на аудиенцию и, смиренно стоя в камере перед Ханом, сменила гнев на милость. Выдала для блинопёка Апостола правильную ксиву[75], отметив при этом, что его состояние требует, ни много ни мало, немедленной ампутации лёгких.
Лепилась похотливо расцвеченная, как явь, околёсица. Представительный сходняк созвали в республиканской лечебнице — сюда под видом пациентов прописались солидные воры. Они заняли палаты туберкулёзного диспансера, расположенного в старом сквере под городским курганом славы. Истинные туберкулёзные страдальцы заранее перекочевали в малозаселённую ортопедию. Апостола позвали без объяснения причин, как и водилось в таких случаях. Косяков[76] за ним не числилось, оставалось думать: позвали для коронации. Хан крепко беспокоился о подопечном.
К вечеру столовая диспансера заполнилась до отказа. Кому не хватило места, пристроились на подоконниках и на паркете — воры народ не гордый, одно слово, терпигорцы[77]. Непринуждённо моросил дождь. С высоты птичьего полёта в окна диспансера слезливо всматривались глаза монумента. Всё для матери-Родины, детки.
— Значит, полный ажур, братки, начнём? — поднялся с места известный авторитет Курага. Он говорил с кавказским акцентом и бодро жестикулировал.
Бродяги согласились.
— На сегодня есть два-три вопроса… — выдержал убедительную паузу Курага, — впрочем, всё равно, сколько. Намного важнее суть, сами знаете — когда сходка краевая, имеем счётец за упокой. Но об том после, сначала поговорим за здравие.
Здесь Курага приостановился. Взгляд его простирался куда-то далеко в продолжение зала, в тюремные камеры:
— Господа волки[78], напомню вам: закон свят. Недомогают воры на зоне, кичман[79] здоровья не прибавляет. И если терпигорец заболел серьёзно и окончательно, наша забота по-братски его развенчать, пусть подышит напоследок вольно. Взять хоть бы Хана… Дерзкий был вор, надёжный положенец, но теперь со шконки слезть не способен… Не то, что сутки на корточках почифирить… Как не помочь? Прошу братву единодушно отправить пахана[80] на почётный отдых…
Хан хрипел что-то со шконки, но его никто не слушал. О судьбе больного побеспокоилась братва, он сам оказался не в силах. Чего уж, титула не лишили — переименовали с уважением, был вором в законе, стал вором в короне. Не беда, что переехал от окна в центр хаты, зато освобождён от унизительной гарантии[81].
— Теперь ядрёный вопрос, как обещал. Зовите Лютого, — объявил Курага.
На шум два амбала[82] ввели лысого вальяжного господина. Многие попрятали глаза. Лютый оглядел братву, задержав взгляд на Апостоле, и произнёс твёрдо:
— Я созвал сходняк, чтобы дать за себя ответ.
Курага повеселел и обратился к обществу:
— Ты? Созвал? Ты обесчестил честное имя вора! Сунул гнилую лапу в общак, закосил[83] жменю рыжья, долю себе, долю на новую клюкву. Думал индульгенцию[84] выкупить, а мы не узнаем? Не вышло, доведались…
Воры глумливо засмеялись.
— Вот как, Лютый? — ощерился горбатый цыган, сверкнув желтизной зубов, — срам…
— В обвинении нет правды… Оговорили. Я двадцать лет на киче баланду хлебал… Век свободы не видать[85], из своего рыжья заначку сделал…
— Врёшь, сучара, — оборвал его Курага, — твои шестёрки признались… Ты раньше мог отделаться штрафом, сейчас твой лысый арбуз[86] на кону. Братва, я резко за то, чтобы поставить позорного на перо[87]. Избавимся от сук[88], рай остальным сделаем.
Закурили, одобряя законную кару.
— Если попустим ему, — добавил Курага, обрадованный единодушием, — другим повадно будет. Беда случится. Есть желающий сказать слово в защиту?
Апостол встал:
— Слухайте, генералы. Нет у меня тяги на казнь и быть не может. Надо сначала дознаться, точно ли виноват Лютый, если виновен — дать пощёчину[89] и простить грех… Но жизни не лишать!
— Давно дознались! Падло в замазке! На дыбу его! — выкрикнул сутулый вор, похожий на взъерошенную ворону.
— Точно. Смерть ему под ребро, — дружно подтвердили воры.
Курага порывисто встал, указал Апостолу на Лютого:
— Тебе поручили… Заделай[90] его. Здесь и сейчас…
Только теперь Марат понял, зачем приглашён. О коронации не шло речи. По воровской традиции совершить приговор сходняка доверялось кому-то из ближайших знакомцев осуждённого, чтобы оказать последнюю услугу уходящему в небытие. Марату вспомнилась кровавая ночь на прииске, Лютый в преданном окружении и собственноручно переданный ему кисет рыжья.
— Оставьте его в покое, — неожиданно вкрутую возразил Апостол.
Воры, угрожающе загомонив, встали. Курага понимающе усмехнулся:
— О чём ты, бродяга? Не много ли на себе берёшь? Не слишком ли? Мы о тебе всё знаем… Одна рекомендация от развенчанного Хана… Другая — от Лютого, приговорённого к смерти. Обоим кореш. Оба ручались, что ты вор взрослый[91]… значит, перо тебе в руки…
— Я сказал — нет, — заупрямился Апостол, подбираясь поближе к Лютому.
Тени всполошились, сбежались на поживу.
— Замри… Я сделаю… — раздался позади тихий голос, разом оборвавший шум. По проходу резво катился инвалид-колясочник, невесть как оказавшийся в зале. Жало в его руке отбивало свет.
Апостол бросился наперерез, пытаясь прикрыть собою:
— Не-е-е-т!!!
Спасти Лютого не удалось. Колясочник оказался проворней. Кровь кинулась навстречу. Брызнула на светильник, на потолок, на стену…
— Душегубы!!!
Всё окрасилось красным.
Потом Апостол проснулся. Долго лежал, переживая сон. Трудно встал, умылся. Потёр виски. Спустя мгновение застонала отпираемая дверь. Не обрадовался. По недолгому, в плач, скрипу узнал Хана. Неприязнь тяжко заворочалась в душе. Едва не задохнулся. Показалось, стены освящённого помещения взвыли от негодования.
Хан в нерешительности, чувстве ему чуждом, стоял у порога, покачиваясь с носков на пятки. Апостол тоже молчал. Неприязнь сменилась жалостью. Ещё вчера неуёмный старик источал живительную энергию, сегодня же выглядел подавленным, с нездоровым лицом, со слезящимися, жёлтыми из-за скудости света глазами. С первой встречи Апостола неудержимо тянуло к этой личности, не ведавшей страха. Человеку, осознавшему свою силу и трепет окружающих перед ней. Старый Хан в дверях одиночки казался робок и жалок. Секунда за секундой отдаляла его от прошлого. От нажитого в муках и с жертвами на пути к воровской уважухе. Напрасно Апостол принимал малодушие положенца на свой счёт, не учитывая его невольной заслуги, весившей немало: открытого свету сердца. Суетился положенец, старался разбить замысел патлатого. Вышло наоборот. Где-то промахнулся, допустил, не ведая того, благость в душу, в жаждавшую влаги пустыню, носившую имя Марат Игоревич Муравьёв-Апостол.
С изумлением смотрел Апостол на пустые попытки положенца пересечь невидимую преграду между тюремным коридором, где имел власть, и одиночной камерой, куда даже ночным теням заказан путь. Вор всякий раз, словно слепой котёнок, натыкался на стену, не в силах понять, что здесь кончается свобода его поползновений, и бесполезно упираться в неё обиженным монгольским забралом. Осознав напрасность попыток, Хан обессиленно, непроизвольно и жалостливо вздохнул, осунулся, сгорбился вдвое, словно порочная мумия, торопливо попятился назад, и лишь затем, развернувшись, заковылял в мутную сумрачность продола.
Дверь камеры осталась открытой. Апостолу дела не было. Он собрался лечь, когда заметил свёрток, сиротски оставленный там, где только что Хан сражался с барьером. Шевелиться не хотелось, хотелось покоя, но всё же встал и вышел в коридор. Огляделся — ни Хана, ни хитрого вертухая Егорыча, хоть убирайся на все четыре стороны, нагнулся и поднял что-то, завёрнутое в промасленную тряпицу. Развернул и, подавив вскрик, отшвырнул. На пол шлёпнулся обрубок — кисть, запястье, шафраном синела наколка: кораблик с парусом, три буквицы ВМФ и цифры 86—89.
Последний раз Апостол плакал в три года. Мать забрала из детского садика и, крепко охватив ручонку, повела домой. На выходе они столкнулись с такою же парой. Увидев Маратку, карапуз заулыбался и раскрыл кулачок. На детской ладони лежала жевательная резинка, арбузик — изумрудный бочок в чёрную полоску.
— Будешь?
— Нет, малыш, он не будет, — ответила за Марата мать. Мальчишка, не раздумывая, сунул жвачку себе в рот. Марат стерпел, а после случилась истерика. Он всхлипывал несколько дней, вспоминая арбузик и вспыхнувшую мужскую дружбу. Чуда не состоялось…
Часа через три появился Егорыч. Едва держась на ногах, подобрал обрубок, внимательно прочёл масть и затворил дверь камеры. Апостол ожидал сирены, вселенского шухера[92], заламывания рук, но ничего не случилось. Тюремная тишина, перемежаемая вздохами мужиков, не привыкших рыдать.
Отец Серафим не пришёл. Напрасно Апостол мучил кулаки о стальную дверь. Ответом служило молчание. И тогда он понял, что ответ содержится в нём самом. Так положил отец Серафим. И верно. Больше не придёт.
Марат опустился на колени. Закрыл глаза. Воздел руки к небу сквозь бетонные перекрытия. Вызволил из памяти образ священника, а когда тот обратил взор, смирился в последней просьбе:
— Отче, благослови на веру!
Глава 14. Ступени. Итоговые начала
Тесна тропа провидения. Из поколения в поколение беспрерывна череда заблудших, и первое, великое сострадание обрёл родоначальник, уравнявший себя с Создателем.
На суд, как на эшафот, в решётчатый судебный чертог взошёл законоотступник с самоуверенно поднятой головой. Ни на кого в особенности не глядя, глядя на всех сразу, выказывал презрение к судьям, прокурору и адвокату, брезгуя умирающим законом. Воин срочной службы в свежем, едва со склада, мундире, с такими же свежими царапинами от бритья, открыл клеть и хотел подтолкнуть подсудимого внутрь, но неожиданно передумал. Есть такие арестанты — к ним лучше не прикасаться. Этот не из банальных «синих». Махина с колючими глазами и небрежной складкой губ.
Солдат, аккуратно притворив дверь, открыл окошечко, посмотрел на протянутые без напоминания руки. Отстегнул наручники и ими, как навесным замком, заблокировал вход. «Такие», ещё не увенчанные мастями, всё делают без напоминания. Им, видите ли, поперёк глотки, если кто-нибудь подскажет, что и когда делать.
Открытое заседание Подольского районного суда не вызвало оживления у доброжелателей или недругов правосудия в Киеве. Что вначале, что ко времени приговора кресла заняты были кое-где. Зал почти пустовал, набралось едва ли на четверть. Несколько любопытных бездельников, любителей посмаковать всплеск эмоций. Пара студентов юридического факультета. Суетливый и трусоватый на взгляд мужчина. Восточного типа женщина с раскосыми глазами — по обеим сторонам дочки, две её копии. Ещё женщина, с крестиком, суровая, как бездетная монашка. Два старика, две противоположности: один хмурый и худосочный, другой — седой и бровастый гигант. Поодаль немолодой прапорщик. Будто для симметрии, железнодорожник в форме.
Вальяжный господин, крепко похожий на последнего генерального секретаря и рядом с ним инвалид в коляске. Два семитской наружности мужчины, давно распрощавшиеся с молодостью. Автономно расположился адвокат, знаменитый тем, что после успешного дела, а не успешных он не вёл, обзаводился роскошной машиной или ещё более роскошной недвижимостью. Нынешний процесс представлялся, а, по сути и был, беспроигрышным. За смягчение приговора знаменитость запросила огромные деньги.
Судебную троицу возглавляла крашеная брюнетка в притязательном фильдеперсовом костюме, сама облачённая в строгость Фемида. Поднялась, раскрыла папку и принялась зачитывать приговор. Со всеми нюансами и подробностями. Солдату было не интересно. Предвкушая перерыв, он бесполезно поглядывал в зал и чувствовал себя неуютно. Отсутствовать с открытыми глазами — это нужно уметь. Солдат умел. Виделось реальное, но преломлённое. Присутствующие смотрели на подсудимого пристально, дожидаясь ответного взгляда. И находили. Тогда солдату казалось, что связующие их нити, соприкасаясь, искрили. Что возникающие из искр фантомы душевно заговаривали с арестантом, пытаясь отвести от него боль. Но он, настигнутый ими гордец, отвергал помощь.
Суд, как водится, завершался приговором, и всё, что могло произойти, свершилось. Фантом сникшей женщины с крестиком уходил, опираясь на костылик. За ним, прихрамывая, плелась тень. Подсудимый не шелохнулся. Незримая нить, натянувшись до предела, лопнула, огласив пространство печальной «бемолью».
У выхода тень остановилась, удерживая фантом. Арестант удостоил их последним взглядом, словно отпустил навсегда. И они ушли, и с ними, поколебавшись, покинуло зал сострадание, двойник вселенской любви.
Чужой пример заразителен: вслед за женщиной поднялся призрак рыхлого трусоватого мужчины. За ним, пугливо стелясь, поползла его тень. Подсудимый, полыхнув васильковым взглядом, отпустил и этого. Ещё одна нить, достигнув предела прочности, лопнула. Солдатику в борьбе с дремотой привиделось, как чьи-то грубые пальцы оторвали от ромашки эмоций лепесток добродетели.
Судья перелистнула страницу. Фантом несуразного прапорщика двинулся к выходу, покидая суд. Форма на нём сидела, как скафандр на тюлене. Тень, торопясь за хозяином, оказалась без формы, чуждая, голая и неотступная. Холодный зрачок, скрывшись за ресницами, отсёк связующую нить. Зал, или весь мир, покинуло бескорыстие.
Правосудие в фильдеперсе упивалось своей значимостью. Но фантом, коротыш с пламенным взором, едва ли не карлик в форме железнодорожника, оказался ненужным и упустил свою нить, так и не удостоившись взгляда. Она лопнула сама по себе, едва не разрушив никчёмную тень. Пантеон эмоций лишился ещё одной, неповторимой — вдохновения.
Судья пригубила из стакана мутной воды, казённые слова порой сушат горло. В нежданном затишье замаячил, не выказав нетерпения, призрак худого старика. Самоуверенная долговязая тень оставалась недвижимой, зная, что без неё хозяин не тронется с места. Старик умел добиваться своего, взгляды пересеклись, и лязгом разорвавшегося троса прозвучал хлопок лопнувшей нити. Оказавшись ниже собственной тени, фантом исчез из зала. Врассыпную и наперегонки помчались прочь угрызения совести.
Фильдеперсовая судья не успела поставить стакан на стол, как вслед за худым стариком возникла его противоположность. Фантом, снежный великан, обросший густым войлоком, поднялся, грузно опираясь на плечи теней. Из-под бровей, сросшихся некогда в единую бровь, к подсудимому тянулся спасительный канат. Он оказался хлипким, как паутина, поймавшая камень. Великан удалился в окружении дрожащих теней, опасавшихся быть поближе. Сопричастность оказалась выдернутой из спайки эмоций.
Когда с места поднялся призрак, неприлично похожий на последнего генерального секретаря — лысый, вальяжный и неумолимый, судья запнулась. С ней что-то случилось. Поймав её затравленный взгляд, фантом плотоядно усмехнулся и подмигнул одновременно обоим: ей и подсудимому. Фемида густо покраснела, словно пионерка, застав одноклассника за самоудовлетворением. Господин озабоченно направился к выходу, за ним тенью последовала коляска, увозя инвалида. Надменное эго, чванливо поведя плечами, последовало за диковинной парочкой.
Едва судья вернулась к обнародованию приговора, над креслами восстали два образа, оба еврейской наружности. Один с беспокойным и властным лицом революционера, другой с рассеянным взглядом, с сиреневым платочком, охватившим шею, как фиговый листок — они трудно попрощались с подсудимым. Арестант кивнул, отпуская. Затрещали, разрываясь, связующие нити, и вдогонку скользнула спесивая тень.
Судья, выдержав эффектную паузу, назвала срок, и тут же воспарило марево, восточная женщина — она хотела что-то сказать, но порванная нить хлестнула по щеке. Девчонки, её раскосые копии, оказались без привязи. Сердцевина ромашки, жёлтая, как рассвет, но одинокая, как старость, мгновенно истлев, осыпалась на подсудимого азиатской желтизной.
В дальнем от подсудимого углу одиноко сидел человек с редкими волосами и жиденькой бородёнкой. Китель чёрной бронёй укрывал его туловище и смыкался на шее, оставляя нетронутым крошечное пространство, в нём матово и тускло отбивало свет серебро распятия. Взгляд его пересёкся со взглядом арестанта. Лишь на мгновение, не позволившее родиться связи.
Заключённый без напоминания, такие всё делают без напоминания, просунул руки в амбразуру. Оглушительно звонко щёлкнули в пустоте железные браслеты. Зал не был пуст, все оставались на местах. Исчезли фантомы, виденные охранником и попрощавшиеся с подсудимым. Арестант отказался от помощи их хозяев, своих доброжелателей. Все они пришли посочувствовать и поддержать, но, поймав его взгляд, поняли, что это несбыточно. Подсудимый не нуждался в сочувствии, не изменил себе в этом и не собирался изменять в будущем. Одного он не постигал: прощание с этими людьми не сделало его сильнее, наоборот, опустило на землю, превратив из неповторимого в обычного человека. Вероятно, подобное чувство испытал первый человек, посчитавший себя ровней Создателю. С этого момента пустой сосуд, отзывавшийся на имя Марат и прозвище Апостол, готов был впустить в душу хоть Бога, хоть дьявола. Вопрос: кого прежде?
…В тишине тюремной церквушки несколько заключённых внимали священнику. Величали батюшку Апостолом. Был он тот же заключённый, и немолодой, осуждённый на твёрдый срок, сан принявший волею Высшего предначертания. Иерей Апостол управлял приходом девятый год, и не единственный заблудший обрёл покой в стенах храма. Одевался святой отец по чину — в просторный белый подризник с широкими рукавами, на плечах епитрахиль, без коей нет службы, вокруг епитрахили и подризника пояс, поверх всего риза, длинная, широкая, без рукавов. И, по тюремным слухам, исподний наперсный крест.
Зека Фонарь, он же Культя, переименованный по случаю нехватки кисти, не сводил взгляда со священника. Шестой вечер подряд приходил в церковь, где, затаив дыхание, погружался в таинство проповеди. Ответа на казавшийся простым вопрос, вставший тому шесть дней назад, он не отыскал, хотя отец Апостол разложил всё по полочкам.
— Адам, — голос батюшки обволакивал, грел, ласкал, заставляя тёмные стороны души ужиматься, а светлые — парусить, игнорируя насмешки сокамерников, — кем ощущал он себя? Созданный по образу и подобию Божьему, обладавший способностью дарить имена ещё не названным существам, говоривший на всех языках Рая, он осознавал себя совершенством, венцом Творения. Но не возблагодарил Господа за создание, возвеличил себя, став вровень с Ним! Сие есть ересь! Е-ресь… Бог один, вездесущ и всесилен. Если положить, что есть ещё, вера разрушится, упадёт, как карточный домик. В чём первородный грех Адама? Скажу вам — в неверии. В отступничестве. Первый человек не нашёл помощи, ему соответствующей, ни среди животных, ни у спутницы своей Евы… Историю человечества, вы, дети мои, знаете. Она зиждется на пагубном выборе, да и вся соткана из пагубы. Пока мы, Адамовы дети, вместе, единовременно не провозгласим имя Бога, не воздадим Ему молитв веры и верности, не видать человечеству покоя.
— Когда бы Адам вместе с животными вознёс молитву Всевышнему… — произнёс тихо Культя.
Святой отец расслышал.
— Если б он уверовал до того, как именовал животных, — Апостол лукаво улыбнулся, — всего этого, — он обвёл рукой помещение церкви, подразумевая весь созданный мир, — не состоялось. Рай бесконечен, у древа жизни, древа познания добра и зла обитал единственный человек, по образу и подобию Божию повторивший всю человеческую сущность… Оба её начала — мужское и женское…
Все молчали. Трудно было принять, что мироздание, с его звёздами, планетами, континентами, государствами и народами — результат крохотной ошибки, неуёмного первородного греха, по сию пору не отпущенного Господом Богом.
Осмысление отвечало на вопросы. Апостол стал на колени, повернувшись лицом к иконе Пресвятой Богородицы, защитницы заключённых. Не молился. Вспоминал события девятилетней давности. Продолжить беседу с отцом Серафимом сумел спустя четыре месяца, когда вора в законе, положенца по кличке Хан, отправили на другую зону. Священник освятил церковь, Апостол стал её первым прихожанином, взалкавшим веры, как песок Палестины дождя, но недоверчивым, как уличный пёс. Когда отец Серафим поведал притчу о первородном грехе, Апостол упорно молчал, до глубины души поражённый мудростью Книги. Но время шло, и, переварив услышанное, Апостол стал задавать другие вопросы, не удовлетворённый щёпотью знаний. Чего-то не доставало для полноценного ответа. Для целомудренной веры.
— Погодите, святой отец, возможно, Адам не подозревал, кого следует благодарить? Или что вообще следует благодарить? Может быть, воспринимал всё самим собою разумеющимся? И мы виним его за муки земные огульно?
Отец Серафим, спокойный и, порой казалось, всезнающий, ответствовал ровно:
— Марат Игоревич, дорогой человек, вы всё ещё читаете невнимательно. Возьмите Библию, откройте вторую главу книги Бытия. Пятнадцатый и шестнадцатый стихи. Прочитали?
Апостол кивнул.
— Первый человек не только знал, кого следует благодарить, но и говорил с Ним, принимая заветы и запреты. А запреты, уважаемый Марат Игоревич, принимают лишь от того, кого признают сильнее себя.
— Не слишком ли прямолинейно — сильнее себя?
— В целом верно, хотя не совсем точно. Запреты принимают и от тех, кого уважают безмерно. И от тех, чей авторитет принимают изначально, невзирая на собственный ум, силу и положение. Так сын, достигший невиданных высот в служебной карьере, безоговорочно принимает волю отца или, как альтернативу, матери, порой не знающих грамоты. Так что Божий завет: безусловно уважать родителей, имеет корни в первородном грехе.
Следующий вопрос Апостол задал, когда уж в сотый раз перечитал книгу Бытия. В беседах с учителем он продолжал горячиться, неосознанно желая застать священника врасплох. Новичку веры до сих пор казалось бессмысленным принять чей-либо авторитет, кроме своего. Чтобы решиться на подобную «жертву», требовалось увериться, что кто-то, как минимум, ему равен. Отец Серафим оказался выше, гораздо выше, и на сколько в точности, искать не было смысла.
— Ребро, откуда взялось ребро, — горячился он, трогая батюшку за рукав подризника, — если Адам промахнулся с животными, где уверенность, что у него получится с женщиной?
— Ты начал задавать правильные и умные вопросы, свидетельствующие о духовном росте. В случае с Евой всё намного глубже. Ребро — метафора в переводе с языка, на котором изначально записан Ветхий Завет. При переводах на греческий, не исключено, вышли объяснимые неточности, впоследствии вошедшие в каноны как аксиома. На иврите, еврейском языке, слово «ребро» имеет несколько равновеликих значений: собственно ребро, ну и «сторона». Взгляни, как толкуют это место знатоки языка: Господь усыпил Адама и… разделил на две стороны — мужскую и женскую, что впрочем, ты уже знаешь. Мы условились в самом начале, что первый человек есть отображение Бога. Верно?
— Первая глава книги Бытия, стих двадцать седьмой, — прикрыв глаза, наизусть процитировал Марат, — «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
— Вот именно, в первом человеке была заключена обоюдная, двусторонняя сущность: мужская и женская. Вот их-то и разделили, чтобы помочь человеку осознать, кто он, а Кто на самом деле Всемогущ и Един. И слово ребро здесь не мешает. Будучи создан, Адам не вознёс благодарственную молитву Создателю, решив, что является единственным и неповторимым. Всё просто: когда сосуществуют два лидера, начинаются проблемы.
— Но если первый человек создан совершенным, зачем потом делать его ущербным?
— Чтобы помочь понять и чтобы исправить ошибку. Первый человек создан цельным, но одновременно в мужском и женском единоначалии. Это данность, ниспосланная свыше. Принуждение, если хочешь. Но с мгновения, разделившего мужскую и женскую сущности, возник новый закон. Теперь обе половины обрели свободу — либо, объединившись, уверовать, либо по одиночке искать собственный путь. Универсальный выбор, оставляющий место сомнению. Ведь конечная цель — склониться перед Единственным и Всемогущим — не изменилась. Наши половинки стремятся друг к другу, но мир погружен Сатаной в пучину греха и беззакония, и они могут сбиться с пути. Возьми свою жизнь, вглядись, Марат Муравьёв-Апостол: ты мечешься от одной привязанности к другой, преуспеваешь во всякой, но достигнув успеха, теряешь интерес, не найдя половинки — «помощника, соответственного ему».
В этот момент Апостол почувствовал что-то необъятное, невообразимое. Нельзя сказать «неладное» — напротив, коренное и необратимое. Он вдруг ощутил, как отовсюду и насквозь его пробило прозрение, прозрачно нахлынуло на него торжественной патокой, размягчило от кожи до суставов, подняло под облака, как на крыльях, и он сжал кулаки так, что побелели костяшки, затем бесчувственно ударил один о другой. И пал на колени. Не мог сделать иначе.
— Я встретил её, отче! Я нашёл! — вскричал он в голос, с рыданием, и отец Серафим не останавливал. — Я знаю его, знаю своего помощника! Это она, моя вечная половинка! Мудра, бездонна и бесконечна. И никогда не наскучит… Господи, это не только слова… Я чувствую это… Всем сердцем. Так и есть! Вера! Святая вера — она, она моя нераздельная половина!
— Наша, сын мой… Наша, — ответствовал священник, по лицу которого текли счастливые слёзы.
С начала и навсегда. Безраздельно. Божья истина.
1
шнырь — дневальный (воровской жаргон)
(обратно)2
машка — тряпка (воровской жаргон)
(обратно)3
продол — проход, коридор (воровской жаргон)
(обратно)4
вертухай — надзиратель в тюрьме (воровской жаргон)
(обратно)5
положенец — старший по масти вор на зоне, назначенный сходкой коронованных воров (воровской жаргон)
(обратно)6
мужик — осуждённый, добросовестно работающий на производстве (воровской жаргон)
(обратно)7
мулечка — обман (воровской жаргон)
(обратно)8
хозяин — начальник тюрьмы (воровской жаргон)
(обратно)9
отрядник — старший надзиратель в тюрьме (воровской жаргон)
(обратно)10
шалявый — неопытный (воровской жаргон)
(обратно)11
жужжание — разговор, сплетня (воровской жаргон)
(обратно)12
пистолетик — приседание на одной ноге (спортивный термин)
(обратно)13
кум — оперуполномоченный (воровской жаргон)
(обратно)14
чалка — тюрьма, колония, срок лишения свободы (воровской жаргон)
(обратно)15
хата — камера (воровской жаргон)
(обратно)16
мужик-сарай — новый заключённый в камере (воровской жаргон)
(обратно)17
прописка — инициация, то есть обряд введения новичка в тюремное сообщество (воровской жаргон)
(обратно)18
наркоша — наркоман (воровской жаргон)
(обратно)19
беспредел — беззаконие, не имеющее границ (воровской жаргон)
(обратно)20
аристократ — вор, пользующийся авторитетом в своей среде (воровской жаргон)
(обратно)21
фарт — счастье, удача (воровской жаргон)
(обратно)22
бродяга — заключённый с правильными понятиями, признающий тюремный закон (воровской жаргон)
(обратно)23
патлатый — священник (воровской жаргон)
(обратно)24
некрасовские мужики — работяги, далёкие от воровского мира (воровской жаргон)
(обратно)25
стукач — доносчик (воровской жаргон)
(обратно)26
смотрящий — представитель воровского мира в колонии, смотрит за исполнением закона (воровской жаргон)
(обратно)27
отсидка — отбывание наказания (воровской жаргон)
(обратно)28
шконка — койка, лежанка (воровской жаргон)
(обратно)29
рыжьё — золото (воровской жаргон)
(обратно)30
наличман — наличные деньги (воровской жаргон, бытовой сленг)
(обратно)31
по фене ботать — говорить на воровском жаргоне (воровской жаргон)
(обратно)32
хмырь — плохой человек (воровской жаргон)
(обратно)33
без понтов — без хитростей (воровской жаргон)
(обратно)34
заточка — самодельное холодное оружие (воровской жаргон)
(обратно)35
баклан — завлечённый в притон человек с целью ограбления (воровской жаргон)
(обратно)36
мент — милиционер, надзиратель в колонии, зоне (воровской жаргон)
(обратно)37
зэчка — в тюрьме алюминиевая кружка со спиленной ручкой (воровской жаргон)
(обратно)38
чифирь — очень крепкий чай (воровской жаргон)
(обратно)39
авторитет — представитель высшей группы в иерархии заключённых (воровской жаргон)
(обратно)40
академия — тюрьма, воровская школа (воровской жаргон)
(обратно)41
непонятки — затруднительное положение (воровской сленг)
(обратно)42
рамсы — азартная игра в карты (воровской сленг)
(обратно)43
западло — грубое нарушение преступных обычаев (воровской сленг)
(обратно)44
берсеркеры — наиболее свирепые, под воздействием наркотиков, скандинавские воины викинги
(обратно)45
ЦУМ — центральный универмаг (аббревиатура)
(обратно)46
шмонать — обыскивать (воровской жаргон)
(обратно)47
хавать — кушать (воровской жаргон)
(обратно)48
масть — положение данной группы среди других заключённых (воровской жаргон)
(обратно)49
чибонить — притушить (местный бытовой сленг)
(обратно)50
ГорОНО — городской отдел народного образования (аббревиатура)
(обратно)51
терлег — женская одежда (перевод с калмыцкого языка)
(обратно)52
мангас — демоническое существо (перевод с калмыцкого языка)
(обратно)53
хотон — калмыцкая деревня (перевод с калмыцкого языка)
(обратно)54
шиверлиги — специальные чехлы для кос замужних женщин (перевод с калмыцкого языка)
(обратно)55
мазут — тушь для татуировки (воровской жаргон)
(обратно)56
покупатели — представители воинских частей, прибывших за пополнением воинского состава
(обратно)57
погранец — пограничник (войсковой сленг)
(обратно)58
кирзачи — кирзовые сапоги (войсковой сленг)
(обратно)59
комиссовать — отчислить из армии по состоянию здоровья (войсковой термин)
(обратно)60
кусок — старшина, прапорщик (армейский сленг)
(обратно)61
прапор — прапорщик (армейский сленг)
(обратно)62
КГБ — Комитет Государственной Безопасности (аббревиатура)
(обратно)63
подсадная утка — шпион, разведчик, осведомитель (специальный термин разведчиков)
(обратно)64
БЖРК — Боевой Железнодорожный Ракетный Комплекс (аббревиатура)
(обратно)65
грево — деньги и продукты, нелегально поступающие в места лишения свободы на поддержание заключённых (воровской жаргон)
(обратно)66
базар держать — рассуждать (воровской жаргон)
(обратно)67
рядиться воровской пристяжью — оказывать услуги авторитету, защищающему от других преступников (воровской жаргон)
(обратно)68
западло — грубое нарушение воровских обычаев (воровской жаргон)
(обратно)69
межпуха — семья (бытовой жаргон)
(обратно)70
маланцы — евреи (бытовой жаргон)
(обратно)71
печь блины — изготовлять фальшивые деньги (воровской жаргон)
(обратно)72
блинопёк — фальшивомонетчик (воровской жаргон)
(обратно)73
марьяна — молодая женщина, девушка (воровской жаргон)
(обратно)74
босяк — молодой вор (воровской жаргон)
(обратно)75
ксива — документ, удостоверение личности (воровской жаргон)
(обратно)76
косяк — нарушение правил, норм тюремного закона (воровской жаргон)
(обратно)77
терпигорец — вор (воровской жаргон)
(обратно)78
господа волки — уважительное обращение к подельникам (воровской жаргон)
(обратно)79
кичман — тюрьма, колония (воровской жаргон)
(обратно)80
пахан — воровской авторитет, главный на зоне, в банде (воровской жаргон)
(обратно)81
гарантия — гарантированное довольствие заключённого (воровской жаргон)
(обратно)82
амбал — человек плотного телосложения (воровской жаргон)
(обратно)83
закосить — соврать, обмануть (воровской жаргон)
(обратно)84
индульгенция — документ папы римского на право отпущения грехов (воровской жаргон)
(обратно)85
век свободы не видать — воровская клятва, божба (воровской жаргон)
(обратно)86
арбуз — голова (воровской жаргон)
(обратно)87
перо — нож, заточка (воровской жаргон)
(обратно)88
сука — предатель, бывший «вор в законе» (воровской жаргон)
(обратно)89
пощёчина — как правило, её дают во время сходки. Уклоняться или бить в ответ наказанный вор не смеет.
(обратно)90
заделать — убей (воровской жаргон)
(обратно)91
вор взрослый — опытный профессионал, умеет самостоятельно вести воровские дела (воровской жаргон)
(обратно)92
шухер — смятение, суматоха, волнение в толпе (воровской жаргон)
(обратно)
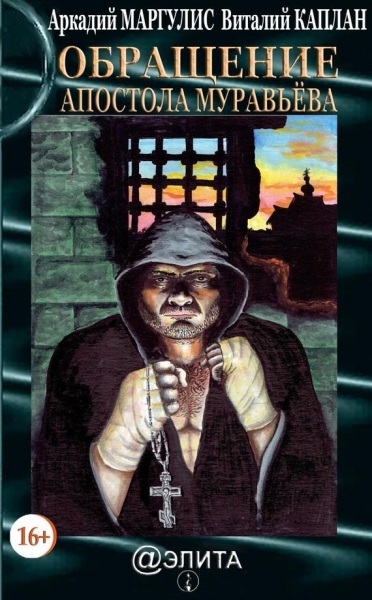



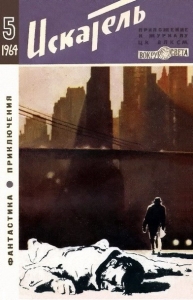

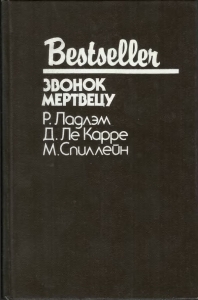

Комментарии к книге «Обращение Апостола Муравьёва», Виталий Маркович Каплан
Всего 0 комментариев