Кристи Агата СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ОДИНАДЦАТЫЙ
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КОНЦЕ Death Comes as the End 1944 © Перевод Емельянникова H., 1990
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА
Профессору С. Р. К. Гленвиллу Дорогой Стивен,
Вы первый подали мне эту идею — написать детективный роман из жизни Древнего Египта. Без вашей помощи и поддержки эта книга не была бы написана:
Хочу поблагодарить Вас за книги, которые Вы мне давали и за терпение, с коим отвечали на мои вопросы, жертвуя своим временем и покоем. Но Вы ведь знаете, с каким интересом и удовольствием я работала над этой книгой…
Ваш признательный и преданный друг Агата КристиОписанные в этой книге события происходят за 2000 лет до нашей эры в Египте, а точнее, на западном берегу Нила возле Фив, ныне Луксора[1]. Место и время действия выбраны автором произвольно. С таким же успехом можно было назвать другие место и время, но так уж получилось, что сюжет романа и характеры действующих лиц оказались навеяны содержанием нескольких писем периода XI династии, найденных экспедицией 1920–1921 годов из нью-йоркского музея «Метрополитен»[2] в скальной гробнице на противоположном от Луксора берегу реки и переведенных профессором Баттискоумбом Ганном для выпускаемого музеем бюллетеня.
Читателю, возможно, будет небезынтересно узнать, что получение должности жреца «ка»,[3] а следует отметить, что культ «ка» являлся неотъемлемым признаком древнеегипетской цивилизации, — было, по сути дела, весьма схоже с передачей по завещанию часовни для отправления заупокойной службы в средние века. Жреца «ка» — хранителя гробницы — наделяли земельными владениями, за что он был обязан содержать гробницу того, кто там покоился, в полном порядке и в праздничные дни совершать жертвоприношения, дабы душа усопшего пребывала в мире.
В Древнем Египте слова «брат» и «сестра», обычно обозначавшие возлюбленных, часто служили синонимами словам «муж» и «жена»[4]. Такое значение этих слов сохранено и в этой книге.
Сельскохозяйственный год Древнего Египта, состоявший из трех сезонов по четыре тридцатидневных месяца в каждом, определял жизнь и труд земледельца и с добавлением в конце пяти дней для согласования с солнечным годом считался официальным календарным годом из 365 дней. Новый год традиционно начинался с подъема воды в Ниле, что обычно случалось в третью неделю июля по нашему календарю. За многие столетия отсутствие високосного года произвело такой сдвиг во времени, что в ту пору, когда происходит действие нашего романа, официальный новый год начинался на шесть месяцев раньше, чем сельскохозяйственный, то есть в январе, а не в июле. Чтобы избавить читателя от необходимости постоянно держать это в уме, даты, указанные в начале каждой главы, соответствуют сельскохозяйственному календарю того времени, то есть Разлив — конец июля — конец ноября, Зима — конец ноября — конец марта и Лето — конец марта — конец июля.
Глава 1 Второй месяц разлива, 20-й день
Ренисенб стояла и смотрела на Нил.
Откуда-то издалека доносились голоса старших братьев, Яхмоса и Себека. Они спорили, стоит ли укрепить кое в каких местах дамбу. Себек, как обычно, говорил резко и уверенно. Он всегда высказывал свое мнение с завидной определенностью. Голос его собеседника звучал приглушенно и нерешительно. Яхмос постоянно пребывал в сомнениях и тревоге по тому или иному поводу. Он был старшим из сыновей, и, когда отец отправлялся в Северные Земли[5], все управление поместьем так или иначе оказывалось в его руках. Плотного сложения, неторопливый в движениях, Яхмос в отличие от жизнерадостного и самоуверенного Себека был осторожен и склонен отыскивать трудности там, где их не существовало.
С раннего детства помнились Ренисенб точно такие же интонации в спорах ее старших братьев. И от этого почему-то пришло чувство успокоения… Она снова дома. Да, она вернулась домой.
Но стоило ей увидеть сверкающую под лучами солнца гладь реки, как душу опять захлестнули протест и боль. Хей, ее муж, умер… Хей, широкоплечий и улыбчивый. Он ушел к Осирису[6] в Царство мертвых, а она, Ренисенб, его горячо любимая жена, так одинока здесь. Восемь лет они были вместе — она приехала к нему совсем юной — и теперь, уже вдовой, вернулась с малышкой Тети в дом отца.
На мгновенье ей почудилось, что она никуда и не уезжала…
И эта мысль была приятна…
Она забудет восемь лет безоблачного счастья, безжалостно прерванного и разрушенного утратой и горем.
Да, она их забудет, выкинет из головы. Снова превратится в юную Ренисенб, дочь хранителя гробницы Имхотепа, легкомысленную и ветреную. Любовь мужа и брата жестоко обманула ее своей сладостью. Она увидела широкие бронзовые плечи, смеющийся рот Хея — теперь Хей, набальзамированный, обмотанный полотняными пеленами, охраняемый амулетами, совершает путешествие по Царству мертвых. Здесь, в этом мире, уже не было Хея, который плавал в лодке по Нилу, ловил рыбу и смеялся, глядя на солнце, а она с малышкой Тети на коленях, растянувшись рядом, смеялась ему в ответ…
«Забудь обо всем, — приказала себе Ренисенб. — С этим покончено. Ты у себя дома. И все здесь так, как было прежде. И ты тоже должна быть такой, какой была. Тогда все будет хорошо. Тети уже забыла. Она играет с детьми и смеется».
Круто повернувшись, Ренисенб направилась к дому. По дороге ей встретились груженные поклажей ослы, которых гнали к реке. Миновав закрома с зерном и амбары, она открыла ворота и очутилась во внутреннем дворе, обнесенном глиняными стенами. До чего же здесь было славно! Под сенью фиговых деревьев в окружении цветущих олеандров и жасмина блестел искусственный водоем. Дети, а среди них и Тети, шумно играли в прятки, укрываясь в небольшой беседке, что стояла на берегу водоема. Их звонкие чистые голоса звенели в воздухе. Тети держала в руках деревянного льва, у которого, если дернуть за веревочку, открывалась и закрывалась пасть, — это была любимая игрушка собственного детства Ренисенб. И снова к ней пришла радостная мысль: «Я дома…» Ничто здесь не изменилось, все оставалось прежним. Здесь не знали страхов, не ведали перемен. Только теперь ребенком была Тети, а она стала одной из матерей, обитающих в стенах этого дома. Но сама жизнь, суть вещей ничуть не преобразились.
Мяч, которым играл кто-то из детей, подкатился к ее ногам. Она схватила его и, смеясь, кинула назад ребенку.
Ренисенб поднялась на галерею, своды которой поддерживали расписанные яркими красками столбы, вошла в дом и, миновав главный зал, — его стены наверху были украшены изображением лотоса[7] и мака[8],— очутилась в задней части дома, на женской половине.
Громкие голоса заставили ее застыть на месте, чтобы вновь насладиться почти забытыми звуками: Сатипи и Кайт — ссорятся, как всегда! И, как всегда, голос Сатипи резкий, властный, не допускающий возражений. Высокого роста, энергичная, громкоголосая Сатипи, жена Яхмоса, — по-своему красивая, но деспотичная женщина. Она вечно командовала в доме, то и дело придиралась к слугам и добивалась от них невозможного злобной бранью и неукротимым нравом. Все боялись ее языка и спешили выполнить любое приказание. Сам Яхмос восхищался решительным и напористым характером своей супруги и позволял ей помыкать собою, что приводило Ренисенб в ярость.
В паузах между пронзительными возгласами Сатипи слышался тихий, но твердый голос Кайт. Кайт, жена красивого, веселого Себека, была широка в кости и непривлекательна лицом. Она обожала своих детей, и все ее помыслы и разговоры были только о детях. В своих ежедневных ссорах со свояченицей она стойко держала оборону одним и тем же незатейливым способом, невозмутимо и упрямо отвечая первой пришедшей ей в голову фразой. Она не проявляла ни горячности, ни пыла, но ее ничто не интересовало, кроме собственных забот. Себек был очень привязан к жене и, не смущаясь, рассказывал ей обо всех своих любовных приключениях в полной уверенности, что она, казалось бы, слушая его и даже с одобрением или неодобрением хмыкая в подходящих местах, на самом деле все пропускает мимо ушей, поскольку мысли ее постоянно заняты только тем, что связано с детьми.
— Безобразие, вот как это называется, — кричала Сатипи. — Будь у Яхмоса хоть столько храбрости, сколько у мыши, он бы такого не допустил. Кто здесь хозяин, когда нет Имхотепа? Яхмос! И я, как жена Яхмоса, имею право первой выбирать циновки и подушки. Этот толстый, как гиппопотам, черный раб обязан…
— Нет-нет, малышка, куклины волосы сосать нельзя, — донесся низкий голос Кайт. — Смотри, вот тебе сладости, они куда вкуснее…
— Что до тебя, Кайт, ты совершенно невоспитанна. Не слушаешь меня и не считаешь нужным отвечать. У тебя ужасные манеры.
— Синяя подушка всегда была у меня… Ой, посмотрите на крошку Анх: она пытается встать на ножки…
— Ты, Кайт, такая же глупая, как твои дети, если не сказать больше. Но просто так тебе от меня не отделаться. Знай, я не отступлю от своих прав.
Ренисенб вздрогнула, заслышав за спиной тихие шаги. Она обернулась и, увидев Хенет, тотчас испытала привычное чувство неприязни.
На худом лице Хенет, как всегда, играла подобострастная улыбка.
— Ничего не изменилось, правда, Ренисенб? — пропела она. — Не понимаю, почему мы все терпим от Сатипи. Кайт, конечно, может ей ответить. Но не всем дано такое право. Я, например, знаю свое место и благодарна твоему отцу за то, что он дал мне кров, кормит меня и одевает. Он добрый человек, твой отец. И я всегда стараюсь делать для него все, что в моих силах. Я вечно при деле, помогаю то тут, то там, не надеясь услышать и слова благодарности. Будь жива твоя ненаглядная мать, все было бы по-другому. Она-то уж умела ценить меня. Мы были как родные сестры. А какая она была красавица! Что ж, я выполнила свой долг и сдержала данное ей обещание. «Возьми на себя заботу о детях, Хенет», — умирая, завещала мне она. И я не нарушила своего слова. Была всем вам рабыней и никогда не ждала благодарности. Не просила, но и не получала! «Она всего лишь старая Хенет, — говорят люди. — Что с ней считаться?» Да и с какой стати? Никому нет до меня дела. А я все стараюсь и стараюсь, чтоб от меня была польза в доме.
И, ужом скользнув у Ренисенб под локтем, она исчезла во внутренних покоях со словами:
— А про те подушки, ты прости меня, Сатипи, но я краем уха слышала, как Себек сказал…
Ренисенб отвернулась. Она почувствовала, что ее давнишняя неприязнь к Хенет стала еще острее. Ничего удивительного, что все они дружно не любят Хенет из-за ее вечного нытья, постоянных сетований на судьбу и злорадства, с которым она раздувает любую ссору.
«Для нее это своего рода развлечение», — подумала Ренисенб. Но ведь и вправду жизнь Хенет была безрадостной, она действительно трудилась как вол, ни от кого никогда не слышала благодарности. Да к ней и невозможно было испытывать благодарность — она так настаивала на собственных заслугах, что появившийся было в сердце отклик тотчас исчезал.
Хенет, по мнению Ренисенб, принадлежала к тем людям, которым судьбою уготовано быть преданной другим, ничего не получая взамен. Внешне она была нехороша собой, да к тому же глупа. Однако отлично обо всем осведомлена. При способности появляться почти бесшумно ничто не могло укрыться от ее зоркого взгляда и острого слуха. Иногда она держала то что обнаружила, при себе, но чаще спешила нашептать это каждому на ухо, с наслаждением наблюдая со стороны за произведенным впечатлением.
Время от времени кто-нибудь из домочадцев начинал уговаривать Имхотепа прогнать Хенет, но Имхотеп даже слышать об этом не желал. Он, пожалуй, единственный относился к ней с симпатией, за что она платила ему поистине собачьей преданностью, от которой остальных членов семьи воротило с души.
Ренисенб постояла еще с секунду, прислушиваясь к ссоре своих невесток, подогретой вмешательством Хенет, а затем не спеша направилась к покоям, где обитала мать Имхотепа Иза, которой прислуживали две чернокожие девочки-рабыни. Сейчас она была занята тем, что разглядывала полотняные одежды, которые они ей показывали, и добродушно ворчала на маленьких прислужниц.
«Да, все было по-прежнему», — думала Ренисенб, прислушиваясь к воркотне старухи. Старая Иза чуть усохла, вот и все. Голос у нее тот же, и говорила она то же самое, почти слово в слово, что и тогда, когда восемь лет назад Ренисенб покидала этот дом…
Ренисенб тихо выскользнула из ее покоев. Ни старуха, ни две маленькие рабыни так ее и не заметили. Секунду-другую Ренисенб постояла возле открытой в кухню двери. Запах жареной утятины, реплики, смех и перебранка — все вместе. И гора ожидающих разделки овощей.
Ренисенб стояла неподвижно, полузакрыв глаза. Отсюда ей было слышно все, что происходило в доме. Скрежет и гомон, доносившиеся из кухни, скрипучий голос старой Изы, решительные интонации Сатипи и приглушенное, но настойчивое контральто Кайт. Хаос женских голосов — болтовня, смех, горестные сетования, брань, восклицания… И вдруг Ренисенб почувствовала, что задыхается в этом шумном женском обществе. Целый дом крикливых вздорных женщин, никогда не закрывающих рта, вечно ссорящихся, занятых вместо дела пустыми разговорами.
И Хей, Хей в лодке, собранный, сосредоточенный на одном — вовремя поразить копьем рыбу.
Никакой зряшной болтовни, никакой бесцельной суетливости.
Ренисенб выбежала из дому в жаркую безмятежную тишину. Увидела, как возвращается с полей Себек, а вдалеке к гробнице поднимается Яхмос.
Тогда и она пошла по тропинке к гробнице, вырубленной в известняковых скалах. Это была усыпальница великого и благородного Мериптаха, и ее отец состоял жрецом — хранителем этой гробницы, обязанным содержать ее в порядке, за что и дарованы были ему владения и земли.
Не спеша поднявшись по крутой тропинке, Ренисенб увидела, что старший брат беседует с Хори, управителем отцовских владений. Укрывшись в небольшом гроте рядом с гробницей, мужчины склонились над папирусом[9], разложенным на коленях у Хори. При виде Ренисенб оба подняли головы и заулыбались. Она присела рядом с ними в тени. Ренисенб любила Яхмоса. Кроткий и мягкосердечный, он был ласков и приветлив с ней. А Хори когда-то чинил маленькой Ренисенб игрушки. У него были такие искусные руки! Она запомнила его молчаливым и серьезным не по годам юношей. Теперь он стал старше, но почти не изменился. Улыбка его была такой же сдержанной, как прежде.
Мужчины тихо переговаривались между собой.
— Семьдесят три меры[10] ячменя у Ипи-младшего…
— Тогда всего будет двести тридцать мер пшеницы и сто двадцать ячменя.
— Да, но предстоит еще заплатить за лес, за хлеб в колосьях мы расплачивались в Пераа маслом…
Разговор продолжался, и Ренисенб чуть не задремала, убаюканная тихими голосами мужчин. Наконец Яхмос встал и удалился, оставив свиток папируса в руках у Хори.
Ренисенб, помолчав, дотронулась до свитка и спросила:
— Это от отца?
Хори кивнул.
— А о чем здесь говорится? — с любопытством спросила она, развернув папирус и глядя на непонятные знаки, — ее не научили читать.
Чуть улыбаясь, Хори заглянул через ее плечо и, водя мизинцем по строчкам, принялся читать. Письмо было написано пышным слогом профессионального писца Гераклеополя[11].
— «Имхотеп, жрец души умершего, верно несущий свою службу, желает вам уподобиться тому, кто возрождается к жизни бессчетное множество раз, и да пребудет на то благоволение бога Херишефа[12], повелителя Гераклеополя, и всех других богов. Да ниспошлет бог Птах[13] вам радость, коей он вознаграждает вечно оживающего. Сын обращается к своей матери, жрец „ка“ вопрошает свою родительницу Изу: пребываешь ли ты во здравии и благополучии? О домочадцы мои, я шлю вам свое приветствие. Сын мой Яхмос, пребываешь ли ты во здравии и благополучии? Преумножай богатства моих земель, не ведая устали в трудах своих. Знай, если ты будешь усерден, я вознесу богам молитвы за тебя…»
— Бедный Яхмос! — засмеялась Ренисенб, — Он и так старается изо всех сил.
Слушая это напыщенное послание, она ясно представила себе отца: тщеславного и суетливого, своими бесконечными наставлениями и поучениями он замучил всех в доме.
Хори продолжал:
— «Твой первейший долг проявлять заботу о моем сыне Ипи. До меня дошел слух, что он пребывает в неудовольствии. Позаботься также о том, чтобы Сатипи хорошо обращалась с Хенет. Помни об этом. Не забудь сообщить мне о сделках со льном и маслом. Береги зерно, береги все, что мне принадлежит, ибо спрошу я с тебя. Если земли зальет, горе тебе и Себеку».
— Отец ни капельки не изменился, — с удовольствием заметила Ренисенб. — Как всегда уверен, что без него все будет не так, как следует. — Свиток папируса соскользнул с ее колен, и она тихо добавила: — Да, все осталось по-прежнему…
Хори молча подхватил папирус и принялся писать. Некоторое время Ренисенб лениво следила за ним. На душе было так покойно, что не хотелось даже разговаривать.
— Хорошо бы научиться писать, — вдруг мечтательно сказала она. — Почему учат не всех?
— В этом нет нужды.
— Может, и нет нужды, но было бы приятно.
— Ты так думаешь, Ренисенб? Но зачем, зачем это тебе?
Секунду-другую она размышляла.
— По правде говоря, я не знаю, что тебе ответить, Хори.
— Сейчас даже в большом владении достаточно иметь несколько писцов, — сказал Хори, — но я верю, придет время, когда в Египте потребуется множество грамотных людей. Мы живем в преддверии великой эпохи.
— Вот это будет замечательно! — воскликнула Ренисенб.
— Вовсе не обязательно, — тихо отозвался Хори.
— Почему?
— Потому что, Ренисенб, записать десять мер ячменя, сто голов скота или десять полей пшеницы не требует большого труда. Но, возможно, кому-то покажется, будто самое важное уметь написать это, словно существует лишь то, что написано. И тогда те, кто умеет писать, будут презирать тех, кто пашет землю, растит скот и собирает урожай. Тем не менее на самом деле существуют не знаки на папирусе, а поля, зерно и скот. И если все записи и все свитки папируса уничтожить, а писцов разогнать, люди, которые трудятся и пашут, все равно останутся, и Египет будет жить.
Сосредоточенно глядя на него, Ренисенб медленно произнесла:
— Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Только то, что человек видит, может потрогать или съесть, только оно настоящее… Можно написать: «У меня двести сорок мер ячменя», но если на самом деле у тебя их нет, это ничего не значит. Человек может написать ложь.
Хори улыбнулся, глядя на ее серьезное лицо.
— Ты помнишь, как чинил когда-то моего игрушечного льва? — вдруг спросила Ренисенб.
— Конечно, помню.
— А сейчас им играет Тети… Это тот же самый лев. — И, помолчав, доверчиво добавила: — Когда Хей ушел в царство Осириса, я была безутешна. Но теперь я вернулась домой и снова буду счастлива и забуду о своей печали — потому что здесь все осталось прежним. Ничто не изменилось.
— Ты уверена в этом?
Ренисенб насторожилась.
— Что ты хочешь сказать, Хори?
— Я хочу сказать, что все меняется. Восемь лет — немалый срок.
— Все здесь осталось прежним, — твердо повторила Ренисенб.
— Тогда, возможно, перемена еще грядет.
— Нет, нет! — воскликнула Ренисенб. — Я хочу, чтобы все было прежним.
— Но ты сама не та Ренисенб, которая уехала с Хеем.
— Нет, та! А если и не та, то скоро буду той.
— Назад возврата нет, Ренисенб. Это как при подсчетах, которыми я здесь занимаюсь: беру половину меры, добавляю к ней четверть, потом одну десятую, потом одну двадцать четвертую и в конце концов получаю совсем другое число.
— Я та же Ренисенб.
— Но к Ренисенб все эти годы что-то добавлялось, и потому она стала совсем другой!
— Нет, нет! Вот ты, например, ты остался прежним Хори.
— Думай как хочешь, но в действительности это не так.
— Да, да, и Яхмос как всегда чем-то озабочен и встревожен, а Сатипи по-прежнему помыкает им, и они с Кайт все так же ссорятся из-за циновок и бус, а потом, помирившись, как лучшие подруги, сидят вместе и смеются, и Хенет, как и раньше, бесшумно подкрадывается и подслушивает и жалуется на свою судьбу, и бабушка ворчит на рабынь из-за кусков полотна! Все, все как было! А когда отец вернется домой, он поднимет шум, будет кричать: «Зачем вы это сделали?», «Почему не сделали того?», и Яхмос будет оправдываться, а Себек только посмеется и скажет, что он тут ни при чем, и отец будет потакать Ипи, которому уже шестнадцать лет, так же, как потакал ему, когда тому было восемь, и все останется прежним! — выпалила она на одном дыхании и умолкла, обессиленная.
Хори вздохнул и тихо возразил:
— Ты не понимаешь, Ренисенб. Бывает зло, которое приходит в дом извне, оно нападает на виду у всех, но есть зло, которое зреет изнутри, и его никто не замечает. Оно растет медленно, день ото дня, пока не поразит все вокруг, и тогда гибели не избежать.
Ренисенб смотрела на него, широко раскрыв глаза. Хори говорил как-то странно, словно обращался не к ней, а к самому себе, размышляя вслух.
— Что ты хочешь сказать, Хори? — воскликнула она. — От твоих слов мне становится страшно.
— Я и сам боюсь.
— Но о чем ты говоришь? Какое зло имеешь в виду?
Он взглянул на нее и вдруг улыбнулся.
— Не обращай внимания, Ренисенб. Я говорил о болезнях, которые поражают плоды.
— Как хорошо! — с облегчением вздохнула Ренисенб. — А то уж я подумала… Я сама не знаю, что я подумала.
Глава 2 Третий месяц разлива, 4-й день
1
Сатипи, по своему обыкновению громогласно, на весь дом наставляла Яхмоса:
— Ты должен отстаивать свои права. Сколько раз я тебе говорила, что с тобой никто не будет считаться, если ты не можешь постоять за себя. Твой отец велит тебе делать то одно, то другое, то третье, а потом спрашивает, почему ты не выполнил его приказаний. Ты же покорно выслушиваешь его и просишь прощения за то, что не выполнил того, что он велел, хотя, богам известно, сделать то, что он хочет, порой просто невозможно. Твой отец относится к тебе как к безответственному мальчишке! Будто тебе столько же лет, сколько Ипи.
— Мой отец никогда не относится ко мне, как к Ипи, — тихо возразил Яхмос.
— Разумеется, нет, — с удвоенной яростью переключилась на новую тему Сатипи. — Его безрассудная любовь совсем испортила этого баловня. С каждым днем Ипи наглеет все больше и больше. Слоняется без дела, а стоит дать ему поручение, заявляет, что оно ему не по силам. Безобразие! И все потому, что знает — отец ему потворствует и всегда будет на его стороне. Вам с Себеком следует воспрепятствовать этому.
— Что толку? — пожал плечами Яхмос.
— От тебя с ума можно сойти, Яхмос, всегда ты так. Никакой твердости характера, словно ты не мужчина. Что бы твой отец ни говорил, ты сразу соглашаешься!
— Я очень его люблю.
— Правильно, и он этим пользуется. Ты же покорно выслушиваешь его обвинения и просишь прощения за то, в чем вовсе не виноват! Ты должен, когда надо, возражать ему, как это делает Себек. Себек никого не боится.
— Да, но вспомни, Сатипи, что мне, а не Себеку отец доверяет вести хозяйство. Отец не полагается на Себека, дела решаю я, а не Себек.
— Именно поэтому отцу давно пора сделать тебя совладельцем! Когда он уезжает, ты заменяешь его во всем, даже совершаешь жреческие обряды. Все делаешь ты, и тем не менее никто не считает тебя полноправным хозяином. Этому надо положить конец. Тебе уже немало лет, а на тебя до сих пор смотрят как на мальчишку.
— Отец предпочитает быть единовластным владетелем, — с сомнением в голосе возразил Яхмос.
— Именно. Ему доставляет удовольствие, что все в этом доме зависят от него и от его прихотей. От этого нам и так нелегко, а будет еще хуже. На сей раз, когда он приедет, ты должен поговорить с ним самым решительным образом. Скажи ему, что требуешь узаконить твое положение и записать это на папирусе.
— Он не будет слушать.
— А ты заставь его слушать. О, если бы я была мужчиной! Будь я на твоем месте, я бы знала, как поступить! Порой мне кажется, что мой муж не человек, а слизняк.
Яхмос вспыхнул.
— Ладно, посмотрим, что можно сделать. Быть может, на этот раз мне удастся поговорить с отцом, попросить его…
— Не попросить, а потребовать! В конце концов, ты его правая рука. Только на тебя он может положиться в свое отсутствие. Себек чересчур необуздан, твой отец ему не доверяет, а Ипи слишком молод.
— Есть еще Хори.
— Хори не член семьи. Твой отец ценит его мнение, но правом распоряжаться в своих владениях он облечет только кровного родственника. Вся беда в том, что ты слишком кроток и послушен, — у тебя в жилах не кровь течет, а молоко. Ты не думаешь обо мне и наших детях. Пока твой отец не умрет, мы не займем в доме подобающего нам положения.
— Ты презираешь меня, Сатипи, да? — сокрушенно проговорил Яхмос.
— Ты выводишь меня из себя.
— Ладно, обещаю тебе поговорить с отцом, когда он вернется. Даю слово.
— Верю. Только, — еле слышно пробормотала Сатипи, — как ты будешь говорить? Опять будешь вести себя как мышь?
2
Кайт играла с самой младшей из своих детей, крошкой Анх. Девочка только начала ходить, и Кайт стояла на коленях, раскинув руки, и, ласково подбадривая, подзывала дочку к себе. Малышка, неуверенно ковыляя на нетвердых ножках, наконец добралась до материнских объятий.
Кайт хотела поделиться с Себеком радостью по поводу успехов крошки Анх, но вдруг заметила, что он, не обращая на нее внимания, сидит задумавшись и нахмурив свой высокий лоб.
— О Себек, ты не смотришь на нас! Скажи своему отцу, маленькая, какой он нехороший, — даже не смотрит, как ты ходишь!
— Мне хватает других забот, — раздраженно отозвался Себек.
Кайт села на корточки и откинула закрывшие лоб до густых темных бровей пряди волос, за которые хваталась пальчиками Анх.
— А что? Разве что-нибудь случилось? — спросила она, не проявляя особого интереса, просто по привычке.
— Отец мне не доверяет, — сердито ответил Себек. — Он старый человек, упорно держится нелепых старомодных представлений, будто все должны ему подчиняться, и совсем не считается со мной.
— Да, да, это плохо, — покачав головой, пробормотала Кайт.
— Если бы у Яхмоса хватило духа поддержать меня, можно было бы образумить отца. Но Яхмос чересчур робок. Он рабски следует любому отцовскому распоряжению.
— Да, это правда, — подтвердила Кайт, развлекая ребенка звоном бус.
— Когда отец вернется, скажу ему, что я принял собственное решение о том, как поступить с лесом. И что лучше рассчитываться льном, чем маслом.
— Ты совершенно прав, я уверена.
— Но отец так настаивает на своем, что его не переубедишь. Он станет возмущаться: «Я велел тебе расплачиваться маслом. Все делается не так, когда меня нет. Ты пока еще ничего не смыслишь в делах». Сколько, он думает, мне лет? Он не понимает, что я мужчина в самом расцвете сил, а он уже старик. И когда он отказывается от любой нетрадиционной сделки, мы только проигрываем. Чтобы стать богатым, нужно рисковать. Я смотрю дальше собственного носа и ничего не боюсь, а у моего отца этих качеств нет.
Не отрывая глаз от ребенка, Кайт ласково проговорила:
— Ты такой храбрый и умный, Себек.
— На этот раз, если ему не понравится то, что я сделал, и он опять примется меня ругать, я скажу ему всю правду. И если он не позволит мне поступать по собственному разумению, я уйду. Навсегда.
Кайт, которая протянула к ребенку руки, резко повернула голову и застыла в этой позе.
— Уйдешь? Куда?
— Куда глаза глядят! Мне надоело выслушивать попреки и придирки старика, который чересчур много мнит о себе и не дает мне показать, на что я способен.
— Нет, — твердо сказала Кайт. — Нет, говорю я, Себек.
Он уставился на нее во все глаза, словно только сейчас заметил ее присутствие. Он так привык к тому, что она лишь вполголоса поддакивает ему, что воспринимал ее как некий убаюкивающий аккомпанемент к своим речам и часто вообще забывал о ее существовании.
— Что ты имеешь в виду, Кайт?
— Я хочу сказать, что не позволю тебе делать глупости. Все имущество — земля, поля, скот, лес, лен — принадлежит твоему отцу, а после его смерти перейдет нам — тебе, Яхмосу и детям. Если ты поссоришься с отцом и уйдешь из дому, он разделит твою долю между Яхмосом и Ипи — он и так чересчур благоволит к нему. Ипи это знает и часто злоупотребляет благосклонностью отца. Ты не должен играть ему на руку. Если ты поссоришься с Имхотепом и уйдешь, Ипи от этого будет только в выигрыше. Нам нужно думать о наших детях.
Себек не сводил с нее глаз. Потом коротко и удивленно рассмеялся.
— Никогда не знаешь, чего ожидать от женщины. Вот уж не предполагал, Кайт, в тебе столько решительности.
— Не ссорься с отцом, — настойчиво повторила Кайт. — Промолчи. Веди себя благоразумно, потерпи еще немного.
— Возможно, ты и права, но ведь могут пройти годы. Пусть отец пока хоть сделает нас совладельцами.
— Он не пойдет на это, — покачала головой Кайт. — Он слишком любит говорить, что мы все едим его хлеб, что мы зависим от него и что без него мы бы пропали.
Себек взглянул на нее с любопытством.
— Ты не очень жалуешь моего отца, Кайт.
Но Кайт уже снова занялась делающей попытки ходить Анх.
— Иди сюда, родненькая. Смотри, вот кукла. Иди сюда, иди…
Себек смотрел на склоненную над ребенком черноволосую голову жены. Потом с тем же озадаченным выражением на лице вышел из дому.
3
Иза послала за своим внуком Ипи.
И вскоре Ипи, на красивом лице которого застыла гримаса вечного недовольства, стоял перед ней, и она скрипучим голосом распекала внука, напряженно вглядываясь в него тусклыми глазами. Хотя зрение у старухи порядком ослабело, взгляд ее по-прежнему оставался проницательным.
— Что это такое? Что я слышу? То одно не желаешь делать, то другое! Согласен приглядывать за волами, но не хочешь помогать Яхмосу или следить за пахотой? К чему это приведет, если ребенок вроде тебя будет говорить, что он желает и чего не желает делать?
— Я не ребенок, — угрюмо возразил Ипи. — Я уже взрослый, и пусть ко мне относятся как к взрослому, а не держат на побегушках, поручая без моего ведома то одно, то другое. И пусть Яхмос мною не командует. Кто он такой, в конце концов.
— Он твой старший брат и ведает всеми делами во владении моего сына Имхотепа, когда тот отсутствует.
— Яхмос — дурак, недотепа и дурак. Я куда умнее его. И Себек — дурак, хотя и хвастается, как он хорошо соображает. Отец уже велел в письме поручать мне ту работу, которую я сам выберу…
— Ничего подобного, — перебила его Иза.
— …кормить и поить меня послаще и еще добавил, что ему очень не понравится, если до него дойдут слухи, что я недоволен и что со мной плохо обращаются.
Повторив наставления отца, он улыбнулся хитрой, злорадной улыбкой.
— Ах ты, негодник! — в сердцах бросила Иза. — Так я и скажу Имхотепу.
— Нет, бабушка, ты этого не скажешь.
Теперь он улыбался ласково, хотя и чуть нагло.
— Только мы с тобой, бабушка, из всего нашего семейства умеем соображать.
— Ну и наглец же ты!
— Отец всегда поступает, как ты советуешь. Он знает, какая ты мудрая.
— Возможно… Пусть так, но я не желаю слышать это от тебя.
Ипи засмеялся.
— Тебе лучше быть на моей стороне, бабушка.
— О чем это ты ведешь речь?
— Старшие братья очень недовольны, разве ты не знаешь? Конечно, знаешь. Хенет тебе обо всем докладывает. Сатипи и днем и ночью, как только остается с Яхмосом наедине, убеждает его поговорить с отцом. А Себек просчитался на сделке с лесом и теперь боится, что отец разгневается, когда узнает. Вот увидишь, бабушка, через год-другой отец сделает меня совладельцем и будет во всем слушаться.
— Тебя? Младшего из своих детей?
— Какое значение имеет возраст? Сейчас вся власть в руках отца, а я единственный, кто имеет власть над ним.
— Я запрещаю тебе так говорить! — рассердилась Иза.
— Ты у нас умная, бабушка, — тихо продолжал Ипи, — и прекрасно знаешь, что мой отец, несмотря на все его громкие слова, на самом деле человек слабый…
И сразу умолк, заметив, что Иза перевела взгляд и смотрит куда-то поверх его головы. Он повернулся и увидел Хенет.
— Значит, Имхотеп — человек слабый? — скорбным тоном переспросила Хенет. — Не очень-то ему будет по душе твое мнение о нем.
Ипи смущенно рассмеялся.
— Но ведь ты не скажешь ему об этом, Хенет. Пожалуйста, Хенет, дай слово, что не скажешь… Милая Хенет…
Хенет скользнула мимо него к Изе. И хныкающим голосом, правда, громче, чем обычно, проговорила:
— Конечно, не скажу. Тебе ведь хорошо известно, что я всегда стараюсь никому не причинять неприятностей. Я всей душой служу вам и никогда не передаю чужих слов, кроме тех случаев, когда долг обязывает меня сделать это.
— Я просто дразнил бабушку, вот и все, — нашелся Ипи. — Так я и объясню отцу. Он знает, что я никогда не скажу такое всерьез.
И, коротко кивнув Хенет, вышел из комнаты.
— Красивый мальчик, — глядя ему вслед, проронила Хенет. — Красивый и уже совсем взрослый. И какие дерзкие ведет речи!
— Опасные, а не дерзкие, — недовольно возразила Иза. — Не нравятся мне его мысли. Мой сын чересчур к нему снисходителен.
— Ничего удивительного. Такой красивый и симпатичный мальчик.
— Судят не по внешности, а по делам, — снова резко проговорила Иза. И потом вдруг добавила: — Хенет, мне страшно.
— Страшно? Чего тебе бояться, Иза? Скоро вернется господин, и все встанет на свои места.
— Встанет ли? Не знаю.
И, опять помолчав, спросила:
— Мой внук Яхмос дома?
— Несколько минут назад я видела, как он возвращался домой.
— Пойди и скажи ему, что я хочу с ним поговорить.
Хенет вышла и, разыскав Яхмоса на прохладной галерее, украшенной массивными, ярко расписанными столбами, передала ему пожелание Изы. Яхмос тотчас поспешил явиться.
— Яхмос, Имхотеп со дня на день будет здесь, — сразу приступила к делу Иза.
Добродушное лицо Яхмоса осветилось улыбкой.
— Я знаю и очень рад этому.
— Все готово к его приезду? Дела в порядке?
— Я приложил все усилия, чтобы выполнить распоряжения отца.
— А как насчет Ипи?
Яхмос вздохнул.
— Отец слишком к нему благоволит, что может оказаться пагубным для мальчика.
— Следует объяснить это Имхотепу.
Лицо Яхмоса отразило сомнение.
— Я поддержу тебя, — твердо добавила Иза.
— Порой мне кажется, — вздохнул Яхмос, — что вокруг одни неразрешимые трудности. Но как только отец вернется домой, все уладится. Он сам будет принимать решения. В его отсутствие действовать так, как ему бы хотелось, нелегко, да еще когда я не наделен законной властью, а лишь выполняю его поручения.
— Ты хороший сын, — медленно заговорила Иза, — преданный и любящий. И муж ты тоже хороший: ты следуешь наставлениям Птахотепа[14], которые гласят:
…заведи себе дом. Как подобает, его госпожу возлюби. Чрево ее насыщай, одевай ее тело, Кожу ее умащай благовонным бальзамом, Сердце ее услаждай, поколе ты жив![15]Но им сказано: не позволяй жене взять над собой верх. На твоем месте, внук мой, я бы всегда об этом помнила.
Яхмос взглянул на Изу и, покраснев от смущения, вышел из ее покоев.
Глава 3 Третий месяц разлива. 14-й день
1
Повсюду царила суматоха приготовления. В кухне уже напекли сотни хлебов, теперь жарились утки, пахло луком, чесноком и разными пряностями. Женщины кричали, отдавая распоряжения, слуги метались, выполняя приказы.
«Господин… Господин приезжает…» — неслось по дому.
Ренисенб помогала плести гирлянды из цветов мака и лотоса, и душа ее исходила радостным волнением. Отец едет домой! За последние несколько месяцев она, сама того не замечая, окончательно втянулась в прежнюю жизнь. Чувство смутной тревоги перед чем-то неведомым и загадочным, возникшее в ней, по ее мнению, после слов Хори, исчезло. Она прежняя Ренисенб, и Яхмос, Сатипи, Себек и Кайт тоже ничуть не изменились: как и всегда перед приездом Имхотепа, в доме шумная суета. Пришло известие, что хранитель гробницы прибудет до наступления темноты. На берег реки послали одного из слуг, который криком должен был возвестить о приближении господина, и вот наконец ясно послышался его громкий предупреждающий клич.
Бросив цветы, Ренисенб вместе с остальными побежала к причалу. Яхмос и Себек уже были там, окруженные небольшой толпой из рыбаков и землепашцев, — они все возбужденно кричали, указывая куда-то пальцем.
А по реке под большим квадратным парусом, надутым северным ветром, быстро шла ладья. За ее кормой следовала еще одна ладья-кухня, на которой теснились слуги. Наконец, Ренисенб разглядела отца с цветком лотоса в руках, а рядом с ним сидел еще кто-то, кого Ренисенб приняла за певца.
Приветственные крики на берегу раздались с удвоенной силой. Имхотеп в ответ помахал рукой. Гребцы оставили весла и взялись за фалы[16]. Послышались возгласы: «Добро пожаловать, господин!» — и слова благодарности богам за счастливое возвращение:
— Слава Себеку[17], сыну Нейт[18], который покровительствовал твоему благополучному путешествию по воде! Слава Птаху, доставившему тебя из Мемфиса к нам на юг! Слава Ра[19], освещающему Северные и Южные Земли!
И вот уже Имхотеп, сойдя на берег, отвечает, как того требует обычай, на громкие приветствия и вознесенную богам хвалу по случаю его возвращения.
Ренисенб, зараженная общим радостным волнением, протиснулась вперед. Она увидела отца, который стоял с важным видом, и вдруг подумала: «А ведь он небольшого роста. Я почему-то думала, что он куда выше».
И чувство, похожее на смятение, овладело ею.
Усох отец, что ли? Или просто ей изменяет память? Он всегда казался видным, властным, порой, правда, суетливым, поучающим всех вокруг, иногда она в душе посмеивалась над ним, но тем не менее он был личностью. А теперь перед ней стоял маленький пожилой толстяк, который изо всех сил тщетно пытался произвести впечатление значительного человека. Что с ней? Почему такие непочтительные мысли приходят ей в голову?
Имхотеп, завершив свою напыщенную ответную речь, принялся здороваться с домочадцами. Прежде всего он обнял сыновей.
— А, добрый мой Яхмос, ты весь лучишься улыбкой, надеюсь, ты прилежно вел дела в мое отсутствие? И Себек, красивый мой сын, вижу, ты так и остался весельчаком? А вот и Ипи, любимый мой Ипи, дай взглянуть на тебя, отойди вот так. Вырос, совсем мужчина! Какая радость моему сердцу снова обнять тебя! И Ренисенб, моя дорогая дочь, ты снова дома! Сатипи и Кайт, вы тоже мне родные дочери. И Хенет, преданная Хенет…
Хенет, стоя на коленях, вцепилась ему в ноги и нарочито, на виду у всех, утирала слезы радости.
— Счастлив видеть тебя, Хенет. Ты здорова? Никто тебя не обижает? Верна мне, как всегда, что не может не радовать душу… И Хори, мой превосходный Хори, столь искусный в своих отчетах и так умело владеющий пером! Все в порядке? Уверен, что да.
Затем, когда приветствия завершились и шум замер, Имхотеп поднял руку, призывая к тишине, и громко возвестил:
— Сыновья и дочери мои! Друзья! У меня есть для вас новость. Уже много лет, как вам известно, я жил одиноко. Моя жена, а ваша мать, Яхмос и Себек, и моя сестра — твоя мать, Ипи, — обе ушли к Осирису давным-давно. Поэтому вам, Сатипи и Кайт, я привез новую сестру, которая войдет в наш дом. Вот моя наложница Нофрет, которую из любви ко мне вы все должны любить. Она приехала со мной из Мемфиса, что в Северных Землях, и останется здесь с вами, когда мне снова придется уехать.
С этими словами он вывел вперед молодую женщину. Она стояла рядом с ним, откинув назад голову и высокомерно сощурив глаза, — юная и красивая.
«Она совсем еще девочка, — с изумлением смотрела на нее Ренисенб. — Ей, наверное, меньше лет, чем мне».
На губах Нофрет порхала легкая улыбка, в ней сквозила скорей насмешка, чем желание понравиться.
Черные брови юной наложницы были безукоризненно прямой формы, кожа на лице цвета бронзы, а ресницы такие длинные и густые, что за ними едва можно было разглядеть глаза.
Семейство хозяина дома в растерянности молча взирало на нее.
— Подойдите, дети, поздоровайтесь с Нофрет. — В голосе Имхотепа звучало раздражение. — Разве вам не известно, как следует приветствовать женщину, которую отец избрал своей наложницей?
Они один за другим приблизились к ней и, запинаясь, произнесли положенные слова приветствия.
Имхотеп, чтобы скрыть некоторое замешательство, преувеличенно-радостным тоном воскликнул:
— Вот так-то лучше! Сатипи, Кайт и Ренисенб отведут тебя, Нофрет, на женскую половину. А где короба? Короба не забыли снести на берег?
Дорожные короба с круглыми крышками переносили с ладьи на берег.
— Твои украшения и одежды доставлены в сохранности. Пригляди, чтобы их аккуратно выложили.
Затем, когда женщины все вместе направились к дому, он обратился к сыновьям:
— А как дела в хозяйстве?
— Нижние поля, которые в аренде у Нехте… — начал было Яхмос, но отец его перебил:
— Сейчас не до подробностей, дорогой Яхмос. С этим можно повременить. Сегодня будем веселиться. А завтра мы с тобой и Хори займемся делами. Подойди ко мне, Ипи, мой мальчик, я хочу, чтобы ты шел до дома рядом со мной. Как ты вырос! Ты уже выше меня!
Себек, хмуро шагая вслед за отцом и Ипи, прошептал на ухо Яхмосу:
— Украшения и одежды, слышал? Вот куда ушли доходы от наших северных владений. Наши доходы.
— Молчи, — предостерег его Яхмос, — не то отец услышит.
Как только Имхотеп вошел в свои покои, тотчас появилась Хенет, приготовить ему воду для омовения. Она вся сияла.
Имхотеп, отбросив показную веселость, озабоченно спросил:
— Ну, Хенет, что скажешь про мой выбор?
Хотя он был настроен вести себя самым решительным образом, тем не менее отлично сознавал, что появление Нофрет вызовет бурю, по крайней мере на женской половине дома. Иное дело Хенет, полагал он. И верная Хенет не обманула его ожиданий.
— Красавица! Необыкновенная красавица! — восторженно воскликнула она. — Какие волосы, как сложена! Она достойна тебя, Имхотеп, иначе и не скажешь. Твоя покойная жена будет рада, что такая женщина скрасит твое одиночество!
— Ты так думаешь, Хенет?
— Я уверена, Имхотеп. Ты столько лет оплакивал жену, пора тебе наконец снова вкусить радости жизни.
— Да, ты ее хорошо знала… Я тоже чувствую, что заслужил право жить, как подобает настоящему мужчине. Но вряд ли мои снохи и дочь будут довольны этим решением, а?
— Еще чего! — возмутилась Хенет. — В конце концов, разве они не зависят от тебя?
— Истинная правда, истинная правда, — согласился Имхотеп.
— Ты их щедро кормишь и одеваешь. Их благополучие — плод твоих усилий.
— Несомненно, — вздохнул Имхотеп. — Ради них я вечно в труде и заботах. Но порой меня одолевают сомнения: понимают ли они, чем обязаны мне?
— Ты должен напоминать им об этом. Я, покорная и преданная тебе Хенет, никогда не забываю о твоих благодеяниях. Дети же порой бездумны и себялюбивы, они слишком много мнят о себе, не понимая, что лишь выполняют твои распоряжения.
— Истинная правда, — подтвердил Имхотеп. — Я всегда знал, что ты умная женщина, Хенет.
— Если бы и другие так думали, — вздохнула Хенет.
— А что? Кто-то плохо к тебе относится?
— Нет-нет, то есть никто нарочно меня не обижает… Просто я тружусь не покладая рук, что, по правде сказать, делаю с радостью, но… признательность и благодарность — их так не хватает!
— В этом ты можешь положиться на меня, — великодушно пообещал Имхотеп. — И твой дом здесь, запомни.
— Ты слишком добр, господин. — Помолчав, она добавила: — Рабы ждут тебя, вода уже согрета. А потом, когда они тебя омоют и оденут, тебе предстоит пойти к твоей матери, она зовет тебя.
— Кто? Моя мать? Да-да, конечно…
Имхотеп чуть заметно смутился, но тут же поспешил скрыть смущение, воскликнув:
— Конечно-конечно. Я и сам собирался навестить ее. Скажи Изе, что я тотчас приду.
2
Иза, в праздничном одеянии из полотна, заложенного в мелкую складку, встретила сына язвительной усмешкой:
— Добро пожаловать, Имхотеп! Итак, ты вернулся домой — и не один, как мне донесли.
Собравшись с духом, Имхотеп спросил:
— Ты уже знаешь?
— Разумеется. Все только об этом и говорят. Я слышала, девушка очень красивая и совсем юная…
— Ей девятнадцать… и она недурна собой.
Иза рассмеялась — злым коротким смешком.
— Что ж, седина в бороду, а бес в ребро.
— Матушка, я решительно не понимаю, о чем ты.
— Ты всегда был глуп, Имхотеп, — невозмутимо проговорила Иза.
Имхотеп вновь собрался с духом и рассердился. При том что он обычно был преисполнен самомнения, матери всякий раз ничего не стоило сбить с него спесь. В ее присутствии ему всегда было не по себе. Ехидная насмешка в ее подслеповатых глазах приводила его в замешательство. Мать, отрицать не приходилось, никогда не была высокого мнения о его умственных способностях. И хотя сам он не сомневался в собственной значительности, такое отношение матери тем не менее каждый раз выводило его из равновесия.
— Разве мужчина не может привести в дом наложницу?
— Почему же? Может. Мужчины вообще в большинстве своем дураки.
— Тогда в чем же дело?
— Ты что, не понимаешь, что появление этой девушки нарушит покой в доме? Сатипи и Кайт будут вне себя и распалят своих мужей.
— А какое им до этого дело? Какое у них право быть недовольными?
— Никакого.
Имхотеп разгневанно зашагал вдоль покоев.
— Почему я не могу делать, что хочу, в собственном доме? Разве я не содержу своих сыновей и их жен? Разве не мне они обязаны хлебом, который едят? Разве я не напоминаю им об этом ежедневно?
— Чересчур часто напоминаешь, Имхотеп.
— Но это же правда. Они все зависят от меня. Все до одного.
— И ты уверен, что это хорошо?
— Разве плохо, когда человек содержит свою семью?
Иза вздохнула.
— Не забывай, что они работают на тебя.
— Ты хочешь, чтобы я позволил им бездельничать? Естественно, они работают.
— Они взрослые люди. Яхмос и Себек, по крайней мере.
— Себек мало смыслит в делах и все делает не так, как надо. К тому же он часто ведет себя крайне нагло, чего я не намерен терпеть. Вот Яхмос — хороший, послушный мальчик.
— Он уже далеко не мальчик, — вставила Иза.
— Однако мне нередко приходится по нескольку раз ему объяснять, прежде чем он поймет, что от него требуется. Я и так вынужден думать обо всем, поспевать всюду. Мне приходится, будучи в отъезде, присылать сыновьям подробные наставления… Я не знаю ни отдыха, ни сна! И сейчас, когда я вернулся домой, заслужив право хоть немного пожить в мире и покое, меня снова ждут неприятности. Даже ты, моя мать, отказываешь мне в праве иметь наложницу, как подобает мужчине. Ты сердишься…
— Нет, я не сержусь, — перебила его Иза. — Мне даже интересно посмотреть, что будет твориться в доме. Это меня развлечет. Но я тебя предупреждаю, Имхотеп, когда ты снова задумаешь отправиться в Северные Земли, возьми девушку с собой.
— Ее место здесь, в моем доме. И горе тому, кто посмеет с ней дурно обращаться.
— Дело вовсе не в том, посмеют или не посмеют с ней дурно обращаться. Помни, что в иссушенной жарой стерне легче разжечь костер. Когда в доме слишком много женщин, добра, говорят, не жди. — Помолчав, Иза не спеша добавила: — Нофрет красива. А мужчины теряют голову, ослепленные женской красотой, и в мгновение ока превращаются в бесцветный сердолик[20].
И глухим голосом проговорила строку из гимна:
— «Начинается с ничтожного, малого, подобного сну, а в конце приходит смерть».
Глава 4 Третий месяц разлива, 15-й день
1
В зловещем молчании слушал Имхотеп доклад Себека о сделке с лесом. Лицо его стало багровым, на виске билась жилка.
Вид у Себека был не столь беззаботным, как обычно. Он надеялся, что все обойдется, но, увидев, как отец все больше мрачнел, начал запинаться.
— Понятно, — наконец раздраженно перебил его Имхотеп, — ты решил, что разбираешься в делах лучше меня, а потому поступил вопреки моим распоряжениям. Ты всегда так делаешь, когда меня здесь нет и я не могу за всем проследить. — Он вздохнул. — Не представляю, что стало бы с вами без меня!
— Появилась возможность заключить более выгодную сделку, — упрямо стоял на своем Себек, — вот я и пошел на риск. Нельзя вечно осторожничать.
— А когда это ты осторожничал, Себек? Ты всегда стремителен и безрассуден, а потому и принимаешь неверные решения.
— Разве у меня была когда-нибудь возможность принять решение?
— На этот раз, например, — сухо отпарировал Имхотеп. — Вопреки моему приказу…
— Приказу? Почему я должен подчиняться приказам? Я уже взрослый человек.
Потеряв терпение, Имхотеп перешел на крик:
— Кто тебя кормит? Кто одевает? Кто заботится о твоем будущем? Кто постоянно думает о твоем благополучии, о твоем и всех остальных? Когда уровень воды в Ниле упал и нам угрожал голод, разве не я присылал вам с севера еду? Тебе повезло, что у тебя такой отец, который печется обо всех вас! И что я требую взамен? Только чтобы вы прилежно трудились и следовали моим наставлениям…
— Разумеется, — возвысил голос и Себек, — мы должны работать на тебя, как рабы, чтобы ты мог дарить своей наложнице золотые украшения!
Вконец разъяренный Имхотеп двинулся на Себека.
— Наглец! Как ты смеешь так разговаривать с отцом? Берегись, не то я выгоню тебя из дому! Пойдешь куда глаза глядят!
— Берегись и ты, не то я сам уйду! У меня есть мысли… отличные мысли, как можно разбогатеть, если бы я не был связан по рукам и ногам твоими распоряжениями.
— Все сказал? — угрожающе спросил Имхотеп.
Себек, немного поостыв, сердито пробормотал:
— Да, больше мне нечего сказать… пока.
— Тогда иди и присмотри за скотом. Нечего бездельничать.
Себек резко повернулся и зашагал прочь. Когда он проходил мимо Нофрет, оказавшейся неподалеку, она искоса взглянула на него и засмеялась. Кровь бросилась Себеку в лицо, и он невольно к ней рванулся… Она стояла неподвижно, глядя на него презрительным взглядом из-под полуопущенных век.
Себек что-то невнятно пробурчал и двинулся в прежнем направлении. Нофрет снова рассмеялась и неспешным шагом приблизилась к Имхотепу, теперь взявшемуся за Яхмоса.
— Почему ты позволил Себеку делать глупости? — напустился он на старшего сына. — Ты обязан был помешать ему. Разве тебе неизвестно, что он совсем несведущ в торговых делах? Он слишком самоуверен, воображает, что все непременно получится так, как он задумал.
— Ты не представляешь, отец, как мне трудно, — начал оправдываться Яхмос. — Ты сам велел поручить эту сделку Себеку. Мне пришлось предоставить ему возможность решать самостоятельно.
— Решать самостоятельно? Он этого не умеет. Его дело — следовать моим распоряжениям, а ты обязан смотреть за тем, чтобы он их выполнял.
— Я? По какому праву?
— По какому праву? По тому, которым я тебя наделил.
— Будь я законным совладельцем, у меня было бы право…
Он умолк, потому что подошла Нофрет. Зевая, она мяла в руках алый цветок мака.
— Имхотеп, не хочешь ли пройти в беседку на берегу водоема? Там прохладно, и я велела подать туда фрукты и пиво. Ты уже покончил с делами?
— Повремени, Нофрет, повремени немного.
— Пойдем сейчас, — тихо произнесла Нофрет. — Я хочу, чтобы ты пошел сейчас…
На лице Имхотепа появилась довольная глуповатая улыбка. Яхмос поспешил сказать:
— Давай сначала закончим разговор. Это очень важно. Я хочу попросить тебя…
Нофрет, оставив без внимания слова Яхмоса, произнесла, обращаясь к Имхотепу:
— Ты не можешь в собственном доме поступать, как тебе хочется?
— В другой раз, сын мой, — решительно проговорил Имхотеп. — В другой раз.
И ушел вместе с Нофрет, а Яхмос, глядя им вслед, остался стоять на галерее.
Из дома появилась Сатипи.
— Ну, поговорил? — спросила она. — Что он сказал?
Яхмос вздохнул.
— Наберись терпения, Сатипи. Время было не совсем… подходящим.
— Ну конечно! — воскликнула Сатипи. — Вечно у тебя неподходящее время. Каждый раз ты этим отговариваешься. А если по правде, ты просто боишься отца. Ты, как овца, только блеять умеешь, а не разговаривать, как мужчина! Ты что, не помнишь, что обещал поговорить с отцом в первый же день его приезда? А что получается? Из нас двоих я больше мужчина, чем ты, так оно и есть.
Сатипи остановилась, но только чтобы перевести дух.
— Ты не права, Сатипи, — мягко сказал Яхмос. — Я начал было говорить, но нас перебили.
— Перебили? Кто?
— Нофрет.
— Нофрет! Эта женщина! Твой отец не должен позволять наложнице вмешиваться в деловой разговор со своим старшим сыном. Женщинам не положено вмешиваться в дела мужчин.
Возможно, Яхмосу хотелось посоветовать Сатипи придерживаться того правила, которое она так решительно провозглашала, но он не успел раскрыть и рта.
— Твой отец должен немедленно дать ей это понять, — продолжала Сатипи.
— Мой отец, — сухо отрезал Яхмос, — не выказал ни малейшего неудовольствия.
— Какой позор! — вскричала Сатипи. — Твой отец совсем потерял голову. Он позволяет ей говорить и делать все, что она хочет.
— Она очень красива… — задумчиво произнес Яхмос.
— Да, она недурна собой, — фыркнула Сатипи, — но не умеет себя вести. Плохо воспитана. Грубит нам и даже не извиняется.
— Может, это вы грубы с ней?
— Я сама вежливость. Мы с Кайт оказываем ей должное почтение. Во всяком случае, у нее нет оснований жаловаться на нас твоему отцу. Мы ждем своего часа.
Яхмос пристально взглянул на нее.
— Что значит «своего часа»?
Сатипи многозначительно рассмеялась.
— Это чисто женское понятие, тебе его не постичь. У нас есть свои секреты и свое оружие. Нофрет следовало бы держаться поскромнее. В конце концов, жизнь женщины проходит на женской половине, среди других женщин.
В ее голосе прозвучала угроза.
— Твой отец не всегда будет здесь, — добавила она. — Он снова уедет в свои северные владения. Вот тогда посмотрим!
— Сатипи…
Сатипи рассмеялась громко и весело и исчезла в глубине дома.
2
У водоема резвились дети: два сына Яхмоса, здоровые, красивые мальчики, больше похожие на мать, чем на отца; трое детишек Себека, включая младшую крошку, едва научившуюся ходить, и четырехлетняя Тети, хорошенькая девочка с печальными глазами.
Они смеялись, кричали, подбрасывали мячи, порой ссорились, и тогда раздавался пронзительный детский плач.
Сидя рядом с Нофрет и не спеша отхлебывая пиво, Имхотеп заметил:
— Как любят дети играть возле воды. Сколько я помню, всегда было так. Но, клянусь Хатор[21], какой от них шум!
— Да, а здесь могло бы быть так покойно, — тотчас подхватила Нофрет. — Почему бы тебе не сказать, чтобы их сюда не пускали, пока ты здесь? В конце концов, следует быть почтительным к хозяину дома и дать возможность ему отдохнуть. Разве не так?
— Видишь ли… — не сразу нашелся что ответить Имхотеп. Мысль эта была новой для него, но приятной. — По правде говоря, они мне не мешают, — неуверенно закончил он. И добавил с сомнением в голосе: — Дети привыкли играть на берегу водоема.
— Когда ты уезжаешь, разумеется, — быстро согласилась Нофрет. — Но, по-моему, Имхотеп, принимая во внимание все, что ты делаешь для семьи, им полагалось бы проявлять к тебе больше почтительности, больше уважения. Ты слишком снисходителен, слишком терпелив.
— Я сам во всем виноват, — проговорил Имхотеп, добродушно вздыхая. — Я никогда не требовал особого почтения.
— И посему эти женщины, твои снохи, пользуются твоей добротой. Им следует дать понять: когда ты возвращаешься сюда на отдых, в доме должны быть тишина и покой. Я сейчас же пойду к Кайт и скажу ей, чтобы она увела отсюда своих детей, да и остальных тоже. Тогда сразу станет тихо.
— Ты очень заботлива, Нофрет, и добра. Ты всегда печешься о том, чтобы мне было хорошо.
— Раз хорошо тебе, значит, хорошо и мне, — отозвалась Нофрет.
Она поднялась и направилась к Кайт, которая стояла на коленях у воды, помогая своему младшему сыну, капризному, избалованному мальчишке, отправить в плавание игрушечную деревянную ладью.
— Уведи отсюда детей, Кайт, — требовательно сказала Нофрет.
Кайт непонимающе уставилась на нее.
— Увести? О чем ты говоришь? Они всегда здесь играют.
— Но не сегодня. Имхотепу нужен покой. А дети чересчур шумят.
Грубоватое, с крупными чертами лицо Кайт залилось краской.
— Не выдумывай, Нофрет! Имхотеп любит смотреть, как дети его сыновей здесь играют. Он сам говорил.
— Но не сегодня, — повторила Нофрет. — Он велел передать, чтобы ты увела всю эту свору в дом. Он хочет побыть в тишине… со мной.
— С тобой… — Кайт не договорила, поднялась с колен и подошла к беседке, где полусидел-полувозлежал Имхотеп. Нофрет последовала за ней.
Кайт не стала деликатничать.
— Твоя наложница говорит, что детей надо увести. Почему? Что они делают плохого? За что их прогоняют отсюда?
— Потому что так желает господин, разве этого недостаточно, — ровным голосом произнесла Нофрет.
— Вот именно, — раздраженно подхватил Имхотеп. — Почему я должен объяснять? Кому принадлежит этот дом, в конце концов?
— Потому что она так захотела. — Кайт повернулась к Нофрет и смерила ее взглядом.
— Нофрет заботится о том, чтобы мне было удобно, хочет сделать мне приятное, — сказал Имхотеп. — Больше никому в доме нет до этого дела, кроме, пожалуй, Хенет.
— Значит, детям больше нельзя здесь играть?
— Когда я возвращаюсь домой на отдых, нет.
— Почему ты позволяешь этой женщине, — вдруг гневно вырвалось у Кайт, — настраивать тебя против твоей собственной плоти и крови? Почему она вмешивается в давно заведенные в доме порядки?
Имхотеп счел нужным показать свою власть и заорал:
— Порядки в доме завожу я, а не ты! Вы все тут заодно — поступаете, как хотите, устраиваетесь, как вам удобно. И когда я, хозяин этого дома, возвращаюсь из странствий, никто не уделяет должного внимания моим желаниям. Позволь тебе напомнить, что здесь хозяин я! Я постоянно думаю о вас, забочусь о вашем будущем — и где благодарность, где уважение к моим нуждам? Их нет. Сначала Себек ведет себя нагло и непочтительно, а теперь ты, Кайт, пытаешься меня в чем-то упрекать. Почему я обязан вас содержать? Поостерегись так разговаривать со мной, иначе я перестану вас кормить. Себек заявляет, что он уйдет. Вот и скажи ему, пусть уходит и прихватит с собой тебя и детей.
На мгновенье Кайт застыла. Ее неподвижное лицо совсем окаменело.
Потом она сказала совершенно бесстрастным голосом:
— Я уведу детей в дом…
Сделав шаг-другой, она остановилась около Нофрет.
— Это дело твоих рук, Нофрет, — еле слышно проронила она. — Я этого не забуду. Я тебе этого не забуду…
Глава 5 Четвертый месяц разлива, 5-й день
1
Совершив поминальный обряд, который надлежит исполнять жрецу — хранителю гробницы, Имхотеп вздохнул с облегчением. Все до мелочей было выполнено как подобает, ибо Имхотеп был человеком в высшей степени добросовестным. Он излил вино, воскурил благовония, совершил положенные приношения еды и питья душе умершего.
И вот теперь в примыкающем к гробнице прохладном гроте, где его ждал Хори, снова превратился в землевладельца и занялся делами. Они обсудили положение в хозяйстве, что и по какой обменной цене сейчас идет, какие доходы получены от сделок с зерном, скотом и лесом.
Спустя полчаса или около того Имхотеп с удовлетворением кивнул головой.
— У тебя отличная деловая хватка, Хори, — заметил он.
— Так и должно быть, Имхотеп, — улыбнулся Хори. — Недаром я уже много лет веду твои дела.
— И преданно мне служишь. Ладно, а сейчас мне хотелось бы с тобой посоветоваться. Речь пойдет об Ипи. Он жалуется, что все им командуют.
— Он еще очень молод.
— Но проявляет большие способности. Он считает, что братья не всегда к нему справедливы. Себек, по-видимому, груб и требует беспрекословного повиновения, а Яхмос чересчур робок и осторожен, что не может не раздражать. Ипи юноша горячий. Он не любит, когда ему приказывают. Более того, он говорит, что только я, его отец, имею на это право.
— Верно, — согласился Хори. — По-моему, это и порождает все недоразумения, которые не идут на пользу твоему хозяйству. Ты позволишь мне говорить откровенно?
— Разумеется, мой дорогой Хори. Твои слова всегда разумны и хорошо обдуманны.
— Тогда вот что я скажу тебе, Имхотеп. Когда ты уезжаешь, тебе следует оставлять здесь за себя человека, наделенного законными полномочиями.
— Я доверяю свои дела тебе и Яхмосу…
— Я знаю, что в твое отсутствие мы имеем право действовать от твоего имени, но этого недостаточно. Почему бы тебе не взять в совладельцы одного из сыновей, письменно засвидетельствовав его право на ведение твоих дел?
Имхотеп, нахмурившись, зашагал по залу.
— И кого же из моих сыновей ты предлагаешь? Себек умеет распоряжаться, но не умеет слушаться. Ему я не доверяю, у него дурной характер.
— Я имел в виду Яхмоса. Он твой старший сын. Человек он добрый, отзывчивый. И предан тебе.
— Да, характер у него хороший, но он чересчур уж уступчив. Со всеми соглашается. Конечно, будь Ипи постарше…
— Давать власть слишком молодому всегда опасно, — перебил его Хори.
— Верно-верно. Хорошо, Хори, я подумаю о том, что ты сказал… Яхмос, конечно, примерный сын, послушный…
— Тебе следовало бы всерьез над этим призадуматься, — мягко, но настойчиво сказал Хори.
— Что ты имеешь в виду, Хори? — внимательно взглянул на него Имхотеп.
— Только что я сказал, что опасно давать власть слишком молодому, — медленно произнес Хори. — Но не менее опасно слишком долго не давать власти.
— Ты хочешь сказать, что Яхмос привык выполнять приказания, а не приказывать сам? Пожалуй, в этом что-то есть. — Имхотеп вздохнул. — Да, нелегко править семьей. И особенно трудно совладать с женщинами. У Сатипи неукротимый нрав. Кайт никого вокруг не замечает. Но я им объяснил, что к Нофрет они должны относиться с уважением. По-моему, могу я сказать…
Он замолчал. По узкой тропинке, задыхаясь, бежал раб.
— В чем дело?
— Господин, к берегу пристала фелюга[22], с сообщением из Мемфиса прибыл писец по имени Камени.
Имхотеп встревоженно поднялся на ноги.
— Опять неприятности! — воскликнул он. — Это столь же несомненно, как то, что бог Ра плывет в своей лодке по небесному океану. Нас ждут новые неприятности. Стоит мне дать себе поблажку, обязательно что-нибудь случается.
Он, стуча сандалиями, поспешил вниз по тропинке, а Хори сидел неподвижно и смотрел ему вслед.
На лице его была написана тревога.
2
Ренисенб от нечего делать бродила по берегу Нила, и вдруг она услышала шум и крик — к причалу бежали люди. Она последовала за толпой. В приближающейся к берегу фелюге стоял молодой человек, и на мгновенье, когда она увидела в ярком свете солнца его силуэт, сердце ее замерло.
Безумная, несбыточная надежда овладела ею.
«Хей! Хей вернулся из Царства мертвых».
И сама же посмеялась над собой за эту тщетную надежду. В ее воспоминаниях Хей всегда виделся ей в лодке, плывущей по Нилу, а этот молодой человек походил телосложением на Хея — вот ей и пришла в голову такая фантазия. Молодой человек оказался моложе Хея, у него были ловкие, изящные движения и веселое, приветливое лицо.
Юноша представился писцом по имени Камени из северных владений Имхотепа.
За хозяином дома послали раба, а Камени отвели в дом и предложили ему еду и питье. Вскоре появился Имхотеп и долго беседовал с писцом.
О чем они говорили, стало известно на женской половине дома благодаря Хенет, которая всегда приносила все новости первой. Ренисенб порой удивлялась, каким образом Хенет удавалось выведать и разузнать даже то, что хранилось в строжайшей тайне.
Камени, сын двоюродного брата Имхотепа, как выяснилось, служил у Имхотепа писцом. Он обнаружил подделку счетов, а поскольку дело было сложным и запутанным и в подлоге оказались замешаны управляющие, он счел за лучшее самому явиться сюда и обо всем доложить хозяину.
Ренисенб эта история мало интересовала.
Однако доставленное Камени известие переменило все планы Имхотепа — он стал срочно готовиться к отъезду. Отец намеревался было еще месяца два пробыть дома, но теперь решил, что чем скорее он отправится на север, тем лучше.
По этому случаю были созваны все обитатели дома и щедро наделены многочисленными наставлениями и поручениями. Следует делать то и это. Яхмос ни в коем случае не должен делать того-то и того-то. Себеку надлежит проявлять благоразумие в том-то. «Как все это, — думала Ренисенб, — ей знакомо!» Яхмос был само внимание, Себек мрачен и угрюм, Хори, как всегда, спокоен и деловит. От назойливых требований Ипи отец отмахнулся решительнее обычного.
— Ты еще слишком молод, чтобы самому распоряжаться средствами на твое содержание. Слушайся Яхмоса. Ему известны мои желания и воля. — Имхотеп положил руку на плечо старшего сына. — Я доверяю тебе, Яхмос. По возвращении мы продолжим разговор о том, чтобы сделать тебя совладельцем.
Яхмос расцвел от удовольствия. И даже расправил плечи.
— Смотри только, чтобы все было в порядке, пока меня здесь нет, — продолжал Имхотеп. — Пригляди, чтобы к моей наложнице относились с должным почтением. Ты за нее в ответе. Следи за порядком на женской половине дома. Заставь Сатипи прикусить язык. Присмотри, чтобы Себек должным образом наставлял Кайт. Ренисенб тоже должна быть вежлива и предупредительна по отношению к Нофрет. Кроме того, я не потерплю, чтобы с дорогой мне Хенет обращались дурно. Я знаю, что наши женщины ее недолюбливают.
Но она уже давно живет среди нас, и ей по праву позволено говорить то, что кое-кому может быть не по сердцу. Она, конечно, не блистает ни красотой, ни умом, но нам она предана и, помните, всегда блюдет мои интересы. Я не позволю выказывать ей пренебрежение.
— Все будет так, как ты велишь, отец, — ответил Яхмос. — Правда, случается, Хенет болтает лишнее.
— Подумаешь! Все женщины болтают лишнее. И Хенет не больше других. Что касается Камени, то он останется здесь. У нас есть возможность содержать еще одного писца. Он будет помогать Хори. А вот насчет того земельного участка, который мы отдали в аренду женщине по имени Яаи…
Имхотеп перешел к делам по хозяйству.
Когда наконец все было готово к отплытию, Имхотепа вдруг одолели сомнения. Он отвел Нофрет в сторону и тихо спросил:
— Нофрет, ты довольна, что остаешься здесь? Может, тебе лучше поехать со мной?
Нофрет покачала головой и улыбнулась.
— Ты ведь скоро вернешься, — сказала она.
— Месяца через три, а может, и четыре. Кто знает?
— Вот видишь, скоро. А мне здесь будет хорошо.
— Я поручил Яхмосу и двум другим моим сыновьям выполнять каждое твое желание, — самоуверенно проговорил Имхотеп. — В случае малейшего твоего недовольства на их головы падет мой гнев.
— Они выполнят твой приказ, Имхотеп, не сомневаюсь. — Нофрет помолчала. — Кому, по-твоему, я могу полностью доверять? Кто по-настоящему тебе предан? Я не говорю о членах семьи.
— Хори. Мой дорогой Хори. Он поистине моя правая рука, человек разумный и выдержанный.
— Но он и Яхмос как братья, — задумчиво произнесла Нофрет. — Может…
— Тогда Камени. Он тоже писец. Я приставлю его к тебе в услужение. Если ты будешь чем-то недовольна, продиктуй ему письмо ко мне.
— Отличная мысль, — кивнула Нофрет. — Камени приехал из Северных Земель. Он знает моего отца. Твои родственники не смогут на него повлиять.
— И Хенет! — вспомнил Имхотеп. — Есть еще Хенет.
— Да, — с сомнением в голосе согласилась Нофрет, — еще есть Хенет. Быть может, ты поговоришь с нею сейчас, в моем присутствии?
— С удовольствием.
За Хенет послали, и она тотчас явилась, будто только этого и ждала. Она принялась сетовать по поводу отъезда Имхотепа. Но он прервал ее причитания:
— Да-да, моя дорогая Хенет, но от этого никуда не денешься. Я из тех людей, кому редко удается отдохнуть в тиши и покое. Я должен день и ночь трудиться на благо моей семьи, хотя это принимается как должное. А сейчас мне нужно всерьез поговорить с тобой. Я знаю, что ты служишь мне верно и преданно. А потому могу полностью тебе доверять. Охраняй Нофрет, она мне очень дорога.
— Тот, кто дорог тебе, господин, дорог и мне, — твердо заявила Хенет.
— Очень хорошо. Значит, ты будешь предана Нофрет всей душой?
Хенет повернулась к Нофрет, которая наблюдала за ней из-под полуопущенных век.
— Ты чересчур красива, Нофрет, — сказала она, — вот в чем беда. Поэтому все тебе завидуют. Но я присмотрю за тобой и буду передавать тебе все, что они говорят или замышляют. Можешь на меня рассчитывать!
Наступило молчание. Взгляды обеих женщин встретились.
— Можешь на меня рассчитывать, — повторила Хенет.
Улыбка, странная, загадочная улыбка тронула губы Нофрет.
— Да, — согласилась она, — я верю тебе, Хенет. И думаю, что могу на тебя рассчитывать.
Имхотеп громко откашлялся.
— Значит, мы договорились. Все в порядке. Улаживать дела — это я умею, как никто.
В ответ послышался сдержанный смешок. Имхотеп резко обернулся и увидел в дверях главного зала свою мать. Она стояла, опираясь на палку, и казалась еще более высохшей и ехидной, нежели обычно.
— Какой у меня замечательный сын! — обронила она.
— Я должен спешить… Мне надо еще кое-что сказать Хори… — озабоченно пробормотал Имхотеп и так поспешно вышел из зала, что ему удалось не встретиться с матерью взглядом.
Иза повелительно кивнула головой Хенет, и та беспрекословно выскользнула из главных покоев.
Нофрет встала. Они с Изой смотрели друг на друга.
— Итак, мой сын оставляет тебя здесь? — спросила Иза. — Советую тебе ехать с ним, Нофрет.
— Он хочет, чтобы я осталась здесь.
Голос Нофрет был тихим и кротким. Иза коротко рассмеялась.
— И вправду, какой толк ему брать тебя с собой! Но почему ты не хочешь ехать — вот чего я не понимаю. Что задерживает тебя здесь? Ты жила в городе, много, наверное, путешествовала. Почему ты предпочитаешь остаться в этом скучном доме среди людей, которые, я буду откровенна, тебя не любят, более того, ненавидят?
— И ты меня ненавидишь?
— Нет, — покачала головой Иза, — у меня нет к тебе ненависти. Я уже старуха и, хотя плохо вижу, все же способна разглядеть красоту и любоваться ею. Ты красива, Нофрет, и мне приятно на тебя смотреть. Потому что ты красива, я не желаю тебе зла. Но послушай меня: поезжай в Северные Земли вместе с моим сыном.
— Он хочет, чтобы я осталась здесь, — повторила Нофрет.
В покорном тоне теперь явно слышалась насмешка.
— Ты остаешься здесь с какой-то целью, — резко сказала Иза. — Интересно с какой? Что ж, потом пеняй на себя. А пока будь осмотрительна и благоразумна. И никому не доверяй!
Она круто повернулась и вышла из зала. Нофрет стояла неподвижно. Медленно, очень медленно ее губы раздвинулись в усмешке, делая ее похожей на разозлившуюся кошку.
Глава 6 Первый месяц зимы, 4-й день
1
Ренисенб взяла себе в обычай почти каждый день подниматься наверх к гробнице. Иногда она заставала там Яхмоса и Хори, иногда одного Хори, а порой там вовсе никого не было, но всегда, поднявшись, Ренисенб испытывала странное чувство облегчения и покоя, едва ли не избавления от какой-то опасности. Больше всего ей нравилось, когда она находила у гробницы одного Хори. Ей была приятна его сдержанность: не любопытствуя ни о чем, он одобрительно принимал ее появление. Обхватив одно колено руками, она садилась в тени у входа в грот — обитель Хори — и устремляла взор на полосу зеленых полей, туда, где сверкали воды Нила, сначала бледно-голубые, потом в дымке желтовато-коричневые, а дальше кремово-розовые.
Первый раз она поднялась туда, когда ее вдруг охватило непреодолимое желание избавиться от женского общества. Ей хотелось тишины и дружеского участия, и она обрела их там. Это желание не исчезло и потом, но уже не из-за стремления бежать из дома, где царили суета и раздоры, а из-за ощущения, что грядет нечто более грозное.
— Я боюсь… — однажды сказала она Хори.
— Чего ты боишься, Ренисенб? — изучающе посмотрел на нее он.
— Ты как-то говорил про болезни, которые поражают плоды. И недавно мне пришло в голову, что то же самое происходит с людьми.
Хори кивнул головой.
— Значит, ты поняла… Да, Ренисенб, это так.
Неожиданно для себя самой Ренисенб сказала:
— Именно это происходит у нас в доме. К нам пришло зло. И я знаю, кто его принес. Нофрет.
— Ты так считаешь? — спросил Хори.
— Да, — энергично тряхнула головой Ренисенб, — да. Я знаю, о чем говорю. Послушай, Хори, когда я вернулась сюда к вам и сказала, что все в доме осталось по-прежнему, даже ссоры между Сатипи и Кайт, это была правда. Их ссоры, Хори, были ненастоящие. Они были для них развлечением, заполняли досуг, женщины не испытывали друг к другу неприязни. Но теперь все стало по-другому. Теперь они не просто ругаются, теперь они на самом деле стараются оскорбить друг друга и, когда видят, что цель достигнута, искренне радуются! Это страшно, Хори, страшно! Вчера Сатипи так разозлилась, что воткнула Кайт в руку длинную золотую булавку, а два-три дня назад Кайт опрокинула тяжелую медную кастрюлю с кипящим маслом Сатипи на ногу. Сатипи целый вечер бранит Яхмоса — ее слышно во всех покоях. Яхмос выглядит усталым и задерганным. А Себек ходит в деревню, знается там с женщинами и, возвратившись домой пьяным, кричит о том, какой он умный.
— Да, все это так, я знаю, — нехотя согласился Хори. — Но при чем тут Нофрет?
— Потому что это ее проделки. Она обронит одному одно, другому другое, но всегда что-нибудь обидное — вот тут-то все и начинается! Она как стрекало, которым подгоняют вола. И ведь знает, что говорить. Иногда мне кажется, что ей подсказывает Хенет…
— Да, — задумчиво сказал Хори. — Вполне может быть.
Ренисенб вздрогнула.
— Не люблю я Хенет. Противно смотреть, как она крадучись ходит по дому. Твердит, что предана нам всей душой, но кому нужна ее преданность? Как могла моя мать привезти ее сюда и так привязаться к ней?
— Мы знаем об этом только со слов самой Хенет, — сухо отозвался Хори.
— И с чего это Хенет так полюбила Нофрет, что ходит за ней по пятам, прислуживает ей и что-то нашептывает? О Хори, если бы ты знал, как мне страшно! Я ненавижу Нофрет! Хорошо бы она куда-нибудь уехала! Она красивая, но жестокая и плохая!
— Какой ты еще ребенок, Ренисенб. — И тихо добавил: — Она идет сюда.
Ренисенб повернула голову и увидела, как по крутой тропинке, что шла вверх к гробнице, поднимается Нофрет. Она чему-то про себя улыбалась и тихо напевала. Дойдя до того места, где они сидели, она огляделась вокруг. На лице ее было написано лукавое любопытство.
— Вот, значит, куда ты бегаешь ежедневно, Ренисенб.
Ренисенб сердито молчала, как ребенок, тайное убежище которого оказалось раскрытым.
Нофрет огляделась.
— А это и есть знаменитая гробница?
— Совершенно верно, Нофрет, — ответил Хори.
Она взглянула на него и улыбнулась своей хищной улыбкой.
— Она, верно, приносит тебе недурной доход, а, Хори? Ты ведь человек деловой, я слышала, — со злой насмешкой добавила она, но на Хори это не произвело впечатления. Он по-прежнему улыбался ей своей тихой, степенной улыбкой.
— Она приносит недурной доход всем нам… Смерть всегда кому-нибудь выгодна…
Нофрет вздрогнула, обежала взглядом столы для приношений, вход в усыпальницу и ложную дверь.
— Я ненавижу смерть! — воскликнула она.
— Напрасно, — тихо проговорил Хори. — Смерть — главный источник богатства у нас в Египте. Смерть оплатила украшения, что на тебе надеты, Нофрет. Смерть тебя кормит и одевает.
— Что ты имеешь в виду? — не сводила с него глаз Нофрет.
— Имхотеп — жрец «ка», он совершает заупокойные обряды. Все его земли, весь его скот, лес, лен и ячмень дарованы ему за то, что он служит душе умершего.
Он помолчал, а потом задумчиво продолжал:
— Странные люди мы, египтяне. Мы любим жизнь и потому очень рано начинаем готовиться к смерти. Вот куда идет богатство Египта — в пирамиды, в усыпальницы, в земельные наделы, которые придаются гробницам.
— Перестань говорить о смерти! — крикнула Нофрет. — Я не хочу этого слышать.
— Потому что ты настоящая египтянка, потому что ты любишь жизнь, потому что… и ты порой чувствуешь, что смерть бродит где-то поблизости…
— Перестань!
Она едва не набросилась на него. Потом, пожав плечами, отвернулась и пошла вниз по тропинке.
Ренисенб вздохнула с облегчением.
— Как хорошо, что она ушла, — с наивной откровенностью проговорила она. — Ты ее напугал, Хори.
— Пожалуй… А ты тоже испугалась, Ренисенб?
— Нет, — не совсем уверенно произнесла Ренисенб. — Все, что ты сказал, — чистая правда, только я почему-то раньше об этом не задумывалась: ведь мой отец священнослужитель души усопшего.
— Весь Египет одержим мыслями о смерти! — с внезапной горечью воскликнул Хори. — И знаешь почему, ренисенб? Потому что мы верим только в то, что видим, а думать не умеем и боимся представить себе, что будет с нами после смерти. Вот и воздвигаем пирамиды и гробницы, укрываясь в них от будущего и не надеясь на богов.
Ренисенб с удивлением смотрела на него.
— Что ты говоришь, Хори? У нас ведь так много богов, так много, что я не в силах их всех запомнить. Только вчера вечером мы вели разговор о том, кому какой из богов больше нравится. Себеку, оказалось, Сехмет[23], а Кайт молится богине Мехит[24]. Камени всем богам предпочитает Тота[25] — ну конечно, ведь он писец. Сатипи верит в коршуноголового Гора[26] и нашу здешнюю богиню Меритсегер[27]. Яхмос сказал, что поклоняется Птаху, потому что он творец всего на земле. Я больше других люблю Исиду[28]. А Хенет утверждает, что лучше всех наш местный бог Амон[29]. По ее словам, среди жрецов ходит поверье, что в один прекрасный день Амон станет самым могущественным богом в Египте, поэтому она приносит жертвы ему, хотя пока он совсем не главный бог. И затем есть Ра, бог солнца, и Осирис, перед которым взвешивают на весах сердца умерших[30].
Ренисенб с трудом перевела дыхание и умолкла. Хори улыбался.
— А в чем, Ренисенб, различие между богом и человеком?
Она опять удивилась.
— Боги умеют творить чудеса.
— И это все?
— Я не понимаю, о чем ты говоришь, Хори.
— Я хочу сказать, что тебе бог, по-видимому, представляется только мужчиной или женщиной, которые способны делать то, чего не могут делать обычные люди.
— Странно ты рассуждаешь! Я не понимаю тебя.
Она озадаченно смотрела на него, а когда взглянула вниз в долину, ее внимание привлекло нечто иное.
— Посмотри! — воскликнула она. — Нофрет беседует с Себеком. Она смеется. — И вдруг ахнула. — Нет, ничего. Мне показалось, что он хочет ее ударить. Она пошла в дом, а он поднимается сюда.
Явился Себек, мрачный, как грозовая туча.
— Пусть крокодил сожрет эту женщину! — выкрикнул он. — Мой отец сделал большую, чем всегда, глупость, взяв ее себе в наложницы.
— Чем она тебе так досадила? — поинтересовался Хори.
— Она, как всегда, оскорбила меня! Спросила, поручил ли мне отец и на этот раз торговать лесом. Я готов был задушить ее.
Он походил по площадке и, подобрав камень, швырнул его вниз в долину. Потом тронул камень покрупнее, но отскочил, когда свернувшаяся в клубок под камнем змея подняла голову. Она, шипя, вытянулась, и Ренисенб увидела, что это кобра.
Схватив тяжелую палку, Себек яростно бросился на змею и, хотя первым же удачным ударом переломил ей хребет, все равно продолжал с остервенением бить по ней палкой, откинув голову и что-то злобно бормоча сквозь зубы. Глаза его сверкали.
— Перестань, Себек! — крикнула Ренисенб. — Перестань! Она уже мертвая.
Себек остановился, забросил подальше палку и рассмеялся.
— Одной ядовитой змеей меньше на свете.
И снова расхохотался. Он заметно повеселел и зашагал вниз по тропинке.
— По-моему, Себеку нравится убивать, — тихо заметила Ренисенб.
— Да, — не выказав удивления, проговорил Хори, по-видимому, лишь подтверждая то, что давно знал. Ренисенб повернулась к нему.
— Змей надо бояться, — произнесла она. — Но какой красивой была эта кобра…
Она не могла отвести глаз от растерзанной змеи. Почему-то сердце ее пронзило острое сожаление.
— Я помню, когда мы все еще были детьми, — не спеша заговорил Хори, — Себек подрался с Яхмосом. Яхмос был на год старше, но Себек крупнее и сильнее. Он схватил камень и принялся бить Яхмоса по голове. Прибежала ваша мать и разняла их. Я помню, как она кричала: «Нельзя этого делать, Себек, нельзя, это опасно. Говорю тебе, это опасно!» — Он помолчал и добавил: — Она была очень красивая… Я понимал это еще в детстве. Ты похожа на нее, Ренисенб.
— Правда? — обрадовалась Ренисенб. И спросила: — А Яхмос сильно пострадал?
— Нет, хотя поначалу казалось, что сильно. Зато Себек на следующий день заболел. По-видимому, чем-то отравился, но ваша мать сказала, что это из-за его злости и жаркого солнца. Стояла самая середина лета.
— У Себека ужасный характер, — задумчиво проронила Ренисенб.
Она снова бросила взгляд на мертвую змею и, вздрогнув, отвернулась.
2
Когда Ренисенб подошла к дому, на галерее сидел Камени со свитком папируса. Он пел. Она остановилась и прислушалась к словам песни.
В Мемфис хочу поспеть и богу Пта взмолиться:
— Любимую дай мне сегодня ночью!
Река — вино! Бог Пта — ее тростник, Растений водяных листы — богиня Сехмет, Бутоны их — богиня Иарит[31], бог Нефертум[32] — цветок. Блистая красотой, ликует Золотая[33], В лучах зари. Вдали Мемфис, Как чаша с померанцами[34], поставлен Рукою бога для нее, прекрасной.Он поднял глаза и улыбнулся.
— Тебе нравится моя песня, Ренисенб?
— А что это такое?
— Это любовная песня, которую поют в Мемфисе.
И, не спуская с нее глаз, тихо повторил:
В Мемфис хочу поспеть и богу Пта взмолиться: — Любимую дай мне сегодня ночью!Лицо Ренисенб залилось краской. Она вбежала в дом, едва не столкнувшись с Нофрет.
— Почему ты так спешишь, Ренисенб?
В голосе Нофрет звучало раздражение. Ренисенб удивленно взглянула на нее. Нофрет не улыбалась. Лицо ее было мрачно-напряженным, руки стиснуты в кулаки.
— Извини, Нофрет, я тебя не разглядела. Здесь в доме темно, когда входишь со света.
— Да, здесь темно… — Нофрет секунду помолчала. — Куда приятнее побыть на галерее и послушать, как Камени поет. Он ведь хорошо поет, правда?
— Да. Да, конечно.
— Но ты не стала слушать. Камени будет огорчен.
Щеки у Ренисенб снова зарделись. Ей было неуютно под холодным, насмешливым взглядом Нофрет.
— Тебе не нравятся любовные песни, Ренисенб?
— А тебя интересует, что мне нравится, а что — нет, Нофрет?
— Ага, значит, у кошечки есть коготки?
— Что ты хочешь этим сказать?
Нофрет рассмеялась.
— Оказывается, ты не такая дурочка, какой кажешься, Ренисенб. Как по-твоему, Камени красивый, да? Что ж, это его обрадует, не сомневаюсь.
— По-моему, ты ведешь себя гнусно, — разозлилась Ренисенб.
Она пробежала мимо Нофрет в глубь дома, слыша позади себя ее язвительный смех. Но он не заглушил в ее памяти голос Камени и звуки песни, которую он пел, не сводя глаз с ее лица…
3
В ту ночь Ренисенб приснился сон. Они с Хеем плыли в ладье усопших в Царство мертвых. Хей стоял на носу ладьи — ей был виден только его затылок. Когда забрезжил рассвет, Хей повернул голову, и Ренисенб увидела, что это не Хей, а Камени. И в ту же минуту нос лодки превратился в голову извивающейся змеи. «Ведь это живая змея, кобра, — подумала Ренисенб, — та самая, что заползает в гробницы, чтобы пожирать души усопших». Ренисенб окаменела от страха. А потом голова змеи оказалась головой женщины с лицом Нофрет, и Ренисенб проснулась с криком:
— Нофрет! Нофрет!
Она вовсе не кричала, все это ей приснилось. Ренисенб лежала неподвижно, сердце ее билось, и она твердила себе, что все увиденное — лишь сон. А потом вдруг подумала: «Вот что бормотал Себек, когда убивал змею: „Нофрет… Нофрет…“»
Глава 7 Первый месяц зимы, 5-й день
1
Разбуженная страшным сном, Ренисенб никак не могла уснуть, лишь время от времени на мгновение впадая в забытье. Когда под утро она открыла глаза, предчувствие неминуемой беды уже не оставляло ее.
Она встала рано и вышла из дому. Ноги сами повели ее, как бывало часто, на берег Нила. Там рыбаки снаряжали большую ладью, и вот, влекомая вперед мощными взмахами весел, она устремилась в сторону Фив. На воде качались лодки с парусами, хлопающими от слабых порывов ветра.
В сердце Ренисенб что-то пробудилось — какое-то смутное желание, которое она не могла определить. Она подумала: «Я чувствую… Я чувствую…» На что она чувствует, она не знала. То есть не могла подыскать слов, чтобы выразить свое ощущение. Она подумала: «Я хочу… Но что я хочу?»
Хотела ли она увидеть Хея? Но Хей умер и никогда к ней не вернется. Она сказала себе: «Я больше не буду вспоминать Хея. Зачем? Все кончено, навсегда».
Вдруг она заметила, что на берегу стоит еще кто-то, глядя вслед уплывающей к Фивам ладье. Узнав в неподвижной фигуре, от которой веяло горьким одиночеством, Нофрет, Ренисенб была потрясена.
Нофрет смотрела на Нил. Нофрет одна. Нофрет задумалась — о чем?
И тут Ренисенб вдруг поняла, как мало они все знают о Нофрет. Сразу приняли ее за врага, за чужую, им не было дела до того, где и как она жила прежде.
Как, должно быть, Нофрет тяжко, внезапно осознала Ренисенб, очутиться здесь одной, без друзей, в окружении людей, которым она не по душе.
Ренисенб нерешительно направилась к Нофрет, подошла и встала рядом. Нофрет бросила на нее мимолетный взгляд, потом отвернулась и снова стала смотреть на реку. Лицо ее было бесстрастно.
— Как много лодок на реке, — робко заметила Ренисенб.
— Да.
И, подчиняясь какому-то смутному порыву завязать дружбу, Ренисенб продолжала:
— Там, откуда ты приехала, тоже так?
Нофрет коротко рассмеялась — в ее смехе звучала горечь.
— Отнюдь нет. Мой отец — купец из Мемфиса. А в Мемфисе весело и много забав. Играет музыка, люди поют и танцуют. Кроме того, отец часто путешествует. Я побывала с ним в Сирии, видела город Библ[35]. Я плавала на больших судах в открытом море.
Она говорила с гордостью и воодушевлением.
Ренисенб молча слушала, поначалу не очень представляя себе то, о чем рассказывала Нофрет, но постепенно ее интерес и понимание росли.
— Тебе, должно быть, скучно у нас, — наконец сказала она.
Нофрет нервно рассмеялась.
— Здесь сплошная тоска. Только и говорят про пахоту и сев, про жатву и укос, про урожай и цены на лен.
Ренисенб странно было это слышать, она с удивлением смотрела на Нофрет. И внезапно, почти физически, она ощутила ту волну гнева, горя и отчаяния, которая исходила от Нофрет.
«Она совсем юная, моложе меня. И ей пришлось стать наложницей старика, спесивого, глупого, хотя и доброго старика, моего отца…»
Что ей, Ренисенб, известно про Нофрет? Ничего. Что сказал вчера Хори, когда она выкрикнула: «Она красивая, но жестокая и плохая»? — «Какой ты еще ребенок, Ренисенб», — вот что он сказал. Теперь Ренисенб поняла, что он имел в виду. Ее слова были наивны — нельзя судить о человеке, ничего о нем не ведая. Какая тоска, какая горечь, какое отчаяние скрывались за жестокой улыбкой на лице Нофрет? Что она, Ренисенб, или кто-нибудь другой из их семьи сделали, чтобы Нофрет чувствовала себя здесь как дома?
Запинаясь, Ренисенб проговорила:
— Ты ненавидишь нас всех… Теперь мне понятно почему… Мы не были добры к тебе. Но еще не поздно. Разве не можем мы, ты, Нофрет, и я, стать сестрами? Ты далеко от своих друзей, ты одинока, так не могу ли я помочь тебе?
Ее сбивчивые слова были встречены молчанием. Наконец Нофрет медленно повернулась.
Какой-то миг выражение ее лица оставалось прежним — только взгляд, показалось Ренисенб, чуть потеплел. В тиши раннего утра, когда все вокруг дышало ясностью и покоем, Ренисенб почудилось, будто Нофрет чуть оттаяла, будто слова о помощи проникли сквозь неприступную стену.
Это было мгновение, которое Ренисенб запомнила навсегда…
Затем постепенно лицо Нофрет исказилось злобой, глаза засверкали, а во взгляде запылали такая ненависть и ожесточение, что Ренисенб даже попятилась.
— Уходи! — в ярости прохрипела Нофрет. — Мне от вас ничего не нужно. Вы все безмозглые дураки, вот вы кто, все до единого…
Чуть помедлив, она круто повернулась и быстро зашагала в сторону дома.
Ренисенб двинулась вслед за ней. Странно, но слова Нофрет вовсе ее не рассердили. Они открыли ее взору черную бездну ненависти и горя, до сих пор ей самой не ведомую, и навели на мысль, пока не совсем четкую: как, вероятно, страшно быть во власти таких чувств.
2
Когда Нофрет, войдя в ворота, шла через двор, дорогу ей заступила, догоняя мяч, одна из дочерей Кайт.
Нофрет с такой силой толкнула девочку, что та растянулась на земле. Услышав ее вопль, Ренисенб подбежала и подняла ее.
— Разве так можно, Нофрет! — упрекнула Ренисенб. — Смотри, она ушиблась. У нее ссадина на подбородке.
Нофрет резко рассмеялась.
— Значит, я все время должна думать о том, чтобы ненароком не задеть одно из этих избалованных отродьев? С какой стати! Разве их матери считаются с моими чувствами?
Услышав плач дочери, из дома выскочила Кайт. Она подбежала к девочке и, взглянув на ее личико, повернулась к Нофрет.
— Ах ты змея! Злыдня проклятая! Подожди, мы еще расправимся с тобой! — И изо всех сил ударила Нофрет по лицу. Ренисенб вскрикнула и перехватила ее руку, предупреждая второй удар.
— Кайт! Кайт! Что ты делаешь, так нельзя.
— Кто сказал, что нельзя? Берегись, Нофрет. В конце концов, нас здесь много, а ты одна.
Нофрет не двигалась с места. На щеке у нее алел четкий отпечаток руки Кайт. Возле глаза кожа была рассечена браслетом, что был у Кайт на запястье, и по лицу текла струйка крови.
Но что поразило Ренисенб — это выражение лица Нофрет. Да, поразило и напугало. Нофрет не рассердилась. Наоборот, взгляд у нее был почему-то торжествующим, а рот снова растянулся, как у разозлившейся кошки, в довольной усмешке.
— Спасибо, Кайт, — сказала она. И вошла в дом.
Что-то мурлыча про себя и полузакрыв глаза, Нофрет позвала Хенет.
Хенет прибежала, остановилась пораженная, заохала… Нофрет велела ей замолчать.
— Разыщи Камени. Скажи ему, чтобы принес палочку, которой пишут, чернила и папирус. Нужно написать письмо господину.
Хенет не сводила глаз со щеки Нофрет.
— Господину?.. Понятно… — И, не выдержав, спросила: — Кто это сделал?
— Кайт, — тихо улыбнулась Нофрет, вспоминая происшедшее.
Хенет покачала головой, цокая языком.
— Ах, как дурно, очень дурно… Об этом обязательно надо сообщить господину. — Она искоса поглядела на Нофрет. — Да, Имхотепу следует об этом знать.
— Мы с тобой, Хенет, мыслим одинаково… — ласково произнесла Нофрет. — Я тоже думаю, что господину следует об этом знать.
Она сняла со своего полотняного хитона оправленный в золото аметист[36] и сунула его в руку Хенет.
— Мы с тобой, Хенет, всем сердцем печемся о благополучии Имхотепа.
— Нет, я этого не заслужила, Нофрет… Ты чересчур великодушна… Такой прекрасной работы вещица!
— Имхотеп и я, мы оба ценим преданность.
Нофрет улыбалась, по-кошачьи щуря глаза.
— Приведи Камени, — сказала она. — И сама приходи вместе с ним. Вы с ним будете свидетелями того, что произошло.
Камени явился без большой охоты, хмурый и недовольный.
— Ты не забыл, что тебе велел Имхотеп перед отъездом? — свысока обратилась к нему Нофрет.
— Нет, не забыл.
— Сейчас настало время, — продолжала Нофрет. — Садись, бери чернила и палочку и пиши, что я скажу. — И, поскольку Камени все еще медлил, нетерпеливо добавила: — То, что ты напишешь, ты видел собственными глазами и слышал собственными ушами, и Хенет тоже подтвердит все, что я скажу. Письмо следует отправить немедленно и никому про него не говорить.
— Мне не по душе… — медленно возразил Камени.
— Я не собираюсь жаловаться на Ренисенб, — метнула на него взгляд Нофрет. — Она глупое и жалкое создание, но от нее я обид не видела. Тебе этого довольно?
Бронзовое лицо Камени запылало.
— Я об этом и не думал…
— А по-моему, думал, — тихо сказала Нофрет. — Ладно, приступай к выполнению своих обязанностей. Пиши.
— Пиши, пиши, — вмешалась Хенет. — Я очень огорчена тем, что произошло, очень. Имхотепу непременно следует об этом знать. Пусть справедливость восторжествует. Как ни трудно, но человек обязан выполнять свой долг. Я всегда так считала.
Нофрет рассмеялась ласковым смехом:
— Я в этом не сомневалась, Хенет. Ты неизменно выполняешь свой долг! И Камени будет делать свое дело. Я же… я буду поступать, как мне хочется…
Но Камени все еще медлил. Лицо у него было мрачное, почти злое.
— Не нравится мне это, — повторил он. — Нофрет, лучше бы тебе не спешить и сначала подумать.
— Ты смеешь говорить это мне?
Ее тон задел самолюбие Камени. Он отвел взгляд, лицо его окаменело.
— Берегись, Камени, — тихо произнесла Нофрет. — Имхотеп полностью в моей власти. Он слушается меня и… пока тобой доволен… — Она многозначительно умолкла.
— Ты мне угрожаешь, Нофрет? — спросил Камени.
— Возможно.
Мгновение он со злостью смотрел на нее, затем склонил голову.
— Я сделаю, что ты скажешь, Нофрет, но, думаю, тебе придется об этом пожалеть.
— По-моему это ты угрожаешь мне, Камени…
— Я предупреждаю тебя…
Глава 8 Второй месяц зимы, 10-й день
1
День шел за днем, и Ренисенб порой казалось, что она живет как во сне.
Дальнейших робких попыток подружиться с Нофрет она не предпринимала. Теперь она ее боялась. В Нофрет было что-то такое, чего Ренисенб не могла понять.
С того дня, когда произошла ссора во дворе, Нофрет изменилась. В ней появилась какая-то странная удовлетворенность, ликование, которые были непостижимы для Ренисенб. Иногда ей думалось, что смешно и глупо считать Нофрет глубоко несчастной. Нофрет, казалось, была довольна собой и всем, что ее окружало.
А в действительности все вокруг Нофрет изменилось, и определенно не в ее пользу. В первые дни после отъезда Имхотепа Нофрет намеренно, по мнению Ренисенб, сеяла вражду между членами их семьи и преуспела в этом.
Теперь же все в доме объединились против пришелицы. Прекратились ссоры между Сатипи и Кайт. Сатипи перестала ругать вконец растерявшегося Яхмоса. Себек стих и хвастался куда меньше. Ипи стал вести себя более уважительно к старшим братьям. В семье, казалось, воцарилось полное согласие, но оно не принесло Ренисенб душевного спокойствия, ибо породило стойкую скрытую неприязнь к Нофрет.
Обе женщины, Сатипи и Кайт, больше с ней не ссорились — они ее избегали. Не затевали с Нофрет разговоров и, как только она появлялась во дворе, тотчас подхватывали детей и куда-нибудь удалялись. И в то же время в доме стали случаться мелкие, но странные происшествия. Одно льняное одеяние Нофрет оказалось прожженным чересчур горячим утюгом, а другое запачкано краской. За ее одежды почему-то цеплялись колючки, а возле кровати нашли скорпиона[37]. Еда, которую ей подавали, была то чересчур переперчена, то в нее вовсе забывали положить специи. А однажды в испеченном для нее хлебе очутилась дохлая мышь.
Это было тихое, мелочное, но безжалостное преследование — ничего очевидного, ничего такого, к чему можно было бы придраться, — одним словом, типичная женская месть.
Затем, в один прекрасный день, старая Иза призвала к себе Сатипи, Кайт и Ренисенб. За креслом Изы уже стояла Хенет, качая головой и заламывая руки.
— Чем, мои умные внучки, — спросила Иза, вглядываясь в женщин с присущим ей ироническим выражением на лице, — объяснить, что одежды Нофрет, как я слышала, испорчены, а ее еду нельзя взять в рот?
Сатипи и Кайт улыбнулись. Улыбка их отнюдь не грела душу.
— Разве Нофрет тебе жаловалась? — спросила Сатипи.
— Нет, — ответила Иза и сдвинула набок накладные волосы, которые она носила даже дома. — Нет, Нофрет не жаловалась. Вот это-то меня и беспокоит.
— А меня нет, — вскинула свою красивую голову Сатипи.
— Потому что ты дура, — заметила Иза. — У Нофрет вдвое больше ума, чем у каждой из вас…
— Посмотрим, — усмехнулась Сатипи. Она, по-видимому, пребывала в хорошем настроении и была довольна собой.
— Зачем вы все это делаете? — спросила Иза.
Лицо Сатипи отвердело.
— Ты старый человек, Иза. Не хотелось бы говорить с тобой непочтительно, но то, чему ты уже не придаешь значения, остается важным для нас, ибо у нас есть мужья и малые дети. Мы решили взять дело в свои руки и наказать женщину, которая пришлась нам не ко двору и не по душе.
— Отличные слова, — сказала Иза. — Отличные. — Она хихикнула. — Только не все годится, что говорится.
— Вот это верно и умно, — вздохнула Хенет из-за кресла.
Иза повернулась к ней.
— Хенет, что говорит Нофрет по поводу происходящего? Ты ведь знаешь. Все время крутишься при ней.
— Так приказал Имхотеп. Мне это противно, но я обязана выполнять волю господина. Не думаешь же ты, я надеюсь…
— Мы все это знаем, Хенет, — прервала ее нытье Иза. — Что ты всем нам предана и что тебя мало благодарят. Я спрашиваю, что говорит по этому поводу Нофрет?
— Она ничего не говорит, — покачала головой Хенет. — Только улыбается.
— Вот именно. — Иза взяла с блюда, что стояло у ее локтя, ююбу[38], внимательно осмотрела и только потом положила себе в рот. А затем вдруг резко и зло сказала: — Вы дуры, все трое. Власть на стороне Нофрет, а не на вашей. Все, что вы делаете, ей только на руку. Могу поклясться, что ваши проделки даже доставляют ей удовольствие.
— Еще чего, — возразила Сатипи. — Нофрет одна, а нас много. Какая у нее власть?
— Власть молодой красивой женщины над стареющим мужчиной. Я знаю, о чем говорю. — И, повернув голову, Иза добавила: — И Хенет понимает, о чем я говорю.
Верная себе Хенет принялась вздыхать и заламывать руки.
— Господин только о ней и думает. Что естественно, вполне естественно в его возрасте.
— Иди на кухню, — приказала Иза. — И принеси мне фиников и сирийского вина. Да еще меду.
Когда Хенет вышла, старуха сказала:
— Я чувствую, что замышляется что-то дурное, нутром чую. И всем этим заправляешь ты, Сатипи. Так будь же осторожна, коли считаешь себя умной. Не лей воду на чужую мельницу!
И, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза.
— Я вас предупредила — теперь уходите.
— Власть на стороне Нофрет, еще чего! — тряхнула головой Сатипи, когда они очутились возле водоема. — Иза уже такая старая, что в голову ей приходят совсем несуразные мысли. Власть на нашей стороне, а не у Нофрет. Не будем делать ничего такого, что дало бы ей возможность жаловаться на нас — чтобы никаких доказательств. И тогда скоро, очень скоро она пожалеет, что вообще приехала сюда.
— Какая ты жестокая! — воскликнула Ренисенб.
Сатипи изумилась:
— Не притворяйся, будто любишь Нофрет, Ренисенб.
— А я и не притворяюсь. Но в тебе столько злости!
— Я забочусь о моих детях и о Яхмосе. Я не из тех, кто терпит оскорбления. У меня есть чувство собственного достоинства. И я с удовольствием бы свернула этой женщине шею. К сожалению, это нелегко сделать. Можно навлечь на себя гнев Имхотепа. Но, по-моему, кое-что придумать можно.
2
Копьем, вонзившимся в рыбу, влетело в дом письмо.
Ошеломленные, в полном молчании, Яхмос, Себек и Ипи слушали, что читал им Хори, разворачивая свиток папируса.
— «Разве я не говорил Яхмосу, что возлагаю на него вину за всякую обиду, чинимую моей наложнице? Отныне, покуда ты жив, мы друг другу враги. Я буду стоять против тебя, а ты — против меня. Отныне тебе не место в моем доме, ибо ты не выказал должного почтения моей наложнице. Ты мне больше не сын, не плоть моя. Равно как Себек и Ипи не сыновья мне, не плоть моя. Каждый из вас сотворил зло моей наложнице, чему свидетели Камени и Хенет. Я изгоню вас из дому всех, с детьми и женами! Я был вам кормильцем и защитою, отныне я не стану кормить вас и защищать!»
Хори замолчал, а потом продолжал:
— «Имхотеп, жрец души умершего, обращается к Хори. О ты, кто верно служит мне, пребываешь ли ты во здравии и благополучии? Передай мои благопожелания моей матери Изе и дочери Ренисенб, передай слова приветствия Хенет. Правь моим хозяйством, пока я не вернусь домой, и тем временем составь грамоту, согласно которой наложница Нофрет отныне, как жена моя, обретает право владеть вместе со мной всем, что я имею. Ни Яхмоса, ни Себека я не возьму в совладельцы и не буду им больше опорою, ибо обвиняю их в том, что они причинили зло моей наложнице! Содержи все в сохранности, пока я не вернусь. Как горько, когда сыновья хозяина дома дурно относятся к его наложнице! Что же до Ипи, то предупреди его, что, если он причинит хоть малейший вред моей наложнице, он тоже покинет мой дом».
Все ошеломленно молчали. Затем в порыве ярости с места сорвался Себек.
— В чем дело? Что стало известно отцу? Кто же ему насплетничал? Мы этого не потерпим! Отец не имеет права лишать нас наследства и отдавать все свои владения наложнице!
— По закону он волен распоряжаться своим имуществом как ему заблагорассудится, — мягко объяснил Хори, — хотя, конечно, пойдут разные разговоры, и его будут обвинять в несправедливости.
— Она околдовала его! Эта вечно улыбающаяся змея заворожила отца! — кричал Себек.
— Невероятно… Не могу поверить, — бормотал вконец потрясенный Яхмос.
— Отец сошел с ума! — выкрикнул Ипи. — Эта женщина настроила его даже против меня!
— Имхотеп, по его словам, скоро вернется, — спокойно сказал Хори. — К тому времени его гнев, возможно, остынет; не думаю, что он поступит так, как пишет.
В ответ раздался короткий и неприязненный смешок. В дверях, ведущих на женскую половину, стояла Сатипи и, глядя на них, смеялась.
— Значит, нам остается только ждать и надеяться, о мудрый наш Хори?
— А что еще? — растерянно произнес Яхмос.
— Что еще? — возвысила голос Сатипи. И выкрикнула: — Что течет в ваших жилах? Кровь или молоко? Яхмос, насколько мне известно, не мужчина. Но ты, Себек, ты тоже не знаешь средства избавиться от этой нечисти? Нож в сердце, и эта женщина навсегда перестанет причинять нам зло.
— Сатипи, — вскричал Яхмос, — отец нам этого никогда не простит!
— Это ты так считаешь. А я считаю, что мертвая наложница совсем не то, что живая. Как только она умрет, он снова обратится всем сердцем к своим сыновьям и внукам. И, кроме того, откуда он узнает, что было причиной ее смерти? Можем сказать, что ее ужалил скорпион. Мы ведь все заодно, не так ли?
— Отец узнает. Хенет ему скажет, — возразил Яхмос.
Сатипи истерически захохотала.
— Благоразумный Яхмос! Тихий и осторожный Яхмос! Это тебе следовало бы приглядывать за детьми и выполнять прочие женские обязанности в доме. Помоги мне, о Себек! Я замужем за человеком, в котором нет ничего мужского. А ты, Себек, ты ведь всем рассказываешь, какой ты храбрый и решительный! Клянусь богом Ра, во мне больше мужества, чем в любом из вас.
Она повернулась и скрылась внутри дома.
Кайт, которая стояла за ее спиной, сделала шаг вперед.
— Сатипи верно говорит, — глухим дрожащим голосом сказала она. — Она рассуждает как настоящий мужчина, а вы, Яхмос, Себек и Ипи, только сидите сложа руки. Что будет с нашими детьми, Себек? Их вышвырнут на улицу умирать с голоду. Обещаю вам, если вы ничего не предпримете, тогда за дело возьмусь я. Вы не мужчины.
И, повернувшись, тоже скрылась в женской половине дома. Себек вскочил на ноги.
— Клянусь Девяткой богов Эннеада[39], Кайт права. Это дело мужчин, а мы только болтаем и в растерянности пожимаем плечами.
И он решительно направился к выходу.
— Себек! Куда ты, Себек? — вдогонку ему крикнул Хори. — Что ты собираешься делать?
Прекрасный в своей ярости, Себек отозвался:
— Не знаю, но что-нибудь придумаю. А уж то, что надумаю, сделаю с удовольствием.
Глава 9 Второй месяц зимы, 10-й день
1
Ренисенб выскочила из дому на галерею и остановилась на мгновенье, прикрыв глаза от слепящих лучей солнца.
Ее мутило и трясло от какого-то непонятного страха. Она твердила про себя одни и те же слова: «Я должна предупредить Нофрет… Я должна предупредить ее…»
За ее спиной еще слышались мужские голоса: Хори и Яхмос убеждали в чем-то друг друга, их слова были почти неразличимы, зато звенел по-мальчишески высокий голос Ипи:
— Сатипи и Кайт правы; у нас в семье нет мужчин! Но я мужчина. Если не возрастом, то сердцем. Нофрет смеется и глумится надо мной, она обращается со мной как с ребенком. Я докажу ей, что давно уже не ребенок. Мне нечего опасаться отцовского гнева. Я знаю отца. Он околдован, эта женщина заворожила его. Если ее не будет, его сердце снова обратится ко мне, да, ко мне! Я его любимый сын. Вы все смотрите на меня как на ребенка, но я докажу вам, чего стою. Увидите!
Выбежав из дому, он столкнулся с Ренисенб и чуть не сбил ее с ног. Она схватила его за рукав.
— Ипи! Ипи, куда ты!
— К Нофрет. Она узнает, каково смеяться надо мной!
— Подожди! Успокойся. Нельзя действовать необдуманно.
— Необдуманно! — Ипи презрительно расхохотался. — Ты похожа на Яхмоса. Благоразумие! Осторожность! Ничего нельзя делать, не подумав! Яхмос — древняя старуха, а не мужчина. Да и Себек — только на словах молодец. Пусти меня, Ренисенб!
И выдернул у нее из рук свой рукав.
— Где Нофрет?
Хенет, только что появившаяся в дверях дома, промурлыкала:
— Дурное дело вы затеяли, дурное. Что станется со всеми нами? Что скажет моя любимая госпожа?
— Где Нофрет, Хенет?
— Не говори ему, — выкрикнула Ренисенб.
Но Хенет уже отвечала:
— Она пошла задним двором. Туда, на поля, где растет лен.
Ипи бросился обратно в дом.
— Зачем ты ему сказала, Хенет? — укорила ее Ренисенб.
— Ты не доверяешь старой Хенет. Ты всегда отказывала мне в доверии. — Обида явственно зазвучала в ее ноющем голосе. — А бедная старая Хенет знает, что делает. Надо, чтобы мальчишка остыл. Ему не найти Нофрет возле тех полей. — Она усмехнулась. — Нофрет здесь, в беседке… с Камени. — И она кивнула в сторону водоема, повторив с явным удовольствием: — С Камени…
Но Ренисенб уже шла через двор.
От водоема навстречу матери бежала Тети. Она тянула за веревочку своего деревянного льва. Ренисенб схватила ее на руки и, когда прижала к себе, поняла, какая сила движет поступками Сатипи и Кайт. Эти женщины защищали своих детей.
— Мне больно, пусти меня, — закапризничала Тети.
Ренисенб опустила девочку на землю. И медленно двинулась в сторону беседки. У дальней стены ее стояли Нофрет и Камени. Когда Ренисенб приблизилась, они повернулись к ней.
— Нофрет, я пришла предостеречь тебя, — быстро проговорила Ренисенб. — Будь осмотрительна. Береги себя.
По лицу Нофрет скользнула презрительная улыбка.
— Собаки, значит, завыли?
— Они очень рассердились и могут причинить тебе зло.
Нофрет покачала головой.
— Никто из них не способен причинить мне зла, — с уверенностью изрекла она. — А если попытаются, я тотчас же сообщу Имхотепу, и он найдет способ, как их наказать. Да они и сами это поймут, если как следует призадумаются. — Она рассмеялась. — Как глупо они себя вели, оскорбляя и обижая меня разными пустяками! Ведь они только играли мне на руку!
— Значит, ты все это затеяла намеренно? — спросила Ренисенб. — А я-то жалела тебя — мне казалось, что мы поступаем плохо. Больше мне тебя не жаль… По-моему, ты дурная женщина. Когда в Судный час тебе придется каяться в грехах перед сорока двумя богами — Владыками справедливости[40], ты не сможешь сказать: «Я не творила дурного», как не сможешь сказать: «Я не вожделела чужого богатства». И когда твое сердце положат на чашу весов, оно перетянет другую чашу — с перышком богини Маат[41], вниз.
— Ты что-то вдруг стала чересчур благочестивой, Ренисенб, — угрюмо отозвалась Нофрет. — А ведь я на тебя не жаловалась. Про тебя я ничего не писала. Спроси у Камени, он подтвердит.
И она, пройдя через двор, поднялась по ступенькам на галерею. Навстречу ей вышла Хенет, и они обе исчезли в недрах дома.
Ренисенб повернулась к Камени:
— Значит, это ты, Камени, помогал ей против нас?
— Ты очень сердишься на меня, Ренисенб? — с отчаянием в голосе спросил Камени. — Но что мне оставалось делать? Перед отъездом Имхотеп поручил мне по первому же требованию Нофрет написать ему все, что она прикажет. Скажи, что ты не сердишься, Ренисенб. Что я мог сделать?
— У меня нет права сердиться на тебя, — ответила Ренисенб. — Я понимаю, ты был обязан выполнить волю моего отца.
— Я не хотел писать, говорил, что мне это не по душе… И, между прочим, Ренисенб, клянусь, в письме не было ни слова против тебя.
— Мне это безразлично.
— А мне нет. Невзирая ни на какие приказы Нофрет, я бы никогда не написал ничего такого, что могло бы быть тебе во вред. Прошу тебя, Ренисенб, верь мне.
Ренисенб с сомнением покачала головой. Попытки Камени оправдаться звучали неубедительно. Она чувствовала себя оскорбленной и сердилась на Камени: ей казалось, что он в какой-то степени предал ее. Хотя что с него спросить? Ведь он ей чужой, хоть и родственник по крови, посторонний, приехавший к ее отцу из далеких краев. Он был всего лишь младшим писцом, получившим распоряжение от своего господина и безропотно выполнившим его.
— Я писал только правду, — настаивал Камени.
В письме не было ни слова лжи, клянусь тебе.
— Конечно, — согласилась Ренисенб, — лжи там и быть не могло. Нофрет слишком умна для этого.
Значит, старая Иза оказалась права. Эти мелкие гадости, которым так радовались Сатипи и Кайт, лишь сослужили службу Нофрет. Нечего удивляться, что с ее лица не сходила злорадная ухмылка.
— Она плохая, — сказала Ренисенб, отвечая своим мыслям. — Очень плохая.
— Да, — согласился и Камени, — она дурная женщина.
Ренисенб повернулась и с любопытством посмотрела на него.
— Ты знал ее и до приезда сюда, верно? Ты был знаком с ней там, в Мемфисе?
Камени смутился.
— Я знал ее совсем немного… Но слышал про нее. Говорили, что она гордая, заносчивая и безжалостная, из тех, кто не умеет прощать.
Ренисенб вдруг сердито вскинула голову.
— Я не верю тому, что написал отец, — заявила она. — Он не выполнит своих угроз. Сейчас он сердится, но по натуре он человек справедливый, и, когда вернется домой, он нас простит.
— Когда он вернется, — сказал Камени, — Нофрет постарается сделать так, чтобы он не изменил своего решения. Она умна и своего добьется, к тому же, не забудь, она очень красивая.
— Да, — согласилась Ренисенб, — она красивая. — И двинулась в сторону дома. Почему-то слова Камени о том, что Нофрет очень красивая, показались ей обидными…
2
Всю вторую половину дня Ренисенб провела с детьми. Пока она с ними играла, смутная боль, сжимавшая ее сердце, исчезла. Уже почти село солнце, когда она поднялась на ноги, пригладила волосы и расправила складки на мятой и перепачканной одежде. Интересно, почему это ни Сатипи, ни Кайт ни разу не вышли во двор?
Камени давно ушел. Ренисенб направилась к дому. В главном зале никого не было, и она прошла вглубь, на женскую половину. В своих покоях дремала Иза, а ее маленькая рабыня ставила метки на куски полотна. В кухне пекли треугольные караваи хлеба. Дом словно опустел.
Ренисенб вдруг стало одиноко. Куда все подевались?
Хори, наверное, поднялся к себе наверх. Может, и Яхмос с ним, или он пошел на поля? Себек и Ипи, скорее всего, при стаде или приглядывают за тем, как засыпают в закрома зерно. Но где Сатипи с Кайт, и где, да, где Нофрет?
В просторных покоях, которые облюбовала для себя Нофрет, терпко пахло ее притираниями. Ренисенб остановилась в дверном проеме и обвела взглядом деревянный подголовник кровати, шкатулку с украшениями, кучку браслетов из бусинок и кольцо с лазуритовым скарабеем[42]. Душистые притирания, масла, одежды, белье, сандалии — во всем чувствовался характер их владелицы, такой чужой в этом доме, такой враждебной.
«Где, интересно, сама Нофрет?» — подумала Ренисенб.
Она пошла к дверям, ведущим на задний двор, и столкнулась с Хенет.
— Куда все подевались, Хенет? В доме никого нет, кроме бабушки.
— Откуда мне знать, Ренисенб? Я занята работой, помогаю ткать, и вообще, у меня хлопот полон рот. Мне гулять некогда.
Это означает, решила Ренисенб, что кто-то отправился на прогулку. Может, Сатипи поднялась вслед за Яхмосом к гробнице, чтобы и там досаждать ему упреками? Но тогда где Кайт? На нее это непохоже — так надолго оставлять своих детей!
И снова, словно подводным течением, пронеслась мысль: «А где Нофрет?»
И Хенет, будто прочитав ее мысль, тотчас откликнулась:
— Что до Нофрет, то она уже давно пошла наверх, к Хори. — И Хенет язвительно рассмеялась. — Вот Хори ей ровня. Он тоже человек умный. — Она придвинулась к Ренисенб совсем близко. — Ты даже не представляешь себе, Ренисенб, как я переживаю из-за всей этой истории. В тот день — помнишь? — она явилась ко мне с отпечатком пощечины Кайт, и кровь текла у нее по лицу. Она позвала Камени, чтобы он писал, а меня заставила подтвердить, что я все видела собственными глазами. И разве я могла сказать, что ничего не видела? О, она очень умная. А я, вспоминая все это время твою дорогую мать…
Но Ренисенб, не дослушав ее, выбежала из дверей в золотой закат вечернего солнца. Скалы уже окутала густая тень — как прекрасен был мир в этот час!
Дойдя до тропинки, ведущей наверх, к гробнице, Ренисенб ускорила шаг. Она поднимется туда и разыщет Хори. Да, разыщет Хори. Так она всегда поступала в детстве, когда у нее ломались игрушки, когда она чего-либо не понимала или боялась. Хори был похож на эти скалы — несгибаемый, стойкий, спокойный.
«Все будет в порядке, как только я доберусь до Хори», — убеждала себя Ренисенб.
И снова ускорила шаг. Она почти бежала.
Потом вдруг увидела, что навстречу ей идет Сатипи. Сатипи, должно быть, тоже побывала наверху.
Как странно идет Сатипи: шатается из стороны в сторону, спотыкается, словно слепая…
Увидев Ренисенб, она замерла на месте, прижав руку к груди. Ренисенб подошла поближе и была поражена, увидев ее лицо.
— Что случилось, Сатипи? Тебе плохо?
— Нет-нет.
Голос у Сатипи был хриплым, глаза бегали.
— Ты что, заболела? Или испугалась? Что произошло?
— Что могло произойти? Ничего не произошло.
— Где ты была?
— Я ходила наверх, искала Яхмоса. Его там нет. Там никого нет.
Ренисенб смотрела на нее во все глаза. Перед ней была другая Сатипи, словно она разом лишилась твердости характера и решительности.
— Пойдем, Ренисенб. Пойдем домой.
Рука ее чуть приметно дрожала, когда она схватила Ренисенб за плечо, принуждая повернуть назад, и это прикосновение вызвало у Ренисенб внезапный протест.
— Нет, я поднимусь наверх.
— Говорю тебе, там никого нет.
— Я хочу посидеть и посмотреть на реку.
— Но уже поздно. Солнце почти зашло.
Пальцы Сатипи впились ей в плечо. Ренисенб попыталась вырваться.
— Пусти меня, Сатипи.
— Нет. Пойдем вместе назад.
Но Ренисенб уже удалось вырваться, и она бросилась вверх по тропинке.
Там что-то есть, инстинктивно чувствовала она, что-то есть… Она ускорила шаги…
И тут она увидела — в тени, у скалы, что-то лежит… Она подбежала.
И ничуть не удивилась тому, что увидела. Словно именно это и ожидала увидеть.
Нофрет лежала навзничь в неестественной позе. Ее открытые глаза были безжизненны.
Наклонившись, Ренисенб дотронулась до холодной, уже застывшей щеки. Потом выпрямилась, не отводя взгляда от Нофрет. Она не слышала, как сзади подошла Сатипи.
— Наверное, она упала, — сказала Сатипи. — Шла по тропинке наверх и сорвалась…
«Да, — подумала Ренисенб, — возможно, именно так и случилось. Нофрет сорвалась со скалы и, пока падала, несколько раз ударилась об известняковые глыбы».
— Возможно, увидела змею, — говорила Сатипи, — и испугалась. На тропинке часто можно встретить спящих на солнце змей.
Змеи. Да, змеи. Себек и змея. Змея, голова у нее разбита, она лежит на солнце. И Себек с горящими от ярости глазами…
Себек… Нофрет…
— Что случилось? — раздался голос Хори.
Ренисенб с облегчением вздохнула. К ним подошли Хора и Яхмос. Сатипи принялась с жаром объяснять, что Нофрет, по-видимому, сорвалась со скалы.
— Она, наверное, поднималась, чтобы разыскать нас, но мы с Хори ходили проверять оросительные каналы. Нас не было здесь около часа. А когда шли обратно, увидели, что вы стоите здесь, — сказал Яхмос.
— А где Себе к? — спросила Ренисенб и сама удивилась тому, как хрипло звучит ее голос.
Она скорей почувствовала, чем увидела, как, услышав ее вопрос, резко повернул голову Хори. Яхмос же, видно, не очень удивился, потому что ответил:
— Себек? Во второй половине дня я его не видел. Во всяком случае, с тех пор, как он, рассердившись, убежал из дому.
Но Хори продолжал смотреть на Ренисенб. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом. И когда увидела, что он отвел глаза и задумчиво смотрит на тело Нофрет, поняла, что знает, о чем он думает.
— Себек? — переспросил он.
— О нет, — услышала Ренисенб собственный ответ. — Нет… Нет…
— Она сорвалась с тропинки, — настойчиво повторила Сатипи. — Как раз над нами тропинка становится узкой, и поэтому особенно опасно…
«Опасно? О чем это говорил Хори? Ах да, он рассказывал ей, как еще ребенком Себек напал на Яхмоса и как ее покойная мать, растащив их, сказала: „Нельзя этого делать, Себек. Это опасно…“»
Себек любит убивать. «А уж то, что надумаю, сделаю с удовольствием…»
Себек убил змею… Себек встретился с Нофрет на узкой тропинке…
И опять она услышала собственный шепот:
— Мы не знаем… Мы не знаем…
А потом с огромным облегчением, будто с души у нее спала тяжесть, она услышала, как Хори твердо и с уверенностью подтвердил предположение Сатипи:
— Да, наверное, она сорвалась со скалы…
Взгляд его снова встретился со взглядом Ренисенб.
«Мы оба знаем… — подумала она. — И всегда будем знать…»
— Да, она сорвалась со скалы, — услышала Ренисенб собственный дрожащий голос.
И эхом отозвался Яхмос, словно ставя заключительную точку:
— Скорей всего, она и вправду сорвалась со скалы.
Глава 10 Четвертый месяц зимы, 6-й день
1
Имхотеп сидел перед Изой.
— Они все рассказывают одно и то же, — хмуро пожаловался он.
— Что ж, по крайней мере, хоть это удачно.
— Удачно? Что значит «удачно»? Странные у тебя выражения!
Иза издала короткий смешок.
— Я знаю, что говорю, сын мой.
— Правда ли то, что они рассказывают, — вот что я должен решить, — с важным видом заявил Имхотеп.
— Ты не богиня Маат. И не умеешь, как Анубис[43], взвешивать сердца на весах правды.
— Несчастный ли это случай? — допытывался Имхотеп. — Я не имею права забывать, что мое письмо с угрозой выгнать этих неблагодарных из дому могло возбудить у них низменные чувства.
— Да, конечно, — согласилась Иза. — Чувства у них явно были низменные. Они так кричали, что я, не выходя из своей комнаты, могла слышать каждое слово. Между прочим, ты на самом деле был намерен так поступить?
Имхотеп смущенно заерзал в кресле.
— Я пребывал в гневе, когда писал, я имел основания сердиться. Моих сыновей следовало проучить.
— Другими словами, — сказала Иза, — ты просто решил их попугать. Так?
— Дорогая Иза, какое это имеет значение сейчас?
— Ясно, — сказала Иза. — Ты, как обычно, сам не знал, что делаешь. И не подумал о том, чем это может кончиться.
— Я хочу сказать, что сейчас все это не имеет никакого значения, — с трудом подавил раздражение Имхотеп. — Меня интересуют обстоятельства смерти Нофрет. Если мне предстоит убедиться, что один из членов моей семьи может быть столь безответствен и столь невоздержан в чувствах, что намеренно совершил убийство, то я… я просто не знаю, как мне поступить.
— Вот, выходит, и удачно, — заметила Иза, — что все они рассказывают одно и то же. Никто ни на что не намекает?
— Нет.
— Тогда почему не считать происшедшее несчастным случаем? Тебе следовало взять девушку с собой в Северные Земли. Я ведь тебе тогда так и советовала.
— Значит, ты допускаешь…
— Я допускаю только то, что мне говорят, если это не противоречит тому, что я видела собственными глазами, — а нынче я вижу очень плохо, — или слышала собственными ушами. Ты, наверное, расспрашивал Хенет? Что она тебе сказала?
— Что она очень огорчена, страшно огорчена. За меня.
Иза подняла брови.
— Вот как? Ты меня удивляешь.
— У Хенет, — продолжал Имхотеп, — очень доброе сердце.
— Совершенно верно. И чересчур болтливый язык. Но если огорчение за тебя — это единственное, о чем она тебе сообщила, то происшедшее определенно можно считать несчастным случаем. Есть много других дел, которыми тебе предстоит заняться.
— Разумеется. — Имхотеп встал. Теперь он снова был преисполнен спеси и самоуверенности. — Яхмос ждет меня в зале с делами, которые требуют моего немедленного вмешательства. Кроме того, следует обсудить решения, которые были приняты без меня. Как ты всегда говоришь, горе, посетившее человека, не должно мешать главным в его жизни занятиям.
И он поспешил к дверям.
Иза иронически улыбнулась, потом ее лицо снова стало мрачным. Она покачала головой и тяжело вздохнула.
2
Яхмос вместе с Камени ждал отца. Хори, доложил Яхмос отцу, с самого начала неукоснительно следил за подготовкой к погребению — прежде всего за работой бальзамировщиков и изготовителей саркофага[44].
После получения известия о смерти Нофрет Имхотепу потребовалось несколько недель, чтобы добраться до дому, и теперь все было готово к погребению. Тело долго пролежало в крепком соляном растворе, затем, высушив его, бальзамировщики постарались восстановить прежний внешний облик покойной, натерли тело душистыми маслами и травами, обмотали, как полагалось, полотняными пеленами и поместили в саркофаг.
Яхмос сказал, что выбрал для погребения небольшую нишу в скале, в которую потом положат и тело Имхотепа. Он подробно доложил о всех своих распоряжениях, и Имхотеп одобрил их.
— Ты отлично потрудился, Яхмос, — довольно проговорил Имхотеп. — Принял правильное решение и действовал, не теряя присутствия духа.
Яхмос обрадовался, он никак не ожидал, что отец похвалит его.
— Ипи и Монту берут за бальзамирование слишком много, — продолжал Имхотеп. — Эти канопы[45], например, не стоят того, что за них просят. Подобное расточительство ни к чему. Кое-какие из предъявленных ими счетов представляются мне непомерными. Вся беда в том, что услугами Ипи и Монту пользуется семья нашего правителя, а потому они считают себя вправе требовать самой высокой платы. Было бы куда лучше обратиться к менее известным мастерам.
— Поскольку ты отсутствовал, — принялся оправдываться Яхмос, — мне пришлось решать эти вопросы самому. Я рассудил, что наложнице, которой ты дорожил, должны быть оказаны наивысшие почести.
Имхотеп кивнул и потрепал Яхмоса по плечу.
— Вот тут ты ошибся, сын мой, хотя и исходил из самых лучших побуждений. Я знаю, ты обычно очень осторожен в расходах, и понимаю, что в этом случае лишние затраты были допущены только, чтобы порадовать меня. Однако я не так уж богат, а наложница — это… всего лишь наложница. Откажемся, пожалуй, от наиболее дорогих амулетов и… Дай-ка мне посмотреть, не найдется ли возможности сэкономить еще на чем-нибудь… Камени, читай список услуг и называй их стоимость.
Камени зашелестел папирусом.
Яхмос с облегчением вздохнул.
3
Кайт вышла из дому и присоединилась к женщинам, которые расположились вместе с детьми возле водоема.
— Ты была права, Сатипи, — сказала она, — живая наложница совсем не то, что мертвая.
Сатипи посмотрела на нее затуманенным, невидящим взглядом и промолчала.
— Что ты имеешь в виду, Кайт? — зато быстро откликнулась Ренисенб.
— Для живой наложницы Имхотепу ничего не было жаль: нарядов, украшений, даже земель, которые по праву должны были унаследовать его сыновья. А сейчас он только и думает о том, как бы сократить расходы на погребение. И верно, чего зря тратиться на мертвую женщину? Да, Сатипи, ты была права.
— А что я говорила? Я что-то не помню, — пробормотала Сатипи.
— И очень хорошо, — отозвалась Кайт. — Я тоже уже не помню. И Ренисенб забыла.
Ренисенб молча смотрела на Кайт. Что-то в голосе Кайт, какая-то нота угрозы, резанула ей слух. Она привыкла считать Кайт не очень умной, но приветливой и покладистой. А сейчас ей показалось, что ничем не приметная Кайт и Сатипи поменялись ролями. Обычно властная и задиристая Сатипи стала тихой, даже робкой, а тихоня Кайт вдруг принялась командовать.
Но людские характеры, рассуждала про себя Ренисенб, в один день не меняются. А может, меняются? Ничего не поймешь. Вправду ли Кайт и Сатипи за последние несколько недель вдруг так изменились, или перемена в одной из них вызвала перемену в другой? Сделалась ли Кайт вдруг властной или просто кажет-с я такой, потому что Сатипи пала духом?
Сатипи явно стала другой. Голоса ее, обычно бранившей всех подряд, не было слышно, походка ее стала бесшумной и нетвердой, так не похожей на прежнюю уверенную поступь. Ренисенб объясняла столь разительные перемены потрясением, вызванным смертью Нофрет, но что-то уж подозрительно долго Сатипи не могла прийти в себя. Было бы куда больше похоже на Сатипи, продолжала размышлять Ренисенб, откровенно, ни от кого не таясь, ликовать по поводу внезапной и безвременной кончины наложницы. А она всякий раз, когда упоминается имя Нофрет, почему-то испуганно ежится. Даже Яхмос, по-видимому, избавился от ее поучений и попреков и сразу стал держаться куда более уверенно. Во всяком случае, перемены в Сатипи были, пожалуй, всем на пользу — к такому выводу пришла Ренисенб. Но что-то продолжало ее смутно тревожить…
Внезапно, очнувшись от своих мыслей, Ренисенб заметила, что Кайт, нахмурившись, смотрит на нее. Видно, Кайт что-то сказала и теперь ждет от нее ответа.
— Ренисенб тоже забыла, — повторила Кайт.
В Ренисенб невольно поднялось чувство протеста. Ни Кайт, ни Сатипи, ни любому другому не дано право указывать ей, что она должна или не должна забыть. Она твердо и даже с некоторым вызовом встретила взгляд Кайт.
— Женщинам в семье, — продолжала Кайт, — следует держаться заодно.
Ренисенб обрела голос.
— Почему? — громко и дерзко спросила она.
— Потому что у них общие интересы.
Ренисенб покачала головой. Она думала: «Да, я женщина, но я еще и просто человек. Я Ренисенб». А вслух произнесла:
— Не так все это просто.
— Ты ищешь неприятностей, Ренисенб?
— Нет. А что именно ты имеешь в виду под «неприятностями»?
— Все, что говорилось в тот день в зале, должно быть забыто.
Ренисенб рассмеялась.
— До чего же ты глупая, Кайт. Ведь это слышали слуги, рабы, бабушка — все! Зачем делать вид, что ничего не произошло?
— Мы были раздражены, — тусклым голосом произнесла Сатипи. — Но и в мыслях не держали делать того, о чем кричали. — И с лихорадочной поспешностью добавила: — И хватит об этом, Кайт. Если Ренисенб ищет неприятностей, дело ее.
— Я не ищу неприятностей, — возмутилась Ренисенб. — Но притворяться глупо.
— Нет, — возразила Кайт, — это как раз умно. Не забудь, что у тебя есть Тети.
— А что может с Тети случиться?
— Теперь, когда Нофрет умерла, ничего, — улыбнулась Кайт.
Это была безоблачная, довольная, умиротворенная улыбка, и снова все в Ренисенб восстало.
Тем не менее к словам Кайт следовало прислушаться. Теперь, когда Нофрет нет в живых, все встало на свои места. Сатипи, Кайт, ей самой, детям — всем им ничто не угрожает, в семье царят мир и согласие, за будущее можно не беспокоиться. Чужая женщина, внесшая в их дом раздор и страх, исчезла навсегда.
Тогда почему при мысли о Нофрет у нее в душе все переворачивается? Откуда это необъяснимое чувство жалости к умершей, которую она не любила? Нофрет была злой, она умерла. Почему не забыть про нее? Откуда этот внезапный прилив сожаления, а то и больше, чем сожаления, скорей сочувствия, сопереживания ей?
Ренисенб в недоумении замотала головой. После того как все ушли в дом, она осталась сидеть у воды, стараясь привести свои мысли в порядок.
Солнце стояло совсем низко, когда Хори, пересекая двор, увидел ее. Он подошел и сел рядом.
— Уже поздно, Ренисенб. Солнце заходит. Тебе пора в дом.
Его спокойный голос, как всегда, подействовал на нее умиротворяюще. Повернувшись к нему, она спросила:
— Должны ли женщины в семье держаться заодно?
— Кто это тебе сказал, Ренисенб?
— Кайт. Они с Сатипи… — Ренисенб замолчала.
— А ты… Ты хочешь мыслить самостоятельно?
— Мыслить? Я не умею мыслить, Хори! У меня в голове все перепуталось. Я перестала понимать людей. Все оказались вовсе не такими, какими я их считала. Сатипи, по моему мнению, всегда была храброй, решительной, властной. А теперь она покорная, неуверенная, даже робкая. Какая же она на самом деле? За один день человек не может так измениться.
— За один день? Нет, не может.
— А кроткая, мирная, бессловесная Кайт вдруг принялась нас всех поучать! Даже Себек, по-моему, теперь ее боится. Яхмос, и тот сделался другим — он отдает распоряжения и требует, чтобы его слушались!
— И все это сбивает тебя с толку, Ренисенб?
— Да. Потому что я не понимаю. Порой мне приходит в голову, что даже Хенет может оказаться на самом деле совсем не той, какой я привыкла ее считать.
И Ренисенб засмеялась — таким вздором ей представились ее собственные слова. Но Хори даже не улыбнулся. Его лицо было серьезно.
— Ты раньше мало задумывалась о других людях, верно, Ренисенб? Потому что, если бы задумывалась, ты бы поняла… — Он помолчал, а затем продолжал: — Ты замечала, что во всех гробницах всегда есть ложная дверь?
— Да, конечно. — Ренисенб не сводила с него глаз.
— Вот так и люди. Они создают о себе ложное представление, чтобы обмануть окружающих. Если человек сознает собственную слабость, неумелость и беспомощность, он прикрывается таким внушительным заслоном самонадеянности, хвастовства и мнимой твердости, что через некоторое время сам начинает верить в свою силу. Считает себя — а за ним и все считают его — человеком значительным и волевым. Но как за поддельной дверью гробницы, за этим заслоном, Ренисенб, ничего нет… Поэтому, только когда обстоятельства вынуждают его, он рискует приоткрыть свою истинную сущность. Покорность и кротость Кайт принесли ей все, чего она хотела: мужа и детей. Ей жилось легче, домашние считали ее недалекой. Но как только ей стала угрожать действительная опасность, проявился ее настоящий характер. Она не изменилась, Ренисенб. Сила и жестокость всегда в ней были.
— Но мне это не нравится, Хори, — по-детски пожаловалась Ренисенб. — Мне страшно. Все стали совсем не такими, какими я привыкла их видеть. Почему же я осталась прежней?
— Разве? — улыбнулся ей Хори. — Тогда почему ты часами сидишь здесь, нахмурив лоб, думаешь, терзаешься сомнениями? Разве прежняя Ренисенб, та, что уехала с Хеем, так поступала?
— Нет. Ей не было нужды… — Ренисенб умолкла.
— Вот видишь, ты сама ответила на свой вопрос! Нужда — вот что заставляет человека меняться. Ты перестала быть той счастливой, бездумной девочкой, которая принимала все происходящее на веру и мыслила так же, как все остальные на женской половине дома. Ты — Ренисенб, которая хочет жить своим умом, которая размышляет о том, что представляют собой другие люди…
— Я все время думаю о Нофрет и удивляюсь, — тихо произнесла Ренисенб.
— Что же тебя удивляет?
— Почему я никак не могу забыть про нее… Она была плохой, жестокой, старалась обидеть нас, и она умерла. Почему я никак не могу успокоиться?
— А ты и вправду не можешь?
— Не могу. Стараюсь, но… — Ренисенб умолкла и растерянно провела рукой по лицу. — Порой мне кажется, что я хорошо знаю Нофрет, Хори.
— Знаешь? Что ты хочешь этим сказать?
— Не могу объяснить. Но время от времени мне кажется, будто она где-то рядом, что я — это она, что я понимаю, какие чувства она испытывала. Она была очень несчастна, Хори, теперь я это знаю. Ей и хотелось причинить всем нам зло… только потому, что она была так несчастна.
— Ты не можешь этого знать, Ренисенб.
— Знать я, конечно, не могу, но я это чувствую. Страдание, горечь, черную ненависть — все это я однажды прочла на ее лице и не поняла! Она, наверное, кого-то любила, но потом что-то произошло… Быть может, он умер… или уехал, что и сделало ее такой… Породило желание причинять другим боль, ранить. Говори что хочешь, но я чувствую, что все было именно так. Когда она стала наложницей старика, моего отца, и приехала сюда, а мы ее невзлюбили, она решила сделать и нас такими же несчастными, какой была сама… Да, именно так все это было!
Хори с любопытством смотрел на нее.
— Как уверенно ты рассуждаешь, Ренисенб. А ведь ты едва знала Нофрет.
— Но я чувствую, что это правда, Хори. Я ощущаю себя ею, Нофрет.
— Понятно.
Наступило молчание. Уже совсем стемнело.
— Тебе кажется, что смерть Нофрет не была несчастным случаем? — тихо спросил Хори. — По-твоему, ее сбросили со скалы?
Ренисенб всю передернуло, когда она услышала собственную мысль из уст Хори.
— Нет-нет, не говори так!
— По-моему, Ренисенб, раз эта мысль не выходит у тебя из головы, может, лучше произнести ее вслух? Ты ведь думаешь так, правда?
— Я?.. Да!
Хори задумался.
— И ты считаешь, что это сделал Себек? — спросил он.
— А кто же еще? Помнишь, как он расправился со змеей? И помнишь, что он сказал в тот день, в день ее смерти, перед тем как бежал из главного зала?
— Да, я помню, что он сказал. Но не всегда поступки совершают те, у кого длиннее язык.
— Ты думаешь, что ее убили?
— Да, Ренисенб… Но это всего лишь предположение. Доказательств у меня нет. И я сомневаюсь, что доказательства найдутся. Поэтому и посоветовал Имхотепу считать ее смерть несчастным случаем. Кто-то столкнул Нофрет со скалы, но кто, нам не узнать.
— Ты хочешь сказать, что это может быть и не Себек?
— Возможно, и не он. Но нам, как я уже сказал, скорей всего не узнать этого. Так что лучше об этом не думать.
— Но если не Себек, кто же тогда?
Хори покачал головой.
— Хоть у меня и есть мысли на этот счет, я могу ошибаться. Поэтому не буду их высказывать…
— Но в таком случае мы никогда не узнаем?
В голосе Ренисенб звучало смятение.
— Может… — Хори помолчал. — Может, это и к лучшему.
— Не знать?
— Не знать.
Ренисенб вздрогнула.
— Но тогда, о Хори, мне страшно!
Глава 11 Первый месяц лета, 11-й день
1
Завершились последние церемонии, были прочитаны положенные заклинания. Прежде чем навсегда замуровать вход в погребальный грот, Монту, верховный жрец храма богини Хатор, произнеся нараспев слова заговора, подмел грот пучком священной травы, дабы вымести из него следы злых духов.
Затем грот замуровали, а все, что осталось после бальзамирования: горшки с окисью натрия, притирания и длинные лоскуты холста, которыми пеленали тело усопшей, — все это поместили в нишу рядом, и ее тоже замуровали.
Имхотеп, расправив плечи, облегченно вздохнул и согнал с лица подобающее случаю выражение грусти. Все было сделано достойным образом. Нофрет погребли, соблюдая предписанные обряды, не жалея затрат (кое в чем лишних, по мнению Имхотепа).
Имхотеп поблагодарил жрецов, которые, завершив свои ритуальные обязанности, вновь превратились в обычных, обремененных земными заботами людей. Все спустились в дом, где жрецов ждало обильное угощение. Имхотеп обсудил с верховным жрецом недавние перемены в политике. Фивы превращались в могущественный город. Возможно, скоро снова произойдет объединение Египта под властью одного правителя, и тогда опять наступит золотой век, как во времена строителей пирамид[46].
Монту с уважением и похвалой отзывался о царе Небхепете-Ра. Отважный воин — и вместе с тем человек благочестивый. Вряд ли Северный Египет, где процветают корыстолюбие и трусость, сумеет оказать ему сопротивление. Единый Египет — вот что нам нужно. И в этом, несомненно, великое предназначение Фив…
Они прогуливались, рассуждая о будущем.
Ренисенб оглянулась на скалу, в которой навеки была замурована Нофрет.
— Вот и все, — сказала она себе и почувствовала облегчение. Она, неизвестно почему, все время опасалась, что в последнюю минуту вдруг вспыхнет ссора и начнут искать виноватого! Но погребение Нофрет было совершено с достойным одобрения благолепием. — Все кончилось, — прошептала Ренисенб.
— Надеюсь, да, — едва слышно откликнулась Хенет.
Ренисенб повернулась к ней.
— О чем ты, Хенет?
Но Хенет отвела взгляд.
— Я только сказала, что, надеюсь, все кончено. Бывает ведь и так: думаешь, все кончилось, а оказывается, это только начало. Чего ни в коем случае нельзя допустить.
— О чем ты, Хенет? — сердито повторила Ренисенб. — На что ты намекаешь?
— Я никогда ни на что не намекаю, Ренисенб. Я не могу себе этого позволить. Нофрет погребли, и все довольны. Теперь все встало на свои места.
— Мой отец интересовался тем, что ты думаешь про смерть Нофрет? — спросила Ренисенб. Голос ее звучал требовательно.
— Конечно, Ренисенб. И очень настойчиво. Он хотел, чтобы я доложила ему все, что думаю по этому поводу.
— А что ты ему сказала?
— Что это был несчастный случай. А что же еще? Уж не думаешь ли ты, что я сказала, будто несчастную девушку мог убить кто-нибудь из членов нашей семьи? «Никто бы не осмелился, — уверяла я его, — хотя бы из великого почтения к тебе. Они могли роптать, но не более того. Можешь мне верить, — сказала я, — что ничего подобного не произошло!» — усмехнулась Хенет и кивнула головой.
— И мой отец поверил тебе?
И снова Хенет удовлетворенно кивнула.
— Твой отец знает, как я блюду его интересы. Он всегда верит старой Хенет. Он ценит меня, не то что все остальные. Пусть так, моя преданность вам — вот моя награда. Я не ищу благодарности.
— Ты была предана и Нофрет, — заметила Ренисенб.
— С чего ты это взяла, Ренисенб, не понимаю. Я обязана, как и все другие, выполнять приказания.
— Она считала, что ты ей предана.
Хенет вновь усмехнулась.
— Нофрет была не так умна, как ей казалось. Она была чересчур гордой и возомнила, что ей принадлежит весь мир. Что ж, сейчас ей предстоит держать ответ перед судом в Царстве мертвых — там ей вряд ли поможет ее хорошенькое личико. Мы, во всяком случае, от нее избавились. По крайней мере, — еле слышно добавила она, дотронувшись до одного из висящих у нее на шее амулетов, — я на это очень надеюсь.
2
— Ренисенб, я хочу поговорить с тобой о Сатипи.
— А в чем дело, Яхмос?
Ренисенб с участием смотрела на встревоженное лицо брата.
— С Сатипи что-то случилось. Я ничего не могу понять, — с трудом выдавил из себя Яхмос.
Ренисенб согласно кивнула головой, не найдя так сразу слов утешения.
— Последнее время она очень переменилась, — продолжал Яхмос. — При малейшем шорохе вздрагивает. Плохо ест. Ходит так, будто опасается собственной тени. Ты, наверное, тоже заметила это, Ренисенб?
— Да, конечно, мы все заметили.
— Я спросил, не больна ли она, не послать ли за лекарем, но она ответила, что не нужно, она совершенно здорова.
— Я знаю.
— Значит, ты тоже ее спрашивала? И она ничего тебе не сказала? Совсем ничего? — обеспокоенно допытывался он.
Ренисенб понимала озабоченность брата, но ничем не могла ему помочь.
— Она упорно твердит, что совершенно здорова.
— И плохо спит по ночам, — пробормотал Яхмос, — кричит во сне. Может, ее что-то мучает, о чем мы и не догадываемся?
Ренисенб покачала головой.
— По-моему, нет. Дети здоровы. В доме ничего не произошло, кроме, конечно, смерти Нофрет, но вряд ли Сатипи будет горевать по этому поводу, — сухо заключила она.
— Да, конечно, — чуть улыбнулся Яхмос. — Скорее, наоборот. Кроме того, это началось не после смерти Нофрет, а до нее.
Сказал он это не совсем уверенно, и Ренисенб быстро взглянула на него. Тогда Яхмос тихо, но настойчиво повторил:
— До смерти Нофрет. Тебе не кажется?
— Я заметила это только после ее смерти, — задумчиво ответила Ренисенб.
— И Сатипи тебе ничего не говорила? Ты твердо помнишь?
Ренисенб опять покачала головой.
— Знаешь, Яхмос, по-моему, Сатипи и вправду нездорова. Мне кажется, она чего-то боится.
— Боится? — не сумел сдержать удивления Яхмос. — А чего ей бояться? Кого? Сатипи всегда была храброй как львица.
— Я знаю, — беспомощно призналась Ренисенб. — Мы все так считали. Но люди, как ни странно, меняются.
— Как, по-твоему, может, Кайт что-нибудь известно? Не говорила ли Сатипи с ней?
— Разумеется, Сатипи скорей бы сказала ей, чем мне, но, по-моему, такого разговора между ними не было. Нет, не было, я уверена.
— А что думает Кайт?
— Кайт? Кайт никогда ни о чем не думает.
Зато Кайт, вспомнила Ренисенб, воспользовавшись необычной кротостью Сатипи, забрала себе и своим детям лучшие из вновь вытканных льняных полотнищ, на что никогда бы не решилась, будь Сатипи в себе. Стены дома рухнули бы от ее крика! То, что Сатипи безропотно стерпела это, по правде говоря, просто потрясло Ренисенб.
— Ты говорил с Изой? — спросила Ренисенб. — Наша бабушка очень хорошо разбирается в женщинах и в их настроении.
— Иза посоветовала мне вознести хвалу богам за эту перемену, только и всего, — с досадой ответил Яхмос. — Можешь не надеяться, сказала она, что Сатипи долго будет пребывать в таком благодушном настроении.
— А Хенет ты спрашивал? — не сразу решилась подать ему эту мысль Ренисенб.
— Хенет? — нахмурился Яхмос. — Нет. Я не рискнул бы говорить с Хенет о таких вещах. Она и так многое себе позволяет. Отец чересчур к ней снисходителен.
— Я знаю. Она ужасно всем надоела. Тем не менее… — не сразу нашлась Ренисенб, — Хенет обычно все обо всех знает.
— Может, ты спросишь у нее, Ренисенб? — задумчиво сказал Яхмос. — А потом скажешь мне?
— Хорошо.
Улучив минуту, когда они с Хенет оказались наедине, направляясь к навесу, под которым женщины ткали полотно, Ренисенб попробовала поговорить с ней о Сатипи. И была крайне удивлена, заметив, что этот вопрос встревожил Хенет. От ее обычного желания посплетничать и следа не осталось.
Она дотронулась до висящего у нее на шее амулета и оглянулась.
— Меня это не касается… Мне некогда замечать, кто и как себя ведет. Это не мое дело. Я не хочу быть причастной к чуждой беде.
— К беде? К какой беде?
Хенет бросила на нее быстрый взгляд.
— Надеюсь, ни к какой. Нас это, во всяком случае, не касается. Нам с тобой, Ренисенб, не в чем себя упрекнуть. Это-то меня и утешает.
— Ты хочешь сказать, что Сатипи… О чем ты говоришь?
— Ни о чем. И пожалуйста, Ренисенб, не пытайся у меня что-то выведать. Я в этом доме почти на положении служанки, и мне не пристало высказывать свое мнение о том, к чему я не имею никакого отношения. Если хочешь знать, то я считаю, что перемена эта нам на благо и, если все так и останется, значит, нам повезло. А теперь, Ренисенб, мне некогда, я должна присмотреть, чтобы на полотне была поставлена правильная метка. Эти беспечные служанки только болтают и смеются, вместо того чтобы работать как следует.
И она стремглав бросилась под навес, а Ренисенб медленно двинулась обратно к дому. Никем не замеченная, она вошла в покои Сатипи, и та с воплем вскочила с места, когда Ренисенб тронула ее за плечо.
— О, как ты меня напугала! Я думала…
— Сатипи, — обратилась к ней Ренисенб, — что случилось? Может, ты скажешь мне? Яхмос беспокоится о тебе и…
Сатипи прижала пальцы к губам. А потом, заикаясь и испуганно расширив глаза, прошептала:
— Яхмос? А что… Что он сказал?
— Он обеспокоен. Ты кричишь во сне…
— Ренисенб! — схватила ее за руку Сатипи. — Я кричала… Что я кричала?
Ее глаза, казалось, от страха вот-вот вылезут из орбит.
— Яхмос считает… Что он тебе сказал?
— Мы оба считаем, что ты либо нездорова, либо чем-то расстроена.
— Расстроена? — еле слышно повторила Сатипи с какой-то странной интонацией.
— Ты в самом деле чем-то расстроена, Сатипи?
— Может быть… Не знаю. Дело не в этом.
— Я знаю. Ты чего-то боишься, верно?
Взгляд Сатипи стал холодно-неприязненным.
— К чему ты это говоришь? Почему я должна чего-то бояться? Что может меня пугать?
— Не знаю, — ответила Ренисенб. — Но ведь это так, правда?
Сделав над собой усилие, Сатипи обрела прежнюю заносчивость.
— Я никого и ничего не боюсь! — вскинув голову, заявила она. — Как ты смеешь такое обо мне думать, Ренисенб! И я не потерплю, чтобы вы с Яхмосом вели обо мне разговоры. Яхмос и я, мы хорошо понимаем друг друга. — Она помолчала, а потом резко заключила: — Нофрет умерла — и тем лучше, — вот что я тебе скажу. Можешь передать это всем, кто спрашивает, что я думаю по этому поводу!
— Нофрет? — удивленно переспросила Ренисенб.
Сатипи пришла в ярость — такой она часто была прежде.
— Нофрет, Нофрет, Нофрет! Меня тошнит от этого имени! Слава богам, больше не придется слышать его в нашем доме!
Ее голос поднялся чуть не до визга, как бывало раньше, но, как только в комнате появился Яхмос, она сразу сникла.
— Замолчи, Сатипи, — сурово приказал он. — Если тебя услышит отец, опять будут неприятности. Почему ты так глупо ведешь себя?
Еще больше, чем суровый и недовольный тон Яхмоса, удивило Ренисенб поведение Сатипи.
— Прости меня, Яхмос… — кротко пролепетала она. — Я не подумала…
— Впредь будь более осмотрительной! Вы с Кайт и так достаточно натворили глупостей. У вас, женщин, нет чувства меры!
— Прости… — снова пролепетала Сатипи.
Решительным шагом, словно эта попытка хоть раз в жизни утвердить свою власть добавила ему силы, Яхмос вышел из покоев.
Ренисенб с задумчивым видом побрела к старой Изе. Может, бабушка посоветует что-нибудь разумное?
Однако Иза, которая с наслаждением расправлялась с огромной кистью винограда, отнеслась к озабоченности Ренисенб крайне несерьезно.
— Сатипи? К чему вся эта шумиха вокруг Сатипи? Вам что, так нравилось, когда она вас поносила и всеми помыкала в доме, что, стоило ей присмиреть, вы враз подняли панику? — И, выплюнув виноградные косточки, добавила: — Во всяком случае, долго это не протянется, если, конечно, Яхмос не примет мер.
— Яхмос?
— Да. Надеюсь, Яхмос наконец пришел в себя и как следует поколотил Сатипи. Ей это и требовалось — она из тех женщин, которым по душе хорошая трепка. Яхмос, кроткий и не помнящий зла, должно быть, был для нее немалым испытанием.
— У Яхмоса золотое сердце, — возмутилась Ренисенб. — Он добрый и нежный, как женщина, если женщины вообще способны быть нежными, — словно сомневаясь, добавила она.
— Хоть и несколько запоздалая, но верная мысль, внучка, — усмехнулась Иза. — Нет, никакой нежности в женщинах нет, а если есть, то помоги им, Исида! И очень немногие женщины хотели бы иметь доброго и нежного мужа. Им скорее нужен красивый и буйный грубиян, вроде Себека. Такой им больше по душе. Или смышленый молодой человек, вроде Камени, а, Ренисенб? Такой не даст собой командовать. И любовные песни он недурно распевает, а? Хи-хи-хи.
Щеки у Ренисенб зарделись.
— Не понимаю, о чем ты, — с достоинством заявила она.
— Вы думаете, старая Иза ни о чем не догадывается. Догадываюсь! — Она подслеповато всматривалась в Ренисенб. — Возможно, даже раньше тебя самой догадалась, дитя мое. Не сердись. Так устроена жизнь, Ренисенб. Хей был тебе славным братом, но он уплыл в своей лодке к тем, кому приносят жертвы. Сестра найдет себе нового брата, который будет пронзать рыбу копьем в нашей реке Ниле — не берусь утверждать, что Камени для этого очень подходит. Его больше привлекают тростниковая палочка и свиток папируса, хотя он и хорош собой и умеет петь любовные песни. Но при всех его достоинствах я не думаю, что он тебе пара. Мы ничего о нем не знаем, кроме того, что он явился из Северных Земель. Имхотепу он по душе, но это ничего не значит, ибо я всегда считала Имхотепа дураком. Лестью его можно в два счета обвести вокруг пальца. Посмотри на Хенет!
— Ты не права, — возмутилась Ренисенб.
— Ладно, пусть не права. Твой отец не дурак.
— Я не про это. Я хотела сказать…
— Я знаю, что ты хотела сказать, дитя мое, — усмехнулась Иза. — Ты просто шуток не понимаешь. Ты даже представить себе не можешь, до чего приятно, давно покончив со всей этой любовью и ненавистью между братьями и сестрами, есть отлично приготовленную жирную перепелку или куропатку, пирог с медом отменного вкуса, блюдо из порея с сельдереем, запивая все это сирийским вином, и не иметь ни единой на свете заботы. Смотреть, как люди приходят в смятение, испытывают сердечную боль, и знать, что тебя это больше не касается. Видеть, как мой сын совершает одну глупость за другой из-за молоденькой красотки и как она восстанавливает против себя всю его семью, и хохотать до упаду. Должна тебе признаться, мне эта девушка была даже чем-то симпатична. В ней, конечно, сидел сам дьявол: как она умела нащупать у каждого его больное место! Себеку она показала, что он всего лишь пузырь, из которого выпустили воздух, Ипи напомнила, что тот еще ребенок, а Яхмоса заставила устыдиться, что он под каблуком у жены. Она вынудила их увидеть себя со стороны, как видят свое отражение в воде. Но почему она ненавидела тебя, Ренисенб? Ответь мне.
— Разве она меня ненавидела? — удивилась Ренисенб. — Я как-то даже предложила ей дружить.
— И она отказалась? Правильно. Она тебя ненавидела, Ренисенб. — Иза помолчала, а потом вдруг спросила: — Может, из-за Камени?
Ренисенб покраснела.
— Из-за Камени? Я не понимаю, о чем ты.
— Она и Камени оба приехали из Северных Земель, — задумчиво сказала Иза, — но Камени смотрел на тебя, когда ты шла по двору.
— Мне пора к Тети, — вдруг вспомнила Ренисенб.
Вслед ей долго слышался довольный смех Изы. Щеки у Ренисенб горели, пока она бежала через двор к водоему. С галереи ее окликнул Камени:
— Ренисенб, я сочинил новую песню. Иди сюда, послушай.
Но она только покачала головой и побежала дальше. Сердце ее сердито стучало. Камени и Нофрет. Нофрет и Камени. Зачем только старая Иза подала ей эту мысль? Обожает зло подшутить… А собственно говоря, ей-то, Ренисенб, что до этого?
И вправду, не все ли равно? Камени ей безразличен, решительно безразличен. Навязчивый молодой человек с улыбчивым лицом и широкими плечами, напоминающий ей Хея.
Хей… Хей…
Она настойчиво повторяла его имя, но впервые его образ не предстал перед нею. Хей был в другом мире. У тех, кому приносят жертвы…
А с галереи доносилось тихое пение Камени:
В Мемфис хочу поспеть и богу Пта взмолиться: — Любимую дай мне сегодня ночью!3
— Ренисенб!
Хори пришлось дважды окликнуть ее, прежде чем она оторвалась от созерцания Нила.
— Ты о чем-то задумалась, Ренисенб? О чем ты размышляла?
— Я вспоминала Хея, — с вызовом ответила Ренисенб.
Хори смотрел на нее несколько мгновений, потом улыбнулся.
— Понятно, — отозвался он.
А Ренисенб смущенно призналась себе, что он в самом деле понял, о чем она думала.
— Что происходит с человеком после смерти? — поспешно спросила она. — Кто-нибудь знает? Все эти тексты, что написаны на саркофагах, так непонятны, что кажутся бессмысленными. Нам известно, что Осириса убили, что его тело было вновь собрано из кусков, что он носит белую корону и что благодаря ему мы не умираем по-настоящему[47]. Но иногда, Хори, все это кажется мне неправдой и… так все непонятно…
Хори понимающе кивнул.
— А мне хочется знать, что на самом деле происходит с нами после смерти.
— Я не могу ответить на твой вопрос, Ренисенб. Спроси у жрецов.
— Они ответят так, как отвечают всегда. А я хочу знать.
— Узнать можно только тогда, когда мы сами умрем, — мягко сказал Хори.
Ренисенб задрожала.
— Не надо так говорить! Замолчи!
— Ты чем-то взволнована, Ренисенб?
— Да, меня расстроила Иза. — Помолчав, она спросила: — Скажи мне, Хори, Камени и Нофрет знали друг друга до… до приезда сюда?
На миг Хори приостановился, а потом, продолжив вместе с ней путь к дому, сказал:
— Значит, вот в чем дело…
— Почему ты говоришь: «Значит, вот в чем дело»? Я ведь только задала тебе вопрос…
— …на который я не могу тебе ответить. Нофрет и Камени знали друг друга, но хорошо ли, я понятия не имею.
И тихо добавил:
— А это имеет значение?
— Нет, — ответила Ренисенб. — Это не имеет никакого значения.
— Нофрет умерла…
— Умерла, ее набальзамировали и замуровали в погребальный грот. Вот и все.
— А Камени вроде и не горюет… — спокойно договорил Хори.
— Верно, — согласилась Ренисенб, удивляясь, что сама этого не заметила. И вдруг повернулась к Хори: — О Хори, как ты умеешь утешить!
— Я ведь чинил игрушки маленькой Ренисенб. А теперь у нее другие забавы.
Они уже подошли к дому, но Ренисенб решила сделать еще один круг.
— Не хочется мне входить в дом. По-моему, я их всех ненавижу. Не по-настоящему, конечно. Просто я очень зла на них — они ведут себя так странно. Не подняться ли нам к тебе наверх? Там так хорошо, будто паришь над миром.
— Очень меткое наблюдение, Ренисенб. Именно такое ощущение появляется и у меня. Дом, поля — все это не заслуживает внимания. Надо смотреть дальше, на реку, а за ней — видеть весь Египет. Очень скоро он снова станет единым, великим и могущественным, как в былые годы.
— Это так важно? — пробормотала Ренисенб.
— Для маленькой Ренисенб нет. Ей нужен только ее лев, — улыбнулся Хори.
— Ты смеешься надо мной, Хори. Значит, это действительно важно?
— Важно ли? Для меня? Почему? В конце концов, я всего лишь управляющий у хранителя гробницы. Какое мне дело до того, велик Египет или нет? — спросил Хори, как бы сам себя.
— Посмотри, — показала Ренисенб на скалу, которая была как раз над ними. — Яхмос и Сатипи ходили наверх. И теперь спускаются.
— Да, — сказал Хори, — там нужно было кое-что убрать. Бальзамировщики оставили несколько штук полотна. Яхмос сказал, что возьмет с собой Сатипи, посоветоваться, на что их использовать.
Они остановились и смотрели на спускавшихся по тропинке Яхмоса и Сатипи.
И вдруг Ренисенб пришло в голову, что они как раз приближаются к тому месту, с которого сорвалась Нофрет.
Сатипи шла впереди; за ней на расстоянии нескольких шагов — Яхмос.
Внезапно Сатипи повернула голову, по-видимому, желая что-то сказать Яхмосу. Наверное, подумала Ренисенб, говорит ему, что именно здесь произошло несчастье с Нофрет.
И тут Сатипи неожиданно застыла на месте. Замерла, глядя назад, через плечо. Руки ее взметнулись вверх, словно она пыталась заслониться от страшного видения или защитить себя от удара. Она вскрикнула, пошатнулась и, когда Яхмос бросился к ней, с воплем ужаса сорвалась с обрыва и рухнула на камни внизу…
Ренисенб, зажав рот рукой, не веря собственным глазам, следила за ее падением.
Распростертая Сатипи лежала на том самом месте, где когда-то лежала Нофрет.
Ренисенб подбежала, наклонилась над ней. Глаза Сатипи были открыты, веки трепетали. Ее губы шевелились, словно она силилась что-то сказать. Ренисенб наклонилась ниже. Ее потрясло выражение ужаса, застывшее в глазах Сатипи.
Потом она услышала голос умирающей.
— Нофрет… — с хрипом выдохнула Сатипи.
Голова ее упала. Челюсть отвисла.
Хори повернулся навстречу Яхмосу, потом они вместе подошли к умершей.
Ренисенб выпрямилась.
— Что она крикнула, перед тем как упала? Яхмос тяжело дышал, не в силах вымолвить ни слова.
— Она посмотрела куда-то… за моей спиной… словно увидела на тропинке кого-то еще… но там никого не было… никого не было…
— Там никого не было, — подтвердил Хори.
— И тогда она крикнула… — испуганно прошептал Яхмос.
— Что она крикнула? — нетерпеливо переспросила Ренисенб.
— Она крикнула… Она крикнула… — Голос его дрожал. — «Нофрет!»
Глава 12 Первый месяц лета, 12-й день
— Вот, значит, что ты имел в виду, Хори? — Ренисенб скорей утверждала, нежели спрашивала. И, охваченная ужасом, тихо добавила еще более убежденным тоном:
— Значит, Сатипи убила Нофрет…
Поддерживая руками свисавшее с шеи ожерелье, она сидела у входа в небольшой грот рядом с гробницей — обитель Хори — и смотрела вниз на простиравшуюся перед ней долину, и сквозь дремоту думала, насколько справедливы были слова, сказанные ею накануне. Неужто это было только вчера? Отсюда сверху дом и спешащие куда-то по делам люди напоминали муравейник.
И только солнце, величественное в своем могуществе, сияет в небе, только узкая полоска серебра — Нил — блестит в утреннем свете, только они вечны и бессмертны. Хей умер, нет уже и Нофрет и Сатипи, когда-нибудь умрут и она и Хори. Но Ра будет по-прежнему днем править на небесах, а по ночам плыть в своей ладье по Подземному царству, держа путь к рассвету. И Нил будет спокойно нести свои воды с далекого юга, из-за Слонового острова[48], мимо Фив и мимо того места, где живут они, в Северный Египет, где жила и была счастлива Нофрет, а потом все дальше к большой воде, уходя навсегда из Египта.
Сатипи и Нофрет…
Ренисенб решилась высказать свои мысли вслух, поскольку Хори так и не ответил на ее последний вопрос.
— Видишь ли, я была настолько уверена, что это Себек… — Она не договорила.
— Ты заранее убедила себя в этом.
— Совершив очередную глупость, — согласилась Ренисенб. — Ведь Хенет сказала мне, что Сатипи пошла наверх и что Нофрет еще до нее тоже отправилась туда. Я должна была сообразить, что Сатипи намеренно последовала за Нофрет, что они встретились на тропинке и Сатипи столкнула ее вниз. Ведь незадолго до этого она заявила, что в ней больше мужества, чем в моих братьях.
И, вздрогнув, Ренисенб умолкла.
— Когда я ее потом встретила, — продолжала она, — я должна была сразу все понять. Сатипи была сама не своя, выглядела такой испуганной. Пыталась уговорить меня вернуться вместе с ней домой. Не хотела, чтобы я увидела мертвую Нофрет. Я, должно быть, ослепла, иначе сразу бы все поняла. Но я так боялась, что это Себек…
— Я знаю. Потому что ты видела, как он убил змею.
— Да, именно поэтому, — с жаром подтвердила Ренисенб. — И потом… мне приснилось… Бедный Себек — я была несправедлива к нему. Как ты сказал, угрожать — это еще не значит убить. Себек всегда любил пускать пыль в глаза. А на самом деле отважной, безжалостной и готовой к решительным действиям была Сатипи. И потом, после того события… она бродила как привидение, недаром мы все ей удивлялись. Почему нам даже в голову не пришло такое простое объяснение?
И, вскинув глаза, спросила:
— Но тебе-то оно приходило?
— Последнее время, — ответил Хори, — я был убежден, что ключ к тайне смерти Нофрет лежит в странной перемене характера Сатипи. Эта перемена так бросалась в глаза, что было ясно: за ней что-то крылось.
— И тем не менее ты ничего не сказал?
— Как я мог, Ренисенб? У меня ведь нет никаких доказательств.
— Да, ты прав.
— Любое утверждение обосновывается доказательствами.
— Когда-то ты сказал, — вдруг вспомнила Ренисенб, — что люди в один день не меняются. А сейчас ты согласен, что Сатипи сразу переменилась, стала совсем другой.
Хори улыбнулся.
— Тебе бы выступать в суде при нашем правителе. Нет, Ренисенб, люди действительно остаются сами собой. Сатипи, как и Себек, тоже любила громкие слова. Она, конечно, могла перейти от слов к действиям, только, думаю, она была из тех людей, которые кричат о том, чего не знают, чего никогда не испытали. Всю свою жизнь до того самого дня она не знала чувства страха. Страх застиг ее врасплох. Тогда она поняла, что отвага — это способность встретиться лицом к лицу с чем-то непредвиденным, а у нее такой отваги не оказалось.
— Страх застиг ее врасплох… — прошептала про себя Ренисенб. — Да, наверное, с тех пор, как умерла Нофрет, в Сатипи поселился страх. Он был написан у нее на лице, а мы этого не заметили. Он был в ее глазах, когда она умерла… Когда она произнесла: «Нофрет…» Будто увидела…
Ренисенб умолкла. Она повернулась к Хори, глаза ее расширились от недоумения.
— Хори, а что она увидела? Там, на тропинке. Мы же ничего не видели. Там ничего не было.
— Для нас ничего.
— А для нее? Значит, она увидела Нофрет, Нофрет, которая явилась, чтобы отомстить. Но Нофрет умерла и замурована в своем саркофаге. Что же Сатипи увидела?
— Видение, которое предстало перед ее мысленным взором.
— Ты уверен? Потому что если нет…
— Да, Ренисенб, что если нет?
— Хори, — протянула к нему руку Ренисенб, — как ты думаешь, все кончилось? Со смертью Сатипи? Вправду кончилось?
Хори взял ее руку в свои, успокаивая.
— Да, да, Ренисенб, разумеется, кончилось. И тебе, по крайней мере, нечего бояться.
— Иза говорит, что Нофрет меня ненавидела… — еле слышно произнесла Ренисенб.
— Нофрет ненавидела тебя?
— По словам Изы.
— Нофрет умела ненавидеть, — заметил Хори. — Порой мне кажется, что ее ненависть простиралась на всех до единого в доме. Но ты ведь не сделала ей ничего плохого?
— Нет, ничего.
— А поэтому, Ренисенб, у тебя в мыслях не должно быть ничего такого, за что ты могла бы себя осудить.
— Ты хочешь сказать, Хори, что если мне придется спускаться по тропинке в час заката, то есть тогда, когда умерла Нофрет, и если я поверну голову, то ничего не увижу? Что мне не грозит опасность?
— Тебе не грозит опасность, Ренисенб, потому что, когда ты будешь спускаться по тропинке, я буду рядом с тобой и никто не осмелится причинить тебе зла.
Но Ренисенб нахмурилась и покачала головой.
— Нет, Хори, я пойду одна.
— Но почему, Ренисенб? Разве ты не боишься?
— Боюсь, — ответила Ренисенб. — Но все равно это нужно сделать. В доме все дрожат от страха. Они сбегали в храм, накупили амулетов, а теперь кричат, что нельзя ходить по тропинке в час заката. Нет, не чудо заставило Сатипи пошатнуться и упасть со скалы, а страх, страх перед злодеянием, которое она совершила. Потому что лишить жизни того, кто молод и силен, кто наслаждается своим существованием, — это злодеяние. Я же ничего дурного не совершала, и, даже если Нофрет меня ненавидела, ее ненависть не может причинить мне зла. Я в этом убеждена. И, кроме того, лучше умереть, чем постоянно жить в страхе, поэтому я постараюсь преодолеть свой страх.
— Слова твои полны отваги, Ренисенб.
— На словах я, сказать по правде, более бесстрашна, чем на деле, — призналась Ренисенб и улыбнулась. Она встала. — Но произнести их было приятно.
Хори тоже поднялся на ноги и встал рядом.
— Я запомню твои слова, Ренисенб. И как ты вскинула голову, когда произносила их. Они свидетельствуют об искренности и храбрости, которые, я всегда чувствовал, живут в твоем сердце.
Он взял ее за руку.
— Послушай меня, Ренисенб! Посмотри отсюда на долину, на реку и на тот берег. Это — Египет, наша земля. Разоренная войнами и междоусобицами, разделенная на множество мелких царств, но скоро, очень скоро она станет единой — Верхний и Нижний Египет снова объединятся в одну страну, которая, я верю и надеюсь, обретет былое величие. И в тот час Египту понадобятся мужчины и женщины с сердцем, полным отваги, женщины вроде тебя, Ренисенб. А мужчины не такие, как Имхотеп, которого волнуют только собственные доходы и расходы, и не такие, как Себек, бездельник и хвастун, и не такие, как Ипи, который ищет только чем поживиться, и даже не такие добросовестные и честные, как Яхмос. Сидя здесь, можно сказать, среди усопших, подытоживая доходы и расходы, выписывая счета, я осознал, что человеку наградой может служить не только богатство, а утратой не только потеря урожая… Я смотрю на Нил и вижу в нем источник жизненной силы Египта, который существовал еще до нашего появления на свет и будет существовать после нашей смерти… Жизнь и смерть, Ренисенб, не так уж и важны… Вот я, всего лишь управляющий у Имхотепа, но, когда я смотрю вдаль, на Египет, то испытываю такие покой и радость, что не поменялся бы своим местом даже с нашим правителем. Понимаешь ли ты, Ренисенб, о чем я говорю?
— По-моему, да, Хори, но не все. Ты совсем не такой, как те, кто внизу, я это уже давно поняла. И когда я здесь рядом с тобой, я испытываю те же чувства, что и ты, только смутно, не очень отчетливо. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Когда я здесь, все то, что внизу, — показала она, — кажется таким незначительным — все эти ссоры и обиды, шум и суета. Здесь от этого отдыхаешь.
Нахмурив лоб, она помолчала, а потом, чуть запинаясь, продолжала:
— Порой я рада, что мне есть куда уйти. И тем не менее… есть что-то такое… не знаю, что именно… что влечет меня обратно.
Хори отпустил ее руку и сделал шаг назад.
— Я понимаю, — мягко сказал он. — Песни Камени.
— Что ты говоришь, Хори? Я вовсе не думаю о Камени.
— Может, и не думаешь. Но все равно, Ренисенб, ты слышишь его пение здесь, не сознавая этого.
Ренисенб смотрела на него, сдвинув брови.
— Какие удивительные вещи ты говоришь, Хори. Как я могу слышать его пение здесь? Так далеко от дома?
Но Хори лишь тихо вздохнул и покачал головой. Насмешка, мелькнувшая в его глазах, озадачила ее. Она рассердилась и даже чуть смутилась, потому что не могла понять его.
Глава 13 Первый месяц лета, 23-й день
1
— Можно мне поговорить с тобою, Иза?
Иза напряженно вгляделась в фигуру, появившуюся на пороге. В дверях с подобострастной улыбкой на лице стояла Хенет.
— В чем дело? — с неприязнью в голосе спросила Иза.
— Да так, пустяки, по-моему, но я решила, что лучше спросить…
— Входи, — прервала ее объяснения Иза. — А ты, — постучала она палкой по плечу маленькой черной рабыни, которая нанизывала бусины на нитку, — отправляйся на кухню. Принеси мне оливок и гранатового соку.
Девчушка убежала, и Иза нетерпеливо кивнула Хенет.
— Я хотела показать тебе вот это, Иза.
Иза уставилась на предмет, который протягивала ей Хенет. Это была небольшая шкатулка для украшений с выдвижной крышкой, которая закрывалась на две застежки.
— Ну и что?
— Это ее. Я нашла эту шкатулку только что — в ее покоях.
— О ком ты говоришь? О Сатипи?
— Нет, нет, Иза. О другой.
— О Нофрет, хочешь ты сказать? Ну и что?
— Все ее украшения, горшочки с притираниями и сосуды с благовониями — словом, все было замуровано вместе с ней.
Иза расстегнула застежки и открыла шкатулку. В ней лежала нитка бус из мелкого сердолика и половинка покрытого зеленой глазурью амулета, который, по-видимому, разломали умышленно.
— Ничего здесь особенного нет, — сказала Иза. — Наверное, не заметили, когда собирали вещи.
— Бальзамировщики забрали все.
— Бальзамировщики заслуживают доверия не больше, чем все остальные. Забыли, и все.
— Говорю тебе, Иза: этого не было в комнате, когда я туда заходила.
Иза пристально взглянула на Хенет.
— Что ты хочешь сказать? Что Нофрет вернулась из Царства мертвых и обитает у нас в доме? Ты ведь совсем неглупа, Хенет, хотя иногда и прикидываешься дурочкой. Зачем тебе надо распространять эти сказки?
Хенет многозначительно покачала головой.
— Мы все знаем, что случилось с Сатипи и почему.
— Возможно, — согласилась Иза. — Не исключено, что кое-кто из нас даже знал кое-что и раньше. А, Хенет? Я всегда считала, что тебе лучше других известно, как Нофрет повстречалась со своей смертью.
— О Иза, неужто ты способна подумать…
— А почему бы и нет? — перебила ее Иза. — Я не боюсь думать, Хенет. Я видела, как последние два месяца Сатипи, крадучись, ходила по дому до смерти перепуганная, и со вчерашнего дня меня мучает мысль, что кто-то, наверное, знал, что Нофрет убила она, и этот кто-то угрожал Сатипи рассказать об этом Яхмосу, а может, и самому Имхотепу…
Хенет визгливым голосом разразилась клятвами и заверениями в своей невиновности. Иза выслушала ее, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, и произнесла:
— Я нисколько не сомневалась в том, что ты не признаешься. И сейчас этого не жду.
— С чего ты взяла, что мне есть в чем признаться? С чего, спрашиваю я тебя?
— Понятия не имею, — ответила Иза. — Ты совершаешь много поступков, Хенет, которым я никогда не могла найти разумного объяснения.
— По-твоему, я пыталась заставить ее платить мне за молчание? Клянусь Девяткой богов…
— Оставь богов в покое… Ты, Хенет, честна настолько, насколько тебе позволяет твоя совесть. Вполне возможно, что тебе ничего не известно об обстоятельствах смерти Нофрет. Зато ты знаешь почти все, что происходит в доме. И доведись мне давать клятву, то я готова поклясться, что ты сама подложила эту шкатулку в покои Нофрет — только зачем, я представить себе не могу. Но причина есть… Своими фокусами ты можешь обманывать Имхотепа, но меня тебе не обмануть. И не ной. Я старуха и не выношу нытья. Иди и ной перед Имхотепом. Ему вроде это нравится, хотя почему, знает только Ра.
— Я отнесу шкатулку Имхотепу и скажу ему…
— Я сама отдам ему шкатулку. Иди, Хенет, и перестань разносить по дому глупые слухи. Без Сатипи стало гораздо тише. После смерти Нофрет оказала нам куда больше услуг, чем при жизни. А теперь, когда все квиты, пора каждому заняться своими повседневными заботами.
2
— Что случилось? — требовательно спросил Имхотеп, мелкими шажками вбегая в покои Изы мгновение спустя. — Хенет очень расстроена. Она пришла ко мне вся в слезах. Почему никто в доме не желает по-доброму относиться к этой преданной нам всем сердцем женщине?
Иза только рассмеялась своим кудахтающим смехом.
— Ты обвинила ее, насколько я понял, — продолжал Имхотеп, — в том, что она украла шкатулку с украшениями.
— Так она сказала тебе? Ничего подобного. Вот шкатулка. По-видимому, она нашла ее в покоях Нофрет.
Имхотеп взял шкатулку.
— Да, та самая, что я ей подарил. — Он открыл шкатулку. — Хм, да тут почти ничего нет. Бальзамировщики поступили крайне небрежно, позабыв положить ее в саркофаг со всеми остальными вещами Нофрет. При том что Ипи и Монту так дорого запрашивают за свои услуги, можно было, по крайней мере, ожидать, что они не допустят подобной оплошности. Ладно, слишком много шума из-за пустяка — вот что я хочу тебе сказать.
— Совершенно справедливо.
— Я отдам эту шкатулку Кайт — нет, не Кайт, а Ренисенб. Она всегда относилась к Нофрет с почтением.
Он вздохнул.
— Эти женщины с их бесконечными слезами, ссорами и пререканиями — от них никогда нет покоя.
— Зато теперь, Имхотеп, одной женщиной стало меньше.
— И вправду. Бедный Яхмос! Тем не менее, Иза, мне кажется… мм… быть может, это и к лучшему. Сатипи рожала здоровых детей, что правда, то правда, но женой она была плохой. Конечно, Яхмос сам виноват: он многое ей позволял. Ну да ладно. Что было, то прошло. Должен сказать, что в последнее время я очень доволен Яхмосом. Он куда больше полагается на собственные силы, стал менее робким, некоторые принятые им решения превосходны, просто превосходны…
— Он всегда был хорошим, послушным мальчиком.
— Да, да, но в то же время медлительным и побаивающимся ответственности.
— Можно подумать, что ты позволял ему за что-то отвечать! — язвительно заметила Иза.
— Ничего, зато теперь все будет по-другому. Я сейчас составляю распоряжение, согласно которому все три моих сына станут моими совладельцами. Папирус будет написан через несколько дней.
— Неужели и Ипи тоже?
— Откажи я ему, он был бы глубоко оскорблен. Такой добрый, ласковый мальчик!
— Да, вот в ком медлительности нет ни капельки, — усмехнулась Иза.
— Именно. Да и Себек — я частенько бывал им недоволен, но в последнее время он тоже заметно изменился. Перестал бездельничать и больше прислушивается к нашему с Яхмосом мнению.
— Хвалебный гимн, да и только, — отозвалась Иза. — Что ж, Имхотеп, по моему разумению, ты поступаешь правильно. Нехорошо, когда сыновья недовольны своим положением. И все же я считаю, что Ипи слишком молод для того, что ты задумал сделать. Зачем наделять мальчика его возраста такими правами? А что, если он станет ими злоупотреблять?
— Это разумное предостережение, — задумался Имхотеп.
Затем он встал.
— Пора идти. У меня тысяча дел. Пришли бальзамировщики, надо готовиться к погребению Сатипи. Смерть стоит недешево, очень недешево. Одно погребение за другим.
— Будем надеяться, — поспешила утешить его Иза, — что это в последний раз. Пока, конечно, не наступит мой черед.
— Надеюсь, ты еще долго проживешь, дорогая Иза!
— Не сомневаюсь, что ты надеешься, — усмехнулась Иза. — Но только на мне, пожалуйста, не экономь. Дурно это будет выглядеть. В мире ином мне понадобится много вещей. Не только еда и питье, но и фигурки слуг, хорошей работы доска для игр, благовония и притирания, и я требую, чтобы у меня были самые дорогие канопы из алебастра.
— Конечно, конечно. — Имхотеп нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Когда наступит этот печальный день, все будет сделано, как того требует мой долг. Признаюсь, по отношению к Сатипи я подобного чувства долга не испытываю. Не хотелось бы сплетен, но при столь странных обстоятельствах…
И, не завершив своих объяснений, Имхотеп поспешил уйти.
Иза иронически улыбнулась тому, что лишь в этих последних словах Имхотеп позволил себе признаться, что не считает смерть столь любезной его сердцу наложницы несчастным случаем.
Глава 14 Первый месяц лета, 25-й день
1
Когда мужчины вернулись из судебной палаты правителя, где было должным образом подтверждено распоряжение о введении совладельцев в их права, в доме воцарилось ликование. Только Ипи, которому в последнюю минуту было отказано по причине молодости лет, впал в мрачное состояние духа и куда-то намеренно скрылся.
Имхотеп, пребывая в отличном настроении, велел принести на галерею сосуд с вином, который поместили в специальную подставку.
— Пей, сын мой, — распорядился он, хлопнув Яхмоса по плечу. — Забудь на время о смерти жены. Будем думать только о светлых днях, что ждут нас впереди.
Сыновья выпили с отцом за то, чтобы его слова сбылись. Однако тут им доложили о краже одного из волов, и они поспешили проверить, насколько это известие соответствует истине.
Когда Яхмос через час снова появился во дворе, он выглядел усталым и возбужденным. Он подошел туда, где по-прежнему стоял сосуд с вином, зачерпнул из него бронзовым ковшом и уселся на галерее, неторопливо прихлебывая. Через некоторое время подошел и Себек.
— Ха! — радостно воскликнул он. — Вот теперь давай выпьем за то, что нас наконец ждет благополучное будущее! Сегодня у нас счастливый день, а, Яхмос?
— Еще бы. Теперь жизнь станет легче во всех отношениях, — спокойно согласился Яхмос.
— И почему тебя ничто не волнует, а, Яхмос? — расхохотался Себек и, зачерпнув ковшом вина, выпил его залпом, а потом, облизнув губы, поставил ковш на стол. — Вот теперь посмотрим, по-прежнему ли отец будет вести хозяйство по старинке или мне удастся уговорить его быть более современным.
— На твоем месте я бы не торопился, — предостерег его Яхмос. — Уж очень ты горяч.
Себек ласково улыбнулся брату. Он был в приподнятом расположении духа.
— А ты, как обычно, верен поговорке: медленно, но верно, — усмехнулся он.
Ничуть не обидевшись, Яхмос ответил с улыбкой:
— В конце концов всегда убеждаешься, что так лучше. Кроме того, отец был щедр к нам. Лучше его не раздражать.
— Ты в самом деле любишь отца? — с любопытством взглянул на него Себек. — До чего же у тебя доброе сердце, брат! Вот мне, например, ни до кого нет дела, кроме себя. А потому — да здравствует Себек!
И он одним глотком опорожнил еще ковш вина.
— Остерегись, — посоветовал ему Яхмос. — Ты сегодня почти не ел. Порой, если выпить вина…
И замолчал, губы его свело судорогой.
— Ты что, Яхмос?
— Ничего… Ни с того ни с сего стало больно… Я… Ничего…
Однако лоб его покрылся испариной, и он отер его левой рукой.
— Ты побледнел.
— Только что я чувствовал себя отлично.
— Уж не подложил ли кто яда в это вино? — расхохотался Себек и снова потянулся к сосуду. И так и остался с протянутой рукой, согнувшись пополам от внезапного приступа боли.
— Яхмос, — задохнулся он, — Яхмос, я тоже…
Яхмос, скрючившись, сполз с сиденья. У него вырвался хриплый стон. Лицо Себека исказилось от муки.
— Помогите, — закричал он. — Пошлите за лекарем…
Из дома выскочила Хенет.
— Ты звал? Что такое? Что случилось?
Ее крики услышали другие.
— Вино… отравлено, — еле слышно произнес Яхмос. — Пошлите за лекарем…
— Опять беда! — завизжала Хенет. — Наш дом и вправду проклят. Скорее! Спешите! Пошлите в храм за жрецом Мерсу, он опытный и знающий лекарь.
2
Имхотеп нервно ходил взад-вперед по главному залу. Его красивые одежды были испачканы и измяты, но он их не менял и не мыл тела. Лицо его осунулось от беспокойства и страха.
В глубине дома слышались приглушенные причитания и плач — плакали женщины, проклиная злой рок, опустошающий дом. Громче других рыдала Хенет.
Из бокового покоя доносились голоса лекаря и жреца Мерсу. Последний пытался привести в чувство Яхмоса. Ренисенб, потихоньку проскользнув с женской половины в главный зал, прислушалась, и ноги сами понесли ее к отворенной двери, где она остановилась, уловив нечто успокоительное в звучных словах молитвы, которую нараспев читал жрец от лица Яхмоса.
— О Исида, великая в своем могуществе, укрой меня от всего худого, злого и кровожадного, заслони от удара, нанесенного богом или богиней, от жаждущих мести мертвых мужчины или женщины, что задумали погубить меня…
Еле слышный стон сорвался с губ Яхмоса.
Ренисенб тоже присоединилась к молитве жреца:
— О Исида, великая Исида, спаси его, спаси моего брата, Яхмоса, ведь ты умеешь творить чудеса… От всего худого, злого и кровожадного, — повторила она и в смятении подумала: «Вот в чем причина того, что происходит у нас в доме… В злобных, кровожадных мыслях убитой женщины, жаждущей мести».
И тогда она мысленно обратилась прямо к той, о ком думала:
«Ведь не Яхмос убил тебя, Нофрет, и, хотя Сатипи была его женой, почему он должен отвечать за ее поступки? Она никогда не слушалась его, да и других тоже. Сатипи, которая убила тебя, умерла. Разве этого недостаточно? Умер и Себек, который только грозился, но не причинил тебе никакого зла. О Исида, не дай Яхмосу умереть, спаси его от мести и ненависти Нофрет».
Имхотеп, который в полной растерянности продолжал метаться по залу, поднял глаза и увидел дочь. Лицо его стало ласковым.
— Подойди ко мне, Ренисенб, дочь моя.
Она подбежала к отцу, и он обнял ее.
— Отец, что они говорят?
— Что у Яхмоса еще есть надежда, — глухо отозвался он. — А Себек… Тебе известно про Себека?
— Да, да. Разве ты не слышишь причитаний?
— Он умер на рассвете, — сказал Имхотеп. — Себек, мой сильный и красивый сын. — Голос его прервался, он умолк.
— О, какой ужас! И ничего нельзя было сделать?
— Было сделано все что можно. Ему давали снадобья, чтобы рвотой исторгнуть яд. Поили соком целебных трав. Его обложили священными амулетами и читали над ним всесильные заклинания. И все бесполезно. Мерсу искусный лекарь. Если он не мог спасти моего сына, значит, на то была воля богов.
Голос жреца-лекаря оборвался на высокой заключительной ноте заклинания, и он появился, отирая пот со лба.
— Ну? — бросился к нему Имхотеп.
— Милостью Исиды твой сын остался в живых, — торжественно провозгласил лекарь. — Он еще слаб, но опасность миновала. Власть зла слабеет.
И продолжал обыденным тоном:
— К счастью, Яхмос выпил гораздо меньше отравленного вина, чем Себек. Он отбивал по глотку, а Себек, по-видимому, опрокинул в себя не один ковш.
— Вот и тут сказалась разница между братьями, — печально проговорил Имхотеп. — Яхмос робкий, осторожный, медлительный, он никогда не спешит, даже когда ест и пьет. А Себек, расточительный и щедрый, ни в чем не знал меры и, увы, поступал опрометчиво.
И настойчиво переспросил:
— А в вине на самом деле был яд?
— Нет никаких сомнений, Имхотеп. Мои молодые помощники дали допить остатки вина животным, и те подохли, кто раньше, кто позже.
— А как же я? Я пил это же вино часом раньше, и ничего не случилось.
— Значит, тогда в нем еще не было отравы. Яд всыпали позже.
Имхотеп ударил кулаком одной руки по ладони другой.
— Здесь у меня в доме, — заявил он, — ни одна живая душа не осмелилась бы отравить моих сыновей. Такого не может быть. Ни одна живая душа, говорю я!
Мерсу чуть наклонил голову. Лицо его было непроницаемо.
— Об этом судить тебе, Имхотеп.
Имхотеп стоял, нервно почесывая за ухом.
— Я хочу, чтобы ты послушал одну историю, — вдруг сказал он.
Он хлопнул в ладоши и, когда вбежал слуга, приказал:
— Приведи сюда пастуха.
И, обратившись к Мерсу, объяснил:
— Этот мальчишка немного не в себе. Он с трудом понимает, что ему говорят, и порой плетет нечто несуразное. Но глаза у него есть, и видит он хорошо. Он всей душой предан моему сыну Яхмосу, который добр к нему и терпим к его недостаткам.
Вошел слуга, таща за руку худого темнокожего мальчишку с раскосыми глазами и напуганным бессмысленным лицом. На пастухе, кроме короткого передника, ничего не было.
— Говори, — приказал Имхотеп. — Повтори то, что ты мне только что рассказал.
Мальчишка стоял повесив голову и теребил свой передник.
— Говори, — крикнул Имхотеп.
Опираясь на палку и прихрамывая, в зал вошла Иза. Она вгляделась в присутствующих тусклыми глазами.
— Ты пугаешь ребенка. Ренисенб, возьми-ка у меня сушеную ююбу, дай ее мальчишке. А ты, дитя, расскажи нам, что ты видел.
Мальчик посмотрел на Изу, потом на Ренисенб.
— Вчера, когда ты заглянул во двор, ты увидел… — решила помочь ему Иза. — Что ты увидел?
Но мальчишка отвел глаза в сторону и, покачав головой, пробормотал:
— Где мой господин Яхмос?
— Твой господин Яхмос желает, чтобы ты поведал нам свою историю, — произнес жрец ласковым, но властным тоном. — Не бойся. Никто тебя не обидит.
Лицо мальчика стало осмысленным.
— Господин Яхмос всегда милостив ко мне, а потому я выполню его желание.
И снова замолчал. Имхотеп хотел было опять прикрикнуть на него, но, встретив взгляд лекаря, сдержался.
И вдруг мальчишка затараторил, волнуясь, глотая слова, оглядываясь по сторонам, словно боялся, что его услышит кто-то невидимый.
— С палкой в руках я гнался за осликом, которому покровительствует Сет[49] и который вечно проказничает. Он вбежал в ворота, что ведут во двор, и когда я заглянул туда, то увидел дом. На галерее никого не было, но стоял сосуд с вином. А потом из дома на галерею вышла женщина, одна из хозяек дома. Она подошла к сосуду с вином, подержала над ним руки и потом… потом, наверное, скрылась в доме. Не знаю точно, потому что я услышал шаги, повернулся и увидел, что господин Яхмос возвращается с полей. Я опять начал искать ослика, а господин Яхмос вошел во двор.
— И ты не предупредил его! — гневно воскликнул Имхотеп. — Ты ничего ему не сказал!
— Откуда мне было знать, что затевается что-то дурное? — закричал мальчишка. — Я видел только, что госпожа стояла, держала руки над сосудом с вином и улыбалась… Больше я ничего не видел…
— Мальчик, кто была эта госпожа? — спросил жрец.
Мальчишка покачал головой, на его лице снова появилось выражение тупой безучастности.
— Не знаю. Должно быть, кто-то из хозяек этого дома. Я их не знаю. Мое стадо пасется в самом дальнем конце владений. На ней было платье из беленого холста.
Ренисенб вздрогнула.
— Может, служанка? — спросил жрец, зорко следя за мальчишкой.
Мальчишка решительно покачал головой.
— Нет, не служанка… У нее были накладные волосы и украшения. На служанке украшений не бывает.
— Украшения? — переспросил Имхотеп. — Какие украшения?
Мальчишка ответил уверенно и с готовностью, словно наконец преодолел страх и не сомневался в правдивости своих слов.
— Три нитки бус, а посредине с них свисали золотые львы…
Палка Изы со стуком упала на пол. У Имхотепа вырвался стон.
— Если ты лжешь, мальчик… — пригрозил Мерсу.
— Это правда. Клянусь, что правда, — в полный голос закричал мальчишка.
Из боковых покоев, где лежал Яхмос, чуть слышно донеслось:
— В чем дело?
Мальчишка метнулся в открытую дверь и притаился возле ложа, на котором покоился Яхмос.
— Господин, они хотят меня пытать.
— Нет, нет. — Яхмос с трудом повернул голову, лежавшую на подголовнике из резного дерева. — Не обижайте ребенка. Он простодушен, но честен. Обещайте мне.
— Конечно, конечно, — заверил его Имхотеп. — В этом нет нужды. Нам и так ясно, что мальчишка сказал о том, что видел, — вряд ли он все это выдумал. Иди, дитя, только не уходи далеко. Побудь возле усадьбы, чтобы мы могли позвать тебя, если ты еще нам понадобишься.
Мальчишка поднялся на ноги, бросив жалостливый взгляд на Яхмоса.
— Ты болен, господин?
— Не бойся, — чуть улыбнулся Яхмос. — Я не умру. А сейчас иди, делай, как тебе велели.
Радостно улыбаясь, пастушок вышел. Жрец оттянул веки глаз Яхмоса, пощупал пульс. Потом, посоветовав ему заснуть, снова вышел в главный зал.
— По описанию мальчишки ты узнаешь, кто это? — спросил он у Имхотепа.
Имхотеп кивнул. Его отливающие темной бронзой щеки приобрели болезненно-лиловый оттенок.
— Только у Нофрет было платье из беленого холста. Эту новую моду она привезла из Северных Земель. Но всю ее одежду замуровали вместе с ней, — сказала Ренисенб.
— И три нитки бус с львиными головами из золота — это мой подарок, — признался Имхотеп. — Такого ожерелья больше ни у кого в доме нет. Оно было дорогим и необычным. Все ее украшения, кроме дешевых бус из сердолика, были погребены вместе с ней и замурованы в гробнице.
Он воздел руки к небу.
— За что мне столь жестокая кара? За что преследует меня и мстит мне женщина, к которой я благоволил, которую с почетом ввел в свой дом, а потом, когда она умерла, должным образом, не скупясь, совершил обряд ее погребения? Я делил с ней свою трапезу — свидетели могут поклясться в том. Ей не на что было жаловаться — я делал для нее больше, чем следует и подобает, и готов был пожертвовать ради нее благополучием кровных своих сыновей. Почему же приходит она из Царства мертвых, чтобы карать меня и мою семью?
— Мне кажется, — задумчиво отозвался Мерсу, — что усопшая не желает зла тебе. В вине, когда ты его пил, яда не было. Кто из твоей семьи нанес покойной тяжкое оскорбление?
— Женщина, которая сама уже умерла, — ответил Имхотеп.
— Понятно. Ты говоришь о жене твоего сына Яхмоса?
— Да. — Имхотеп вздохнул, а потом снова воззвал: — Что мне делать, достопочтенный Мерсу? Как воспрепятствовать злой воле усопшей, которая жаждет мести? Будь проклят тот день, когда я впервые привел эту женщину к себе в дом!
— Да, будь проклят тот день! — низким голосом отозвалась Кайт, появившись в дверях, ведущих в женские покои.
Глаза ее опухли от слез, а на невыразительном лице запечатлелись такая сила и решительность, что оно стало значительным. Низкий и хриплый голос ее дрожал от гнева.
— Будь проклят тот день, когда ты привел Нофрет в наш дом, Имхотеп, ибо тем самым ты обрек на смерть самого умного и самого красивого из своих сыновей! Она убила Сатипи и Себека, она чуть не отправила на тот свет Яхмоса. Кто следующий? Пощадит ли она детей — она, которая посмела толкнуть мою маленькую Анх? Нужно что-то предпринять, Имхотеп!
— Да, нужно что-то предпринять, — эхом отозвался Имхотеп, с мольбой глядя на жреца.
Жрец с пониманием кивнул.
— Пути и способы существуют, Имхотеп. Владея доказательствами того, что произошло, мы можем начать действовать. Я имею в виду твою покойную жену Ащайет. Она была родом из влиятельной семьи. Она может воззвать к могущественным силам в Царстве мертвых, которые встанут на твою защиту и над которыми у Нофрет нет власти. Будем держать совет, как приступить к исполнению нашего замысла.
— Только не советуйтесь чересчур долго, — коротко рассмеялась Кайт. — Мужчины все одинаковы. Да, даже жрецы. Рабски следуют правилам и законам. Торопитесь, говорю я вам, иначе смерть поразит еще кого-нибудь в нашем доме.
С этими словами она скрылась в женских покоях.
— Хорошая женщина, — пробормотал Имхотеп. — Преданная мать, послушная жена, но порой она ведет себя неподобающим образом по отношению к главе дома. Конечно, в такую минуту это простительно. Мы все потрясены и не отдаем отчета своим поступкам.
Он обхватил голову руками.
— Некоторые из нас слишком часто не отдают отчета своим поступкам, — заметила Иза.
Имхотеп бросил на нее раздраженный взгляд. Лекарь собрался уходить, и Имхотеп проводил его до галереи, выслушивая последние наставления о том, как следует ухаживать за больным Яхмосом.
Ренисенб вопросительно взглянула на бабушку. Иза сидела неподвижно. Выражение хмурой задумчивости на лице было столь необычно для нее, что Ренисенб робко спросила:
— О чем ты задумалась, бабушка?
— Ты нашла точное слово, Ренисенб. В нашем доме происходят такие странные события, что нельзя не задуматься.
— И правда, события ужасные. Мне так страшно, — вздрогнув, призналась Ренисенб.
— И мне тоже, — сказала Иза. — Хотя, быть может, совсем по другой причине.
И привычным движением сдвинула набок накладные волосы.
— Но Яхмос выжил, — заметила Ренисенб. — Все обошлось.
— Да, — кивнула Иза. — Главный лекарь успел к нему вовремя. В другой раз ему может не повезти.
— По-твоему, такое может случиться снова?
— Я думаю, что Яхмосу, тебе, Ипи, да, пожалуй, и Кайт следует быть очень осторожными в еде и питье. Пусть сначала кто-нибудь из рабов пробует каждое блюдо.
— А тебе, бабушка?
Иза улыбнулась своей иронической улыбкой.
— Я, Ренисенб, старуха и люблю жизнь так, как умеют ее любить старики, наслаждаясь каждым часом, каждым мигом, которые им еще суждено прожить. Изо всех нас больше всего возможности остаться в живых у меня, потому что я куда более осторожна, нежели вы.
— А мой отец? Не может же Нофрет желать зла моему отцу?
— Твоему отцу?.. Не знаю… Да, не знаю. Я пока не во всем разобралась. Завтра, когда я как следует все продумаю, я еще раз поговорю с пастухом. В его рассказе есть что-то такое…
И, нахмурившись, она умолкла. Потом, вздохнув, поднялась и, опираясь на палку, заковыляла к себе.
А Ренисенб направилась в покои, где лежал брат. Он спал, и она тихо вышла. Постояв секунду в нерешительности, она пошла к Кайт. И, незамеченная, остановилась на пороге, наблюдая, как Кайт, напевая, укачивает ребенка. Лицо Кайт снова было спокойным и безмятежным — настолько, что на мгновенье все трагические события последних суток показались Ренисенб лишь сном.
Она вернулась в свои покои. На столике среди коробочек и горшочков с маслами и притираниями лежала принадлежавшая Нофрет маленькая шкатулка для украшений.
Ренисенб смотрела на нее, держа на ладони, и думала. Этой шкатулки касалась Нофрет, брала ее в руки. Она принадлежала ей.
И снова жалость к Нофрет охватила Ренисенб. Нофрет была несчастна. И, наверное, держа эту шкатулку в руках и думая о том, как она несчастна, разжигала в себе злобу и ненависть… Даже сейчас эта ненависть не угасла… Нофрет еще жаждет мести… О нет, нет!
Почти машинально Ренисенб расстегнула обе застежки и сдвинула крышку. Внутри лежали сердоликовые бусы, половинка разломанного надвое амулета и что-то еще…
Сердце у Ренисенб отчаянно колотилось, когда она вынула из шкатулки ожерелье из золотых бусинок с золотыми львами, свисающими посередине…
Глава 15 Первый месяц лета, 30-й день
1
Эта находка очень напугала Ренисенб.
Она сразу же положила ожерелье обратно в шкатулку, задвинула крышку и застегнула застежки. Ее первым порывом было никому не говорить о своей находке, и она даже боязливо оглянулась по сторонам, желая убедиться, что никто ничего не видел.
Ренисенб провела бессонную ночь, ворочаясь с боку на бок и никак не находя для головы удобного положения на резном деревянном подголовнике.
К утру она приняла решение с кем-нибудь поделиться своим открытием. Уж слишком тяжко было хранить его в тайне. Дважды за ночь она приподнималась посмотреть, не стоит ли Нофрет возле ее кровати. Нет, в покоях никого не было.
Вынув ожерелье с львиными головами из шкатулки, Ренисенб укрыла его в складках своего одеяния. И едва успела это сделать, как в покой к ней ворвалась Хенет с горящими от радостного возбуждения глазами — она могла поведать свежую новость.
— Только представь, Ренисенб, — ну не ужас ли? — мальчишку, этого пастуха, знаешь, нашли нынче утром крепко спящим возле кукурузного поля, его трясли и кричали ему в ухо, но, видно, он никогда больше не Проснется. Словно напился макового настоя, — может, так и было — но если так, кто ему дал этого настоя? Из наших никто, я уверена. И вряд ли он отыскал его сам. Вчера еще следовало бы это предусмотреть. — Хенет схватилась за один из своих многочисленных амулетов. — Да защитит нас Амон от злых духов из Царства мертвых! Мальчишка рассказал нам, что видел. Признался, что видел ее. Значит, она вернулась и напоила его маковым настоем, чтобы его глаза закрылись навсегда. О, она очень могущественна, эта Нофрет! Она ведь, знаешь, побывала и в других странах. И там, наверное, обучилась колдовству. Нам грозит опасность, всем без исключения. Твой отец должен принести в жертву Амону несколько волов, целое стадо, если понадобится, — сейчас не время скупиться. Нам нужно искать защиты. Обратиться к твоей матери — вот что Имхотеп хочет сделать. Так посоветовал жрец Мерсу. Написать послание в Царство мертвых. Хори сейчас составляет его. Поначалу твой отец хотел взывать к Нофрет, просить ее, знаешь, вот так: «Превосходнейшая Нофрет, в чем моя вина пред тобою, что ты…», и так далее. Но верховный жрец Мерсу сказал, этим не отделаешься. Твоя мать Ашайет была из знатной семьи. Брат ее матери был правителем, а ее собственный брат главным виночерпием у великого визиря[50] в Фивах. Как только ей станет известно о наших бедах, она уж постарается сделать так, чтобы простой наложнице не было позволено губить ее детей. И тогда справедливость восторжествует. Вот Хори сейчас и составляет послание к ней.
«Надо разыскать Хори, — подумала Ренисенб, — и рассказать о найденном ожерелье со львами. Но если Хори составляет послание, да еще вместе со жрецами из храма Исиды, то поговорить с ним наедине вряд ли удастся. Пойти к отцу? Без толку», — покачала головой Ренисенб. Она уже давно утратила свою детскую веру во всемогущество отца. Теперь она знала: в минуту трудности он приходит в отчаяние и, вместо того чтобы проявить твердость и решительность, напускает на себя важный вид. Не будь Яхмос болен, она могла бы поговорить с ним, хотя и сомневалась в его способности дать мало-мальски разумный совет. Наверное, стал бы убеждать ее довести все до сведения Имхотепа.
А этого-то, все отчетливее сознавала Ренисенб, во что бы то ни стало следовало избежать. Первое, что сделал бы Имхотеп, — это оповестил о случившемся всех вокруг. А Ренисенб инстинктивно чувствовала необходимость сохранить свое открытие в тайне, хотя вряд ли сумела бы объяснить, по какой именно причине.
Нет, только Хори может дать ей правильный совет. Хори всегда знает, как поступить. Он заберет у нее ожерелье, а вместе с ожерельем исчезнут тревога и страх. Он посмотрит на нее своими добрыми печальными глазами, и у нее сразу станет легко на сердце…
На миг у Ренисенб родилось искушение довериться Кайт. Нет. Кайт ничем не поможет, она даже слушать как следует не умеет. Конечно, если увести ее подальше от детей… Нет, бесполезно, Кайт славная, но глупая.
«Остаются еще Камени и бабушка, — пришло на ум Ренисенб. — Камени?..» Было что-то заманчивое в том чтобы рассказать обо всем Камени. Она отчетливо представила себе его лицо, сначала оживленное и веселое, потом озабоченное… Ему станет тревожно за нее, а может, вовсе не за нее?
Откуда это закравшееся вдруг подозрение, что Нофрет и Камени были более близкими друзьями, нежели казалось с виду? Из-за того, что Камени помогал Нофрет поссорить Имхотепа с его семьей? Он клялся, что действовал вопреки собственной воле, но правда ли это? Дать слово ничего не стоит. Все, что Камени говорит, звучит искренне и правдиво. Его смех так заразителен, что хочется смеяться вместе с ним. Походка у него легкая, плечи смуглые и гладкие, и, когда он поворачивает голову, глядя на нее… Когда его глаза смотрят на нее… Ренисенб смутилась от собственных мыслей. Глаза Камени не были похожи на глаза Хори, печальные и добрые. Его взгляд настойчивый, зовущий. Эти размышления заставили Ренисенб покраснеть, в глазах ее появился блеск. Нет, решила она, она не расскажет Камени о том, что нашла ожерелье Нофрет. Она пойдет к Изе. Иза удивила ее вчера. Пусть старая, но соображает она куда лучше остальных членов семьи, да и в сметливости ей не откажешь.
«Она старая, но знает, как поступить», — подумала Ренисенб.
2
При первых же словах об ожерелье Иза быстро огляделась по сторонам, приложив палец к губам, и протянула руку. Ренисенб извлекла из складок своего одеяния ожерелье и отдала его Изе. Та мгновение разглядывала его своими тусклыми глазами, а потом сунула куда-то себе в одежды.
— Ни слова больше о нем, — низким властным голосом распорядилась она. — Ибо любой разговор в этом доме слушают тысячи ушей. Я полночи не спала, все размышляла и пришла к выводу, что предстоит сделать многое.
— Отец и Хори пошли в храм Исиды посоветоваться с Мерсу насчет послания моей матери, в котором они хотят попросить ее вступиться за нас.
— Я знаю. Пусть твой отец занимается усопшими, нам же предстоит подумать о живых. Когда Хори вернется, приведи его ко мне. Нужно кое-что обговорить и обсудить, а Хори я доверяю.
— Хори скажет, что нам делать, — убежденно произнесла Ренисенб.
Иза с любопытством посмотрела на нее.
— Ты часто ходишь к нему наверх, а? О чем вы, Хори и ты, беседуете?
— О Ниле и о Египте… О том, как день переходит в ночь и как от этого меняется цвет песка и камней… Но очень часто мы вообще не разговариваем. Я просто сижу там в тишине, и мне так покойно, никто не бранится, не ходит попусту взад-вперед, не плачут дети. Я сижу и размышляю, и Хори мне не мешает. Порой я поднимаю глаза и ловлю его на том, что он смотрит на меня, и тогда мы оба улыбаемся… Мне радостно бывать там.
— Счастливая ты, Ренисенб, — отозвалась Иза. — Ты нашла такое счастье, какое живет у человека в его собственном сердце. Для большинства женщин оно состоит в чем-то малозначительном и будничном: в уходе за собственными детьми, в беседах и ссорах с подругами, в попеременной любви и ненависти к мужчине. Их счастье складывается из повседневных забот, нанизанных одна на другую, словно бусинки на нитку…
— И твоя жизнь была такой же, бабушка?
— В основном. Но теперь, когда я стала старой и большую часть времени провожу одна, когда я плохо вижу и с трудом передвигаюсь, я стала понимать, что, кроме жизни вокруг нас, существует жизнь внутри нас. Однако я уже слишком стара, чтобы сделать правильный выбор, и потому по-прежнему ворчу на свою маленькую рабыню, люблю полакомиться только что приготовленным, прямо с плиты, вкусным блюдом и всеми сортами хлеба, что мы печем, отведать спелого винограда и гранатового сока. Только это и осталось мне, когда ушло все остальное. Дети, которых я любила, уже все в Царстве мертвых. Твой отец, да поможет ему Ра, всегда был глуповат. Я любила его, когда он был малышом и только учился ходить, но сейчас он раздражает меня своей спесью и чванством. Из моих внуков я больше всех люблю тебя, Ренисенб… Кстати, а где Ипи? Я ни вчера, ни сегодня его не видела.
— Он очень занят. Отец поручил ему присматривать за уборкой зерна.
— Что, вероятно, пришлось по душе заносчивому мальчишке, — усмехнулась Иза. — Теперь будет расхаживать с важным видом. Когда он придет поесть, скажи ему, что я хочу его видеть.
— Хорошо, бабушка.
— А про остальное, Ренисенб, молчи…
3
— Ты хотела видеть меня, Иза?
Ипи стоял с цветком в белоснежных зубах и, чуть склонив голову набок, нагло улыбался. Он, по-видимому, был весьма доволен собой и жизнью в целом.
— Если ты готов пожертвовать минутой твоего драгоценного времени, — сказала Иза, сощурив глаза, чтобы получше видеть внука, и оглядывая его с головы до ног.
Ее резкий тон не произвел на Ипи ни малейшего впечатления.
— Да, я и вправду очень занят нынче. Мне приходится присматривать за всем хозяйством, поскольку отец ушел в храм.
— Молодой шакал лает громче других, — заметила Иза.
Но Ипи остался невозмутим.
— Неужели ты позвала меня только для того, чтобы сказать это?
— Нет, не только. Для начала позволь тебе напомнить, что у нас в доме траур. Тело твоего брата Себека уже бальзамируют. А у тебя на лице такая радость, будто наступил праздник.
Ипи усмехнулся.
— Ты ведь не терпишь лицемерия, Иза. Зачем же принуждаешь меня кривить душой? Тебе известно, что мы с Себеком друг друга недолюбливали. Он изо всех сил старался досадить мне и заставлял делать то, что мне не нравится. Обращался со мной как с ребенком. В поле поручал самую унизительную работу, которая под силу даже детям. Часто дразнил меня и смеялся надо мной. А когда отец решил наделить меня вместе со старшими братьями правами на владение его имуществом, Себек убедил его этого не делать.
— Откуда ты знаешь, что именно Себек убедил его?
— Мне сказал Камени.
— Камени? — подняла брови Иза и, сдвинув набок накладные волосы, почесала голову. — Значит, Камени? Очень интересно.
— Камени сказал, что услышал об этом от Хенет, а Хенет, как известно, все знает.
— Тем не менее, — сухо заметила Иза, — на этот раз Хенет ошиблась. Оба, и Себек и Яхмос, не сомневаюсь, считали, что ты слишком молод для участия в управлении хозяйством, но твоего отца убедила я, а не они.
— Ты, бабушка? — Ипи уставился на нее с искренним удивлением. Потом мрачно насупился, и цветок упал на пол. — Зачем ты это сделала? Какое тебе до всего этого дело?
— Дела моей семьи — это и мои дела.
— И отец послушался тебя?
— Не сразу, — ответила Иза. — Но я преподам тебе урок, внук мой. Женщины идут не проторенным, а окольным путем и способны научиться, если не обладают этим даром от рождения, пользоваться слабостями мужчин. Ты, может, помнишь, что я как-то по вечерней прохладе прислала на галерею Хенет с игральной доской?
— Помню. Мы с отцом принялись играть. Ну и что с того?
— А вот что. Вы сыграли трижды. И всякий раз, поскольку ты играешь лучше, ты выигрывал у отца.
— Верно.
— Вот и все, — сказала Иза, прикрывая глаза. — Твой отец, как все слабые игроки, не любит проигрывать, да еще такому щенку, как ты. Тогда он сразу припомнил мои слова и решил, что еще рано брать тебя в совладельцы.
С минуту Ипи не сводил с нее глаз. Потом расхохотался — не очень, правда, весело.
— Ты умница, Иза, — сказал он. — Да, ты, может, и старая, но очень умная. В этой семье только у нас с тобой есть мозги. В нашей игре первую партию выиграла ты. На во второй, увидишь, победу одержу я. Поэтому берегись, бабушка.
— Так я и намерена поступить, — откликнулась Иза. — А в ответ на твои слова позволь мне в свою очередь посоветовать тебе поберечься. Одного из твоих братьев уже нет в живых, второй чуть не умер. Ты тоже сын своего отца, а поэтому и тебя может ждать та же участь.
Ипи презрительно рассмеялся.
— Я этого не боюсь.
— Почему? Ты тоже угрожал Нофрет и оскорблял ее.
— Нофрет? — В его голосе явно слышалось пренебрежение.
— Что у тебя в мыслях? — вдруг спросила Иза.
— Мои мысли оставь мне, бабушка. Могу заверить тебя, что Нофрет и ее загробные проделки меня мало волнуют. Пусть вытворяет что хочет.
За его спиной раздался вопль, и в покои ворвалась Хенет.
— Самонадеянный юнец! — воскликнула она. — Бросить вызов усопшей! После всего, что произошло? И на тебе даже нет амулета, чтобы защитить себя!
— Защитить? Я сам себя сумею защитить. Прочь с дороги, Хенет! Меня ждут дела. Эти ленивые землепашцы наконец-то почувствуют руку настоящего хозяина.
И, оттолкнув Хенет, Ипи удалился.
Иза не стала слушать жалобы и сетования Хенет.
— Перестань ныть, Хенет. Может, Ипи и знает, что делает. Во всяком случае, ведет он себя довольно странно. Лучше скажи мне вот что: говорила ли ты Камени, что это Себек убедил Имхотепа не включать Ипи в число совладельцев?
— Я слишком занята делами по дому, — снова по привычке запричитала Хенет, — чтобы бегать и с кем-то вести беседы, а уж меньше всего с Камени. Я бы с ним и словом не перекинулась, если бы он сам не затеял со мной разговора. Он умеет расположить к себе, ты не можешь не признать этого, Иза, и не я одна думаю так… Если молодая вдова хочет снова выйти замуж, она обычно выбирает себе красивого молодого человека, хотя я не совсем представляю, как отнесется к этому Имхотеп. Камени всего-навсего младший писец.
— Это не имеет отношения к делу! Говорила ли ты ему, что именно Себек был против того, чтобы Ипи включили в число совладельцев?
— По правде говоря, Иза, я не помню, было это сказано или нет. Во всяком случае, я не ходила и не искала, с кем бы об этом поговорить. Но слухи всегда найдут себе дорогу, к тому же ты сама знаешь, что Себек кричал, да и Яхмос заявлял, между прочим, тоже, только не так громко и не так часто, что Ипи еще ребенок и что это ни к чему хорошему не приведет, и потому Камени сам мог слышать эти слова, а не выведать их у меня.
Я никогда не занимаюсь сплетнями, но язык дан человеку, чтобы говорить, а я, между прочим, не глухонемая.
— Да, уж в этом я не сомневаюсь, — согласилась Иза. — Но язык, Хенет, порой может стать и оружием. Язык может оказаться причиной смерти, и не одной. Надеюсь, твой язык, Хенет, еще не лишил никого жизни.
— Как ты можешь такое говорить, Иза! И что у тебя в мыслях? Все, что я когда-либо говорила, я готова поведать целому миру. Я так предана вашей семье, что готова сама умереть за любого из вас. Но никто не ценит мою преданность. Я обещала их дорогой матери…
— Ха, — перебила ее Иза, — наконец-то мне несут жирную куропатку с приправой из порея и петрушки. Пахнет очень вкусно, значит, сварили на славу. Раз уж ты так нам предана, Хенет, попробуй кусочек — на тот случай, если туда положили отраву.
— Иза! — издала очередной вопль Хенет. — Отраву! И как у тебя язык поворачивается говорить подобные вещи! Ее же варили у нас на кухне!
— Все равно кому-нибудь придется попробовать, — сказала Иза. — На всякий случай. Лучше тебе, Хенет, поскольку ты готова умереть за любого из нас. Не думаю, что смерть будет слишком мучительной. Ешь, Хенет. Посмотри, какая куропатка сочная, жирная и вкусная. Нет, спасибо, я не хочу лишиться моей маленькой рабыни. Она еще совсем юная и веселая. У тебя же лучшие годы уже позади, Хенет, и ничего страшного не произойдет, если с тобой что и случится. Ну-ка, открой рот… Вкусно, не правда ли? Что это ты прямо позеленела от страха? Тебе что, не понравилась моя шутка? Видать, нет. Ха-ха-ха!
И Иза покатилась со смеху, потом, вдруг сделавшись серьезной, принялась с жадностью за свое любимое блюдо.
Глава 16 Второй месяц лета, 1-й день
1
После долгих споров и множества исправлений послание было наконец составлено, и Хори вместе с двумя храмовыми писцами записал его на свитке папируса.
Первый шаг был сделан.
Жрец подал знак зачитать послание вслух.
— «Лучшему среди достойнейших духу Ашайет!
Прими весть от твоего брата и мужа. Не забыла ли сестра своего брата? Не забыла ли мать рожденных ею детей? Разве не ведомо достойнейшей Ашайет, что ее чадам угрожает злой дух? Уже Себек, ее сын, отравленный ядом, ушел в Царство Осириса.
В земной жизни я чтил тебя, одаривал украшениями и нарядами, душистыми маслами и благовониями, дабы ты умащивала ими свое тело. Я делил с тобой свою трапезу, и мы сидели в мире и согласии перед столами, уставленными яствами. Когда одолел тебя злой недуг, я не жалел расходов, дабы излечить тебя, и призвал самого искусного лекаря. Тебя погребли с почестями, совершив все положенные обряды и снабдив тебя всем необходимым в загробной жизни: фигурками слуг и волов, едой и питьем, украшениями и одеждами — все это замуровали вместе с тобой. Я скорбел по тебе долгие годы и только много лет спустя взял себе наложницу, чтобы жить, как подобает еще не старому мужчине.
И вот эта наложница теперь чинит зло твоим детям. Известно ли тебе об этом? Быть может, ты пребываешь в неведении? Нет сомнения, если бы Ашайет знала об этом, она тотчас бы поспешила на помощь сыновьям, рожденным ею.
Может статься, Ашайет все известно и наложница Нофрет творит зло, потому что владеет искусством колдовства? Ибо сомнения нет, это происходит против твоей воли, о достойнейшая Ашайет. А потому вспомни, что в Царстве мертвых у тебя есть знатные родственники и могущественные помощники — великий и благородный Ипи, главный виночерпий визиря. Взывай к нему о помощи! А также брат твоей матери, великий и могучий Мериптах, бывший правитель нашей провинции. Поведай ему о том, что произошло. И да повелит он устроить суд и призвать свидетелей. И они поклянутся, что Нофрет сотворила зло. И тогда судьи решат наказать Нофрет и повелят ей не чинить больше зла нашей семье.
О достойнейшая Ашайет, не гневайся на своего брата Имхотепа за то, что, следуя злым наветам этой женщины, грозился он совершить несправедливость по отношению к твоим родным детям! Будь милостива, ведь не он один страдает, но и твои дети тоже. Прости твоего брата Имхотепа, ибо взывает он к тебе во имя твоих детей».
Главный писец кончил читать. Мерсу кивнул в знак одобрения.
— Послание составлено должным образом. Ничего, по-моему, не упущено.
Имхотеп встал.
— Благодарю тебя, достославный Мерсу. Мои дары — скот, масло и лен — прибудут к тебе завтра до захода солнца. Может, мы сейчас условимся о дне церемонии возложения урны с посланием в поминальном зале гробницы?
— Пусть это произойдет через три дня. На урне следует сделать надпись, а также приготовить все необходимое для торжественного обряда.
— Как сочтешь нужным. Главное, чтобы ничего дурного больше не случилось.
— Я хорошо понимаю твою озабоченность, Имхотеп. Но отныне позабудь о страхе. Дух добрейшей Ашайет наверняка откликнется на это послание, а ее родственники, обладающие властью и могуществом, помогут ей восстановить справедливость там, где она была так грубо попрана.
— Да поможет нам Исида! Благодарю тебя, Мерсу, и за помощь, и за то, что ты излечил моего сына Яхмоса. Пойдем домой, Хори, нас ждут дела. Это послание сняло тяжесть с моей души. Достойнейшая Ашайет не оставит в беде своего несчастного брата.
2
Когда Хори со свитками папируса в руках вошел за ограду усадьбы, у водоема его поджидала Ренисенб.
— Хори! — бросилась она к нему.
— Да, Ренисенб?
— Пойдем со мной к Изе. Она зовет тебя.
— Сейчас. Позволь только я посмотрю, не захочет ли Имхотеп…
Но Имхотепом уже завладел Ипи, и отец с сыном о чем-то тихо беседовали.
— Подожди, я положу эти свитки на место, и мы пойдем с тобой к Изе, Ренисенб.
Иза обрадовалась, увидев пришедших.
— Вот Хори, бабушка. Я сразу привела его к тебе, как только он появился.
— Отлично. Как на дворе, тепло?
— По-моему, да, — удивилась Ренисенб.
— Тогда подай мне палку. Я пройдусь по двору.
Ренисенб была в недоумении: Иза крайне редко выходила из дому. Под руку она провела старуху через главные покои на галерею.
— Сядешь здесь, бабушка?
— Нет, дитя мое. Я дойду до водоема.
Иза шла медленно, но, хотя и хромала, уверенно продвигалась вперед и не жаловалась на усталость. Оглядевшись, она выбрала место, где возле пруда в приветливой тени фигового дерева была разбита небольшая цветочная клумба.
Усевшись, она с удовлетворением заметила:
— Наконец-то мы можем поговорить так, чтобы никому не удалось нас подслушать.
— Ты рассуждаешь мудро, Иза. — В голосе Хори слышалось одобрение.
— То, о чем мы будем говорить, не должен знать никто, кроме нас троих. Я доверяю тебе, Хори. Ты появился у нас в доме еще ребенком. И всегда был преданным, скромным и умным. Ренисенб самая любимая моя внучка. Пусть зло обойдет ее стороной, Хори.
— Зло не коснется ее, Иза.
Хори произнес эти слова тихо, но тон, каким они были сказаны, выражение его лица и взгляд, каким он встретил взгляд старухи, ее вполне удовлетворили.
— Хорошо сказано, Хори, спокойно, без излишней горячности, как и подобает человеку, который своих слов на ветер не бросает. А теперь расскажи мне, что вы делали сегодня.
Хори объяснил, как было составлено послание, и пересказал его содержание. Иза слушала внимательно.
— А теперь послушай меня, Хори, и посмотри вот на это. — Она вытащила из складок платья ожерелье со львами. — Скажи ему, Ренисенб, где ты нашла это ожерелье, — добавила она. Ренисенб сказала. — Ну, Хори, что ты об этом думаешь? — спросила Иза.
— Ты старше и умнее меня, Иза, — помолчав, сказал Хори. — Что думаешь ты? — спросил он.
— Я вижу, ты из тех людей, Хори, кто не спешит что-либо утверждать, не имея твердых доказательств. Ты с самого начала знал, как умерла Нофрет?
— Я подозревал правду, Иза, но это было всего лишь подозрение.
— Именно. И сейчас это всего лишь подозрение. Но здесь, вне стен дома, мы можем не бояться высказать наши подозрения, о которых потом, разумеется, лучше умолчать. Я думаю, есть три объяснения случившимся событиям. Первое — пастух сказал правду, он и в самом деле видел Нофрет, вернувшуюся из Царства мертвых с жестоким намерением отомстить за себя и причинить новое горе нашей семье. Может, так оно и было — жрецы, и не только они, утверждают, что такое возможно, да и мы все знаем, что болезни, например, насылаются на людей злыми духами. Но я старая женщина и не обязана верить всему, что говорят жрецы, а потому считаю, что могут быть и другие объяснения.
— Какие же? — спросил Хори.
— Предположим, что Сатипи и вправду убила Нофрет, что через какое-то время на том же месте та привиделась Сатипи, и Сатипи в ужасе от сознания собственной вины бросилась со скалы и разбилась насмерть. Все это более-менее ясно. Теперь перейдем к тому, что было дальше: некто по причине, нам пока неизвестной, решил убить двух сыновей Имхотепа. Замыслив это сделать, убийца надеялся, что его преступление из суеверного страха припишут Нофрет, что и произошло.
— Но кто вознамерился бы убить Яхмоса и Себека? — вскричала Ренисенб.
— Не слуги, — сказала Иза, — они бы на это никогда не осмелились. Значит, круг людей, которых можно было бы заподозрить, совсем невелик.
— Выходит, это кто-то из нас? Бабушка, такого быть не может!
— Спроси у Хори, — сухо отозвалась Иза. — Ты видишь, он мне не возразил.
— Хори, — обратилась к нему Ренисенб, — неужели…
Хори мрачно кивнул головой.
— Ренисенб, ты молода и доверчива. Ты считаешь, что все, кого ты знаешь и любишь, таковы, какими они тебе представляются. Ты даже не подозреваешь, сколько жестокости и зла может гнездиться в человеческом сердце.
— Но кто из нас…
— Вернемся к истории, поведанной нам пастухом, — вмешалась Иза. — Он видел женщину в полотняном одеянии с ожерельем на шее, которое носила Нофрет. Если это не призрак, значит, он видел именно то, что рассказывал, то есть видел женщину, которая хотела, чтобы в ней узнали Нофрет. Это могла быть Кайт, могла быть Хенет и, наконец, могла быть ты, Ренисенб! С такого расстояния кто угодно может сойти за женщину, если надеть женское платье и накладные волосы. Подожди, дай мне договорить. Возможно, пастух солгал. Он поведал нам историю, которой его научили. Он выполнял волю человека, который имел право ему приказать, даже не понимая по слабости ума, что его подкупили или уговорили так поступить. Этого нам никогда не узнать, потому что мальчишка умер — что само по себе уже кое о чем свидетельствует. Это-то и навело меня на мысль, что мальчишка рассказывал то, чему его научили. Если бы потом его стали выспрашивать поподробнее, он мог бы проговориться — имея немного терпения, нетрудно узнать, сказал ребенок правду или солгал.
— Значит, ты считаешь, что убийца среди нас? — спросил Хори.
— Да, — ответила Иза. — А ты?
— Я тоже так считаю, — сказал Хори.
Ренисенб, ошеломленная, переводила взгляд от одного к другому.
— Но мотив так и остается неясным, — продолжал Хори.
— Согласна, — отозвалась Иза. — Вот это-то меня и тревожит. Я не знаю, над кем теперь нависла угроза.
— Убийца среди нас? — недоверчиво переспросила Ренисенб.
— Да, Ренисенб, среди нас, — сурово ответила Иза. — Хенет или Кайт, Ипи или Камени, а то и сам Имхотеп. Кроме того, Иза, или Хори, или даже, — улыбнулась она, — Ренисенб.
— Ты права, Иза, — согласился Хори. — В этот список мы должны включить и себя.
— Но зачем убивать? — В голосе Ренисенб звучали удивление и страх. — Зачем?
— Знай мы это, мы бы знали все, что нам требуется, — сказала Иза. — Пока же мы можем рассуждать о действиях только тех, кто оказался жертвой. Себек, если вы помните, подошел к Яхмосу уже после того, как Яхмос начал пить. Отсюда совершенно ясно, что тот, кто отравил вино, рассчитывал убить Яхмоса, но вот хотел ли он также убить и Себека?..
— Но кому понадобилось убить Яхмоса? — недоумевала Ренисенб. — Из всех нас он самый спокойный и добрый, а потому вряд ли у него есть враги.
— Отсюда следует, что преступление совершено не из личной неприязни, — сказал Хори. — Как говорит Ренисенб, Яхмос не из тех, кто наживает себе врагов.
— Да, — согласилась Иза, — личная неприязнь исключается. Значит, либо это вражда ко всей семье, либо преступником движет алчность, против которой нас предостерегают поучения Птахотепа. Она соединение всех зол и вместилище всех пороков.
— Я понимаю ход твоих мыслей, Иза, — заметил Хори. — Но чтобы прийти к какому-либо заключению, мы должны рассудить, кому выгодна смерть Яхмоса.
Иза согласно затрясла головой, отчего ее накладные волосы сползли ей на ухо. Как ни смешно она выглядела, никто даже не улыбнулся.
— Что ж, попробуй ты, Хори, — сказала она.
Какое-то время Хори молчал, глаза его были задумчивы. Женщины терпеливо ждали. Наконец он заговорил:
— Если бы Яхмос умер, как кто-то рассчитывал, тогда главными наследниками стали бы два сына Имхотепа — Себек и Ипи. Часть имущества, конечно, отошла бы детям Яхмоса, но управление хозяйством было бы в руках сыновей Имхотепа, прежде всего в руках Себека. Больше всех, несомненно, выгадал бы от этого Себек. Надо думать, что в отсутствие Имхотепа он выполнял бы также обязанности жреца заупокойной службы, а после его смерти унаследовал бы эту должность. Но хотя Себек выгадал бы больше других, преступником он быть не может, ибо сам так жадно пил отравленное вино, что умер. Поэтому, насколько я понимаю, смерть двух братьев могла пойти на пользу только одному человеку, — в данный момент, разумеется, — и этот человек — Ипи.
— Правильно, — согласилась Иза. — Я вижу, Хори, ты умеешь рассуждать и смотреть на несколько ходов вперед. Теперь давай поговорим про Ипи. Он молод и нетерпелив; у него во многом дурной характер; он в том возрасте, когда исполнение его желаний кажется самым важным на свете. Он возмущался и сердился на старших братьев, считая, что его несправедливо обошли, исключив из числа совладельцев. А тут еще Камени подогрел его чувства…
— Камени? — спросила Ренисенб. И в ту же секунду вспыхнула и закусила губу.
Хори повернул голову и взглянул на нее. Этот долгий, проницательный, но добрый взгляд необъяснимым образом ранил ее. Иза, вытянув шею, уставилась на Ренисенб.
— Да, — ответила Иза. — Камени. Под влиянием Хе-нет или нет — это уже другой вопрос. Ипи честолюбив и самонадеян, он не желает признавать над собой власть старших братьев и явно считает себя, как он уже давно мне сказал, гораздо умнее остальных членов семьи, — невозмутимо завершила Иза.
— Он тебе так сказал? — спросил Хори.
— Он весьма любезно признал, что только у нас с ним есть мозги, как он выразился.
— По-твоему, Ипи отравил Яхмоса и Себека? — с сомнением в голосе потребовала ответа Ренисенб.
— Я полагаю, что это не исключено, не более того. Сейчас мы ведем разговор о подозрениях — доказательств у нас пока нет. Испокон веку алчность и ненависть вдохновляли людей на убийство своих близких, и люди совершали убийства, хотя им было известно, что боги этого не одобряют. И если отраву в вино всыпал Ипи, нам нелегко будет уличить его, ибо Ипи, охотно признаю, очень неглуп.
Хори кивнул в знак согласия.
— Но здесь, под фиговым деревом, мы ведем разговор пока лишь о подозрениях. А потому нам предстоит обсудить поведение всех наших домочадцев. Как я уже сказала, слуг я исключаю, ибо даже на мгновенье не могу поверить, что кто-либо из них осмелился на такой поступок. Но я не исключаю Хенет.
— Хенет? — воскликнула Ренисенб. — Но Хенет так искренне нам предана. Она то и дело твердит об этом.
— Лгать не труднее, нежели говорить правду. Я много лет знаю Хенет. Впервые я увидела ее, когда она приехала в наш дом с твоей матерью. Она приходилась ей дальней родственницей, бедной и несчастной. Муж так и не полюбил ее — она всегда была нехороша собою — и вскоре покинул. Единственный ребенок умер в раннем возрасте. Явившись к нам, она заверяла твою мать в своей преданности, но я видела ее глаза, когда она следила, как твоя мать ходит по дому и по двору, и я говорю тебе, Ренисенб, в них не было любви. Они горели завистью. А что касается ее преданности всем нам, то я в нее не верю.
— Скажи мне, Ренисенб, — вмешался Хори, — а ты сама испытываешь привязанность к Хенет?
— Нет, — не сразу ответила Ренисенб. — Хотя часто корю себя за то, что не люблю ее.
— Не кажется ли тебе, что причиной этому неискренность, которую ты подспудно чувствуешь? Подтвердила ли она хоть раз свою любовь к вам на деле? Не она ли постоянно вносит раздор в семью, наушничая и нашептывая пересуды, которые только ранят душу и вызывают гнев?
— Да-да, все это верно.
Иза издала сухой смешок.
— У тебя, оказывается, неплохие глаза и уши, достойнейший Хори.
— Но отец ей доверяет и благоволит к ней, — не сдавалась Ренисенб.
— Мой сын всегда был дураком, — сказала Иза. — Мужчины любят, когда им льстят, вот Хенет и расточает лесть, подобно благовонному бальзаму, который щедро раздают, готовясь к пирам. Ему она, может, и в самом деле искренне предана, но к остальным, уверена, никакой любви не испытывает.
— Но не решится же она… Не решится же она убивать, — сопротивлялась Ренисенб. — Для чего ей сыпать отраву в вино? Какая ей от этого польза?
— Никакой. А вот для чего… мы понятия не имеем, какие у Хенет мысли. Не знаем, что она думает, что чувствует. Но за ее подобострастием и раболепством, по-моему, кроется нечто весьма необычное. А если так, то подоплеки ее действий нам с тобой и Хори не понять.
Хори кивнул.
— Иногда порча кроется глубоко внутри. Я уже однажды говорил Ренисенб об этом.
— А я не поняла тебя, — отозвалась Ренисенб. — Но теперь мне кое-что стало понятно. Началось это все с появления Нофрет. Еще тогда, заметила я, мы все перестали быть такими, какими были раньше. Я испугалась… А сейчас, — она беспомощно развела руками, — страх царит кругом…
— Страх вызван неведением, — сказал Хори. — Как только все прояснится, Ренисенб, страх исчезнет.
— Есть еще и Кайт, — продолжала Иза.
— При чем тут Кайт? — возмутилась Ренисенб. — Кайт ни за что не стала бы убивать Яхмоса. Это невероятно.
— Невероятного не существует, — сказала Иза. — Это, по крайней мере, я постигла за свою долгую жизнь. Кайт — удивительно тупая женщина, а я всегда не доверяла тупицам. Они опасны. Они видят только то, что вблизи, что их окружает, и могут сосредоточить свое внимание на чем-то одном. Кайт живет в собственном мире, который состоит из нее самой, ее детей и Себека, который был отцом ее детей. Ей вполне могло прийти в голову, что смерть Яхмоса сделает ее детей богаче. Себеком Имхотеп часто бывал недоволен — он был безрассудным, непослушным, дерзким. Имхотеп мог положиться только на Яхмоса. Но если бы Яхмоса не стало, Имхотепу пришлось бы полагаться на Себека. Вот так примитивно она, по-моему, могла бы рассудить.
Ренисенб вздрогнула. Сама того не желая, она распознала в словах Изы суть характера Кайт. Ее мягкость и нежность, ее спокойствие и любовь были направлены только на собственных детей. Помимо себя, своих детей и Себека, для нее никого не существовало. Все остальное в этом мире не вызывало у нее ни любопытства, ни интереса.
— Но ведь должна же была она сообразить, — начала Ренисенб, — что вернется Себек, захочет пить, как и случилось, и нальет себе вина?
— Нет, — сказала Иза, — не обязательно. Кайт, как я уже сказала, глупа. Она видела только то, что хотела бы видеть: Яхмос пьет вино и умирает, что потом объясняют колдовством жестокой и прекрасной Нофрет. Она представляла себе только одну возможность, исключая всякую иную, и, поскольку вовсе не желала смерти Себеку, то ей и в голову не приходило, что он может неожиданно вернуться.
— А получилось так, что Себек умер, а Яхмос остался жив?! Как ей, должно быть, тяжко, если все произошло так, как ты предполагаешь.
— Такое часто бывает с глупыми людьми, — заметила Иза. — Затевают они одно, а получается совсем другое. — Она помолчала, а потом продолжала: — А теперь переходим к Камени.
— Камени? — Ренисенб постаралась ничем не выказать своего волнения или протеста. И снова смутилась под взглядом Хори.
— Да, не принимать в расчет Камени мы не можем. Мы не знаем, есть ли у него причины нанести нам вред, но что нам вообще известно о нем? Он приехал с севера, из тех же земель, что и Нофрет. Он помогал ей — охотно или неохотно, кто может сказать? — настроить Имхотепа против родных детей. Я иногда наблюдала за ним, но, должна признаться, не знаю, что он собой представляет. В целом он кажется мне обычным молодым человеком, далеко не простодушным… Помимо того, что он красив, есть в нем что-то притягательное для женщин. Да, женщинам Камени всегда будет нравиться, но тем не менее, по-моему, он не из тех, кто способен полюбить кого-то всем сердцем. Он весел и беспечен, и, когда умерла Нофрет, незаметно было, чтобы он горевал.
Но так видится со стороны. Кто может сказать, что происходит в человеческом сердце? Человек с твердым характером способен на любую роль… Может, Камени тяжко горюет по погибшей Нофрет и жаждет отомстить за нее? Раз Сатипи убила Нофрет, пусть погибнет Яхмос, ее муж. И Себек, который угрожал ей, а потом, может, и Кайт, докучавшая ей мелкими пакостями, и Ипи, который тоже ненавидел ее. Все это кажется невероятным, но кто знает?
Иза умолкла и посмотрела на Хори.
— Кто знает, Иза?
Иза уставилась на него хитрыми глазами.
— Может, ты знаешь, Хори? Тебе думается, ты знаешь, не так ли?
Хори, подумав, ответил:
— Да, у меня есть свое, хотя пока недостаточно твердое, мнение, кто и зачем положил в вино отраву… И я не совсем понимаю… — Он опять задумался, потом, нахмурившись, покачал головой. — Нет, неопровержимых доказательств у меня нет.
— Но ведь мы ведем разговор о подозрениях. Так что можешь говорить, Хори.
Однако Хори снова покачал головой.
— Нет, Иза. Это всего лишь догадка, неясная догадка… И если она верна, то тебе лучше ее не знать. Ибо знать опасно. То же самое относится и к Ренисенб.
— Значит, и тебе грозит опасность, Хори?
— Да… По-моему, Иза, опасность грозит нам всем — меньше других, пожалуй, Ренисенб.
Некоторое время Иза смотрела на него молча.
— Многое я бы дала, — наконец сказала она, — чтобы проникнуть в твои мысли.
Хори ответил не сразу. Некоторое время он размышлял.
— Мысли человека можно распознать только по его поведению. Если человек ведет себя странно, непривычно, если он сам не свой…
— Тогда ты начинаешь его подозревать? — спросила Ренисенб.
— Как раз нет, — ответил Хори. — Человек, который замышляет злодеяние, понимает, что ему во что бы то ни стало следует это скрыть. Поэтому он не может позволить себе вести себя необычно…
— Мужчина? — спросила Иза.
— Мужчина или женщина — все равно.
— Ясно, — отозвалась Иза. Потом, окинув его внимательным взглядом, она спросила: — А мы? В чем можно заподозрить нас троих?
— Вот в чем, — сказал Хори. — Мне, например, очень доверяют. Составление сделок и сбыт урожая в моих руках. В качестве писца я имею дело со счетами. Предположим, я кое-что подделал, как в той истории… в Северных Землях, которую раскрыл Камени. Затем Яхмос заметил, что счета не сходятся, у него возникли подозрения, и мне пришлось заставить его замолчать. — И он чуть улыбнулся собственным словам.
— О Хори, — воскликнула Ренисенб, — зачем ты все это говоришь? Ни один человек, из тех, кто тебя знает, этому не поверит.
— Позволь напомнить тебе, что ни один человек не знает другого до конца.
— А я? — спросила Иза. — В чем можно заподозрить меня? Да, я старая. А старые люди порой выживают из ума. И начинают ненавидеть тех, кого раньше любили. Могло случиться так, что я возненавидела своих внуков и решила их изничтожить. Такого рода недуг, внушенный злыми духами, иногда поражает стариков.
— А я? — задала вопрос Ренисенб. — Зачем мне убивать брата, которого я люблю?
— Если бы Яхмос, Себек и Ипи умерли, — ответил Хори, — ты одна осталась бы у Имхотепа. Он нашел бы тебе мужа и все свое состояние отдал бы тебе. И ты с твоим мужем были бы опекунами детей Яхмоса и Себека. Но здесь, под фиговым деревом, мы ни в чем не подозреваем тебя, Ренисенб, — улыбнулся он.
— И под фиговым деревом, и не под фиговым деревом мы любим тебя, — заключила Иза.
Глава 17 Второй месяц лета, 1-й день
1
— Значит, ты выходила из дома? — спросила Хенет, когда Иза, прихрамывая, вошла в свои покои. — Уже год, как ты этого не делаешь.
Ее глаза не отрываясь следили за Изой.
— У старых людей бывают капризы, — сказала Иза.
— Я видела, как ты сидела у водоема с Хори и Ренисенб.
— Что ж, мне приятно было с ними посидеть. А бывает когда-нибудь, что ты чего-либо не видишь, Хенет?
— Не понимаю, о чем ты, Иза. Ты там сидела напоказ всему свету.
— Но недостаточно близко, чтобы всему свету было слышно? — усмехнулась Иза.
— И отчего ты так не любишь меня, Иза? — сердито заверещала Хенет. — Вечно ты со своими намеками и подковырками. Я слишком занята наведением порядка в доме, чтобы подслушивать чужие разговоры. И какое мне дело, о чем люди беседуют?
— И вправду, какое тебе дело?
— Если бы не Имхотеп, который по-настоящему ценит меня…
— Что если бы не Имхотеп? — резко перебила ее Иза. — Ты зависишь от Имхотепа, верно? Случись что-либо с Имхотепом…
— С Имхотепом ничего не случится! — в свою очередь перебила ее Хенет.
— Откуда ты знаешь, Хенет? Разве в нашем доме так уж небезопасно? Уже пострадали и Яхмос и Себек.
— Это правда. Себек умер, а Яхмос чуть не умер…
— Хенет! — наклонилась вперед Иза. — Почему ты произнесла эти слова с улыбкой?
— Я? С улыбкой? — Иза застигла Хенет врасплох. — Тебе это показалось, Иза! Разве я позволю себе улыбаться в такую минуту… когда мы говорим о смерти!
— Я вправду вижу очень плохо, — сказала Иза, — но я еще не совсем ослепла. Иногда мне помогает луч света, иногда я прищуриваюсь и вижу вполне сносно. Бывает, люди, убежденные, что я плохо вижу, в разговоре перестают следить за собой и позволяют себе не скрывать своих истинных чувств, чего при иных обстоятельствах ни за что бы не допустили. Поэтому спрашиваю тебя еще раз: почему ты улыбалась такой довольной улыбкой?
— Твои слова возмутительны, Иза, возмутительны!
— А теперь ты испугалась!
— Кто же не ведает страха, когда в доме творятся такие чудовищные дела? — завизжала Хенет. — Мы все живем в страхе, потому что из Царства мертвых нам на мучение возвратились злые духи. Но я-то знаю, кто тебя настрополил: ты наслушалась Хори. Что он сказал тебе про меня?
— А что Хори известно про тебя, Хенет?
— Ничего… Лучше спроси, что известно мне про него.
Взгляд Изы стал напряженным.
— А что тебе известно?
— А, вы все презираете бедную Хенет! Вы считаете ее уродливой и глупой. Но я-то знаю, что происходит! Я много чего знаю. Я знаю все, что делается в этом даме. Может, я и глупа, но я соображаю, что к чему. И вижу порой дальше, чем умники вроде Хори. Когда мы с Хори встречаемся, он смотрит куда-то мимо меня, будто я вовсе и не существую, будто он видит не меня, а что-то за моей спиной, а там на самом деле ничего нет. Лучше бы он смотрел на меня, вот что я скажу! Он считает, что я пустое место, что я глупая, но иногда глупые знают больше, чем умные. Сатипи тоже мнила себя умной, а где она сейчас, хотелось бы мне знать?
И Хенет торжествующе умолкла. Потом почему-то встревожилась и съежилась, пугливо поглядывая на Изу.
Но Иза, по-видимому, погрузилась в собственные мысли. На лице ее попеременно отражалось то глубокое удивление, то страх, то замешательство.
— Сатипи… — медленно и задумчиво начала она.
— Прости меня, Иза, — опять заныла Хенет, — прости, я просто вышла из себя. Не знаю, что на меня нашло. Ничего подобного у меня и в мыслях нет…
Вскинув глаза, Иза перебила ее:
— Уходи, Хенет. Есть у тебя в мыслях то, что ты сказала, или нет, не имеет никакого значения. Но ты сказала нечто такое, что вызвало у меня новые раздумья… Иди, Хенет, и предупреждаю тебя, будь осторожна в своих словах и поступках. Хотелось бы, чтобы у нас в доме никто больше не умирал. Надеюсь, тебе это понятно.
2
Вокруг один страх…
Во время беседы у водоема эти слова сорвались с губ Ренисенб случайно. И только позже она поняла их смысл.
Она направилась к Кайт и детям, которые играли возле беседки, но заметила, что сначала бессознательно замедлила шаги, а потом и вовсе остановилась.
Ей было страшно подойти к Кайт, взглянуть на ее некрасивое тупое лицо и вдруг увидеть на нем печать убийцы. Тут на галерею выскочила Хенет, кинувшаяся затем обратно в дом, и возросшее чувство неприязни к ней заставило Ренисенб изменить свое намерение войти в дом. В отчаянии она повернулась к воротам, ведущим со двора, и столкнулась с Ипи, который шагал, высоко держа голову, с веселой улыбкой на дерзком лице.
Ренисенб поймала себя на том, что не сводит с него глаз. Ипи, балованное дитя в их семье, красивый, но своенравный ребенок — таким она запомнила его, когда уезжала с Хеем…
— В чем дело, Ренисенб? Чего ты уставилась на меня?
— Разве?
Ипи расхохотался.
— У тебя такой же придурковатый вид, как у Хенет.
— Хенет вовсе не придурковатая, — покачала головой Ренисенб. — Она очень даже себе на уме.
— Злющая она, вот это я знаю точно. По правде говоря, она всем давно надоела. Я намерен от нее избавиться.
— Избавиться? — прошептала она, судорожно глотнув ртом воздух.
— Дорогая моя сестра, что с тобой? Ты что, тоже видела злых духов, как этот жалкий полоумный пастух?
— У тебя все полоумные!
— Мальчишка-то уж определенно был слабоумным. Сказать по правде, я терпеть не могу слабоумных. Чересчур много их развелось. Небольшое, должен признаться, удовольствие, когда тебе сплошь и рядом докучают тугодумы братья, которые дальше своего носа ничего не видят?! Теперь, когда их на моем пути нет и дело придется иметь только с отцом, увидишь, как все изменится! Отец будет делать то, что я скажу.
Ренисенб подняла на него глаза. Он был красив и самоуверен, как никогда раньше. От него веяло такой жизненной силой и торжеством, что она даже удивилась. Самонадеянность, по-видимому, помогала ему пребывать в самом радужном состоянии духа, не ведать страха и сомнений.
— Не оба моих брата убраны с твоего пути, как ты изволил выразиться. Яхмос жив.
Ипи посмотрел на нее презрительным и насмешливым взглядом.
— Думаешь, он поправится?
— А почему нет?
Ипи расхохотался.
—, Почему нет? Хотя бы потому, что я так не думаю. С Яхмосом все кончено — еще какое-то время он, может, и поползает по дому, посидит на солнышке да постонет. Но он уже не мужчина. Он немного оправился, но, сама увидишь, лучше ему не станет.
— Почему это? — рассердилась Ренисенб. — Лекарь сказал, что через некоторое время он будет здоровым и сильным, как прежде.
— Лекари не все знают, — пожал плечами Ипи. — Они только умеют рассуждать с умным видом да вставлять в свою речь непонятные слова. Ругай, если угодно, коварную Нофрет, но Яхмос, твой дорогой Яхмос обречен.
— А ты сам ничего не боишься, Ипи?
— Боюсь? Я? — Ипи расхохотался, откинув назад красивую голову.
— Нофрет не очень-то жаловала тебя, Ипи.
— Мне нечего бояться, Ренисенб, если, конечно, я сам не полезу в пекло! Я еще молод, но я один из тех, кому от рождения предназначено преуспевать. И запомни, Ренисенб: ты не прогадаешь, если примешь мою сторону, слышишь? Ты часто относилась ко мне как к безответственному мальчишке. Теперь я стал другим. И с каждым днем ты все больше и больше будешь в этом убеждаться. Скоро, очень скоро господином в этом доме буду я. Отец, может, и будет отдавать приказы, и звучать будет его голос, но исходить они будут от меня! — Он сделал шаг-другой, остановился и через плечо бросил: — Поэтому будь осторожна, Ренисенб, чтобы мне не пришлось разочароваться в тебе.
Ренисенб смотрела ему вслед, когда за ее спиной раздались шаги. Она повернулась и увидела Кайт.
— Что сказал Ипи, Ренисенб?
— Он сказал, что скоро будет господином в этом доме, — проговорила Ренисенб.
— Вот как? А по-моему, все произойдет как раз наоборот.
3
Ипи легко взбежал по ступенькам на галерею и вошел в дом. При виде Яхмоса, покоившегося на ложе, он, не скрывая радости, весело спросил:
— Как дела, брат? Неужто нам больше не суждено видеть тебя в поле? Удивительно, как это наше хозяйство без тебя окончательно не развалилось?
Яхмос еле слышно, но с раздражением в голосе отозвался:
— Не знаю, в чем дело. Отрава из меня уже вышла. Почему же не возвращаются силы? Сегодня утром я попробовал встать, но ноги совсем меня не держат. Я ослабел… И худо то, что с каждым днем слабею все больше.
Ипи покачал головой в притворном сочувствии.
— Да, плохо. И лекари ничего не в силах сделать?
— Помощник Мерсу приходит каждый день. Не может понять, что со мной. Он возносит богам заклинания, поит меня крепкими настоями из трав. Для меня готовят особую еду, которая восстанавливает силы. Нет причины, уверяет меня лекарь, почему бы мне не поправиться быстро. А я чахну день ото дня.
— Да, плохо дело, — повторил Ипи.
И, тихонько напевая, пошел дальше, пока не наткнулся на отца и Хори, которые были заняты проверкой счетов.
Лицо Имхотепа, осунувшееся и озабоченное, просветлело, когда он увидел своего любимого младшего сына.
— А вот и мой Ипи. Какие у тебя новости?
— Все в порядке, отец. Начали уборку ячменя. Урожай хороший.
— Да, по милости Ра на полях все идет превосходно. Неплохо, если бы и в доме было так. Но я надеюсь на Ашайет — не думаю, что она откажет нам в помощи в трудный час. Вот только Яхмос меня беспокоит. Откуда у него эта слабость, которой не видно конца?
— Яхмос всегда был хилым, — отозвался Ипи.
— Ничего подобного, — стараясь говорить мягко, возразил Хори. — Яхмос отличался отменным здоровьем.
— Здоровье зависит от силы духа, — настаивал Ипи. — А Яхмос никогда ею не обладал. Он даже боялся отдавать распоряжения.
— Последнее время это было совсем не так, — сказал Имхотеп. — Последние месяцы Яхмос проявил себя как человек, умеющий действовать на свой страх и риск. Я был просто удивлен. Но эта его слабость в ногах меня крайне беспокоит. Мерсу уверял, что, как только яд из него выйдет, Яхмос тотчас пойдет на поправку.
Хори отодвинул от себя какие-то бумаги.
— Бывают и другие яды, — тихо заметил он.
— Что ты хочешь этим сказать? — круто повернулся к нему Имхотеп.
— Есть яды, — спокойно и задумчиво сказал Хори, — которые действуют не сразу и не сильно. В этом их коварство. Такой яд, каждый день попадая в тело человека, накапливается там, и после долгих месяцев угасания наступает смерть… Про такие яды знают женщины; они пользуются ими, когда хотят извести супруга так, чтобы смерть его казалась естественной.
Имхотеп побледнел.
— Ты хочешь сказать, что… в этом причина слабости Яхмоса?
— Я хочу сказать, что такая возможность не исключается. И то, что его еду, когда ее приносят из кухни, всякий раз пробует раб, ничего не значит, ибо количество яда в каждом блюде настолько мало, что сразу не оказывает вредного воздействия.
— Чепуха! — громко сказал Ипи. — Полная чепуха! Я не верю, что существуют такие яды. Никогда о них не слышал.
Хори поднял глаза.
— Ты еще очень молод, Ипи. Тебе пока известно далеко не обо всем.
— Но что нам делать? — воскликнул Имхотеп. — Мы обратились с посланием к Ашайет. Мы сделали подношения храму, хотя храмовым жрецам я не очень-то доверяю. Это женщины на них надеются. Что еще можно предпринять?
— Пусть еду Яхмосу всегда готовит один заслуживающий доверия раб, за которым следует постоянно наблюдать.
— Но это означает… что здесь, в моем доме…
— Вздор! — закричал Ипи. — Сущий вздор!
Хори поднял брови.
— Давайте попробуем, — предложил он. — И очень быстро узнаем, вздор это или нет.
Ипи в раздражении выбежал из главных покоев. Хори задумчиво смотрел ему вслед. Лицо его было хмурым и озадаченным.
4
Ипи выбежал так стремительно, что чуть не сбил с ног Хенет.
— Прочь с пути, Хенет! Вечно ты болтаешься по дому и лезешь куда не следует!
— Какой ты невоспитанный, Ипи. Ушиб мне руку.
— И очень хорошо. Мне надоели и ты сама, и вечное твое нытье. Чем скорее ты навсегда уберешься из нашего дома, тем лучше. Уж я постараюсь, чтобы это случилось.
— Значит, ты меня выгоняешь, да? — Глаза Хенет блеснули злобой. — Это притом какой заботой и любовью я всю жизнь вас окружала? Это притом, что я всегда преданно вам служила? Твоему отцу об этом очень хорошо известно.
— Он наслышан об этом досыта. И мы тоже. По-моему, ты просто старая сплетница и всегда старалась посеять раздор в нашей семье. Ты помогала Нофрет плести заговор против нас — об этом всем известно. А когда она умерла, ты снова стала подлизываться к нам. Увидишь, скоро отец будет слушать только меня, а не твои лживые басни.
— Ты не в духе, Ипи. Что тебя так рассердило?
— Не твое дело.
— Ты чего-то боишься, а, Ипи? Странные вещи происходят в этом доме.
— Меня ты не напугаешь, старая ведьма!
И он бросился мимо нее вон из дома.
Хенет медленно повернулась, чтобы войти в дом, и услышала стон. Яхмос с трудом приподнялся на своем ложе и сделал попытку встать. Но ноги не держали его, и, если бы не Хенет, кинувшаяся ему на помощь, он упал бы на пол.
— Не спеши, Яхмос, не спеши. Ложись обратно.
— Какая ты сильная, Хенет. Вот уж чего не скажешь, глядя на тебя. — Он устроился поудобнее, положил голову на деревянный подголовник. — Спасибо. Что со мной? Откуда у меня такое ощущение, будто из тела ушла вся сила?
— Это все потому, что наш дом заколдован. Это сделала та дьяволица, что явилась к нам с севера. Оттуда, известно, добра не жди.
— Я умираю, — вдруг упав духом, пробормотал Яхмос. — Да, умираю…
— Кое-кому суждено умереть до тебя, — мрачно произнесла Хенет.
— Что? О чем ты говоришь? — Он приподнялся на локте и уставился на нее.
— Я знаю, что говорю, — закивала головой Хенет. — Следующая очередь не твоя. Подожди, сам увидишь.
5
— Почему ты избегаешь меня, Ренисенб?
Камени загородил ей дорогу. Ренисенб залилась краской, не зная, что сказать в ответ. Она и вправду старалась свернуть в сторону, когда замечала, что навстречу идет Камени.
— Почему? Скажи, Ренисенб, почему?
Но у нее еще не было ответа, а потому она только безмолвно помотала головой. Затем подняла глаза и посмотрела ему прямо в лицо. Ее пугала мысль, что и он тоже изменился. И с радостным удивлением отметила, что он все тот же, только глаза его смотрят на нее с грустью, и на губах нет прежней улыбки.
Встретив его взгляд, она опустила глаза. Камени всегда вызывал в ней какую-то тревогу. Когда он оказывался рядом, она чувствовала волнение. Сердце у нее забилось быстрее.
— Я знаю, почему ты избегаешь меня, Ренисенб.
— Я… Я вовсе не избегаю тебя, — наконец обрела она голос. — Я просто тебя не заметила.
— Ты говоришь неправду, красавица Ренисенб! — Теперь он улыбался. Не видя его лица, она поняла это по голосу и почувствовала на своей руке его теплую сильную руку.
— Не трогай меня, — отпрянув, сказала она. — Я не люблю, когда до меня дотрагиваются.
— Почему ты сторонишься меня, Ренисенб? Ты ведь понимаешь, что происходит между нами. Ты молодая, сильная, красивая. Противно воле природы всю жизнь горевать по покойному мужу. Я увезу тебя из этого дома. В нем поселились смерть и злые духи… Ты поедешь со мной и будешь в безопасности.
— А если я не захочу ехать? — отважилась спросить Ренисенб.
Камени рассмеялся. Его ровные белые зубы сверкали на солнце.
— Но ведь ты хочешь поехать, только стыдишься в этом признаться. Жизнь прекрасна, Ренисенб, когда сестра и брат живут вместе. Я буду любить тебя и сделаю счастливой, а ты станешь «плодоносной пашней мне, твоему господину». Я не буду больше взывать к Птаху: «Любимую дай мне сегодня вечером», а пойду к Имхотепу и скажу: «Отдай мне мою сестру Ренисенб». Но здесь тебе оставаться опасно, а потому я увезу тебя на север. Я хороший писец, меня возьмут в любой богатый дом в Фивах, если я захочу, хотя, признаться, мне больше по душе сельская жизнь — поля, скот, песни крестьян во время уборки урожая и небольшая лодка на реке. Мне бы хотелось катать тебя по реке, Ренисенб. И Тети мы возьмем с собой. Она красивая, здоровая девочка, я буду любить ее и постараюсь быть ей хорошим отцом. Ну, Ренисенб, что ты мне скажешь?
Ренисенб молчала. Она слышала стук своего сердца, ощущала истому во всем теле. Но вместе со стремлением к Камени рождалась странная неприязнь к нему.
«Только он дотронулся до моей руки, как слабость завладела мной… — думала она. — Потому что он сильный… У него широкие плечи… На губах всегда улыбка… Но я не знаю, о чем он думает, что у него в душе и на сердце. Нет между нами нежности… Мне тревожно рядом с ним… Что мне нужно? Не знаю… Но не это… Нет, не это…»
И тут вдруг она услышала свой голос. Но даже ей самой ее собственные слова показались неуверенными и неубедительными.
— Мне не нужен второй муж… Я хочу быть одна… Сама собой…
— Нет, Ренисенб, это не так. Ты не должна быть одна. Посмотри, как дрожит твоя рука в моей…
Ренисенб вырвала у него свою руку.
— Я не люблю тебя, Камени. По-моему, я тебя ненавижу.
Он улыбнулся.
— Меня это не страшит, Ренисенб. Твоя ненависть так похожа на любовь. Мы еще поговорим об этом.
И удалился легкой быстрой поступью — так движется молодая газель.
А Ренисенб тихим шагом направилась к пруду, где Кайт играла с детьми.
Кайт заговорила с ней, но Ренисенб, занятая своими мыслями, отвечала невпопад.
Кайт, однако, этого не заметила, как обычно, все ее внимание было обращено на детей.
Внезапно, нарушив воцарившееся молчание, Ренисенб спросила:
— Как ты думаешь, Кайт, выйти мне снова замуж?
— По-моему, да, — равнодушно отозвалась Кайт, не выказывая большой заинтересованности. — Ты молодая и здоровая, Ренисенб, и сможешь родить еще много детей.
— Разве в этом вся жизнь женщины, Кайт? Быть занятой по дому, рожать детей и сидеть с ними на берегу водоема в тени фиговых деревьев?
— Только в этом для женщины и есть смысл жизни, разве ты не знаешь? Ты ведь не рабыня. В Египте настоящая власть в руках женщин: они рожают детей, которые наследуют владения отцов. Женщины — источник жизненной силы Египта.
Ренисенб задумчиво посмотрела на Тети, которая, нахмурившись от усердия, плела своей кукле венок из цветов. Было время, когда Тети, выпячивая нижнюю губу и чуть наклоняя набок голову, так походила на Хея, что у Ренисенб от боли и любви замирало сердце. А теперь и лицо Хея не всплывало в памяти Ренисенб, и Тети больше не выпячивала губу и не наклоняла набок голову. Раньше были минуты, когда Ренисенб, страстно прижимая к себе Тети, чувствовала, что ребенок — это часть ее собственного тела, ее плоть и кровь. «Она моя, моя — и больше ничья», — твердила она про себя.
Теперь же, наблюдая за Тети, Ренисенб думала: «Она — это я и Хей…»
Тети подняла глаза и, увидев мать, улыбнулась. Серьезная и ласковая улыбка. В ней были доверие и радость.
«Нет, она — это не мы с Хеем, она — это она, — подумала Ренисенб. — Это Тети. Она существует сама по себе, как я, как все мы. Если мы любим друг друга, мы будем друзьями всю жизнь, а если любви нет, то, когда она вырастет, мы станем чужими. Она — Тети, а я Ренисенб».
Кайт смотрела на нее с любопытством.
— Чего хочешь ты, Ренисенб? Я не понимаю.
Ренисенб ничего не ответила. Как облечь в слова то, что она сама едва понимала? Оглядевшись, она как бы заново увидела обнесенный стенами двор, ярко раскрашенные столбы галереи, неподвижную водную гладь водоема, стройную беседку, ухоженные цветочные клумбы и заросли папируса. Кругом мир и покой, доносятся давно ставшие привычными звуки: щебет детей, хриплые пронзительные голоса служанок в доме, отдаленное мычание коров. Бояться нечего.
— Отсюда не видно реки, — рассеянно произнесла она.
— А зачем на нее смотреть? — удивилась Кайт.
— Не знаю, — ответила Ренисенб. — Наверное, я сказала глупость.
Перед ее мысленным взором отчетливо встала панорама зеленых полей, покрытых густой сочной травой, позади которых раскинулась уходящая за горизонт даль удивительной красоты, сначала бледно-розовая, а потом аметистовая, прочерченная посредине серо-серебристой полосой — Нилом…
У нее перехватило дыхание от этого богатства красок. Все, что она видела и слышала вокруг, исчезло, сменившись чувством безграничного покоя и безмятежности.
«Если повернуть голову, — сказала она себе, — то я увижу Хори. Он оторвется от своего папируса и улыбнется мне… Скоро сядет солнце, станет темно, я лягу спать… И придет смерть».
— Что ты сказала, Ренисенб?
Ренисенб вздрогнула. Она и не заметила, что говорит вслух. И теперь, очнувшись, вернулась к действительности. Кайт с любопытством смотрела на нее.
— Ты сказала «смерть», Ренисенб. О чем ты думала?
— Не знаю, — покачала головой Ренисенб. — Я вовсе не… — Она снова огляделась вокруг. Как приятна была эта привычная сцена: плещется вода, рядом играют дети. Она глубоко вздохнула. — Как здесь спокойно. Нельзя даже представить себе, что может случиться что-то страшное.
Но именно здесь возле водоема на следующее утро нашли Ипи. Он лежал лицом в воде — чья-то рука, окунув его голову в воду, держала ее там, пока он не захлебнулся.
Глава 18 Второй месяц лета, 10-й день
1
Имхотеп сидел, бессильно ссутулившись. Выглядел он гораздо старше своих лет — убитый горем, сморщенный, жалкий старик. На лице застыли растерянность и смятение.
Хенет принесла ему еду и с трудом уговорила поесть.
— Тебе нужно поддерживать свои силы, Имхотеп.
— Зачем? Кому нужны эти силы? Ипи был сильным, сильным и красивым — а теперь он лежит мертвый… Мой сын, мой горячо любимый сын! Последний из моих сыновей.
— Нет, нет, Имхотеп, у тебя есть еще Яхмос, твой добрый Яхмос.
— Как долго он проживет? Он тоже обречен. Мы все обречены. Что за несчастье обрушилось на наш дом? Я и представить себе не мог, что ожидает нас, когда привел в свой дом наложницу. Ведь я поступил по обычаю, одобренному людьми и богами. Я почитал эту женщину. За что же мне такая кара? Или это месть Ашайет? Она не хочет даровать мне прощения? Она не вняла моему посланию, ибо беда не покидает наш дом.
— Нет, нет, Имхотеп, не говори так. Прошло еще совсем немного времени с тех пор, как урну с посланием поставили в поминальном зале. Разве мы не знаем, как долго вершатся у нас дела, требующие правосудия? Как их без конца откладывают в суде при дворе правителя и как еще дольше приходится ждать, пока они попадут в руки визиря? Правосудие вершится медленно и в царстве живых, и в царстве мертвых, но в конце концов справедливость восторжествует.
Имхотеп недоверчиво покачал головой. И тогда Хенет продолжала:
— Кроме того, Имхотеп, ты должен помнить, что Ипи не сын Ашайет, его родила тебе твоя сестра Ипи. Станет ли Ашайет так о нем печься? Вот с Яхмосом все будет по-другому. Яхмос поправится, потому что за него похлопочет Ашайет.
— Должен признаться, Хенет, твои слова меня утешают… В том, что ты говоришь, есть правда. К Яхмосу и правда с каждым днем возвращаются силы. Он хороший, надежный сын — но Ипи, такой отважный, такой красивый… — И Имхотеп снова застонал.
— Увы! Увы! — участливо всхлипнула Хенет.
— Будь проклята эта Нофрет с ее красотой! И зачем только довелось мне ее увидеть!
— Сущая правда, господин. Настоящая дочь Сета, я сразу поняла! Обученная колдовству и злым наговорам, нечего и сомневаться.
Послышался стук палки, и в главные покои, прихрамывая, вошла Иза.
— Все в этом доме с ума посходили, что ли? — иронически фыркнула она. — Что, вам делать больше нечего, как осыпать проклятьями приглянувшуюся тебе бедняжку, которая развлекалась тем, что пакостила и досаждала глупым женам твоих сыновей, потому что они по своей дурости сами ее на это толкали?
— Пакостила и досаждала? Вот, значит, как ты это называешь, Иза, когда из трех моих сыновей двое погибли, а один умирает? И ты, моя мать, еще упрекаешь меня!
— По-видимому, кому-то следует это сделать, ибо ты закрываешь глаза на то, что происходит на самом деле. Выкинь из головы глупую мысль о том, что все это творится по злому умыслу убитой женщины. Рука живого человека держала голову Ипи в воде, пока он не захлебнулся, и та же рука насыпала яд в вино, которое пили Яхмос и Себек. У тебя есть враг, Имхотеп, он здесь, в доме. А доказательством этому то, что с тех пор, как по совету Хори, еду Яхмосу готовит Ренисенб или раб под ее наблюдением, и она сама эту еду ему относит, с тех пор, говорю тебе я, Яхмос с каждым днем обретает здоровье и силу. Перестань быть дураком, Имхотеп, перестань стонать и сетовать, чему в немалой степени поспешествует Хенет…
— О Иза, ты несправедлива ко мне!
— Чему, говорю я, поспешествует Хенет, потому что она либо тоже дура, либо у нее на то есть причина…
— Да простит тебя Ра, Иза, за твою жестокость к бедной одинокой женщине!
Но Иза, угрожающе потрясая палкой, продолжала:
— Соберись с силами, Имхотеп, и начни думать. Твоя покойная жена Ашайет, которая была славной и неглупой женщиной, может, и использует свое влияние на том свете, чтобы помочь тебе, но уж едва ли она сумеет за тебя думать. Надо действовать, Имхотеп, ибо если мы этого не сделаем, смерть еще не раз проявит себя.
— Враг? Враг из плоти и крови в моем доме? Ты вправду этому веришь, Иза?
— Конечно, верю, потому что здравый смысл подсказывает мне только это.
— И, значит, нам всем грозит опасность?
— Конечно. Но не от злых духов или колдовства, а от человека, который сыплет яд в вино или крадется вслед за мальчишкой, возвращающимся из селения поздно вечером, и сует его головой в водоем.
— Для этого требуется сила, — задумчиво проронил Имхотеп.
— По-видимому, да, но я не очень в этом убеждена. Ипи напился в селении пива, плохо соображал, зато был самоуверен и бахвалился не в меру. Возможно, он вернулся домой, с трудом держась на ногах, и, когда встретил человека, который заговорил с ним, не испугался и сам наклонился к воде ополоснуть лицо. В таком случае большой силы не требуется.
— Что ты хочешь сказать, Иза? Что это сделала женщина? Нет, не могу поверить. Все, что ты говоришь, невероятно. В нашем доме не может быть врага, иначе мы бы давно о нем знали. По крайней мере, я бы знал!
— Вражда, которая таится в сердце, не всегда написана на лице.
— Ты хочешь сказать, что кто-то из слуг или рабов…
— Не слуга и не раб, Имхотеп!
— Кто-то из нас? Или Хори и Камени? Но Хори давно стал членом нашей семьи и заслуживает всяческого доверия. Камени мы почти не знаем, это правда, но он наш кровный родственник и верной службой доказал свою преданность. Более того, сегодня утром он пришел ко мне с просьбой отдать ему в жены Ренисенб.
— Вот как? — проявила интерес Иза. — И что же ты ответил?
— Что я мог ответить? — раздраженно спросил Имхотеп. — Сейчас для этого неподходящее время. Так я ему и сказал.
А как он к этому отнесся?
— Он сказал, что, по его мнению, сейчас самое время говорить о замужестве Ренисенб, потому что ей опасно оставаться в этом доме.
— Интересно, — задумалась Иза. — Очень интересно… А мы-то с Хори считали… Но теперь…
— Пристало ли устраивать свадебные и погребальные церемонии одновременно? — возмущенным тоном произнес Имхотеп. — Это неприлично. Вся провинция будет об этом судачить.
— Сейчас можно позабыть о приличиях, — возразила Иза. — Тем более что бальзамировщики, по-видимому, поселились у нас навечно. Боги, видно, благоволят к Ипи и Монту — они прямо разбогатели на нашей беде.
— Повысив свои цены еще на одну десятую, — тотчас подхватил Имхотеп. — Какая наглость! Они говорят, что их услуги подорожали.
— Нам бы они могли сделать скидку — мы так часто пользуемся их услугами, — мрачно усмехнулась Иза собственной шутке.
— Дорогая Иза, — в ужасе глянул на нее Имхотеп, — сейчас не время для веселья.
— Вся жизнь — сплошное веселье, Имхотеп, и смерть смеется последней. Разве не так говорят на пирах? Ешьте, пейте и веселитесь, ибо завтра вас уже не будет в живых. Это будто для нас сказано. Вопрос только: кому суждено умереть завтра?
— Даже слушать тебя страшно. Лучше скажи, что делать?
— Не доверять никому, — ответила Иза. — Это первое и самое главное. — И повторила: — Никому.
Хенет принялась всхлипывать.
— Почему ты смотришь на меня?.. Уж если кто и достоин доверия, то прежде всего я. Я доказала это долгими годами усердия. Не слушай ее, Имхотеп.
— Успокойся, дорогая Хенет, естественно, тебе я не могу не доверять. Я хорошо знаю, что у тебя честное, преданное сердце.
— Ничего ты не знаешь, — возразила Иза. — И никто из нас не знает. В этом-то вся опасность.
— Ты обвиняешь мен я, — ныла Хенет.
— Никого я не обвиняю. У меня нет ни улик, ни доказательств — одни подозрения.
Имхотеп бросил на нее пристальный взгляд.
— Ты подозреваешь — кого?
— Я уже подозревала раз, потом второй, потом третий, — медленно произнесла Иза, — Я буду откровенна. Сначала я подозревала Ипи, но Ипи умер, значит, я ошиблась. Потом я стала подозревать другого человека, но в тот самый день, когда Ипи умер, мне пришла в голову мысль о третьем…
Она помолчала.
— Хори и Камени в доме? Пошли за ними и вызови Ренисенб из кухни. Мне нужно кое-что сказать, и пусть меня слышат все в доме.
2
Иза оглядела собравшихся. Она увидела грустный добрый взгляд Яхмоса, белозубую улыбку Камени, вопрос в глазах Ренисенб, тупое безразличие Кайт, Загадочную непроницаемость на задумчивом лице Хори, раздражение и страх Имхотепа, у которого от волнения дергались губы, и жадное любопытство и… злорадство во взоре Хенет.
«Их лица ни о чем не говорят, — подумала она. — Они выражают только те чувства, что владеют ими сейчас. Но если моя догадка верна, преступник должен чем-то себя выдать».
А вслух сказала:
— Я должна сообщить кое-что вам всем. Но прежде здесь, в вашем присутствии, я хочу поговорить с Хенет.
Лицо Хенет сразу изменилось: с него словно стерли жадное любопытство и злорадство.
— Ты подозреваешь меня, Иза? — испуганно завизжала она. — Я так и знала! Ты выдвинешь против меня обвинение, и разве я, бедная и обделенная умом женщина, сумею защитить себя? Меня будут судить и приговорят к смерти, не дав раскрыть и рта.
— Раскрыть рот ты успеешь, не сомневаюсь, — усмехнулась Иза и увидела, как Хори улыбнулся.
— Я ничего не сделала… Я не виновна… — вопила Хенет, все больше впадая в истерику. — Имхотеп, дражайший мой господин, спаси меня… — Она распростерлась перед ним на полу, обхватив его колени руками.
Не находя слов от возмущения, Имхотеп гладил ее по голове и лепетал:
— В самом деле, Иза, я не согласен… Какой позор…
— Я ни в чем ее еще не обвинила, — оборвала его Иза. — Я не берусь обвинять, когда у меня нет доказательств. Я прошу только, чтобы Хенет объяснила нам смысл сказанных ею слов.
— Я ничего не говорила…
— Нет, говорила, — заявила Иза. — Сказанное тобою я слышала собственными ушами, а слух у меня, не в пример зрению, пока еще хороший. Ты сказала, что знаешь кое-что про Хори. Так вот я у тебя спрашиваю: что тебе известно про Хори?
— Да, Хенет, — сказал Хори, — что тебе про меня известно? Скажи нам.
Сидя на корточках, Хенет вытирала глаза. Потом мрачно окинула всех вызывающим взглядом.
— Ничего мне не известно, — ответила она. — Да и что я могу знать?
— Именно это нам и хотелось бы услышать от тебя, — сказал Хори.
Хенет пожала плечами.
— Я просто болтала, ничего не имея в виду.
— Я повторю тебе твои слова, — снова вмешалась Иза. — Ты сказала, что мы все тебя презираем, но что тебе известно многое из того, что делается в этом доме, и что ты видишь гораздо дальше, чем те, кто считает себя умниками. И еще ты сказала, что, когда вы с Хори встречаетесь, он смотрит куда-то мимо тебя, будто ты вовсе и не существуешь, будто он видит не тебя, а что-то за твоей спиной, а там на самом деле ничего нет.
— Он всегда так смотрит, — угрюмо откликнулась Хенет. — Как на букашку или на пустое место.
— Эта фраза мне запомнилась: «…что-то за твоей спиной, а там на самом деле ничего нет», — медленно произнесла Иза. — И еще Хенет сказала: «Лучше бы он смотрел на меня». И продолжала говорить о Сатипи, о том, что она мнила себя умной, вопрошая при этом: «А где она теперь?..»
Иза оглядела присутствующих.
— Улавливает ли кто-либо из вас в этом хоть какой-нибудь смысл? — спросила она. — Вспомните Сатипи, Сатипи, которая умерла… И что смотреть нужно на человека, а не на то, чего нет…
На секунду воцарилось мертвое молчание, и затем Хенет вскрикнула. Это был даже не крик, а вопль ужаса.
— Я не хотела… Спаси меня, господин… — бессвязно выкрикивала она. — Не позволяй ей… Я ничего не сказала, ничего.
С трудом сдерживаемый Имхотепом гнев наконец выплеснулся.
— Я не позволю… — заорал он. — Не позволю запугивать эту женщину. В чем ты ее обвиняешь? По твоим же словам, ни в чем.
— Отец прав, — без обычной для него робости твердо произнес Яхмос. — Если ты можешь в чем-то обвинить Хенет, говори.
— Я ее не обвиняю, — не сразу с трудом проговорила Иза.
Она оперлась на палку и вся как-то сразу сникла.
— Иза не обвиняет тебя в тех несчастьях, которые поразили наш дом, — с той же твердостью обратился Яхмос к Хенет, — но если я правильно ее понял, она считает, что ты что-то от нас утаиваешь. Поэтому, Хенет, если тебе что-либо известно о Хори или о ком-либо другом, сейчас самое время сказать. Здесь, в нашем присутствии. Говори. Что тебе известно?
— Ничего, — покачала головой Хенет.
— Ты уверена, что говоришь правду, Хенет? Смотри: знать нынче опасно.
— Я ничего не знаю. Клянусь великой Девяткой богов, клянусь богиней Маат, клянусь самим Ра.
Хенет дрожала. Из ее голоса исчезло свойственное ей нытье. В нем слышался неподдельный страх.
Иза глубоко вздохнула и совсем сгорбилась.
— Отведите меня в мои покои, — пробормотала она.
Хори и Ренисенб бросились к ней.
— Мне поможет Хори, — сказала Иза. — Ты оставайся здесь, Ренисенб.
Тяжело опираясь на Хори, она вышла из зала и, заметив его серьезный, но растерянный вид, прошептала:
— Что скажешь, Хори?
— Ты поступила рискованно, Иза. Очень рискованно.
— Я хотела знать.
— Да. Но это неоправданно большой риск.
— Понятно. Значит, и у тебя такая же мысль?
— Я уже давно об этом думаю, но у меня нет доказательств — ни малейшей зацепки. И у тебя, Иза, доказательств нет. Одни только догадки.
— Для меня этого вполне достаточно.
— Может, и более, чем достаточно.
— О чем ты? Ах да, понимаю.
— Остерегайся, Иза. Отныне тебе грозит опасность.
— Мы должны действовать немедленно.
— Да, но что мы можем предпринять? Нужны доказательства.
— Я понимаю.
Больше поговорить им не удалось. К Изе подбежала ее маленькая рабыня. Хори оставил ее на попечение девочки, а сам пошел обратно. Лицо его было мрачным и озабоченным.
Маленькая рабыня, что-то щебеча, суетилась вокруг Изы, но та почти не замечала ее. Она чувствовала себя старой и больной, ей было холодно… Перед ней вставали лица тех, кто напряженно слушал ее, пока она говорила.
Только в одном взгляде на мгновенье вспыхнули страх и понимание. Может, она ошибается? Уверена ли она в том, что заметила? В конце концов, глаза ее плохо видят…
Да, уверена. Скорей даже не взгляд, а то, как напряглось все лицо, отвердело, стало суровым. Только один человек понял ее бессвязные намеки, только он один безошибочно определил их истинный смысл…
Глава 19 Второй месяц лета, 15-й день
1
— Теперь, когда я тебе обо всем сказал, что ты ответишь, Ренисенб?
Ренисенб перевела нерешительный взгляд с отца на Яхмоса. Мысли ее были в беспорядке, в голове царила сумятица.
— Не знаю, — безучастно проронила она.
— В иное время, — продолжал Имхотеп, — это дело можно было бы обсудить не спеша. У меня есть другие родственники, мы могли бы выбрать тебе в мужья самого достойного из них. Но в нашем нынешнем положении мы не знаем, что будет завтра. — Голос его дрогнул, но он справился с собой: — Вот как обстоят дела, Ренисенб. Сегодня мы трое, Яхмос, ты и я, стоим перед лицом смерти. Кого из нас она выберет первым? Поэтому мне надлежит привести свои дела в порядок. Случись что-либо с Яхмосом, тебе, дочь моя, нужен рядом мужчина, который мог бы разделить с тобой оставленное мною наследство и выполнять те обязанности по управлению владениями, какие не в силах нести женщина. Ибо кому ведомо, в какую минуту мне суждено покинуть вас? Опеку и попечительство над детьми Себека я в своем завещании возложил на Хори, если Яхмоса к тому времени не будет в живых, то же самое касается и детей Яхмоса, поскольку он сам этого хочет, да, Яхмос?
Яхмос кивнул головой.
— Хори всегда был мне близок. Он почти член нашей семьи.
— Почти, — согласился Имхотеп, — но не совсем. А вот Камени наш кровный родственник. И потому он, исходя из всего вышесказанного, наиболее подходящий в теперешних условиях муж для Ренисенб. Итак, что скажешь, Ренисенб?
— Не знаю, — повторила Ренисенб.
Ей все это было безразлично.
— Он красивый и приятный молодой человек, ты согласна?
— О да.
— Но тебе не хочется выходить за него замуж? — участливо спросил Яхмос.
Ренисенб бросила на брата благодарный взгляд. Он не заставлял ее спешить с ответом, не принуждал делать то, что ей не по душе.
— Я и вправду не знаю, чего хочу. — И быстро продолжала: — Глупо, конечно, но я сегодня немного не в себе. Это… Это от напряжения, в котором мы живем.
— Рядом с Камени ты будешь чувствовать себя защищенной, — настаивал Имхотеп.
— А тебе не приходило в голову выдать Ренисенб за Хори? — спросил у отца Яхмос.
— Да, пожалуй…
— Его жена умерла, когда он был совсем молодым. Ренисенб хорошо его знает, и он ей нравится.
Пока мужчины разговаривали, Ренисенб сидела словно во сне. Хотя обсуждалось ее замужество и Яхмос старался помочь ей выбрать того, кого ей хотелось… однако она оставалась безучастной, как деревянная кукла Тети.
И вдруг, не дослушав, что они говорят, она перебила их:
— Я выйду замуж за Камени, если вы считаете, что так будет лучше.
Имхотеп с одобрительным восклицанием поспешно вышел из зала. А Яхмос подошел к сестре и положил руку ей на плечо.
— Ты этого хочешь, Ренисенб? И будешь счастлива?
— А почему нет? Камени красивый, веселый и добрый.
— Я знаю. — Но Яхмос все еще сомневался. — Важно, чтобы ты была счастлива, Ренисенб. Ты не должна безвольно следовать настояниям отца и делать то, к чему не лежит душа. Ты ведь знаешь, он всегда стремится настоять на своем.
— О да. Уж если он вобьет себе что-то в голову, всем нам остается только подчиняться.
— Совсем необязательно, — твердо возразил Яхмос. — Если ты не согласна, я ему не уступлю.
— О Яхмос, ты никогда не возражал отцу…
— А на этот раз возражу. Он не заставит меня согласиться с ним, я не допущу, чтобы ты была несчастлива.
Ренисенб посмотрела на него. Каким решительным было его обычно растерянное лицо!
— Спасибо тебе, Яхмос, — ласково сказала она, — но я поступаю так вовсе не по принуждению. Та прежняя жизнь здесь, та жизнь, к которой я была так рада вернуться, кончилась. Мы с Камени заживем новой жизнью и будем друг другу настоящими братом и сестрой.
— Если ты уверена…
— Я уверена, — сказала Ренисенб и, приветливо улыбнувшись, вышла из главных покоев. Потом пересекла внутренний двор. На берегу водоема Камени играл с Тети. Ренисенб осторожно подкралась и смотрела на них, пользуясь тем, что они ее не заметили. Камени, веселый, как всегда, был увлечен игрой не меньше, чем ребенок. Сердце Ренисенб потянулось к нему. «Он будет Тети хорошим отцом», — подумала она.
Тут Камени повернул голову и, увидев ее, с улыбкой поднялся с колен.
— Мы сделали куклу Тети жрецом «ка», — объяснил он. — Он совершает жертвоприношения и поминальные обряды.
— Его зовут Мериптах, — добавила Тети. Личико ее было очень серьезным. — У него двое детей и писец, как Хори.
Камени засмеялся.
— Тети большая умница, — сказал он. — И еще она сильная и красивая.
Он перевел глаза с ребенка на Ренисенб, и в их ласковом взгляде она прочла его мысли — о детях, которых она ему родит.
Это вызвало в ней неясное волнение и в то же время — пронзительную печаль. Ей хотелось бы в эту минуту видеть в его глазах только себя. «Почему он не думает обо мне?» — пришло ей в голову.
Но чувство это тут же исчезло, и она нежно улыбнулась ему.
— Отец разговаривал со мной, — сказала она.
— И ты ответила согласием?
— Да, — не сразу кивнула она.
Последнее слово было сказано. Все кончено и решено. Но почему она испытывает такую усталость и безразличие?
— Ренисенб!
— Да, Камени…
— Покатаемся по реке? Я все время мечтал побыть с тобой наедине в лодке.
Странно, что он заговорил о лодке. Ведь когда она впервые его увидела, перед ее мысленным взором встала река, квадратный парус и смеющееся лицо Хея. А теперь она уже не помнит лица Хея, и вместо него в лодке под парусом будет сидеть и смеяться Камени…
И все это натворила смерть. Только смерть. «Мне видится это», — говоришь ты, или: «Мне видится то», — но все это лишь слова, на самом деле ты ничего не видишь. Мертвые не оживают. Один человек не может заменить другого…
Зато у нее есть Тети. А Тети — это новая жизнь, как воды ежегодного разлива, которые уносят с собой все старое и готовят землю для нового урожая.
Что сказала Кайт? «Женщины нашего дома должны быть заодно»? Кто она, Ренисенб, в конце концов? Всего лишь одна из женщин этого дома — Ренисенб или какая-то другая женщина, не все ли равно?
И тут она услышала голос Камени — настойчивый, чуть обеспокоенный:
— О чем ты задумалась, Ренисенб? Ты иногда куда-то исчезаешь… Покатаемся в лодке?
— Да, Камени, покатаемся.
— Мы возьмем с собой и Тети.
2
Это похоже на сон, думала Ренисенб, — лодка под парусом, Камени, она и Тети. Им удалось уйти от смерти и страха перед смертью. Начиналась новая жизнь.
Камени что-то сказал, и она ответила, как во сне…
«Это моя жизнь, — думала она, — уйти от нее нельзя».
Потом растерянно: «Но почему я все время говорю „уйти“? Куда я могу уйти?»
И снова перед ее глазами предстал грот рядом с гробницей, где, подперев подбородок рукой, сидит она…
«Но то только в мыслях, а не в жизни. Жизнь здесь, и уйти от нее можно, лишь умерев…»
Камени причалил к берегу, и она вышла из лодки. Он сам вынес Тети. Девочка прильнула к нему, обхватив его за шею руками, и нитка, на которой висел его амулет, порвалась. Амулет упал к ногам Ренисенб. Это был знак жизни «анх»[51] из сплава золота с серебром.
— Ах, как жаль! — воскликнула Ренисенб. — Амулет погнулся. Осторожней, — предупредила она Камени, когда он взял его, — он может сломаться.
Но он своими сильными пальцами согнул его еще больше и сломал пополам.
— Зачем ты это сделал?
— Возьми одну половинку, Ренисенб, а я оставлю себе другую. Это будет означать, что мы две половинки единого целого.
Он протянул ей кусочек амулета, и, не успела она взять его в руку, как что-то пронзило ей память с такой отчетливостью, что она ахнула.
— В чем дело, Ренисенб?
— Нофрет!
— Что Нофрет?
Уверенная в своей догадке, Ренисенб убежденно заговорила:
— В шкатулке Нофрет тоже была половинка амулета. Это ты дал ей ту половинку… Ты и Нофрет… Теперь я все понимаю. Почему она была так несчастна. И знаю, кто принес шкатулку ко мне в комнату. Я знаю все… Не лги мне, Камени. Говорю тебе, я знаю.
Но Камени и не пытался ничего отрицать. Он стоял и смотрел ей прямо в глаза. А когда заговорил, голос у него был глухим и теперь с его лица исчезла улыбка.
— Я не собираюсь лгать тебе, Ренисенб. — Он сдвинул брови, словно собираясь с мыслями, и продолжал: — Я даже рад, Ренисенб, что ты знаешь, хотя все было не совсем так, как ты думаешь.
— Ты дал ей половинку амулета, как только что хотел дать мне, и сказал, что вы две половинки единого целого. Сейчас ты повторил эти слова.
— Ты сердишься, Ренисенб, но я доволен: это значит, что ты меня любишь. И тем не менее ты не права, все произошло вовсе не так. Не я, а Нофрет подарила мне половинку амулета… — сказал он. — Можешь мне не верить, но это правда. Клянусь, что правда.
— Я не говорю, что не верю тебе… — призналась Ренисенб. — Вполне возможно, что это правда.
И опять она увидела перед собой несчастное лицо Нофрет.
— Постарайся понять меня, Ренисенб, — настойчиво убеждал ее Камени. — Нофрет была очень красивой. Мне было приятно ее внимание, и я был польщен. А кто бы не был? Но я никогда не любил ее по-настоящему…
Жалость охватила Ренисенб. Нет, Камени не любил Нофрет, но Нофрет любила Камени, любила отчаянно и мучительно. Именно на этом месте на берегу Нила она, Ренисенб, заговорила с Нофрет, предлагая ей свою дружбу. Она хорошо помнила, какой прилив ненависти и страдания вызвало у Нофрет ее предложение. Теперь причина этого была понятна. Бедняжка Нофрет — наложница старика, она сгорала от любви к веселому, беззаботному, красивому юноше, которому до нее было мало, а то и вовсе не было дела.
— Разве ты не понимаешь, Ренисенб, — уговаривал ее Камени, — что как только я приехал сюда и мы встретились, я в то же мгновенье тебя полюбил и больше ни о ком и не помышлял? Нофрет сразу это заметила.
Да, думала Ренисенб, Нофрет это заметила. И с той минуты ее возненавидела. Нет, Ренисенб не могла ее винить.
— Я совсем не хотел писать ее письмо твоему отцу. Я вовсе не хотел быть пособником ее замыслов. Но отказаться было нелегко — постарайся понять, что я не мог этого сделать.
— Да, да, — перебила его Ренисенб, — только все это не имеет никакого значения. Но несчастная Нофрет, она так страдала! Она, наверное, очень любила тебя.
— Но я не любил ее, — повысил голос Камени.
— Ты жестокий, — сказала Ренисенб.
— Нет, просто я мужчина, вот и все. Если женщина начинает донимать меня своей любовью, меня это раздражает. Мне не нужна была Нофрет. Мне нужна была ты. О Ренисенб, ты не должна сердиться на меня за это!
Она не смогла сдержать улыбки.
— Не разрешай мертвой Нофрет вносить раздор между нами — живыми. Я люблю тебя, Ренисенб, ты любишь меня, а все остальное не имеет никакого значения.
Она посмотрела на Камени — он стоял, чуть склонив голову набок, с выражением мольбы на всегда веселом уверенном лице. Он казался совсем юным.
«Он прав, — подумала Ренисенб. — Нофрет уже нет, а мы есть. Теперь я понимаю ее ненависть ко мне: как жаль, что она так страдала, — но я ни в чем не виновата. И Камени не виноват в том, что полюбил меня, а не ее».
Тети, которая играла на берегу, подошла и потянула мать за руку.
— Мы скоро пойдем домой? Я хочу домой.
Ренисенб глубоко вздохнула.
— Сейчас пойдем, — ответила она.
Они направились к дому. Тети бежала чуть впереди.
— Ты не менее великодушна, Ренисенб, чем красива, — удовлетворенно заметил Камени. — Надеюсь, между нами все по-старому?
— Да, Камени, все по-старому.
— Там на реке, — понизив голос, сказал он, — я был по-настоящему счастлив. А ты тоже была счастлива, Ренисенб?
— Да, я была счастлива.
— Но у тебя был такой вид, будто твои мысли где-то далеко-далеко. А мне бы хотелось, чтобы ты думала обо мне.
— Я и думала о тебе.
Он взял ее за руку, и она не отняла ее. Тогда он тихо запел:
— «Моя сестра подобна священному дереву…»
Он почувствовал, как задрожала ее рука, услышал, как участилось дыхание, и испытал истинное счастье.
3
Ренисенб позвала к себе Хенет.
Хенет вбежала в ее покои и тут же остановилась, увидев, что Ренисенб стоит, держа в руках открытую шкатулку и сломанный амулет. Лицо Ренисенб было суровым.
— Это ты принесла ко мне эту шкатулку для украшений, Хенет? Ты хотела, чтобы я увидела этот амулет. Ты хотела, чтобы в один прекрасный день я…
— Обнаружила, у кого другая половинка? Я вижу, ты обнаружила. Что ж, тебе это только на пользу, Ренисенб. — И Хенет злорадно рассмеялась.
— Ты хотела, чтобы, обнаружив, я огорчилась, — сказала Ренисенб, пылая гневом. — Тебе нравится причинять боль людям, не так ли, Хенет? Ты никогда не говоришь откровенно. Ты выжидаешь удобного случая, чтобы нанести удар. Ты ненавидишь нас всех, верно? И всегда ненавидела.
— Что ты говоришь, Ренисенб? Я уверена, что у тебя и в мыслях нет ничего подобного.
Но теперь она не ныла, как обычно, теперь в ее голосе слышалось тайное торжество.
— Ты хотела поссорить нас с Камени. Как видишь, ничего у тебя не получилось.
— Ты великодушна и умеешь прощать, Ренисенб. Не то что Нофрет, правда?
— Не будем говорить о Нофрет.
— Пожалуй, ты права. Камени счастливчик, да и красивый он, а? Ему повезло, хочу я сказать, что, когда потребовалось, Нофрет умерла. Она бы доставила ему кучу неприятностей — настроила бы против него твоего отца. Ей вовсе не по душе было бы, если он взял бы тебя в жены, нет, ей бы это не понравилось. По правде говоря, уж она бы нашла способ помешать вам, ни капли не сомневаюсь.
Ренисенб смотрела на нее с неприязнью.
— До чего же ядовит твой язык, Хенет. Жалит, как скорпион. Но тебе не удастся меня огорчить.
— Ну и прекрасно, чего же еще? Ты, наверное, влюблена по уши в этого красавчика? Ох уж этот Камени, знает, как петь любовные песни. И умеет добиваться чего надо, не беспокойся. Я восхищаюсь им, клянусь богами. А на вид такой простосердечный и прямодушный.
— Ты о чем, Хенет?
— Всего лишь о том, какое восхищение у меня вызывает Камени. Я убеждена, что он на самом деле простосердечный и прямодушный, а не прикидывается таким. До чего это все похоже на одну из тех историй, которые рассказывают на торжищах сказочники! Бедный молодой писец женится на дочке своего господина, который оставляет им большое наследство, и с тех пор они живут-поживают припеваючи. Удивительно, до чего же всегда везет молодым красавцам!
— Я права, — заметила Ренисенб. — Ты нас и вправду ненавидишь.
— Как ты можешь говорить такое, Ренисенб, ведь тебе хорошо известно, что я из последних сил трудилась на вас всех после смерти вашей матери? — Однако тайное торжество продолжало звучать в ее голосе вместо привычного нытья.
Ренисенб опять посмотрела на шкатулку, и тут ее осенила новая догадка.
— Это ты положила золотое ожерелье с львиными головами в эту шкатулку. Не отрицай, Хенет. Я знаю.
Злорадного торжества как не бывало. Хенет испугалась.
— Я была вынуждена сделать это, Ренисенб. Я боялась.
— Чего ты боялась?
Хенет подвинулась на шаг и понизила голос:
— Мне его дала Нофрет. Подарила, хочу я сказать. За некоторое время до смерти. Она иногда делала мне подарки. Нофрет была не из жадных. Да, она была щедрой.
— То есть неплохо тебе платила.
— Не надо так говорить, Ренисенб. Я тебе сейчас все расскажу. Она подарила мне золотое ожерелье со львами, аметистовую застежку и еще две-три вещицы. А потом, когда пастух рассказывал, что видел женщину с ожерельем на шее, я испугалась. Могут подумать, решила я, что это я бросила отраву в вино. Вот я и положила ожерелье в шкатулку.
— И это правда, Хенет? Ты когда-нибудь говорила правду?
— Клянусь, что это правда, Ренисенб. Я боялась…
Ренисенб с любопытством посмотрела на нее.
— Ты вся дрожишь, Хенет, будто тебе и сейчас страшно.
— Да, страшно… У меня есть на то причина.
— Какая? Скажи.
Хенет облизала свои тонкие губы. И оглянулась. А когда вновь посмотрела на Ренисенб, у нее был взгляд затравленного зверя.
— Скажи, — повторила Ренисенб.
Хенет покачала головой.
— Мне нечего сказать, — не очень твердо отозвалась она.
— Ты слишком много знаешь, Хенет. Ты всегда знала чересчур много. Тебе это нравилось, но сейчас знать много опасно — вот в чем беда, верно?
Хенет опять покачала головой. Потом зло усмехнулась.
— Подожди, Ренисенб. В один прекрасный день я буду щелкать кнутом в этом доме. Подожди — и увидишь.
Ренисенб собралась с духом.
— Мне ты зло причинить не сумеешь, Хенет. Моя мать не даст меня в обиду.
Лицо Хенет изменилось, глаза засверкали.
— Я ненавидела твою мать, — выкрикнула она. — Всю жизнь ненавидела… И тебя, у которой ее глаза, ее голос, ее красота и ее высокомерие, тебя я тоже ненавижу, Ренисенб.
Ренисенб рассмеялась.
— Наконец-то я заставила тебя признаться.
Глава 20 Второй месяц лета, 15-й день
1
Старая Иза, тяжело опираясь на палку, вошла в свои покои.
Она была в смятении и очень устала. Возраст, думала она, наконец-то берет свое. До сих пор ей приходилось испытывать только телесную усталость, духом она была тверда, как в молодости. Но нынче, вынуждена была признать она, душевное напряжение лишало ее последних сил.
Теперь она без сомнения знала, откуда надвигается угроза, но дать себе послабление не могла. Наоборот, приходилось быть более чем когда-либо начеку, ибо она намеренно привлекла к себе внимание. Доказательства, доказательства, следует раздобыть доказательства. Но каким образом?
Вот тут она и осознала, что возраст стал для нее помехой. Она слишком устала, чтобы что-то придумать, заставить свой разум напрячься в созидательном усилии. Все, на что она осталась способна, была самозащита; следовало быть настороже, не терять бдительности, оберегать собственную жизнь. Ибо убийца — на этот счет она не заблуждалась — готов нанести очередной удар. А она не испытывала ни малейшего желания стать его жертвой. Оружием он изберет, несомненно, яд. Прибегнуть к насилию убийца не сможет, поскольку она никогда не оставалась одна, а была постоянно окружена слугами. Значит, яд. Что ж, придется подстраховаться. Еду ей будет готовить и приносить Ренисенб. Сосуд с вином и ковшик уже поставили ей в комнату, и, когда рабыня снимала пробу, Иза ждала еще сутки, чтобы убедиться в его безвредности. Она давно заставила Ренисенб есть и пить вместе с ней, хотя пока за Ренисенб можно было не беспокоиться. А глядишь, и вообще не придется. Но этого никто не знает.
Она сидела неподвижно, то с трудом собираясь с мыслями, обдумывая случившееся, то — чтобы отвлечься — поглядывая на маленькую рабыню, которая крахмалила и разглаживала складки на ее льняных одеяниях и перенизывала бусы и браслеты.
В этот вечер Иза особенно устала. Ей пришлось по просьбе Имхотепа обсудить с ним — прежде чем он поговорит с дочерью — вопрос о замужестве Ренисенб.
От прежнего Имхотепа осталась лишь тень. Он превратился в ссутулившегося и раздражительного старика. Исчезли без следа спесь и самоуверенность. Теперь он целиком полагался на неукротимую волю и решительность матери.
Сама же Иза очень боялась сказать что-то не то. Необдуманное замечание могло навлечь на кого-то смерть.
Да, наконец согласилась она, замужество — мудрое решение. И на поиски мужа среди более влиятельных членов их рода нет времени. В конце концов владения достанутся Ренисенб и ее детям по наследству, а ее муж будет всего лишь управляющим.
Итак, предстояло только выбрать между Хори — человеком кристальной честности, старым и верным другом, сыном мелкого землевладельца, чей участок граничил с их землей, и молодым Камени, который якобы приходится им родственником.
Иза долго раздумывала, прежде чем сделать выбор. Сделаешь неверный — и грянет беда.
Наконец заявила с присущей ей властностью, не допуская и мысли о возражении: мужем Ренисенб должен стать Камени, разумеется, если Ренисенб согласна. Объявить об этом решении и устроить свадебные торжества — весьма непродолжительные из-за недавних печальных событий в доме — следует через неделю. Камени превосходный молодой человек, у них будут здоровые дети. Да к тому же они любят друг друга.
Что ж, думала Иза, жребий брошен. На игральной доске сделан роковой ход. Теперь от нее ничего не зависит. Она поступила так, как сочла целесообразным. Если в этом есть риск, что ж, Иза любила посидеть за игральной доской не меньше покойного Ипи. Нельзя всю жизнь остерегаться. Хочешь выиграть — рискуй.
Вернувшись к себе, она настороженно огляделась. Особенно присмотрелась к большому сосуду с вином. Он был закрыт и запечатан точно так, как при ее уходе. Она всегда, уходя, опечатывала его, а печатку для сохранности вешала себе на шею.
Да, на такую наживку ее не взять, усмехнулась Иза. Не так-то легко убить старуху. Старухи умеют ценить жизнь, и большинство уловок им знакомо.
Завтра… Она позвала свою маленькую рабыню.
— Не знаешь, где Хори?
— Наверное, наверху, в гроте возле гробницы, — ответила девочка.
Иза была довольна.
— Поднимись туда к нему. Скажи, что завтра утром, когда Имхотеп и Яхмос уйдут на поля, прихватив с собой Камени, чтобы было кому вести счет, а Кайт будет играть с детьми у водоема, он должен прийти сюда. Поняла? Повтори.
Маленькая рабыня повторила, и Иза отпустила ее.
Да, план ее был безупречен. Разговора с Хори никто не подслушает, потому что Хенет она отправит с поручением под навес к ткачихам. Она расскажет Хори, что им предстоит, и они вместе обговорят все подробности.
Когда черная рабыня вернулась с известием, что Хори обязательно придет, Иза вздохнула с облегчением.
Только теперь, когда все было сделано, она почувствовала, как усталость разлилась по всему телу. И велела рабыне взять горшочек с душистыми притираниями и помассировать ей руки и ноги. Ритмичные движения навеяли покой, а бальзам снял ломоту в костях. Наконец она вытянулась на своем ложе, положив голову на деревянный подголовник, и заснула — страхи вмиг исчезли.
Когда много позже она проснулась, то почувствовала, что ей почему-то холодно. Руки и ноги окоченели, она не могла шевельнуть ими… Тело словно оцепенело. Она ощущала, как стынет ее мозг, парализуя волю, как все медленнее и медленнее бьется сердце.
«Это смерть…» — подумала она. Странная смерть — неожиданная, ничем о себе не возвестившая. «Так умирают старики», — подумала она.
И вдруг ее осенило: это неестественная смерть! Это удар, нанесенный из тьмы врагом. Яд… Но каким образом? Когда? Все, что она ела и пила, пробовали другие и остались живы — тут не могло быть ошибки. Тогда как? Когда? Последним проблеском угасающего сознания Иза пыталась проникнуть в тайну. Она должна узнать, должна, перед тем как ей суждено умереть.
Она чувствовала, что тяжесть все сильнее давит ей на грудь, смертельный холод сжимает сердце. Дыхание слабело, стало болезненным.
Что сделал враг?
И вдруг из прошлого на помощь ей пришло беглое воспоминание. Кусочек овечьей кожи — отец показывал, как кожа способна впитывать яд. Овечье сало — благовонный бальзам, приготовленный на овечьем сале.
Вот каким путем добрался до нее враг. Горшочек с притираниями — необходимая принадлежность каждой египтянки. В них был яд…
А завтра… Хори… Он уже не узнает… Она не сумела ему сказать… Уже поздно.
Наутро перепуганная маленькая рабыня бежала по дому с криком, что ее госпожа умерла во сне.
2
Имхотеп стоял и смотрел на мертвую Изу. На его лице была боль утраты, но ни тени подозрения.
Его мать, сказал он, умерла от старости.
— Она была старой, — говорил он. — Да, старой. Вот и пришла ей пора отправляться к Осирису, а все наши беды и горести еще и ускорили ее кончину. Но, по-видимому, смерть ее была легкой. По милости Ра на этот раз обошлось без помощи человека или злых духов. Иза умерла своей смертью. Смотрите, какое у нее спокойное лицо.
Ренисенб плакала, ее утешал Яхмос. Хенет вздыхала и качала головой, то и дело повторяя, какую утрату они понесли и как она была предана Изе. Камени перестал петь и ходил, как и полагается, со скорбным выражением на лице.
Пришел Хори и тоже стоял и смотрел на покойную. Именно в этот час она велела ему прийти. «Что она хотела мне сказать?» — думал он. Несомненно, она нашла какие-то доказательства. Но теперь ему никогда не узнать. Впрочем, думал он, может, он и сам догадается…
Глава 21 Второй месяц лета, 16-й день
1
— Хори, ее убили?
— Думаю, да, Ренисенб.
— А как?
— Не знаю.
— Но она была так осторожна. — В голосе Ренисенб слышались боль и недоумение. — Она всегда была начеку. Принимала все необходимые меры. Все, что ела и пила, пробовали рабы.
— Я знаю, Ренисенб. И все же я уверен, что ее убили.
— Она была самая мудрая из всех нас, самая умная! Она была убеждена, что уж с ней-то ничего не случится. Нет, Хори, тут все неспроста. В этом случае действовали злые духи.
— Ты веришь в это, потому что таким путем легче всего объяснить случившееся. Люди всегда так поступают. Сама Иза этому ни за что бы не поверила. Если перед тем, как уснуть навсегда, она поняла, что умирает, то не сомневалась, что это дело рук человека.
— А она знала, чьих?
— Да. Она довольно откровенно намекнула, на кого падает ее подозрение. И стала опасной для убийцы. И то, что она умерла, только подтверждает, что в своих подозрениях она оказалась права.
— А она тебе сказала, кто это?
— Нет, не сказала, — ответил Хори. — Она ни разу не назвала имени. Тем не менее наши мысли, я убежден, совпали.
— В таком случае, Хори, скажи мне, чтобы я тоже его остерегалась.
— Нет, Ренисенб, мне слишком дорога твоя жизнь, чтобы я тебе его назвал.
— А если я не знаю, мне ничто не угрожает?
Хори потемнел лицом.
— Нет, Ренисенб, я не могу сказать, что тебе ничто не угрожает. Опасность существует для всех нас. Но опасность возрастет, если ты узнаешь правду, ибо тогда ты станешь для убийцы угрозой, которую, каков бы ни был риск, следует немедленно устранить.
— А как же ты, Хори? Ты ведь знаешь.
— Я считаю, что знаю, — поправил ее он. — Но никак этого не проявляю, я не обмолвился и словом. Иза поступила неосторожно. Она высказалась, выдав, куда ведут ее мысли. Этого делать не следовало, о чем я ей потом и сказал.
— Но ты, Хори… Если что-нибудь случится с тобой…
Она замолкла, почувствовав, что Хори смотрит ей прямо в глаза. Его печальный пристальный взгляд проникал в ее мысли и сердце.
— Не бойся за меня, Ренисенб. — Он осторожно взял ее руки в свои. — Все будет хорошо.
«Если Хори так считает, — подумала она, — значит, и вправду все будет хорошо». Она испытала удивительное чувство умиротворения, покоя, ликующего счастья, прекрасное, но такое недосягаемое, как те дали, что она видит со скалы, в которой высечена гробница, дали, которых не тревожат шумные людские притязания и запреты.
И вдруг услышала собственный голос, резкий, решительный:
— Я выхожу замуж за Камени.
Хори отпустил ее руки — словно ни в чем не бывало.
— Я знаю, Ренисенб.
— Они… Мой отец… Они считают, что так надо.
— Я знаю.
И пошел прочь.
Окружающие двор стены, казалось, приблизились, голоса из дома и из-под навесов, где лущили кукурузу, стали громкими и назойливыми. «Хори уходит», — мелькнуло в голове у Ренисенб.
— Хори, куда ты? — окликнула она его.
— На поля к Яхмосу. Уборка почти закончена, нужно многое подсчитать и записать.
— А Камени?
— Камени тоже будет с нами.
— Я боюсь оставаться здесь, — выкрикнула Ренисенб. — Да, даже в разгар дня, когда кругом слуги и Ра плывет по небесному океану, я боюсь.
Он тотчас вернулся.
— Не бойся, Ренисенб. Клянусь, тебе нечего бояться. Сегодня, во всяком случае.
— А завтра?
— Живи одним днем. Клянусь тебе, сегодня ты в безопасности.
Ренисенб посмотрела на него и нахмурилась.
— Значит, нам все еще грозит опасность? Яхмосу, моему отцу, мне? Ты хочешь сказать, что я не первая в череде тех, кому грозит опасность?
— Постарайся не думать об этом, Ренисенб. Я сделаю все, что в моих силах, хотя тебе может казаться, что я бездействую.
— Понятно… — Ренисенб задумчиво посмотрела на него. — Да, я понимаю. Первая очередь за Яхмосом. Убийца уже дважды использовал яд и промахнулся. Он сделает и третью попытку. Вот почему ты хочешь быть рядом с ним — чтобы защитить его. А потом наступит очередь моего отца и моя. Кто это так ненавидит нашу семью, что…
— Тсс. Лучше помолчи, Ренисенб. Доверься мне. И старайся прогнать страх.
Гордо откинув голову и глядя прямо ему в глаза, Ренисенб произнесла:
— Я верю тебе, Хори. Ты не дашь мне умереть… Я очень люблю жизнь и не хочу уходить из нее.
— И не уйдешь, Ренисенб.
— И ты тоже, Хори.
— И я тоже.
Они улыбнулись друг другу, и Хори отправился на розыски Яхмоса.
2
Ренисенб сидела, обхватив руками колени, и следила за Кайт.
Кайт помогала детям лепить игрушки из глины. Разминая пальцами глину и поливая ее водой из водоема, она придавала ей нужную форму, учила двух насупленных от усердия мальчиков, как и что делать. Ее доброе некрасивое лицо было безмятежно, словно страх смерти, царивший в доме, нисколько ее не коснулся.
Хори просил Ренисенб ни о чем не думать, но при всем своем желании Ренисенб не могла выполнить его просьбы. Если Хори знает, кто убийца, если Иза знала, кто убийца, то почему бы и ей не знать? Быть может, не знать менее опасно, но кто в силах с этим согласиться? Ей тоже хотелось знать.
Выяснить это, наверное, не так уж трудно — скорей даже легко. Отец, совершенно ясно, не мог желать смерти своим собственным детям. Значит, остаются… Кто же остается? Остаются двое, хотя поверить в это невозможно. Кайт и Хенет.
Женщины…
И что у них за причина?
Хенет, правда, ненавидит их всех… Да, она, несомненно, их ненавидит. Сама призналась, что ненавидит Ренисенб. Почему бы ей не пылать такой же ненавистью и к остальным?
Ренисенб пыталась проникнуть в самые сокровенные мысли Хенет.
Живет здесь столько лет, ведет в доме хозяйство, без конца твердит о своей преданности, лжет, шпионит, ссоря их друг с другом… Появилась здесь давным-давно в качестве бедной родственницы красивой госпожи из знатного рода. Видела, что эта красивая госпожа счастлива с мужем и детьми. Ее собственный муж покинул ее, единственный ребенок умер… Да, это могло стать причиной. Вроде раны от вонзившегося копья. Ренисенб однажды это видела. Снаружи рана быстро зажила, но внутри начала нарывать и гноиться, рука распухла и стала твердой. Пришел лекарь и, прочитав нужное заклинание, вонзил в опухшую руку небольшой нож, и оттуда брызнула струя зловонного гноя… Примерно так же прочищают сточную канаву.
То же самое произошло, по-видимому, и с Хенет. Страдания и обиды, казалось, забылись, но внутрь сознания просочился яд, который, накопившись, прорвался потоком ненависти и злобы.
Испытывала ли Хенет ненависть и к Имхотепу? Вряд ли. Много лет она увивается возле него, льстит и заискивает… А он полностью ей доверяет. Неужто и перед ним она притворяется?
Если же она искренне предана Имхотепу, то почему решилась причинить ему столько горя?
А что, если она и его ненавидит? Ненавидела всю жизнь? И льстила, чтобы ловко воспользоваться его слабостями? Что, если она ненавидит Имхотепа больше всех? Тогда что может доставить большую радость человеку со столь извращенными и порочными наклонностями, нежели возможность заставить своего заклятого врага собственными глазами видеть, как один за другим погибают его дети?
— Что с тобой, Ренисенб?
На нее смотрела Кайт.
— У тебя такой странный вид.
Ренисенб встала.
— Меня вот-вот вырвет, — сказала она.
Отчасти это было правдой. От картины, которую она сама себе нарисовала, ее начало тошнить. Кайт восприняла ее слова буквально.
— Ты, наверно, съела неспелых фиников либо рыба была несвежей.
— Нет, нет, это не от еды. Это от того, что у нас происходит.
— А, вот в чем дело, — откликнулась Кайт так равнодушно, что Ренисенб удивленно уставилась на нее.
— Разве ты не боишься, Кайт?
— Нет, не боюсь, — задумчиво ответила Кайт. — Если с Имхотепом что-нибудь случится, о детях позаботится Хори. Хори — человек честный, он будет им хорошим опекуном.
— Опекуном станет Яхмос.
— Яхмос тоже умрет.
— Кайт, как ты можешь говорить об этом так спокойно? Неужели тебе безразлично, умрут отец и Яхмос или нет?
Немного подумав, Кайт пожала плечами.
— Мы обе женщины, так что давай будем друг с другом откровенны. Имхотепа я всегда считала деспотичным и несправедливым. А как возмутительно он показал себя в истории с наложницей — позволил ей уговорить себя лишить наследства собственных детей. Я никогда не испытывала привязанности к Имхотепу. Что касается Яхмоса, то он пустое место. Сатипи делала с ним что хотела. Потом, когда она умерла, он повел себя более решительно, стал распоряжаться. Но он всегда будет относиться к своим детям лучше, чем к моим, что вполне естественно. Поэтому, если ему суждено умереть, это будет только на благо моим детям — вот какой я делаю вывод. У Хори детей нет, и человек он справедливый. В том, что творится у нас в доме, конечно, ничего хорошего нет, но в последнее время я начала думать, что в конце концов оно, может, и к лучшему.
— Как ты можешь так спокойно, так хладнокровно рассуждать, Кайт, когда твой собственный муж, которого ты, по-моему, любила, погиб первым?
Что-то странное мелькнуло в глазах Кайт. Она бросила на Ренисенб взгляд, в котором явно сквозила презрительная усмешка.
— Ты иногда очень похожа на Тети, Ренисенб. Такой же ребенок как она, честное слово.
— Ты не оплакиваешь смерть Себека, — решительно произнесла Ренисенб. — Я это заметила.
— Оставь, Ренисенб, меня не в чем упрекнуть. Я знаю, как должна вести себя вдова, только что потерявшая мужа.
— Да, упрекнуть тебя не в чем… Значит, ты не любила Себека?
— А почему я должна была его любить? — пожала плечами Кайт.
— Кайт! Он был твоим мужем, отцом твоих детей!
Лицо Кайт смягчилось. Она посмотрела сначала на двух увлеченных лепкой мальчиков, а потом туда, где барахталась, задрав ножки и что-то лепеча, малышка Анх.
— Да, он был отцом моих детей, за что я благодарна ему. Но в остальном что он представлял собой? Красавец, хвастун и развратник. Он не привел в дом еще одну сестру, приличную скромную женщину, которая была бы всем нам в помощь. Нет, он посещал дома, которые пользуются дурной славой, и тратил медные и золотые украшения на вино и самых дорогих танцовщиц. Еще счастье, что Имхотеп держал его в узде и тому приходилось до мелочей отчитываться в заключенных им торговых сделках. Почему же я должна была питать любовь и уважение к такому человеку? И вообще, что такое мужчины! Они нужны только для рождения детей, вот и все. Сила народа в женщинах. Мы, Ренисенб, передаем детям все, что есть в нас. Что же касается мужчин, то они должны участвовать в зачатии, а потом — пусть себе умирают… — Словно заключительным музыкальным аккордом снова прозвучали в голосе Кайт презрение и насмешка. Ее некрасивое лицо преобразилось, стало значительным.
Ренисенб охватило смятение. «Какая Кайт сильная! Хоть и глупая, чего, впрочем, она не осознает… Она ненавидит и презирает мужчин. Мне бы давно следовало это понять. Ведь один раз я уже видела, что она способна на угрозу. Да, Кайт сильная…»
Взгляд Ренисенб случайно упал на руки Кайт. Они мяли и месили глину — сильные, мускулистые руки, и, глядя на них, Ренисенб подумала об Ипи и о сильных руках, которые безжалостно держали его голову под водой. Да, руки Кайт вполне могли это сделать…
Малышка Анх, наткнувшись на колючку, громко заплакала. Кайт кинулась к ней, схватила и, прижав к груди, принялась успокаивать. На ее лице были любовь и нежность.
— Что случилось? — выбежала на галерею Хенет. — Ребенок так громко кричал. Я было решила…
И разочарованно замолкла. Ее полное злорадного любопытства лицо вытянулось: очередной беды не случилось.
Ренисенб перевела взгляд с одной женщины на другую.
Ненависть на одном лице, любовь на другом. Что, интересно, страшнее?
3
— Берегись Кайт, Яхмос.
— Кайт? — удивился Яхмос. — Дорогая моя Ренисенб…
— Говорю тебе, она опасна.
— Наша тихая Кайт? Она всегда была кроткой, покорной женщиной, не очень умной…
— Она не кроткая и не покорная, — перебила его Ренисенб. — Я ее боюсь, Яхмос. И прошу тебя быть начеку.
— Боишься Кайт? — еще раз удивился он. — Представить себе не могу, чтобы все наши беды исходили от Кайт. У нее для этого ума не хватит.
— По-моему, тут не требуется большого ума. Достаточно знать яды. А как тебе известно, в некоторых семьях в ядах отлично разбираются и передают эти знания от матери к дочери. Есть женщины, которые умеют готовить снадобья из ядовитых трав. Может, и Кайт обучена этому. Во всяком случае, когда дети болеют, она сама готовит им лекарства.
— Да, это верно, — задумался Яхмос.
— И Хенет тоже злая, — продолжала Ренисенб.
— Хенет? Да. Недаром мы ее всегда недолюбливали. По правде говоря, если бы отец за нее не заступался…
— Отец обманывается в ней, — сказала Ренисенб.
— Вполне возможно. — И сухо добавил: — Он любит лесть.
Ренисенб посмотрела на него с удивлением. Впервые в жизни ей довелось услышать, чтобы Яхмос высказался об Имхотепе в таком непочтительном тоне. Он всегда был преисполнен благоговейного страха перед отцом.
Яхмос, поняла она, постепенно становится главой в семье. За последние недели Имхотеп заметно сдал. Разучился отдавать приказы, принимать решения. Он очень одряхлел. Часами сидит, уставившись в одну точку, взгляд у него затуманенный и рассеянный. Порой он даже не понимает, о чем ему говорят.
— Ты думаешь, что она… — Ренисенб умолкла. Оглядевшись, она продолжала: — Ты думаешь, что это она…
— Молчи, Ренисенб, — схватил ее за руку Яхмос. — Об этом не следует не только говорить, но и шептать.
— Значит, ты думаешь…
— Молчи. Мы кое-что придумали, — мягко, но настойчиво повторил Яхмос.
Глава 22 Второй месяц лета, 17-й день
1
На следующий день был праздник новолуния. Имхотепу предстояло подняться наверх, чтобы совершить обряд жертвоприношения. Яхмос уговаривал отца доверить это на сей раз ему, но Имхотеп и слушать не хотел.
— Откуда мне знать, что все будет сделано как следует, если я сам обо всем не позабочусь? — тщился он напустить на себя былую важность. — Разве я когда-либо позволял себе уклониться от своих обязанностей? Не я ли добывал вам всем хлеб насущный, не я ли содержал вас всех?.. — Голос его упал. — Всех? Кого всех? Ах да, я забыл, два моих сына — красавец Себек и любимый мною отважный Ипи — ушли навсегда. Яхмос и Ренисенб, дорогие мои дети, вы по-прежнему со мной, но кто знает, надолго ли?
— Будем надеяться, что надолго, — отозвался Яхмос. Он говорил громче, чем обычно, словно обращался к глухому.
— А? Что? — Имхотеп, казалось, был не в себе. Потом вдруг ни с того ни с сего добавил: — Это зависит от Хенет, верно? Да, все зависит от Хенет.
Яхмос и Ренисенб переглянулись.
— Я не понимаю тебя, отец, — тихо, но отчетливо сказала Ренисенб.
Имхотеп пробормотал что-то еще, чего они не расслышали. Потом громче, но глядя перед собой пустыми и тусклыми глазами, заявил:
— Хенет меня понимает. И всегда понимала. Она знает, как велики мои обязанности, как велики… А взамен всегда одна неблагодарность… Отсюда и возмездие. Так и должно быть. Высокомерие заслуживает наказания. Хенет же всегда была скромной, покорной и преданной. Ей причитается награда…
И, собрав последние остатки сил, спросил властным голосом:
— Ты понял меня, Яхмос? Хенет вправе требовать всего, что захочет. Ее распоряжения следует выполнять!
— Но почему, отец?
— Потому что я так хочу. Потому что, если желания Хенет будут удовлетворены, смерть уйдет из нашего дома.
И, многозначительно кивнув, удалился, оставив Яхмоса и Ренисенб в полном недоумении и тревоге.
— Что это значит, Яхмос?
— Не знаю, Ренисенб. Порой мне кажется, что отец не отдает себе отчета в том, что говорит или делает.
— Возможно. Зато, по-моему, Хенет чересчур хорошо знает, что говорит или делает. Лишь на днях она заявила мне, что в самом скором времени она будет щелкать кнутом у нас в доме.
Они стояли и смотрели друг на друга. Потом Яхмос положил руку на плечо Ренисенб.
— Не ссорься с ней, Ренисенб. Ты не умеешь скрывать своих чувств. Ты слышала, что сказал отец? Если желания Хенет будут удовлетворены, смерть уйдет из нашего дома…
Сидя на корточках в одной из кладовых, Хенет пересчитывала куски полотна. Это были старые холстины, и, заметив на одной из них метку, она поднесла ее к глазам.
— Ашайет, — прочитала она. — Значит, это ее холст. Тут вышит и год нашего приезда сюда. Много лет прошло с тех пор. Знаешь ли ты, Ашайет, на что сейчас идут твои холстины? — Она захихикала, но тут же, словно поперхнувшись, умолкла, ибо услышала за спиной чьи-то шаги.
2
Она повернулась. Перед ней стоял Яхмос.
— Чем ты занимаешься, Хенет?
— Бальзамировщикам не хватило полотна на погребальные пелены. Все им мало. Только за вчерашний день ушло четыре сотни локтей[52]. Ужас сколько полотна они изводят. Придется нам взять это старое. Оно хорошего качества и не совсем ветхое. Это холстины твоей матери, Яхмос.
— А кто разрешил тебе их брать?
Хенет засмеялась.
— Имхотеп сказал, что я могу распоряжаться всем, чем хочу, и ни у кого не спрашивать разрешения. Он доверяет бедной старой Хенет. Знает, что она сделает все как надо. Я уже давно веду хозяйство в этом доме. Пора и мне получить вознаграждение.
— Может, и так, — согласился Яхмос. — Отец сказал… — он помолчал, — …что все зависит от тебя.
— Он так сказал? Что ж, приятно слышать. Но ты, Яхмос, я вижу, не согласен с отцом?
— Почему же? — Яхмос по-прежнему не повышал тона, но не сводил с нее пристального взгляда.
— По-моему, тебе лучше согласиться с отцом. Зачем нам лишние неприятности, а, Яхмос?
— Я не совсем понимаю тебя. Ты хочешь сказать, что, если ты станешь хозяйкой у нас в доме, смерть покинет его?
— Нет, смерть не собирается уходить.
— И кто же будет ее следующей жертвой, Хенет?
— Почему ты решил, что я знаю?
— Потому что, по-моему, тебе многое известно. Несколько дней назад, например, ты знала, что Ипи умрет… Ты очень умная, Хенет.
— А ты это только сейчас понял? — вскинулась Хенет. — Хватит мне быть бедной глупой Хенет. Я все знаю.
— И что же ты знаешь, Хенет?
У Хенет даже голос изменился. Он стал низким и резким.
— Я знаю, что наконец-то могу делать в этом доме что хочу. И никто не посмеет мне возразить. Имхотеп уже во всем полагается на меня. И ты будешь делать то же самое, Яхмос.
— А Ренисенб?
Хенет засмеялась злорадно, с явным удовольствием.
— Ренисенб здесь скоро не будет.
— По-твоему, следующей умрет Ренисенб?
— А по-твоему, Яхмос?
— Я хочу услышать, что скажешь ты.
— Может, я только хотела сказать, что Ренисенб выйдет замуж и уедет.
— А что на самом деле ты хотела сказать?
— Иза однажды обвинила меня в том, что я много болтаю, — хихикнула Хенет. — Может, и так.
И опять рассмеялась, покачиваясь на пятках.
— Итак, Яхмос, как ты думаешь? Имею я наконец право делать в этом доме что хочу?
Яхмос пристально на нее посмотрел и только потом ответил:
— Да, Хенет. Раз ты такая умная, можешь делать все, что хочешь.
И повернулся навстречу Хори, который вышел из главного зала.
— Вот ты где, Яхмос! Имхотеп ждет тебя. Пора подняться наверх.
— Иду, — кивнул Яхмос. И, понизив голос, добавил: — Хори, Хенет, по-моему, рехнулась. В нее вселился злой дух. Я и вправду начинаю думать, что вина за все случившееся лежит на ней.
Хори не сразу, но спокойным и ровным тоном откликнулся:
— Она странная женщина, а главное, злая.
— Хори, — перешел на шепот Яхмос, — по-моему, Ренисенб грозит опасность.
— От Хенет?
— Да. Она только что дала мне понять, что очередной жертвой может стать Ренисенб.
— Что, мне весь день вас ждать? — послышался капризный голос Имхотепа. — Что это такое? Никто со мной больше не считается. Никого не интересует, какие страдания я испытываю. Где Хенет? Только Хенет меня понимает.
Из кладовой отчетливо донесся торжествующий смех.
— Ты слышал, Яхмос? Хенет здесь хозяйка!
— Да, Хенет, я понимаю, — через силу выдавил Яхмос. — Власть теперь в твоих руках. Ты, мой отец и я — мы втроем…
Хори поспешил к Имхотепу, а Яхмос задержался, что-то еще сказал Хенет, и та согласно кивнула. Лицо ее расползлось в злобной усмешке.
Яхмос, извинившись за задержку, догнал отца и Хори, они все вместе двинулись наверх, к гробнице.
3
День почему-то тянулся очень медленно.
Ренисенб терзало беспокойство. Она то выходила на галерею, то спускалась к водоему, то возвращалась обратно в дом.
В полдень Имхотеп вернулся. Ему подали еду. Насытившись, он уселся на галерее. Ренисенб пристроилась рядом.
Она сидела, обхватив руками колени, и время от времени поглядывала на отца. На его лице было все то же отсутствующее выражение, смешанное с недоумением. Имхотеп почти не говорил. Только раз-другой тяжело вздохнул.
Потом встрепенулся и послал за Хенет. Но Хенет не было — она понесла холсты бальзамировщикам.
Ренисенб спросила у отца, где Хори и Яхмос.
— Хори ушел на дальние поля льна. Там надо провести подсчет. А Яхмос здесь, на ближних полях. Теперь все на нем… когда Себека и Ипи не стало. Бедные мои сыновья…
Ренисенб попыталась отвлечь его.
— А разве Камени не может присматривать за работами?
— Камени? А кто такой Камени? У меня нет сына по имени Камени.
— Писец Камени. Камени, которому надлежит стать моим мужем.
Он уставился на нее.
— Твоим мужем, Ренисенб? Но ведь ты выходишь замуж за Хея.
Она вздохнула и промолчала. Жестоко каждый раз поправлять его.
Спустя некоторое время он, однако, очнулся, потому что воскликнул:
— Ты спрашивала про Камени? Он пошел на пивоварню отдать кое-какие распоряжения надсмотрщику. Надо и мне, пожалуй, туда сходить.
И зашагал прочь, бормоча что-то себе под нос, вид у него был такой самоуверенный, что Ренисенб даже воспряла духом.
Быть может, подобное затмение разума — явление временное?
Она огляделась. Что-то зловещее почудилось ей в том безмолвии, что царило в доме и на дворе. Дети играли на дальнем конце водоема. Кайт с ними не было. «Интересно, где она?» — подумала Ренисенб.
На галерею вышла Хенет. Оглядевшись, робко подошла к Ренисенб. И заговорила-заныла с прежней покорностью:
— Я все ждала, пока мы останемся наедине, Ренисенб.
— А зачем я тебе нужна, Хенет?
Хенет понизила голос:
— Хори попросил меня передать тебе кое-что.
— Что именно? — нетерпеливо спросила Ренисенб.
— Он сказал, чтобы ты поднялась к гробнице.
— Сейчас?
— Нет. За час до заката, сказал он. Если его не будет, он просил, чтобы ты его подождала. Это очень важно, сказал он. — Хенет помолчала, а потом добавила: — Мне велено было дождаться, когда ты останешься одна — чтобы никто не подслушал.
И скользнула обратно в дом.
У Ренисенб стало легче на душе. Ее радовала мысль, что она пойдет туда, где царят мир и покой. Радовало, что она увидит Хори и сможет поговорить с ним о чем захочет. Но странно, что он передал свое приглашение через Хенет… Что ж, Хенет хоть и злая, но просьбу Хори она выполнила добросовестно.
«И почему я все время боюсь Хенет? — думала Ренисенб. — Ведь я куда сильнее ее».
И с гордостью выпрямилась. Она чувствовала себя молодой, уверенной в себе и хозяйкой собственной жизни…
4
После разговора с Ренисенб Хенет снова вернулась в кладовую. Тихо смеясь про себя, она склонилась над охапками холстин.
— Скоро вы опять нам понадобитесь, — радостно проговорила она. — Ты слышишь меня, Ашайет? Теперь я здесь хозяйка и сообщаю тебе, что твое полотно пойдет на пелены для еще одного тела. И чье это будет тело, как ты думаешь? Хи-хи! Ты не очень-то поспешила им на помощь, а? Ты и брат твоей матери, сам правитель! Правосудие? Разве существует правосудие в этом мире? Отвечай!
Почувствовав у себя за спиной шорох, Хенет чуть повернула голову.
И тут же кто-то набросил ей на голову огромный холст, и она стала задыхаться, и, пока не иссякли ее силы, не ведающие пощады руки все обкручивали и обкручивали тканью ее тело, туго пеленая его, точно мумию.
Глава 23 Второй месяц лета, 17-й день
1
Задумавшись, Ренисенб сидела у входа в грот возле гробницы и не сводила глаз с Нила.
Ей казалось, что это было давным-давно, когда она впервые поднялась сюда после своего возвращения в дом отца. Тогда она весело говорила, что в доме ничего не изменилось, что все осталось точно таким, каким было до ее отъезда восемь лет назад.
Она вспомнила, как Хори сказал ей, что и она сама вовсе не та Ренисенб, что уехала с Хеем, и как она без тени сомнения ответила, что в самое ближайшее время будет опять той же.
Потом Хори принялся рассуждать о переменах, которые происходят не снаружи, а внутри, о порче, которая не бывает заметна сразу. Теперь она понимала, о чем он говорил. Он старался подготовить ее. Она была так самоуверенна, так слепа, когда пыталась судить о каждом в доме лишь по его внешнему виду. И только с появлением Нофрет у нее открылись глаза… Да, с появлением Нофрет. Все началось с нее. Вместе с Нофрет в дом пришла смерть… Сама ли Нофрет олицетворяла зло или нет, но она внесла зло в дом… И это зло все еще живет среди них.
В последний раз Ренисенб попыталась убедить себя, что все вершилось по воле духа Нофрет… Зло творила мертвая Нофрет… Или живая Хенет… Хенет, презираемая, угодничающая, расточающая лесть…
Ренисенб вздрогнула, встрепенулась и медленно поднялась на ноги. Больше ждать Хори она не может. Солнце вот-вот сядет. Почему он не пришел? Она огляделась по сторонам и стала спускаться по тропинке вниз в долину.
В этот вечерний час вокруг царила полная тишина. Как тихо и красиво, подумала она. Что задержало Хори? Если бы он пришел, они могли бы провести этот час вместе… Таких часов осталось немного. Скоро, очень скоро она станет женой Камени…
Неужто она в самом деле собирается выйти замуж за Камени? Потрясенная Ренисенб вдруг очнулась от оцепенения, в котором так долго пребывала, будто пробудилась после страшного сна. Страх и неуверенность в себе, по-видимому, настолько овладели ею, что она была готова ответить согласием на любое предложение.
Но теперь она снова стала прежней Ренисенб, и если она выйдет за Камени, то это случится только потому, что она сама этого пожелает, а не потому, что так решили в семье. Камени с его красивым, вечно улыбающимся лицом! Она любит его, правда? Поэтому и собирается стать его женой.
В этот вечерний час здесь наверху не было ни лжи, ни неясности. И в мыслях не было смятения. Она — Ренисенб, она идет, глядя на мир со спокойствием и отвагой, став опять сама собой. Разве не сказала она как-то Хори, что должна одна спуститься по тропинке в час смерти Нофрет? Пусть ей будет страшно, все равно она должна это сделать. Вот она и идет. Примерно в это время они с Сатипи склонились над телом Нофрет. И опять же примерно в это время Сатипи тоже спускалась по тропинке, потом вдруг обернулась — чтобы увидеть, как ее догоняет судьба. И на том же самом месте. Что же услышала Сатипи, что заставило ее вдруг обернуться? Шаги? Шаги… Но и сейчас Ренисенб слышала шаги — кто-то шел за ней по тропинке.
Сердце ее взметнулось от страха. Значит, это правда! Нофрет шла за ней вслед… Ее объял ужас, но шагов она не замедлила. И не бросилась вперед. Она должна преодолеть страх, ибо совесть ее чиста…
Она выпрямилась, собралась с духом и, не сбавляя шага, обернулась. И сразу ей стало легко. За ней шел Яхмос. Никакой не дух из Царства мертвых, а ее родной брат. Он, наверное, был чем-то занят в поминальном зале гробницы и вышел оттуда сразу следом за ней.
— О Яхмос, как хорошо, что это ты! — остановившись, радостно воскликнула она.
Он быстрым шагом приближался к ней. И только она решила поведать ему о своих глупых страхах, как слова замерли у нее на губах. Это был не тот Яхмос, которого она знала, — мягкий и добрый. Глаза его горели, он то и дело облизывал пересохшие губы. Пальцы чуть вытянутых вперед рук скрючились как когти.
Он смотрел на нее, и взгляд его, вне всяких сомнений, был взглядом человека, который уже убивал и был готов на новое убийство. Его лицо дышало торжеством жестокости и зла. Яхмос! Убийцей был Яхмос! Под маской мягкого и доброго человека!
Она всегда была уверена, что брат любит ее. Но на этом искаженном нечеловеческой злобой, торжествующем лице не было и следа любви. Ренисенб вскрикнула — едва слышно, ни на что не надеясь. Наступила ее очередь умереть. Ибо мериться силой с Яхмосом было безрассудно. Здесь, где сорвалась со скалы Нофрет, где тропинка сужалась, предстояло и ей встретить свою смерть.
— Яхмос! — В этот последний зов она вложила всю нежность, которую всегда испытывала к старшему брату. Но напрасно. Яхмос лишь коротко рассмеялся — тихим злорадным смехом. И бросился вперед — пальцы-когти потянулись к ней, чтобы сомкнуться вокруг ее горла. Ренисенб припала к скале, выставив вперед руки в тщетной попытке оттолкнуть его. К ней приближалась сама смерть!
И вдруг послышался звук, слабый, похожий на звон натянутой струны… в воздухе что-то просвистело. Яхмос замер, покачнулся и с воплем рухнул ничком у ее ног. А она тупо смотрела, смотрела и не могла отвести глаз от оперенья стрелы.
2
— Яхмос… Яхмос… — ошеломленно повторяла Ренисенб, словно была не в силах поверить…
Она сидела у входа в грот, обитель Хори, и он все еще поддерживал ее. Она не помнила, как он вел ее наверх. Она только как завороженная с удивлением и ужасом повторяла имя брата.
— Да, Яхмос, — мягко подтвердил Хори. — Всякий раз это был Яхмос.
— Но как? Зачем? Почему он? Ведь его самого отравили. Он чуть не умер.
— Он знал, что делает. Знал, сколько выпить вина, чтобы не умереть. И отхлебнул ровно столько, сколько было нужно, а потом прикинулся отравленным. Только так, считал он, можно отвести от себя подозрение.
— Но не мог же он убить Ипи? Он был тогда еще так слаб, что не держался на ногах.
— Он притворялся слабым. Помнишь, Мерсу сказал, что, как только яд выйдет, к нему тотчас вернутся силы? Вот так и случилось.
— Но зачем, Хори? Не могу понять зачем?
Хори вздохнул.
— Помнишь, Ренисенб, однажды я говорил тебе о порче, которая возникает внутри?
— Помню. Я только сегодня думала об этом.
— Ты как-то сказала, что с приездом Нофрет в доме поселилось зло. Это было не совсем верно. Зло уже давно жило в сердцах членов вашей семьи. Но с появлением Нофрет оно вылезло из укромных уголков на свет. Ее присутствие вынудило его проявить себя. Кайт из нежной матери обратилась в безжалостную волчицу, алчущую преимуществ для себя и своих детей. Веселый, обаятельный Себек предстал хвастливым, распутным и слабовольным. Ипи, которого считали всего лишь избалованным красивым ребенком, оказался интриганом и себялюбцем. Хенет уже не могла скрыть за своей притворной преданностью лютой злобы. Властная Сатипи показала себя трусливой. Имхотеп превратился в суетливого тщеславного деспота.
— Знаю, — Ренисенб закрыла лицо руками, — можешь мне не объяснять. Я сама мало-помалу это поняла… Но почему, почему этому суждено было случиться? Почему эта порча, как ты говоришь, должна была проявить себя?
— Кто знает? — пожал плечами Хори. — Быть может, в человеке заложена способность к перерождению, и, если со временем он не становится добрее и мудрее, в нем прорастает злое начало. А может, все произошло оттого, что жизнь обитателей этого дома была слишком замкнутой, обращенной лишь на самих себя, они были лишены широты видения. А может, случилось то, что бывает с растениями: заболевает одно, от него заражается другое, потом третье.
— Но Яхмос… Яхмос, он, казалось, совсем не изменился.
— Да, и именно в этом одна из причин, почему я стал его подозревать. Ибо остальные члены семьи порой могли проявить характер, позволить себе не скрывать своего истинного «я». Яхмос же, от природы робкий, легко подчинялся власти других и не осмеливался восставать. Он любил Имхотепа и тяжко трудился, чтобы угодить ему, а Имхотеп, ценя старшего сына за старательность, считал его недостаточно умным и медлительным. И презирал его. Сатипи тоже помыкала им и без конца подначивала. Чувство обиды, затаенное, но глубоко ранившее, постепенно копилось, и чем более покорным он казался, тем быстрее рос в его сердце протест.
А затем, как раз тогда, когда Яхмос надеялся получить вознаграждение за свои усердие и прилежание и сделаться совладельцем отца, появилась Нофрет. Нофрет, или скорее ее красота, оказалась той искрой, от которой вспыхнул давно тлеющий костер. При виде ее все три брата вспомнили о том, что они мужчины. Она растравила Себека, выказав презрение к нему как к глупцу, она привела Ипи в ярость, обращаясь с ним как с ребенком, а Яхмосу ясно дала понять, что он для нее пустое место. После приезда Нофрет Сатипи своими издевками довела Яхмоса до белого каления. Ее насмешки, разговоры о том, что она больше мужчина, нежели он, в конце концов вывели его из себя. Он встретил Нофрет на тропинке и в приступе бешенства сбросил ее со скалы.
— Но это же сделала Сатипи…
— Нет, Ренисенб, тут вы все ошиблись. Просто Сатипи видела, как это произошло. Теперь ты понимаешь?
— Но ведь Яхмос был с тобой на поле.
— Да, в течение последнего часа. Разве ты не заметила, Ренисенб, что тело Нофрет было застывшим? Ты сама дотрагивалась до ее щеки. Ты решила, что она только что упала, а на самом деле Нофрет была мертвой уже, по крайней мере, два часа. Иначе на таком жарком солнце ее лицо никогда не показалось бы тебе холодным. Сатипи видела, как это случилось. Вот она и бродила вокруг, напуганная, не зная, что предпринять. А когда увидела, что ты идешь, попыталась увести тебя подальше от этого места.
— Хори, когда ты все это понял?
— По-моему, довольно скоро. Меня насторожило поведение Сатипи. Она явно кого-то или чего-то боялась, и я довольно быстро убедился, что боится она Яхмоса. Она перестала его подначивать, более того, была готова безоговорочно ему подчиняться. Убийство Нофрет ее потрясло. Яхмос, которого она презирала за слабодушие, оказался убийцей. Это перевернуло ее представление о нем вверх дном. Как большинство крикливых, задиристых женщин, на самом деле Сатипи была труслива. Этот новый Яхмос напугал ее. А от страха она стала разговаривать во сне. И тогда Яхмос почувствовал, что она представляет для него опасность… А теперь, Ренисенб, постарайся понять то, что ты видела собственными глазами. Вовсе не злого духа испугалась Сатипи, а того же человека, которого сегодня на тропинке встретила ты. И на лице своего преследователя — ее собственного мужа — она прочла намерение сбросить ее со скалы, как он уже поступил с Нофрет. В страхе она попятилась назад и сорвалась вниз. И когда, умирая, ей удалось прошептать: «Нофрет», — она пыталась дать тебе понять, что Нофрет убил Яхмос.
Иза тоже догадалась, как было дело, благодаря сказанным Хенет случайным словам. Хенет пожаловалась, что я смотрю не на нее, а мимо нее, словно вижу за ее спиной что-то, чего там нет. И тотчас заговорила о Сатипи. Тут Иза и поняла, что все гораздо проще, нежели мы думаем. Сатипи не смотрела на что-то позади Яхмоса, она смотрела на самого Яхмос а. Чтобы проверить свою мысль, Иза, собрав всех нас, завела речь о том, что было мало кому понятно. Вернее, было понятно только Яхмосу, если ее догадки были верны. Ее рассказ произвел на него впечатление, всего на миг он выдал себя, но этого было достаточно, чтобы Иза поняла, что знает правду. Но и Яхмос понял, что она его подозревает. А раз подозрение возникло, значит, до истины нетрудно докопаться, припомнив и историю с пастухом, который был так предан своему господину, что готов был беспрекословно выполнить любой его приказ, даже выпить отраву, которая не даст ему проснуться наутро…
— О Хори, как трудно поверить, что Яхмос был на это способен. Почему Нофрет, это понятно. Но зачем он убил всех остальных?
— Это нелегко объяснить, Ренисенб, но если сердце открыто злу, тогда зло расцветает в нем, как маки на хлебном поле. Вполне возможно, Яхмос всегда тяготел к насилию, но не мог решиться совершить его. Он презирал себя за робость и покорность. Убив Нофрет, он, наверное, ощутил всю сладость власти, и первой ему дала это понять Сатипи. Сатипи, которая ни во что его не ставила и постоянно оскорбляла, вдруг стала покорной, она боялась его. Все обиды, которые он так долго таил в себе, обнаружили себя, как та змея, помнишь, которую мы потревожили здесь, на тропинке. Себек и Ипи были один красивее, другой умнее Яхмоса — вот ими суждено было уйти из жизни. Он, Яхмос, должен стать единственным хозяином в доме, единственной опорой и утешением старика отца! Смерть Сатипи только усилила его жажду убивать и укрепила в сознании собственного могущества. Но одновременно зло помрачило его разум, с того дня овладев им целиком.
В тебе, Ренисенб, врага он не видел. Пока был способен любить, он тебя любил. Но он даже не допускал мысли о том, что ему придется разделить управление владениями с твоим мужем. По-моему, Иза дала согласие на твой брак с Камени по двум соображениям: во-первых, если Яхмос нанесет новый удар, то скорей жертвой будет Камени, нежели ты, на крайний же случай она поручила мне оберегать тебя; и во-вторых — Иза была все же отважной женщиной, — чтобы поймать Яхмоса с поличным, она хотела заставить его действовать и при этом незаметно за ним наблюдать.
— Что ты и делал, — сказала Ренисенб. — О Хори, я так испугалась, когда оглянулась и увидела его.
— Я знаю, Ренисенб. Но через это нужно было пройти. Пока я был рядом с Яхмосом, тебе не грозила опасность, но вечно так продолжаться не могло. Я понимал, что если ему представится возможность сбросить тебя со скалы, в том же самом месте, он ее не упустит. Тогда можно будет снова все свалить на дух убитой Нофрет.
— Значит, просьба, которую мне передала Хенет, исходила не от тебя?
Хори покачал головой.
— Я ничего не просил тебе передавать.
— Но в таком случае, зачем Хенет… — Ренисенб нахмурилась. — Не понимаю, какую роль во всем этом играла Хенет.
— По-моему, Хенет знает правду, — задумчиво сказал Хори. — Сегодня утром она ясно дала это понять Яхмосу, что было крайне опасно. Он уговорил ее зазвать тебя сюда, что она и сделала с большой охотой, поскольку ненавидит тебя, Ренисенб…
— Я знаю.
— А затем… Трудно сказать… Хенет уверена, что, раз она все знает, власть у нее в руках. Вряд ли Яхмос оставил бы ее в живых. Может, сейчас она уже…
Ренисенб задрожала.
— Яхмос сошел с ума! — воскликнула она. — Злые духи овладели его разумом, ибо раньше он таким не был.
— Не был, но тем не менее. Помнишь, Ренисенб, я рассказывал тебе про Себека и Яхмоса, как Себек бил Яхмоса по голове и как ваша мать подбежала, бледная и дрожащая, и сказала: «Это опасно». По-моему, Ренисенб, она хотела сказать, что опасно так поступать с Яхмосом. Вспомни, что на следующий день Себек заболел — считалось, что он чем-то отравился, но кто знает… мне кажется, Ренисенб, ваша мать знала, какая бешеная злоба скрывается в груди ее мягкого, робкого сына, и боялась, что в один прекрасный день она вырвется наружу.
— Неужто никто не бывает таким, каким видится со стороны? — содрогнулась Ренисенб.
— Почему же? — улыбнулся ей Хори. — Вот мы с Камени, например, такие, какие мы есть. Камени и я, мы оба…
Последние слова он произнес многозначительно, и Ренисенб вдруг осознала, что стоит перед величайшим в ее жизни выбором.
— …мы оба любим тебя, Ренисенб, — продолжал Хори. — Ты должна это знать.
— Однако, — не сразу возразила Ренисенб, — ты не противился приготовлениям к моему замужеству и не сказал ничего, ни единого слова.
— Для твоей же безопасности. Иза тоже считала, что я должен держаться в стороне, проявлять безразличие, чтобы иметь возможность неотрывно следить за Яхмосом и не возбуждать у него неприязни. — И с жаром Хори добавил: — Не забудь, Ренисенб, что Яхмос много лет был мне другом. Я любил его. И уговаривал вашего отца взять его в совладельцы и облечь властью, какой он добивался. Ничего не получилось. Он сделал это слишком поздно. И хотя в глубине души я не сомневался, что Нофрет убил Яхмос, я старался этому не верить. Я находил оправдания его поступку, на случай, если бы он все же его совершил. Он был мне очень дорог, Яхмос, мой несчастный, терзаемый уязвленным самолюбием друг. Потом умер Себек, за ним Ипи и, наконец, Иза… Я понял, что в сердце Яхмоса не осталось добра. Поэтому Яхмос и принял смерть от моей руки — он умер быстро и почти безболезненно.
— Смерть — всё время смерть.
— Нет, Ренисенб, у тебя впереди не смерть, а жизнь. С кем ты разделишь ее? С Камени или со мной?
Ренисенб смотрела вниз на долину и на серебристую полосу Нила. Перед ее глазами вдруг возникло смеющееся лицо Камени, такое же, как тогда, когда он сидел напротив нее в лодке. Красивый, сильный, веселый… Она опять почувствовала, как кровь быстрее побежала по ее жилам. Она любила Камени. Он займет место Хея в ее жизни.
«Мы будем счастливы, да, мы будем счастливы, — думала она. — Будем жить вместе, наслаждаться любовью друг друга, иметь здоровых, красивых детей. Будут дни, занятые работой… и дни радости, когда мы идем плавать по реке… Жизнь станет такой, какой была у меня с Хеем… Чего еще мне ждать? Что еще мне нужно?»
И медленно, очень медленно она повернула голову к Хори. Словно, не произнося ни слова, задавала ему вопрос.
И, словно поняв ее, он ответил:
— Когда ты была ребенком, я любил тебя. Мне нравилось твое серьезное личико и доверчивость, с которой ты являлась ко мне, чтобы я починил твои сломанные игрушки. А потом, восемь лет спустя, ты снова пришла сюда, села и поделилась со мной своими мыслями. А мысли твои, Ренисенб, совсем не похожи на мысли всех других в вашей семье. Они не обращены внутрь себя, не ограничены узкими рамками собственного «я». Как и меня, они побуждают тебя смотреть за реку, видеть меняющийся мир со всеми его новшествами, мир, доступный только тем, кто наделен отвагой и способностью видеть…
— Я понимаю, Хори, я понимаю тебя. Я испытываю эти чувства, находясь рядом с тобой. Но не всегда. Будут минуты, когда я не смогу следовать за тобой, когда я останусь одна…
Она умолкла, не в силах найти слова, в которые можно было бы облечь ее бессвязные мысли. Она не могла представить себе, какой будет жизнь с Хори. Несмотря на его мягкость, на его любовь к ней, он в чем-то останется для нее непредсказуемым и непонятным. Их ждут прекрасные минуты радости, но какой будет их повседневная жизнь?
В безотчетном порыве она протянула к нему руки.
— О Хори, реши за меня. Скажи мне, как поступить.
Он улыбнулся ей — в ней говорил ребенок, быть может, в последний раз. Но на этот раз он не взял ее руки в свои ладони.
— Я не могу указывать, что тебе делать с твоей собственной жизнью, Ренисенб, потому что это твоя жизнь — тебе и решать.
Она поняла, что помощи ждать не приходится — Хори не взовет к ее чувствам, как поступил когда-то Камени. Если бы Хори дотронулся до нее! Нет, он не сделает ни единого движения.
И вдруг она осознала, что в действительности выбор очень прост. Какой жизни она ищет: легкой или трудной? Ей захотелось встать и спуститься вниз по извилистой тропинке к обычной счастливой жизни, которую она уже знала, которой она жила вместе с Хеем. Эта жизнь не сулила опасностей, в ней ее ждали повседневные радости и горести, в этой жизни нечего было бояться, кроме старости и смерти…
Смерть… В мыслях о жизни она, сделав круг, снова пришла к мысли о смерти. Хей умер, возможно, умрет и Камени, и его лицо, как и лицо Хея, постепенно сотрется из ее памяти…
Она посмотрела на Хори, молча стоявшего подле нее. Странно, подумала она, но она до сих пор его толком не разглядела. Ей это было ни к чему…
Она заговорила таким не терпящим возражения тоном, как тогда, когда заявила, что пойдет одна вниз по тропинке в час заката.
— Я сделала выбор, Хори. Я разделю жизнь, все радости и горести с тобой, пока смерть не разлучит нас…
Когда он обнял ее, а лицо его, прильнувшее к ее лицу, стало невиданно ласковым, она ощутила восторг перед радостью бытия.
«Если Хори суждено умереть, — думала она, — его я не забуду! Хори будет вечно жить в моем сердце… А это значит, что смерть ушла навсегда…»
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ Sparkling Cyanide 1945 © Перевод Ставиская A., 1991
Часть первая РОЗМЭРИ
Как выколоть из глаз воспоминанье?[53]
Глава 1 Айрис Марль
Шесть человек одновременно думали о Розмэри Бартон, умершей около года назад…
1
Айрис Марль думала о своей сестре Розмэри.
Почти год она нарочно гнала все мысли о Розмэри. Ей не хотелось вспоминать.
Слишком больно, слишком страшно.
Посиневшее от цианистого калия лицо, сведенные судорогой пальцы…
Какой контраст с веселой, прелестной Розмэри накануне… Впрочем, не такой уж веселой. До этого у нее был грипп, и она была измученна, подавленна… Все стало известно на следствии. Сама Айрис на этом настаивала. В какой-то мере это объясняло самоубийство.
Но как только закончилось следствие, Айрис попыталась сделать все, чтобы совершенно изгнать из памяти воспоминания. Что толку думать? Поскорее бы забыть весь этот ужас.
Но теперь пришло время вспомнить, мысленно вернуться в прошлое… припомнить все, до самых на первый взгляд незначительных мелочей…
Этот странный разговор с Джорджем накануне вечером требовал, чтобы она вспомнила.
Он был таким неожиданным, таким пугающим. Впрочем, был ли он неожиданным? Разве ничто не предваряло этот разговор? Ведь не назовешь иначе как странностью растущую угрюмость Джорджа, его рассеянность, необъяснимые поступки. Все переменилось вчера вечером, когда он позвал ее в кабинет и достал из ящика письма.
Теперь никуда от этого не денешься. Придется думать о Розмэри, придется вспоминать.
Розмэри, старшая сестра…
Айрис с удивлением отметила, что она впервые в жизни думает о Розмэри как о личности.
Всю жизнь она принимала Розмэри не задумываясь, как не задумываешься о матери, отце, сестре, тетке. Они существуют, и все — это как-то само собой разумеется.
Просто никогда не думаешь о них как о людях со своим особым «Я» и не задаешься вопросом, что же они собой представляют.
Так что собой представляла Розмэри?
Теперь все это важно; от этого многое будет зависеть. Айрис мысленно вернулась в прошлое. Она и Розмэри еще дети.
Розмэри была на шесть лет старше.
Выхваченные из памяти обрывки прошлого, мгновенные вспышки, короткие сценки.
Она сама, совсем еще маленькая, пьет молоко с хлебом, а Розмэри, очень важная, с косичками, готовит уроки за столом.
Лето на берегу моря. Айрис завидует Розмэри: она уже большая и умеет плавать.
Розмэри учится в пансионе и приезжает домой только на каникулы. Потом и сама Айрис уже в пансионе, а Розмэри завершает свое образование в Париже. Розмэри — школьница; нескладная, сплошные руки и ноги. И вот Розмэри возвращается из Парижа. В ней появилась какая-то незнакомая пугающая элегантность: мягкий голос, изящная походка, золотисто-каштановые волосы и огромные глаза, синие, с темными ресницами. Совсем взрослая, красивая женщина из какого-то другого мира.
Они редко виделись после ее приезда: шестилетняя разница между ними была в это время особенно ощутима.
Айрис еще учится в школе, а у Розмэри разгар «сезона». Но даже после того, как Айрис вернулась домой, дистанция между ними не уменьшилась. Розмэри жила своей жизнью: утро в постели, a la fourchette[54] в обществе таких же, как она, дебютанток, и почти каждый вечер танцы. Айрис же проводила утро с гувернанткой в классной комнате, ходила гулять в парк, в девять ужинала и в десять ложилась спать.
Разговор сестер обычно сводился к нескольким коротким фразам типа: «Хелло, Айрис. Будь душечкой, вызови мне такси. Я жутко опаздываю». — «Мне не нравится твое новое платье, Розмэри. Оно тебе не идет. Слишком много всего накручено».
Затем помолвка Розмэри с Джорджем Бартоном. Волнения, покупки, горы пакетов, платья для подружек невесты.
Свадьба. Шепот со всех сторон, когда Розмэри шла по церковному проходу: «Какая прелестная невеста!»
Почему Розмэри вышла замуж за Джорджа? Даже тогда Айрис удивил ее выбор. Вокруг было столько привлекательных молодых людей — они без конца звонили Розмэри, приглашали ее повсюду. Почему она выбрала Джорджа Бартона, который к тому же был на пятнадцать лет старше? Он добрый, милый, но слишком уж невыразительный.
Джордж был человек состоятельный, но здесь дело было явно не в деньгах. У Розмэри были свои деньги, притом немалые.
Наследство дяди Поля…
Айрис тщательно рылась в памяти, пытаясь отделить все, что было известно ей в то время, от того, что она знала сейчас. Ну вот, например, дядя Поль.
Он не был их родственником, это она всегда знала, как знала еще какие-то факты их семейной биографии, хотя никто с ней специально не говорил об этом. Поль Беннет был влюблен в их мать, но она предпочла ему другого человека, причем менее состоятельного. Поль Беннет вел себя по-рыцарски: остался другом семьи, до конца дней сохранив платоническую, романтическую привязанность к Виоле Марль. Он стал дядюшкой Полем и был крестным отцом первенца семьи — Розмэри. После его смерти выяснилось, что все состояние он завещал своей крестнице, которой исполнилось в то время тринадцать лет.
Итак, Розмэри, плюс к красоте, получила еще и наследство. И вышла замуж за славного, но ничем не примечательного Джорджа Бартона.
Почему она это сделала? Айрис и тогда ломала себе голову. Она не верила в то, что Розмэри была в него страстно влюблена. Но сестра, как казалось, была счастлива с ним и привязана к нему — да, безусловно привязана. Айрис имела возможность в этом убедиться. Через год после свадьбы Розмэри умерла их мать, красивая, болезненная женщина, и Айрис, которой тогда было семнадцать, поселилась вместе с Розмэри и ее мужем.
Семнадцать лет! Айрис попыталась представить себя в это время. Какой она была? Что она думала, чувствовала, видела?
Она пришла к выводу, что ее умственное развитие в этом возрасте оставляло желать лучшего. Она жила не задумываясь, принимая все как есть. Вызывало ли у нее, скажем, неудовольствие то, что мать всецело была поглощена Розмэри? В общем, нет. Она и сама без колебаний признавала первенство за старшей сестрой. Понятно, что, когда Розмэри начала «выезжать», мать, насколько позволяло ей слабое здоровье, целиком занялась старшей дочерью. Это было вполне естественно. Потом должен был наступить черед Айрис. Виола Марль всегда была довольно равнодушной матерью, слишком поглощенной своим здоровьем. Она охотно перепоручала дочерей нянькам, гувернанткам, учителям, но была неизменно ласкова с ними, когда они случайно попадались ей на дороге. В год смерти Гектора Марля Айрис исполнилось пять лет. Она толком не помнила, каким образом она узнала, что отец злоупотреблял горячительными напитками.
Семнадцатилетняя Айрис, оплакав, как должно, мать, надела траур и переехала жить к сестре и зятю в их дом на Элвастон-сквер.
Иногда ей бывало тоскливо в этом доме. Еще год ей не полагалось выезжать. Три раза в неделю она брала уроки французского и немецкого и посещала класс домоводства. Но частенько не знала, чем себя занять, ей было не с кем даже перемолвиться словом. Джордж был неизменно добр и по-братски нежен, отношение его не переменилось и сейчас.
А Розмэри? Айрис ее почти не видела. Она редко бывала дома. Портнихи, коктейли, бридж…
А что она фактически знала о Розмэри? О ее вкусах, надеждах, сомнениях? Даже страшно подумать, как подчас мало знаешь о человеке, живущем с тобой под одной крышей. Между сестрами не было или почти не было близости.
Но теперь ей придется поломать голову, придется вспоминать. Теперь важна каждая мелочь.
Казалось, что Розмэри счастлива…
Так казалось до того самого дня… За неделю до всех событий…
Она никогда не забудет этот день. Она помнит его совершенно отчетливо — каждую мелочь, каждое слово. Полированный стол красного дерева, отодвинутый стул, торопливо написанные строчки.
Айрис закрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти всю сцену.
Она входит в комнату Розмэри и застывает пораженная. Розмэри сидела за столом, уронив голову на руки, и безудержно рыдала. Айрис никогда до этого не видела Розмэри плачущей, и эти горькие, отчаянные слезы испугали ее.
Правда, Розмэри тогда еще не совсем оправилась после тяжелого гриппа, всего день как встала с постели. Грипп, как известно, вызывает депрессию. Но тем не менее…
Айрис вскрикнула, голос ее прозвучал по-детски испуганно: «Розмэри, что случилось?»
Розмэри от неожиданности выпрямилась, потом откинула волосы с опухшего от слез лица. Пытаясь справиться с рыданиями, она торопливо сказала: «Ничего, ничего страшного. Пожалуйста, не смотри на меня так».
Она встала из-за стола и мимо сестры опрометью кинулась из комнаты.
Озадаченная, расстроенная Айрис подошла к столу. В глаза ей бросилось собственное имя, написанное знакомым почерком сестры. Что это значит? Розмэри писала ей?
Она подошла ближе и взглянула на голубой листок бумаги. Крупные размашистые буквы, еще более размашистые, чем обычно, от спешки и волнения.
«Дорогая Айрис!
Не имеет смысла оставлять завещание, потому что тебе и так достанутся все мои деньги. Мне только хочется, чтобы ты передала кое-какие вещи нескольким людям.
Джорджу — драгоценности, которые он мне подарил, и маленькую эмалевую шкатулку, ту, что мы купили после нашей помолвки. Глории Кинг — платиновый портсигар, а Мейзи — мою китайскую фаянсовую лошадку, которая ей так нра…»
Здесь письмо обрывалось. Сделав последний отчаянный росчерк, Розмэри бросила перо и дала волю слезам.
Айрис стояла как вкопанная.
Что все это значит? Ведь Розмэри не собирается умирать? Она, правда, перенесла тяжелый грипп, но болезнь уже позади. Люди, как правило, не умирают от гриппа. Бывают, конечно, такие случаи, но Розмэри уже поправилась. Она себя вполне хорошо чувствует, вот только слабость и угнетенное состояние…
Айрис снова пробежала глазами письмо, и лишь на этот раз до нее дошел смысл фразы: «…тебе и так достанутся все мои деньги…»
Так она впервые узнала, на каких условиях Поль Беннет составил свое завещание. С детства она привыкла считать, что Розмэри получила в наследство деньги дяди Поля и что она богата, в то время как сама Айрис сравнительно бедна. Но до этой минуты ей в голову не приходило задумываться над тем, что станется с деньгами после смерти Розмэри.
Если бы ее об этом спросили, она, очевидно, ответила бы, что они перейдут к Джорджу, мужу Розмэри, но тут же бы добавила, что глупо предполагать, будто Розмэри может умереть раньше Джорджа.
Однако здесь было ясно написано черным по белому, притом рукой самой Розмэри, что после ее смерти деньги получит Айрис. Но ведь так как будто не полагается? Деньги по наследству переходят мужу или жене, а не сестре. Если, конечно, Поль Беннет не оговорил это особо в своем завещании. Наверное, так он и сделал: написал, что деньги переходят к ней в случае смерти Розмэри. Тогда, конечно, другое дело. А иначе было бы несправедливо.
Несправедливо? Она испугалась этого слова. Приходило ли ей в свое время в голову, что в завещании дяди Поля была какая-то несправедливость? Теперь ей казалось, что где-то в глубине души она об этом думала. Это и вправду было несправедливо. Они ведь с Розмэри родные сестры, дети одной матери. Почему же дядя Поль оставил все Розмэри?
У Розмэри было все на свете: вечеринки и платья, влюбленные молодые люди и заботливый муж.
Единственной неприятностью в жизни Розмэри был грипп. Но даже и он через неделю кончился.
Айрис в нерешительности стояла у письменного стола. Что делать с этим листком бумаги? Вряд ли Розмэри будет приятно, если он попадется на глаза кому-нибудь из слуг.
После минутного колебания она взяла листок, сложила пополам и сунула в один из ящиков.
Его нашли после того рокового дня рождения. Он послужил лишним доказательством, если вообще нужны были доказательства, что Розмэри после болезни находилась в мрачном, угнетенном состоянии духа и, возможно, подумывала о самоубийстве.
«Депрессия после гриппа». Таково было заключение, к которому пришло следствие. Показания Айрис только подтвердили его. Весьма вероятно, что эта причина не выглядела достаточно веской, но за неимением другой она была принята. Кстати, в тот год свирепствовала тяжелая эпидемия гриппа.
Ни Айрис, ни Джорджу Бартону не приходило в голову, что возможно какое-то иное объяснение.
И теперь, мысленно возвращаясь к эпизоду на чердаке, Айрис поразилась тому, как она могла быть такой слепой.
Все происходило буквально у нее на глазах, а она ничего не заметила, ничего.
Она отогнала воспоминание о трагическом дне рождения. Ни к чему снова думать об этом. Ничего не вернешь. Поскорее забыть этот ужас, следствие, дергающееся лицо Джорджа, его налитые кровью глаза. Минуя все это, попытаться вспомнить историю с сундуком на чердаке.
2
Это случилось через шесть месяцев после смерти Розмэри.
Айрис продолжала жить в доме на Элвастон-сквер. После похорон семейный стряпчий Марлей, обходительный пожилой господин со сверкающей лысиной и неожиданно проницательным взглядом, имел беседу с Айрис. Он растолковал ей, что по завещанию Поля Беннета Розмэри стала наследницей состояния, которое после ее смерти должно было перейти к ее детям. В случае если она умрет бездетной, все состояние целиком переходило к Айрис. По словам стряпчего, это было огромное наследство, в безраздельное владение которым Айрис могла вступить лишь по достижении двадцати одного года или по выходе замуж.
Первым делом нужно было решить, где она будет жить. Джордж Бартон уговаривал ее остаться в его доме и предложил пригласить миссис Дрейк, сестру ее отца, поселиться с ними в качестве компаньонки Айрис. Миссис Дрейк находилась в то время в затрудненных материальных обстоятельствах из-за бесконечных денежных притязаний ее сына, паршивой овцы семейства Марль. Джордж спросил Айрис, как она отнесется к его плану.
Айрис, которой меньше всего на свете хотелось что-то менять, охотно приняла это предложение. В ее памяти тетя Люсилла была пожилой добродушной курицей, не имевшей собственного мнения.
Таким образом все уладилось. Джордж не скрывал радости от того, что Айрис осталась жить в его доме, и опекал ее с трогательной нежностью старшего брата. Миссис Дрейк, которую едва ли можно было назвать веселой компаньонкой, полностью подчинила себя желаниям Айрис. Скоро в доме установилась спокойная дружеская обстановка.
Все это случилось примерно за полгода до того, как Айрис сделала свое открытие.
Чердак в доме Бартонов на Элвастон-сквер служил кладовой для хранения старой мебели, сундуков и чемоданов.
Как-то раз, в поисках куда-то запропастившегося старого красного свитера, который она очень любила, Айрис поднялась на чердак.
Джордж убедил ее не носить траура по Розмэри. Сама. Розмэри, по его словам, всегда была против траура. Айрис это знала и потому, не споря с ним, продолжала носить свои повседневные платья, заслужив неодобрение Люсиллы Дрейк, которая придерживалась старинных правил и считала необходимым соблюдать приличия. Сама она все еще носила траур по мужу, скончавшемуся лет двадцать назад.
Айрис знала, что всю лишнюю одежду складывали в сундук на чердаке. И пока она искала свой свитер, ей попалось много забытых вещей — серая жакетка и юбка, куча чулок, лыжный костюм, два ее старых купальника.
Здесь же она нашла старый халат Розмэри, случайно не отданный со всеми ее вещами. Халат был мужского покроя, из шелка с пятнистым узором, с двумя большими карманами.
Айрис встряхнула его и посмотрела на свет. Он был в прекрасном состоянии. Тогда она снова свернула халат и положила обратно в сундук. При этом в кармане что-то хрустнуло. Она сунула туда руку и вытащила скомканный листок бумаги. Она узнала почерк Розмэри, расправила листок и прочла:
«Леопард, милый, ты ведь это не всерьез. Это невозможно, невозможно. Мы любим друг друга, мы принадлежим друг другу. Ты это знаешь не хуже меня. Мы не можем так спокойно распрощаться и разойтись. Ты же знаешь, что так нельзя. Мы принадлежим друг другу навеки, навсегда. Я не мещанка. Мне все равно, что скажут люди. Любовь для меня дороже всего на свете. Мы уедем с тобой и будем счастливы. Я сделаю тебя счастливым. Ты мне как-то сказал, что тебе без меня все равно жизни нет. Ты помнишь, Леопард, милый? А теперь ты так спокойно пишешь, что лучше все кончить и что это будет только честно по отношению ко мне. Честно? Но ведь я не могу без тебя жить. Мне жаль Джорджа — он всегда был так добр ко мне. Но он поймет. Он сам захочет дать мне свободу. Нельзя жить вместе не любя. Бог создал нас друг для друга, милый. Я в этом уверена. И мы будем очень счастливы. Но для этого нужно мужество. Я сама скажу Джорджу. Мне хочется, чтобы все было по-честному, но только после моего дня рождения.
Родной, я знаю, что поступаю правильно. Я не могу без тебя жить, не могу, не могу. Глупо писать тебе все это. Достаточно было бы и двух строчек: „Я тебя очень люблю и никогда тебя не отпущу… Родной мой…“»
На этом письмо обрывалось. Айрис стояла в оцепенении, глядя на листок бумаги. Как мало знала она о родной сестре!
Значит, у Розмэри был любовник. Она писала ему страстные письма, собиралась уехать с ним.
Что же произошло? Розмэри так и не отправила этого письма. А какое письмо она послала? И к какому решению в конечном счете пришли Розмэри и этот незнакомый Айрис человек? («Леопард»! Чего только не придумают влюбленные! «Леопард». Чушь какая!)
Но кто этот человек? Любил ли он Розмэри так же, как она его? Иначе не могло быть. Ведь Розмэри была так очаровательна. И тем не менее, судя по письму, он собирался «все кончить». Что это означало? Осторожность? Он, очевидно, говорил, что разрыв необходим для блага самой же Розмэри, что это будет честно по отношению к ней. Но мужчины всегда так говорят для отвода глаз. А может быть, ему, кто бы он ни был, просто надоела эта история? Может быть, для него это было не более чем мимолетное увлечение или он вообще никогда не относился к этому серьезно? Почему-то у Айрис сложилось впечатление, что этот незнакомый человек твердо решил порвать с Розмэри.
Но Розмэри думала иначе. Она бы ни перед чем не остановилась. Она была настроена решительно.
Айрис вздрогнула…
Подумать только, она ничего обо всем этом не знала, даже не догадывалась. Она принимала как должное, что Розмэри и Джордж были довольны и счастливы и вполне устраивали друг друга. Как она была слепа! Нужно быть совершенно слепой, чтобы не знать самого главного о своей родной сестре.
Однако кто же этот человек? Она мысленно вернулась назад, пытаясь вспомнить. Розмэри всегда была окружена поклонниками. Они повсюду ее приглашали, звонили. Но среди них не было ни одного, кого бы Розмэри отличала. То есть, конечно, он был, а остальные существовали просто так, чтобы никто не догадался о нем, о единственном. Айрис напряженно хмурила лоб, тщательно просеивая воспоминания.
В памяти всплыли два имени. Должно быть, кто-то из них двоих. Стивен Фарадей? Мог быть и он. Но что Розмэри в нем нашла? Страшно напыщенный молодой человек. К тому же не такой уж и молодой. Правда, говорят, подающий большие надежды политический деятель. Ему прочили в недалеком будущем портфель министра. Его поддерживал весь клан Киддерминстеров, с их широкими связями. Не исключено, что в один прекрасный день он станет премьер-министром! Очевидно, все это придавало ему блеск в глазах Розмэри. Нет, едва ли она так отчаянно могла любить такого холодного, замкнутого человека. Но говорят, что его жена страстно в него влюблена и вышла за него замуж наперекор воле своей могущественной семьи. Вышла замуж за человека без имени и состояния, с одним только политическим честолюбием! Но если одна женщина души в нем не чает, то почему не может и вторая? Не исключено, что это был именно Стивен Фарадей.
В противном случае это мог быть только Энтони Браун.
Айрис очень бы этого не хотелось.
Нельзя отрицать, он был верным рабом Розмэри, готов был явиться по первому ее зову. На его смуглом красивом лице всегда было выражение какого-то чуть насмешливого отчаяния. Но это поклонение было слишком явным, слишком он его афишировал, и потому трудно было поверить, что за ним крылось глубокое чувство.
Он как-то странно, неожиданно исчез после смерти Розмэри, и с тех пор никто его не видел.
Впрочем, не так уж неожиданно. Он много путешествовал и раньше и всегда рассказывал про Аргентину, Канаду, Уганду[55], Соединенные Штаты. Айрис считала, что он американец или канадец, хотя говорил он без малейшего акцента. Ничего не было странного в том, что он исчез, и исчез бесследно.
Ведь он был другом Розмэри и не обязан навещать ее сестру и мужа. Но он был именно другом, а не любовником Розмэри. Айрис была неприятна мысль о том, что он мог быть возлюбленным сестры. Это было бы больно, невыносимо больно…
Она взглянула на письмо, которое все еще держала в руке, потом скомкала листок. Ей захотелось выбросить его, сжечь…
И только какой-то инстинкт не позволил ей это сделать.
Придет день, когда это письмо, может быть, понадобится. Она расправила листок, унесла к себе и спрятала в шкатулку с драгоценностями.
Настанет день, когда понадобится объяснить, почему Розмэри покончила с собой.
3
«Что еще прикажете?»
Нелепая фраза неожиданно возникла в памяти, вызвав невольную улыбку. Вопрос, который часто слышишь в лавке, точно отражал ход ее старательно направляемых мыслей.
Словно перебирая товары и один за другим откладывая их в сторону, она пыталась разобраться в прошлом. С эпизодом на чердаке покончено. «Что еще прикажете?» Что же еще?
Во-первых, странности в поведении Джорджа. Последнее время он вел себя очень странно. Айрис давно это заметила. Но вчерашний ночной разговор разрешил все ее прежние недоумения. Отдельные разрозненные фразы, поступки обрели наконец смысл в общей цепи событий.
Затем — появление Энтони Брауна. Собственно говоря, его появление — по времени — следовало поместить перед странностями в поведении Джорджа, поскольку Энтони Браун появился ровно через неделю после того, как Айрис нашла письмо.
Она точно помнила все свои ощущения…
Розмэри умерла в ноябре, а в мае следующего года Айрис, под крылышком Люсиллы Дрейк, начала свою светскую жизнь. Она ездила на званые обеды, ленчи[56], чаепития, танцы, не испытывая от этого большой радости. В основном все это вызывало у нее скуку и чувство неудовлетворенности. Однажды в конце июня на одном из томительных танцевальных вечеров она услыхала, как кто-то произнес за ее спиной: «Неужели это Айрис Марль?»
Обернувшись, она со смущением увидела смуглое насмешливое лицо Энтони Брауна.
— Я не надеялся, что вы меня вспомните, но все же…
Она прервала его:
— Что вы! Я вас очень хорошо помню, отлично помню.
— Превосходно. А я боялся, что вы меня забыли. Ведь мы очень давно не виделись.
— Я знаю. Со дня рождения…
Она умолкла, так и не закончив весело и беззаботно начатой фразы. Краска отхлынула от щек, губы задрожали, а в неожиданно расширившихся зрачках появился страх.
Энтони поспешно сказал:
— Ради Бога, простите. Как я мог так жестоко…
У Айрис перехватило горло.
— Ничего. Все в порядке.
Они не виделись со дня рождения Розмэри. Со дня ее самоубийства. Нет, она не будет об этом думать, не будет!
Энтони повторил:
— Я очень виноват. Пожалуйста, простите меня. Может, мы пойдем потанцуем?
Айрис утвердительно кивнула.
Когда они вошли в зал, танец только начинался. Совсем еще зеленый, застенчивый юнец, которому она обещала этот танец, высматривал ее, вытянув шею в слишком свободном воротничке. Только дебютантки могут мириться с такими партнерами, подумала она с презрением. Они в подметки не годятся Брауну… другу Розмэри…
Сердце больно кольнуло. Друг Розмэри. Письмо.
Неужели оно написано человеку, с которым она сейчас танцует? Что-то в его легкой кошачьей грации вызвало в памяти это странное прозвище — Леопард, Неужели он и Розмэри?..
Она резко спросила:
— А где вы были все это время?
Он слегка отстранил ее, пристально посмотрел ей в глаза. Он уже не улыбался, а в его голосе прозвучал холодок:
— Я путешествовал… по делам службы.
— Понятно.
Айрис как будто кто-то тянул за язык.
— А для чего вы вернулись?
Тут он улыбнулся и шутливо сказал:
— Может быть, чтобы повидать вас, Айрис Марль.
И вдруг, чуть крепче обняв, он ловко провел ее среди танцующих, виртуозно сохраняя при этом темп и ритм. Айрис не понимала, почему к радостному чувству от этой встречи все еще примешивается страх.
С этого вечера Энтони прочно вошел в ее жизнь. Они встречались не реже раза в неделю. Он возникал во время прогулок в парке, на танцах, оказывался рядом с ней за столом на званых обедах.
Единственное место, где он никогда не появлялся, был их дом на Элвастон-сквер. Он каждый раз так ловко находил предлог отклонить приглашение, что Айрис долго ничего не замечала, а когда наконец поняла, то стала мучительно доискиваться причины. Почему он не хочет приходить к ним? Не потому ли, что он и Розмэри…
Затем, к ее великому изумлению, Джордж, добрейший Джордж, который никогда ни во что не вмешивался, заговорил с ней об Энтони:
— Кто этот тип, Энтони Браун, с которым ты проводишь время? Что тебе о нем известно?
Айрис с удивлением посмотрела на Джорджа:
— Что мне известно? Но ведь он был другом Розмэри.
Лицо Джорджа дрогнуло; он заморгал, затем сказал каким-то сдавленным, упавшим голосом:
— Да, конечно.
— Прости меня, Джордж. Я не должна была напоминать тебе об этом! — огорченно воскликнула Айрис.
Джордж покачал головой:
— Нет-нет. Я не хочу, чтобы ты ее забыла. Ведь и само имя Розмэри — цветок розмарина — символ воспоминания, — тихо добавил он. Он взглянул ей прямо в глаза: — Не забывай сестру, Айрис.
У нее перехватило дыхание.
— Я ее никогда не забуду!
— Да, так вот, насчет этого молодого человека, Энтони Брауна. Розмэри могла к нему хорошо относиться, но не думаю, чтобы она о нем что-нибудь знала. Ты, во всяком случае, должна быть осторожна, Айрис. Ты богатая наследница.
Айрис почувствовала, как в ней растет раздражение.
— Да у Тони, у Энтони, у него у самого куча денег. В Лондоне он всегда останавливается у Клариджа[57].
Джордж Бартон слегка улыбнулся:
— Чрезвычайно фешенебельный и дорогой отель. И тем не менее, Айрис, никто об этом парне толком ничего не знает.
— Он американец.
— Вполне возможно. Тем более странно, что его посольство не слишком им интересуется. Наш дом он тоже не часто посещает, насколько мне известно.
— Не понимаю, почему он должен приходить, если ты так ужасно к нему относишься.
Джордж покачал головой:
— Я, кажется, лезу не в свое дело. Ну хорошо. Я только хотел тебя своевременно предупредить. Я еще поговорю с Люсиллой.
— С Люсиллой? — сказала Айрис с презрением.
Джордж обеспокоенно спросил:
— Ты чем-нибудь недовольна? Она не заботится о том, чтобы ты развлекалась? Я имею в виду вечеринки и все прочее.
— Ну что ты! Она трудится не покладая рук.
— Ты учти, Айрис, если что не так, тебе достаточно сказать слово, и мы найдем ей замену — помоложе и не такую старомодную. Я хочу, чтобы тебе было хорошо.
— Мне и так хорошо, Джордж. Правда.
Он сказал грустно:
— Ну, тогда все в порядке. К сожалению, от меня толку мало. Я никогда не был особенно светским человеком. Но смотри, чтобы у тебя было все, что нужно. Ни в чем себе не отказывай.
В этом был весь Джордж — добрый, неловкий, часто даже нелепый.
Он сдержал свое обещание — или даже угрозу — переговорить с миссис Дрейк об Энтони Брауне. Однако судьбе угодно было распорядиться по-своему: разговор состоялся в момент, когда Люсилле было не до того.
Она только что получила телеграмму от своего незадачливого отпрыска, который был единственной ее отрадой и прекрасно умел заставить струны материнского сердца звучать наивыгоднейшим для своего кармана образом.
«Умоляю выслать двести фунтов на грани отчаяния вопрос жизни и смерти
Виктор»Люсилла рыдала.
— У Виктора так развито чувство чести. Он знает, что я стеснена в средствах, и никогда бы ко мне не обратился, если бы не крайняя нужда. Я так боюсь, что он застрелится.
— Только не он, — сказал бесчувственный Джордж.
— Вы его не знаете. Я мать, и кому, как не мне, знать, на что может решиться мой сын. Я никогда себе не прощу, если не выполню его просьбы. Я могла бы помочь ему, если бы продала акции.
Джордж вздохнул:
— Послушайте, Люсилла. Я сделаю телеграфный запрос через одного из моих тамошних агентов. Мы точно будем знать, какого рода неприятности грозят Виктору. Мой вам совет — дайте ему возможность самому расхлебать кашу, которую он заварил. Он никогда не станет на ноги, пока вы будете ему помогать.
— У вас нет сердца, Джордж. Моему бедному мальчику всегда так не везет.
Джордж промолчал. С женщинами спорить бесполезно.
— Я поручу это Рут. Завтра будет ответ, — сказал он.
Люсилла немного успокоилась. Требуемую сумму в конце концов удалось сократить до пятидесяти фунтов. Но Люсилла настаивала, чтобы эти деньги перевели немедленно.
Айрис хорошо знала, что Джордж пошлет свои деньги, хотя и делал вид, что собирается продать акции Люсиллы. Айрис оценила его щедрость. Когда она сказала ему об этом, он ответил:
— Просто я считаю, что в семье не без урода. Всегда кто-то норовит сесть вам на шею. Пока Виктор жив, кому-то все время придется раскошеливаться.
— Но почему это должен делать ты? Ведь он тебе не родственник.
— Но он родственник Розмэри, значит, и мой.
— Ты прелесть, Джордж. Но может быть, это сделаю я? Ты всегда ведь говоришь, что у меня уйма денег.
Он улыбнулся:
— Никаких денег послать ты не можешь до своего совершеннолетия. Если у тебя хватит ума, ты не станешь этого делать и после. Я хочу дать тебе практический совет. Когда ты получишь телеграмму, что кто-то кончает с собой, если ему не вышлют двести фунтов, знай, что в таких случаях хватит и двадцати, даже десяти. Мать, конечно, всегда будет отрывать от себя и посылать. Тут ничего не поделаешь, но сумму при желании можно урезать. Запомни это. Ясно как божий день, что Виктор Дрейк никогда не покончит с собой. Это не тот человек. Вообще люди, которые грозятся покончить с собой, никогда этого не делают.
Никогда? Айрис подумала о Розмэри, но тут же отогнала эту мысль. Джордж, видимо, в этот момент думал не о Розмэри, а только о ловком и беспринципном молодом человеке в Рио-де-Жанейро.
Айрис считала, что выгадала на этом событии, так как материнские заботы помешали Люсилле целиком сосредоточить внимание на ее дружбе с Энтони Брауном.
Итак, мадам, что еще прикажете?
Эта резкая перемена в Джордже. Айрис не могла больше не думать об этом. Когда все началось? И какова была причина? И даже сейчас, вспоминая, она не могла точно сказать, когда это началось.
После смерти Розмэри Джордж стал очень рассеян, на него часто находили приступы глубокой задумчивости, когда он ничего не замечал вокруг. Он сразу постарел, отяжелел. Все это было естественно. Но когда его странности перестали укладываться в рамки простой рассеянности?
Это случилось после их спора об Энтони Брауне. Она вдруг заметила, что Джордж смотрит на нее как-то недоумевающе и озадаченно. Потом он стал необычно рано возвращаться домой и запирался у себя в кабинете. Как будто никаких особых дел у него не было. Как-то раз, войдя к нему, Айрис увидела, что он сидит за столом, уставившись в пространство. Он поднял голову и смотрел на нее тусклым, погасшим взглядом. Все поведение его говорило о том, что он перенес какое-то душевное потрясение. На вопрос Айрис о том, что случилось, он односложно ответил: «Ничего».
Постепенно у него на лице появилось напряженное, озабоченное выражение человека, которого что-то гнетет.
Никто не обратил на это внимания. Айрис во всяком случае. Неприятности всегда так легко отнести к разряду «служебных».
Затем он вдруг стал время от времени задавать ей вопросы, которые, казалось, ничем не вызваны. Только тогда ей впервые пришло в голову, что поведение его становится слишком странным.
— Скажи, Айрис, Розмэри часто с тобой разговаривала?
Айрис посмотрела на него с недоумением:
— Разговаривала? Конечно, но… О чем? Что ты имеешь в виду?
— О себе, о своих друзьях. О том, что с ней происходит. Счастлива она или нет. В таком роде.
Ей казалось, она понимала, что он хотел сказать. Наверное, до него дошли какие-то слухи о неудачном романе Розмэри.
— Она мне почти ничего не рассказывала. Ей было вечно некогда, — сказала Айрис, подумав.
— Да, ты была еще ребенком. Я понимаю. И тем не менее она могла хоть что-то тебе сказать.
Он смотрел на нее выжидающе, как пес. Айрис не хотелось делать ему больно. Розмэри и вправду ей ничего не говорила. Она покачала головой.
Джордж глубоко вздохнул и мрачно сказал:
— Впрочем, все это не важно.
А на следующий день он спросил ее, не знает ли она, кто были близкие подруги Розмэри.
Айрис задумалась.
— Глория Кинг. Миссис Атвелл — Мейзи Атвелл. Джин Реймонд.
— А насколько она была с ними близка?
— Точно не знаю.
— Меня интересует, была ли она с ними откровенна.
— Право, не знаю, не думаю. Собственно говоря, о какой откровенности ты говоришь?
Она пожалела, что задала этот вопрос, однако ответ Джорджа поразил ее:
— Говорила когда-нибудь Розмэри, что она кого-то боится?
— Боится? — Айрис взглянула на него с удивлением.
— Я пытаюсь узнать, были ли у Розмэри враги.
— Среди женщин?
— Нет, необязательно. Я не это имею в виду. Настоящие враги. Не было ли среди тех, кого ты знаешь, человека, который желал бы ей зла?
Искреннее недоумение в глазах Айрис смутило его. Он покраснел и пробормотал:
— Я знаю, это звучит глупо. Мелодраматично. Я только так спросил, на всякий случай.
Спустя еще два дня он принялся расспрашивать ее о Фарадеях:
— Как часто Розмэри встречалась с Фарадеями?
Айрис не знала, что ответить.
— Право, не знаю, Джордж.
— Говорила она когда-нибудь о них?
— Нет, насколько я помню.
— Они были близки?
— Розмэри очень увлеклась политикой.
— Да. С тех пор как встретилась с Фарадеями в Швейцарии. До этого ей было наплевать на политику.
— Это верно. Мне кажется, она увлеклась политикой после знакомства со Стивеном Фарадеем. Он приносил ей разные брошюрки.
Джордж спросил:
— А что думала об этом Сандра Фарадей?
— О чем?
— О том, что ее муж дает читать Розмэри брошюрки.
Айрис стало не по себе.
— Не знаю, — сказала она.
— Она прекрасно владеет собой. С виду холодна как лед. Но говорят, она с ума сходит по Фарадею. Такого типа женщина вряд ли могла одобрить его дружбу с другой.
— Да, пожалуй.
— А в каких отношениях Розмэри была с женой Фарадея?
Подумав, Айрис сказала:
— В весьма прохладных. Розмэри смеялась над Сандрой. Говорила, что она напоминает ей лошадь-качалку, набитую политикой. Она и правда похожа на лошадь. Еще Розмэри говорила, что, если ее проткнуть, посыпятся опилки.
Джордж ухмыльнулся, потом спросил:
— Ты все так же часто видишься с Энтони Брауном?
— Довольно часто.
В голосе Айрис появились холодные нотки. Однако Джордж как будто успел забыть о своих прежних опасениях и продолжал любопытствовать:
— Он рассказывал тебе что-нибудь о своей жизни? Он ведь много ездил по свету.
— Рассказывал, но очень мало. Он действительно много путешествовал.
— Наверное, по служебным делам?
— Да, кажется.
— А чем именно он занимается?
— Не знаю.
— Он связан с военными фирмами?
— Мне он этого не говорил.
— И ты уж ему не говори, что я этим интересуюсь. Просто любопытно. Прошлой осенью его часто видели с Дьюсбери, председателем Британской компании по производству оружия. Розмэри, кажется, много времени проводила с этим Энтони Брауном?
— Много.
— Но это не была давняя дружба. Скорее, случайное знакомство. Он как будто был ее постоянным партнером на танцевальных вечерах?
— Да.
— По правде говоря, меня удивило, когда она вдруг решила пригласить его на свой день рождения. Я не думал, что она так хорошо с ним знакома.
— Он прекрасно танцует, — сдержанно заметила Айрис, и в ее памяти невольно воскресла картина того вечера.
— Да, конечно.
Круглый стол в ресторане «Люксембург», затененные лампы, цветы. Назойливый джазовый мотив. За столом семеро: она сама, Энтони Браун, Розмэри, Стивен Фарадей, Рут Лессинг, Джордж и справа от него жена Фарадея, леди Александра Фарадей. Гладкие пепельные волосы, тонкий вырез ноздрей, хорошо поставленный надменный голос. Веселая компания. Или не очень веселая?
Лессинг Айрис Марль
И в самом центре — Розмэри. Но нет, лучше об этом не вспоминать. Лучше думать только о том, как она сама сидела за одним столом с Тони. Это была их настоящая первая встреча. А до этого — только лишь имя, тень в холле рядом с Розмэри, когда внизу у подъезда дожидается такси.
Она вздрогнула, услыхав голос Джорджа, который дважды повторил свой вопрос:
— Интересно, куда он тогда делся? Он ведь тотчас же исчез.
— Уехал на Цейлон или в Индию, — сказала она уклончиво.
— Нов тот вечер он как будто никуда не собирался.
— А почему он должен был об этом сообщать? И вообще, что ты все время возвращаешься к тому вечеру?
Джордж стал багровым от смущения.
— Прости меня, Айрис. Кстати, пригласи как-нибудь Брауна к обеду. Мне бы хотелось его повидать.
Айрис была счастлива. Джордж явно исправился. Приглашение было передано и с благодарностью принято, но в последний момент внезапная служебная командировка на север помешала Энтони прийти.
Однажды в конце июля Джордж поразил Айрис и Люсиллу неожиданным сообщением о том, что он купил загородный дом.
— Купил дом? — спросила Айрис, не веря своим ушам. — А я думала, мы снимем дом в Горинге на два месяца.
— Приятнее же иметь собственный дом. Можно круглый год проводить там выходные.
— Где же он находится? На реке?
— Не совсем. То есть совсем не на реке. В Сассексе[58], Марлингем. Имение называется Литл-Прайерс. Двенадцать акров[59] и большой дом в георгианском стиле[60].
— Но как ты решился купить дом, не посоветовавшись с нами?
— Подвернулся удачный вариант. Увидел объявление и буквально схватил.
— Дом, очевидно, нужно заново отделывать и ремонтировать? — спросила миссис Дрейк.
— Нет-нет. Там все в порядке. Я поручил Рут обо всем позаботиться.
Упоминание о Рут Лессинг, первоклассной секретарше Джорджа, было встречено почтительным молчанием. Рут была примечательной личностью. Фактически она стала членом семьи. Красивое лицо и строгий сдержанный стиль. В ней поразительно сочетались превосходные деловые качества и редкая тактичность.
Когда была жива Розмэри, то и дело можно было от нее слышать: «Поручи это Рут. Она со всем справится. Прошу тебя, предоставь это Рут».
Любую неприятность легко могли уладить ловкие пальчики мисс Лессинг. Приветливая, улыбающаяся, но при этом всегда сохраняющая некоторую дистанцию, она умела преодолевать все препятствия. Рут управляла делами Джорджа и, как говорили злые языки, самим Джорджем.
Он был к ней очень привязан и в своих суждениях целиком на нее полагался. У самой Рут, казалось, не было никаких личных желаний и потребностей.
Но тем не менее на этот раз Люсилла Дрейк была недовольна.
— Дорогой Джордж, я очень ценю таланты мисс Лессинг, но, как мне кажется, в нашей семье есть женщины, которые сами могли бы выбрать цвет обоев для собственной гостиной. Вам бы следовало спросить об этом Айрис. О себе я не говорю, я не в счет. Но Айрис это может огорчить.
Джордж был явно смущен.
— Я хотел сделать вам сюрприз, — сказал он.
Люсилла выдавила из себя улыбку.
— Джордж, вы сущий ребенок.
— Мне безразлично, какого цвета будут обои, — сказала Айрис. — Я уверена, что Рут все устроит наилучшим образом. Она такая практичная. А что мы там будем делать? Там есть хотя бы теннисный корт?
— Да, и поле для гольфа[61] в шести милях от дома, а до побережья всего четырнадцать миль[62]. Кроме того, у нас будут соседи. Всегда приятнее ехать туда, где есть знакомые.
— Какие еще соседи? — резко спросила Айрис.
Джордж отвел взгляд.
— Фарадеи. Они живут в полутора милях, за парком.
Айрис пристально посмотрела на него. Теперь она не сомневалась, что все эти хлопоты с покупкой и переоборудованием дома Джордж затеял с одной-единственной целью — завязать более тесный контакт с Фарадеями. Живя за городом, невозможно не дружить со своими ближайшими соседями, если, конечно, вы не собираетесь их намеренно избегать.
Но для чего он все это затеял? Почему он так упорно возвращается к Фарадеям? И почему для достижения своей неясной ей пока цели он выбрал такой дорогостоящий способ?
Может быть, у Джорджа возникло подозрение, что Розмэри и Стивена Фарадея связывала не только дружба? Тогда что это такое? Посмертная ревность? Дикая мысль, не укладывающаяся ни в какие рамки.
Но что, однако, ему нужно от Фарадеев? Что означают все эти вопросы, приводившие Айрис в замешательство? Все недавние странности в его поведении? А его полубезумный вид по вечерам? Люсилла считала, что все дело в излишнем пристрастии к портвейну. Только такое ей и могло прийти в голову.
Джордж на самом деле последнее время вел себя очень странно. Возбуждение сменялось у него полной апатией, потом он погружался в прострацию.
Большую часть августа они провели-таки в новом загородном доме. Айрис поежилась. Жуткий дом! Она ненавидела этот Литл-Прайерс. Красивый, солидный, со вкусом обставленный (Рут Лессинг оказалась, как всегда, на высоте), но удивительно пугающе пустой. Они в нем не жили. Они его занимали. Как солдаты в войну занимают наблюдательный пункт.
Ужасным его делала маскировка под нормальную дачную жизнь: гости по субботам, теннис, обеды с Фарадеями в будние дни. Сандра Фарадей была сама любезность — образец дружеского отношения к соседям, которые уже не просто соседи, а почти друзья. Она ввела их в местное общество, дала Джорджу и Айрис массу полезных советов насчет лошадей и была предупредительна к Люсилле, как к самой старшей в доме.
Но никто не знал, что кроется за этой улыбкой, за этой бледной маской. Эта женщина была загадочна, как сфинкс[63].
Стивена они видели редко. Он был занят, его политическая карьера требовала постоянных отлучек. Айрис не сомневалась, что он старается поменьше сталкиваться с обитателями Литл-Прайерс.
Так прошел август, за ним сентябрь. Было решено, что в октябре они переедут обратно в свой лондонский дом.
Айрис встретила это известие с облегчением. Она надеялась, что по возвращении в Лондон Джордж придет в норму.
И вдруг вчера этот неожиданный ночной стук в дверь. Она проснулась, зажгла свет и взглянула на часы. Она легла в половине одиннадцатого, и теперь ей показалось, что уже очень поздно. Но был всего час ночи.
Она накинула халат и пошла открывать. Это было для нее естественней, чем просто крикнуть: «Войдите!»
В коридоре стоял Джордж. Она сразу поняла, что он еще не ложился, так как на нем был вечерний костюм. Он был весь красный и тяжело дышал.
— Айрис, спустись ко мне в кабинет. Мне нужно с тобой поговорить. Я должен с кем-то поговорить.
Недоумевая, Айрис, еще полусонная, последовала за ним.
Войдя в кабинет, он плотно затворил дверь и указал ей место за столом — напротив себя.
Затем он пододвинул к ней портсигар, взял сигарету сам и зажег ее дрожащей рукой.
Айрис была не на шутку встревожена его видом.
— Что-нибудь случилось?
Он заговорил, с трудом переводя дыхание, как после быстрого бега:
— Я больше не могу один, не могу держать это в себе. Скажи, что ты думаешь об этом. Неужели это правда? Неужели такое возможно?
— Но о чем ты говоришь, Джордж?
— Ты должна была хоть что-то заметить, что-то увидеть. Не может быть, чтобы она ничего не сказала. Была ведь какая-то причина.
Она смотрела на него с недоумением.
Он провел рукой по лбу.
— Я вижу, ты не понимаешь, о чем речь. Не смотри на меня так испуганно, детка. Ты должна мне помочь. Постарайся вспомнить все, что можешь. Я, наверно, говорю очень бессвязно. Но сейчас тебе все станет ясно, как только ты прочтешь письма.
Он отпер один из боковых ящиков стола и достал два листка бумаги.
Бледно-голубые листочки — мелкие, аккуратные печатные буквы.
— Прочти, — сказал он, протягивая ей один листок.
Айрис пробежала его глазами. Две ясные четкие фразы, не допускающие разнотолков:
«Если вы думаете, что ваша жена кончила жизнь самоубийством, вы ошибаетесь. Она была убита».
Айрис взяла в руки второй листок.
«Ваша жена Розмэри не покончила с собой. Она была убита».
Айрис сидела в оцепенении, не сводя глаз с листков. До нее снова донесся голос Джорджа:
— Я получил их примерно три месяца назад. Вначале мне показалось, что это шутка, жестокая, гнусная шутка. А потом я стал думать, стал спрашивать себя, почему же Розмэри покончила с собой.
— Депрессия после гриппа, — машинально повторила Айрис давно затверженную фразу.
— Знаю-знаю, но ты только вдумайся! И сразу поймешь, что это какая-то чушь! Ведь сотни людей болеют гриппом, а потом чувствуют упадок сил — ну и что?
— Но, может быть, она была несчастлива, — с трудом выдавила из себя Айрис.
— Вполне возможно. — Джордж отнесся к ее словам спокойно. — И все-таки не представляю, чтобы Розмэри наложила на себя руки только оттого, что она несчастлива. Она могла грозиться покончить с собой, но решилась бы вряд ли…
— И тем не менее решилась. Как иначе все это можно объяснить? У нее даже яд нашли в сумочке.
— Я знаю. Вроде бы все указывало на самоубийство. Но с тех пор, как я получил вот это, — он пальцем постучал по письмам, — я начал снова все сопоставлять. Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался в том, что тут что-то неладно. Поэтому я тебя и спрашивал, не было ли у Розмэри врагов, не говорила ли она тебе, что кого-то боится. Если ее убили, должна же быть какая-то причина.
— Джордж, ты сошел с ума!
— Иногда мне и самому так кажется. Но временами я чувствую, что я на верном пути. Нет, я должен узнать, должен докопаться до истины. Ты должна мне помочь, Айрис. Ты тоже должна подумать и вспомнить. Именно вспомнить. Мысленно вернуться к тому вечеру. Еще и еще раз. Ты ведь понимаешь, что если она была убита, то сделать это мог только один из сидевших за столом. Это тебе понятно?
Да, это ей было понятно. Хватит гнать от себя непрошеные мысли. Она должна снова все вспомнить: музыка, барабанная дробь, притушенные огни, очередной номер эстрадной программы, снова яркий свет и… Розмэри, рухнувшая на стол, с посиневшим, конвульсивно дергающимся лицом.
Айрис вздрогнула. Ей стало страшно, впервые по-настоящему страшно.
Она должна думать, должна вернуться в прошлое, вспоминать.
Розмэри… Розмарин[64] — это для памятливости[65]. Надо заставить себя вспомнить. Все, до самых последних мелочей.
Глава 2 Рут Лессинг
В минуту короткого затишья посреди делового дня Рут Лессинг вспоминала жену своего шефа — Розмэри Бартон.
Она никогда не любила Розмэри. Но до того ноябрьского утра, когда она впервые встретилась с Виктором Дрейком, она сама не сознавала, насколько сильна ее неприязнь.
Разговор с Виктором дал толчок всем событиям, привел в движение все скрытые механизмы. Все, что она думала и чувствовала, лежало где-то на самом дне ее сознания — она сама не подозревала, что таилось в ней.
Рут всей душой была предана Джорджу Бартону. С того самого дня, когда она, самоуверенная двадцатитрехлетняя девушка, пришла наниматься к нему на службу. Она сразу же почувствовала, что он нуждается в опеке. И незаметно начала его опекать — старалась избавить от лишней траты времени и денег, а заодно от лишних неприятностей. Она подбирала ему друзей и направляла его интересы, удерживала от опрометчивых решений в делах и поощряла, когда считала, что стоит рисковать. При этом она вела себя с необыкновенным тактом, и на протяжении их многолетнего сотрудничества Джорджу ни разу не пришло в голову усомниться в том, что он имеет дело с послушной, исполнительной секретаршей, всецело покорной его воле. Ему очень нравилась ее внешность — гладкая прическа, элегантный покрой костюма, свежие крахмальные блузки и маленькие жемчужины в мочках красивых ушей, нравилось бледное, слегка припудренное лицо и светлая губная помада.
Рут, по его мнению, была образцом во всех отношениях.
Ему по душе была ее суховатая манера держаться, исключавшая какое бы то ни было проявление эмоций или фамильярности. Постепенно он привык говорить с ней о своих личных делах. Она слушала сочувственно и всегда давала какой-нибудь дельный совет.
Однако, собираясь жениться, он не спросил ее совета. Она отнеслась к браку шефа неодобрительно, но ничем этого не показала и приняла деятельное участие в приготовлениях к свадьбе, избавив миссис Марль от многих хлопот.
Первое время после свадьбы ее отношения с шефом стали чуть более официальными. Она целиком ушла в дела фирмы, которые Джордж охотно ей перепоручал.
Вскоре и Розмэри увидела, какое бесценное сокровище мисс Лессинг с ее деловой сноровкой и умением прийти на помощь в нужную минуту. Кроме того, она была неизменно любезна, приветлива и корректна.
Джордж, Розмэри и Айрис называли ее по имени, и она часто приходила к ленчу на Элвастон-сквер. Ей исполнилось уже двадцать девять лет, а выглядела она так же, как в двадцать три.
И хотя в разговорах они никогда не переступали границы деловых отношений, Рут великолепно чувствовала малейшие колебания в настроении Джорджа. Она знала, когда именно его восторженное состояние в первое время после женитьбы сменилось радостным спокойствием и когда спокойствие уступило место какому-то новому чувству, которому непросто было найти определение. Благодаря предусмотрительности Рут небрежность, которую в это время Джордж нередко допускал в мелочах, никак не отражалась на делах. И как бы ни был рассеян Джордж, Рут, казалось, никогда этого не замечала, за что он был ей бесконечно признателен.
Как-то ноябрьским утром он заговорил с ней о Викторе Дрейке.
— Я хочу попросить вас об одной услуге, Рут. Весьма неприятного свойства.
Рут взглянула на него вопросительно. Разумеется, он мог быть заранее уверен, что все будет выполнено.
— В каждой семье есть своя паршивая овца, — сказал он.
Рут понимающе кивнула.
— На сей раз это кузен моей жены. Прожженный тип. Он едва не разорил свою мать. Вынудил это глупое создание продать несколько жалких акций, которые у нее были. Свою карьеру он начал с того, что подделал чек, когда учился в Оксфорде[66]. Тогда это замяли, но с тех пор его носит по свету, и везде одно и то же.
Рут слушала без особого интереса. Ей был знаком этот тип людей. Они берутся выращивать апельсины, заводят птицефермы, нанимаются на какую-нибудь работу в Австралию или на мясокомбинат в Новой Зеландии. И толку все равно нет. Нигде они не удерживаются подолгу и каждый раз спускают деньги, которыми их ссужают заботливые родственники. Такие люди ее никогда не интересовали, она предпочитала более удачливых.
— Теперь он объявился в Лондоне, и я узнал, что он докучает моей жене. Она не видела его со школьных времен. Однако этот предприимчивый негодяй пишет ей и просит денег. Я не собираюсь больше это терпеть. Сегодня я назначил ему свидание в двенадцать часов — в отеле, где он остановился. И я хотел попросить вас пойти туда вместо меня. У меня нет ни малейшей охоты входить в какие бы то ни было отношения с этим типом. Я никогда его не видел и видеть не желаю, и не хочу, чтобы с ним встречалась Розмэри. Мне кажется, все можно прекрасно уладить на деловой основе через третье лицо.
— Да, это всегда хороший выход. Но что я должна ему предложить?
— Сто фунтов наличными и билет до Буэнос-Айреса. Деньги он получит только на пароходе.
Рут улыбнулась:
— Чтобы не сбежал в последнюю минуту?
— Я вижу, вы меня правильно поняли.
— Случай весьма банальный.
— Разумеется. Таких типов хоть отбавляй. — Он умолк в нерешительности. — А вам действительно не в тягость эта моя просьба?
— Ну что вы! — Казалось, что Рут все это даже забавляло. — Я отлично справлюсь с вашим поручением.
— Вы справитесь со всем на свете, Рут.
— А как насчет билета? Между прочим, как этого типа зовут?
— Виктор Дрейк. Вот билет. Я вчера звонил в пароходство. Завтра от Тилбери[67] отправляется «Сан-Кристобаль».
Рут взяла билет, удостоверилась, что он в порядке, и положила к себе в сумочку.
— Ну хорошо. Считайте, что дело улажено. Ровно в двенадцать. Куда ехать?
— Отель «Руперт». Рассел-сквер.
Она записала в книжечку.
— Рут, дорогая, не знаю, что бы я делал без вас. — Он с нежностью дотронулся до ее плеча, впервые за многолетнее знакомство. — Вы моя правая рука, мое второе я.
Рут покраснела, польщенная.
— Я прежде никогда вам этого не говорил. И вы считаете, что я принимаю как должное все, что вы для меня делаете. Но это совсем не так. Вы даже не подозреваете, до какой степени я на вас во всем полагаюсь. Решительно во всем, — повторил он. — Вы самая добрая, самая милая и самая внимательная девушка на свете.
Рут рассмеялась, пытаясь скрыть смущение.
— Вы меня вконец избалуете такими комплиментами.
— Но это действительно так. Вы — часть нашей фирмы. Даже невозможно представить, что бы мы делали без вас.
Она вышла от него с теплым радостным чувством, которое не покидало ее всю дорогу в отель «Руперт».
Она не испытывала неловкости от предстоящего свидания, будучи убеждена, что справится с любым делом. Истории о неудачниках и трудных судьбах ее не трогали. Встреча с Виктором Дрейком была для нее не более чем обычное служебное поручение.
Он оказался таким, как она себе его представляла, только намного привлекательней. Она безошибочно поняла, с кем имеет дело: от этого человека хорошего ждать было нельзя. За обаятельной внешностью скрывались бессердечность и циничный расчет. Единственное, чего она не учла, — его способность читать в людских душах и умение с легкостью играть на чужих чувствах. И может быть, она была чересчур уверена, что застрахована от его неотразимости.
Он приветствовал ее возгласом радостного изумления:
— Вас послал Джордж? Какой прелестный сюрприз!
Сухим, бесстрастным тоном она изложила условия Джорджа. К ее великому удивлению, он согласился на все с самым благодушным видом.
— Сто фунтов? Совсем неплохо. Бедняга Джордж! Я взял бы и шестьдесят, но вы меня не выдавайте. Условия: не тревожить прелестную кузину Розмэри, не покушаться на невинность кузины Айрис, не смущать покой достопочтенного кузена Джорджа. На все согласен! А кто придет проводить меня на «Сан-Кристобаль»? Вы, мисс Лессинг? Восхитительно!
Он сморщил нос. В темных глазах промелькнула искорка сочувствия. У него было худое смуглое лицо, чем-то смутно напоминающее лицо тореадора — в его романтическом варианте. Он нравился женщинам и знал это.
— Вы ведь давно работаете у Бартона, мисс Лессинг?
— Шесть лет.
— И наверное, он даже представить себе не может, что бы он делал без вас? Да, я все это знаю. И про вас я все знаю, мисс Лессинг.
— Откуда? — спросила она резко.
Виктор ухмыльнулся:
— Мне рассказала Розмэри.
— Розмэри? Но ведь…
— Не беспокойтесь. Я больше не стану тревожить Розмэри. Она и так была ко мне слишком великодушна. Я и с нее сотню получил.
— Вы…
Рут просто не знала, что на это сказать, и Виктор расхохотался. Смех его был так заразителен, что невольно рассмеялась и Рут.
— И вам не стыдно, мистер Дрейк?
— Я крупнейший специалист по вытягиванию денег из родственников. У меня высокая квалификация. Мутер, например, не выдерживает, когда посылаешь ей телеграмму с намеком на самоубийство.
— И вас не мучает совесть?
— Я глубоко осуждаю себя. Я дрянной человек, мисс Лессинг, и мне хотелось бы, чтобы именно вы поняли, насколько дрянной.
— Почему именно я? — спросила она с любопытством.
— Даже не знаю. Вы не похожи на остальных. По отношению к вам я не мог бы применить свою обычную тактику. Эти ясные глаза не проведешь. Вас, пожалуй, не растрогать цитатами типа «я не так перед другими грешен, как другие передо мною»[68]. В вас нет жалости.
Лицо Рут мгновенно стало жестким.
— Я презираю жалость.
— Несмотря на имя? Ведь вас зовут Рут, что значит «милосердие». Очень забавно. Безжалостное милосердие.
— Я не сочувствую слабости.
— А кто сказал, что я слабый? Здесь вы ошибаетесь, дорогая Рут. Грешный, может быть, но не слабый. И у меня есть еще одно несомненное достоинство.
Рут презрительно скривила губы. Сейчас пойдут оправдания.
— Достоинство? Какое же?
— Я живу в свое удовольствие. По-настоящему в свое удовольствие. Я знаю жизнь, Рут. Чего только я не перепробовал! Был актером, лавочником, официантом, чернорабочим, носильщиком и бутафором в цирке. Плавал матросом на грузовом судне, выдвигал свою кандидатуру в президенты в одной из южноамериканских республик и даже сидел в тюрьме. Я не делал только двух вещей — никогда не зарабатывал хлеб честным трудом и не жил по средствам.
Он смотрел на нее смеющимися глазами. Она понимала, что должна возмутиться. Но Виктор Дрейк обладал поистине дьявольским умением делать зло забавным. Взгляд его, казалось, проникал ей в самую душу.
— Не стройте из себя оскорбленную невинность, Рут. Не такая уж вы высокоморальная личность. Для вас главное в жизни — преуспевание. Вы из породы девушек, которые кончают тем, что выходят замуж за босса. Это то, что вы и должны были сделать. И Джорджу не следовало жениться на этой пустышке Розмэри. Он должен был жениться на вас. От этого он бы только выиграл.
— Не кажется ли вам, что вы слишком много себе позволяете?
— Но ведь Розмэри известная дура. Хороша, как ангел, и глупа, как кролик. К таким мужчины сразу же попадаются на удочку, но ненадолго. Вот вы — другое дело. Если кто-нибудь влюбится в вас, то это уже будет всерьез.
Удар пришелся по больному месту. С неожиданной откровенностью она сказала:
— Если бы! Но ведь он не влюбился.
— Кто не влюбился? Джордж? Не обманывайте себя, Рут. Случись что-нибудь с Розмэри, Джордж тотчас побежит просить вашей руки.
(Именно так. Именно с этого все и началось.)
Пристально глядя на нее, Виктор сказал:
— Впрочем, вы знаете это не хуже меня.
(Рука Джорджа у нее на плече. Голос, полный теплоты и нежности… Ведь это правда. Он нуждался в ней, зависел от нее…)
— Вы должны быть уверенней в себе, дорогуша, — сказал Виктор ласково. — Вам ничего не стоит обвести Джорджа вокруг мизинца. Розмэри Бог ума не дал.
«Все это правда, — подумала Рут. — Если бы не Розмэри, я могла бы заставить Джорджа сделать мне предложение. Для него это было бы прекрасно. Я сумела бы о нем позаботиться».
Она вдруг почувствовала, что ее душит обида, слепой, яростный гнев. Виктор Дрейк наблюдал за ней с явным любопытством. Ему нравилось подавать людям новые идеи или, как в данном случае, приподымать завесу над их собственными скрытыми мыслями.
Да, так все и началось с этой случайной встречи с человеком, который на следующий день должен был отправиться на другое полушарие. Когда Рут вернулась в контору, она уже не была прежней Рут, хотя внешне ничего не изменилось.
Вскоре после ее возвращения позвонила Розмэри Бартон.
— Мистер Бартон только что ушел завтракать. Чем я могу вам помочь?
— Рут, пожалуйста! Дело в том, что этот нудный полковник Рейс прислал телеграмму, где написано, что он не успевает на мой день рождения. Спросите у Джорджа, кого он хотел бы пригласить вместо него. Нужен кто-то из мужчин. Нас четыре женщины: будет Айрис, для нее это целый праздник, Сандра Фарадей и… кто же еще? Не могу вспомнить.
— Четвертая я. Вы оказали мне эту честь.
— Да, конечно. Я совсем про вас забыла.
Розмэри рассмеялась своим звенящим смехом. Она не могла увидеть неожиданно вспыхнувшие щеки и жесткую складку у губ Рут Лессинг.
Приглашена из милости на вечер к Розмэри! Уступка Джорджу. «Да, конечно, мы позовем твою Рут Лессинг. Ей это будет приятно. Она всегда к нам так внимательна. К тому же вид у нее вполне приемлемый».
В ту минуту Рут Лессинг поняла, что ненавидит Розмэри Бартон. Ненавидит за то, что она богата и красива, беспечна и безмозгла. Она не должна каждый день гнуть спину в конторе. Все подается ей на золотом блюде — поклонники, заботливый муж. Ей не нужно работать, что-то рассчитывать заранее. Ненавистная, высокомерная, легкомысленная красотка…
— Чтоб ты сдохла! — тихо сказала Рут в молчащую телефонную трубку.
Она испугалась своих слов. Они были так ей несвойственны. Она всегда была спокойной, деловой, сдержанной. Никаких срывов, никаких истерик.
«Что со мной творится?» — с удивлением подумала Рут.
Как она в тот день ненавидела Розмэри Бартон! Она ненавидела ее и сейчас, год спустя.
Когда-нибудь, может быть, она забудет Розмэри Бартон, но пока еще все свежо в памяти.
Она мысленно вернулась к тем ноябрьским дням. Вот она сидит у телефона, и в груди ее клокочет ненависть…
Любезным тоном она передает Джорджу поручение Розмэри и говорит, что может отказаться от приглашения, чтобы уравнять количество мужчин и женщин. Но Джордж даже слышать об этом не хочет.
На следующий день она приходит сообщить ему об отплытии «Сан-Кристобаля». Джордж встречает это известие с чувством облегчения и благодарности.
— Итак, он благополучно отбыл?
— Да. Я передала ему деньги за полминуты до того, как убрали трап.
После некоторого колебания она добавляет:
— Когда корабль отчалил от пристани, он помахал рукой, и крикнул: «Привет и поцелуй Джорджу! Передайте ему, что сегодня вечером я выпью за его здоровье».
— Какая наглость! — восклицает Джордж, затем спрашивает с любопытством: — Какое он на вас произвел впечатление?
— Примерно такое, как я и ожидала. Слабохарактерный человек.
И Джордж ничего не увидел, ничего не заметил! Ей хотелось крикнуть: «Зачем ты послал меня к нему? Разве ты не знал, что он может со мной сделать? Разве ты не видишь, что я уже не та, не видишь, что я становлюсь опасной? Ведь теперь я способна на все что угодно!»
Но вместо этого она сказала сухим деловым тоном:
— Нужно обсудить письмо из Сан-Паулу…[69]
А еще через пять дней был день рождения Розмэри.
Спокойное утро в конторе, потом визит в парикмахерскую, новое черное платье, немного искусно наложенной косметики. Она не узнавала лица, смотревшего на нее из зеркала: бледного, решительного, ожесточенного…
Виктор Дрейк сказал правду. В ней не было жалости.
И позднее, когда она через стол смотрела на посиневшее, перекошенное от конвульсий лицо Розмэри, в сердце ее не было жалости.
Теперь, вспоминая Розмэри Бартон спустя одиннадцать месяцев после ее смерти, она вдруг почувствовала страх.
Глава 3 Энтони Браун
Мрачно глядя в пространство, Энтони Браун вспоминал Розмэри Бартон.
Какая чудовищная, отчаянная глупость! Впутаться в подобную историю! Впрочем, любой мужчина на его месте нашел бы для себя оправдание. Мимо этой женщины нельзя было пройти равнодушно. В тот вечер в Дорчестере[70] он никого больше не замечал. Прелестна, как гурия[71], и, по-видимому, так же умна.
Вот он и потерял голову. Приложил уйму стараний, чтобы найти общих знакомых, которые представили бы его. Непростительная трата времени, когда он должен был усиленно заниматься делом. Не для собственного же удовольствия он торчал тогда у Клариджа.
Правда, Розмэри Бартон, с ее красотой, кого угодно могла заставить забыть о долге. Теперь-то легко есть себя поедом и поражаться, до какой глупости может дойти человек. К счастью, раскаиваться было особенно не в чем. Очарование сразу же померкло, стоило заговорить с ней. Мир вокруг обрел свои прежние нормальные очертания. Это была не любовь, даже не увлечение. Скорее, возможность развлечься.
Им нравилось общество друг друга. Она танцевала, как ангел, и, где бы они ни появлялись, мужчины мгновенно поворачивали головы и пялили на них глаза. Но все было великолепно только до тех пор, пока она не раскрывала рот. Он не раз благодарил судьбу за то, что она не его жена. Что бы он стал делать, попривыкнув к этому совершенству красок и линий? Она и слушать толком не умела. Женщины такого типа обычно считают, что каждый утренний завтрак должен начинаться с заверений в страстной любви.
Как просто думать об этом теперь!
А ведь тогда он был сильно увлечен. Исполнял все ее прихоти, звонил ей, повсюду приглашал, танцевал с ней на вечерах, целовался в такси. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не тот несусветный, немыслимый день.
Он хорошо помнит ее лицо: каштановая прядь, упавшая на ухо, блеск темно-синих глаз из-под полуопущенных ресниц, капризный накрашенный рот.
— Энтони Браун. Какое красивое имя!
— Вполне почтенное. Даже прославленное в истории. У Генриха Восьмого[72] был камергер по имени Энтони Браун, — сказал он шутливым тоном.
— Полагаю, ваш предок?
— Поклясться не могу.
— И не пытайтесь!
Он удивленно поднял брови:
— Я из колониальной ветви.
— Случайно не из итальянской?
— А! — Он рассмеялся. — Теперь понимаю. Вас смущает мой смуглый цвет лица. Моя мать — испанка.
— Этим все объясняется.
— Что именно?
— Многое, мистер Браун.
— Вам так нравится мое имя?
— Я вам уже сказала. Это красивое имя.
И затем неожиданно быстро, как гром среди ясного неба:
— Лучше, чем Тони Морелли.
В первую минуту он решил, что ослышался. Это было невероятно, немыслимо.
Он с силой сжал ей руку. Она дернулась.
— Вы делаете мне больно.
— Откуда вы взяли это имя? — Его голос звучал жестко, почти угрожающе.
Она рассмеялась, довольная произведенным эффектом. Невообразимая идиотка!
— Кто вам сказал?
— Человек, который вспомнил ваше лицо.
— Кто этот человек? Я не шучу. Я должен знать.
Она смотрела на него, чуть прищурив глаза.
— Мой непутевый кузен Виктор Дрейк.
— Но я не знаю никого с таким именем.
— Полагаю, что в пору вашего с ним знакомства он фигурировал под другим именем: берег честь семьи.
— Ясно. Это было в тюрьме, — сказал Энтони с расстановкой.
— Да. Я читала Виктору мораль, обвиняла его в том, что он всех нас позорит. Он все это пропустил мимо ушей, а потом ухмыльнулся и сказал: «Но сама ты не очень-то разборчива, душа моя. Я вчера видел, как ты танцевала с моим бывшим соседом по камере. Кажется, он усердно за тобой ухаживает. Он нынче, я слышал, представляется как Энтони Браун. Но в тюрьме он звался Тони Морелли».
— Я должен возобновить знакомство с другом юности. У собратьев по заключению сохраняется чувство локтя, — сказал он шутливо.
Розмэри покачала головой:
— Вы опоздали. Его как раз вчера отправили в Южную Америку.
— Ясно. — Энтони перевел дыхание. — Итак, вы единственный человек, которому известна моя позорная тайна.
Она кивнула:
— Я вас не выдам.
— Не советую этого делать. — В его голосе снова появилась жесткость. — Помните, Розмэри, это опасно. Вряд ли вам захочется, чтобы такое очаровательное личико исполосовали бритвой! Есть люди, которые не остановятся перед тем, чтобы попортить девичью красу. А могут и просто прикончить. Такое тоже бывает. И не только в романах и фильмах. Иногда и в жизни.
— Это угроза, Тони?
— Предупреждение.
Но вняла ли она предупреждению? Поняла ли, что он говорил серьезно? Поразительная тупость — при такой прелестной внешности! Нельзя рассчитывать на то, что она будет держать язык за зубами. Но у него не было выхода. Он должен был попытаться ей что-то втолковать.
— Забудьте, что вы слышали имя Тони Морелли, ясно?
— Но меня ничуть не шокирует ваше прошлое, Тони. У меня широкие взгляды. Мне ужасно любопытно познакомиться с живым преступником. И вам нечего стыдиться.
Как же она глупа. Он смотрел на нее отчужденно, и в тот момент ему было уже трудно представить, что она могла волновать его. Глупость всегда вызывала у него раздражение, даже если она сочеталась с хорошеньким личиком.
— Забудьте про Тони Морелли, — повторил он мрачно. — Я говорю серьезно. Никогда не произносите этого имени.
Ему оставалось одно — срочно исчезнуть. Положиться на нее было бы безумием. Она могла все выболтать по первому своему капризу.
Она подарила ему обворожительную улыбку, но на сей раз он остался равнодушен.
— Не смотрите на меня таким зверем. Лучше пригласите на танцевальный вечер у Джароу на той неделе.
— Меня здесь уже не будет. Я уезжаю.
— Но ведь не раньше моего дня рождения? Неужели вы меня подведете? Я так на вас рассчитываю. И не говорите «нет». Не забывайте — я только что перенесла этот ужасный грипп и еще окончательно не пришла в себя. Мне нельзя перечить. Вы должны непременно быть.
Он мог тогда настоять на своем, все бросить и уехать.
Но… вдруг через открытую дверь он увидел Айрис. Она спускалась по лестнице, прямая и тоненькая. Бледное лицо, серые глаза под темными волосами. Айрис! И вполовину не так хороша, как сестра, но с характером, которого не хватало ослепительной Розмэри.
В тот момент он ненавидел себя за то, что все-таки поддался чарам старшей сестры. То же самое, наверно, чувствовал Ромео по отношению к Розалинде после встречи с Джульеттой[73].
Он мгновенно переменил решение. Теперь он твердо знал, что отныне его жизнь будет совсем иной.
Глава 4 Стивен Фарадей
Стивен Фарадей думал о Розмэри, думал с тем смешанным чувством изумления и недоверия, которое всегда возникало у него при воспоминании о ней. Обычно он старался отгонять эти мысли, но они возвращались временами с той же настойчивостью, с какой Розмэри при жизни не давала забыть о себе.
Он всякий раз содрогался, вспоминая сцену в ресторане. По крайней мере, хоть об этом он может сейчас не думать. Мысли вернулись к живой Розмэри — она улыбалась, заглядывала ему в глаза.
Какой болван, какой невообразимый болван!
Им владело только чувство бесконечного удивления, он до сих пор не мог понять, каким образом все это произошло. Его жизнь как будто раскололась на две части: одна, значительно большая, — трезвое, уравновешенное и равномерное движение к цели; вторая — кратковременное безумие, столь для него нехарактерное. Эти части совершенно не сочетались друг с другом!
При всем своем практическом уме Стивен не мог понять, что обе эти стороны его жизни как раз преотлично сочетались.
Часто, оглядываясь на свое прошлое, он оценивал его совершенно трезво, хотя и не без некоторого самодовольства. С самого раннего возраста он решил добиться успеха в жизни, и, несмотря на трудности и препоны в начале пути, он преуспел.
Ему всегда была свойственна известная упрощенность взглядов и убеждений. Он верил во всемогущество воли и считал, что человек может все, стоит ему очень захотеть.
С детства Стивен Фарадей начал упорно закалять волю. Он не рассчитывал ни на чью помощь и поэтому твердо знал, что всего нужно добиваться собственными усилиями. Он рос тщедушным и бледным, но у него был хорошей формы лоб и упрямый подбородок. Семи лет он уже решил, что на родителей надеяться нечего. Замужество его матери было мезальянсом[74], о котором она всю жизнь сокрушалась. Отец, мелкий подрядчик-строитель, был человеком хитрым, ловким и скупым. Жена и сын презирали его. Мать, женщина бесхарактерная, вялая и подверженная неожиданным сменам настроения, вызывала у Стивена лишь чувство постоянного недоумения. Загадка прояснилась в тот день, когда он застал ее спящей прямо за столом и увидел выпавший у нее из рук флакон из-под одеколона. Ему никогда не приходило в голову приписать все ее странности злоупотреблению алкоголем. При нем она не пила ни пива, ни крепких напитков, и потому ему было особенно трудно догадаться, что ее пристрастие к одеколону объясняется не только неопределенными жалобами на головную боль.
В тот самый момент он понял, как мало он привязан к родителям. Он подозревал, и не без основания, что они платили ему той же монетой. Для своих лет он был мал ростом, застенчив, без всякой причины вдруг начинал заикаться. Отец дразнил его нюней. В доме Стивена почти не было слышно. Отец не скрывал, что предпочел бы сына побойчей. «В его возрасте я был сорвиголова», — любил он повторять. Иногда, глядя на сына, он остро ощущал свою неполноценность: Стивен явно пошел в материнскую родню.
Спокойно, все более укрепляясь в своей решимости, Стивен наметил план действий, которые должны были привести его к желанной цели. В первую очередь он решил избавиться от заикания. Он заставлял себя говорить медленно, делая едва заметные паузы между словами. Усилия его в конце концов были вознаграждены, и он совсем перестал заикаться. Он учился с огромным рвением, так как решил стать образованным человеком. Образование открывало перспективы. Учителя заметили способного мальчика и всячески поощряли его. Он получил стипендию. Родителям официально сообщили, что сын их подает надежды; мистера Фарадея, к тому времени увеличившего свое состояние за счет построенных на скорую руку домов, убедили вложить деньги в образование сына.
В возрасте двадцати двух лет Стивен вернулся из Оксфорда с ученой степенью и репутацией умелого, остроумного оратора. Он приобрел некоторую сноровку в писании газетных статей и завел полезные знакомства. Его привлекала политика. Он постепенно научился преодолевать свою природную застенчивость и выработал особую манеру поведения, одновременно скромную и непосредственную. Его блестящие выступления позволяли говорить о том, что «этот молодой человек далеко пойдет». Либерал по убеждениям, Стивен вскоре понял, что либеральная партия[75], по крайней мере на данный период, полностью себя изжила. Он стал лейбористом[76] и спустя короткое время приобрел в партийных кругах славу «восходящей звезды».
Однако лейбористская партия не удовлетворяла Стивена. Он считал, что она менее восприимчива к новому и больше опутана традициями, чем ее великий и могущественный противник — партия консерваторов[77]. Консерваторы, со своей стороны, были заинтересованы в молодых перспективных талантах.
Стивена Фарадея они встретили с распростертыми объятиями: им нужны были люди именно такого склада. Стивен выставил свою кандидатуру — уже от партии консерваторов — в крупном лейбористском избирательном округе и прошел незначительным большинством голосов. Не без чувства внутреннего торжества он занял свое место в палате общин[78]. Это было началом его политической карьеры, выбор которой был сделан несомненно правильно. Здесь он мог выявить весь свой талант, все честолюбие. Он ощущал в себе способность управлять, и управлять хорошо. Он умел подчинять людей своей воле и знал, когда нужно действовать лестью, а когда идти напролом. Он дал себе клятву, что рано или поздно получит портфель министра.
Однако, как только первое возбуждение улеглось, наступило разочарование. Победа на выборах, доставшаяся с таким трудом, выдвинула его на авансцену. Теперь же начались будни, и он сделался ничтожной пешкой, всецело зависящей от партийных боссов; он должен был знать свое место. Здесь нелегко было подняться из мрака безвестности. Молодость вызывала только подозрение. Требовалось нечто помимо способностей — нужны были связи.
В политическом мире действовали свои законы. Существовали влиятельные семьи. Необходимо было заручиться чьим-то покровительством.
Впервые в жизни он стал подумывать о женитьбе. Вопрос о браке до сих пор мало занимал его. Где-то в глубине сознания иногда рисовалась неясная картина: прелестная женщина, которая разделит с ним судьбу и честолюбивые планы. Она родит ему детей и облегчит груз его забот и сомнений. Женщина, которая будет думать и чувствовать так же, как и он, радоваться его успехам и гордиться ими…
Как-то раз его пригласили на очередной прием к Киддерминстерам. Их дом был одним из самых влиятельных в Англии. Это была знаменитая политическая семья. Всем была знакома высокая, внушительная фигура лорда Киддерминстера и его аккуратная эспаньолка[79], а крупное лошадиное лицо леди Киддерминстер можно было увидеть на митингах и заседаниях благотворительных комитетов во всех концах Англии. У Киддерминстеров было пять дочерей, три из них красавицы, и все как одна серьезные и положительные. Сын еще учился в Итоне[80].
Киддерминстеры считали своим долгом поощрять молодых, перспективных членов партии консерваторов. Именно этому обстоятельству Стивен Фарадей был обязан своим приглашением.
Среди гостей у него было мало знакомых, и уже минут через двадцать после приезда он оказался у окна в полном одиночестве. Почти все успели встать из-за чайного стола и перейти в другие комнаты, когда он заметил высокую девушку в черном. Она задержалась у стола, и вид у нее был слегка растерянный.
У Стивена была хорошая память на лица. Не далее как утром он поднял в метро оставленный попутчицей номер «Домашних сплетен»[81] и с любопытством пробежал его глазами. Там он обнаружил не очень четкую фотографию леди Александры Хейл, третьей дочери лорда Киддерминстера, с небольшой сопроводительной заметкой в духе этой газеты: «…всегда отличавшаяся застенчивым, замкнутым нравом и любовью к животным, леди Александра только что прошла курс домоводства, поскольку леди Киддерминстер хотела бы видеть своих дочерей компетентными во всех видах домашнего хозяйства».
И вот теперь она стояла перед ним — леди Александра Хейл. С безошибочным чутьем застенчивого человека Стивен угадал, что она тоже застенчива. Самая некрасивая из пяти дочерей, Александра всегда страдала от чувства своей неполноценности. Несмотря на то что она получила такое же образование и воспитание, как остальные сестры, она так и не сумела обрести их уверенности в себе, что постоянно раздражало ее мать. Право же, Сандра должна сделать над собой усилие: глупо производить впечатление такой неуклюжей и неловкой.
Стивен ничего этого не знал, но почувствовал, что девушке не по себе. И вдруг его озарило. Его час настал! Нужно было действовать. Теперь или никогда!
Пройдя через всю комнату, он подошел к длинному буфету, остановился возле девушки и взял себе бутерброд. Потом, обернувшись к ней, сказал прерывающимся от волнения голосом (это не было наигранно — он и вправду нервничал):
— Разрешите мне поговорить с вами? Я здесь почти никого не знаю. И вы тоже, насколько я могу судить. Не сердитесь на меня. Просто я н-н-не очень общителен. (После многолетнего перерыва он снова, и как нельзя более кстати, начал заикаться.) Мне кажется, вы т-т-тоже.
Девушка вспыхнула. Она хотела что-то сказать, но, как он понял, не решилась. Ей непросто было выдавить из себя: «Я дочь хозяина дома». Вместо этого она чуть слышно прошептала:
— Да. Я очень застенчива. С детства.
— Это ужасное ощущение. Не знаю, можно ли его побороть. Иногда я просто боюсь рот раскрыть.
— И я.
Стивен снова заговорил, торопливо, слегка заикаясь. В его манере было что-то мальчишески трогательное. Несколько лет назад это была его естественная манера, теперь он сознательно ее имитировал. Речь его звучала молодо, наивно, обезоруживающе.
Он навел разговор на театр и наконец упомянул одну новую пьесу, имевшую шумный успех. Оказалось, что Сандра ее уже видела. В пьесе мимоходом затрагивались вопросы социального обеспечения, которые они тут же принялись горячо обсуждать.
Стивену всегда было свойственно чувство меры. Он увидел в дверях леди Киддерминстер — она искала глазами дочь. Быть представленным не входило пока в его планы. Поэтому он поспешно откланялся.
— Разговор с вами доставил мне огромное удовольствие. Мне здесь было довольно тошно, пока я не встретил вас. Я вам очень благодарен.
Он покинул дом Киддерминстеров в упоении. Шанс не был упущен. Теперь нужно было закрепить завоеванные позиции.
После этого вечера он несколько дней подряд бродил вокруг особняка Киддерминстеров.
Однажды Сандра вышла из дому в сопровождении одной из сестер. Второй раз она была одна, но, по-видимому, спешила. Момент был явно неподходящий. По всей вероятности, у нее было какое-то срочное дело. Однако неделю спустя терпение его было вознаграждено. Как-то утром она вышла на прогулку с маленьким черным скотчтерьером[82] и не спеша направилась к Гайд-парку[83].
Спустя пять минут молодой человек, торопливо шедший ей навстречу, неожиданно остановился перед ней.
— Боже, какая удача! А я и не надеялся еще раз вас увидеть! — воскликнул он.
В его голосе было столько неподдельной радости, что Сандра невольно покраснела. Он нагнулся погладить собаку.
— Славный зверь! Как его зовут?
— Мак-Тавиш.
— А, стопроцентный шотландец!
В течение нескольких минут они говорили о собаках, затем Стивен смущенно сказал:
— Я в прошлый раз вам так и не представился. Моя фамилия — Фарадей. Стивен Фарадей, безвестный член парламента.
Он вопросительно взглянул на нее. Снова покраснев, она сказала:
— Я — Александра Хейл.
Его реакция была безукоризненна. Оксфордский студенческий драмкружок мог бы гордиться своим питомцем. Здесь было все: удивление, внезапное прозрение, растерянность, замешательство.
— Вы, вы — леди Александра Хейл?! О Боже! Представляю, каким кретином я вам показался!
Она ответила именно так, как он и ожидал… Ее воспитанность в сочетании с природной добротой требовали, чтобы она как-то успокоила и ободрила его.
— Я должна была еще тогда назвать свое имя.
— Да я должен был и сам догадаться! О Господи, какого я свалял дурака!
— Но откуда вам было знать? И вообще, это не важно. Мистер Фарадей, перестаньте об этом думать. Давайте лучше пройдемся до пруда[84]. Мак-Тавиш просто рвется с поводка.
После этого они несколько раз встречались в парке. Он поделился с ней своими планами. Они много говорили о политике. Он нашел, что она умна, хорошо информирована и доброжелательна. Здравый смысл сочетался в ней с полным отсутствием предрассудков. Вскоре они стали добрыми друзьями.
Следующий этап ознаменовался приглашением на обед к Киддерминстерам. Кто-то из мужчин в последний момент отказался прийти, и, пока леди Киддерминстер ломала голову в поисках новой кандидатуры, Сандра спокойно предложила:
— А что, если пригласить Стивена Фарадея?
— Стивена Фарадея?
— Да, он был у нас на прошлом приеме. После этого я видела его пару раз.
Решили посоветоваться с лордом Киддерминстером. Он был всецело за то, чтобы обласкать молодого, подающего надежды политика.
— Блестящий молодой человек. Просто блестящий. Не знаю, откуда он взялся, но, поверьте мне, мы о нем еще услышим.
Стивен пришел и оказался на высоте.
— Полезное знакомство, — снисходительно сказала леди Киддерминстер.
Спустя еще два месяца Стивен решил попытать счастья. Они с Сандрой подошли к Серпантину. Мак-Тавиш устроился у ног хозяйки, положив морду на ее туфельку.
— Сандра, знаете ли вы, что… я вас люблю? Я хочу, чтобы вы стали моей женой, — сказал он. — Я никогда не решился бы просить вас об этом, если бы не считал, что обязательно добьюсь чего-то в жизни. Я в это твердо верю. Вам не придется стыдиться своего выбора. Я вам обещаю.
— Я и не стыжусь.
— Так, значит, я… я вам не безразличен?
— А вы не догадывались?
— Я надеялся, но не был уверен. Я ведь полюбил вас в ту минуту, когда увидел у стола, помните? Я тогда собрал все свое мужество, чтобы подойти и заговорить с вами. У меня поджилки тряслись.
— Мне кажется, и я вас тогда полюбила…
Дальше все пошло не так гладко. Спокойное заявление Сандры о том, что она выходит замуж за Стивена Фарадея, было встречено в штыки. Кто он такой? Что о нем известно?
Лорду Киддерминстеру Стивен откровенно рассказал о своей семье и происхождении. При этом у него мелькнула мысль: пожалуй, к лучшему, что его родителей нет в живых.
— Могло быть хуже! — сказал лорд Киддерминстер жене после разговора.
Он достаточно хорошо знал свою дочь и понимал: за ее спокойными манерами скрывается железный характер. Уж если она решила выйти замуж за этого человека, она за него выйдет. Ее не переубедишь!
— Парня ждет карьера. И если его немного поддержать, он далеко пойдет. Нашей семье свежий человек тоже не повредит. Он производит хорошее впечатление.
Леди Киддерминстер дала свое согласие скрепя сердце. Не о такой партии она мечтала для дочери. Правда, Сандра всегда была самой трудной. Вот Сьюзен — красавица, а у Эстер светлая голова. Диана тоже умница — вышла замуж за молодого герцога Гарвича, самая блестящая партия сезона. Сандра, конечно, не так привлекательна. Ей мешает застенчивость. Но если у молодого человека будущее, как все говорят…
Она окончательно сдалась, пробормотав:
— Безусловно, хлопот с ним еще будет немало.
Так Александра Катарина Хейл, одетая в белый атлас и брюссельские кружева[85], в сопровождении шести подружек и двух пажей и при наличии всех прочих аксессуаров аристократической свадьбы, на горе и на радость взяла себе в мужья Стивена Леонарда Фарадея. Медовый месяц молодые провели в Италии, а по возвращении поселились в прелестном маленьком особняке в Вестминстере[86]. Вскоре умерла крестная Сандры, оставив ей в наследство очаровательный загородный домик в стиле эпохи королевы Анны[87]. Судьба улыбалась молодой чете. Стивен с новым рвением принялся за свои парламентские дела, Сандра всем сердцем разделяла его честолюбивые мечты и всячески поддерживала и поощряла его. Иногда Стивен сам поражался, до чего благосклонно отнеслась к нему судьба. Союз с могущественной группировкой Киддерминстеров обеспечивал ему быстрый подъем по общественной лестнице, а его собственный талант и блеск должны были упрочить положение, в котором он волей обстоятельств очутился. Он искренне верил в свои силы и был готов, не жалея себя, трудиться на благо своей страны.
Часто, глядя через стол на жену, он с нежностью думал о том, что она идеальная спутница. Ему нравились в ней и чистые линии лба и шеи, и красиво посаженная голова, и прямой взгляд карих глаз под ровными бровями, и чуть надменный орлиный нос. Она напоминала скаковую лошадь — такая же холеная, породистая, гордая.
Она была прекрасной собеседницей. Они думали одинаково и одновременно приходили к одному и тому же решению. Что и говорить, Стивену Фарадею, с его безрадостным детством, крупно повезло: его жизнь складывалась именно так, как ему когда-то мечталось. В тридцать один год успех уже лежал у него на ладони.
В самом радужном настроении он отправился с женой на две недели на курорт, в Сент-Мориц[88], и в вестибюле своей гостиницы увидел Розмэри Бартон.
Он так никогда и не понял, что произошло с ним в тот момент. Как будто по законам драматического искусства сцена, когда-то разыгранная им перед другой женщиной, повторилась — и обернулась против него. Он влюбился с первого взгляда, влюбился отчаянно, до умопомрачения. Это была какая-то неистовая, щенячья влюбленность, которой он должен был бы переболеть много лет назад.
Он никогда не причислял себя к натурам увлекающимся. Две-три кратковременные связи, ни к чему не обязывающий флирт — к этому до сих пор сводилось все его представление о так называемой «любви». Эротика его не привлекала. Он убеждал себя, что для всего этого слишком брезглив.
Если бы его спросили, любит ли он свою жену, он ответил бы: «Несомненно». Однако он прекрасно знал, что ему и в голову не пришло бы жениться на ней, будь она, к примеру, дочерью разорившегося помещика. Она ему нравилась, он восхищался ею и испытывал к ней чувство глубокой привязанности, а также искренней благодарности за то положение, которое дал ему брак с ней.
Для него было неожиданным откровением, что он мог влюбиться, как зеленый юнец, мучительно и безнадежно. Он ни о чем не мог думать, кроме как о Розмэри. Перед ним все время стояло ее очаровательное, смеющееся лицо, каштановые волосы, прелестная фигура. Они вместе ходили на лыжах, танцевали по вечерам. Прижимая ее к себе во время танца, он сознавал, что хочет ее больше всего на свете и что эта мука, эта саднящая, ноющая боль и есть любовь.
Бартоны уехали за неделю до Фарадеев. Вскоре после их отъезда Стивен заявил Сандре, что Сент-Мориц довольно унылое место, и предложил сократить их пребывание на курорте. Сандра охотно согласилась. Через неделю после их возвращения в Лондон Стивен сделался любовником Розмэри.
Странное, экстатическое, сумасшедшее время, лихорадочное и какое-то нереальное. Сколько оно длилось? Самое большее — полгода. Полгода, на протяжении которых Стивен продолжал работать, как обычно: посещал избирателей, задавал вопросы в парламенте, выступал на митингах, разговаривал о политике с Сандрой и думал все время только об одном — о Розмэри.
Их тайные свидания в небольшой, специально снятой квартире, красота Розмэри, его нежность и страсть, ее ответные объятия — все это было похоже на сон, горячечный, бредовый сон.
И после сна пробуждение.
Оно наступило внезапно — так выходят на яркий свет из туннеля. Еще вчера он был страстным любовником, а сегодня стал прежним Стивеном Фарадеем, и ему пришло в голову, что, пожалуй, им с Розмэри не следует так часто встречаться. Ведь если подумать, они все время вели себя на редкость неосторожно. Что, если Сандра что-нибудь заподозрит? Он украдкой взглянул через стол на жену. Слава Богу, она ни о чем не догадывается. Она далека от таких мыслей. А между тем в последнее время причины, которые он придумывал, чтобы улизнуть из дому, становились все менее убедительными. Другая женщина давно бы почуяла, что здесь дело нечисто. К счастью, Сандра неподозрительна.
Он перевел дыхание. Да, они ведут себя крайне неосмотрительно. Еще чудо, что муж ничего не знает. Недалекий, простоватый малый. К тому же намного старше Розмэри.
Но до чего же она прелестна…
Неожиданно он подумал о том, как хорошо было бы поиграть в гольф. Свежий ветер над дюнами, пробежка по полю, напряжение всех мускулов и затем точно рассчитанный удар. Одни только мужчины — никаких женщин.
Он спросил Сандру:
— Мы не могли бы поехать в Ферхейвен?
Она удивленно посмотрела на него:
— Ты хочешь поехать? А как же дела?
— Я мог бы освободиться на недельку. Хочется поиграть в гольф, а то я совсем засиделся.
— Мы можем уехать хоть завтра. Только мы пригласили в гости Астлеев — нужно будет предложить им другой день, и еще мне придется отменить митинг во вторник. А как быть с Ловатами?
— Давай их тоже отменим. Придумаем какой-нибудь предлог. Мне так хочется уехать.
В Ферхейвене царил покой. Никого, кроме Сандры и собак; целые дни на веранде или в старом саду, обнесенном высокой стеной; гольф в Сэндли-Хит и прогулки под вечер на ферму с Мак-Тавишем.
Стивен чувствовал себя как человек, выздоравливающий после Долгой тяжелой болезни.
Однажды утром он был неприятно поражен, увидев на конверте почерк Розмэри. Он просил ее не писать. Это было слишком рискованно. Сандра, конечно, не станет любопытствовать, от кого он получает письма, но все равно лучше соблюдать осторожность. Слугам не всегда можно доверять.
Он унес письмо в кабинет и с раздражением вскрыл конверт. Господи, сколько страниц! Целый фолиант!
Он начал читать и вновь очутился во власти прежних чар. Она безумно его любит, еще сильнее, чем раньше, для нее невыносима даже пятидневная разлука. А как он? По-прежнему ли ее любит? Скучает ли Леопард по своему Эфиопу?
Он улыбнулся и вздохнул. Смешно! В свое время он подарил ей мужской халат с пятнистым узором, который ей вдруг понравился. Они вспомнили сказку Киплинга «Как Леопард менял окраску»[89]. «Но я не хочу, чтобы ты, как Эфиоп, меняла кожу», — сказал он ей тогда. После этого она стала называть его Леопардом, а он ее — своим Черным Красавцем.
Ужасно глупо, просто безумно глупо — исписать столько страниц! Все это очень трогательно, но тем не менее зря она послала письмо. Надо же немножко соображать! Сандра не из тех, кто станет закрывать глаза на такие вещи. Письма — штука опасная. Он же ее предупреждал. Почему она не может подождать до его возвращения? Ведь они увидятся через каких-нибудь два-три дня.
На следующее утро за завтраком он обнаружил около своего прибора еще одно письмо. На этот раз он выругался про себя. Ему показалось, что взгляд Сандры на секунду задержался на конверте. Она не сказала ни слова. Какое счастье, что она не из тех жен, которые интересуются корреспонденцией мужа!
После завтрака он поехал в ближайший городок, расположенный в восьми милях от Ферхейвена. Он не решился заказать междугородный разговор из деревни. К телефону подошла Розмэри.
— Алло, это ты, Розмэри? Не надо мне больше писать.
— Стивен, милый, как я рада слышать твой голос!
— Будь осторожна, дорогая, тебя никто не слышит?
— Конечно нет. Родной мой, как я соскучилась! А ты?
— Да, конечно, но только, ради Бога, не пиши. Это рискованно.
— Ты был рад моему письму? Тебе не казалось, когда ты его читал, что я рядом? Как мне хочется, чтобы мы никогда не расставались! А тебе?
— Разумеется, только это не телефонный разговор.
— Ты просто до смешного осторожен. Чего нам, собственно, бояться?
— Я думаю прежде всего о тебе, Розмэри. Я не прощу себе, если из-за меня у тебя будут неприятности.
— Мне все равно, что со мной будет. Ты это прекрасно знаешь.
— Зато мне не все равно, родная.
— Когда ты вернешься?
— Во вторник.
— А в среду встретимся в нашей квартире?
— Да… М-м… Ну хорошо.
— Милый, я просто не могу дождаться. А ты не попробуешь приехать сегодня? Выдумай какой-нибудь предлог, Стивен. Ну пожалуйста. Скажи, что у тебя заседание или еще что-нибудь.
— Боюсь, что это исключено.
— Я не верю, что ты по мне соскучился так же, как я по тебе.
— Перестань выдумывать.
Повесив трубку, он почувствовал усталость. Почему женщинам всегда так хочется демонстрировать свое безрассудство? Впредь они с Розмэри должны быть осмотрительнее. Встречаться придется реже.
После этого возвращения все стало сложнее. Он был по горло занят и не мог уделять Розмэри так много внимания, как прежде. Однако она не хотела этого понять. Он пытался с ней объясниться, но она и слушать не желала.
— Опять твоя дурацкая политика! Кому она нужна?
— Мне, в частности!
Но она была как глухая. Не хотела понять. Ее не интересовала его работа, карьера, планы. Она требовала только одного — бесконечных заверений в любви. «Ты любишь меня так же, как раньше? Ну скажи еще раз, что ты меня любишь!»
Ей-богу, думал он, пора бы перестать сомневаться. Она прелестна, необыкновенно хороша, но говорить с ней невозможно! Беда в том, что они слишком много бывают вместе. Не может же он все время находиться в экстатическом состоянии! Им не нужно так часто встречаться. Требуется передышка.
Его предложение вызвало страшную обиду. Теперь Розмэри всегда упрекала его: «Ты меня уже не любишь так, как раньше».
И каждый раз он должен был разубеждать ее и клятвенно заверять, что ничего не изменилось. Она все время вспоминала, что он говорил ей когда-то.
— Помнишь, как ты сказал, что хорошо бы нам умереть вместе? Навеки заснуть в объятиях друг друга. А помнишь, как ты говорил, что мы наймем караван и уедем в пустыню? Чтоб были одни звезды и верблюды, и мы могли забыть обо всем на свете.
Каких только глупостей не говорят влюбленные! И ведь тогда не замечаешь, что все это нелепо. Но слышать, как тебе повторяют этот бред! Почему у женщин никогда не хватает такта не ворошить старое? Разве мужчине приятно, когда ему все время напоминают, каким он был ослом?
Ни с того ни с сего у нее появлялись невыполнимые причуды. Хорошо, если бы он уехал, например, на юг Франции, а она бы к нему туда примчалась. А можно в Сицилию или на Корсику. Куда-нибудь, где нет знакомых. На это Стивен мрачно отвечал, что на земном шаре таких мест не бывает. Там, где меньше всего ожидаешь, непременно встретишь старого школьного приятеля, с которым на родине не видишься десятилетиями.
То, что сказала на это Розмэри, не на шутку его встревожило:
— Ну и встретишь — и что такого?
Он насторожился. Внутри у него все похолодело.
— Что ты имеешь в виду?
Она улыбнулась ему той самой обворожительной улыбкой, которая еще недавно переворачивала ему душу и заставляла все косточки ныть от желания. Сейчас эта улыбка вызвала только раздражение.
— Леопард, родной, иногда мне кажется, что пора перестать играть в прятки. Это как-то недостойно. Давай уедем. Перестанем притворяться. Джордж даст мне развод, ты разведешься с Сандрой, и мы тогда поженимся.
Только этого не хватало! Это означало полную катастрофу. Крушение всех надежд. И как она этого не понимает?
— Я ни в коем случае этого не допущу.
— Но ты ведь знаешь — я ничем, кроме тебя, не дорожу. А до приличий мне нет дела.
«Зато мне есть», — подумал Стивен.
— Я верю, что любовь важнее всего на свете. И не все ли равно, что подумают люди?
— Мне не все равно. Публичный скандал — конец моей карьере.
— Но разве это так уж важно? Ведь ты можешь найти сотни других занятий.
— Не говори глупостей.
— И вообще, почему ты должен что-то делать? Ты ведь знаешь, у меня куча денег. Моих собственных, не Джорджа. Мы могли бы поколесить по свету, побывать в таких дивных местах, может быть, там, где не ступала нога человека. Или уехали бы на какой-нибудь остров в Тихом океане. Только представь — палящее солнце, синее море и коралловые рифы!
При всем желании этого он не мог себе представить. Остров в Тихом океане! Надо ж до такого додуматься! Интересно, за кого она его принимает? За курортного бездельника?
Он смотрел на нее глазами, с которых спала пелена. Прелестное создание, а мозгов не больше, чем у курицы. До чего он был безумен, до чего слеп! Но теперь он прозрел. Он должен с этим покончить. Если он не предпримет каких-то срочных мер, она его погубит.
И он поступил так, как в этих случаях до него поступали сотни мужчин. Он написал ей письмо, где объяснял, что им необходимо расстаться. Это будет только честно по отношению к ней. Он не может рисковать ее благополучием. Она понимает, что… и так далее и тому подобное.
С этим кончено. Кончено. Он должен довести это до ее сознания.
Но именно этого она не желала понять. Разве можно так просто расстаться? Она его безумно любит, гораздо сильней, чем раньше. Она не может жить без него.
Единственный честный выход — чтобы она рассказала обо всем мужу, а Стивен своей жене.
Он помнит то чувство холодного ожесточения, которое оставило у него это письмо. Идиотка! Назойливая идиотка! Она способна выболтать все своему Джорджу. Затем последует бракоразводный процесс, где он будет фигурировать как соответчик и где все будут склонять его имя. Сандре волей-неволей придется с ним развестись. Он ни минуты не сомневался, что исход будет именно таким. Он помнил, что как-то раз, говоря об одной из своих знакомых, Сандра сказала: «Но что ей оставалось делать, когда она узнала, что у мужа роман с другой женщиной? Конечно, она должна была с ним развестись». С ее гордостью она и здесь будет рассуждать точно так же. Она ни с кем не согласится его делить. И тогда всему конец. Конец поддержке всемогущих Киддерминстеров. Скандала не избежать. Правда, общественное мнение нынче стало более гибким, но не в таких вопиющих случаях. Прощайте, мечты и замыслы! Все полетит к чертям из-за пагубной страсти к глупой женщине. Именно это его ждет! Мальчишеская страсть как детская болезнь: вдвойне опасна во взрослом состоянии.
Он потеряет все, что поставлено на карту. Полный крах. И позорище.
Он потеряет Сандру.
Неожиданно для себя он понял, что именно этого боится больше всего. Потерять Сандру, спокойную ясноглазую Сандру. Близкого друга и советчика. Гордую, верную Сандру. Это невозможно! Все что угодно, только не это.
На лбу у него выступил пот.
Надо как-то выпутываться из всей этой истории. Необходимо заставить Розмэри прислушаться к доводам разума. Но захочет ли она? Розмэри и разум — вещи несовместимые. А не сказать ли ей, что он понял, что любит свою жену? Нет, невозможно. Она не поверит. Она ведь очень глупа. Пустоголовое, прилипчивое создание — вцепилась в него обеими руками. А главное — все еще его любит.
В душе у него росла слепая ярость. Как заставить ее молчать? Как заткнуть ей рот? Он с горечью подумал, что тут мог бы помочь только яд.
Где-то рядом зажужжала оса. Он рассеянно поискал ее глазами. Она забралась в вазочку с вареньем и тщетно пыталась оттуда выбраться.
«Совсем как я, — подумал он. — Попала в сладкий плен, а теперь не может вырваться».
Но он, Стивен Фарадей, не собирается сдаваться. Главное — выиграть время. Сейчас Розмэри больна гриппом. Он послал узнать о ее здоровье и отправил ей большой букет цветов. Болезнь дала ему передышку. На следующей неделе Бартоны пригласили их с Сандрой на обед в ресторан по случаю дня рождения Розмэри. Еще до болезни Розмэри сказала: «Пусть сперва пройдет мой день рождения, а потом я поговорю с Джорджем. Иначе это было бы жестоко. Он делает из этого дня целое событие. Все-таки он душка. Но как только все кончится, я надеюсь, мы договоримся».
А что, если сказать ей прямо, что все уже кончилось, что он ее больше не любит? Он поежился. Нет, он никогда на это не отважится. Она может в истерике побежать к Джорджу. Или даже к Сандре. Он заранее слышал ее прерывающийся плачущий голос: «Он говорит, что больше меня не любит, но вы ему не верьте. Он щадит вас и поэтому пытается все от вас скрыть. Но я убеждена, и вы со мной согласитесь, что если люди любят друг друга, то честность — это единственный выход. Именно поэтому я прошу вас дать ему свободу».
Ей ничего не стоило выплеснуть на Сандру всю эту тошнотворную муть.
Он представил себе гордое, презрительное лицо Сандры, услышал ее спокойный голос: «Он может получить свободу в любую минуту». А вдруг Сандра не поверит? Но ведь тогда Розмэри покажет ей письма, которые он имел глупость посылать. Один Бог знает, что он там ей писал! Вполне достаточно, даже более чем достаточно, чтобы у Сандры не осталось никаких сомнений.
Ей, Сандре, он таких писем не писал… Он должен что-то придумать, чтобы заставить Розмэри молчать. «Жаль, что прошли времена Борджиа»[90],— мрачно подумал он.
Только бокал отравленного шампанского мог бы заставить ее замолчать.
Он ведь действительно тогда так подумал! Цианистый калий в ее бокале с шампанским, цианистый калий в ее сумочке. Депрессия после гриппа.
И глаза Сандры, встретившие его взгляд.
Скоро год, а он все никак не может забыть.
Глава 5 Александра Фарадей
Сандра Фарадей не забыла Розмэри Бартон.
И сейчас, думая о ней, она снова представила себе тот вечер в ресторане и Розмэри, всей тяжестью рухнувшую на стол.
Она отчетливо помнит, как она сама вскрикнула и потом, подняв голову, встретилась взглядом со Стивеном.
Прочел ли он правду в ее глазах? Увидел ли в них ненависть и ужас, смешанные с торжеством?
Прошел почти год, а эта сцена была свежа в ее памяти, как будто все случилось только вчера.
Вот розмарин — для памятливости. Пророческие слова! Что с того, что люди умирают, если они все равно продолжают жить в нашей памяти? Так именно случилось с Розмэри. Она прочно поселилась в памяти Сандры. А в памяти Стивена? Наверное, тоже.
«Люксембург»… До чего же ненавистен ей этот ресторан! Роскошное помещение, первоклассная кухня, безупречное обслуживание. Туда постоянно приглашают. Никуда не деться от этого места.
Она бы рада была забыть, но все окружающее, как Нарочно, не давало ей этой возможности. Даже Ферхейвен перестал быть прибежищем с тех пор, как Джордж Бартон поселился в Литл-Прайерс.
Это произошло совершенно неожиданно. Джордж, правда, всегда был со странностями. Совсем не о таком соседе она мечтала. Его присутствие в Литл-Прайерс нарушило покой и очарование Ферхейвена. До этого лета она здесь всегда отдыхала душой; здесь они со Стивеном были счастливы, если они вообще когда-либо были счастливы.
Она сжала тонкие губы. Да, тысячу раз да. Они могли бы быть счастливы, если бы не Розмэри. С появлением Розмэри заколебалось то хрупкое здание взаимного доверия и нежности, которое они со Стивеном только начали было возводить.
Какой-то непонятный внутренний инстинкт заставил Сандру скрывать от Стивена свою страстную любовь. Она полюбила его с той самой минуты, когда он, подойдя к столу в тот вечер у Киддерминстеров, заговорил с нею, делая вид, что очень застенчив и не знает, кто она такая.
На самом деле он прекрасно знал. Она не могла бы сказать, когда именно она это поняла. Очевидно, через некоторое время после женитьбы, когда он разъяснял ей план какой-то политической махинации, необходимой для проведения законопроекта. В то время у нее мелькнула мысль: «Это на что-то похоже. Но на что?» Позднее она поняла, что это, по сути дела, тот же прием, которым он воспользовался много лет назад, в тот памятный вечер у Киддерминстеров.
Она восприняла свое открытие без удивления, как будто оно только подтвердило истину, давно дремавшую в глубине ее сознания.
Вскоре после свадьбы Сандра убедилась, что Стивен любит ее не так, как она его. Но она допускала, что он вообще не способен на сильное чувство. Фанатичная, отчаянная любовь была ее уделом. Она любила его со страстностью, редкой для женщины. Она была бы счастлива умереть за него; ради него она готова была пойти на любую ложь, хитрость и муку. А пока что она с достоинством и самообладанием заняла уготовленное ей место. Он нуждался в ее дружбе, сочувствии, деловой помощи. Ему требовалось не сердце ее, а ум и те блага, которые дало ей происхождение.
Она заставляла себя быть сдержанной и не выдавать всю глубину своей любви, ведь все равно он не мог ответить должным образом. Она не сомневалась, что нравится ему и что он ценит ее общество. Будущее, согретое нежностью и дружбой, должно было облегчить ее бремя.
Ей казалось, что он способен только на такую любовь.
И тут появилась Розмэри.
Часто с горькой болезненной усмешкой она думала о том, как он заблуждается, полагая, что она ничего не знает. Она знала все — с первой минуты, знала еще в Сент-Морице, когда увидела, как он смотрит на эту женщину.
Она знала запах ее духов. Она смотрела на лицо мужа, на эту вежливую маску, видела его отсутствующий взгляд и угадывала, о чем он вспоминает, — о ней, об этой женщине, у которой он только что был.
Кто может судить о глубине страданий, через которые она прошла? Изо дня в день она терпела адские муки. Единственное, что поддерживало в ней мужество, была ее природная гордость. Она ничем не должна была показать, как ей трудно. Она похудела, побледнела, осунулась. Скулы и ключицы обозначились резче. Она с трудом заставляла себя есть, лишилась сна. Ночи напролет она лежала, всматриваясь в темноту сухими горящими глазами. Она не принимала снотворных, считая это проявлением слабости. Она все вынесет, никогда не станет молить, протестовать, говорить о том, как она оскорблена. Сама мысль об этом была ей отвратительна. У нее оставалась одна крупица утешения, жалкая крупица: Стивен явно не хотел расставаться с ней. Даже если его удерживал расчет, а не привязанность, тем не менее факт оставался фактом — уходить он не собирался.
Может быть, в один прекрасный день его увлечение кончится.
Что он нашел в этой женщине? Она была красива, привлекательна, но ведь были и другие женщины, не менее красивые и не менее привлекательные. Чем она могла его так прельстить? Она ведь глупа как пробка, и — к этому все время возвращались мысли Сандры — с ней совершенно неинтересно. Будь у нее хотя бы остроумие или кокетство, то, что всегда удерживает мужчин, но и этого-то не было. Она надеялась, что рано или поздно Стивену это надоест.
Она была убеждена, что для него главное в жизни — работа. Судьба предназначила его для больших дел, и он это знал. Он обладал ясным умом государственного деятеля. Найти применение своим способностям и было его главной жизненной задачей. Он это поймет, как только увлечение начнет проходить.
За все это время Сандре ни разу не пришла в голову мысль о разводе. Она душой и телом принадлежала Стивену; он волен был принять ее или отвергнуть. В нем сосредоточился весь смысл ее жизни. Любовь испепеляла ей душу.
Был момент, когда затеплилась надежда. Они уехали в Ферхейвен. Стивен, казалось, вновь стал самим собой. Она почувствовала, что между ними возрождается былая близость. В сердце затеплилась искорка. Она все еще желанна, ему приятно ее общество, он прислушивается к ее словам. Хоть на какое-то время он вырвался из цепких когтей этой женщины.
Он повеселел, стал похож на прежнего Стивена.
Это означало, что еще не все окончательно потеряно. Он постепенно излечивался. Если бы он только решил порвать с ней…
После их возвращения в Лондон наступил рецидив. Стивен выглядел изможденным, озабоченным и больным. Ему с трудом удавалось сосредоточиться на работе.
Она догадывалась, в чем дело: очевидно, Розмэри уговаривала Стивена уехать с ней, а он собирался с силами, чтобы совершить этот шаг, расстаться со всем, чем он дорожил. Это безумие. Чистое безумие. Ведь он из тех, для кого работа всегда на первом плане. Чисто английский тип. В глубине души он и сам это сознает. Да, но Розмэри очень красива… И очень глупа. Стивен не первый и не последний. Сколько мужчин бросали карьеру ради юбки, а потом всю жизнь горько каялись.
Однажды на каком-то приеме она случайно услышала обрывок фразы, сказанной Розмэри Стивену: «…объясниться с Джорджем и прийти к какому-то решению». Вскоре после этого Розмэри заболела гриппом.
Слабая надежда поселилась в сердце Сандры. А вдруг у нее начнется воспаление легких? Грипп часто дает осложнения. Умерла же прошлой зимой ее совсем молоденькая приятельница. Если бы Розмэри умерла!..
Сандра даже не пыталась отогнать эту мысль. Она ее не ужаснула. В душе ее было достаточно средневековых страстей, чтобы ненавидеть хладнокровно и спокойно.
Она ненавидела Розмэри Бартон. Если бы мысли могли убивать, она бы убила ее.
Но одних мыслей мало.
Как хороша была Розмэри в тот вечер в «Люксембурге», когда она стояла перед зеркалом в дамской комнате, спустив с плеч песцовое боа![91] Она побледнела и осунулась после болезни, и лицо ее стало тоньше и одухотвореннее. Она старательно подкрашивала губы.
Сандра, подойдя сзади, через ее плечо посмотрела на их сдвоенное отражение. Ее собственное лицо было как застывшая каменная маска, холодная и безжизненная. Оно не выдавало никаких чувств — лицо холодной жестокой женщины.
Увидев ее, Розмэри сказала:
— Ой, Сандра, я заняла все зеркало! Но я уже кончаю. Этот ужасный грипп меня доконал. Похожа на какое-то чучело. И к тому же все время слабость и болит голова.
Сандра спросила с вежливым участием:
— И сейчас тоже?
— Да, немного. У вас нет с собой аспирина?
— Есть пирамидон. — Она открыла сумочку и вынула таблетку. Розмэри взяла ее.
— Положу к себе на всякий случай.
Всю эту сцену наблюдала та самоуверенная темноволосая девушка, секретарша Бартона. Интересная девушка, можно сказать, красивая. У Сандры сложилось впечатление, что она недолюбливает Розмэри.
Затем они все вышли из комнаты — Сандра впереди, за ней Розмэри и следом за ними мисс Лессинг. Да, еще Айрис, сестра Розмэри. Совсем как школьница в своем белом платье. Огромные серые глаза, и такая взволнованная…
В зале они присоединились к мужчинам.
К ним тут же подбежал метрдотель и проводил их к столику. Они прошли через высокую створчатую дверь, и ничто не предвещало, что одна из них никогда больше не выйдет живой из этой двери.
Глава 6 Джордж Бартон
Розмэри…
Джордж Бартон опустил руку со стаканом и, по-совиному нахохлившись, уставился на огонь в камине.
Он уже достаточно выпил и поэтому впал в состояние, когда испытываешь к себе непреодолимую жалость.
До чего все же она была прелестна! Он просто с ума по ней сходил. И она это знала. Правда, ему всегда казалось, что она не принимает его всерьез.
И даже когда он в первый раз сделал ей предложение, у него не было никакой надежды.
Он мямлил и заикался. Вел себя как шут гороховый.
— Имей в виду… в любой момент — тебе стоит сказать только слово. Я знаю, все это напрасно. Ты на меня и смотреть не захочешь. Я ведь особенным умом не отличаюсь. Да и фигурой не вышел. Но ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хотел сказать… Я всегда в твоем распоряжении. Я знаю, шансов у меня никаких, но все же я решился сказать тебе об этом.
Розмэри рассмеялась и поцеловала его в макушку.
— Ты душенька, Джордж. Я буду иметь в виду твое предложение. Но в данный момент я вообще не собираюсь выходить замуж.
Он сказал тогда — совершенно искренне:
— И правильно делаешь. Не торопись. Осмотрись хорошенько и выбери достойного человека.
По-настоящему он никогда не надеялся. Вот почему он был так потрясен, когда Розмэри вдруг объявила, что согласна выйти за него замуж.
Она не была в него влюблена. Он это прекрасно знал. Да и сама она не скрывала этого.
— Мне хочется покоя, счастья, надежности. И все это ты мне можешь дать. Я устала влюбляться. Всегда что-то получается не так. А ты мне очень нравишься, Джордж. Ты милый, ты смешной, ты добрый, и ты думаешь, что лучше меня на свете нет. Мне ничего другого не нужно.
Он ответил несколько невпопад:
— Тише едешь — дальше будешь. Мы еще с тобой будем счастливы.
Он не ошибся. Они были по-настоящему счастливы. Правда, он всегда чувствовал себя немного униженным. Он готовил себя к тому, что не все будет гладко в их семейной жизни. Вряд ли Розмэри удовлетворит такой скучный муж, как он. Могут быть самые непредвиденные виражи. Он старался приучить себя к этой мысли. Правда, он надеялся, что увлечения Розмэри окажутся кратковременными и она неизменно будет к нему возвращаться. Если свыкнуться с мыслью, что это неизбежно, все будет в порядке.
Розмэри была к нему очень привязана; чувство ее было ровным и постоянным и существовало независимо от всех ее романов и флирта.
Он приучал себя спокойно относиться к ее романам, понимая, что при необыкновенной красоте и бурном темпераменте Розмэри они неизбежны. Единственное, чего он не предвидел, — это своей собственной реакции.
Его совершенно не беспокоил ее постоянный флирт с молодыми людьми, но как только появился намек на более серьезное увлечение…
Он сразу уловил в ней перемену: она постоянно теперь была оживлена, еще более похорошела и вся буквально светилась. Вскоре его догадки нашли конкретное подтверждение.
Однажды он вошел к ней в комнату и увидел, как она инстинктивно прикрыла рукой страницу письма, которое писала. Он сразу понял: она писала своему любовнику.
Когда она вышла из комнаты, он подошел к столу и взял в руки бювар[92]. Письмо Розмэри унесла с собой, но на промокательной бумаге виднелись свежие следы чернил. Он поднес ее к зеркалу и разобрал слова, написанные знакомым почерком: «Мой родной и любимый…»
Он почувствовал звон в ушах. В тот момент он понял, что должен был пережить муки Отелло[93]. Смешно говорить о каких-то разумных решениях. Естество все равно возьмет верх. Он готов был придушить ее. Готов был собственными руками зарезать этого негодяя. Но кто он? Хлыщ Браун? Или этот гордец Стивен Фарадей? Они оба пялились на нее.
Он увидел в зеркале свое лицо. Глаза налиты кровью. Вид такой, будто его вот-вот хватит удар.
И сейчас, вспомнив об этом, Джордж Бартон выронил стакан. Его снова душил гнев, кровь стучала в висках. Даже теперь.
Он с усилием отогнал воспоминания. Какой смысл все это ворошить? Прошлое есть прошлое. Он больше не хочет страдать.
Розмэри нет в живых. Покоится в мире. И он тоже успокоился. Перестал мучиться.
Как ни странно, ее смерть принесла ему успокоение.
Он даже Рут об этом никогда не говорил. Милая девушка. И голова на плечах. Даже трудно представить, что бы он без нее делал. Как она ему помогает! Как она ему сочувствует! И ни намека на секс. Не помешана на мужчинах, как Розмэри.
Розмэри… Розмэри за круглым столиком в ресторане. Похудевшая после гриппа, немного расстроенная, но прелестная. И кто бы подумал, что через час…
Нет, только не об этом, не сейчас. Основное теперь — план. Лучше думать о плане.
Первым делом он поговорит с Рейсом. Покажет ему письма. Интересно, какая у него будет реакция. Айрис была ошеломлена. Ей, видимо, в голову не приходила такая возможность.
Сейчас он хозяин положения. Все уже рассчитано и размечено. Его план разработан до мелочей. Выбрано время и место.
Второе ноября. День поминовения[94]. Это даже удачно. И конечно, «Люксембург». Нужно попытаться заказать тот же столик.
И тот же состав гостей: Энтони Браун, Стивен Фарадей, Сандра Фарадей, затем, разумеется, Рут, Айрис и он сам. Седьмым надо пригласить Рейса. Рейс ведь должен был присутствовать на том обеде.
И одно место останется пустым. Все должно получиться великолепно, как в театре.
Повторение преступления. Не совсем точное повторение…
Он снова вспомнил тот вечер.
День рождения Розмэри…
Розмэри, замертво рухнувшая на стол.
Часть вторая ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ
Вот розмарин — это для памятливости…
Глава 1
Люсилла Дрейк щебетала. Именно этим вполне подходящим термином в семье было принято обозначать поток звуков, который изливался из непорочных уст тети Люсиллы.
В то утро она была одновременно занята таким множеством дел, что ей никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном. Предстоящий переезд в город и связанные с ним хлопоты — хозяйство, слуги, заготовка продуктов на зиму, не считая сотни более мелких проблем, — все время перемежались с заботами об Айрис.
— Меня ужасно беспокоит твой вид, дорогая, ты так бледна, измученна — такое впечатление, что ты всю ночь не спала. Ты хорошо спишь? Имей в виду, есть прекрасное средство — снотворное доктора Уайли или, кажется, доктора Гаскелла. Да, кстати, я, пожалуй, должна сама пойти к бакалейщику и выяснить, в чем дело: то ли наши горничные делают закупки не спросясь, то ли он сам приписывает к счету лишнее. Стирального порошка просто не напасешься, а я велю тратить не больше трех пачек в неделю. А может быть, тебе лучше принять тонизирующее? Когда я была девушкой, обычно прописывали сироп Итона. И шпинат, конечно. Я скажу кухарке, чтобы к ленчу она сделала шпинат.
Айрис уже успела привыкнуть к манере тетушки Люсиллы перепархивать с предмета на предмет, к тому же сейчас она была в подавленном настроении, иначе не преминула бы спросить, какая связь существует между доктором Гаскеллом и бакалейщиком. Впрочем, можно не сомневаться, что она тут же услышала бы в ответ: «Дорогая, дело в том, что бакалейщика зовут Крэнфорд»[95]. Логика тети Люсиллы была всегда предельно ясна для нее самой.
Вместо того чтобы задавать вопросы, Айрис с трудом выдавила:
— Я совершенно здорова, тетушка.
— Но у тебя круги под глазами. Ты себя перегружаешь.
— Я ничего не делаю вот уже несколько недель.
— Это тебе так кажется. Теннис очень изнуряет молодой организм. И кроме того, я считаю, что здесь сам воздух действует на нервы. Это слишком низкое место. Если бы Джордж нашел нужным посоветоваться со мной, а не с этой девицей…
— С девицей?
— Да, с мисс Лессинг, о которой он такого высокого мнения. На службе — пожалуйста, но совсем незачем было приучать ее к дому, вводить в семью. Впрочем, таких вводить и не нужно — они сами найдут дорогу.
— Тетушка, но ведь Рут действительно почти что член семьи.
Миссис Дрейк презрительно хмыкнула:
— Она на это рассчитывает — ясно как божий день. Бедный Джордж — когда дело касается женщин, он не лучше грудного младенца. Но так не годится, Айрис. Джорджа нужно оградить от него самого. На твоем месте я дала бы ему понять, что, какой бы распрекрасной ни была мисс Лессинг, о браке с ней не может быть и речи.
С Айрис как рукой сняло всю апатию.
— Мне в голову не приходило, что Джордж может жениться на Рут.
— Ты не замечаешь того, что происходит у тебя под носом, дитя мое. И неудивительно: у тебя ведь нет моего жизненного опыта.
Айрис невольно улыбнулась. Смешные вещи иногда говорит тетя Люсилла.
— У этой особы намерения недвусмысленные.
— Но разве это что-нибудь меняет? — спросила Айрис.
— Меняет? Что за вопрос!
— По-моему, это было бы не так уж плохо.
Люсилла от удивления раскрыла глаза.
— Я хочу сказать — неплохо для Джорджа. Я думаю, вы правы: по-моему она обожает его и будет ему очень хорошей и заботливой женой.
Миссис Дрейк фыркнула; ее добродушное лицо приняло негодующее выражение.
— Можно подумать, что сейчас о нем некому позаботиться. Чего ему еще не хватает? Кормят его прекрасно, все отглажено, все зачинено. Ему, безусловно, приятно, что в доме у него живет привлекательная молодая девушка. А когда ты выйдешь замуж, надеюсь, я буду еще в состоянии обеспечить ему уход и позаботиться о его здоровье. И справлюсь с этим не хуже, а может быть, и лучше, чем какая-то молодая девица из конторы. Что такая женщина понимает в домашнем хозяйстве? Знает свои цифры, гроссбухи, машинопись, стенографию — ну и что? Какой толк от всего этого мужу?
Айрис улыбнулась и покачала головой, но не стала спорить. Она думала о Рут: черноволосая, всегда гладко причесанная, ладная фигурка, так удачно подчеркнутая строгим покроем костюма. Бедная тетя Люсилла! Все мысли у нее только о хозяйстве и домашнем уюте. О любви она и забыла, если вообще когда-нибудь знала, что это такое, — Айрис вспомнила покойного супруга своей тетушки.
Люсилла Дрейк, сводная сестра Гектора Марля, была старше его на много лет; она взяла на себя попечение о брате, когда он лишился матери. Ведя в отцовском доме все хозяйство, она постепенно приобрела черты типичной старой девы. Почти в сорок лет она познакомилась с достопочтенным[96] Калебом Дрейком, которому в то время было за пятьдесят. Их супружество длилось недолго, не более двух лет, после чего она осталась вдовой с младенцем на руках. Материнство, такое позднее и неожиданное, стало кульминацией всей жизни Люсиллы. Сын вырос и стал постоянным источником беспокойства и огорчений и одновременно бездонным колодцем, поглощавшим все ее деньги; но она на него молилась. Единственный недостаток, который она в нем признавала, была некоторая мягкость характера. Виктор слишком доверчив, слишком легко поддается дурному влиянию приятелей. Виктору не везет. Виктора постоянно обманывают. Виктор — жертва мошенничества, орудие в руках бесчестных людей, которые все время пользуются его наивностью. Ее кроткое, глуповатое лицо каменело на глазах, когда кто-нибудь при ней неодобрительно отзывался о Викторе. Кому, как не ей, знать своего сына? Виктор — прекрасный, добрый мальчик, открытый, искренний. И этим, конечно, пользуются его мнимые друзья. Только ей известно, какая для него каждый раз мука просить у нее денег. Но когда мальчик попадает в такие ужасные обстоятельства, что ему остается делать? К кому обратиться, как не к родной матери?
Приглашение Джорджа переехать к нему, с тем чтобы присматривать за Айрис, пришло в момент, когда Люсилла задыхалась в тисках благопристойной бедности, и она сама расценивала его как дар Божий. Весь последний год она жила в полном довольстве. Так можно ли требовать, чтобы она радовалась, глядя, как на ее права покушается какая-то выскочка, у которой только и есть что деловитость? И конечно, она зарится на его деньги — Люсилла была в этом убеждена. Еще бы! Приобретет хороший дом, щедрого и богатого мужа. Люсилла уже не в том возрасте, когда можно поверить, что женщине доставляет удовольствие самой зарабатывать себе на хлеб. Все девушки на один лад — любая предпочтет выйти замуж и жить на всем готовом, если есть такая возможность. Эта Рут Лессинг тонкая штучка — втирается в доверие постепенно, дает полезные советы, входит во все дела, мечтает стать незаменимой. Но, слава Богу, нашелся человек, который ее раскусил!
Люсилла покивала головой, так что затрясся ее мягкий двойной подбородок, подняла брови с видом неоспоримого интеллектуального превосходства и перешла к следующей теме, не менее волнующей и увлекательной:
— Никак не могу решить, что делать с одеялами. Не могу добиться от Джорджа — собирается ли он проводить здесь выходные или мы все закроем до весны? Он не говорит.
— Мне кажется, он и сам не знает.
Айрис с трудом отключилась от своих мыслей и попыталась сосредоточиться на том, что говорит тетка.
— Если будет хорошая погода, сюда приятно иногда приезжать, хотя не могу сказать, что я очень жажду. В конце концов, не важно, будем мы приезжать или нет, — дом никуда не денется.
— Милочка, все это так, но мне бы хотелось знать наверняка. Видишь ли, если мы сюда не приедем до весны, одеяла нужно положить в нафталин. Но в случае, если мы будем наезжать, этого делать не стоит. Одеяла понадобятся, и очень неприятно, когда пахнет нафталином.
— Ну так не кладите в нафталин.
— Но лето было жаркое, и теперь полно моли. Говорят, что в этом году необыкновенно много моли, и ос тоже, конечно. Хокинс вчера сказал мне, что уничтожил за лето тридцать осиных гнезд. Подумать только, тридцать штук!
Айрис представила садовника Хокинса, выходящего в сумерках на охоту… с цианистым калием в руках. Цианистый калий… Розмэри. Почему все так упорно толкает ее на воспоминания?
Голос Люсиллы звенел, ни на минуту не умолкая. Тема теперь переменилась.
— …И не знаю, отправлять ли столовое серебро на хранение в банк. Леди Александра говорит, что сейчас много краж. У нас, правда, хорошие ставни. Только мне ужасно не нравится ее прическа, от нее все лицо как-то ожесточается, впрочем, по-моему, она вообще жестокая женщина. И нервная. Все сейчас очень нервные. Когда я была девушкой, никто не знал, что такое нервы. Да, кстати, меня беспокоит вид Джорджа. Уж не грипп ли у него начинается? Мне показалось раза два, что у него температура. Может быть, у него дела не в порядке? У меня такое впечатление, что его что-то гнетет.
Айрис поежилась, как от холода, и тут же услышала торжествующий голос Люсиллы:
— Я же говорила, что ты простужена!
Глава 2
— Лучше бы они сюда не приезжали!
В голосе Сандры Фарадей прозвучало такое непривычное ожесточение, что Стивен обернулся и удивленно посмотрел на жену. У него было ощущение, что Сандра прочла его мысли и выразила их вслух. Мысли, которые он так тщательно скрывал. Значит, Сандра чувствует то же, что и он. И для нее Ферхейвен был отравлен, покой был нарушен с тех пор, как в имении за парком поселились новые соседи.
Он не мог удержаться и высказал свое удивление вслух:
— Я не знал, что и ты так думаешь!
Он почувствовал, что Сандра мгновенно снова ушла в себя.
— Соседи в деревне значат гораздо больше, чем в городе. Здесь выбора нет — надо либо дружить, либо повернуться к ним спиной. К сожалению, здесь невозможно оставаться просто добрыми знакомыми.
— Ты права, невозможно.
— А теперь мы еще связаны этим странным приглашением.
Оба замолкли, вспоминая сцену за завтраком. Джордж Бартон был как-то неестественно оживлен, однако за его живостью чувствовалось плохо скрываемое возбуждение. До смерти Розмэри Стивен привык не замечать Джорджа. Он всегда был где-то на втором плане, добродушный и неинтересный муж молодой красавицы жены. Стивен даже не испытывал особых угрызений совести, обманывая его. Джордж принадлежал к типу мужей, как будто специально созданных, чтобы их обманывали. Он ведь был намного старше Розмэри, и в нем не было ничего, что могло бы удержать такую привлекательную и избалованную женщину. Стивен считал, что вряд ли и сам Джордж заблуждался на собственный счет. Он хорошо знал Розмэри. Он любил ее и в то же время, видимо, прекрасно сознавал, что ему не приходится рассчитывать на взаимность.
Но, очевидно, измены жены причиняли ему страдание…
Стивен подумал о том, что должен был чувствовать Джордж, когда Розмэри умерла.
После трагедии они с Сандрой почти не видели его несколько месяцев. До той поры, пока он не поселился по соседству, в Литл-Прайерс, и снова не вошел в их жизнь — вошел, по мнению Стивена, в совершенно новом обличье.
С одной стороны, он стал независимее, как-то тверже стоял на земле. С другой — в его поведении появились странности.
Вот и сегодня — разве не странно прозвучало это неожиданное приглашение на вечеринку по случаю восемнадцатилетия Айрис? Джордж выпалил его одним духом. Он очень надеется, что они оба — Сандра и Стивен — не откажутся прийти. Они были так внимательны к ним все это время.
Сандра тут же ответила, что они были бы очень рады; Стивен, правда, будет страшно занят по возвращении в Лондон, да и у нее самой масса докучных обязанностей, но она думает, что им удастся выкроить один вечер.
— Тогда давайте назначим день.
И лицо Джорджа — добродушное, улыбающееся, со странно настойчивым выражением.
— Скажем, не на ближайшей неделе, а на следующей. Например, в среду. Или в четверг. Четверг — второе ноября. В общем, в любой день по вашему выбору.
Приглашение, сделанное таким образом, — вопреки всяким нормам, принятым между воспитанными людьми, — ставило гостя в безвыходное положение. Стивен заметил, что Айрис Марль покраснела — очевидно, почувствовала неловкость ситуации. Но Сандра, как всегда, реагировала безукоризненно.
Покорившись неизбежному, она с улыбкой сказала:
— Ну что ж, в четверг так в четверг. Второго ноября. Это нас вполне устраивает…
Неожиданно Стивен прервал свои размышления и произнес вслух:
— Нам совсем необязательно туда идти.
Сандра слегка повернула голову, как бы раздумывая над его словами:
— Ты думаешь, необязательно?
— Всегда можно чем-нибудь отговориться.
— Но он все равно не отстанет. Вынудит нас прийти в другой раз или переменит день. Он очень заинтересован в том, чтобы мы пришли.
— Не могу понять почему. Ведь это день рождения Айрис. Совсем не уверен, что она сама так уж жаждет нашего присутствия.
— Нет, конечно.
Чуть помедлив, она спросила:
— А ты знаешь, где будет вечер?
— Нет.
— В «Люксембурге».
Кровь отхлынула у него от лица, язык прилип к гортани. Подняв глаза, он увидел, что Сандра внимательно смотрит на него.
— Это чудовищно! — воскликнул он, пытаясь скрыть волнение. — В «Люксембурге», где… где все напоминает… Он сошел с ума!
— Я уже думала об этом.
— Тем более мы должны отказаться. Это все ужасно. Ты помнишь шум, фотографии в газетах?
— Я помню, как это было тяжело…
— Неужели он не понимает, что это нам неприятно?
— У него есть на это своя причина. Он мне ее объяснил.
— Какая же? — Он был благодарен ей за то, что она не смотрела на него, пока говорила.
— После завтрака он отвел меня в сторону и сказал, что хочет объяснить, почему приглашает нас именно в «Люксембург». Дело якобы в том, что Айрис так и не оправилась после смерти сестры.
Она остановилась. Чтобы как-то заполнить молчание, Стивен сказал:
— Это похоже на правду. Она неважно выглядит. Я сразу обратил внимание, какой у нее болезненный вид.
— Да, я тоже заметила, хотя она как будто ни на что не жалуется и в последнее время даже повеселела. Но я тебе передаю то, что сказал Джордж. Он говорит, что Айрис с тех пор боится и близко подойти к «Люксембургу».
— Что ж тут удивительного!
— А вот Джордж считает, что это ненормально, и даже консультировался по этому поводу с каким-то новомодным специалистом по нервным расстройствам. Тот сказал, что, по его мнению, беде нужно смотреть прямо в глаза, а не бежать от нее. Это лучший способ подавить неприятные эмоции после нервного потрясения. Принцип, очевидно, тот же, что в авиации, когда летчика после катастрофы сразу же снова отправляют в полет.
— Иначе говоря, клин клином вышибают. Может быть, специалист рекомендует устроить еще одно самоубийство?
Сандра спокойно возразила:
— Он рекомендует перебороть ассоциации, которые вызывает этот ресторан. Ведь, в конце концов, это всего лишь ресторан. Он предложил Джорджу устроить там обычную веселую вечеринку, по возможности с тем же составом гостей.
— Радость гостей не поддается описанию.
— Тебе это так неприятно, Стивен?
Сердце сжалось от мгновенного испуга. Он торопливо сказал:
— Нет-нет, мне все равно. Только мне эта затея кажется очень уж мрачной. Лично меня она, собственно, мало трогает. Я думал о тебе, но если ты не против, то что же…
Она прервала его:
— Я как раз против. Мне очень не хочется идти. Но Джордж Бартон поставил нас в такое положение, что мы не можем отказаться. Ничего не поделаешь! Я с тех пор не раз уже бывала в «Люксембурге». Да и ты тоже. Туда ведь без конца приглашают.
— Но не при таких обстоятельствах.
— Это верно.
— Ты права, отказываться неудобно. Если сказать, что нас не устраивает день, боюсь, что последует новое приглашение. И тем не менее, Сандра, я не вижу причины, по которой ты должна себя мучить. Пойду я, а ты в последний момент можешь сослаться на головную боль или на простуду. Словом, что-то придумать.
Она вскинула подбородок.
— Это трусость. Нет, Стивен, если пойдешь ты, то пойду и я. В конце концов, — она дотронулась до его руки, — как бы мало ни значил наш брак, он, по крайней мере, предполагает, что все наши трудности мы делим пополам.
Он смотрел на нее не отрываясь, потрясенный горькой фразой, так небрежно слетевшей с ее губ, как будто бы она говорила о чем-то малозначительном, с чем давно свыклась и примирилась.
Стряхнув с себя оцепенение, он спросил:
— Почему ты так говоришь: «как бы мало ни значил наш брак»?
Она спокойно взглянула на него:
— Разве это не правда?
— Нет, тысячу раз нет. Наш брак для меня все на свете.
Она улыбнулась:
— Да, я тебя понимаю. Мы как хорошо пригнанная упряжка. Тянем дружно, и результаты вполне удовлетворительные.
— Я не то хотел сказать. — Его сердце учащенно забилось. Он крепко сжал руку Сандры. — Сандра, разве ты не знаешь, что в тебе вся моя жизнь?
И она вдруг поверила в искренность его слов. Поверила, хотя все это было так для нее неожиданно, почти невероятно.
Он держал ее в объятиях и осыпал поцелуями, и с губ его слетали бессвязные восклицания:
— Сандра, Сандра, я люблю тебя. Я так боялся… так боялся тебя потерять.
Она сама не понимала, как спросила:
— Из-за Розмэри?
— Да. — Он отпустил ее и отступил назад. На лице его появилось глупо-растерянное выражение. — Так ты знала… о Розмэри?
— Конечно. С самого начала.
— И ты все поняла?
Она покачала головой:
— Нет. До сих пор не могу понять. И вряд ли когда-нибудь пойму. Ты ее любил?
— По-настоящему нет. Я любил тебя.
Горький ком подкатил к ее горлу.
— С той самой минуты, когда увидел меня у стола? — спросила она, цитируя его же собственные слова. — Не надо повторять эту ложь. Это ведь была ложь!
Его не обезоружило это неожиданное нападение. Подумав, он неторопливо заговорил:
— Да, это была ложь. И, как ни странно, вместе с тем и не ложь. Я начинаю верить, что это была правда. Попытайся понять, Сандра. Ты ведь знаешь людей, которые всегда находят благовидный предлог для того, чтобы как-то завуалировать свои далеко не благовидные поступки, людей, которые «должны быть честными», хотя на самом деле просто не желают быть добрыми. Они считают «своим святым долгом» непременно передать вам, что такой-то сказал то-то. Они настолько привыкли лицемерить, что до гробовой доски доживают с убеждением, что все подлости и низости совершались ими из чистого альтруизма. А теперь постарайся представить себе, что существуют люди противоположного склада, изверившиеся в себе и в жизни, циничные, склонные видеть в своих поступках только дурное. Когда я с тобой познакомился, то понял: ты та женщина, которая была мне нужна. Это-то уж, во всяком случае, не ложь. И сейчас, оглядываясь на прошлое, я прихожу к убеждению, что если бы это было не так, я бы ничего не добился.
— Ты не был в меня влюблен, — сказала она с горечью.
— Да. Я вообще ни в кого не был влюблен. Я был изголодавшимся бесполым существом, кичившимся своим чистоплюйством. И вдруг я влюбился, буквально с первого взгляда. Это была слепая, сумасшедшая, щенячья любовь. Как летняя гроза — налетела, отшумела и прошла. Поистине — как «сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит…»[97].
Помолчав, он добавил:
— Здесь, в Ферхейвене, я очнулся и понял самое главное.
— Что же?
— Единственное, что для меня по-настоящему что-то значило, была ты. Возможность сохранить твою любовь.
— Если б я знала! — сказала Сандра тихо.
— А что ты думала?
— Я думала — ты собираешься уехать с ней. Навсегда.
— С Розмэри? — Он усмехнулся. — И обречь себя на пожизненную каторгу?
— Разве Розмэри не хотела, чтобы ты с ней уехал?
— Хотела.
— Что же помешало?
Стивен тяжело вздохнул. Они снова вернулись к тому, с чего начали, снова стояли на краю пропасти.
— Помешал «Люксембург», — сказал он.
Они молчали, зная, что думают об одном и том же. О посиневшем от цианистого калия женском лице, таком прекрасном минуту назад… Они, застыв, смотрят на нее, потом одновременно поднимают глаза и встречаются взглядом…
— Постарайся забыть, Сандра. Ради Бога, забудем.
— Это бесполезно. Нам не дадут забыть.
Помолчав, она спросила:
— Что делать дальше?
— Ты же сама сказала. Не прятаться. Пойти на этот кошмарный вечер, какую бы цель он ни преследовал.
— Я вижу, версия Бартона об исцелении Айрис тебя не удовлетворила.
— Нет. А тебя?
— Сама по себе она вполне правдоподобна. Но если даже и так, то все равно это не главное.
— А что, по-твоему, главное?
— Не знаю, Стивен. Но я боюсь.
— Джорджа Бартона?
— Да. Мне кажется, он знает.
— Знает — что? — спросил Стивен резко.
Она медленно повернула голову. Глаза их встретились.
— Мы не должны бояться, — сказала она тихо. — Надо собрать все наше мужество. Ведь тебя ждет слава, Стивен. Ты нужен человечеству. И ничто не должно этому помешать. А я твоя жена, и я люблю тебя.
— Как ты думаешь, Сандра, для чего затеяна эта вечеринка?
— Мне кажется, это ловушка.
— И мы позволим, чтобы нас туда заманили?
— Мы ни в коем случае не должны показывать, что подозреваем ловушку.
— Это верно.
Неожиданно Сандра, откинув назад голову, громко расхохоталась.
— Делай свое черное дело, Розмэри! Ты все равно проиграла.
Стивен сжал ей плечо:
— Успокойся, Сандра, Розмэри больше нет.
— Ты в этом уверен? Иногда… иногда мне кажется, что она жива.
Глава 3
Дойдя до середины парка, Айрис остановилась.
— Что, если я сейчас тебя покину, Джордж? Мне хочется прогуляться. Я поднимусь на Фрайерс-Хилл и вернусь лесом. У меня с утра ужасно болит голова.
— Бедная девочка! Конечно, иди. К сожалению, я должен вернуться. Ко мне обещал зайти днем один человек, но не сказал точно когда.
— Ну хорошо. Пока. Увидимся за чаем.
Она круто свернула с тропинки и быстрым шагом направилась к лиственничной роще, опоясывавшей холм.
Добравшись до гребня холма, она перевела дыхание. День был сырой и душный, типичный октябрьский день. Густая влага окутала листву, нависшие сырые облака предвещали дождь. Здесь, наверху, воздуха было не больше, чем в долине. Но все же дышалось немного легче.
Айрис села на ствол поваленного дерева и посмотрела вниз. Перед ней простиралась долина; в лесистой лощине приютился Литл-Прайерс. Еще дальше, слева от него, белел Ферхейвен.
Подперев рукой подбородок, она рассеянным взглядом обводила пейзаж.
Легкий шум за спиной, похожий на шорох падающих листьев, заставил ее резко обернуться. Ветви раздвинулись, и из-за деревьев вышел Энтони Браун.
— Тони! Ну почему вы всегда должны появляться, как дьявол в пантомиме?[98] — воскликнула она с шутливым упреком.
Энтони опустился на землю рядом с ней. Вынув портсигар, он предложил ей сигарету и, когда она отказалась, закурил сам. Сделав первую затяжку, он сказал:
— Потому, что я «таинственный незнакомец», если пользоваться газетным лексиконом. Я люблю возникать из ниоткуда.
— А как вы догадались, где я?
— С помощью полевого бинокля. Я знал, что вы завтракали у Фарадеев, и потом выследил вас с холма.
— Но почему бы вам не прийти в дом, как сделали бы все обыкновенные люди?
— С чего вы взяли, что я обыкновенный человек? — спросил он притворно оскорбленным тоном. — Я человек необыкновенный.
— Уж в этом я не сомневаюсь!
Он быстро взглянул на нее и спросил:
— Что-нибудь случилось?
— Нет. Все в порядке. По крайней мере…
Она вдруг остановилась.
— По крайней мере… — повторил Энтони.
Она глубоко вздохнула:
— Мне надоело здесь. Я ненавижу это место. Мне хочется скорее вернуться в Лондон.
— Но ведь вы, кажется, скоро переезжаете?
— На следующей неделе.
— Значит, это был торжественный прощальный завтрак?
— Никакого торжества не было. Были только сами Фарадеи и какой-то их родственник.
— Вам нравятся Фарадеи, Айрис?
— Сама не знаю. Скорее, нет, хотя мне не следует так говорить — они были очень добры к нам все это время.
— А как вы считаете, вы им нравитесь?
— Не думаю. По-моему, они нас ненавидят.
— Очень любопытно!
— Неужто?
— Вы не поняли. Я не о ненависти, хотя, возможно, вы ошибаетесь и никакой ненависти нет. Меня удивило слово «нас». Мой вопрос относился лично к вам.
— Ах вот что… Я думаю, против меня они как раз ничего не имеют. Просто им не нравится, что по соседству живут какие-то чужие люди. Мы с Джорджем никогда не были с ними в особенно близких отношениях. Они ведь дружили с Розмэри.
— Вы правы, — сказал Энтони, — они дружили с Розмэри… Хотя я не очень верю в близкую дружбу Розмэри и Сандры.
— Нет, конечно, — сказала Айрис, слегка насторожившись.
Но Энтони продолжал спокойно курить.
— Знаете, что кажется мне самым удивительным в Фарадеях? — спросил он.
— Что именно?
— То, что их так и хочется назвать — Фарадеи. Не отдельно Сандра и Стивен, два человека, соединенные законом и церковью, а некое двуединство — Фарадеи. Это явление гораздо менее распространенное, чем можно было бы предположить. У этих двух людей общая цель, общий образ жизни, одни и те же надежды, убеждения и опасения. И самое странное во всем этом, что они очень не похожи по характеру. Стивен Фарадей, на мой взгляд, человек недюжинного интеллекта, но при этом он необычайно чувствителен к чужому мнению и страшно в себе неуверен. Ему явно недостает нравственного мужества. У Сандры, в отличие от него, ум устроен на средневековый лад: она способна к фанатичной преданности и смела до безрассудства.
— Он всегда казался мне напыщенным и глупым, — сказала Айрис.
— Он совсем не глуп. Он просто один из тех, кому успех не приносит счастья.
— Не приносит счастья?
— Успех вообще мало кому приносит счастье. Люди потому и гонятся за ним, что должны все время самоутверждаться — любым способом, лишь бы мир их заметил.
— Какие у вас странные взгляды!
— Вы согласитесь со мной, если хорошенько подумаете. Счастливые люди редко стремятся достигнуть жизненных высот, потому что они довольны собой и на остальное им наплевать. Возьмите меня, к примеру. К тому же с ними легко ладить — пример тот же.
— Какого вы о себе высокого мнения.
— Я пытаюсь привлечь внимание к моим положительным качествам. Вдруг вы их не заметите!
Айрис рассмеялась. Настроение у нее исправилось. Страх и смутная подавленность прошли. Она взглянула на часы:
— Пойдемте к нам пить чай. Пусть и другие насладятся вашим драгоценным обществом.
Энтони покачал головой:
— Только не сегодня. Я должен вернуться в город.
— Почему вы никогда к нам не приходите? У вас есть какая-нибудь особая причина? — чуть обиженно спросила Айрис.
Энтони пожал плечами.
— Считайте, что у меня свое понятие о гостеприимстве. Ваш шурин меня не любит. Он этого и не скрывает.
— Не обращайте внимания на Джорджа. Достаточно, если мы с тетей Люсиллой вас приглашаем. Она душечка и вам бы понравилась.
— Не сомневаюсь, но тем не менее я стою на своем.
— Но ведь вы приходили, когда была жива Розмэри?
— Это совсем другое.
К сердцу Айрис словно кто-то прикоснулся холодной рукой. Она спросила:
— А что сегодня привело вас сюда? У вас какое-нибудь дело в наших краях?
— Дело, и очень важное. Касается вас. Я специально приехал, чтобы задать вам один вопрос.
Холодная рука исчезла, уступив место легкому волнению, трепетному ожиданию, знакомому женщинам с незапамятных времен. На лице Айрис появилось удивленное, вопросительное выражение, которое, наверное, было на лице ее прабабки перед тем, как она произнесла: «О, мистер Икс, это так неожиданно».
— О чем же вы хотели спросить?
Глаза, смотревшие на него, обезоруживали своей наивностью.
Лицо Энтони стало серьезным, почти суровым.
— Скажите честно, Айрис: вы мне доверяете?
Айрис растерялась. Такого вопроса она не ждала. Ее замешательство не ускользнуло от Энтони.
— Вы ожидали чего-то другого? Но это очень важный вопрос. Для меня он важнее всего. Поэтому я задам его еще раз. Вы мне доверяете?
Мгновение она колебалась, затем, потупившись, ответила:
— Да.
— Тогда я рискну задать вам вопрос номер два. Согласны ли вы поехать в Лондон и тайно со мной обвенчаться?
Айрис онемела от изумления.
— Что вы? Я не могу.
— Не можете выйти за меня замуж?
— Тайно — не могу.
— Но ведь вы меня любите? Любите?
Она сама удивилась, услышав свой ответ:
— Да, я люблю вас.
— И тем не менее не хотите поехать в Лондон и обвенчаться со мной в церкви Святой Эльфриды в Блумсбери?[99] Я специально прожил несколько недель в этом приходе и теперь имею право венчаться там в любое время.
— Но как я могу это сделать? Джордж будет смертельно оскорблен, а тетя Люсилла никогда не простит меня. И кроме того, я ведь несовершеннолетняя. Мне только исполнилось восемнадцать[100].
— Насчет возраста придется соврать. Еще не знаю, какое наказание ждет меня за женитьбу на несовершеннолетней без согласия ее опекуна. Кто, кстати, ваш опекун?
— Джордж. Он же мой доверенный.
— Так вот, какая бы кара мне ни грозила, расторгнуть наш брак уже не смогут, а это для меня самое главное.
Айрис покачала головой:
— Нет, нет, я так не могу. Я не могу быть такой неблагодарной. И вообще, почему надо делать из этого тайну?
— Я ведь не зря первым делом спросил вас, доверяете ли вы мне. Вы должны положиться на меня и не спрашивать о причине. Считайте, что так будет проще. Но коль скоро вы не хотите, все это уже не важно.
— Если бы хоть Джордж успел поближе с вами познакомиться… — робко сказала Айрис. — Пойдемте сейчас к нам. У нас никого нет. Только Джордж и тетя Люсилла.
— Вы точно знаете? А мне показалось… — Он сделал паузу. — Когда я поднимался на холм, я видел, как по дорожке к вашему дому шел человек. И самое забавное — по-моему, я его узнал… Мы с ним когда-то встречались, — добавил он после некоторого колебания.
— Да, верно, я совсем забыла. Джордж сказал, что он кого-то ждет.
— Если это тот, о ком я думаю, его фамилия — Рейс. Полковник Рейс.
— Вполне возможно. У Джорджа есть знакомый полковник Рейс. Его ждали в тот вечер, когда Розмэри…
Голос у нее дрогнул. Энтони крепко сжал ей руку:
— Айрис, дорогая, не надо об этом вспоминать. Это было ужасно, я знаю.
Она покачала головой:
— Но я ничего не могу с собой поделать, Энтони…
— Да?
— Вы никогда не думали… вам не приходило в голову… — Она с трудом подбирала слова. — Вам ни разу не казалось, что, может быть, Розмэри вовсе не покончила с собой? Что ее убили?
— Господь с вами, Айрис! Откуда такая странная мысль?
Вместо ответа она повторила свой вопрос:
— Вы никогда об этом не думали?
— Конечно нет. Я не сомневаюсь, что это было самоубийство.
Айрис промолчала.
— Кто внушает вам такие мысли?
Она боролась с искушением рассказать ему про свой разговор с Джорджем, про письма, но удержалась.
— Так просто… домыслы, — сказала она с расстановкой.
— Дурашка моя милая, не вспоминай об этом. — Он встал с земли, протянул ей руки, помогая подняться, и легко поцеловал в щеку. — Глупенькая моя фантазерка, забудь про Розмэри. Думай только обо мне.
Глава 4
Попыхивая трубкой, полковник Рейс задумчиво смотрел на Джорджа Бартона.
Он знал Джорджа Бартона с детства: имение Рейсов находилось по соседству с имением дяди Бартона. Между полковником Рейсом и Джорджем была разница почти в двадцать лет. Рейсу сейчас было за шестьдесят. В нем сразу угадывался военный: отменная выправка, загорелое лицо, короткий ежик седеющих волос и проницательный взгляд темных глаз.
Отношения у них были не сказать чтобы близкие. Однако Джордж навсегда остался одним из немногих, но чем-то дорогих людей, связанных с его юностью.
Полковник Рейс думал о том, что по-настоящему не знает, что за человек Джордж. За последние годы они несколько раз встречались, но с трудом находили общий язык. Рейса никак нельзя было назвать домоседом. Он принадлежал к тем строителям империи, которые половину жизни проводят вне Англии, в то время как Джордж Бартон редко покидал пределы города.
Они не знали даже, о чем говорить во время своих коротких встреч. Разговор их обычно сводился к воспоминанию каких-то полузабытых эпизодов из «добрых старых времен», а затем наступало неловкое молчание. Полковник Рейс был не мастер вести светскую беседу. В свое время он мог бы послужить прототипом эдакого недюжинного молчуна, излюбленного героя старых английских романистов.
И сейчас, молча попыхивая трубкой, он силился понять, почему Джордж так настаивал на встрече. За тот год, что они не виделись, в Джордже, как показалось полковнику, произошла какая-то перемена. Джордж Бартон всегда был для Рейса воплощением скучной трезвости — расчетливый, осмотрительный, начисто лишенный воображения.
«С парнем явно что-то неладно, — подумал Рейс. — Сидит как на иголках. Третий раз зажигает сигару. Совсем на него не похоже».
Он вынул изо рта трубку.
— У вас какая-нибудь неприятность, Джордж?
— Вы угадали, Рейс. Действительно, произошла неприятность. И мне очень нужен ваш совет — и помощь.
Полковник Рейс кивнул и выжидательно посмотрел на Джорджа.
— Помните, около года назад я пригласил вас на обед в «Люксембург». Вы не пришли — в последнюю минуту вам понадобилось выехать за границу.
Рейс снова кивнул:
— В Южную Африку.
— В тот вечер умерла моя жена.
Рейс неловко заерзал в кресле.
— Да, я знаю. Читал в газетах. Я умышленно не стал выражать вам соболезнование — не хотелось бередить старую рану. Но вы знаете, дружище, как я вам сочувствую.
— Да, да, конечно. Но я не об этом. Считается, что моя жена покончила жизнь самоубийством.
Рейс насторожился и удивленно вскинул брови.
— Считается? — переспросил он.
— Прочтите вот это.
Джордж протянул ему два письма. Брови Рейса поднялись еще выше.
— Анонимные письма?
— Да, и я им верю.
Рейс медленно покачал головой:
— Верить анонимкам опасно. Вы даже не представляете, Джордж, сколько грязных клеветнических писем появляется после каждой нашумевшей истории.
— Я знаю. Но эти письма были написаны не сразу, они пришли только через полгода после смерти Розмэри.
Рейс кивнул:
— В этом что-то есть. Кто, по-вашему, их написал?
— Понятия не имею. Да это и не важно. Самое существенное, что я им верю. Моя жена была убита.
Рейс положил трубку и выпрямился в кресле.
— Какие у вас для этого основания? Вы кого-нибудь подозревали в момент смерти? И что думала на этот счет полиция?
— Я мало что соображал, когда все это случилось. Совершенно голову потерял. Я согласился с заключением судебного следствия. Никаких других версий, кроме самоубийства, тогда не фигурировало. В сумочке у нее нашли яд.
— Что за яд?
— Цианистый калий.
— Помню. Она выпила отравленное шампанское.
— Да. В то время других подозрений не было.
— Она когда-нибудь грозилась покончить с собой?
— Нет, никогда. Розмэри слишком любила жизнь.
Рейс кивнул. Жену Джорджа Бартона он видел только один раз. Она показалась ему довольно пустенькой красоткой, отнюдь не меланхоличного склада.
— А что говорили врачи относительно ее психического состояния и всего прочего?
— Личного врача Розмэри в то время не было в городе — он уехал в морское путешествие. Это совсем уже пожилой человек — он лечил семейство Марлей, когда девочки были еще маленькие. Когда Розмэри заболела, мы обратились к его помощнику. Как я припоминаю, этот молодой врач сказал, что свирепствующая сейчас форма гриппа дает сильную депрессию.
Джордж перевел дух и продолжил:
— После того как я получил эти письма, я переговорил со старым врачом Розмэри. Про письма я, разумеется, упоминать не стал. Он сказал мне, что все случившееся было для него полной неожиданностью, что он никогда бы этому не поверил. Он не замечал у Розмэри наклонности к самоубийству. По его мнению, этот случай свидетельствует о том, что даже пациент, которого как будто хорошо знаешь, может вдруг повести себя совершенно нехарактерным для него образом.
Джордж снова сделал паузу.
— После этого разговора я впервые осознал, насколько неубедительной была для меня версия о самоубийстве моей жены. В конце концов, я же прекрасно знал Розмэри. У нее бывали отчаянные приступы хандры, она способна была вспылить из-за пустяка, могла под влиянием минуты совершить какой-то опрометчивый поступок. Но я никогда не замечал у нее состояния, при котором хочется «свести счеты с жизнью».
Рейс, слегка замявшись, спросил:
— Не было у нее другого мотива для самоубийства, кроме депрессии? Может быть, у нее случилась какая-нибудь беда?
— Я… Да нет, кажется… Вообще, она из-за чего-то нервничала.
Стараясь не глядеть на Джорджа, Рейс спросил:
— А не было ли у нее склонности к мелодраме? Я ведь ее мало знал — видел один-единственный раз. Есть люди, которые — как бы вам сказать — способны инсценировать самоубийство и получают от этого удовольствие. Особенно если они перед этим с кем-то поссорились. Знаете, как рассуждают дети: «Вот возьму и умру, пусть тогда плачут».
— Но мы с Розмэри вроде не ссорились.
— Гм. Между прочим, и цианистый калий говорит не в пользу моего предположения. Это не тот яд, с которым можно шутить и на всякий случай таскать в сумочке. Свойства этого яда всем известны.
— Верно. Есть еще один довод против, — сказал Джордж. — Если бы Розмэри и впрямь замыслила самоубийство, она наверняка выбрала бы другой способ — менее мучительный. Менее… уродливый. Скорее всего, она приняла бы большую дозу снотворного.
— Я с вами совершенно согласен. Скажите, известно ли, как к ней попал этот яд? Кто-нибудь видел, как она его покупала или где-то брала?
— Нет. Никто не видел. Но она гостила за городом у друзей, и там в это время уничтожали осиные гнезда.
На следствии было высказано предположение, что именно тогда она могла захватить с собой несколько кристаллов цианистого калия.
— Да, это вполне вероятно. Садовники часто держат его про запас.
Полковник Рейс подумал и затем предложил:
— Давайте подведем некоторые итоги. Мы не располагаем никакими положительными данными относительно наклонности вашей жены к самоубийству или о том, что она замышляла его. Все обстоятельства скорее свидетельствуют об обратном. Но в то же время нет очевидных указаний и на убийство, иначе полиция сразу бы что-то учуяла. У них на такие вещи отличный нюх.
— Мысль об убийстве в то время всем показалась бы дикой.
— Но почему она не кажется вам дикой полгода спустя?
Джордж сказал с расстановкой:
— Я, должно быть, в глубине души не был удовлетворен результатами следствия. Поэтому я так безоговорочно поверил этим письмам. В них черным по белому было сказано то, о чем я все время подсознательно думал.
Рейс понимающе кивнул:
— Ну хорошо, давайте разберемся. Кого вы подозреваете?
Джордж чуть наклонился вперед, лицо его дергалось.
— Вот тут-то и начинается самое ужасное. Если Розмэри убили, то мог сделать это только кто-то из нас — из сидевших за столиком. Больше в тот вечер никто к столу не подходил.
— А официанты? Кто разливал вино?
— Шарль, метрдотель «Люксембурга». Вы должны его знать.
Рейс утвердительно кивнул. Шарля знали все. Трудно было себе представить, чтобы он мог преднамеренно отравить клиента.
— Еду подавал Джузеппе. Его мы тоже знаем. Лично я знаю его много лет. Он всегда меня обслуживает. Очень славный, добродушный малый.
— Итак, мы добрались до обеда. Перечислите, кто там был.
— Стивен Фарадей, член парламента, его жена леди Александра Фарадей, моя секретарша Рут Лессинг, один знакомый по имени Энтони Браун, сестра Розмэри Айрис и я. Всего семь человек. С вами было бы восемь. Мы так и не нашли замены, когда в последний момент выяснилось, что вас не будет.
— Ясно. Кто же все-таки, по-вашему, мог это сделать?
— Не знаю. Я же говорю вам, что не знаю. Если бы я знал! — В голосе Джорджа неожиданно появились истеричные ноты.
— Ну хорошо. Успокойтесь, Джордж. Я просто думал, что вы подозреваете какое-то конкретное лицо. Впрочем, это не так трудно установить. В каком порядке вы сидели? Начните с себя.
— Справа от меня была Сандра Фарадей, рядом с ней Энтони Браун. Дальше Розмэри и Стивен Фарадей, потом Айрис, а слева от меня Рут Лессинг.
— Понятно. Я полагаю, что за вечер шампанское пили не один раз?
— Да, несколько раз. Но это… это произошло в то время, как шла эстрадная программа. Все смотрели на сцену — показывали какой-то шумный негритянский дивертисмент. Она упала на стол как раз перед тем, как зажегся свет. Может быть, она успела вскрикнуть, застонать, но никто ничего не услышал. Врач сказал, что смерть наступила мгновенно. Хоть за это надо благодарить Бога.
— Да, безусловно. Ну что я могу сказать, Бартон? На первый взгляд все как будто ясно.
— А именно?
— Я думаю — Стивен Фарадей. Он сидел справа от нее. Ему ничего не стоило левой рукой опустить яд в ее бокал, когда в зале притушили огни и все стали смотреть на сцену. По-моему, только у него и была такая великолепная возможность. Я знаю, какие в «Люксембурге» столы. Они довольно большие, и вряд ли кто-нибудь мог перегнуться через стол и при этом остаться незамеченным, даже в полутьме. Соседу Розмэри слева тоже было бы трудно это сделать: он должен был бы резко наклониться в ее сторону, чтобы дотянуться до ее бокала с шампанским. Существует еще один вариант, но начнем с наиболее явного. Как вам кажется, была ли какая-нибудь причина, которая могла бы заставить Стивена Фарадея желать смерти вашей жены?
Джордж ответил сдавленным голосом:
— Они… они были довольно близкими друзьями. Не исключено, что она… э-э… отвергла его домогательства, и тогда он захотел ей отомстить.
— Слишком мелодраматично. Это единственный мотив, который вы можете выдвинуть?
— Да, — ответил Джордж, побагровев.
Рейс бросил на него быстрый взгляд и продолжил:
— Рассмотрим вариант номер два: кто-то из дам.
— Из дам? Почему?
— Дорогой Джордж, всякому ясно, что если в компании семь человек — четыре женщины и трое мужчин, — в течение вечера непременно должен наступить такой момент, когда три пары танцуют, а одна дама, оставшаяся без партнера, сидит за столом. Вы не пропустили ни одного танца?
— Да.
— Не помните ли вы, кто из женщин оставался за столом до того, как начался концерт?
— Кажется, помню. В последний раз одна сидела Айрис, а до нее Рут.
— А когда ваша жена в последний раз пила шампанское?
— Сейчас постараюсь припомнить. Она танцевала с Брауном. Потом вернулась за стол. Я помню, как она пожаловалась, что устала. С таким партнером, как Браун, не так-то просто танцевать. Потом она допила вино, оставшееся в ее бокале. Через несколько минут заиграли вальс, и… она… она пошла танцевать со мной. Она знала, что вальс — единственный танец, который я танцую более или менее прилично. Рут танцевала с Фарадеем, а леди Александра с Брауном. Айрис осталась без партнера. И сразу же после этого начался концерт.
— Кстати, о вашей золовке. Она унаследовала какие-нибудь деньги после смерти вашей жены?
Джордж замахал руками:
— Не говорите ерунды, Рейс! Айрис тогда была еще ребенком, школьницей.
— Я знал двух школьниц, которые оказались убийцами.
— Но не Айрис! Она была очень привязана к Розмэри.
— Это не имеет значения, Бартон. Возможность совершить убийство у нее была. Я хочу знать, был ли у нее мотив. Ведь ваша жена как будто была очень богата. Кому отошли ее деньги? Вам?
— Нет, ее сестре. На условиях опекунства по доверенности наследователя.
Он рассказал Рейсу о завещании Поля Беннета. Рейс внимательно выслушал.
Когда он кончил, Рейс взял со стола трубку и принялся ее чистить.
— А не лучше ли вам, Джордж, рассказать мне все как есть? — спросил он.
— Что это значит?
— Вы чего-то недоговариваете. Это и слепому ясно. Вы, конечно, вправе оберегать репутацию своей жены, но ведь вы одновременно хотите выяснить, не была ли она убита. Выбирайте, что вам важнее. Если второе, то давайте говорить начистоту.
Наступило длительное молчание.
— Ну хорошо, — сказал наконец Джордж глухим голосом. — Я сдаюсь!
— Вы имеете основания предполагать, что у вашей жены был любовник? Не так ли?
— Да.
— Стивен Фарадей?
— Не знаю! Честное слово, не знаю! То ли он, то ли этот типчик Браун. Мне так и не удалось это выяснить. Я терпел адские муки!
— Расскажите-ка мне об этом Энтони Брауне. Странно, кажется, я где-то слышал это имя.
— Я о нем ничего не знаю. И никто ничего не знает. Красивый, остроумный молодой человек. Считается, что он американец, хотя говорит без малейшего акцента.
— Можно навести справки в американском посольстве. Но все-таки — который же из двух?
— Понятия не имею! Я должен вам признаться, Рейс: она как-то раз писала письмо, а я потом в зеркале рассмотрел отпечатки на промокательной бумаге. Любовное письмо, но имени там не было.
Рейс отвел взгляд.
— Это уже кое-что. Теперь у нас есть перспектива. В игру входит леди Александра, если считать, что у ее мужа был роман с вашей женой. Она принадлежит к натурам глубоко эмоциональным. Женщины такого типа способны испытывать очень сильные чувства, хотя внешне это никак не проявляется. Убить им — раз плюнуть. Ну вот наконец мы с вами сдвинулись с мертвой точки. Теперь у нас в активе таинственный незнакомец Браун, Фарадей, его жена и юная Айрис Марль. А что вы скажете о третьей женщине, Рут Лессинг?
— Рут к этому не имеет ни малейшего отношения. У нее-то уж, во всяком случае, нет никакого мотива.
— Это ваша секретарша? Что она собой представляет?
Джордж сразу оживился:
— Милейшая девушка! Она фактически член нашей семьи. Моя правая рука. Даже не знаю, кого еще я так ценю и кому могу так доверять!
— Вы к ней неравнодушны, — сказал Рейс, внимательно глядя на Джорджа.
— Як ней очень привязан. Эта девушка просто клад. Я во всем на нее полагаюсь. Честнейшее и милейшее существо.
Рейс как-то странно хмыкнул и оставил Рут Лессинг в покое. Но при этом он мысленно взял на заметку неизвестную ему секретаршу. У этой «честнейшей и милейшей» девицы мог быть вполне веский мотив, заставлявший ее желать, чтобы супруга шефа переселилась в мир иной. Мотив этот мог быть корыстным — если она откровенно рассчитывала стать второй миссис Бартон. С другой стороны, она могла быть в него влюблена… Но в любом случае мотив для убийства налицо.
Вслух он сказал как можно мягче:
— А не приходило вам в голову, Джордж, что и у вас был мотив для убийства?
— У меня?! — Джордж был потрясен.
— Вспомните Отелло и Дездемону.
— Ах вот вы о чем… Понимаю. Но у нас были совсем не такие отношения. Я души в ней не чаял, конечно, но при этом всегда отдавал себе отчет, что могут возникнуть всякие ситуации, с которыми мне придется смириться. И не потому, что она меня не любила. Совсем напротив. Она ко мне прекрасно относилась, всегда была со мной нежна. Но я-то знал, что я ей не пара — никуда от этого не денешься. Я не герой-любовник. Когда я на ней женился, я предвидел, что будут и шипы — не только розы. Да она и сама об этом говорила. И все-таки, когда это случилось, я страшно переживал. Но предположить, что я мог хоть пальцем ее тронуть…
Он замолчал, потом заговорил снова — уже другим тоном:
— Но допустим — это я: тогда чего ради я стал бы снова все раскапывать? После того, как дано заключение о самоубийстве и все удовлетворены? Да это было бы чистейшее безумие!
— Безусловно. Потому, дорогой друг, вы у меня и не вызываете серьезных подозрений. Если бы вы были удачливым убийцей, то, получив пару таких писем, вы тут же потихоньку бросили бы их в камин и нигде об этом не распространялись. Но поскольку все это не так, придется задуматься над самым, с моей точки зрения, любопытным вопросом во всей этой истории — кто автор этих писем?
— Кто автор? — встрепенулся Джордж. — Не имею ни малейшего представления.
— Мне кажется, это вас не очень интересует. А меня это как раз занимает. Если помните, это первый вопрос, который я вам задал. Совершенно очевидно, что их не мог написать убийца. Для чего бы ему понадобилось ставить себя под удар, когда, как вы справедливо заметили, все удовлетворились заключением о самоубийстве? Кто же в таком случае мог их написать? Кто заинтересован в том, чтобы снова все это разворошить?
— Может быть, слуги? — неуверенно предположил Джордж.
— Не исключено. Если так, то какие слуги? И что им известно? Была ли у Розмэри доверенная горничная?
Джордж отрицательно покачал головой:
— Нет. В то время у нас служила кухарка — миссис Паунд, она и сейчас у нас, — и две горничные. Те пробыли недолго и ушли.
— Так вот, Бартон, если вам нужен мой совет — а он вам, как я понимаю, нужен, — то мое мнение таково: необходимо все тщательнейшим образом продумать и взвесить. Вашей жены больше нет. Что бы вы ни делали, ее не воскресить. Если у нас нет достаточных фактов, подтверждающих самоубийство, то равным образом у нас нет и улик, указывающих на убийство. Допустим, что Розмэри была убита. Возникает вопрос: стоит ли извлекать на свет всю эту давнюю историю? Поднимется газетная шумиха, наружу вытащат все грязное белье, романы вашей жены получат широчайшую огласку…
Лицо Джорджа передернулось, как от боли.
— И вы мне всерьез советуете смириться с тем, что какая-то скотина, сделав свое грязное дело, будет и дальше жить себе припеваючи? — сказал он с жаром. — Например, этот чванливый Фарадей с его напыщенными речами и драгоценной карьерой… Может быть, он-то и есть гнусный убийца?
— Я только хочу, чтобы вы отдали себе отчет, какие это может иметь последствия.
— Я хочу знать правду.
— Ну хорошо. В таком случае я бы на вашем месте отнес эти письма в полицию. Там, очевидно, довольно скоро найдут их автора и разберутся, насколько он обо всем осведомлен. Но только помните, Бартон: единожды пустив полицию по следу, вы уже не сможете ее остановить.
— Я не собираюсь обращаться в полицию. Именно поэтому я и хотел повидать вас. Я сам готовлю ловушку убийце.
— О чем вы говорите?
— Слушайте, Рейс. Я собираюсь устроить вечер в «Люксембурге». И хочу, чтобы вы туда пришли. Тот же состав гостей: Фарадей, Энтони Браун, Рут, Айрис и я. Я все уже продумал.
— Что вы собираетесь там устроить?
Джордж улыбнулся:
— Это тайна. Все будет испорчено, если я выдам свой план заранее. Даже вам я не могу сказать. Я хочу, чтобы вы пришли и увидели все без всякой предварительной подготовки.
Рейс подался вперед, голос его прозвучал жестко:
— Мне все это не нравится, Джордж. Идея, достойная плохого романа. Не тратьте попусту времени. Обратитесь-ка лучше в полицию. Это их работа, они знают, что делать в таких случаях. Когда речь идет о преступлении, любительские спектакли ни к чему.
— Поэтому я и хочу, чтобы вы туда пришли. Вас-то уж никак не назовешь любителем.
— Оттого что я когда-то служил в контрразведке? Но вы же все равно не собираетесь посвящать меня в суть дела.
— Пока это невозможно.
— Простите, но я вынужден отказаться. Я не одобряю ваш план и не хочу участвовать в его осуществлении. Будьте разумным человеком — выкиньте эту затею из головы.
— Ни за что на свете! Я все уже продумал окончательно.
— Не упрямьтесь. Я больше вас знаю о такого рода спектаклях. Мне не по душе ваша выдумка. Она ничего не даст. И даже может оказаться опасной. Вы об этом подумали?
— Она действительно небезопасна кое для кого!
Рейс вздохнул:
— Вы сами не ведаете, что творите. Потом не жалуйтесь. В последний раз прошу вас — откажитесь от этой безумной затеи.
Но Джордж только покачал головой.
Глава 5
Утро второго ноября выдалось сырое и мрачное. В столовой дома на Элвастон-сквер было так темно, что завтракать пришлось при электричестве.
Вопреки обыкновению, Айрис отказалась от кофе в постели и спустилась вниз к столу. Она сидела бледная как привидение и вяло ковыряла вилкой в тарелке. Джордж нервно листал «Таймс»[101], а на противоположном конце стола, уткнувшись в платок, рыдала Люсилла Дрейк.
— Я знаю — мой мальчик сделает что-нибудь ужасное. Это такая тонкая натура. Он зря никогда не написал бы, что это вопрос жизни и смерти.
Шурша газетой, Джордж раздраженно сказал:
— Прошу вас, Люсилла, успокойтесь. Я ведь обещал этим заняться.
— Я знаю вашу доброту, Джордж. Но я чувствую, что промедление может стать роковым. Ведь все это наведение справок, о котором вы говорите, требует времени.
— Мы ускорим эту процедуру.
— Но ведь он пишет — «непременно до третьего». А завтра уже третье. Я никогда себе не прощу, если с моим дорогим мальчиком что-нибудь случится.
— Ничего с ним не случится! — Джордж отхлебнул кофе.
— У меня ведь есть еще облигации…
— Прошу вас, Люсилла, предоставьте это мне.
— Не волнуйтесь, тетя Люсилла, — сказала Айрис, — Джордж все уладит. В конце концов, это же не в первый раз.
— Но прошло уже так много времени!
— Три месяца, — вставил Джордж.
— Он ничего не просил с тех самых пор, как его обманули эти мошенники приятели на этом ужасном ранчо.
Джордж вытер усы салфеткой, поднялся и, проходя мимо миссис Дрейк, ласково похлопал ее по спине:
— Не расстраивайтесь, голубушка. Я попрошу Рут сразу же сделать телеграфный запрос.
Айрис встала и вышла вслед за ним.
— Джордж, как ты думаешь, нельзя ли нам отложить сегодняшний вечер? Тетя Люсилла так расстроена. Может быть, лучше остаться с ней дома?
— Не болтай глупостей! — Румяное лицо Джорджа побагровело. — Почему этот негодяй должен постоянно отравлять нам жизнь? Это ведь шантаж, самый настоящий шантаж! Иначе не назовешь. Будь на то моя воля, я не дал бы ему ни пенса[102].
— Но тетя Люсилла никогда на это не согласится.
— Люсилла — дура. Всю жизнь была дурой. Да и чего ждать от женщины, которая в сорок лет вздумала рожать? Такие безумные матери портят детей с колыбели, исполняют все их прихоти, черт бы их драл. Если бы этому сопляку хоть раз пришлось выпутываться самому, может быть, он стал бы человеком. И не спорь, Айрис. До вечера я как-нибудь улажу этот вопрос, чтобы Люсилла могла спокойно лечь спать. В крайнем случае возьмем ее с собой.
— Что ты, разве она пойдет? Она ненавидит рестораны. Сразу же засыпает, бедняжка. Кроме того, она не переносит духоты и табачного дыма. У нее тут же начинается астма.
— Я знаю. Я пошутил. Ну иди, успокой ее, Айрис. Скажи, что все будет в порядке.
Он повернулся и пошел к входной двери. Айрис медленно побрела назад в столовую. Тут в прихожей зазвонил телефон, и Айрис сняла трубку.
— Алло, кто это? — Выражение безнадежной тоски на ее лице сменилось радостью. — Энтони!
— Он самый. Я звонил тебе вчера, но никак не мог застать. Ты, как я вижу, крепко взялась за Джорджа?
— В каком смысле? Не понимаю.
— Джордж умолял, чтобы я пришел сегодня вечером на какое-то торжество. Совсем не похоже на его обычный стиль — «руки прочь от моей подопечной!». Он прямо заклинал меня. Я и подумал, что это, быть может, результат твоей тонкой работы.
— Нет, нет. Я тут ни при чем.
— Так это он сам вдруг так переменился?
— Не совсем. Это…
— Алло, Айрис, куда ты пропала?
— Я здесь.
— Ты что-то говорила? В чем дело, дорогая? Я слышу, ты вздыхаешь в трубку. Что-нибудь случилось?
— Нет, ничего. Завтра я буду в норме. Завтра все будет в порядке.
— Какая трогательная уверенность! А ведь недаром есть такая поговорка: «Живи сегодняшним днем».
— Не надо так говорить.
— Айрис, что-то случилось?
— Нет, ничего. Я не могу сказать. Я дала слово.
— Скажи мне, родная.
— Нет, не могу. Энтони, вы… ты мне можешь ответить на один вопрос?
— Постараюсь.
— Ты был когда-нибудь влюблен в Розмэри?
Наступило минутное молчание, затем в трубке послышался смех.
— Так вот в чем дело! Да, я был немного влюблен в Розмэри. Она ведь была очень хороша, ты это знаешь. Но однажды, когда я с ней разговаривал, я увидел, как ты спускаешься по лестнице. В это мгновение все было кончено, как рукой сняло. На свете не осталось никого, кроме тебя. Это суровая, неприкрытая правда. И перестань об этом думать. Даже Ромео, если ты помнишь, увлекался Розалиндой до того, как его прибрала к рукам Джульетта.
— Спасибо, Энтони. Я рада это слышать.
— Значит, до вечера? Если я не ошибаюсь, это твой день рождения?
— Вообще-то день рождения через неделю. Но вечер устраивается по этому поводу.
— Тебе как будто не по душе предстоящее торжество?
— Совсем не по душе.
— М-да. Джорджу, конечно, виднее, но мне показалось странновато, что он выбрал то самое место, где…
— Что делать! Я уже несколько раз была в «Люксембурге» с тех пор… с тех пор как Розмэри… Так или иначе туда попадаешь.
— Верно. Но, может быть, это и к лучшему. У меня для тебя есть подарок, Айрис. Надеюсь, он тебе понравится. Au revoir[103].
Он повесил трубку.
Айрис вернулась к Люсилле, чтобы снова ее утешать, уговаривать и успокаивать.
Придя в контору, Джордж сразу же послал за Рут Лессинг.
Мрачное, озабоченное выражение исчезло с его лица, как только Рут, как всегда спокойная, улыбающаяся, в строгом черном костюме, появилась на пороге.
— Доброе утро, мистер Бартон!
— Доброе утро, Рут. Опять неприятности. Прочтите.
Он протянул ей телеграмму.
— Снова Виктор Дрейк?
— Да, будь он неладен!
Она молчала, держа телеграмму в руках.
Худое, смуглое лицо, забавно сморщенный нос… насмешливый голос: «…вы из породы девушек, которые кончают тем, что выходят замуж за босса». Как живо все встало в памяти! Как будто это было вчера.
Голос Джорджа вернул ее к действительности:
— Вы ведь выдворили его отсюда примерно год назад?
— Да, что-то в этом роде, — сказала она, подумав. — Если не ошибаюсь, это было двадцать девятого октября.
— Не перестаю вам удивляться, Рут. Надо же иметь такую память!
Про себя она подумала, что у нее было гораздо больше оснований запомнить этот день, чем он предполагал. Она еще находилась под впечатлением слов Виктора в то время, когда, сняв трубку, услышала беспечный голос Розмэри — и поняла, как сильно ненавидит жену своего шефа.
— Нам еще повезло, что он так долго не появлялся, — сказал Джордж. — Имело смысл заплатить ему тогда эти пятьдесят фунтов.
— А теперь еще триста фунтов! Это ведь целое состояние.
— Да, но на такую сумму он пусть не рассчитывает. Нужно снова навести справки.
— Лучше всего связаться с мистером Огилви.
Александр Огилви, предприимчивый сметливый шотландец, был их агентом в Буэнос-Айресе.
— Да, срочно пошлите ему запрос. Мать, конечно, уже в истерике. Из-за предстоящего вечера все особенно осложняется.
— Хотите, я с ней останусь?
— Нет, ни в коем случае! Вы непременно должны прийти. Вы нужны мне, Рут. — Он взял ее за руку. — Вы слишком много думаете о других.
— Ну что вы! Я эгоистка. — Улыбнувшись, она спросила: — А может быть, стоит связаться с мистером Огилви по телефону? Сегодня к вечеру мы бы все выяснили.
— Прекрасная мысль! На это денег не жалко.
— Я сейчас этим займусь.
Она мягко высвободила руку и вышла из комнаты.
Джордж принялся за текущие дела.
В половине двенадцатого он взял такси и отправился в «Люксембург».
Ему навстречу вышел Шарль, знаменитый метрдотель «Люксембурга». Низко склонив седую голову, он с улыбкой приветствовал Джорджа:
— Доброе утро, мистер Бартон.
Доброе утро, Шарль. Все готово к вечеру?
— Вы будете довольны, сэр.
— Тот же столик?
— Средний столик в нише. Правильно?
— Да. И вы запомнили насчет лишнего стула?
— Все будет в порядке.
— Вы достали розмарин?
— Да, мистер Бартон. Но мне кажется, это не очень красивые цветы. Может быть, лучше добавить веточки с красными ягодами или несколько хризантем?
— Нет, нет. Только розмарин.
— Хорошо, сэр. Хотите взглянуть на меню? Джузеппе!
Мановением руки Шарль вызвал улыбающегося, низенького, средних лет итальянца.
— Меню для мистера Бартона!
Как по волшебству появилось меню.
Устрицы, бульон, морской язык по-люксембургски, рябчики, жареная цыплячья печенка…
Джордж равнодушно пробежал список.
— Да, да, отлично! — Он отдал меню официанту.
Шарль проводил его до дверей. Понизив голос, он произнес:
— Разрешите вам сказать, мистер Бартон, что все мы очень ценим то обстоятельство, что вы… э… снова обратились к нам.
На лице Джорджа появилось подобие улыбки.
— Что было, то прошло, — сказал он. — К прошлому возврата нет. Все это кончено и забыто.
— Вы правы, мистер Бартон. Вы знаете, как мы были потрясены и огорчены, когда все это случилось. Я искренне надеюсь, что у барышни будет веселый день рождения и что вы останетесь довольны.
Отвесив изящный поклон, Шарль удалился и тут же коршуном налетел на одного из младших официантов, который что-то не так расставлял на столике у окна.
Джордж вышел из ресторана, криво усмехаясь.
Он был человеком, лишенным воображения, и поэтому к ресторану сочувствия не испытывал, хотя, объективно говоря, репутация «Люксембурга» пострадала совершенно незаслуженно. В самом деле, разве виноват ресторан, если Розмэри решила именно там покончить самоубийством или если ее убийца задумал именно там привести в исполнение свой замысел? Но, как большинство людей, одержимых какой-то одной идеей, Джордж неспособен был думать ни о чем другом.
Он позавтракал в клубе и поехал на заседание правления. Результатами разговора он остался доволен. Все шло как положено.
Когда он вернулся в контору, к нему сразу же заглянула Рут.
— Есть вести о Викторе Дрейке.
— Какие же?
— Боюсь, что на сей раз дело плохо. Он довольно долго присваивал казенные деньги.
— Это сказал Огилви?
— Да. Я дозвонилась до него утром, а десять минут назад звонил он сам. Он говорит, что Виктор вел себя очень нагло.
— Это он умеет!
— Но он заверяет, что фирма не станет возбуждать судебное дело, если деньги будут возмещены. Мистер Огилви говорил со старшим из совладельцев фирмы, так что сведения точные. Вся сумма составляет сто шестьдесят пять фунтов.
— Итак, наш друг Виктор надеялся дополнительно прикарманить сто тридцать пять фунтов?
— Боюсь, что дело обстоит именно так.
— Слава Богу, что мы хоть здесь не дали себя околпачить, — сказал Джордж с мрачным удовлетворением.
— Я просила мистера Огилви все уладить. Правильно я поступила?
— Лично я был бы рад, если бы этот юный негодяй отправился в тюрьму, но приходится думать о его матери. Она, конечно, дура, но добрая душа. Виктор, как всегда, в выигрыше.
— Это вы добрая душа, — сказала Рут.
— Я?
— Мне кажется, вы самый добрый человек на свете.
Джордж был растроган и смущен. Он поднес руку Рут к губам и поцеловал ее.
— Дорогая моя Рут! Мой самый лучший, самый верный друг! Что бы я без вас делал?
Они стояли совсем близко.
Она подумала: «Я могла бы быть с ним счастлива. И его могла бы сделать счастливым. Если бы не…»
А Джордж в это время думал:
«Что, если послушаться Рейса и все отменить? Наверное, так было бы правильнее всего».
Но это было только минутное колебание.
— В девять тридцать я вас жду в «Люксембурге», — сказал он.
Глава 6
Все приглашенные пришли.
Джордж вздохнул с облегчением. До последней минуты он боялся, что кто-нибудь его подведет, но теперь все были в сборе. Стивен Фарадей, высокий, немного чопорный, Сандра Фарадей, в строгом черном бархатном платье с ожерельем из изумрудов. В этой женщине чувствовалась порода. Она держалась совершенно естественно, может быть даже чуть мягче, чем обычно. Рут тоже была в черном платье, украшенном только брошкой. Черные волосы гладко причесаны, руки и шея белее, чем у всех остальных дам. Да и откуда взяться загару при ее образе жизни? Она ведь работает, ей некогда нежиться под солнцем. Он встретился с ней взглядом. Прочтя в его глазах беспокойство, она ободряюще улыбнулась ему. Джордж почувствовал облегчение. Верная Рут!
Рядом с ним стояла Айрис, непривычно молчаливая. Только она, казалось, понимала, что предстоит не совсем обычная вечеринка. Слишком бледна и строга, но ей это даже идет: серьезность придает ей особое очарование. На ней прямое, простого покроя зеленое платье.
Энтони Браун пришел последним. В его походке Джорджу почудилось что-то кошачье, напоминающее пантеру или, может быть, леопарда. Все-таки есть в нем что-то дикое, хищное.
Все были в сборе — в ловушке у Джорджа. Пора начинать спектакль.
Коктейли были выпиты. Все встали и прошли под сводчатую арку, ведущую в главный зал.
Танцующие пары, негритянский джаз, ловкие, проворные официанты. Шарль с улыбкой вышел им навстречу и, как опытный лоцман, провел через зал. Отведенный им стол стоял в дальнем конце, в сводчатой нише. По бокам от него помещались еще два столика, на две персоны каждый. За одним из них сидел смуглолицый иностранец средних лет с роскошной блондинкой, за вторым — совсем молоденькая пара.
Стол в центре, самый большой, предназначался для гостей Бартона.
Джордж любезно пригласил всех занять места.
— Сандра, пожалуйста, садитесь вот сюда, справа от меня. А справа от вас сядет Браун. Айрис, дорогая, это твой вечер. Ты должна сидеть рядом со мной, дальше Фарадей и Рут.
Он замолчал. Между Рут и Энтони остался пустой стул — стол был накрыт на семь персон.
— Мой друг Рейс просил его не дожидаться. Он может немного запоздать. Мне хочется вас с ним познакомить — это прекрасный человек. Он изъездил весь свет и рассказывает бездну любопытных историй.
Айрис почувствовала досаду. Джордж нарочно посадил ее подальше от Энтони! На ее месте, рядом со своим любезным шефом, как раз должна была бы сидеть Рут. Значит, Джордж по-прежнему недолюбливает Энтони и не доверяет ему. Она бросила взгляд через стол. Вид у Энтони был мрачный. Он даже не смотрел в ее сторону. Только раз он покосился на соседний пустой стул и сказал:
— Я рад, что вы ждете еще гостя, Бартон. Может случиться, что мне придется раньше уйти. Ничего не поделаешь! Я тут встретил одного знакомого.
Энтони
Джордж улыбнулся:
— Дела в часы досуга? Вы еще не в том возрасте, Браун. Я, кстати, так и не знаю толком, чем вы занимаетесь.
В этот момент в общем разговоре наступила пауза, и поэтому хладнокровный ответ Энтони прозвучал особенно резко:
— Организацией преступлений, Бартон. На прямой вопрос я всегда отвечаю прямо. Ограбление банков! Кражи со взломом! Обслуживание клиентов по месту жительства.
Сандра Фарадей рассмеялась и сказала:
— Вы как будто связаны с производством оружия, мистер Браун? Оружейный король — на нынешний взгляд самая зловещая фигура.
Айрис увидела, как глаза Энтони на секунду раскрылись от изумления, но он тут же шутливо сказал:
— Не выдавайте меня, леди Александра, — это военная тайна. Англия кишит шпионами иностранных держав. Ушей здесь много.
И он многозначительно покачал головой.
Официант убрал тарелки из-под устриц. Стивен спросил Айрис, не хочется ли ей потанцевать.
Вскоре пошли танцевать и остальные. Атмосфера немного разрядилась.
Когда настал черед Энтони танцевать с Айрис, она сказала:
— Свинство со стороны Джорджа рассадить нас.
— Наоборот. Так я могу все время на тебя смотреть.
— Ты и правда собираешься раньше уйти?
— Может быть, придется.
Затем он спросил:
— Ты знала, что ожидается полковник Рейс?
— Понятия не имела.
— Странно.
— А ты его знаешь? Да, верно, ты мне уже говорил. Что он за человек?
— Это никому не известно.
Они вернулись к столу. Вечер продолжался, однако атмосфера понемногу снова стала сгущаться.
Чувствовалось, что у всех сидящих за столом натянуты нервы. Только хозяин был весел и держался как ни в чем не бывало.
Айрис заметила, как он взглянул на часы.
Неожиданно раздалась барабанная дробь, и в зале притушили огни. Осветилась эстрада. Задвигались стулья, каждый старался выбрать положение поудобнее. Сначала выступали три танцевальные пары. Их сменил имитатор, который поочередно воспроизводил шум самолета и парового катка, гудок поезда, парохода, стук швейной машинки, мычание коровы. Он имел большой успех. За ним последовали Ленни и Фло — акробатический этюд. Им тоже долго аплодировали. Под конец снова вышли танцоры «Люксембургской шестерки». После этого зажегся свет.
Гости зажмурились от яркого блеска ламп.
И в то же время они почувствовали внезапное облегчение: как будто каждый подсознательно ждал чего-то страшного, и вот ничего не случилось. Все помнили, что в прошлый раз вот так же зажегся свет — и они увидели мертвую Розмэри. Теперь это воспоминание окончательно ушло в прошлое, кануло в Лету[104]. Тень былой трагедии развеялась.
Сандра оживленно повернулась к Энтони, Стивен начал что-то рассказывать Айрис, а Рут наклонилась над столом, чтобы лучше слышать.
Один только Джордж молча сидел в кресле, уставившись на пустой стул напротив.
Голос Айрис вывел его из задумчивости:
— Очнись, Джордж! Пойдем-ка лучше потанцуем. Ты еще со мной не танцевал.
Он стряхнул с себя оцепенение и, улыбнувшись Айрис, поднял бокал:
— Сначала мы выпьем. Я предлагаю тост за юную особу, день рождения которой мы сегодня празднуем. За Айрис Марль, да будет она вечно счастлива и весела.
Все выпили, потом пошли танцевать: Айрис с Джорджем, Рут со Стивеном, Сандра с Энтони. Играла веселая музыка.
К столу все пары вернулись одновременно, смеющиеся и оживленные. Когда все расселись, Джордж вдруг обратился к своим гостям:
— У меня ко всем большая просьба. Около года назад мы собрались здесь на вечер, который окончился трагически. Я не собираюсь воскрешать печальное прошлое, но мне хотелось бы, чтобы имя Розмэри и сегодня прозвучало в кругу ее друзей. Поэтому я предлагаю тост в память Розмэри.
Он поднял бокал, все послушно последовали его примеру. Вежливые маски вместо лиц.
Джордж сказал:
— В память Розмэри!
Все тоже подняли бокалы и выпили.
Наступила пауза. Внезапно Джордж как-то странно качнулся вперед и вдруг всей тяжестью осел на стуле. Его руки судорожно потянулись к горлу, лицо побагровело — ему не хватало дыхания.
Через полторы минуты он был мертв.
Часть третья АЙРИС
Потому, что я думал, что мертвые обретают покой, Но это не так…
Глава 1
Полковник Рейс вошел в ворота Нового Скотленд-Ярда[105] и, заполнив обязательный для всех посетителей вопросный листок, через пять минут обменивался рукопожатием с инспектором Кемпом в его служебном кабинете.
Они были хорошо знакомы. Кемп чем-то напоминал полковнику инспектора Баттла, знаменитого ветерана лондонской полиции. Под его началом Кемпу пришлось работать много лет, и он, сам того не замечая, усвоил баттловскую манеру держаться и позаимствовал некоторые из его причуд. Даже внешне он, как и Баттл, был словно вырезан из цельного куска дерева. Но если при взгляде на Баттла вам вспоминалась солидная мебель из тика или из дуба, то здесь была выбрана более эффектная порода — красное дерево или, может быть, любимое нашими бабушками палисандровое[106].
— Вы молодец, что позвонили нам, полковник, — сказал Кемп. — Любая помощь сейчас для нас благо.
— Дело, как я вижу, попало в руки мастера, — сказал Рейс.
Кемп не стал оспаривать это утверждение. Без ложной скромности он соглашался с тем, что именно ему всегда поручали дела крайне важные, особо нашумевшие или в высшей степени деликатные.
— Сложность в том, что тут замешаны Киддерминстеры, — произнес он значительным тоном. — Представляете, как осторожно мы должны действовать.
Рейс кивнул. Леди Александру ему довелось видеть несколько раз. Дико даже подумать, что женщина с ее выдержкой и положением может быть замешана в какой-то скандальной истории. Он слышал ее публичные выступления — она говорила без излишнего красноречия, но всегда со знанием предмета, ясно и четко излагая свои мысли.
Она была из тех женщин, чья общественная жизнь постоянно освещается в газетах и чья частная жизнь поэтому практически не принимается в расчет, составляя только какой-то неясный фон.
Но тем не менее эта частная жизнь существует! И у таких женщин есть дом и семья. И они знают, что такое любовь, отчаяние, муки ревности. И они, как любой другой человек, могут дойти до пределов безрассудства и даже поставить на карту жизнь.
Рейс с любопытством спросил:
— А вдруг это сделала она, Кемп?
— Леди Александра? Вы так думаете, сэр?
— Бог ее знает! Но не исключено, что она. Или ее муж, который прячется за спину Киддерминстеров.
Зеленовато-серые глаза инспектора спокойно встретили взгляд Рейса.
— Если убийство совершил кто-нибудь из них, мы уж постараемся отправить его — или ее — на виселицу. Не мне вам объяснять, сэр. Закон есть закон, и никакой нажим не заставит нас попустительствовать убийце. Но у нас должны быть неопровержимые доказательства — этого потребует общественный обвинитель.
Рейс кивнул, затем предложил:
— Давайте перечислим по порядку все обстоятельства дела.
— Ну что ж! Джордж Бартон скончался от отравления цианистым калием — точно так же, как его жена год назад. Вы как будто сказали, что в это время присутствовали в ресторане?
— Совершенно верно. Бартон еще раньше просил меня прийти на вечер, который он устраивал. Я отказался. Его затея мне не понравилась, и я ему это высказал. При этом я убеждал его обратиться в полицию, коль скоро он начал сомневаться в том, что его жена покончила самоубийством.
Кемп кивнул:
— Это было бы самое правильное.
— Но он заупрямился и на собственный страх и риск решил устроить убийце ловушку. Какую именно, он не сказал. Меня все это порядком обеспокоило, и вчера вечером я решил пойти в «Люксембург» — посмотреть, какой оборот примет дело. Мой столик, естественно, стоял несколько поодаль. Мне не хотелось уж очень мозолить глаза. К сожалению, я ничего существенного сообщить не могу. Я не заметил абсолютно ничего подозрительного. Кроме официантов и гостей Бартона, к столу никто не подходил.
— Это облегчает нашу задачу, — сказал Кемп. — Значит, или кто-то из гостей, или официант, Джузеппе Больсано. Я сегодня утром его снова вызвал — может, и вы захотите с ним поговорить, — но мне почему-то кажется, что он к этому непричастен. В «Люксембурге» он уже двенадцать лет. Прекрасная репутация, женат, трое детей, на хорошем счету у дирекции, отлично ладит с посетителями.
— Следовательно, остаются гости.
— Да. Тот же состав, что и год назад, когда была… м-м… когда умерла миссис Бартон.
— Кстати, что вы думаете об этом деле, Кемп?
— Я как раз к нему вернулся, поднял весь материал, поскольку совершенно очевидно, что тут прямая связь. В свое время этим делом занимался Адамс. Типичной картины самоубийства тогда не было, но поскольку не было и прямых улик, указывающих на убийство, версия о самоубийстве прошла как наиболее вероятная. Другого выхода не оставалось. Вы ведь знаете, в наших архивах зарегистрировано не одно такое дело — самоубийство под вопросом. Вопросительный знак мы ставим для служебного пользования — огласке он не подлежит. Иногда мы продолжаем потихоньку вести расследование. Иногда из этого что-нибудь получается, иногда нет. В данном случае ничего нового не открылось.
— До вчерашнего дня!
— Да, вчерашний день многое меняет. Я представляю себе это дело так: некто сообщает мистеру Бартону о том, что его жена была убита. Мистер Бартон, ни слова никому не говоря, начинает разматывать клубок и приходит к убеждению, что он напал на след. Не берусь судить, так ли это, но убийца, очевидно, поверил, струхнул — и поспешил разделаться с мистером Бартоном. Ну как?
— До сих пор все вполне убедительно. Правда, мы по-прежнему не знаем, что за ловушку готовил Бартон. Вы обратили внимание на пустой стул? Не исключено, что он предназначался для какого-нибудь неожиданного свидетеля. В конечном счете, стул этот сыграл роковую роль — он так перепугал убийцу, что тот не стал ждать, когда мышеловка захлопнется.
— Итак, — сказал Кемп, — у нас под подозрением пять человек. И как дополнительный исходный материал — дело миссис Бартон.
— Теперь вы, я вижу, твердо уверены, что это не было самоубийство?
— Вчерашнее убийство как будто говорит против этого. Хотя, мне кажется, в свое время нас нельзя было упрекнуть за то, что мы приняли версию о самоубийстве без каких-либо веских оснований. Некоторые доказательства в пользу этой версии имелись.
— Депрессия после гриппа?
На деревянном лице Кемпа промелькнула улыбка.
— Так было записано в протоколе. Удобная формулировка — не противоречит данным медицинской экспертизы и не задевает ничьих чувств. Это делается сплошь и рядом. Кроме того, имелось ее неоконченное письмо к сестре — насчет того, кому раздать ее вещи; это тоже кой о чем говорит. Депрессия депрессией, это все так, но женщины в девяти случаях из десяти кончают с собой от несчастной любви. Мужчины чаще идут на такой шаг из-за денег.
— Вы знали, что у миссис Бартон была связь?
— Да, мы довольно скоро это выяснили. Они вели себя осторожно, но разузнать оказалось нетрудно.
— Стивен Фарадей?
— Да. Они встречались в квартире в районе Эрлс-Корта[107]. Эта связь длилась немногим более пол угода. Предположим на минутку, что они поссорились или она ему надоела… Мало ли женщин кончают с собой в приступе отчаяния!
— Приняв цианистый калий в ресторане, при скопище народа?
— Вот именно, если ей хотелось обставить все это как можно драматичнее — умереть у него на глазах и так далее. Есть такие любительницы театральных эффектов. Из того, что нам удалось узнать, видно, что она не очень считалась с условностями. Это он пекся о том, чтобы все было шито-крыто.
— А его жена знала? Какие у вас сведения на этот счет?
— Насколько нам известно, она ничего не подозревала.
— Тем не менее она могла знать и молчать, Кемп. Она ведь не из тех женщин, у которых душа нараспашку.
— Совершенно верно. Обоих можно взять на заметку. Она могла убить из ревности, а он — для спасения карьеры. Развод означал для него полный крах. В наше время, конечно, развод уже не то, что прежде, отношение к нему другое, но для Фарадея это катастрофа — он сразу лишается поддержки Киддерминстеров.
— А что вы скажете о секретарше?
— Она тоже под подозрением. Могла иметь виды на Джорджа Бартона. Изо дня в день вместе в конторе — и поговаривают, что она была к нему неравнодушна. Не далее как вчера днем одна из бартоновских телефонисток изображала в лицах своим подружкам, как шеф держал Рут Лессинг за руку и объяснял, что он жить без нее не может, а в это время вошла сама мисс Лессинг и их застукала. Телефонистке она тут же дала расчет. Похоже, что ее это не на шутку задело. Еще имеется сестра, унаследовавшая кучу денег, об этом тоже нельзя забывать. На вид милая девочка, но кто знает, что у нее на душе? И наконец, имеется еще второй поклонник миссис Бартон.
— Интересно, какие у вас сведения об этом человеке.
Кемп задумался и произнес с расстановкой:
— Сведения поразительно скудные, и те, что есть, не особенно благоприятны. Паспорт у него в порядке. Он американский гражданин, но узнать о нем нам почти ничего не удалось — ни плохого, ни хорошего. В Лондоне он останавливался у Клариджа и каким-то образом свел знакомство с лордом Дьюсбери…
— Очередной вымогатель?
— Может быть, а может быть, и нет. Он чем-то сумел пленить Дьюсбери, так что тот даже пригласил его в свое имение погостить. Для Дьюсбери тогда было как раз напряженное время.
— Помню, — сказал Рейс. — На его оружейном заводе что-то не ладилось с испытаниями танков нового образца.
— Именно. Этот Браун изображал из себя знатока оружейного дела. Он побывал на заводе Дьюсбери, а вскоре там раскрыли саботаж, и как раз вовремя. Вообще он перезнакомился почти со всеми дружками Дьюсбери и особенно сошелся с теми, кто был связан с производством оружия. В результате ему показали много такого, чего, на мой взгляд, показывать не следовало. И на других заводах, в районе которых он появлялся, после этого пару раз случались серьезные неприятности.
— Весьма любопытная личность этот мистер Энтони Браун.
— Бесспорно. У него, по всей видимости, есть обаяние, и он вовсю им пользуется.
— А откуда идет знакомство с миссис Бартон? Ведь Джордж Бартон, насколько мне известно, не имел никакого касательства к производству оружия.
— Верно. Тем не менее они были в довольно близких отношениях. Он мог ей сболтнуть чего не следует. Вы лучше меня знаете, полковник: хорошенькая женщина способна вытянуть из мужчины какие угодно сведения.
Рейс понимающе кивнул. Слова Кемпа он воспринял в том смысле, в каком они были произнесены, — в виду имелась многолетняя практика полковника как руководителя отдела контрразведки, а отнюдь не какие-то проявления его личной неосторожности, как мог бы решить непосвященный.
Помолчав, он сказал:
— Вы нашли письма, которые получил Джордж Бартон?
— Да. Вчера вечером в его письменном столе, на Элвастон-сквер. Их нашла для меня мисс Марль.
— Знаете, Кемп, меня очень интересуют эти письма. Каково мнение экспертизы?
— Бумага дешевая, чернила обычные. Есть отпечатки пальцев Джорджа Бартона и Айрис Марль, а также многочисленные неопознанные отпечатки — почтовые служащие и так далее. Текст напечатан на машинке, по мнению экспертов — человеком достаточно образованным, находящимся в здравом уме.
— Образованным? Значит, слуги исключаются.
— По всей вероятности.
— Совсем любопытно. Это говорит о том, что подозрения возникли у кого-то еще.
— И этот кто-то тоже не обратился в полицию. Он хотел навести на подозрения и Джорджа, но не довел дело до конца. Здесь что-то не то, Кемп. Не мог же он сам написать эти письма?
— Мог. Но для чего?
— Чтобы как-то обставить задуманное им самоубийство, которое он хотел выдать за убийство.
— И отправить на виселицу Стивена Фарадея? Это мысль! Но тогда он организовал бы дело так, чтобы все указывало на Фарадея. А между тем прямых улик против него нет.
— А где был цианистый калий? Во что он был упакован?
— Под столом обнаружили белый бумажный пакетик с остатками порошка. Отпечатки пальцев отсутствуют. В детективном романе непременно изобрели бы какой-нибудь особенный пакетик. Взять бы этих писак да ткнуть носом в нашу работенку! Они бы скоренько усвоили, что следов, как правило, не остается и что вообще никто никогда ничего не замечает.
Рейс улыбнулся:
— Не делайте таких широких обобщений. Неужели вчера вечером никто ничего не заметил?
— С этого я и собираюсь начать. Вчера я вкратце опросил всех присутствовавших, затем поехал с мисс Марль на Элвастон-сквер и просмотрел все бумаги в письменном столе Бартона. Сегодня я подробно опрошу всех гостей, а заодно и посетителей ресторана, сидевших за двумя другими столиками в нише.
Он полистал лежащие перед ним бумаги.
— Вот они: Джеральд Толлингтон, офицер гренадерского полка, и леди Патриция Брайс-Вудворт. Помолвленная пара. Держу пари, что они были поглощены друг другом и больше ничего не замечали. Далее — некий Педро Моралес, мексиканец, весьма непривлекательный субъект, даже белки глаз желтые. При нем девица, мисс Кристин Шеннон, роскошная блондинка, из тех, что зарятся на чужой кошелек и при этом глупы донельзя — во всем, что не касается денег. Даю голову на отсечение, что она-то ничего не видела. Вообще один шанс из сотни, что они могли хоть что-то заметить, но на всякий случай я записал их фамилии и адреса. Начнем с официанта Джузеппе. Он уже ждет. Я велю послать его сюда.
Глава 2
Джузеппе Больсано был человек средних лет, с умным, слегка обезьяньим лицом. Он нервничал, но в меру. По-английски он говорил довольно бойко, так как, по его словам, приехал в Англию шестнадцати лет и женился на англичанке.
Кемп принял его очень доброжелательно.
— Ну, Джузеппе, расскажите-ка, что еще вам удалось припомнить.
— Для меня это большая неприятность, сэр. Я обслуживал этот стол. И я разливал вино. Люди скажут, что я совсем спятил и в бокалы с вином кладу яд. Это неправда, но люди будут говорить. Мистер Гольдштейн уже сказал мне взять отпуск на неделю, чтобы клиенты не задавали вопросы и не говорили: вот этот Джузеппе, это он. Мистер Гольдштейн справедливый, он знает, что я не виноват, я работаю много лет. Поэтому он не уволил меня, а в другом ресторане меня бы уволили. Мистер Шарль, он тоже очень добрый. Но все равно это для меня большое несчастье. Я теперь боюсь. Все время себя спрашиваю: нет ли у тебя врагов, Джузеппе?
— Ну и как вам кажется? — спросил Кемп сухо. — Есть или нет?
Печальное обезьянье лицо Джузеппе сморщилось от смеха. Он развел руками:
— Враги — у меня?! Нет ни одного врага! Много хороших друзей. Врагов нет.
Кемп хмыкнул.
— Обратимся к вчерашнему вечеру. Скажите, какое подавалось шампанское?
— Клико[108] тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Очень хорошее и дорогое вино. Мистер Бартон всегда заказывал самое лучшее вино и закуски.
— Он заказал вино заранее?
— Да. Он обо всем договорился с Шарлем.
— А что вам известно о пустом стуле?
— Об этом тоже он договорился. Он сказал Шарлю, а потом мне. Он ждал какую-то молодую даму. Она должна была прийти позже.
— Молодую даму? — Рейс и Кемп переглянулись. — Вы не знаете, кого именно?
Джузеппе покачал головой:
— Нет, я ничего про это не знаю. Она должна была прийти позже. Это все, что я слышал.
— Ну хорошо. Вернемся к вину. Сколько всего было бутылок?
— Две бутылки, третью держали наготове. Первая бутылка быстро кончилась. Вторую я открыл незадолго до концерта. Я наполнил бокалы и поставил бутылку в ведро со льдом.
— Заметили вы, когда мистер Бартон последний раз пил из своего бокала?
— Дайте подумать. Когда кончился концерт, они все выпили за здоровье молодой барышни. Праздновали день ее рождения. Потом все пошли танцевать. И когда вернулись к столу, мистер Бартон выпил и… все. Сразу умер.
— Вы наполнили бокалы еще раз, пока гости танцевали?
— Нет, мосье. Бокалы были полные, когда пили за здоровье мадемуазель. И тогда выпили не до конца, только отпили немного. Вино еще оставалось в бокалах.
— Припомните, не подходил ли кто-нибудь — хоть кто-нибудь, безразлично кто — к столу, пока все танцевали?
— Нет, сэр, никто не подходил. Я точно говорю.
— Все пошли танцевать одновременно?
— Да.
— И вернулись к столу тоже вместе?
Джузеппе отчаянно наморщил лоб, напрягая память.
— Мистер Бартон, он вернулся первый, вместе с барышней. Он был солидный мужчина и не мог так долго танцевать. Потом вернулся джентльмен со светлыми волосами, мистер Фарадей, и молодая дама в черном. И потом уже леди Александра Фарадей и джентльмен с темными волосами.
— Вы знаете мистера Фарадея и леди Александру?
— Да, сэр. Я часто вижу их в «Люксембурге». Они очень известные люди.
— Скажите, Джузеппе, а заметили бы вы, если бы один из гостей что-нибудь опустил в бокал мистера Бартона?
— Я не уверен, сэр. Я обслуживал еще два других столика в нише и два в главном зале. Я должен был подавать блюда. Я не следил за столиком мистера Бартона. После концерта все всегда идут танцевать, это для меня отдых, я стою без дела и смотрю. Поэтому я могу сказать, что тогда к столу никто не подходил. Но после танцев все клиенты возвращаются, и я сразу снова берусь за дело.
Кемп кивнул.
— Но я думаю, — продолжал Джузеппе, — невозможно было это сделать незаметно. Мне кажется, это мог сделать только сам мистер Бартон. Но вы так не думаете? — Он вопросительно посмотрел на полицейского инспектора.
— Это что, ваше собственное предположение?
— Я, конечно, ничего не знаю, но мне просто пришло в голову. Ровно год назад у нас в «Люксембурге» отравилась эта красивая дама, миссис Бартон. И может быть, мистер Бартон так о ней горевал, что решил тоже умереть? Это благородно. Конечно, нехорошо для нашего ресторана, но джентльмен, который решил покончить с собой, разве он станет думать про ресторан!
Он с надеждой повернулся к Рейсу, потом перевел взгляд на Кемпа.
Кемп замотал головой:
— Не думаю, чтобы все было так просто.
Он задал Джузеппе еще несколько вопросов и отпустил его.
Как только за ним закрылась дверь, Рейс спросил:
— Может быть, убийца как раз и хотел навязать нам эту версию?
— Скорбящий супруг кончает самоубийством в годовщину смерти жены? Не совсем годовщина, правда, но — почти.
— День поминовения, — сказал Рейс.
— Верно. Ну что ж, возможно, что убийце действительно на руку такая версия. Но тогда выходит, что убийца — кто бы он ни был — не знает, что Бартон получил и хранил анонимные письма, показывал их Айрис Марль и консультировался с вами. — Он взглянул на часы: — В половине первого я обещал быть у Киддерминстеров. Время еще есть — пожалуй, можно поговорить с людьми, которые вчера сидели за двумя соседними столиками, хотя бы с некоторыми. Поедемте вместе, полковник, — как вы на это смотрите?
Глава 3
Мистер Моралес остановился в отеле «Ритц»[109]. В то утро он являл собой весьма непривлекательное зрелище: небритый, с налитыми кровью глазами и следами сильного похмелья.
Мистер Моралес был американским подданным и изъяснялся на одном из наречий, которые в той части света сходят за английский язык. Хотя он проявил полную готовность оказать содействие полиции, его воспоминания о прошедшем вечере были более чем туманны.
— Был там с Крисси. Девочка будь здоров! Она мне говорит: «Это кабак что надо!» А я ей говорю: «Кисонька, пойдем куда захочешь». Ну, доложу я вам, классный кабак! Знают, как ободрать. Чуть не тридцать долларов выложил. Правда, оркестр дерьмо — играют как сонные мухи.
Его с большим трудом удалось отвлечь от рассказа о собственных эмоциях и заставить вспомнить о людях, сидевших за столом в центре. Тут он оказался менее многословен.
— Ну, был там стол, верно, и люди сидели, но что за люди — не помню. Я и не глядел в ихнюю сторону, пока тот парень не кикнулся. Сперва-то я подумал, что он просто перебрал. Да, вспомнил еще одну дамочку. Брюнетка и довольно-таки, скажу я вам…
— Вы имеете в виду девушку в зеленом бархатном платье?
— Ну вот еще! Там и посмотреть не на что, кожа да кости. Нет, я про другую — та была в черном, и все, что надо, у нее на месте.
Благосклонное внимание мистера Моралеса привлекла, по-видимому, Рут Лессинг.
Он одобрительно прищелкнул языком.
— Я смотрел, как она танцует, — ну, класс! Подмигнул ей пару раз, но она ноль внимания — смерила меня ледяным взглядом, как у вас тут в Англии принято.
Больше никаких ценных сведений из мистера Моралеса извлечь не удалось. Он честно признался, что к тому времени, как началась эстрадная программа, пары алкоголя успели возыметь действие.
Кемп поблагодарил его и приготовился идти.
— Я завтра отплываю в Нью-Йорк, — сообщил Моралес. — Я вам случайно не понадоблюсь? А то я, знаете, мог бы задержаться, — добавил он заискивающе.
— Спасибо, но я думаю, что повторять показания вам не придется.
— Видите ли, я здесь отлично провожу время, и, если я получу от полиции предписание задержаться, моей фирме придется это проглотить. Предписание есть предписание, против него не попрешь. Может, если поднатужиться, я бы еще что-нибудь припомнил…
Но Кемп решительно отказался клюнуть на эту соблазнительную приманку и вместе с Рейсом отправился на Брук-стрит[110]. Их принял холерического вида джентльмен[111], отец Патриции Брайс-Вудворт. Прием оказался не очень любезным: генерал Вудворт обрушил на них целый град упреков.
Как могла полиции прийти в голову мысль, что его дочь — его дочь! — может иметь касательство к такой скандальной истории? И куда катится Англия, если порядочная девушка не может пообедать в ресторане со своим женихом без того, чтобы назавтра не подвергнуться допросу сыщиков из Скотленд-Ярда? Да она и понятия не имеет, кто эти люди — как бишь его… Хаббард?.. Бартон?.. Какой-нибудь делец из Сити![112] Выходит, в Лондоне нет больше мест, куда можно спокойно пойти. «Люксембург» всегда считался приличным рестораном, и вот, пожалуйста, уже второй раз подряд там происходит подобное безобразие. Джеральд должен был соображать, куда он ведет невесту. Нынче молодые люди убеждены, что они все знают лучше всех. В любом случае, он не допустит, чтобы его дочь допрашивали, запугивали и таскали по судам, — он потребует вмешательства адвоката. Он немедленно позвонит старику Андерсону из Линкольнз-Инн[113] и попросит его…
Тут генерал неожиданно умолк и уставился на Рейса:
— Где-то я вас видел. Только где?
Рейс улыбнулся:
— Баддерапур, двадцать третий год.
— Боже! Неужто это Джонни Рейс? Вы-то как попали в эту историю?
Рейс еще раз улыбнулся:
— Я как раз был у инспектора Кемпа, и при мне зашла речь о том, что нужно побеседовать с вашей дочерью. Я подумал, что ей будет приятнее, если инспектор заедет к вам домой и избавит ее от необходимости являться в Скотленд-Ярд, а инспектор пригласил меня составить ему компанию.
— Ах вот как! Ну что же, весьма вам обязан, Рейс.
— Мы, само собой разумеется, не хотим причинять вашей дочери ни малейшего беспокойства, — вставил инспектор Кемп.
В этот момент открылась дверь и в кабинет вошла сама мисс Патриция Брайс-Вудворт, которая тут же с присущим ее возрасту хладнокровием и самоуверенностью взяла инициативу в свои руки.
— Хелло! Вы из Скотленд-Ярда? Насчет вчерашнего? Я с утра вас жду. Что, отец уже успел наговорить вам неприятностей? Папочка, тебе вредно волноваться. Помнишь, что доктор сказал про твое давление? Не понимаю, почему любой пустяк выводит тебя из равновесия. Я сейчас проведу инспекторов — или как они там называются, я не очень разбираюсь в чинах — в свою комнату, а Уолтеру велю принести тебе виски с содовой.
Генерал задохнулся от желания грубо и прямо высказать свое мнение о монологе дочери, однако сдержал себя и процедил сквозь зубы: «Познакомься — мой старый друг, майор Рейс», после чего Патриция полностью утратила интерес к Рейсу и одарила чарующей улыбкой инспектора Кемпа.
Объявленную операцию она осуществила незамедлительно, как истая дочь полководца, и провела их к себе, не забыв плотно прикрыть дверь в кабинет отца.
— Бедный папочка! — сказала она. — Вечно он шумит и трепыхается, но справиться с ним, в общем, нетрудно.
Дальнейшая беседа, проходившая в самой дружественной обстановке, не дала почти никаких результатов.
— Просто черт знает как обидно! — воскликнула Патриция. — Подумать только, в кои-то веки оказываешься на месте преступления — это ведь было убийство, правда? В газетах пишут как-то уклончиво, но я уверена, что это убийство. Я Джерри по телефону так и сказала. В кои веки под носом у тебя убивают человека, а ты не удосужился и поглядеть в ту сторону!
В ее голосе звучало неподдельное разочарование.
Пессимистический прогноз инспектора Кемпа явно оправдывался: молодые люди, помолвленные всего неделю тому назад, в тот вечер смотрели только друг на друга.
При всем желании Патриция Брайс-Вудворт не смогла сообщить ничего, кроме некоторых чисто внешних впечатлений.
— Сандра Фарадей была одета шикарно. Да она и всегда шикарно одевается. На ней было платье от Скьяпарелли.
— Вы с ней знакомы? — спросил Рейс.
Патриция покачала головой:
— Я знаю ее только в лицо. И его тоже. Он, по-моему, страшный зануда и к тому же много мнит о себе — политические деятели все такие.
— А еще кого-нибудь из гостей вы знаете в лицо?
— Никого. Мне кажется, я никого из них раньше не видела. Я бы, наверно, и Сандру Фарадей не заметила, если бы не платье от Скьяпарелли.
— Думаю, что Джеральд Толлингтон окажется немногим наблюдательнее своей невесты, — мрачно произнес инспектор Кемп, когда за ними закрылась дверь. — Уверен, что он не вспомнит даже и этого Скипа, Скьяпа — ну, от которого платье.
— Да, навряд ли покрой фрака Стивена Фарадея поразил его в самое сердце, — согласился полковник Рейс.
— Бог с ними со всеми, — сказал инспектор. — Попытаем счастья с Кристин Шеннон — тогда с посторонними будет покончено и останутся только гости Бартона.
Мисс Шеннон, в полном соответствии с недавней характеристикой инспектора Кемпа, оказалась роскошной блондинкой. Старательно уложенные крашеные волосы обрамляли довольно миловидное инфантильное личико, выражение которого отнюдь не свидетельствовало об интенсивной работе мысли. Мисс Шеннон вполне могла быть, как предположил тот же инспектор Кемп, «глупой донельзя», однако смотреть на нее было приятно, а известная доля проницательности в ее голубых, широко раскрытых глазах говорила о том, что хотя Кристин Шеннон и не принадлежала к интеллектуальной элите, но там, где дело касалось практической сметки и денежных интересов, она была далеко не дура.
Она встретила посетителей чрезвычайно гостеприимно, тут же стала уговаривать их что-нибудь выпить, а когда они отказались, начала угощать их своими сигаретами. У нее была маленькая квартирка, обставленная с дешевой претензией на модерн.
— Мне просто ужас как хочется вам помочь, инспектор! Можете задавать любые вопросы.
Кемп начал с обычных вопросов относительно внешнего вида и поведения гостей, сидевших за большим столом. И Кристин Шеннон сразу же продемонстрировала незаурядные качества тонкого наблюдателя и психолога.
— Вечеринка у них не ладилась — сразу видно было. Все сидели как истуканы. Мне даже жалко стало того дядечку, который все это устраивал. Он готов был прямо в лепешку расшибиться, весь вечер сидел как на иголках. Его соседка справа — та словно аршин проглотила, а девчонка слева от него все злилась — наверное, оттого, что ей не удалось пристроиться рядом с одним там симпатичным брюнетом. От нее слева сидел такой высокий блондин — ну и вид у него был! Живот, что ли, болел — даже жевал с таким выражением, будто вот-вот подавится. Другая его соседка все пыталась его растормошить, отпускала какие-то шуточки, но, видно, она и сама была не в своей тарелке.
— О, да вы очень многое успели заметить, мисс Шеннон, — сказал полковник Рейс.
— Я вам открою секрет: мне там было скучновато. Я уже третий вечер подряд ужинала с этим джентльменом, моим другом, и, видит Бог, мне это поднадоело. Он все повторял, что приехал повидать Лондон и особенно хочет побывать во всех шикарных ресторанах; правда, одного у него не отнимешь — он не мелочится. Всякий раз заказывал шампанское. Мы в первый вечер были в «Компрадуре», потом пошли в «Миль флёр», а на третий раз в «Люксембург», и он уж повеселился вовсю, ничего не скажешь. Так радовался, даже трогательно. Только рассказывает он всякую тягомотину. Все про свои торговые дела в Мексике и про то, какой он оборотистый, да еще каждую историю повторяет по три раза. Или заведет про своих дамочек, как они все по нему с ума сходили. Послушаешь такое три часа подряд, уж точно тошнить начинает. А красоты в нем особой нет, смотреть не на что. Так что я в тот вечер глядела все больше в тарелку и по сторонам.
— Нам это как нельзя на руку, мисс Шеннон, — сказал инспектор Кемп, — могу только надеяться, что вам удалось хоть что-либо заметить.
Кристин покачала головой:
— Абсолютно не представляю, кто мог отправить на тот свет этого дядечку. Он просто отпил глоток шампанского, весь побагровел и сразу плюхнулся на стул.
— А вы не помните, когда он до этого последний раз пил из своего бокала?
Девушка помедлила, размышляя.
— Ну как же, помню — сразу после концерта. Как только зажегся свет, он поднял бокал и что-то сказал. За ним и все остальные подняли бокалы. Наверное, предложил какой-нибудь тост.
Инспектор Кемп кивнул.
— Что же было потом?
— Потом заиграла музыка, все поднялись, задвигали стульями, заулыбались и пошли танцевать. Сразу стало как-то повеселее — в первый раз за весь вечер. Шампанское — это вещь! Даже такая ледяная компания и то от него растаяла.
— Они пошли танцевать все вместе — за столом никто не оставался?
— Нет.
— И никто не притрагивался к бокалу мистера Бартона?
— Никто. — Кристин ответила не задумываясь. — Точно вам говорю!
— И никто, ни один человек не подходил к столу, пока они танцевали?
— Никто. Если не считать официанта, конечно.
— Официанта? Какого официанта?
— Подходил один из мальчишек, которые, наверно, только учатся на официанта. В переднике, на вид лет шестнадцать, не больше. Не тот, который обслуживал стол. Тот такой маленький, юркий, на обезьянку смахивает — итальянец, что ли?
Выслушав эту исчерпывающую характеристику Джузеппе Больсано, инспектор Кемп кивнул и задал свой следующий вопрос:
— Что же сделал этот начинающий официант? Наполнил бокалы?
Кристин покачала головой:
— Нет. На столе он ничего не трогал. Он только поднял сумочку — ее уронил кто-то из женщин, когда все вставали из-за стола.
— Кто же именно? Чья была сумочка?
Кристин, немного подумав, сказала:
— Точно. Сумочка была той молоденькой девочки в зеленом. Тоже зеленая, с золотом. А другие две дамы были с черными сумочками.
— Что же сделал официант с этой сумочкой?
Кристин удивилась:
— Как что? Положил обратно на стол, вот и все.
— А вы уверены, что он не дотрагивался до бокалов?
— Ничего он там не трогал. Бросил сумочку на стол и сразу убежал, потому что какой-то старший официант на него зашипел и велел куда-то пойти или что-то принести, — в общем, парень еле успевал поворачиваться. Видно было, что на него все шишки валятся.
— И больше никто не подходил к столу?
— Никто.
— А вдруг кто-нибудь все же подходил? Ведь вы могли на минуту отвлечься и не заметить.
Но Кристин решительно покачала головой:
— Нет. В это время никто не подходил. Дело в том, что Педро как раз вызвали к телефону и он долго не возвращался. Мне стало скучно, я сидела и смотрела вокруг. Я обычно все замечаю, к тому же с моего места ничего, кроме соседнего стола, не было видно.
Рейс спросил:
— Кто первый вернулся к столу?
— Девочка в зеленом и тот дядечка. Потом подошли блондин и девушка в черном, а за ними эта важная дама и симпатичный брюнетик. Ну и танцует же он! Все уселись, а официант как сумасшедший бросился разогревать какое-то блюдо на спиртовке. Тогда тот дядечка наклонился вперед и произнес тост, и все снова подняли бокалы. Вот тут оно все и произошло.
Кристин перевела дыхание и бодрым тоном добавила:
— Вот ужас-то, правда? Я сперва подумала, что это удар. У моей тетки был удар — она точь-в-точь так же грохнулась. Тут как раз вернулся Педро, я ему и говорю: «Смотри-ка, Педро, у человека удар». А он мне говорит: «Ему просто плохо стало, просто плохо стало».
Между прочим, я побаивалась, что ему самому плохо станет, — он уже порядком перебрал. Глаз с него не спускала. В «Люксембурге» не любят, если клиенту вдруг станет плохо. Вот за это не нравятся мне латиноамериканцы. Выпьют лишнее — и куда только девается их воспитание? Порядочная девушка может с ними влипнуть Бог знает в какую историю.
Она задумалась, но, взглянув на запястье своей правой руки, украшенное браслеткой довольно вызывающего вида, добавила:
— Правда, одного у них не отнимешь — тратить деньги они умеют.
С некоторым трудом Кемпу удалось отвлечь ее от размышлений о превратностях и светлых сторонах существования порядочной девушки и заставить еще раз повторить основные пункты ее показаний.
— Рухнула наша последняя надежда получить помощь от стороннего наблюдателя, — сказал он Рейсу, когда они очутились на улице. — А надежда была. Эта девица — первоклассная свидетельница. Умеет и смотреть и запоминать. И если бы там было что увидеть, будьте уверены — она бы увидела. Выходит, что видеть было нечего. Невероятно! Какой-то цирковой номер! Трюк иллюзиониста! Джордж Бартон пьет шампанское, затем идет танцевать, возвращается за стол, отпивает из того же бокала — и, хотя никто до этого бокала не дотрагивался, в нем вдруг оказывается цианистый калий. Чистое наваждение! Никогда бы не поверил, если б не знал, что именно так все и было.
Кемп задумался.
— Еще этот официант. Мальчишка. Джузеппе про него ни слова не сказал. Возможно, тут что-то есть. В конце концов, он единственный, кто подходил к столу, пока все танцевали. Очень может быть, что тут что-то кроется.
Рейс покачал головой:
— Если бы он что-нибудь опустил в бокал Бартона, наша девица непременно бы заметила. У нее прирожденный дар наблюдателя. Мыслями у нее голова не перегружена, поэтому зрение работает безотказно. Нет, Кемп, разгадка наверняка очень проста — если бы только нам удалось ее найти!
— Вот вам разгадка: он сам всыпал яд в свой бокал.
— Я, кажется, начинаю думать, что так оно и было. Это единственная возможность. Но если это так, Кемп, я уверен, что он не знал, что это цианистый калий.
— Думаете, кто-то дал ему яд и при этом сказал, что это порошок для улучшения пищеварения или средство от повышенного давления — что-то в этом роде?
— Не исключено.
— Но кто же это мог быть? Вряд ли один из Фарадеев.
— Да, это маловероятно.
— Мне кажется, что мистер Энтони Браун на сей раз тоже вне подозрений. Остаются двое — любящая свояченица…
— И преданная секретарша.
Кемп бросил взгляд на полковника:
— Пожалуй, она вполне могла бы подсунуть ему этот порошок. Но мне пора к Киддерминстерам. А вы куда? Поедете с визитом к мисс Марль?
— Да нет, я лучше пойду навещу другую даму — секретаршу. Выражу ей соболезнование на правах старого друга Бартона. Может быть, приглашу ее позавтракать.
— Значит, вы думаете…
— Я пока что ничего не думаю. Я закидываю сети на авось — вдруг что-нибудь попадется.
— Но навестить мисс Марль вам все равно нужно.
— Я ее, разумеется, навещу, только прежде я хотел бы побывать у них дома в ее отсутствие. Вы не догадываетесь почему?
— Откуда мне знать?
— Потому что там живет одна щебетунья — все щебечет да щебечет, как птичка. Была такая поговорка в дни моей молодости: «Откуда ты знаешь?» — «Птичка начирикала». И знаете, Кемп, эти щебетуньи могут сообщить массу интересного, если дать им пощебетать вволю.
Глава 4
Расставшись с Кемпом, полковник Рейс нанял такси и отправился в контору Джорджа Бартона в Сити. Инспектор Кемп, не привыкший роскошествовать даже за казенный счет, сел в автобус, который шел почти до самого дома Киддерминстеров.
С довольно сумрачным видом он поднялся по ступенькам к парадному входу и нажал кнопку звонка. Он сознавал, что находится в довольно щекотливом положении. Фракция Киддерминстеров пользовалась огромным политическим влиянием, распространявшимся на всю страну. Старший инспектор Кемп твердо верил в неподкупность британского правосудия. Если бы Стивен или Александра Фарадей оказались причастными к убийству Розмэри Бартон или Джорджа Бартона, никакие связи и ничей нажим не помогли бы им избежать ответственности. Но если они невиновны или если обвинения, выдвинутые против них, окажутся недостаточно обоснованными, официальное лицо, ведущее расследование, может навлечь на себя неудовольствие вышестоящих инстанций. Стало быть, нужно проявить предельную осторожность. При подобных обстоятельствах не приходилось удивляться тому, что инспектора Кемпа не особенно радовала перспектива переговоров с Киддерминстерами. Он сильно опасался, как бы эта семейка сразу «не вскинулась на дыбы».
Однако он очень скоро понял, что недооценил противника: лорд Киддерминстер был слишком искусным дипломатом, чтобы избрать столь примитивную тактику.
Назвав свое имя и должность впустившему его дворецкому, похожему на епископа, инспектор Кемп был незамедлительно препровожден в библиотеку — просторную, слабо освещенную комнату в глубине дома. Там его уже ожидали сам лорд Киддерминстер, его дочь и зять.
Лорд Киддерминстер поднялся, протянул ему руку и самым учтивым тоном произнес:
— Вы очень точны, инспектор. Позвольте выразить вам признательность за то, что вы пришли к нам сами и не потребовали, чтобы моя дочь и ее супруг являлись в Скотленд-Ярд. Они, конечно, явились бы, если бы возникла такая необходимость, это само собой разумеется, однако все мы тем более ценим вашу любезность.
Сандра негромко подтвердила:
— Да, мы вам очень благодарны, инспектор.
Она была в темно-красном платье из мягкой ткани и сидела спиной к свету, падавшему из стрельчатого узкого окна. Все это вместе напоминало Кемпу старинный витраж, виденный в каком-то готическом соборе[114] за границей. Там был похожий образ — удлиненный овал лица, угловатые плечи. Кто-то ему тогда объяснил, что это святая… святая… запамятовал имя. Ну, леди-то Александра, во всяком случае, не святая. Кстати, и сами эти знаменитые святые — во всяком случае, многие из них, — по мнению Кемпа, были со странностями. Им полагалось бы вести истинно христианский образ жизни и быть примером доброты и всепрощения, а между тем среди них встречались нетерпимые фанатики, мучившие и себя и других.
Стивен Фарадей стоял рядом с женой. Лицо его не выражало никаких чувств. Он был воплощением сдержанности и корректности. Настоящий законодатель, достойный слуга народа. Подлинный Стивен Фарадей, человек из плоти и крови, был надежно укрыт от глаз; но этот человек существовал, и инспектор знал это.
Лорд Киддерминстер заговорил первым и сразу же, с ловкостью опытного политика, направил беседу по удобному для него руслу:
— Не скрою инспектор, что для нас все это чрезвычайно неприятно. Уже вторично моя дочь и зять оказываются свидетелями насильственной смерти в общественном месте — оба раза члены одной и той же семьи и тот же ресторан. Такого рода известность может пагубно отразиться на репутации общественного деятеля. Разумеется, огласки избежать невозможно. Мы все это сознаем, и потому моя дочь и мистер Фарадей готовы оказать вам всяческую помощь в надежде, что в самом скором будущем обстоятельства дела окончательно прояснятся и нездоровый интерес публики угаснет сам собой.
— Благодарю вас, лорд Киддерминстер, — ответил Кемп. — Я очень рад, что вы идете нам навстречу. Это несомненно облегчает наши малоприятные обязанности.
Сандра Фарадей сказала:
— Пожалуйста, инспектор, задавайте любые вопросы, какие вы сочтете нужными.
— Благодарю вас, леди Александра.
— И еще одно, — вставил лорд Киддерминстер. — У вас, конечно, есть собственные источники информации, и, если верить словам моего друга министра, смерть этого Бартона рассматривается как убийство, а не самоубийство, хотя, казалось бы, по всем внешним признакам и с точки зрения стороннего наблюдателя наиболее правдоподобной версией является как раз самоубийство. Ведь ты, например, сочла его смерть самоубийством — не так ли, Сандра?
Готическая святая слегка наклонила голову.
— Вчера все это казалось очевидным, — задумчиво сказала Сандра. — Мы сидели в том же ресторане и даже за тем самым столом, где в прошлом году отравилась бедная Розмэри Бартон. С Джорджем Бартоном мы довольно часто виделись минувшим летом — он купил загородный дом по соседству с нами, — и его поведение нам показалось очень странным. Он был просто на себя не похож, и мы решили, что на него так ужасно подействовала смерть жены. Он очень ее любил и, по-видимому, так и не примирился с ее смертью. Поэтому, когда мы оказались свидетелями его собственной кончины, то сразу решили, что это самоубийство. Такое предположение казалось, ну, может быть, не то что естественным, но вполне допустимым. А предположить, что кто-то захотел убить Джорджа Бартона, я просто не могу.
— И я тоже, — торопливо вставил Стивен Фарадей. — Джордж Бартон был прекрасный человек. Я уверен, что у него не было ни одного врага.
Инспектор Кемп взглянул на три обращенных к нему выжидающих лица. — «Лучше огорошить их сразу», — подумал он про себя, но вслух произнес:
— Вы рассуждаете совершенно справедливо, леди Александра. Но есть ряд обстоятельств, о которых вы, может быть, еще не знаете.
Лорд Киддерминстер поспешно вставил:
— Мы никоим образом не должны оказывать давление на инспектора. Только он сам вправе решать, какие факты следует предать гласности.
— Благодарю вас, милорд. Но у меня нет оснований держать вас в неведении. Суть дела такова: незадолго до смерти Джордж Бартон сообщил двум лицам, что его жена, вопреки официальной версии, не покончила жизнь самоубийством, а была кем-то отравлена. Мистер Бартон считал, что ему удалось напасть на след убийцы. Вчерашний обед, который он устраивал по случаю дня рождения мисс Марль, на самом деле был частью заранее подготовленного им плана, рассчитанного на то, чтобы выявить убийцу его жены.
Наступило молчание, и в этой тишине инспектор Кемп, который, несмотря на свою грубоватую внешность, был человеком чутким, уловил в воздухе нечто, что он квалифицировал как растерянность, смешанную со страхом. И хотя на лицах прочесть ничего было нельзя, он готов был побиться об заклад, что не ошибся.
Первым взял себя в руки лорд Киддерминстер. Он произнес:
— По-моему, то, что вы сейчас сообщили нам, только доказывает, что этот бедняга Бартон был… э-э-э… немного не в себе. Тот факт, что он был до такой степени поглощен смертью жены, очевидно, пагубно отразился на его психике.
— Вы совершенно правы, лорд Киддерминстер, но, с другой стороны, этот факт свидетельствует о том, что сам он был далек от мыслей о самоубийстве.
— Да-да, пожалуй.
Снова наступило молчание. Затем Стивен Фарадей неожиданно резко спросил:
— А как вообще у Бартона могла возникнуть такая идея? Ведь миссис Бартон на самом деле покончила с собой.
Кемп перевел на него безмятежный взгляд:
— Мистер Бартон был на этот счет другого мнения.
Лорд Киддерминстер поддержал зятя:
— Но в то время никаких иных версий не выдвигалось. Заключение о самоубийстве удовлетворило полицию.
Кемп спокойно ответил:
— Факты, имевшиеся в распоряжении полиции, не противоречили такому заключению. Тогда не было никаких данных о том, что смерть произошла по какой-либо иной причине.
Он знал, что такой человек, как лорд Киддерминстер, непременно уловит подтекст этой фразы.
Чуть более официальным тоном Кемп сказал:
— Мне бы хотелось задать несколько вопросов вам, леди Александра.
— Пожалуйста. — Она чуть наклонила голову.
— После смерти миссис Бартон лично у вас не возникло никаких подозрений, что она умерла насильственной смертью?
— Нет, конечно. Я была уверена, что она покончила с собой. Я и сейчас в этом убеждена, — добавила она.
Кемп пропустил последнее замечание мимо ушей и продолжал:
— Не получали ли вы за истекший год анонимных писем, леди Александра?
В ее обычно спокойном голосе прозвучало неподдельное изумление:
— Анонимных писем?! Нет, нет.
— Вы точно помните? Анонимные письма — вещь неприятная, и люди, как правило, стараются поскорее выкинуть их из головы, но в данной ситуации они могут оказаться чрезвычайно важными. Поэтому я еще раз повторяю, что, если такие письма были, я должен быть поставлен об этом в известность.
— Понимаю. Но даю вам слово, что никаких анонимных писем я не получала.
— Отлично. Пойдем дальше. Вы сказали, что этим летом заметили в поведении мистера Бартона странности. Какие именно?
Она помедлила с ответом.
— Он нервничал, держался все время настороженно. Когда к нему обращались, он слушал рассеянно, казалось, что мысли его где-то далеко. — Она повернулась к мужу: — У тебя, по-моему, создалось такое же впечатление, Стивен?
— Да, примерно такое же. Кроме того, вид у него был совершенно больной. Он очень похудел.
Кемп снова обратился к Сандре:
— Не заметили ли вы какой-либо перемены в его отношении к вам или к вашему супругу? Какого-либо отчуждения, охлаждения?
— Нет. Скорее наоборот. Как вы знаете, он купил загородный дом по соседству с нами и был нам очень благодарен за то, что мы ввели его в местное общество и вообще пытались помочь как могли. Мы, конечно, охотно это делали — и ради него самого, и ради Айрис Марль. Она очаровательная девушка.
— Покойная миссис Бартон была вашей близкой приятельницей, леди Александра?
— Нет, мы с ней не были особенно близки. — Она чуть улыбнулась. — Миссис Бартон была, скорее, приятельницей Стивена. Она вдруг увлеклась политикой, и он — как бы это сказать — занялся ее политическим образованием. Ему это доставляло удовольствие — ведь Розмэри Бартон была прелестная и обаятельная женщина.
«Зато ты, голубушка, умная и хитрая, — с одобрением отметил про себя инспектор Кемп. — Интересно, много ли ты знаешь об этой парочке. Не удивлюсь, если все».
Вслух он спросил:
— Лично с вами мистер Бартон никогда не делился своими сомнениями относительно самоубийства жены?
— Нет, никогда. Поэтому ваши слова просто застали меня врасплох.
— А мисс Марль? Она никогда не заговаривала с вами о смерти сестры?
— Нет.
— Как вы думаете, что заставило Джорджа Бартона купить загородный дом? Может быть, ваш супруг надоумил его это сделать?
— Нет. Это было для нас полной неожиданностью.
— И его отношение к вам всегда оставалось дружеским?
— Да. Он всегда к нам очень хорошо относился.
— Так. Теперь скажите, леди Александра, что вам известно о мистере Энтони Брауне?
— Попросту говоря, ничего. Наше знакомство исчерпывается несколькими встречами в обществе.
— А что вы о нем знаете, мистер Фарадей?
— Пожалуй, еще меньше, чем моя жена. Она, по крайней мере, с ним танцевала. Он как будто приятный человек. Кажется, американец?
— Скажите, не создалось ли у вас в то время впечатления, что он был близок с миссис Бартон?
— Мне об этом абсолютно ничего не известно, инспектор.
— Я спрашиваю о вашем личном впечатлении, мистер Фарадей.
Стивен нахмурился:
— Они были в дружеских отношениях — это все, что я могу сказать.
— А что скажете вы, леди Александра?
— Вы хотите знать опять-таки мое личное впечатление, инспектор?
— Ваше личное впечатление.
— Ну что ж, если так, у меня действительно создалось впечатление, что они хорошо знают друг друга и находятся в близких отношениях. Я сужу просто по тому, как они смотрели друг на друга, — никаких конкретных доказательств у меня нет.
— У женщин обычно бывает безошибочное чутье на такие вещи, — произнес Кемп. Несколько идиотская улыбка, сопровождавшая эти слова, доставила бы удовольствие полковнику Рейсу, если бы он при сем присутствовал. — Ну а что вы скажете о мисс Лессинг, леди Александра?
— О мисс Лессинг? Секретарше Джорджа Бартона? Я впервые увидела ее в день смерти миссис Бартон. Второй раз я ее видела, когда она приезжала в Литл-Прайерс, и третий раз — вчера вечером.
— Если позволите, я задам вам еще один неофициальный вопрос: не сложилось ли у вас впечатления, что она была влюблена в мистера Бартона?
— Право, затрудняюсь сказать.
— Тогда вернемся ко вчерашним событиям.
Он подробно расспросил Стивена и его жену обо всех этапах рокового вечера. Ничего нового он услышать не надеялся, и действительно, их рассказ только подтвердил то, что уже было известно. В основных пунктах все показания сходились: Бартон провозгласил тост за здоровье Айрис, выпил и тут же пригласил ее танцевать. Все вышли из-за стола одновременно; первыми вернулись Джордж и Айрис. Что касается пустого стула, то ни Сандра, ни Стивен о нем не задумывались, поскольку Джордж Бартон заявил во всеуслышание, что стул поставлен для его друга, полковника Рейса, который запаздывает (о том, что это сообщение было заведомой ложью, знал пока только инспектор Кемп). Стивен подтвердил слова Сандры о том, что после окончания эстрадной программы, когда зажегся свет, Джордж некоторое время сидел молча, с каким-то странным отсутствующим выражением лица, глядя на этот стул, потом вышел из оцепенения и предложил свой тост за здоровье Айрис.
Единственное, что оказалось для Кемпа новым, был разговор Сандры с Джорджем в Ферхейвене, когда Джордж пытался внушить ей, что все это делается ради Айрис и что Фарадеи должны непременно прийти в «Люксембург», чтобы помочь девушке.
Инспектор отметил про себя, что Бартон придумал вполне правдоподобный предлог, чтобы устроить эту вечеринку, хотя в виду имелось нечто совершенно иное. Решив, что на сегодня хватит, он закрыл свою записную книжку, куда во время беседы заносил кое-какие одному ему понятные значки, и поднялся.
— Разрешите поблагодарить вас за помощь, милорд, а также вас, мистер Фарадей, и вас, леди Александра.
— Понадобится ли присутствие моей дочери на следствии? — спросил лорд Киддерминстер.
— В данном случае следствие будет носить чисто формальный характер. Обычная процедура опознания, затем огласят медицинское заключение, объявят, что окончательное заключение будет вынесено через неделю. Надеюсь, что за это время нам удастся сдвинуться с мертвой точки.
Он повернулся к Стивену:
— Да, кстати, мистер Фарадей, я хотел бы, чтобы вы помогли мне уточнить некоторые детали. Леди Александру по этому поводу беспокоить не стоит, так что, может быть, вы просто позвоните мне в Скотленд-Ярд, и мы договоримся, какое время вас устраивает. Я знаю — вы человек занятой.
Это было сказано любезным, даже слегка небрежным тоном, но для всех троих присутствующих в каждом слове прозвучала какая-то скрытая угроза.
Стивен, изо всех сил стараясь сохранить приветливый тон, ответил:
— Разумеется, инспектор, с удовольствием. — Затем взглянул на часы и пробормотал: — Извините, мне пора в парламент.
После поспешного ухода Стивена, а затем и инспектора лорд Киддерминстер испытующе взглянул на дочь и без обиняков спросил:
— У Стивена что, была связь с этой женщиной?
Прошла какая-то доля секунды, прежде чем Сандра ответила:
— Разумеется, нет. Я бы знала, если бы что-нибудь было. И вообще, он не такой.
— Послушай, дорогая моя, сейчас не время прижимать уши и рыть землю копытом. Рано или поздно все это откроется, и нам нужно четко представить себе наше положение.
— Я же говорила, что Розмэри Бартон была близка с этим Энтони Брауном. Их везде видели вместе.
— Ну что ж, — с расстановкой произнес лорд Киддерминстер, — тебе лучше знать.
Словам дочери он не поверил. Его лицо, когда он шел к дверям, было усталым и озабоченным. Он поднялся наверх и постучал в комнату жены, которая не была допущена к беседе с инспектором в библиотеке: лорд Киддерминстер понимал, что ее властная манера держаться может восстановить против них полицию, а на данном этапе это шло вразрез с семейными интересами.
— Ну? — спросила леди Киддерминстер. — Как все это прошло?
— Внешне — как нельзя лучше, — ответил лорд Киддерминстер. — Этот Кемп вполне приличный малый — вежливый, предупредительный. Провел все с большим тактом — такта было даже больше, чем нужно, с моей точки зрения.
— Ты считаешь, что положение серьезное?
— Очень серьезное. Мы сделали огромную ошибку, Викки, когда позволили Сандре выйти за этого проходимца.
— А я что говорила?
— Да-да, верно, — согласился лорд Киддерминстер, — ты говорила. Это я допустил промашку. Но ведь Сандра все равно добилась бы своего. Если она что-то задумала, ее не переупрямишь. Черт его дернул попасться ей на пути! Человек без роду без племени! Невозможно предвидеть, что подобный субъект выкинет в критический момент.
— Ты считаешь, что мы ввели в свою семью убийцу?
— Не знаю. Я не хотел бы голословно его обвинять, но полиция, по-моему, его подозревает, а уж у них на этот счет нюх особый. Ясно как божий день, что у него была связь с этой Бартоншей. И либо она покончила с собой из-за него, либо он… Ну, словом, как бы то ни было, Бартон докопался до истины и собирался все это обнародовать и поднять шум. Очевидно, Стивен не на шутку струсил и…
— И отравил его?
— Да.
Леди Киддерминстер покачала головой:
— Нет, мне кажется, что все было иначе.
— Будем надеяться. Но кто-то тем не менее отравил его.
— Если хочешь знать мое мнение, — сказала леди Киддерминстер, — у Стивена просто не хватило бы духу совершить такой поступок.
— Видишь ли, Викки, он очень дорожит своей карьерой. У него незаурядные способности и все данные для того, чтобы стать государственным деятелем. А ради этого… Человек, которого загнали в угол, может решиться на самый отчаянный шаг.
Но леди Киддерминстер стояла на своем:
— Уверяю тебя, у него не хватило бы духу. Для этого нужен человек с сильным характером, человек, который все поставит на карту и будет действовать очертя голову. Вильям, мне страшно, мне очень страшно.
Он с изумлением уставился на жену:
— Ты думаешь — Сандра? Сандра?!
— Я думаю об этом с содроганием, но что толку прятать голову под крыло? Она помешана на этом человеке, помешана с самого начала их знакомства. И вообще в ней есть что-то ненормальное. Я никогда не понимала ее до конца, но всегда за нее опасалась. Ради своего бесценного Стивена она отважится на что угодно, на любое безрассудство. Она ни с чем не посчитается. И если она действительно настолько потеряла голову и так низко пала, ее нужно как-то защитить.
— Защитить? Что ты хочешь сказать? Кто ее должен защищать?
— Ты. Должны же родители что-то предпринять для спасения собственной дочери? Тебе придется нажать все кнопки.
Лорд Киддерминстер смотрел на нее, широко раскрыв глаза. И хотя он, как ему казалось, хорошо изучил характер жены, он был поражен и испуган силой ее холодной расчетливости, ее умением смотреть фактам прямо в лицо и, главное, отсутствием щепетильности.
— Если моя дочь окажется убийцей, неужели ты думаешь, что я использую свое официальное положение, чтобы спасти ее от последствий совершенного ею поступка?
— А как же иначе? — сказала леди Киддерминстер.
— Викки, дорогая моя! Как ты не понимаешь, что такие вещи не делаются? Это… это было бы бесчестно.
— Чепуха! — возразила леди Киддерминстер.
Они смотрели друг на друга так, как будто между ними лежала пропасть. Таким взглядом могли обменяться Агамемнон и Клитемнестра в момент, когда решалась судьба Ифигении[115].
— Ты мог бы через правительство оказать давление на полицию. Тогда расследование прекратят и дадут заключение о самоубийстве. Такие прецеденты бывали, и ты это прекрасно знаешь.
— Да, но то делалось в интересах государства, когда речь шла о политике. А теперь перед нами сугубо частное дело. Я сильно сомневаюсь, чтобы в данном случае мне удалось чего-то добиться.
— Добиться можно всего, если проявить решительность.
Лорд Киддерминстер покраснел от гнева.
— Я бы не стал этого делать, даже если бы мог! Знаешь, как это называется? Злоупотребление общественным положением!
— Что же, если Сандру арестуют и будут судить, ты откажешься нанять ей лучших адвокатов, не станешь делать все от тебя зависящее, чтобы вызволить ее из беды, в чем бы она ни была виновна?
— Ну о чем ты говоришь? Это же совсем другое дело. Как вы, женщины, не понимаете разницы!
Леди Киддерминстер смолчала, пропустив мимо ушей эту шпильку. К Сандре она была привязана меньше, чем к другим своим детям, но сейчас Сандре грозила опасность, и в эту минуту леди Киддерминстер была только матерью, готовой всеми правдами и неправдами защищать свое дитя. Она должна спасти Сандру, чего бы это ни стоило.
— В любом случае, — сказал лорд Киддерминстер, — Сандре не могут предъявить официального обвинения, пока против нее нет достаточного количества улик. Что касается меня, то я отказываюсь верить, что моя дочь убийца. И как это ты, Викки, можешь хоть на минуту допустить такую мысль? У меня просто в голове не укладывается.
Его жена снова промолчала, и лорд Киддерминстер вышел от нее с тяжелым чувством. Подумать только, что Викки — Викки, которую он так давно, так близко знал, — вдруг раскрылась перед ним с такой неожиданной и пугающей стороны!
Глава 5
Рейс застал Рут Лессинг поглощенной разбором каких-то деловых бумаг за большим письменным столом. На ней был строгий черный костюм и белая блузка. Он был приятно поражен ее спокойной, несуетливой деловитостью. Он сразу же заметил черные круги под глазами и горькую складку губ, но горе ее — если это было горе — находилось у Рут под таким же жестким контролем, как и все остальные чувства.
Рейс изложил цель своего посещения, и она живо отозвалась:
— Я очень рада, что вы пришли. Конечно, я знаю, кто вы. Мистер Бартон ждал вас вчера вечером, не так ли? Я помню, как он это сказал.
— А не помните ли вы, когда именно он объявил об этом? Во время вечера или заранее?
Она задумалась.
— Это было, когда все уже собрались и садились за стол. Помню, меня даже немного удивило… — Она смешалась и слегка покраснела. — Удивило, конечно, не то, что он вас пригласил. Вы его старый друг, я знаю. И вы должны были присутствовать на том вечере, год назад. Меня удивило другое: почему мистер Бартон, пригласив вас, не пригласил еще одну даму, чтобы уравнять число мужчин и женщин. Правда, вы предупредили его, что опоздаете или, возможно, совсем не придете. — Она неожиданно умолкла. — Боже, какая я бестолковая! Рассказываю вам о каких-то пустяках. Я сегодня совсем ничего не соображаю.
— Тем не менее вы явились в контору как обычно?
— Разумеется. — Она была явно удивлена, почти шокирована. — Это же моя обязанность. Столько всего нужно разобрать и привести в порядок.
— Джордж всегда говорил мне, что во всем полагается на вас, — мягко сказал Рейс.
Рут отвернулась. Он увидел, как она судорожно сглотнула подкативший к горлу комок, — очевидно, пыталась сдержать слезы. Отсутствие всяких подчеркнутых проявлений горя почти полностью убедило его, что она невиновна. Почти, но все же не на сто процентов. Полковнику приходилось сталкиваться с женщинами, обладавшими прекрасными актерскими способностями; бывало, что и покрасневшие веки, и черные круги под глазами объяснялись не натуральными причинами, а искусно наложенным гримом.
Он решил повременить с окончательными выводами и подумал: «Чего-чего, а хладнокровия ей не занимать».
Рут снова повернулась к столу и в ответ на его последнее замечание сказала ровным голосом:
— Я проработала с ним много лет. В апреле будет семь. Я знала его привычки, и он, кажется, мне доверял.
— Я в этом не сомневаюсь. Кстати, скоро у вас перерыв. Может быть, мы выйдем вместе и где-нибудь позавтракаем? Мне многое хотелось бы вам сказать.
— Спасибо, с удовольствием.
Рейс привел ее в знакомый ему ресторанчик, удобный тем, что столики там были расставлены на большом расстоянии друг от друга и можно было поговорить без помех.
Он заказал завтрак и, когда официант удалился, окинул взглядом свою спутницу. Несомненно интересная девушка — гладкие темные волосы, твердо очерченные рот и подбородок.
Пока не подали завтрак, они беседовали на отвлеченные темы. Она слушала внимательно и отвечала разумно и с пониманием дела.
Довольно скоро она сама сказала:
— Вы ведь, наверное, хотите поговорить о вчерашних событиях? Пожалуйста, не стесняйтесь. Это до такой степени не укладывается в голове, что мне даже легче будет, если я с кем-то поговорю. Если бы все не произошло на моих глазах, я бы ни за что не поверила.
— Инспектор Кемп с вами уже беседовал?
— Да, вчера. Он как будто умный и компетентный человек. — Она помолчала. — Неужели это было убийство, полковник?
— А что, Кемп высказал такое мнение?
— Он ничего прямо не утверждал, но это явствовало из характера его вопросов.
— А вы сами, мисс Лессинг, как вы считаете? Похоже это на самоубийство? Ваше мнение особенно ценно. Вы хорошо знали Бартона и провели с ним весь вчерашний день. Как он вам показался? Был ли он в своем обычном настроении или, может быть, был чем-нибудь обеспокоен, расстроен, взволнован?
Она ответила с некоторым колебанием:
— Это трудный вопрос. Мистер Бартон был действительно расстроен и взволнован, но на это имелись причины.
Она рассказала об осложнениях, возникших в связи с Виктором Дрейком, и в двух словах обрисовала тернистый жизненный путь этого молодого человека.
— Гм, — сказал Рейс, — пресловутая паршивая овца! И Бартон, вы говорите, был расстроен именно из-за него?
Рут ответила, помедлив:
— Не знаю, сумею ли я объяснить. Видите ли, я слишком хорошо знала мистера Бартона. Эта история на него, конечно, подействовала. Тем более что миссис Дрейк, как всегда, пришла в истерическое состояние. Поэтому, естественно, ему хотелось все это поскорее уладить. Но одновременно у меня сложилось впечатление…
— Какое именно, мисс Лессинг? Мне почему-то кажется, что у вас не бывает ложных впечатлений.
— Видите ли, я почувствовала, что на этот раз в его раздражении против Виктора Дрейка кроется что-то еще. Дела Дрейка нам приходилось в той или иной форме улаживать и раньше. Около года назад, когда у него стряслась очередная беда, он приехал в Англию, тогда мы посадили его на пароход и отправили в Южную Америку, а уже в июне он опять прислал телеграмму и просил денег. Так что я уже привыкла к реакции мистера Бартона на Дрейка. Но вот вчера мне показалось, что его вывело из себя не столько содержание телеграммы, сколько ее несвоевременность — она пришла, как нарочно, в тот самый день, когда мистер Бартон был целиком поглощен приготовлениями к празднику. Всякие дополнительные хлопоты в этот день были совсем некстати.
— Вам не показалось странным, что мистер Бартон так беспокоился об этом вечере?
— Да, я об этом думала. Он придавал ему какое-то особое значение, прямо не мог его дождаться, как ребенок.
— А вам не приходило в голову, что вечер был задуман с какой-то особой целью?
— Вы имеете в виду тот факт, что он был почти точным повторением того вечера, на котором покончила с собой миссис Бартон?
— Да.
— Откровенно говоря, мне показалось это диким.
— Но Джордж ничего не объяснял и ничем не делился с вами?
Она замотала головой.
— Скажите мне, мисс Лесинг, а не возникало ли у вас сомнений в том, что миссис Бартон покончила с собой?
Она была поражена.
— Сомнений?! Нет, никогда.
— Джордж Бартон не намекал вам, что его жена была убита?
Она смотрела на него в изумлении.
— Джордж так считал?!
— Я вижу, это для вас новость. Да, мисс Лессинг. Джордж получил анонимные письма, в которых говорилось, что его жена не покончила жизнь самоубийством, а была убита.
— Вот почему этим летом он вдруг так переменился! А я-то никак не могла понять, что с ним происходит.
— Значит, вы ничего не знали об этих анонимных письмах?
— Ничего. Много их было?
— Он показал мне два.
— А я ничего не знала!..
В голосе ее прозвучала неподдельная обида.
Рейс молча посмотрел на нее, потом спросил:
— Итак, мисс Лессинг, каково ваше окончательное мнение? Как вы думаете, мог Джордж покончить с собой?
Она покачала головой:
— Нет. Конечно нет.
— Но вы отметили, что он был возбужден, расстроен?
— Да, но он уже давно находился в таком состоянии. И теперь я понимаю почему. И понимаю, почему он так усиленно готовился ко вчерашнему вечеру. Очевидно, у него была какая-то особая идея — может быть, он хотел воспроизвести всю обстановку предыдущего вечера для того, чтобы узнать что-то новое о причинах смерти жены… Бедный Джордж, он, наверное, совсем потерял голову.
— А что вы теперь скажете, мисс Лессинг, о причинах смерти Розмэри Бартон? Вы по-прежнему полагаете, что это было самоубийство?
Она нахмурилась.
— Мне в голову не приходило, что можно искать какую-то другую причину. Ее самоубийство так легко объяснялось.
— Чем же? Депрессией после гриппа?
— Думаю, что не только этим. У нее было какое-то горе. Это было нетрудно заметить.
— И нетрудно было догадаться, чем это горе вызвано?
— Да не так уж трудно. Я догадалась. Конечно, я могла и ошибиться, но женщины типа миссис Бартон видны насквозь. Они не считают нужным маскировать свои чувства. Слава Богу, мистер Бартон, по-моему, ни о чем не подозревал. Да, она была очень несчастна. И я знаю, что в тот вечер у нее еще болела голова, вдобавок к только что перенесенному гриппу.
— Откуда вы знаете?
— Я слышала, как она сказала об этом леди Александре в комнате, где мы раздевались. Она пожалела, что у нее с собой нет аспирина. К счастью, у леди Александры нашлась таблетка пирамидона, и она дала ее миссис Бартон.
Полковник застыл с бокалом в руке.
— И миссис Бартон взяла эту таблетку?
— Да.
Так и не пригубив, Рейс поставил бокал на стол и поглядел на свою спутницу. Она смотрела на него безмятежно и, казалось, совершенно не сознавала всей важности ею сказанного. Между тем для Рейса это ее «да» означало чрезвычайно многое. Получалось, что Сандра, место которой за столом исключало всякую возможность незаметно положить что-либо в бокал Розмэри, могла дать ей яд и другим способом — под видом таблетки от головной боли.
Как правило, таблетка растворяется за несколько минут. Но это могла быть особая таблетка — в капсуле из желатина или другого вещества. Кроме того, Розмэри могла принять ее не сразу.
Он отрывисто спросил:
— Вы видели, как она ее приняла?
— Простите, что вы сказали?
По ее недоумевающему лицу он понял, что мысли ее были где-то далеко.
— Вы видели, как Розмэри Бартон проглотила эту таблетку?
Рут посмотрела на него немного испуганно:
— Я? Нет, не видела. Она просто поблагодарила леди Александру.
Значит, Розмэри могла сунуть таблетку в сумочку, а потом, во время концерта, если головная боль усилилась, могла опустить ее в бокал с шампанским и подождать, пока она растворится. Домыслы, чистые домыслы, но все же могло быть и так.
Рут сказала:
— А почему вы спрашиваете?
Ее глаза вдруг стали настороженными и вопрошающими. Полковнику показалось, что он воочию видит, как усиленно работает ее мозг — сравнивает, сопоставляет…
Она торопливо заговорила:
— Все понятно. Теперь я понимаю, почему Джордж купил этот дом по соседству с Фарадеями. И я понимаю, почему он ничего не сказал мне о письмах. Помните, сначала я удивилась, что он от меня это скрыл. Но теперь я вижу: если он им поверил, он должен был решить, что его жену убил кто-то из нас — из пятерых гостей, сидевших за столом. Это… это могла быть и я!
Рейс спросил вкрадчивым голосом:
— Разве у вас были причины желать смерти Розмэри Бартон?
Он подумал, что она не расслышала. Она сидела неподвижно, потупив взгляд.
Неожиданно с глубоким вздохом она подняла глаза и посмотрела прямо на него.
— О таких вещах трудно говорить, — сказала она, — но, наверное, будет лучше, если вы узнаете. Я любила Джорджа Бартона. Я была влюблена в него еще до того, как он познакомился с Розмэри. Думаю, что он ни о чем не догадывался и уж конечно сам не испытывал никаких чувств. Он ко мне хорошо относился, даже любил меня, но по-дружески. А я всегда думала о том, какой бы я ему могла быть прекрасной женой. Как бы он был счастлив со мной. Он любил Розмэри, но с ней он не был счастлив.
Рейс мягко спросил:
— К Розмэри вы испытывали неприязнь?
— Да. Она, конечно, была хороша собой, привлекательна, умела пустить в ход все свое обаяние, если хотела кому-то понравиться. Но со мной она не церемонилась. И мне она была очень неприятна. Ее смерть поразила меня — умерла она ужасно, но жалость… нет, особой жалости я не испытывала. Боюсь, что в глубине души я была даже рада.
Она помолчала.
— Мы не можем поговорить о чем-нибудь другом?
Рейс поспешно сказал:
— Мне бы хотелось услышать от вас все, что вы помните о вчерашнем дне, все, начиная с самого утра. Особенно все, что делал или говорил Джордж.
Рут с готовностью принялась перечислять утренние события. Она упомянула гнев Джорджа, вызванный наглым вымогательством Виктора; свой собственный телефонный звонок в Южную Америку; переговоры с фирмой и радость Джорджа, когда она сообщила ему, что все улажено. Затем она описала свой приезд в «Люксембург» и суетливое, взволнованное поведение Джорджа, который встречал гостей. Она довела свое повествование до финального акта трагедии. Оно в точности совпадало с отчетами, которые полковник уже слышал из других уст.
Рут, как бы прочитав его мысли, сказала:
— Это не самоубийство. Я убеждена, что это не самоубийство. Но если это убийство… то как это можно было осуществить? Кто мог убить Джорджа Бартона? Ответ один: никто из нас этого сделать не мог! Тогда, может быть, кто-то посторонний подсыпал яд в его бокал, пока мы танцевали? Но кто? Зачем? Какая-то бессмыслица.
— Все показания сходятся в том, что во время последнего танца к столу никто не подходил, — возразил Рейс.
— Тогда это действительно бессмыслица, просто бред! Не мог же цианистый калий попасть в бокал сам по себе?!
— Скажите, мисс Лессинг, у вас действительно нет никакого предположения, никакого даже самого отдаленного подозрения насчет того, кто мог подсыпать яд в бокал? Подумайте хорошенько, вспомните. Может быть, вчера ваше внимание задержалось на каком-то пустяке, какой-то незначительной детали?
Он видел, как она слегка переменилась в лице, видел, как в ее глазах промелькнула неуверенность. Прошла, может быть, малая доля секунды, прежде чем она произнесла:
— Нет, я ничего не заметила.
Но что-то было! Было! Он в этом не сомневался. Она что-то видела, слышала или заметила, но по какой-то причине предпочитает умалчивать об этом.
Он не настаивал, зная, что только попусту потратит время. Если женщина такого типа, как Рут, решила молчать, она будет упорствовать до конца.
И все-таки — что-то было! Эта уверенность даже приободрила его, вселила в него надежду. В глухой стене, перед которой он стоял, появилась первая трещинка.
После завтрака он распрощался и поехал на Элвастон-сквер, все еще думая о Рут Лессинг.
Виновна ли эта женщина? Он скорее был склонен думать, что нет. Ее искренность и прямота сильно располагали в ее пользу.
А способна ли она вообще совершить убийство? По глубокому убеждению полковника Рейса, такая способность крылась почти в каждом человеке. Почти каждый может в критический момент решиться на убийство. На какое-то конкретное убийство. Поэтому сейчас так трудно окончательно исключить кого-либо из числа подозреваемых. И в этой молодой женщине несомненно есть какая-то холодная жестокость. И у нее был мотив, даже не один, а несколько. Устранив с пути Розмэри, она могла твердо рассчитывать на то, что станет второй миссис Бартон. Хотелось ли ей просто заполучить богатого мужа или соединить судьбу с человеком, которого она любила, — в данном случае вопрос второстепенный. Главное было убрать с дороги Розмэри.
Заполучить богатого мужа… Рейс склонялся к мысли о том, что это недостаточный мотив для убийства. Нет, Рут слишком расчетлива и осторожна для того, чтобы рисковать головой только ради легкого, обеспеченного существования. Что же тогда, любовь? Возможно. За холодной сдержанностью в ней угадывалась импульсивная натура; такие женщины иногда на всю жизнь загораются непреодолимой страстью к своему единственному избраннику. Если она действительно любила Джорджа и ненавидела Розмэри, она вполне могла хладнокровно спланировать и осуществить убийство. А тот факт, что в прошлый раз все прошло гладко и никто не усомнился в самоубийстве Розмэри, доказывал только необыкновенную ловкость Рут.
Потом Джордж Бартон получил анонимные письма. (Рейса все время мучил вопрос — кто и с какой целью их написал.) У него возникли подозрения. Он решил заманить убийцу в ловушку. И тогда Рут Лессинг заставила его замолчать.
Нет, не годится. Звучит неестественно. Такая версия предполагала бы панику, а Рут Лессинг не паникерша. Она умнее Джорджа — ей ничего не стоило бы уйти от любой расставленной им ловушки.
Да, пожалуй, все это построение ненадежно.
Глава 6
Люсилла Дрейк была счастлива видеть полковника Рейса.
Все шторы в доме были опущены. Люсилла появилась в гостиной вся в черном, прижимая к глазам платок. Протянув Рейсу слабую, дрожащую руку, она объяснила, что абсолютно никого не принимает, но старому другу дорогого, незабвенного Джорджа она, конечно, никогда не могла бы отказать. Так ужасно без мужчины в доме — ощущаешь свою полную беспомощность. Они остались вдвоем — бедная одинокая вдова и беззащитная молоденькая девушка. Они ведь привыкли к тому, что обо всем заботится Джордж. Так любезно, что полковник Рейс пришел их навестить. Она ему бесконечно благодарна. Они с Айрис совсем растерялись — не знают, за что приняться. О делах фирмы, конечно, можно не беспокоиться — мисс Лессинг возьмет все это на себя, но ведь предстоят похороны, а что еще будет на следствии?.. Так неприятно, когда в доме полиция! Правда, они все в штатском и держатся в высшей степени корректно… Нет, она совершенно потеряла голову: такая ужасная трагедия! И не кажется ли полковнику Рейсу, что здесь роковую роль сыграло самовнушение? Все происходит только от самовнушения — так считают психоаналитики, не правда ли? Бедный Джордж! Снова этот кошмарный «Люксембург», и те же самые гости, и, конечно, воспоминания о смерти бедняжки Розмэри… Немудрено, что на него вдруг нашло умопомрачение. Если бы только он в свое время прислушался к тому, что советовала она, Люсилла, и согласился бы принимать прекрасное тонизирующее средство доктора Гаскелла! Все лето он был в очень плохом состоянии, работа без передышки!..
Тут Люсилла почувствовала, что ей самой необходима передышка, и полковник Рейс воспользовался этим, чтобы вставить несколько слов.
Он выразил ей свое искреннее сочувствие и сказал, что она может полностью на него рассчитывать.
Тут мотор снова заработал, и Люсилла сказала, что она чрезвычайно признательна полковнику, что самое страшное в смерти — это ее внезапность; сегодня мы здесь, а завтра нас нет, как сказано в Библии, поутру трава вырастает, а к вечеру ее срезает коса или, кажется, серп, в общем, полковник знает, что она имеет в виду, и так приятно чувствовать, что есть человек, на которого ты можешь положиться. Мисс Лессинг, надо отдать ей должное, очень деловая женщина и руководствуется самыми лучшими побуждениями, но держится высокомерно и самоуверенно, а иногда чересчур много на себя берет. По мнению Люсиллы, Джордж всегда слишком безоговорочно на нее полагался, и одно время она, Люсилла, даже боялась, как бы он не совершил какой-нибудь глупости, о которой потом пришлось бы жалеть как о непоправимой ошибке, потому что он сразу бы оказался у нее под башмаком — она бы ему и пикнуть не давала. Люсилла, слава Богу, сразу же почуяла, к чему все клонится, а милочка Айрис ни о чем не подозревала — она такая несовременная, и это даже приятно, когда молодая девушка так простодушна и не испорченна, не правда ли? Айрис всегда казалась моложе своих лет и привыкла больше молчать — никогда не узнаешь, о чем эта девочка думает. Вот Розмэри вела совершенно другой образ жизни — все время выезжала, веселилась, как и полагается старшей сестре, да еще такой красавице, а бедняжка Айрис без толку слонялась по дому и скучала, а это уж совсем не дело для молодой девушки. Непременно нужно, чтобы девушка была чем-то занята — посещала бы курсы домоводства или кройки и шитья. Это отвлекает от вредных мыслей, да и вообще, кто знает, что в жизни может пригодиться. Просто счастье, что она, Люсилла, смогла уделить ей внимание и переехала в этот дом после смерти бедной Розмэри. Она перенесла жуткий грипп — какая-то необычная форма, как сказал доктор Гаскелл. Солидный, опытный врач и прекрасный подход к больным. Она так мечтала, чтобы Айрис показалась ему этим летом. Девочка все время такая бледная и удрученная. И все из-за того, что их дом расположен в на редкость неудачном месте: низко, сыро, а по вечерам прямо какие-то тлетворные испарения! Миазмы![116] Бедняжка Джордж купил этот дом совершенно неожиданно, ни с кем не посоветовавшись, — такая жалость! Сказал, что собирался устроить сюрприз. Но, право, было бы лучше, если бы он прислушался к мнению старших и более опытных людей. Что мужчины понимают в домах? Джордж мог бы догадаться, что она, Люсилла, охотно взяла бы на себя любые хлопоты. В конце концов, какую ценность сейчас представляет ее жизнь? Ее любимый супруг много лет как в могиле, а Виктор, ее ненаглядный сыночек, в далекой Аргентине, то есть не в Аргентине, а в Бразилии или, нет, кажется, в Аргентине. Такой любящий мальчик, такой красавец!
Полковник Рейс сказал, что слышал о ее сыне и о том, что он живет за границей.
В течение ближайшей четверти часа ему был преподнесен подробный отчет о многосторонней деятельности Виктора. Такой живой, энергичный мальчик, охотно берется за любое дело, всем интересуется (тут последовал хронологический перечень разнообразных занятий, которые успел переменить Виктор). И никакой озлобленности, ни малейшего недоброжелательства к людям!
Ему всегда так не везло, полковник! Еще в школе директор имел о нем совершенно превратное мнение. А в Оксфорде? Университетские власти поступили с ним просто безобразно. До людей не доходит, что изобретательный мальчик, со способностями к рисованию, может скопировать чужой почерк просто ради шутки. Он сделал это из любви к искусству, а вовсе не из-за денег. Но он всегда был преданным сыном и, если попадал в беду, первым делом обращался к матери. Разве это не говорит о доверчивости его натуры, о сыновней привязанности? Обидно только, что всякий раз, когда ему находят работу, он вынужден уезжать куда-то за тридевять земель. Ее не покидает чувство, что, если бы ему предложили какую-нибудь приличную должность на родине, ну, скажем, в Национальном банке[117], он бы сразу остепенился. Он мог бы поселиться где-нибудь в пригороде Лондона и купить себе небольшой автомобиль.
Прошло добрых двадцать минут, прежде чем полковнику Рейсу, выслушавшему во всех подробностях повесть о совершенствах и бедах Виктора, удалось переключить Люсиллу с животрепещущей проблемы «Сыновья» на не менее животрепещущую — «Слуги».
Да, это правда, слуги нынче совсем не те, что в прежние времена. Старых, преданных слуг почти не осталось, а с теперешними одно мучение. Нет, лично ей грех жаловаться, им в этом отношении сильно повезло: кухарка, миссис Паунд, хотя она, бедненькая, не совсем хорошо слышит, все же прекрасная женщина. Правда, тесто у нее не всегда удается и, кроме того, она слишком сильно перчит суп, но, в общем, она безусловно женщина надежная и очень бережливая. Она служит у Джорджа с самой его женитьбы и ни разу не позволяла себе никаких фокусов — когда в этом году переезжали за город, она ни слова не сказала. Другие слуги были страшно недовольны, не желали ехать, а горничная просто потребовала расчет, но это даже к лучшему. Страшно дерзкая была девчонка, на каждое слово — в ответ двадцать, не говоря уже о том, что она ухитрилась разбить шесть самых лучших хрустальных бокалов, и не то чтобы по одному в разное время, это может со всяким случиться, а сразу! Не кажется ли полковнику, что это злостная небрежность?
Рейс поспешил заверить Люсиллу, что он совершенно с ней согласен.
— Я так прямо ей и сказала. И еще добавила, что вынуждена буду упомянуть об этом в рекомендации. В конце концов, это мой долг, полковник. Я хочу сказать — ни в коем случае нельзя вводить людей в заблуждение. Будущие хозяева должны знать и о достоинствах, и о недостатках тех, кого они нанимают. Девушка, однако, повела себя крайне нагло и заявила, что теперь уж постарается найти себе место в приличном доме, а не в таком, где тебя, того и гляди, кокнут. «Кокнут»! Такое грубое выражение! Наверное, насмотрелась всяких пошлых современных фильмов! И вообще, это было вопиюще неуместное замечание, поскольку Розмэри никто не убивал, — она покончила с собой, хотя в тот момент и не отвечала полностью за свои поступки, как было справедливо отмечено на следствии. А это ужасное выражение употребляется, по-моему, только в среде американских гангстеров, которые палят друг в дружку из пистолетов. Слава Богу, в Англии нет ничего подобного. Поэтому я написала в рекомендации, что Бетти Арчдейл прекрасно знакома с обязанностями горничной, и подтвердила, что она особа трезвая и честная, но допускает небрежность в обращении с бьющимися предметами и не всегда достаточно вежлива. И лично я на месте миссис Рис-Тальбот сумела бы прочесть между строк и не стала бы нанимать такую горничную. Но ведь сейчас люди бросаются на что попало и способны взять на службу девицу, которая за три месяца успела переменить три места.
Пока миссис Дрейк переводила дыхание, полковник успел спросить, кто такая миссис Рис-Тальбот — не вдова ли это Ричарда Рис-Тальбота, с которым он вместе служил в Индии?
— Право, не могу сказать. Она живет где-то на Кадоган-сквер.
— Тогда это действительно моя знакомая.
Люсилла тут же сказала, что мир тесен и что старые друзья лучше новых. Дружба — удивительная вещь. Никогда не поймешь, где кончается дружба и где начинается что-то другое. Лично у нее всегда было впечатление, что Виолу и Поля связывала не просто дружба, а что-то более романтичное… Милочка Виола, она была такая красоточка, и всегда столько поклонников… О Господи, да ведь полковник Рейс даже не представляет, о ком она говорит. В ее возрасте так тянет возвращаться к прошлому! Ей, право, совестно.
Полковник Рейс просил ее не смущаться и продолжать и за свою галантность был вознагражден жизнеописанием Гектора Марля. Он узнал о том, как его вырастила и воспитала сестра, обо всех его наклонностях и слабостях и, наконец, о его женитьбе на красавице Виоле Марль, о которой полковник за время рассказа уже успел позабыть. («Она, видите ли, была сиротка…») Он услышал также о том, как Поль Беннет, которому было отказано в руке и сердце Виолы, превозмог свою душевную боль и из пылкого поклонника превратился в друга семьи; о том, как он был привязан к своей крестнице Розмэри; о его смерти и об условиях его завещания.
— Ну разве это не романтично — оставить ей свое состояние, и такое огромное! Конечно, деньги — это не главное, не в деньгах счастье. Бедняжка Розмэри умерла так трагически. Да и за Айрис у меня все время душа болит.
Рейс взглянул на свою собеседницу вопрошающе.
— Я постоянно чувствую огромную ответственность. Ведь всем известно, что она богатая наследница. Вот и приходится следить за тем, чтобы не завязалось какое-нибудь нежелательное знакомство. Но разве за нынешними девушками уследишь? У Айрис есть знакомые молодые люди, о которых я практически ничего не знаю. Я ей постоянно твержу: «Пригласи их к нам в дом, милочка». Но, насколько я понимаю, некоторые из этих молодых людей просто не желают показываться в доме. И бедный Джордж тоже очень беспокоился за Айрис. Особенно в связи с молодым человеком по фамилии Браун. Я лично его никогда не видела, но у меня впечатление, что он весьма часто встречается с Айрис. Она могла бы сделать более достойный выбор. Джорджу этот Браун всегда не нравился, я точно знаю, а я убеждена, что о мужчинах вернее всего судят сами мужчины. Я вспоминаю полковника Пьюса, нашего церковного старосту:[118] я его считала очаровательным человеком, но мой покойный муж всегда держался с ним официально и убеждал меня следовать его примеру. И что же? В одно из воскресений, когда он обходил прихожан, собирая пожертвования, он вдруг свалился на пол — и оказалось, что он мертвецки пьян! Разумеется, потом выяснилось — почему-то такие вещи, о которых не мешало бы знать заранее, выясняются всегда потом, — выяснилось, что из его дома каждую неделю десятками выносили пустые бутылки из-под бренди! Это тем более прискорбно, что он истинно верующий человек, хотя по своим взглядам склонялся к евангелизму[119]. Однажды они с моим покойным мужем затеяли страшный спор о порядке богослужения в День всех святых[120]. Да, День всех святых. Боже мой, Боже мой! А вчера, подумать только, вчера был День поминовения!
Слабый шорох заставил Рейса поднять голову. В дверях, за спиной Люсиллы, стояла Айрис. Он уже один раз видел ее — осенью, в Литл-Прайерс. Тем не менее ему показалось, что он видит ее впервые. За ее внешним спокойствием он почувствовал необычайное нервное напряжение. В ее широко раскрытых глазах был какой-то затаенный испуг, какой-то невысказанный вопрос, смысл которого он не смог разгадать, хотя понимал, что должен был это сделать.
Люсилла повернула голову:
— Айрис, милочка, я не слышала, как ты вошла. Ты знакома с полковником Рейсом? Он проявляет к нам такое внимание.
Айрис подошла и без улыбки протянула ему руку; по сравнению с прошлым разом она показалась ему похудевшей и побледневшей — может быть, из-за того, что сейчас была в трауре.
— Я заехал узнать, не могу ли я быть вам хоть чем-нибудь полезен, — сказал Рейс.
— Благодарю вас, это очень любезно с вашей стороны.
Она произнесла эту фразу как заученную, без всякого выражения.
Было ясно, что она пережила огромное потрясение и еще не совсем пришла в себя. Неужели привязанность к Джорджу была так сильна, что его смерть оказалась для нее столь тяжким ударом?
Она перевела взгляд на тетку, и Рейс уловил в ее глазах настороженность. Она спросила:
— А о чем вы говорили? Вот сейчас, когда я вошла?
Люсилла порозовела и сконфузилась. Рейс понял, что она всеми силами стремится не допустить, чтобы при Айрис произносилось имя столь нежелательного молодого человека — Энтони Брауна.
— Действительно, о чем же мы говорили? Ах, вспомнила! — воскликнула Люсилла. — День всех святых, а вчера был День поминовения. Да, подумать только! Надо же, чтобы такая трагедия случилась именно в День поминовения! Прямо как в романе!
— Что вы имеете в виду? — спросила Айрис. — Что Розмэри вернулась с того света за Джорджем?
Люсилла всплеснула руками:
— Айрис, милочка, что ты говоришь! Откуда у тебя такие ужасные мысли? Это недостойно христианки!
— Почему же? В День поминовения в Париже, например, всегда ходят на кладбище и приносят цветы на могилы.
— Да-да, дорогая, но французы совсем другое дело, они ведь все католики!
Подобие улыбки тронуло губы Айрис. Помолчав, она сказала:
— А мне послышалось, что вы говорили об Энтони — об Энтони Брауне.
— Да, ты права, — защебетала Люсилла тоненьким, совсем уже птичьим голоском, — мы действительно упомянули его имя. Я просто назвала его в числе твоих знакомых и сказала, что мы о нем совсем ничего не знаем…
Айрис резко перебила ее:
— А почему вы вообще должны о нем что-то знать?
— Конечно, дорогая, никакой необходимости в этом нет. Просто я хотела сказать, что было бы приятней, если бы мы хоть что-нибудь знали. Разве не так?
— Вы будете иметь возможность близко познакомиться с ним в самом скором времени, — сказала Айрис, — потому что я выхожу за него замуж.
— Айрис! — Звук, который издала Люсилла, был нечто средним между воплем и блеянием. — Что ты говоришь?! Это безумие! И вообще, сейчас ничего нельзя решать!
— Все уже решено, тетя Люсилла.
— Ну что ты, милочка, разве можно думать о свадьбе, когда в доме покойник?! Как можно нарушать приличия?! Не забывай, что еще предстоит это ужасное следствие и все прочее. И кроме того, милочка, я убеждена, что покойный Джордж не одобрил бы твой выбор. Он недолюбливал этого мистера Брауна.
— Да, верно, — сказала Айрис. — Джордж не любил Энтони и не одобрил бы мой выбор, но все это уже не имеет значения. Мне ведь жить, а не Джорджу. Тем более что Джорджу теперь все равно.
Миссис Дрейк издала еще один стон:
— Айрис, Айрис! Я тебя не узнаю! Как ты можешь быть такой бесчувственной?
— Простите меня, тетя Люсилла. — В голосе Айрис послышалось волнение. — Наверное, я не так выразилась. Я только хотела сказать, что Джордж теперь обрел покой и ему не нужно больше волноваться из-за меня и устраивать мое будущее. Я должна решать все сама.
— Глупости, милочка. Как можно в такое время что-нибудь решать? Сейчас самый неподходящий момент. Об этом просто не может быть речи.
Айрис неожиданно рассмеялась.
— Тем не менее речь была. Энтони сделал мне предложение незадолго до нашего отъезда из Литл-Прайерс. Он просил меня на следующий день приехать в Лондон и обвенчаться с ним, никому не говоря ни слова. И я очень жалею, что тогда не согласилась.
— Скажем прямо, довольно странная просьба! — деликатно заметил полковник Рейс.
Айрис с вызовом повернулась к нему:
— Ничуть не странная! Мы избавились бы от многих лишних хлопот. И почему только я ему не доверилась? Он просил меня, просил, а я побоялась! Но теперь я непременно выйду за него, как только он пожелает.
Люсилла разразилась потоком бессвязных негодующих восклицаний. Ее пухлые веки дрожали, глаза наполнились слезами.
Полковник Рейс воспользовался общим замешательством и начал действовать.
— Мисс Марль, могу я перед уходом переговорить с вами наедине по очень важному делу?
Она недоуменно пробормотала: «Да, да, конечно» — и направилась к дверям. Полковник пошел было за ней, но на полпути вернулся к Люсилле и сказал ей:
— Не расстраивайтесь, миссис Дрейк. Помните: чем меньше слов, тем лучше. Может быть, все еще уладится.
Слегка успокоив Люсиллу, он вышел вслед за Айрис, которая провела его через холл в небольшую комнату в глубине дома. За окном ронял последние листья печальный платан.
Рейс сразу перешел на деловой тон:
— Я только хотел сказать вам, мисс Марль, что инспектор Кемп мой близкий друг и я прошу вас отнестись к нему с полным доверием. Его обязанности не из приятных, но я не сомневаюсь, что он проявит максимум доброжелательности и понимания.
Секунду-другую она смотрела на него молча, затем без видимой связи спросила:
— Почему вы вчера не пришли в «Люксембург»? Джордж вас ждал.
Он покачал головой:
— Джордж не ждал меня.
— Как же так? Он сказал, что вы должны прийти.
— Он мог так сказать, но это была неправда. Джордж прекрасно знал, что я не приду.
— Но ведь был лишний стул. Для кого он предназначался?
— Во всяком случае, не для меня.
Айрис прикрыла глаза, лицо ее внезапно побледнело.
Она прошептала:
— Значит, для Розмэри… Теперь все понятно… он был поставлен для Розмэри…
Ему показалось, что она вот-вот упадет. Он бросился и поддержал ее, потом помог сесть.
— Успокойтесь, успокойтесь!
Она ответила едва слышно:
— Мне уже лучше. Но я не знаю, что делать… Я не знаю, что мне делать!
— Может быть, я могу помочь?
Айрис взглянула на него грустными, серьезными глазами:
— Я должна сначала сама разобраться. Я должна, — она беспомощно развела руками, — разложить все факты.
Во-первых, Джордж считал, что Розмэри не покончила жизнь самоубийством, а была убита. В этом его убедили письма. Как вы думаете, кто их написал?
— Не знаю. И никто не знает. А вы сами как думаете?
— Просто не могу себе представить. Но, так или иначе, Джордж поверил этим письмам и устроил вчерашний праздник и распорядился поставить лишний стул… А вчера был День поминовения… Это такой день, когда души усопших слетают на землю. И дух Розмэри тоже мог явиться к нему… и открыть ему правду.
— Вы даете слишком много воли своему воображению.
— Но я сама все это время чувствовала ее присутствие. Мне часто казалось, что она где-то рядом, что она порывается мне что-то сказать… Ведь это моя родная сестра.
— Успокойтесь, Айрис.
— Нет, я должна выговориться! Джордж выпил за Розмэри и… и тут же умер. Может быть, она приходила за ним.
— Но согласитесь, милая Айрис, души мертвых не подсыпают цианистый калий в бокалы с шампанским.
Эти слова как будто подействовали на нее отрезвляюще. Уже более спокойным тоном она сказала:
— Нет, нет, это просто невероятно! Ведь Джордж не покончил с собой — он был убит. Так считает полиция, и, наверно, это так и есть. Но все равно получается какая-то бессмыслица.
— Почему же бессмыслица? Если Розмэри погибла от руки убийцы, а Джордж начал догадываться, кто этот убийца…
Она перебила его:
— Если! Но ведь Розмэри не была убита! Вот и получается бессмыслица. Джордж в свое время поверил этим дурацким письмам, потому что депрессия после гриппа и вправду малоубедительная причина для самоубийства. Но настоящая причина была совсем другая! Подождите, я сейчас…
Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась, держа в руках письмо:
— Прочтите! Вы сейчас убедитесь!
Полковник Рейс развернул сложенный вчетверо, слегка помятый листок: «Леопард, милый…»
Он прочел письмо дважды, прежде чем возвратить его Айрис.
— Вот видите? — сказала Айрис, волнуясь. — Ей было так тяжело, она была в отчаянии! И ей не хотелось жить.
— А вы знаете, кто адресат этого письма?
Айрис кивнула:
— Стивен Фарадей. Не Энтони. Она любила Стивена, а он поступил с ней жестоко. И тогда она взяла яд в ресторан и отравилась у него на глазах. Может быть, она хотела, чтобы Стивен раскаялся и горько пожалел, что так с ней обошелся.
Рейс задумчиво кивнул и, помолчав, спросил:
— Когда вы нашли это письмо?
— Примерно полгода назад. Оно лежало в кармане старого халата.
— А Джорджу вы его не показали?
— Ну что вы! — с жаром воскликнула Айрис. — Как я могла это сделать? Предать свою родную сестру? Ведь Джордж был уверен, что она его любила. Как я могла показать ему такое письмо после ее смерти? У него возникла своя версия, он считал, что Розмэри была убита, и я его не разубеждала, хотя и знала, что все было не так. Я же не могла сказать ему правду. Но сейчас я хочу знать, что я должна делать. Я показала это письмо вам, потому что вы были другом Джорджа. А инспектору Кемпу тоже нужно будет его показать?
— Да. Кемп должен его прочесть. Это ведь вещественное доказательство.
— Значит… значит, его могут огласить на суде?
— Необязательно. Совсем необязательно. Следствие занимается смертью Джорджа, и огласке подлежит только то, что имеет непосредственное отношение к делу. Пока что позвольте мне забрать это письмо.
— Ну хорошо.
Она проводила его до входной двери. Когда он уже стоял на пороге, она вдруг сказала:
— Это письмо доказывает, что Розмэри покончила с собой?
Рейс ответил:
— Письмо безусловно подтверждает, что у нее была причина для самоубийства.
Айрис глубоко вздохнула. Спустившись по ступенькам на тротуар, он оглянулся. Она все еще стояла в дверях, глядя ему вслед, пока он переходил на другую сторону площади.
Глава 7
Мэри Рис-Тальбот глазам своим не поверила, увидев перед собой полковника Рейса.
— Вы ли это, дорогой? Какими судьбами? Я не видела вас с тех самых пор, как вы таинственно исчезли из Аллахабада[121]. Что вас сюда привело? Уж конечно, не просто желание меня повидать. Вы ведь противник светских визитов. Ну, ну, не томите, признавайтесь и оставьте свою вечную дипломатию.
— Применительно к вам, Мэри, дипломатия была бы пустой тратой времени. Вы ведь видите все насквозь — я давно это знаю.
— Ближе к делу, ближе к делу, голубчик.
Рейс улыбнулся:
— Скажите, горничную, которая открыла мне дверь, зовут Бетти Арчдейл?
— Ах вот оно что! Слушайте, не станете же вы убеждать меня, что эта девушка, типичное дитя лондонских трущоб, на самом деле знаменитая европейская шпионка? Я все равно не поверю.
— Нет, нет, Боже сохрани!
— И не рассказывайте мне, что она агент нашей контрразведки. Тоже не поверю.
— И правильно сделаете. Эта девушка простая горничная, больше ничего.
— С каких же это пор вы интересуетесь простыми горничными? Впрочем, Бетти не так уж и проста — это продувная бестия.
— Видите ли, — сказал полковник Рейс, — я надеюсь получить от нее кое-какие сведения.
— Не исключено, если вы сумеете найти к ней подход. У этой девушки поразительно развита способность оказываться на минимальном расстоянии от замочной скважины, когда за закрытой дверью происходит что-то интересное. Великолепно разработанная техника. Итак, что требуется от М.?
— М. любезно предлагает мне выпить с дороги, затем звонит, вызывает Бетти и отдает ей соответствующее распоряжение.
— А когда Бетти вернется?
— К этому времени М. успеет тактично удалиться.
— И сама станет подслушивать под дверью?
— Как ей будет угодно.
— Не грозит ли мне впоследствии опасность лопнуть от перенасыщенности секретной информацией относительно последнего общеевропейского кризиса?
— Боюсь, что нет. Политика не имеет к моему делу ни малейшего отношения.
— Какая досада! Ну так и быть, я согласна участвовать в вашей игре.
С этими словами миссис Рис-Тальбот, живая темная шатенка сорока девяти лет, позвонила и велела своей хорошенькой горничной принести полковнику Рейсу виски с содовой.
Когда Бетти Арчдейл вернулась с подносом, миссис Рис-Тальбот уже стояла на пороге двери, ведущей из гостиной в другую половину дома.
— Полковник Рейс хочет кое-что спросить у вас, — сказала она и вышла.
Бетти подняла свои отнюдь не робкие глаза на высокого, седого, по-военному подтянутого человека, и в глубине их промелькнула тревога. Он взял с подноса бокал и улыбнулся.
— Видели сегодняшние газеты? — спросил он.
Бетти насторожилась.
— Да, сэр.
— И прочли сообщение о том, что мистер Джордж Бартон внезапно скончался вчера вечером в ресторане «Люксембург»?
— Да, сэр. — Бетти оживилась, глаза ее заблестели — типичная реакция обывателя на происшествия и несчастные случаи, которые вносят разнообразие в жизнь. — Вот ужас-то!
— Вы служили у него в доме, если не ошибаюсь?
— Да, сэр. Я уволилась прошлой зимой, после смерти миссис Бартон.
— Миссис Бартон ведь тоже умерла в этом ресторане?
Бетти кивнула:
— Угу. Смех, да и только, правда, сэр?
Рейс не усматривал в этом совпадении ничего особенно комического, но он понял, что Бетти выразилась фигурально.
— Я вижу, — произнес он со значением, — что у вас есть голова на плечах. Вы отлично понимаете, что к чему.
Бетти прижала руки к груди и — будь что будет — решилась высказаться начистоту:
— Значит, его тоже кокнули? В газетах как-то неопределенно пишут.
— Почему «тоже»? Причиной смерти миссис Бартон было самоубийство. Так говорилось в официальном заключении.
Она метнула на него быстрый взгляд. Старый-пре-старый, но симпатичный. И голос такой спокойный. Настоящий джентльмен. В прежние времена не поскупился бы на золотой соверен[122]. Смешно, ей-богу, — сроду не видала соверена! Интересно все-таки, чего он от нее добивается?
— Да, сэр, я знаю.
— Но, может быть, вы не согласны с заключением следствия? Может быть, вы не верите, что миссис Бартон покончила с собой?
— Как вам сказать, сэр? По правде говоря, я тогда не поверила. Да и сейчас не верю.
— Любопытно! Очень любопытно. А почему же вы не верите?
Бетти колебалась. Ее пальцы нервно теребили край передника.
— Прошу вас, скажите мне. Ваши соображения могут оказаться очень важными.
Так хорошо он это сказал, так убедительно. Будто ты и вправду важная птица и без тебя ему не обойтись. Что ж, догадливостью ее Бог не обидел. Кто-кто, а она-то сразу сообразила, чем тут пахнет. Ее в таких делах не проведешь.
— Я так понимаю, сэр, что миссис Бартон убили. Правильно?
— Возможно, что так оно и было. Но каким образом пришли вы к этому предположению?
— Я… — Бетти все еще колебалась. — Я один раз кое-что заметила.
— Что же именно?
Голос полковника звучал ободряюще.
— Понимаете, дверь была приоткрыта. Это я к тому говорю, что у меня нет привычки подслушивать под дверьми. Я этого терпеть не могу! — заявила Бетти с достоинством. — Я как раз шла с подносом через холл в столовую, а они говорили очень громко. Ну и вот, она, то есть миссис Бартон, сказала что-то насчет того, что будто бы его настоящая фамилия не Браун. Тут он, в смысле мистер Браун, прямо взбесился. Откуда что взялось! Такой симпатичный, всегда шутил, улыбался. А тут он стал ей угрожать. Сказал, что все лицо исполосует бритвой. А если она не сделает, что он велит, так он ее просто прикончит. Так и сказал. Я больше ничего не слыхала, потому что тут как раз на лестницу вышла мисс Айрис. Тогда я про этот разговор и думать забыла, но потом, когда поднялась вся эта кутерьма и стали говорить, что она покончила с собой в ресторане, я сразу все раскусила! Ведь он там тоже был, на этом празднике! Я как вспомнила, так меня прямо дрожь пробрала. Вот ужас-то!
— Но вы никому ничего не сказали?
Девушка покачала головой:
— Нет. Неохота было связываться с полицией. Толком-то я ничего и не знала. А потом — всякое бывает. Если бы я донесла, могли бы и меня прикончить. Кокнули бы запросто.
— Понимаю. — Полковник Рейс помолчал и спросил самым медоточивым голосом: — И тогда вы решили отправить мистеру Бартону анонимное письмо?
Нет, в этих глазах не было никакого замешательства, никакого сознания вины — ничего, кроме искреннего изумления.
— Письмо? Мистеру Бартону? Я? Что вы, сэр!
— Не бойтесь, скажите мне правду. Это была очень удачная мысль. Такое письмо давало вам возможность предупредить его и ничем не выдать себя. Уверяю вас, вы отлично придумали.
— Но я тут ни при чем, сэр! Ей-богу, это не я! А мистер Бартон получил письмо без подписи? О том, что его жену убили? Надо же! Мне такое бы в голову не пришло.
Она говорила так искренне, что Рейс волей-неволей засомневался. А ведь все как будто складывалось наилучшим образом! Насколько упростилась бы ситуация, если бы письма были написаны этой девушкой! Она, однако, продолжала настойчиво отрицать свою причастность к этой истории. В ее тоне не было ни тревоги, ни истеричности, в нем не чувствовалось желания выгородить себя, и именно это заставило Рейса, как ни досадно ему было, поверить в правдивость ее слов.
Он решил оставить эту тему и спросил:
— Значит, вы никому не говорили о своих подозрениях?
Она покачала головой:
— Нет. Никому. По правде говоря, я здорово перепугалась и решила, что лучше держать язык за зубами. Я старалась об этом не думать. Только один раз я не удержалась, когда объявила миссис Дрейк, что беру расчет. Она всегда ко мне придиралась, прямо до невозможности, а тут еще стала требовать, чтоб я ехала с ними на лето в какую-то жуткую глушь, где даже автобус не ходит! Я, конечно, не захотела. Тут она прямо взбеленилась и сказала, что напишет мне в рекомендации, будто я бью посуду. А я ей тоже подпустила шпильку и сказала, что уж постараюсь подыскать себе место в приличном доме, а не в таком, где тебя, того и гляди, кокнут. Я сказала и сама испугалась, но она, слава Богу, пропустила это мимо ушей. Может, я неправильно сделала, что никому тогда словом не обмолвилась про тот разговор, но я не знала, что и подумать. А вдруг мистер Браун просто посмеялся? Мало ли что в шутку скажут, а мистер Браун всегда был такой симпатичный, веселый, такой шутник, — ну откуда мне было догадаться, правда же, сэр?
Рейс согласился, что догадаться было неоткуда, и спросил:
— Значит, миссис Бартон сказала, что Браун — это не настоящая его фамилия. А настоящую она не называла?
— Как же, называла. И он еще перебил ее и сказал: «Забудьте про Тони…» Ах ты, Боже мой, вылетело из головы! Тони, Тони… Такая смешная фамилия. Я почему-то сразу вспомнила про джем. У нас тогда варили вишневый джем.
— Тони Виштон? Вишнол?
— Нет, нет, та фамилия была почуднее. На букву «М». И вроде бы не английская.
— Ну ладно, не мучайтесь. Может быть, вы еще вспомните. И если вспомните, дайте мне знать. Вот моя визитная карточка, напишите мне по этому адресу.
Он протянул ей карточку вместе с приятно хрустнувшей бумажкой.
— Обязательно напишу, сэр, спасибо вам большое, сэр.
«Настоящий джентльмен, — думала Бетти, сбегая по лестнице. — Целый фунт выдал, не каких-нибудь десять шиллингов! Хорошо жилось в те времена, когда были золотые соверены…»
Мэри Рис-Тальбот вернулась в комнату.
— Ну как, успешно?
— Да, вполне, но все же есть одна загвоздка. Я уповаю на вашу сообразительность. Придумайте фамилию, которая по звучанию ассоциировалась бы с вишневым джемом.
— Поистине неслыханная просьба!
— Я серьезно, Мэри. Подумайте. Я профан в домоводстве. Попробуйте сосредоточиться на джеме, в частности на вишневом.
— Вишневый джем варят не так часто.
— Почему же?
— Он легко засахаривается. Хозяйки предпочитают поэтому особый сорт вишни — мореллу.
У Рейса вырвался радостный возглас:
— Оно! Оно самое! Клянусь, это именно то, что мне нужно. Прощайте, Мэри, я вам признателен по гроб жизни. Вы не возражаете, если я позвоню и ваша горничная проводит меня?
Он откланялся и поспешил к выходу. Миссис Рис-Тальбот едва успела крикнуть ему вслед:
— Неблагодарное чудовище! Неужели вы мне так ничего и не расскажете?
Он отозвался уже из-за двери:
— Непременно приду в другой раз и расскажу все от начала до конца!
— Так я и поверила, — пробурчала миссис Рис-Тальбот.
Внизу полковника уже поджидала Бетти; она подала ему шляпу и трость. Он поблагодарил ее и двинулся к входной двери, но на пороге обернулся.
— Кстати, об этой фамилии, — сказал он. — Случайно не Морелли?
Бетти просияла:
— Правильно, сэр. Тони Морелли. Он так и сказал: «Забудьте про Тони Морелли». И еще сказал, что сидел в тюрьме.
Рейс вышел на улицу, улыбаясь.
Из ближайшей телефонной будки он позвонил Кемпу. Разговор был короткий, но оба остались довольны его результатами. Кемп сказал:
— Я тут же пошлю телеграфный запрос. Ответ должен прийти с обратной почтой. Если вы окажетесь правы, это сильно облегчит дело.
— Думаю, что я прав. Связь тут очевидная.
Глава 8
Инспектор Кемп пребывал в дурном расположении духа.
Последние полчаса он провел в беседе с дрожавшим, как заяц, шестнадцатилетним юнцом, который благодаря влиятельному положению его дяди Шарля таил в душе честолюбивые замыслы когда-нибудь достичь высот официантского искусства и получить место в ресторане класса «Люксембурга». А пока что, в числе таких же замороченных юнцов, он был на побегушках и носился по делам в переднике, который ученикам полагалось надевать специально для того, чтобы посетители не спутали их с официантами высшего ранга. Обязанности этих мальчиков состояли в том, чтобы терпеть бесконечные придирки, приносить и уносить все, что прикажут, следить за тем, чтобы на всех столиках был хлеб и масло, а также выслушивать непрерывное шипение на французском, итальянском и изредка английском языках. Шарль, как истинно великий человек, не позволял себе делать поблажки кровному родственнику и поэтому шипел на него и распекал его даже чаще, чем остальных. Тем не менее Пьер терпеливо лелеял надежду сделаться в один прекрасный день метрдотелем какого-нибудь шикарного ресторана.
Однако в настоящий момент его карьера находилась под угрозой: как он понял, его подозревали не более не менее как в убийстве.
Кемп вывернул парня наизнанку и с неудовольствием убедился, что мальчишка сделал только то, в чем он признался с самого начала, а именно — поднял упавшую дамскую сумочку и положил ее на стол, рядом с прибором.
— Я бежал с соусом к мосье Роберу, он уже был сердитый, а молодая леди, она пошла танцевать и уронила сумочку, а я поднял ее и положил на стол и тут же побежал, потому что мосье Робер ждал, он уже махал мне руками. Это все, мосье.
Действительно, это было все. Больше ничего из парня вытянуть не удалось, и Кемп в раздражении велел ему идти, с трудом удержавшись от того, чтобы не прибавить назидательным тоном: «Смотри в другой раз у меня не попадайся!»
Атмосферу несколько разрядил сержант Поллок: он вошел и доложил, что снизу позвонили и что инспектора Кемпа спрашивает некая молодая дама, точнее, спрашивает не его лично, а офицера, который ведет расследование по делу о смерти Джорджа Бартона.
— Кто такая? Как ее зовут?
— Мисс Хлоя Уэст.
— Ну, давайте ее сюда, — сказал Кемп с обреченным видом. — Я могу уделить ей не больше десяти минут: через десять минут должен явиться мистер Фарадей. Впрочем, ничего с ним не стрясется, если и подождет. Пусть понервничает, это даже полезно.
Когда мисс Хлоя Уэст вошла, Кемпу показалось, что где-то он ее уже встречал. Впечатление это, однако, скоро рассеялось. Нет, эту девушку он безусловно видел впервые. И все же его не покидало смутное ощущение, что ее лицо откуда-то ему знакомо.
Мисс Уэст была высокая, очень миловидная шатенка лет двадцати пяти. В ее хорошо поставленном голосе сквозило с трудом сдерживаемое волнение.
— Слушаю вас, мисс Уэст, — произнес Кемп деловым тоном.
— Я прочла в газетах о происшествии в «Люксембурге»… о том, что там внезапно умер…
— Мистер Джордж Бартон? Да, и что же? Вы его знали?
— Немного… вернее, очень мало. В сущности говоря, я его почти не знала.
Кемп испытующе посмотрел на нее и отбросил свое первое скороспелое предположение. У Хлои Уэст был вполне порядочный и добродетельный, даже чересчур добродетельный вид. Кемп решил быть с ней повежливее.
— Будьте любезны, назовите для начала свое полное имя и адрес.
— Хлоя Элизабет Уэст, Мерривейл-Корт, дом пятнадцать, Майдавейл. По профессии я актриса.
Кемп еще раз испытующе взглянул на нее краешком глаза и решил, что она, пожалуй, говорит правду. Актриса, и, конечно, не эстрадная, а драматическая. Видно, что девушка серьезная, несмотря на хорошенькую мордашку.
— Итак, мисс Уэст?
— Когда я прочитала о смерти мистера Бартона и о том, что ведется расследование, я подумала, что, может быть, я должна пойти в полицию и рассказать, что мне известно. Я посоветовалась со своей приятельницей, и она со мной согласилась. Я далеко не уверена, что все это имеет отношение к смерти мистера Бартона, но… — Тут мисс Уэст запнулась.
— Предоставьте судить об этом нам, — сказал Кемп самым любезным тоном. — Просто расскажите все как есть.
— В настоящее время я не занята в спектаклях, — начала мисс Уэст. («Творческий отпуск!» — чуть было не сказал инспектор Кемп, который был знаком с лексиконом безработных актеров.) — Но моя фамилия значится в списках театральных агентств, а в бюллетене «Рампа» была помещена моя фотография. Думаю, что по этой фотографии меня и разыскал мистер Бартон. Он встретился со мной и объяснил, что хочет поручить мне одну вещь.
— Что же именно?
— Он рассказал, что дает для своих друзей обед в «Люксембурге» и думает устроить им сюрприз. Он принес фотографию какой-то девушки и попросил загримироваться под оригинал. Ему казалось, что мы похожи, что похож и цвет волос. И черты лица.
Кемпа внезапно осенило. Ну конечно! Фотография Розмэри на письменном столе Джорджа, в его кабинете на Элвастон-сквер! Девушка напомнила ему именно эту фотографию. Она была и впрямь похожа на Розмэри Бартон. Может быть, сходство нельзя было назвать разительным, но тип лица и общий облик совпадали.
— Он принес мне и платье, которое я должна была надеть. Оно у меня с собой. Шелковое платье, серовато-зеленого цвета. Я должна была сделать точно такую же прическу, как у девушки на фотографии — фотография была цветная, — и усилить сходство с помощью грима. Затем я должна была приехать в «Люксембург», войти в зал во время концерта, когда будут притушены огни, и незаметно подсесть к столу мистера Бартона, на оставленный для меня свободный стул. Он специально пригласил меня в «Люксембург» позавтракать и показал этот стол.
— Почему же вы туда не пришли?
— Потому что в тот самый вечер, около восьми часов, кто-то… мистер Бартон… позвонил мне и сказал, что все откладывается. Он обещал на следующий день сообщить, когда состоится, этот обед. А наутро я прочла в газете о его смерти.
— И тогда вы пришли к нам — и очень разумно поступили, — сказал Кемп ободряюще. — Мы вам очень благодарны, мисс Уэст. Вы помогли нам разрешить одну загадку — загадку лишнего стула. Кстати, когда вы упомянули о телефонном звонке, вы сначала сказали — «кто-то», а потом поправились: «мистер Бартон». Это случайная оговорка?
— Видите ли, когда я сняла трубку, мне в первый момент показалось, что это не мистер Бартон, а кто-то другой. Я не узнала его голос.
— Но говорил мужчина?
— Да, конечно, хотя голос был какой-то хриплый, словно простуженный.
— И больше ничего он не сказал?
— Больше ничего.
Кемп задал ей еще несколько вопросов, но ничего нового не узнал.
После ее ухода он обратился к сержанту Поллоку:
— Вот и разгадка знаменитого плана Джорджа Бартона. Недаром все гости обратили внимание на то, что, когда зажгли свет, он сидел и глядел на пустой стул с ошарашенным видом. Он не мог взять в толк, почему его драгоценный план провалился.
— Вы думаете, сэр, что это не он ей звонил?
— Упаси Боже! Конечно, не он. Я даже не уверен, что звонил мужчина. Хриплый голос — хороший камуфляж, тем более по телефону. Ну-ну, мы, кажется, понемножку подвигаемся вперед… поглядите, пришел ли мистер Фарадей, и если он тут, пусть войдет.
Глава 9
Внешне сохраняя спокойствие и невозмутимость, Стивен Фарадей вошел в подъезд Скотленд-Ярда. Но внутри у него все сжималось, на душе была невыносимая тяжесть. Утром ему казалось, что все как будто сошло благополучно. Для чего инспектору Кемпу понадобилось приглашать его одного в Скотленд-Ярд, да еще с таким многозначительным видом? Что он знает или подозревает? В любом случае у него могут быть только самые неясные подозрения. Главное, сохранять спокойствие и ни в чем не признаваться.
Без Сандры он чувствовал себя до странности одиноким и потерянным. Любая опасность казалась вполовину меньше, если они встречали ее вдвоем. Пока они вдвоем, у них есть силы, воля, мужество. Один, без нее, он ничто, ровным счетом ничто. Интересно, ощущает ли Сандра то же самое? Что-то она сейчас делает? Наверное, сидит в родительском доме, как всегда молчаливая, спокойная, гордая, не выдавая ничем, какой страх гнездится в ее сердце.
Инспектор Кемп принял его вежливо, но сдержанно. За другим столом в той же комнате Стивен заметил полицейского, державшего наготове блокнот и карандаш. Кемп пригласил Стивена присесть и обратился к нему сугубо официальным тоном:
— Мистер Фарадей, вам предлагается дать свидетельские показания. Все, что вы имеете нам сообщить, будет занесено в протокол, который вам придется прочесть и подписать. Мой долг — предупредить вас, что вы имеете право отказаться от дачи показаний, а кроме того, можете потребовать присутствия вашего адвоката, если вы этого пожелаете.
Стивен был ошеломлен, но не подал виду. Он даже попытался саркастически улыбнуться.
— Все это звучит очень грозно, инспектор.
— Ясность прежде всего, мистер Фарадей.
— В таком случае вы должны были бы добавить, что все, что я скажу, может быть использовано в качестве улик против меня. Так ведь?
— Мы не придираемся к словам. Сформулируем это так: все, что вы скажете, может быть использовано наравне с другими свидетельскими показаниями.
— Простите, инспектор, — спокойно возразил Стивен, — я не понимаю, каких еще свидетельских показаний вы от меня ожидаете. Все, что я мог вам сообщить, вы слышали сегодня утром.
— Утром была, скорее, неофициальная встреча. Она понадобилась как отправной пункт. Кроме того, мистер Фарадей, имеется ряд фактов, которые, по моему мнению, нам удобнее обсудить с глазу на глаз. Учтите, что обстоятельства, не связанные непосредственно с делом, по которому ведется следствие, не подлежат никакой огласке. Мы стараемся проявлять в этих случаях максимум такта, разумеется в рамках, допускаемых правосудием. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?
— Боюсь, что нет.
Инспектор Кемп вздохнул.
— Я имею в виду то, что вы находились в весьма близких отношениях с покойной миссис Розмэри Бартон.
Стивен прервал его:
— Что за нелепость!
Кемп вынул из ящика своего стола листок бумаги с напечатанным на машинке текстом.
— Могу показать вам копию письма, найденного среди личных вещей покойной миссис Бартон. К делу приобщен и оригинал письма — его передала нам мисс Айрис Марль, удостоверившая, что письмо написано рукой ее сестры.
Стивен начал читать: «Леопард, милый…»
К горлу подступила тошнота. Голос Розмэри — убеждающий, умоляющий… Господи, неужели прошлое всю жизнь будет преследовать его? Никогда не оставит в покое?
Овладев собой, он взглянул в лицо Кемпу:
— Возможно, вы правы и это письмо действительно написано рукой миссис Бартон, но из чего вы заключаете, что оно адресовано мне?
— Отрицаете ли вы тот факт, что вносили арендную плату за квартиру номер двадцать один, Мэлланд Мэншенэ, Эрлс-Корт?
Известно! И это известно! Давно ли? Может быть, с самого начала?
Он пожал плечами:
— Гм, вы, кажется, отлично информированы. Разрешите спросить, почему мои личные дела должны становиться всеобщим достоянием?
— Такая опасность вам не грозит, если только ваши личные дела не окажутся непосредственно связанными со смертью Джорджа Бартона.
— Понятно. Вы полагаете, что сначала я спал с его женой, а потом отравил его самого?
— Послушайте, мистер Фарадей, давайте поговорим откровенно. Вы состояли в связи с миссис Бартон, эта связь была прервана не по ее, а по вашей инициативе. Как явствует из ее письма, она не желала с этим примириться и собиралась предпринять какие-то решительные шаги. И вдруг — такое удачное стечение обстоятельств: миссис Бартон внезапно умирает.
— Вы же знаете, что она покончила с собой. Может быть, здесь была и моя вина. У меня могут быть счеты с собственной совестью, но при чем тут закон?
— Возможно, что в данном случае имело место самоубийство, но существует и другое мнение. Его придерживался мистер Бартон. Человек приходит к убеждению, что его жена погибла насильственной смертью, на свой страх и риск берется отыскать убийцу — и тоже умирает! Такая последовательность событий кое о чем говорит, не правда ли?
— Я все же не понимаю, почему вы… э-э-э… остановили свой выбор на мне.
— Согласитесь, что смерть миссис Бартон наступила, с вашей точки зрения, в самый удобный момент и избавила вас от многих осложнений. Публичный скандал погубил бы вашу карьеру.
— Скандала могло и не быть. Я сумел бы уговорить миссис Бартон одуматься.
— Сильно сомневаюсь. А ваша супруга знала об этой связи?
— Разумеется, нет.
— Вы в этом твердо убеждены?
— Конечно. Моя жена до сих пор уверена, что с миссис Бартон меня связывала только дружба. Надеюсь, что и в дальнейшем ничто не помешает ей пребывать в этой уверенности.
— Ваша жена ревнива, мистер Фарадей?
— Ничуть. По отношению ко мне она никогда не допускала ни малейшего проявления ревности. Для этого она слишком умна.
Инспектор оставил это замечание без ответа и задал следующий вопрос:
— Скажите, мистер Фарадей, за последний год вам ни разу не приходилось иметь дело с цианистым калием?
— Нет.
— Но в вашем загородном доме хранится запас этого яда?
— Может быть, садовник его и держит. Я, право, не в курсе.
— А сами вы ни разу не покупали его? Скажем, в аптеке или в магазине фотопринадлежностей?
— Фотографией я не занимаюсь. Повторяю: цианистого калия я нигде и никогда не покупал.
Кемп задал Стивену еще несколько вопросов и наконец отпустил его. Потом он обратился к полицейскому, который вел протокол:
— Заметили, как рьяно он кинулся доказывать, что его жена знать не знала и ведать не ведала о его связи с этой Бартоншей? К чему бы это?
— Наверно, боится, что если дойдет до жены, то его песенка спета. Я так думаю, сэр.
— Возможно, возможно. Но ведь он умный парень. Должен же он понимать, что если его жена и вправду ничего не знала, а он жил в постоянном страхе, как бы до нее не дошло и как бы она не вскинулась на дыбы, — то это значит, что у него существовал не один, а целых два мотива для того, чтобы избавиться от Розмэри Бартон. Если бы он стремился спасти свою шкуру, он должен был бы придерживаться совсем другой линии, например, намекнуть, что его жена догадывалась об этой связи, но смотрела на нее сквозь пальцы.
— Может, ему это просто в голову не пришло, сэр?
Кемп с сомнением покачал головой. Стивен Фарадей не дурак. У него острый и логический ум. И при этом он с таким жаром уверял его, Кемпа, что Сандра ничего не знала и не знает! Странно.
— Ну что ж, — сказал Кемп, — полковник Рейс считает, что он напал на верный след. Если он окажется прав, Фарадеи выходят из игры — и он и она. Лично я был бы только рад. Этот парень мне симпатичен. И на убийцу он не похож.
Приоткрыв дверь гостиной, Стивен окликнул Сандру.
Неслышными шагами она вышла из темноты, положила руки ему на плечи, судорожно прижалась к нему:
— Стивен!
— Отчего ты сидишь в темноте?
— Мне мешает свет. Ну, что там?
Он ответил:
— Они все знают.
— О тебе и Розмэри?
— Да.
— Ну и что? Что дальше?
— Они, конечно, считают, что у меня был веский мотив… Боже мой, родная, во что я тебя втянул?! Это все я, я один виноват. Я должен был уйти от тебя после смерти Розмэри, уехать на край света, дать тебе свободу, чтоб хоть, по крайней мере, ты была избавлена от этого ужаса.
— Нет, нет! Только не уходи от меня! Не оставляй меня никогда, слышишь?
Она прижималась к нему, по ее щекам текли слезы. Он чувствовал, как ее тело вздрагивает от рыданий.
— Стивен, ты для меня все, вся моя жизнь. Не оставляй меня никогда…
— Ты… ты так любишь меня, Сандра? Клянусь тебе, я не знал…
— Я и не хотела, чтобы ты знал, но теперь…
— Да, теперь. Теперь мы оба в этой клетке. И мы будем держаться друг друга. Что бы ни случилось, мы вместе.
Они стояли в темноте обнявшись, и постепенно к ним возвращались силы.
— Нет, — твердо сказала Сандра, — мы не позволим, чтобы из-за этого сломалась наша жизнь. Ни за что! Никогда!
Глава 10
Энтони Браун взглянул на карточку, которую протягивал ему мальчик-рассыльный, нахмурился и, пожав плечами, сказал:
— Ну хорошо, проводите его ко мне.
Когда полковник Рейс вошел, Энтони стоял спиной к окну, на фоне которого в косых солнечных лучах четко рисовался его силуэт.
Он увидел перед собой высокого, седого, по-военному подтянутого мужчину с бронзовым от загара лицом, изрезанным морщинами. Человека этого он знал, но уже много лет не видел, хотя деятельность его была хорошо известна Брауну.
Рейс увидел перед собой стройного, темноволосого молодого человека с красиво посаженной головой; мягкий, приятный голос произнес, чуть растягивая слова:
— Полковник Рейс? Если не ошибаюсь, друг покойного Джорджа Бартона? Он говорил о вас вчера вечером, незадолго до смерти. Разрешите предложить вам сигарету?
— Благодарю вас, с удовольствием.
Энтони поднес полковнику зажженную спичку и сказал:
— Вы, значит, и есть тот самый гость, которого Бартон ждал, и, как оказалось, напрасно. Хорошо, что вы тогда не пришли. Тяжелое зрелище.
— Я и не должен был прийти. Свободный стул предназначался не для меня.
Брови Энтони поползли вверх.
— В самом деле? Но ведь Бартон сказал…
Рейс прервал его:
— Бартон мог сказать что угодно, но у него были совершенно другие планы. Во время эстрадной программы этот стул должна была незаметно занять некая актриса по имени Хлоя Уэст.
Энтони с удивлением воззрился на своего собеседника:
— Хлоя Уэст? Это еще что за птица?
— Молодая малоизвестная актриса, которая привлекла внимание Джорджа Бартона определенным сходством с Розмэри Бартон.
Энтони присвистнул:
— Вот оно что!
— Да. Она получила от Бартона фотографию Розмэри, с тем чтобы сделать похожую прическу, и должна была надеть платье Розмэри — то самое, в котором она умерла.
— Так вот что задумал Джордж! Зажигается свет — и… о чудо! Гостей охватывает мистический ужас: Розмэри вернулась с того света! Виновное лицо издает вопль раскаяния: «Вяжите меня, я убил!» — Энтони вздохнул: — Не выдерживает никакой критики. Бедняга Джордж, конечно, умом не блистал, но уж такой наивности я не ожидал даже от него.
— Простите, я вас не совсем понимаю.
Энтони усмехнулся:
— Ну, слушайте, мы же не дети малые. Закоренелый преступник не станет вести себя как истеричная школьница. Человек, который глазом не моргнув отравил Розмэри Бартон и готовил очередную смертельную дозу того же яда для ее супруга, наверняка умеет держать себя в руках. Чтобы заставить его — или ее — расколоться, нужны методы посильнее, чем инсценировка с участием актрисы, наряженной в платье Розмэри.
— Вы забыли Макбета. Уж на что был закоренелый преступник, и тот не выдержал, когда на пиру ему явился призрак Банко[123].
— Да, — но ведь Макбет увидел настоящий призрак, а не третьеразрядного актеришку, напялившего на себя платье Банко. Вот если бы Джорджу удалось вызвать с того света подлинный призрак, так сказать, воссоздать атмосферу загробного мира, это существенно изменило бы ситуацию. Сам я, вынужден признаться, за последние полгода окончательно уверовал в привидения. Один призрак постоянно меня преследует.
— Серьезно? Чей же?
— Розмэри Бартон. Можете надо мной смеяться, однако это именно так. Видеть ее я не видел, но много раз ощущал присутствие. Душа бедняжки Розмэри никак не может обрести покой — не знаю почему.
— А я догадываюсь.
— Потому что ее убили?
— Или, если употребить более фамильярное выражение, прикончили. Что вы на это скажете, мастер Тони Морелли?
Наступило молчание. Энтони опустился в кресло, швырнул сигарету в камин и закурил новую.
Потом он спросил:
— Как вы докопались?
— Значит, вы признаете, что вы Тони Морелли?
— Чего ради я стал бы тратить время на отрицание очевидного? Вы, надо полагать, послали телеграфный запрос в Америку и получили полную информацию.
— Признаете ли вы также и тот факт, что угрожали смертью Розмэри Бартон, которая раскрыла ваше настоящее имя, и пообещали прикончить ее, если она не будет держать язык за зубами?
— Совершенно верно. Я сделал все, что мог, чтобы припугнуть ее и вынудить держать язык за зубами, — благодушно согласился Тони.
Полковника Рейса охватило беспокойство. Их разговор принимал какой-то странный оборот. Он еще раз смерил взглядом молодого человека, небрежно откинувшегося в кресле, и ему показалось, что он его где-то уже видел…
— Я могу перечислить все, что нам известно о вас, Морелли.
— Что же, это будет очень увлекательно.
— В Штатах вас судили за попытку организовать саботаж на заводах авиационной компании Эриксона, и вы получили срок. Отбыв наказание, вы вышли из тюрьмы, а потом власти потеряли ваш след. Затем вы объявились в Лондоне и остановились у Клариджа под именем Энтони Брауна. Здесь вы свели знакомство с лордом Дьюсбери и через него вошли в контакт с другими владельцами крупных оружейных заводов. Вы втерлись в доверие к лорду Дьюсбери, жили у него в доме и, воспользовавшись положением гостя, сумели увидеть много такого, чего бы вам видеть не следовало. Странное совпадение, Морелли, но на многих объектах государственной важности вскоре после того, как там побывали вы, произошли необъяснимые аварии, и только по счастью удалось предотвратить катастрофу.
— Совпадение — вещь поистине поразительная, — заметил Тони.
— Спустя какое-то время вы вторично появились в Лондоне и возобновили знакомство с Айрис Марль, однако под разными предлогами вы увиливали от посещения их дома и предпочитали оставаться в тени, чтобы ее родственники не заподозрили ваших истинных намерений. Наконец вы попытались склонить ее к тому, чтобы она вступила с вами в тайный брак.
— Потрясающе! — сказал Энтони. — И как вам только удалось добыть все эти сведения? Ну, оружейные заводы еще туда-сюда. Но откуда вы узнали, в каких выражениях я угрожал Розмэри? Или какую любовную чепуху я нашептывал Айрис? Не станете же вы меня уверять, что все это входит в компетенцию известной организации, ведающей делами государственной безопасности?
Рейс метнул на него быстрый взгляд:
— Вам придется многое объяснить нам, Морелли.
— Объяснить? С какой стати? Даже если все ваши факты верны, из этого ничего не следует. Свой срок я отбыл. Знакомства каждый выбирает по своему вкусу. И естественно, если я влюбился в очаровательную девушку, то мне не терпится жениться на ней.
— До того не терпится, что вы торопитесь тайно с ней обвенчаться, лишь бы ее родственники не успели навести справки о вашем прошлом. Ведь Айрис Марль богатая наследница.
Энтони благодушно кивнул:
— Знаю, знаю. Там, где замешаны деньги, родственнички в лепешку расшибутся, но разведают все досконально. Сама Айрис пока не посвящена в мое темное прошлое, и слава Богу.
— Боюсь, что ей недолго осталось пребывать в неведении.
— Очень жаль, — отозвался Энтони.
— Вы, кажется, не отдаете себе отчет…
Энтони со смехом прервал его:
— Разрешите докончить за вас вашу мысль? Розмэри Бартон раскрыла тайну моего преступного прошлого, и я с ней разделался. Джордж Бартон начал поглядывать на меня с подозрением — я избавился и от него. Теперь на повестке дня ограбление богатой наследницы. Очень милая, вполне законченная картина, но беда в том, что у вас нет никаких доказательств!
Рейс несколько минут пристально разглядывал его, потом поднялся с кресла.
— Все, что я вам сейчас говорил, — бесспорная истина, — произнес он. — И все это ни к черту не годится, главное мне не подходит.
— Что же именно? — Энтони не спускал с него глаз.
— Вы! Вы не подходите! — Рейс повернулся и зашагал по комнате. — Все отлично получалось, пока я не увидел вас. Но теперь я вас увидел — и все мое построение рухнуло. Вы не преступник. А если вы не преступник, значит, вы работаете на нас. Ну как? Я угадал?
Энтони молча смотрел на него, постепенно расплываясь в улыбке. Потом он промурлыкал себе под нос:
— «Но знатная леди и Джуди О'Трэди всегда и во всем равны…»[124] Да, полковник, рыбак рыбака видит издалека! Недаром я так опасался столкнуться с вами. Я предвидел, что вы догадаетесь, кто я. А мне необходимо было сохранять инкогнито — вплоть до вчерашнего дня. Слава Богу, теперь дело сделано: вчера я получил сведения, что шайка, организовывавшая диверсии на военных заводах Европы, наконец у нас в руках. Это плод трехлетней работы. Чтобы выполнить задание, я должен был завоевать доверие этой шайки — ходил на тайные собрания, подбивал рабочих на саботаж, словом, создавал себе репутацию. Потом решено было, что я должен своими руками устроить крупную диверсию и угодить за решетку. Тут уже никаких подделок быть не могло — отсидеть пришлось всерьез. Когда меня выпустили из тюрьмы, я почувствовал, что отношение ко мне переменилось. Руководство организации, имевшей, кстати, разветвленную сеть по всей Европе, очевидно, сочло, что я выдержал проверку, и направило меня в Лондон уже как своего агента. Я остановился у Клариджа и получил инструкцию сойтись поближе с лордом Дьюсбери, а для этого мне надо было втереться в лондонский высший свет. Я успешно разыгрывал роль светского бездельника и в этом качестве познакомился с Розмэри Бартон. В один прекрасный день я, к своему ужасу, обнаружил, что она откуда-то знает, что я сидел в тюрьме под именем Тони Морелли. Я испугался — испугался за нее. Доведись моим дорогим коллегам-саботажникам прослышать о том, что она в курсе дела, ее бы в два счета убрали. Поэтому я и старался как-то запугать ее, заставить держать язык за зубами. Однако положиться на Розмэри в этом смысле было бы рискованно, и я решил уйти, исчезнуть, прекратить с ней знакомство. Но тут я увидел Айрис — и поклялся, что когда-нибудь еще вернусь в этот дом. И женюсь на ней.
Когда основная часть задания была выполнена, я снова приехал в Лондон и встретился с Айрис. Правда, их дом я по-прежнему обходил стороной, поскольку знал, что ее домочадцы непременно начнут наводить обо мне справки, а мне еще некоторое время надо было оставаться в тени. Но за Айрис я очень тревожился. Вид у нее был совершенно больной и замороченный, а Джордж Бартон, судя по всему, вел себя необъяснимо странным образом. Я стал уговаривать ее обвенчаться со мной, не ставя никого в известность. Она отказалась — и, может быть, правильно сделала, а Джордж буквально силой затащил меня на свой вечер. Когда все рассаживались, он громогласно объявил, что ждет и вас. Тут на всякий случай я решил сказать, что повстречал старого знакомого и, может быть, буду вынужден уйти немного раньше. Между прочим, я действительно заметил в зале одного парня, которого знал в Америке, — некий Колмен, Мартышка Колмен, — он-то, по-моему, успел меня забыть. Уйти я хотел только для того, чтобы избежать встречи с вами. Я еще находился при исполнении служебных обязанностей. Все дальнейшее вы знаете. К смерти Джорджа, равно как и к смерти Розмэри, я не причастен. И я не знаю, кто их убил.
— А что вы предполагаете?
— Убийцей мог быть либо официант, либо один из пяти человек, сидевших за столом. Официант — маловероятно. Я исключаюсь, Айрис тоже. Остаются Сандра Фарадей и Стивен Фарадей — возможно, они действовали порознь, а возможно, и сообща. Но если хотите знать мое мнение, то наиболее подходящая кандидатура — Рут Лессинг.
— Ваше мнение на чем-нибудь основано?
— Ни на чем. Просто мне кажется, что она способна на убийство. Правда, не представляю себе, как она могла это осуществить практически. И в этот раз, и год назад она занимала за столом такое место, которое исключает возможность опустить яд в бокал намеченной жертвы. Вообще, чем больше я думаю о вчерашней истории, тем невероятнее мне кажется сам факт, что Джордж Бартон был отравлен. А между тем это так.
Помолчав, Энтони добавил:
— Меня смущает еще одна вещь. Удалось ли вам выяснить, кто отправил Джорджу анонимные письма, из-за которых заварилась вся эта каша?
— Нет, не удалось. Я уже решил было, что обнаружил автора, но мои подозрения не подтвердились.
— Видите, это все означает, что кто-то знает, что Розмэри Бартон была убита. И если мы не примем срочных мер, этот человек окажется следующей жертвой!
Глава 11
Из телефонного разговора Энтони Браун узнал, что Люсилла Дрейк собирается в пять часов пойти к своей старинной приятельнице на чашку чаю. Приняв в расчет непредвиденные случайности (возвращение за забытым кошельком или за зонтиком, который, пожалуй, все-таки лучше захватить — мало ли что), а также длительное стояние на пороге, когда отдаются последние распоряжения по хозяйству, Энтони решил, что явиться на Элвастон-сквер надлежит не раньше чем в двадцать пять минут шестого. Он хотел повидать Айрис, а не ее тетку. Если бы он нарвался на Люсиллу, то, судя по всему, ему вряд ли удалось бы спокойно поговорить со своей невестой с глазу на глаз.
Дверь открыла горничная (классом явно ниже, чем Бетти Арчдейл, и далеко не такая нахальная), которая сообщила, что мисс Айрис только что вернулась и находится в кабинете.
— Спасибо, не беспокойтесь. Я сам найду дорогу, — сказал он и, одарив горничную улыбкой, прошел мимо нее в кабинет.
Айрис резко обернулась на скрип двери:
— Ах, это ты?!
Он быстро подошел к ней:
— Что-нибудь случилось, дорогая?
— Нет, ничего. — Она запнулась, потом торопливо заговорила: — Ничего, ничего особенного. Просто меня сейчас чуть не сбила машина. Я, конечно, сама виновата. Я как-то задумалась и переходила дорогу не глядя по сторонам, а из-за угла на большой скорости вывернула машина…
Он взял ее за плечи и слегка встряхнул:
— Айрис, ну куда это годится? Как можно посреди мостовой ни с того ни с сего задумываться. В чем дело, родная? Что с тобой происходит?
Айрис подняла на него глаза — расширенные, потемневшие от страха. Он разгадал их выражение еще раньше, чем она произнесла тихо и торопливо:
— Я боюсь.
К Энтони вернулся его обычный чуть насмешливый тон. Он сел на диван и усадил Айрис рядом с собой.
— Давай-ка выкладывай все начистоту.
— Не знаю, право, должна ли я тебе говорить.
— Это еще что за новости? Ты, кажется, подражаешь героине третьеразрядного романа, которая в первой же главе заявляет, что не может открыть герою свою ужасную тайну, хотя причин для этого нет никаких, кроме желания автора чем-то занять героя и тем самым растянуть повествование еще на двести страниц.
На лице Айрис промелькнула едва заметная улыбка.
— Я бы тебе рассказала, Энтони, но я не знаю, что ты подумаешь. В это так трудно поверить…
Энтони начал загибать пальцы:
— Незаконнорожденный ребенок — раз, любовник-шантажист — два…
Айрис возмущенно прервала его:
— Ну что ты выдумываешь! Ничего похожего.
— Какое счастье! У меня просто гора с плеч свалилась, — сказал Энтони. — Ну, давай, глупышка, не тяни.
Лицо Айрис снова омрачилось.
— Ты все смеешься, а это совсем не смешно. Вчера вечером…
— Да? — Энтони насторожился.
— Ты ведь был сегодня на следствии, ты сам слышал… — Айрис умолкла.
— Что, собственно, я слышал? — спросил Энтони. — Слышал разные технические подробности о свойствах солей цианистой кислоты, в частности о цианистом калии и его действии. Слышал отчет полицейского инспектора — не Кемпа, а другого, с усиками, который первым прибыл в «Люксембург» и начал там распоряжаться. Слышал, как бухгалтер из конторы Джорджа Бартона по предложению официальных лиц опознал труп. Наконец, слышал оповещение о том, что следствие откладывается на неделю, поскольку судебному следователю больше сказать было нечего.
— А ты хорошо помнишь отчет инспектора? Помнишь, как он сказал, что под столом была найдена свернутая бумажка со следами цианистого калия?
— Как же, помню. Очевидно, тот, кто подсыпал яд в бокал Джорджа, незаметно бросил пустую бумажку под стол. Простейший способ: если будет обыск, никакой бумажки при нем — или при ней — не обнаружат.
К его изумлению, Айрис вдруг охватила дрожь.
— Нет, нет, Энтони! Все это было совсем не так!
— Что было не так? Что ты об этом знаешь?
— Бумажку бросила я, — сказала Айрис.
Он обратил к ней недоуменный взгляд.
— Слушай, сейчас я все тебе объясню. Помнишь, как Джордж выпил шампанское и как потом все это произошло?
Он кивнул.
— Кошмар… Как в страшном сне. И главное, как раз в тот момент, когда казалось, что все уже обошлось… Ты понимаешь?.. После концерта, когда зажегся свет, я вдруг почувствовала такое облегчение. Ты ведь помнишь, когда в прошлый раз зажегся свет, Розмэри была уже мертвая… и вчера меня все время мучил страх, что вот опять наступит этот момент и опять случится что-то ужасное… Мне чудилось, что Розмэри где-то здесь, за столом, рядом с нами… и мертвая…
— Айрис!
— Я понимаю, это все нервы… И когда зажегся свет и я увидела, что все сидят на своих местах как ни в чем не бывало и ничего не случилось, у меня сразу стало так легко на душе. Как будто все это кончилось навсегда, безвозвратно, как будто можно начать жизнь сначала. И мне сделалось так весело! Я пошла с Джорджем танцевать, потом мы вернулись к столу. Потом Джордж вдруг заговорил о Розмэри и предложил тост в память о ней, а потом он упал… и весь этот кошмар снова нахлынул на меня. Я совершенно оцепенела от ужаса. Стояла как вкопанная, а внутри меня всю трясло. Помню, как ты подошел, чтобы взглянуть на него поближе. Я отступила на шаг. Потом появились официанты, кто-то крикнул, что нужно послать за врачом. А я все стояла и стояла как изваяние. И вдруг словно какой-то ком подступил к горлу — и сразу полились слезы. Я раскрыла сумочку, чтобы достать платок, стала рыться в ней не глядя, нащупала платок — и почувствовала, что внутри что-то зашуршало. Сложенная плотная бумажка, как пустая обертка из-под порошка. Но как она туда попала? Ведь никаких порошков у меня в сумочке не было! Я отлично помню, как я собиралась на вечер и укладывала туда разные мелочи. Я ее перевернула, встряхнула, а потом положила пудреницу, губную помаду, носовой платок, гребешок в футлярчике, шиллинг и немного меди. Кто-то подложил мне этот пакетик — другого объяснения нет. Тут меня словно ударило: я вспомнила, что после смерти Розмэри у нее в сумочке нашли точно такой же пакетик и в нем были остатки яда. Мне сделалось страшно, так страшно! Пальцы разжались, и бумажка выскользнула из платка и упала под стол. Я не стала ее поднимать. И никому ничего не сказала. Ты только подумай, Энтони! Ведь это значит, что кто-то хотел изобразить все так, как будто Джорджа отравила я. Но это же неправда!
Энтони протяжно свистнул.
— Никто не видел, как ты выронила эту бумажку?
Айрис на мгновение задумалась.
— Трудно сказать… По-моему, Рут могла заметить. Но у нее в тот момент был какой-то странный вид — совершенно отсутствующий. Так что я не знаю — заметила она что-нибудь, или просто смотрела в мою сторону невидящим взглядом.
Энтони еще раз свистнул.
— Ничего не скажешь, веселенькая история!
— Я просто с ума схожу, — сказала Айрис. — Я все боюсь, что они узнают.
— Странно, что на обертке не нашли отпечатков твоих пальцев. Ведь полиция первым делом смотрит отпечатки.
— Там и не могло быть моих отпечатков. Я же к ней не прикасалась, я ее нащупала через платок.
Энтони кивнул:
— Считай, что тебе повезло.
— Но кто мог ее подложить? И когда? Сумочка весь вечер была при мне.
— Ну, возможность всегда найдется. Например, когда ты пошла танцевать после концерта, она оставалась на столе. Вот тебе первая возможность. А вторая — еще до начала вечера, в дамской комнате. Ты можешь рассказать, как дамы ведут себя, когда они остаются одни? Как ты понимаешь, эта сфера мне недоступна. Что вы делаете — сразу расходитесь к разным зеркалам?
Айрис задумалась.
— Мы все подошли к одному столу. Там такой длинный стол со стеклянной крышкой, а над ним, во всю ширину, зеркало. Свои сумочки мы положили на стол и стали приводить себя в порядок — представляешь?
— Не очень, но это не важно. Продолжай.
— Рут припудрилась, Сандра пригладила волосы и поправила шпильку, а я сняла меховую накидку и отдала ее гардеробщице. Потом вдруг заметила, что чем-то запачкала палец, и отошла к другой стенке вымыть руки.
— А сумочка осталась на столе под зеркалом?
— Да. Пока я мыла руки, Рут все еще стояла перед зеркалом, а Сандра, кажется, отошла отдать женщине свой палантин;[125] потом она вернулась к зеркалу, а Рут пошла мыть руки. Тут я сама еще раз подошла к зеркалу и стала поправлять волосы.
— Выходит, и та и другая могли незаметно раскрыть твою сумочку и что-то туда сунуть.
— Да, но ведь когда я обнаружила пакетик, яда в нем уже не было. Значит, яд сначала всыпали Джорджу в шампанское, а потом уже подложили мне пустую бумажку. И вообще, по-моему, ни Рут, ни Сандра на такое не способны.
— Ты слишком идеализируешь людей. Сандра — фанатичка; живи она в средние века, она бы собственноручно сжигала своих врагов на костре. Что касается Рут, то из нее, на мой взгляд, вышла бы первоклассная отравительница, которая умеет все предусмотреть заранее и не оставляет следов.
— Но если это Рут, то почему она никому не сказала, что видела, как я уронила бумажку?
— Тут я сдаюсь. Действительно, если Рут намеренно подсунула тебе обертку из-под цианистого калия, в ее интересах было проследить, чтобы эта бумажка оставалась при тебе. Да, похоже, что это все-таки не она… Остается официант — мы снова возвращаемся к официанту. У официанта больше всего возможностей. Ах проклятье! Будь это хотя бы какой-нибудь посторонний, временный официант, нанятый на один вечер… Так нет же!
Айрис вздохнула:
— Я рада, что рассказала тебе. Больше ведь никто не узнает? Мы с тобой — и все, правда?
Энтони посмотрел на нее в некотором замешательстве:
— Нет, Айрис, так не пойдет. Возьми себя в руки. Сейчас мы сядем в такси, и я отвезу тебя к старику Кемпу. Такое скрывать не полагается.
— Нет, нет, Энтони, я не поеду! Они решат, что я убила Джорджа.
— Безусловно решат, если потом выяснится, что ты столько времени просидела набрав в рот воды и ни словом не обмолвилась об этом эпизоде. Вот тогда твои объяснения прозвучат неубедительно. А если ты явишься к ним сейчас и добровольно обо всем расскажешь, тебе конечно же поверят.
— Энтони, я тебя прошу!
— Айрис, пойми, твое положение сейчас очень уязвимо. И помимо всего прочего, существует еще такое понятие, как истина. Ты печешься о собственном спокойствии и благополучии, в то время как надлежит вершить правосудие!
— Ну что ты, в самом деле, читаешь мне проповедь, будто в церкви?
— Молодец, — сказал Энтони, — ловко ты меня поддела! А теперь собирайся — мы едем к Кемпу! Немедленно!
Она неохотно вышла вслед за ним в холл. Он взял со стула пальто, которое она сбросила, вернувшись, и помог ей одеться.
В ее глазах он прочел молчаливый протест, смешанный со страхом, однако не проявил ни малейшего снисхождения, только сказал:
— Перейдем через площадь и там возьмем такси.
Они уже собрались выходить, когда услышали звонок, — от парадной двери он был проведен в нижний этаж, в помещение для прислуги.
— Господи, совсем вылетело из головы! — воскликнула Айрис. — Это Рут. Она сказала, что зайдет после работы и мы окончательно решим все про похороны. Они назначены на послезавтра. Я согласилась, что лучше все обсудить, пока тети Люсиллы нет дома. Она вносит одну только путаницу.
Энтони прошел вперед и открыл дверь, опередив горничную, со всех ног бежавшую снизу.
— Не беспокойтесь, уже открыли, — сказала Айрис, и горничная повернула обратно.
У Рут был утомленный и даже какой-то растрепанный вид. В руке она держала портфель довольно внушительных размеров.
— Простите, я опоздала, но в метро сегодня страшная давка, а потом мне пришлось пропустить целых три автобуса — невозможно было сесть. И, как назло, ни одного такси.
«Извиняться, оправдываться — все это как-то не в ее стиле, — подумал Энтони. — Где ее обычная четкость, где ее почти нечеловеческая выдержка? Да, очевидно, смерть Джорджа и здесь не прошла без последствий».
— Я не могу сейчас поехать, Энтони, — сказала Айрис. — Я обещала Рут, что мы с ней все обсудим.
— Боюсь, что наше дело важнее, — ответил Энтони тоном, не допускающим возражений. — Извините, мисс Лессинг, что я нарушаю ваши планы, но Айрис придется поехать со мной, — у нас неотложное дело.
— Что вы, что вы, мистер Браун, — поспешно сказала Рут, — ничего страшного. Я дождусь миссис Дрейк и все с ней улажу. — Она улыбнулась краешком губ. — Не беспокойтесь, я с ней отлично справлюсь.
— Не сомневаюсь, мисс Лессинг, что вы можете справиться с кем угодно, — галантно заметил Энтони.
— Может быть, Айрис, у вас есть какие-нибудь свои соображения и пожелания?
— Право, никаких. Я просто решила, что мы вдвоем обсудим все быстрее, потому что у тети Люсиллы семь пятниц на неделе и с ней трудно договориться. Мне вас жалко — вам и так столько приходится делать. Что касается самих похорон, то мне вся эта процедура безразлична. Это тетя Люсилла обожает похороны, а я их ненавижу. Я понимаю, что без похорон не обойдешься, но зачем устраивать вокруг этого столько шума? Ведь тому, кто умер, уже все равно. Он уже далеко, вся эта суета ему не нужна. Мертвые не возвращаются.
Рут ничего не ответила, и Айрис с каким-то странным упорством и вызовом повторила:
— Мертвые не возвращаются.
— Пошли, пошли, — сказал Энтони и потянул ее через порог.
Площадь как раз медленно огибало свободное такси. Энтони остановил его и помог Айрис сесть. Он велел шоферу ехать к Скотленд-Ярду и повернулся к Айрис:
— Скажи-ка мне, красавица, чей дух тебе явился сейчас в холле? Почему ты столь настойчиво твердила, что мертвые не возвращаются? Кто тебе привиделся — Джордж или Розмэри?
— Никто! Никто мне не привиделся! Просто я ненавижу похороны. Ты мне веришь?
Энтони вздохнул.
— Да, — сказал он, — дело плохо. Пора идти к психиатру.
Глава 12
В небольшом кафе за круглым мраморным столиком, накрытым на три персоны, сидела мужская компания.
Полковник Рейс и инспектор Кемп пили крепчайший чай, а перед Энтони стояла чашка какой-то бурды, которую в Англии принято выдавать за кофе. Раз уж это пойло было заказано, приходилось его пить — Энтони готов был принести и не такие жертвы ради того, чтобы быть допущенным с правом голоса на это совещание в верхах.
Инспектор Кемп, после того как Энтони вручил ему свои верительные грамоты, скрепя сердце согласился признать в нем коллегу.
— Если хотите знать мое мнение, — начал инспектор, бросая сахар в свой почти черный чай и тщательно размешивая его ложечкой, — судебное дело нам возбудить не удастся. Мы никогда не соберем необходимое количество улик.
— Вы так думаете? — спросил Рейс.
Кемп утвердительно кивнул и с блаженным видом отхлебнул глоток чая.
— Я все надеялся получить какие-либо свидетельства о том, что один из пяти подозреваемых покупал или где-то доставал цианистый калий. Но узнать ничего не удалось. Это дело из категории тех, где ты знаешь, кто убийца, но доказать ничего не можешь.
— И что же, вы знаете, кто убийца? — Энтони взглянул на него с любопытством.
— Думаю, что да. Леди Александра Фарадей.
— Вот кто, по-вашему! — сказал Рейс. — А основания?
— Основания? Пожалуйста. Прежде всего, она относится к тому типу женщин, которых ревность доводит до безумия. Кроме того, она властная и деспотичная. Помните, была такая королева… Элеонора[126], кажется… Та самая, которая выследила Прекрасную Розамунду, явилась к ней и предложила на выбор кинжал или чашу с ядом.
— Вся разница в том, что у Прекрасной Розмэри выбора не было, — заметил Энтони.
Инспектор Кемп продолжал:
— Дальше события развиваются так. Кто-то посылает Джорджу анонимные письма. У него возникают подозрения — я бы сказал, весьма определенного свойства. Чего ради он стал бы бросаться деньгами и покупать загородный дом, если бы не имел тайной цели — поближе присмотреться к Фарадеям? Очевидно, леди Александру насторожила его назойливость, в особенности эти подчеркнутые приготовления к вечеру, то, как он буквально вынудил их принять приглашение. Ждать сложа руки не в ее правилах. Она привыкла быть хозяйкой положения. Она идет на этот вечер — и Бартон погибает. Вы, конечно, скажете, что все это домыслы, что я исхожу только из особенностей характера подозреваемой. Но не забывайте, что если у кого-то за столом и был реальный шанс подсыпать яд в бокал Бартона, так только у его соседки справа — у той же леди Александры.
— И никто не заметил, как она это сделала? — спросил Энтони.
— Совершенно верно. Могли заметить, но вот поди ж ты — не заметили. Будем считать, что она проделала это чрезвычайно ловко.
— С ловкостью профессионального фокусника?
Рейс кашлянул, достал трубку и принялся ее набивать.
— Маленькое возражение, инспектор. Допустим, что леди Александра женщина властная, ревнивая и фанатически преданная своему мужу. Допустим, что она не остановится даже перед убийством. Но можете ли вы допустить, что при этом она станет подсовывать компрометирующие улики в чужую сумочку? В сумочку ни в чем не повинной девушки, не причинившей ей никакого зла? Или вы полагаете, что это в традициях Киддерминстеров?
Инспектор Кемп заерзал на стуле и для чего-то заглянул в свою чашку.
— Если вы имеете в виду спортивную этику, — сказал он, — так у женщин ее нет. В крикет[127] они не играют.
— Вы ошибаетесь. Многие женщины как раз играют в крикет, — возразил Рейс с улыбкой. — Но я очень рад был уловить на вашем лице смущение.
Кемп вышел из затруднения, напустив на себя милостиво-покровительственный вид и обратившись к Энтони:
— Кстати, мистер Браун, — я по-прежнему буду вас так называть, если вы ничего не имеете против, — я хочу поблагодарить вас за то, что вы проявили оперативность и сегодня же доставили мисс Марль. Ее показания чрезвычайно важны.
— Пришлось проявить оперативность, — отозвался Энтони, — иначе мне бы вообще не удалось ее доставить.
— А что, не хотела ехать? — спросил полковник Рейс.
— Бедная девочка насмерть перепугана, — сказал Энтони. — По-моему, вполне естественно.
— Да-да, вполне, — согласился инспектор Кемп и налил себе еще чашку чаю. Энтони тоже отпил глоток сладковатой жижи. — Ну что ж, — продолжал Кемп, — я думаю, что ей стало легче после того, как она все рассказала. Она отправилась домой успокоенная.
— Надеюсь, после похорон она хоть ненадолго уедет в Литл-Прайерс, — сказал Энтони. — Круглосуточная тишина и покой вместо безостановочной болтовни тетушки Люсиллы — что может быть лучше!
— Болтовня тетушки Люсиллы имеет свои положительные стороны, — заметил полковник Рейс.
— Нет уж, меня увольте, — сказал Кемп. — Хорошо еще, что я не велел стенографировать ее показания, а то бедняга стенографист угодил бы в больницу: ему бы свело от писанины пальцы.
— М-да, — произнес Энтони, — кажется, вы правы, инспектор, — судебное дело нам возбудить не удастся. Весьма неутешительный итог. При этом мы до сих пор не знаем, кто автор знаменитых анонимок. Мало сказать — не знаем, мы даже отдаленно не представляем, кто бы это мог быть.
Рейс спросил:
— Вы еще не отказываетесь от своей версии, Браун?
— От Рут Лессинг? Нет, я по-прежнему поддерживаю ее кандидатуру. Вы говорили с ее собственных слов, что она была влюблена в Джорджа Бартона. Розмэри, судя по всему, она терпеть не могла. Предположим, что ей неожиданно подвернулся случай без особого риска избавиться от Розмэри. И, поскольку она была уверена в том, что Джордж, овдовев, не замедлит предложить ей руку и сердце, она этим случаем воспользовалась.
— Все это действительно могло иметь место, — согласился полковник Рейс. — И я признаю, что Рут Лессинг, с ее трезвой расчетливостью и практичностью, способна замыслить и осуществить убийство. Допускаю также, что ее натуре чужда жалость — чувство, свойственное, как правило, людям с воображением. Так и быть, отдаю вам на откуп первое убийство. Что же касается второго, то здесь ваши доводы уже теряют силу. Неужели Рут Лессинг могла впасть в панику и отравить того самого человека, которого она любила и за которого мечтала выйти замуж? Нет, это в голове не укладывается. И есть еще одно обстоятельство, по-моему, несовместимое с ее причастностью к убийству: если она видела, как Айрис Марль выбросила обертку из-под яда, почему она об этом умолчала?
— Может быть, на самом деле она не видела? — неуверенно предположил Энтони.
— Видела, видела, — сказал Рейс. — Когда я задавал вопросы, у меня сложилось впечатление, что она чего-то не договаривает. Да Айрис и сама считает, что Рут Лессинг все видела.
— Ну-с, полковник, теперь ваша очередь, — объявил Кемп. — Выкладывайте, кто там у нас на примете. Кто-нибудь ведь есть?
Рейс кивнул.
— Давайте-давайте. Игра должна быть честной. Наши версии вы выслушали и отвергли, мы хотим послушать вашу.
Рейс задумчиво перевел взгляд с Кемпа на Энтони. Тот удивленно поднял брови:
— Не хотите же вы сказать, что до сих пор считаете главным злодеем меня?!
Рейс так же задумчиво покачал головой:
— Причин для убийства Джорджа Бартона у вас не было. Мне кажется, я знаю, кто его убил — и его, и Розмэри Бартон.
— Кто же?
Рейс произнес с расстановкой:
— Любопытно, что наибольшее подозрение у нас вызывают женщины. Я тоже, как и вы, подозреваю женщину. — Он сделал паузу и спокойно закончил: — Я думаю, что убийца — Айрис Марль.
Энтони с грохотом отодвинул стул. Лицо его побагровело. Однако усилием воли он овладел собой; когда он заговорил, голос его слегка дрожал, но в нем слышалась привычная — на этот раз даже подчеркнутая — легкомысленно-насмешливая интонация.
— Мы жаждем обсудить вашу версию, — сказал он. — Почему ваш выбор пал на Айрис Марль? И если это она, то для чего ей понадобилось без всякого принуждения с моей стороны рассказать мне о том, что она выбросила обертку из-под яда?
— Очень просто, — отвечал Рейс. — Она поняла, что это заметила Рут Лессинг.
Энтони наклонил голову набок и задумался. Наконец он кивнул:
— Очко в вашу пользу. Поехали дальше. Отправной пункт вашей версии?
— Мотив, — ответил Рейс. — Ее сестре Розмэри было завещано огромное состояние — состояние, в котором не было доли Айрис. Откуда мы знаем — может быть, она много лет жила с ощущением, что с ней поступили несправедливо, что ее обделили. При этом она знала, что, если Розмэри умрет бездетной, все деньги достанутся ей, Айрис. И она видела, что Розмэри подавлена, несчастна, измотана гриппом, то есть находится как раз в том состоянии, когда версия о самоубийстве будет выглядеть наиболее правдоподобно.
— Валяйте-валяйте, делайте из девушки какого-то монстра! — сказал Энтони.
— Монстра? Лично я не считаю, что ее поступок должен рассматриваться как чудовищный или аморальный. И знаете почему? У Айрис Марль есть один родственник, который, как ни странно это прозвучит, укрепил меня в моих подозрениях. Это Виктор Дрейк.
— Виктор Дрейк? — спросил Энтони с изумлением.
— Вот именно. Видите ли, я не зря сидел и слушал болтовню Люсиллы Дрейк. Я теперь все знаю про семейство Марль и про порочные наклонности, которые у них в крови. Самый яркий пример — Виктор Дрейк, мерзейший и опаснейший тип. Его мамаша — особа с низким умственным развитием, с характерной неспособностью к концентрации внимания. Гектор Марль — слабохарактерный человек, предававшийся многим порокам, в том числе пьянству. Наконец, Розмэри с ее эмоциональной неустойчивостью. Довольно четкая картина, свидетельствующая о семейной предрасположенности к слабости, порокам, неуравновешенности. Отсюда все последствия.
Энтони зажег сигарету. Руки его дрожали.
— Вы не допускаете, что гнилое дерево может дать здоровый росток?
— Может, конечно. Но я не уверен, что Айрис Марль и есть этот здоровый росток.
— Ну да, — сказал Энтони с расстановкой, — а мои слова не должны приниматься во внимание, поскольку известно, что я в нее влюблен… Все правильно. Джордж показал ей письма, а она перепугалась и отравила его. Так?
— Думаю, что так. В ее случае паника как раз возможна.
— А каким образом ей удалось подсыпать яд в бокал Джорджа?
— Вот этого, признаюсь, я не знаю.
— Слава Богу, что вы хоть чего-то не знаете. — Энтони качнулся на стуле. Его глаза блестели недобрым огнем. — Удивляюсь, как у вас хватает духу говорить такие вещи мне.
Рейс ответил ровным голосом:
— Я все понимаю. Но я решил, что сказать необходимо.
Кемп молча, но с интересом наблюдал за ними, рассеянно помешивая ложечкой чай.
— Ну хорошо. — Энтони выпрямился. — Хватит пустых разговоров. Хватит прохлаждаться за столом, пить гнусное пойло и предаваться умозрительным разглагольствованиям. Нужно действовать. Пора разрешить все загадки и добраться до истины. Я беру это на себя и обязуюсь довести дело до конца. Главное сейчас — разузнать то, чего мы еще не знаем. Если устранить все темные моменты, общая картина прояснится сама собой. Попробую сформулировать проблему заново. Кто мог знать о том, что Розмэри была убита? Кто сообщил об этом Джорджу? С какой целью? Далее: первое и второе убийство. Первое пока оставим. Прошло уже много времени, и что там фактически случилось, мы не знаем. Но второе убийство произошло на моих глазах. Я был его очевидцем! Стало быть, я должен знать, как оно произошло. Идеальная возможность подсыпать яд в бокал Джорджа имелась во время концерта, но использована она не была, поскольку, как только зажегся свет, он отпил из своего бокала — отпил опять-таки на моих глазах, — и ничего не случилось. После этого к его бокалу никто не прикасался. И несмотря на это, когда он поднял свой бокал в следующий раз, в нем уже был яд. Никто не мог отравить Джорджа Бартона — тем не менее он умирает, отравленный цианистым калием. В его бокале обнаруживают яд — хотя попасть туда он никоим образом не мог! Ну как, по-вашему, мы продвигаемся вперед?
— Нет, — сказал инспектор Кемп.
— А по-моему — да, — возразил Энтони. — Из области реальных явлений мы переходим в царство черной магии[128]. Или, если хотите, в потустороннюю сферу. Предлагаю вам свою спиритическую гипотезу[129]. Пока гости танцуют, дух Розмэри слетает к столу и опускает в бокал Джорджа хитроумно материализованный цианистый калий. Духам ничего не стоит синтезировать цианистый калий из эктоплазмы[130]. Джордж возвращается, пьет за ее здоровье, и… о Боже!
Оба собеседника Энтони воззрились на него в изумлении: он вдруг обхватил голову руками, вся его поза и выражение лица выдавали мучительную работу мысли. Продолжая раскачиваться на стуле, он произнес:
— Ну конечно… Конечно… сумочка… официант…
— Официант? — Кемп насторожился.
Энтони покачал головой:
— Нет-нет. Я сейчас о другом. Я действительно сначала считал, что в этом деле не хватает официанта, который был бы нанят на один вечер — нанят с определенной целью. Но такого официанта не оказалось; нам предложили на выбор официанта-профессионала с солидным стажем и юного официанта, наследника царской династии, официанта-херувимчика, официанта вне подозрений. Он и сейчас вне подозрений, но тем не менее он сыграл свою роль! Ведущую роль! О Боже милостивый!
Он обратил к ним лихорадочный взгляд:
— Неужели вы не понимаете? В принципе официант, официант вообще, мог отравить шампанское, но наш официант этого не сделал. К бокалу Джорджа никто не прикасался, и все же Джордж умер от яда. Официант вообще — и наш официант! Бокал Джорджа — и сам Джордж! Замечаете разницу? И деньги! Куча денег! А может быть, и любовь! Не смотрите на меня так, словно я сошел с ума. Пойдемте, я вам покажу.
Он рывком поднялся и потянул Кемпа за рукав:
— Пойдемте-пойдемте!
Кемп бросил тоскливый взгляд на свой недопитый чай.
— Нужно ведь расплатиться, — пробурчал он.
— Бросьте, мы сейчас вернемся! Ну, скорее, выйдем на минутку. Пойдемте, Рейс.
Энтони отодвинул столик и потащил своих собеседников в вестибюль.
— Видите, вон там телефонная будка?
— Да, а в чем дело?
Энтони порылся в кармане.
— Ах черт! Как назло, ни одной двухпенсовой монеты. Впрочем, не важно. Я передумал. Да, пожалуй, не стоит. Пошли обратно.
Они вернулись в зал: впереди Кемп, за ним Рейс и Энтони.
Кемп с мрачным видом уселся и взял со стола свою трубку. Он тщательно продул ее и принялся чистить шпилькой, которую вынул из жилетного кармана.
Рейс озадаченно смотрел на Энтони. Потом прислонился к спинке стула, взял стоявшую перед ним чашку и допил то, что оставалось на дне.
— Проклятье! — тут же вырвалось у него. — Откуда здесь сахар?
Он перевел взгляд на сидящего напротив Энтони, лицо которого медленно расплывалось в улыбке.
— Привет! — сказал Кемп, который тоже успел отхлебнуть из своей чашки. — Что это еще за чертовщина?
— Это кофе, — ответил Энтони. — Вам не по вкусу? Мне тоже!
Глава 13
Энтони с удовлетворением увидел в глазах своих собеседников вспышку мгновенного понимания.
Но радость его была недолгой, потому что тут же явилась другая мысль, поразившая его как удар.
— Господи! — воскликнул он. — Машина!
Он вскочил.
— Ах я дурак! Идиот! Она ведь сказала, что ее чуть не сбила машина, а я не обратил внимания. Бежим, скорее!
— Она собиралась поехать из Скотленд-Ярда прямо домой, — сказал Кемп.
— Ну да. Как я мог отпустить ее одну?!
— А кто сейчас в доме? — спросил полковник Рейс.
— Рут Лессинг оставалась ждать миссис Дрейк. Может быть, они там до сих пор обсуждают похороны.
— И попутно многое другое, если инициативу разговора захватила миссис Дрейк, — заметил полковник Рейс и без видимой связи с предыдущим спросил: — У Айрис Марль есть еще родственники?
— Насколько я знаю, нет.
— Мне кажется, я уловил направление вашей мысли. И вы считаете, что это осуществимо практически?
— По-моему, да. Подумайте сами: сколько фактов мы приняли на веру, полагаясь на слова только одного человека!
Кемп расплатился, и все трое торопливо покинули кафе.
— Вы думаете, что мисс Марль грозит опасность? — спросил Кемп.
Энтони вполголоса выругался и бросился через дорогу к такси. Все трое сели в машину и велели шоферу изо всех сил гнать на Элвастон-сквер.
— Я пока только в общих чертах догадываюсь, куда вы клоните, — заговорил Кемп. — Но тогда получается, что Фарадеи выходят из игры?
— Да.
— Слава Богу! И вы опасаетесь очередного покушения на убийство? Так скоро?
— Чем скорее, тем лучше, — отозвался Рейс. — Убийца должен спешить, пока мы не напали на верный след. Где два убийства, там и третье. Бог троицу любит. Кстати, — добавил он, — Айрис Марль в присутствии миссис Дрейк сообщила мне, что готова выйти за вас, как только вы пожелаете.
Пока они обменивались этими отрывистыми репликами, их немилосердно трясло и подкидывало, потому что шофер воспринял приказание своих пассажиров буквально и действительно гнал изо всех сил, с энтузиазмом обходя попутные машины и врезаясь в самую гущу транспорта на перекрестках.
Сделав последний отчаянный бросок, он свернул на Элвастон-сквер и резко затормозил у самого дома, имевшего невозмутимо мирный вид.
— Совсем как в кино. Чувствуешь себя полнейшим дураком, — пробормотал Энтони, с трудом возвращаясь к своей привычной насмешливой манере.
В одно мгновение он очутился на верхней ступеньке и нажал звонок; Кемп стал подниматься вслед за ним, пока полковник Рейс расплачивался с шофером.
Дверь открыла горничная. Энтони резко спросил:
— Что, мисс Айрис вернулась?
Девушка взглянула на него с удивлением:
— Да, сэр. Уже с полчаса как вернулась.
Энтони облегченно вздохнул. В доме царил такой безмятежный покой, что он устыдился своей мелодраматической вспышки.
— Где она?
— Наверное, в гостиной, с миссис Дрейк.
Энтони кивнул и взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки; Рейс и Кемп поспевали за ним как могли.
В гостиной, казавшейся особенно уютной при свете ламп под абажурами, Люсилла Дрейк рылась в ящиках письменного стола с оптимистическим упорством фокстерьера, разрывающего лисью нору, и причитала:
— Ах, Боже мой, куда же я дела письмо миссис Мэршем? И куда только оно запропастилось?
— Где Айрис? — резко спросил он.
Люсилла обернулась и широко раскрыла глаза:
— Айрис? Она… Простите! — Люсилла с достоинством выпрямилась. — Разрешите прежде узнать, молодой человек, кто вы такой?
Тут из-за спины Энтони показался полковник Рейс, и Люсилла просияла. Она еще не успела разглядеть инспектора Кемпа, вошедшего последним.
— Ах, Боже мой, полковник Рейс! Как я рада, что вы пришли! Жаль, что вы не пришли чуточку раньше: мне так хотелось бы обсудить с вами некоторые детали, касающиеся похорон. Мужской совет так необходим, тем более что я была безумно расстроена и даже сказала мисс Лессинг, что у меня нет сил думать. Должна признать, что на этот раз мисс Лессинг проявила полное понимание и предложила взять на себя все хлопоты, чтобы немного меня разгрузить. Она, правда, совершенно справедливо заметила, что вряд ли кто-нибудь, кроме меня, может знать, какие псалмы Джордж больше всего любил, — я, конечно, не могу перечислить его любимые псалмы, потому что Джордж, к сожалению, нечасто ходил в церковь, но, естественно, будучи женой священника, я хочу сказать — вдовой священника, я лучше разбираюсь в том, что подобает в таких случаях…
Воспользовавшись секундной паузой, Рейс спросил:
— А где мисс Марль?
— Айрис? Она только недавно вернулась. Сказала, что у нее болит голова, и сразу поднялась к себе наверх. У нынешних молодых девушек нет никакого запаса жизненных сил, и все потому, что они едят слишком мало шпината. К тому же Айрис не переносит разговоров о похоронах, но, в конце концов, кто-то ведь должен этим заниматься, и на душе спокойнее, когда знаешь, что сделано все необходимое и покойному оказан должный почет, правда, теперешние моторизованные катафалки совершенно не создают подобающей атмосферы и, конечно, ни в какое сравнение не идут с лошадьми — вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, лошади такая прелесть, но я спорить не могу и безропотно на все соглашаюсь, и я сказала Айрис, что я и Рут — я так и сказала: не мисс Лессинг, а Рут, — что мы отлично справимся и без нее и что мы ее освобождаем.
Кемп спросил:
— Мисс Лессинг ушла?
— Да, мы обо всем договорились, и она ушла минут десять назад. Мы составили текст траурного объявления в газеты: «Учитывая обстоятельства, просьба цветов не возлагать, панихиду будет служить каноник[131] Уэстбери…»
Так как поток был нескончаем, Энтони потихоньку начал продвигаться к выходу. Не успел он выскользнуть за дверь, как Люсилла, неожиданно прервав свои излияния, спросила:
— А кто был этот молодой человек, который с вами приходил? Я вначале не поняла, что это вы его привели. Я приняла его за одного из этих ужасных репортеров, которые постоянно нам докучают. От них так трудно отделаться.
Взбегая по лестнице, Энтони услышал за собой шаги, он обернулся и увидел, что следом поднимается инспектор Кемп.
— Тоже сбежали? — спросил Энтони, усмехнувшись. — Бросили беднягу Рейса?
Кемп проворчал:
— Пусть уж сам с ней разбирается, у него это ловко выходит. Я у таких дам успеха не имею.
Они добрались до второго этажа, когда Энтони услыхал легкие шаги: сверху кто-то спускался. Он мгновенно свернул в коридор и втолкнул Кемпа в приоткрытую дверь ванной.
Звук шагов послышался совсем рядом и стал удаляться.
Энтони выбежал на площадку и стремглав бросился наверх. Он знал, что спальня Айрис в конце коридора, и сразу постучал к ней в дверь:
— Айрис! Ты здесь?
Ответа не было. Он окликнул ее еще раз, снова постучал, потом подергал ручку — дверь была заперта на ключ.
Встревоженный, он начал колотить в дверь:
— Айрис, открой! Айрис!
Через несколько секунд он прекратил стучать и посмотрел вниз. Под ногами у него лежал старомодный шерстяной коврик, из тех, что специально кладутся под дверь и предохраняют от сквозняков. Коврик был плотно прижат к порогу. Энтони отшвырнул его в сторону. Под ним обнаружилась довольно широкая щель, сделанная, как он предположил, для того, чтобы дверь свободно открывалась и не задевала толстый ковер, в свое время устилавший пол.
Он наклонился и заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел. Неожиданно он поднял голову и потянул носом воздух, потом лег на пол и приник лицом к щели под дверью.
Тут же он вскочил на ноги и закричал:
— Кемп!
Но инспектора как ветром сдуло. Энтони снова позвал его, и на этот раз отозвался полковник Рейс — он бегом поднимался по лестнице. Энтони не дал ему вымолвить ни слова.
— Там открыт газ! — крикнул он. — Нужно выломать дверь!
Полковник Рейс был человеком недюжинной физической силы. Вдвоем они трудились недолго — дверь с оглушительным треском подалась. На секунду у них перехватило дыхание: комната была полна газа.
— Она там, у камина, — сказал Рейс, вглядевшись в темноту. — Я сейчас брошусь вперед и разобью окно, а вы хватайте ее на руки и выносите.
Айрис Марль ничком лежала у камина, лицо ее было прижато к газовой горелке, вывернутой на полную мощность.
Через одну-две минуты, задыхаясь и судорожно сглатывая слюну, Энтони и Рейс положили бесчувственную девушку на лестничную площадку и открыли окно в коридоре, чтобы устроить сквозняк.
— Я сейчас ею займусь, — сказал Рейс, — а вы вызовите врача, да поживей.
Энтони сломя голову бросился вниз по лестнице. Рейс крикнул ему вдогонку.
— Не волнуйтесь, все обойдется! Мы подоспели вовремя.
Пока в холле Энтони набирал номер и говорил по телефону, за его спиной суетилась, всплескивала руками, ахала и охала Люсилла Дрейк.
Повесив трубку, он облегченно вздохнул:
— Слава Богу, доктор оказался дома. Он живет рядом, только перейти площадь. Через пять минут будет здесь.
— Но скажите же мне наконец, что случилось! Айрис плохо? — в отчаянии простонала Люсилла.
— Айрис была у себя в комнате. За запертой дверью. Лежала уткнувшись лицом в камин. Газ был открыт.
— Айрис? — Миссис Дрейк испустила истошный вопль. — Айрис решила покончить с собой?! Не могу поверить! Не верю!
По лицу Энтони промелькнула бледная тень его привычной иронической усмешки.
— И не верьте, — сказал он, — это неправда.
Глава 14
— А теперь, Энтони, — сказала Айрис, — пожалуйста, расскажи мне все по порядку.
Айрис лежала на диване; сквозь широкие окна Литл-Прайерс было видно, как отважное ноябрьское солнце изо всех сил старается доказать, что зима еще далеко.
Энтони поглядел на сидевшего на подоконнике полковника Рейса и ослепительно улыбнулся.
— Не стану скрывать, Айрис, я давно ждал этой минуты. Я просто лопну, если не расскажу кому-нибудь без промедления, какие чудеса проницательности я продемонстрировал и до каких высот логики поднялся. Мое повествование будет избавлено от ложной скромности. Это будет наглый, хвастливый монолог, лишь изредка прерываемый паузами для того, чтобы восхищенные слушатели могли воскликнуть: «Ах, Энтони, какой ты умный!», или «Тони, это просто потрясающе!», или еще что-нибудь в том же духе. Итак, внимание! Представление начинается.
В целом все выглядело достаточно просто. Классический пример причины и следствия. Смерть Розмэри, в свое время истолкованная как самоубийство, на самом деле самоубийством не была. У Джорджа возникли подозрения, он взялся самолично расследовать это дело, напал как будто на верный путь, но, прежде чем успел разоблачить убийцу, в свою очередь был убит. Логическая связь, если можно так выразиться, соблюдена безукоризненно.
Но тут мы сразу же сталкиваемся с некоторыми вопиющими противоречиями, а именно: (А) Джордж не мог быть отравлен; (Б) Джордж был отравлен. И далее: (А) к бокалу Джорджа никто не прикасался; (Б) в бокале Джорджа был обнаружен яд.
Сопоставляя эти формулировки, я вначале упустил из виду одно важное обстоятельство — многозначное употребление родительного падежа. Скажем, «ухо Джорджа» однозначно обозначает неотъемлемую часть его организма, которая может быть отчуждена только с помощью хирургического вмешательства. Но когда мы говорим «часы Джорджа», мы подразумеваем часы, которые все время носит Джордж. Здесь, правда, может возникнуть еще один второстепенный вопрос: являются ли эти часы фактической собственностью Джорджа или кто-то дал их ему поносить. Когда же речь заходит о «бокале Джорджа» или о «чашке Джорджа», то здесь, если вдуматься, мы имеем в виду нечто неопределенное. Все содержание, которое я вкладываю в это понятие, сводится к следующему: это тот бокал или та чашка, из которого или из которой пил Джордж, и если на столе стоит несколько таких же бокалов или чашек, то бокал или чашка Джорджа никакими особыми признаками не отличаются от остальных.
Чтобы показать это наглядно, я провел небольшой эксперимент в кафе. Рейс пил чай без сахара, Кемп — с сахаром, а я пил кофе. По цвету содержимое всех трех чашек было примерно одинаковым. Мы сидели за круглым мраморным столиком в зале, где стояло еще несколько таких же круглых мраморных столиков. Сделав вид, что меня вдруг осенила какая-то догадка, я заставил своих собеседников встать и выйти со мной в вестибюль. Пока все поднимались и отодвигали стулья, я, улучив момент, незаметно передвинул трубку Кемпа, лежавшую у его прибора, к своему прибору. Мы вышли в вестибюль, тут я выдумал какую-то отговорку и предложил вернуться в зал. Кемп подошел к столику первым. Он придвинул стул поближе и сел на то место, где лежала его трубка. Рейс сел справа от него, как он и сидел, а я слева. Но заметь, что при этой ситуации возникло два противоречивых суждения типа А — В: (А) в чашке Кемпа чай с сахаром; (Б) в чашке Кемпа кофе. Эти суждения несовместимы, они не могут быть истинными одновременно — и тем не менее оба они истинны! Вся загвоздка в том, что в оба суждения входит сочетание «чашка Кемпа». Между тем чашка Кемпа в тот момент, когда он вставал из-за стола, и чашка Кемпа в тот момент, когда он снова сел за стол, — это не одна и та же чашка!
Именно так все и обстояло в тот вечер в «Люксембурге». После концерта, когда все пошли танцевать, ты уронила сумочку. Ее поднял официант — не наш официант, не тот официант, который обслуживал наш стол и точно знал, где кто сидит, — а официант случайный, вконец затюканный желторотый мальчишка, который пробегал мимо с каким-то соусом, увидел упавшую сумочку, нагнулся, подобрал ее и положил на стол рядом с прибором, но не с твоим, а на один прибор левее. Вы с Джорджем вернулись к столу первыми, и ты не задумываясь села на то место, где лежала твоя сумочка, — так же, как Кемп механически придвинул стул к тому прибору, где лежала его трубка. Тогда Джордж сел на место, которое считал своим, — справа от тебя. И когда он предложил тост в память Розмэри, он отпил из бокала, который опять-таки считал своим, но который в действительности был твоим бокалом, Айрис. А вино в твоем бокале могло быть отравлено как раз во время концерта без помощи черной магии и потусторонних сил, потому что сразу после концерта, когда был предложен тост, один из гостей не прикасался к вину — естественно, тот, за здоровье которого пили, то есть ты!
Если вернуться к началу событий, то теперь мизансцена резко меняется. Намеченной жертвой оказывается не Джордж, а ты, Айрис! Джордж теперь выступает уже как орудие, ловко использованное убийцей. Если бы его план не сорвался, как выглядело бы это происшествие со стороны? Повторяется прошлогодний ужин в «Люксембурге» — и повторяется самоубийство. Все понятно, сказали бы люди, — склонность к самоубийству у них в роду. У тебя в сумочке нашли бы пакетик из-под цианистого калия. Случай предельно ясный. Бедная девочка, она так и не оправилась после смерти сестры. Печальный конец, но знаете этих девушек из богатых семей — сплошные истерички и невропатки.
Айрис выкрикнула:
— Но зачем кому-то понадобилось меня убивать? Для чего? Для чего?!
— Всё деньги, мой ангел! Деньги, деньги, деньги! Деньги Розмэри после ее смерти перешли к тебе. А теперь представь себе — ты умираешь, не успев выйти замуж. Кому тогда достанутся твои деньги? Разумеется, твоей ближайшей кровной родственнице — твоей тетке, Люсилле Дрейк. Что представляет собой Люсилла Дрейк? То, что я о ней знаю, как-то не вяжется с ролью Первого убийцы[132]. А кто имеет прямое отношение к Люсилле? Кому еще выгодно, чтобы она стала наследницей большого состояния? Только одному человеку — Виктору Дрейку. Если деньги достанутся Люсилле, они прямым ходом попадут в карман к Виктору — уж он-то зевать не будет! Он из матери всю жизнь веревки вил. Представить его в роли Первого убийцы как раз нетрудно. С самого начала этой истории имя Виктора Дрейка носилось в воздухе. Оно упоминалось — вскользь, невзначай, но упоминалось! Он все время присутствовал где-то на заднем плане, маячил как зловещая тень.
— Но ведь Виктор сейчас в Аргентине! Он уже год как уехал в Южную Америку.
— Ты в этом уверена? Минуточку! Мы подходим к традиционной, веками освященной завязке каждой истории: «Они встретились и полюбили друг друга». Когда встретились Виктор Дрейк и Рут Лессинг, тут-то и началась наша история. Виктор сразу сумел подобрать ключ к этой девушке. Очевидно, она влюбилась в него по уши — вот такие-то сдержанные, трезвые и высокоморальные девицы и влюбляются обычно в отпетых негодяев.
Подумай немного — ты вспомнишь, что сведения о Викторе поступали только через Рут. Никому не приходило в голову проверить эти сведения — все полагались на ее слова. Кто вообще интересовался Виктором? Именно Рут сообщила, что Виктор отплыл в Южную Америку на борту «Сан-Кристобаля» за пять дней до смерти Розмэри. Она же, в день смерти Джорджа, вызвалась связаться по телефону с Буэнос-Айресом, чтобы навести справки о Викторе, и в тот же день уволила телефонистку, которая случайно могла проболтаться о том, что Рут никуда не звонила.
Разумеется, сейчас все это нетрудно было проверить. В прошлом году Виктор Дрейк прибыл в Буэнос-Айрес на борту парохода, отплывшего из Англии на другой день после смерти Розмэри. Огилви, агент фирмы Бартона, заявил, что первого ноября он не вел никаких телефонных переговоров с мисс Лессинг о Викторе Дрейке. Кроме того, выяснилось, что сам Виктор Дрейк несколько недель назад уехал из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк. Ему ничего не стоило поручить кому-то в Буэнос-Айресе в назначенный день отправить от его имени телеграмму — одну из обычных его телеграмм с просьбой прислать денег, — которая послужила бы подтверждением того, что он находится за тысячи миль от Лондона. А между тем…
— Что же?
— А между тем, — Энтони явно предвкушал эффект, который должна была произвести его заключительная фраза, — между тем он сидел за соседним с нами столиком в «Люксембурге» в обществе весьма неглупой блондинки!
— Не может быть! Этот ужасный тип?!
— Грязновато-желтый цвет лица, воспаленные веки, мешки под глазами — все это дело наживное. Грим может изменить внешность до неузнаваемости. И собственно, кому было его узнавать? Из всей компании, не считая Рут Лессинг, в лицо его знал только я, да и то мне он был известен под другим именем. Правда, когда мы проходили через коктейль-холл, мне показалось, что в толпе мелькнул человек, с которым я сидел в тюрьме в Америке, — некто по прозвищу Мартышка Колмен. Но поскольку я теперь веду сугубо респектабельный образ жизни, я отнюдь не жаждал возобновить знакомство. И уж конечно, мне в голову не пришло, что Мартышка Колмен может иметь какое-то отношение к убийству Джорджа. И тем более я не мог заподозрить, что он и Виктор Дрейк — одно и то же лицо.
— Я все-таки не понимаю, как он мог это сделать.
За Энтони ответил полковник Рейс:
— Самым простым способом. Во время концерта, в полутьме, он направился в вестибюль — якобы позвонить по телефону — и прошел мимо вашего стола. Дрейк в свое время был актером и, что еще важнее, служил официантом. Наложить грим и сыграть роль Педро Моралеса для актера детские игрушки. Но для того чтобы неслышной походкой настоящего официанта обойти стол и быстро наполнить бокалы, требуется нечто большее, а именно — профессиональное умение и навык. Любое неловкое движение или жест могли насторожить вас, но он провел свою роль безукоризненно. Вы в это время смотрели на сцену и, разумеется, не обратили внимания на такую привычную деталь ресторанного интерьера, как официант.
Айрис нерешительно спросила:
— А что при этом делала Рут?
— Рут? — сказал Энтони. — Рут подложила тебе в сумочку обертку из-под яда — вероятнее всего, пока вы были в дамской комнате. Она воспользовалась своим прошлогодним проверенным методом.
— Я никак не могла понять, — произнесла Айрис, — почему Джордж ничего не сказал ей про анонимные письма. Он ведь обо всем с ней советовался.
Энтони усмехнулся:
— Разумеется, он ей сказал — сразу же. Она на это и рассчитывала. Именно для этого она и написала эти письма. Потом она подсказала Джорджу его знаменитый план, потратив немало времени на то, чтобы уговорить его. Таким образом, все декорации были установлены, реквизит размещен, и можно было поднимать занавес над убийством номер два. Если бы после твоей смерти Джордж решил, что ты убила Розмэри и теперь покончила с собой — под влиянием страха или угрызений совести — Рут устроил бы такой вариант.
— Подумать только, а ведь она мне нравилась! Я к ней очень хорошо относилась и даже хотела, чтобы она вышла замуж за Джорджа!
— Наверное, это был бы очень удачный брак, если бы, на беду, ей не подвернулся Виктор Дрейк, — сказал Энтони. — Отсюда мораль: каждая преступница была когда-то честной девушкой.
Айрис поежилась:
— И все это из-за денег!
— Глупышка, из-за денег-то и делаются такие вещи! Виктор безусловно пошел на преступление ради денег. Рут — частично ради денег, частично ради Виктора, а частично, как мне кажется, из ненависти к Розмэри. Да, она много чего успела — до того как попытаться сбить тебя машиной. Потом, после твоего возвращения из Скотленд-Ярда, она распрощалась с Люсиллой и, хлопнув входной дверью, побежала наверх в твою спальню. Какой она тебе показалась? Нервной, возбужденной?
Айрис задумалась.
— Да нет, пожалуй. Она постучалась, вошла и сказала, что все улажено, что я могу не волноваться, и спросила, как я себя чувствую. Я ответила, что ничего, просто я немного устала. А потом она взяла в руки мой электрический фонарь в резиновом футляре и сказала: «Вот какой миленький фонарик», а после этого я уже ничего не помню.
— Это и неудивительно, моя дорогая, — сказал Энтони, — потому что она тебя хватила по затылку этим миленьким фонариком. По счастью, не очень сильно. Потом она перетащила тебя к камину, пристроила там в эффектной позе, закрыла все окна, пустила газ, вышла, заперла комнату на ключ, ключ подсунула под дверь, а щель под дверью прикрыла ковром — чтобы не дать газу улетучиться, — после чего с легким сердцем стала спускаться по лестнице. Мы с Кемпом едва успели заскочить в ванную. Когда она прошла, я бросился наверх, в твою комнату, а Кемп проследовал за ничего не подозревавшей мисс Лессинг до того самого места, где она оставила свою машину. Мне тогда еще показалось странным ее стремление уверить нас, что она добиралась до Элвастон-сквер на метро и автобусом. Что-то в этом было фальшивое и нетипичное для Рут.
Айрис содрогнулась:
— Господи, какой ужас — знать, что кто-то так упорно добивался моей смерти! Наверное, меня она тоже успела возненавидеть?
— Вряд ли. Просто Рут Лессинг любит все доводить до конца. Она уже стала соучастницей двух убийств, и ей не хотелось зря рисковать головой. Не сомневаюсь, что Люсилла Дрейк выболтала ей твое решение незамедлительно выйти за меня замуж, и Рут поняла, что нельзя терять ни минуты. Если бы мы поженились, твоим ближайшим родственником оказался бы я, а не Люсилла.
— Бедная Люсилла! Мне ее ужасно жалко.
— И нам всем тоже. Безобидная старушка и, в сущности, добрая душа.
— Его арестовали?
Энтони бросил вопросительный взгляд на полковника Рейса. Тот кивнул:
— Сегодня утром, в нью-йоркском аэропорту.
— А он собирался жениться на Рут… потом?
— Это, во всяком случае, входило в планы Рут. И думаю, что она бы добилась своего.
— Энтони, ты знаешь… эти деньги жгут мне руки.
— Не печалься, родная, мы их пустим на какое-нибудь богоугодное дело. У меня хватит и своих денег для того, чтобы прокормить жену и создать ей приличные условия существования. А твои деньги, если хочешь, мы пожертвуем на сооружение сиротских приютов или организуем бесплатную выдачу табака престарелым. Можно еще создать фонд для поддержки Всебританской кампании за улучшение качества кофе в стране.
— Ладно-ладно, немножко я себе все-таки оставлю, — сказала Айрис. — На тот случай, если я захочу от тебя уйти, — тогда я смогу уйти гордо и независимо и даже хлопнуть дверью.
— Что-то мне не нравится, Айрис, настроение, с которым ты готовишься совершить самый важный шаг в своей жизни. Чему тебя только учили? Кстати, ты ни разу не прервала меня и не воскликнула: «Тони, это потрясающе!» или: «Энтони, какой же ты умный!»
Полковник Рейс улыбнулся.
— Мне пора, — сказал он, поднимаясь. — Приглашен к Фарадеям на чай. — С едва заметной усмешкой в глазах он обратился к Энтони: — Вы, очевидно, не пойдете?
Энтони покачал головой, и Рейс направился к выходу. На пороге он обернулся и бросил через плечо:
— Представление прошло неплохо.
— Высшая похвала, которую можно услышать из уст британца, — заметил Энтони, когда за ним закрылась дверь.
Айрис спросила ровным голосом:
— Он ведь считал, что убийца я, правда?
— Не суди его строго, — ответил Энтони. — Видишь ли, на своем веку он повидал столько шпионок в прекрасном обличье, которые похищали секретные документы и выведывали у военных чинов государственные тайны, что это несколько ожесточило его и не лучшим образом повлияло на объективность его суждений. И теперь он всегда считает, что если в каком-нибудь преступлении замешана хорошенькая девушка, то она-то и есть главная злодейка.
— А почему ты был так уверен, Тони, что это не я?
— Наверное, меня вела любовь, — ответил Энтони легкомысленным тоном.
Неожиданно он посерьезнел. Он тронул рукой вазочку, стоявшую у изголовья Айрис. В ней была серо-зеленая веточка с сиреневатым цветком.
— Чего это ему вздумалось цвести в такое время?
— Это бывает. Отдельные веточки распускаются, если осень теплая.
Энтони вынул цветок и на мгновение приложил его к щеке. Он прикрыл глаза и увидел каштановые волосы, смеющиеся синие глаза и яркие зовущие губы…
Спокойно, почти небрежно он сказал:
— Теперь ее больше здесь нет.
— Кого нет?
— Ты знаешь кого — Розмэри… По-моему, Айрис, она знала, что тебе грозит опасность.
Он прикоснулся губами к цветущей ветке и легким движением бросил ее в окно.
— Прощай, Розмэри, и спасибо…
Айрис прошептала:
— «Вот розмарин, это для памятливости…»
И добавила совсем тихо:
— «Возьми, дружок, и помни…»[133]
ЛОЩИНА The Hollow 1946 © Перевод Ващенко A., 1991
ЛАРРИ И ДАНАЕ, с просьбой простить меня за то, что я использовала их бассейн как место преступления
Глава 1
В шесть часов тридцать минут в пятницу большие голубые глаза Люси Энкейтлл широко раскрылись навстречу новому дню, и, как всегда, сразу и окончательно проснувшись, она тут же занялась обдумыванием проблем, которые подсказывал ее необыкновенно деятельный ум. Чувствуя потребность немедленно с кем-то посоветоваться и выбрав для этой цели свою кузину Мидж Хардкасл, приехавшую к ним в «Лощину» вчера вечером, леди Энкейтлл выскользнула из-под одеяла и, набросив пеньюар на свои все еще грациозные плечи, направилась по коридору к комнате Мидж. По обыкновению, она тут же мысленно начала беседу, на ходу придумывая и ответы Мидж, поскольку обладала на редкость живым и богатым воображением. Так что когда леди Энкейтлл распахнула двери в комнату, где спала ее юная кузина, этот мысленный разговор был уже в полном разгаре.
— …Поэтому, дорогая, ты, конечно, согласишься, что выходные обещают быть трудными.
— М-м, что такое? — невнятно пробормотала, ничего спросонья не понимающая Мидж.
Леди Энкейтлл скользнула через комнату к окну, резко откинула занавеску и, подняв жалюзи, впустила в комнату бледный свет раннего сентябрьского утра.
— Птицы, — сказала она, глядя с явным удовольствием через оконное стекло. — Какая прелесть!
— Что?
— Погода, во всяком случае, не создаст дополнительных трудностей. Похоже, она установилась. Это уже хорошо! Если бы шел дождь, столько разных людей пришлось бы загнать в дом. Согласна, дорогая, это в десять раз хуже! Можно, конечно, придумать какие-нибудь игры, но, боюсь, получится, как с бедняжкой Гердой в прошлом году. Никогда себе этого не прощу! Я потом говорила Генри, что это было очень необдуманно с моей стороны… Но мы, конечно, вынуждены приглашать ее, потому что было бы оскорбительно пригласить Джона и не пригласить Герду, хотя это как раз и создает трудности… И самое печальное то, что она в общем-то славная… Право, странно, что такой милый человек, как Герда, может быть начисто лишен сообразительности. Если это имеют в виду, говоря о законе компенсации одного качества за счет другого, по-моему, это совсем несправедливо!
— О чем ты говоришь, Люси?
— О выходных, дорогая! О гостях, которые завтра приедут. Я всю ночь думала об этом и ужасно обеспокоена. Давай все с тобой обсудим. Мне будет намного спокойнее. Ты всегда так рассудительна и практична.
— Люси! — твердо сказала Мидж. — Ты знаешь, который теперь час?
— Признаюсь, нет, дорогая. Я этого никогда не знаю.
— Четверть седьмого, между прочим.
— Да, дорогая, — в голосе леди Энкейтлл не прозвучало и нотки раскаяния.
Мидж пристально посмотрела на нее. «Нет, — подумала она, — Люси положительно невыносима! Не понимаю, и почему мы терпим ее странности?» Но едва у нее промелькнула эта мысль, Мидж уже знала ответ. Леди Энкейтлл улыбнулась, и Мидж, как всегда, почувствовала необычное ее очарование. Даже теперь, когда Люси было за шестьдесят, оно не изменило ей. Ради этого очарования столько разных людей: и иностранные представители, и высокопоставленные правительственные служащие, и государственные чиновники — стойко переносили недоумение, раздражение и даже досаду, вызванные общением с ней. Ее детская восторженность и непосредственность обезоруживали и сводили на нет всякую критику в ее адрес. Стоило только Люси, широко раскрыв свои голубые глаза и протянув тонкие, хрупкие руки, прошептать: «О, мне, право, так жаль!» — как всякое недовольство мгновенно исчезало.
— Дорогая! — произнесла леди Энкейтлл. — Мне так жаль! Ты сразу должна была сказать, что еще так рано…
— Вот я и говорю… Но теперь это уже не имеет значения: я совершенно проснулась.
— Какая жалость! Но ведь ты поможешь мне, не правда ли?
— Ты о выходных? Что случилось? Почему это тебя так беспокоит?
Леди Энкейтлл легко присела на край постели. «Как она не похожа на прочих людей, — подумала Мидж. — Совершенно бестелесна… Будто фея».
Леди Энкейтлл с восхитительной беспомощностью протянула к ней трепетные белые руки.
— Самые неподходящие люди, — сказала она. — Я хочу сказать, все вместе… Каждый из них сам по себе очень мил…
— Кто должен приехать? — Крепкой, загорелой рукой Мидж отбросила со лба густые черные волосы. Уж в ней-то ничего бестелесного и фееподобного точно не было.
— Конечно, Джон и Герда, — сказала Люси. — Само по себе это совсем неплохо. Я хочу сказать, Джон — прелесть и очень привлекателен, а бедняжка Герда… Мы все должны быть к ней очень добры. Очень-очень добры!
— Полно! Она не так уж и дурна! — возразила Мидж, движимая неясным для нее самой чувством защиты.
— Разумеется, дорогая, она просто трогательна. Эти глаза! И все-таки такое ощущение, что она не понимает ни единого слова из того, что ей говорят.
— Конечно, не понимает! — воскликнула Мидж. — Во всяком случае, она не понимает, что ты говоришь… И я не виню ее в этом! Мысли у тебя, Люси, невероятно стремительны, и слова за ними не поспевают, поэтому твоя речь делает удивительные скачки, а все соединительные звенья в ней отсутствуют.
— Как обезьянки… — задумчиво произнесла леди Энкейтлл.
— Кто еще будет, кроме Герды и Джона Кристоу? Наверное, Генриетта?
Лицо леди Энкейтлл посветлело.
— Да… вот на кого я могу положиться. Понимаешь, Генриетта по-настоящему добра, не только внешне. Она, конечно, поможет с бедняжкой Гердой. В прошлом году она была просто великолепна! Мы тогда играли в лимерик[134] или в слова, а может быть, в цитаты… что-то в этом роде, не помню точно, и все уже написали и начали зачитывать написанное вслух, и вдруг выясняется, что бедняжка Герда и не начинала писать! Она даже не поняла, в чем заключалась игра. Мидж, это было ужасно!
— Ума не приложу, почему люди все-таки приезжают к вам в гости, — сказала Мидж. — Заумные разговоры, мудреные игры да еще к тому же твоя странная манера говорить!
— Ты права, дорогая, с нами, наверное, очень трудно… А для Герды просто, должно быть, невыносимо. Я часто думаю, если бы у нее хватило смелости, она бы оставалась дома… Но она все-таки приезжает, и вид у нее совершенно растерянный и какой-то жалкий, бедняжка. Джон в тот раз был ужасно раздражителен, а я просто ничего не могла придумать, как бы все сгладить… И тогда Генриетта — я ей так благодарна! — начала расспрашивать Герду о свитере, который был на ней. Нечто ужасное… какая-то дешевка унылого салатного цвета. Герда сразу оживилась, оказалось, она сама его и связала, и когда Генриетта попросила у нее фасон, Герда была невероятно горда и счастлива. Генриетта всегда делает то, что нужно. Это своего рода талант!
— Она действительно умеет помочь! — задумчиво сказала Мидж.
— И она знает, что надо сказать.
— О, тут дело не только в словах, — заметила Мидж. — Знаешь, Люси, ведь Генриетта на самом деле связала такой же свитер.
— О Господи! — Леди Энкейтлл казалась озадаченной. — И она носила его?
— Да. Генриетта всегда все доводит до конца.
— Наверное, это было ужасно?
— Нет, на ней этот фасон смотрелся очень хорошо.
— Что ж, я не удивляюсь. В этом разница между Генриеттой и Гердой. Все, что делает Генриетта, она делает хорошо, и все у нее получается. Я думаю, Мидж, если кто и поможет пережить эти два дня, так это Генриетта. Она будет мила с Гердой, позабавит Генри, поддержит в хорошем настроении Джона и, я уверена, поможет с Дэвидом…
— Дэвидом Энкейтллом?
— Да. Он только что из Оксфорда… или из Кембриджа[135]. Такой трудный возраст, особенно для юношей мыслящих (Дэвид действительно умен!). Хорошо бы, однако, они попридержали свой интеллект при себе, пока немного не повзрослеют, а то только и умеют, что краснеть от злости и грызть ногти. Да еще эти прыщи, и так смешно у некоторых выступает кадык… Эти юнцы или вообще молчат как рыбы, или, наоборот, спорят со всеми до хрипоты. Я очень надеюсь на Генриетту! Она удивительно тактична и задает только нужные вопросы. К тому же она скульптор, и все относятся к ней с уважением. А лепит не каких-то там зверюшек или детские головки. У нее очень современные вещи, вроде той странной штуковины из металла и штукатурки, которую она выставляла в прошлом сезоне. Что-то напоминающее стремянку, как у Хита Робинсона[136], которая называлась «Восходящая мысль»… или что-то в этом роде. Как раз то, что могло бы произвести впечатление на Дэвида. Хотя, по-моему, это просто чушь.
— Дорогая Люси, что ты говоришь!
— Безусловно некоторые ее вещи очень милы. Например, «Плачущая девушка».
— Генриетта, по-моему, отмечена гениальностью, к тому же она очень хороша собой и прекрасный человек, — сказала Мидж.
Леди Энкейтлл встала и снова скользнула к окну. Она рассеянно играла портьерными шнурами.
— Интересно, почему именно желуди? — прошептала она.
— Какие желуди?
— Желуди на шнурах, придерживающих портьеры… или, например, ананасы на столбах ворот… Я хочу сказать, должен же быть в этом какой-то смысл. Ведь можно было бы сделать шишку или грушу, но почему-то всегда желуди. Мне всегда это казалось странным.
— Не перескакивай на другое, Люси! Ты пришла поговорить о предстоящих выходных, а я так и не поняла, что же тебя волнует. Если ты воздержишься от интеллектуальных игр и попытаешься не вести заумных разговоров с Гердой, а Генриетте поручишь приручить Дэвида… В чем тогда трудности?
— Видишь ли, дорогая, будет Эдвард.
— О, Эдвард! — Мидж минуту помолчала. — Люси, с какой стати ты пригласила Эдварда?
— Я его не приглашала, Мидж. В том-то и дело! Он сам напросился. Телеграфировал, можем ли мы его принять. Ты ведь знаешь Эдварда… Если бы я ответила «нет», наверное, он никогда больше не осмелился бы просить разрешения приехать.
Мидж задумчиво кивнула. «Да, — подумала она, — Эдвард действительно такой». На секунду она ярко представила себе его лицо, такое дорогое, такое бесконечно любимое. В нем было что-то от очарования Люси… но более мягкое, застенчивое, чуть ироничное.
— Милый Эдвард, — произнесла Люси, словно отозвавшись на мысли, бродившие в голове Мидж.
— Ах, если бы Генриетта решилась наконец-то выйти за него замуж, — продолжала нетерпеливо Люси. — Она его любит, я знаю. Если бы им удалось провести хоть одни выходные без Джона Кристоу. Джон Кристоу очень неблагоприятно действует на Эдварда. Когда они вместе, Джон становится еще больше самим собой, еще лучше, а Эдвард делается еще меньше похожим на самого себя. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Мидж снова кивнула.
— Я не могла отказать в этот раз Кристоу, ведь их приезд был давно решен, но чувствую, Мидж, что все это будет очень сложно: Дэвид, с досадой грызущий ногти; Герда, которую надо чем-то занять; Джон, такой положительный, и наш милый Эдвард, который рядом с ним почему-то всегда тушуется.
— Да, ингредиенты пудинга не очень многообещающие, — пробормотала Мидж.
Люси ответила ей улыбкой.
— Иногда, впрочем, — заметила она задумчиво, — все складывается само собой. Я пригласила к воскресному ленчу специалиста по преступлениям.
— Преступлениям?
— Голова как яйцо, — продолжала леди Энкейтлл. — Он расследовал какое-то убийство в Багдаде, когда Генри был там верховным комиссаром. А может быть, после этого… Мы пригласили его тогда на ленч; был еще кое-кто из чиновников. Помню, он явился в белом парусиновом костюме с розовым цветком в петлице и черных лаковых ботинках. Я плохо помню, в чем там было дело, потому что меня совершенно не интересовало, кто кого убил. Я хочу сказать, если человек мертв, как-то уже не имеет значения «почему», и, по-моему, глупо поднимать вокруг этого столько шума.
— У вас здесь случилось какое-то преступление, Люси?
— О нет, дорогая. Просто он недалеко живет — в одном из этих новых нелепых коттеджей. Ну, знаешь, — низкие балки, о которые постоянно стукаешься головой, очень хорошая канализация и никудышный сад. Но лондонцам нравится. Другой коттедж, кажется, занимает актриса. Они живут наездами — не постоянно, как мы. И все-таки, — леди Энкейтлл задумчиво прошла через комнату, — наверное, это их устраивает. Мидж, дорогая, ты так помогла мне, так мило с твоей стороны.
— Мне не кажется, что от меня было много пользы.
— Ты так думаешь? — Люси Энкейтлл казалась удивленной. — Ну а теперь иди хорошенько выспись и не торопись к завтраку, а когда встанешь, можешь грубить, сколько тебе захочется.
— Грубить? — удивилась Мидж. — Почему? О, понимаю! — Она засмеялась. — Ты необыкновенно проницательна, Люси! Пожалуй, я ловлю тебя на слове.
Леди Энкейтлл улыбнулась и вышла. Проходя по коридору, она увидела в открытую дверь газовую горелку и чайник, и ее тотчас осенила идея. Все любят утренний чай, это она знала… а Мидж теперь к завтраку не добудишься. Она сама приготовит чашку чаю для Мидж. Леди Энкейтлл поставила чайник на газ и проследовала дальше. Немного задержавшись возле комнаты мужа, она повернула ручку двери, но сэр Генри, этот способный администратор, хорошо знал свою жену. Он чрезвычайно любил ее, но он также любил спокойный, ничем не прерываемый утренний сон. Дверь была заперта.
Леди Энкейтлл вошла в свою комнату. Ей очень хотелось посоветоваться с Генри, но это можно сделать и позднее. Она постояла минутку-другую у открытого окна, зевнула, снова улеглась в постель, и через две минуты уже спала как дитя.
Чайник на газовой горелке давным-давно закипел…
— Мистер Гаджен, — обратилась горничная Симмонс к дворецкому, — еще один чайник распаялся.
Гаджен покачал седой головой. Он взял из рук горничной прогоревший чайник и, войдя в буфетную, достал с полки новый — у него было в запасе полдюжины чайников.
— Пожалуйста, мисс Симмонс, ее сиятельство и не заметит.
— Часто с ней такое случается? — спросила горничная.
Гаджен вздохнул.
— Видите ли, мисс Симмонс, — сказал он, — ее сиятельство очень забывчива, но очень добра. И я как могу стараюсь избавить ее сиятельство от всех забот и неприятностей.
Глава 2
Генриетта Сэвернейк скатала небольшой комок глины и, прикрепив его к арматуре, пригладила рукой. Быстрыми, ловкими движениями она лепила голову позировавшей девушки, чей тонкий, слегка вульгарный голос звенел не умолкая. Впрочем, Генриетта слушала вполуха.
— …И я считаю, мисс Сэвернейк, что была абсолютно права! «Так вот как вы собираетесь поступить!» — сказала я, потому что я думаю, мисс Сэвернейк, я должна была за себя постоять… «Я не привыкла, — сказала я, — выслушивать подобные вещи. Могу только сказать, что у вас грязное воображение!» Конечно, кому нравятся конфликты и всякие неприятности! Но ведь я была права, верно, мисс Сэвернейк?
— О, разумеется! — сказала Генриетта с таким жаром, что всякий бы понял, что она почти не слушала.
— «И если ваша жена говорит такие вещи, — сказала я, — ну что ж, я тут ничего не могу поделать!» Не знаю, почему так получается, мисс Сэвернейк, но везде, где я появляюсь, возникают неприятности, хотя я уверена, что тут нет моей вины. Я хочу сказать, мужчины такие влюбчивые, правда? — Девушка кокетливо хихикнула.
— Да, ужасно, — сказала Генриетта. Глаза ее были полуприкрыты. «Восхитительно! — думала она. — Как прекрасны эти впадинки у века и чуть сбоку. А вот подбородок не получился — неверный угол… Нужно делать заново. Не так-то просто!»
— Вам, наверное, было очень трудно, — сказала она вслух. Голос звучал тепло, сочувственно.
— Я считаю, ревность ужасно несправедливая штука, мисс Сэвернейк, и глупая, вы меня понимаете? Это, собственно говоря, просто зависть, потому что кто-то красивее и моложе.
Генриетта была увлечена исправлением и ответила рассеянно: «Да, конечно».
Она давно уже научилась отключаться, перекрывать сознание, как водонепроницаемый отсек. Она могла играть в бридж[137], поддерживать разговор, написать деловое письмо, не отвлекаясь при этом от своих мыслей. Сейчас она была полностью поглощена тем, как под ее пальцами возникала голова Навсикаи[138], и поток злобной болтовни, изливавшийся из этих красивых детских губ, почти не касался ее сознания. Она без труда поддерживала разговор, так как привыкла к тому, что, позируя, люди хотят разговаривать. Не профессиональные натурщики, а те, кто не привык к позированию и вынужденное бездействие восполняют болтливой откровенностью. Вот и сейчас какая-то часть ее существа слушала и отвечала, а другая, истинная Генриетта, невольно отмечала: «Вульгарная, гаденькая и злая девчонка… но глаза… прекрасные, дивные… дивные… глаза…» Пока она занята глазами, пусть девушка говорит. Она попросит ее замолчать, когда нужно будет заняться ртом. Просто удивительно, что из такого чудесного, превосходно очерченного рта извергается столько злобы.
«О проклятье! — подумала вдруг сердито Генриетта. — Я испортила надбровные дуги! Что за чертовщина! Я слишком утяжелила кость… она узенькая, а не широкая…»
Генриетта отошла на шаг, насупилась, переводя взгляд со своего творения на оригинал, сидящий на подиуме[139].
Дорис Сэндерс между тем продолжала:
«Помилуйте, — сказала я, — не понимаю, почему ваш муж не может преподнести мне, если хочет, подарок? И разве это дает вам право оскорблять меня». Это был такой красивый браслет, мисс Сэвернейк, в самом деле, очень, очень миленький… Пожалуй, бедняга вряд ли мог позволить себе подарить подобную вещь, но с его стороны это было так мило, и, уж конечно, возвращать подарок я не собиралась!
— Нет конечно, — пробормотала Генриетта.
— Не то чтоб между нами что-нибудь было… что-нибудь неприличное, я хочу сказать, ничего такого между нами не было.
— Нет, — произнесла Генриетта, — конечно нет.
Она больше не хмурилась и следующие полчаса работала как одержимая. Она измазала глиной лоб, волосы, по которым нетерпеливо проводила рукой, взгляд стал отсутствующим и напряженным. Вот оно… ей, кажется, удалось… Через несколько часов она сможет избавиться от этой муки… от этого изводившего ее наваждения.
Навсикая… Этот образ преследовал ее. Она просыпалась с мыслью о Навсикае, завтракала, выходила на улицу, бродила в нервном возбуждении по городу, не в состоянии думать о чем-либо другом. Перед ее внутренним взором неизменно стояло прекрасное лицо Навсикаи с невидящим взглядом… смутный его абрис. Генриетта встречалась с натурщицами, присматривалась к лицам греческого типа и чувствовала себя глубоко неудовлетворенной.
Нужно было найти… найти то, что даст толчок… вызовет к жизни ее собственное видение. Она вышагивала по улицам десятки километров, она падала с ног от изнеможения и в то же время была счастлива… А неуемное желание увидеть подгоняло ее.
У нее самой появился отсутствующий, неподвижный взгляд, как у слепой. Она не замечала окружающего, только напряженно вглядывалась, ища желанное лицо… Она чувствовала себя совершенно разбитой, больной, несчастной…
И вдруг глаза ее опять вспыхнули — в автобусе (в который села по рассеянности, так как ей было абсолютно безразлично, куда ехать) она увидела… увидела — да, Навсикаю!
Небольшое детское личико, полураскрытые губы… и глаза… прекрасные, странно пустые, словно невидящие глаза… Девушка нажала кнопку и вышла из автобуса. Генриетта вышла вслед за ней.
Теперь она была спокойна и деловита: она нашла то, что искала. Мучительные беспорядочные поиски закончились.
— Извините, пожалуйста, я профессиональный скульптор, и, откровенно говоря, ваша голова — как раз то, что я искала.
Генриетта была дружелюбна, очаровательна, неотразима, какой умела быть всегда, если чего-нибудь хотела добиться.
Дорис Сэндерс, напротив, держалась подозрительно, была испугана и в то же время польщена.
— Я, право, не знаю… Ну разве что только голова. Конечно, я никогда раньше этим не занималась.
Соответственно ситуации — сначала нерешительность, колебания, затем деликатный вопрос о финансовой стороне дела.
— Разумеется! Я настаиваю, чтобы вы приняли соответствующую профессиональную оплату.
И вот теперь «Навсикая», сидя на подиуме в мастерской, радовалась тому, что ее привлекательное лицо будет увековечено, хотя ей не очень-то нравились работы Генриетты, которые она видела в студии. Она с наслаждением изливала душу новой знакомой, чьи симпатия и внимание не вызывали сомнения.
На столе возле нее лежали очки. Она призналась Генриетте, что почти их не носит, из тщеславия предпочитая ходить почти ощупью, так как настолько близорука, что видит не дальше ярда[140] перед собой.
Генриетта понимающе кивнула. Теперь она поняла причину странно пустого и завораживающего взгляда девушки.
Время шло. Наконец Генриетта отложила в сторону инструменты, с облегчением расправила плечи.
— Ну вот, — сказала она, — я кончила. Надеюсь, вы не очень устали?
— О нет, благодарю вас, мисс Сэвернейк. Это было очень интересно! Правда. Вы хотите сказать, что все закончили? Так быстро?
Генриетта засмеялась.
— Нет, конечно, не все! Мне еще много придется над ней поработать. Но вы свободны. Я получила то, что хотела… нашла основу для дальнейшей работы.
Девушка медленно спустилась с подиума. Она надела очки, и доверчивая невинность и необычное очарование сразу же исчезли. Теперь это было просто заурядное смазливое личико.
Она подошла ближе и, остановившись возле Генриетты, посмотрела на ее работу.
— О-о! — произнесла она с сомнением и разочарованием в голосе. — Это не очень-то похоже на меня, верно?
Генриетта улыбнулась.
— Нет конечно! Это не портрет.
Пожалуй, вообще никакого сходства не было. Может быть, в разрезе глаз… линии скул… То, что казалось Генриетте существенным в ее представлении о Навсикае. Это была не Дорис Сэндерс, а слепая девушка, о которой поэт мог бы сложить стихи. Губы полураскрыты, как у Дорис, но это не ее губы. Заговори она, это были бы слова другого языка, и мысли ее не были бы мыслями Дорис. Ни одна из черт лица не выделялась четко. Это была Навсикая, не увиденная наяву, а порожденная воображением.
— Ну что ж, — сказала с сомнением мисс Сэндерс, — может быть, станет лучше, если вы еще поработаете… Я вам правда больше не нужна?
— Нет, благодарю вас! — сказала Генриетта. «И слава Богу, что не нужна!» — добавила она мысленно. — Вы были великолепны. Я очень благодарна.
Генриетта ловко отделалась от Дорис и приготовила себе черный кофе. Она устала… ужасно устала, но была счастлива и спокойна. «Слава Богу, — подумала она, — я опять смогу стать нормальным человеком».
И сразу все ее мысли устремились к Джону… Джон! Тепло прилило к щекам, сердце дрогнуло, и сразу стало легко на душе. «Завтра, — подумала она, — завтра я поеду в „Лощину“ и увижу Джона».
Генриетта сидела не двигаясь, откинувшись на спинку дивана, потягивая горячий крепкий кофе. Она выпила три чашки и почувствовала, как силы возвращаются к ней. «Как чудесно, — думала она, — снова чувствовать себя нормальным человеком, а не какой-то одержимой… Как прекрасно, когда тебя не гонит куда-то некая неведомая сила. Можно больше не бродить по улицам в бесконечных поисках, ощущая себя такой раздраженной и несчастной, ибо не знаешь толком, что тебе нужно. Теперь, слава Богу, осталась только тяжелая работа. Ну а работать-то она умеет!»
Она поставила пустую чашку и, поднявшись с дивана, вернулась к Навсикае. Генриетта стояла, пристально вглядываясь; между бровей пролегла морщинка.
Нет не то… не совсем то… Что же, в сущности, неверно?
Невидящие глаза… Слепые глаза, более прекрасные, чем любые глаза зрячих. Слепые глаза, которые разрывают вам сердце, потому что не видят… Удалось ей передать это или нет?
Да, удалось, но было еще что-то. Что-то, возникшее случайно, помимо ее воли… Смоделировано все правильно. Да, конечно. Откуда же взялся этот легкий, едва уловимый налет… заурядного злобного умишка?
Она ведь и не слушала вовсе! Не вслушивалась по-настоящему. И все-таки каким-то образом духовное убожество модели передалось глине. И она уже не сможет, знает, что не сможет ничего переделать…
Генриетта резко отвернулась. Может, ей показалось. Конечно, показалось! Завтра все будет иначе. «Как уязвим человек!» — подумала она с отчаянием. Хмурясь, она прошла в конец студии и остановилась перед своей скульптурой «Поклонение».
Тут все в порядке! Прекрасный экземпляр грушевого дерева, хорошо выдержанного. Несколько лет она хранила и берегла его. Генриетта критически осмотрела скульптуру. Да, это хорошо! Никаких сомнений. Это лучшее, что она создала за последние годы. Готовила для выставки международной группы. Да, это стоящая вещь!
Все здесь удалось: смирение, покорность… напряженные мышцы шеи, поникшие плечи, слегка приподнятое лицо… лицо, лишенное выразительных, характерных черт, потому что поклонение убивает индивидуальность… Да, подчинение, обожание, восторженное поклонение, переходящее в идолопоклонство.
Генриетта вздохнула. Если бы только Джон так тогда не рассердился! Его гнев поразил Генриетту, открыл ей нечто такое в Джоне, о чем он, вероятно, даже сам не подозревал. «Ты это не выставишь!» — сказал он решительно. «Выставлю!» — твердо ответила она…
Генриетта медленно вернулась к Навсикае. Ничего такого, все вполне исправимо. Сбрызнув скульптуру водой, она обернула ее мокрой тканью. Пусть постоит до понедельника или вторника. Теперь спешить незачем. Горячка прошла. Все, что было необходимо, она наметила. Теперь только терпение. Впереди у нее три счастливых дня с Люси, и Генри, и Мидж, и Джоном! Она зевнула, потянулась, как кошка, с наслаждением вытягивая до предела каждый мускул, и вдруг почувствовала, до какой степени устала.
Приняв горячую ванну, Генриетта легла в постель и стала смотреть на звезды, видневшиеся сквозь верхнее окно студии. От звезд взгляд ее скользнул к единственной лампочке, которую она не выключала. Эта маленькая лампочка освещала стеклянную маску, одну из ранних ее работ. Довольно наивная вещица, как ей казалось теперь, в традиционном стиле. «Как хорошо, что человеку свойственно перерастать себя», — подумала она.
А теперь спать! Крепкий черный кофе, который она выпила, не нарушит сна, если она сама того не пожелает. Генриетта уже давно приучила себя настраиваться на определенный ритм, который помогал уснуть. Нужно позволить мыслям свободно скользить, легко, словно сквозь пальцы, проходить в сознание и, не концентрируя на какой-то из них внимания, разрешать им свободно и легко проплывать мимо…
На улице взревел автомобильный мотор… откуда-то донеслись громкие голоса и грубый смех. Все эти звуки включились в общий поток мыслей…
«Автомобиль, — проплыла мысль, — это рычащий тигр, желтый и черный — полосатый, как пестрые листья — листья и тени — в жарких джунглях — потом вниз, к реке — широкая тропическая река — к морю — отплывающий пароход — громкие голоса, выкрикивающие прощальные слова — Джон рядом с ней на палубе — она и Джон — синее море — обеденный салон — она улыбается ему через стол — как на обеде в „Мэзон Дорэ“ — бедный Джон, как он рассердился! — и опять под открытым небом — ночной воздух и автомобиль, послушный управлению… без всякого усилия, мягко и легко скользящий прочь из Лондона — через Шавл Даун — деревья — поклонение дереву — „Лощина“ — Люси — Джон — болезнь Риджуэя — милый Джон… Наконец погружение в бессознательно-счастливое, блаженное состояние…»
И вдруг резким диссонансом врывается какое-то чувство вины, которое тянет ее назад. Она должна была что-то сделать… Уклонилась от чего-то… Навсикая?
Медленно, нехотя Генриетта поднялась с постели. Она зажгла свет и, подойдя к глиняной головке, сняла с нее мокрую ткань. У нее перехватило дыхание. Навсикая? Нет!.. Дорис Сэндерс!
Внезапная острая боль прошла по всему телу. Мысленно она еще пыталась убедить себя: «Я смогу исправить… все можно исправить…»
— Дуреха, — сказала она вслух. — Ты отлично знаешь, что нужно сделать! И если не сделать этого сейчас, сию минуту, завтра уже не хватит смелости… Все равно, что уничтожить живое существо, свою плоть и кровь. Это больно… да, больно…
«Наверное, — подумала Генриетта, — так чувствует себя кошка, когда у одного из котят что-то не так и его приходится придушить».
Короткий резкий вздох, и она стала быстро отдирать зышну от арматуры и, схватив большой тяжелый ком, швырнула его в таз.
Генриетта, тяжело дыша, глядела на испачканные глиной руки, все еще испытывая щемящую тоску и боль. Затем, медленно очистив с рук глину, вернулась в постель со странным ощущением пустоты и в то же время покоя.
«Навсикая больше не появится, — с грустью подумала Генриетта. — Она родилась, но ее осквернили и она умерла».
Странно, как слова могут помимо нашей воли проникнуть в сознание! Она ведь не слушала, не вслушивалась… И все-таки вульгарная, злобная и ничтожная болтовня Дорис просочилась в сознание Генриетты и подчинила себе движение ее рук.
И вот теперь то, что было Навсикаей… Дорис… стало опять простой глиной, из которой спустя какое-то время будет создано нечто совсем другое.
«Может быть, это и есть смерть? — подумалось ей. — Возможно, то, что мы называем индивидуальностью, всего лишь отражение чьей-то мысли? Чьей? Бога?»
В этом заключалась идея «Пер Гюнта»[141], не так ли? Назад, к первозданной глине! А где же я? Истинный человек, личность? Где я сама, с божьей печатью на челе?
Интересно, Джона посещают подобные мысли? Он выглядел таким усталым, потерявшим веру в себя. Болезнь Риджуэя… Ни в одной книге не говорится о том, кто такой этот Риджуэй. «Глупо! — подумала она. — Ей следовало бы знать… Болезнь Риджуэя… Джон…»
Глава 3
Джон Кристоу принимал в своем кабинете пациентку, предпоследнюю в это утро. Она описывала симптомы, объясняла, входила в подробности. Полные сочувствия глаза доктора смотрели ободряюще. Время от времени он понимающе кивал головой. Задавал вопросы, давал советы. Легкий румянец покрыл лицо бедной женщины. Доктор Кристоу просто чудо! Такой внимательный, заботливый… Поговоришь с ним — и сразу чувствуешь себя лучше!
Джон Кристоу пододвинул листок бумаги и начал писать. «Пожалуй, лучше прописать ей слабительное», — подумал он. Новое американское средство, в красивой целлофановой упаковке. Таблетки в привлекательной необычной ярко-розовой оболочке. К тому же лекарство очень дорогое, и его трудно достать. Оно есть не в каждой аптеке, и ей, вероятно, придется пойти в маленькую аптечку на Уордор-стрит[142]. А это ей на пользу! Подбодрит и поддержит месяц-другой, а потом надо будет придумать еще что-нибудь. Ничего существенного он не может для нее сделать: слабый организм — и ничего тут не поделаешь! Не за что уцепиться. Не то что мамаша Крэбтри!
Какое тяжкое, нудное утро! Прибыльное, конечно, но… и только. Господи, как он устал! Устал от больных женщин с их недугами. Что он может?! Принести временное облегчение, уменьшить боль, и все. Иногда он задумывался, стоит ли это хлопот. Но всегда в таких случаях ему вспоминалась больница Святого Христофора, длинный ряд коек в палате Маргарет Рассел и мамаша Крэбтри, улыбавшаяся ему своей беззубой улыбкой.
Он и мамаша Крэбтри отлично понимают друг друга! Она настоящий боец, не то что женщина на соседней койке, этот безвольный слизняк. Мамаша Крэбтри с ним заодно, она хочет жить! Хотя только Господь Бог знает, почему ей этого хочется, если вспомнить трущобы, в которых она живет с пьяницей мужем и выводком непослушных детей. Сама она изо дня в день моет полы в бесконечных конторах. Беспрестанный тяжелый труд и так мало радости… И все-таки она хотела жить и радовалась жизни, как и он, Джон Кристоу, умел ей радоваться! Для них обоих были важны не обстоятельства жизни, а сама жизнь, жажда существования. Странно… необъяснимо! «Надо будет поговорить об этом с Генриеттой», — подумал он про себя.
Он проводил пациентку до двери, дружески, подбадривающе пожал ей руку. В голосе его звучали поддержка и сочувствие. Женщина ушла успокоенная, почти счастливая. Доктор Кристоу так внимателен!
Джон забыл о ней сразу же, как только закрылась дверь. По правде говоря, он едва ли замечал ее присутствие, даже когда она была в кабинете. И все же, хотя он действовал почти механически, он не мог не отдать ей часть своих душевных сил, ведь он был целителем. И теперь вдруг почувствовал, как много затратил энергии.
«Господи, — снова подумал он, — как же я устал».
Еще одна пациентка, а потом — выходные. Он с удовольствием задержался на этой мысли. Золотые листья, подкрашенные алым и коричневым; мягкий влажный запах осени… дорога в лесу… лесные костры. Люси — неповторимое, прелестное создание с парадоксальным ускользающим и неуловимым умом. Он готов быть вечным гостем Генри и Люси. А «Лощина» — самое восхитительное имение в Англии! В воскресенье он отправится в лес на прогулку с Генриеттой. Вверх на гребень холмов и вдоль гряды. Он забудет про всех больных на свете. «Слава Богу, Генриетта никогда не болеет!» И вдруг озорно улыбнулся: «Уж она точно никогда не обратилась бы ко мне!»
Еще одна пациентка. Нужно нажать кнопку вызова на столе. И все-таки, непонятно почему, он медлил, хотя уже и так опаздывал. Ленч готов. Герда и дети ждут его в столовой наверху. Он должен закончить прием.
Джон, однако, продолжал сидеть не двигаясь. Он устал, очень устал. В последнее время эта усталость нарастала, и он становился все более раздражительным. Джон и сам это видел, но сдерживаться не мог. «Бедняга Герда, — подумал он. — Ей немало приходится терпеть…» Ох уж эта ее покорность, готовность всегда безропотно с ним соглашаться, хотя в половине случаев не прав был он. Бывали дни, когда его раздражало буквально все: каждое слово, каждый ее шаг. «И чаще всего, — подумал он с унынием, — меня раздражало то, что она была права». Терпение Герды, бескорыстие, полное подчинение и желание ему угодить — все вызывало в нем протест. Ее никогда не возмущали его вспышки гнева, она никогда не пыталась стоять на своем или сделать что-нибудь по-своему. «Ну что ж, — подумал он, — поэтому ты и женился на ней, не так ли? На что ты жалуешься?»
Странно, но те качества, которые так раздражали его в Герде, он очень бы хотел видеть в Генриетте! Его раздражает в Генриетте… Нет, это не то слово, Генриетта вызывает в нем не раздражение, а гнев. Джона возмущала непоколебимая правдивость Генриетты во всем, что касалось его самого, хотя это было так не похоже на ее отношение ко всему остальному миру. Однажды он сказал ей: «Я думаю, ты величайшая лгунья, каких я когда-либо встречал!»
«Возможно!»
«Ты готова наплести человеку все что угодно, только бы доставить ему радость».
«Мне кажется это важным».
«Важнее, чем сказать правду?»
«Намного».
«Так почему же, ради всего святого, ты не можешь хоть разок солгать мне?»
«Ты этого хочешь?»
«Да!»
«Прости, Джон, но я не могу».
«Ты ведь почти всегда знаешь, что бы я хотел от тебя услышать».
Полно, он не должен думать сейчас о Генриетте. Сегодня вечером он ее увидит. А сейчас надо скорее покончить с делами! Позвонить и отделаться наконец от этой последней пациентки, черт бы ее побрал! Еще одно болезненное создание. На одну десятую настоящих болезней девять десятых чистейшей ипохондрии! А впрочем, почему бы ей и не поболеть, если она готова заплатить? Этот контингент создает некое равновесие с такими, как миссис Крэбтри.
Однако он продолжал сидеть неподвижно. Он устал… очень устал. Эта усталость… такая давняя. Ему чего-то хотелось, страшно хотелось… И вдруг мелькнула мысль: «Я хочу домой».
Вот это да! Откуда такие мыслишки? Что значит домой?! У него ведь никогда не было дома. Родители жили в Индии; он вырос в Англии у дядюшек и тетушек, которые перекидывали его от праздника до праздника из одного дома в другой. Пожалуй, здесь, на Харли-стрит[143],— его первый постоянный дом.
Воспринимал ли он свое нынешнее жилище как дом? Он покачал головой. Конечно нет! Как врачу, ему страстно хотелось понять смысл этого необычного желания с точки зрения медицины. Что же он все-таки имел в виду? Что означала эта промелькнувшая внезапно мысль?
«Я хочу домой…» Должно же быть что-то, какой-то образ… Он прикрыл глаза. Должны быть какие-то истоки.
Внезапно перед ним возникла яркая синева Средиземного моря, пальмы, кактусы, опунции[144]. Он даже почувствовал запах раскаленной летней пыли и освежающую прохладу воды после долгого лежания на прогретом солнцем песке… Сан-Мигель![145]
Джон был удивлен и немного встревожен. Он давно не вспоминал о Сан-Мигеле и уж конечно не хотел бы туда вернуться! Все это принадлежало прошлому.
Было это двенадцать… четырнадцать… пятнадцать лет назад. И поступил он тогда правильно! Решение его было абсолютно верным. Конечно, Веронику он любил безумно, но из этого все равно ничего бы не вышло. Вероника проглотила бы его живьем. Она законченная эгоистка и никогда этого не скрывала. Всегда хватала все, что хотела, но его ей не удалось захватить. Он сумел спастись. Пожалуй, с общепринятой точки зрения, он плохо поступил по отношению к Веронике. Попросту говоря, он ее бросил! Дело в том, что он сам хотел строить свою жизнь, а этого как раз Вероника и не разрешила бы ему сделать. Она намеревалась жить, как ей нравится, да еще иметь Джона в придачу.
Вероника была поражена, когда он отказался ехать с ней в Голливуд.
«Если ты в самом деле хочешь стать доктором, — сказала она надменно, — ты можешь, я думаю, получить степень и в Америке, хотя в этом нет никакой необходимости. Средств у тебя достаточно, а я… у меня будет куча денег!»
«Но я люблю медицину. Я буду работать с Рэдли!» — В его голосе, юном, полном энтузиазма, звучало благоговение.
Вероника презрительно фыркнула.
«С этим смешным старикашкой, пожелтевшим от табака?»
«Этот смешной старикашка, — рассердился Джон, — проделал замечательное исследование болезни Прэтта!»
«Кому нужна болезнь Прэтта?! — перебила его Вероника. — В Калифорнии очаровательный климат, и вообще — посмотрим мир! Это же так интересно! Но без тебя все будет совсем не то! Ты должен быть со мной, Джон. Ты мне нужен!»
И тогда он сделал, с точки зрения Вероники, совершенно нелепое предложение: пусть она откажется от Голливуда, выйдет за него замуж и останется с ним в Лондоне.
Веронику это просто позабавило, но не поколебало: она поедет в Голливуд, она любит Джона, Джон должен жениться на ней, и они поедут вместе. В своей красоте и могуществе Вероника не сомневалась.
Джон понял, что у него есть только один путь: он написал ей письмо и разорвал помолвку. Он страшно переживал, но не сомневался в мудрости своего решения. Вернувшись в Лондон, он начал работать с Рэдли и через год женился на Герде, которая была полной противоположностью Веронике!
…Дверь открылась, и вошла его секретарь Верил Кольер.
— У вас еще одна пациентка. Миссис Форрестер.
— Знаю! — сказал он отрывисто.
— Я подумала, может, вы забыли.
Она пересекла комнатку и вышла в другую дверь. Некрасивая девушка эта Верил, но чертовски деловитая. Работает у него уже шесть лет. Никогда не ошибается, не спешит и не суетится. У Верил черные волосы, несвежий цвет лица и решительный подбородок. Чистые серые глаза Верил взирают на него и на всю остальную вселенную с бесстрастным вниманием — через стекла сильных очков.
Джон хотел иметь некрасивую секретаршу, без всяких причуд, и он ее получил, хотя иногда, вопреки всякой логике, чувствовал себя обойденным. Если верить всем романам и пьесам, Верил должна была быть беззаветно предана своему работодателю, однако он знал, что особым расположением с ее стороны не пользуется. Ни преданности, ни самопожертвования… Верил определенно смотрела на него как на обычное грешное человеческое создание. Иногда ему казалось, что она его просто недолюбливает.
Как-то раз Джон услышал, как Верил говорила своей приятельнице по телефону: «Нет, я не думаю, что он намного эгоистичнее, чем был. Пожалуй, более невнимателен к другим и неосмотрителен».
Он знал, что она говорила о нем, и чувство досады не покидало его целые сутки. И хотя безоговорочное восхищение Герды раздражало его, хладнокровная оценка Верил сердила не меньше. «В сущности, — подумал он, — меня раздражает почти все».
Тут что-то не так. Переутомление? Возможно. Нет, это лишь оправдание. Нарастающее нетерпение, раздражительность, усталость — все это имеет более глубокие причины. «Никуда не годится! — думал он. — Что со мной? Если бы я мог уйти…»
Опять эта неясная мысль, устремившаяся навстречу другой, уже определившейся: «Я хочу домой…»
Черт побери, 404 Харли-стрит и есть его дом!
Миссис Форрестер все еще сидит в приемной. Назойливая женщина! Женщина, у которой слишком много денег и столько же свободного времени, чтобы думать о своих болезнях.
Однажды кто-то сказал ему: «Вам, наверное, надоели богатые пациентки, вечно воображающие себя больными. Очевидно, испытываешь удовольствие, сталкиваясь с беднотой, которая обращается к врачу, когда что-то в самом деле неладно». Он даже усмехнулся! Чего только не болтают о бедноте! Видели бы они старую миссис Пэрсток, которая каждую неделю собирает лекарства из пяти разных клиник: бутылки с микстурами, мазь для растирания спины, таблетки от кашля, слабительное, пилюли для улучшения пищеварения! «Доктор, я четырнадцать лет пила коричневое лекарство. Только оно мне и помогает. А на прошлой неделе молодой доктор прописал мне белое лекарство. Оно никуда не годится! Это же понятно, верно? Я хочу сказать, доктор, коричневое лекарство я пью четырнадцать лет, а если у меня нет жидкого парафина и коричневых таблеток…»
Даже сейчас он ясно слышит этот визгливый голос… Отличнейшее здоровье! Ей не могли повредить даже все лекарства, которые она поглощала.
А вообще-то они похожи, сестры по духу — миссис Пэрсток из Тоттнема[146] и миссис Форрестер из Парк-Лейн-Корт[147]. Выслушиваешь их, потом царапаешь пером на листке плотной дорогой бумаги или на больничном бланке, как уж придется… Господи, как он устал от всего этого!
…Синее море, слабый сладковатый запах мимозы, горячий песок. Пятнадцать лет! Со всем этим давным-давно покончено. Да, слава Богу, покончено! У него хватило мужества порвать… «Мужества? — хихикнул откуда-то изнутри маленький бесенок. — Ты это так называешь?»
Но ведь он поступил разумно, не так ли? Это было ужасно. Черт побери, это были адские мучения! Но он прошел через все это, вернулся в Лондон и женился на Герде. Взял на работу некрасивую секретаршу, а в жены — некрасивую женщину. Красотой он был сыт по горло! Видел, что может сделать с человеком красивая женщина, подобная Веронике, какой эффект производит она на всякого оказавшегося рядом мужчину. После Вероники Джону хотелось покоя, преданности, размеренной, упорядоченной жизни. Короче говоря, ему нужна была именно Герда! Он хотел, чтобы рядом был человек, который соответствовал его представлениям о жизни, кто безропотно выполнял бы его прихоти и не смел бы иметь собственных мыслей. Кто же это сказал? Настоящая трагедия — это когда у тебя есть все, чего ты желал.
Джон сердито нажал на кнопку вызова.
От миссис Форрестер он отделался через пятнадцать, минут. Опять это были легкие деньги. Он снова выслушивал, расспрашивал, подбадривал, выражал сочувствие, отдавая часть своей целительной энергии. Снова выписывал рецепт на дорогое лекарство.
Болезненная, неврастеничная женщина, еле волочившая ноги, вышла из кабинета более твердым шагом, с румянцем на щеках и с ощущением, что жить все-таки стоит.
Джон Кристоу откинулся на спинку кресла. Теперь он свободен! Вот теперь он может подняться наверх, к Герде и детям, и не думать о болезнях и страданиях… Забыть об этом на все выходные!
И все-таки он чувствовал странное нежелание двигаться, непривычную потерю воли. Он устал… устал… устал…
Глава 4
Герда Кристоу сидела в столовой, уставившись на блюдо с бараньей ногой. Отослать мясо на кухню разогреть или не стоит? Если Джон еще задержится, мясо остынет, затвердеет и станет просто отвратительным.
Но, с другой стороны, последняя пациентка уже ушла, Джон может появиться в любую минуту, и, если она отошлет мясо разогревать, ленч задержится, а Джон так нетерпелив… «Ты ведь знала, что я уже иду…» В его голосе будет подавленное раздражение, которое она так хорошо знает и которого так боится. Да и мясо пережарится и высохнет. Джон терпеть не может пережаренное мясо. Правда, остывшее мясо он тоже не любит. Во всяком случае, пока жаркое еще горячее и выглядит аппетитно.
Мысли Герды метались от одного к другому, и чувство неуверенности и беспокойства росло. Весь мир съежился в комок, собравшись вокруг бараньей ноги, медленно остывавшей на блюде.
На другом конце стола двенадцатилетний Тэренс вдруг сказал:
— Борная кислота горит зеленым пламенем, а сода — желтым.
Герда рассеянно посмотрела через стол на веснушчатое открытое лицо сына. Она понятия не имела, о чем он говорит.
— Ты это знала, мама?
— Что, дорогой?
— Про соли.
Взгляд Герды скользнул к солонке. Да, соль и перец были на столе. Тут все в порядке. На прошлой неделе Льюис забыла их поставить, и это вывело Джона из себя. Вечно что-нибудь не так.
— Это химический опыт, — мечтательно произнес Тэренс. — По-моему, страшно интересно!
Девятилетняя Зина, с хорошеньким, но пустым личиком, захныкала:
— Я хочу есть. Когда мы начнем есть?
— Мы могли бы начать, — сказал Тэренс. — Он не будет против! Ты же знаешь, как быстро он ест.
Герда покачала головой. Нарезать баранину? Но она никак не запомнит, откуда нужно начинать резать. Конечно, может быть, Льюис положила мясо на блюдо правильно… но иногда она ошибается. А Джона раздражает, если мясо нарезано не так, как надо. Герда подумала с отчаянием, что у нее самой всегда все получается не так, как надо. О, Господи! Подливка совсем остыла. Уже покрылась пленкой… Нужно все-таки отправить мясо на кухню… но Джон, может быть, уже идет. Он уже должен был прийти. Мысли Герды метались, как зверь в клетке.
Сидя в приемном кабинете, Джон постукивал рукой по столу, прекрасно сознавая, что ленч в столовой наверху уже, вероятно, готов, но тем не менее не мог заставить себя подняться.
Сан-Мигель… синее море… аромат мимозы, алые цветы на фоне зеленых листьев… жаркое солнце… песок… отчаяние любви и страдания…
— О, Господи! — взмолился он. — Только не это! Никогда! С этим покончено! Лучше б я никогда не знал Веронику, никогда не женился на Герде, никогда не встретил Генриетту! Мамаша Крэбтри одна стоит их всех!
Неприятности начались на прошлой неделе, во второй половине дня. До тех пор Джон был очень доволен ее реакцией на лекарство. Миссис Крэбтри уже выдерживала дозу в пять тысячных. И вдруг появилось тревожное повышение интоксикации[148], и реакция DL вместо положительной оказалась отрицательной.
Старушка лежала посиневшая, тяжело дыша, и смотрела на него злыми проницательными глазами.
«Делаете из меня морскую свинку, голубчик? Эксперимент? Так, что ли?»
«Мы хотим вас вылечить», — сказал он, улыбнувшись.
«Опять за свои штучки! — Она вдруг ухмыльнулась. — Да я ведь не против, бла'ослови вас 'осподь! Действуйте, доктор! Кто-нибудь же должен быть первым, верно? Так я 'оворю? Как-то, еще девчонкой, я сделала перманент. То'да это было в новинку. Стала, как не'р, волосы — 'ребешком не продрать. А все равно здорово! Потешилась вволю… Так что, доктор, можете потешиться за мой счет! Я выдержу!»
«Что, очень плохо?» — Пальцы Джона нащупывали ее пульс. Жизненная энергия передалась от него задыхающейся старой женщине на больничной койке.
«Очень! Что-то вышло не так, да? Ну ничего, не падайте ду'ом, доктор! Я потерплю! Правда, потерплю!»
«Вы молодчина! — с одобрением сказал Джон. — Если б все мои пациенты были такие».
«Я 'очу поправиться! Вот так-то! 'очу выздороветь! Моя мать дожила до восьмидесяти восьми, а бабке было девяносто, ко'да она отправилась на тот свет. Мы живучие! В нашем роду все живучие!»
Джон ушел тогда из больницы расстроенный, подавленный сомнениями и неизвестностью. Он так был уверен в правильности избранного пути! Где, в чем он ошибся? Как уменьшить интоксикацию, поддержать удовлетворительный объем гормонов и в то же время нейтрализовать пантратин?.. Слишком он был самоуверен. Не сомневался в том, что ему удалось обойти все препятствия.
Как раз тогда на ступеньках больницы Святого Христофора на него вдруг нахлынула отчаянная усталость, отвращение к бесконечной, повседневной, изнуряющей работе в больнице, и он вспомнил о Генриетте. Подумал вдруг не о ней самой, а о ее красоте, свежести, здоровье и удивительной энергии. Ему припомнился даже чуть слышный аромат примул от ее волос.
Сообщив домой, что его срочно вызывают, Джон отправился прямо к Генриетте. Войдя в студию, он сразу же ее обнял, с такой страстью, какой не было раньше в их отношениях. В ее глазах мелькнуло внезапное удивление, отстранившись, она освободилась из его рук и пошла приготовить ему кофе. Двигаясь по студии, Генриетта забрасывала его отрывистыми вопросами. «Ты пришел, — спросила она, — прямо из больницы?»
Говорить о больнице Джону не хотелось. Хотелось любить Генриетту, забыть и больницу, и мамашу Крэбтри, и болезнь Риджуэя, и вообще все на свете. Он отвечал на ее вопросы сперва неохотно, потом, увлекшись, все живее и заинтересованнее. И вот он уже шагал взад-вперед по студии, изливая потоки профессиональных объяснений и предположений. Иногда он останавливался, стремясь упростить то, что говорил.
«Понимаешь, нужно получить реакцию…»
«Да-да, — быстро сказала Генриетта. — DL-реакция должна быть положительной. Я понимаю. Продолжай!»
«Откуда ты знаешь об этой реакции?» — спросил он резко.
«У меня есть книга…»
«Какая книга? Чья?»
Генриетта показала на небольшой книжный столик. Джон презрительно фыркнул.
«Скобел? Он никуда не годится! Он в корне ошибается. Послушай, если ты хочешь почитать…»
Она прервала его:
«Я хочу только знать некоторые термины, которые ты употребляешь. Достаточно для того, чтобы понимать, что ты говоришь, и не заставлять тебя всякий раз останавливаться и объяснять. Продолжай. Я слушаю».
«Ну что ж, — произнес он с сомнением. — Запомни только, что Скобел не годится».
Джон продолжал говорить. Он говорил два с половиной часа. Разбирал ошибки, анализировал возможности, характеризовал приемлемые теории. Он почти не замечал присутствие Генриетты. Но всякий раз, когда он запинался, сообразительность Генриетты, ее быстрый ум подсказывали выход, предвидя новый шаг в рассуждениях, иногда опережая его самого. Теперь Джон был увлечен по-настоящему; постепенно к нему вернулась вера в себя. Он был прав; основное направление верно; существует немало путей борьбы с интоксикацией.
Внезапно он почувствовал сильную усталость. Теперь ему все ясно, он вернется к своим рассуждениям завтра утром. Позвонит Нилу и скажет ему, чтоб соединил оба раствора и снова попробовал. Да, надо попробовать. Господи! Он не намерен сдаваться!
«Я устал, — отрывисто бросил Джон. — Боже мой, как я устал…»
Он упал на диван и заснул как мертвый.
Проснувшись утром, Джон увидел Генриетту, которая улыбалась ему, готовя чай, вся в утреннем свете, и он тоже улыбнулся.
«Совсем не так, как было задумано», — сказал он.
«Разве это имеет значение?»
«Нет. Нет! Ты прекрасный человек, Генриетта. — Взгляд Джона скользнул по книжной полке. — Если тебя все это интересует, я дам тебе нужную литературу».
«Все это меня не интересует. Меня интересуешь ты, Джон!»
«Ты не должна читать Скобела. — Джон взял в руки злополучную книгу. — Он просто шарлатан!»
Генриетта рассмеялась. Джон не мог понять, почему его критическая оценка Скобела так развеселила ее. Это не раз удивляло его в Генриетте. Внезапное открытие, что Генриетта может смеяться над ним, приводило его в замешательство. Он просто не привык к этому. Герда всегда принимала его на полном серьезе. Вероника… Вероника никогда не думала ни о ком, кроме себя самой, а у Генриетты была привычка, откинув голову назад, смотреть на него из-под полуприкрытых век с неожиданно нежной, слегка насмешливой улыбкой, словно говоря: «Дайте-ка посмотреть хорошенько на это странное существо по имени Джон. Отойду-ка я подальше и рассмотрю его хорошенько!»
«Почти так же, прищурив глаза, она смотрела на свою работу, — думал он, — или на картину». Это была, черт побери, отстраненность, независимость. А этого Джону не хотелось! Он хотел, чтоб Генриетта думала только о нем, чтоб ее мысли никогда не отрывались, не ускользали от него. «В общем, как раз то, что ты терпеть не можешь в Герде!» — снова хихикнул бесенок.
По правде говоря, Джон был абсолютно непоследователен. Он сам не знал, чего хочет.
«Я хочу домой». Какая абсурдная, совершенно нелепая фраза! В ней нет никакого смысла.
Через час-другой он будет уже далеко от Лондона. Подальше от больных с их специфическим кисловатым, дурным запахом… Будет вдыхать аромат сосен, дымок лесного костра, запах влажных, осенних листьев. Даже само движение машины успокаивает… постепенное, без всякого усилия нарастание скорости.
«Нет, все будет совсем не так!» — вдруг подумал он, вспомнив, что немного растянул запястье и не сможет вести машину. Значит, за рулем будет Герда, а Герда — помоги ей Господи! — так и не научилась водить автомобиль. Каждый раз, когда она меняет скорость, он сидит, плотно сжав зубы, стараясь не произнести ни слова, зная на горьком опыте, что, если он хоть что-нибудь скажет, будет еще хуже. Странно, никто не был в состоянии научить Герду переключать скорость… даже Генриетта. Зная свою раздражительность, Джон попросил Генриетту помочь, надеясь, что она лучше справится с этой задачей.
Генриетта любит автомобиль! Она говорит о нем так, как другие говорят о весне или первых подснежниках.
«Посмотри, Джон, какой красавец! Он прямо-таки мурлычет (для Генриетты все автомашины — существа мужского рода). Он одолеет Бейл Хилл на третьей скорости без всяких усилий! Послушай только, как равномерно урчит мотор».
И так до тех пор, пока Джон не взрывался внезапно и яростно: «Тебе не кажется, Генриетта, что ты могла бы уделить мне немного внимания и хоть на минуту забыть эту чертову машину!»
Он сам всегда стыдился этих вспышек, которые сваливались на него совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба.
То же самое и с ее работами. Джон понимал, что ее скульптуры хороши. Восхищался ими и… ненавидел одновременно.
Из-за этого произошла однажды ужасная ссора.
Как-то Герда сказала: «Генриетта просила меня позировать».
«Что?! — Если подумать, его удивление по этому поводу было не очень-то лестным. — Тебя?!»
«Да, завтра я иду в студию».
«С какой стати ты ей понадобилась?»
Пожалуй, он был не очень вежлив. К счастью, Герда этого не поняла. Она была польщена приглашением. Джон заподозрил, что это очередная демонстрация притворной, как он полагал, доброты Генриетты. Может, Герда намекнула, что хотела бы позировать… Что-нибудь в таком роде.
Дней через десять Герда с гордостью показала ему маленькую гипсовую статуэтку. Это была хорошенькая вещица, великолепно, с мастерством выполненная, как все, что делала Генриетта. Она идеализировала Герду, но Герде статуэтка явно понравилась.
«По-моему, Джон, это очаровательно!»
«И это работа Генриетты?! Но ведь это ничто… абсолютное ничтожество. Не понимаю, как ей пришло в голову сделать такое!»
«Конечно, это не похоже на абстрактные работы Генриетты, но, по-моему, очень хорошо, Джон, в самом деле хорошо!»
Он ничего больше не сказал. В конце концов, зачем портить Герде все удовольствие. Но при первом удобном случае он буквально набросился на Генриетту.
«Зачем ты сделала эту глупую статуэтку? Она недостойна тебя! Ты обычно делаешь стоящие вещи».
«Не думаю, что это плохо, — медленно сказала Генриетта. — Мне кажется, Герда была довольна».
«Герда в восторге. Еще бы! Она не в состоянии отличить настоящего произведения искусства от раскрашенной фотографии».
«Это не дешевка, Джон. Просто портретная статуэтка, безобидная и без всяких претензий».
«Обычно ты не тратишь времени на творения такого рода…»
Вдруг он запнулся от удивления, увидев деревянную фигуру высотой около пяти футов.
«Хэлло, что это?»
«Для международной группы. Грушевое дерево. „Поклонение“».
Генриетта наблюдала за ним. Джон пристально вглядывался в статую. Вдруг шея его налилась кровью, и он с яростью накинулся на Генриетту: «Так вот для чего тебе понадобилась Герда! Да как ты смеешь?!»
«Мне было интересно, заметишь ли ты…»
«Замечу? Конечно! Вот здесь». — Он положил пальцы на широкие тяжелые мышцы шеи.
Генриетта кивнула.
«Да, это как раз то, что я хотела: шея и плечи… И этот глубокий, тяжелый наклон вперед — покорность, подчинение… Замечательно!»
«Замечательно?! Послушай, Генриетта, я этого не допущу! Оставь Герду в покое!»
«Герда никогда не узнает себя в этой фигуре. Да и никто другой не узнает. И вообще, это совсем не Герда. Не какой-то определенный человек. Это никто».
«Но ведь я же узнал!»
«Джон, ты — совсем другое дело! Ты… ты чувствуешь суть вещей!»
«Нет, это уж чересчур. Я не могу позволить, Генриетта! И не позволю! Неужели ты не понимаешь, что это непростительно!»
«Ты так думаешь?»
«Разве ты сама не видишь? Не чувствуешь? Где же твоя обычная чуткость?»
«Ты не понимаешь, Джон, — проговорила она. — Боюсь, я никогда не смогу заставить тебя понять. Ты не понимаешь, что значит хотеть чего-то… видеть изо дня в день эту линию шеи, мускулы, наклон головы, тяжелую челюсть… Я смотрела, мне так хотелось… каждый раз, когда видела Герду. В конце концов я просто должна была сделать».
«Бессовестно!»
«Да, пожалуй, так! Но это потребность, от нее не уйти!»
«Значит, ты ни в грош не ставишь чувства других. Тебе безразлична Герда…»
«Не говори глупостей, Джон. Я сделала статуэтку, чтобы доставить ей удовольствие. Мне хотелось ее порадовать. Я не бесчувственная».
«Именно бесчувственная!»
«Ты в самом деле думаешь… Только честно! Ты думаешь, Герда узнает себя?»
Джон неохотно посмотрел на скульптуру. Теперь чувства обиды и негодования отступили, подчиняясь любопытству. Странная, смиренная фигура женщины, предлагающей свое поклонение невидимому божеству. Поднятое вверх лицо. Невидящее, немое, преданное… Пугающе сильное, фанатичное чувство!
«Это вселяет ужас…»
Она вздрогнула.
«Да, я тоже так думаю».
«На что она смотрит? Кто это… там, перед ней?»
Генриетта заколебалась.
«Я не знаю, — сказала она. Что-то странное было в ее голосе. — Но мне кажете я… она смотрит на тебя, Джон».
Глава 5
Между тем в столовой Тэренс высказал еще одну научную истину:
— Соли свинца лучше растворяются в холодной воде, чем в горячей.
Он выжидательно, хоть и без особой надежды взглянул на мать. Родители, по мнению Тэренса, это сплошное разочарование.
— Мама, ты это знаешь?
— Я ничего не понимаю в химии, дорогой.
— Обо всем можно прочитать в книгах.
Это была простая констатация факта, но в ней определенно слышалась грусть.
Герда ничего не заметила. Она была в ловушке собственных тревог и забот, бесконечного кружения мыслей. Уже с утра, проснувшись, она почувствовала себя несчастной, как только поняла, что выходные у Энкейтллов, которых она ждала с таким страхом, все-таки наступили. Визит в «Лощину» всегда был для нее кошмаром. Там она неизменно чувствовала себя одинокой и совершенно сбитой с толку. Больше всего Герда боялась Люси Энкейтлл с ее странной манерой никогда не кончать фразы, стремительностью и непоследовательностью, с ее очевидным старанием быть милой и доброй. Но и остальные были не лучше. Два дня в «Лощине» были для Герды сплошным мучением, которое она терпела только ради Джона.
Этим утром Джон, потянувшись, сказал с видимым удовольствием: «Подумай только, проведем два дня за городом! Для тебя, Герда, это очень полезно. Как раз то, что нужно».
Машинально улыбнувшись, Герда отозвалась с самоотверженной стойкостью: «Это будет восхитительно!» Тоскливым взглядом она обвела спальню — кремовые полосатые обои с черным пятнышком около платяного шкафа; туалетный столик красного дерева с зеркалом, которое слишком сильно накренилось вперед; веселенький ярко-синий ковер; акварельные пейзажи Озерного края…[149] Милые, знакомые предметы. Она не увидит их до понедельника.
Вместо этого завтра в чужой спальне накрахмаленная горничная поставит у кровати маленький изящный поднос с чашкой чаю, поднимет жалюзи, начнет перекладывать одежду Герды, а это всегда страшно ее смущает… Она молча будет терпеть все это, чувствуя себя совершенно несчастной и стараясь успокоить себя: «Еще только одно утро…» Как в школьные годы, когда считала дни до праздников.
В школе Герда тоже не была счастлива. Она чувствовала себя там еще более неуверенно, чем где бы то ни было. Дома было лучше, хотя даже дома было не очень хорошо. Потому что, конечно, все были быстрее, сообразительнее, умнее, чем она. Замечания — нетерпеливые, резкие, не то чтоб очень обидные — свистели, как градины, над головой: «О-о, пошевеливайся, Герда!», «Растяпа, все у тебя из рук валится, дай я сама сделаю», «Не давайте Герде, она провозится целую вечность», «Герде ничего нельзя поручить…»
Неужели они все не видели, что от таких слов она делается еще медлительнее и бестолковее. Все хуже и хуже, нерасторопнее и несообразительнее. Все чаще смотрела, не понимая, если ее о чем-нибудь спрашивали. Пока наконец не нашла выход. Нашла, можно сказать, в общем-то случайно.
Она стала еще медлительнее, недоуменный взгляд сделался еще более пустым и отсутствующим. Но теперь, когда ей говорили с нетерпением: «Господи, Герда, какая ты несообразительная! Неужели ты не можешь понять?!» — она была довольна: за отсутствующим, непонимающим взглядом она скрывала свою истинную суть — она вовсе не была так глупа, как все думали. Нередко она просто притворялась непонимающей и, выполняя какую-нибудь работу, нарочито медлила и улыбалась про себя, когда чьи-либо нетерпеливые пальцы выхватывали эту работу у нее из рук.
Чувство своего превосходства согревало и восхищало. Довольно часто ее даже забавляло тайное сознание, что она не так глупа, как все думают. Да она вполне справилась бы сама, но предпочитала это скрывать.
Это внезапное открытие имело свое преимущество. Оказалось, всегда найдется, кому выполнить твою работу за тебя, а это, разумеется, спасает от многих неприятностей. Ну, если за тебя делают работу другие, если тебе не придется выполнять ее самой, то никто и не узнает, что ты не смогла бы хорошо справиться с порученным тебе делом. Так что начинаешь понимать, что ты не такая уж глупышка и не хуже остальных.
Герда, однако, опасалась, что подобные уловки будут бесполезными в «Лощине». Энкейтллы всегда разговаривали так, что человек чувствовал себя не в своей тарелке. Как Герда их ненавидела! Но Джон… Джону там нравилось. Он возвращался домой не таким утомленным и даже иногда менее раздражительным.
«Милый Джон, — подумала она. — Он просто чудесный! Все так считают. Прекрасный доктор, очень внимательный и добрый к больным. Джон трудится, не щадя своих сил. А как он выкладывается в больнице! Можно сказать, почти бесплатно. Джон так бескорыстен и так благороден».
Она всегда знала, что Джон талантлив и добьется самого высокого положения. И такой человек выбрал именно ее! Хотя мог бы сделать более блестящую партию. Не посмотрел на то, что она нерасторопна, порядком бестолкова и не очень хороша собой. «Ни о чем не беспокойся, Герда, я позабочусь о тебе!» — сказал он твердо, как и подобает настоящему мужчине. И Джон — подумать только! — выбрал именно ее!
Джон сразу сказал, посмотрев на нее с неожиданной и очень привлекательной улыбкой: «Знаешь, Герда, я люблю, чтобы все было по-моему».
Ну что ж! Пусть будет так. Она всегда старалась во всем уступать ему. Даже в последнее время, когда он стал таким нервным и раздражительным. И все не по нем… Все, что она ни делает, все плохо. Но он не виноват. Он так много работает и так бескорыстен…
О, Господи, эта баранина! Все-таки надо было отослать ее на кухню. А Джона все нет… Почему она вечно попадает впросак? На нее снова нахлынули темные волны беспокойства и неуверенности. Баранина! Эти ужасные выходные в «Лощине»! Острая боль пронзила виски. О, Господи, теперь опять приступ головной боли, а это постоянно раздражает Джона. Он никогда не дает ей никаких лекарств, хотя ему, как доктору, это было бы совсем нетрудно. Джон всегда говорит: «Не думай о головной боли. Нечего отравлять себя лекарствами. Энергичная прогулка на свежем воздухе — все, что тебе нужно!»
Баранина! Уставясь на блюдо с мясом, Герда чувствовала, как слова, повторяясь, стучат в висках: «баранина, баранина, баранина!» Слезы выступили у нее на глазах… «Ну почему, почему у меня никогда ничего не получается как надо!»
Тэренс через стол посмотрел на мать, затем перевел взгляд на блюдо с бараньей ногой. «Почему мы не можем поесть? — подумал он. — До чего глупы эти взрослые! У них нет ни капли здравого смысла!»
Вслух он осторожно произнес:
— Мы с Николсом Майнером будем делать нитроглицерин[150] во дворе их дома, в Стретэме.
— В самом деле, дорогой? Это очень хорошо!
…Еще есть время. Если она сейчас позвонит и распорядится отнести мясо на кухню…
Тэренс посмотрел на мать с некоторым любопытством. Инстинктивно он понимал, что изготовление нитроглицерина вряд ли относится к роду занятий, поощряемых родителями. С ловким расчетом он выбрал такой момент для сообщения о своем намерении, когда был более или менее уверен, что у него есть шанс выйти сухим из воды. И его расчеты оправдались. Если в случае чего поднимется шум, иными словами, если свойства нитроглицерина проявятся слишком явно, он всегда сможет обиженно сказать: «Я ведь говорил маме». И все-таки он чувствовал себя слегка разочарованным. «Даже мама, — подумал он, — должна была бы знать, что такое нитроглицерин».
Тэренс вздохнул, остро почувствовав одиночество, свойственное этому возрасту. Отец — слишком нетерпелив, чтобы выслушать, мать — слишком невнимательна, а Зина — всего лишь глупая девчонка. Сотни страниц интереснейших химических опытов, и никому до этого нет дела… Никому!
Бах! Герда вздрогнула. Внизу, в приемной Джона, хлопнула дверь. Он быстро взбежал по лестнице и ворвался в комнату, внеся с собой атмосферу кипучей энергии. Джон был в хорошем настроении, голоден, нетерпелив.
— Господи, — воскликнул он, усаживаясь за стол и взяв в руки нож. — Как я ненавижу больных!
— О Джон, — с легким укором отозвалась Герда, — не говори так. Они подумают, что ты серьезно…
Герда кивнула в сторону детей.
— Я в самом деле так думаю, — возразил Джон. — Никто не должен болеть!
— Отец шутит, — быстро сказала Герда сыну.
Тэренс посмотрел на отца со своим обычным хладнокровным вниманием, с каким рассматривал все вокруг.
— Я не думаю, что он шутит, — произнес он наконец.
— Если бы ты ненавидел больных, дорогой, ты не был бы доктором, — сказала Герда, засмеявшись.
— Вот именно! — воскликнул Джон. — Ни один доктор не любит болезней. Боже мой, мясо совершенно холодное. Почему ты не отправила его подогреть?
— Не знаю, дорогой. Видишь ли, я думала, ты сейчас придешь…
Джон раздраженно нажал звонок и долго его не отпускал. Льюис пришла почти сразу.
— Снесите это вниз и скажите, чтоб подогрели, — сказал он отрывисто и резко.
— Да, сэр. — Льюис умудрилась вложить в эти два безобидных слова все, что она думает о хозяйке, которая сидит беспомощно уставившись на блюдо с застывшим мясом.
— Извини, дорогой, — бессвязно начала Герда. — Это моя вина, но, видишь ли, сначала я думала, что ты вот-вот придешь, а потом подумала, что если отправить мясо на кухню…
— О, какое это имеет значение! — нетерпеливо перебил ее Джон. — Стоит ли поднимать шум из-за пустяков! Машина здесь?
— Думаю, что здесь. Колли заказала.
— Значит, мы сможем выехать сразу же после ленча.
Через Альберт Бридж по Клехэм Коммон, коротким путем по Кристал Пэлес, Кройдон, Пёрли Уэй, потом, держась в стороне от главной дороги, поехать по правой развилке до Метерли-Хилл вдоль Хаверстон Ридж… Затем круто вправо по пригородному кольцу, через Кормертон и вверх по Шавл Даун. Золотые и алые деревья, лесные массивы внизу, мягкий осенний запах листьев и, наконец, через перевал вниз…
Люси и Генри… Генриетта. Он не видел Генриетту уже четыре дня, к тому же был страшно зол, когда они виделись в последний раз. У Генриетты был такой взгляд, не то чтоб отвлеченный, абстрактный или невнимательный. Пожалуй, он даже не может объяснить. Взгляд человека, который видит что-то, чего здесь нет. И это что-то (в этом вся суть!) не было Джоном Кристоу. «Я знаю, что она скульптор, — говорил он себе. — Знаю, что ее работа по-настоящему хороша, но, черт побери, неужели она не может оставить ее хоть на время! Неужели не может иногда думать только обо мне и ни о чем другом».
Конечно, он несправедлив к ней, и знает это. Генриетта редко говорит о своей работе. Она не так одержима своим искусством, как большинство художников, которых он знает. Лишь в крайне редких случаях ее погруженность в свой внутренний мир нарушает полноту интереса к его, Джона, проблемам. Но даже это постоянно вызывало в нем яростное негодование.
Однажды он спросил, резко и жестко: «Ты бросишь все это, если я тебя попрошу?»
«Что все?» — спросила она с удивлением.
«Все это!» — широким жестом он охватил всю студию. И сразу же подумал: «Глупец! Зачем ты просишь ее об этом?» И снова, перебивая себя: «Пусть скажет только одно слово: „Конечно!“ Пусть только скажет: „Конечно, брошу!“ Не важно, думает она так или нет. Пусть только скажет. Я должен обрести покой».
Генриетта долго молчала. Взгляд ее стал задумчивым и отвлеченным. Затем, хмурясь, она медленно сказала: «Думаю, что да. Если бы это было необходим о».
«Необходимо? Что ты имеешь в виду?»
«Я и сама точно не знаю. Необходимо… Ну, например, как может быть необходима ампутация».
«Короче говоря, только оперативное вмешательство!»
«Ты сердишься. А что бы ты хотел услышать?»
«Ты сама прекрасно знаешь. Одного слова было бы достаточно. „Да!“ Почему ты не можешь произнести его? Ты ведь нередко говоришь людям приятное, не заботясь о том, правда это или нет. А мне? Господи, ну почему ты не можешь сделать это для меня?»
«Я не знаю, — все так же раздумчиво ответила Генриетта. — В самом деле, Джон, я не знаю. Просто не могу… и все! Не могу».
Несколько минут Джон взволнованно ходил по комнате.
«Ты сведешь меня с ума, Генриетта! Боюсь, я никогда не имел на тебя никакого влияния».
«А зачем это тебе нужно?»
«Не знаю… но нужно. — Он бросился в кресло. — Я хочу быть на первом месте в твоей жизни».
«Это так и есть, Джон».
«Нет! Умри я сию минуту, первое, что ты сделаешь, — схватишь глину и со слезами, льющимися по щекам, начнешь лепить какую-нибудь чертовщину, вроде скорбящей женщины, символ горя или еще что-нибудь подобное…»
«Н-не знаю. Пожалуй… Да, пожалуй, ты прав. Хотя это ужасно!»
Она сидела неподвижно, испуганно глядя на него.
Пудинг подгорел. При виде пудинга брови Джона поползли вверх, и Герда поспешила с извинениями:
— Прости, дорогой. Сама не знаю, почему так получилось. Это моя вина. Дай мне верхушку, а сам съешь остальное.
Пудинг подгорел потому, что он, Джон Кристоу, просидел в своем кабинете лишних четверть часа, размышляя о Генриетте и мамаше Крэбтри, предаваясь охватившему его нелепому чувству ностальгии по Сан-Мигелю. Виноват был он сам. Что за идиотизм — тут же брать его вину на себя и класть себе подгоревшую верхушку… Это хоть кого доведет до бешенства! Почему она вечно делает из себя мученицу? Почему Тэренс смотрит на него с таким пристальным любопытством? Почему, о, Господи, почему Зина вечно шмыгает носом? Почему все они выводят его из себя, черт побери?!
Гнев Джона обрушился на Зину:
— Ты что, не можешь высморкаться?
— Думаю, дорогой, она немного простудилась, — сказала Герда.
— Ничего подобного! Тебе вечно мерещится, что у них простуда! С ней все в порядке.
Герда вздохнула. Она не могла понять, как это врач, постоянно лечащий других людей, может быть так безразличен к здоровью собственной семьи. Джон постоянно высмеивал малейший намек на болезнь.
— Я чихнула восемь раз перед ленчем, — значительно сказала Зина.
— Это от жары, — ответил Джон.
— У нас совсем не жарко, — заметил Тэренс. — Термометр в холле показывает пятьдесят пять градусов[151].
Джон встал.
— Все закончили? Хорошо! Тогда поехали. Ты готова, Герда?
— Одну минуту, Джон. Я только уложу кое-что из вещей.
— Разве ты не могла сделать этого раньше? Чем ты занималась все утро?!
Кипя от злости, Джон вышел из столовой. Герда поспешила в спальню. В спешке она, конечно, провозится еще дольше. Ну почему бы ей не приготовить все заранее? Его собственный чемодан был уложен и стоял в холле. Ну почему?..
Сжимая в руке колоду довольно потрепанных карт, к нему подошла Зина.
— Папа, можно я тебе погадаю? Я умею! Я уже гадала маме, и Тэрри, и Льюис, и Джэйн, и кухарке.
— Хорошо. Погадай.
«Интересно, — думал он, — сколько времени она еще проканителится». Ему хотелось скорее покинуть этот ужасный дом, эту улицу, этот город, полный страдающих, чихающих, больных людей. Скорее в лес. Влажные осенние листья… изящная отчужденность леди Энкейтлл, производящей впечатление бестелесного существа.
Зина важно раскладывала карты.
— Посередине — это ты, папа! Червонный король. Всегда гадают на червонного короля. Теперь я разложу остальные карты лицом вниз. Две налево и две направо от тебя, одну — над головой, она имеет над тобой власть, другую — в ногах, ты имеешь власть над ней… А эта карта сверху.
— Теперь, — Зина глубоко вздохнула, — мы начинаем переворачивать. Направо от тебя, очень близко — бубновая дама.
«Генриетта», — подумал Джон. Его забавляла серьезность дочери.
— Рядом трефовый валет. Это какой-то совсем молодой человек. Слева от тебя — восьмерка пик. Это твой тайный враг. Папа, у тебя есть тайный враг?
— Я такого не знаю.
— За ним — королева пик. Эта леди намного старше.
«Леди Энкейтлл», — снова подумал Джон.
— Теперь… что у тебя в головах, ну то, что имеет над тобой власть. Червонная королева!
«Вероника, — подумал Джон машинально. — Вероника? Глупости! Она теперь не имеет для меня никакого значения!»
— Это у тебя в ногах, и ты имеешь над ней власть… Трефовая дама.
В комнату поспешно вошла Герда.
— Джон, я готова!
— О мама, подожди! Я гадаю папе. Последняя карта, папа, самая важная, та, что у тебя на сердце. О-о! Туз пик! Это… это значит… смерть!
— Наверное, твоя мама наедет на кого-нибудь по дороге из Лондона, — пошутил Джон. — Пошли, Герда! До свиданья, постарайтесь вести себя хорошо!
Глава 6
В субботу Мидж Хардкасл спустилась вниз часам к одиннадцати. Она позавтракала в постели, почитала, немного подремала и наконец поднялась с кровати.
Как чудесно немного побездельничать! Отдохнуть совсем неплохо! Мадам Элфридж, что и говорить, порядочно действует на нервы…
Открыв парадную дверь, Мидж окунулась в теплый, мягкий свет осеннего солнца. Сэр Генри, сидя на скамье, читал «Таймс». Он взглянул на нее и улыбнулся. Мидж ему всегда нравилась.
— Хэлло, дорогая!
— Я очень поздно?
— Во всяком случае, ленч вы не проспали, — сказал, улыбаясь, сэр Генри.
Мидж села рядом и вздохнула: «Здесь так хорошо!»
— Вид у вас немного усталый.
— О, не беспокойтесь. Это такое счастье — скрыться здесь от толстух, которые пытаются влезть в платья на несколько размеров меньше, чем нужно…
— Вероятно, ужасное зрелище! — Сэр Генри взглянул на часы. — Эдвард приезжает в пятнадцать минут первого.
— В самом деле? — Мидж помолчала. — Я уже давно его не видела.
— Он все такой же, — сказал сэр Генри. — Почти не выезжает из Эйнсвика.
«Эйнсвик… — подумала Мидж. — Эйнсвик!» Сердце болезненно сжалось. Прекрасные дни в Эйнсвике! Она всегда ждала их с нетерпением. «Я поеду в Эйнсвик!» — ночами мечтала Мидж задолго до желанного дня. И наконец этот день наступал! Маленькая сельская станция, где поезд (большой лондонский экспресс) остановится, только если предупредить заранее. «Даймлер»[152], ожидавший на станции. Дорога… последний поворот, въезд в ворота и прямо через лес, пока не увидишь поляну и дом, большой, белый, радушно ожидавший гостей. Старый дядя Джеффри, в своем неизменном пиджаке из твида…[153] «Ну, молодежь, а теперь развлекайтесь!» И они радовались вовсю! Генриетта приезжала из Ирландии, Эдвард — из Итона, она сама — из унылого промышленного городка на севере страны. Для них это были райские дни.
В центре всегда был Эдвард, высокий, скромный и неизменно добрый. На нее он, конечно, не очень обращал внимание, потому что рядом была Генриетта. Застенчивый, почти робкий, он выглядел гостем, и Мидж очень удивилась, когда Тремлет, главный садовник усадьбы, однажды сказал: «Все здесь будет когда-нибудь принадлежать Эдварду».
«Но почему, Тремлет? Он ведь не сын дяди Джеффри!»
«И все-таки он наследник, мисс Мидж. Ему принадлежит титул. Мисс Люси, она, конечно, единственное дитя мистера Джеффри, но она женщина и не может наследовать, а ее муж, он только двоюродный кузен. Не такой близкий, как мистер Эдвард».
И вот теперь Эдвард жил в Эйнсвике. Жил там один и редко выезжал. Иногда Мидж спрашивала себя, как относится к этому Люси. Она всегда делала вид, будто ее это не касалось. Но Эйнсвик все-таки был ее домом, а Эдвард — только кузен и младше ее на двадцать лет. Отец Люси, старый Джеффри Энкейтлл, был заметной фигурой в графстве, к тому же довольно богат. Большая часть его состояния перешла к Люси, так что Эдварду досталось сравнительно немного. У него, конечно, достаточно средств, чтобы содержать Эйнсвик, но сверх этого остается не так уж много.
Нельзя сказать, чтобы у Эдварда были большие запросы. Какое-то время он был на дипломатической службе, но, унаследовав Эйнсвик, ушел в отставку и поселился в этом имении. Эдвард всегда был книжником, собирал первые издания и время от времени писал небольшие, слегка иронические статьи для малоизвестных ревю. Трижды он делал предложение своей троюродной сестре Генриетте Сэвернейк выйти за него замуж.
Мидж сидела на осеннем солнце, погруженная в свои мысли. Она не могла решить, рада ли тому, что увидит Эдварда, или нет. Конечно, она не старалась его забыть, такого человека, как Эдвард, не забывают. Он всегда был в ее мыслях — и тот, каким он был тогда, в Эйнсвике, и когда поднимался ей навстречу в лондонском ресторане. С тех пор как помнит себя, она всегда любила Эдварда.
Голос сэра Генри вывел ее из задумчивости:
— Как, по-вашему, выглядит Люси?
— Очень хорошо. Она такая, как всегда. — Мидж слегка улыбнулась. — Даже лучше, чем всегда.
— Да-а. — Сэр Генри пыхнул трубкой. — Знаете, Мидж, иногда я за нее беспокоюсь.
— Беспокоитесь? — Мидж с удивлением посмотрела на него. — Почему?
Сэр Генри покачал головой.
— Люси иногда слишком много себе позволяет.
Мидж все так же удивленно смотрела на него.
— Ей все сходит с рук. И всегда так было. — Он слегка улыбнулся. — Она издевалась над официальными традициями резиденции губернатора, нарочно допуская ужасные нарушения этикета, рассаживая гостей на званых обедах, а это, Мидж, непростительная вольность. Усаживала рядом заклятых врагов и ни в грош не ставила расовые различия. И вместо того, чтобы вызвать колоссальный скандал и навлечь позор на британские власти — черт меня побери, — ей все сходило с рук! Этот ее трюк — смотреть, улыбаясь, беспомощно и невинно, будто ничего не случилось! То же самое и со слугами. Она причиняет им массу неприятностей, а они ее просто обожают!
— Я понимаю, что вы имеете в виду, — задумчиво сказала Мидж. — То, что не простишь обычным людям, кажется естественным, если это делает Люси. Не знаю, что это. Очарование? Магнетизм?[154]
Сэр Генри пожал плечами.
— Она всегда была такая, даже в детстве. Только мне кажется, что это в ней усиливается. Я хочу сказать, она не чувствует, что существует предел. Знаете ли, Мидж, — сказал он, усмехнувшись, — иногда мне кажется, что ей сошло бы с рук даже убийство.
Генриетта вывела своего «делажа» из гаража и после сугубо технического разговора с механиком Альбертом, который обычно следил за «состоянием здоровья» «делажа», включила двигатель.
— Ездить на такой машине — одно удовольствие, мисс, — сказал Альберт.
Генриетта улыбнулась. Она промчалась вниз по улице Мьюз, испытывая неизменное наслаждение, как всегда, когда была в машине одна. Она предпочитала ездить одна, когда сидела за рулем, так она полнее ощущала удовольствие от управления автомобилем. Ей нравилось, что она так ловко лавирует в потоке машин, нравилось разыскивать кратчайший путь. У нее были свои любимые улицы, и она знала Лондон не хуже любого таксиста.
Сейчас она решила воспользоваться недавно открытым ею маршрутом на юго-запад, беспрестанно поворачивая и протискиваясь в сложных сплетениях загородных улочек.
Была уже половина первого, когда она наконец подъехала к длинному хребту Шавл Даун. Ей всегда нравился открывавшийся отсюда вид, и она задержалась у начала спуска. Внизу и вокруг нее сияли золотом деревья, листва на которых только-только начала покрываться коричневой патиной. Это был золотой мир, невыразимо прекрасный в лучах осеннего солнца. «Люблю осень, — подумала Генриетта, — осень намного богаче весны».
Неожиданно она почувствовала себя невероятно счастливой. Ее переполняло ощущение красоты окружающего мира и оттого, что она видит эту красоту. «Я никогда больше не буду так счастлива, как сейчас, — подумала она. — Никогда!»
Генриетта постояла немного, вглядываясь в этот золотой мир, который, казалось, проплыл мимо, растворяясь и исчезая вдали, зачарованный собственной красотой. Затем спустилась к подножию холма через лес по длинной, круто уходящей вниз дороге к «Лощине».
Когда Генриетта подъехала к дому, Мидж сидела на низких перилах террасы и весело ей махала. Генриетте нравилась Мидж, и она рада была ее видеть. Из дома вышла леди Энкейтлл.
— О, вот и ты, Генриетта! Отведи свою машину на конюшню и дай ей овса. К тому времени ленч будет готов.
— Поистине проницательное наблюдение! В самое яблочко, — заметила Генриетта, объезжая дом. Мидж ехала с ней, стоя на подножке автомобиля. — Знаешь, Мидж, я всегда гордилась тем, что мне полностью удалось избежать болезни моих ирландских предков — увлечения лошадьми. Если вырос среди людей, которые не могут говорить ни о чем другом, кроме лошадей, то поневоле начинаешь чувствовать свою исключительность и превосходство, если не испытываешь особой любви к лошадям. А Люси тонко заметила — я отношусь к своей машине именно как к лошади. Она права! Это действительно так!
— Да! Люси просто неподражаема, — сказала Мидж, — сегодня утром она сказала, что я могу грубить, сколько мне захочется.
Генриетта на мгновение задумалась, затем кивнула.
— Разумеется! — воскликнула она. — Магазин!
— Да. Когда каждый божий день торчишь в этой проклятой маленькой коробке и когда ты обязана быть неизменно вежливой с грубыми покупательницами, называть их «мадам», помогать им натягивать платья, с улыбкой проглатывая их оскорбительные замечания, то поневоле самой захочется огрызнуться! Знаешь, Генриетта, я всегда удивлялась тому, что люди считают унизительным идти в прислуги и с таким почтением относятся к работе в магазине. Вроде бы чувствуешь себя независимой! На самом деле Гаджену, или Симмонсу, или кому другому из здешней прислуги приходится сносить куда меньше оскорблений.
— Это должно быть ужасно, дорогая! Напрасно ты настояла на том, что сама будешь зарабатывать себе на жизнь. Я понимаю, хочется быть гордой и независимой.
— Как бы то ни было, Люси — ангел, и я буду два дня напролет немилосердно всем грубить.
— Кто приехал? — спросила Генриетта, выходя из машины.
— Должны приехать Джон и Герда Кристоу, — ответила Мидж и, немного помолчав, добавила: — Только что приехал Эдвард.
— Эдвард? Чудесно! Не видела его целую вечность! Кто еще?
— Дэвид Энкейтлл. Люси надеется, что ты сможешь быть тут полезной. Ты должна благотворно на него воздействовать, чтобы он не грыз ногти.
— Это совсем не в моем характере! — воскликнула Генриетта. — Я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, и у меня и в мыслях никогда не было следить за чужими привычками. Что дословно сказала Люси?
— Это, пожалуй, все! Да, еще у него сильно выступает кадык.
— По этому поводу я тоже должна что-то предпринимать?
— И еще ты должна быть очень добра к Герде.
— Будь я на месте Герды, я бы возненавидела Люси! — воскликнула Генриетта.
— Да, завтра к ленчу должен явиться какой-то специалист по расследованию преступлений.
— Мы что, собираемся играть в какую-то «криминальную» игру?
— Не думаю. Мне кажется, это просто знак вежливости. Он живет по соседству. — Голос Мидж слегка изменился. — А вот и Эдвард! Очевидно, он нас ищет.
«Милый Эдвард», — подумала Генриетта с внезапно нахлынувшей теплотой.
Эдвард Энкейтлл, очень высокий и сухощавый, улыбаясь, подошел к молодым женщинам.
— Хэлло, Генриетта! Я не видел тебя больше года!
— Хэлло, Эдвард.
«Какой он славный! — думала Генриетта. — Добрая улыбка, легкие морщинки у глаз… А какая прекрасная форма головы! По-моему, она мне больше всего в нем нравится».
Генриетта сама удивилась своему теплому чувству к Эдварду. Она забыла, насколько он ей был приятен.
…После ленча Эдвард предложил Генриетте пойти погулять. Прогулка в духе Эдварда — медленный, размеренный шаг. Обойдя дом, они пошли по дорожке, извивавшейся среди деревьев. Как похоже на лес в Эйнсвике, подумала Генриетта. Милый Эйнсвик! Он всегда доставлял нам столько радости!
Она начала говорить об Эйнсвике, и они оба погрузились в воспоминания.
— Ты помнишь нашу белку? Со сломанной лапкой? Помнишь, мы посадили ее в клетку, и она поправилась.
— Конечно, помню! У нее было такое странное имя… Не могу сейчас припомнить.
— Колмондели-Марджорибэнкс!
— Правильно!
Оба засмеялись.
— Старая домоправительница миссис Бонди всегда говорила, что в один прекрасный день белка удерет в дымоход!
— Мы так возмущались…
— А белка потом все-таки убежала!
— Это все миссис Бонди, — с уверенностью сказала Генриетта. — Она внушила белке мысль о побеге! Все осталось по-прежнему, Эдвард? — спросила она, помолчав. — Или переменилось? Я всегда представляю себе Эйнсвик таким, как он был раньше.
— Почему бы тебе не приехать и не посмотреть самой, Генриетта? Ты очень давно не была в Эйнсвике.
— Да… — В самом деле, почему она так долго не ездила в Эйнсвик? Вечно чем-то занята, увлечена, связана с другими…
— Ты всегда желанная гостья, Генриетта!
— Очень мило с твоей стороны, Эдвард! «Какой он славный, — снова подумала она, — и какой у него прекрасный череп!»
— Я очень рад, что ты любишь Эйнсвик, Генриетта!
— Эйнсвик — самое прекрасное место на земле! — задумчиво сказала она.
Длинноногая девочка с гривой растрепанных каштановых волос, счастливая девчушка, которой и в голову не могла прийти мысль о том, что приготовила для нее жизнь. Девочка, любившая деревья… Она была так счастлива и, конечно, не догадывалась об этом! Если б можно было вернуться назад…
— Игдрасиль[155] все еще стоит? — внезапно спросила она.
— Его разбила молния.
— О нет, только не Игдрасиль!
Это огорчило Генриетту. Игдрасиль — так она называла большой дуб в Эйнсвике. Если боги могли сразить Игдрасиль, тогда жди беды… Лучше назад не возвращаться.
— А ты помнишь твой особый знак, знак Игдрасиля? — спросил Эдвард.
— Смешное дерево, какого на свете не бывает, которое я всегда рисовала на клочках бумаги? Я до сих пор его рисую! На промокашках, в телефонных книгах, во время игры в бридж… Стоит мне только задуматься, как моментально появляется Игдрасиль! У тебя есть карандаш?
Он протянул ей карандаш и блокнот, и она, смеясь, быстро нарисовала причудливое дерево.
— Да! — воскликнул Эдвард. — Это Игдрасиль!
Они поднялись почти до конца тропы. Генриетта села на ствол поваленного дерева. Эдвард опустился рядом. Она смотрела вниз, сквозь деревья.
— Все здесь немного напоминает Эйнсвик. Карманное издание Эйнсвика. Тебе не кажется, Эдвард, что именно поэтому Люси и Генри поселились в «Лощине»?
— Возможно.
— Никогда не знаешь, что у Люси на уме, — медленно сказала Генриетта. Немного помолчав, она спросила: — Эдвард, чем ты занимался все это время?
— Ничем…
— Звучит умиротворенно.
— Я не очень-то гожусь для деятельной жизни.
Генриетта быстро взглянула на него. Что-то не совсем обычное было в его тоне. Но он спокойно улыбался. И снова Генриетта ощутила горячую, глубокую привязанность к Эдварду.
— Наверное, ты поступаешь мудро.
— Мудро?
— Да, избегая активной деятельности.
— Странно, что это говоришь ты, Генриетта, — медленно произнес Эдвард. — Ты, человек, добившийся такого успеха!
— Ты считаешь меня преуспевающей? Смешно!
— Но это действительно так, дорогая! Ты художник и должна гордиться собой!
— Да, многие говорят мне об этом, — воскликнула Генриетта. — Но они не понимают, не понимают главного. Даже ты, Эдвард! Скульптура — не то, что выбирают, она сама выбирает тебя. Преследует, мучит, изводит вконец, так что рано или поздно ты должен поладить с ней. Тогда на время наступит покой. До тех пор, пока все опять не начнется сначала.
— Ты хочешь покоя?
— Иногда мне кажется, что я хочу этого больше всего на свете.
— Ты можешь обрести его в Эйнсвике. Я думаю, там ты можешь быть счастлива. Даже… даже если тебе придется терпеть мое присутствие. Что ты думаешь об этом? Генриеттта, мне хочется, чтобы Эйнсвик стал твоим домом. Он неизменно ждет тебя…
Генриетта медленно покачала головой.
— Если бы ты не был так мне дорог, Эдвард, легче было бы сказать «нет»!
— Значит, все-таки — нет!
— Мне очень жаль…
— Ты не раз говорила это, но сегодня… сегодня я думал, все может быть иначе: ты ведь была счастлива, когда говорила об Эйнсвике. Ты не станешь отрицать…
— Очень счастлива!
— Даже лицо… Ты выглядишь моложе, чем утром!
— Я знаю.
— Мы были счастливы, говоря об Эйнсвике, думая о нем. Генриетта, неужели ты не понимаешь, что это значит?
— Это ты, Эдвард, не хочешь понять. Все это время мы просто жили в прошлом.
— Иногда прошлое — самое подходящее место для жизни.
— Нельзя вернуться в прошлое. Это невозможно.
Эдвард помолчал.
— Ты хочешь сказать, — произнес он тихо и спокойно, — что не можешь выйти за меня замуж из-за Джона Кристоу.
Генриетта ничего не ответила.
— Это ведь так, не правда ли? — продолжал Эдвард. — Если бы на свете не было Джона Кристоу, ты вышла бы за меня замуж…
— Я не могу представить себе мир, в котором нет Джона Кристоу, — резко сказала Генриетта. — Ты должен это понять.
— Если это так, почему бы ему не развестись с женой, чтобы вы могли пожениться?
— Джон не хочет разводиться с женой. И я не знаю, смогу ли я выйти за него замуж, даже если бы он развелся. Это… Это все совсем не так, как ты думаешь!
— Джон Кристоу… — задумчиво произнес Эдвард. — В мире слишком много Джонов Кристоу.
— Ты ошибаешься! — воскликнула Генриетта. — В мире очень мало таких людей, как Джон!
— Очень хорошо, если так. Во всяком случае, я так считаю.
Он поднялся.
— Пожалуй, нам пора возвращаться.
Глава 7
Когда они сели в машину и Льюис закрыла за ними парадную дверь дома на Харли-стрит, Герда почувствовала такую безысходность, словно ее отправляли в изгнание. Захлопнувшаяся дверь неумолимо отгораживала ее от привычной жизни. Ненавистные выходные наступили. Сколько дел не сделано! Закрыла ли она кран в ванной? А где квитанция для прачечной? Кажется, она положила ее… Куда она ее положила? Как будут вести себя дети с мадемуазель? Станет ли ее слушаться Тэренс? Французские гувернантки… у них нет никакого авторитета.
Герда, все еще во власти тревожных мыслей, опустилась на водительское сиденье и нервно нажала стартер. Она нажимала его снова и снова.
— Герда, машина скорее сдвинется с места, если ты включишь зажигание, — не выдержал наконец Джон.
— О, Господи, какая я глупая! — Герда бросила на Джона быстрый испуганный взгляд. Если Джон выйдет из себя с самого начала… Однако, к ее величайшему изумлению, он улыбался. «Это потому, — подумала Герда с редкой для нее проницательностью, — что он рад поездке в „Лощину“. Он, бедняга, так много работает! Его жизнь бескорыстна и целиком посвящена другим. Неудивительно, что он мечтает об этих долгих невыносимых для меня двух днях!»
Мысли Герды все еще были заняты разговором за обеденным столом, и, отпустив педаль сцепления слишком резко, так что машина скачком рванулась с места, она сказала:
— Знаешь, Джон, ты не должен так шутить. Не стоит говорить, что ненавидишь больных. Это, конечно, чудесно, что ты приуменьшаешь трудности своей работы, и я это понимаю. Но дети могут не понять. Тэрри, например, все понимает буквально.
— Иногда, — сказал Джон, — Тэрри кажется мне почти взрослым. Не то что Зина! Сколько времени должно пройти, чтобы девочка перестала быть клубком эмоций?
Герда засмеялась, легко и радостно. Она поняла, что Джон подтрунивает над ней. Но мысли у Герды были прилипчивы, и она продолжала начатое:
— Джон, я в самом деле думаю, что детям полезно знать, как бескорыстна и благородна жизнь врача.
— О, Господи! — вздохнул Джон.
Герда мгновенно смешалась. Машина между тем приближалась к светофору, и зеленый свет горел уже довольно долго. Герда была почти уверена, что огни сменятся, когда она подъедет. Она сбавила скорость. Все еще зеленый!
— Зачем ты остановилась? — Джон забыл свое решение не делать никаких замечаний.
— Я думала, будет красный свет.
Она нажала на акселератор, машина немного продвинулась, чуть-чуть за светофор, и… мотор заглох. Сигнал светофора сменился. Сердито загудели машины на перекрестке…
— Герда — ты положительно самый плохой водитель во всем мире! — воскликнул Джон, скорее шутливо, чем сердито.
— Я всегда волнуюсь перед светофором. Никогда не знаешь, в какую минуту сменится сигнал!
Джон бросил взгляд на встревоженное, несчастное лицо жены.
«Герду волнует абсолютно все!» — подумал он и постарался представить себе, что значит постоянно жить в таком состоянии, но поскольку он не обладал богатой фантазией, то это ему не удалось.
— Понимаешь, — продолжала Герда, упорно развивая свою мысль, — я всегда старалась внушить детям, что жизнь врача — это самопожертвование. Быть врачом — значит постоянно помогать больным и страждущим, служить людям. Это такая благородная жизнь… И я так горжусь тобой, ведь ты, не щадя себя, всю свою энергию, все свое время отдаешь работе…
Джон перебил ее:
— Тебе никогда не приходило в голову, что мне нравится лечить! Что это для меня удовольствие, а не жертва! Неужели ты не понимаешь, что это интересно, черт побери! Интересно!
Нет, Герда этого никогда не поймет. Расскажи он ей о мамаше Крэбтри из палаты Маргарет Рассел, Герда увидит в нем нечто вроде доброго ангела, помогающего бедным.
— Сплошная патока… — проворчал он.
— Что ты сказал? — Герда наклонилась в его сторону.
Джон покачал головой.
Если бы он сказал Герде, что пытается найти средство от рака, это ей было бы понятно: ей доступны простые, ясные, сентиментальные представления. Но она никогда не сможет понять, что ему нравится распутывать головоломные загадки болезни Риджуэя. Едва ли он сумел бы объяснить ей, что это за болезнь. «Особенно если учесть, что врачи и сами не очень ясно себе это представляют, — подумал он, усмехнувшись. — Мы в самом деле не знаем, почему происходит вырождение коры головного мозга!»
Ему вдруг пришло в голову, что Тэренс, хоть он еще ребенок, мог бы этим заинтересоваться. Джону понравилось, как сын посмотрел на него через стол, прежде чем сказал: «Я не думаю, что он шутит».
В последнее время Тэренс в немилости. Он провинился — сломал кофемолку, пытаясь получить аммоний[156]. Аммоний! Чудак, зачем ему аммоний?! А действительно — зачем?..
Молчание мужа успокоило Герду. Когда ее не отвлекали разговорами, ей было легче вести машину. Кроме того, Джон, погруженный в свои мысли, мог и не заметить резкого скрежещущего звука, когда она с силой переключала скорость. Герда старалась переключать ее как можно реже.
Герда знала, что иногда ей удавалась эта процедура довольно хорошо. Но это случалось, только когда Джона в машине не было. Нервозность, желание сделать все правильно постоянно приводили к неудаче, ее движения становились суетливыми, она слишком сильно или, наоборот, слишком слабо нажимала на акселератор, а педаль сцепления выжимала так неловко и поспешно, что двигатель буквально вопил в знак протеста.
«Мягче, мягче, Герда, — просила Генриетта, обучая Герду несколько лет назад. — Ты должна чувствовать, куда хочет двигаться рычаг переключения скорости… Он должен скользнуть в гнездо. Держи ладонь раскрытой, пока не почувствуешь. Не надо толкать как придется, нужно почувствовать!»
Но Герда была не в состоянии испытывать какие-либо чувства к рычагу переключения скорости. Если его толкать в более или менее нужном направлении, он должен повиноваться. Машина просто не должна издавать этого отвратительного скрежещущего звука!
«В общем, все пока идет неплохо», — подумала Герда, начиная спуск с Мэшем Хилл. Джон все еще сидел, задумавшись, и не заметил довольно отчаянного скрежета на Кройдоне. Радуясь этому, видя, что ход машины увеличился, Герда переключила на третью скорость. Движение машины резко замедлилось… Джон словно очнулся.
— С какой стати ты переключаешь скорость, когда подходишь к спуску?
Герда стиснула зубы. Осталось уже немного. Нельзя сказать, чтобы она торопилась приехать… Нет, конечно! Пожалуй, она согласна провести еще несколько часов за рулем, даже если Джон потеряет терпение и выйдет из себя…
Теперь они проезжали Шавл Даун. Пламенеющий осенний лес подступал к дороге с обеих сторон.
— Как чудесно вырваться из Лондона! — воскликнул Джон. — Подумай только, Герда, мы торчим в темной гостиной за чашкой чаю… иногда при электрическом свете!
Немного темноватая гостиная на Харли-стрит возникла перед глазами Герды подобно восхитительному миражу. О, если бы она могла оказаться там сейчас!
— Все вокруг просто чудесно! — героически сказала Герда.
Вниз с крутого холма… Теперь уже не убежишь. Слабая надежда на то, что произойдет что-нибудь, вмешается какая-то сила и спасет ее от кошмарных выходных, не сбылась. Они уже приехали в «Лощину».
Она немного успокоилась, увидев Генриетту, сидевшую на перилах вместе с Мидж и каким-то худым человеком. Герда испытывала определенное доверие к Генриетте, потому что та всегда приходила на помощь, когда все укладывалось уж очень плохо.
Джон тоже был рад увидеть Генриетту. Это казалось необходимым завершением всей поездки на фоне прекрасной осенней панорамы: спуститься с горы и увидеть ожидавшую его Генриетту. На ней костюм из зеленого твида, который ему нравился. Он считал, что этот костюм идет ей значительно больше лондонских нарядов. На длинных, вытянутых вперед ногах Генриетты были хорошо начищенные, удобные для ходьбы туфли.
Они обменялись быстрой улыбкой. Короткое признание того, что рады видеть друг друга. Джону не хотелось говорить с Генриеттой сейчас, ему достаточно было радостного сознания, что она здесь. Без нее отдых был бы пустым и скучным.
— Как я рада видеть вас, Герда! И вас, Джон. Прошло столько времени!
Люси явно хотела показать, что именно Герда была желанной гостьей, которую ждали с нетерпением, а Джон лишь дополнение. Уловка леди Энкейтлл явно не имела успеха, и Герда сразу почувствовала себя скованно и неловко.
— Вы знакомы с Эдвардом? — спросила Люси. — Эдвард Энкейтлл.
— Нет, не думаю!
Джон слегка поклонился. Полуденное солнце осветило золото его волос и синеву глаз. Так мог выглядеть викинг-завоеватель, только что сошедший на берег. Голос, теплый и звучный, завораживал. Привлекательность облика этого человека сразу захватила всех присутствующих.
Яркая индивидуальность и теплота Джона нисколько не повредили Люси. Наоборот, они лишь подчеркнули ее неуловимое своеобразие. Женщина-эльф[157]. А Эдвард рядом с Джоном сразу как-то потускнел и ссутулился.
Генриетта сразу предложила Герде пройти на огород.
— Люси, конечно, захочет показать свой рокарий[158] и осенние цветы, — сказала она, проходя вперед, — но мне огород всегда казался лучше и спокойнее. Можно посидеть на тепличных рамах, если холодно, зайти в теплицу. Иногда попадается даже что-нибудь съедобное.
Они действительно нашли несколько запоздалых стручков зеленого гороха. Генриетта ела их сырыми. Герде они не очень нравились, но она рада была уйти от Люси Энкейтлл, которая вызывала в ней еще большую тревогу, чем обычно.
Сейчас Герда говорила свободно, почти оживленно. Все, что спрашивала Генриетта, было понятно, и Герда легко находила ответ. Через десять минут она почувствовала себя значительно лучше и подумала, что, может быть, все будет не так уж страшно.
— Зина начала посещать уроки танцев, — рассказывала Герда, — ей только что пошили новое платье.
Герда подробно и долго описывала фасон. А еще ей удалось найти новый магазин, где продаются заготовки из кожи. Генриетта спросила, трудно ли самой сделать себе сумку. Герда должна научить ее.
«В сущности, сделать Герду счастливой очень легко, — подумала Генриетта. — Она вся совершенно преображается! Нужно только, чтобы ей разрешили свернуться клубочком и сладко мурлыкать!»
Довольные, они болтали, сидя на углу тепличной рамы для огурцов, лучи заходящего солнца создавали полную иллюзию солнечного дня.
Затем наступила пауза, и оживление исчезло с лица Герды. Плечи поникли — олицетворение страдания. Она вздрогнула, услышав голос Генриетты:
— Зачем вы приехали, когда все здесь вам так ненавистно?
— О нет! Что вы! Почему вы так думаете?.. — быстро заговорила Герда. — Так чудесно уехать из Лондона, а леди Энкейтлл так добра, — добавила она, немного помолчав.
— Люси? Она совсем не добрая.
Герда казалась слегка шокированной.
— О, леди Энкейтлл действительно добра. Она всегда очень добра ко мне.
— У Люси прекрасные манеры, и она может быть любезной, но она довольно жестока. Я думаю потому, что она так не похожа на других. Она не знает, что думают и чувствуют обыкновенные люди. А вы, Герда, вы ненавидите эти визиты! Вы знаете, что я говорю правду. Зачем приезжать, если вам не хочется?
— Видите ли, Джону нравится…
— О, Джону нравится! Почему вы тогда не отпустите его одного?
— Он так не захочет. Он не может радоваться всему этому без меня. Джон так добр. Он считает, что мне очень полезно выезжать за город.
— За городом, конечно, хорошо, — продолжала Генриетта, — но зачем тащить вас к Энкейтллам?
— Я… мне не хотелось бы, чтобы вы считали меня неблагодарной!
— Дорогая Герда! Ну с какой стати вы должны любить нас?! Я всегда считала Энкейтллов отвратительным семейством. Мы все любим собираться и говорить на необычном собственном языке. Я не удивлюсь, если кому-нибудь со стороны хочется порой просто убить нас! Я думаю, пора пить чай, — добавила она, помолчав. — Давайте вернемся.
Генриетта наблюдала за лицом Герды, когда та, поднявшись, направилась к дому. «Интересно, — думала Генриетта, помимо воли привычно наблюдая происходящее и как бы со стороны. — Интересно увидеть, как на самом деле выглядели христианские мученицы, перед тем как шагнуть на арену…»[159]
Выходя из огорода, обнесенного стеной, они услышали выстрелы, и Генриетта сказала: «Похоже на то, что истребление Энкейтллов уже началось!»
Оказалось, сэр Генри и Эдвард, беседуя об огнестрельном оружии, начали иллюстрировать дискуссию стрельбой из револьверов. Огнестрельное оружие — хобби сэра Генри, и у него собралась неплохая коллекция. Он принес несколько револьверов и мишени, и они с Эдвардом стали соревноваться в стрельбе.
— Хэлло, Генриетта! Хочешь попробовать, сможешь ли ты убить грабителя?
Генриетта взяла револьвер.
— Правильно… Так! Теперь целься!
Бах!
— Промазала! — сказал сэр Генри. — Теперь вы, Герда!
— О, я думаю, что я…
— Смелей, миссис Кристоу! Это очень просто!
Зажмурив глаза и вздрогнув, Герда выстрелила.
Пуля пролетела еще дальше от мишени, чем у Генриетты.
— О-о, я тоже хочу! — сказала, подходя, Мидж. — Это труднее, чем кажется, — заметила она после нескольких выстрелов. — Но забавно!
Из дома вышла Люси. За ней следовал высокий, мрачного вида молодой человек, с сильно выдающимся кадыком на худой шее.
— Это Дэвид! — сказала леди Энкейтлл.
Затем, взяв револьвер у Мидж, перезарядила его и, пока муж здоровался с Дэвидом, не говоря ни слова, всадила три пули близко от центра мишени.
— Отлично, Люси! — воскликнула Мидж. — Я не знала, что стрельба из револьвера входит в число твоих талантов!
— Люси всегда убивает своего противника, — серьезно заметил сэр Генри.
Помолчав, он задумчиво сказал:
— Однажды это оказалось очень кстати. Помнишь, дорогая, тех головорезов, которые напали на нас на азиатском берегу Босфора?[160] Двое навалились на меня, и мы катались по земле. Они хотели меня задушить.
— А что сделала Люси?
— Она дважды выстрелила в эту свалку. Я даже не знал, что у нее был пистолет. Одному прострелила ногу, другому плечо. Я был на волосок от гибели. Понять не могу, как она не попала в меня?!
Леди Энкейтлл мило улыбнулась мужу.
— Думаю, иногда приходится рисковать, дорогой, — сказала она мягко. — В таких случаях нужно действовать быстро, не раздумывая.
— Отличная мысль, дорогая! — воскликнул сэр Генри. — Хотя меня слегка огорчил тот факт, что риску подвергался я сам!
Глава 8
После чая Джон пригласил Генриетту погулять, а леди Энкейтлл заявила, что обязательно должна показать Герде свой рокарий, хотя, конечно, сезон не очень подходящий.
«Прогулка с Джоном, — думала Генриетта, — совсем не похожа на прогулку с Эдвардом. С Эдвардом можно потихонечку брести. Он не любит себя утомлять». А за Джоном она поспевала с трудом. Когда они добрались до Шавл Дауна, Генриетта взмолилась, задыхаясь:
— Джон, ведь это не марафон![161]
— Я тебя совсем загонял! — Он замедлил шаг и улыбнулся.
— Да нет, я… просто зачем это нужно? Мы ведь не поезд догоняем. Откуда такая неистовая энергия? Ты что, пытаешься убежать от самого себя?
Джон резко остановился.
— Почему ты так говоришь?
— Я не имела в виду ничего определенного. — Генриетта с удивлением смотрела на него.
Джон снова двинулся вперед, но шел теперь медленнее.
— По правде говоря, — сказал он, — я устал… очень устал…
Генриетта уловила в его голосе нотку апатии.
— Как мамаша Крэбтри? Ей лучше?
— Рано еще говорить об этом. Надеюсь, мне удалось найти то, что нужно. Если я прав, — он снова ускорил шаг, — многие наши методы придется пересмотреть. Надо будет заново изучить всю проблему гормонной секреции в целом.
— Ты хочешь сказать, что будет найдено средство от болезни Риджуэя? И от нее перестанут умирать?
— Между прочим, и это…
«Какие странные люди, эти врачи, — подумала Генриетта. — Между прочим!»
— С научной точки зрения это открывает широкие возможности. — Джон глубоко вздохнул. — А все-таки как хорошо оказаться здесь, глотнуть свежего воздуха… Увидеть тебя! — Он улыбнулся внезапной, мимолетной улыбкой. — И для Герды это полезно.
— Уж конечно, Герда в восторге от «Лощины»!
— Разумеется! Между прочим, я встречался раньше с Эдвардом?
— Ты встречался с ним дважды, — сухо сказала Генриетта.
— Не помню. Он из каких-то неопределенных, незаметных людей.
— Эдвард очень милый. Мне он всегда нравился.
— Ну стоит ли терять время на Эдварда! Такие люди — не в счет!
— Иногда, Джон, мне просто страшно за тебя! — тихо сказала Генриетта.
— Страшно? — удивленно посмотрел на нее Джон. — Почему?
— Ты ничего не видишь вокруг… Ты просто слепой!
— Слепой?!
— Ты не видишь, не знаешь, что чувствуют люди…
— Ну я бы этого не сказал!
— Ты видишь только то, на что смотришь. Ты… как луч маяка! Мощный луч, направленный на то, что тебя интересует, и все остальное — сплошная темнота.
— Генриетта, милая, о чем ты?
— Это опасно, Джон! Ты полагаешь, что все тебя любят, все доброжелательны. Например, Люси.
— Разве Люси мне не симпатизирует? — спросил он удивленно. — Мне она всегда нравилась!
— И поэтому ты решил, что она отвечает тем же? А я совсем в этом не уверена. И Герда и Эдвард… Или Мидж и Генри?.. Откуда ты знаешь, что они о тебе думают?
— А Генриетта? Ты знаешь, что она чувствует? — Он на минуту взял ее за руку. — По крайней мере, в тебе я уверен!
Она быстро отдернула руку.
— Ты ни в ком не можешь быть уверен, Джон! Ни в ком!
Лицо Джона помрачнело.
— Нет, я с этим не согласен! Я уверен в тебе и в себе. По крайней мере…
Тень пробежала по его лицу.
— Джон, что случилось?
— Знаешь, на чем я поймал себя сегодня? Я заметил, что все время повторяю нечто невероятно странное: «Я хочу домой!» Я повторял эту фразу, не имея ни малейшего понятия, что она значит!
— Очевидно, ты имел в виду что-то определенное, — медленно произнесла Генриетта.
— Ничего! — резко сказал Джон. — Абсолютно ничего!
Вечером за обедом Генриетту усадили рядом с Дэвидом, и тонкие брови Люси просигналили ей команду, нет, не команду, Люси никогда не командовала, а просьбу…
Сэр Генри старался занять Герду и явно преуспел в этом. Джон с интересом и видимым удовольствием следил за стремительными, оригинальными поворотами мысли Люси, легко перескакивающей с предмета на предмет. Мидж вела сухую, какую-то неестественную беседу с Эдвардом, более рассеянным, чем обычно.
Дэвид сердито смотрел на всех и крошил хлеб нервными пальцами. Он ехал в «Лощину» с большим нежеланием. До сих пор ему не приходилось встречаться ни с сэром Генри, ни с леди Энкейтлл, и, относясь отрицательно ко всей Британской империи вообще, он был готов так же критично отнестись к своим родственникам. Эдварда он знал раньше и презирал как дилетанта. Остальных гостей он тоже оценивал критически. Родственники, по его мнению, вообще довольно несносны, кроме того, от него, очевидно, ожидают какого-то общения, разговоров, одним словом, того, что он терпеть не может.
Мидж и Генриетту он сразу же зачислил в разряд пустышек и невежд. Этот доктор Кристоу — один из типичных шарлатанов с Харли-стрит. Изысканные манеры, успех в обществе… А жена его вообще не в счет.
Дэвид нервно дернул шеей, поправляя воротничок сорочки, и подумал: как было бы хорошо, если б все эти люди знали, что он о них думает! В самом деле, все они довольно ничтожны! Повторив это заключение три раза в уме, он почувствовал себя значительно лучше. Он все еще продолжал злиться, но уже мог оставить в покое хлеб.
Генриетта, чутко уловившая сигнал бровей Люси, испытывала, однако, определенные трудности. Разговор никак не завязывался. Отрывистые ответы Дэвида были до крайности пренебрежительны. В конце концов она решила прибегнуть к испытанному средству, которое всегда применяла в общении с молчаливыми людьми. Зная, что Дэвид обладает определенными познаниями в области музыки, Генриетта умышленно сморозила какую-то глупость по поводу одного современного композитора. К ее удовольствию, уловка имела успех. Дэвид, нахохлившийся, неловко привалившийся к спинке стула, вдруг весь подобрался, перестал мямлить, заговорил четко и ясно.
— Ваши слова, — громко произнес он, устремив холодный взгляд на Генриетту, — свидетельствуют о том, что вы ровным счетом ничего в этом не смыслите.
Он до конца обеда поучал ее, очень уверенным и язвительным тоном, а Генриетта скромно молчала, изображая из себя робкую ученицу.
Люси Энкейтлл послала благодарный взгляд на другой конец стола, а Мидж про себя усмехнулась.
— Какая ты умница, дорогая, — прошептала леди Энкейтлл, взяв Генриетту под руку, когда они после обеда перешли в гостиную. — Как все-таки ужасно! Чем меньше у людей мыслей в голове, тем лучше они знают, куда девать свои руки! Как ты думаешь, что предложить — бридж, или румми, или что-нибудь страшно простенькое, вроде энимал грэб?[162]
— По-моему, Дэвид сочтет себя оскорбленным, если предложить грэб.
— Пожалуй, ты права. В таком случае — бридж. Я убеждена, что он считает бридж пустым занятием, и в таком случае его презрение к нам будет оправдано.
Было расставлено два стола. Генриетта играла с Гердой против Джона и Эдварда. Идея распределения игроков принадлежала не Генриетте. Она только хотела отделить Герду от Люси, а если возможно, то и от Джона… Но Джон был настойчив, а Эдвард опередил Мидж.
«Обстановка, — думала Генриетта, — не очень спокойная». Но она никак не могла понять причину напряженности. Как бы то ни было, она решила, что Герда должна выиграть, может, хотя бы это внесет разрядку в напряженную атмосферу гостиной.
Герда, в общем, не так уж плохо играла в бридж. Когда рядом не было Джона, она была рядовым средним игроком, но игроком нервным, который не в состоянии правильно оценить ни свои карты, ни ситуацию. Джон был хорошим игроком, хотя слегка самоуверенным. Эдвард играл в бридж отлично.
К концу вечера за столиком Генриетты играли все тот же роббер[163]. Странная напряженность этого вечера витала над карточным столиком, и не замечал этого только один игрок. Для Герды это была просто игра, от которой она получала редкостное удовольствие. Ею овладело приятное возбуждение. Трудные решения неожиданно облегчались тем, что Генриетта ей подыгрывала, наперед подсказывая свой ход.
Случалось, Джон, не ведавший, до какой степени она боится его замечаний, восклицал: «Ну с какой стати ты ходишь с трефовой масти?», но Генриетта тут же парировала: «Глупости, Джон, конечно же, только с трефовой! Это единственно возможный вариант».
Наконец, облегченно вздохнув, Генриетта придвинула к себе записи и сказала:
— Партия и роббер! Но я не думаю, Герда, что мы много выиграли.
— Удачная проделка! — бодро отозвался Джон.
Генриетта быстро взглянула на него. Она хорошо знала Джона и, встретившись с ним взглядом, опустила глаза. Поднявшись, она подошла к камину. Джон последовал за ней.
— Ты ведь не всегда заглядываешь в чужие карты, не правда ли? — спросил он насмешливо.
— Пожалуй, мои действия были слишком очевидны, — спокойно ответила Генриетта. — Но неужели так постыдно хотеть выиграть?
— Ты хотела, чтобы выиграла Герда. Так? Желая доставить людям удовольствие, ты готова даже жульничать!
— Как ужасно ты это сказал! Но ты, разумеется, как всегда прав.
— Судя по всему, твое желание выиграть разделял и мой партнер.
«Значит, Джон тоже заметил», — подумала Генриетта. Она сама не была уверена в своих подозрениях. Эдвард играет так мастерски… не к чему придраться! Случайный просчет — чего в игре не бывает! Или в другом случае — совершенно правильный и очевидный ход, который не привел к успеху только потому, что был слишком очевидным… Генриетта сразу же отметила эти нарочитые мелочи в игре Эдварда, и они обеспокоили ее. Она знала, что Эдвард никогда не станет подыгрывать, чтобы она, Генриетта, выиграла. Он был слишком верен английским представлениям о чести и порядочности. «Нет, — подумала она, — просто Эдвард не мог перенести еще одного успеха Джона Кристоу!»
Внезапно она почувствовала себя крайне взвинченной, настороженной. Эта вечеринка вдруг стала ей совсем не по душе…
И тут совершенно неожиданно, совсем как в театральном спектакле, стеклянная дверь широко распахнулась и на пороге комнаты появилась Вероника Крэй!
Вечер был теплый, и двери в сад были чуть приоткрыты. Вероника вошла и остановилась. Ее фигура четко вырисовывалась на фоне ночи. Вероника улыбалась слегка грустной, но очаровательной улыбкой, выдерживая маленькую паузу, словно для того, чтобы ознакомиться со своей аудиторией, прежде чем заговорить.
— Простите за неожиданное вторжение. Я ваша соседка, леди Энкейтлл… Из этого нелепого коттеджа «Голубятня». Со мной произошла ужасная катастрофа. — Улыбка Вероники стала еще шире, еще простодушнее. — Ни одной спички! Ни единой во всем доме! И это в субботу вечером! Ужасно глупо, но что мне было делать? Я пришла за помощью к моим единственным ближайшим соседям…
Какое-то мгновение все молчали — обычная реакция на ее появление. Вероника была очень красива… Вернее, даже ослепительно красива — просто дух захватывало! Волны светлых, мерцающих волос, дивный изгиб рта… Серебристый лисий мех на плечах, длинные, ниспадающие складки белого бархата… Она переводила взгляд, шутливый, прелестный, с одного из присутствующих на другого.
— А я курю, — продолжала она, — дымлю, как печная труба! Моя зажигалка не работает! К тому же завтрак… у меня газовая плита. — Она беспомощно развела руки. — Я, право же, чувствую себя так глупо.
Люси, слегка забавляясь этой сценой, чуть наклонила голову.
— Разумеется… — любезно начала она.
Но Вероника Крэй перебила ее. Она смотрела на Джона Кристоу. Выражение крайнего удивления и восторга разлилось по ее лицу. Протянув руки, она шагнула к нему.
— Да ведь это… ну конечно!.. Джон! Джон Кристоу! Невероятно! Я не видела вас Бог знает сколько лет! И вдруг встречаю… здесь!
Вероника держала его руки в своих, вся — воплощение теплоты и простодушной радости. Слегка повернув голову в сторону Люси, она сказала:
— Какой замечательный сюрприз! Джон — мой старый друг. Господи, Джон был первый мужчина, которого я любила! Я была без ума от вас, Джон!
Она говорила с нежной усмешкой, как женщина, растроганная воспоминаниями о первой любви.
— Я всегда считала Джона необыкновенным!
Сэр Генри любезно предложил ей что-нибудь выпить.
— Мидж, дорогая, — сказала леди Энкейтлл, — позвони, пожалуйста, пусть придет Гаджен.
— Коробку спичек, Гаджен, — обратилась она к дворецкому, когда тот вошел. — Надеюсь, на кухне их достаточно?
— Сегодня получили дюжину, миледи!
— В таком случае, Гаджен, принесите полдюжины коробок.
— О нет, леди Энкейтлл, только одну! — смеясь, протестовала Вероника. Держа бокал в руке, она улыбалась всем в гостиной.
— Вероника, это моя жена! — сказал Джон, представляя ей Герду.
— О! Как приятно познакомиться! — Вероника сверкнула улыбкой в ответ на полную растерянность Герды.
Гаджен принес спичечные коробки, аккуратно разложенные на серебряном подносе. Леди Энкейтлл жестом указала на Веронику, и дворецкий подошел к ней.
— О, дорогая леди Энкейтлл, мне не нужно так много!
С истинно королевской небрежностью Люси сказала:
— Мы с удовольствием поделимся с вами.
— Как там у вас в «Голубятне»? — любезно осведомился сэр Генри.
— Обожаю «Голубятню»! Просто чудесно — недалеко от Лондона и в то же время чувствуешь себя уединенно.
Вероника поставила бокал. Она чуть плотнее закуталась в лисий мех и снова озарила всех улыбкой.
— Я вам так благодарна! Вы так добры! — Слова проплыли в воздухе где-то между сэром Генри, леди Энкейтлл и почему-то Эдвардом. — Понесу добычу домой!
— Джон. — Она улыбнулась ему безыскусно и дружески. — Вы должны проводить меня. Я ужасно хочу услышать обо всем, что вы делали эти долгие-долгие годы. Хотя, конечно, экскурс в прошлое заставляет чувствовать себя ужасно старой!..
Она направилась к двери, и Джон последовал за ней. И еще одна блистательная улыбка Вероники снова озарила гостиную.
— Ужасно сожалею, что вторглась к вам из-за такого пустяка. Огромное спасибо, леди Энкейтлл!
Она ушла вместе с Джоном. Сэр Генри смотрел им вслед, стоя у окна.
— Ночь довольно теплая, — сказал он.
Леди Энкейтлл зевнула.
— О, Господи, — проговорила она, — пора спать! Генри, мы должны посмотреть какой-нибудь кинофильм с ее участием. После сегодняшнего вечера я убеждена, что она прекрасная актриса!
Люси поднялась по лестнице. Мидж, пожелав ей спокойной ночи, спросила:
— Прекрасная актриса?
— Ты не согласна, дорогая?
— Признайся, Люси, ты считаешь, что на самом деле у нее были спички!
— Полагаю, не менее дюжины коробок, дорогая! Но мы должны быть щедрыми… К тому же это было действительно великолепное представление!
Пожелав друг другу спокойной ночи, все расходились по своим комнатам, двери вдоль коридора закрывались одна за другой.
— Я оставил дверь в сад открытой. Для Кристоу, — сказал сэр Генри.
— Как забавны эти актрисы! — Генриетта улыбнулась Герде. — Их появление и уход так восхитительно театральны! — Она зевнула. — Ужасно хочу спать!
Вероника Крэй быстро шла по узкой дорожке через каштановую рощу. Она вышла на открытое место у плавательного бассейна. Рядом был небольшой павильон, где Энкейтллы обычно располагались в солнечные, но ветреные дни.
Вероника остановилась. Она повернулась к Джону и, засмеявшись, показала на бассейн, покрытый опавшими листьями.
— Не очень-то похоже на Средиземное море? Верно, Джон?
Теперь он понял, чего постоянно ждал все это время… Понял, что все пятнадцать лет разлуки с Вероникой она все-таки была с ним. Синева моря, запах мимозы, жаркий песок… Все это было загнано внутрь, подальше от взглядов, но не забыто. И значило только одно — Вероника! Он снова был двадцатичетырехлетним юношей, страстно и мучительно влюбленным, и на этот раз не собирался бежать.
Глава 9
Джон Кристоу вышел из каштановой рощи к зеленому склону около дома. Светила луна, и дом нежился в лунном свете, так невинно сияя своими завешенными окнами.
Джон взглянул на часы. Было три часа утра. Он глубоко вздохнул, лицо его стало озабоченным. Теперь он даже отдаленно не напоминал влюбленного двадцатичетырехлетнего юношу. Это снова был трезвый, практичный человек примерно сорока лет.
Он, конечно, вел себя как дурак, как последний дурак, черт побери, но не жалел об этом! Потому что знал — теперь он свободен! Все эти годы он тащил на себе груз, а сейчас он его сбросил. Свобода! Он стал самим собой, и теперь для него, Джона Кристоу, преуспевающего специалиста с Харли-стрит, Вероника Крэй ничего, ровным счетом ничего не значит! Все это в прошлом… но все эти годы он презирал себя за то, что, тогда попросту сбежал, вот почему образ Вероники никогда не оставлял его.
Сегодня она явилась из юношеской мечты, сновидения… и он принял это как сон, но теперь, слава Богу, навсегда освободился от наваждения. Он вернулся в настоящее… однако было три часа утра, и он порядком нагородил глупостей…
С Вероникой он пробыл часа три. Она появилась, как пиратский фрегат, захватила его в плен и унесла, словно трофей. Господи, что все они подумали о нем?!
Что, к примеру, подумала Герда?
Или Генриетта? Впрочем, Генриетта не так его беспокоила. Он чувствовал, что, если понадобится, он сможет ей все объяснить. Но что он скажет Герде!
Он не хотел, не хотел ничего терять! Всю жизнь он прибегал только к оправданному риску: в лечении больных, вложении капитала… Никакого безрассудства, лишь трезвый расчет на грани безопасности.
Если Герда догадалась… если у нее есть хоть малейшее подозрение…
Полно, какие подозрения? А в сущности, что он знает о Герде? Вообще-то Герда поверит, что белое — это черное, если он ей так скажет, но в таком вопросе, как этот…
Интересно, как он выглядел, следуя за высокой, торжествующей Вероникой? Что выражало его лицо? Было это лицо мальчишки, ослепленного, измученного любовью, или мужчины, выполняющего долг вежливости? Этого он не знал… Не имел ни малейшего представления!
Джон испугался… испугался за привычную легкость своего упорядоченного и безопасного существования. «Я просто сошел с ума, совершенно обезумел!» — с отчаянием подумал Джон и находил утешение именно в этой мысли: никто, конечно, не поверит, что он мог до такой степени потерять голову!
Наверное, все давно в постели и спят. Стеклянная дверь в малой гостиной наполовину открыта, очевидно, оставлена до его возвращения. Джон снова посмотрел на безмятежно спящий дом. Какой-то уж слишком безмятежный и невинный.
Внезапно он вздрогнул. Он услышал, или ему показалось, что услышал, слабый звук закрываемой двери. Он резко повернул голову. Если кто-то шел за ним до бассейна… ждал его возвращения, а потом, когда он вернулся, пошел за ним следом, то этот кто-то мог войти в дом через боковую дверь. Похоже, именно ее сейчас закрыли.
Джон пристально вглядывался в окна. Ему показалось или действительно дрогнула занавеска, которую отодвинули и сразу опустили?.. Комната Генриетты…
«Генриетта! Нет, только не Генриетта! — застучало в панике сердце. — Я не могу потерять Генриетту».
Ему вдруг захотелось бросить горсть гравия в окно и позвать ее.
«Выйди, любовь моя! Выйди ко мне. Мы пройдем через лес до вершины холма, и там я расскажу… расскажу обо всем, что знаю теперь о себе самом и что должна знать и ты, если еще не догадалась обо всем сама».
«Я все начинаю сначала, — хотелось ему сказать Генриетте. — Сегодня я начинаю новую жизнь. Все, что уродовало меня и мешало мне жить, ушло. Ты права была сегодня, когда спросила, не пытаюсь ли я убежать сам от себя. Именно это я и делал все последние годы, потому что не знал, сила моя или слабость оторвала меня от Вероники. Я боялся себя, боялся жизни, боялся тебя…»
Если бы он мог разбудить Генриетту, заставить ее пойти с ним через лес туда, где они вдвоем могли бы смотреть, как солнце поднимается из-за края земли.
«Ты с ума сошел, — сказал себе Джон. Он весь дрожал. Было холодно, стояли поздние дни сентября. — Какого черта? Что с тобой творится? Ты и так достаточно накуролесил для одного дня! Если все обойдется, можешь считать, что тебе повезло! Господи, что подумает Герда, если он, явится только утром вместе с разносчиком молока?»
А что подумают Энкейтллы? Впрочем, это его не волновало. Энкейтллы сверяли время не по Гринвичу[164], а по леди Энкейтлл, а для Люси все необычное представлялось вполне разумным.
Но Герда, к сожалению, не была Энкейтлл. Гердой придется заняться, и чем скорее он это сделает, тем лучше.
Допустим, Герда следила за ним ночью…
Не стоит уверять себя в том, что люди не поступают подобным образом. Он ведь врач и слишком хорошо знает, как иногда ведут себя возвышенные, утонченные, уважаемые люди… Как они подслушивают под дверью, вскрывают чужие письма, подсматривают, и не потому, что могут найти этому хоть какое-то оправдание…
Просто сила страсти доводит их до отчаянных поступков.
«Бедняги, — думал Джон. — Несчастные страдальцы…» Джон Кристоу знал немало о человеческих страданиях. В нем не было особой жалости к слабым, но он жалел страждущих, потому что знал: страдают сильные.
Если Герда знает…
«Глупости, — говорил он сам себе, — как она может знать? Она сразу ушла к себе и сейчас крепко спит. У нее никогда не было воображения».
Джон вошел в дом, включил лампу и закрыл стеклянную дверь в сад. Затем, выключив свет, вышел из гостиной, зажег свет в холле, быстро и легко поднялся по лестнице и выключил свет поворотом выключателя наверху. Постояв минуту перед дверью в спальню, он нерешительно взялся за ручку и наконец вошел.
В комнате было темно, и слышалось ровное дыхание Герды. Когда он закрыл за собой дверь, Герда пошевелилась.
— Это ты, Джон? — послышался ее голос, со сна невнятный и неразборчивый.
— Да.
— Ты что-то очень поздно! Который час?
— Понятия не имею! — ответил он легко. — Извини, что разбудил. Я вынужден был зайти к этой женщине и выпить. — Джон старался, чтобы голос звучал как у человека скучающего и сонного.
— О! Спокойной ночи, Джон! — пробормотала Герда.
Все было в порядке! Как всегда, ему повезло. Как всегда… Мысль о том, как часто ему везло, на минуту отрезвила его. Много раз наступал момент, когда он, затаив дыхание, говорил себе: «Если это не удастся…» Однако все удавалось! Но, конечно, настанет день, когда удача изменит ему…
Джон быстро разделся и лег в кровать. Ему вспомнилось забавное детское гадание: «А эта карта, которая над твоей головой, папа, она имеет над тобой власть!» Вероника! Она действительно имела над ним власть… «Но впредь, душенька, этого не будет! — подумал он с жестоким удовлетворением. — С этим покончено! Теперь я совершенно свободен!»
Глава 10
Когда на следующее утро Джон спустился вниз, было уже десять часов. Завтрак стоял на буфете. Герде подали завтрак в постель, хоть она все время переживала, что «причиняет беспокойство».
— Глупости, — сказал Джон. — Люди, ранга Энкейтллов, которые все еще могут иметь дворецкого и прислугу, должны занять их работой.
Этим утром Джон был очень добр к Герде. Нервная раздражительность, буквально разъедавшая его последнее время, исчезла.
Леди Энкейтлл сказала, что сэр Генри и Эдвард отправились пострелять. Сама она была в садовых перчатках и с корзинкой — работала в саду. Джон разговаривал с ней, когда подошел Гаджен — он принес письмо на подносе.
— Только что принесли, сэр.
Джон взял письмо, слегка подняв удивленно брови.
Вероника!
Он направился в библиотеку, на ходу разрывая конверт.
«Приходи, пожалуйста, сегодня утром. Я должна тебя видеть.
Вероника».
«Высокомерна и властна, как всегда!» — подумал Джон. Ему не хотелось идти, но потом он подумал, что лучше покончить со всем сразу. Он дойдет прямо сейчас.
Джон пошел по дорожке напротив библиотечного окна, мимо плавательного бассейна, который был как бы центром: от него радиусами отходили по всем направлениям дорожки — одна вверх, к лесу; другая — к цветочным клумбам за домом; третья — к ферме; четвертая вела к неширокой дороге, по которой он и направился. Коттедж «Голубятня» был чуть выше.
Вероника ждала его. Она окликнула его из окна претенциозного, с верхним деревянным этажом, дома.
— Входи, Джон! Утро сегодня холодное.
В гостиной, обставленной белой мебелью с подушками цвета бледного цикломена[165], горел камин.
Окинув Веронику оценивающим взглядом, Джон увидел при утреннем свете то, что не в состоянии был заметить прошлой ночью: разницу между сегодняшней Вероникой и девушкой, которую постоянно помнил.
«По правде говоря, — думал Джон, — сейчас она гораздо красивее, чем была раньше». Теперь она лучше понимала свою красоту, заботилась о своей внешности и умело ее подчеркивала. Волосы, которые были прежде густого золотого цвета, стали серебристо-платиновыми. Новый рисунок бровей придавал большую пикантность. Красота Вероники никогда не была ни глупой, ни пустой. Вероника, насколько он помнил, всегда считалась одной из «интеллектуальных актрис». У нее были университетский диплом и степень, а также собственное мнение о Стриндберге[166] и Шекспире.
Джона поразило то, о чем он лишь смутно догадывался раньше: перед ним была чудовищно эгоистичная женщина. Она привыкла всегда получать желаемое, и под привлекательной, красивой внешностью Джон чувствовал отталкивающе жесткий характер.
— Я послала за тобой, — сказала Вероника, протягивая ему коробку сигарет, — потому что нам необходимо поговорить. Мы должны предпринять определенные шаги. Я имею в виду наше будущее.
Джон взял сигарету, закурил.
— А у нас есть будущее?
Вероника пристально посмотрела на него.
— Что ты имеешь в виду? Конечно, у нас есть будущее. Мы и так потеряли пятнадцать лет.
Джон сел.
— Извини, Вероника, но, боюсь, ты не так поняла. Мне… было очень приятно встретиться с тобой, но у тебя своя жизнь, а у меня — своя. Они совершенно разные.
— Глупости, Джон! Я люблю тебя, и ты любишь меня. Мы всегда любили друг друга. Ты был невероятно упрям, но не стоит теперь говорить об этом. Наши с тобой жизни не будут мешать друг другу. Я не собираюсь возвращаться в Штаты. Когда закончится моя работа в фильме, который сейчас снимается, я буду играть на лондонской сцене. У меня есть чудесная пьеса… Элдертон написал ее специально для меня. Успех будет грандиозный!
— Не сомневаюсь, — любезно сказал Джон.
— Ты можешь продолжать свою работу. — В ее голосе была доброта и снисходительность. — Говорят, ты довольно известен.
— Я женат, дорогая! У меня дети.
— Я и сама в данный момент замужем. Но это легко уладить. Хороший адвокат обо всем позаботится. — Вероника ослепительно улыбнулась. — Мне всегда хотелось выйти за тебя замуж. Сама не могу объяснить этого желания, но это так!
— Прости, Вероника, но никакой, даже самый хороший адвокат не понадобится. У нас с тобой нет ничего общего.
— И после вчерашнего?..
— Ты не ребенок, Вероника. У тебя было немало мужей и, по-видимому, немало любовников. Что значит прошлая ночь? Ничего, и ты это знаешь.
— О Джон, дорогой мой! — Она все еще была в хорошем настроении и снисходительна. — Если бы ты видел свое лицо… там, в этой душной гостиной! Можно было подумать, что ты снова очутился в Сан-Мигеле!
Джон вздохнул.
— Я был в Сан-Мигеле, — сказал он. — Попытайся понять, Вероника. Ты явилась ко мне из прошлого. Вчера я тоже был весь в прошлом, но сегодня… сегодня все иначе. Я стал на пятнадцать лет старше. Человек, которого ты не знаешь и который, я полагаю, тебе не очень бы понравился, узнай ты его поближе.
— Ты предпочитаешь мне своих детей и жену?! — Она была искренне удивлена.
— Как ни странно тебе это покажется, — да!
— Глупости, Джон! Ты меня любишь.
— Прости, Вероника.
— Ты не любишь меня? — спросила она недоверчиво.
— Ты необыкновенно красивая женщина, Вероника, но я не люблю тебя.
Вероника застыла словно восковая фигура, и эта неподвижность вызывала тревогу. Когда она заговорила, в ее голосе было столько злобы, что Джон отпрянул.
— Кто она?
— Она? Кого ты имеешь в виду?
— Женщина, которая вчера вечером стояла у камина?
«Генриетта, — подумал Джон. — Черт побери, как она догадалась?» Вслух он сказал:
— О ком ты говоришь? Мидж Хардкасл?
— Мидж? Эта коренастая темноволосая девушка? Нет, я не ее имею в виду и не твою жену. Я говорю об этой дерзкой чертовке, которая стояла, облокотившись о камин. Это из-за нее ты меня отталкиваешь! О, не притворяйся паинькой. У него, видите ли, жена и дети. Это та, другая женщина!
Вероника встала и подошла к нему.
— Пойми, Джон, с тех пор как полтора года назад я вернулась в Англию, я думаю только о тебе. Как, по-твоему, почему я приехала в этот дурацкий коттедж? Да я просто-напросто узнала, что ты часто наезжаешь сюда, к Энкейтллам!
— Значит, все вчерашнее было спланировано заранее?!
— Ты мой, Джон! И всегда был моим!
— Я — ничей, Вероника! Разве жизнь до сих пор не научила тебя, что нельзя владеть душой и телом другого человека? Я любил тебя, когда был молод, хотел, чтобы ты разделила мою судьбу. Ты отказалась!
— Моя жизнь и карьера были намного важнее твоей. Стать врачом — это каждый может!
Ее заносчивость вывела его из себя.
— Не думай, что ты так знаменита, как тебе кажется!
— Ты хочешь сказать, что я не достигла вершины? Я там буду! Буду!
Джон Кристоу посмотрел на нее с холодным любопытством.
— Знаешь, я не верю, что ты этого добьешься. У тебя есть одно неприятное качество, Вероника. Тебе бы только все хватать и вырывать… В тебе нет истинного великодушия. Я думаю…
Вероника поднялась с кресла.
— Ты отверг меня пятнадцать лет назад, — тихо сказала она. — И отвергаешь снова. Я заставлю тебя пожалеть об этом.
Джон встал, собираясь уходить.
— Прости, Вероника, если я тебя обидел. Ты очень красива, дорогая, и я очень любил тебя. Но нельзя ли нам на этом и остановиться?
— До свиданья, Джон. Нет, на этом мы не остановимся. Скоро ты это поймешь. Мне кажется… я ненавижу тебя, как никого на свете!
Джон пожал плечами.
— Прости! И… прощай.
Джон медленно возвращался через лес; дойдя до плавательного бассейна, сел на скамью. Он не жалел, что так обошелся с Вероникой. «Вероника, — подумал он бесстрастно, — отвратительное создание!» Она всегда была такой, и самое лучшее, что он когда-либо сделал, — это вовремя освободился от нее! Не сделай он этого, один Господь Бог знает, что бы с ним было.
Он испытывал необыкновенное чувство, сознавая, что начинает новую жизнь, не запятнанную прошлым. Последний год или два жить с ним, пожалуй, было невероятно трудно… «Бедная Герда, — думал он, — с ее бескорыстием и постоянным желанием угодить!» Впредь он будет добрее.
Может быть, теперь он перестанет злиться на Генриетту. Вообще-то Генриетта не из тех, кого можно задирать. Бури проносятся над ее головой, словно бы ее не задевая, ее взгляд всегда устремлен на вас откуда-то издалека.
«Я пойду к Генриетте и скажу ей…» — подумал он.
Вдруг Джон резко поднял голову, потревоженный каким-то неожиданным звуком. В лесу, чуть повыше, раздавались выстрелы; отовсюду доносились привычные лесные шорохи, печальный, чуть слышный шелест падающих листьев. Но это был другой звук… сухой, отрывистый щелчок.
Внезапно Джон остро ощутил опасность. Сколько времени он просидел здесь? Полчаса? Час? Кто-то следил за ним. Кто-то… Этот щелчок, конечно, это…
Джон резко повернулся. Он вообще реагировал на все очень быстро. Но в данном случае недостаточно быстро… Глаза его широко раскрылись от удивления, но он не успел издать ни звуки.
Прогремел выстрел, и Джон упал, растянувшись на краю бассейна. Темное пятно медленно расползлось на левом боку; тоненькая струйка потекла на бетон, а оттуда красные капли стали падать в голубую воду бассейна.
Глава 11
Эркюль Пуаро смахнул последнюю пылинку со своих туфель. Он очень тщательно одевался к предстоящему ленчу и остался доволен результатом.
Хотя он достаточно хорошо знал, какой костюм полагался для воскресного дня в загородном английском поместье, он не пожелал следовать английской традиции. У Эркюля Пуаро были свои собственные представления об элегантности. Он не английский помещик и не станет одеваться, как английский помещик. Он — Эркюль Пуаро!
Пуаро не нравилось (он признавался себе в этом) жить в сельской местности, проводить выходные в коттедже!.. Но многие из его друзей так носились с этой идеей, что и он наконец купил коттедж «Тихая гавань», хотя единственное, что ему нравилось, — это архитектура дома… Настоящий куб, совсем как коробка! Местные пейзажи хоть и числились красивейшими в Англии, для Пуаро были совершенно безразличны. Все здесь было, по его мнению, слишком асимметрично, чтобы нравиться. Пуаро не любил деревьев из-за их неопрятной привычки сбрасывать листья. Он еще мог терпеть тополь и одобрял араукарию[167], но буйство дубов и буков совсем не производило на него впечатления. Таким пейзажем лучше всего наслаждаться в погожий день из окна автомобиля и, воскликнув «Quel beau paysage!»[168], поскорее возвратиться в хороший отель.
Лучшим местом в «Тихой гавани», по мнению Пуаро, был маленький огород с аккуратно спланированными грядками. Их разбил садовник-бельгиец Виктор, а его жена охотно посвятила себя заботам о желудке хозяина.
Эркюль Пуаро прошел через калитку, вздохнув, посмотрел еще раз на свои сверкающие черные туфли, поправил гамбургскую шляпу[169] и оглядел дорогу. При виде соседнего коттеджа — «Голубятни» он даже слегка вздрогнул. Эти два коттеджа — «Тихая гавань» и «Голубятня» — были построены соперничавшими архитекторами, которые приобрели по небольшому участку земли. Дальнейшая их деятельность была ограничена Национальным комитетом по охране природы. Коттеджи представляли разные школы архитектурной мысли. «Тихая гавань» — коробка с крышей, строго современная и несколько скучная; «Голубятня» — смесь разных стилей, затиснутая в минимальное пространство.
Эркюль Пуаро вел мысленный спор сам с собой, каким путем направиться к «Лощине». Он знал, что немного выше дороги есть небольшая калитка и тропинка. Этот «неофициальный» путь сэкономит добрых полмили. Однако Эркюль Пуаро, приверженец этикета, избрал более длинный путь, чтобы подойти к дому, как полагается, с главного входа.
Это был его первый визит к сэру и леди Энкейтлл, и он полагал, что не стоит пользоваться кратчайшим путем без специального разрешения, особенно если идешь в гости к людям с видным общественным положением. Пуаро, признаться, был польщен этим приглашением.
— Je suis un peu snob![170] — пробормотал он.
У него сохранилось приятное впечатление от встречи с Энкейтллами в Багдаде, особенно от леди Энкейтлл. «Une originale!»[171] — подумал он.
Пуаро рассчитал, сколько потребуется времени, чтобы пройти пешком до «Лощины», и его расчет оказался верным. Без одной минуты час он позвонил в дверь. Пуаро был рад, что наконец добрался; он не любил ходить пешком и слегка устал.
Дверь открыл великолепный, по мнению Пуаро, дворецкий. Прием, однако, оказался не совсем таким, как он надеялся.
— Ее сиятельство в павильоне около плавательного бассейна. Не угодно ли вам следовать за мной?
Пристрастие англичан к приемам на свежем воздухе всегда раздражало Эркюля Пуаро. «В середине лета с такой прихотью еще можно мириться, — думал он, — но в конце сентября!» Дни, правда, стояли теплые, но все же, как и полагается осенью, в воздухе чувствовалась сырость. Насколько приятнее было бы войти в уютную гостиную, где, может быть, даже горит камин… Так нет же! Вместо этого его через застекленную дверь по склону лужайки потащили в сад, мимо рокария и, наконец, через небольшую калитку вывели на узкую тропинку, проложенную среди густо растущих каштанов.
У Энкейтллов было заведено приглашать гостей к часу дня и в погожие дни пить коктейли и херес в небольшом павильоне около плавательного бассейна. Ленч назначался на час тридцать с тем расчетом, что к этому времени сумеют прибыть даже самые непунктуальные из гостей, и это даст возможность замечательному повару леди Энкейтлл — миссис Медуэй — спокойно приступить к приготовлению суфле и прочих деликатесов, требующих строго определенного срока.
Подобный распорядок совсем не прельщал Пуаро.
«Еще немного, и я вернусь туда, откуда сегодня вышел», — думал он, продолжая следовать за высокой фигурой Гаджена и все больше и больше чувствуя, как узки его туфли.
Вдруг впереди он услышал, как кто-то вскрикнул, и это еще больше усилило его недовольство. Крик был совершенно неуместен в этой обстановке. Пуаро не определил его характер, да и вообще не думал о нем. Позднее, когда он размышлял об этом, то не мог вспомнить, какие чувства передавал этот крик. Испуг? Удивление? Ужас? Одно можно было сказать наверняка: кто-то вскрикнул от неожиданности.
Выйдя из каштановой рощи, Гаджен почтительно отступил в сторону, чтобы дать Пуаро пройти, и одновременно откашлялся, готовясь произнести: «Мистер Пуаро, миледи» — почтительно приглушенным тоном. И вдруг он застыл неподвижно, громко ловя ртом воздух, что было совсем недостойно образцового дворецкого.
Эркюль Пуаро вышел на открытое место, окружавшее бассейн, и тоже мгновенно замер.
Ну это было уж слишком… в самом деле слишком! Такой дешевки он не ожидал. Утомительный путь пешком, разочарование из-за приема на открытом воздухе… и теперь это! Странное чувство юмора у этих англичан!
Пуаро был раздражен и удручен… Да, крайне удручен! Смерть не может быть забавной. А для него приготовили эту шутку, ибо то, что он видел, являло собой в высшей степени ненатуральную сцену убийства. На краю бассейна лежало тело, артистично расположенное, с откинутой рукой, и даже алая краска, переливаясь через бетонный край бассейна, тихо капала в воду. Это было очень эффектное тело красивого светловолосого мужчины. Над ним, держа револьвер в руке, стояла женщина средних лет, крепкого телосложения, со странным отсутствующим взглядом.
Было еще три актера. В дальнем конце бассейна стояла высокая молодая женщина с волосами цвета осенних листьев, глубоких коричневых тонов. В руках у нее была корзинка, полная срезанных отцветших георгинов. Несколько поодаль — мужчина, довольно обыкновенный внешне, с ружьем и в охотничьем костюме, а слева от него с корзиной яиц в руке — сама хозяйка дома, леди Энкейтлл.
Пуаро успел заметить, что здесь, у бассейна, сходилось несколько дорожек, значит, все эти люди пришли с разных сторон. Все, казалось, было рассчитано заранее и выглядело крайне неестественно.
«Enfin!»[172] — вздохнул Пуаро. Чего они ждут от него? Чтобы он притворился, что верит в это «убийство»? Выразил растерянность… беспокойство?.. Или ему следует поклониться и поздравить хозяйку: «Ах, как прелестно вы все для меня устроили!..»
В самом деле, чрезвычайно глупо… и не интеллигентно. Кажется, королева Виктория[173] говорила: «Нас это не позабавило!» Пуаро испытывал сильное желание повторить то же самое: «Меня, Эркюля Пуаро, это не забавляет!»
Леди Энкейтлл направилась к тому месту, где лежало тело. Пуаро поспешил за ней, чувствуя тяжелое дыхание Гаджена за своей спиной. «Он явно не был посвящен в розыгрыш», — подумал Пуаро. Те двое с другой стороны бассейна тоже подошли, так что теперь все были довольно близко, и стояли, глядя вниз на эффектно раскинувшуюся фигуру на краю бассейна.
Внезапно произошло нечто ужасное. Подобно тому как на экране кинематографа расплывчатое пятно изображения, попав в фокус, принимает четкие очертания, так Пуаро неожиданно понял: эта неестественно-театральная сцена — реальность. Он смотрел если не на мертвого, то, во всяком случае, на умирающего, а через бетонный край бассейна капала в воду не краска, а кровь… Этот человек был убит… и убит совсем недавно.
Пуаро быстро взглянул на женщину с револьвером в руке. На лице — никаких чувств, оно казалось бессмысленным и даже тупым.
«Любопытно, — подумал Пуаро, — она так опустошена, потому что вложила в этот выстрел все душевные силы? И теперь осталась лишь пустая оболочка? Может быть…»
Он перевел взгляд на тело и невольно вздрогнул: глаза были открыты. Ярко-голубые глаза. И хотя Пуаро не мог объяснить их взгляд, но для себя определил его как предельно напряженный…
Пуаро вдруг показалось, что во всей этой группе людей по-настоящему живым был только один человек… тот, который находился теперь на грани смерти. Никогда еще Пуаро не встречал настолько ярко выраженной жизненной силы. Все остальные в сравнении с ним были лишь бледными, тенеподобными фигурами, актерами далекой драмы, а он один был — настоящий!
Губы Джона Кристоу дрогнули.
— Генриетта!.. — Голос был неожиданно сильный и настойчивый.
Но веки тотчас закрылись, голова дернулась в сторону.
Эркюль Пуаро опустился на колени и, удостоверившись, встал, машинально стряхнув пыль с брюк.
— Да, он мертв…
И сразу картина дрогнула, рассыпалась, чтобы через миг опять стать четкой. Теперь видна была индивидуальная реакция… мелкие, тривиальные случайности. Пуаро чувствовал, что его слух и зрение необыкновенно обострились, он мысленно регистрировал, да, именно регистрировал, все происходящее.
Он увидел, как руки леди Энкейтлл, державшие корзину, разжались, и Гаджен, выскочив вперед — «Разрешите мне, миледи…» — быстро взял корзину из ее рук.
— Спасибо, Гаджен, — механически поблагодарила леди Энкейтлл, а затем нерешительно произнесла: — Герда…
Женщина с револьвером в руке наконец пошевелилась. Она посмотрела вокруг. Когда она заговорила, в ее голосе звучало полное замешательство.
— Джон мертв, — сказала она. — Джон мертв…
Высокая молодая женщина с волосами цвета осенних листьев быстро и решительно подошла к ней.
— Дайте мне это, Герда! — сказала она и проворно, прежде чем Пуаро успел запротестовать или вмешаться, взяла револьвер из рук Герды.
Пуаро быстро шагнул вперед:
— Вы не должны были этого делать, мадемуазель…
При звуке его голоса молодая женщина нервно вздрогнула, и револьвер с плеском упал в воду.
— Ох! — воскликнула она с испугом и, повернув голову, виновато посмотрела на Эркюля Пуаро. — Какая я глупая! — произнесла она. — Простите!
Пуаро ничего не ответил, он пристально смотрел на нее. Чистые карие глаза женщины твердо встретили его взгляд, и Пуаро усомнился в справедливости своего мгновенного подозрения.
— По возможности, — сказал он тихо, — ничего нельзя трогать до прихода полиции.
Легкое движение… чуть заметное, всего лишь слабая зыбь тревоги.
— Разумеется. Я полагаю… Да, конечно, полиция, — с неудовольствием сказала леди Энкейтлл.
— Боюсь, Люси, это неизбежно, — тихо сказал мужчина в охотничьем костюме. — Полиция! — в негромком голосе слышался легкий оттенок неприязни.
В установившейся тишине послышались шаги и голоса; уверенные, быстрые шаги и неуместно веселые голоса. По дорожке со стороны дома, разговаривая и смеясь, шли сэр Генри и Мидж. При виде застывшей группы возле бассейна сэр Генри резко остановился.
— В чем дело? Что случилось? — воскликнул он с удивлением.
— Герда, — сказала леди Энкейтлл и вдруг остановилась. — Я хочу сказать… Джон…
— Джон убит… — безжизненным голосом произнесла Герда. — Он мертв.
Все смущенно отвели от нее взгляд.
— Моя дорогая, — быстро заговорила леди Энкейтлл, — я думаю, вам лучше всего пойти и… и лечь. Пожалуй, нам всем лучше вернуться в дом. Генри и мосье Пуаро могут остаться здесь и… и ждать полицейских.
— Думаю, это самое правильное решение, — сказал сэр Генри. Он повернулся к Гаджену: — Вы позвоните в полицию, Гаджен? Сообщите точно, что произошло. Когда явятся полицейские, проводите их прямо сюда.
— Слушаюсь, сэр Генри! — Гаджен слегка наклонил голову. Он немного побледнел, но оставался все таким же идеальным слугой.
— Пойдемте, Герда, — сказала высокая молодая женщина и, взяв ее под руку, повела по дорожке к дому.
Герда шла как во сне. Гаджен отступил немного в сторону, чтобы дать им пройти, а затем последовал за ними с корзинкой яиц в руках.
Когда они ушли, сэр Генри обернулся к жене.
— Ну а теперь, Люси, скажи, что все это значит? Что на самом деле произошло?
Леди Энкейтлл протянула руки в беспомощном, красивом жесте. Эркюль Пуаро оценил его очарование.
— Я и сама не знаю, дорогой! Я была в курятнике. Услышала выстрел, и так близко, но я не придала этому никакого значения. В конце концов, — она обращалась теперь ко всем, — кто мог подумать! Потом я по дорожке пришла к бассейну… Там лежал Джон, а над ним стояла Герда с револьвером. Генриетта и Эдвард появились почти одновременно… Вон оттуда. — Она кивнула в сторону дальнего конца бассейна, где две тропинки вели в лес.
Эркюль Пуаро кашлянул.
— Кто такие Джон и Герда? — спросил он. — Могу ли я узнать? — добавил он извиняющимся тоном.
— Да, конечно, — повернулась к нему леди Энкейтлл и в свою очередь поспешно извинилась: — Простите… но как-то не думаешь о том, что нужно представлять людей друг другу, когда только что произошло убийство. Джон — это Джон Кристоу, доктор Кристоу. Герда Кристоу — его жена.
— А леди, которая пошла в дом вместе с миссис Кристоу?
— Моя кузина, Генриетта Сэвернейк.
Пуаро заметил легкое, едва уловимое движение человека, стоявшего слева от него. «Ему не хотелось бы, чтоб это имя упоминалось, — подумал Пуаро. — Но ведь я все равно узнаю!»
«Генриетта!» — сказал умирающий, и сказал очень необычно. Это напомнило Пуаро… какой-то инцидент… Какой же? Не важно, он вспомнит потом.
Между тем леди Энкейтлл продолжала, решив все-таки исполнить свои обязанности хозяйки:
— А это другой наш кузен, Эдвард Энкейтлл, и мисс Хардкасл.
Эркюль Пуаро ответил вежливым поклоном. Глядя на это, Мидж вдруг почувствовала, что сейчас истерически рассмеется. Она с трудом сдержалась.
— А теперь, дорогая, — сказал сэр Генри, — я думаю, как ты и предлагала, вам всем лучше вернуться в дом, а мы с мосье Пуаро немного поговорим.
Леди Энкейтлл задумчиво смотрела на них.
— Надеюсь, Герда легла, — наконец сказала она. — Я правильно сделала, что предложила ей лечь? Я просто не знала, что сказать! Такого у нас не случалось. Действительно, что говорят женщине, которая только что убила своего мужа?
Она посмотрела на всех, словно надеясь получить какой-нибудь ответ, потом пошла по дорожке к дому. Мидж последовала за ней. Эдвард замыкал шествие.
Пуаро остался с хозяином дома. Сэр Генри кашлянул. Казалось, он не знал что сказать.
— Кристоу, — произнес он наконец, — был очень способный человек… очень способный.
Взгляд Пуаро снова остановился на мертвом теле, распростертом у бассейна. Пуаро все еще не оставляло странное ощущение, что в убитом больше жизненной силы, чем в живых. Странно, почему у него сложилось такое впечатление?
— Да, вас постигло большое несчастье, — вежливо сказал Пуаро.
— Подобные происшествия больше по вашей части, — заметил сэр Генри. — Кажется, мне никогда не приходилось так близко сталкиваться с убийством. Надеюсь, я действовал правильно?
— Да, вполне. Вы известили полицию, и до прихода полицейских ничего не остается… разве что следить, чтобы никто не трогал ни тела, ни улик.
Говоря это, он смотрел в бассейн, где на бетонном дне лежал револьвер, очертания которого были слегка искажены толщей голубой воды. Об уликах, пожалуй, уже «позаботились», прежде чем он смог этому помешать. Нет, это была случайность.
— Вы полагаете, мы должны оставаться здесь? — с неудовольствием спросил сэр Генри. — Холодновато. Вы не возражаете, если мы зайдем в павильон?
Чувствуя сырость сквозь подошву ботинок и дрожь во всем теле, Пуаро с удовольствием согласился. Павильон находился с другой, удаленной от дома стороны бассейна. Оттуда через открытую дверь был виден и бассейн, и тело убитого, и дорожка, ведущая к дому, на которой должны были появиться полицейские.
Павильон был роскошно обставлен: удобные диваны, на полу — яркие восточные ковры. На крашеном железном столике стоял поднос с бокалами и бутылкой хереса.
— Я предложил бы вам выпить, — сказал сэр Генри, — но полагаю, лучше ничего не трогать до прихода полиции… Хотя не думаю, что здесь есть что-либо интересное для полицейских, но лучше не рисковать. Гаджен, я вижу, не приносил коктейли. Ждал вашего прихода.
Они осторожно уселись на плетеные кресла около двери, чтобы видеть дорожку и дом. Оба чувствовали себя скованно. Пустой светский разговор в данной ситуации был как-то неуместен.
Пуаро обвел глазами павильон, подмечая все, что казалось ему необычным. На спинке стула была небрежно брошена дорогая пелерина из светло-серебристого меха. Кому она могла принадлежать? Ее слишком броское великолепие не соответствовало облику ни одной из увиденных им здесь женщин. Он, например, никак не мог представить себе такую пелерину на плечах леди Энкейтлл.
Это его насторожило. Вещь свидетельствовала о претенциозности, любви к саморекламе, а этих качеств он не подметил ни в ком в этом доме.
— Ну, курить, я думаю, мы можем, — сказал сэр Генри, протягивая Пуаро свой портсигар.
Прежде чем закурить, Пуаро несколько раз глубоко втянул воздух. Французские духи… дорогие французские духи. Правда, в павильоне остался лишь слабый след, но он все же был ощутим, и опять-таки этот запах не ассоциировался ни с кем из обитательниц или гостей «Лощины».
Наклонившись вперед, чтобы зажечь сигарету от зажигалки сэра Генри, Пуаро увидел небольшую стопку спичечных коробок… шесть штук, сложенных на маленьком столике одного из диванов.
Эта деталь поразила его своей необычностью.
Глава 12
— Половина третьего, — сказала леди Энкейтлл.
Она сидела в гостиной вместе с Мидж и Эдвардом.
Дверь в кабинет сэра Генри была закрыта; оттуда доносились тихие голоса. Кроме сэра Генри, там были Эркюль Пуаро и инспектор Грэйндж.
Леди Энкейтлл вздохнула.
— Знаешь, Мидж, я чувствую, что-то надо предпринять с ленчем. Конечно, кажется очень бессердечным сесть за стол, как будто ничего не случилось. Но, в конце концов, мосье Пуаро был приглашен на ленч, и он, наверное, голоден. К тому же он не может быть в такой степени, как мы, огорчен тем, что бедный Джон Кристоу убит. И хотя мне есть не хочется, но Генри и Эдвард, должно быть, невероятно голодны, после того как все утро стреляли в лесу…
— Дорогая Люси, обо мне не беспокойся, — сказал Эдвард.
— Ты, Эдвард, всегда очень деликатен! И потом Дэвид… Я заметила, как он много ел вчера за обедом. Должно быть, люди, занятые интеллектуальным трудом, всегда нуждаются в большом количестве пищи. Между прочим, где Дэвид?
— Он поднялся в свою комнату, когда узнал, что случилось, — ответила Мидж.
— Ну что ж, довольно тактично с его стороны. Думаю, он почувствовал себя неловко. Конечно, что ни говори, а убийство создает определенные трудности — угнетающе действует на прислугу и нарушает установленный порядок… На ленч сегодня должны быть утки. К счастью, их можно есть и холодными. А как быть с Гердой? Подать что-нибудь ей в комнату? Может, немного крепкого бульона?
«В самом деле, Люси просто бесчеловечна!» — подумала Мидж. И тут же усомнилась в своей правоте. Может, Люси, наоборот, слишком человечна и потому так шокирует окружающих? Разве не правда, что трагедии сопровождаются заурядными, тривиальными проблемами? Это правда, простая и неприкрашенная! Люси просто высказала то, в чем большинство людей не признается. На самом деле все помнят о прислуге, беспокоятся об обеде и даже испытывают голод. Мидж и сама в эту минуту чувствовала себя голодной! «Хочется есть, — думала она, — и в то же время тошнит при мысли о еде. Странное сочетание!» Ну и, конечно, все испытывают неловкость, не зная, как теперь относиться к этой тихой, заурядной женщине, которую все еще вчера называли «бедняжкой Гердой» и которая, очевидно, скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.
«До сих пор я считала, что такое случается только с другими людьми, — думала Мидж. — Это не может быть с нами! — Через комнату она посмотрела на Эдварда. — Не должно случиться с такими уравновешенными людьми, как Эдвард».
Глядя на Эдварда, Мидж немного успокоилась: он так рассудителен, добр и сдержан.
Вошел Гаджен и, конфиденциально склонившись, произнес приглушенным (соответственно обстоятельствам) голосом:
— Сандвичи и кофе сервированы в столовой, миледи.
— О, благодарю вас, Гаджен! Гаджен неподражаем! — сказала леди Энкейтлл, как только дворецкий удалился. — Что бы я без него делала. Он всегда знает, как надо поступить! Действительно, большие сытные сандвичи не хуже, чем полноценный ленч… К тому же в них нет ничего бессердечного, вы понимаете, что я имею в виду…
— О, Люси, не надо!..
Мидж вдруг почувствовала, как горячие слезы побежали по щекам. Леди Энкейтлл с удивлением прошептала:
— Бедняжка! Все это слишком потрясло тебя.
Эдвард подошел к дивану и, усевшись рядом с Мидж, обнял ее за плечи.
— Успокойтесь, малышка Мидж!
Уткнувшись ему в плечо, Мидж плакала, испытывая облегчение. Ей почему-то вспомнилось, как добр был к ней Эдвард, когда в Эйнсвике у нее умер кролик.
— Это шок, — мягко сказал Эдвард. — Люси, можно я налью ей коньяку?
— На буфете в столовой. Не думаю…
В комнату вошла Генриетта, и Люси сразу замолкла, Мидж выпрямилась, а Эдвард весь напрягся и сидел неподвижно.
«Что чувствует сейчас Генриетта?» — думала Мидж. Ей почему-то не хотелось смотреть на кузину… К тому же та держалась странно.
Генриетта выглядела, пожалуй, воинственно. Она вошла с высоко поднятой головой, на щеках румянец, движения быстрые.
— О, это ты, Генриетта! — воскликнула леди Энкейтлл. — А я уж думала… Полицейский с Генри и мосье Пуаро. Что ты дала Герде? Коньяк? Или чай и аспирин?
— Я дала ей немного коньяку… и грелку.
— Правильно, — одобрила леди Энкейтлл. — Этому учат на занятиях по оказанию первой помощи… Я имею в виду, при шоке — грелка и коньяк. Теперь, правда, против стимуляторов, но, я думаю, это просто мода. В Эйнсвике, когда я была еще ребенком, мы всегда давали коньяк при шоке. Хотя на самом деле, я думаю, у Герды не совсем шоковое состояние. В общем, я не представляю, что чувствуют, убив мужа… Это невозможно себе представить, но все-таки это не шок. Я хочу сказать, в этом случае нет фактора неожиданности.
Холодный как лед голос Генриетты нарушил мирную атмосферу гостиной:
— Почему вы все уверены, что Джона убила Герда?
В наступившей тишине Мидж ощутила перемену в настроении присутствующих… смущение, натянутость и, наконец, напряженность…
— Это казалось очевидным, — произнесла через некоторое время леди Энкейтлл. Голос ее был совершенно ровным. — А что ты предполагаешь?
— Разве не могло быть так, что Герда, прийдя к бассейну, увидела там Джона… лежащим на земле, и только подняла револьвер, как мы все подошли.
Снова воцарилось молчание. Затем леди Энкейтлл спросила:
— Это Герда так говорит?
— Да.
Ответ Генриетты не был простым подтверждением, в нем чувствовалась сила, и прозвучал он неожиданно, как револьверный выстрел.
Брови леди Энкейтлл высоко поднялись, затем она сказала с явной непоследовательностью:
— Сандвичи и кофе сервированы в столовой.
Она слегка запнулась, когда в гостиную вошла Герда Кристоу.
— Я… я чувствую, что не могу больше лежать, — быстро, извиняющимся тоном произнесла Герда. — Так… так тревожно!
— Вы должны сесть, — воскликнула леди Энкейтлл. — Вы должны немедленно сесть!
Согнав Мидж с дивана, она усадила Герду, подложив ей под спину подушку. «Бедняжка!» — Слова и действия леди Энкейтлл выражали заботу и в то же время казались совершенно бессмысленными.
Эдвард подошел к окну и стал смотреть в сад.
— Я… я только сейчас начинаю понимать, — сказала Герда, отбросив со лба прядь неопрятных волос. Она говорила нервно и обескураженно. — Понимаете, я не могла поверить… Я все еще не могу поверить, что Джон… мертв! — Она начала дрожать. — Кто мог его убить? Кто же мог… его убить?
Леди Энкейтлл глубоко вздохнула и вдруг резко повернула голову: дверь из кабинета сэра Генри открылась, и он появился в сопровождении инспектора Грэйнджа, крупного тяжеловесного человека с усами, пессимистически опущенными вниз.
— Это моя жена… Инспектор Грэйндж.
Инспектор поклонился.
— Леди Энкейтлл, — спросил он, — могу я немного поговорить с миссис Кристоу?
Леди Энкейтлл указала на женщину, сидевшую на диване.
— Миссис Кристоу?
— Да, я миссис Кристоу, — поспешно ответила Герда.
— Мне не хотелось вас беспокоить, миссис Кристоу, но я вынужден задать вам несколько вопросов. Вы, конечно, можете, если хотите, потребовать присутствия вашего поверенного…
— В некоторых случаях, Герда, это разумнее, — вмешался сэр Генри.
— Поверенный? — перебила его Герда. — Зачем поверенный? Почему поверенный должен что-то знать о смерти Джона?
Инспектор кашлянул. Сэр Генри хотел было заговорить, но Генриетта поспешно сказала:
— Инспектор просто хочет знать, что случилось сегодня утром.
— Все было похоже на дурной сон… — В голосе Герды звучало удивление. — Я… я не могла даже плакать. Кажется, ничего не чувствовала, совсем ничего.
— Это шок, миссис Кристоу, — сказал успокаивающе Грэйндж.
— Да-да… наверное. Видите ли, все случилось так внезапно. Я вышла из дома и пошла по дорожке к бассейну…
— В котором часу, миссис Кристоу?
— Около часа… приблизительно без двух минут час. Я знаю, потому что посмотрела на часы. А когда я пришла туда… там лежал Джон… и кровь на бетонной плите бассейна…
— Вы слышали выстрел, миссис Кристоу?
— Да… нет… я не знаю. Я знала, что сэр Генри и мистер Энкейтлл стреляли в лесу… Я… я только видела Джона…
— Да, миссис Кристоу, продолжайте.
— Джона… и кровь… и револьвер. Я подняла револьвер.
— Почему?
— Простите?
— Почему вы подняли револьвер?
— Я… я не знаю.
— Вы не должны были его трогать!
— Не должна? — Взгляд у Герды был рассеянный, лицо безучастное. — Но я подняла револьвер. Я взяла его в руку…
Она посмотрела на свои руки, словно видела лежащий в них револьвер, затем круто повернулась к инспектору. Голос у нее стал неожиданно резким, полным душевной муки:
— Кто мог убить Джона? Никто не мог желать ему смерти! Он… был лучший в мире! Такой добрый, бескорыстный… Он жил для других. Его все любили, инспектор. Он был замечательный доктор! Самый добрый, самый хороший муж. Это, должно быть, несчастный случай… несчастный случай! Спросите кого угодно, — она жестом обвела гостиную, — никто не мог хотеть смерти Джона! Правда?
Она обращалась ко всем, кто находился в комнате. Инспектор Грэйндж закрыл свой блокнот.
— Благодарю вас, миссис Кристоу, — сказал он ровным, бесстрастным тоном. — Пока это все!
Эркюль Пуаро и инспектор Грэйндж через каштановую рощу подошли к бассейну. То, что недавно было Джоном Кристоу, а теперь стало просто «телом», сфотографированное, промеренное, описанное и обследованное полицейским врачом, было уже убрано и отправлено в морг. Плавательный бассейн показался Пуаро странно безмятежным. Все, касающееся этого дня, было странно расплывчатым. Только не Джон Кристоу! Даже умирая… он сохранил целеустремленность и чувство реальности. Теперь плавательный бассейн был не просто бассейном, а местом, где обнаружили тело Джона Кристоу и где его кровь стекала по бетонному краю в неестественно голубую воду.
Неестественно… Пуаро ухватился за это слово. Да, во всем происшедшем было что-то неестественное. Словно…
К инспектору подошел человек в купальном костюме.
— Вот револьвер, сэр, — сказал он.
Грэйндж осторожно взял револьвер, с которого капала вода.
— Конечно, никакой надежды на отпечатки пальцев, — заметил он, — но, к счастью, в данном случае это не имеет значения. Миссис Кристоу держала револьвер в руках, когда вы пришли. Верно, мосье Пуаро?
— Да.
— Следующий этап — опознание оружия, — продолжал Грэйндж. — Я думаю, это сделает сэр Генри. Полагаю, она взяла револьвер из его кабинета.
Он окинул взглядом бассейн.
— Итак, давайте еще раз проверим. Дорожка ниже бассейна ведет к ферме, как раз по ней пришла леди Энкейтлл. Двое других — мистер Эдвард Энкейтлл и мисс Сэвернейк — появились из леса, но не вместе, он пришел по левой тропинке, а она по правой, ведущей к длинной цветочной куртине[174] выше дома. Но когда вы пришли, они оба стояли в дальнем конце бассейна. Так?
— Да.
— А эта дорожка от павильона ведет к проселочной дороге. Верно? Вот по ней мы и пойдем.
По пути Грэйндж продолжал говорить спокойно, со знанием дела и с известной долей пессимизма.
— Мне никогда не нравились подобные случаи в судебной практике. В прошлом году, например… около Эшриджа. Он был военный в отставке… отличная карьера. Его жена — приятная тихая женщина шестидесяти пяти лет, старомодные манеры, седые волосы… довольно красивые, волнистые. Увлекалась садоводством. В один прекрасный день она идет в его комнату, берет револьвер, выходит в сад и стреляет в него. Вот так-то! Конечно, за всем этим всегда что-то кроется, и это что-то надо раскрыть. Иногда придумывают глупую историю о каком-то бродяге! Мы, пока ведем следствие, конечно, делаем вид, что верим в бродягу, но понимаем, что к чему.
— Значит, вы решили, что миссис Кристоу убила своего мужа. Вы это хотите сказать?
Грэйндж с удивлением посмотрел на него.
— А вы, разве вы так не думаете?
— Возможно, все было так, как она говорит, — раздумчиво сказал Пуаро.
Инспектор пожал плечами.
— Возможно. Но маловероятно. Все они тоже считают, что она его убила. Они знают что-то, чего мы не знаем. — Он с любопытством посмотрел на своего спутника. — Когда вы пришли, вы ведь тоже думали, что она его убила. Верно?
Пуаро, стараясь вспомнить, закрыл глаза. Он, Пуаро, идет по дорожке… Гаджен отступает в сторону… Герда Кристоу стоит над телом мужа с револьвером в руке… Взгляд у нее отсутствующий. Да, как сказал Грэйндж, он подумал тогда, что это сделала Герда. Во всяком случае, подумал, что они, устроив эту сцену, хотели, чтобы у него сложилось такое впечатление…
Да, но ведь это не одно и то же!
Театральная сцена… чтобы ввести в заблуждение…
Была ли похожа Герда на женщину, которая только что убила своего мужа? Именно это хотел знать инспектор Грэйндж.
Неожиданно Эркюль Пуаро с огромным удивлением подумал, что, несмотря на свой большой опыт в расследовании преступлений, ему никогда не приходилось сталкиваться, так сказать, лицом к лицу с женщиной, только что убившей мужа. Как выглядит женщина в подобных ситуациях? Торжествующей, повергнутой в ужас, удовлетворенной, ошеломленной, скептической, опустошенной?
«Возможно любое из этих чувств!» — подумал он.
Инспектор продолжал говорить, но Пуаро не слушал его и уловил лишь конец фразы:
— …как только соберешь все факты, а это обычно делается через прислугу.
— Миссис Кристоу возвращается в Лондон? — спросил Пуаро.
— Да, там остались дети. Придется отпустить ее. Конечно, мы не выпустим ее из поля зрения, но она об этом не узнает. Будет думать, что выкрутилась. По-моему, умом она не блещет.
«Понимает ли Герда, — спрашивал себя Пуаро, — что думает полиция… и что думают все Энкейтллы? Кажется, она ничего не понимает. У нее замедленная реакция. Она выглядит как женщина совершенно убитая горем».
Они вышли на проселок. Пуаро остановился у своей калитки.
— Ваше гнездышко? Просто и аккуратно! Ну что ж, до свиданья, мосье Пуаро! Спасибо за помощь. Я загляну к вам как-нибудь рассказать, как идут дела.
Он оглядел дорогу.
— Кто ваш сосед? Кажется, здесь поселилась наша новая знаменитость?
— По-моему, актриса мисс Вероника Крэй. Приезжает на выходные.
— Да, конечно, «Голубятня». Мне мисс Крэй понравилась в «Леди верхом на тигре», но вообще-то она не в моем вкусе. Слишком высокомерна. Мне подавайте Дину Дурбин[175] или Хэйди Ламарр[176].
Инспектор стал прощаться.
— Пожалуй, мне пора. Служба требует. Пока, мосье Пуаро!
— Узнаете, сэр Генри?
Инспектор Грэйндж положил револьвер на стол перед сэром Генри и выжидательно смотрел на него.
— Можно взять? — Рука сэра Генри замерла над револьвером.
Грэйндж кивнул.
— Он был в бассейне. Все отпечатки, естественно, уничтожены. Смею заметить, очень жаль, что мисс Сэвернейк уронила револьвер в воду.
— Д-да… разумеется, но это был очень неприятный момент для всех нас. Женщинам свойственно, разволновавшись… гм… ронять вещи.
Инспектор Грэйндж снова кивнул.
— Мисс Сэвернейк в общем-то кажется хладнокровной и расторопной молодой леди.
Инспектор говорил совершенно бесстрастно, однако что-то в его словах заставило сэра Генри посмотреть ему в глаза.
— Итак, сэр Генри?!
Взяв в руки револьвер, сэр Генри внимательно осмотрел его, взглянул на номер и сравнил с данными небольшой записной книжки в кожаном переплете. Затем, вздохнув, он закрыл книжку и сказал:
— Да, инспектор, револьвер из моей коллекции.
— Когда вы видели его в последний раз?
— Вчера во второй половине дня. Мы стреляли по мишеням, и это один из револьверов, которые были у нас.
— Кто вчера стрелял из этого револьвера?
— Думаю, все, хотя бы по одному выстрелу.
— И миссис Кристоу?
— И миссис Кристоу.
— А после того, как вы кончили стрелять?
— Я положил револьвер на место. Сюда.
Из большого письменного стола он выдвинул ящик, наполовину заполненный револьверами разных систем.
— У вас большая коллекция огнестрельного оружия, сэр Генри!
— Это было моим хобби в течение многих лет.
Взгляд инспектора задумчиво остановился на экс-губернаторе островов Хэллоуин. Представительный, незаурядный человек, под чьим началом он сам был бы не прочь послужить. Собственно говоря, он с удовольствием предпочел бы его своему теперешнему начальнику. Инспектор Грэйндж был невысокого мнения о начальнике полиции Уилдшира, человеке суетливом, деспотичном, к тому же барском прихвостне… Инспектор с усилием заставил себя вернуться к делу.
— Револьвер, разумеется, не был заряжен, когда вы возвратили его на место, сэр Генри?
— Конечно нет!
— А где вы храните патроны?
— Здесь.
Сэр Генри взял ключ из специального отделения письменного стола и открыл им один из ящиков.
«Довольно просто! — подумал инспектор. — Миссис Кристоу видела, где хранятся патроны. Ей нужно было только прийти и взять их. Ревность делает с женщинами черт знает что!..»
Инспектор готов был поставить десять против одного, что это была ревность. Все станет ясным, когда он закончит работу здесь и отправится на Харли-стрит. Но все должно идти своим чередом.
Инспектор поднялся.
— Благодарю вас, сэр Генри! — сказал он. — Я сообщу вам, когда будет назначено заседание суда.
Глава 13
На обед была подана холодная утка, за которой следовало крем-брюле, что, по мнению леди Энкейтлл, свидетельствовало о немалой чуткости со стороны миссис Медуэй.
— Вот вам яркий пример проявления деликатности, — сказала леди Энкейтлл, — наша кухарка, миссис Медуэй, знает, что мы не очень любим крем-брюле. Было бы крайне непристойно сразу же после смерти друга есть любимый пудинг. А крем-брюле — так просто… Оно такое, как бы это лучше сказать, — скользкое… и его всегда можно немного оставить на тарелке.
Затем, вздохнув, она выразила надежду, что они поступили правильно, отпустив Герду в Лондон.
— И хорошо, что Генри поехал вместе с ней.
Сэр Генри настоял на том, чтобы отвезти Герду на Харли-стрит.
— Она, конечно, должна будет приехать на заседание суда, — рассуждала леди Энкейтлл, задумчиво продолжая есть крем-брюле. — Естественно, Герда хотела сама сообщить детям… Они могли узнать обо всем из газет… В доме осталась только гувернантка-француженка. Всем известно, как француженки возбудимы, возможно, у нее «crise de nerfs»[177]. Генри все уладит. И я думаю, с Гердой все будет в порядке. Она, очевидно, пригласит кого-нибудь из родственников… скорее всего сестер. У таких женщин, как Герда, обязательно есть сестры, три или четыре. Я думаю, они живут в Танбридж Уэллс.
— Люси! Ты говоришь невероятные вещи! — воскликнула Мидж.
— Ну, если хочешь, пусть будет Торки… Хотя нет, не Торки… Им было бы, по крайней мере, шестьдесят пять лет, если бы они жили в Торки… Может быть, Истборн или Сент-Леонард…[178]
Леди Энкейтлл посмотрела на последнюю ложку крем-брюле, подумала и очень деликатно отложила ее в сторону, оставив крем несъеденным. Дэвид, единственный, кто любил десерт, мрачно смотрел на свою пустую тарелку.
Леди Энкейтлл встала из-за стола.
— Я думаю, всем сегодня хочется лечь спать пораньше, — сказала она. — Такой напряженный день, не правда ли? Когда читаешь о подобных вещах в газете, не можешь даже представить себе, насколько это утомительно. Я чувствую себя так, словно прошла пешком миль[179] пятнадцать… Хотя я ничего не делала, а только сидела… Но это тоже утомительно! Ведь не станешь читать книгу или газету — это так бессердечно выглядит! Хотя, я думаю, прочитать передовую статью в «Обзёрвер»[180] вполне прилично… Но не «Ньюс оф де Уорлд»[181]. Вы со мной согласны, Дэвид? Мне интересно знать, что думают молодые люди. Не хочется отставать от жизни.
Дэвид проворчал, что никогда не читает «Ньюс оф де Уорлд».
— А я всегда читаю, — заявила леди Энкейтлл. — Мы, правда, делаем вид, что получаем ее ради слуг, но Гаджен, человек весьма тактичный, забирает газету только после чая. По-моему, это самая интересная газета! Все подробности о женщинах, которые кончают жизнь самоубийством, положив голову на газовую плиту… Оказывается, таких невероятное множество!
— Что они будут делать, когда в домах все будет электрифицировано? — произнес Эдвард с легкой улыбкой.
— Думаю, они вынуждены будут примириться со своим существованием… И это намного разумнее!
— Я с вами не согласен, сэр, — сказал Дэвид, — в том, что все дома в будущем должны быть электрифицированы. Нельзя исключать централизованного обеспечения электроэнергией. Все дома рабочего класса должны быть экономичными…
Эдвард поспешил заметить, что не очень разбирается в этом вопросе, и губы Дэвида скривились в презрительной улыбке.
Гаджен, двигаясь несколько медленнее обычного, чтобы передать ощущение скорби, внес на подносе кофе.
— О, Гаджен, — обратилась к нему леди Энкейтлл, — об этих яйцах… Я хотела было, как всегда, поставить на них карандашом дату. Не попросите ли вы миссис Медуэй сделать это?
— Я думаю, миледи, вы сами убедитесь в том, что все исполнено должным образом. — Он кашлянул. — Я сам все сделал.
— О, благодарю вас, Гаджен!
Когда он вышел, леди Энкейтлл негромко заметила:
— Поистине Гаджен великолепен! Да и все слуги просто удивительны. Им можно посочувствовать, что приходится терпеть в доме полицейских. Для них это, наверное, ужасно. Между прочим, кто-нибудь остался?
— Ты имеешь в виду полицейских? — спросила Мидж.
— Да. Разве они обычно не оставляют в холле кого-то из своих? Или, может быть, он следит за парадной дверью из кустов?
— Зачем им нужно стеречь парадный вход?
— Я, право, не знаю. Судя по книгам, они всегда так делают. А потом ночью еще кто-нибудь оказывается убитым.
— О Люси, не надо! — воскликнула Мидж.
— Извини, дорогая. Глупо с моей стороны. И конечно никого больше не убьют. Гер да уехала домой… Я хочу сказать… О, Генриетта, дорогая, извини! Я не хотела…
Генриетта ничего не ответила. Она стояла у круглого столика, разглядывая записи, сделанные во время вчерашней игры в бридж.
— Извини, Люси, что ты сказала? — спросила она.
— Мне хотелось бы знать, остался ли кто-нибудь из полицейских?
— Как остатки товара после распродажи? Не думаю. Они все, должно быть, отправились к себе в участок, чтобы записать все, что мы сообщили соответствующим «полицейским языком».
— На что ты смотришь, Генриетта?
— Да так, ни на что. — Она прошла через комнату и подошла к камину. — Что, по-твоему, делает сегодня Вероника Крэй?
Выражение беспокойства промелькнуло на лице леди Энкейтлл.
— Дорогая! Уж не думаешь ли ты, что она может снова явиться? Она, должна быть, уже слышала…
— Да, — задумчиво произнесла Генриетта, — думаю, она слышала.
— Кстати, это мне напомнило… — сказала леди Энкейтлл. — Я обязательно должна позвонить Кари. Мы не можем принять их завтра к ленчу, сделав вид, будто ничего не произошло.
Она вышла из гостиной.
Дэвид, проклиная в душе своих родственников, проворчал, что хочет посмотреть что-то в «Британике»[182]. «В библиотеке, — подумал он, — по крайней мере, будет спокойнее».
Генриетта, подойдя к стеклянной двери и открыв ее, вышла в сад. После минутного колебания Эдвард последовал за ней. Когда он подошел, она стояла, глядя на небо.
— Не так тепло, как вчера, не правда ли? — сказала она.
— Да, заметно холоднее, — вежливо отозвался Эдвард.
Генриетта стояла, глядя на дом. Окинула взглядом окна, потом повернулась в сторону парка. Эдвард понятия не имел о том, что у нее на уме.
— Давай лучше вернемся. Холодно. — Он двинулся к дому.
Генриетта покачала головой.
— Хочу немного пройтись. К бассейну…
— Я пойду с тобой… — Он сделал шаг в ее сторону.
— Нет, спасибо, Эдвард. — Слова звучали резко, словно рассекали холодный воздух. — Я хочу побыть одна с моим мертвым…
— Генриетта, милая… Я ничего не говорил, но ты знаешь, как я сожалею…
— Сожалеешь? Ты сожалеешь, что умер Джон Кристоу? — Тон был все таким же неприятно резким.
— Я хотел сказать, что мне жаль тебя, Генриетта. Я понимаю, это должно быть… большим потрясением.
— Потрясением? О, я очень вынослива, Эдвард! Я могу выдержать потрясение. А для тебя это тоже было потрясением? Что ты чувствовал, когда увидел его лежащим там, у бассейна? Полагаю, ты был доволен. Тебе не нравился Джон Кристоу.
— Он и я… У нас не очень много общего, — тихо сказал Эдвард.
— Как деликатно ты выражаешься! Как сдержанно! Однако, по правде говоря, у вас было нечто общее. Вы оба любили меня, не правда ли? Только это не объединяло вас… как раз наоборот.
Луна полностью вышла из-за облака, и Эдвард поразился, увидев лицо Генриетты. Он всегда представлял себе Генриетту в отражении Эйнсвика. Для него она навсегда осталась смеющейся девушкой с глазами, полными радостного ожидания. Женщина, которую он видел теперь перед собой, казалась незнакомой. Глаза ее сверкали, но были холодны и смотрели на него враждебно.
— Генриетта, милая, — сказал он серьезно, — поверь, я сочувствую тебе… в твоем горе, твоей потере.
— Горе?
Вопрос удивил его. Казалось, она спрашивала не его, а самое себя.
— Так быстро… это может случиться так быстро, — проговорила она тихо. — Сейчас жив, дышит, а через мгновение — мертв, его не стало, пустота!.. О, пустота! А мы едим крем-брюле и считаем себя живыми, в то время как Джон, который был самым живым среди нас, — мертв! Ты вслушайся в это слово: мертв… мертв… мертв. И вот оно уже не имеет смысла… никакого смысла. Просто странное коротенькое слово, похожее по звуку на треск сломанной ветки. Мертв… мертв… мертв… Как тамтам[183], звучащий в джунглях, верно? Мертв… мертв… мертв…
— Прекрати! Ради всего святого, прекрати!
Она с удивлением посмотрела на него.
— Ты не ожидал, что я буду так вести себя? Ты думал, я буду сидеть и тихо лить слезы в хорошенький носовой платочек, а ты будешь успокаивать меня, держа за руку? Конечно, это большое потрясение, но со временем я успокоюсь, а ты прекрасно утешишь меня. Ты в самом деле хороший. Ты очень хороший, Эдвард, но такой… совсем другой.
Эдвард отшатнулся. Лицо его напряглось.
— Да, я всегда это знал, — сказал он сухо.
Генриетта с ожесточением продолжала:
— Как ты думаешь, каково мне было сидеть весь вечер, зная, что Джон мертв и никому до этого нет дела, кроме меня и Герды! Ты — доволен, Дэвид — смущен, Мидж — взволнована, Люси — деликатно радуется тому, что ожили страницы «Ньюс оф де Уорлд»!.. Разве ты не видишь всей чудовищности этого фантастического кошмара?
Эдвард ничего не ответил. Он отступил назад, в тень.
— Сегодня, — сказала Генриетта, глядя на него, — никто не кажется мне настоящим, никто… кроме Джона!
— Да, знаю. Я не очень настоящий, — тихо сказал Эдвард.
— Какая же я дрянь, Эдвард! Но я не могу иначе, не могу согласиться с тем, что Джон, в котором было столько жизни, — мертв!
— А я, наполовину мертвый, — живу…
— Этого я не имела в виду, Эдвард!
— Думаю, ты имела в виду именно это, и, очевидно, ты права.
— Это не горе… — продолжала она задумчиво, возвращаясь к прежней мысли. — Может быть, я не могу почувствовать горя. Может, никогда не смогу… И все же… мне хотелось бы горевать по Джону…
Ее слова казались невероятными. Однако Эдвард удивился еще больше, когда Генриетта вдруг сказала почти деловым тоном:
— Я должна идти к бассейну, — и скрылась за деревьями.
С трудом переставляя негнущиеся ноги, Эдвард вошел в дом.
Мидж видела, как Эдвард шагнул в гостиную. Ничего не видящий взгляд; в сером, словно иззябшем лице — ни кровинки. Он не заметил ее короткого восклицания, которое она сразу же подавила. Почти машинально он прошел по комнате, опустился на стул и, чувствуя, что от него чего-то ждут, сказал:
— Холодно.
— Вам холодно, Эдвард? Может быть, мы… может быть, я зажгу камин?
— Что?
Мидж взяла коробку спичек с камина, опустилась на колени и разожгла огонь. Осторожно, искоса она посмотрела на Эдварда. Он был, казалось, совершенно ко всему безразличен.
— Огонь — это очень хорошо, — наконец произнес Эдвард. — Он согревает…
«Надо же, совсем застыл, — подумала Мидж. — Но сейчас ведь не так холодно… Это Генриетта. Что она ему сказала?»
— Эдвард, пододвиньте стул ближе к огню.
— Что?
— Ваш стул, Эдвард, ближе к огню, — сказала она громко и медленно, словно говорила с глухим.
Неожиданно, настолько неожиданно, (у Мидж сразу камень свалился с души), Эдвард, прежний Эдвард был опять с ней и нежно ей улыбнулся.
— Вы что-то сказали, Мидж? Извините! Я задумался.
— О, ничего особенного. Просто зажгла камин.
Трещали поленья, ярким и чистым пламенем горели еловые шишки. Эдвард смотрел на них.
— Какой приятный огонь!
Он протянул к пламени длинные, тонкие руки, чувствуя, как напряжение покидает его.
— В Эйнсвике у нас всегда были еловые шишки, — сказала Мидж.
— И теперь тоже. Каждый день корзинка с еловыми шишками ставится у каминной решетки.
Эдвард в Эйнсвике… Мидж прикрыла глаза, представляя себе эту картину. Эдвард скорее всего в библиотеке, в западной части дома. Высокая магнолия почти закрывает одно окно, в полдень наполняя всю комнату золотисто-зеленым светом. Из другого окна видна лужайка, где, как страж, поднимается высокая сосна, а земного вправо от нее — большой медный бук.
О, Эйнсвик… Эйнсвик!
Мидж явственно ощутила аромат магнолии, на которой даже в сентябре остается несколько крупных белых восковых цветков, издающих сладковатый запах… И запах сосновых шишек, горящих в камине… И специфический, чуть затхлый запах старой книги в руках у Эдварда. Он читает, сидя на стуле с седловидной спинкой. Взгляд от книги скользит к огню; он думает о Генриетте…
Мидж шевельнулась и спросила:
— Где Генриетта?
— Пошла к бассейну.
— Зачем?
Отрывистый, глубокий голос Мидж словно разбудил Эдварда.
— Мидж, дорогая, вы, конечно, знаете… или догадываетесь. Генриетта знала Кристоу довольно близко…
— О разумеется, это всем известно! Но мне непонятно, зачем она отправилась на то место, где он был убит. Это совсем не похоже на Генриетту. Ей не свойственна сентиментальность!
— Разве кто-нибудь из нас знает своего ближнего? Например, Генриетту…
Мидж нахмурилась.
— В конце концов, Эдвард, вы и я, мы знаем Генриетту всю нашу жизнь!
— Она изменилась.
— Да нет! Я не думаю, что человек может измениться.
— Генриетта очень изменилась.
Мидж удивленно посмотрела на него.
— Больше, чем вы или я?
— О, я знаю, что не изменился. А вы…
Взгляд Эдварда наконец остановился на девушке, стоявшей на коленях у каминной решетки. Он вглядывался в ее лицо как бы издалека: квадратный подбородок, темные глаза, решительный рот.
— Мне хотелось бы чаще видеть вас, Мидж.
Она улыбнулась:
— Я понимаю, в наши дни общаться нелегко.
Снаружи донесся какой-то звук, и Эдвард встал.
— Люси права, — сказал он. — День был действительно утомительный…
Он вышел из комнаты в ту минуту, когда из сада через застекленную дверь вошла Генриетта.
— Что ты сделала с Эдвардом? — накинулась на нее Мидж.
— С Эдвардом? — спросила рассеянно Генриетта; наморщив лоб, она, казалось, думала о чем-то очень далеком.
— Да, с Эдвардом. Он выглядел ужасно: холодный, мрачный и бледный.
— Мидж, если тебе так небезразличен Эдвард, почему ты не предпримешь что-нибудь?
— Что ты имеешь в виду?
— Я не знаю. Стань на стул и закричи! Чтобы он обратил на тебя внимание. Разве ты не знаешь, что с такими людьми, как Эдвард, по-другому нельзя.
— Он никого не полюбит, кроме тебя, Генриетта. Он всегда тебя любил!
— Это очень неразумно с его стороны. — Генриетта быстро взглянула на бледное лицо Мидж. — Я обидела тебя. Извини. Просто сегодня я ненавижу Эдварда!
— Ненавидишь Эдварда? Как ты можешь?..
— О да, могу! Ты не знаешь…
— Что?
— Он напоминает мне многое, — медленно сказала Генриетта, — что я хотела бы забыть.
— Что именно?
— Ну, например, Эйнсвик!
— Эйнсвик? Ты хотела бы забыть Эйнсвик?! — В голосе Мидж было недоумение.
— Да, да, да! Я была там счастлива! А сейчас я не могу вынести даже напоминания о счастье. Неужели ты не понимаешь? Это было время, когда не знаешь, что тебя ждет, когда веришь, что все будет прекрасно! Некоторые люди мудры… они не надеются быть счастливыми. Я надеялась… Я никогда не вернусь в Эйнсвик! — резко добавила она.
— Кто знает, — задумчиво сказала Мидж.
Глава 14
В понедельник утром Мидж проснулась внезапно. Мгновение она лежала в полусне, взгляд ее беспокойно устремлялся к двери, она ожидала увидеть там леди Энкейтлл… Что это Люси сказала в то первое утро, появившись в дверях? Трудные выходные? Она была озабочена… думала, случится что-то неприятное…
Да, что-то неприятное произошло… что-то лежащее теперь тяжким грузом на сердце и душе Мидж… о чем она не хочет ни думать, ни вспоминать… Что-то пугающее, связанное с Эдвардом!
Мгновенно вернулась память. Какое омерзительное слово «убийств о»!
«О нет, — думала Мидж, — не может быть! Мне просто приснилось. Джон Кристоу убит, мертв… там, около бассейна. Кровь и голубая вода… как на обложке детективного романа. Неправдоподобно, нереально! С нами такое не должно было случиться. Если бы мы сейчас были в Эйнсвике! Там ни за что бы не случилось ничего подобного».
Невыносимая тяжесть, давившая на нее, сконцентрировалась теперь под ложечкой, вызывая легкую тошноту.
Нет, это не сон! Происшествие в стиле «Ньюс оф де Уорлд»! В этом деле замешаны все: и она, и Эдвард, и Люси, и Генри, и Генриетта…
Несправедливо! Совершенно несправедливо… Герда убила своего мужа, а мы тут совершенно ни при чем!
Мидж беспокойно шевельнулась.
Тихая, неумная, чуть жалкая Герда… Разве она способна на такие мелодрамы? Герда, конечно, никого бы не смогла убить.
И снова ей стало не по себе. Нет-нет, так думать нельзя… Если не Герда, то кто же другой? Герда стояла над телом Джона с револьвером в руке. Револьвер она взяла из кабинета Генри.
Герда сказала, что нашла Джона мертвым и подняла револьвер. А что она могла сказать? Она ведь должна была что-то ответить, бедняга.
Хорошо Генриетте защищать Герду… Однако заявив, что все сказанное Гердой правдоподобно, подумала ли она, к чему может привести следствие? К самым невероятным результатам.
Вчера вечером Генриетта была очень странной. Но это, конечно, шок, вызванный смертью Джона Кристоу. Бедная Генриетта… Она так сильно любила Джона! Но, конечно, со временем это пройдет, все проходит… И тогда она выйдет замуж за Эдварда и будет жить в Эйнсвике, и Эдвард наконец будет счастлив.
Генриетте всегда нравился Эдвард. Просто так уж случилось, что Джон Кристоу, энергичный, властный, встал на их дороге, и Эдвард в сравнении с ним выглядел таким… таким блеклым.
Когда Мидж спустилась к завтраку, она была поражена — Эдвард, теперь, когда рядом не было Джона Кристоу, снова стал самим собой. Он выглядел более уверенным, не таким замкнутым и нерешительным. Эдвард любезно разговаривал с Дэвидом, который по-прежнему смотрел сердито и отвечал неохотно.
— Дэвид, вы должны чаще приезжать в Энсвик. Мне хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя там как дома и получше познакомились с имением.
Накладывая себе джем, Дэвид холодно ответил:
— Такие большие имения абсолютно нелепы. Их необходимо разделить.
— Надеюсь, это произойдет после меня, — улыбаясь сказал Эдвард. — Мои арендаторы довольны.
— А не должны бы! — заявил Дэвид. — Никто не должен быть доволен.
— «Если бы мартышки были довольны своими хвостами», — проговорила леди Энкейтлл, стоя у буфета и рассеянно глядя на блюдо с почками. — Эти стихи я учила еще в детстве и никак не могу припомнить, как дальше. Я должна поговорить с вами, Дэвид, и узнать от вас новые идеи. Насколько я поняла, нужно всех ненавидеть и в то же время предоставить им бесплатное образование и медицинское обслуживание. Бедняги! Эти беспомощные детишки, толпящиеся каждый день в школах… и рыбий жир, который насильно вливают младенцам, хотят они того или нет… Препротивно пахнущая жидкость!
«Люси, — подумала Мидж, — ведет себя как всегда». Гаджен, мимо которого Мидж прошла в холле, тоже выглядел как всегда. Жизнь в «Лощине», казалось, опять шла своим чередом. С отъездом Герды все происшедшее стало похоже на страшный сон. Вскоре послышался скрип колес по гравию, и машина сэра Генри подъехала к дому. В Лондоне он переночевал в клубе и выехал рано.
— Ну как, дорогой, — спросила Люси, — все в порядке?
— Да, секретарь — очень компетентная девушка — была на месте и все взяла на себя. Там, кажется, была сестра. Ее вызвала секретарша.
— Я так и думала, — сказала леди Энкейтлл. — Из Танбридж Уэллс.
— Кажется, Бексхилл[184],— взглянув с недоумением на жену, ответил сэр Генри.
— Бексхилл? Пожалуй… Да, вполне возможно, — после некоторого раздумья согласилась леди Энкейтлл.
Подошел Гаджен:
— Сэр Генри, звонил инспектор Грэйндж. Заседание суда назначено на среду в одиннадцать часов.
Сэр Генри кивнул головой.
— Мидж, — сказала леди Энкейтлл, — ты позвонила бы в свой магазин;..
Мидж медленно пошла к телефону. Вся жизнь ее протекала так размеренно и заурядно… Она чувствовала, что ей не хватит слов, чтобы объяснить хозяйке магазина, почему после четырех выходных она все-таки не может вернуться на работу. Сказать, что она замешана в убийстве… Это звучит просто дико! Дико! К тому же мадам Элфридж — особа, которой не так-то просто что-либо объяснить…
Мидж решительно вздернула подбородок и сняла телефонную трубку.
Разговор вышел таким, как она и ожидала. Противный хриплый голос той ядовитой коротышки прозудел:
— Что такое, мизз Харказзл? Змерть? Похороны? Вы прекраззно знаете, что у меня не хватает людей! Вы думаете, я буду терпеть важи оправдания? О конежно, вы там, полагаю, развлекаетезь!
Мидж, прервав ее, объяснила все коротко и понятно.
«Полизия?! Вы зказали полизия… — Голос мадам Элфридж сорвался на визг. — Вы зпутались з полизия?!»
Стиснув зубы, Мидж продолжала объяснять. Как грязно опошлила эта женщина на другом конце провода случившееся у них горе. Вульгарное полицейское дело! Сколько же желчи в этом существе!
В комнату вошел Эдвард, но, увидев, что Мидж говорит по телефону, хотел было уйти. Она остановила его:
— Останьтесь, Эдвард. Пожалуйста, прошу вас!
Присутствие Эдварда давало ей силу противостоять ядовитым замечаниям, сыпавшимся ей в ухо. Она убрала руку, которой закрывала трубку.
— Что? Да, извините, мадам. Но, видите ли, это не моя вина…
Противный хриплый голос продолжал сердито кричать:
— Кто эти важи друзья? Что это за люди, езли у них в доме полизия и убийство? Мне вообже хочется, чтобы вы не возвражжализ! Я не могу допузтить, чтобы позтрадала репутазия моего магазина!
Мидж отвечала покорно и уклончиво. Наконец, со вздохом облегчения, положила трубку. Ее подташнивало и всю трясло.
— Это место, где я работаю, — объяснила она. — Я должна была сообщить, что не могу вернуться до вторника из-за судебного разбирательства и… полиции.
— Что собой представляет этот магазин одежды, где вы работаете? Надеюсь, хозяйка магазина вела себя порядочно? Она симпатичная, приятная женщина?
— Я бы этого не сказала! Она из Уайтчепла[185]. С крашеными волосами и голосом как у коростеля[186].
— Но, Мидж, милая…
Выражение ужаса на лице Эдварда почти заставило Мидж рассмеяться — он выглядел таким озабоченным.
— Дитя мое… вы не должны работать в этом магазине. Если уж работать, надо выбрать место с приятным окружением, чтобы вам были по душе люди, с которыми общаешься.
Мидж мгновение смотрела на него, не отвечая.
«Ну, как ему объяснишь, — думала она, — такому человеку, как Эдвард? Что он знает о рынке труда, о работе?» В душе Мидж внезапно поднялась волна горечи. Люси, Генри, Эдвард… да, даже Генриетта… всех их отделяет от нее непреодолимая пропасть… пропасть, разделяющая праздных людей и работающих. Они не имеют представления о том, как трудно найти работу, а уж если нашел, то чего стоит ее не потерять! Конечно, можно сказать, что ей, собственно говоря, нет надобности зарабатывать на жизнь. Люси и Генри с удовольствием взяли бы ее к себе… или с равным удовольствием могли бы выделить ей содержание. Эдвард охотно сделал бы то же самое. Но что-то не позволяло ей принять легкую жизнь, предлагаемую состоятельными родственниками. Изредка приезжать и погружаться в прекрасно налаженную, роскошную жизнь «Лощины» — само по себе превосходно! Этим Мидж могла наслаждаться. Однако стойкий дух независимости удерживал ее от того, чтобы принять такую жизнь из чьих-то рук. Это же чувство не разрешало Мидж открыть собственное дело — не хотела одалживаться у родственников и друзей. Она вдоволь насмотрелась, чем это кончается.
Мидж не хотела ни брать деньги взаймы, ни пользоваться протекцией. Она сама нашла себе работу на четыре фунта в неделю, и мадам Элфридж, нанявшей ее в надежде, что Мидж направит в ее магазин своих друзей из фешенебельного общества, пришлось разочароваться. Мидж стойко отклоняла подобные попытки всех друзей и знакомых.
Мидж не питала никаких иллюзий в отношении своей работы. Она испытывала отвращение к магазину, к мадам Элфридж, к постоянному раболепству перед раздражительными и дурно воспитанными покупательницами, но она очень сомневалась в том, что сможет найти другое более приятное место, ведь у нее не было никакой специальности.
Разглагольствования Эдварда о том, что перед ней открыт широкий выбор, невыносимо ее раздражали. Как он мог жить в мирке, настолько оторванном от реальности?
Они — Энкейтллы! Все до одного! А она… она лишь по матери Энкейтлл! Порою, как, например, этим утром, она вообще не чувствовала себя своей в этой семье. Она была дочерью только своего отца.
Воспоминания об отце вызвало в душе острую боль и жалость. Седой, с вечно усталым лицом. Он столько лет старался спасти небольшое семейное предприятие, которое было обречено и, несмотря на все усилия и заботы, медленно разорялось. Не из-за неспособности отца вести дела… Просто оно устарело — наступал прогресс.
Как ни странно, любовь Мидж была отдана не ее блестящей матери из рода Энкейтллов, а тихому усталому отцу. Каждый раз, возвращаясь после визита в Эйнсвик, которым неистово восторгалась всю жизнь, она читала легкое неодобрение на усталом отцовском лице, и тогда бросалась ему на шею, повторяя: «Я рада, что вернулась домой… Я рада быть дома!»
Мать умерла, когда Мидж было тринадцать лет. Иногда Мидж сознавала, как мало она знала о своей матери, рассеянной, очаровательной и веселой. Сожалела ли она о своем замужестве, которое поставило ее вне клана Энкейтллов? Этого Мидж не знала.
После ее смерти отец становился все более тихим и на глазах седел. Попытки устоять в борьбе с конкурентами делались все более бесполезными. Он умер тихо и незаметно, когда Мидж было восемнадцать лет.
Мидж жила у многих родственников со стороны Энкейтллов, принимала от них подарки, развлекалась, но от денежной помощи отказывалась. И хотя она любила их, иногда остро чувствовала себя человеком не из их круга.
«Они ничего не знают о жизни», — думала она с затаенной враждебностью.
Эдвард, чуткий как всегда, озадаченно смотрел на нее.
— Я чем-то вас расстроил? — спросил он мягко.
В комнату вошла Люси. Она была в самой середине одного из своих обычных диалогов.
— …Видите ли, в самом деле неизвестно, предпочтет ли она «Белого оленя» или нас.
Мидж удивленно посмотрела на нее, потом на Эдварда.
— На Эдварда смотреть бесполезно, он все равно не знает, — заявила леди Энкейтлл. — Но ты, Мидж, ты всегда очень практична.
— Не понимаю, о чем ты говоришь, Люси!
Люси казалась удивленной.
— Судебное заседание, дорогая! Должна приехать Герда. Остановится она у нас или в «Белом олене»? Конечно, здесь все связано с тяжелыми переживаниями… но в «Белом олене» найдутся люди, которые будут глазеть на нее, и, конечно, репортеры. В среду в одиннадцать или в одиннадцать тридцать? — Внезапно улыбка озарила лицо леди Энкейтлл. — Я никогда не была на суде. Думаю, что серый костюм и, конечно, шляпа, как в церкви, но, разумеется, без перчаток!
Люси прошла по комнате и, подняв телефонную трубку, сосредоточенно ее рассматривала.
— Знаете, — продолжала она, — у меня, кажется, вообще теперь нет перчаток, кроме садовых! Ну и, конечно, длинных, вечерних, оставшихся еще со времен губернаторства Генри. Перчатки — это довольно глупо, не правда ли?
— Их единственное назначение — избежать отпечатков пальцев во время преступления, — сказал улыбаясь Эдвард.
— Как интересно, что ты сказал именно это! Очень интересно! А зачем мне эта штука? — Леди Энкейтлл с легким отвращением посмотрела на телефонную трубку, которую держала в руке.
— Может быть, ты хотела кому-нибудь позвонить?
— Не думаю. — Леди Энкейтлл задумчиво покачала головой и бережно положила трубку на место. — Мне кажется, Эдвард, что ты не должен волновать Мидж. Она и так переживает из-за смерти Джона больше, чем мы.
— Дорогая Люси! — воскликнул Эдвард. — Я только выразил беспокойство по поводу места, где работает Мидж. По-моему, оно совершенно неподходящее.
— Эдвард считает, что у меня должен быть восхитительный, полный понимания и сочувствия работодатель, который сможет меня оценить, — сухо сказала Мидж.
— Милый Эдвард, — с полным пониманием улыбнулась Люси и вышла из гостиной.
— Серьезно, Мидж, — обратился к ней Эдвард, — меня беспокоит…
— Она платит мне четыре фунта в неделю, — перебила его Мидж. — В этом все дело!
Она быстро прошла мимо Эдварда и вышла в сад.
Сэр Генри сидел на своем привычном месте — низкой ограде, но Мидж свернула в сторону и направилась к цветочной дорожке. Ее родственники, конечно, очаровательны, но сегодня все их очарование ей ни к чему.
В верхней части дорожки на скамье сидел Дэвид Энкейтлл. Чрезмерным очарованием он не отличался. Мидж направилась прямо к нему и села рядом, отметив про себя со злорадством его замешательство.
«Как невероятно трудно, — подумал Дэвид, — удрать от людей».
Он вынужден был покинуть спальню из-за стремительного нашествия горничных со швабрами и тряпками. Библиотека с «Британикой», на что он уповал с оптимизмом, тоже оказалась ненадежным убежищем. Леди Энкейтлл дважды появлялась и исчезала из библиотеки, ласково обращаясь к нему с вопросами, на которые, кажется, просто невозможно дать разумный ответ.
Он вышел в сад поразмышлять о своем положении. Этот визит, на который он нехотя согласился, теперь затянулся из-за внезапного убийства. Дэвид, предпочитавший созерцательность «Академического прошлого» или серьезные дискуссии относительно «Будущего левого крыла», не привык иметь дело с жестокой реальностью настоящего. Дэвид, как он решительно заявил леди Энкейтлл, никогда не читал «Ньюс оф де Уорлд», но случилось так, что происшествие, достойное этой газетенки, само пожаловало в «Лощину».
Убийство! Что подумают его друзья! Как, вообще говоря, следует относиться к убийству? Какую реакцию оно должно вызвать — скуку? Отвращение? Или восприниматься как нечто слегка забавное?
Стараясь разобраться во всем этом, Дэвид меньше всего хотел, чтоб ему помешала Мидж. Он с беспокойством посмотрел на нее, когда она села рядом, и его удивил вызывающий взгляд, которым она ему ответила. Несимпатичная девушка и никакого интеллекта.
— Как вам нравятся ваши родственники?
Дэвид пожал плечами:
— Разве об этом думают!
— Стоит ли вообще о чем-либо думать?! — подхватила Мидж.
«Уж она-то, — заметил про себя Дэвид, — вовсе не способна думать». И добавил почти любезно:
— Я анализировал свою реакцию на убийство.
— Странно, конечно, быть причастным к убийству, — сказала Мидж.
— Утомительно, — отозвался, вздохнув, Дэвид. — Пожалуй, это самое подходящее определение. Все клише, которые приходят на ум, существуют только на страницах детективных романов!
— Вы, наверное, сожалеете о том, что приехали? — спросила Мидж.
Дэвид вздохнул.
— Да, я мог бы остаться с моим другом в Лондоне. У него книжный магазин, где продаются книги «Левого крыла».
— Я думаю, здесь комфортабельнее, — сказала Мидж.
— Разве комфорт так уж необходим? — презрительно спросил Дэвид.
— Иногда я чувствую, что не могу думать ни о чем другом, — сказала Мидж.
— Отношение к жизни избалованного человека! — заявил Дэвид. — Если бы вы работали…
— А я работаю, — прервала его Мидж. — Именно поэтому у меня тяга к комфорту: удобные кровати, мягкие подушки. Рано утром у вашей постели тихо ставят чашку чаю. Керамическая ванна, много горячей воды, чудесные соли для купанья, мягкие кресла, в которых просто утопаешь…
Мидж остановилась.
— Все это рабочие должны иметь, — заявил Дэвид.
Хотя он несколько сомневался по поводу ранней чашки чаю, тихо поставленной на подносе у кровати. Это звучало уж слишком по-сибаритски[187] для серьезно организованного общества.
— Не могу не согласиться с вами, — сердечно подхватила Мидж.
Глава 15
Когда зазвонил телефон, Эркюль Пуаро наслаждался утренней чашечкой шоколада. Он встал и поднял трубку.
— Алло!
— Мосье Пуаро?
— Леди Энкейтлл?
— Как мило, что вы узнали меня по голосу. Я не помешала?
— Нисколько! Надеюсь, на вас не слишком сказались вчерашние горестные события?
— Нет, благодарю вас. В самом деле горестные, хотя я чувствую себя полностью от них отстраненной.
Я позвонила, чтобы узнать, не сможете ли вы зайти… Я понимаю, что причиняю вам неудобство, но я в самом деле очень обеспокоена.
— Разумеется, леди Энкейтлл. Вы хотите, чтобы я зашел сейчас?
— Да, именно сейчас. Как можно скорее. Очень любезно с вашей стороны.
— Не стоит благодарности. Разрешите, я пройду через лес.
— О да, конечно… Это кратчайший путь. Очень вам благодарна, мосье Пуаро!
Задержавшись, чтобы смахнуть несколько соринок с бортов пиджака и облачиться в свое легкое пальто, Пуаро вышел из дому, пересек дорогу и поспешил по тропинке через каштановую рощу. У бассейна никого не было. Полицейские закончили свою работу и ушли. В мягком туманном осеннем свете все выглядело безмятежно и мирно.
Пуаро заглянул в павильон. Он заметил, что накидку из черно-бурых лисиц уже убрали, а шесть спичечных коробков все еще лежали на столике около дивана. Он снова удивился, откуда они здесь взялись.
«Совсем неподходящее место держать спички… здесь сыро. Возможно, одну коробку для удобства… но не шесть!»
Пуаро наклонился над крашеным железным столиком. Поднос с бокалами тоже был убран. Кто-то набросал карандашом на столике небрежный рисунок какого-то совершенно кошмарного дерева. Эркюлю Пуаро было просто больно смотреть на него, оно оскорбляло его строго упорядоченный ум. Пуаро щелкнул языком, покачал головой и поспешил по дорожке к дому, с удивлением думая о причине такого срочного вызова.
Деди Энкейтлл ждала у застекленной двери и сразу же i увлекла его в гостиную.
— Очень любезно с вашей стороны, мосье Пуаро! — Она тепло пожала ему руку.
— К вашим услугам, мадам.
Руки леди Энкейтлл взлетели в выразительном жесте, прекрасные голубые глаза широко раскрылись.
— Видите ли, все так сложно! Инспектор Грэйндж лично беседует с Гадженом, нет, допрашивает… снимает показания… Какой термин тут подходит? Вся наша жизнь здесь зависит от Гаджена, и он, безусловно, вызывает сочувствие. Просто ужасно, что его допрашивает полицейский, пусть даже сам инспектор Грэйндж. Хотя, мне кажется, инспектор Грэйндж — приятный человек и хороший семьянин. Я полагаю, сыновья… и он, наверное, помогает им по вечерам с «Меккано»[188]… и жена, которая содержит дом в идеальной чистоте, хотя у них несколько тесновато…
Эркюль Пуаро удивленно мигал, следя за тем, как леди Энкейтлл разворачивала перед ним воображаемую картину семейной жизни инспектора Грэйнджа.
— Между прочим, у него какие-то опущенные усы, — продолжала леди Энкейтлл. — Я думаю, что чересчур чистый дом может быть иногда гнетущим… Как лица больничных медицинских сестер. Их лица прямо-таки блестят от мыла! Впрочем, это чаще за границей — там не поспевают за прогрессом! В лондонских частных лечебницах — много пудры и по-настоящему яркая губная помада. Но я хотела сказать, мосье Пуаро, вы в самом деле должны прийти к нам на ленч, когда вся эта нелепая история будет позади.
— Вы очень добры.
— Я лично не против полиции, — сказала леди Энкейтлл. — И нахожу это довольно интересным. «Разрешите помочь вам по мере сил», — сказала я инспектору Грэйнджу. Он кажется сбитым с толку, но методичным.
— Для полиции так важно определить мотив, — продолжала она. — Кстати, о больничных сестрах… Мне кажется, что Джон Кристоу… Медсестра с рыжими волосами и вздернутым носиком… довольно привлекательная. Конечно, все это было давно, и полиция может не заинтересоваться. Но, вообще говоря, неизвестно, что приходилось выносить бедняжке Герде. Она принадлежит к типу преданных людей, не так ли? Или попросту верит всему, что ей говорят. Я думаю, это разумно, если у человека нет большого ума.
Совершенно неожиданно леди Энкейтлл распахнула дверь в кабинет и увлекла за собой Пуаро, оживленно воскликнув: «Вот и мосье Пуаро!» Она проскользнула мимо него и исчезла, закрыв за собой дверь. Инспектор Грэйндж и Гаджен сидели у стола, в углу расположился молодой человек с записной книжкой. Гаджен уважительно поднялся со стула.
Пуаро поспешно извинился:
— Я сейчас уйду. Уверяю вас, я не имел ни малейшего представления, что леди Энкейтлл…
— Нет-нет, пожалуйста. — Усы Грэйнджа в это утро выглядели еще более пессимистично.
«Может быть, — подумал Пуаро, пораженный недавним описанием инспектора, сделанным леди Энкейтлл, — может быть, в доме была большая уборка или, возможно, купили индийский медный столик, так что бедному инспектору повернуться негде…»
Пуаро сердито отогнал эти мысли. Слишком чистый, но тесноватый дом инспектора Грэйнджа, его жена, сыновья с их увлечением «Меккано» — все это измышления беспокойного ума леди Энкейтлл. Однако живость и правдоподобие этой картинки заинтересовали его.
— Садитесь, мосье Пуаро, — предложил Грэйндж. — Мне хотелось кое о чем спросить вас. Я уже почти закончил.
Он снова обратился к Гаджену, который почтительно, хотя против воли, занял свое место, и повернул к собеседнику невозмутимое лицо.
— И это все, что вы можете вспомнить?
— Да, сэр. Все было как всегда, сэр. Никаких неприятностей.
— Меховая накидка… в летнем павильоне у бассейна. Кому она принадлежит?
— Вы говорите, сэр, о меховой накидке? Я заметил ее вчера, когда уносил бокалы из павильона. Эта вещь не принадлежит никому в доме, сэр.
— Чья же она?
— Возможно, она принадлежит мисс Крэй, сэр. Мисс Веронике Крэй, киноактрисе. На ней было что-то похожее.
— Когда?
— Позапрошлой ночью, когда она была здесь, сэр.
— Вы не упоминали ее в числе гостей.
— Она не была приглашена, сэр. Мисс Крэй живет в «Голубятне», гм… в коттедже, вверх по дороге. Она пришла после обеда, чтобы занять коробку спичек — у нее спички кончились.
— Она взяла шесть коробок? — спросил Пуаро.
— Верно, сэр. Ее светлость, узнав, что у нас спичек достаточно, настояла на том, чтобы мисс Крэй взяла полдюжины коробок.
— Которые она затем оставила в павильоне?
— Да, сэр. Я заметил их там вчера утром.
— Наверное, мало что ускользает от этого человека, — сказал Пуаро, когда Гаджен ушел, закрыв за собой дверь, тихо и почтительно.
— Прислуга чертовски хитра, — заметил инспектор Грэйндж. — И все-таки, — добавил он с воодушевлением, — всегда есть судомойка! Судомойки — говорят! Не то что эти высокомерные дворецкие. Я отправил человека порасспросить на Харли-стрит, — продолжал инспектор, — и сам попозже поеду туда. Там мы что-нибудь узнаем. Я полагаю, знаете ли, что жене Кристоу пришлось немало вытерпеть. Вообще эти модные доктора с их пациентками… Можно только удивляться! Как я понял со слов леди Энкейтлл, были какие-то неприятности из-за медсестры. Разумеется, леди Энкейтлл говорила очень неопределенно.
— Да, — согласился Пуаро, — это в ее манере!
Умело созданная картина. Джон Кристоу и любовные интриги с медсестрами… пикантные возможности в жизни доктора… достаточно повода, чтобы ревность Герды Кристоу привела к кульминации — убийству!
Да, ловко брошенные несколько фраз привлекают внимание к дому на Харли-стрит и уводят подальше от «Лощины», подальше от того момента, когда Генриетта Сэвернейк взяла револьвер из несопротивляющейся руки Герды Кристоу, и от другого момента, когда умирающий Джон Кристоу произнес: «Генриетта…» — размышлял, прикрыв веки, Пуаро. Внезапно он широко раскрыл глаза и спросил с нескрываемым любопытством:
— Ваши мальчики играют с «Меккано»?
— Что?! — Прервав свои размышления, инспектор Грэйндж уставился на Пуаро. — Странный вопрос. Вообще говоря, они еще маловаты, но я подумывал о том, чтобы подарить Тэдди на Рождество набор «Меккано». А почему вы спросили?
Пуаро покачал головой.
«Такие интуитивные невероятные предположения леди Энкейтлл, — подумал Пуаро, — часто могли оказаться правильными, и это делало леди Энкейтлл особенно опасной. Беспечными — кажущимися беспечными — словами она создавала картину. И если часть этой картины оказывалась правильной, вы начинали помимо вашей воли полагать, что и другая часть картины тоже верна».
— Я хотел спросить вас, мосье Пуаро, — сказал инспектор Грэйндж, — эта мисс Крэй, актриса… она тащится сюда за спичками… Если ей нужны были спички, почему она не пришла к вам, вы живете всего в двух шагах от нее. Зачем тащиться добрых полмили?
Эркюль Пуаро пожал плечами.
— По разным причинам. Может, снобизм? Мой коттедж невелик и незначителен. Я бываю здесь только в конце недели, а сэр Генри и леди Энкейтлл — известные люди… Они живут здесь постоянно. Они, что называется, господа в этом графстве. Может быть, Вероника Крэй хотела познакомиться с ними… в конце концов, так оно и вышло…
Инспектор Грэйндж встал.
— Конечно, — согласился он, — это вполне вероятно, но не хотелось бы упустить чего-нибудь. Все-таки я не сомневаюсь, что все пойдет как по маслу. Сэр Генри опознал револьвер — он из его коллекции. Похоже, они в самом деле развлекались стрельбой по мишеням накануне — где-то после полудня. Миссис Кристоу нужно было только войти в кабинет и взять револьвер и патроны. Она видела, куда он их положил. Все довольно просто!
— Да, — пробормотал Пуаро, — все кажется довольно просто.
«Такая женщина, как Герда Кристоу, — подумал Пуаро, — именно так могла совершить убийство. Без всяких уверток и ухищрений… под влиянием тяжкого страдания — поступок в духе ограниченной, но глубоко любящей натуры. И все-таки у нее наверняка хватило бы ума хоть как-то себя обезопасить. Или она действовала в ослеплении… так сказать, в состоянии аффекта… когда разум молчит?»
Пуаро вспомнилось пустое, ошеломленное лицо Герды.
Пока он не знал… просто не знал. Но предчувствовал, что скоро узнает.
Глава 16
Герда стянула через голову черное платье, и оно соскользнуло на стул.
— Я не знаю… Я в самом деле не знаю, — сказала она. Лицо ее было жалким. — Теперь, кажется, ничто не имеет значения.
— Понимаю, дорогая, понимаю. — Миссис Паттерсон была доброжелательна, но тверда. Она умела обращаться с людьми, понесшими тяжелую утрату. В семье о ней всегда говорили: «В критических ситуациях Элси просто великолепна!»
В данный момент она была «великолепной» в спальне своей сестры Герды на Харли-стрит. Элси Паттерсон, высокая, худощавая женщина с решительными манерами, смотрела на Герду со смешанным чувством раздражения и сострадания.
Бедняжка Герда… Какая трагедия потерять мужа… и так ужасно… но и теперь она как будто все еще не в полной мере осознает того, что произошло. «Конечно, — размышляла миссис Паттерсон, — у Герды всегда была ужасно замедленная реакция. А тут еще и шок, об этом тоже нельзя забывать!»
— Я бы выбрала это черное креповое за двенадцать гиней[189],— сказала Элси отрывисто. «Вечно все надо решать!» — подумала она.
Герда стояла неподвижно, нахмурив брови.
— Я не знаю, — сказала она нерешительно, — как относился Джон к трауру. Кажется, он однажды говорил, что это ему не нравится.
«Джон, — подумала она, — если бы Джон был здесь и сказал, что мне делать». Но Джон больше не вернется. Никогда… никогда… никогда! Остывающая баранина на столе… стук захлопнувшейся двери приемной… Джон, взбегающий по лестнице через две ступеньки, энергичный, бодрый, полный жизни…
Полный жизни…
Распростертый у плавательного бассейна… капли крови, медленно стекающие через край… ощущение револьвера в руке… Кошмар, страшный сон, скоро она проснется, и все это окажется неправдой.
— Ты должна быть в черном на суде. — Резкий голос сестры прорвался сквозь неясные мысли Герды. — Будет более чем странно, если ты явишься туда в ярко-синем платье.
— Это разбирательство в суде, — произнесла Герда, прикрыв глаза. — Ужасно.
— Конечно, ужасно, дорогая, — быстро сказала Элси Паттерсон. — Но, когда все кончится, ты сразу поедешь к нам, и мы позаботимся о тебе.
Туманная пелена, словно обволакивающая ее мозг, сгустилась.
— Что же я буду делать без Джона? — проговорила она, и в ее голосе звучал почти панический испуг.
На это у Элси Паттерсон был готовый ответ:
— У тебя есть дети. Ты должна жить для них.
Зина, как же она плакала… «Мой папа умер!» И ничком на кровать… Тэрри, бледный, с бесконечными вопросами, не проливший ни слезинки.
«Несчастный случай, — сказала она детям. — С бедным папой произошел несчастный случай!»
Бэрил Колльер (очень предусмотрительно с ее стороны) спрятала все утренние газеты, чтобы дети их не видели. И предупредила слуг. В самом деле, Бэрил очень добра и внимательна!
Тэренс пришел к матери в темную гостиную. Губы мальчика были плотно сжаты, лицо необычно бледное, почти зеленоватое.
«Почему убили отца?»
«Несчастный случай, дорогой… Я… я не могу говорить об этом».
«Это не был несчастный случай. Почему ты говоришь неправду? Это было убийство. Так пишут в газете».
«Тэрри, где ты раздобыл газету? Я сказала мисс Колльер…»
Он несколько раз кивнул головой. Так странно, совсем как глубокий старик.
«Вышел и купил. Я знал, там должно быть что-то, о чем ты нам не сказала, иначе зачем было мисс Колльер их прятать?»
От Тэрри никогда нельзя было скрыть правду. Он такой дотошный, постоянно требовал объяснений.
«Мама, почему его убили?»
Совершенно потрясенная, почти в истерике она закричала: «Не спрашивай меня об этом… Не говори об этом… Я не могу говорить об этом… Это слишком ужасно!»
«Но они узнают, правда? Я хочу сказать, они должны узнать. Это необходимо».
Так разумно, так трезво… Герде хотелось закричать, и засмеяться, и заплакать… «Ему безразлично, — подумала она, — ему все равно… Он только задает вопросы. Он даже не заплакал».
Тэренс ушел, стараясь избежать утешений своей тетки Элси. Одинокий мальчуган с застывшим лицом. Он всегда чувствовал себя одиноким. Но до сегодняшнего дня это не имело значения. «Сегодня, — думал он, — все совсем иначе!» Хоть бы кто-нибудь ответил на его вопросы разумно и внятно.
Завтра, во вторник, он и Николсон Майнор должны были провести опыт с нитроглицерином. Он с таким волнением ждал этой минуты! Теперь радостное ожидание исчезло. Ему безразлично, даже если никогда больше он не получит нитроглицерин… При этой мысли Тэренс пришел в ужас. Никогда больше не мечтать о научных экспериментах?! «Но если отец убит… — думал он, — мой отец — убит…»
Что-то в нем шевельнулось… укоренилось… стало медленно расти… Гнев!
Постучав, Бэрил Колльер вошла в спальню. Она была бледна, собранна и как всегда практична.
— Пришел инспектор Грэйндж, — сообщила она.
Но когда Герда, судорожно вздохнув, жалобно посмотрела на нее, Бэрил поспешно добавила:
— Он сказал, что нет надобности вас беспокоить. Он поговорит с вами, перед тем как уйти. Это обычные вопросы, касающиеся практики доктора Кристоу, и я смогу сообщить все, что его интересует.
— О, спасибо, Колли!
Бэрил быстро вышла, а Герда вздохнула с облегчением:
— Колли так помогает! Она такая практичная.
— Да, разумеется, — согласилась миссис Паттерсон, — я думаю, она отличная секретарша. Очень некрасива, бедняжка, верно? Ну что ж, это даже лучше. Особенно, если работаешь с таким привлекательным мужчиной, как Джон.
— Что ты имеешь в виду? — набросилась на сестру Герда. — Джон никогда… он никогда… Ты говоришь так, словно Джон мог флиртовать или что-нибудь еще похуже, если бы у него была хорошенькая секретарша? Джон был совсем не такой!
— Конечно нет, дорогая, — сказала миссис Паттерсон, — но все-таки мы знаем, каковы мужчины!
В приемном кабинете инспектор Грэйндж был встречен холодным, воинственным взглядом Бэрил Колльер. Что взгляд был именно воинственный, инспектор заметил сразу. Ну что ж, может быть, это естественно.
«Некрасивая девица, — подумал он, — я думаю, между ней и доктором ничего не было. Хотя он, может быть, ей нравился. Иногда такое бывает».
«Но не в этом случае», — пришел он к выводу после пятнадцатиминутной беседы. Ответы Бэрил Колльер на все его вопросы были образцово четкими. Она отвечала быстро и, совершенно очевидно, знала все детали врачебной практики доктора Кристоу как свои пять пальцев. Инспектор сменил тактику и начал потихоньку интересоваться отношениями между Джоном Кристоу и его женой.
— Они были, — сказала Бэрил, — в прекрасных отношениях.
— Полагаю, все же ссорились время от времени, как все супружеские пары? — Голос инспектора звучал естественно и доверительно.
— Я не помню никаких ссор. Миссис Кристоу была невероятно преданна своему мужу… прямо-таки рабски преданна.
В голосе Бэрил мелькнул легкий оттенок презрения.
Инспектор его заметил. «Да она феминистка![190]» — подумал он, а вслух спросил:
— Совсем не могла постоять за себя?
— Нет. Просто для нее он всегда был непререкаемым авторитетом.
— Деспотичен?
Бэрил задумалась.
— Нет, я бы этого не сказала. Но он был, по-моему, очень эгоистичным человеком и принимал как должное то, что миссис Кристоу всегда все делала так, как он того хотел.
— Какие-нибудь трудности с пациентами? Я имею в виду с женщинами. Не бойтесь быть откровенной, мисс Колльер. Всем известно, что у докторов бывают трудности в этом плане.
— О, вот вы о чем! — презрительно сказала Бэрил. — Доктор Кристоу прекрасно справлялся с подобными трудностями. У него были превосходные манеры и отличные отношения с пациентками. Он в самом деле был замечательным доктором, — добавила она с невольным восхищением в голосе.
— Были у него связи с женщинами? — спросил Грэйндж. — Отбросьте щепетильность, мисс Колльер, нам это очень важно знать!
— Да, я поняла. Мне об этом ничего не известно.
«Пожалуй, несколько резко, — подумал инспектор, — она не знает, но, видимо, догадывается».
— А что вы скажете о Генриетте Сэвернейк? — прямо спросил инспектор.
Бэрил крепко сжала губы.
— Она была близким другом семьи.
— Не было… неприятностей из-за нее между доктором и миссис Кристоу?
— Разумеется, нет!
Ответ был категоричен. Слишком категоричен.
— А что вы можете сказать о мисс Веронике Крэй?
— Вероника Крэй?
Удивление в голосе Бэрил было искренним.
— Она была другом доктора Кристоу, не так ли? — спросил инспектор.
— Я никогда о ней не слышала. Хотя мне, кажется, знакомо это имя…
— Киноактриса.
— Конечно! — Нахмуренные брови Бэрил расправились. — Недаром мне казалось, я где-то его слышала. Но я не знала, что доктор Кристоу был с ней знаком.
Она говорила так уверенно, что инспектор решил оставить этот вопрос. Он начал расспрашивать о том, каким был доктор Кристоу в предыдущую субботу. И тут ответы Бэрил стали не столь четкими.
— Его поведение не было обычным, — сказала она раздумчиво.
— Чем же оно отличалось?
— Он казался рассеянным. Он долго не вызывал в кабинет последнюю пациентку, хотя обычно накануне выходных он всегда торопился поскорее закончить прием. Я думаю… да, я уверена, он был чем-то озабочен.
Но ничего более определенного она не сказала.
Инспектор Грэйндж был не очень доволен результатами допроса. Он так и не смог установить мотив преступления, а сделать это было необходимо — до того, как дело поступит к прокурору.
В глубине души Грэйндж был уверен в том, что Герда Кристоу застрелила своего мужа. Он подозревал, что она сделала это из ревности, но до сих пор не нашел никаких подтверждений. Сержант Кумбз беседовал с прислугой, но все слуги повторяли одно и то же: миссис Кристоу готова была целовать землю, по которой ступал ее муж.
«Если что-то произошло, — думал он, — то это связано с „Лощиной“». Вспоминая «Лощину», инспектор испытывал определенное беспокойство. Все они там, мягко говоря, странные.
На письменном столе зазвенел телефон, и мисс Колльер сняла трубку.
— Это вас, инспектор, — сказала она.
— Алло! Грэйндж у телефона. Слушаю. Что?..
Бэрил почувствовала перемену в его голосе и с любопытством на него посмотрела. Лицо инспектора было еще менее выразительным, чем обычно. Он слушал… что-то ворчал…
— Да… да, понял… Это абсолютно точно? Да? Ни тени сомнения. Да… да… да. Сейчас еду. Я здесь почти кончил… Да!
Он положил трубку и какое-то время сидел молча. Наконец, взяв себя в руки, спросил совсем другим голосом, не таким, каким задавал предыдущие вопросы:
— У вас, вероятно, нет собственного мнения обо всей этой истории?
— То есть?..
— Нет ли у вас соображений относительно личности убийцы?
— Ни малейших, инспектор, — ответила она решительно.
— Когда обнаружили тело, миссис Кристоу стояла возле него с револьвером в руке… — Инспектор умышленно не закончил фразу.
Реакция Бэрил была быстрой и четкой.
— Если вы подозреваете миссис Кристоу, то вы ошибаетесь. Миссис Кристоу совсем не из решительных женщин. Она очень мягкая, покорная и была полностью у мужа под башмаком. Мне кажется крайне странным, что кто-то может хоть на мгновение вообразить, будто она его застрелила. Если даже обстоятельства складываются против нее.
— Ну, а если не она, то кто? — резко спросил он.
— Понятия не имею… — подумав, ответила Бэрил.
Инспектор направился к двери.
— Вы хотели повидать миссис Кристоу, прежде чем уйдете? — спросила она.
— Нет… Да, пожалуй, так будет лучше!
Бэрил снова удивилась: тон инспектора совершенно переменился, совсем не такой, как до телефонного звонка. Какое известие могло вызвать такую значительную перемену?
Герда нервно вошла в комнату. Она выглядела несчастной и ошеломленной.
— Вы узнали что-нибудь новое о том, кто убил Джона? — спросила она негромким, дрожащим голосом.
— Еще нет, миссис Кристоу.
— Это невероятно… совершенно невероятно!
— И тем не менее это случилось, миссис Кристоу.
Она кивнула, глядя вниз, комкая носовой платок, скатывая его в маленький шарик.
— Миссис Кристоу, у вашего мужа были враги? — спросил он тихо.
— У Джона? О нет! Он был удивительный человек! Все его обожали.
— А вы знаете кого-нибудь, кто затаил бы зло против него, — инспектор сделал паузу, — или против вас?
— Против меня? — Она казалась изумленной. — О нет, инспектор.
Инспектор Грэйндж вздохнул.
— А мисс Вероника Крэй?
— Вероника Крэй? О, вы имеете в виду женщину, которая пришла в тот вечер за спичками?
— Да, вы ее знали?
Герда покачала головой.
— Я никогда не видела ее раньше. Джон был знаком с ней много лет тому назад… во всяком случае, она так сказала…
— Может быть, у нее было что-то против доктора Кристоу, а вы об этом не знали?
— Я не верю, чтобы кто-нибудь затаил злобу против Джона, — с достоинством произнесла Герда. — Он был самый добрый и бескорыстный из людей… Да, один из благороднейших людей!
— Гм, да, конечно! — сказал инспектор. — Ну что же, доброго вам утра, миссис Кристоу. Вы помните о судебном заседании? В среду, в одиннадцать часов в Маркет Деплич. Все будет очень просто… не беспокойтесь… Очевидно, отложат на неделю, чтобы мы могли продолжить расследование.
— О да, понимаю. Спасибо.
Она стояла, внимательно глядя на него. Инспектору казалось, что она даже сейчас не уразумела того, что является главным лицом, на кого падает подозрение.
Грэйндж подозвал такси — оправданный расход в свете только что полученной им по телефону информации. Куда эти сведения приведут, он не знал. На первый взгляд они казались совершенно не относящимися к делу, даже… невероятными. В этом не было никакого смысла. Однако каким-то образом — он пока не мог понять как — это должно было иметь определенную связь с расследованием.
Единственный вывод, который можно было сделать, — эта история оказалась не такой уж простой, как ему показалось сначала.
Глава 17
Сэр Генри удивленно смотрел на инспектора Грэйнджа.
— Я не совсем уверен, что правильно вас понимаю, инспектор.
— Все довольно просто, сэр Генри. Я прошу вас проверить вашу коллекцию огнестрельного оружия. Я думаю, она каталогизирована и снабжена указателем?
— Естественно. Однако я уже опознал револьвер как оружие из моей коллекции.
— Все оказалось не так просто, сэр Генри. — Инспектор сделал паузу. Инстинктивно он всегда был против того, чтобы сообщать какую-либо информацию, но в данном случае вынужден был это сделать. Сэр Генри — человек значительный. Он, без сомнения, уступит просьбе, но потребует объяснений. Инспектор решил, что такие объяснения необходимо дать. — Доктор Кристоу был убит выстрелом не из того револьвера, который вы опознали сегодня утром, — спокойно объяснил Грэйндж.
Брови сэра Генри поднялись.
— Удивительно! — сказал он.
Грэйндж почувствовал некоторое облегчение и благодарность сэру Генри. «Удивительно!» — вот именно, очень точное слово. Инспектор был благодарен и за то, что сэр Гэнри воздержался от комментариев. Да пока и не о чем было говорить. Удивительно… лучше и не скажешь.
— У вас есть основания полагать, — спросил сэр Генри, — что оружие, из которого был произведен роковой выстрел, из моей коллекции?
— Ни малейших. Но я должен убедиться, что оружие в самом деле не из вашей коллекции.
Сэр Генри одобрительно кивнул головой.
— Я вас понимаю. Ну что же, давайте начнем. Это займет немного времени.
Сэр Генри отпер стол и вынул записную книжку в кожаном переплете. Раскрывая ее, он снова повторил:
— Нужно совсем немного времени, чтобы проверить…
Что-то в голосе сэра Генри привлекло внимание инспектора. Он пристально посмотрел на него. Плечи сэра Генри поникли… он выглядел старше и более усталым.
Инспектор нахмурился. «Черт меня побери, — подумал он, — если я понимаю этих людей…»
— Гм!.. — произнес сэр Генри.
Грэйндж повернулся к нему всем корпусом. Краем глаза взглянул на стрелки часов. Двадцать… нет, тридцать минут прошло с тех пор, как сэр Генри сказал: «Это займет немного времени…»
— Сэр? — отрывисто спросил Грэйндж.
— «Смити-Вессон»-38[191] отсутствует. Он был в коричневой кожаной кобуре в глубине этого ящика.
— Так… — Голос инспектора казался спокойным, хотя сам он был возбужден. — А когда, по-вашему, вы видели его на месте в последний раз?
Сэр Генри на секунду задумался.
— Это нелегко сказать, инспектор. Последний раз я открывал этот ящик неделю назад и думаю… Не будь револьвера на месте, я бы это заметил. Но я не могу сказать с уверенностью, что видел револьвер.
Инспектор утвердительно кивнул.
— Благодарю вас, сэр Генри. Я вполне понимаю. Ну что ж, я должен идти.
Инспектор спешно вышел из комнаты… Он явно был озабочен. После ухода инспектора сэр Генри некоторое время стоял неподвижно; потом медленно вышел через застекленную дверь на террасу. Его жена (с корзинкой, в перчатках) была в саду: подрезала ножницами какие-то редкостные кусты. Она весело помахала ему.
— Что хотел инспектор? Надеюсь, он больше не будет беспокоить слуг. Знаешь, Генри, им это не по душе. Они не могут видеть в этом ничего нового или занимательного, как мы.
— А мы именно так это воспринимаем?
Она заметила необычный тон мужа и мило улыбнулась ему.
— Как устало ты выглядишь, Генри! Можно ли позволять себе так беспокоиться?
— Убийство вызывает беспокойство, Люси.
Леди Энкейтлл мгновение раздумывала, машинально продолжая подрезать ветки. Затем лицо ее стало хмурым.
— О, Господи!.. Это ужасные ножницы! Просто заколдованные! Вечно срезаешь ими больше, чем нужно… Что ты сказал? Убийство вызывает беспокойство? Но в самом деле, Генри, я никогда не могла понять почему! Я хочу сказать, раз уж человек должен умереть — от рака, или туберкулеза в одном из этих отвратительных светлых санаториев, или от удара (ужасно! с перекошенным на сторону лицом), или его убьют, или зарежут, или, может быть, удушат… Все сводится к одному, то есть я хочу сказать, — к смерти. На этом все беспокойства его кончаются. Зато начинаются у родственников: ссоры из-за денег, соблюдать ли траур или нет, кому достанется письменный стол тети Селины и тому подобное!..
Сэр Генри сел на каменную ограду.
— Все может оказаться более неприятным, чем мы думали, Люси.
— Ну что ж, дорогой, нужно перетерпеть! А когда все будет позади, мы можем куда-нибудь уехать. Не стоит огорчаться сегодняшними неприятностями. Давай лучше думать о будущем. Как, по-твоему, нам следует отправиться в Эйнсвик на Рождество… или лучше отложить до Пасхи?
— До Рождества еще далеко, рано составлять рождественские планы.
— Да, но мне хочется мысленно представить все заранее. Пожалуй, Пасха. Да! — Люси радостно улыбнулась. — Она, конечно, придет в себя к этому времени.
— Кто? — спросил с удивлением сэр Генри.
— Генриетта, — спокойно ответила леди Энкейтлл. — Я думаю, если свадьба будет в октябре… я имею в виду в октябре следующего года, тогда мы сможем провести в Эйнсвике Рождество. Я думаю, Генри…
— Лучше не надо, дорогая. Твои мысли слишком забегают вперед.
— Ты помнишь сарай в Эйнсвике? — спросила Люси. — Из него получится прекрасная мастерская! Генриетте нужна будет студия. Ты ведь знаешь, у нее настоящий талант. Эдвард, конечно, будет невероятно гордиться ею! Два мальчика и девочка было бы чудесно… или два мальчика и две девочки…
— Люси… Люси! Ты слишком увлеклась!
— Но, дорогой, — Люси широко распахнула прекрасные голубые глаза, — Эдвард ни на ком, кроме Генриетты, не женится. Он очень, очень упрям. Похож в этом на моего отца. Если уж он вбил себе что-нибудь в голову!.. Так что Генриетта, разумеется, должна выйти за него замуж! И теперь, когда Джона нет, она это сделает. Встреча с Джоном в самом деле была для нее величайшим несчастьем.
Он с любопытством посмотрел на нее.
— Мне всегда казалось, Люси, что Кристоу тебе нравится.
— Я находила его забавным. В нем было очарование. Но я всегда считала, что не нужно уделять слишком много внимания кому бы то ни было.
И леди Энкейтлл осторожно, с улыбающимся лицом без сожаления срезала еще одну ветку на кусте.
Глава 18
Эркюль Пуаро посмотрел в окно и увидел Генриетту Сэвернейк, идущую по тропинке к дому. На ней был все тот же костюм из зеленого твида, в котором она была в тот день, когда был убит Кристоу. Рядом с ней бежал спаниель.
Пуаро поспешил к парадной двери: перед ним, улыбаясь, стояла Генриетта.
— Можно мне войти и посмотреть ваш дом? Мне нравится осматривать дома. Я вывела собаку на прогулку.
— Конечно, конечно! Как это по-английски — гулять с собакой!
— Да, — сказала Генриетта, — я думала об этом. Вы помните эти милые стихи:
Неспешно дни летели чередой… Кормил утят и ссорился с женой, На флейте «Ларго» Генделя[192] играл, С собакой каждый день гулял.И она снова улыбнулась мимолетно сверкнувшей улыбкой.
Пуаро проводил Генриетту в гостиную. Она окинула взглядом строгую, опрятную обстановку и кивнула головой.
— Очень славно. Всего по два. Какой ужасной показалась бы вам моя студия!
— Ужасной? Но почему?
— О, повсюду налипла глина… тут и там разбросаны вещи, которые когда-то мне почему-то понравились и которые могут быть только в одном экземпляре… в паре они просто убили бы друг друга!
— Это я могу понять, мадемуазель. Вы художница — человек искусства.
— А вы, мосье Пуаро, вы разве не человек искусства?
Пуаро склонил голову набок.
— Это нелегкий вопрос. Но, в общем, я бы сказал — нет! Я знал несколько преступлений, задуманных артистически… Они являлись, понимаете ли, высшим проявлением воображения… Но раскрытие этих преступлений… Нет, здесь нужна не сила созидания. Здесь требуется страсть к установлению истины.
— Страсть к истине, — задумчиво произнесла Генриетта. — Да, я понимаю, насколько это делает вас опасным. Однако удовлетворит ли вас знание истины?
Пуаро с любопытством взглянул на нее.
— Что вы имеете в виду, мисс Сэвернейк?
— Я могу понять ваше желание знать. Однако достаточно ли для вас знать истину? Или вы будете вынуждены идти дальше: на основании этой истины — действовать?
Такой подход заинтересовал Пуаро.
— Вы хотите сказать, что, узнав правду о смерти доктора Кристоу, я мог бы удовлетвориться тем, что держал бы эту правду при себе. А вы знаете правду об этой смерти?
Генриетта пожала плечами.
— Кажется очевидным ответ — Герда. Как цинично, что жена или муж всегда подозреваются в первую очередь!
— Вы с этим не согласны?
— Я всегда стараюсь быть объективной.
— Мисс Сэвернейк, зачем вы явились сюда? — тихо спросил Пуаро.
— Должна признаться, что не обладаю вашей страстью докапываться до истины, мосье Пуаро. Прогулка с собакой — чисто английский предлог. Но вы, конечно, заметили, что у Энкейтллов нет собаки.
— Этот факт от меня не ускользнул.
— Поэтому я взяла спаниеля взаймы у садовника. Теперь вы видите, мосье Пуаро, что я не очень правдива.
И снова сверкнула короткой улыбкой. Она показалась Пуаро невероятно трогательной.
— Нет, но вы — цельная натура.
— Почему вы так говорите?
«Она удивлена… почти напугана…» — подумал Пуаро.
— Потому что, по-моему, это действительно так, — сказал он.
— Цельная натура, — повторила задумчиво Генриетта, — хотела бы я знать, что это значит на самом деле.
Она сидела очень тихо, уставившись на ковер, затем подняла голову и посмотрела на него.
— Вы не хотите узнать, почему я пришла?
— Вам, наверное, трудно подобрать нужные слова.
— Да, пожалуй. Завтра заседание в суде, мосье Пуаро. Нужно бы решить, насколько…
Она не договорила. Встав с кресла, прошла по комнате, подошла к камину, поменяла местами несколько безделушек, а вазу с астрами, стоявшую в центре стола, переставила на самый край камина, отступила назад и, склонив голову набок, разглядывала результат.
— Как вам это нравится, мосье Пуаро?
— Совсем не нравится, мадемуазель!
— Я так и думала. — Она ‘засмеялась и быстро и ловко вернула все на прежнее место. — Ну что ж, если решила что-то сказать, нечего зря тянуть! Вы такой человек, которому почему-то можно сказать все. Итак, начнем! Как вы думаете, нужно ли, чтобы полиция знала, что я была любовницей Джона Кристоу?
Голос у нее был сухой, бесстрастный. Она смотрела не на него, а на стену, поверх его головы. Указательный палец двигался по изгибам кувшина, в котором стояли пурпурные астры. Пуаро подумал, что именно это движение помогает ей справиться с волнением.
— Понимаю. Вы были его возлюбленной, — произнес Пуаро четко и тоже бесстрастно.
— Если вы предпочитаете такое выражение.
Он с любопытством посмотрел на нее.
— Разве вы не то сказали?
— Нет!
— Почему?
Генриетта подошла и села рядом с ним на диван.
— Нужно называть вещи своими именами, — сказала она с расстановкой.
Интерес Пуаро усилился.
— Вы были любовницей доктора Кристоу… — сказал он. — Как долго?
— Около шести месяцев.
— Я полагаю, полиция без труда сможет установить этот факт?
— Думаю, да, — ответила она, немного поразмыслив, — если, конечно, полицейские будут искать чего-то в этом роде.
— О, конечно, будут. Уверяю вас.
— Да, думаю, что так. — Она помолчала. Положила руки на колени, вытянув пальцы, посмотрела на них, затем дружески взглянула на Пуаро. — Ну что ж, мосье Пуаро, что теперь делать? Идти к инспектору Грэйнджу и сказать… Да что можно сказать таким усам, как у него?! Это такие домашние, семейные усы.
Рука Пуаро потянулась к его собственным усам, которыми он очень гордился.
— Ну а мои, мадемуазель?
— Ваши усы, мосье Пуаро, — триумф искусства! Они несравнимы. Они, я в этом абсолютно уверена, — уникальны!
— Безусловно!
— И вполне вероятно, что именно они являются причиной моей откровенности. Однако если предположить, что полиция должна знать правду о Джоне и обо мне, так ли необходимо разглашать эту правду.
— Все зависит от обстоятельств, — сказал Пуаро. — Если полиция решит, что это не имеет отношения к делу, они будут сдержанны. Вас… это тревожит?
Генриетта кивнула. Некоторое время она пристально смотрела вниз, на свои пальцы, затем, подняв голову, сказала, легко и бесстрастно:
— Зачем усугублять страдания бедной Герды? Она обожала Джона, а он мертв. Она его потеряла. К чему взваливать на нее дополнительную тяжесть?
— Вы о ней беспокоитесь?
— Вы считаете это лицемерием? Вы думаете, что, если бы меня хоть немного волновало состояние Герды, я не стала бы любовницей Джона. Но вы не понимаете… Все было совсем не так. Я не разбивала его семейную жизнь… Я была… одна из многих.
— Ах вот как!
— Нет, нет, нет! — сказала она резко. — Совсем не то, что вы думаете. Это как раз возмущает меня больше всего! Превратное представление, которое может сложиться у большинства о том, каким на самом деле был Джон. Поэтому я пришла поговорить с вами… У меня была слабая надежда, что я сумею заставить вас понять. Я хочу сказать, мне нужно, чтоб вы поняли, какой личностью был Джон! Я так и вижу заголовки в газетах — «Интимная жизнь доктора»… Герда, я, Вероника Крэй! А Джон не был таким. Он не был человеком, у которого на уме одни женщины. Не женщины занимали главное место в его жизни, а работа! Именно работа давала ему самую большую радость и… да, и возможность ощутить риск. Если бы Джона неожиданно попросили назвать имя женщины, постоянно занимающей его мысли, он сказал бы: «Миссис Крэбтри!»
— Миссис Крэбтри? — переспросил с удивлением Пуаро. — Кто же такая миссис Крэбтри?
— Это старуха, — в голосе Генриетты слышались и слезы и смех, — безобразная, грязная, морщинистая и неукротимая! Джон в ней души не чаял. Его пациентка из больницы Святого Христофора. У нее болезнь Риджуэя, очень редкая и неизлечимая болезнь… против нее нет никаких средств. Джон тем не менее пытался найти способ лечения. Я не могу объяснить научно; все было очень сложно… какая-то проблема гормонной секреции. Джон проводил эксперименты, и миссис Крэбтри была его самой ценной больной. У нее большая сила воли и мужество. Она хочет жить. И она любила Джона! Джон и она — были заодно, они сражались вместе. Болезнь Риджуэя и миссис Крэбтри — месяцами занимали Джона… день и ночь, и ничто другое не имело значения. Вот что значило для Джона быть доктором… не кабинет на Харли-стрит и богатые толстые пациентки. Все это было побочным. Главным были напряженная научная работа и — результат. Я… О! Мне так хочется, чтоб вы поняли!
Ее руки взлетели в необычном отчаянном жесте, и Эркюль Пуаро невольно подумал, как эти руки красивы и выразительны.
— Вы, по-видимому, понимали Джона Кристоу очень хорошо, — заметил он.
— О да! Я понимала. Джон обычно как приходил, сразу начинал говорить. Не совсем со мной… скорее, мне думается, он просто рассуждал вслух. Таким образом многое становилось для него яснее. Иногда он был почти в отчаянии… например, не знал, как преодолеть возрастающую интоксикацию… И тогда у него появилась идея варьировать лекарствами. Я не могу объяснить, что это было… Больше всего это было похоже на сражение! Вы даже представить себе не можете — это неистовство, эта отрешенность от всего и вся, эти мучительные поиски. А порой — полнейшее изнеможение…
Генриетта замолчала, глаза ее потемнели; она вспоминала.
— Наверное, вы сами обладаете определенными знаниями в этой области? — с любопытством спросил Пуаро.
— Нет. Лишь настолько, чтоб понимать, о чем говорил Джон. Я достала кое-какие книги.
Она снова умолкла, лицо стало мягче, губы полуоткрылись. «Ее снова увлекли воспоминания», — подумал Пуаро. Наконец, вздохнув, она заставила себя вернуться к настоящему и грустно посмотрела на Пуаро.
— Если бы я могла сделать так, чтобы вы представили…
— Вы этого достигли, мадемуазель.
— В самом деле?
— Да, истину узнаешь, когда ее слышишь!
— Благодарю вас, но инспектору Грэйнджу объяснить это будет непросто.
— Пожалуй, вы правы. Он будет акцентировать внимание на аспекте личных отношений.
— А это как раз совсем не важно, — с жаром сказала Генриетта. — Совершенно не важно.
Пуаро удивленно поднял брови, и Генриетта ответила на его невысказанный протест.
— Уверяю вас! Видите ли… я стала со временем как бы преградой между Джоном и тем, чему он отдавал всего себя. Он все больше ко мне привязывался, из-за меня не мог не отвлекаться от главного. Испугался, что полюбит меня… а он не хотел никого любить. Джон был физически близок со мной, потому что не хотел слишком много обо мне думать. Он хотел, чтобы наша связь походила на прочие его мимолетные увлечения.
— А вы… — Пуаро пристально наблюдал за ней, — а вас удовлетворяло… такое положение вещей?
Генриетта встала.
— Нет, конечно же нет. В конце концов, я живой человек…
— В таком случае, мадемуазель, почему вы мирились?.. — спросил Пуаро, помолчав.
— Почему? — резко перебила его Генриетта. — Потому что хотела, чтобы Джон был доволен, чтоб было так, как он хотел, чтоб он мог продолжать заниматься тем, что ценил больше всего, — своей работой! Если он не хотел новых сердечных переживаний… не хотел снова чувствовать себя уязвимым… Ну что ж… я приняла это…
Пуаро потер нос.
— Только что, мисс Сэвернейк, вы упомянули Веронику Крэй. Она тоже была другом Джона Кристоу?
— До ее визита в «Лощину» в прошлую субботу он не видел ее пятнадцать лет.
— Он знал ее пятнадцать лет тому назад?
— Они были помолвлены. — Генриетта вернулась к дивану и села. — Я вижу, что должна все объяснить. Джон безумно любил Веронику, а она всегда была, да и сейчас осталась, настоящей стервой. Это величайшая эгоистка. Вероника поставила условие, чтобы Джон бросил все, что было ему дорого, и стал послушным муженьком мисс Вероники Крэй. Джон разорвал помолвку… и правильно сделал, но мучился дьявольски. И у него появилась идея: взять в жены кого-нибудь, кто был бы как можно меньше похож на Веронику. Он женился на Герде, грубо говоря, редкостной дуре. Все это было очень мило и удобно, однако произошло то, что должно было произойти, — настал день, когда эта женитьба стала его раздражать. У него появились разные интрижки… ничего серьезного. Герда, разумеется, ничего об этом не знала. Но я думаю, все эти пятнадцать лет с Джоном было что-то неладно, что-то связанное с Вероникой. Он так и не смог забыть ее. И вот в прошлую субботу он опять с ней встретился.
После долгой паузы Пуаро задумчиво произнес:
— В ту ночь он пошел ее провожать и вернулся в «Лощину» в три часа утра.
— Как вы узнали?
— У горничной болели зубы.
— В «Лощине» слишком много прислуги, — неожиданно заметила Генриетта.
— Но вы, мадемуазель, сами знали об этом.
— Да.
— Откуда?
После незначительной паузы Генриетта раздумчиво ответила:
— Я смотрела в окно и видела, как он вернулся.
— Зубная боль, мадемуазель?
Она улыбнулась.
— Боль совсем иного рода, мосье Пуаро! — сказала Генриетта и, поднявшись, направилась к двери.
— Я провожу вас, мадемуазель.
Они перешли дорогу и через калитку вошли в каштановую рощу.
— Нам необязательно идти мимо бассейна, — сказала Генриетта. — Мы можем обойти слева по верхней тропинке и выйти к цветочной дорожке.
Тропинка вела круто вверх к лесу. Через некоторое время они вышли на более широкую тропу, ведущую наискосок через холм, высившийся над каштановой рощей, и подошли к скамье. Генриетта села, Пуаро опустился рядом. За спиной у них был лес, под ногами — густая каштановая рощица. Как раз против их скамьи тропинка, извиваясь, вела вниз, где тускло мерцала голубая вода бассейна.
Пуаро молча наблюдал за Генриеттой. Выражение ее лица смягчилось, напряжение исчезло, лицо казалось круглее и моложе. Пуаро представил себе, как она выглядела в юности.
— О чем вы думаете, мадемуазель? — наконец спросил он очень мягко.
— Об Эйнсвике.
— Что такое Эйнсвик?
— Эйнсвик? Это имение. — Генриетта описывала Эйнсвик почти мечтательно: изящный белый дом… рядом высокая магнолия, а вокруг поднимающиеся амфитеатром холмы, поросшие лесом.
— Это был ваш дом?
— Не совсем. Я жила в Ирландии. В Эйнсвик все приезжали по праздникам — Эдвард, и Мидж, и я. На самом деле это был дом Люси. Он принадлежал ее отцу, а после его смерти перешел к Эдварду.
— Не к сэру Генри? Титул, однако, у него.
— Кавалер Ордена Бани![193] — объяснила она. — Генри — всего лишь дальний кузен.
— К кому перейдет Эйнсвик после Эдварда Энкейтлла?
— Как странно! Никогда об этом не думала. Если Эдвард не женится… — Она замолчала, и тень прошла по ее лицу.
Эркюлю Пуаро захотелось узнать, какие мысли роятся у нее в голове.
— Наверное, — медленно проговорила Генриетта, — Эйнсвик перейдет к Дэвиду. Так вот почему!
— Что почему?
— Почему Люси пригласила его. Дэвид и Эйнсвик?.. — Генриетта покачала головой. — Они как-то не подходят друг другу.
Пуаро показал на тропинку перед ними.
— По этой тропинке, мадемуазель, вы пришли вчера к плавательному бассейну?
Она вздрогнула.
— Нет, по той, что ближе к дому. Этой тропинкой пришел Эдвард. — Она внезапно повернулась к Пуаро. — Хватит об этом! Я ненавижу этот бассейн. Я ненавижу даже «Лощину»!
Пуаро тихо продекламировал:
— Ненавижу страшную лощину, за темным лесом скрытую вдали, Красный вереск покрыл уступы; они алы, как губы в крови. Словно рот кровавый, лощина холодным ужасом дышит, О чем ни спросишь там эхо — в ответ только «Смерть!» услышишь[194].Генриетта повернула к нему удивленное лицо.
— Теннисон, — сказал Эркюль Пуаро, с гордостью кивнув головой. — Стихи вашего лорда Теннисона.
— О чем ни спросишь там эхо… — повторила за ним Генриетта, затем произнесла тихо, почти про себя: — Ну конечно… так и есть… Эхо!
— Эхо? Что вы имеете в виду?
— Эта усадьба… Сама «Лощина»! Я почти поняла это раньше… в субботу, когда мы с Эдвардом отправились на прогулку к холмам. «Лощина» — эхо Эйнсвика! И мы все Энкейтллы! Мы не настоящие… не такие живые, каким был Джон! — Она снова повернулась к Пуаро. — Как жаль, что вы не знали его, мосье Пуаро! Мы все — тени по сравнению с Джоном. Джон был по-настоящему живым!
— Я понял это, мадемуазель, когда видел его умирающим.
— Знаю. Это чувствовал каждый. И вот Джон мертв, а мы — эхо! Мы существуем. Это, знаете ли, похоже на скверную шутку.
С лица Генриетты исчезла молодость, губы искривила горечь внезапной боли. Когда Пуаро спросил ее о чем-то, она не сразу поняла, о чем речь.
— Извините. Что вы сказали, мосье Пуаро?
— Я спросил, нравился ли вашей тете, леди Энкейтлл, доктор Кристоу?
— Люси? Между прочим, она мне кузина, а не тетя… Да, он ей очень нравился.
— А ваш… тоже кузен… мистер Эдвард Энкейтлл… ему нравился доктор Кристоу?
— Нет, не очень… но, в общем, он почти не знал его.
«Ее голос, — подумал Пуаро, — звучит несколько натянуто».
— А ваш… еще один кузен? Мистер Дэвид Энкейтлл?
Генриетта улыбнулась:
— Дэвид, я думаю, ненавидит всех нас. Он проводит время, заточившись в библиотеке, читает «Британскую энциклопедию».
— О! Серьезный юноша.
— Мне жаль его. У него тяжелая обстановка дома… Мать — человек неуравновешенный… инвалид. Единственный его способ самозащиты — чувствовать свое превосходство над окружающими. Если это ему удается — все в порядке, но иногда эта защита рушится, и тогда виден истинный Дэвид, легко ранимый и уязвимый.
— Он чувствовал свое превосходство над доктором Кристоу?
— Пытался… но, мне кажется, из этого ничего не получалось. Я подозреваю, что Джон Кристоу был как раз таким человеком, каким хотел бы стать Дэвид… В результате — он питал к Джону отвращение.
Пуаро задумчиво кивнул головой.
— Да… Самонадеянность, уверенность, мужество — черты сугубо мужского характера. Это интересно… очень интересно.
Генриетта ничего не ответила.
Сквозь каштаны, внизу у бассейна, Эркюль Пуаро увидел человека, который, наклонившись, казалось, что-то искал.
— Интересно… — снова тихо повторил Пуаро.
— Что вы сказали?
— Это кто-то из людей инспектора Грэйнджа, — ответил Пуаро. — Он как будто что-то ищет?
— Наверное, улики. А что еще могут искать полицейские? Пепел от сигарет, следы башмаков, обгорелые спички? — В голосе Генриетты была горькая насмешка.
— Да, они ищут все это, — серьезно ответил Пуаро, — иногда находят. Но настоящие улики, мисс Сэвернейк, в деле, подобном этому, обычно нужно искать в личных отношениях людей, связанных с преступлением.
— Я что-то не понимаю вас.
— Важны мелочи! — сказал Пуаро. Он сидел, откинув голову назад, полуприкрыв веками глаза. — Не сигаретный пепел или отпечатки резиновых каблуков, а жест, взгляд, неожиданный поступок…
Генриетта, резко обернувшись, пристально посмотрела на него. Пуаро почувствовал этот взгляд, но не повернул головы.
— Вы имеете в виду… что-нибудь определенное?
— Я думал о том, как вы, шагнув вперед, взяли револьвер из рук миссис Кристоу, а затем уронили его в бассейн.
Он почувствовал, что она слегка вздрогнула, но голос ее остался таким же ровным и спокойным:
— Герда, мосье Пуаро, довольно неуклюжий человек. В состоянии шока она могла бы выстрелить и, если в револьвере была еще пуля… поранить кого-нибудь.
— Однако было очень неуклюже с вашей стороны уронить револьвер в воду, не правда ли?
— Видите ли… У меня тоже был шок… — Генриетта помолчала. — На что вы намекаете, мосье Пуаро?
Пуаро выпрямился, повернулся в ее сторону и заговорил обычным деловым тоном:
— Если были отпечатки пальцев на этом револьвере… Я имею в виду отпечатки, сделанные до того, как миссис Кристоу взяла его в руки, было бы интересно узнать, кому они принадлежали… но этого мы теперь никогда не узнаем.
— Вы хотите сказать, что там были мои отпечатки пальцев, — тихо, но твердо сказала Генриетта. — Вы намекаете, что это я застрелила Джона и оставила револьвер около тела, чтобы Герда могла подойти и взять его… Вы на это намекаете, не так ли? Однако, если я так сделала, согласитесь, у меня хватило бы ума прежде всего стереть свои собственные отпечатки пальцев.
— Вы, мадемуазель, достаточно умны и понимаете, что, сделай вы так и не окажись на револьвере никаких следов, это было бы крайне странным! Потому что все вы накануне стреляли из этого револьвера. Герда Кристоу вряд ли стерла отпечатки пальцев до выстрела… К чему ей это?
— Значит, вы думаете, что я убила Джона? — медленно сказала Генриетта.
— Умирая, доктор Кристоу сказал: «Генриетта!»
— И вы считаете, что это было обвинением? Это не так.
— Что же в таком случае?
Генриетта, вытянув ногу, чертила носком туфли что-то на земле.
— Вы не забыли, — сказала она тихо, — что я говорила вам не так давно? О наших отношениях?
— Ах да! Вы были его возлюбленной… и, умирая, он произносит ваше имя. Очень трогательно!
— Издеваетесь?
— Нет, что вы. Но я не люблю, когда мне лгут, а именно это, я думаю, вы и пытаетесь делать.
— Я же говорила вам, что не очень правдива, — тихо сказала Генриетта, — но когда Джон сказал «Генриетта», он не обвинял меня в убийстве. Неужели вы не можете понять, что такие люди, как я, не могут лишить кого-либо жизни?! Мы творим, а не уничтожаем. Я не убиваю людей, мосье Пуаро. Я не могла бы убить, это чистая правда. Вы подозреваете меня только потому, что мое имя прошептал умирающий человек, который вряд ли сознавал, что говорит.
— Доктор Кристоу знал, что говорил! Голос был энергичный и уверенный, как у доктора во время жизненно важной операции, который говорит четко и настойчиво: «Сестра, пинцет, пожалуйста!»
— Но… — Она казалась ошеломленной, захваченной врасплох.
— И это не только из-за слов, сказанных умирающим доктором Кристоу. Я не верю, что вы способны на предумышленное убийство… Нет! Но вы могли выстрелить внезапно, под влиянием сильной обиды, негодования… и если так… если так, мадемуазель, у вас достаточно изобретательности, чтобы скрыть следы.
Генриетта поднялась со скамьи. Мгновение она стояла, глядя на него, бледная, потрясенная. Затем сказала с неожиданно разочарованной улыбкой:
— А я думала, что вы мне симпатизируете.
Пуаро вздохнул.
— К сожалению, так оно и есть, — грустно сказал он.
Глава 19
Генриетта ушла, а Пуаро все еще сидел на скамье, пока не увидел, как инспектор Грэйндж решительным шагом обогнул бассейн и направился по тропинке мимо павильона.
Инспектор, видимо, шел с определенной целью: или в «Тихую гавань», или в «Голубятню». «Интересно все же куда?» — подумал Пуаро.
Пуаро поднялся и пошел назад тем же путем, каким пришел. Если инспектор Грэйндж направлялся к нему, Пуаро не прочь был узнать, что тот хотел ему сообщить.
Однако, вернувшись в «Тихую гавань», он не обнаружил никаких посетителей. Пуаро задумчиво посмотрел вдоль дороги в сторону «Голубятни». Он знал, что Вероника Крэй не уехала в Лондон.
Интерес Эркюля Пуаро к Веронике Крэй усилился: роскошный мех, горка спичечных коробок, неубедительное объяснение по поводу неожиданного вторжения в субботу вечером и, наконец, рассказ Генриетты о Джоне Кристоу и Веронике.
Интересная модель отношений. Да, он воспринимал это именно так. Сложные переплетения чувств и характеров. Странный, запутанный узор, пронизанный темными нитями ненависти и страсти.
Действительно ли Герда Кристоу убила мужа? Или все было сложнее? Вспомнив свой разговор с Генриеттой, Пуаро решил, что все было не так просто. Генриетта сделала поспешный вывод, что он ее подозревает в убийстве, хотя на самом деле у него и в мыслях ничего подобного не было. Он просто считал, что она что-то знает. Знает и скрывает…
Пуаро недовольно покачал головой.
Сцена у бассейна. Инсценированная сцена, театральная.
Инсценированная кем? И для кого?
Ответ на второй вопрос был совершенно очевидным — для Эркюля Пуаро?! Так он думал в то время. Посчитал это дерзостью, шуткой дурного тона. Это так и осталось дерзостью… но не было шуткой.
А ответ на первый вопрос?
Пуаро покачал головой. Он не знал. Не имел ни малейшего представления. Он прикрыл глаза и сразу же представил себе всех их очень четко… Сэр Генри, честный, ответственный, доверенное лицо империи. Леди Энкейтлл, призрачная, неуловимая, неожиданно и ошеломляюще очаровательная, обладающая чрезвычайно опасной силой алогичного внушения. Генриетта Сэвернейк, которая любила Джона Кристоу сильнее, чем себя; мягкий и не уверенный в себе Эдвард Энкейтлл; темноволосая прямолинейная девушка по имени Мидж Хардкасл; ошеломленное лицо Герды Кристоу, сжимающей в руке револьвер; уязвимый юноша Дэвид Энкейтлл…
Все они угодили в сети закона. Все связаны на какое-то время безжалостными последствиями неожиданного убийства. У каждого из этих людей собственная судьба, по-своему трагичная. И где-то в этом взаимодействии характеров и эмоций скрывается истина.
Пожалуй, единственное, что увлекало Пуаро больше феномена человеческой личности, был поиск истины. И он был намерен установить истину в деле с убийством Джона Кристоу.
— Разумеется, инспектор, — сказала Вероника. — Я очень хочу помочь вам!
— Благодарю вас, мисс Крэй.
Вероника Крэй выглядела совсем не так, как представлял себе инспектор. Он был готов к встрече с неким романтическим ореолом, искусственностью, героикой и отнюдь не был бы удивлен, если бы она разыграла перед ним какую-нибудь сцену. Фактически она, как и подозревал инспектор, разыгрывала роль. Но это была не та роль, какую он ожидал.
Никакой суперженственности и сверхочарования. Перед ним была богато одетая, необыкновенно красивая, но в то же время очень деловая женщина. «Вероника Крэй, — подумал инспектор, — отнюдь не глупа».
— Мисс Крэй, нам хотелось бы получить четкое объяснение. Вы явились в «Лощину» в субботу вечером?
— Да. У меня кончились спички. Как-то забываешь, насколько подобные вещи необходимы в деревне.
— И вы отправились за спичками в «Лощину»? Почему не к вашему ближайшему соседу, мосье Пуаро?
Она улыбнулась превосходной, доверительной киноулыбкой.
— Тогда я не знала, кто мой сосед, иначе я бы к нему обратилась. Я просто подумала, что это какой-то недоросток иностранец, который, на правах соседа, может оказаться навязчивым, вы, конечно, понимаете…
«Да, — подумал инспектор, — вполне убедительно. Она заготовила этот ответ заранее, на всякий случай».
— Вы взяли спички, — продолжал инспектор, — и, как я понимаю, неожиданно встретили вашего старинного друга, доктора Кристоу?
Она кивнула.
— Бедняга Джон! Я не видела его пятнадцать лет.
— В самом деле? — В голосе инспектора чувствовалось вежливое недоверие.
— В самом деле, — ответила она твердо.
— Вы были рады его видеть?
— Очень. Всегда приятно встретить старинного друга, не так ли, инспектор?
— Возможно, в некоторых случаях.
Не ожидая дальнейших расспросов, Вероника Крэй продолжала рассказывать:
— Джон проводил меня. Вы, конечно, хотите узнать, говорил ли он что-нибудь, что могло иметь связь с трагедией. Я очень тщательно вспомнила весь наш разговор, но не нашла ничего примечательного.
— О чем вы говорили, мисс Крэй?
— О прошлом. «А ты помнишь?»… Болтали о том о сем… — Она задумчиво улыбнулась. — Мы познакомились на юге Франции. Джон почти не изменился. Разумеется, стал старше, увереннее… Как я понимаю, он был довольно известен в своей области. Джон совсем не говорил о своей личной жизни. Но у меня создалось впечатление, что его семейная жизнь сложилась не слишком счастливо, хотя это, конечно, лишь смутные впечатления. Я полагаю, его жена, бедняжка, — вполне заурядное существо, такие вечно устраивают мужьям скандалы из-за хорошеньких пациенток…
— Нет, — сказал Грэйндж, — она совсем иного склада.
— Вы имеете в виду, — быстро сказала Вероника, — что она умеет быть скрытной? Да-да, я понимаю… Это еще опаснее.
— Как я вижу, мисс Крэй, вы полагаете, что миссис Кристоу убила своего мужа?
— Я не должна была так говорить! Нельзя высказывать суждения до… как это?.. До судебного разбирательства. Я чрезвычайно сожалею, инспектор. Я сказала так, потому что моя горничная говорила, будто Герду нашли возле тела мужа с револьвером в руке. Вы знаете, эти деревенские нравы и обычаи — наговорят, чего не было, а через слуг мигом все всё узнают.
— Слуги иногда могут быть очень полезны, мисс Крэй.
— Да, я полагаю, значительную часть ваших сведений вы получаете от слуг.
— Главное для нас — определить, — продолжал невозмутимо Грэйндж, — определить, у кого имелся мотив.
— И жена всегда подозревается в первую очередь, — сказала Вероника со слабой улыбкой. — Как цинично! Однако в таких случаях нередко бывает замешана «другая женщина». Я думаю, это следует принять во внимание!
— Вы полагаете, в жизни доктора Кристоу была другая женщина?
— Ну не знаю… по-моему, это вполне вероятно. Такое у меня сложилось впечатление.
— Впечатления могут иногда оказать неоценимую помощь, — заметил Грэйндж.
— Мне кажется… по его словам… эта женщина… скульптор была ему очень близким другом. Но это, полагаю, вам уже известно?
— Разумеется, мы всё должны принять во внимание.
Инспектор Грэйндж говорил крайне уклончиво, но он заметил, хоть и не подал виду, злобное удовлетворение, сверкнувшее на миг в больших голубых глазах.
— Вы сказали, что доктор Кристоу проводил вас домой. В котором часу вы простились с ним? — по-официальному сухо спросил инспектор.
— Просто не знаю, что вам ответить! Мы так увлеклись разговором. Наверное, было довольно поздно.
— Он заходил к вам?
— Да, я угостила его вином.
— Понятно. Я полагаю, ваш разговор происходил в… гм… павильоне около бассейна.
Он заметил, как ее ресницы дрогнули. Однако не прошло и секунды, как она ответила:
— Вы и в самом деле детектив! Да, мы сидели там и курили и разговаривали некоторое время. Как вы узнали?
Вероника явно была заинтригована, как ребенок, который ждет, чтоб ему показали необычный фокус.
— Вы забыли там ваш мех, мисс Крэй… и спички, — добавил он как бы между прочим.
— Да, в самом деле.
— Доктор Кристоу вернулся в «Лощину» в три часа утра, — сказал инспектор все тем же бесстрастным тоном.
— Неужели было так поздно? — В ее голосе звучало удивление.
— Да, мисс Крэй.
— Впрочем, у нас было о чем поговорить… ведь мы так давно не виделись.
— Вы уверены, что так долго не виделись с доктором Кристоу?
— Я только что сказала вам, что не видела его пятнадцать лет.
— Вы не ошибаетесь? У меня такое впечатление, что вы встречались с ним довольно часто.
— Почему вы так думаете?
— Ну, хотя бы это. — Инспектор вынул из кармана записку, взглянул на нее, откашлялся и прочитал:
«Пожалуйста, приходи сегодня утром. Я должна тебя видеть.
Вероника».
— Да-а. — Она улыбнулась. — Пожалуй, несколько безапелляционно. Боюсь, Голливуд делает человека несколько высокомерным.
— Доктор Кристоу на следующее утро пришел к вам по вашему зову. Вы поссорились. Не скажете ли вы, мисс Крэй, по какому поводу возникла ссора?
Инспектор больше не скрывал истинной цели своего визита и тут же заметил вспышку гнева, раздраженно сжатые губы.
— Мы не ссорились, — отрезала она.
— Да нет, вы ссорились, мисс Крэй. Ваши последние слова были: «Я ненавижу тебя, как никого на свете!»
Она молчала. Инспектор чувствовал, что она лихорадочно думает, ища возможность маневра. Другая на ее месте поторопилась бы с объяснениями, но Вероника Крэй была слишком умна для этого.
Она пожала плечами.
— Понимаю. Сплетни прислуги, — небрежно сказала она. — У моей маленькой горничной довольно богатое воображение. Видите ли, можно по-разному произнести фразу. Уверяю вас, тут никаких мелодрам не происходило. Это была чисто женская уловка, легкий флирт. Мы просто пикировались.
— То есть эти слова были сказаны не всерьез?
— Разумеется! И уверяю вас, инспектор, мы с Джоном действительно не виделись пятнадцать лет. Вы сами можете это проверить.
К ней вернулись самообладание, уверенность. Грэйндж спорить не стал и прекратил расспросы.
— Пока все, мисс Крэй, — сказал он любезно. Грэйндж вышел из «Голубятни», прошел немного по дороге и свернул к «Тихой гавани».
Эркюль Пуаро смотрел на инспектора с нескрываемым удивлением.
— Выходит, револьвер, который Герда Кристоу держала в руке и который потом уронили в бассейн, не имеет никакого отношения к фатальному выстрелу? Невероятно!
— Вот именно, мосье Пуаро! Попросту говоря, никакой логики.
— Никакой логики, говорите? — тихо повторил Пуаро. — И тем не менее, инспектор, она должна быть, верно?
— Совершенно верно, мосье Пуаро, — мрачно произнес инспектор. — Мы должны найти нужное звено, чтобы связать все воедино, но в данный момент я этого звена не вижу. Очевидно, мы не продвинемся вперед, пока не обнаружим револьвера, из которого был произведен выстрел. Он из коллекции сэра Генри. Во всяком случае, этого револьвера на месте не оказалось, а это значит, что поиски следует продолжить здесь, в «Лощине».
— Да, — пробормотал Пуаро. — В «Лощине».
— На первый взгляд дело выглядело таким простым и понятным, — продолжал инспектор, — а оказалось все и не так просто, и совсем непонятно.
— Нет, — произнес Пуаро, — не так просто.
— Мы должны учесть, что, возможно, все было подстроено, чтобы впутать Герду Кристоу. Но если это так, почему бы не оставить возле убитого тот самый револьвер, из которого был сделан выстрел, чтобы Герда подняла этот револьвер?
— Она могла бы и не поднимать его.
— Это верно, но даже если бы не обнаружилось ничьих отпечатков пальцев, иными словами, если бы их стерли — все равно Герда оказалась бы под подозрением. А это как раз то, что нужно было убийце, верно?
— Вы так думаете?
Грэйндж пристально посмотрел на него.
— Но… но… если вы совершили убийство, вы обязательно постараетесь навести подозрения на кого-нибудь другого. Разве не так? Всякий убийца сделал бы это.
— Да-а, — протянул Пуаро. — Однако, может быть, мы имеем дело с необычным убийцей. Возможно, именно в этом надо искать ключ к решению нашей проблемы.
— В чем, в чем?
— В том, что это необычный убийца, — задумчиво сказал Пуаро.
Инспектор с любопытством посмотрел на него.
— В таком случае, — произнес он, — что ему было нужно? Чего он — или она — добивались?
Пуаро со вздохом развел руками.
— Не имею представления! Ни малейшего представления! Но мне кажется… хотя очень смутно…
— Что именно?
— Кто-то хотел убить Джона Кристоу, но не хотел впутывать в это дело Герду Кристоу.
— Гм! Но мы же сразу стали подозревать ее.
— О да, но всё оказалось иначе. Когда всплыл еще один револьвер, дело получило совсем иной оборот. За этот промежуток у преступника было время…
Пуаро внезапно остановился.
— Время для чего?
— О, mon ami[195], тут вы меня загнали в угол. Снова я вынужден признать, что пребываю пока в полном неведении.
Инспектор Грэйндж дважды прошелся взад и вперед по комнате. Затем остановился перед Пуаро.
— Я пришел к вам сегодня, мосье Пуаро, по двум причинам. Во-первых, потому, что я знаю вас как человека с большим опытом, который распутал не одну сложную проблему подобного рода. Это главное. Во-вторых, есть еще одна причина. Вы были на месте. Вы были свидетелем. Вы видели, что случилось.
Пуаро кивнул.
— Да, я видел случившееся… Но глаза, инспектор Грэйндж, очень ненадежный свидетель.
— Что вы имеете в виду, мосье Пуаро?
— Глаза видят иногда то, что их заставляют видеть.
— Вы хотите сказать, что все было подстроено заранее?
— Подозреваю, что так. Понимаете, все было как на сцене. То, что я видел, было довольно просто понять: человек, которого только что убили, и женщина с револьвером в руке, из которого и был произведен выстрел. Вот вам то, что я видел. А мы уже знаем, что в этой картине есть подвох. Джона Кристоу убили из другого револьвера.
— Гм! — Инспектор Грэйндж решительно потянул вниз свой повисший ус. — Вы ведете к тому, что другие части картины могут быть тоже обманчивы?
Пуаро кивнул.
— Там было еще три человека… которые, по-видимому, только что появились на сцене. Но это также может быть неверным. Бассейн окружен густой рощей молодых каштанов. От бассейна отходит пять дорожек: к дому, в лес, к цветочной дорожке, к ферме и к дороге.
Все трое подошли к бассейну по разным дорожкам: Эдвард Энкейтлл — верхней из леса, леди Энкейтлл с фермы и Генриетта Сэвернейк от цветочной дорожки за домом. Все трое появились на месте преступления почти одновременно, через несколько минут после Герды Кристоу.
Однако, инспектор, один из трех мог оказаться у бассейна до Герды Кристоу, застрелить Джона Кристоу, удалиться вверх или вниз от бассейна по одной из дорожек, а затем вернуться назад и появиться одновременно с остальными.
— Да, это возможно, — сказал инспектор Грэйндж.
— Есть и другой вариант. Кто-то мог появиться со стороны дороги и, убив Джона Кристоу, уйти той же дорожкой незамеченным.
— Вы абсолютно правы, — согласился Грэйндж. — Кроме Герды, есть еще два других подозреваемых. Мотив тот же — ревность. Это, безусловно, crime passionnel[196]. Еще две женщины замешаны в этой истории. — Немного помолчав, Грэйндж добавил: — Кристоу в то утро ходил к Веронике Крэй. Возник скандал. Она заявила, что заставит его пожалеть обо всем, что он сделал, и что она ненавидит его, как никого на свете.
— Интересно, — пробормотал Пуаро.
— Мисс Крэй недавно из Голливуда, а как я могу судить из газет, они там иногда постреливают друг в друга. Она могла вернуться за своим мехом, который забыла накануне ночью, они встретились. Вспыхнула ссора… она выстрелила, а затем, услышав, что кто-то идет, ускользнула обратно тем же путем.
Чуть погодя, инспектор раздраженно воскликнул:
— И опять у нас все расползается по швам! Этот проклятый револьвер! Хотя… — глаза его заблестели, — она могла убить его из собственного револьвера и оставить другой, взятый из кабинета сэра Генри, чтобы бросить подозрение на кого-нибудь из «Лощины». Вероятно, ей не известно, что можно опознать оружие по нарезке в стволе.
— Как вы думаете, сколько людей осведомлено об этих тонкостях?
— Я спрашивал сэра Генри. Он говорит, что довольно многие знают это благодаря детективным романам. Он назвал новый роман — «Загадка испорченного фонтана», который, по его словам, Джон Кристоу читал в среду. В нем как раз так и опознали оружие убийцы.
— Да, но как револьвер из коллекции сэра Генри мог попасть в руки Вероники Крэй?
— Да, это больше походит на вариант преднамеренного убийства. — Инспектор снова дернул себя за ус. Помолчав, он взглянул на Пуаро. — Вы, кажется, сами намекали на другую возможность, мосье Пуаро? Мисс Сэвернейк! Здесь мы снова опираемся на ваше свидетельство — вы были очевидцем, вернее, вы слышали собственными ушами, как доктор Кристоу, умирая, сказал: «Генриетта!» Вы это сами слышали, и все слышали, хотя мистер Энкейтлл как будто не расслышал, что сказал Кристоу.
— Эдвард Энкейтлл не слышал? Это интересно.
— Но другие слышали. Мисс Сэвернейк утверждает, будто он пытался ей что-то сказать. Леди Энкейтлл говорит, что Кристоу открыл глаза, увидел мисс Сэвернейк и сказал «Генриетта». Она, как мне кажется, не придает этому факту особого значения.
— Нет, конечно, — улыбнулся Пуаро. — Она не станет придавать этому никакого значения.
— Ну а вы, мосье Пуаро, что скажете вы? Вы были там, видели и слышали. Доктор Кристоу действительно пытался сказать, что Генриетта стреляла в него? Короче говоря, это звучало как обвинение?
— Тогда я так не думал, — медленно произнес Пуаро.
— А теперь, мосье Пуаро? Что вы думаете теперь?
Пуаро вздохнул.
— Может быть, и так, — сказал он задумчиво. — Больше я ничего не могу добавить. То, о чем я сказал, — всего лишь впечатление, и я боюсь поддаться искушению невольно подтасовать обстоятельства.
— Конечно-конечно, — поспешил заверить его инспектор. — Это сугубо между нами. То, что думает Эркюль Пуаро, не является доказательством. Я понимаю. Я просто хочу получить возможную подсказку.
— О, я очень хорошо вас понимаю… Впечатления очевидца могут быть очень полезны. Но, к своему стыду, я должен признать, что мои впечатления ничего не стоят. В первый момент я, конечно, подумал, что миссис Кристоу только что убила своего мужа, поэтому, когда доктор Кристоу открыл глаза и сказал «Генриетта», я никак не посчитал это обвинением. Крайне соблазнительно теперь, оглядываясь назад, приписать этой сцене что-то такое, чего там и не было.
— Я вас понимаю, — сказал Грэйндж, — однако, мне кажется, раз «Генриетта» было последним его словом, это можно толковать двояко: как обвинение в убийстве или просто как выражение чувства. Перед ним была женщина, которую он любил и видел в последний раз. Ну и какая из двух версий кажется вам более правдоподобной?
Пуаро вздохнул, закрыл глаза, снова их открыл и раздраженно вскинул руки.
— Голос Кристоу был настойчивый. Это все, что я могу сказать. Настойчивый. В нем не было ни укора, ни чувства, только настойчивость. В одном я абсолютно уверен — он был в полном сознании. Он говорил… да, это был тон врача, вынужденного срочно действовать — ну если бы, например, перед ним был пациент, истекающий кровью. — Пуаро пожал плечами. — Это все, что я могу сказать.
— Тон врача? — спросил инспектор. — Ну что же, это еще одна точка зрения. В него стреляли, он чувствовал, что умирает, и хотел, чтобы что-то было срочно предпринято. И если мисс Сэвернейк, как говорит леди Энкейтлл, была первой, кого он увидел, открыв глаза, то он обратился к ней. И однако, это как-то не очень убедительно!
— Конечно, не убедительно, — с горечью сказал Пуаро, — создалось впечатление, что сцена убийства инсценирована и разыграна, чтобы обмануть Пуаро… И он был обманут! Нет, конечно, не убедительно…
Инспектор Грэйндж посмотрел в окно.
— Хэлло! — воскликнул он. — Это мой сержант Кумбз. Похоже, у него что-то есть. Он беседовал с прислугой… Дружеский подход. Красивый парень и умеет обращаться с женщинами.
Сержант Кумбз вошел, слегка запыхавшись. Он был явно доволен собой, хотя и старался это скрыть за приличествующей подчиненному почтительностью.
— Я подумал, что лучше прийти и доложить вам, сэр, поскольку знал, где вас найти.
Он молчал, бросив недоверчивый взгляд на Пуаро, чей экзотичный, явно иноземный вид не располагал сержанта пренебречь предписываемой уставом осторожностью.
— Выкладывай, парень! — сказал Грэйндж. — Не обращай внимания на мосье Пуаро. Он знает правила этой игры лучше, чем ты сможешь их усвоить даже через несколько лет!
— Слушаюсь, сэр. Я кое-что узнал на кухне от судомойки.
Грэйндж, перебив его, с торжеством повернулся в сторону Пуаро:
— А что я вам говорил?! Всегда есть надежда на кухонную прислугу. Господи, помоги нам! Что мы будем делать, если начнут увольнять прислугу и будут обходиться без судомоек?! Говорят, судомойки болтливы. Не совсем верно! Просто они так унижены поваром и прочими слугами, что рады поделиться своими наблюдениями с любым, кто готов их выслушать. Это просто в человеческой натуре. Продолжай, Кумбз!
— Вот что сказала девушка, сэр. В воскресенье после полудня она видела дворецкого Гаджена, который стоял в холле с револьвером в руке.
— Гаджен?
— Да, сэр. — Кумбз заглянул в свою записную книжку. — Вот точные ее слова: «Не знаю, как мне следует поступить, но, думаю, мне следует рассказать обо всем, что я видела в тот день. Я видела мистера Гаджена; он стоял в холле с револьвером в руке. Мистер Гаджен выглядел очень странно».
— Я не думаю, — сказал Кумбз, перебивая свой доклад, — что выражение «выглядел очень странно» что-нибудь значит. Мне кажется, она это просто выдумала. Но я решил, что вы должны узнать об этом немедленно.
Инспектор Грэйндж поднялся с довольным видом человека, который точно знает, что ему следует делать, и готов немедленно приступить к действию.
— Гаджен? — повторил он. — Я сейчас же допрошу его.
Глава 20
В кабинете сэра Генри инспектор Грэйндж пристально вглядывался в невозмутимое лицо дворецкого. Пока перевес был на стороне Гаджена.
— Я очень сожалею, сэр, — повторил он. — Очевидно, я должен был упомянуть об этом случае, я просто его запамятовал.
Гаджен говорил извиняющимся тоном, переводя взгляд с инспектора на сэра Генри.
— Было около половины шестого, сэр, насколько я помню. Я проходил через холл, — шел проверить, нет ли писем для отправки на почту, и заметил револьвер, который лежал на столе. Я подумал, верно из коллекции хозяина, поэтому взял его и принес сюда. Я не увидел его на полке у камина — там, где он всегда находился, вот и вернул револьвер на место.
— Покажите мне его, — сказал Грэйндж.
Гаджен поднялся со стула и пошел к полке, инспектор следовал за ним.
— Вот этот, сэр.
Палец Гаджена указал на маленький маузер на полке в конце ряда: маузер-25[197]. Конечно, Джон Кристоу был убит не этим оружием.
— Это автоматический пистолет, а не револьвер, — сказал Грэйндж, не спуская глаз с лица дворецкого.
Гаджен кашлянул.
— В самом деле, сэр? Боюсь, я не очень-то хорошо разбираюсь в огнестрельном оружии. Наверно, я неточно употребил термин, сэр.
— Но вы вполне уверены, что это именно то, что вы нашли в холле и принесли сюда.
— О да, сэр. Никаких сомнений, сэр, — сказал Гаджен, протягивая руку к полке, но Грэйндж остановил его.
— Пожалуйста, не трогайте. Я должен осмотреть, нет ли на нем отпечатков пальцев и не заряжен ли он.
— Я не думаю, что он заряжен, сэр. Оружие в коллекции сэра Генри не хранится заряженным. Что касается отпечатков пальцев, то я все равно протер его носовым платком, прежде чем положить на место. Так что, сэр, там будут только мои отпечатки пальцев.
— Почему вы это сделали? — резко спросил Грэйндж.
Но Гаджен и бровью не повел и все с той же извиняющейся улыбкой объяснил:
— Мне показалось, что он запылился, сэр.
Внезапно открылась дверь и вошла леди Энкейтлл.
Она улыбнулась инспектору.
— Рада вас видеть, инспектор Грэйндж. В чем тут дело с револьвером и Гадженом? И это дитя на кухне — вся в слезах. Ее запугала миссис Медуэй… Но, разумеется, девушка была вправе рассказать, что она видела, если считала нужным так поступить. Я сама всегда оказываюсь в затруднительном положении, выбирая между тем, что «правильно» и что «неправильно»… Очень легко, вы понимаете, если «правильно» — приятно, а «неправильно» — неприемлемо. Тогда позиция ясна… Но крайне затруднительно, если все наоборот, и я думаю, инспектор, каждый должен поступать так, как сам считает правильным. Что вы сказали об этом пистолете, Гаджен?
— Пистолет был в холле, миледи, — ответил почтительно Гаджен, — на столе. Понятия не имею, откуда он появился. Я отнес его в кабинет, на прежнее место. Я только что сказал об этом инспектору, и он вполне удовлетворен.
Леди Энкейтлл покачала головой.
— Вы не должны были так говорить, Гаджен, — сказала она мягко. — Я сама поговорю с инспектором.
Гаджен сделал легкое движение, и леди Энкейтлл сказала с милой улыбкой:
— Я ценю ваши побуждения, Гаджен. Я знаю, что вы всегда стараетесь избавить нас от хлопот и неприятностей. — И, отпуская дворецкого, мягко добавила: — Это пока все!
Гаджен медлил, потом бросил беглый взгляд на сэра Генри, на инспектора и, наконец поклонившись, направился к двери. Инспектор хотел было остановить его, но, по необъяснимой причине, рука его опустилась. Гаджен удалился.
Леди Энкейтлл уселась в кресло и улыбнулась обоим мужчинам.
— Знаете, по-моему, это просто замечательно, я про Гаджена. Вполне феодальный поступок, если хотите. Именно феодальный, пожалуй, точнее это не назовешь.
— Леди Энкейтлл, — натянуто произнес Грэйндж, — как я понял, у вас самих есть что сказать по этому поводу?
— Разумеется. Гаджен нашел пистолет совсем не в холле. Он обнаружил его, когда вынул яйца.
— Яйца? — Инспектор Грэйндж был крайне озадачен.
— Из корзинки, — пояснила леди Энкейтлл.
Она полагала, что теперь дала исчерпывающее объяснение.
— Ты должна рассказать об этом немного подробнее, дорогая, — тепло сказал сэр Генри. — Инспектор Грэйндж все еще в недоумении.
— О! — Леди Энкейтлл решила быть предельно ясной. — Пистолет был в корзинке, под яйцами.
— Какая корзинка и какие яйца, леди Энкейтлл?
— Корзинка, которую я взяла с собой на ферму. Пистолет был в корзинке, а потом я сверху положила яйца и забыла об этом. А когда мы нашли бедного Джона Кристоу мертвым возле бассейна, это было таким шоком, что я выпустила корзинку из рук, и Гаджен еле успел ее подхватить… Я хочу сказать, из-за яиц. Если бы я уронила корзинку, все бы разбилось. Он принес корзинку в дом. А позднее я попросила его проставить дату на яйцах. Я всегда так делаю, иначе свежие яйца можно съесть раньше старых… И он сказал, что все сделал. Теперь я припоминаю, у него был очень значительный тон при этом сообщении. Вот это я и называю «феодальным поступком». Он нашел пистолет и убрал его на место… думаю потому, что в доме была полиция. Я убеждена, что прислуга всегда обеспокоена появлением полиции. Очень трогательно и мило, но… довольно глупо, ведь вы, инспектор, конечно, хотите услышать правду?
Свой рассказ леди Энкейтлл завершила сияющей улыбкой.
— Я намерен узнать правду, — довольно хмуро сказал Грэйндж.
Леди Энкейтлл вздохнула.
— Какая это все же суета, не правда ли? — сказала она. — Я имею в виду поиски преступника. Кто бы ни застрелил Джона Кристоу, я не думаю, что он всерьез намеревался это сделать. Если это Герда, я уверена, она не собиралась его убивать. По правде говоря, я удивлена, что она не промахнулась… Именно этого можно было ожидать от Герды. Да и в самом деле она очень славное, доброе создание. И если вы ее посадите в тюрьму и повесите, что, скажите на милость, будет с детьми? Если она действительно убила Джона, то теперь страшно сожалеет об этом. Для детей и так ужасно, что убит их отец, но еще хуже, если за это повесят их мать. Иногда мне кажется, что полиция совершенно не думает об этом.
— В настоящее время, леди Энкейтлл, мы не собираемся никого арестовывать.
— Ну что же, это, по крайней мере, разумно. Я всегда считала, инспектор Грэйндж, что вы очень разумный человек.
И снова эта очаровательная, почти ослепительная улыбка.
Инспектор, не удержавшись, невольно заморгал глазами, но тут же решительно вернулся к делу.
— Как вы только что сказали, леди Энкейтлл, я хочу добиться правды. Вы взяли пистолет… Между прочим, какой это был пистолет?
Леди Энкейтлл кивнула головой в сторону полки у камина.
— Второй от конца. Маузер-25.
Что-то в этом предельно четком ответе неприятно поразило Грэйнджа. Он как-то не ожидал, что леди Энкейтлл, которую он мысленно зачислил в категорию странных и немного «не в себе», опишет огнестрельное оружие с такой технической точностью.
— Вы взяли отсюда пистолет и положили его в вашу корзинку. Зачем?
— Я знала, что вы меня об этом спросите! — заявила леди Энкейтлл неожиданно почти торжествующим тоном. — И конечно, должно быть какое-то объяснение. Как ты думаешь, Генри? — Она повернулась к мужу. — Должно же быть какое-то объяснение тому, что я взяла в то утро пистолет!
— Думаю, что так, дорогая, — натянуто сказал сэр Генри.
— Сделаешь что-нибудь, — медленно произнесла леди Энкейтлл, задумчиво глядя перед собой, — а потом не можешь вспомнить, почему ты это сделал. Но я полагаю, инспектор, всегда должно быть объяснение, надо только суметь его найти. Очевидно, у меня в голове была какая-то идея, когда я положила маузер в корзинку для яиц. Как вы думаете, что бы это могло быть? — обратилась она к нему.
Грэйндж пристально смотрел на нее. Ни капли замешательства, лишь по-детски нетерпеливый интерес. Это сразило инспектора. Ему никогда не приходилось встречать людей, подобных леди Энкейтлл, и на какой-то момент он растерялся.
— Моя жена, — сказал сэр Генри, — невероятно рассеянна, инспектор.
— Похоже, что так, сэр, — ответил Грэйндж, но прозвучало это не очень-то любезно.
— Как вы думаете, почему я взяла этот пистолет? — доверительно спросила его леди Энкейтлл.
— Не имею ни малейшего представления, леди Энкейтлл.
— Я вошла сюда, — вслух размышляла леди Энкейтлл. — Разговаривала с Симмонс о наволочках… и смутно припоминаю, что прошла к камину… Я подумала о том, что пора приобрести новую кочергу для камина…
Инспектор Грэйндж широко открыл глаза. Он чувствовал, что у него голова идет кругом.
— И я помню, что взяла маузер… такой хороший, удобный и небольшой револьвер; мне он всегда нравился… и опустила его в корзинку. Я ее только что взяла из цветочной комнаты. Но у меня, понимаете ли, столько всего было в голове… Симмонс… вьюнок в маргаритках… потом я надеялась, что миссис Медуэй сделает сдобного «Негра в рубашке»…
— Негра в рубашке?! — не смог удержаться инспектор.
— Ну, вы понимаете, шоколад и яйца… потом покрыть все взбитыми сливками. Как раз такой десерт к ленчу, который понравится иностранцу.
Инспектор Грэйндж заговорил напористо и резко, чувствуя неодолимое желание прорваться сквозь невидимую тонкую паутину, застилающую перед ним свет:
— Вы зарядили пистолет?
Он надеялся захватить врасплох, может, даже немного испугать ее, но леди Энкейтлл обдумывала вопрос с глубокой сосредоточенностью.
— А действительно, зарядила или нет? Страшно глупо, но я не могу припомнить. Но, очевидно, должна была зарядить, как вы думаете, инспектор? Я хочу сказать, какой толк от пистолета, если он без патронов? Хотелось бы мне точно припомнить, что у меня было в голове?
— Дорогая Люси, — сказал сэр Генри, — таинственные мыслительные процессы, происходящие в твоей голове, приводят в отчаяние даже тех, кто знает тебя не первый год.
Она сверкнула улыбкой в сторону мужа.
— Я в самом деле пытаюсь вспомнить, Генри, дорогой! Иногда делаешь такие странные вещи! Вчера я сняла телефонную трубку и поймала себя на том, что с недоумением смотрю на нее. Я не могла себе представить, зачем она мне понадобилась.
— Очевидно, вы намеревались кому-нибудь позвонить, — холодно заметил инспектор.
— Вы знаете, совсем нет! Я потом вспомнила. Меня удивило, почему миссис Мирз, жена садовника, так странно держит своего ребенка, и я взяла телефонную трубку, понимаете? Чтобы лучше представить того младенца. И я поняла, в чем дело: миссис Мирз держит младенца на другую сторону, потому что она левша.
Люси торжествующе переводила взгляд с одного мужчины на другого.
«Ну что же, — подумал инспектор, — вероятно, бывают такие люди на свете».
Но сам он, однако, не был в этом уверен.
Он понимал, что все это может быть тонкой ложью. Судомойка, например, ясно сказала, что Гаджен держал в руках револьвер. Хотя на это не очень-то можно положиться. Девушка ничего не смыслит в огнестрельном оружии. Слышала разговоры о револьвере в связи с убийством, а револьвер или пистолет — для нее все равно.
Оба, и Гаджен и леди Энкейтлл, показали на один и тот же пистолет, но нет ничего подтверждающего их утверждение. Собственно говоря, Гаджен действительно мог держать револьвер и возвратить его леди Энкейтлл, а не в кабинет. Похоже, что вся прислуга совершенно околдована этой ненормальной!
А если именно она убила Джона Кристоу? Но почему? Этого он не мог сказать. Интересно, будут ли слуги и тогда выгораживать леди Энкейтлл, потчуя его беззастенчивой ложью? У инспектора было скверное предчувствие, что именно так они и будут себя вести.
А это невероятное заявление, что она не в состоянии вспомнить, для чего положила пистолет в корзинку… Конечно, она могла бы придумать что-нибудь получше. Выглядит так естественно… ни капельки не смущена и не испугана. Черт бы ее побрал, создается впечатление, что она говорит чистейшую правду.
Инспектор встал.
— Когда вы вспомните еще что-нибудь, не откажите в любезности сообщить мне об этом, леди Энкейтлл, — сказал он сухо.
— Конечно, инспектор, — ответила она. — Иногда вдруг вспомнишь что-нибудь совершенно неожиданно.
Грэйндж вышел из кабинета. В холле он оттянул пальцем воротник, чтобы немного ослабить его, и глубоко вздохнул. Ему казалось, что он только что выбрался из зарослей чертополоха. Пожалуй, сейчас больше всего ему нужны — самая старая обкуренная трубка, пинта[198] эля[199] и хороший бифштекс с картошкой. Что-то простое, но существенное.
Глава 21
Леди Энкейтлл скользила по кабинету, рассеянно трогая указательным пальцем то ту, то другую безделушку. Сэр Генри, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ней. Наконец он спросил:
— Люси, зачем ты взяла пистолет?
Леди Энкейтлл подошла к мужу и грациозно опустилась в кресло.
— Сама не знаю, Генри. Вероятно, у меня была какая-то смутная мысль о несчастном случае.
— Несчастном случае?
— Да, эти корни деревьев, — рассеянно продолжала говорить леди Энкейтлл, — торчащие из земли… так легко споткнуться… могло быть, что, сделав несколько выстрелов по мишени, оставили в магазине револьвера пулю… беспечность, конечно, но люди и в самом деле беспечны. Знаешь, я всегда думала, что несчастный случай — самое простое объяснение содеянному. Потом, конечно, сходишь с ума и обвиняешь себя…
Ее голос совсем замер. Сэр Генри не отрывал взгляда от ее лица.
— С кем должен был произойти несчастный случай? — спросил он так же спокойно и осторожно.
Люси немного повернула голову, с удивлением глядя на него.
— Конечно, с Джоном Кристоу.
— Господи, Люси!..
— О Генри, — сказала она серьезно. — Меня ужасно беспокоит Эйнсвик.
— Понимаю. Все дело в Эйнсвике! Ты всегда слишком сильно любила Эйнсвик, Люси! Иногда мне кажется, это единственное, что ты любишь на самом деле!
— Эдвард и Дэвид — последние… последние из Энкейтллов. И Дэвид не подходит. Он никогда не женится из-за своей матери и… вообще. К нему перейдет Эйнсвик после смерти Эдварда, и он так и не женится, а нас, тебя и меня, уже не станет, прежде чем он доживет до средних лет. Он будет последним Энкейтллом, и все исчезнет.
— Это имеет такое большое значение, Люси?
— Разумеется! Ведь это Эйнсвик!
— Ты, Люси, должна была родиться мальчиком. — Он слегка улыбнулся, так как не мог представить себе Люси не женщиной!
— Все зависит от женитьбы Эдварда… А Эдвард так упрям… Эта его длинная голова, совсем как у моего отца. Я все надеялась, что он забудет Генриетту и женится на какой-нибудь славной девушке. Но теперь вижу, что это безнадежно. Потом я думала, что связь Джона с Генриеттой быстро распадется. Мне казалось, что все интрижки Джона никогда не были продолжительными. Но он действительно любил ее. Я надеялась, что, если Джона не будет на их пути, Генриетта выйдет за Эдварда. Она не такой человек, чтобы жить прошлым. Так что, как видишь, все сводилось к одному — избавиться от Джона Кристоу!
— Люси! Ты не… Что ты сделала, Люси?
Люси Энкейтлл снова поднялась с кресла, вынула из вазы два засохших цветка.
— Дорогой, — сказала она, — неужели ты можешь предположить хоть на мгновение, что я убила Джона Кристоу? У меня была эта глупая идея насчет несчастного случая. Но потом, знаешь, я вспомнила: мы ведь сами пригласили Джона Кристоу, он к нам не напрашивался. Нельзя же пригласить человека, а потом подстроить несчастный случай… Даже арабы крайне щепетильны в том, что касается гостеприимства. Так что, Генри, не беспокойся! Хорошо?
Она смотрела на него со своей неизменной очаровательной, любящей улыбкой.
— Я всегда беспокоюсь за тебя, Люси, — с нажимом сказал он.
— Не стоит, дорогой! Ты видишь, что все в общем-то к лучшему. Джона нет. Это мне напомнило, — раздумчиво проговорила Люси, вспоминая, — того человека в Бомбее[200], который был так ужасающе груб ко мне. Через три дня его переехал трамвай.
Она открыла стеклянную дверь на террасу и вышла в сад. Сэр Генри сидел неподвижно, наблюдая за тем, как высокая, стройная фигура удаляется вниз по тропинке. Он казался старым и усталым, а лицо выглядело как у человека, живущего в постоянном страхе.
На кухне заплаканная Дорис Эммотт совсем поникла под строгими упреками мистера Гаджена. Миссис Медуэй и мисс Симмонс исполняли роль хора[201] в греческой трагедии.
— Забегать вперед и делать скоропалительные заключения — так может поступать только неопытная девушка.
— Абсолютно верно, — поддержала миссис Медуэй.
— Если вы увидели меня с пистолетом в руке, правильно было подойти и сказать: «Мистер Гаджен, не будете ли вы так добры дать мне объяснение».
— Или вы могли бы подойти ко мне, — вставила миссис Медуэй. — Я всегда охотно готова объяснить молодой девушке, не знающей жизни, как ей следует поступить.
— Чего вы не должны были делать, — строго продолжал Гаджен, — так это идти и болтать об этом полицейскому… к тому же всего лишь сержанту! Никогда не следует связываться с полицией, если этого можно избежать.
— Достаточно неприятно, когда полицейские в доме.
— Ужасно неприятно, — прошептала мисс Симмонс. — Ничего подобного не случалось со мной раньше.
— Мы все знаем ее сиятельство, — продолжал Гаджен. — Я спокойно ко всему отношусь, что бы ее сиятельство ни сделала… Но полиция не знает ее сиятельства, как ее знаем мы, и не годится, чтобы ее сиятельство беспокоили глупыми вопросами и подозрениями только потому, что она разгуливает с огнестрельным оружием. Это на нее похоже, но у полицейских на уме только убийства и прочие подобные вещи. Ее сиятельство просто очень рассеянная леди, которая и мухи не обидит, хотя нельзя отрицать, что она оставляет вещи в самых необычных местах. Я никогда не забуду, — с чувством добавил Гаджен, — как она принесла живого омара[202] и положила его в холле на поднос для визитных карточек… Я думал, у меня начались галлюцинации!
— Это, должно быть, случилось до меня, — с любопытством заметила Симмонс.
Миссис Медуэй прервала эти откровения, указав взглядом на провинившуюся Доррис.
— Как-нибудь в другой раз, — сказала она. — Так вот, Доррис, мы хотим тебе добра. Связываться с полицией — это дурной тон. Помни об этом! Теперь можешь продолжать заниматься овощами и будь повнимательнее, чем вчера со стручковой фасолью.
Доррис шмыгнула носом.
— Да, миссис Медуэй, — сказала она и, шаркая ногами, пошла к раковине.
— Боюсь, сегодня у меня не получатся пирожные, тут нужна легкая рука, — пророчески произнесла миссис Медуэй. — А завтра это ужасное слушание в суде. Как вспомню, мне всякий раз делается не по себе. Подумать только, чтобы такое — случилось с нами!
Глава 22
Задвижка на калитке щелкнула, Пуаро выглянул в окно и, увидев визитера, очень удивился. Что могло привести к нему Веронику Крэй?
Она вошла, благоухая восхитительными духами, которые Пуаро тут же узнал. На Веронике, как и на Генриетте, был твидовый костюм и уличные туфли, но на этом их сходство заканчивалось.
— Мосье Пуаро. — Тон был мягкий и слегка взволнованный. — Я только сейчас обнаружила, кто мой сосед. Мне всегда хотелось познакомиться с вами.
Пуаро склонился над ее протянутыми руками.
— Я в восторге, мадам.
Вероника приняла эти знаки внимания с милостивой улыбкой, но от чая, кофе или коктейля отказалась.
— Нет-нет. Я пришла только поговорить с вами. Серьезно поговорить. Я обеспокоена.
— Вы обеспокоены? Мне очень жаль.
Вероника со вздохом опустилась на стул.
— По поводу смерти Джона Кристоу. Завтра предварительное слушание. Вы знаете об этом?
— Разумеется.
— Все это так невероятно…
Она внезапно замолчала.
— Едва ли кто мне поверит. Но вы, я думаю, сможете поверить, потому что знаете кое-что о человеческой природе.
— Да, немного знаю, — согласился Пуаро.
— Ко мне приходил инспектор Грэйндж. Он вбил себе в голову, будто я ссорилась с Джоном, что отчасти верно, но совсем не так, как он думает… Я сказала ему, что не видела Джона пятнадцать лет, и он мне просто-напросто не поверил. Но это правда, мосье Пуаро.
— Если это правда, ее легко доказать. Зачем же беспокоиться?
На его улыбку Вероника ответила самой дружеской улыбкой.
— Дело в том, что я просто не решилась рассказать инспектору, что случилось на самом деле в субботу вечером. Это было настолько невероятно, что инспектор, конечно, не поверил бы, но я чувствовала, что должна кому-нибудь рассказать. Поэтому я пришла к вам.
— Я чрезвычайно польщен, мадам, — тихо произнес Пуаро.
Любезность Пуаро, как он успел заметить, она приняла как должное. «Эта женщина, — подумал он, — чрезвычайно уверена в производимом ею впечатлении. Настолько уверена, что может, пожалуй, иногда допустить ошибку».
— Пятнадцать лет назад мы с Джоном были помолвлены. Он был очень влюблен в меня… настолько, что иногда это даже пугало. Он хотел, чтобы я оставила сцену, отказалась от привычного образа жизни. Он был так деспотичен и одержим, что мне стало ясно — я этого не вынесу. И я разорвала помолвку. Боюсь, он принял все слишком близко к сердцу.
Пуаро сочувственно поцокал языком.
— Я не видела его до прошлой субботы. Он проводил меня домой. Я сказала инспектору, что мы говорили о прошлом… в общем, это соответствует истине. Но было и нечто большее.
— Да?
— Джон потерял голову… совершенно обезумел. Он хотел оставить свою жену и детей, требовал, чтобы я развелась с мужем и вышла замуж за него. Он сказал, что никогда не забывал меня… что с тех пор, как меня увидел, время остановилось…
Она закрыла глаза и судорожно сглотнула, даже под пудрой и гримом было заметно, что ее лицо невероятно побледнело. Наконец она снова открыла глаза и почти робко улыбнулась Пуаро.
— Вы можете поверить, что… чувство, подобное этому, возможно? — спросила она.
— Да, я думаю, это возможно.
— Так помнить… так ждать… строить планы… надеяться, решившись всем сердцем и умом, добиться наконец того, чего хочешь. Такие мужчины есть, мосье Пуаро.
— Да… и женщины тоже.
Она пристально посмотрела на него.
— Я говорю о мужчинах… о Джоне Кристоу. Вот как все это было! Сначала я противилась, смеялась, отказываясь принимать все всерьез. Потом сказала ему, что он безумец. Было довольно поздно, когда он отправился домой. Мы спорили и спорили. Он не отступал.
Она опять судорожно сглотнула.
— Вот почему я на следующее утро послала ему записку. Я не могла все оставить так. Я хотела заставить его понять — то, что он хочет, невозможно.
— В самом деле?
— Ну разумеется! Он пришел, но не хотел слушать, что я ему говорила, и продолжал настаивать. Я сказала, что не люблю его, что я его ненавижу. — Она остановилась, тяжело дыша. — Я вынуждена была быть грубой. Так мы и расстались, окончательно рассорившись. А теперь… он мертв.
Пуаро видел, как ее руки прокрались друг к другу, видел сплетенные пальцы, выступающие костяшки пальцев сжатых рук. Это были крупные, довольно жестокие руки.
Ее переживания передались ему. Это была не печаль, не грусть — нет! Это была злость. «Злость эгоистки, — подумал Пуаро, — чьи расчеты не оправдались».
— Ну так что, мосье Пуаро? — Она снова владела собой. — Что мне делать? Рассказать или держать все при себе? Вот что случилось на самом деле, но, вероятно, не так легко этому поверить.
Пуаро посмотрел на нее долгим, испытующим взглядом. Он не думал, что Вероника Крэй сказала правду, и все-таки в ее рассказе чувствовалась искренность «Все это действительно было, — подумал он, — но происходило иначе».
И вдруг он понял. Это была правдивая история, но… перевернутая. Это она не могла забыть Джона Кристоу. Это ее отвергли и оттолкнули. И теперь эта разъяренная тигрица лишилась того, кого она считала своей законной добычей, и, чтобы хоть как-то излить досаду и злость, она придумала свой вариант «правды», который мог бы удовлетворить ее уязвленную гордость, удовлетворить голод по человеку, ускользнувшему из ее жадных рук. Разве можно признать, что она, Вероника Крэй, не смогла получить желаемого! Поэтому она перевернула все с ног на голову.
Пуаро глубоко вздохнул.
— Если это касается смерти Джона Кристоу, вы должны были бы все рассказать, если же нет… а я не вижу тут связи… думаю, вполне оправданно держать все это при себе.
Он понял, что она разочарована. Ему показалось, что в данный момент его гостье очень хотелось бы швырнуть эту историю на страницы газет. Зачем она пришла к нему? Испытать свою версию на нем? Посмотреть, как он отреагирует? Или убедить его использовать эту историю?
Если его спокойная реакция и разочаровала ее, виду она не подала. Поднявшись, она протянула ему изысканной формы кисть.
— Благодарю вас, мосье Пуаро. То, что вы посоветовали мне, выглядит чрезвычайно разумным. Я рада, что пришла к вам. Я… мне хотелось, чтоб кто-нибудь знал.
— Ценю ваше доверие, мадам.
Когда она ушла, Пуаро приоткрыл окна. Он был небезразличен к запахам. Запах духов Вероники ему не нравился. Очень дорогой, но приторный и навязчивый, как она сама.
Отряхивая занавески, Пуаро спросил себя, не она ли убила Джона Кристоу. Вероника Крэй хотела бы убить его… В этом Пуаро не сомневался. Она бы с удовольствием нажала курок… а потом с наслаждением смотрела бы, как он шатается и падает.
Однако за мстительной злостью скрывалось то, что помогало его посетительнице безошибочно оценивать свои возможности — холодный расчетливый ум. Как бы сильно ни хотелось Веронике Крэй убить Джона Кристоу, она едва ли решилась на такой риск.
Глава 23
Предварительное слушание дела закончилось. Это была чистейшая формальность, и, хотя все заранее знали об этом, почему-то каждый почувствовал облегчение. По просьбе полиции слушание было отложено на две недели.
Герда приехала из Лондона вместе с миссис Паттерсон в арендованном «даймлере». На ней было черное платье и шляпа, которая ей совсем не шла. Она выглядела нервной и потерянной. Готовясь снова сесть в «даймлер», она задержалась, увидев, что к ней направилась леди Энкейтлл.
— Как вы, дорогая Герда? Надеюсь, вы не очень плохо спите? Мне кажется, все прошло так, как мы и ожидали. Как вы считаете? Очень жаль, что вас не было с нами в «Лощине», но я вполне понимаю, как тяжело бы это было для вас.
— Это была идея мисс Колльер — приехать — и сразу же обратно, — сказала миссис Паттерсон своим неизменно деловым тоном, с упреком глядя на сестру, которая не представила ее должным образом. — Дорого, конечно, но мы подумали, что имеет смысл.
— О, я согласна с вами.
— Я сразу же забираю Герду и детей прямо в Бексхилл, — понизила голос миссис Паттерсон. — Ей сейчас нужен покой и отдых. Эти репортеры! Вы себе представить не можете… Прямо кишат вокруг Харли-стрит.
Какой-то молодой человек щелкнул фотоаппаратом, Элси Паттерсон втащила сестру в машину, и они уехали.
На мгновение мелькнуло лицо Герды под полями несуразной шляпы. Оно было пустое, растерянное… похожее на лицо полоумного ребенка.
— Бедняга, — пробормотала вполголоса Мидж Хардкасл.
— И что все находили в этом Кристоу? — раздраженно сказал Эдвард. — Эта несчастная женщина выглядит совершенно убитой.
— Она была полностью поглощена им, — сказала Мидж.
— Почему? Он был эгоистом… по-своему хорош в компании, но… — Он оборвал фразу и, помолчав, спросил: — Что вы думаете о нем, Мидж?
— Я? — Мидж задумалась. Наконец сказала, сама удивившись своим словам: — Мне кажется, я уважала его.
— Уважали? За что?
— Он хорошо знал свое дело.
— Вы имеете в виду медицину?
— Да.
Они вынуждены были прервать разговор. Генриетта намеревалась подбросить Мидж в Лондон в своей машине. Эдвард должен был уехать вместе с Дэвидом поездом — сразу, после ленча. Прощаясь, он неопределенно сказал:
— Мидж, вы должны как-нибудь пообедать со мной. — И Мидж ответила, что рада бы, но обеденный перерыв у нее только один час. Эдвард улыбнулся своей милой улыбкой: — О, это совершенно особый случай. Я уверен, они поймут.
Затем он подошел к Генриетте.
— Я позвоню тебе.
— Да, пожалуйста, Эдвард. Но, возможно, меня не будет дома.
— Не будет дома?
Она насмешливо улыбнулась.
— Поеду куда-нибудь топить свою печаль. Уж не думаешь ли ты, что я буду сидеть и хандрить?
— Я не понимаю тебя, Генриетта, — медленно сказал он.
Ее лицо смягчилось.
— Милый Эдвард! — неожиданно сказала она, пожав ему руку. — Люси, — обратилась Генриетта к леди Энкейтлл, — я смогу снова приехать в «Лощину», если захочу?
— Конечно, дорогая, — ответила леди Энкейтлл. — К тому же через две недели опять назначено слушание.
Генриетта отправилась на рыночную площадь, где оставила свою машину. Чемоданы, ее и Мидж, были уже погружены. Они с Мидж уселись, и машина тронулась с места.
Поднявшись вверх на холм, они выехали на дорогу. Внизу под ними в холоде серенького осеннего дня слегка вздрагивали коричневые и золотые листья.
— Я рада, что уехала, — неожиданно сказала Мидж. — Даже от Люси. Она очень милая, но иногда из-за нее у меня мурашки ползут по спине.
Генриетта напряженно смотрела в маленькое автомобильное зеркало.
— Люси не может не украсить колоратурными пассажами…[203] даже убийство, — как бы вскользь бросила она.
— Знаешь, я никогда раньше об убийствах не думала.
— С какой стати ты должна была о них думать? Об этом не думают. Это просто слово в кроссворде из восьми букв или приятное развлечение между обложками книги. А в жизни…
Она замолчала.
— Это реально и страшно! — закончила Мидж.
— Тебе нечего бояться, — сказала Генриетта. — Тебя это не касается. Пожалуй, ты единственная из нас, кого это не касается.
— Теперь это не касается никого из нас, — заметила Мидж. — Мы вне подозрений.
— Ты так думаешь? — пробормотала Генриетта.
Она продолжала напряженно смотреть в автомобильное зеркало. Неожиданно она нажала на акселератор, машина увеличила скорость. Генриетта взглянула на спидометр: больше пятидесяти миль, теперь стрелка подходила к шестидесяти.
Мидж сбоку взглянула на Генриетту. Отчаянная езда совсем не в ее манере. Генриетта любит скорость, но извилистая дорога, по которой они ехали, вряд ли оправдывала такой риск. Губы Генриетты искривились в хмурой улыбке.
— Взгляни через плечо, Мидж, — сказала она. — Видишь машину сзади нас?
— Да.
— Это «Вентнор-10».
— В самом деле? — сказала Мидж без всякого интереса.
— Неплохая машина — среди маленьких автомобилей. Берет немного бензина, хороша на дороге, но не быстроходна.
— Да?
«Странно, — подумала Мидж, — до чего Генриетта увлечена машинами, все про них знает».
— Как я сказала, они не быстроходны… А эта машина, Мидж, сохраняет дистанцию, хотя у нас скорость уже больше шестидесяти миль в час.
Мидж с удивлением повернулась к ней:
— Ты хочешь сказать…
Генриетта кивнула.
— Полиция. Я думаю, у них специальные моторы на обычных машинах.
— Ты хочешь сказать, что они продолжают следить за нами?
— Совершенно очевидно.
Мидж вздрогнула.
— Генриетта, ты что-нибудь понимаешь в этой истории со вторым револьвером?
— Нет, но она снимает подозрения с Герды, хотя ничего, кроме этого, не добавляет к расследованию.
— Но если это один из револьверов Генри?..
— Что пока не доказано. Как ты помнишь, револьвера так и не нашли.
— Не нашли. Может быть, это вообще кто-нибудь со стороны. Знаешь, мне бы хотелось, чтобы это была та женщина.
— Вероника Крэй?
— Да.
Генриетта ничего не ответила. Глаза ее были прикованы к полотну дороги.
— Ты думаешь, это возможно? — настаивала Мидж.
— Возможно? Да, возможно, — сказала она задумчиво.
— Значит, ты так не думаешь…
— Бесполезно предполагать что-либо только потому, что тебе так хочется. Хотя это, конечно, идеальное решение… мы все — вне подозрений!
— Мы? Но…
— Мы все замешаны… Даже ты, дорогая, хотя трудно найти мотив, чтобы обвинить тебя в убийстве Джона. Разумеется, я хотела бы, чтоб это была Вероника. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем взглянуть на ее «превосходный спектакль», как говорит Люси, на скамье подсудимых!
Мидж бросила на нее быстрый взгляд.
— Скажи, Генриетта, все это сделало тебя мстительной?
— Ты имеешь в виду… — Генриетта на мгновение запнулась, — потому что я любила Джона?
— Да.
Мидж вдруг совершенно неожиданно для себя осознала, что это впервые произнесено вслух. Все знали: и Люси, и Генри, и Мидж, и даже Эдвард, что Генриетта любит Джона Кристоу, но никто никогда в разговоре даже не намекнул на это.
Генриетта, казалось, задумалась.
— Я не могу объяснить тебе, что я чувствую, — сказала она. — Может быть, я и сама не знаю. Давай зайдем ко мне в студию, Мидж, — предложила Генриетта. — Попьем чаю, а потом я отвезу тебя в твою берлогу.
Здесь, в Лондоне, короткий осенний день уже угасал. Они подъехали к дверям студии. Открыв ключом дверь, Генриетта вошла и зажгла свет.
— Холодно, — сказала она. — Надо бы включить газ. О черт! Я ведь хотела купить спички по дороге.
— Может, зажигалкой?
— Моя не годится. Да и все равно трудно зажечь газовую горелку зажигалкой. Ты располагайся поудобнее. На углу нашей улицы стоит слепой старик. Я обычно покупаю у него спички. Через одну-две минуты я вернусь.
Оставшись одна, Мидж стала бродить по студии, разглядывая скульптуры Генриетты. Было как-то жутко в пустой мастерской среди деревянных и бронзовых фигур. Бронзовая голова с высокими скулами в жестяной каске, вероятно, солдат; воздушная конструкция из скрученных алюминиевых лент, сильно заинтриговавшая Мидж; огромная, замершая в неподвижности лягушка из розового гранита. В углу Мидж увидела деревянную, почти в человеческий рост, фигуру. Она пристально ее рассматривала, но тут щелкнул ключ в замке и вошла слегка запыхавшаяся Генриетта.
Мидж обернулась.
— Что это, Генриетта? Просто страшно…
— «Поклонение»… Для международной выставки.
— Даже страшно… — повторила Мидж, все так же пристально глядя на статую.
Опустившись на колени, чтобы зажечь газ в камине, Генриетта сказала через плечо:
— Интересно, что ты так говоришь. Почему ты считаешь, что это страшно?
— Я думаю… потому что нет лица!
— Ты абсолютно права, Мидж.
— Это очень хорошая скульптура, Генриетта.
— Просто отличное грушевое дерево, — небрежно бросила Генриетта.
Она поднялась с колен, бросила свою большую сумку и манто на диван, а несколько коробок спичек — на стол. Мидж поразило выражение лица Генриетты: на нем было внезапное и совершенно необъяснимое возбуждение.
— А теперь — чай! — воскликнула Генриетта, и в ее голосе было то же ликование, которое Мидж заметила на ее лице. Это ликование было почти неуместным, но Мидж забыла об этом, взглянув на коробки спичек на столе.
— Ты помнишь спички, которые Вероника Крэй унесла с собой?
— Когда Люси насильно всучила ей полдюжины коробок? Конечно, помню.
— Интересно, кто-нибудь проверил, были у нее в коттедже спички или нет.
— Я думаю, полицейские проверяли. Они все делают основательно.
Едва заметная улыбка искривила губы Генриетты. Мидж чувствовала себя заинтригованной и почти возмущенной. «Любила ли Генриетта Джона? Способна ли она вообще любить? Конечно нет!» Мидж почувствовала, как холод отчаяния коснулся ее при мысли, что Эдварду не придется долго ждать.
Как, однако, невеликодушно с ее стороны, что эта мысль не принесла ей душевного спокойствия. Разве она не хочет, чтобы Эдвард был счастлив? Ей он все равно никогда не будет принадлежать, для него она всегда останется «малышкой Мидж». Никогда она не будет для него любимой женщиной. К сожалению, Эдвард относится к числу преданных. Ну что ж, преданные в конце концов получают то, чего хотят.
Эдвард и Генриетта в Эйнсвике… Подходящий конец всей этой истории. Как в сказке — «Они жили долго и счастливо». Мидж представила себе все это очень ярко.
— Не грусти, Мидж, — сказала Генриетта, — не позволяй всей этой истории взять над тобой верх! Может, пойдем и вместе пообедаем?
Но Мидж поспешно ответила, что ей пора домой. У нее есть дела… нужно написать письма. Короче говоря, она уйдет, как только допьет чай.
— Хорошо. Я отвезу тебя.
— Я могу взять такси.
— Надо пользоваться машиной, раз уж она есть.
Они вышли на сырой вечерний воздух.
Проезжая конец улицы Мьюз, Генриетта показала на машину, стоявшую у обочины:
— «Вентнор-10». Наша тень. Вот увидишь, она последует за нами.
— Как это чудовищно!
— Ты так думаешь? Мне это безразлично.
Генриетта высадила Мидж у ее дома, вернулась на улицу Мьюз и поставила машину в гараж.
Затем она снова вошла в студию. Несколько минут она стояла, машинально барабаня пальцами по каминной полке. Потом, вздохнув, сказала себе: «Ну что ж — за работу! Не будем терять времени!»
Через полтора часа Генриетта, отступив назад, критически осмотрела свое творение. Глина пристала к щекам, волосы растрепались, но, глядя на модель, укрепленную на стенде, она одобрительно кивнула головой.
Это было грубое подобие лошади. Глина набросана на каркас неровными комками. От такой лошади любого полковника кавалерии хватил бы апоплексический удар, так не похожа она была на живую, из плоти и костей. Пожалуй, это огорчило бы ирландских предков Генриетты… Тем не менее это была лошадь — лошадь… в абстрактном видении.
«Интересно, что подумал бы инспектор Грэйндж, взглянув на ее творение?» Представив себе его лицо, Генриетта слегка улыбнулась.
Глава 24
Эдвард Энкейтлл в нерешительности стоял в водовороте людского потока на Шефтсбери-авеню[204]. Он собирался с духом, чтобы войти в магазин, на вывеске которого золотыми буквами было написано: «Мадам Элфридж».
Какое-то смутное опасение удерживало его от того, чтобы попросту позвонить Мидж и пригласить ее на ленч. Обрывок телефонного разговора, свидетелем которого он был в «Лощине», взволновал, нет, даже шокировал его. В голосе Мидж была покорность, почти заискивание, которые возмутили его до глубины души.
Мидж — непринужденной, веселой, искренней — такая терпимость была совершенно несвойственна! Подчиняться (а она явно подчинялась) грубости и наглости, доносившимся с другого конца телефонного провода… Здесь что-то не так… все не так! А потом, когда он проявил заботу, она резко и прямо выложила ему неприглядную истину, — найти работу нелегко, а чтобы тебя не уволили, требуется нечто более неприятное, чем простое выполнение своих обязанностей.
До сих пор Эдвард принимал как должное тот факт, что теперь работают довольно многие молодые женщины. Он всегда считал, что, раз они работают, значит, сами того хотят, так как это льстит их чувству независимости и делает их жизнь полнее.
Мысль о том, что рабочий день с девяти до шести с одночасовым перерывом на ленч в большинстве случаев лишает девушку отдыха и удовольствий, которыми пользуются представители имущего класса, просто не приходила ему в голову. Новым и неприятным открытием было то, что Мидж могла, например, заглянуть в картинную галерею, не иначе как пожертвовав своим ленчем; не могла пойти на полуденный концерт; поехать в погожий летний день за город; не спеша пообедать в дальнем ресторане. Вместо этого она должна была отложить поездки за город на субботу и воскресенье, а в перерыв наспех перекусить в переполненном кафе или закусочной. Ему нравилась Мидж. Малышка Мидж… Он всегда так ее называл. Девочкой она появлялась в Эйнсвике по праздникам, вначале всегда робела и только молча на всех смотрела широко раскрытыми глазами, но немного освоившись, становилась жизнерадостной и естественной.
Склонность жить исключительно прошлым, воспринимая настоящее с опаской, как нечто неиспробованное, помешала Эдварду вовремя увидеть в Мидж взрослого человека, который сам зарабатывает себе на жизнь.
В тот вечер в «Лощине», когда он, весь похолодевший после гнетущего столкновения с Генриеттой, вошел в дом и увидел, как Мидж, став на колени, разжигает огонь в камине, он впервые почувствовал, что перед ним не влюбленный ребенок, а женщина. Это было как крушение мечты… на какое-то мгновение он почувствовал, что потерял что-то очень важное… какую-то драгоценную часть Эйнсвика. И под влиянием внезапного порыва он сказал тогда: «Мне хотелось бы чаще видеть вас, дорогая Мидж».
Тот лунный свет, и слова Генриетты… он почувствовал, что она совсем не похожа на женщину, которую он так долго любил, и тогда он ощутил страх. И позже, войдя в дом, он снова почувствовал, что его привычные представления о жизни рушатся. Малышка Мидж, которая тоже была частью Эйнсвика, оказывается, превратилась в независимую взрослую женщину с грустными глазами, и этой женщины он не знал.
С тех пор Эдвард не находил себе места, упрекая себя в равнодушии, в том, что ни разу не удосужился узнать, как ей живется. Мысль о магазине мадам Элфридж все больше беспокоила его, и он решил наконец посмотреть, что собой представляет этот, столь мало подходящий для Мидж, магазин.
Эдвард с подозрительностью смотрел на выставленные в витрине магазина короткое черное платье с узким золотым поясом, щегольской костюм с блузкой и вечернее платье из безвкусных цветных кружев. Эдвард мало что смыслил в дамской одежде, однако почувствовал, что всё выставленное довольно вульгарно. «Нет, — подумал он, — это место не для Мидж. Кто-нибудь… может, Люси Энкейтлл… должен что-то предпринять».
С трудом поборов смущение, Эдвард распрямил свои несколько сутулые плечи и вошел. И сразу же был буквально парализован открывшейся его глазам сценой. Две кокетливые блондинки с резкими голосами выбирали платья, им помогала смуглая продавщица. В глубине салона невысокая женщина с крашенными хной волосами, толстым носом и неприятным голосом препиралась с совершенно сбитой с толку дородной клиенткой по поводу переделок в вечернем платье. Из соседней кабинки послышался резкий женский голос:
— Безобразно… просто безобразно… неужели вы не можете принести мне что-нибудь приличное!
И тут Эдвард услышал приглушенный голос Мидж, почтительный, убеждающий:
— Платье винного цвета действительно изящно. И я думаю, этот фасон вам подойдет. Если вы только его примерите…
— Я не желаю тратить время на заведомо негодные вещи! Вы все поняли? Я уже вам говорила, что не хочу ничего красного. Если бы вы слушали, что вам говорят…
Лицо Эдварда залила краска. Он надеялся, что Мидж швырнет платье прямо в лицо этой отвратительной женщине. Вместо этого она тихо сказала:
— Хорошо, я посмотрю еще. А вон то зеленое или это персиковое? Не хотите?
— Отвратительно… просто отвратительно! Я ничего больше не стану смотреть. Напрасная трата времени…
Мадам Элфридж, оторвавшись от дородной клиентки, подошла к Эдварду и вопросительно на него посмотрела.
Он взял себя в руки.
— Здесь ли… могу я поговорить… Здесь ли мисс Хардкасл?
Брови мадам Элфридж поползли вверх, но, заметив, что одежда Эдварда была от Савилроу[205], она изобразила улыбку, от которой ее злое лицо сделалось еще более неприятным.
Из кабинки снова раздался капризный голос:
— Осторожнее! Какая вы неловкая! Вы разорвали мне сеточку для волос.
— Очень сожалею, мадам, — послышался прерывистый голос Мидж.
— Как же вы бестолковы и неповоротливы! — Голос замер, а затем: — Нет уж, лучше я сама… Мой пояс, пожалуйста.
— Мизз Хардказзл через минуту озвободится, — произнесла мадам Элфридж, и улыбка ее стала хитрой и злобной.
Из кабинки вышла женщина с волосами песочного цвета и дурным настроением. Держа в руках множество свертков, она с гневным видом направилась к выходу. Мидж, в строгом черном платье, открыла ей дверь. Она выглядела бледной и несчастной.
— Я пришел пригласить вас на ленч, — без всяких предисловий сказал Эдвард.
Мидж бросила быстрый взгляд на часы.
— Я освобожусь не раньше, чем в четверть второго.
Часы показывали десять минут первого.
— Вы можете идти, если хотите, мизз Хардказзл, раз важ друг прижел за вами, — милостиво изрекла мадам.
— О, благодарю вас, мадам Элфридж. — Мидж повернулась к Эдварду: — Через минуту я буду готова, — и скрылась в глубине магазина.
Эдвард, вздрогнувший от язвительного тона, каким мадам Элфридж произнесла слово «друг», стоял, беспомощно ожидая Мидж. Мадам Элфридж только собралась сказать какую-то двусмысленность, как в магазин вошла пышная женщина с китайским мопсом. Деловой инстинкт мадам Элфридж немедленно увлек ее к новой клиентке. Мидж, уже в пальто, подошла к Эдварду, и он, взяв ее за локоть, поспешил увести.
— Господи! — воскликнул он. — И с этим вы должны мириться?! Я слышал эту мерзкую женщину, которая разговаривала с вами за занавеской. Как вы можете это терпеть, Мидж! Почему вы не швырнули ей в лицо это проклятое платье?
— Если бы я это сделала, то тут же лишилась работы.
— Неужели вам не хочется швырнуть чем-нибудь в подобных женщин?
Мидж глубоко вздохнула.
— Конечно, хочется. Особенно в конце недели во время летней распродажи, когда меня просто охватывает страх, что я не выдержу и в один прекрасный день вместо «Да, мадам», «Нет, мадам», «Я посмотрю, есть ли еще что-нибудь у нас, мадам»… я пошлю их всех к дьяволу.
— Мидж, дорогая малышка Мидж, вы не должны мириться со всем этим.
Мидж неуверенно засмеялась.
— Не расстраивайтесь так, Эдвард! Что это вдруг вы пришли сюда? Почему не позвонили?
— Мне хотелось взглянуть самому. Я беспокоился… — Он помолчал, а затем неожиданно вскипел: — Господи, Люси даже со своей судомойкой не разговаривает так, как эта женщина говорила с вами! Нет, это никуда не годится — терпеть подобную наглость. Боже мой, Мидж, я хотел бы увезти вас от всего этого в Эйнсвик. Взял бы такси и повез прямо на вокзал. Поезд в два пятнадцать.
Мидж остановилась, напускное безразличие мигом слетело с нее. Позади длинное утомительное утро с несносными покупательницами, грубые выходки мадам… С внезапной вспышкой гнева Мидж набросилась на Эдварда:
— Ну так почему бы вам этого не сделать? Вокруг полно такси!
Эдвард смотрел на нее, изумленный этим неожиданным порывом.
— Зачем вы пришли? Что вы такое говорите? Вы же ничего подобного не собираетесь делать! Думаете, вы утешили меня, напомнив, что среди этого повседневного ада есть на свете такое место, как Эйнсвик? Вы ждете от меня благодарности за то, что стоите здесь и лепечете о том, как бы вам хотелось увезти меня отсюда! Все это звучит очень мило, но на самом деле вы этого совсем не хотите. Или вы не знаете, что я продала бы душу ради того, чтобы вскочить в этот самый поезд и уехать в Эйнсвик? Мне невыносимо даже думать об Эйнсвике, понимаете? Вы хотите добра, Эдвард, но вы жестоки! Одни слова… только слова!
Они стояли друг против друга, на Шефтсбери-авеню, мешая спешащим на ленч прохожим. Но они видели только друг друга. Эдвард смотрел на Мидж так, словно его неожиданно разбудили после долгого сна.
— Хорошо, черт побери! — сказал он. — Вы поедете в Эйнсвик поездом в два пятнадцать!
Взмахнув тростью, он остановил проходившее мимо такси. И открыл дверцу. Мидж, слегка ошеломленная, забралась в машину.
— Вокзал Паддингтон[206],— сказал Эдвард водителю, усаживаясь рядом с Мидж.
Оба молчали. Губы Мидж были плотно сжаты, взгляд дерзкий и непокорный. Эдвард упорно смотрел перед собой. Когда они остановились у светофора на Оксфорд-стрит[207], Мидж сказала:
— Кажется, я заставила вас блефовать.
— Это не блеф, — коротко ответил Эдвард.
Такси рывком снова устремилось вперед. Только когда машина свернула на Кэмбридж Террас, Эдвард пришел в себя.
— Мы не успеем на два пятнадцать, — сказал он и постучал по стеклу водительской кабины: — Поехали к «Баркли»[208].
— Почему мы не успеем? — холодно спросила Мидж. — Сейчас еще только двадцать пять минут второго.
Эдвард улыбнулся.
— У вас нет с собой никаких вещей, малышка Мидж. Ни ночной рубашки, ни зубной щетки, ни обуви, удобной для прогулок. Как вы знаете, еще есть поезд в четыре пятнадцать. Сейчас мы за ленчем все обсудим.
— Как это похоже на вас, Эдвард, — вздохнула Мидж. — Всегда помнить практическую сторону. Вы не умеете терять голову, не так ли? Ну что ж, это был прекрасный, хоть и короткий сон.
Мидж вложила в ладонь Эдварда свою руку и улыбнулась прежней улыбкой.
— Простите, на улице я вела себя как рыночная торговка из рыбных рядов, — сказала она. — Но знаете, Эдвард, вы были несносны!
— Да, — сказал он. — Пожалуй!
С легким сердцем они вошли в «Баркли», расположились за столиком у окна, и Эдвард заказал чудесный ленч.
Покончив с курицей, Мидж вздохнула.
— Мне пора. Мое время кончилось.
— Сегодня вы не будете торопиться, даже если мне придется скупить ради этого половину платьев в вашем магазине.
— Вы очень милы, Эдвард!
После crepes suzette[209] официант принес кофе. Помешивая ложечкой сахар, Эдвард тихо спросил:
— Вы действительно так любите Эйнсвик?
— Не надо об Эйнсвике! Я так разочарована, что мы не уехали поездом в два пятнадцать и, конечно, на четыре пятнадцать нам тоже уже не успеть… Зачем сыпать соль на рану?
Эдвард улыбнулся.
— Я не приглашаю вас на поезд в четыре пятнадцать… Я предлагаю отправиться в Эйнсвик… насовсем… если вы, конечно, сможете терпеть меня.
Мидж посмотрела на него поверх кофейной чашки… потом медленно опустила ее, стараясь сдержать дрожь в руке.
— Что вы имеете в виду, Эдвард?
— Я предлагаю вам, Мидж, выйти за меня замуж. Не думаю, что это очень романтичное предложение. Человек я нудный, я это знаю, и не очень-то к чему-либо пригодный… Читаю книги и слоняюсь без дела. Но, хоть я и не слишком яркая личность, мы знаем друг друга много лет, и надеюсь, что Эйнсвик сам по себе будет компенсацией. Я думаю, вы будете счастливы в Эйнсвике. Вы согласны?
У Мидж сдавило горло, раз, другой…
— Я думала… Генриетта… — сказала она и остановилась.
— Да, — ответил Эдвард. Голос его был ровный и бесстрастный. — Я четыре раза просил Генриетту выйти за меня замуж, и каждый раз она мне отказывала. Генриетта твердо знает, чего она не хочет.
В наступившей тишине Эдвард спросил:
— Ну так как же, Мидж?
Мидж посмотрела на него. У нее перехватило дыхание.
— Кажется просто невероятным… когда предлагают блаженство на блюдечке… в «Баркли»!
Лицо Эдварда озарилось. На мгновение он прикрыл руку Мидж своей.
— Блаженство на блюдечке! — повторил он. — Значит, вы так думаете об Эйнсвике. О Мидж! Я очень рад!
Счастливые, они посидели еще немного. Эдвард заплатил по счету, добавив чудовищные чаевые.
Посетители в ресторане поредели.
— Нам пора, — с усилием сказала Мидж. — Я думаю, мне лучше вернуться к мадам Элфридж. В конце концов, она на меня рассчитывает. Я ведь не могу просто взять и уйти.
— Конечно. Я думаю, надо вернуться и отказаться от должности, или заявить об уходе, или как там это называется… Ты не будешь больше там работать. Я этого не хочу. Но прежде всего мы отправимся в один из магазинов на Бонд-стрит[210], где продают кольца.
— Кольца?!
— Так ведь принято.
Мидж засмеялась.
В неярком свете ювелирного магазина Мидж и Эдвард склонились над крытыми бархатом подставками с рядами сверкающих обручальных колец. Предупредительный продавец доброжелательно наблюдал за ними.
— Нет. Не изумруды! — сказал Эдвард, отодвинув бархатную подставку.
Генриетта в зеленом твиде… Генриетта в вечернем платье, словно из китайского жадеита…[211] Нет, не изумруды… Мидж постаралась заглушить острый укол боли в сердце.
— Выбери за меня, — сказала она Эдварду.
Он снова склонился над прилавком. Наконец он выбрал кольцо с одним бриллиантом, не очень большим, но прекрасного цвета и блеска.
— Мне нравится это.
Мидж кивнула. Выбор свидетельствовал о безошибочном, изысканном вкусе. Она надела кольцо на палец. Эдвард и продавец, откинув головы назад, смотрели, как оно выглядит на руке. Эдвард выписал чек на 342 фунта и, улыбаясь, вернулся к Мидж.
— Ну а теперь пойдем и хорошенько нагрубим твоей мадам Элфридж, — сказал он.
Глава 25
— Мои дорогие, я просто в восторге! — Леди Энкейтлл протянула изящную руку Эдварду, а другой слегка коснулась Мидж. — Ты поступил совершенно правильно, Эдвард, заставив ее бросить этот ужасный магазин и приехать сюда. Мидж, разумеется, останется здесь, отсюда и выйдет замуж… Церковь Святого Георга, три мили по дороге, хотя лесом всего одна миля, но, через лес не ходят венчаться. И я полагаю, должен быть викарий…[212] да, но у бедняги такие отвратительные простуды каждую осень… тогда как у его помощника типично англиканский голос, так что вся церемония будет более торжественной и к тому же более религиозной, вы понимаете, что я имею в виду? Так невероятно трудно сохранять благоговейное состояние, если говорят в нос.
В общем, это был типично «Люсиобразный» прием! Мидж хотелось смеяться и плакать одновременно.
— Я очень хочу быть выданной замуж отсюда, — сказала она.
— В таком случае решено, дорогая! Белый, чуть кремоватый атлас… и, я думаю, молитвенник в переплете цвета слоновой кости, а не букет! Шаферы?
— Нет. Я не хочу никакой суеты. Просто скромное венчание.
— Понимаю, дорогая… и, думаю, ты права. Осенняя свадьба — почти всегда хризантемы. Мне кажется, хризантема — такой… не вдохновляющий цветок. Подобрать подружек невесты очень трудно, это требует стольких усилий и времени. Как правило, какая-нибудь из них жутко некрасива и портит всю картину, но ее обязаны включить в церемонию, потому что обычно она — сестра жениха. Впрочем, — леди Энкейтлл просияла, — у Эдварда нет сестер.
— Что ж, очко в мою пользу, — улыбнулся Эдвард.
— Но хуже всего на свадьбе — дети, — продолжала свою мысль леди Энкейтлл. — Все говорят: «Ах, как мило!» Но, дорогая, сколько волнений! Они наступают на шлейф или ревут, зовут свою няню, к тому же их довольно часто тошнит… Я просто удивляюсь, как это невесте удается войти в церковный притвор в соответствующем событию состоянии духа, не ведая, что творится у нее за спиной.
— За моей спиной вообще может ничего не быть, — весело сказала Мидж. — Даже шлейфа. Я могу венчаться в жакете и юбке.
— О нет, Мидж, это совсем по-вдовьи! Нет, чуть кремоватый атлас, и, конечно, не от мадам Элфридж.
— Разумеется нет! — вставил Эдвард.
— Я отвезу тебя к Мирей, — сказала леди Энкейтлл.
— Дорогая Люси, я не могу себе позволить Мирей!
— Чепуха, Мидж. Генри и я дадим тебе приданое. И Генри, разумеется, будет посаженым отцом. Надеюсь, пояс на его брюках не будет слишком тугим. Прошло почти два года с тех пор, как он последний раз был на свадьбе. А я надену платье…
Леди Энкейтлл остановилась и закрыла глаза.
— Да, Люси?
— Цвета голубой гортензии, — увлеченно заявила леди Энкейтлл. — Надеюсь, Эдвард, шафером будет один из твоих друзей. Кроме того, непременно позовем Дэвида. Я невольно думаю о том, что это было бы очень хорошо для него! Это придаст ему уверенности, понимаете, и он почувствует, что все мы любим его. А это, мне кажется, очень важно для Дэвида. По-моему, можно впасть в уныние, если, несмотря на ум и образованность, ты никому не нравишься. Но, с другой стороны, взять Дэвида в дружки просто рискованно. Он почти наверняка потеряет кольцо или уронит его в последнюю минуту. И Эдвард будет все время беспокоиться. Хотя, разумеется, было бы практичнее ограничиться теми же людьми, которые были здесь во время убийства.
Последние слова были произнесены леди Энкейтлл самым обыденным тоном.
— В этом осеннем сезоне леди Энкейтлл использует убийство в качестве развлечения для узкого круга родственников, — не удержалась Мидж.
— Да, — задумчиво сказала леди Энкейтлл, — пожалуй, и в самом деле все выглядело именно так. Гости решили пострелять. И вот вам результат!
Мидж вздрогнула.
— Ну что же, во всяком случае, теперь это уже в прошлом.
— Не совсем… слушание только отложено. А подчиненные этого милого инспектора Грэйнджа заполонили всю усадьбу, в каштановой роще распугали всех фазанов, идешь, а в самых неподходящих местах перед тобой выскакивают полицейские точно чертики из сувенирных шкатулок.
— Что они ищут? — спросил Эдвард. — Револьвер, которым был убит Кристоу?
— Вероятно. Они даже явились в дом с ордером на обыск… Инспектор приносил извинения по этому поводу и был очень смущен, но я сказала, что мы будем в восторге! В самом деле, это так интересно. Они осмотрели абсолютно все. Я, знаете ли, ходила следом за ними и подсказала два-три места, которые им и в голову не могли прийти. Но они ничего не нашли. Очень были разочарованы. Бедняга инспектор даже осунулся и все тянет и тянет вниз свои усы. Жене следовало бы кормить инспектора посытнее… Но мне кажется, что она из тех женщин, которые больше заботятся о том, чтобы паркет был хорошо натерт, чем о вкусном обеде. Это напомнило мне, что надо повидать миссис Медуэй. Удивительно, слуги совершенно не переносят присутствия полиции в доме. Суфле и пирожные всегда выдают их душевное состояние. Если бы не Гаджен, который держит всех в руках, боюсь, половина слуг разбежалась бы. Почему бы и вам не погулять и не помочь полицейским искать револьвер?
Эркюль Пуаро сидел на скамье, откуда видна была каштановая роща над бассейном. Теперь он не испытывал чувства неловкости, так как леди Энкейтлл сказала ему, что он может ходить по территории усадьбы где только ему вздумается. Очень мило с ее стороны. Как раз над этой любезностью леди Энкейтлл задумался в этот момент Пуаро.
Время от времени до него доносился хруст сушняка под ногами, иногда мелькали фигуры подчиненных инспектора Грэйнджа, прочесывающих рощу. На тропинке, ведущей к дороге, показалась Генриетта. Увидев Пуаро, она на мгновение остановилась, но потом подошла и села рядом.
— Доброе утро, мосье Пуаро! Я только что наведывалась к вам, но вас не было. У вас очень величественный вид. Это вы руководите поисками? Инспектор необыкновенно энергичен. Что они ищут? Револьвер?
— Да, мисс Сэвернейк.
— Как вы думаете, они его найдут?
— Думаю, что да. Теперь, вероятно, уже скоро.
Она вопросительно посмотрела на него.
— Вы что же, знаете, где он находится?
— Нет. Но думаю, что скоро револьвер найдется. Наст ало время, чтобы он нашелся.
— Вы говорите странные вещи, мосье Пуаро!
— Но здесь и происходят странные вещи. Вы очень скоро вернулись из Лондона, мадемуазель.
Лицо Генриетты посуровело, но потом она коротко и горько засмеялась.
— Убийца возвращается на место своего преступления? Это старое поверье, не правда ли? Значит, вы в самом деле считаете, что я… это сделала? Вы не поверили мне, когда я говорила вам, что не стала бы… не смогла бы убить кого-либо?
Пуаро ответил не сразу.
— Мне с самого начала показалось, что в этом преступлении уж слишком все просто — настолько просто, что в это трудно поверить, — сказал он наконец. — А простота, мадемуазель, может сбивать с толку… Либо оно невероятно сложное, иными словами, нам противостоит ум, способный на сложные, оригинальные замыслы, так что каждый раз, когда нам кажется, что мы приближаемся к истине, нас всяческими уловками уводят в сторону и загоняют в тупик. Эта очевидная тщетность поисков не случайна. Она специально запланирована. Действует очень тонкий, изобретательный ум… и действует успешно.
— Какое, однако, это имеет отношение ко мне? — спросила Генриетта.
— Ум, действующий против нас, — созидательный, творческий ум, мадемуазель.
— Понимаю… Вот почему вы подумали обо мне. — Она замолчала. Губы ее были плотно сжаты, у рта — горькая складка. Она вынула карандаш и, задумчиво хмурясь, машинально рисовала контуры причудливого дерева на белой поверхности скамьи.
Пуаро наблюдал за ней. Что-то шевельнулось в его памяти… Гостиная леди Энкейтлл в день убийства… стопка фишек для бриджа… Железный столик в павильоне около бассейна и разговор инспектора с Гадженом.
— Это дерево вы нарисовали на вашей фишке во время игры в бридж.
— Да. — Генриетта вдруг заметила, что она делала. — Игдрасиль, мосье Пуаро. — Она засмеялась.
— Почему вы его так называете?
Генриетта рассказала, как родился Игдрасиль.
— Значит… Когда вы задумываетесь и начинаете машинально рисовать… вы всегда рисуете Игдрасиль?
— Да. Странно, не правда ли?
— Здесь на скамье… на фишке в субботу вечером… и в павильоне утром в воскресенье…
Рука, державшая карандаш, напряглась и замерла.
— В павильоне? — спросила Генриетта безразличным тоном.
— Да, на круглом железном столике.
— О, должно быть… в субботу после полудня.
— Нет, не в субботу после полудня. Когда Гаджен убрал бокалы из павильона около двенадцати часов в воскресенье, на столе не было никаких рисунков. Я спрашивал его, он помнит точно.
— Тогда, — она запнулась лишь на мгновение, — верно, в воскресенье после полудня.
Продолжая все так же любезно улыбаться, Пуаро покачал головой.
— И это едва ли. Все это время люди инспектора Грэйнджа были возле бассейна, — фотографировали тело, доставали из воды револьвер. Они не уходили до темноты и обратили бы внимание на любого, кто зашел бы в павильон.
— Я вспомнила, — медленно сказала Генриетта, — я вышла одна довольно поздно вечером… после обеда…
— Люди не рисуют, задумавшись, в темноте, мисс Сэвернейк, — резко сказал Пуаро. — Вы хотите сказать, что отправились ночью в павильон, чтобы в кромешной тьме рисовать на столике дерево?
— Я говорю вам правду, — спокойно ответила Генриетта. — Естественно, вы не верите. У вас свое собственное мнение. Ну и что же вы думаете по этому поводу?
— Полагаю, что вы были в павильоне в воскресенье утром, после двенадцати часов, когда Гаджен уже унес бокалы из павильона. Что вы стояли у стола, наблюдая за кем-то или кого-то ожидая, и механически, вынув карандаш, нарисовали Игдрасиль, не замечая, что вы делаете.
— Я не была в павильоне в воскресенье утром. Я немного посидела на террасе, потом, взяв садовую корзинку, пошла к георгинам, срезала засохшие цветы и привела в порядок астры. А где-то в час пошла к бассейну. Я уже говорила об этом инспектору Грэйнджу. Я и близко не подходила к бассейну до часа дня, как раз когда был убит Джон.
— Это ваша версия, — сказал Пуаро, — но Игдрасиль, мадемуазель, свидетельствует против вас.
— Значит, я была в павильоне, и я убила Джона. Вы это имеете в виду?
— Вы были там, и вы убили Джона Кристоу, или вы были там и видели, кто убил доктора Кристоу, или кто-то другой был там, кто знал об Игдрасиле и специально нарисовал его на столе, чтобы бросить подозрение на вас.
Генриетта встала. Она обернулась к нему, вздернув подбородок.
— Вы все еще думаете, что я убила Джона Кристоу, и надеетесь, что можете доказать это. Ну так вот: вы никогда этого не докажете. Никогда!
— Вы считаете, что вы умнее меня?
— Не докажете! — повторила Генриетта и, повернувшись, ушла вниз по извилистой дорожке, ведущей к плавательному бассейну.
Глава 26
Инспектор Грэйндж зашел в «Тихую гавань» выпить чашечку чаю с Эркюлем Пуаро. Чай был именно такой, какого опасался Грэйндж: невероятно слабый и к тому же китайский.
«Эти иностранцы, — думал инспектор, — не умеют даже заварить чай… и научить их невозможно». Вообще-то ему было все равно. Он был в таком состоянии, когда каждая неприятная мелочь усугубляет и без того отвратительное настроение.
— Послезавтра повторное слушание, — сказал он, — а чего мы добились? Решительно ничего. Черт побери, должен же где-нибудь быть этот револьвер! Просто проклятущее место… десятки миль леса! Понадобится целая армия, чтобы обыскать все как следует. Все равно что иголка в стоге сена! Он может быть где угодно. Что ни говорите, но это факт — мы можем никогда его не найти.
— Вы его найдете, — доверительно сказал Пуаро.
— Да уж очень бы хотелось!
— Найдете, раньше или позже. Я бы даже сказал — скорее раньше. Еще чашечку?
— Не возражаю… нет-нет, кипятка не надо!
— Не слишком крепкий?
— О нет, не слишком!
Мрачно, мелкими глотками инспектор прихлебывал бледную, соломенного цвета жидкость.
— Из меня сделали шута, мосье Пуаро… Шута! Не могу понять этих людей. Они как будто помогают… Но все, что они говорят, уводит тебя прочь… какая-то погоня за химерами![213]
— Уводит прочь, — повторил Пуаро. В его глазах появилось выражение удивления. — Да, конечно! Прочь…
Инспектор продолжал изливать свои обиды:
— Хотя бы этот револьвер… Кристоу был убит (согласно медицинскому заключению) за одну-две минуты до вашего появления. У леди Энкейтлл в руках была корзинка яиц; у мисс Сэвернейк — садовая корзинка, полная срезанных сухих цветов, а на Эдварде Энкейтлле была свободная охотничья куртка с большими карманами, набитыми патронами. Каждый из них мог унести с собой револьвер. Около бассейна он спрятан не был… это исключается, мои люди прочесали это место.
Пуаро кивнул. Грэйндж продолжал:
— Кто-то подстроил, чтобы подозрение пало на Герду Кристоу. Кто? Все вещественные доказательства прямо тают в воздухе.
— Ну, а объяснения, как каждый из них провел утро? Они удовлетворительны?
— Объяснения да, удовлетворительны. Мисс Сэвернейк работала в саду, леди Энкейтлл собирала на ферме яйца, Эдвард Энкейтлл и сэр Генри занимались стрельбой и расстались поздним утром: сэр Генри вернулся в дом, а Эдвард Энкейтлл направился сюда через лес. Юноша читал в спальне. Странное место для чтения в такой чудесный день, но он такой книгочей, что предпочитает сидеть в четырех стенах. Мисс Хардкасл с книгой ушла в сад. Все выглядит естественно, вполне натурально, и нет никакой возможности все это проверить. Гаджен вынес поднос с бокалами в павильон около двенадцати часов. Он не может сказать, кто где был и чем занимался. А в общем, знаете ли, что-то есть против каждого из них.
— В самом деле?
— Конечно, самая подходящая фигура — Вероника Крэй. Они поссорились с Кристоу, она его смертельно ненавидела, вполне вероятно, что она его убила… но я не могу найти ни на йоту доказательств, что именно она это сделала. Нет доказательств, что у нее была возможность взять револьвер из коллекции сэра Генри, никто не видел, чтобы она шла к бассейну или от него в тот день, и пропавшего из коллекции револьвера у нее нет.
— О! Вы в этом убедились?
— А как вы думаете! Можно было получить разрешение на обыск, но в этом не было надобности. Она была очень любезна. Мы все перерыли в ее бунгало — револьвера нигде нет. После того как слушание было отложено, мы сделали вид, что оставили в покое мисс Крэй и мисс Сэвернейк, но, конечно, следили за тем, куда они ходили и что делали. Наш человек следил за Вероникой Крэй. Никаких попыток спрятать револьвер не обнаружено.
— А Генриетта Сэвернейк?
— Тоже ничего. Она вернулась прямо в Челси[214], и мы с тех пор следили за ней. Револьвера нет ни у нее, ни в ее студии. Во время обыска она держалась очень мило. Ее это вроде даже забавляло. Кое-что из ее чудных скульптур просто ошарашило полицейского. Он говорил потом, что не может понять, почему людям хочется делать такие вещи… комки глины, налепленные как попало; причудливо перекрученные куски меди и алюминия; лошади такие, что узнать невозможно…
Пуаро слегка шевельнулся:
— Вы говорите, лошади?
— Ну, не лошади… одна лошадь. Если это можно назвать лошадью! Если хочешь изобразить лошадь, почему бы не пойти и не посмотреть, какая она на самом деле!
— Лошадь, — повторил Пуаро.
— Что вас так заинтересовало, Пуаро? — повернулся к нему Грэйндж. — Не понимаю!
— Так… Ассоциация…
— Ассоциация с чем? Лошадь и телега. Лошадка-качалка? Попона? Нет, не понимаю. Как бы то ни было, через день-другой мисс Сэвернейк собралась и снова приехала сюда. Вы об этом знаете?
— Да, я говорил с ней и видел, как она ходила по лесу.
— Нервничает? Ну что ж. Она была влюблена в доктора, и он произнес ее имя перед смертью… Весьма серьезные поводы для обвинения, серьезные, но недостаточные, мосье Пуаро.
— Вы правы, — задумчиво сказал Пуаро. — Недостаточно близко.
— Какая-то здесь атмосфера… Чувствуешь себя совершенно сбитым с толку! Леди Энкейтлл… она так и не смогла объяснить, зачем взяла с собой в тот день револьвер. Это же просто ненормально!.. Иногда я думаю, что она сумасшедшая.
Пуаро слегка покачал головой.
— Нет, — сказал он, — она не сумасшедшая.
— Или, например, Эдвард Энкейтлл. Я думал, что-то водится за ним. Леди Энкейтлл сказала… нет, намекнула, что он уже несколько лет влюблен в Генриетту. Чем не повод? А теперь я узнаю, что он помолвлен совсем с другой девушкой… мисс Хардкасл… Так что… пуфф! Обвинение против него тоже рассыпалось.
Пуаро пробормотал что-то сочувственное.
— Или этот молодой парень, — продолжал инспектор. — Леди Энкейтлл обронила что-то о нем. Его мать как будто умерла в психиатрической лечебнице… мания преследования… думала, что все сговорились ее убить. Сами понимаете, что это может означать. Если парень унаследовал патологическую наклонность, у него могли появиться какие-то идеи, связанные с доктором Кристоу. Может быть, он решил, что доктор собирается сообщить родным о его болезни? Хотя Кристоу был совсем другим доктором. Нервные расстройства пищеварительного тракта и заболевания сверх… сверх чего-то там… Это специализация Кристоу. Но парень немного не в себе, он мог вообразить, что Кристоу пригласили, чтобы наблюдать за ним. Этот парень очень странно себя ведет. Нервный, как кошка.
Грэйндж с печальным видом умолк.
— Вы понимаете, что я имею в виду, мосье Пуаро? Все эти наши подозрения… никуда не ведут.
Пуаро снова шевельнулся.
— Удаляют… а не приближают. «От», а не «к». Да, разумеется, именно так.
Грэйндж с удивлением смотрел на него.
— Все они какие-то странные, — сказал инспектор, — все Энкейтллы. Иногда я готов поклясться, что они прекрасно знают, кто убил доктора.
— Они и в самом деле знают, — спокойно подтвердил Пуаро.
— Вы хотите сказать, что они знают, кто убийца? — недоверчиво спросил инспектор.
Пуаро кивнул.
— Да. Знают. Я давно это подозревал. А сейчас я вполне уверен.
— Понятно. — Лицо инспектора было очень хмурым. — И сговорились все скрывать? Ну ничего, я еще до них доберусь. Я найду этот револьвер.
«Дался ему этот револьвер», — подумал Пуаро.
— Я бы все отдал, чтобы расквитаться с ними, — со злостью продолжал Грэйндж.
— С кем?
— Да с этой семейкой! Морочат голову! Подсказывают всякие глупости! Намекают! Помогают моим людям… помогают! Пауки! Все плетут свою паутину… Попробуй тут прорваться! Ничего существенного! Мне нужен хоть один надежный факт!
Эркюль Пуаро пристально смотрел в окно. Взгляд его привлекла чуть заметная брешь в живой изгороди вокруг его владения.
— Вам нужен надежный факт? — обратился он к инспектору. — Eh bien[215], если я не ошибаюсь, именно такой надежный факт сейчас находится внутри изгороди возле моей калитки.
Они пошли по садовой дорожке. Грэйндж стал на колени и начал раздвигать ветки, пока полностью не открылось то, что было втиснуто между ними. Инспектор глубоко вздохнул, когда показалось что-то черное и стальное.
— Да, это револьвер, — сказал он, и на какое-то мгновение его взгляд с подозрением остановился на Пуаро.
— Нет-нет, друг мой! — воскликнул Пуаро. — Я не убивал доктора Кристоу и не прятал никаких револьверов в собственном доме.
— Конечно нет, мосье Пуаро! Простите! Наконец мы нашли его. Похоже, что он из кабинета сэра Генри. Это можно проверить, как только узнаем номер. Тогда можно будет установить, из этого ли оружия был застрелен Кристоу. Теперь, как говорится, тише едешь — дальше будешь.
С большой осторожностью инспектор шелковым платком извлек револьвер из кустов изгороди.
— Хорошо бы обнаружить отпечатки пальцев! Знаете, у меня такое впечатление, что наконец-то нам выпала удача.
— Дайте мне знать…
— Конечно, мосье Пуаро. Я позвоню вам.
Телефон Эркюля Пуаро звонил дважды. Первый раз — в тот же вечер.
— Это вы, мосье Пуаро? — послышался ликующий голос инспектора. — Вот вам секретная информация. Это действительно револьвер из коллекции сэра Генри, и тот самый, из которого был убит Джон Кристоу. Абсолютно точно! И на нем хороший набор отпечатков. Большой палец, указательный и частично средний. Я же вам говорил, что нам выпала удача!
— Вы установили отпечатки пальцев?
— Еще нет. Они безусловно не принадлежат миссис Кристоу. Ее отпечатки у нас есть. По размеру они больше похожи на мужские, чем на женские. Завтра я отправляюсь в «Лощину». Уж я скажу все, что я о них думаю, когда буду снимать отпечатки пальцев. И тогда, мосье Пуаро, все станет ясно.
— Будем надеяться, — вежливо сказал Пуаро.
Второй телефонный звонок раздался на следующий день, и голос в трубке уже не был ликующим.
— Хотите услышать последние новости? — мрачно спросил инспектор. — Отпечатки пальцев не принадлежат никому из тех, кто связан с преступлением! Нет, сэр! Ни Эдварду Энкейтллу, ни Дэвиду, ни сэру Генри! Представляете — никому! Ни Герде Кристоу, ни Генриетте Сэвернейк, ни нашей Веронике, ни ее сиятельству, ни маленькой темноволосой девушке, ни даже судомойке или кому-нибудь из других слуг!
Пуаро выразил сочувствие. Грустный голос инспектора Грэйнджа продолжал:
— Так что похоже все-таки, что это кто-то по-сторонний. Видимо, у кого-то были свои счеты с доктором. Но у кого? Этот невидимка стащил револьвер из кабинета и, совершив убийство, ушел по тропинке к дороге. Потом засунул револьвер в вашу изгородь и исчез.
— Друг мой, не хотите ли взять и мои отпечатки пальцев?
— Пожалуй, не стану возражать. Поразительно, мосье Пуаро! Ведь вы были на месте преступления и, вообще говоря, являетесь самой подозрительной личностью в этом деле!
Глава 27
Следователь откашлялся и выжидательно взглянул на старшину присяжных, который в свою очередь смотрел вниз на листок бумаги в руке. Кадык на его шее возбужденно ходил вниз и вверх. Он старательно читал: «Установлено, что смерть наступила в результате преднамеренного убийства. Убийца или убийцы не установлены».
Сидевший в углу у стены Пуаро энергично кивнул.
Другого решения у присяжных и быть не могло. Выйдя на улицу, Энкейтллы остановились поговорить с Гердой и ее сестрой. На Герде было все то же черное платье, на лице — такое же ошеломленное, несчастное выражение. На этот раз обошлось без «даймлера». Лучше ехать поездом, — объяснила Элси Паттерсон. Это гораздо надежнее. Если до Ватерлоо[216] ехать скорым, они вполне успеют на поезд, который отправляется в час двадцать до Бексхилл.
— Дорогая, — шептала леди Энкейтлл, пожимая руку Герды, — вы не должны терять с нами связь. Может быть, небольшой ленч когда-нибудь в Лондоне? Вы ведь будете иногда наезжать туда за покупками.
— Я… я не знаю, — ответила Герда.
— Нам следует поторопиться, дорогая, — сказала Элси Паттерсон, — наш поезд…
И Герда отвернулась от леди Энкейтлл с явным облегчением.
— Бедная Герда, — сказала Мидж. — Единственное благо, которое принесла ей смерть Джона, — это освобождение от твоего ужасного гостеприимства, Люси.
— Как нелюбезно с твоей стороны, Мидж! Никто не может обвинить меня в том, что я не старалась.
— Когда ты стараешься, Люси, ты становишься еще хуже.
— Ну, как бы то ни было, приятно думать, что все кончилось, не так ли? — Леди Энкейтлл озарила всех своей лучезарной улыбкой. — Только, конечно, не для бедного инспектора Грэйнджа. Мне его просто жаль. Как вы думаете, поднимется у него настроение, если мы пригласим его на ленч?
— По-моему, Люси, его лучше оставить в покое, — сказал сэр Генри.
— Пожалуй, ты прав, — задумчиво произнесла леди Энкейтлл. — К тому же сегодня совсем неподходящий для него ленч. Куропатка с капустой и вкуснейшее суфле «Сюрприз», которое миссис Медуэй так чудесно готовит. Совсем неподходящий ленч для инспектора. Солидный бифштекс, немного не дожаренный, и хороший старомодный яблочный пирог без всяких выдумок… или яблоки в тесте. Вот что я заказала бы для инспектора Грэйнджа.
— Твой инстинкт в отношении еды, Люси, всегда безошибочен. Я думаю, нам следует поспешить домой к куропаткам… Судя по всему, они должны быть восхитительны.
— Видишь ли, я полагала, что мы должны как-то отпраздновать! Просто чудесно, не правда ли, что всегда все поворачивается к лучшему!
— Да-а…
— Я знаю, Генри, о чем ты думаешь. Не беспокойся, я займусь этим сегодня же.
— Люси, что еще ты задумала?
Леди Энкейтлл улыбнулась.
— Не волнуйся, дорогой, просто нужно кое-что привести в порядок.
Сэр Генри с сомнением посмотрел на жену.
Когда они подъехали к «Лощине», Гаджен подошел открыть дверцы машины.
— Все прошло вполне удовлетворительно, Гаджен, — сказала леди Энкейтлл. — Передайте это миссис Медуэй и всем остальным. Я знаю, как неприятно все это было для вас, и я хотела бы сказать, что сэр Генри и я ценим проявленную вами преданность.
— Мы очень беспокоились за вас, миледи, — сказал Гаджен.
Проходя в малую гостиную, леди Энкейтлл сказала:
— Очень мило со стороны Гаджена, но совершенно напрасно. Я в самом деле получила удовольствие. Это так не похоже на то, к чему привык. Не кажется ли вам, Дэвид, что подобный опыт расширяет ваш кругозор? В Кембридже такого не увидишь.
— Я в Оксфорде, — холодно поправил Дэвид.
— Милые лодочные гонки…[217] Истинно по-английски, не правда ли? — рассеянно проговорила леди Энкейтлл и подошла к телефону. Она сняла трубку и, держа ее в руке, продолжала: — Надеюсь, Дэвид, вы снова приедете к нам погостить. Так трудно нормально общаться, когда в доме произошло убийство, не так ли? Тут уж не до интеллектуальных бесед.
— Благодарю вас, — ответил Дэвид, — но, надеюсь, вскоре я уеду в Афины… в Британскую школу.
— Кто там теперь послом? — обратилась к мужу леди Энкейтлл. — Ах да, Хоуп-Реммингтон, кто же еще. Нет, я не думаю, что он понравится Дэвиду. Его дочери так ужасающе энергичны… Они играют в хоккей и крикет и в эту странную игру, где вы должны ловить мяч сеткой.
Она вдруг замолчала, удивленно глядя на телефонную трубку.
— Зачем у меня эта штука?
— Наверное, ты хотела кому-то позвонить, — сказал Эдвард.
— Не думаю. — Она положила трубку на место. — Вам нравится телефон, Дэвид?
«Типичный для нее вопрос, — раздраженно подумал Дэвид. — Она постоянно задает вопросы, на которые невозможно дать разумный ответ». Он холодно сказал, что находит телефон полезным.
— Вы хотите сказать, как мясорубка? Или эластичные бинты? Все равно не…
Появившись в дверях, Гаджен объявил, что ленч подан, и фраза так и осталась незаконченной.
— Но куропаток-то вы любите? — озабоченно осведомилась леди Энкейтлл.
Дэвид нехотя признал, что куропаток он любит.
— Иногда мне кажется, что Люси и в самом деле немного не в себе, — сказала Мидж, когда, выйдя из дома, они с Эдвардом направились в лес.
Куропатки и суфле «Сюрприз» были превосходны, к тому же следствие закончилось, и тягостная атмосфера разрядилась.
— Я всегда полагал, — задумчиво сказал Эдвард, — что Люси обладает блестящим умом, который не разменивается на нудные фразы — как в игре, где нужно найти пропущенное слово. Если прибегнуть к метафоре — ее мысли прыгают, как молоток от гвоздя к гвоздю, но тем не менее всегда попадает точно по шляпке!
— Все равно, — трезво заметила Мидж, — иногда Люси меня пугает. — И, слегка вздрогнув, добавила: — Вообще в последнее время это место пугает меня.
— «Лощина»? — Эдвард повернул к ней удивленное лицо. — «Лощина» немного напоминает мне Эйнсвик. Хотя, конечно, что-то в ней ненастоящее…
— Вот именно, Эдвард, — перебила его Мидж. — А я боюсь всего ненастоящего… Неизвестно, что прячется за ним… Это похоже, о, это похоже на маску!
— Не нужно давать волю своей фантазии, малышка Мидж!
Опять этот снисходительный тон, каким он разговаривал с ней много лет назад. Тогда это ей нравилось, но теперь удручало. Нет, ей следует говорить яснее, он должен понять, что никакая это не фантазия, что ее смутные страхи совсем не напрасны.
— В Лондоне я как-то отвлеклась, но здесь всё снова вернулось. Я чувствую, что все знают, кто убил Джона Кристоу… Все, кроме меня.
— Почему мы должны думать и говорить о Джоне Кристоу? Его уже нет!
Мидж прошептала:
Он мертв, его больше нет, леди, Он мертв, его больше нет. В головах у него зеленый мох, Камень тяжелый — у ног[218].Мидж положила ладонь на руку Эдварда.
— Кто же убил его, Эдвард? Мы думали, что Герда… но это не так. Кто же в таком случае? Скажи мне, что ты думаешь? Это был кто-то совершенно посторонний?
— Все их предположения кажутся мне совершенно беспочвенными. Раз полиция не в состоянии найти убийцу или собрать достаточно доказательств, значит, нужно прекратить расследование… и избавить нас от этого гнетущего состояния.
— Да, но тогда мы не узнаем…
— А зачем нам знать? Что у нас с ним общего?
«У нас, у Эдварда и у меня? Ничего!» — подумала Мидж. Утешительная мысль. Она и Эдвард, теперь соединенные в единое целое. И все же… все же… Несмотря на то, что Джон Кристоу уже в могиле и над ним произнесены слова погребального обряда, все же он был зарыт недостаточно глубоко. «Он мертв, его больше нет, леди!» О Джоне Кристоу, однако, нельзя было сказать: «Он мертв, его больше нет», как бы ни хотел того Эдвард! Джон Кристоу продолжал оставаться здесь, в «Лощине».
— Куда мы идем? — спросил вдруг Эдвард.
Что-то в его тоне удивило Мидж.
— На вершину холма. Ты не против? — сказала она.
— Если ты хочешь.
Эдварду явно не хотелось этого. «Почему?» — удивилась Мидж. Обычно это была его любимая прогулка. Он и Генриетта почти всегда… Мысль будто щелкнула и сломалась. Он и Генриетта.
— Ты был здесь этой осенью?
— Мы гуляли здесь с Генриеттой — в тот приезд.
Оба замолчали. Поднявшись на вершину, они сели на ствол поваленного дерева.
«Может быть, здесь они сидели с Генриеттой», — подумала Мидж. Она машинально крутила обручальное кольцо на пальце. Бриллиант холодно сверкнул. Как Эдвард сказал тогда? «Только не изумруд!»
— Как хорошо снова оказаться в Эйнсвике на Рождество, — сделав над собой усилие, сказала Мидж.
Казалось, он не слышал. Он был далеко.
«Он думает о Генриетте и Джоне Кристоу», — решила Мидж.
Сидя здесь тогда, Эдвард сказал что-то Генриетте, или она сказала что-то ему. Генриетта, может быть, и не хочет связывать себя с ним, но он все еще принадлежит ей. «Он всегда будет принадлежать Генриетте», — подумала Мидж. Ее пронзила боль. Призрачно-счастливый мир, в котором она жила последнюю неделю, дрогнул и лопнул, как мыльный пузырь. «Я не могу так жить… зная, что он постоянно думает о Генриетте. Это невыносимо!»
Ветер дохнул сквозь деревья… Листья стали падать быстрее… золота почти не осталось, преобладал коричневый цвет.
— Эдвард!
Настойчивость в ее голосе словно разбудила Эдварда. Он повернул голову.
— Да?!
— Мне очень жаль, Эдвард. — Губы ее дрожали, но голос был ровный и сдержанный. — Я должна сказать… Это бесполезно. Я не могу выйти за тебя замуж. У нас ничего не получится, Эдвард.
— Но, Мидж… Эйнсвик, конечно…
Она перебила его:
— Я не могу выйти за тебя замуж из-за Эйнсвика, Эдвард! Ты… ты должен понять это.
Он вздохнул. Долгий, протяжный вздох, как эхо мертвых листьев, тихо скользящих вниз с ветвей.
— Я понимаю, — сказал он. — Да, я думаю, ты права.
— Было очень любезно, очень мило с твоей стороны сделать мне предложение, но из этого ничего хорошего не получится, Эдвард. Не получится.
Может, она слабо надеялась, что он станет возражать ей, попытается ее уговорить… Но он как будто чувствовал то же, что и она. Здесь, где рядом витала тень Генриетты, он, очевидно, тоже понимал, что все тщетно.
— Нет, — повторил он слова Мидж, — ничего не получится.
Мидж сняла с пальца кольцо и протянула его Эдварду. Она всегда будет любить Эдварда, а Эдвард всегда будет любить Генриетту, и жизнь будет — просто сущий ад!
— Это прекрасное кольцо, Эдвард, — сказала Мидж. У нее перехватило дыхание.
— Я хотел бы, чтобы ты оставила его себе, Мидж. Мне это было бы приятно.
Она покачала головой.
— Я не могу.
— Ты же знаешь, я больше никому его не отдам. Ей удалось сохранить ровный дружеский тон. Он не знал… Он никогда не узнает, что она чувствовала. Блаженство на блюдечке… Но блюдечко разбилось, а блаженство скользнуло между пальцев или, может быть, его там никогда и не было.
В тот день, после полудня, Эркюлю Пуаро нанес визит еще один человек. К нему уже приходили Генриетта Сэвернейк и Вероника Крэй. На этот раз явилась леди Энкейтлл. Она проплыла по дорожке к дому, как всегда по-неземному, легкая, и воздушная.
Пуаро открыл дверь — леди Энкейтлл, улыбаясь, стояла у порога.
— Я пришла повидать вас, — заявила она. Совсем как фея, одарившая своим присутствием простого смертного.
— Я польщен, мадам!
Он проводил ее в гостиную. Леди Энкейтлл опустилась на диван и снова улыбнулась.
«Она стара… — подумал Эркюль Пуаро, — у нее седые волосы и морщины на лице… И все-таки в ней есть какое-то волшебное очарование… И оно не подвластно возрасту…»
— Я хочу попросить вас об одолжении, — сказала она тихо.
— Да, мадам?
— Прежде всего, я должна поговорить с вами о докторе Кристоу.
— О докторе Кристоу?
— Да. Мне кажется, единственный выход — положить всему этому конец. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли?
— Я в этом не уверен, леди Энкейтлл.
Она снова озарила его чарующей ослепительной улыбкой и положила тонкую белую руку на его рукав.
— Дорогой мосье Пуаро, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Полиция поохотится еще какое-то время за владельцем этих отпечатков пальцев, никого не найдет и в конце концов вынуждена будет закрыть дело. Но мне кажется, что вы этого так не оставите.
— Нет, не оставлю.
— Я угадала. Поэтому я и пришла. Вы хотите знать правду, не так ли?
— Разумеется, я хочу знать правду.
— Я вижу, что недостаточно ясно выразилась. Я пытаюсь понять, почему вы не хотите прекратить следствие. Полагаю, тут дело не в амбициях… или в желании довести убийцу до петли… Я всегда считала это таким неприятным видом казни… таким средневековым. Я думаю, что вы просто хотите знать. Вы понимаете, что я имею в виду, не так ли? Если бы вы знали правду… если бы вам сказали правду, я думаю… я полагаю, может быть, это удовлетворило бы вас. Удовлетворит это вас, мосье Пуаро?
— Вы можете открыть мне правду, леди Энкейтлл?
Она кивнула.
— Значит, вы знаете правду?
Она широко раскрыла глаза.
— О да, я давно знаю. Я могла бы все вам сказать. И… и мы решили бы… что все закончено.
Она улыбнулась.
— Вы согласны, мосье Пуаро?
— Нет, мадам, не согласен.
Пуаро пришлось сделать немалое усилие над собой, чтобы сказать это. Ему хотелось… очень хотелось оставить все как есть… потому что об этом его просила леди Энкейтлл.
Секунду она сидела не двигаясь. Потом подняла брови.
— Хотела бы я знать, — сказала она, — хотела бы я знать, понимаете ли вы, что делаете?
Глава 28
Без сна, с сухими глазами Мидж лежала в темноте, беспокойно поворачиваясь на подушке.
Она услышала, как открылась дверь, послышались шаги в коридоре, мимо ее двери. Дверь открылась из комнаты Эдварда, и шаги были его.
Мидж включила лампу у кровати и посмотрела на часы, стоявшие около лампы на столике. Было без десяти минут три.
В такой час Эдвард прошел по коридору и спустился по лестнице… Странно.
В этот вечер все отправились спать в половине десятого. Она не могла уснуть и лежала с болью в сердце и воспаленными глазами.
Мидж слышала, как внизу пробили часы… под окном ее спальни кричала сова. Она чувствовала, как постепенно нарастает депрессия. «Я не могу больше, — стучало в висках, — я больше не могу… Опять наступает утро… И так изо дня в день!»
По своей воле она изгнана из Эйнсвика… самого прекрасного и самого дорогого места на земле, которое могло бы принадлежать ей. Но лучше изгнание, лучше одиночество, однообразное, тусклое существование, чем жизнь с Эдвардом и тенью Генриетты. До этого дня в лесу она не знала, что сможет ревновать так мучительно.
В общем, Эдвард никогда и не говорил, что любит ее. Привязанность, доброта, не больше; он никогда не притворялся. Она принимала такое положение вещей, пока не поняла, что значит жить с человеком, чье сердце и ум постоянно заняты другой. Тогда стало ясно: одной привязанности Эдварда ей недостаточно.
Эдвард прошел мимо ее двери, вниз по лестнице… Странно… Куда он направился? Тревога нарастала, наложившись на то постоянное беспокойство, которое вызывала в ней теперь «Лощина». Что делает Эдвард внизу в такой ранний час? Может, он вышел из дома?
Мидж не могла больше оставаться в бездействии… Она набросила халат и, взяв фонарик, вышла в коридор.
Было довольно темно, свет нигде не горел. Мидж подошла к лестнице. Внизу тоже было темно. Мидж сбежала вниз и, секунду поколебавшись, включила свет в холле. Никого. Входная дверь заперта. Мидж нажала на боковую дверь… тоже заперта.
Значит, Эдвард не выходил. Где же он?
Вдруг она подняла голову и втянула воздух. Запах газа… очень слабый запах газа. Обитая сукном дверь в коридор слегка приоткрыта. Мидж вышла в коридор и увидела слабую полоску света, у кухонной двери. Запах газа значительно усилился.
Мидж пробежала по коридору на кухню. Эдвард лежал на полу, сунув голову в духовку, газ был включен до отказа.
Мидж была девушкой быстрой и практичной. Она распахнула ставни, но не смогла открыть окно и тогда, обернув руку полотенцем, разбила стекло. Затем, стараясь не дышать, оттащила Эдварда от газовой плиты и закрыла кран.
Эдвард был без сознания и дыхание его было прерывистым, но Мидж знала, что он потерял сознание только что. Ветер, врываясь через разбитое окно и открытую дверь, быстро рассеял газ. Мидж подтащила Эдварда ближе к окну, где струя воздуха была сильнее. Она села на пол, обхватив его сильными, крепкими руками.
— Эдвард, Эдвард, Эдвард… — звала Мидж, вначале тихо, потом с возрастающим отчаянием.
Он шевельнулся, открыл глаза и посмотрел на нее.
— Духовка, — чуть слышно произнес он, и его взгляд остановился на ней.
— Я знаю, дорогой, но почему… Почему?
Эдварда охватила сильная дрожь, руки были холодные и безжизненные.
— Мидж?! — В голосе Эдварда были удивление и радость.
— Я слышала, как ты прошел мимо моей двери, — сказала она, — я не знала… спустилась вниз.
Эдвард глубоко вздохнул.
— Лучший выход из положения, — сказал он и добавил: — «Ньюс оф де Уорлд».
Мидж вначале не поняла, но потом вспомнила высказывание Люси в день, когда произошла трагедия.
— Но почему, Эдвард, почему… почему?
Он посмотрел на нее, и холодная пустота в его взгляде испугала Мидж.
— Потому что я понял, что никогда не был стоящим человеком. Вечный неудачник, обреченный на прозябание. Это люди, подобные Кристоу, умеют жить. Они добиваются успеха, и женщины восхищаются ими. Я — ничтожество, размазня. Я получил Эйнсвик, и у меня достаточно средств для жизни… иначе я бы пропал. Карьеры я не сделал… так и не стал приличным писателем. Генриетте я не нужен. Я никому не нужен. Тогда… в «Баркли»… я было подумал… Но получилось то же самое. Тебе, Мидж, я тоже безразличен. Ты не можешь принять меня даже ради Эйнсвика. Поэтому я решил, что лучше уж уйти совсем.
— Дорогой мой, дорогой… — слова вырывались стремительно. — Ты не понял. Это из-за Генриетты… потому что я думала, ты все еще любишь Генриетту.
— Генриетта? — невнятно прошептал Эдвард, как будто говорил о ком-то невероятно далеком. — Да, я очень любил ее.
Мидж услышала, как он прошептал едва слышно:
— «Как холодно…»
— Эдвард… дорогой мой!
Руки Мидж крепче обхватили Эдварда. Он улыбнулся ей и прошептал:
— С тобой так тепло, Мидж, так тепло.
«Да, — подумала она, — это и есть отчаяние. Холод… бесконечный холод и одиночество». До сих пор она не знала, что отчаяние — это холод. Отчаяние представлялось Мидж чем-то горячим, страстным, даже неистовым. Здесь было совсем другое. Это отчаяние — полнейший мрак, холод и одиночество. Грех отчаяния, о котором говорят священники, это леденящий грех, когда человек отторгнут от теплых, живительных контактов с людьми.
— С тобой так тепло, Мидж! — снова повторил Эдвард.
И Мидж внезапно с гордой уверенностью подумала: «Ведь это именно то, что ему нужно… то, что я могу ему дать!» Все Энкейтллы холодные; даже в Генриетте есть нечто ускользающее, что-то от призрачной холодности эльфов, которая таится в крови Энкейтллов. Пусть Эдвард любит Генриетту как недосягаемую, неуловимую мечту. Но в чем он действительно нуждается — так это в теплоте, постоянстве, уверенности. И взаимопонимании, и любви, и смехе, звучащем в Эйнсвике.
«Эдварду нужно, чтоб кто-то зажег огонь в его камине, — подумала Мидж. — И это сделаю я».
Эдвард посмотрел на нее. Он увидел лицо Мидж, наклонившейся над ним, теплую смуглость ее кожи, крупный рот, спокойный взгляд, темные волосы, как два крыла осенявшие ее лоб.
Генриетту он всегда воспринимал как отражение прошлого. Во взрослой женщине он хотел видеть только семнадцатилетнюю девушку, свою первую любовь. Теперь же, глядя на Мидж, он испытывал странное чувство, так как видел как бы несколько Мидж сразу: школьницу с волосами, заплетенными в две косички; и женщину с темными волнами волос, обрамляющих сейчас ее лицо, и он явственно представил, как эти волны будут выглядеть, когда их тронет седина.
«Мидж, — думал он, — настоящая… Единственная. — Он чувствовал ее живительное тепло, силу… — Темноволосая, энергичная, настоящая! Мидж — вот опора, на которой я могу построить свою жизнь».
— Дорогая Мидж, — сказал он, — я люблю тебя. Не оставляй меня больше.
Она наклонилась, и он почувствовал на своих губах тепло ее губ, почувствовал, как ее любовь укрывает и защищает его, и счастье расцветает в холодной пустыне, где он так долго жил.
Мидж, внезапно рассмеявшись, сказала:
— Эдвард! Таракан вылез посмотреть на нас. Не правда ли, он очень славный? Вот уж никогда не думала, что черный таракан может мне так понравиться! Как необычна жизнь, — продолжала она задумчиво. — Мы сидим в кухне на полу, где все еще пахнет газом, рядом с тараканами и чувствуем себя так, будто мы в раю!
— Я готов остаться здесь навсегда, — мечтательно произнес Эдвард.
— А теперь нам лучше пойти поспать. Сейчас четыре часа. Что мы скажем Люси насчет разбитого окна?
«К счастью, — подумала Мидж, — как раз Люси можно спокойно все объяснить. Она поймет».
Следуя примеру Люси, Мидж вошла к ней в комнату в шесть часов утра и выложила без всяких прикрас все, как было.
— Эдвард ночью спустился вниз и положил голову в газовую духовку, — сказала она. — К счастью, я услышала его шаги и пошла за ним. Я разбила окно, потому что не смогла его быстро открыть.
Мидж не могла не признать, что Люси держалась просто великолепно. Она мило улыбнулась, будто не случилось ничего особенного.
— Мидж, дорогая, — сказала она, — ты всегда так практична! Я уверена, что ты будешь величайшим утешением и поддержкой для Эдварда.
Когда Мидж ушла, леди Энкейтлл некоторое время лежала, задумавшись. Потом она встала и направилась в комнату мужа, дверь которой на этот раз не была заперта.
— Генри!
— Дорогая! Еще первые петухи не пели!
— Нет, конечно. Но послушай, Генри, это в самом деле очень важно. Мы должны выбросить газовую плиту и установить электрическую.
— Почему? Она ведь хорошо работает, не правда ли?
— О да, дорогой. Но она внушает людям странные мысли, а ведь не каждый может быть таким практичным, как наша дорогая Мидж.
Она выскользнула из комнаты. Сэр Генри с ворчаньем перевернулся в кровати на другой бок. Он только начал было дремать, как внезапно проснулся.
— Мне приснилось, — проворчал он, — или Люси в самом деле приходила и что-то говорила о газовых плитах?
Следуя по коридору и увидев в открытую дверь газовую горелку, леди Энкейтлл решила поставить чайник. «Иногда, — подумала она, — людям нравится рано утром выпить чашку чаю».
Воодушевленная собственными рассуждениями, она вернулась в постель и опустилась на подушку, довольная жизнью и самой собой.
Эдвард и Мидж в Эйнсвике… следствие закончено… Она снова пойдет и поговорит с мосье Пуаро. Славный маленький человек.
Внезапно новая мысль сверкнула в ее мозгу. Она села в кровати.
«Интересно знать, — размышляла леди Энкейтлл, — подумала ли она об этом?»
Она опять поднялась с постели и проскользнула в комнату Генриетты, начав, по своему обыкновению, разговор еще до того, как подошла к двери.
— …И вдруг до меня дошло, дорогая, что ты могла не подумать об этом.
— Господи, Люси, — сонно пробормотала Генриетта. — Даже птицы еще не проснулись!
— О, я знаю, дорогая, еще довольно рано. Пожалуй, это была очень беспокойная ночь: Эдвард и газовая плита, Мидж и кухонное окно… мысли о том, что сказать мосье Пуаро, и все такое…
— Извини, Люси, но все, что ты говоришь, кажется мне абсолютнейшей тарабарщиной. Нельзя ли отложить это до утра?
— Кобура, дорогая! Понимаешь, я подумала, что ты могла забыть о кобуре.
— Кобура? — Генриетта села в кровати. Она вдруг совершенно проснулась. — Какая кобура?
— Понимаешь, револьвер Генри был в кобуре. И кобуру не нашли. Может быть, никто и не вспомнит о ней… но, с другой стороны, кто-то может…
Генриетта вскочила с постели.
— Недаром говорят — что-нибудь да забудешь! Леди Энкейтлл вернулась в свою комнату. Она легла в постель и быстро заснула.
Чайник на газовой плите закипел и продолжал кипеть.
Глава 29
Герда передвинулась ближе к краю кровати и села. Голова болела уже меньше, но она все же не жалела, что не отправилась вместе со всеми на пикник. Было так приятно и почти утешительно хоть немного побыть одной.
Элси, конечно, была очень добра… очень добра… особенно вначале. Герду убеждали не подниматься рано. Ей приносили завтрак на подносе. Каждый старался усадить ее в самое удобное кресло, поставить под ноги скамеечку, оградить от всех забот.
Все ей сочувствовали из-за Джона. Она с благодарностью подчинялась, окруженная этим молчаливым сочувствием. Ей не хотелось ни думать, ни чувствовать, ни вспоминать.
Но с каждым днем она все больше ощущала, что пора снова начинать жить и прийти к какому-то решению. Элси уже начала проявлять признаки нетерпения: «О Герда, не будь так медлительна!»
Все опять стало, как раньше… давным-давно, до того, как явился Джон и увез ее. Все они считали ее медлительной и тупой. Джона больше не было, и теперь никто ей не скажет: «Я буду заботиться о тебе».
Голова еще болела, и Герда подумала: «Пожалуй, я приготовлю себе чаю».
Она спустилась на кухню и поставила чайник. Когда он уже почти закипел, раздался звонок в дверь.
У прислуги был выходной день. Герда пошла открывать. Она очень удивилась, увидев щегольской автомобиль Генриетты и саму Генриетту, стоящую у порога.
— Генриетта? Вы? — воскликнула она, отступив назад. — Входите. Сестры и детей нет дома, но…
Генриетта перебила ее:
— Очень хорошо. Я рада. Мне хотелось застать вас одну. Послушайте, Герда, что вы сделали с кобурой?
Герда остановилась. Глаза ее вдруг стали пустыми и непонимающими.
— С кобурой? — переспросила она. Потом открыла дверь справа от холла. — Пройдите сюда. Боюсь, здесь довольно пыльно. У нас сегодня утром не было времени…
Генриетта снова резко перебила ее:
— Послушайте, Герда, вы должны сказать мне. Кроме кобуры, все в порядке… абсолютно! Ничего нет такого, что связывало бы вас с этим делом. Я нашла револьвер там, где вы засунули его в заросли у бассейна, и спрятала его в такое место, куда вы не могли бы спрятать… На нем отпечатки пальцев, которые никогда не будут опознаны. Так что осталась только кобура. Я должна знать, что вы с ней сделали.
Генриетта остановилась, отчаянно молясь, чтобы Герда скорее отреагировала. Она и сама не знала, что заставляло ее действовать с такой поспешностью. Хвоста за машиной не было… Это она проверила. Она выехала по лондонской дороге, залила бензин в бак на станции, упомянув, что направляется в Лондон. Потом чуть дальше свернула на проселок, пока не доехала до главной магистрали, ведущей на юг, к побережью.
Герда продолжала пристально смотреть на нее. «Вот несчастье, — подумала Генриетта, — до чего она медлительна!»
— Если кобура еще у вас, Герда, вы должны дать ее мне. Я от нее как-нибудь избавлюсь. Это единственная вещь, которая связывает вас теперь со смертью Джона. Кобура у вас?
После долгой паузы Герда медленно кивнула.
— Разве вы не знали, что хранить ее у себя — просто безумие?! — Генриетта с трудом сдерживала нетерпение.
— Я забыла об этом. Она наверху, в моей комнате. Когда полицейский пришел на Харли-стрит, я разрезала кобуру надвое и положила в рабочую сумку вместе с другими кусками кожи.
— Это очень разумно, — заметила Генриетта.
— Я не такая тупая, как все думают. — Она прижала руку к горлу: — Джон… Джон… — Голос ее прервался.
— Я знаю, дорогая, знаю…
— Но вы не можете знать, — возразила Герда. — Джон не был…
Она стояла онемевшая и странно трогательная. Наконец она подняла глаза и посмотрела на Генриетту.
— Все было ложью… Все! Все, что я о нем думала! Я видела его лицо, когда он пошел в тот вечер за этой женщиной. Вероника Крэй! Я, конечно, знала, что он любил ее много лет назад, до того как женился на мне, но я думала, что там все кончилось.
— Там действительно все кончилось, — тихо сказала Генриетта.
Герда покачала головой.
— Нет. Она пришла, притворившись, что не встречалась с Джоном много лет, но я видела его лицо. Он ушел с ней. Я легла в постель. Пыталась читать… Я пыталась читать тот детективный роман, который читал Джон. Он все не возвращался. Наконец я вышла из дома. — Взгляд Герды, казалось, был обращен назад, к той сцене. — Светила луна. Я прошла по дорожке к плавательному бассейну. В павильоне был свет. Они были там… Джон и эта женщина…
Генриетта слабо вскрикнула. Лицо Герды изменилось… ни следа этого вымученного дружелюбия. Оно было неумолимым, безжалостным.
— Я доверяла Джону. Я верила в него, как в Бога. Я думала, он самый благородный человек на свете. Я думала, что он во всем прекрасен и благороден… но это была ложь! Мне ничего не осталось… совсем ничего. Я… я поклонялась Джону!
Генриетта завороженно смотрела на нее. Только что ей открылось то, что рисовало ей ее воображение, то, что она стремилась выразить в дереве. Вот оно — поклонение… слепая преданность, ставшая столь опасной, когда кумир посмел проявить слабость.
— Я не могла этого вынести, — сказала Герда. — Я должна была убить его! Я должна был а… Вы понимаете, Генриетта? — Она говорила это обычным, почти дружеским тоном. — И я знала, что должна быть осторожной, потому что полицейские умны. Но я тоже не так глупа, как все привыкли думать! Если вы очень медлительны и не любите болтать, все думают, что вы ничего не понимаете… А вы исподтишка смеетесь над ними! Я была уверена, что никто ничего не узнает, — я прочитала в этом детективе, что полиция может определить, из какого револьвера был произведен выстрел. Как раз в тот день сэр Генри показал мне, как заряжать револьвер и как стрелять. И я решила, что возьму два револьвера. Из одного убью Джона и спрячу его, а все увидят меня с другим револьвером в руках. Вначале решат, будто его убила я, а потом обнаружится, что стреляли из другого оружия, и я окажусь вне подозрений!
Она торжествующе кивнула головой.
— Но я забыла про эту кожаную штуку. Она лежала в ящике в моей спальне. Как вы сказали она называется? Кобура? Но ведь полиция не станет заниматься этим теперь?
— Кто знает, — сказала Генриетта, — вы лучше дайте ее мне, и я унесу. Как только кобуры не будет в ваших руках, вы будете в безопасности.
Генриетта села, почувствовав себя невероятно уставшей.
— Вы плохо выглядите, — заметила Герда. — Я как раз приготовила чай.
Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с подносом. На нем был чайник, молочник и две чашки. Молочник был переполнен, и молоко пролилось. Герда поставила поднос, налила чашку чаю и подала Генриетте.
— О, Господи… — сказала она расстроенно, — кажется, чайник так и не закипел.
— Это не важно, — сказала Генриетта. — Герда, пойдите и принесите кобуру.
Поколебавшись, Герда вышла из комнаты. Генриетта наклонилась вперед, положила руки на стол и опустила на них голову. Она так устала, так невероятно устала! Но теперь почти все сделано. Герда будет в безопасности, как того хотел Джон.
Генриетта выпрямилась, откинула со лба волосы и придвинула к себе чашку. Услышав какой-то звук у двери, она повернула голову, удивившись, что Герда оказалась быстрой на этот раз. Но это была не Герда. У двери стоял Эркюль Пуаро.
— Входная дверь была открыта, — сказал он, подходя к столу. — И я взял на себя смелость войти.
— Вы? — удивилась Генриетта. — Как вы сюда попали?
— Когда вы так внезапно покинули «Лощину», я, конечно, знал, куда вы направитесь. Я нанял машину и быстро приехал прямо сюда.
— Понимаю, — Генриетта вздохнула. — Только вы можете…
— Вы не должны пить этот чай, — сказал Пуаро, забирая у нее чашку и ставя ее обратно на поднос. — Нехорошо пить чай, если вода не закипела.
— Разве такая мелочь имеет значение?
— Все имеет значение, — мягко сказал Пуаро.
Послышался шум, и Герда вошла в комнату. В руках у нее была рабочая сумка. Взгляд Герды переходил с Пуаро на Генриетту.
— Боюсь, я весьма подозрительная личность, — поспешно сказала Генриетта. — Герда, оказывается, мосье Пуаро следил за мной. Он считает, что я убила Джона… Но он не может этого доказать.
Она говорила нарочито медленно и осмотрительно. Только бы Герда не выдала себя…
— Мне очень жаль, — рассеянно сказала Герда. — Хотите чаю, мосье Пуаро?
— Нет, благодарю вас, мадам.
Герда села рядом с подносом. Она начала говорить в своей обычной извиняющейся манере:
— Мне так жаль, что никого нет дома. Моя сестра и дети отправились на пикник. Я не очень хорошо себя чувствовала, и они оставили меня дома.
— Я вам сочувствую, мадам.
Герда взяла чашку и выпила.
— Все так беспокойно. Все беспокойно! Видите ли, всегда все устраивал Джон, а теперь Джона нет… — Голос замер. — Теперь Джона нет…
Ее взгляд, жалкий, недоумевающий, поочередно устремлялся на Пуаро и Генриетту.
— Я не знаю, что делать без Джона. Джон заботился обо мне. Теперь его нет, и ничего больше нет. А дети… Они задают вопросы, и я не могу на них ответить. Я не знаю, что сказать Тэри. Он все время повторяет: «Почему убили отца?» Когда-нибудь он, конечно, узнает почему. Тэри всегда важно знать. Меня удивляет, что он постоянно спрашивает «почем у», а не кто!
Герда откинулась на спинку стула. Губы ее посинели.
— Я чувствую себя… не очень хорошо, — с трудом проговорила она. — Если бы Джон… Джон…
Пуаро обошел вокруг стола и, подойдя к Герде, осторожно сбоку подвинул ее на стуле. Голова ее упала на грудь. Пуаро, склонившись, поднял ей веко. Затем выпрямился.
— Легкая и сравнительно безболезненная смерть.
Генриетта пристально посмотрела на него.
— Сердце? Нет! — Внезапно она поняла. — Что-то в чае. Она сама положила. Она избрала такой путь?
Пуаро слегка покачал головой.
— О нет! Это предназначалось для вас. Это ваша чашка.
— Для меня? — недоверчиво спросила Генриетта. — Но я пыталась помочь ей!
— Это не имеет значения. Вы видели когда-нибудь собаку, попавшую в западню? Она вонзает зубы в любого, кто ее коснется. Миссис Кристоу поняла, что вы узнали ее секрет. Значит, вы тоже должны были умереть.
— И вы, — медленно сказала Генриетта, — когда заставили меня поставить чашку обратно на поднос… Вы имели в виду… вы имели в виду Герду…
Пуаро спокойно прервал ее:
— Нет-нет, мадемуазель. Я не знал, что в вашей чашке был яд. Но я предполагал, что он мог там быть. А когда чашка была на подносе — тут все решала судьба — из какой чашки она станет пить… если вас устраивает такое объяснение. Я бы сказал, что это милосердный конец. Для нее… и для двух невинных детей. — Вы очень устали, не правда ли? — мягко спросил он.
Генриетта кивнула.
— Когда вы догадались? — спросила она.
— Трудно сказать. Сцена была разыграна, я чувствовал это с самого начала. Но очень долго не понимал, что она была подготовлена Гердой Кристоу… что ее поза была игрой — ведь она на самом деле играла роль. Я был озадачен простотой и в то же время сложностью… Вскоре я понял, что сражаюсь против вашей изобретательности и что вам подыгрывают ваши родственники, как только они поняли, чего вы добиваетесь. — На некоторое время воцарилось молчание, затем он спросил: — Зачем вам это было нужно?
— Затем, что меня попросил Джон! Он это имел в виду, когда сказал: «Генриетта!» В этом слове заключалось все. Он просил меня защитить Герду. Понимаете, он любил ее. Больше, чем Веронику Крэй… больше, чем меня. Герда принадлежала ему, а Джон любил вещи, которые были его собственностью. Он знал, что только я могу защитить Герду от последствий того, что она натворила. И он знал, что я сделаю все, что он хочет, потому что я любила его.
— И вы сразу начали действовать, — мрачно сказал Пуаро.
— Да, первое, что я могла придумать, — это взять револьвер из рук Герды и уронить его в бассейн, чтобы усложнить опознание отпечатков пальцев. Когда позже я узнала, что Джон был убит из другого револьвера, я стала его искать и, конечно, сразу нашла, потому что знала, куда Герда могла бы его спрятать… Я только на чуть-чуть опередила людей инспектора Грэйнджа.
— Я положила револьвер в мою большую сумку, — продолжала она после небольшой паузы. — А затем отвезла в Лондон и спрятала в студии. Спрятала так, чтобы полицейские не нашли.
— Глиняный конь… — тихо сказал Пуаро.
— Откуда вы знаете? Да, я положила револьвер в мешочек для губки, обмотала проволокой и облепила глиной. Ведь не станет же полиция уничтожать шедевр художника! А что натолкнуло вас на эту мысль?
— То, что вы выбрали для тайника именно лошадь. Троянский конь[219] — подсознательная ассоциация в вашем мозгу. Но отпечатки пальцев… Как вы это устроили?
— Слепой старик, который продает спички на улице. Он не знал, какую вещь я попросила его подержать, пока достану деньги.
Пуаро мгновение смотрел на нее.
— C'est formidable![220] — пробормотал он. — Вы, мадемуазель, один из самых достойных противников, с которыми мне приходилось встречаться.
— Это было ужасно утомительно… Все время стараться быть на один ход впереди вас!
— Я знаю. Я начал понимать, как только увидел, что кто-то специально наводит след на всех, на всех, кроме Герды Кристоу. Все уводило от нее. Вы умышленно нарисовали Игдрасиль, чтобы привлечь мое внимание и направить подозрение на себя. Леди Энкейттл, которая прекрасно знала, что вы делаете, забавлялась, сбивая с толку бедного инспектора Грэйнджа, гоняя его от одного к другому: Дэвид, Эдвард, она сама… Да, есть такой прием, чтобы отвести подозрение от виновного, — намекать на чью-то еще вину, ничего точно не указывая. При этом каждая улика выглядит вначале очень убедительно, но затем ни к чему не ведет.
Генриетта посмотрела на ссутулившуюся фигуру на стуле.
— Бедная Герда!
— Вы ей сочувствовали с самого начала?
— Думаю, что да. Герда ужасно любила Джона… но не хотела любить его таким, каким он был. Она подняла его на пьедестал и наделила прекрасными, благородными качествами. Но когда идола сбрасывают с пьедестала, ему не прощают ничего.
Она помолчала.
— Но Джон значительно лучше всяких идолов, — продолжала она после паузы. — Он был настоящим, полнокровным человеком. Душевный, добрый, энергичный, и он был замечательным доктором… да, замечательным доктором. И вот его нет, и мир потерял незаурядную личность. А я — единственного человека, которого любила…
Пуаро тихонько положил руку ей на плечо.
— Но вы из тех, кто может жить с пронзенным сердцем… кто может продолжать жить и улыбаться…
Генриетта горько усмехнулась.
— Несколько мелодраматично, вам не кажется?
— Это потому, что я иностранец и люблю употреблять красивые слова.
— Вы были очень добры ко мне, — вдруг сказала Генриетта.
— Потому, что всегда восхищался вами.
— Мосье Пуаро, что вы собираетесь предпринять? Я имею в виду Герду.
Пуаро придвинул к себе сумку и высыпал содержимое: куски коричневой замши и обрезки цветной кожи. Среди них — три толстых, блестящих, коричневых куска. Пуаро сложил их вместе.
— Кобура. Это я возьму с собой. Бедная мадам Кристоу! Непосильное напряжение, смерть мужа была для нее слишком большим ударом… Вскоре станет известно, что она покончила с собой в душевном расстройстве.
— И никто никогда не узнает, что случилось на самом деле? — медленно спросила Генриетта.
— Я думаю, один человек узнает. Сын доктора. Настанет день, когда он явится ко мне, чтобы узнать правду.
— Но вы не скажете ему! — воскликнула Генриетта.
— Скажу.
— О нет!
— Вам трудно понять. Вы не переносите, когда кому-то причиняют боль. Но для некоторых людей существует нечто еще более невыносимое — не знать правды! Вы слышали, как эта бедная женщина сказала: «Тэри всегда важно знать…» Для его склада ума истина всегда на первом месте. Правду, какой бы она ни была горькой, можно осмыслить и пережить.
Генриетта поднялась.
— Вы хотите, чтобы я осталась, или мне лучше уйти?
— Я думаю, будет лучше, если вы уйдете.
Она кивнула. Потом сказала скорее себе, чем ему:
— Куда я пойду? Что я буду делать… без Джона?
— Вы ведь не Герда Кристоу. Вы сильный человек и найдете, куда идти и что делать.
— Я так устала, мосье Пуаро, так устала.
— Идите, дитя мое, — мягко сказал Пуаро, — ваше место среди живых. Я побуду здесь с умершей.
Глава 30
Пока она ехала в Лондон, эти два вопроса неотвязно мучали Генриетту: «Что я буду делать? Куда пойду?»
Последние несколько недель она была в страшном нервном напряжении, не разрешала себе расслабиться ни на минуту. Она должна была исполнить последнюю волю Джона. Но теперь все было кончено… Удалось ей выполнить его предсмертную просьбу? Или нет? Можно оценить как угодно. Но в любом случае все кончено, и она чувствует теперь ужасную усталость.
Мысль снова вернула Генриетту к словам, которые она сказала Эдварду той ночью на террасе. Той ночью, когда Джона уже не было на свете, той ночью, когда, прокравшись в павильон, она, чиркнув спичкой, нарисовала на железном столике Игдрасиль. Она должна была действовать, у нее не было пока сил на слезы. «Я хотела бы оплакать Джона», — сказала она Эдварду. Но она не смела расслабиться, боялась поддаться горю.
Теперь она вправе это сделать. Теперь у нее сколько угодно на это времени.
— Джон… Джон… — повторяла она шепотом. На нее навалилось беспросветное отчаяние и боль. — Лучше бы я выпила ту чашку чаю…
Движение машины успокаивало, придавало сил. Скоро она будет в Лондоне. Поставит машину в гараж и войдет в пустую студию. Пустую, потому что Джон никогда больше не будет сидеть там, подтрунивая над ней, сердясь на нее за то, что любит ее больше, чем ему бы этого хотелось, с азартом рассказывая о болезни Риджуэя… о своих удачах и отчаянии, о миссис Крэбтри в больнице Святого Христофора.
Черная пелена, окутавшая ее, вдруг развеялась, и Генриетта вслух произнесла:
— Ну конечно! Вот туда я и пойду. В больницу Святого Христофора.
…Лежа на узкой больничной койке, старая миссис Крэбтри всматривалась в посетительницу слезящимися, мигающими глазами. Она была точно такой, как ее описывал Джон, и Генриетта внезапно почувствовала прилив тепла и бодрости. Это настоящее… то, что останется! Здесь на мгновение она снова обрела Джона.
— Бедный доктор. Ужасно, верно? — говорила миссис Крэбтри, в ее голосе звучало сожаление, но и явный интерес, потому что миссис Крэбтри любила жизнь, и внезапная смерть, а тем более убийство или смерть младенца — самые яркие краски на ковре, который ткет жизнь. — Как же он дал себя убить! Когда я услыхала, у меня все нутро перевернулось. Я прочитала в газетах… Здешняя сестра дала все, что смогла достать… она уж постаралась! Там были снимки и все подробности. Плавательный бассейн и прочие детали. Как его жена выходит из суда, бедняга, и леди Энкейтлл, ну, в чьей усадьбе этот самый бассейн! Много снимков. Загадочное убийство — верно?
Нездоровое любопытство старухи не вызывало у Генриетты отвращения, даже нравилось, потому что, она была уверена, оно понравилось бы самому Джону. Если выпало ему умереть, он предпочел бы, чтобы старая миссис Крэбтри получила от этого какое-то удовольствие, а не шмыгала носом и лила слезы.
— Чего я хочу, так это чтоб поймали того, кто его укокошил, и повесили, — продолжала мстительно миссис Крэбтри. — Теперь не вешают, как раньше, на народе… а жалко. Мне всегда хотелось посмотреть… и уж я бы поспешила, сами понимаете, посмотреть, как вешают того, кто убил доктора! Настоящий злодей, вот он кто! Господи, да такого доктора поискать! Один на тысячу. А какой умный! Какой обходительный! Рассмешит, даже если тебе совсем не до смеха. Такое иногда, бывало, отмочит! Я бы для него что хочешь сделала. Это уж точно!
— Да, — сказала Генриетта. — Он был очень умный. И вообще замечательный!
— А как про него говорили в больнице! Все медсестры! И все больные! Каждый верил, что поправится, если он был рядом.
— Вот и вы должны поправиться, — сказала Генриетта.
Маленькие проницательные глаза старухи на секунду потускнели.
— Не очень-то я в это верю, милочка! Теперь у меня этот молодой парень в очках. Совсем не такой, как доктор Кристоу. Никогда не улыбнется. У доктора Кристоу всегда была наготове шутка. Иногда так плохо мне было от этого лечения. «Не могу больше терпеть, доктор», — бывало, говорю ему, а он: «Можете, — говорит, — миссис Крэбтри! Вы крепкая. Выдержите. Мы с вами еще сделаем открытие в медицине — вы и я!» И всегда он так развеселит. Я бы для него все… ну все бы сделала! Надеялся на меня, ну и, значит, нельзя было его подвести, понимаете?
— Понимаю, — сказала Генриетта.
Маленькие быстрые глазки пристально всматривались в нее.
— Извините меня, милочка, вы случайно не жена ему?
— Нет, — ответила Генриетта. — Я просто друг.
— Понятно, — сказала миссис Крэбтри.
Генриетта подумала, что ей действительно понятно.
— Вы уж не обижайтесь, только что это вдруг вы пришли, к незнакомой-то старухе?
— Доктор много говорил мне о вас… и о своем новом лечении. Я хотела узнать, как вы себя чувствуете.
— Мне хуже… вот так-то, мне хуже.
— Но вам не должно быть хуже! — воскликнула Генриетта. — Вы должны поправиться!
— Уж я-то не хочу выходить из игры, и не думайте!
— Ну так боритесь! Доктор говорил, что вы настоящий боец!
— Правда! — Миссис Крэбтри минуту лежала молча, потом медленно сказала: — Кто его убил… это же злодейство! Таких, как доктор, — не часто встретишь!
«Таких, как он, мы не увидим боле…»[221] — мелькнуло в голове Генриетты. Миссис Крэбтри проницательно смотрела на нее.
— Не вешайте носа, голубушка, — сказала она и, помолчав, спросила: — Похороны хоть у него были хорошие?
— Очень хорошие, — сказала, желая ей угодить, Генриетта.
— Эх! Хотела бы я поглядеть! — вздохнула миссис Крэбтри. — Скоро отправлюсь на свои собственные похороны…
— Нет! — закричала Генриетта. — Вы не должны сдаваться! Вы же сами только что сказали, что говорил вам доктор — вместе, он и вы, сделаете открытие в медицине. Ну что ж, теперь вы должны продолжать одна за двоих. Лечение ведь то же самое. У вас должно хватить силы, и вы сделаете это открытие — ради него.
Миссис Крэбтри минуту-другую смотрела на нее.
— Уж очень важно сказано! Постараюсь, голубушка. Больше ничего не могу сказать.
Генриетта встала и взяла ее руку в свою.
— До свидания. Если можно, я зайду навестить вас.
— Заходите. Поговорить немного про доктора — это мне только на пользу. — Озорной огонек сверкнул опять в глазах миссис Крэбтри. — Молодец доктор Кристоу, во всем молодец!
— Да, — сказала Генриетта. — Был.
— Не отчаивайся, голубушка, — сказала старуха. — Что ушло, то ушло. Его не вернешь.
«Миссис Крэбтри и Эркюль Пуаро высказали одну и ту же истину, — подумала Генриетта, — только разными словами».
Она вернулась в Челси, поставила машину в гараж и медленно вошла в студию.
«Вот теперь, — подумала она, — настал момент, которого я так боялась… Я одна. И мое горе со мной».
Как она тогда сказала Эдварду? «Я хотела бы оплакать Джона».
Она опустилась на стул, откинула назад волосы.
Одна… опустошенная… лишившаяся всего… Эта ужасная пустота! Слезы набежали на глаза, медленно потекли по щекам.
«Вот я его и оплакиваю, — подумала она. — Вот я и скорблю…»
О Джон… Джон… И в хаосе воспоминаний… Вдруг его голос, полный боли: «Умри я, первое, что ты сделаешь, — со слезами, льющимися по щекам, начнешь лепить какую-нибудь чертовщину, вроде скорбящей женщины или символ горя…»
Она тревожно шевельнулась. Почему вспомнилось именно это?
Скорбь, скорбь… скрытая покрывалом фигура, очертания едва просматриваются, алебастр…
Она видела очертания. Высокая, удлиненная фигура, печаль скрыта, она видна лишь в длинных скорбных складках покрывала… Скорбь, проступающая сквозь чистый светлый алебастр.
«Умри я…»
Внезапно горечь нахлынула на нее.
— Джон был прав. Я не могу любить. Я не могу отдаться горю всем своим существом. Мидж! Люди, подобные Мидж, они — соль земли. Мидж и Эдвард в Эйнсвике. Это реальность, сила, теплота.
«А я, — думала она, — неполноценный человек. Я принадлежу не себе, а чему-то вне меня. Я не могу даже оплакать мертвого. Вместо этого я должна превратить мою скорбь в скульптуру из алебастра».
«Экспонат № 58. „Скорбь“. Алебастр. Мисс Генриетта Сэвернейк».
— Джон, прости меня, — прошептала она. — Прости меня… я не могу иначе.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Смерть приходит в конце»
Появлению этого романа читатели обязаны профессору египтологии Стивену Глэнвиллу, другу семьи Кристи, с которым Макс Мэллоуэн служил в Министерстве воздушных сил во время второй мировой войны и который полагал, что такой роман будет интересен не только поклонникам детективов, но и любителям старины.
При написании романа были использованы записки Хеканакте, хранителя гробницы, которые были найдены в захоронении под Луксором.
В процессе работы над романом Агата Кристи часто обращалась к Глэнвиллу за помощью и консультациями. Позже она писала:
«Впоследствии Глэнвилл, должно быть, сильно пожалел, что подсказал мне эту идею. Я постоянно звонила ему и задавала вопросы, которые, по его словам, занимали у меня три минуты, ответы же на них ему приходилось искать чуть ли не в восьми разных книгах».
Профессор Глэнвилл тщательно читал рукопись и делал на полях пометки. Он уговорил миссис Кристи изменить развязку романа, и годы спустя она сетовала, что с удовольствием переделала бы концовку, которая когда-то была более драматичной.
В этом романе Кристи удалось создать достоверную и убедительную картину жизни цивилизации, существовавшей четыре тысячелетия назад. Тем не менее необходимо отметить, что перенесение чисто английских реалий в своеобычный мир фараонов выглядит довольно двусмысленно. Видимо, именно из-за этого роман вызвал диаметрально противоположные отзывы критиков, оставаясь при этом уникальным в своем роде.
Роман вышел в Англии в 1945 году.
На русском языке существует два перевода. Перевод Н. Емельянниковой впервые опубликован в сборнике: Агата Кристи. Смерть Нофрет: Университетское, 1990. Для настоящего издания перевод выправлен и отредактирован.
«День поминовения»
Один из романов Агаты Кристи, где расследуется преступление из прошлого. Больше известен под названием «Игристый цианид».
Здесь, как и в романе «Карты на столе», Агата Кристи сразу очерчивает нам узкий круг людей, среди которых читателю предлагается найти убийцу. И как потом выясняется, не только убийцу, но и детектива, ведь известному читателям по многим романам («Человек в коричневом костюме», «Карты на столе», «Смерть на Ниле») полковнику Рейсу так и не суждено раскрыть ни одного преступления.
Антураж романа полностью перенесен из малоизвестного рассказа о Пуаро «Желтый ирис». В целом «День поминовения» вполне характерен для Кристи 40—50-х годов, но с чуть большим акцентом на романтических отношениях и налетом спиритизма.
И на этот раз Агата Кристи не изменяет лучшим своим качествам: естественности, мягкости и бесстрашию. Во второй главе первой части романа она почти «проговаривается» относительно личности преступника. Как тут не вспомнить ее слова: «Вы ведь знаете, что я не обманываю. Я просто говорю нечто такое, что можно истолковать двояко».
В первый год публикации было продано 30 000 экземпляров. Именно с этого романа уже каждая очередная книга Кристи будет величаться «бестселлером».
Впервые опубликован в Англии в 1945 году.
Существует два перевода на русский язык. Перевод А. Ставиской напечатан в сборнике: Агата Кристи. День поминовения: Лениздат, 1991.
Для настоящего издания перевод выправлен и отредактирован.
«Лощина»
Это произведение, пожалуй, самое спорное из всего написанного Дамой Агатой. Сама писательница называла его скорее романом, нежели детективом.
Дом, вдохновивший миссис Кристи на создание «Лощины», явно списан с дома ее друзей — актера Френсиса Салливана и его жены, которым она и посвятила свой роман.
Сама по себе коллизия не так уж безупречна, но персонажи выписаны великолепно, описания дома, округи и упоминаемого в разговорах поместья Эйнсвик очень изящны и впечатляющи, а сама манера письма при внешней сдержанности весьма выразительна.
Миссис Кристи считала, что вынужденное присутствие Эркюля Пуаро только портит книгу. Низведенный до положения второстепенного персонажа, он лишен своей обычной роли устроителя судеб.
Мнения критиков в оценке романа существенно разнятся — от Барнарда, отметившего «более сложную обрисовку персонажей», до Криспина, упрекавшего писательницу за «слабый сюжет». Построение интриги действительно скорее характерно для романов Эллери Куина, нежели Агаты Кристи. К особой удаче, по мнению некоторых литературоведов, следует отнести и отображение трудно поддающегося описанию душевного состояния, когда персонажи внезапно обретают дар предвидения и им открывается некое иррациональное знание. Это удалось ей куда убедительней, чем иным крупным литературным авторитетам.
Впервые роман был опубликован в Англии в 1946 году.
Существует два перевода на русский язык. Перевод А. Ващенко впервые был опубликован в сборнике: Агата Кристи. Подвиги Геракла: Книга, 1991. Для настоящего издания перевод выправлен и заново отредактирован.
А. Астапенков А. ТитовПримечания
1
Из-за скудости достоверных сведений из истории Древнего Египта и невозможности их точного датирования, история этой страны условно делится на пять периодов — царств: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее. В пределах этих крупных временных отрезков события обозначаются обычно не по столетиям, а по династиям правивших тогда царей — фараонов, списки которых включают тридцать династий. Судя по указаниям, содержащимся в тексте (две тысячи лет до н. э., период XI династии), события, описываемые в романе, можно в целом отнести к эпохе Среднего царства. Начало этой эпохи было смутным временем в истории Древнего Египта: Северный и Южный Египет были разъединены, более того, и Север и Юг были раздроблены на мелкие княжества — номы, и номархи вели между собой борьбу за власть. Преодолеть междоусобицы и воссоединить всю страну удалось лишь в пору правления фараонов XII династии, когда в Египте на время воцарились стабильность и процветание.
(обратно)2
«Метрополитен» — один из крупнейших музеев мира, основанный в Нью-Йорке в 1870 году и обладающий замечательной коллекцией произведений искусства древних цивилизаций, в том числе египетской.
(обратно)3
В древнеегипетской религии важное место занимали мифы о загробной жизни. Согласно верованиям египтян человек состоит из нескольких сущностей, в частности тела, души и невидимого двойника «ка», который рождается и живет вместе с человеком. Чтобы обеспечить вечную жизнь после смерти, следовало сохранить все сущности человека. Тело сохранялось с помощью мумифицирования; пристанищем для «ка» должны были служить усыпальницы (от огромных пирамид у фараонов и знати до скромных гробниц у земледельцев и слуг), в которые помещалось всё, что было нужно человеку при жизни. Судьба души человека решалась на суде богов: ее либо пожирало за грехи чудовище, либо она отправлялась в страну блаженства.
(обратно)4
Подобное семантическое развитие данных слов отражает по-видимому существовавшую некогда систему семейно-брачных отношений, при которой допускались браки между кровными родственниками одного поколения.
(обратно)5
Северные Земли — номы (княжества), расположенные в дельте Нила (Нижний Египет), в отличие от Южных Земель, расположенных в верхнем течении Нила (Верхний Египет).
(обратно)6
Осирис — одна из важнейших фигур в религии древних египтян, общеегипетский бог сил природы, главный в загробном мире, председательствующий в суде богов при определении участи душ умерших.
(обратно)7
Лотос — водяная лилия, ассоциировавшаяся у египтян с Нилом, источником жизни.
(обратно)8
Мак — растение, из семян которого добывается опиум и которое у многих народов является символом забвения, сна или смерти.
(обратно)9
Папирус — травянистое растение, в изобилии произраставшее в дельте Нила, из стеблей которого в древности изготавливался писчий материал; рукопись на нем также называлась папирусом.
(обратно)10
Мера — старинная единица измерения сыпучих тел, равная 26,238 литра.
(обратно)11
Гераклеополь — город на Ниле в Верхнем Египте; в конце Древнего царства был столицей Египта, которая потом переместилась в Фивы.
(обратно)12
Херишеф — главный бог города Гераклеополя, покровитель вод; религия древних египтян характеризовалась многобожием; культ некоторых богов был распространен на всей территории Египта: таковы, например, культы Осириса и его жены Исиды; бога солнца Ра, бога луны, мудрости и письма Тота; культы других богов были связаны с отдельными номами или городами, когда влияние того или иного нома или города возрастало, культ местных богов становился общеегипетским.
(обратно)13
Птах (Пта) — главный бог столицы Древнего царства Мемфиса в Нижнем Египте, бог с человеческим обликом, создатель мира и всего сущего, а также бог ремесел, после переноса столицы в Фивы и выдвижения Фив стал отождествляться с Фиванским богом солнца Амоном-Ра.
(обратно)14
Птахотеп (Птаххетеп) — по преданию, сановник фараонов V династии, автор поучений, которые дошли до нас в списках Нового царства.
(обратно)15
Здесь и далее стихи в переводе В. Потаповой.
(обратно)16
Фал — снасть, служащая для подъема и спуска парусов.
(обратно)17
Себек — бог воды и разлива Нила, изображавшийся с головой крокодила.
(обратно)18
Нейт — богиня воды и моря, войны и охоты.
(обратно)19
Ра — бог солнца, игравший одну из ключевых ролей в пантеоне древнеегипетских богов.
(обратно)20
Сердолик — полудрагоценный поделочный камень, обычно желтый, оранжевый или дымчатый.
(обратно)21
Хатор (в других местах Бает, Пахт и т. д.) — богиня любви и брачного плодородия; ее священным животным была кошка, и сама богиня изображалась с головой кошки.
(обратно)22
Фелюга — небольшое парусное судно прибрежного плавания с косым четырехугольным парусом.
(обратно)23
Сехмет — богиня войны и палящего солнца, воинственная львицеголовая супруга бога Птаха.
(обратно)24
Мехит — местная богиня, покровительница семьи, богиня-львица, иногда отождествлялась с богиней Хатор.
(обратно)25
Тот — бог мудрости, счета и письма, изображался с головой птицы ибис.
(обратно)26
Гор — бог охоты, изображался с головой коршуна.
(обратно)27
Меритсегер — змееподобная богиня пустыни, охраняющая также кладбища и покой усопших.
(обратно)28
Исида — жена-сестра Осириса, богиня плодородия, воды и ветра, охранительница семьи.
(обратно)29
Амон — бог солнца в Фивах, по мере возвышения Фив стал одним из главных богов всех египтян Амоном-Ра, и культ его распространялся на весь Египет.
(обратно)30
Описание такого суда имеется в некоторых дошедших до нас древнеегипетских памятниках: на одну чашу божественных весов кладется сердце покойного, а на другую фигура богини истины Маат или ее символ — перышко; если сердце перетягивает истину — грешника пожирает чудовище, сидящее около весов, если же чаши весов уравновешены, покойник считается оправданным и отправляется в блаженную страну.
(обратно)31
Иарит — богиня-змея, охранительница власти фараонов.
(обратно)32
Нефертум — бог растительности, бог-младенец, родившийся в цветке лотоса.
(обратно)33
Золотая — эпитет богини любви и радости Хатор.
(обратно)34
Померанец — вечнозеленое деревце из семейства рутовых, родом из тропической Азии, из золотистых горько-кислых плодов которого получают эфирные масла.
(обратно)35
Библ — древний финикийский город на побережье Средиземного моря на территории современного Ливана, тесно связанный с Египтом торговыми и культурными связями.
(обратно)36
Аметист — драгоценный камень, разновидность кварца, обычно фиолетового или синего цвета.
(обратно)37
Скорпион — животное отряда паукообразных членистоногих, живущее в теплых странах; заднебрюшье скорпиона оканчивается коготком, к которому подходят ядовитые железы, и уколы его иногда смертельны.
(обратно)38
Ююба — название небольших фруктовых деревьев родом из Китая с темно-коричневыми, похожими на сливы плодами, которые употребляются в пищу как в сыром, так и сушеном и вареном виде.
(обратно)39
Девятка богов Эннеада (др. — греч. «девятка») — согласно преданиям о сотворении мира девять изначальных богов, почитавшихся во всем Египте: бог вечности Атум создал бога воздуха Шу и его жену Тефнут, от которых родились бог земли Геб и богиня неба Нут, а их детьми были Осирис, Исида, Нефтида и Сет; так сформировалась великая девятка богов — Эннеада.
(обратно)40
владыки справедливости — боги, которые согласно древнеегипетскому мифу, во главе с Осирисом образуют суд, решающий участь душ умерших, взвешивая сердца умерших на божественных весах. В дошедшем до нас древнеегипетском памятнике «Книге мертвых» приводится оправдательная речь мертвеца, и в ней подробно перечисляются проступки, которых покойный при жизни не совершал.
(обратно)41
Маат — богиня истины и порядка.
(обратно)42
Скарабей — разновидность жуков-навозников, которые почитались в Древнем Египте как одно из воплощений бога солнца, а их изображения служили амулетами и украшениями; довольно часто их делали из лазурита — голубого минерала, идущего на декоративные поделки и ювелирные украшения.
(обратно)43
Анубис — собакоголовый бог-проводник усопших и их покровитель.
(обратно)44
Саркофаг — маленькая гробница, иногда состоящая из многих частей и представляющая собой сложное сооружение, имитирующее земное жилище покойника.
(обратно)45
Канопы (от греч. названия древнеегипетского города в устье Нила) — четыре высоких сосуда из алебастра, фаянса и т. п., в которые помещали внутренности покойного, вынутые при бальзамировании, и которые ставили в специальный ящик с рельефными изображениями богинь-покровительниц: Исиды, Нефтиды, Мут и Нейт.
(обратно)46
Имеется в виду эпоха Древнего царства, когда из множества мелких княжеств образовалось сначала два царства — Верхний и Нижний Египет, а потом на рубеже IV и III тысячелетий единое государство с сильной централизованной властью, считается в египетской истории Золотым веком; памятниками могущества фараонов Древнего царства, начиная с III династии, были гигантские каменные гробницы-пирамиды, служившие усыпальницами фараонов и ближайших членов их семей.
(обратно)47
Имеется в виду миф об Осирисе, согласно которому Осириса убил его брат Сет (бог пустыни и олицетворение злого начала), а затем расчленив его тело на четырнадцать частей, разбросал их по всему Египту; жена Осириса Исида собрала части его тела, сложила их и, поливая слезали, оживила. Родившийся у них сын Гор победил Сета и стал владетелем мира животных, а Осирис — владыкой мира усопших.
(обратно)48
Остров Слоновый — остров на реке Нил у первого порога, напротив города Ассуан.
(обратно)49
Сет — коварный бог пустыни, олицетворение зла.
(обратно)50
Визирь — как свидетельствуют надписи на гробницах, глава существовавшей в Древнем Египте сложной бюрократической чиновничьей иерархии, ведавший судебными делами и руководивший работой судебных палат.
(обратно)51
Знак жизни «анх» — изображение солнечного диска, символ бога солнца, приносящий счастье.
(обратно)52
Локоть — старинная мера длины, равная 18–22 дюймам (примерно 50.78 см).
(обратно)53
Первая строка стихотворения английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821); Перев. И. Бродского.
(обратно)54
Легкий завтрак (фр.).
(обратно)55
Уганда — государство в Восточной Африке.
(обратно)56
Ленч — второй завтрак: трапеза в 12–14 часов: часто заменяющая обед.
(обратно)57
Кларидж — одна из самых известных лондонских гостиниц высшего класса, расположенная в фешенебельном районе Мейфэр в Уэст-Энде.
(обратно)58
Сассекс — графство на юге Англии, на побережье пролива Ла-Манш.
(обратно)59
Акр — мера земельной площади, равная 4046,86 м2.
(обратно)60
Георгианский стиль — общее название стилей архитектуры и мебели георгианской эпохи, эпохи правления четырех английских королей — Георга I, Георга II, Георга III и Георга IV (с середины XVIII в. до 30-х гг. XIX в.).
(обратно)61
Гольф — распространенная в Англии спортивная игра, в ходе которой игроки по очереди на поле с лунками стремятся специальными клюшками загнать в каждую из лунок небольшой резиновый мяч.
(обратно)62
Миля — мера длины: равная 1,609 км.
(обратно)63
Сфинкс — в Древнем Египте каменное изваяние покоящегося льва с головой человека, барана или ястреба; в древнегреческой мифологии — крылатое чудовище с головой льва и туловищем женщины; отсюда в переносном значении непонятное, таинственное существо, не проявляющее своих истинных намерений и чувств.
(обратно)64
Розмарин — невысокий вечнозеленый кустарник с мелкими голубыми душистыми цветами.
(обратно)65
Слова Офелии в трагедии Шекспира «Гамлет» (акт IV, сц. 5; перев. Б. Пастернака).
(обратно)66
Оксфорд — один из крупнейших и старейших университетов в Великобритании (основан в XII в.).
(обратно)67
Тилбери (Тилбери Доке) — доки на северном берегу реки Темзы, входящие в систему лондонского порта; построены в 1886 году.
(обратно)68
Шекспир, «Король Лир», акт III, сц. 2. (Перев. Б. Пастернака.)
(обратно)69
Сан-Паулу — город в одноименном штате на юго-востоке Бразилии.
(обратно)70
Дорчестер — фешенебельная лондонская гостиница с рестораном на улице Парк-Лейн.
(обратно)71
Гурия — в религиозных догмах мусульман вечно юная, прекрасная дева рая, услаждающая песнями и танцами праведников.
(обратно)72
Генрих Восьмой (1491–1547) — английский король, представитель английского абсолютизма.
(обратно)73
В трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» Ромео, до встречи с Джульеттой, был влюблен в свою кузину Розалинду.
(обратно)74
Мезальянс (фр.) — неравный брак, брак с человеком, стоящим ниже по социальному положению.
(обратно)75
Либеральная партия — одна из двух (наряду с консервативной) крупнейших партий Великобритании во 2-й половине XIX века, существовала до 20-х годов XX века.
(обратно)76
Лейбористская партия — одна из крупнейших политических партий Великобритании (наряду с консервативной), основана в Англии в 1900 году на базе профсоюзного движения.
(обратно)77
Консервативная партия — одна из двух крупнейших (наряду с либеральной) и старейших политических партий Великобритании, организационно оформившаяся в 1867 году.
(обратно)78
Палата общин — нижняя палата английского парламента, выполняющая законодательные функции; большинство из ее 635 членов — профессиональные политики, юристы и т. п.
(обратно)79
Эспаньолка — короткая остроконечная бородка.
(обратно)80
Итон — одна из девяти старейших и наиболее престижных привилегированных мужских средних школ, основанная в 1440 году.
(обратно)81
«Домашние сплетни» — отдел светской хроники в газете или журнале, публикующий сведения, основанные на слухах о жизни аристократии, политических деятелей, актеров и т. д.
(обратно)82
Скотчтерьер — шотландский терьер, порода небольших охотничьих собак с черным окрасом и жесткой шерстью;
(обратно)83
Гайд-парк — самый известный лондонский парк, излюбленное место политических митингов и демонстраций.
(обратно)84
Имеется в виду Серпантин — узкое искусственное озеро в Гайд-парке с извилистыми берегами, с лодочной станцией и пляжами.
(обратно)85
Брюссельские кружева — легкие и воздушные тюлевые кружева, в орнаменте которых используются гирлянды, завитки и другие декоративные украшения.
(обратно)86
Вестминстер — район в центральной части Лондона, где находится здание парламента.
(обратно)87
Королева Анна — королева Великобритании и Ирландии (1665–1714), для архитектурного стиля эпохи королевы Анны характерны здания из красного кирпича с простыми линиями в классической манере.
(обратно)88
Сент-Мориц — горный курорт на юго-востоке Швейцарии.
(обратно)89
В сказке английского писателя Редьярда Киплинга (1865–1936) «Как Леопард менял окраску» рассказывается о том, как, приспосабливаясь к новым условиям жизни и охоты в лесной местности, куда ушла вся дичь, Эфиоп сменил окраску кожи на черную, а Леопарду на шкуру нанес для маскировки черные пятнышки.
(обратно)90
Борджиа Цезаре (ок. 1475–1507) — итальянский государственный и политический деятель, известный своим коварством и жестокостью, нередко использовавший яд в борьбе с политическими и личными врагами.
(обратно)91
Боа — меховой женский шарф.
(обратно)92
Бювар — папка для хранения письменных принадлежностей.
(обратно)93
Главный герой трагедии Шекспира «Отелло, Мавр Венецианский» (1605). Муки Отелло — муки ревности мужа-собственника.
(обратно)94
День поминовения — в церковном календаре второе (или третье) ноября, когда верующие своими молитвами стремятся облегчить участь душ усопших.
(обратно)95
«Кренфорд» — роман Элизабет Гаскелл (1810–1865), классическое произведение английской литературы XIX века — отсюда и ассоциации, возникшие у героини.
(обратно)96
Достопочтенный — его преподобие, титулование священника, ставящееся перед его именем.
(обратно)97
Шекспир, «Макбет», акт V, сц. 5. (Перев. Б. Пастернака.)
(обратно)98
Пантомима — рождественское представление для детей — как правило, инсценировка народной сказки с музыкой и пением.
(обратно)99
Блумсбери — район в центральной части Лондона.
(обратно)100
До 1970 года совершеннолетними в Великобритании признавались лица, достигшие двадцати одного года; сейчас совершеннолетие наступает для англичан в восемнадцать лет.
(обратно)101
«Таймс» — ежедневная газета консервативного направления, издающаяся в Лондоне с 1785 года.
(обратно)102
Пенни — мелкая монета из бронзы или медно-никелевого сплава, до 1971 года составлявшая одну двадцатую шиллинга и одну двухсотсороковую фунта стерлингов.
(обратно)103
До свидания (фр.).
(обратно)104
Кануть в Лету — крылатое выражение, означающее забвение чего-либо. В греческой мифологии Лета — река в подземном царстве, ее вода заставляла души умерших забывать все страдания, перенесенные ими на земле.
(обратно)105
Новый Скотленд-Ярд (буквально: Шотландский двор) — традиционное название лондонской полиции, по названию части Уайтхоллского дворца, где некогда останавливались приезжавшие в Лондон короли Шотландии; название Новый Скотленд-Ярд появилось с 1891 года.
(обратно)106
Палисандровое дерево — древесина южноамериканского дерева якаранда темно-коричневого цвета с фиолетовым оттенком, отличающаяся приятным запахом, хорошо полирующаяся и употребляемая для изготовления дорогой мебели.
(обратно)107
Эрлс-Корт — район в западной части Лондона.
(обратно)108
Клико — знаменитая марка французского шампанского.
(обратно)109
«Ритц» — фешенебельная лондонская гостиница на улице Пикадилли.
(обратно)110
Брук-стрит — улица в центре Лондона рядом с Гайд-парком.
(обратно)111
Холерик — человек с холерическим темпераментом, то есть отличающийся глубокой эмоциональностью и неуравновешенным, раздражительным характером.
(обратно)112
Сити — самоуправляющийся административный район в восточной части Лондона, один из крупнейших финансовых и коммерческих центров мира.
(обратно)113
Линкольнз-Инн — одна из старейших в Англии корпораций адвокатов, существующая с XIV века.
(обратно)114
Готика — стиль средневековой западноевропейской архитектуры; характеризуется остроконечными сооружениями, изобилующими стрельчатыми сводами, башенками, арками и ярко расцвеченными окнами.
(обратно)115
Речь идет об одном из древнегреческих мифов Троянского цикла: царь Микен и предводитель войска греков Агамемнон, несмотря на протесты жены Клитемнестры, согласился под давлением соратников принести в жертву богине Артемиде свою дочь Ифигению, чтобы богиня смилостивилась над греками и послала им попутный ветер.
(обратно)116
Миазмы — ядовитые испарения, газы, образующиеся от процессов гниения.
(обратно)117
Национальный банк — государственный центральный эмиссионный банк в Лондоне, основанный в 1694 году и национализированный в 1946 году.
(обратно)118
Церковный староста — лицо, ежегодно выбираемое в каждом приходе англиканской церкви и ведающее сбором пожертвований и другими мирскими делами прихода.
(обратно)119
Евангелизм — религиозное движение, возникшее в Англии в XVIII веке, отвергающее ритуальное служение и признающее только авторитет Евангелий.
(обратно)120
День всех святых — день, отмечаемый англиканской и католической церковью (1-го ноября) службами в честь святых, не имеющих собственного праздника.
(обратно)121
Аллахабад — город и область в индийском штате Уттар Прадеш на реке Ганг, место водных церемоний индуистов.
(обратно)122
Соверен — золотая монета в один фунт стерлингов, чеканившаяся до 1917 года.
(обратно)123
В трагедии Шекспира «Макбет» к Макбету на пиру является призрак Банко, убитого подосланными им убийцами, и вызывает у него ужас (акт III, сц. 4).
(обратно)124
Строка из баллады «Женщины» Редьярда Киплинга (сборник «Баллады казарм», 1892–1896).
(обратно)125
Палантин — меховая или бархатная женская накидка.
(обратно)126
Элеонора Аквитанская (1122–1204) — жена английского короля Генриха II, которая согласно легенде отравила возлюбленную своего мужа.
(обратно)127
Крикет — английская национальная спортивная игра, напоминающая русскую лапту; играется на травяном поле командами по одиннадцать человек.
(обратно)128
Черная магия — идущее от средних веков представление о колдовском искусстве и чародействе с помощью дьявола или других темных сил, в отличие от белой магии, при которой чудеса совершаются с помощью добрых духов и святых.
(обратно)129
Спиритизм — мистическое течение, основанное на вере в то, что умершие люди продолжают свое существование в качестве духов и могут общаться с живыми при посредничестве медиума.
(обратно)130
Эктоплазм — в спиритизме светящаяся субстанция, исходящая от тела медиума, когда он впадает в состояние транса.
(обратно)131
Каноник — в англиканской церкви старший священник кафедрального собора.
(обратно)132
Первый убийца — персонаж трагедии Шекспира «Макбет», Один из убийц.
(обратно)133
Продолжение цитаты из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт IV, сц. 5); слова, произнесенные Офелией.
(обратно)134
Лимерик — очень популярная в Англии разновидность шутливо-абсурдного стихотворения, состоящего обычно из пяти строк.
(обратно)135
Кембридж — один из крупнейших и старейших университетов в Англии, основан в XII веке.
(обратно)136
Так говорят о нелепых по сложности устройства машинах и механизмах. По имени журналиста У. Хита Робинсона (1872–1944).
(обратно)137
Бридж — карточная игра, в которую играют две пары партнеров.
(обратно)138
Навсикая — в поэме Гомера «Одиссея» прекрасная дочь царя феакийцев Алкиноя, которая нашла на берегу моря потерпевшего кораблекрушение Одиссея и помогла ему вернуться на родину, в Итаку.
(обратно)139
Подиум (лam.) — возвышение, платформа в студии, на эстраде, стадионе и т. п.
(обратно)140
Ярд — мера длины, равная 91,44 см.
(обратно)141
«Пер Гюнт» — драма норвежского поэта и драматурга Хенрика Ибсена (1828–1906).
(обратно)142
Уордор-стрит — улица в Лондоне, ранее известная антикварными магазинами.
(обратно)143
Харли-стрит — улица в Лондоне, где находятся приемные ведущих частных врачей-консультантов.
(обратно)144
Опунция — растущее в жарких странах растение из семейства кактусов, цветущее желтыми, красными или пурпурными цветами.
(обратно)145
Сан-Мигель — город в Сальвадоре, на Панамериканском шоссе, административный центр департамента Сан-Мигель. Основан в 1530 году.
(обратно)146
Тоттнем — исторический район Лондона, населенный преимущественно беднотой.
(обратно)147
Парк-Лейн-Корт — улица в Лондоне, в Уэст-Энде, известная своими фешенебельными гостиницами и особняками.
(обратно)148
Интоксикация — отравление организма ядовитыми веществами.
(обратно)149
Озерный край — живописный район гор и озер, на территории ряда графств северо-западной Англии, в 1951 году ставший национальным парком; был воспет многими поэтами, и в частности в XIX веке поэтами «Озерной школы» У. Вордсвортом (1770–1850), С. Колриджем (1772–1834) и Р. Саути (1774–1843).
(обратно)150
Нитроглицерин — взрывчатое вещество, представляющее собой бесцветную сладковатую маслянистую жидкость без запаха, в малых дозах применяется в медицине.
(обратно)151
Температура указана по шкале Фаренгейта, принятой на Западе; по принятой в России шкале Цельсия это составляет около 13 градусов тепла.
(обратно)152
«Даймлер» — марка дорогого легкового автомобиля, производимого одноименной компанией.
(обратно)153
Твид — грубая шерстяная ткань с особым диагональным плетением нитей двух или более разных цветов.
(обратно)154
Магнетизм — в нетерминологическом употреблении способность одних тел притягивать к себе другие, а также способность некоторых людей воздействовать на других, подчиняя себе их волю.
(обратно)155
Игдрасиль — в скандинавской мифологии гигантский ясень, древо жизни и судьбы.
(обратно)156
Аммоний — не существующее в свободном виде соединение азота с водородом.
(обратно)157
Эльфы — в мифологии германских народов воздушные существа, благожелательно относящиеся к людям. Имеют обыкновение водить хороводы при лунном свете.
(обратно)158
Рокарий — сад с нагромождением камней и низкорослой альпийской растительностью, имитирующий высокогорную местность.
(обратно)159
В первые века нашей эры христиане подвергались жестоким преследованиям со стороны римских императоров, по приказу которых их заживо сжигали, распинали на крестах, травили на потеху толпе дикими зверями.
(обратно)160
Босфор — узкий пролив между Мраморным и Черным морями.
(обратно)161
Марафон — спортивный бег на дистанцию 42 км 195 м (по названию древнегреческого поселения в Аттике к северо-востоку от Афин, где в 490 году до н. э. греки в сражении победили персов; воин, посланный с вестью о победе в Афины, добежав без остановки до города и передав сообщение, упал замертво).
(обратно)162
Бридж, румми, энимал грэб — различные виды карточной игры; играя в румми, игроки подбирают карты по достоинству и последовательности и сбрасывают их.
(обратно)163
Роббер — в некоторых карточных играх законченный цикл, состоящий часто из трех партий.
(обратно)164
Принятая в большинстве стран система исчисления времени, при которой земной шар разбит на 24 пояса, и за точку отсчета берется время первого (начального) временного пояса, средний меридиан которого проходит через городок Гринвич, недалеко от Лондона.
(обратно)165
Цикламен — небольшое растение из семейства первоцветов с белыми, розовыми или пурпурными цветами.
(обратно)166
Стриндберг Юхан Август (1849–1912) — известный шведский писатель.
(обратно)167
Араукария — чилийская ель, хвойное растение из семейства еловых с большими яйцевидными шишками, достигающее значительной высоты и растущее в Америке.
(обратно)168
Какой красивый вид! (фр.).
(обратно)169
Гамбургская шляпа — мужская фетровая шляпа с узкими, немного загнутыми полями и продольной вмятиной на мягкой тулье (названа по городу Гамбург, где впервые стали производить такие шляпы).
(обратно)170
Я немножко сноб! (фр.).
(обратно)171
Оригиналка! (фр.).
(обратно)172
В конце концов! (фр.).
(обратно)173
Виктория (1819–1901) — английская королева, последняя из Ганноверской династии, правившая в 1837–1901 годах.
(обратно)174
Куртина — огороженная дерном цветочная или иная гряда в саду.
(обратно)175
Дина Дурбин (род. 1921) — актриса кино и театра, родившаяся в Канаде; в 30—40-х годах работала в Голливуде.
(обратно)176
Хейди Ламарр (род. 1914) — псевдоним австрийской актрисы Хедвиги Кислер, работавшей с 1937 года в Голливуде, а также на американском радио и телевидении.
(обратно)177
Нервный шок (фр.).
(обратно)178
Танбридж Уэллс, Торки, Истборн, Сент-Леонард — известные курортные города Англии.
(обратно)179
Миля — мера длины, равная 1,609 км.
(обратно)180
«Обзёрвер» — старейшая воскресная газета умеренно-консервативного направления.
(обратно)181
«Ньюс оф де Уорлд» — воскресная газета бульварного толка, часто публикующая сенсационные материалы и основанная в 1843 году.
(обратно)182
«Британика» (Британская энциклопедия) — крупнейшая английская энциклопедия, впервые изданная в трех томах в 1768–1771 годах в Эдинбурге, а в 1979 году вышедшая в тридцати томах.
(обратно)183
Тамтам (tomtom) — звукоподражательное слово, воспроизводящее звук барабана и используемое как название простейших барабанов, бой которых в некоторых обществах сопровождает ритуальные танцы, передает сигналы и сообщения и т. п.
(обратно)184
Бексхилл-город на побережье пролива Ла-Манш, курорт.
(обратно)185
Уайтчепл — один из беднейших районов Ист-Энда в Лондоне.
(обратно)186
Коростель — небольшая птица семейства пастушковых, живущая на лугах, быстро бегающая и плохо летающая. Издает громкие резкие звуки.
(обратно)187
Сибарит — праздный, изнеженный роскошью человек (по названию древнегреческого города Сибариса на юге Италии, жители которого, по преданию, славились любовью к роскоши и удовольствиям).
(обратно)188
«Меккано» — фирменное название детского конструктора.
(обратно)189
Гинея — денежная единица, равная 21 шиллингу, до 1971 года применявшаяся при исчислении гонораров, оценке картин, скаковых лошадей и т. п. (первоначально чеканилась из золота, привозимого из Гвинеи).
(обратно)190
Феминизм — движение за освобождение женщин, за равенство женщин с мужчинами во всех областях жизни, в политике, в избирательных правах и т. д.; первоначально феминизм возник как движение в XVIII веке в США.
(обратно)191
«Смит-и-Вессон»-38 — система револьвера, личного многозарядного нарезного огнестрельного оружия большого калибра.
(обратно)192
Гендель Георг Фридрих (1685–1759) — немецкий композитор и музыкант, значительную часть жизни проживший в Англии и возглавлявший в Лондоне оперный театр; автор монументальных сочинений.
(обратно)193
Орден Бани — один из высших орденов Великобритании, учрежденный королем Георгом I в 1725 году. Имеет три степени и два класса: упоминание Ордена Бани второй степени, в переносном смысле, по-видимому, означает и наследника второй степени, который поэтому не наследует имение предков.
(обратно)194
Цитата из поэмы «Мод» (1855) английского поэта викторианской эпохи Альфреда Теннисона (1809–1892).
(обратно)195
Мой друг (фр.).
(обратно)196
Преступление на почве ревности (фр.).
(обратно)197
Маузер-25 — род автоматического пистолета, названный по имени изобретателей братьев Вильгельма и Пауля Маузер (1834–1882 и 1838–1914); калибр (диаметр ствола) — 25 мм.
(обратно)198
Пинта — мера вместимости жидкости и сыпучих тел, равная 0,57 л, а также кружка такой вместимости.
(обратно)199
Эль — разновидность светлого пива.
(обратно)200
Бомбей — портовый город в западной Индии на побережье Аравийского моря.
(обратно)201
Хор — в древнегреческой трагедии группа людей, обычно от 12 до 24 человек, принимавшая участие в представлении, дополняя основное действие или сопровождая его пением и танцами.
(обратно)202
Омар — крупный морской рак, который водится у северных берегов Европы и мясо которого высоко ценится из-за прекрасных вкусовых качеств.
(обратно)203
Колоратурный пассаж — украшение вокальной пьесы переливами голоса, трелями, руладами.
(обратно)204
Шефтсбери-авеню — улица в центральной части Лондона.
(обратно)205
Савилроу — улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных.
(обратно)206
Паддингтон — вокзал в Лондоне, конечная станция Западного района, а также пересадочный узел метро.
(обратно)207
Оксфорд-стрит — одна из главных торговых улиц в центральной части Лондона.
(обратно)208
«Баркли» — лондонская гостиница-люкс и ресторан на улице Баркли-стрит.
(обратно)209
Специально приготовленных блинчиков (фр.).
(обратно)210
Бонд-стрит — одна из главных торговых улиц Лондона, известная своими фешенебельными магазинами, особенно ювелирными.
(обратно)211
Жадеит — поделочный камень, нефрит желтовато-зеленого цвета.
(обратно)212
Викарий — приходский священник в англиканской церкви, государственной церкви Великобритании.
(обратно)213
Химера — неосуществимая мечта, плод воображения.
(обратно)214
Челси — фешенебельный район в западной части Лондона, известный также как район художников.
(обратно)215
Хорошо! (фр.).
(обратно)216
Ватерлоо — лондонский вокзал, главная конечная станция Южного района для поездов, обслуживающих запад Великобритании.
(обратно)217
Имеются в виду традиционные соревнования по гребле между двумя восьмерками Оксфордского и Кембриджского университетов; проводятся ежегодно на реке Темзе на дистанции 7,2 км.
(обратно)218
Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт IV, сц. 5).
(обратно)219
Троянский конь — согласно древнегреческим мифам, огромный деревянный конь, построенный греками по предложению Одиссея во время осады Трои, чтобы проникнуть в неприступный город; троянцы взяли коня в город, а ночью спрятавшиеся внутри коня греки вышли из укрытия, напали на спящих троянцев и после ужасной кровопролитной битвы овладели Троей.
(обратно)220
Это невероятно! (фр.).
(обратно)221
Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт I, сц. 2).
(обратно)
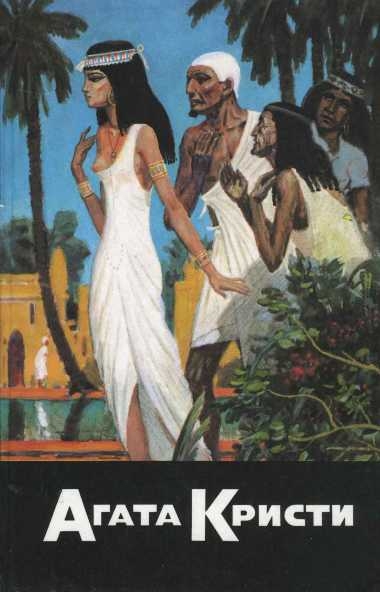



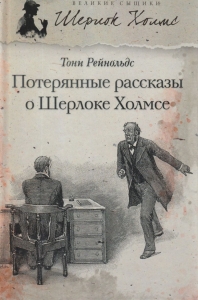

Комментарии к книге «Смерть приходит в конце. День поминовения. Лощина», Агата Кристи
Всего 0 комментариев