Ричард Халл Убийство моей тетушки. Убить нелегко (сборник)
Richard Hull
THE MURDER OF MY AUNT
MURDER ISN’T EASY
Перевод с английского
А. Н. Анастасьева («Убийство моей тетушки»),
Л. Г. Мордуховича («Убить нелегко»)
Печатается с разрешения литературных агентств United Agents LLP и The Van Lear Agency LLC.
© R H P Goodwin
© Richard Hull,1936
© Перевод. А. Н. Анастасьев, 2015
© Перевод. Л. Г. Мордухович, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
* * *
Убийство моей тетушки
Я был бы гораздо счастливее, если бы ее не стало на свете. И если бы я нашел способ достичь этого без риска.
Часть I В один жаркий день
Глава 1
Моя тетя живет в непосредственной близости от небольшого и абсолютно безобразного городка Ллвувлл. Вот именно. В этом-то весь ужас. Во всех смыслах.
Как, скажите на милость, может хоть одно разумное существо жить в городе, чье название не в состоянии выдавить ни одна христианская глотка? А я утверждаю и настаиваю: «Ллвувлл» произнести невозможно. Человек склонен начинать слово с его начала, но в случае с Ллвувллом у вас этот номер не пройдет. Его надо начинать еще до начала, что само по себе смехотворно. Один литератор сказал мне по секрету, что «лл» в первой позиции следует артикулировать примерно как «схл» или «тхл», причем «т» или «с» на практике остается где-то «за бортом» – по-моему, совершенно бесполезная и неосуществимая рекомендация. Другой знакомый советовал воспроизводить в гортани легкий щелчок – так, как будто собираешься издать звукосочетание «кл», но в последний момент тебе сжимают горло и не дают этого сделать. Что я могу на это сказать? Если всякий раз вместо ответа на вопрос, где вы живете, судорожно хватать себя за горло и давиться слюной, это, пожалуй, вызовет толки.
Но предположим, вы приступили-таки к трудному делу произнесения данного слова – главные сложности подстерегают вас в середине. Там вы наткнетесь, естественно, не на «у» и даже не на «вув», а на что-то вроде удвоенного «о», однако все же с едва уловимым ароматом «у»! Это последнее руководство взято из учебника, но восклицательным знаком снабжаю его я. Автор руководства, видимо, не усмотрел необходимости в подобном знаке препинания. Как бы там ни было, хорошенько сдавив глотку и от души поплевавшись, вы можете наконец вступить в бой за финальное «лс» или «лт». Всего-то семь букв, а сколько возни!
Что касается меня лично, то в своей речи я по созвучию переименовал город в Глупый. Этим все сказано.
Ллвувлл – я со своим Глупым тут наверняка в меньшинстве, так что все же Ллвувлл, – если вы еще не догадались, находится в Уэльсе. Большинство людей, как я понимаю, не нуждаются в такой географической справке. И более жуткого места мне сроду не приходилось видеть. Поразительно, сколько народу задыхается от восхищения валлийскими ландшафтами. Я, например, только и слышу, как мне повезло жить в «очаровательном уголке». Не представляю, что в нем находят очаровательного. Сплошные дурацкие холмы. Ужасно утомительно на них взбираться – и только для того, чтобы тут же начать спуск. Вечно промозглые влажные леса. Причем всякий раз, когда я отправляюсь размять ноги, меня тут же гонит прочь какой-нибудь сторож с криками, что я, мол, представляю угрозу его дурацким фазанам и идиотским «луговым травкам». Ох-х! Как мне это осточертело! Нельзя ли уже убраться куда-нибудь в старый добрый Суррей?
А вот еще дороги. Отвратительные, головоломно извилистые узкие тропинки, почти повсюду испещренные голыми выступами кремниевой породы, тут и там проваливающиеся отвесными кручами, так что прохожему ничего не видно, кроме сплошных зарослей ежевики, шиповника и того, что имеет острые колючки, – будто ломишься через частокол. Еще надо добавить, что, даже когда удается проделать в нем брешь, какой-нибудь исполнительный идиот обязательно сразу затянет ее колючей проволокой. Ну а если кому из путников выпадет чудом избежать отвесных круч и частоколов, что он увидит перед собой? Всегда одну и ту же картину. Покуда хватает глаз, на целые километры вокруг – холмы и леса, леса и холмы, похожие, как братья-близнецы. За всю историю мира рука человека ни разу не коснулась этой бессмысленной беспорядочной мешанины, нагроможденной природой. А ведь она ждет уборки и огранки.
Так вот, вернемся к дорогам. Во всей округе нет ни единого сколько-нибудь протяженного участка, где можно вести машину с приличной скоростью. Подумать только! Да здесь никто нигде и никогда, я думаю, не ездил быстрее пятидесяти пяти километров в час. Если бы вы знали, какое облегчение я испытываю, оставив всю эту дикость позади, когда выезжаю на Уотлинг-стрит, где можно вволю разогнаться прямо к горизонту. Где нет этих убогих возвышенностей по сторонам и под колесами – ровное гладкое покрытие, а не эти ужасные ллвувллские тропы, которые ремонтируются так: покрываются очень тонким слоем гудрона, засыпаются очень большим количеством острых камней примерно с куриное яйцо величиной и в таком виде достаются несчастным участникам дорожного движения, чтобы те бесконечно долго ползли по дороге.
Я перечитал все, что успел написать, дабы отвести душу и выразить сильные чувства по поводу этого жуткого места, и мой взгляд задержался на «промозглых влажных лесах». Совершенно точное определение, доложу я вам. Никогда, абсолютно никогда не прекращается здесь дождь – кроме тех случаев, когда зимой идет снег. Говорят, что именно поэтому у нас тут растут такие прекрасные деревья – ведь именно из местных дубов были построены эскадры Нельсона и Родни[1]. Что тут сказать? В наше время корабли из древесины не строят, они больше ни к чему, а по мне так все деревья на свете в общих чертах одинаковы. Уж лучше пусть будет поменьше дождей, поменьше деревьев и побольше людей в округе. Как там? «Ах, Одиночество! Напрасно Мудрец воспел тебя не раз»[2]? Вот именно. Я бы гораздо охотнее согласился «вернуться в мир, где жить опасно», чем оставаться на этом «необитаемом острове».
Деревья и реки, реки и деревья. На каждое человеческое существо тут приходится, наверное, по несколько тысяч деревьев, и я уверен, что в радиусе тридцати километров здесь водится больше форели, чем людей. Еще хуже то, что из всех самых нудных, самых скучных людей на свете особо пламенный привет мне хочется передать любителям форели, то есть, я хочу сказать, любителям ловли форели, а не поедания ее. Truite meunière[3] – замечательное блюдо, лучше всего, на мой вкус, его готовят «У Сайро», а вот truite meunerie[4] – обычай размахивать руками, словно мельница, молотя цепом по воде и глуша форель, – это утомительно до колик. Удачный каламбур, не правда ли? Хотя и несколько натянутый.
И если находятся люди – любопытные, на мой взгляд, люди, занятные, а может, просто несведущие, плохо представляющие себе местность, – которым она, эта местность, нравится, то таких, кому нравился бы сам Ллвувлл, точно не найти. В его пользу невозможно наскрести никаких аргументов. Собственно, о нем вообще мало что можно сказать. Нагромождение уродливых зданий из красного кирпича. Все они очень похожи между собой, и ни одно из них не находится в удовлетворительном техническом состоянии. В самом центре города – неизбежная в таких случаях река, которая пробивает себе путь в узкой канаве среди холмов. Холмы – тоже точные копии друг друга. С одной стороны, на бугорке, – каменная церковь. Внизу, вокруг него, – небольшая россыпь нонконформистских часовен. Никто так и не смог установить их точного числа. Каждый раз, когда мне кажется, что я видел уже их все, я набредаю еще на одну-другую, и каждый раз эта «другая» принадлежит, судя по всему, другой секте. Или правильнее сказать – другой конфессии? Не знаю.
Имеется, конечно, главная улица. На ней – почта, откуда письма иногда доставляются, а иногда – нет. Там же – несколько бакалейных лавок. Они мало чем торгуют, кроме консервов, причем самых обыкновенных, и их цена ровно в полтора раза выше обычной. Есть и пара мясных лавок – здесь продают главным образом новозеландскую баранину, датскую грудинку и аргентинскую телятину, что нелепо в местности, где очень много чего недостает, но баранов и овец полным полно, причем каких-то особенно, своеобразно тупых. Хватает также назойливо любопытных свиней. Хотя чего еще можно ожидать при правительстве, каким мы располагаем в настоящее время? Впрочем, по правде сказать, меня настолько мало занимают подобные вещи, что я слабо представляю себе, каким мы, собственно, располагаем. Как бы там ни было, жители Ллвувлла продолжают покупать в качестве праздничного угощения консервированную лососину и консервированные абрикосы, а в остальное время – экономить, поедая размороженное мясо, жаренное на маргарине. В то время как у соседа на ферме… ну да оставим разговор о фермерах.
Есть тут и кинотеатр. Лично мне никогда не приходило в голову развлекать себя лицезрением пошлых, плебейских, общедоступных, кое-как состряпанных метров экранной возни, где грубое зубоскальство выдается за изысканное остроумие; с горем пополам склеенные фрагменты чувств играют роль сюжета; без малейшего духа художественности или композиции в технике исполнения; без всяких попыток обратиться к подлинным жизненным проблемам; без единой оригинальной мысли; без намека на авторский замысел. Слыхали вы когда-нибудь о киносценарии, написанном Уайльдом, Пиранделло или Чеховым? Смешно себе представить!
Но даже если бы мне вдруг захотелось посетить подобное мероприятие, я, право, не мог бы позволить себе появиться в заведении под названием «Иллюзион Уинна» – оно ведет свое происхождение от родового имени лорда Пентра, крупнейшего в здешних краях помещика. Билеты так дешевы, что на соседнем с вами месте может оказаться кто угодно. Ну, а кроме того, что классовых различий еще никто не отменял, некоторые сельскохозяйственные рабочие так пахнут…
Однако вернемся в Ллвувлл и к Ллвувллу. Вернуться в него иначе, как на автомобиле, кстати, весьма затруднительно, а в дом моей тети – и подавно. Железная дорога, извиваясь, как змея, несет свои тяжелые составы в этот Богом забытый варварский край адски медленно. Я всегда пытаюсь представить себе – и поверьте, это сладостная фантазия, – что наконец-то уже открылось полноценное железнодорожное сообщение с этим недоразумением, отмеченным на карте километрах в пятнадцати от Ллвувлла под названием Аберквум, где пару раз в неделю проходят ярмарки. Пока же из Аберквума приходится добираться так называемым «легкорельсовым транспортом», и ничего более невыносимого, чем по-улиточьи ползти эти пятнадцать километров в течение часа, я представить себе не могу. Не знаю, как другие пассажиры, но я во время этого приятного путешествия всегда задергиваю шторку.
Глава 2
Полагаю, к настоящему моменту я сказал достаточно, чтобы убедить любого читателя – позже, если, конечно, эти заметки кто-то когда-то прочтет, я объясню, почему это сомнительно, – так вот, я сказал достаточно, чтобы доказать: жить близ Ллвувлла невыносимо. Жить в доме моей тетушки – еще хуже.
От конечной станции пресловутого идиотского «легкорельсового транспорта» до усадьбы Бринмаур – добрых три километра с лишним, а моя тетя – из тех людей, которые сделают все, чтобы заставить вас пройти эти километры пешком. Она особенно охотно устраивает дело так, что мне волей-неволей приходится топать на своих двоих – именно потому, что знает, как я не люблю этот способ передвижения вообще, а особенно ненавижу дорогу до Бринмаура. Это слово, насколько я понимаю, в переводе с валлийского означает «Большой холм» – нелепое название для частного дома, но, во всяком случае, оправданное. Сразу за Ллвувллом вам приходится лезть на холм и продолжать в этом духе два километра. Но главное, что это за холм! Тетя, с превеликим тщанием изучив карту военно-геодезического управления, уточняет, что длина подъема составляет ровно сто восемьдесят три метра – то есть, как бы там ни было, весьма немало. Охотно верю ей на слово, хотя цифры мало о чем мне говорят. Иное дело, что это очень в духе моей тети: не просто запастись самыми подробными картами этих омерзительных краев на десятки километров вокруг, но и получать удовольствие, разглядывая их часами напролет – ей нравится называть такое занятие «чтением карт», – а потом извлекать из памяти точные данные, вплоть до высоты любой кочки в округе. При этом, заметьте, во всем доме не найдется ни единой автодорожной схемы, пригодной для использования водителем.
В общем, преодолев в гору сто восемьдесят три метра – или фута, или ярда, черт его разберет, – вам, как водится в этой местности, способной довести любого до белого каления, приходится тут же скатываться вниз – только для того, чтобы затем опять карабкаться вверх. Эти последние семьсот метров представляют собой настоящий кошмар. Тетка говорит, что там подлинные красоты природы. Я же нахожу дорогу полезной лишь в качестве испытания возможностей моего автомобиля: здесь есть довольно крутые склоны, хотя, на мой взгляд, – ничего особо впечатляющего; а вот резкие виражи, особенно тот, что приходится делать у моста через ручей на дне Лощины, как называют этот овраг местные, – эти виражи представляют для водителя некоторую трудность тем, что входить в них можно лишь на убийственно малой скорости. Ну а преодолевать их пешком – знаете ли…
У меня просто кровь вскипает в жилах при воспоминании о том, как тетя обвела меня вокруг пальца, заставив тогда днем отправиться пешком в Ллвувлл и обратно без всякой нужды!
Все началось за ланчем. Утром я закончил La Grotte du Sphinx[5] и как раз раздумывал, что бы почитать днем. Разумеется, у тети отсутствует что-либо подходящее для чтения. Дом битком набит Сертисом[6], Диккенсом, Теккереем, Киплингом и всеми остальными настоящими писателями, которых нынче никто не читает. Что касается личных вкусов моей тетушки по части современной литературы, то они не простираются дальше «Добрых товарищей»[7], «Когда придет зима»[8] и нескончаемого Хью Уолпола[9]. В этих условиях я, конечно, принял кое-какие меры при содействии отчасти книжного клуба «Новое поколение», отчасти – чудесной маленькой Французской библиотеки, обнаруженной мною сразу за Британским музеем. И тот и другая время от времени посылают мне весьма занимательные вещицы.
Обычно я не довожу дело до того, чтобы остаться один на один с художественными сокровищами тетушкиных запасников, но на этот раз отчего-то так вышло, что с утренней почтой очередная ожидаемая книжная партия не пришла – очень подозреваю, что в силу обычной нерасторопности местной почтовой службы. Перспектива остаться без книг вовсе меня не радовала, так что я без всякого благодушия или энтузиазма наблюдал за тем, как невысокая, но излучавшая решительность тетина фигура движется через мост к вершине холма. Да уж, думалось мне, тетю Милдред в сельских одеждах никак не назовешь зрелищем, радующим глаз. Что ж, по крайней мере, есть повод получить удовольствие от пары лишних глотков свежего воздуха в саду, – и я вышел за порог ей навстречу.
С полпути через лужайку она помахала мне рукой, а метров за двадцать принялась оглушительно – что за отвратительная манера? – кричать.
– Неужели ты все утро сидел дома в такую замечательную погоду? – воскликнула она, сдвинув на затылок явно слишком молодежный для нее берет, к тому же синего цвета – уродливого в сочетании с седеющей шевелюрой. – На улице просто потрясающе. Твоей одутловатой физиономии пошло бы на пользу, если бы ты почаще гулял.
Терпеть не могу, когда тетя переходит на личности. При желании я мог бы, не долго думая, парировать: цвет собственного лица ей таким образом улучшить не удается. Однако я промолчал, просто смерив выразительным взглядом ее надутые, как яблоки, мещанские щеки, цветущие нездоровым румянцем, а также лоб, покрытый красными пятнами и за версту заметной испариной. Любому стало бы ясно: слово «пудра» незнакомо моей тетке.
– Сейчас очень жарко, – мягко ответил я. – Слишком жарко, чтобы прогулка могла доставить радость даже тому, кому в принципе нравится подобное времяпрепровождение.
Многозначительность этих слов не укрылась от тетиного сознания. Надо отдать ей справедливость, от нее вообще ничего не скроешь. Ей вполне можно доверять в толковании того, что стоит за любым высказыванием любого собеседника, причем иногда точность этих толкований превосходит желаемые пределы.
– Что ж, может, я и вспотела («Что вы, тетя Милдред!» – успел вставить я), но точно провела время с большей пользой, чем если бы читала грязные французские романы.
– Моя дорогая тетя Милдред, La Grotte du Shinx – книга ни в малейшей степени не (тут я приподнял бровь) «грязная».
– Ну, а вот нос у меня наверняка запачкался, – невпопад отчебучила тетка. – Тебе тоже не помешает пойти помыть руки, если не хочешь опоздать к ланчу. – Она стряхнула какую-то колючку со своей поношенной, совершенно недопустимой в приличном обществе зелено-голубой твидовой юбки и зашагала к дому.
– Полагаю, у меня это займет не так много времени, как у вас, дорогая тетя, – пробормотал я. Ненавижу, когда со мной обходятся, как с ребенком. И уверен, что тетку уязвляет, когда ее называют «дорогая».
Она, однако, даром что не вышла ростом и была одета в старье, вошла в свое жилище, как королева.
– Кстати, – произнесла моя родственница, после того как примерно половина ланча протекла в гробовом молчании, – сегодня утром там, внизу, у Фронского леса, я встретила Оуэна Дэвиса.
С мимолетным интересом я оторвался от пирога с крыжовником. Оуэном Дэвисом зовут местного почтальона. Что касается Фронского леса, то понятия не имею, где он произрастает. Все эти леса для меня одинаковы.
– Он сказал, – продолжала тетя, накладывая себе в чашку чрезмерную порцию коричневого сахара, – что на почте лежит бандероль с книгами из чего-то там французского, но часть наклейки с адресом оторвалась. Он подумал: это, вероятно, для тебя, поскольку, как он выразился, «кроме мастера Эдварда, у нас тут никто такого не читает». (Тетя, как всегда, сочла уместным изобразить безобразную валлийскую распевную интонацию. Я же едва удержался, чтобы не поморщиться при словах «мастер Эдвард».) Разумеется, это твоя посылка, но тебе придется самому идти за ней в Ллвувлл. Не правда ли, – в тетином голосе послышались торжествующие нотки, – сто́ящая цель для прогулки?
– Не имею не малейшего намерения отправляться туда пешком, тетя Милдред. Книги, должно быть, тяжелые. Собственно говоря, вашему протеже Дэвису они, наверное, и показались слишком тяжелыми, поэтому он просто поленился тащить их сюда в гору. Очень, очень похоже на то, – слегка распаляясь, продолжал я. – Где это слыхано, чтобы гуммированная наклейка пришла на почту оторванной? Мои добрые друзья из La Bibliotheque Moderne[10] в таких делах крайне аккуратны.
– Не сомневаюсь, – тетя издала неприятный смешок. – Наверняка им вовсе не хочется, чтобы почта возвращала их посылки обратно, ведь для этого нужно наводить справки, и вдруг в полиции прочтут, что они там рассылают. Но ты позабыл о легкорельсовом транспорте. Ты же знаешь, что там у всех вагонов крыши протекают. Вероятно, наклейку с адресом просто наполовину размыло вчера дождем, вот кусок и оторвался.
– А еще вероятнее, что Дэвис нарочно его оторвал. Он терпеть не может доставлять сюда посылки.
– Ну, ты бы на его месте тоже не мог этого терпеть. Видишь, тебе противна сама мысль один-единственный раз проделать то, что ему по твоей милости приходится выполнять каждую неделю.
– Это его работа, а не моя, – с достоинством возразил я, передавая тетке тарелку с сыром.
– И что, от этого ему приятнее с ней справляться? Будь я на его месте, я бы вообще брезговала расхаживать по дорогам с подобными книгами в руках.
– Разве ему за это не платят?
Отчего-то простое упоминание этого обстоятельства рассердило тетю. Она резко поднялась со стула.
– Во всяком случае, обвинять Дэвиса в том, что он оторвал этикетку, – бред, чепуха, и я позабочусь о том, чтобы ты не получил свою бандероль, иначе как явившись за ней лично в Ллвувлл пешком!
– Этого не будет, – заметил я.
Тетка, по всей видимости, забыла о наличии у меня автомобиля.
Я тоже встал и пошел в свою маленькую комнату, ехидно прозванную тетей будуаром, – вздремнуть пару минут после ланча, что я нахожу весьма здоровой привычкой. Кроме того, было благоразумно оставить тетушку одну в подобном настроении.
Однако вскоре оказалось, что сон отказывается приходить с обычной готовностью. Легко забыться дремотой может лишь тот, чей разум ничто не тревожит, мой же был возбужден. Очень маловероятно все-таки, что тетка забыла про машину, хоть я и тщательно избегал упоминания о ней в разговоре. И очень уж твердо она заявила, что не даст мне завладеть книгами без пешей прогулки. Внезапно меня посетила ужасная мысль. А если тетя зайдет совсем уж далеко и устроит диверсию против моего автомобиля, моей драгоценной машины? Эта мысль немедленно прогнала весь сон. Пришлось вскочить и, обойдя дом, направиться к гаражу. Проходя через холл, я услышал, как тетка говорит с кем-то по телефону. Прислушался: оказалось, с почтмейстером. Она, дескать, беспокоится за судьбу книг, поэтому не будет ли он любезен проследить, чтобы их ни в коем случае не отдали никому, кроме как ее племяннику в собственные руки, причем в Ллвувллском отделении? Почтмейстер, по всей видимости, пообещал, что посылка не покинет пределов упомянутого отделения иначе как вместе со мной. Интересно, нельзя ли будет потом прижать этого типа за выдачу безадресного отправления? Мне он никогда не нравился.
Тетя меж тем основательно взялась за дело. Удаляясь, я услышал, как она снова вызывает на коммутаторе какой-то номер, и с ужасом узнал номер местного гаража – дела в нем велись без всякого азарта и спустя рукава, но другого подобного заведения в Ллвувлле просто не было. Теперь скорее к «Ла-Жуаёз», моей машинке! К счастью, познания моей тети в устройстве автомобильных двигателей не слишком обширны. Вряд ли она пошла на то, чтобы долбить «Ла-Жуаёз» молотком, или прибегла к другим столь же примитивным методам, а с более тонкой работой она бы просто не справилась. Но все же я испытал значительное облегчение, обнаружив автомобиль на своем месте и вроде бы невредимым. Значит, решено: немедленно отправляюсь на нем в Ллвувлл – раньше, чем любой из теткиных хитроумных планов удастся реализовать… И только тут я вспомнил, что собирался отрегулировать кое-какие незначительные неполадки в двигателе и для этой цели, ради безопасности ремонта, нарочно израсходовал почти весь бензин, а потом, на беду (кто бы мог представить себе такое положение, как сегодня?), даже выкачал из бака последние остатки. Наверняка тетушка об этом знала и простодушно решила, что факт отсутствия топлива не даст мне прибегнуть к помощи «Ла-Жуаёз».
Простодушно? Да. Простодушие, правда, города берет… однако мы так просто не сдаемся. Первым делом я подергал двери ее собственной машины – и не особенно удивился, найдя их запертыми. Тогда вспомнил, что тетка всегда держит несколько запасных канистр бензина «для непредвиденных случаев». Сейчас как раз такой случай. На эти-то канистры я теперь возложил все надежды. Только бы до них добраться. Я направился туда, где они хранились, но, к моему изумлению, ангар оказался пуст! Видимо, хозяйка их спрятала! Этого было достаточно, чтобы привести человека в бешенство, но, если старуха полагает, что меня так легко сломить, ее постигнет горькое разочарование. Жаль только, что я зазевался после ланча и сам предоставил ей драгоценное время для действий. Теперь-то ясно, что надо было уезжать сразу же. Постойте-ка! Ведь мне самому тоже ничто не мешает позвонить в Уиннландский гараж?
Я схватился за телефонную трубку в ту же секунду, как тетка выпустила ее из своих рук. В глазах ее сверкнул недобрый огонек, но, к моему вящему удовлетворению, на лице мелькнуло и выражение тревоги. Насколько я мог догадываться, она была очень довольна собственным хитроумием, и в то же время нечто в ее поведении заставляло предположить: тетя понимает – некоторые детали упущены, и это создает серьезный повод для беспокойства. Значит, необходимо держать ухо востро и следить, чтобы это беспокойство, так сказать, не материализовалось на практике.
Гербертсон, хозяин Уиннландского гаража, не относится к числу моих лучших друзей. Дела своего он совершенно не знает, и, к сожалению, когда однажды пришлось ремонтировать мою машину, я был вынужден ему на то указать и передать свой заказ в другой гараж. Тем не менее за элементарными нуждами – такими, как бензин – все равно приходилось обращаться к нему. Родную тетку, свою плоть и кровь, выдавать торгашу я, конечно, не стал. Просто сказал: увы, так случалось, что мы с тетей оба остались без капли бензина, не пошлет ли он кого-нибудь к нам наверх с малой толикой?
К моему удивлению, владелец заявил: жаль, мол, но это невозможно. В гараже якобы возникли кое-какие непредвиденные трудности. В подлинность этих трудностей мне сложно было поверить. Сделав над собой усилие, я проглотил всю свою гордость одним куском и принялся расписывать наше с тетей отчаянное, беспомощное положение. Я зашел так далеко, что попросил его сделать нам личное, особое одолжение. Естественно, в список «одолжающихся» я не забыл включить тетю, зная, что Гербертсон относится к ней с большим уважением, а меня ценит невысоко. Впрочем, меня это вполне устраивает.
– Извините, мистер Эдвард, – раздался из трубки противный голос Гербертсона. Не мешало бы, право, всем и каждому в округе перестать трепать при каждом случае мое личное имя. Фамилия на что? – Сейчас при мне тут нет никого, кого я мог бы отослать. Я всегда и во всем готов услужить мисс Пауэлл, но ведь она только что звонила и объясняла мне ситуацию иначе. Насколько я ее понял, дело несрочное, да и вообще. Очень извиняюсь и все такое, но, боюсь, сейчас ничем не могу помочь. – Сказав все это, он имел наглость бросить трубку.
Больше никогда не оставлю ни пенса в его мерзкой лавке, если только смогу обойтись без нее! – в сердцах подумалось мне, хотя, если на то пошло, я ведь и раньше испытывал к ней те же чувства. Что поделаешь, время от времени приходится пользоваться его гаражом.
С минуту я сидел и размышлял. Было абсолютно понятно, что лгал он по наущению тетки. Что ж, очень хорошо. Она предусмотрела, что я могу воспользоваться данным путем для выхода из положения, и блокировала его. Раз на то пошло, теперь найти другой способ заполучить книги, не переставляя ноги по земле, – для меня дело гордости и чести.
Итак, получить бензин из Уиннландского гаража не получится. Отлично, я достану его в одном из аберквумских! Выйдет недешево, но для победы над теткой я готов расстаться с любой суммой, хоть и не могу похвастаться большим доходом. А ей потом, в свою очередь, предстоит насладиться оплатой счетов за телефонные разговоры с Аберквумом!
Но и тут возникло совершенно неожиданное препятствие. Линия связи с Аберквумом оказалась повреждена. Девушка на коммутаторе не имела ни малейшего понятия, когда ее починят. Тем не менее я все еще отказывался признать поражение. Что ж, стану методично обзванивать все гаражи – если надо, до самого Шрусбери, – но топливо добуду. Я попытался нашарить рукой телефонный справочник на полке. Его там не было. Опять тетина работа.
Да, старушка досконально все продумала. Теперь мне пришло в голову, что с коммутатором она, возможно, тоже в сговоре. Тетя ведь активно участвует во всех ллвувллских городских делах, знакома тут со всеми и с каждым. Наверное, и с этой девицей тоже. На несколько мгновений мне показалось, что это конец, но тут я вспомнил выражение теткиного лица. Чего-то она все-таки не предусмотрела. Еще пару минут я сидел, размышляя, и наконец меня осенило. Дверцы ее машины заперты, это верно, но можно же разбить ветровое стекло! В ее стареньком «Моррисе» есть топливо. Только утром залили полный бак. Сейчас она, наверное, спешит увести подальше свой автомобиль, жалея, что не позаботилась об этом с самого начала. Я буквально рванул с места и понесся – а я никогда не ношусь, если этого можно избежать, – к гаражу. Может быть, еще успею. И успел – тетина машина все еще стояла там…
Но тут вдруг в нос мне ударил необыкновенно сильный запах бензина. Теткина машина, как я вам уже сообщал, – старый «Моррис», положительно доисторического года выпуска. Это так характерно для моей родственницы – презирать все современные изобретения и из последних сил держаться за полуразвалившееся древнее корыто. Мне приходится признать, что оно все еще на ходу, и на довольно сносном ходу, но как ей не стыдно выглядеть в нем эдаким «синим чулком», этого я не понимаю. Среди многочисленных средневековых пережитков в конструкции данного автомобиля одно из главных мест занимает система залива и подачи топлива. В моем «Уолсли-Хорнет», чтобы полностью спустить бензин, его надо выкачать; чтобы опустошить теткин бак, достаточно снять крышку с поплавковой камеры карбюратора: топливо, не сдерживаемое ничем, просто стекает на землю. Именно такой фокус с крышкой моя противница и проделала: последние струйки бензина стекали как раз у меня на глазах. Даже удивительно, что старуха так хорошо разбирается в своем старом «Моррисе» – наверное, случайно дозналась прошлой зимой, когда в ее поплавковую камеру попала вода и пришлось ее прочищать.
Но сейчас было не до отвлеченных умозаключений. Время действовать, и только действовать. Я схватил собачью миску с водой, рывком вылил из нее содержимое и успел нацедить немного – увы, совсем немного драгоценной жидкости. Надеюсь, этого хватит?..
Нет, все же оказалось слишком мало. О том, чтобы доехать до Ллвувлла и обратно, не было и речи, но никто не мешает дозаправиться в самом Ллвувлле, у проклятого Хебертсона – тогда победа за мной! Я еще раз окинул взглядом крохотную лужицу горючего. Сомнительно, что удастся добраться даже в один конец, но хотя бы преодолеть Лощину? Если доеду туда, дальше можно просто скатиться вниз на холостом ходу.
Я действительно отправился в путь на верной «Ла-Жуаёз» и думал при этом: хорошо все же, что я не стал бить стекла в теткиной машине, когда нашел ее запертой. Мог бы порезаться!
Глава 3
Но вот финишировать на «Ла-Жуаёз» мне не пришлось.
До дна Лощины я, конечно, добрался. И только чуть-чуть, совсем чуть-чуть оставалось, чтобы вскарабкаться на противоположный склон. Увы. Вершина осталась непокоренной. Моя чаша бензина иссякла метров на сорок пять раньше, чем нужно.
Вот когда наступило настоящее затруднение. Естественно, я не мог бросить «Ла-Жуаёз» тут одну. Столь же естественно, что я не мог толкать ее вверх по склону. Пихать машину обратно до Бринмаура представлялось теоретически реальным, но невероятно утомительным занятием, да к тому же если бы это и получилось, то лишь возвратило бы меня в исходную точку! Несколько минут я стоял неподвижно и беспомощно смотрел на автомобиль. Из кустов неподалеку назойливая птица издавала идиотские истерические крики. Какой-то глупый кролик медленно брел по дну Лощины. Я наклонился и поднял камень. Бросок вышел недурной, возможно, даже и птицу задело. Во всяком случае, она почему-то заткнулась, а кролик скрылся в траве. Закурив сигарету, я попытался привести мысли в порядок и тут же дал себе торжественный обет: нет, не бывать тому, чтобы тетка похвалялась, как силой заставила меня дойти пешком до Ллвувлла.
И тут сама формулировка клятвы подала мне спасительную идею. Так или иначе, из всей этой гнусности придется выпутываться, правильно? Пускать дело на самотек нельзя, ибо, если тетя обнаружит «Ла-Жуаёз» здесь, на этом месте, видеть, как она потешается и веселится, будет невыносимо. Но вот если я дойду остаток пути до Ллвувлла, куплю немного бензина, а потом вернусь назад, то смогу честно утверждать, что выехал на автомобиле и вернулся на нем, и тетя никогда не узнает, что ее зловредный план удался. Конечно, на деле выйдет так, что бо́льшую часть чертовой дороги я все-таки прошагаю, но худшей участи избегу. А именно – прогулки по теткиному велению.
Первым делом следовало спрятать «Ла-Жуаёз», а то, не ровен час, нелегкая принесет сюда старуху. Я укрыл машину за ближайшим кустарником – спасибо дрозду, подсказал место своим пением. Выходит, и от дроздов есть какая-то польза. Дальше пришлось исполнить весьма энергозатратное восхождение. В финале я оказался неприятно разгорячен и потащился вниз очень медленно, стараясь восстановить дыхание. Нельзя же показаться в Ллвувлле таким расхристанным и запыхавшимся, упаси боже! По дороге было время обдумать, как бы преподнести дело Гербертсону. Даже приговор суда не заставил бы меня выложить ему все начистоту. Он непременно передал бы рассказ закоренелой сплетнице, моей тетке. А уж эта дама, как мне более чем хорошо известно из собственного опыта, самой природой создана, чтобы соваться в чужие дела и разбалтывать чужие секреты.
– День добрый, Гербертсон. – Мне пришлось изобразить приятную улыбку. Выдай я ему свои подлинные чувства, он решил бы, что вывел меня из равновесия своим нелюбезным поведением. А уж это само по себе доставило бы ему удовольствие, да и нагородило бы в его умишке вагон совершенно лишних мыслей. Мне было нужно одно: убедить его, что все идет прекрасно. – Очень рад, что у вас нынче столько дела. – Я дал ему понять, что ни секунды не верю его россказням по телефону. Затем бросил взгляд на развалившихся рядом в полной праздности работников. – Я тут все-таки наскреб пару капель горючего. Как раз хватило, чтобы доехать туда, откуда легко до вас дойти. Так что, если вы будете любезны продать мне канистру топлива «Шелл», я сам отнесу ее к машине и спокойно вернусь домой.
– Туда, откуда легко до нас дойти, мистер Эдвард? Сейчас пошлю кого-нибудь залить вам канистру. – Почему он вел себя со мной гораздо жизнерадостнее обычного, а в его глазах плясали огоньки любопытства?
– Не беспокойтесь, – отозвался я. – Вы же сами сказали, что у вас «нет никого, кого можно послать», слишком уж все заняты. Я сам справлюсь. Из-за канистры не беспокойтесь, верну в лучшем виде.
– Ну что вы, мистер Эдвард, о чем речь! Если что, я ведь всегда смогу вычесть ее стоимость из ваших новых заказов. (Торгаш до мозга костей.) Но если тут идти всего ничего, то я сам с вами прогуляюсь. Пара минут для старого клиента у меня всегда найдется. – И с этими словами толстый краснорожий детина уже почти зашагал по дороге, будто вправду собирался направиться со мной к «Ла-Жуаёз»! Даже в Ллвувлле я не могу позволить себе расхаживать по улицам рядом с человеком в синем рабочем комбинезоне! Всему есть границы. Ну и, конечно, «Ла-Жуаёз» стояла не то чтобы прямо за углом.
– Нет, от этого мы воздержимся, Гербертсон, – со всей твердостью заявил я, сам поднимая одну из канистр, стоявших вдоль стен гаража. Топливо оказалась более низкого качества, чем было нужно мне, но другого в пределах досягаемости не нашлось. Со всем достоинством, возможным в подобных обстоятельствах, я покинул гараж. Очевидно, этого достоинства хватило на то, чтобы никто за мной не увязался, но, дойдя до угла и оглянувшись назад, я с изумлением увидел, что весь гаражный персонал до последнего мальчишки застыл на самой середине дороги, созерцая, как я удаляюсь. Оставалось надеяться, что на моем примере они изучают тот единственно верный бледно-голубой оттенок, какой только и должен быть присущ мужским рубашкам. Впрочем, даже если так, учение не пойдет им впрок – они все равно умудрятся испортить его чем-нибудь непотребным: представления о цветовых гаммах и их сочетаниях у жителей Ллвувлла исключительно примитивные… Могу поклясться, что, едва скрывшись из их поля зрения, я услышал громкий смех. Вслед мне понеслись какие-то шутки – не сомневаюсь, грубые. Но я выбросил из головы Гербертсона вместе со всеми его клевретами.
Вместо этого через какое-то время я начал обдумывать одну мысль. Почтовое отделение тут в двух шагах. Появиться в Ллвувлле дважды за один день будет неэлегантно; кроме того, на это уйдет столько времени, что у тети возникнут лишние подозрения. Да, решено. Сунув вожделенную канистру с бензином за живую изгородь, я направился на почту. Захвачу свои книжки, раз на то пошло.
– Добрый день, мистер Эдвард. – Старик Хьюз, почтмейстер, излучал необычное для него добродушие и радость от встречи со мной. Разумеется, он тут же забыл о маленьком ребенке, которому как раз продавал мятные леденцы (дело в том, что Хьюз не только заведует почтой, но и держит лавку), и, вытерев липкие руки о довольно замызганный фартук, заковылял в противоположный конец своего магазина. – Вы пришли за своей книжной бандеролью, не правда ли, сэр? Большая удача, сэр, что мы знаем ваши привычки и вкусы, а то отослали бы ее обратно отправителям. Со слов мисс Пауэлл я понял, что это вас здорово бы расстроило.
Лично я решительно отказываюсь согласиться, что «знание моих привычек и вкусов» кем бы то ни было может обернуться «большой удачей», поэтому ограничился улыбкой – боюсь, несколько натянутой.
Хьюз же извлек откуда-то сверток – несколько большего размера, чем я рассчитывал, – напротив, с улыбкой лучезарной. Чудно́, право же, что и Хьюз, и Гербертсон, обычно обходившийся со мной довольно холодно, на этот раз оба проявили столь очевидное дружелюбие.
– Сегодня чудесный день для прогулки, мистер Эдвард, – продолжал почтмейстер. – Только боюсь, что вам тяжеловато будет тащить эту штуку обратно в Бринмаур. Вообще-то Дэвис мог бы занести ее завтра утром, нам ведь теперь известно, что она принадлежит вам, – кстати, простите, мне придется попросить у вас за нее что-нибудь вроде расписки. Но мне было сказано, что вы непременно желали заполучить книжки сегодня. Впрочем, я уверен, сэр, что теперь вы сами убедились, как приятно в такой денек погулять пешком, и вряд ли у вас появится желание тратить время на чтение.
Я бы предоставил ему спокойно молоть языком и дальше, но повторное упоминание о прогулке меня насторожило. Дело казалось нечистым.
– Да я вовсе и не гулял, – заметил я. – Это занятие редко приносит мне удовольствие.
– В самом деле, мистер Эдвард? – Хьюз водрузил очки на вспотевший лоб. – А я подумал, что вы пришли пешком. Шума машины не слышал.
– И не могли слышать. Она осталась за углом, у поворота на Бринмаур, – ответил я и быстро вышел, запечатлев последнюю фразу в его голове в полном соответствии со своим намерением. Последняя фраза всегда остается на памяти – тут уж нет никаких сомнений.
Сердце у меня, можно сказать, пело, когда, завернув на Бринмаур, я извлек из-за изгороди канистру. Затем бросил взгляд назад, на здание почты. Хорошо все-таки, что Хьюз возится у себя в лавке, да к тому же ревматизм не позволяет ему проворно карабкаться по лестнице, а то, еще чего доброго, он заметил бы меня через окно… Но, подняв глаза к последнему, я, к своему ужасу, заметил, как за ним колыхнулась уродливого вида портьера. Нет, так не пойдет. Никто не должен застать меня врасплох! Поддавшись инстинктивному приступу паники, я быстро спрятался за дерево – откуда, по всей вероятности, мог наблюдать, сам оставаясь невидимым. Больше портьера не шелохнулась. Я подождал еще несколько минут, а потом уныло поплелся в свой «горный поход».
Происшествие это меня встревожило. Готовность Гербертсона нарушить правила и самолично доставить бензин к машине, его с Хьюзом необыкновенная сердечность, замечание, оброненное почтмейстером – как он сказал? «А я подумал, вы пришли пешком»? – все это очень подозрительно. И почему же он так «подумал», интересно? Да, помню, тетка звонила ему насчет книг, и я уверен, у нее хватило нахальства упомянуть, что я спущусь за ними на своих двоих. Правда, так и вышло, но я совершенно не собираюсь признавать этого факта ни перед ней, ни перед стариком Хьюзом. Если бы только я был надлежащим образом подготовлен к разговору, я бы обеими руками ухватился за его предложение отослать книги завтра утром с Дэвисом. А я что сделал? Выдал ему расписку и с тем удалился. Ужасно легкомысленно. Нельзя ли как-нибудь исправить дело? Надо подумать.
Но не сейчас. Все эти странные инциденты в Ллвувлле, как бы ни были они незначительны, все же оставили странное впечатление. А вот если вдруг – допущение само по себе жуткое – тетка все это подстроила и теперь поджидает моего возвращения прямо на дороге? Ловушка внезапно показалась мне столь вероятной, что, хоть я и был тяжело навьючен – в одной руке канистра с бензином, в другой – бандероль, – без малейшего промедления нырнул через плохо заделанное отверстие живой изгороди прямо в чистое поле. Пасшиеся там коровы и овцы некоторое время развлекались преследованием моей персоны, но мне удалось разом преодолеть перелаз в ближайшем конце пастбища – даже позорно бежать не пришлось.
О событиях следующего часа я предпочитаю не распространяться. Мне пришлось петлять извилистыми тропами только для того, чтобы спуститься в Лощину чуть в стороне от основной трассы. С внутренней географией лесов я – естественно! – знаком слабо, так что слегка заплутал. Несколько раз мне приходилось залезать на довольно отвесные кручи – и немедленно, как полагается в здешних дурацких местах, спускаться резко вниз. В конце концов я сумел благополучно добраться до «Ла-Жуаёз». С каким же удовольствием я поехал обратно домой, создавая мотором столько шума, сколько только можно: пусть тетя за версту услышит о моем триумфальном возвращении! Конечно, одежду потом пришлось сменить, но я благоразумно позаботился о том, чтобы свежая рубашка тоном и фасоном напоминала прежнюю, – не мог же я позволить старухе заметить подмену. Правда, весьма заметную и болезненную царапину от ежевичной ветки на лице замаскировать не удалось. В общем, к вечернему чаю я слегка опоздал.
– Ну как? – с ходу поинтересовалась тетка, даже не удосужившись дожевать кусок пирога. – Хорошо прогулялся?
– Прогулялся? – Льщу себе надеждой, что маневр с удивленно поднятыми вверх бровями мне удался.
– Ну да, вон же у тебя опять какой-то из этих дрянных романов.
– Это правда. – В дискуссию о сравнительных достоинствах французской и английской литературы я не дам себя втянуть хотя бы потому, что ни о той, ни о другой тетя не имеет никакого представления.
– Стало быть, ты за ними сходил! – Она слегка подалась вперед на своем стуле с очень прямой спинкой и пристально, даже агрессивно, уставилась на меня.
Я ответил ей таким же пристальным взглядом.
– Уехал и приехал на машине. Правда, по странному стечению обстоятельств, почти нигде не было бензина. Пришлось несколько метров пройти пешком до Ллвувлла. Потому и задержался.
– Несколько метров, Эдвард?
– Несколько метров, тетя Милдред.
Воцарилось молчание. На теткином лице застыла мрачная гримаса. Она, кажется, очень близко к сердцу приняла проигрыш в нашем соревновании. Я совсем уже было хотел признаться, что ей удалось заставить меня в прямом и переносном смысле попотеть сильнее, чем мне хотелось. Старушенцию это немного утешило бы. Но… пожалуй, нет. Тогда она сразу догадается, что, в сущности, добилась успеха, а это недопустимо.
– Ну и отлично, дорогой. – Ее голос зазвучал неожиданно жизнерадостно. – В таком случае, раз ты не устал, сможешь помочь нам с Эвансом натянуть проволочную сетку над вишнями? Иначе скоро птицы растерзают их в пух и прах. Впрочем, если тебе сейчас не хочется, можем отложить до завтра.
К глубокому сожалению, мое личное участие в этом неприятнейшем ежегодном мероприятии давно вошло в традицию. Видимо, двух человек для такой операции недостаточно, и именно я тут незаменимый помощник, хотя не сомневаюсь, что запросто нашлась бы куча других. Помню, как-то раз я отказался, и что вы думаете? Тетка просто вообще не стала натягивать сетку. Я люблю вишню (она, кстати, нет), а тем летом птицы склевали все ягоды до единой. Однако выбрать для ежегодной пытки сегодняшний день – день, когда тело мое жаждало отдыха, когда послеобеденный сон мой был прерван, ноги болели, руки висели подобно плетям, мускулы были утомлены, лицо поцарапано, когда все естество мое требовало приостановить физическую деятельность, – выбрать такой день, о, сколь это было жестоко!
Но, наверное, тетя не подозревает о том, сколь это жестоко? Я поторопился ответить:
– Не хочется? О, что вы! Я свеж, как огурчик, никогда не чувствовал себя бодрее.
– А по тебе не скажешь, – прокомментировала тетка ровным тоном, но с особой значительностью в голосе, продолжая пристально рассматривать мою царапину.
И вот в эту секунду я вдруг до конца разобрался в своих чувствах по отношению к Милдред Пауэлл. Именно тогда в моей голове сформулировалась фраза, с которой начинаются эти заметки!
Ах, какое облегчение я испытал, излив рассказ об этом весьма характерном происшествии на бумагу. Приступил я к делу вчера после обеда, когда изнурительные события минувшего дня наконец подошли к концу, а закончил сегодня утром. Пожалуй, и продолжу в том же духе – буду делать такие вот слегка беспорядочные дневниковые записи всякий раз, когда почувствую необходимость облегчить разум и сердце. Недавно я узнал, что одна из новейших религиозных сект подняла на щит идею «делиться» – исповедоваться в грехах публично, то есть перед людьми, физически присутствующими в одном с вами помещении. Я же предпочитаю поверять свои беды только безмолвным листкам бумаги, которые никогда не увидит и не прочтет никто другой.
Глава 4
Сегодняшний день был наполнен неприятностями. Тетя находилась в странном настроении, а надо сказать, что я не знаю другой женщины, способной до такой степени заражать своим волнением всё и вся вокруг. С самого завтрака стало ясно: что-то крутится у нее на уме. То казалось: вот она уже на грани того, чтобы высказаться, но сдерживается. То представлялось: она сейчас возьмет и просто рассмеется надо мной мне же в лицо, а кому такое понравится? Естественно, я целый день думал, не имеет ли это ее состояние отношения к событиям вчерашнего дня. Оставляя в дневнике запись, я тщательно взвешивал каждый аргумент за и против такой версии. Возможно, тетка действительно знает о моих недавних приключениях гораздо больше, чем мне казалось? И, соответственно, затея с натягиванием проволочной сетки была просто актом злорадства?
В том, что тетя в принципе способна на злорадство, сомневаться не приходилось, но тот ли это случай? Все же не думаю. Насколько я способен проанализировать факты, лишь два из них могли указать ей путь к разгадке. Первый – царапина; очень странно, кстати, что она о ней не спрашивала и не упоминала. Второй – мое слишком долгое отсутствие. Но, в конце концов, существует тысяча причин, по которым человек может опоздать к вечернему чаю! Например, естественное желание избежать ее, теткиной, компании за столом после того безобразного affaire[11], начавшегося за ланчем.
В настоящий момент из своего окошка я вижу тетку на лужайке. Лужайка представляет собой как бы резкий обрыв между французским окном гостиной и лугом, начинающимся сразу за садовой оградой. Далее, в нескольких километрах за лугом, местами утыканном старыми дубами, под которыми коровы фермера Уильямса лениво укрываются от дневной жары, поднимаются отроги так называемой Широкой горы – длинного холма, лишенного отличительных черт и ничем не заслужившего права именоваться «горою», – сегодня, впрочем, она смотрелась неплохо. На значительном отдалении слева за послеполуденной дымкой неясно различимы три пика, именуемые Гольфами, – они, словно колонны, охраняют границу Англии и Уэльса. Кто-то из теткиных белых голубей сонно воркует, и слабый ветерок шевелит листву в зарослях медных буков. Сейчас тот редкий случай, когда я, к своему удивлению, обнаруживаю: мне почти нравится окружающий пейзаж. Неприятно-тревожный диссонанс вносит только тетка, занятая подрезанием роз. Сама она, если бы знала, что я сейчас испытываю, обязательно во всеуслышание заявила бы: умиротворение моих чувств есть прямое следствие физических упражнений, предпринятых вчера. Ну, собственно, иного никто и не ждал: моя родственница достаточно бестактна, чтобы прилюдно обсуждать даже мою печенку.
Теперь я вижу, как через лужайку к нашему дому шагает Уильямс, а тетя торопится ему навстречу. Я наперед знаю, что она ему скажет: станет жаловаться на коров, топчущих ее луг, к тому же, наверное, будет на дурацкий сельский манер упорно называть их «телочками». Если мне повезет, всю сегодняшнюю едва сдерживаемую злость она выльет на фермера. Даже отсюда отчетливо видно: оба на взводе.
В следующий момент тетка вдруг позвала меня к себе. С превеликим облегчением изложу на бумаге все, что она сказала, – благо ее слова до сих пор звенят у меня в ушах. Да, по сию пору все во мне кипит и клокочет при мысли о том, что особа женского пола может дойти до таких пределов грубости, вероломства, готовности плести гнусные интриги, вовлекая в них нижестоящих лиц, до такой изощренности в злых умыслах, до такого… Перо переломилось у меня в руке. Ничего удивительного.
Так вот, явившись в сад, я застал ее трясущейся от ярости. Она вообще подвержена подобным приступам, и самообладания ей хватает ненадолго. Тетка сразу приступила к делу, совершенно не обращая внимания на присутствие Уильямса:
– Эдвард, я всегда ненавидела лжецов.
Не могу не признаться, что в этот миг проявил слабость и залился краской – главным образом, конечно, краснеть приходилось за нее. Неуклюже притопывая в садовых ботах, она продолжала:
– Рада, что тебе хватает совести по крайней мере краснеть! Я разобралась во вчерашней истории и в твоем позорном вранье. Мне даже неважно, что ты наговорил Гербертсону и Хьюзу – мол, этот твой плебейский новомодный автомобиль «стоит тут, в двух шагах, за углом». Знаешь, я от души хохотала, глядя, как ты прятал его за кустами в Лощине. А уж как смеялись Хьюз с Гербертсоном, когда ты бегал с бандеролью и канистрой! Когда ты неуклюже шмыгнул за то дерево, они просто животы надорвали! Откуда смотрели, спрашиваешь? Да из-за почты, естественно, прямо из-за угла дома… Ха-ха, вид у тебя сейчас такой, будто тебе заехали по переносице. Эта твоя бездарная, глупая, несостоятельная, наскоро состряпанная история никого не могла ввести в заблуждение, но не в этом дело. Заруби себе на носу: если я сказала, что ты пешком идешь в Ллвувлл, значит, ты пешком идешь в Ллвувлл. Гербертсон и Хьюз, разумеется, просто действовали согласно моим инструкциям, но ведь у них обоих есть и свои счеты к твоей светлости, поэтому я дала им возможность вдоволь повеселиться и поиздеваться над тобой.
– Тетя, мне искренне жаль, что вы так уронили свое достоинство. – Я уже успел овладеть собой. – Конечно, если эти мужланы вдоволь надо мной посмеялись – приятного мало. Но мысль о том, что вы сами унизились до мелкой интриги в союзе с каким-то сельским почтмейстером, во сто крат печальнее.
Я собирался еще прибавить: надеюсь, мол, теперь вы горды и довольны, но тетка резко перебила:
– В нем во сто крат больше от мужчины, чем в тебе, и, что еще печальнее, больше от джентльмена.
– Вы уверены, тетя, что наш обмен мнениями представляет большой интерес для Уильямса? – заметил я. Да что такое с этой старухой, она совсем потеряла представление о приличиях?
– Мистер Уильямс тоже некоторым образом связан с этим делом, – неожиданно возразила она.
– Каким же?..
– Таким же. О том и речь. Как я уже сказала, ложь и лжецы составляют предмет моей ненависти, но твои жалкие попытки сохранить драгоценное достоинство еще можно понять. Когда же доходит до эгоистического пренебрежения к чужой собственности, до отсутствия малейших, элементарных понятий о том, как надлежит вести себя добрым соседям в сельской местности, до черствого, бездушного наплевательства на удобства и покой других людей, на безопасность их скота, – когда дело доходит до этого, я не просто киплю от ненависти, я высказываюсь.
– Разумеется, когда речь шла об остальном, вы просто стояли, набрав в рот воды, тетушка. – Впрочем, к тому времени на меня уже снизошло просветление. Все стало ясно. – Учитывая, – продолжил я, – что коровы Уильямса вчера устроили на меня настоящую охоту, я не могу взять в толк, к чему вы клоните.
– Как минимум два человека стали свидетелями вашего поведения, юноша. – Тетино лицо пылало, и она подошла так близко, что чуть не впечатала его в мое собственное. Уильямс тем временем переминался с одной ноги в облезлой гетре на другую. – Во-первых, я сама за тобой наблюдала всю дорогу, с самой вершины холма Ир-Аллт. Оттуда открывается превосходный вид, и, знаешь, вид ты действительно являл собой превосходный, – продолжала она, неожиданно широко ухмыльнувшись. – Ну, когда выбрался из Фронского леса к своей обожаемой машинке. О, что за чудный вид: пот льет градом, весь исцарапан, весь какой-то замусоленный, жирное тельце измучено, сальные волосы взъерошены. Боже мой, боже ты мой, ну просто очаровательная картина! А какое у тебя было выражение лица – глазки бегают, вид недовольный… А каким оно стало потом, когда я внесла идею обносить вишни сеткой! Ужасно хотелось расхохотаться, только я была для этого слишком на тебя зла. – Тут тетя в самом деле хлопнула руками по бедрам и загоготала, как гусыня. Другого слова не подберешь.
Случаются в жизни моменты, когда утвердить собственное достоинство можно только полным молчанием. Я развернулся и зашагал обратно к дому.
– Не-ет! – заголосила тетя, чей настрой в одну секунду изменился. – Рановато уходишь. Я еще не рассказала о втором свидетеле, об Оуэне Дэвисе. Он и так достаточно натерпелся из-за твоих книг, поэтому я решила: справедливо будет после всех твоих нелестных замечаний о нем дать ему поглазеть, как ты сам тащишь их на своем горбу. Он решил забраться на холм чуть пораньше, и с его наблюдательного пункта было прекрасно видно, как ты злонамеренно снес забор мистера Уильямса.
– Господи, какие выражения, какой пафос! – заметил я. – А речь-то идет всего-навсего о плохо и неизвестно зачем заделанной дыре в ограде.
– Неизвестно зачем! – вдруг фыркнул Уильямс, впервые за все время встревая в разговор.
– Позвольте, мистер Уильямс, я продолжу свой рассказ, – поставила его на место тетка.
Уильямс моментально стушевался и подчинился «просьбе». Они все тут тушуются перед старухой. И что дает ей такое огромное влияние на всех и каждого в округе?
– Так вот, – продолжала она, – он не только в мельчайших деталях видел, как ты ломал забор, но и как совершенно смирные коровы мистера Уильямса неторопливо брели за тобой. Так поступают все нормальные коровы, когда приходит время их доить, или просто из коровьего любопытства. И еще он наблюдал, как ты позорно, трусливо, – теткин голос щедро сочился ядом, – из чисто животного страха швырялся в них камнями. По счастью, Оуэн Дэвис – мужчина, а не плаксивая тряпка, которая в ужасе улепетывает при виде домашней коровы. Он по мере сил заделал забор, – ты хоть понимаешь, что иначе весь скот разбрелся бы, и тогда – ищи-свищи его? – и опять-таки, как мог, оказал первую помощь корове, раненной тобою. Сейчас я по выражению твоего лица ясно вижу: ты до сих пор не осознал, что вел себя невоспитанно, по-хамски. Поэтому, чтобы разъяснить этот момент максимально доходчиво, я затрону наиболее чувствительную часть твоей личности – карман. Заставлю тебя заплатить, – проговорила тетя, вновь подняв ко мне пылающую физиономию и для пущей убедительности размахивая указательным пальцем перед моим носом. – Во-первых, заплатить за капитальный ремонт забора, во-вторых, за время и силы, потраченные Оуэном Дэвисом, в-третьих, за ветеринарное обслуживание, в-четвертых, за моральный ущерб, причиненный крупному рогатому скоту, в-пятых… – Тут тетя запнулась и повернулась к Уильямсу за подсказкой.
– За молоко, – молвил этот достойный индивидуум. К его чести, скажу, выглядел он немного смущенным тем, как баснословно наживется на мне благодаря грозному духу моей тетки, алкавшему мести.
– Да, и за молоко, – подтвердила тетка, хотя, похоже, даже ей было несколько неясно, при чем тут оно.
– Не доили. Пропало, – коротко объяснил Уильямс.
– Да, не доили, и оно пропало, – подтвердила тетя скороговоркой. – И еще ты заплатишь за все остальное, что придет мне в голову.
Я обернулся к Уильямсу:
– Как бы там ни было, вы сорвете на этом деле недурной куш, верно? – Затем снова обратился к тете, собрав в кулак все достоинство: – С радостью, – в эти слова была вложена вся презрительная ирония, на которую я был способен, – оплачу эти убытки.
И на том я оставил эту приятную пару. Секунду-другую царила тишина – даже тетка безмолвствовала. Затем, как бы опомнившись, пустила мне в спину через всю лужайку парфянскую стрелу:
– О нет, рад ты не будешь, поверь мне! Но заплатишь все до пенса, уж я об этом позабочусь. Вычту из твоего содержания!
К великому сожалению, так она и сделает.
Глава 5
Теперь надо спокойно обдумать положение. А то что-то, должен признать, в голову стали приходить очень странные мысли. Черт, какую гору родила эта мышь – собственноручная доставка домой бандероли с книгами.
Давайте же взглянем в лицо фактам. Жизнь здесь для меня невыносима. Так почему не покинуть эту распроклятую, гнусную, тоскливую дыру, почему не сделать это раз и навсегда – завтра же? Или даже сегодня?
Ответ прост. Я не могу уехать потому, что у тетки ключи от моего кошелька. Мой отец был неудачлив в финансовых делах. Я даже полагаю, что именно связанные с безденежьем тревоги и беды так рано свели в могилу и его, и маму. Во всей этой истории, похоже, есть какая-то тайна. Во всяком случае, я никогда не мог заставить тетку и бабушку, когда та была еще жива, рассказать мне все во всех подробностях. Всякий раз они переводили разговор на другую тему. Или просто старались так или иначе отделаться от меня. Даже все эти селяне, наши соседи, при всей своей болтливости никогда и словом не упоминали о моих родителях.
Как бы там ни было, бабушка оставила весьма любопытное завещание. Тетка становилась по нему моим единственным опекуном и попечителем. Все имущество отходило ей безусловно и до конца жизни, но она обязывалась выплачивать мне содержание, размер которого была вольна определять сама, – выплачивать до тех пор, пока я оставался под ее крышей или живя там, где она была согласна, чтобы я жил. Если же я ее покину, она освобождается от всяких моральных обязательств помогать мне, так же как и от юридических. Все было полностью и безоговорочно на ее усмотрении. С другой стороны, в какой-то момент она дала торжественную клятву «позаботиться обо мне». Обидный для меня вариант, хотя должен отдать тете справедливость: если она что-то пообещает, будет исполнять обещание до гробовой доски. После ее смерти Бринмаур, по иронии судьбы, должен отойти мне, как и все состояние. Можете не сомневаться, я немедленно продам дом и отправлюсь наконец жить в цивилизованном мире. Теперь вы понимаете, почему я начал это повествование словами: «Моя тетя живет в непосредственной близости от небольшого – и во всех отношениях безобразного – городка Ллвувлл? Вот именно. В этом-то весь ужас. Во всех смыслах».
Кстати, пролистывая написанное, я наткнулся на упоминание о Суррее. Нет-нет, на самом деле, будь я себе хозяин, поселился бы, естественно, не там. Говоря о «цивилизованном мире», я имею в виду цивилизованные страны. Сомневаюсь, что к таковым можно причислить какую-либо из частей Великобритании. В конечном итоге я думаю осесть в Париже, а возможно, в Риме – правда, там эти кошмарные фашисты… Время от времени я стану приезжать на Лазурный Берег, в Неаполь, в места вроде Рагузы[12] и Стамбула. А в сырьевые английские колонии, в эти грубые придатки Британской империи, – уж увольте, никогда. Однажды я познакомился с австралийцем, и он так пожал мне руку, что… Прошу прощения, я отвлекся.
Так вот, в настоящий момент я лишен возможности проживать где-либо, кроме Ллвувлла, поскольку тетка категорически отказывается выплачивать мне достаточное содержание, чтобы устроиться отдельно от нее. Остается только вообще отказаться от всяких финансовых требований к ней – во всяком случае, на время. Возможно, у меня получилось бы найти какую-нибудь работу, из тех, что унижают человеческое достоинство, но нет, думаю, вы и сами понимаете, что для меня это невозможно, исключено – ну просто совершенно немыслимо. Я однажды попробовал себя в модернистском стихосложении, но для коммерческого успеха такого занятия на свете не хватает культурных, утонченных людей – их слишком мало. И знаете, я даже рад этому.
Итак, мне приходится оставаться в Ллвувлле до тех пор, пока в нем – и вообще в этом мире – остается моя тетя, остается и настаивает, чтобы я прозябал в Ллвувлле. И она так скрупулезна, так педантична в исполнении своих обещаний, что, боюсь, никакие мои действия не склонят ее к прекращению «заботы» обо мне, а под заботой старуха разумеет постоянный присмотр. Ах, если бы, если бы только тетку… С теткой… Но нет, о таком варианте я даже думать не стану. От этой мысли перо дрожит у меня в руке, а в голове разгуливаются самые ужасные, пугающие фантазии. Все, надо убрать эти листочки в ящик, пока я окончательно не утратил покой. Не стану об этом думать… Не стану… Не стану… Это дорога в… Господи, что мне делать с этими слухами, с этими глухими подозрениями относительно смерти отца?!
Глава 6
На несколько дней я отложил записи и не прикасался к ним, чтобы спокойно, основательно все обдумать, привести мысли в порядок, как и собирался с самого начала. По внешним признакам наши отношения с тетей вернулись на обычный, постоянный уровень, то есть – без малейших проявлений сердечности. Конечно, она так же действует мне на нервы, как и всегда. Ее до крайности мужское, несентиментальное отношение к жизни и твердый обычай никогда «не взирать на лица» хоть кого из себя выведут, но я за время нашего совместного существования выработал защитные меры. Приложил все усилия к тому, чтобы все это не задевало меня более, чем лишь в определенной степени. Бо́льшую часть времени я проводил с моим пекинесом Так-Таком. Его восточная раскосая физиономия настраивает меня на спокойный философический лад.
«В сущности, если разобраться, что на этом свете имеет значение, чему следует его придавать? – как бы вопрошал пекинес. – Вот ты, без сомнения, мой единственный друг на земле, но и тебя я с радостью, с готовностью предал бы и бросил, если бы от этого хоть чуть-чуть зависел мой комфорт».
Какая похвальная честность, и какой откровенный цинизм! А разобраться – так он прав. Стальной, несгибаемый дух, даже если он заключен в оболочку «жирного тельца и белокурых сальных волос» – тут хочу оговориться: мой превосходный лак для волос отнюдь не придает им сальности, – так вот, мой стальной несгибаемый дух обязан мужественно принимать факты такими, каковы они есть.
Что ж, отлично, давайте взглянем в лицо фактам. Когда я писал: «… весь ужас, вся беда заключается в том, что моя тетка живет в Ллвувлле», я знал, что говорю. Я был бы гораздо счастливее, если бы ее не стало на свете. И если бы нашелся способ достичь этого без риска, то – поймите правильно, настолько она меня достала, до такой меры раздражения довела – я не остановился бы перед серьезными мерами для достижения данной цели. Желательно быстрыми и безболезненными. Но, увы, такого способа я не вижу.
Какого бы низкого мнения мы ни были о квумских органах правопорядка, но если мисс Милдред Пауэлл в ближайшее время тем или иным образом встретит свой безвременный и, очевидно, насильственный конец, подозрение абсолютно неминуемо падет на ее единственного родственника. На единственного человека, которому эта смерть явно выгодна материально, да еще с кем, как всем известно, она недавно поссорилась. И если именно этот последний в действительности будет движущей причиной ее отбытия из бренного мира, он автоматически и неизбежно окажется в большой опасности. К тому же, честно говоря, не думаю, что, как бы гениально ни удалось мне организовать дело, как бы ни был я уверен, что в конце концов обвинения с меня снимут, – так вот, не думаю, что выдержу затяжную кошмарную пытку подозрением, допросы с пристрастием, возможно, даже суд.
Это мне совершенно ясно. Я – слишком очевидный, слишком явный подозреваемый, чтобы позволить тете удалиться на тот свет внезапно; как ни старайся отмежеваться, как ни отстраняйся от такого события, сколь бронебойное и стопроцентное алиби ни подготовь – заподозрят. Следовательно, не может возникнуть даже вопроса об убийстве, и я отказываюсь о нем долее размышлять.
Видите, как много я успел сегодня написать до того, как меня вдруг отвлекло любопытное происшествие. В течение уже долгого времени Так-Так ведет тяжелую распрю с тетиными белыми голубями. Он категорически – и, на мой взгляд, совершенно справедливо – возражает против их присутствия в доме (в саду они ему не встречаются), так что пускается шумно преследовать их при первой возможности. Увы, все напрасно, у него слишком короткие ножки. Тетка, в свою очередь, приучила голубей клевать у нее прямо с ладони и позволяет им залетать в помещение через французское окно, которое распахивает настежь даже в самые суровые зимние дни, – плевать она хотела на порывы невыносимо морозного воздуха, проникающие внутрь. Итак, сегодня Так-Так мирно спал на солнышке – его рыжевато-бурый окрас превосходно гармонирует с коричневато-золотыми тонами ковра! Так вот, он лежал настолько спокойно и неподвижно, что один голубь, без всякого приглашения впорхнув в окно, не просто не заметил Так-Така, а наступил прямо на его потешный носик-пуговку!
Естественно, песик его сцапал. Любой его сородич на его месте поступил бы так же. Я – не великий поклонник голубей, но был бы благодарен Так-Таку, если бы он загрыз птицу не прямо у меня в комнате и не в такой неподходящий момент. Во-первых, на ковре осталось маленькое, но совершенно отчетливое пятно. Во-вторых, происшествие это оказалось слишком уж в унисон моим мыслям. Вот если бы тетя каким-нибудь этаким образом попала в челюсти судьбы, если бы с ней приключилось что-нибудь в таком роде!.. Видимо, надо сказать Эвансу, пусть похоронит голубя. А то еще Так-Так расшалится с трупиком. Лучше закопать его где-нибудь подальше, а то пекинес опять найдет и откопает. Вот ведь морока…
Глава 7
Вы не поверите, но даже пустячный голубь явился еще одним яблоком раздора между нами с тетей. Все началось за ланчем – когда же еще? В другое время я более или менее успешно избегаю встреч с нею.
– Положить тебе мясного пирога, родной? – ударение, поставленное на слове «родной», иначе как лицемерным назвать было нельзя. – Прости, что не с голубятиной. Твоя моська справилась с престарелым пернатым калекой. Так выразился Эванс.
Я давно понял: совершенно бесполезно спорить с ней и указывать на глубинную несправедливость ее тезисов. По этой причине на несколько минут повисло молчание. Тетка развернула свой довольно-таки могучий торс, чтобы отогнать прочь Так-Така – тот в своей трогательной манере как раз выпрашивал немного пирога и для себя. Я не перестаю восхищаться тем упорством духа, с каким мой пекинес из года в год пытается завоевать тетину привязанность, не уставая налаживать канал получения лакомых угощений из самого трудного источника, имеющегося в доме, вместо того чтобы идти по пути гораздо меньшего сопротивления и обращаться ко мне.
– Какая противная собаченция, – поморщилась тетя Милдред. – Учти, если она в ближайшее время не научится себя вести, придется от нее избавиться.
Это было уже слишком.
– Я не позволю этого сделать. Не забывайте, пожалуйста: он мой пес.
– А то был мой голубь.
– Он наступил на Так-Така, когда тот спал, и стал его дразнить. Естественно, собака огрызнулась.
– Естественно. Чего еще можно ожидать, если хозяин науськивает ее на голубей всякий раз, как их видит.
Я пришел в такое возмущение, что, к сожалению, позволил куску мясного пирога отправиться в организм неверным путем и оттого оказался не в состоянии ответить на чудовищное обвинение. Более того, тетя, находясь под ложным впечатлением, что нашла лучшее средство помощи в такой ситуации, вскочила как ошпаренная и нанесла по моей спине несколько ударов такой сокрушительной силы, что в глазах у меня выступили слезы.
– На будущее имей в виду, мой дорогой Эдвард, – продолжила она, вернувшись на свое место, – ты обязан лучше следить за своим животным. Или я приму меры. – Это была знаменитая грозная формула моей родственницы, известная мне наизусть с малых лет и всегда предвещавшая нечто неизбежное и донельзя неприятное. Я бросил взгляд, исполненный презрения, но и, надо признать, некоторой тревоги, на голубую блузу, которая нелепо болталась на старухе и нелепо же ее молодила. Ее серо-зеленые глаза, в свою очередь, сверкали непоколебимой решимостью, а ноздри крупного носа раздувались от возмущения.
– Я буду следить за моим милым бедным крошкой Так-Таком, тетя Милдред, – произнес я. – Буду. Даже если больше никто этого делать не станет. – И с этими словами протянул песику самый лакомый кусочек со своей тарелки. Увы, для его нежного язычка он оказался слишком горячим, и ему пришлось выплюнуть его на ковер. Причем за кусочком последовало небольшое свидетельство болезненного состояния желудка моей собаки.
– Пока ты не слишком хорошо справляешься, – мрачно прокомментировала произошедшее тетя. – Впрочем, можешь начать свое исправление с уборки этой гадости. Тряпка в ящике шкафа в прихожей.
Вот никак не возьму в толк: почему последнее слово всегда должно оставаться за ней?
К концу ланча за окном полил дождь. Поистине нет ничего печальнее на свете, чем сырая погода в сельской местности. Над холмами к западу от нашего дома тучи способны собираться с такой дьявольской скоростью, что нет никакого смысла полагаться на прогнозы в газетах или радиопрограммах. Минуту назад небо еще сверкало голубизной, солнце источало щедрые лучи, и вы не сомневались: предстоит отменный денек – и вот уже всю округу заволакивает грязно-серой туманной дымкой, навевающей чудовищную тоску, и облачность приносит с собой холодную густую морось, которая потом еще обращается в ливень – на целые часы, если не дни. Вот я смотрю в свое окно и вижу луг за садом, но коров уже угнали домой, так что глазу не представляется ничего, кроме размокшей травы и истекающих каплями деревьев. Широкая гора скрылась за хребтами туч, а вершины под названием Гольфы теперь, наверное, пребывают где-то в другой вселенной. Каким обособленным, каким одиноким, отлученным от рода человеческого, каким потерянным, каким жестоко осажденным целыми мирами непролазной серости ощущаешь себя в такие моменты! Ветер свистит над Ир-Аллтом – сегодня даже тетка не смогла бы засесть там, чтобы вдоволь поглумиться над несчастным человеком, мающимся на дороге, ведущей в Ллвувлл. Ветер теребит плющ, увивающий стены Бринмаура. Отсюда мне сейчас отчетливо виден, пожалуй, лишь внешний подоконник, выкрашенный в кошмарный розовый цвет. Мне он всегда напоминает одну из самых безнадежных субстанций на свете – соус из анчоусов. Однажды я заявил тете протест по поводу этого цвета и немедленно получил столь же сокрушительный, сколь и неуместный ответ: подоконник всегда был таким.
Всегда был! Краеугольное убеждение моей тетки во всем, что касается устройства дома, как снаружи, так и изнутри, таково: правильно то, что обычно, что традиционно, что было всегда! Но ведь в моей комнате и так ни в одном углу не отыщешь намека на современность. А тетино чувство цвета! Я однажды пытался объяснить ей, как сильно окружающая обстановка, в особенности цвет обстановки, влияет на тонкие ткани душевной структуры индивидуума. Она же парировала каким-то весьма обидным замечанием о свитере, который тогда чисто случайно оказался на мне. Ну хорошо, возможно, он был чуть кричащего оттенка, тон протертой клубники и вправду ярковат для моей светлой кожи, но в любом случае говорить об этом не следовало.
Тетина гостиная тоже сохраняет неизменный вид. Ковер с бессмысленными узорами, в основном оливково-желтыми, крайне мучителен для глаз. Хозяйка признает его «неудовлетворительность», но выбросить отказывается из соображений экономии. Обои – очень прихотливые обои! – испещрены столь же бессмысленными розочками и виноградными лозами; полагаю, они были в моде примерно тогда, когда прискорбно бездарный деятель по имени Уильям Моррис только создавал свои странные теории «Красоты домашнего очага». Кресла со стульями или «одеты» в совершенно неподходящие ситцевые чехлы местного изготовления – еще бы, ведь бедной мисс Как-Ее-Там из Ллвувлла очень нужна работа! – или просто сверкают голой обивкой из (надо же было додуматься) красного плюша. Из грязного потертого красного плюша! Всякий раз, входя в комнату, вздрагиваешь…
Над беломраморным камином – вычурно позолоченное окно, а прямо напротив него расставлены умопомрачительные вещицы из дрезденского фарфора: пастухи и пастушки, все, изволите ли видеть, в стеклянных футлярчиках! Посредине меж ними почему-то торчат абсолютно неуместные дорожные часы – тоже в футляре, но из облезлой кожи. Почетное центральное место им досталось, несомненно, за многолетний точный ход. Можно подумать, в Бринмауре он кому-то нужен, время тут все равно стоит на месте. Как-то раз я осмелился указать на это символичное противоречие тете, но она истолковала мои слова предельно буквально:
– Вовсе оно не стоит, дорогой мой. Время здесь идет так же исправно, как во всем остальном мире. К примеру, кухарка проявляет похвальную пунктуальность в приготовлении обедов и ланчей. А вот ты к ним всегда опаздываешь… – Тут она пустилась в ненужные рассуждения о моей горячей любви к пище вообще и горячей пище в частности, в общем, как всегда, – придирки и упреки, упреки и придирки, и только в мой адрес!
Ладно, придется сделать перерыв. Сегодня днем нам предстоит отправиться пить чай и играть в бридж с доктором Спенсером и его женой-пустышкой. Они живут в полутора километрах с другой стороны от Ллвувлла, и я отнюдь не предвкушаю веселой поездки. Даже собираюсь попытать счастья и попросить тетю отложить визит.
Глава 8
Разумеется, попытка оказалась пустой тратой времени. Давно пора привыкнуть, что любые, даже самые разумные предложения тут же отвергаются, если исходят от меня.
– Но, дорогой мой, мы же дали Спенсерам слово. – Тетя опустила свое вязание и уставилась на меня с неподдельным, казалось, изумлением. – Нельзя же на ровном месте подводить людей.
– О боже, тетя Милдред, вы настоящая мученица своих нравственных принципов. Уверен, что Спенсерам на самом деле вовсе не хочется нас видеть. Как мне представляется, никому не захочется видеть решительно никого в столь типичную валлийскую погоду. – Красноречивым взмахом руки я указал на ад за окном, по-моему, избрав самый верный способ досадить тетке. Она ведь считает себя обязанной рабски славить все и вся, относящееся к Уэльсу, даже его отвратительный климат.
– Ты что же, боишься промокнуть?
– В том, чтобы мокнуть, нет никакой доблести, тетя Милдред, и я не вижу резона заниматься этим нарочно. Надеюсь, даже вам не придет в голову предлагать в такой денек идти пешком. Нет, я боюсь другого, боюсь, что будет уныло и скучно. Приходится, знаете ли, время от времени принимать всякие приглашения, когда под рукой нет уважительной причины для отказа, но это нисколько не мешает приглашенным постараться позже выпутаться из положения.
– И как же ты предлагаешь выпутаться?
– Да просто позвонить и отговориться чем-нибудь.
– Этого мы, разумеется, делать не станем, Эдвард. Я не имею никакого желания лгать ради твоих мимолетных прихотей. Кроме того, Спенсеры – милейшие люди, а если бы доктор не был еще и человеком очень способным, лично ты уже давно покинул бы белый свет.
Это вечное прославление некоей сомнительной услуги, оказанной мне много лет назад, услуги, значительность которой я приглашаю вас вместе со мной подвергнуть сомнению, просто невыносимо. Приводить в споре разумные аргументы тетка не способна.
Тем временем она продолжала взирать на меня с прежней суровостью.
– Думаю, истинная причина, – продолжала она, – вот какая: ты просто боишься, что останешься без последнего пенса, если придется играть против меня. Смею заметить, с Уильямсом у тебя вышла довольно обременительная для бумажника история. Что ж, если хочешь, возьму тебя к себе в пару.
Такой вызов нельзя было не принять.
– Разумеется, не хочу, – ответил я. – Пусть удача раньше не была ко мне благосклонна, я полностью готов скрестить шпаги, то есть скрестить карты, с вами – ну, или со Спенсерами, если нам таки придется играть в паре.
Тетка пропустила скрытую иронию мимо ушей.
– Ну и отлично. Значит, решено. – Она убрала вязание в сумочку. – Выезжаем через пять минут, пойду за машиной. И вот еще что, Эдвард. Постарайся там не грубить. – Дверь за ней захлопнулась раньше, чем я успел ответить.
Обыкновенно любому нашему совместному выезду предшествует дискуссия – на чьей машине отправиться. Тетя придерживается мнения, что уважающая себя дама не может путешествовать в автомобиле с такими соблазнительными формами, как у «Ла-Жуаёз», а я… ну, а мне вовсе не улыбается, чтобы меня видели в устаревшей развалюхе вроде ее «Морриса». Кроме того, стиль тетиного вождения, мягко говоря, устрашает. Часто дело кончается тем, что каждый катит на своей машине. Сегодня, однако, я предпочел подчиниться. В ее едких замечаниях о моем материальном положении содержалось зерно истины (хоть, конечно, с ее стороны делать их было бестактно), так что экономия бензина, хоть и ничтожная, не помешает. К тому же, насколько стало ясно из ее распоряжений, она сама собиралась выйти под дождь и подать машину прямо к крыльцу. Лучшее, что можно придумать в этой ситуации, – терпеливо подождать у парадного.
Последний план старуха встретила неодобрительно. По ее мнению, очевидно, вышел бы какой-то толк из совместного похода в гараж – представления не имею какой. Когда мы подъезжали к дому Спенсеров, она все еще ворчала что-то о хороших манерах и галантности – видимо, ситуация глубоко ее задела: обычно тетя не склонна ворчать.
Понятное дело, я слушал ее вполуха. В голове у меня вертелась одна важная мысль. Принимая во внимание тетину манеру водить машину, рано или поздно она должна разбиться в лепешку. Вот если бы это случилось пораньше! На дороге, сразу за оградой Бринмаура, есть несколько весьма опасных мест, где земля иногда резко оползает по круче в Лощину. Если бы в момент оползня там оказался автомобиль, он кувырком полетел бы на самое дно ущелья. Мне удалось ярко представить себе эту сцену – она стояла у меня прямо перед глазами. Даже трудно было вытолкнуть ее из сознания – так четко просматривалась каждая деталь. Трагическое транспортное происшествие по вине неосторожной водительницы, которая незадолго до того без всякой видимой причины откручивала крышку поплавковой камеры карбюратора. Какое логичное, какое поэтически справедливое возмездие за легкомыслие! В общем, мне пришлось сделать значительное волевое усилие, чтобы осознать: меня атакует миссис Спенсер.
Красочные видения полностью отвлекли мое внимание от бриджа. Мысли просто отказывались переходить на ерунду вроде козырей, семерок и восьмерок. Да и, собственно, в аукционе думать не требуется, а о контракте[13] в Ллвувлле никогда не слышали. Если кто-то заикался о контракте, тетя просто говорила: «Но ведь мы всегда играли аукцион», – и все, вопрос был закрыт.
Честно говоря, вот написал предыдущий абзац и подумал: нет, неправильно написал. Играл я нормально, безо всяких ляпов. И вообще, не могу припомнить ни единой очевидной ошибки с моей стороны. Просто мне всегда чертовски, адски не везет в картах. Тетя, конечно, не видит разницы между невезением и неумением. Она судит только по результатам. Если срывается импас[14] или неожиданно зарубят валета, она всегда придумает основание обвинить меня: не просчитал комбинацию или, как старуха любит выражаться, «не оценил вероятности, а точнее, неизбежности такого поворота событий». Теперь как раз выдался такой вечер, что на моей руке не получалось ни импаса, ни экспаса[15], ни единого. А вот тетя, как всегда, полностью игнорировала мало-мальские математические расчеты, даже когда простая логика кричала о неправильности ее действий (я бы на пальцах мог показать, в чем тут дело, если бы она снизошла и послушала), но… По какой-то невероятной причуде фортуны истинно верный, научный метод игры постоянно приводил меня к катастрофе, в то время как варварский, ложный приносил тете триумф за триумфом.
А тут еще доктор Спенсер – вот уж с кем, играя в бридж, легко дойти до белого каления. Не партнер, а сплошной бесконечный опросник:
– Кто сейчас разыгрывает? Ах вы. Мне снять? Моя заявка? Вы объявили игру? А какую, напомните?..
Бедный разыгрывающий сообщает, что объявил «одну пику», и борется с искушением добавить: «Трижды объявил».
– А, одна пика. Ведь речь идет о пиках, верно? Да-да, благодарю, благодарю вас. Я тогда пас.
И так продолжается весь розыгрыш, в течение которого доктор вновь и вновь интересуется: а) кто разыгрывает, б) какие козыри, в) чей ход (причем последний вопрос непременно задается, когда нужно ходить ему самому), – и еще десятком животрепещущих проблем разной степени глупости. Единственный случай, когда он не задает вопросов, – это когда партнер кладет карту не в масть. Как следствие его тугодумия, мне лично пришлось дважды брать ход назад. Натурально, когда игру делает сам Спенсер, он обычно забывает, чего собирался достичь, и ходит не с той руки, что в скором времени оборачивается печальными последствиями. Очень он меня этим вечером подвел.
До самого последнего роббера карта мне не шла, а когда удача наконец слегка развернулась лицом, доктор не удержался от замечания:
– Рад, что вам достался хоть роббер престижа, Эдвард. Не слишком хорошо у вас сегодня шли дела. Ну да отрицательный опыт – тоже опыт!
Сам отдавив мне все мои молодые мозоли (а он их отдавил, без всякого сомнения!), теперь этот человек еще и произносит нечто подобное! «Тоже опыт!» Да я успел забыть про бридж больше, чем он за всю жизнь усвоил, и не объявляю четверку с шестью пиками младше дамы, как моя тетя. А если бы я так и поступал, то мне уж точно не везло бы находить бы в прикупе трех тузов, как ей. Думаете, ей помогает ценный опыт? Просто инстинкт и чувство колоды! Так и сама старуха утверждает! Всегда приговаривает нечто в этом роде, чтобы оправдать свои дерзкие до бесстыдства карточные эскапады. Не удивлюсь, если доктор Спенсер под столом толкает ее ногой, когда следует. Он на такое способен.
Конечно, аукцион вообще – игра устаревшая, да и контракт хоть современная, но довольно грубая, примитивная, как почти все американское. Цивилизованные люди в наши дни предпочитают французский вариант – плафон.
Затем (уже дома) последовал добрый ужин – добрый по тетиным представлениям, да еще вдобавок испорченный ее покровительственной попыткой как-то возместить гастрономически то, что она у меня выиграла. Меню в Бринмауре, так же как интерьеры, составляется по принципу старины. Ни единого нового блюда, никаких тонких соусов, ни малейших попыток хотя бы изобразить какой-то стиль наша Великая Кухарка не делает. Всегда только простая, невзрачная, «одноцветная», скучная английская еда – по-своему, должен признать, неплохая, но тотально неизменная.
А после этого – марш в постель и сон. Один сон на всю ночь – сон о том, как автомобиль марки «Моррис» летит кувырком-кувырком-кувырком по отвесной круче прямо на дно Лощины.
– Эдвард, – сообщила мне тетка утром за завтраком, – тебе не следует так наедаться за поздним обедом. Сегодня ты несколько раз кричал во сне.
Часть II Тормоза и печенья
Глава 1
Уже довольно давно это место, именно это конкретное место на дороге, совсем недалеко от Бринмаура, завораживало меня.
Главные ворота садовой ограды на какие-нибудь 25–35 метров отстоят от парадного входа в дом, перед которым есть пустая асфальтированная площадка – полезная в хозяйстве, но совсем не живописная. Полагаю, тетя отдает себе отчет в недостатке у нее красоты, поэтому по левую руку от площадки, сразу как выйдешь, высажен растительный бордюр. Весной там вырастают луковицы, летом – всякие цветы, осенью – только георгины. Всему этому тетка отдает даже больше забот, чем остальному в домашнем хозяйстве (а ведь и остальному – немало). Она искренне предана своему саду, и иногда ей удается даже меня втянуть в попечение о нем, столь тягостное для ума и тела. Впрочем, ее выдающихся цветочно-овощных успехов нельзя не отметить. Вот фрукты ей не даются – ведь солнце так скупо одаряет лучами нашу одинокую обитель.
Так вот, если стоять у входной двери, по левую сторону асфальтированной площадки располагается ее, теткин, лучший бордюр. Впереди от вас и даже слегка справа – пятнышко зеленой лужайки, которая служит у нас некоторым яблоком раздора. Моя родственница без конца оплакивает тот факт, что она слишком мала для игры в теннис. При этом во все стороны от нее земляной покров обрывается вниз так круто, что расширить лужайку нет никакой возможности – если только не соорудить гигантскую насыпь, что было бы исключительно неприглядно. Хозяйка Бринмаура вполне пошла бы на такое уродство, но, к счастью, ее останавливает дороговизна. Что касается меня, то я с гораздо большей охотой пользовался данным пространством как газоном для крокета – физические упражнения, предполагаемые этой игрой, мне в высшей степени по душе, и я уверен, что вскоре у современных передовых людей крокет снова войдет в моду. Изящество движений игроков доставляет подлинное эстетическое удовольствие. Есть также некий немудрящий благородный символизм в легких ударах красного о желтое и голубого о черное[16]. Причем, заметьте, тут можно удовлетворить и низменные, примитивные инстинкты – решительно, резко разрушая все планы противника, оставляя его безнадежно, беспомощно лишенным какого-либо мыслимого шанса на успех. Ну а для чего еще придуманы игры, как не для того, чтобы высвободить человеческие комплексы, добавив к ним аромата здоровой спортивной злости? Тетя между тем страдает предубеждением против крокета. Подозревает в нем какую-то изнеженную женственность. Кроме того, для людей ее поколения эта игра архаична. Старухе недоступна мысль, что игры, как любые моды, способны переживать ренессанс.
От гаража к дороге ведут два пути. Один вдоль самой стены дома, чрезвычайно узкий – только чтобы машина могла подкатить через него к парадной двери и укатить обратно. Еще имеется проезд через ворота на заднем дворе – мимо бордюра, уже упомянутого мной, только метрах в двух ниже него. Эта узкая тропинка, так же как и стена, удерживающая бордюр от осыпей, построена в недавние времена – уже по тетиному приказу. Для наших машин она вполне годится, но когда ко мне заворачивает погостить мой друг Иннз на «Бентли», он уже не может обогнуть усадьбу, не помяв борта. Конечно, тетя отказывается признать, что проезд был изначально спроектирован ненадлежащим образом, и винит безобидного Иннза в обладании слишком большой машиной. Характерно, что ущерб, причиненный «Бентли», она полностью игнорирует, а об Иннзе всегда упоминает как «о твоем друге, который поцарапал краску на крыле дома». При этом она неизменно ищет глазами кого-нибудь постороннего, стоящего рядом, или, если никого нет, обращает их к небесам, присовокупляя: «Ах, как он неосторожно водит…» Таким образом старуха надеется избежать обвинений в собственной недальновидности.
Основной путь на Ллвувлл начинается чуть справа от главного входа, потом резко выгибается еще правее, оставляя луг, куда фермер Уильямс выгоняет коров, опять-таки справа, а слева – отвесную кручу над Лощиной. Затем дорога с той же резкостью отклоняется влево и идет под уклон до маленького каменного моста через Бринмаурский ручей в самом низу.
Должен признать, что мост через данный водный поток часто являет очаровательное зрелище. Ранней весной склоны Лощины покрываются первоцветами, позже их сменяют колокольчики и дикие анемоны – все это имеет для меня определенное обаяние. А крошечный ручеек всегда так мило журчит… Осенью тут полно ежевики качеством не хуже, чем в других местах, и я, знаете ли, бываю очень доволен, когда тетя собирает ее, даже помогаю ей, хоть и предпочитаю, вообще говоря, собирать мясистые грибы, каких предостаточно в траве Лощины.
Именно там я сидел сегодня утром, неторопливо размышляя, когда тетин голос и лай собак вернули меня к действительности. Тетя, доложу я вам, держит двух нечистопородных фокстерьеров. Когда она их заводила, то как раз читала какую-то безумную «Историю Англии» в комическом изложении, полную, полагаю, примитивного юмора из арсенала учащихся средней школы. И вот два глупейших якобы англо-саксонских имени из этой книги, наверняка просто выдуманные самим автором, произвели на нее неизгладимое впечатление.
Помню, как она разглядывала этих двух ничем не примечательных, но милых в своей невинности белых четвероногих созданий с черными отметинами и вдруг сказала:
– Я назову их Этельтраль и Трательтрольт!
Я в ужасе отпрянул. Тетино чувство юмора было мне хорошо известно. С нее вполне сталось бы встать посреди общедоступной улицы в Ллвувлле, или в Аберквуме, или даже в Шрусбери и завопить: «Этельтрооольт! Трутельтрааль! Трутельательтротель! Альтель-тротельтрут!» И лицо ее начнет краснеть, краснеть и краснеть до багрового оттенка, пока взрывы собственного грубого хохота не заставят ее замолчать, а все зеваки вокруг не убедятся, что старуха свихнулась. Оставалось только молить бога, чтобы никогда не оказаться вынужденным слушателем и свидетелем такой сцены.
Я сделал отчаянную попытку избежать бедственной перспективы и предложил:
– Почему бы не назвать его Пятныш?
– Зачем это? – спросила тетя.
– Ну, вот же у него черное пятнышко на… э-э. – Я деликатно замолчал.
– На копчике, – со всей откровенной непристойностью закончила моя родственница. – Думаю… – Тут она пристально и многозначительно воззрилась на мой лоб, боюсь, в тот момент слегка сморщенный. Я, видите ли, довольно остро реагирую на подобные мелкие речевые неопрятности. Тем более не следует заострять на них внимание. – Думаю, Пятнышом я буду называть тебя. Вон какое пятно наморщил. – И несколько дней она действительно так меня называла, пока сама, к счастью, не устала от собственного мнимого остроумия.
Так ее собаки и остались Этельтралем и Трательтрольтом – хорошо хоть ради удобства произношения «сократились» потом до Этеля и Трателя – на такие клички они хотя бы отзывались. Плохо, однако, другое: оба с самого начала прониклись неприязнью – причем искренне взаимной – к Так-Таку. Они завидовали тому, что его пускают в дом, а их нет. Поразительно, как точно животные усваивают повадки своих хозяев…
Так вот, в моих ушах загремел тетин голос:
– А ну-ка, хватит мечтать. Хватай скорей на руки свою гадкую зверюгу, пока Этель ее не загрыз. Он, знаешь ли, отличный крысолов. И Трателя я тоже долго на поводке не удержу. – Пес в самом деле рвался изо всех сил, мечтая разорвать бедненького Так-Така.
Одним быстрым движением я отбросил в сторону заливающегося лаем Этеля и сгреб в охапку пекинеса, который у меня на руках продолжал вызывающе храбро тявкать.
– Не смей больше никогда пинать моего пса. И вообще, забудь и думать пинать собак ногами. – Тетя сверкнула глазами: – Понятно?
Я встал к ней вполоборота и посмотрел вверх на обрывистый склон Лощины. В эту минуту жребий был брошен.
– Понятно. Я должен был безропотно позволить вам и вашим дворнягам убить моего любимца, не шевельнув и пальцем в его защиту. Нет, дорогая тетушка. Никогда!
В продолжение нескольких минут происходила безмолвная борьба сил воли. Мы пристально смотрели друг другу в глаза. Не сомневаюсь, что и в одной, и в другой их паре можно было прочесть многое. Первым отвернулся я и принялся фланировать взад-вперед по Лощине. Тетя продолжила свой путь по основной дороге. Позднее я неторопливо последовал за ней. Взбираться по холму утомительно, и мне совершенно не улыбалось позволить старухе обогнать меня, что неминуемо случилось бы, если бы мы стартовали вместе, – она ведь вечно бегает, а не ходит. Да и спешить не хотелось. Но жребий, повторяю, был брошен.
Глава 2
Наверное, на самом деле я решился еще раньше. Но все же, думаю, правильно будет сказать, что жребий был брошен именно в тот момент. До того момента я еще мог отступиться, отныне все стало необратимо.
Все это очень хорошо, однако твердо решить, что ваша тетя так или иначе должна поплатиться за свое плохое вождение и попасть в автокатастрофу на том самом мосту, где она оскорбила вас, и пусть свидетелями станут все эти кусты, перед которыми она издевалась над вами, и что причиной этой аварии должна стать столь любимая ею дорога, скользкая после дождя, вечно изливающегося на столь бездумно боготворимый ею Уэльс, – это все одно дело. И совсем другое – устроить все эти события, особенно когда по уже изложенным выше причинам жизненно важно не позволить ни единой тени подозрения пасть на вас.
Я всесторонне обмозговал множество способов и методов, но в каждом, похоже, сидела хоть одна неудалимая заноза.
Первой моей мыслью было дождаться безлунной ночи, в которую тетя должна будет куда-то поехать на машине, и что-нибудь подложить на дорогу. Ждать, скорее всего, придется несколько месяцев. В это время года темнеет очень поздно, а устраивать дело так, чтобы она попала в ловушку по дороге наверх, тактически неверно. В гору машина едет недостаточно быстро и от столкновения в пропасть не обрушится.
Нет, я согласен ждать сколько надо, если план достаточно хорош, но в данном случае меня одолевали сомнения. Во-первых, предмет на дороге должен показаться всем вполне обычным, иначе начнется следствие. Во-вторых, очень затруднительно блокировать шоссе чем-то достаточно крупным, чтобы справиться с поставленной задачей, и одновременно достаточно мелким, чтобы водитель не заметил его в свете фар слишком рано, да еще таким, чтобы поверить в его естественное появление на дороге. Ветка дерева не годилась – разве что только очень большая, как целый ствол, но такая будет видна за версту… Да и как бы я смог доставить ее к месту назначения? Разве только срубив одно из тех деревьев, что растут прямо у обочины. Но ведь это запредельная физическая нагрузка! К тому же невозможно рубить деревья незаметно. Да и появление свежесрубленного ствола никому не покажется естественным. Я тщательно изучил все деревья в данном районе. Ни одно из них не показало ни малейших признаков скорого падения. Телеграфных столбов нужной кондиции в нужном месте тоже не нашлось.
Правда, на шоссе, еще до начала резкого спуска, имеется несколько очень затемненных, «слепых» участков – там, пожалуй, можно поместить какое-нибудь массивное заграждение, не привлекая к себе особого внимания; но все эти участки – совсем рядом с усадьбой, а тетя из тех, кто долго запрягает, то есть разгоняется. Отчасти потому, что допотопный двигатель не позволяет разгоняться быстрее, отчасти – из-за крутого поворота, подстерегающего в самом начале пути. Опять-таки, предположим, что мое препятствие залегло именно там, на слепом участке. Остается риск, что в него врежется какое-то другое транспортное средство. Это маловероятно, поскольку Бринмаур стоит в прямом смысле на дороге в никуда: сразу за домом шоссе моментально сужается до ширины тропы или максимум проселочной дороги. Последняя ведет еще дальше вверх, прямо в заросли вереска и папоротника вокруг Старой фермы, где живет Уильямс и пасутся его овцы. Поверьте, я не испытал бы и тени раскаяния, если бы о мое хитроумное заграждение покалечился Уильямс, возвращаясь, к примеру, навеселе с Ллвувллской ярмарки, но ведь его лошадь застынет как вкопанная перед барьером, и хозяин, пьяный или трезвый, наверняка уберет с дороги все, что бы я ни подложил. А уж после этого не останется никакой возможности повторить попытку – это неизбежно вызовет вопросы.
В общем, не существует естественного препятствия, какое я мог бы устроить на дороге. Не существует и искусственного, какое я мог бы удалить с места происшествия сразу после него, не оставив следов. Этот метод устранения тети, по зрелом размышлении, был чреват неопределенностью (а варианты тут в высшей степени нежелательны), труден для исполнения и, что хуже всего, подразумевал риск. Если только мне в голову не придет какая-нибудь радикальная, блестящая идея его усовершенствования, не стану прибегать к нему.
Еще я спрашивал себя: а нельзя ли, усадив тетин труп в ее драндулет, устроить там возгорание? Знаменательно, что во всех моих снах (они теперь посещают меня почти каждую ночь) в Лощину падает именно пылающая машина. Мы ведь читаем в газетах о случаях, когда один человек, избавившись (ну, во всяком случае, так считают юристы) от другого, сжигает останки в автомобиле. Тут, однако, мы сталкиваемся с весьма примечательной деталью: огонь не вполне справляется со своей задачей. Очень и очень часто внимание обращается на то, что тело сгорело не полностью, и сразу же приезжают все эти полицейские медики и делают из произошедшего самые дурные и самые невообразимые умозаключения. Посему мне не следует проявлять глупость и пытаться сжечь тетино тело. Кроме того, на начальном этапе этот способ неизбежно предполагает прямое физическое устранение вышеупомянутой тети, и мое сердце сжимается от естественной и, как я полагаю, похвальной брезгливости при одной мысли об этом. Кровь – такое отталкивающее зрелище…
Такое отталкивающее, что, представив его себе, я ужасно разволновался, вынужден был бросить заметки и, прежде чем вернуться к ним, прочесть для успокоения нервной системы целый рассказ Мопассана. Вообще говоря, может показаться, что вести этот дневник абсурдно в принципе, но я высоко ценю достоинства открытого и честного обсуждения всех возможных способов достижения цели – это очень благотворно для ума. В конце концов, даже военных, хоть они и являют собой весьма тупоумную категорию населения, поощряют к умственной деятельности, заставляя сочинять эти, как их… «Аналитические донесения»?
Вернемся к делу. Если не убивать сразу, то нельзя ли установить какое-то приспособление, приводимое в действие автоматически включением зажигания или нажатием на педаль газа? Или электрический механизм с часовым заводом, способный потом, через некоторое время после начала движения, поджечь машину? Запрятать это устройство где-нибудь максимально близко от бензобака и, например, соединить проводком с рычагом переключения передач: устанавливается, скажем, вторая скорость – и машина тут же взрывается. Сам механизм, проводок к нему и всевозможные отпечатки пальцев уничтожит огонь. Все получится само собой и – можно так устроить – в такое время, когда я буду далеко-далеко от места событий…
Теперь давайте взвесим возможные минусы. Ну, во-первых, тетя шустра, может успеть и выскочить… Не знаю. Точными профессиональными сведениями не располагаю, но, насколько могу себе представить, попадание искры в горючую жидкость, заключенную в тесной герметической емкости, вызывает… ну, практически мгновенный взрыв. Надо бы провести предварительные испытания, но с этим, как вы понимаете, возникнут затруднения. С другой стороны, полагаю, что для возникновения такой реакции искра должна попасть непосредственно в топливо, а аппарат, от которого она возгорится, в моей конструкции окажется, так сказать, под топливом. Следовательно, туда искра может вообще не добраться. А что, если поместить адскую машину не под бензиновым резервуаром, а внутри него? Дождаться момента, когда он будет заполнен не до конца – такое случается регулярно, – и…
Да, у этого варианта много преимуществ. Да еще приятная дополнительная деталь – маленькая изящная месть за тот теткин фокус с бензином. Увы, есть у него и довольно серьезный изъян. Я не имею ни малейшего представления о том, как мастерить подобные устройства, и тут вряд ли найдется, с кем посоветоваться! А все же… наверняка есть способ узнать самому. Сохраню пока в уме. Перспективы отличные…
Отличные-то отличные, но не настолько, чтобы отказаться от других. Вот, например, идея, подсказанная авантюрным стилем тетиного вождения, – «подправить» рулевое управление. Что может быть проще, чем слегка расшатать рулевую колонку?.. К сожалению, только одно: проверить, не ослаблена ли она. И нет места, где такая проверка более уместна, чем участок между Бринмаурским гаражом и главными воротами усадьбы, – причем не важно, движетесь ли вы по узкому проезду мимо парадного входа или от задних ворот прямо по дороге, – везде потребуется большая осторожность. Если с рулевой колонкой окажется что-то не так, тетя почти наверняка заметит это раньше, чем помчится вниз к ручью.
Предположим, однако, что, так сказать, на старте с рулевой колонкой все будет нормально, но вот потом от любого резкого рывка она будет ломаться, и я подстрою так, чтобы старухе все же пришлось на каком-то этапе дернуть руль? К примеру, запущу Так-Така через дорогу прямо перед ее бампером на одном из слепых участков, о которых мы говорили, – там, где дорога уходит резко вправо. Ведь не настолько она жестокосердна, чтобы задавить бедного крошку пекинеса. Значит, она постарается уйти вправо (с другой стороны обрыв), потом под острым углом сразу влево, и тогда – опля! – машина по инерции пойдет дальше, не выровняет ход и преспокойно полетит под откос.
Имеются ли в таком плане существенные огрехи? Да. Она может резко ударить по тормозам. Разогнаться как следует машина на этом этапе не успеет, а значит, сможет остановиться до падения и не разобьется вдребезги. Да и рулевой механизм, как уже говорилось, может быть проверен заранее, да и мало ли что еще. Однако есть способ решить все проблемы сразу. Тормоза вообще не должны сработать.
Да, вот такое идеальное сочетание: сломанная рулевая колонка плюс вывод из строя тормозов. Одна маленькая пробоина в поршне основного цилиндра – и тормозная жидкость не поступит по трубкам ни к одному колесу. Разжимной кулачок не вдавит колодки в барабан – и прощайте, тетушка, вместе с вашим «Моррисом» и со всеми потрохами! На самом деле все еще проще: не нужно даже прокалывать основной цилиндр – дырку могут заметить, нужно лишь снять гайку. Тогда тормозная жидкость просто утечет через крестовины в маслопровод, и дело с концом. Кто потом сможет утверждать, что гайка не отвинтилась сама, а трещина по рулевому механизму не пошла сама собою? Вероятно, когда Гербертсон делал последний техосмотр, он должен был заметить, как там и что. Но я всегда смогу с должной осторожностью указать кому следует, что Гербертсон относится к своим ремонтным обязанностям очень нерадиво – так нерадиво, что я, например, никогда не доверяю ему свой автомобиль (еще очко в мою пользу), – в общем, свидетель он ненадежный, и доверять ему нельзя.
Я решил обдумать все это тщательнейшим образом, но, кажется, приемлемое решение найдено!
Глава 3
Я произвел рекогносцировку… Боже, мои метафоры приобретают все более боевой характер! У старика Спенсера есть сын – неприятный здоровый детина, такой громкий и вечно на вас наскакивает, чтобы пожать руку до хруста. Ему свойственна необычайная преданность странному, курьезному и прискорбному в наши дни анахронизму, который именуется Территориальной армией[17] (на самом деле, скажу я вам, если войны ликвидированы как явление, то почему бы не последовать логике и не ликвидировать военных как класс? Лично я не встречал среди них толковых людей). Во всяком случае, кажется, дурацкое словечко я подцепил именно от него. Увидев, как вы что-либо разглядываете – да просто хоть ищете обеденный зал на Балу графства, – этот малый непременно подскочит к вам со словами: «А-а, рекогносцировка? Как говорится, на войне разведка на местности – половина победы. Интересно, а другая половина – половина поражения?» Выпалив подобную неуклюжую шутку – наверняка цитату из какого-нибудь своего идиотского учебника, он изображает на лице недоумение, делаясь похожим на сонную сову, – это, по его представлениям, входит в арсенал отличной актерской мимики, – и уж потом разражается буйным хохотом. Необузданным, оглушительным и неудержимым. Воистину, только для школьников и военных существуют пособия, пестрящие плоскими, пошлыми сентенциями. Аминь.
Так вот, смысл моих разведывательных мероприятий, как выразился бы молодой Спенсер, заключался не столько в изучении рельефа местности, сколько в поиске укрытия. Говоря человеческим языком, я искал, откуда и по какому маршруту будет лучше всего спустить Так-Така, чтобы он навел нужного мне шороху. Этого, конечно, мало – предстоит еще натаскать его на исполнение ответственной роли, иначе мой дорогой крошка со своей нервной натурой просто откажется перебегать дорогу, когда по ней поедет машина. Или заупрямится и не захочет возвращаться ко мне без особой команды – последний навык я также полагаю целесообразным развить на случай, если все пойдет не совсем по маслу. Ведь меня, как воспитанного мальчика в гостях у взрослых, не должно быть ни видно, ни слышно.
Теперь главное: надо, чтобы рывок руля и авария произошли именно здесь, на изгибе дороги. В противном случае тетя просто спокойно понесется дальше вниз, а такой исход мне не интересен. Нет, ей надлежит скатиться прямо через край обрыва в Лощину, причем вращаясь вокруг своей оси, и по дороге лучше не «ловить» деревья – они могут задержать падение раньше, чем оно получит нужное ускорение. Конечно, склоны Лощины имеют густой лесной покров, но если тетин автомобиль сорвется туда, куда я намерен его направить, естественных препятствий на своем последнем пути он не встретит – по крайней мере, до того как путь станет необратимо последним. Надеюсь на это. Ах, если бы кто-нибудь мог хорошенько растолковать старухе, что от нее требуется, и снабдить дорогу белой разметкой в нужном месте!
Но, поскольку это невозможно, придется Так-Таку стартовать из положенной точки (я отметил ее камнем) в положенный момент – то есть тогда, когда «Моррис» окажется между вторым и третьим деревьями, если считать от главных ворот. Возникают вопросы: как заставить пса это сделать и где следует находиться мне?
Я посвятил этому долгие часы раздумий. Сразу стало ясно, что стоять на другой стороне Лощины и звать Так-Така оттуда не годится. Он ведь не останется один у камня, если я уйду. Притаиться на краю пропасти у самой дороги? Тоже исключено. Вот ведь выйдет ирония судьбы, если тетина машина в ходе операции собьет меня! Нет. Я должен находиться неподалеку, чтобы контролировать Так-Така, и, следовательно, спрятаться по правую сторону дороги, а точнее – за живой изгородью, на лугу фермера Уильямса. Слева, со стороны Лощины, естественно, нет никаких изгородей и заборов – этот факт известен мне так хорошо, что я бы уже давно сообщил о нем всем, кто прочтет эти записки, если бы предполагал дать их кому-либо прочесть. Так вот, мне надлежит укрыться именно за изгородью Уильямса, а еще лучше, наверное, – за любым деревом на два – два с половиной метра в глубь поля. Так-Так тем временем будет ждать моего сигнала у самой обочины, и это прямо подсказывает мне, как именно заставить его совершить забег! Просто удивительно, как письменное изложение собственных мыслей помогает привести их в порядок!
Я никогда не стремился обучить Так-Така разным штукам. Это и утомительно, и песик мой отличается поистине исключительным упрямством, но, слава богу, есть в этом мире особый сорт сладкого печенья, ради которого он готов на все. Такое печенье легко найти у нас в столовой, благо оно – домашнего изготовления. С самых, можно сказать, младых ногтей я не слышал, чтобы кто-нибудь называл эти изделия иначе, нежели «бринмаурские хрустики»; делают их, кажется, преимущественно из муки и масла, еще добавляют сахар – и получаются крошечные шершавые пальчики, очень симпатичные. Значит, схема такая: втолковать Так-Таку, что один «хрустик» будет ждать его по левую сторону дороги, а он на длинной привязи должен оставаться по правую, пока я не крикну «Взять!» и не отпущу конец поводка, на котором удерживал его до того. Во время тренировок надо класть печенье на землю так, чтобы он видел, а на другую сторону утягивать его за ошейник только в последнюю минуту перед «запуском». Следует постепенно увеличивать дистанцию, чтобы в конце концов он бежал от самой живой изгороди. Потом самое сложное – приучить его оставаться одному, в то время как я буду отходить за дерево. На финальном этапе предполагается, что пекинес полностью разберется в тонкостях плана и станет охотно метаться к точке закладки печенья, даже если не будет видеть, как его туда кладут. К счастью, Так-Так не имеет привычки лаять, когда его обуревают сильные страсти.
Сегодня утром произошел немного тревожный инцидент. Приверженный принципу «куй железо, пока горячо», я, едва успев закончить утреннюю молитву, отправился в столовую за «бринмаурскими хрустиками». Так-Так бодро семенил за мной по пятам – маленький негодник прекрасно знал, где хранится любимое лакомство. Оказалось, что печенья в коробке не особенно много, и, съев штуки три-четыре сам, я вдруг понял, что для упражнений осталось только семь-восемь. Принимая во внимание, что репетиция обернется пустой тратой времени, если пройти ключевую сцену менее восьми раз, я, естественно, решил забрать всё.
Но не успел удалиться, как услышал тетин крик:
– Эдвард! Эээд-ваард!
Я совершенно не хотел, чтобы она бросилась искать меня в то самое время, как я обучал Так-Така нашему маленькому фокусу. Пришлось вернуться и узнать, в чем дело.
– Да, тетя? – отозвался я прямо от входной двери.
– Ты что, сегодня не завтракал? – Голос тетки доносился из столовой.
– Завтракал, тетя. Рано утром.
– Ничего подобного. Как всегда, опоздал к столу. – Не подколоть меня она не могла. – Однако, очевидно, ты ничего не ел за завтраком, хоть мне так и не показалось. – С последними словами она тяжелой поступью вышла в коридор и потрясла перед моим носом пустой коробкой из-под печенья.
– Кажется, я сгрыз одно-другое. Надеюсь, вам не жалко? – Слово «другое» призвано было сгладить расхождение с истиной.
– Одно-другое?! Три четверти коробки. Я, видишь ли, точно знаю, потому что заглядывала туда сразу после завтрака – не надо ли пополнить запас. Там было с горкой, а вот теперь мне тоже захотелось сладкого и – бац! Нет ни одного. Выходит, это ты мне печенья пожалел, обделил! – Тетка выразительно хлопнула по коробке и, развернувшись, зашагала на кухню – велеть кухарке наполнить ее вновь (это не могло не радовать). – На будущее распоряжусь выставлять на стол совсем понемножку. Калорийное печенье очень вредно, Эдвард, если лопать его килограммами. Неудивительно, что ты весь покрыт угрями.
О боже! Даже если не обращать внимания на гнусное, несправедливое замечание (оно оставалось бы гнусным и несправедливым даже в том случае, если бы я действительно съел все печенье, а не только «одно-другое»!), возникла крайне досадная помеха. Как же мне теперь бесперебойно получать продукты для обучения Так-Така? А ведь его крохотная своенравная душа жаждет только «бринмаурских хрустиков», замены им нет. На что еще можно положиться в деле заманивания его к противоположной обочине дороги, тем более если наперерез ему будет ехать машина?! Нет, так или иначе, печенье надо достать. В погоне за ним меня ничто не остановит. Придется таскать понемногу каждый день и все приберегать только для Так-Така, как бы ни была тягостна мысль о собственном полном отказе от него. У моего пекинеса очень «правильный» вкус – печенье действительно великолепное. Но постойте! Есть способ получше, причем он позволит избежать пищевого самоотречения! Можно убедить горничную Мэри время от времени доставлять мне «хрустики» прямо из кладовой. Немного комплиментов, немного подкупа – и она согласится на все, о чем я ее ни попрошу. Конечно, она нудная особа, спектакль перед ней разыгрывать придется без всякого азарта, но искусство, как известно, требует жертв. А я вообще намереваюсь превратить свое поведение, весь свой образ действий – до тех пор, пока дело не будет сделано, – в художественный шедевр.
Глава 4
Именно на такую высоту его надлежит поднять. А я, как назло, сегодня совершил промах. Уже в течение какого-то времени мне удавалось от случая к случаю позаниматься с Так-Таком. Пес удивительно, чрезвычайно умен, и мы уже дошли до того уровня, когда он спокойно сидит, сколько я велю, хоть его каштановое тельце и дрожит от возбуждения, хоть его черный-пречерный язычок и облизывает пасть в предвкушении желанного лакомства. Не издавая ни звука, пекинес стойко дожидается момента, когда натяжение поводка ослабнет на ошейнике, и тогда – вперед! Вот какой молодец!
И вот таким образом я приучал его все дольше и дольше сдерживать себя – ведь, вполне вероятно, потом придется ждать определенное время, пока тетя не отправится осуществлять мой план. Причем в этот знаменательный день мне разумнее будет покинуть дом заранее, задолго до нее – ведь мы помним, что на меня не должно лечь и тени подозрения! Вот потому Так-Так и учится железному самообладанию. Только однажды ему случилось нарушить дисциплину – когда Этель, видимо охотившийся где-то в окрестностях, проник в зону наших действий и стащил приманку. Я его поначалу не заметил, зато Так-Так отлично все видел. Бедный пекинес закатил душераздирающую сцену, и, положа руку на сердце, его нельзя в этом винить. В безумной, отчаянной решимости предотвратить кражу своей законной собственности, да еще существом, не способным оценить ее тонкой прелести, песик чуть не укусил меня.
К тому же я сегодня, как на грех, проявил досадную небрежность, заставив Так-Така томиться без команды слишком долго – настолько долго, что сам упустил нить репетиции и мысленно отвлекся. Даже, очевидно, задремал на траве. И вдруг услышал чьи-то шаги, причем шаги эти застали меня совершенно врасплох, и от неожиданности я отпустил поводок с Так-Таком на другом конце. В ту же секунду маленький храбрец вылетел на дорогу – прямо под тяжелые башмаки фермера Уильямса!
– Ах вот оно что, – донеслось до меня его бормотание. – Значит, здесь мистер Эдвард. Надо же, никогда бы не подумал, что ему нравится так проводить утро.
Тут я на слух определил, что он повернулся спиной к живой изгороди и стал заигрывать с собакой:
– Ах ты, малявка, ах ты, дьяволеныш, ты что ж это мне под ноги бросаешься? В другой раз могу тебя зашибить, а я не хочу тебя зашибать – хоть ты мне и не нравишься, а, ей-богу, не хочу!
При этих словах фермер, наверное, присел на корточки, чтобы почесать Так-Така за ухом, а тот, естественно, решил, что он собирается вырвать кусок его, Так-Таковой, законной добычи прямо у него из пасти. Во всяком случае, продолжил Уильямс так:
– А это еще что такое? Печенье, что ли? Как это тебе удается находить выпечку в траве? Раз твой хозяин крепко спит, не может же он одновременно бросать тебе лакомства. Значит, он тебе его кинул только что, прямо перед тем, как я вылез из Лощины на дорогу, а потом тут же уснул за одну минуту – да меньше, чем за минуту! Ну и дела. – Уильямс помолчал. – Ну, ладно, ладно, не возьму я твое печенье, а с твоим хозяином мы позабудем все, что наговорено о коровах и заборах, так что просто желаю тебе доброго здоровья, приятель. Если когда-нибудь решишь заглянуть ко мне, бурая козявка, получишь от меня такой же привет, как любой честный гость в моем доме: «Входи, мол, песик, чувствуй себя как дома, пей-ешь сколько влезет!»
Как я догадался, причем к собственному удовольствию, Так-Так, видимо, пренебрег его жалкими попытками душевного сближения – точнее, он попытался выбить из фермера реализацию предложения насчет «сколько влезет» прямо здесь и сейчас. Я со своей стороны продолжал притворяться спящим. Забавно, что Уильямс думает, будто мне и впрямь неприятно встречаться с ним только из-за постыдных глупостей моей тети, унизивших исключительно ее самое, – причем в его, Уильямса, присутствии. Разумеется, мне и в голову не придет прощать ему участие в том инциденте, но неужели этот мужлан полагает, что я хоть как-то изменю свой обычный стиль общения с ним только из-за его плебейской алчности? Право, не стоит беспокоиться – неплохо бы ему это усвоить. Да, жаль, что мое поведение при этой случайной встрече создает у него столь превратное впечатление о мотивах этого поведения. Но все же лучше так, чем если бы фермер догадался о том, что мы с собакой в действительности здесь делали. Увы, я достаточно хорошо успел изучить этих валлийцев. Их любопытство ненасытно. Уильямс тут же обрушил бы на меня один за другим град вопросов: зачем это я кормлю Так-Така печеньем, зачем натаскиваю его на странные трюки, причем на проезжей дороге, и так далее и тому подобное. Вывод, к которому он пришел относительно причин моего внезапного сна, не слишком соответствовал моим пожеланиям, но, по крайней мере, благодаря такому выводу деревенщина сам удовлетворительно объяснил себе увиденное. А раз объяснил, значит, не станет строить дальнейших догадок, пускать в ход воображение и вообще не слишком долго задержится мыслями на этом эпизоде. А после следующего эпизода ему не придет в голову болтать, сопоставлять и строить никому не нужные досужие и беспредметные домыслы. Что же касается его сегодняшней неприкрытой в своей убогости попытки примирения со мной – да плевать мне на нее.
Однако, возвращаясь домой к обеду в тени раскидистых дубов, я еще раз обдумал произошедшее. Все-таки надо соблюдать осторожность. Надо, чтобы ни тетя, ни кто-либо другой больше ни в коем случае не застукал меня на том участке дороги. А в общем и целом, самое лучшее – поскорее привести план в исполнение. Так-Так уже достаточно освоил свою роль, и вряд ли мне удастся долго подлизываться к Мэри, скрывая свое явное отвращение. Кроме того, постоянное напряжение уже начало отражаться на моем здоровье. Я стал плохо спать.
Да и мой внешний вид, судя по всему, претерпел изменения из-за стресса – тетя отметила это обстоятельство за ланчем. Она даже, казалось, встревожилась за меня, но не могу не заметить: сочувствие не утешает сердце страждущего, если оно выражается главным образом в описаниях одутловатой бледности лица страждущего.
Все послеполуденное время, пока тетя собирала смородину, я провел, ремонтируя «Ла-Жуаёз», – по официальной версии. Старуха с таким навязчивым постоянством спрашивает, чем именно я занят в каждый данный момент, что необходимо всегда иметь под рукой железобетонное объяснение. Будем справедливы: она не то чтобы особо подозрительна или любопытна и, уж конечно, не испытывает подлинного интереса к тому, что я делаю. Просто так и никак иначе она представляет себе «непринужденное домашнее общение». Таким образом, я находился в положении, при котором следовало быть готовым к легкой светской болтовне о карбюраторе «Ла-Жуаёз», – преимущество заключалось в том, что такой разговор ей неизбежно скоро наскучит. На самом же деле я, естественно, гораздо больше занимался «Моррисом», чем своей машиной.
С рулевой колонкой особенно возиться не придется. Она и сама по себе уже не в лучшем состоянии. Собственно, если я не потороплюсь, тетка, чего доброго, сама заметит трещинки и велит «что-нибудь с ними сделать», – получится довольно неловко. А вот с тормозами загвоздка.
До сих пор меня не покидала уверенность, что решительно все автомобили снабжены гидравлической системой, какую я вам недавно описывал. На некоторых моделях, впрочем, торможение осуществляется с помощью металлического стержня, который играет роль рычага, блокирующего колеса. Но оказалось, что тетин «Моррис» настолько допотопный (наверняка он стоял в гараже еще на Ноевом ковчеге), что его тормоза управляются тросом из плетеного стального волокна!
Тут могло помочь только одно. Придется надрезать восемь из десяти волокон и положиться на силу удара по педали – он должен будет порвать оставшиеся два. Это не так надежно, как вывести из строя основной гидравлический цилиндр, да к тому же резать надо будет с превеликой осторожностью. Необходимо получить внешний эффект не прямого среза, а потертости – ведь впоследствии возможен следственный осмотр. Впрочем, если повезет, он окажется невозможным – машину сомнет в лепешку, и осматривать будет нечего. Кроме того, работу следует осуществлять в несколько этапов, потому что потертость в каждом волокне не должна выглядеть свежей, а в двух соседних – одновременной. В общем, сегодня днем я и приступил к делу – со всеми свойственными мне осторожностью, осмотрительностью и артистизмом. Да что там! Многое наверняка спишется на безучастное ко всему и вся качество покрытия квумских сельских дорог…
Глава 5
Ближайшее время придется провести за письменным столом. Это поможет сохранить хладнокровие и ясный рассудок, ибо я сделал решительную ставку на сегодняшний день. Пока опишу вам события минувшего утра, а то, если молчать, воображение унесет меня бог знает куда.
У завтрака есть все основания считаться приятной трапезой. Но в Бринмауре он никогда таковой не бывает. Во-первых, абсолютно рабская привязка к строгому часу посадки за стол – это ошибка. Нельзя заставлять человека вставать с постели раньше, чем окончится необходимое ему время здорового сна. Не следует также торопить его с одеванием и приемом водных процедур, однако у нас они постоянно прерываются ревом тети: «Эдвард! Эээд-ваард! (Как же хорошо мне знакомо это утрированное растягивание гласных в моем имени! Оно всегда сулит неприятности.) Ты уже встал?»
Единственно правильным ответом было бы: «Нет! Сегодня я решил остаться в постели!» – но, увы, мне отчего-то никогда не достает смелости ответить таким образом. Вернее, однажды я это сделал, и тетка тут же, применив пытку издевательствами с перекрестным допросом, вынудила меня признать, что я заболел. После чего вместо сочувствия, заботы, лекарственного чая с тостом и покоя мне досталась значительная доза касторового масла безо всякого завтрака.
В общем, на этот раз я ответил, как обычно:
– Да, тетя. Уже иду. У меня тут… м-м… куда-то подевалась заколка от воротничка.
И зачем мне вечно придумывать оправдания? Тетка все равно им не верит.
– Ладно, хорошо. Поторопись. Завтрак стынет.
– Так нельзя ли оставить его на огне?
Старуха проигнорировала столь очевидный вариант. Понятно: она же нарочно позволяет завтраку стынуть. На прошлое Рождество я подарил ей специальный прибор для поддержания температуры пищи, но никто и не думает им пользоваться.
– А я уж думала, что ты не услышал гонга!
Эта реплика, должен заметить, относится к неизменным элементам тетиного репертуара. Ей превосходно известно, что не услышать звука устрашающего инструмента, коему не место ни в одном приличном домашнем хозяйстве, невозможно. По специальному распоряжению хозяйки дома Мэри колотит в него, пока медь не треснет (надеюсь, однажды это все же случится). И еще: так же хорошо тетя знает, что сам идиотизм предположения, будто после гонга остается нужда звать меня «голосом», оказывает на мою нервную систему необычайно раздражающий эффект.
Мне следовало в свойственной мне комфортной манере завершить обряд утреннего облачения, но, как всегда, я почему-то поддался на подстегивание и скомкал остаток процесса так, что не успел уделить должного внимания, например, вопросу: сочетаются ли подобающим образом носки с галстуком? В любой момент теткин крик мог раздаться вновь, а этого, как подсказывало мое сердце, оно бы уже не вынесло.
С неотвязным ощущением, будто что-то все же осталось упущенным, я слетел вниз по лестнице, опоздав лишь на какие-то двадцать пять минут. Сколько суматохи по ничтожному поводу! Ведь это можно назвать образцом пунктуальности.
Тетя смерила меня холодным взглядом:
– Как я рада, что ты соизволил поспешить. Причесаться, в самом деле, можно и потом. – Она вылила из моей чашки холодный чай и застыла на стуле с видом мученицы, ожидая, пока я поем.
Я вполне способен сам взять себе немного мармелада и налить новую чашку чая (да и вообще я предпочитаю кофе!), но вот заставить свою родственницу не мучить меня таким видом я совершенно не способен. Желает ли она поторопить меня или просто красноречиво подчеркнуть тот факт (в значительной мере воображаемый), что я принес ей неудобство, или просто заставить почувствовать неловкость – не знаю. Но проделывает она это регулярно, а именно, испустив с одинаковыми интервалами ряд глубоких вздохов, произносит неизменную фразу: «Ты сыт, мой милый?» – и отправляется на кухню, всем своим естеством излучая готовность к кипучей деятельности.
Общеизвестно, что завтрак следует поглощать неторопливо, бросая подобающее число рассеянных взглядов на фотографии в утренних газетах. Впрочем, ни одна из них не достигает Ллвувлла раньше, чем к ланчу, а тетя выписывает только «Дейли телеграф». Не представляю зачем… Так что мой выбор за утренней трапезой сводится к двум вариантам: жевать чуть теплую яичницу с затвердевшим поджаренным хлебом в гробовой тишине или беседовать понятно с кем. Слава небесам, если сегодня днем все пройдет успешно, мне больше никогда не придется выдерживать подобных испытаний.
В этот раз молчание было совсем уж ледяным – настолько, что я решил расколоть этот лед:
– Какие у вас планы на сегодня, тетя Милдред?
Не то чтобы возможные телодвижения старухи меня волновали – то есть, конечно, хорошо бы знать, когда можно точно ожидать ее на дороге, чтобы вовремя привести Так-Така в полную боевую готовность, но этот вопрос я задал без особой задней мысли. Надо же было что-то сказать.
– Сначала дела по хозяйству, дорогуша. Тут много всего надо успеть, на это уйдет все, что осталось от утра. (Грубо!) А после полудня, естественно, встреча в лечебнице.
– В лечебнице?.. А-а, вы имеете в виду собрание вашего комитета… Боже, нет, этот тост прожевать невозможно. Когда вы едете?
– К четырем. Если невозможно, дорогой мой, ты сам виноват. Он был поджарен превосходно. А что это ты, дорогой, вдруг так заинтересовался встречей в лечебнице?
– Просто спросил. Что ни говорите, а тост подгорел.
Тетка мрачно взглянула на меня. Старуха не терпит никакой критики в адрес своей обожаемой кухарки. Надо признать, что та редко ее заслуживает, но все же, по моему мнению, не является таким уж образцом совершенства, каким ее выставляет хозяйка. Как я уже упоминал, воображения и утонченности кухарка лишена напрочь.
– Полагаю, – заметила она вдруг (не кухарка, а моя тетя!), – ты просто хотел узнать, когда я уберусь с глаз твоих долой.
Это замечание настолько попало в точку, что я вздрогнул и пролил некоторое количество весьма горячего чая на свои серые фланелевые брюки. Было больно, конечно, но скоро прошло, только пятно, боюсь, останется. Впрочем, бог с ним. Теткин голос между тем продолжал греметь:
– Запомни раз и навсегда, я этого не потерплю. Мэри – очень хорошая, честная девушка и, кроме того что прекрасная горничная, она – дочь Хьюза из почтового отделения. Под моей крышей с ней никогда не случится ничего дурного.
– Ради всего святого, о чем это вы? – Я был удивлен абсолютно искренне.
Она взглянула мне прямо в глаза:
– О том, как ты подбиваешь к ней клинья. Сообщаю тебе, что твои знаки внимания абсолютно нежелательны, а если бы и были желанны, я их все равно не допущу.
Я откинулся на спинку стула так, что передние ножки оказались в воздухе – это всегда безумно раздражает тетю, – и, вытащив из зеленого лакированного портсигара сигарету, широко рассмеялся ей в лицо.
– Значит, знаки внимания? – нараспев переспросил я.
– Ты станешь отрицать, что последние десять дней из кожи вон лезешь, пытаясь пленить Мэри? Что сутками напролет воркуешь с ней, плетешь с ней всякие маленькие заговоры, делишься секретиками, назначаешь свидания? Да я сама видела, как ты проделываешь это под самым моим носом. И не раскачивай стул – ножки поломаешь!
Этому уже следовало положить конец. Мэри мне нравится, и жизнь в Бринмауре стала бы без нее еще скучней. На какой-то момент я забыл о том, что не покидало моих мыслей все последнее время, – что я не собираюсь здесь надолго оставаться.
– Боже мой, дорогая тетушка, вы, как всегда, делаете из мухи слона. Вероятно, мне следует вам все объяснить. Не хотите ли сигарету?
– Сам знаешь, Эдвард, я не курю твою ароматическую дрянь.
Она отошла к каминной полке и взяла пачку «Голд флэйк». Портсигарами тетя никогда не пользуется. И всегда заставляет меня краснеть, извлекая на людях из кармана скомканную желтую упаковку, да еще предлагая ее другим.
Я подождал, пока она подожжет спичку о подошву своей туфли – еще одна неэлегантная привычка.
– Валяй, объясняй, будь любезен.
– Все это чистое недоразумение. Возможно, вы помните, как несколько дней назад сочли уместным сократить количество выкладываемого для всеобщего пользования сахарного печенья до крайне малых, мизерных доз. Не сомневаюсь, что оно могло бы считаться вполне достаточным, если бы я пожелал подчиниться такому решению, однако у каждого человека есть собственная гордость, так что я подумал: проще всего договориться с Мэри, и она станет приносить мне еще немного выпечки. Вышел очень забавный миниатюрный водевиль, над которым мы оба от души посмеивались. Именно эти смешки и улыбки вы, очевидно, приняли за то, что теперь определили малоприятным термином «строить глазки» или что-то в этом роде. – Ну не догадается же тетка, зачем мне в действительности понадобилось ее печенье!
Старуха выпустила струю дыма прямо мне в лицо.
– Какое простодушие, Эдвард! Какая бесхитростность! Не сомневаюсь даже, что в этом есть доля правды, ведь ты бы не смог так быстро все выдумать. Естественно, мне все известно про печенье, но им ты только прикрывал свои подлинные гадкие цели. Приготовил предлог на случай, если начнут расспрашивать. Мне совершенно очевидно, что истинный мотив твоего поведения кроется в другом. На будущее: такое поведение должно прекратиться, не то… – Тут она пригвоздила меня к месту каменным взором и выдала фразу, которая, как известно, вводит меня в ступор: – Не то я приму меры. А пока прямо сейчас, чтобы лишить тебя даже такого вымученного предлога, велю кухарке вплоть до особого распоряжения прекратить печь печенье. То, что уже готово, я отвезу в лечебницу. А то, что в коробке… – С этими словами она пересекла комнату, кликнула своих мерзких голубей, разломала «хрустики» чуть ли не в крошки и выкинула через окно столовой во двор.
Там немедленно образовалась славная потасовка, поскольку в дело вмешались также Этель с Трателем и разогнали голубей, а маленький бедняжка Так-Так, видимо, учуяв запах любимого лакомства, но не понимая, что оно может стать последним в его жизни, поспешил к полю битвы так скоро, как только позволяли его коротенькие ножки, – и так же скоро, как и голуби, был отброшен в сторону пресловутыми невоспитанными фокстерьерами. Я подхватил его на руки и прошептал в шелковое ушко:
– Ничего, Так-Так, не волнуйся. У меня там, наверху, припрятано еще два печенья, и одно из них ты получишь прямо сегодня, еще до четырех часов, ну а завтра… Завтра, наверное, кухарка получит новые указания.
Подумать только, интрижка с Мэри! Даже если я флиртовал с ней – очень вскользь и слегка! – какое до этого дело тете? Это ее «викторианство» просто невыносимо. Нет, так дальше продолжаться не может. Сейчас же перережу тормозной трос, а днем – гордиев узел. Или его не перерезают, а разрубают? Неважно. Посеяв «печенные зерна», тетя ускорила бурю, которую пожнет. Раз у меня остается лишь два хрустика, придется либо действовать, пока Так-Так не забыл своей роли, либо ждать, пока старуха не отдаст кухарке новый приказ. Если раньше у меня и были сомнения, то теперь они исчезли. Сегодня и только сегодня, пока заветные два хрустика не зачерствели – мне бы не хотелось награждать Так-Така за добрую службу черствым печеньем. И еще – пока тетка не узнала, что у меня все же сохранились два драгоценных предмета кондитерского искусства, и не выбросила их. А это непременно случится, когда по ее поручению мою комнату в очередной раз перевернут вверх дном.
Глава 6
Это было ужасно, просто ужасно. Нужно срочно все описать – каждый миг, каждую деталь в том порядке, в каком они пронеслись передо мной.
Ланч прошел в мрачной обстановке. Оба его участника – по разным причинам – пребывали несколько не в духе. Естественно, самообладание мне серьезно изменяло. Учитывая то, что должно было свершиться в ближайшие часы, следовало изгнать из себя все человечное, что еще оставалось. Но даже в этот последний страшный миг я колебался. Нет, у меня, как и прежде, не было сомнений: тетка заслуживает то, что вскоре получит, но неужели нельзя как-то иначе, как-то обойтись без этого? Неужели нельзя все-таки уговорить ее отпустить меня и дать жить своей жизнью? В конце концов, я ведь никогда не просил ее об этом прямо… И вот я уже почти приготовился дать ей последний шанс. Во время всех этих размышлений взгляд мой был сфокусирован на тарелке с едой, я поднял голову с намерением предоставить старухе последний шанс как раз в ту секунду, когда из комнаты выходила Мэри. И – словно по закону подлости – встретился глазами с ней, а не с теткой. Естественно, глупая девица не могла не зардеться. Похоже, самообладание изменяло и ей. Тетины оскорбления и инсинуации, высказанные за завтраком, в свою очередь, вновь хлынули в мою память, и мое лицо тоже залилось краской. Тетя многозначительно посмотрела сначала на меня, а потом вслед удаляющейся горничной. Этот взгляд серьезно укрепил мою волю.
В самом деле, а не опасно ли давать ей шанс? Предположим, начнется расследование – так разумно ли мне превращать наш последний разговор в страстную мольбу о свободе, об избавлении от ее бесконечных придирок, придирок, придирок, на каковые я был обречен долгие годы? Разумеется, никто не узнает, о чем мы говорили между собой наедине, но, если начать обсуждать такую тему, ее не закроешь в минуту, а женщину, способную, как мы знаем, на публичные речи, подобные тем, что она вела в присутствии Уильямса, ничуть не стеснит, к примеру, возвращение в столовую Мэри с пудингом. Любая обрывочная, случайная фраза, да вдобавок вырванная из контекста, может достигнуть ушей девушки, а после всего произошедшего я более не уверен, что могу на нее положиться. Говорят, каждый, кто замышляет подобное тому, что замыслил я, часто совершает один неверный шаг. Я чувствовал, что воззвать теперь к чувствам родственницы станет как раз таким шагом. Нет. Надо быть твердым, неумолимым, беспощадным.
И, обретя безжалостность, я обратил свои мысли к пудингу. Ложка, которой я ел его, погнулась в моей руке. Тетка молча выхватила ее и выпрямила.
– Пауэллы, мой дорогой Эдвард, обитают в Бринмауре с 1658 года. Этой ложке более ста лет. – Она вгляделась в клеймо на серебре. – Да, больше ста. В этих краях мы всегда высоко держали голову и славились выдержкой. Жаль, что один из нас в сердцах ломает старинные ложки только потому, что не может во всем настоять на своем. Жаль терять славные обычаи… Нет, благодарю, сыра я не хочу.
О, как это в духе тети – унизить саму же себя таким предположением. Как это в ее духе – воспользоваться любым пустейшим происшествием как предлогом для проповедей. И каких проповедей! О, это вечное воспевание добродетелей неизменности и постоянства при отсутствии малейших сдвигов!
А все-таки было во всех этих речах что-то хорошее, что-то бесхитростно милое. И теперь, когда тетя вступала в последние часы своей жизни, я не мог противиться сентиментальности, неумолимо вползавшей в мои мысли. Не следует ли мне все же отступиться? Ведь моей натуре так свойственны мягкость, бескорыстие, великодушие. Я незаметно ускользнул на заброшенный чердак, где предался размышлениям. Добрые чувства охватили мою душу. Внизу при этом я слышал тетины шаги, направлявшиеся к моей комнате. И мысленно поздравил себя с мудрым выбором места раздумий.
– Эдвард, Ээд-ваард! – ворвался мне в уши ее голос. – Ээд-ваард! Черт бы побрал этого парня. Никогда его не найдешь, когда он нужен. Ээд-ваард! – Последовала пауза, в продолжение которой тетя, судя по звукам, продвигалась по коридору. Затем, к моему ужасу, она стала яростно бить в гонг. Стало совсем невыносимо. Я нехотя выглянул из своего укрытия:
– Да, тетя?
– Ты оглох, дорогой?
– Почти. От гонга.
Тетин тон неожиданно сменился со смутно расстроенного на интенсивно подозрительный:
– Что ты делаешь там, наверху?
Знала бы она, насколько мне трудно ответить на этот вопрос и насколько лучше было бы ей не задавать его. С превеликим усилием я ответил:
– М-м… Думаю.
– На чердаке? Думаешь? Почему бы не подумать по-человечески у себя в комнате? Зачем, ради всего святого, отправляться для этого в ту часть дома, которая должна интересовать только горничных? Ей-богу, Эдвард, я бы могла подумать…
Ну, уж этого стерпеть я не мог. И пошел на прямое столкновение:
– Тетя Милдред, у вас грязное воображение.
Наверное, впервые в жизни тетя оказалась столь озадачена, что не нашлась с ответом и поле битвы осталось за мной. Теперь можно было спокойно оставить ее захлебываться воздухом от возмущения, медленно открывать и закрывать свой большой рот и демонстрировать отсутствующим зрителям плохо запломбированные зубы в мельчайших отвратительных деталях. Сопровождаемый семенящим за мной Так-Таком, я вышел из дома. Путь до гаража, хоть и кружной, не занял много времени. Работа заняла и вовсе несколько секунд… После нее я поднялся на десяток шагов вверх по Ир-Аллту. Там извлек из кармана книгу и демонстративно уселся читать в такой точке, чтобы меня было легко увидеть из любой части усадьбы.
Сам же я в указанное время имел возможность созерцать тетку, вышедшую в сад. Очевидно, она чувствовала необходимость спустить пар, поскольку сразу принялась за очистку виноградника от кустиков скороспелого гороха, который уже сошел. Натяг – усилие – и старый саженец с корнем долой; еще рывок – и прут, по которому он вился, из почвы прочь; бросок, еще бросок – и все это лежит в дальнем конце сада аккуратной кучкой, готовой к дальнейшему использованию. С моей позиции открывался прекрасный обзор тетиной фигуры, сновавшей туда-сюда под ярким полуденным солнцем. Ну, а ее нервное состояние легко было себе домыслить. Как, однако, хорошо, что я находился в отдалении! Собственно, она, наверное, и звала меня за этим – помочь в унизительном для человеческого достоинства занятии. И к чему ей это, интересно? Чтобы у бездельника Эванса осталось еще больше времени для безделья?
Денек выдался приятный. Я сидел в тени бука, не шелохнувшись, так что в сантиметре от моей руки села на цветок бабочка – крошечное бледно-голубое украшение природы. Овечки, щипавшие травку неподалеку, тоже явно не замечали моего присутствия. Вверху и наискосок, за усадьбой и Лощиной, над башней замка Пентр развевалось знамя – значит, лорд Пентр уже вернулся из Лондона. Еще дальше вздымались кручи Гольфов, поросшие дубом, платаном и пихтой. Вздымались до высоты, откуда с одной стороны как на ладони видна бо́льшая часть Мидленда, а с другой открывается сумасшедшее нагромождение валлийских холмов, натыканных в диком и бессмысленном сумбуре. Только в направлении Англии гляжу я, когда меня удается туда затащить, – именно затащить с большой с моей стороны неохотой, ибо часть пути так или иначе приходится лезть по утомительно крутой тропинке. Тем не менее должен признать: нечто привлекательное в Гольфах все же есть; что-то, что заставило даже меня решиться в свое время на карабканье к каждому из трех пиков. Впрочем, всего однажды – этого мне вполне хватило.
Я упивался пейзажем. В моменты сильных душевных движений все, что видит человек вокруг, с особой четкостью и яркостью запечатлевается в его сердце. Там, внизу, подо мною, тетя все еще сражалась, ничего не подозревая, с охапками вырванного горохового плетня. Я взглянул на часы и с удовлетворением отметил, что она, наверное, будет опаздывать на свою встречу в лечебнице. Это к лучшему. Пусть спешит по дороге вниз. Однако пора бы ей уже оставить свое занятие и идти готовиться к заветному собранию, на которое, если план сработает, она не попадет. Пора сниматься с места и мне.
Как бы невзначай я встал, побрел вниз по склону Ир-Аллта и вскоре скрылся из области обзора со стороны усадьбы. Теперь можно и нужно ускорить шаг. Я стремительно проскочил мимо нижней части сада. Все детали того рокового дня так глубоко врезаны в мое сознание, что теперь вспоминаются даже те, на какие я тогда едва обратил внимание, – например, верные признаки хорошего урожая яблок, а еще – отсутствие малейшего намека на терносливы. И слава богу. В моем представлении вкус у тернослив – как у сапог, тушенных в чернилах. Впрочем, если их замариновать, они приобретают приятно сладкий, хоть и терпкий, вкус.
Миновав надежное убежище под садовой стеной, мне пришлось снова вспомнить об осторожности. В ходе предыдущих разведок я обозначил для себя этот участок как единственно опасный – на протяжении лишь нескольких метров, но все-таки. Через нижнюю часть сада протекает маленький родник. Затем он, особо не петляя, стекает на луг перед газоном и около моста впадает в большой Бринмаурский ручей. Покатый склон газона тянется вдоль всего луга и только у родника срывается резко вниз – настолько резко, что становится почти отвесным, – а затем вновь карабкается к нашему местному хребту, откуда в трех-четырех километрах виднеется Широкая гора. Как только я окажусь прямо за упомянутым обрывом, меня снова не станет видно, но для этого нужно преодолеть пару метров открытой местности.
Подхватив под мышку Так-Така – из боязни, что он наткнется на какую-нибудь бродячую корову или замешкается в опасной зоне, – я вылетел из-за угла садовой ограды и пулей пронесся к спасительному склону у родника. Насколько я успел заметить, все обошлось. Скрытый небольшим обрывом, я торопливо зашагал к месту проведения операции и «заложил» печенье слева от дороги. Так-Так забился у меня на руках, заскулил и попытался лизнуть в лицо, увидев, что сладость, как всегда, остается лежать на земле. К счастью, лаять он не стал – знал уже, что вскоре до него доберется. Такому хозяину, как я, можно верить. Я сделал следующий ход – с быстротою молнии пересек дорогу, пристегнул к ошейнику Так-Така поводок и залег за деревом в густых зарослях папоротника. Бог мой, а ведь я не подумал, что, припав к земле, не смогу видеть дорогу! Ладно, неважно, зато все хорошо слышно.
Я успел как раз вовремя. Даже немного рано. Впрочем, не скажу вам точно, сколько пришлось ждать. Наверное, не очень долго, но это «не очень» показалось мне вечностью и, наверное, Так-Таку – в томительном предвкушении команды «взять!» – тоже. Парадоксальная уместность этого слова вдруг дошла до моего сознания. В самом деле – «взять!» Взять все бесчисленные творимые ею унижения и оскорбления. Взять хоть самые недавние из них: сцену с Уильямсом и его забором, пылающие щеки Мэри, насмешки Гербертсона и ухмылки Хьюза. В памяти возникли бесчисленные притеснения из более давних времен, все эти нескончаемые «Эдвард, не смей!», которыми пронизаны нежные дни моего детства. Взять все это вместе – и отплатить сполна! Витая в вихрях таких заоблачных мыслей, я услышал наконец шум мотора. Собрав в кулак все нервы, а также конец поводка Так-Така, я начал обратный отсчет секунд. Затем с громким криком или хриплым шепотом – сейчас уже не помню – разжал губы, а за ними кулак.
Я не видел, я только слышал: пронзительный вопль со стороны дороги, хруст рулевой колонки, визг Так-Така, скрежет тормозов – все за какую-то долю секунды. Потом – грохот потерявшего управление автомобиля. Я вскочил на ноги и успел заметить, как он исчезает за краем пропасти. И еще – как дверь со стороны водителя изо всех сил выдавливается наружу руками и заталкивается обратно силой воздушного потока. Потом машина исчезла из виду.
Я поспешно бросился проделывать брешь в живой изгороди. Теперь, пожалуй, никто не станет возмущаться тем, что я ее испортил… Странно, как такие пустяковые мысли могут вторгаться в сознание при таких-то обстоятельствах. В ушах у меня звучал скрежет и лязг металлического корпуса, с возрастающей скоростью низвергавшегося в пропасть, бившегося бортами то об один, то о другой древесный ствол, вновь и вновь переворачивавшегося вокруг своей оси, – пока он наконец не приземлился с оглушительным «бух!» на самом дне Лощины. Вернувшись к кромке обрыва, я успел к этой последней конвульсии машины. Не думаю, что смогу когда-нибудь забыть это зрелище, столь грандиозное в неукротимой силе разрушения. Автомобиль, казалось, изогнуло пополам, чтобы тут же разметать на бесконечное число мельчайших обломков, какие только можно себе представить. В теле тети не могло остаться ни единой целой кости.
Однако она, как ни странно, частично преуспела в своих попытках выбраться наружу. Собственно, даже и выбралась, но со своего места я ясно видел: это ей не слишком помогло. Ударом ее выбросило наружу, и теперь она лежала, безвольно обмякнув, – видны были только ноги, голова же покоилась где-то в густых зарослях ежевики. Я спустился к ней. Судя по положению тела и по его спокойной неподвижности, все было кончено. Я не доктор и не способен провести никакого медицинского освидетельствования, но в результате такового не сомневался. Сама мысль о прикосновении к мертвому телу мне противна. Так что я оставил ее одну. Стыдно признаться, но меня слегка тошнило.
Только выбравшись обратно наверх, я понял, что произошла трагедия. У обочины, почти касаясь носиком такого любимого им печенья, лежал малыш Так-Так. Тут тоже не требовалось врачебного осмотра, чтобы убедиться – его с нами больше нет. Наверное, я отпустил поводок слишком поздно – задержал всего лишь на малейшую долю секунды, а пес беспечно, не обращая внимания на машину, бросился через дорогу и даже достиг противоположной стороны, но колесница Джаггернаута, срываясь в пропасть, безжалостно и равнодушно переехала его. Не быть больше Так-Таку моим верным спутником и товарищем. И я не мог не вспомнить слов тетки о том, что, если он не станет жить по ее правилам, она «примет меры». Вот и приняла, хоть и невольно.
Бедный Так-Так! Схватив с земли печенье и забросив его за ближайшие кусты ежевики, я заставил себя поднять обмякшее тельце и зашагал с ним обратно к дому. Оплакивать потерю времени не было. Время было только действовать. И все же я пришел в такое расстройство, что едва мог сдержать слезы.
Естественно, я заранее обдумал, что именно следует предпринять на данном этапе. Некоторое время я колебался между вариантами. Не лучше ли просто устраниться и ждать, пока следы аварии обнаружит кто-то другой? В этом случае у меня появляется преимущество полного, так сказать, отмежевания от происшедшего. Но внутренний голос все время подсказывал: мудрее всего будет именно мне выступить в роли если не очевидца, то, во всяком случае, свидетеля, оказавшегося случайно где-то, куда донеслись звуки катастрофы. И вышло к лучшему, что именно на второй идее я выстроил свой план: ведь Так-Так редко удалялся от меня на большое расстояние, а раз он, бедный крошка, оказался столь трагически вовлечен в эту историю, значит, и мне логически надлежало находиться поблизости.
Водрузив быстро коченевший трупик на стол (не то Этель с Трутелем еще потревожат его покой) и завернув его в половую тряпку, которую тетя держала в прихожей, я поспешил к телефону.
– Ллвувлл-47, доктора Спенсера, скорее, пожалуйста. – Я старательно придавал голосу взволнованный тон. – Доктор Спенсер, прошу, приезжайте немедленно. Она попала в автокатастрофу. Моя тетя. Пожалуйста, поторопитесь.
– Буду через пять минут, Эдвард. – Спенсер не стал тратить слов понапрасну.
Обернувшись, я, к своей досаде, обнаружил у себя за спиной кухарку.
– Ох, мистер Эдвард, что случилось? Кажется, мы слышали шум аварии!
Вот именно в подобные моменты легче всего совершить ошибку, то есть обнаружить, что знаешь нечто такое, чего, по задуманному плану, никак знать не можешь. Однако я не терял контроля над собой.
– Точно не знаю, моя милая. Так-Так рванулся через дорогу – там, за воротами, и я тоже услышал крик, а потом несколько жутких ударов подряд. Потом увидел машину мисс Пауэлл на дне Лощины. А Так-Так теперь здесь… – я указал на сверток из половой тряпки. Кухарка содрогнулась.
– Но что с мисс Милдред? – выдохнула она.
– Не знаю. Я испугался. Ее, похоже, выкинуло ударом из машины, когда она катилась вниз. Она… она… – Тут я дал волю чувствам.
– Ах, бедная хозяйка! Как, неужели вы… вы что, там ее и оставили? Где она, ну где же она? Пустите меня к ней, я пойду, пустите!
По зрелом размышлении я все-таки предпочел, чтобы тетю обнаружил доктор Спенсер.
– Успокойтесь, прошу вас. Доктор Спенсер уже едет сюда.
– Так давайте перехватим его на дороге, для моей любимой хозяйки сейчас каждая секунда дорога! Бежим же, мистер Эдвард, скорей! – И с этими словами кухарка какой-то несуразной рысью понесла свое грузное тело к главным воротам. Не продвинувшись, однако, и на десяток метров, она остановилась и с присвистом просипела: – Нет, возьмите лучше Мэри. Она училась делать перевязки, когда была в «Герл-гайдс»[18].
– Хорошо, позовите ее. А я разыщу Эванса. Нам понадобится кто-то, кто поможет ее нести.
Да пусть их, пусть идут хоть все, подумал я. Лишний раз отвлекут внимание от моей персоны, к тому же, если где-то вдруг остались мои следы, такая толпа народа их, скорее всего, затопчет.
Когда я вернулся вместе с садовником, кухарка и Мэри как раз отворяли тяжелую створку ворот. С ними была еще судомойка с прижатым к глазам грязным носовым платком. В молчании, прерываемом лишь ее всхлипами, мы всей компанией добрались до рокового изгиба дороги. Там, у обочины, уже стоял автомобиль доктора; это обстоятельство меня слегка расстроило. Я бы предпочел иметь несколько минут в запасе, чтобы лишний раз осмотреться вокруг – не завалялось ли где какой-нибудь улики, – но быстро успокоился. Это представлялось крайне маловероятным. Собственно, тут везде разбросаны одни сплошные улики, только разве они имеют ко мне какое-то отношение?
Группа обитателей Бринмаура добралась до «финишной ленточки» чуть впереди меня – включая даже Эванса, который с того самого момента, как я его позвал, двигался со скоростью, необычайной для своих почтенных лет. Я же здорово выбился из сил от такой непривычной беговой нагрузки. Снизу раздался голос доктора Спенсера:
– Спускайтесь все сюда и помогите мне извлечь мисс Пауэлл из зарослей… Да-да, вот так, Мэри, обломайте эту острую ветку, она зацепилась за ее платье. Давайте же, Эдвард, не стойте столбом, помогайте, старина. Глядите: вот этот, казалось бы, опасный колючий куст, возможно, спас ей жизнь – только очень тяжело ее из-под него доставать. Куст еще молодой, гибкий, слава богу. Сучки и колючки остановили падение и в то же время оказались не слишком жестки – она не поранилась о них насмерть. Молодец, Эванс, отлично, почти готово. Ну, видите, получилось.
Вот так, словоохотливо болтая и призывая всех трудиться в поте лица, он руководил спасательными работами по высвобождению тетки из пут ежевичного плена. Мне же реальность подсказала: мудрее всего демонстрировать живейшее рвение и предельное напряжение сил, поэтому, когда дело было сделано, одежда моя оказалась порвана в нескольких местах, а руки все исцарапаны. Наконец тетя была извлечена на свет божий и положена на такой ровный участок почвы, какой мы только смогли найти. Доктор немедленно опустился на колени рядом с ней. На пару минут воцарилось молчание. Затем кухарка принялась тихонько плакать на плече у Мэри, а на лице судомойки появились тревожные признаки надвигающейся истерики. Удивительно, но признаки похожей реакции я ощутил и в себе. Видимо, это был эффект внезапной полной остановки кипучей деятельности.
– Черт возьми, милая девушка, потише. И вы, почтенная кухарка, возьмите себя в руки. – Голос Спенсера звучал резко и повелительно. Тем временем сам он споро, но методично продолжал осмотр. Время от времени кряхтел и хмыкал, как бы заканчивая проверку какого-то одного жизненно важного показателя и переходя к следующему.
Мне очень хотелось, чтобы он поскорее завершил работу, – по правде говоря, в само́м этом месте на дне Лощины отныне для меня навсегда останется нечто мертвенно-кошмарное, леденящее душу. Впрочем, я ведь не намерен всегда жить в Бринмауре.
Спенсер поднял голову:
– Ну, во всяком случае, она жива.
– О господи! – вырвалось у меня из груди. Весь мир перевернулся перед моими глазами, голова пошла кругом. Неужели все муки были напрасны? Я едва не потерял сознание. Пришлось срочно присесть.
К счастью, Спенсер превратно истолковал причины такой реакции:
– Все в порядке, Эдвард. Ваши чувства делают вам честь и тому подобное… В общем, могу вас обнадежить. Естественно, налицо сотрясение мозга и все такое, но ваша тетушка вполне себе жива и, насколько я могу сейчас судить, даже ничего не сломала. Впрочем, утверждать это рано – скажу точнее, когда мы доставим ее в дом.
Я посмотрел вниз, на лицо раненой, жестоко исцарапанное ежевичными колючками. Вспомнил еще раз, как машина летела в пропасть, как переворачивалась. Вспомнил растущую скорость падения. Обернулся еще раз к останкам «Морриса». То, что тетя выжила и даже сравнительно легко отделалась, казалось немыслимым. Непредставимым.
Глава 7
Остаток вечера обернулся настоящей мукой. После стольких дней изнурительной подготовки нервы мои, естественно, сдали. Даже если бы задуманное удалось, потребовался бы длительный восстановительный период, чтобы прийти в себя, прежде чем навсегда покинуть Бринмаур. После провала же дело обстояло во сто крат хуже. Я сразу же пал жертвой тысяч страхов и тревог: что, если вдруг – ах! – что, если вдруг какая-нибудь случайность, какой-нибудь пытливый взгляд или жест, какое-нибудь неосторожно оброненное слово выдадут меня? Конечно, я готовился подвергнуться подобным психологическим испытаниям, но лишь на некоторое время, притом имея возможность свободно строить планы на будущее. В нынешнем же положении я был лишен даже этого утешения. Ибо совершенно очевидно теперь, что вся программа провалилась. Тетя не только жива, у нее даже нет серьезных повреждений.
Надо быть осторожным. Именно поэтому я так методично, так подробно фиксирую все события и полагаю поступать так же впредь.
Мы с Эвансом притащили из сарая какую-то снятую с петель дверь и на сем шатком ложе доставили тетю домой, подложив ей под голову охапку пиджаков. Тащить ее по круче оказалось очень трудно, к тому же мой собственный пиджак был теперь навсегда загублен струйкой крови, стекавшей с тетиной щеки. Долго ли, коротко ли, наконец мы выбрались на дорогу – причем жестокосердный Спенсер не позволил даже там отдохнуть ни секунды. Вот еще один счет, по которому когда-нибудь, бог даст, ему придется со мной расплатиться.
Наконец мы оставили его на верхнем этаже усадьбы продолжать свои священнодействия над раненой, а я устремился к себе и в изнеможении упал в кресло. Тут же в комнату вошла кухарка – видимо, сейчас, в чрезвычайных обстоятельствах, она напрочь забыла о своих рутинных обязанностях и внутридомовых маршрутах.
– Я принесла вам чашку горячего чая, мистер Эдвард, очень крепкого. – И вправду, принесла, только бо́льшую часть успела пролить на блюдце. – Когда становится не по себе, нет ничего лучше чашки доброго чая. Мы с Мэри уже выпили по одной и почувствовали себя во много раз лучше. Вы попробуйте, – добавила она, заметив, что я вроде как нерасположен.
Я всегда пью только очень слабый чай, по возможности – китайский, с долькой лимона. Кухаркина же темно-коричневая жидкость никак не выглядела аппетитной.
– Попробуйте! – настаивала она. – Мэри-то была за то, чтобы подать чай в столовую, но я понимаю, что вам сейчас не до еды.
Это замечание прозвучало как раз вовремя, напомнив мне, что я должен выглядеть слегка выбитым из колеи. А то с моего языка как раз готово было сорваться, что я, мол, не вижу никаких препятствий к тому, чтобы подать чай в обычном порядке. Кухарке это, конечно, показалось бы проявлением душевной черствости. Стало ясно, что придется вновь в который раз пожертвовать собой. Я залпом проглотил тошнотворное пойло и, к своему удивлению, обнаружил, что оно произвело укрепляющий эффект.
Кухарка между тем, полностью игнорируя принятые общественные convenances[19], продолжала трещать без умолку. Она со всей страстностью – вот странная черта, свойственная всем представителям низшего сословия! – желала посудачить со мной о произошедшем. Нет, так не пойдет. Чем меньше разговоров на эту тему стану я вести с кем бы то ни было, тем безопаснее.
– Извините, дорогуша, – мне удалась слабая улыбка, – я не в состоянии говорить об этом.
– Бедный ягненочек! – О эти ее ласковые словечки и покровительственные интонации! – Конечно, понимаю. Вы ведь вдобавок все это сами видели!
Такого не следовало пропускать мимо ушей.
– Не все, дорогая, далеко не все. Однако могу я просить вас?.. – Тут я подал ей пустую чашку и, оставаясь в кресле, обхватил голову руками.
Кухарка удалилась – ничего иного ей, собственно, не оставалось. Я же закурил сигарету и погрузился в обдумывание ситуации. Чем дольше я ее обдумывал, тем больше успокаивался. Насколько можно было судить, ни при каком повороте дела поводов для подозрений в мой адрес не просматривалось. Увы, тогда я еще не знал, как мало пострадала тетя.
Через весьма продолжительное время послышалось, как Спенсер спускается по лестнице. Потом он вновь поднялся – видимо, чтобы дать какие-то указания Мэри, – и снова спустился. Я проворно спрятал дневник в специально предназначенный для него сейф. Когда доктор вошел, я уже спокойно вставал с кресла ему навстречу, чтобы справиться о новостях.
– Все обошлось очень хорошо, Эдвард. На удивление хорошо, неправдоподобно хорошо! Она уже пришла в себя, во всем организме ни единого повреждения. День-другой отдыха, покоя – и полностью оправится, как ничего и не было. Станет опять такой же, как всегда.
Я снова сел. Здесь-то дьявол и таился: моя тетя станет такой же, как всегда. И старый идиот преподносит мне эту весть, словно величайшую, неслыханную радость, а я даже не имею права показать, каким глупцом его считаю. Вот именно: такой, как всегда. Но нет, даже не такой же! Отныне между нами всегда будет лежать труп Так-Така, и он не позволит мне чувствовать себя, «как всегда». Тем временем Спенсер снова заговорил:
– А теперь не расскажете ли вы мне в точности, как это произошло? – Он сел напротив и принялся набивать трубку. – Я до сих пор не знаю ничего, кроме того, что вы сказали по телефону.
Настало время принять вызов. Можно отмахнуться от кухарки, но рано или поздно придется дать отчет тому или иному лицу. Странно выглядели бы попытки уйти от любого разговора теперь, когда я знал о легкости тетиных ран и был вынужден симулировать облегчение по этому поводу.
– В общем-то, я и не знаю ничего… – начал я медленно, словно стараясь восстановить в памяти виденное воочию. А надо сделать так, чтобы я видел как можно меньше! – Я выгуливал собаку на поле перед домом…
– Вашу собаку? – У доктора Спенсера я и собаки, видимо, друг с другом не вязались. – А-а, вашего пекинеса?
Пекинесы, по его мнению, кошки, что ли? Однако я сдержался.
– Да. Так вот, как я уже сказал, мы гуляли на поле перед усадьбой…
– А что вы там делали?
– Да просто шли через поле, как вдруг…
– Зачем же было идти через него? Откуда вы шли?
Это становилось утомительно, но Спенсер всегда задает дурацкие вопросы. В разговорах на общие темы он проявляет себя ничуть не умнее, чем при игре в бридж. Я решил, что лучше, как говорится, начать с самого начала:
– После полудня я сидел на склоне Ир-Аллта. Наслаждался чудесным видом. Читал. Где-то незадолго до четырех часов решил прогуляться – посмотреть, как поживают яблони в саду. У некоторых ветви свисали низко, прямо за ограду, на сторону поля, и я прошел вдоль подножия Ир-Аллта, чтобы взглянуть на них. И даже вышел для этого в поле. Тогда мне в голову пришло, что лучше всего будет вернуться назад прямо через него и через газон лужайки, а не обратно через сад. – Тут я ступил на тонкий лед, поскольку через сад на самом деле и короче, и через забор перелезать не нужно. К тому же надо еще выдумать причину, по которой я оказался на противоположной стороне поля, у дороги. Но для этого у меня заранее была заготовлена блестящая идея.
– Так вот, я шел через поле, и вдруг мне показалось, будто я увидел грибы…
– Эдвард, дорогой мой, я в этих местах живу намного дольше вас и могу уверить, что ни единого гриба на этом лугу никто никогда не встречал – по крайней мере, на моем веку. И уж точно не в такое раннее время года.
– Что вы говорите, доктор Спенсер? – Удивленная интонация мне хорошо удалась, учитывая, что я и сам это знал, но не знал, что он знает. – Ну, а мне вот померещилось несколько грибов. И когда я подошел к забору, произошли две вещи… Ну, не считая того, что никаких грибов там не оказалось…
– Что же вы за них приняли?
– Камни. Или, вероятно, цветы белого цвета. Или просто игру теней. Не знаю. Быть может, случайно залетел какой-нибудь листок бумаги. Во всяком случае, я приблизился к забору, и сперва бедняга Так-Так, наверное…
– Не представляю, как там могло оказаться все это.
– Бедняге Так-Таку, наверное, почудилось, – твердо продолжал я, – что в проем забора шмыгнул кролик. И тут же я услышал со стороны дороги шум двигателя. Так-Так куда-то пропал. Вдруг – тетин вопль и визг моего пекинеса. Я подбежал к изгороди и успел увидеть, только как машина переваливается через обрыв в пропасть. Она тут же исчезла из поля моего зрения, но я отчетливо слышал грохот ударов – то об одно дерево, то о другое. Подбежав к обрыву, я увидел, как она с ужасающим скрежетом разбивается о дно Лощины. Сначала я с ужасом подумал: тетя, наверное, внутри. Потом мне показалось, что тело вроде бы лежит там, где оно, как выяснилось, и было на самом деле. Затем смотрю: Так-Так лежит мертвый, – тут я не смог скрыть дрожи в голосе, – у обочины. Ну, и тогда я подумал: надо скорее бежать звонить вам и собирать домочадцев на помощь. Вот, собственно, и все, что мне известно.
Спенсер с минуту молча осмысливал услышанное.
– Очень жаль вашего пекинеса, – наконец произнес он с какой-то неловкостью в голосе. – Вы ведь были к нему очень привязаны, не так ли?
Я кивнул. «Привязан»! Я его о-бо-жал.
– Но почему вы не спустились вниз и не вытащили вашу тетю сразу?
– Что же я мог сделать один, доктор Спенсер? Я не врач, а высвободить ее из-под того кустарника, как вы сами могли судить, одному человеку не под силу.
– Так оно оказалось, но мне кажется, первым вашим побуждением должно было бежать вниз и проверить, нельзя ли самому помочь… Впрочем, и вправду связаться сразу со мной вышло лучше.
– Я старался не терять ни минуты. Мне это представлялось единственно правильным.
– Очень удачно, что вы меня застали. – Спенсер задумчиво улыбнулся. Видимо, ему казалось, что он совершил разумный и мужественный поступок, просто оказавшись дома.
– Вот именно, доктор, и не меньшая удача – то, что вы так быстро приехали. Даже не думал, что ваша старая колымага способна развивать такую скорость. – Разговор начал медленно дрейфовать в более спокойные воды.
– Да-да, скорость пятьдесят пять – шестьдесят пять километров в час во многих местах – ничто, но у нас в глуши – просто фантастика. Вы мне позвонили в пять минут пятого, а в шестнадцать десять я уже вылезал из машины на месте происшествия. – Тут его поразила внезапная мысль: – А она ведь ехала на собрание в лечебницу?
Я кивнул.
– Стало быть, она бы на него опоздала. Опоздала впервые за десять лет!
– Она задержалась, выдирая гороховую плеть в саду, я сам видел со склона холма. Видимо, из-за этого она и выехала впритык по времени. По той же причине, наверное, и гнала машину.
– Наверное. Ну, так или иначе, теперь я должен вас оставить. Кухарка с Мэри позаботятся о пострадавшей сегодня, а я между тем захвачу на автомобиле районную медсестру и доставлю ее сюда. Она уже собирает вещи, однако, полагаю, надолго мы ее не задержим. Я заеду завтра, Эдвард. Спокойной ночи. Эге, а это что такое? Ах, ваш пекинес! Бедная животинка. А знаете, Эдвард, ведь именно он сыграл роль главного злодея в нашей драме – ну, только не поймите меня в дурном смысле! Зла он, конечно, никому не желал, а все же весельчак чуть не прикончил вашу тетю. Я бы не стал оставлять его здесь. Как сказал поэт: «Закопай глубоко, здесь уж нету его, закопай поскорей, лучше так для ноздрей»[20]… Спокойной ночи!
Бессердечная скотина! Я проводил его до парадных дверей. Но уже через минуту он вернулся:
– Кстати, будут у вас яблоки?
– Будут, и немало. А вот тернослив совсем не будет.
– Спокойной ночи!
– Спокойной ночи.
На сей раз он ушел окончательно. Удачно все же, что я тогда обратил внимание на эти терносливовые деревья. Вопросам настырного старого дурака не видно конца!
Часть III Сомнокубики
Глава 1
По внешним признакам жизнь снова скользит в обычном русле. Окончательное тетино выздоровление произошло на редкость быстро – ее живучесть все-таки поразительна. Скоро ей привезут новую машину. Но нового Так-Така не привезут. И потому, хоть кажется, будто все течет по-прежнему, на самом деле это не так, и уже никогда не будет так. Появилась еще одна вина, которая ждет искупления. Еще одно зло, подлежащее наказанию. Так-Так должен быть отмщен. Я был преисполнен решимости. Слепой случай да терновый куст разрушили первый мой план. Ничего, я придумаю другой.
Одно, что я могу уже сейчас смело поставить себе в заслугу: не возникло никаких подозрений, никаких неприятных вопросов. В этом отношении мой план продемонстрировал безупречную надежность. Следовательно, если я и дальше стану действовать с прежней осмотрительностью, нет причин опасаться, что очередной план окажется уязвимее. Наоборот, насколько я могу предположить, у него есть все шансы на успех и результат. Скоро я его разработаю.
Что касается теткиной реакции на мой рассказ об аварии, она была вполне предсказуемой. Тетя слушала меня спокойно, возлежа в креслах посреди своей безобразной гостиной, закутав плечи в изумрудно-зеленый платок, который вступал в вызывающее художественное противоречие с ковром, и не проронила ни слова, пока я не закончил.
– Значит, ты хочешь сказать, Эдвард, что бросил меня висеть там на манер перезрелой ежевичины, а сам побежал звонить доктору Спенсеру просто потому, что не хотел прикасаться к трупу? Не смей вздрагивать, когда вещи называют своими именами. Ты подумал: она сдохла, пойду-ка я отсюда восвояси. Дохлое тело своей комнатной собачонки вполне сумел дотащить, да еще нежно завернул в половую тряпку, а до тетки дотронуться побрезговал. Да-да, я наслышана о том, каких почестей удостоился Так-Так. Довольно резкий вышел контраст, дорогой ты мой. Ты потом, наверное, еще сигарету закурил, налил себе выпить, а уж потом решил: так и быть, стоит, пожалуй, звякнуть доктору. Как мило с твоей стороны. Удивляюсь, как тебе не пришло в голову еще разгадать перед этим кроссворд-другой. Ах да, ты ведь не увлекаешься кроссвордами. Ну, в таком случае мог бы сочинить сонет на мою кончину. Пока свежие чувства не схлынули.
– Право же, тетя Милдред, вы ко мне в высшей степени несправедливы. Я по-прежнему уверен, что поступил правильно, первым делом позвонив доктору Спенсеру, а не пытаясь самостоятельно вытащить вас из кустарника. Должен сказать, что и доктор того же мнения.
– Вот как? Удивительно! Пожалуй, все зависит от того, как я падала на твоих глазах – жестко или мягко.
– Не могу сказать точно.
– Конечно, не можешь. Твои рассказы вообще сумбурны. У доктора сложилось впечатление, будто сперва ты увидел, как машина переваливается через край обрыва, а потом сразу – как она падает на дно. По твоему нынешнему сообщению вроде бы тоже так выходит. А вот кухарке ты заявил, что видел, как меня выбросило наружу.
– Нет, тетя Милдред. Я сказал кухарке так: полагаю, вас выбросило, поскольку мне показалось, будто я заметил ваше тело в кустах, но как вас выбрасывало, не видел. Даже помню, что кухарка позднее выдала неверную трактовку моих слов, и я поспешил ее поправить.
Тетя пристально посмотрела на меня:
– Все понятно, мой милый. Что ж, это проясняет нашу маленькую путаницу. Однако я все еще настаиваю: с твоей стороны недопустимо было оставлять меня в беспомощном состоянии, даже не попробовав что-либо предпринять.
– Мне очень жаль, что вы так смотрите на дело, тетя. Ну, а если бы я высвободил вас и поднял на руки как-нибудь неправильно, неграмотно с точки зрения первой помощи? Я бы мог что-нибудь внутри вас повредить. Ей-богу, положа руку на сердце, я уверен теперь, как, разумеется, был уверен и тогда, что избрал наилучший образ действий.
– Ну, если я не могу заставить тебя встать на мою точку зрения, стало быть, оставим все как есть. На сердце у меня сохранится зарубка от твоего легкого бездушия – выразимся так, – но оставим, оставим все как есть и не будем больше никогда говорить об этом.
Не знаю, есть ли на свете фраза, которая раздражает меня сильнее, чем «не будем больше говорить об этом». Подразумевает она вот что: говорящий, разумеется, прав, и это ясно, как божий день, всем, кроме его упрямого оппонента. Однако говорящий преисполнен христианского человеколюбия, и сейчас ему приходится тратить добрую его порцию, чтобы воздержаться от превращения морального поражения оппонента в его окончательный разгром. Ну и, кроме того, заметьте, говорящий успел сказать все, что хотел сказать, и теперь его забота – просто заткнуть рот оппоненту и не дать ему предъявить свои аргументы.
На некоторое время струя нашей беседы иссякла, и я даже вернулся к роману, который читал до ее начала. Дождь мерно стучал за окном, в комнате было уныло и сыро. Я бы не отказался посидеть у горящего камина, но камины в Бринмауре разжигаются строго по календарю, температура воздуха при этом игнорируется. Даже в моей комнате в этот час было бы теплее и эстетически приятнее для глаза, но за последние дни составилась теория, будто тетя имеет твердое право на постоянное внимание со стороны всех и каждого из домочадцев до тех пор, пока полностью не оправится (что, собственно, уже произошло). В соответствии с указанной теорией я сидел теперь в ее неудобном уродливом кресле, и слух мой услаждало громкое тиканье допотопных часов, а также журчание дождевой воды, увлекаемой потоком через трубы в сборный бак.
Однако вскоре относительную тишину нарушила тетя:
– Вот еще что, Эдвард. Боюсь, должна прямо тебе сказать, хоть, боюсь, тебе это не понравится…
Среди тем, затронутых ею за целые десятилетия, не было ни одной, у какой имелись бы малейшие шансы мне понравиться. Ну что ж…
– А именно?
– Мне даже нравится, что тебе не чужды определенные душевные движения, Эдвард. В некоторых отношениях ты человек жесткий, обидчивый, поэтому, пожалуйста, не надо вскидываться и лезть в бутылку, а просто спокойно послушай. В нашем поместье никогда ни одной собаке не ставили надгробия. Плохо уже то, что Эванс перекопал ради твоего пекинеса полсада. Еще хуже, что ты соорудил ему подобие гроба и устроил нечто вроде заупокойной службы, как я слышала. Это все нехорошо. Но против чего я решительно возражаю, так это против могилы на картофельной грядке. Решительно и наотрез отказываюсь терпеть там камень с эпитафией вроде этой. – Старуха вытащила из сумочки клочок бумаги и водрузила на нос очки: – «Моему любимому Так-Таку, единственной отраде своего хозяина, невинной жертве высоких скоростей». И еще там такой текст: «Кто содрогается пред возвращеньем в прах? Кто, берег траурный провидя, где не язвит уже высокая тоска души надменной, стихнет, ненавидя?»[21] О господи, Эдвард!
Я вспыхнул от монотонной, равнодушной интонации, с которой она прочла это четверостишие, подчеркивая ритм, но намеренно вышелушивая из каждого слова весь смысл до последней крупицы. Кому понравится, когда глумятся над тем, что для тебя свято?
И почему, собственно, нет? Жизнь Так-Така действительно была полна высокого и гордого томления. Я вообще очень долго подыскивал подходящую цитату.
– Дорогой мой Эдвард, по меньшей мере, это смехотворно. Кроме того, уж «жертвой скоростей» он точно не «пал». Твой пекинес отродясь быстро не бегал, если ты это подразумеваешь, а если намекаешь, что я погубила его своим стилем вождения, то, во-первых, это неправда, а во-вторых, если и было бы правдой, я бы не допустила, чтоб мне ею кололи глаза прямо с моих овощных грядок. И на том, Эдвард, разговор окончен.
– Что ж, очень хорошо, в таком случае я найду другое место – надеюсь, в окрестностях сыщется клочок земли, который мне позволено назвать своим собственным, – и там перезахороню его. Могильный камень поставлю сам.
– На твоем месте я не стала бы утруждаться. Если его поставишь ты, можешь не сомневаться: он немедленно рухнет. Но это даже неважно: ничего подобного тебе делать не придется, поскольку Морган просто не станет вытесывать для тебя камень.
Так вот кто наябедничал тетке – проклятый каменщик!
– Странно, мне он обещал всегда выполнять мои заказы. Впрочем, не удивлюсь, если нарушит слово. Все местные – обманщики.
Тетя в сердцах шлепнула ладонью по диванной подушке:
– Запомнишь ли ты когда-нибудь, Эдвард, что ты сам валлиец и постоянными издевками над ними унижаешь только себя?
Я направил на старуху презрительный взгляд:
– На свете есть люди, умеющие преодолевать врожденные недостатки.
Та размышляла не дольше секунды:
– А еще есть люди, никогда не вырастающие из ясельного возраста.
Этот выпад я не удостоил ответом, но в любом случае было ясно: если она как следует насела на Моргана, не видать мне никакой могильной плиты. Возможно, где-нибудь удастся раздобыть позже. Разузнаю в следующий же раз, как только смогу вновь выйти за порог этой тюрьмы. Или нет, наверное, лучше подождать второй попытки, и уж после нее похоронить Так-Така рядом с местом гибели. Впрочем, не окажется ли и тогда бестактным привлекать внимание к тому давнему событию? Пожалуй.
Глава 2
Сегодня у нас прошло мероприятие, которое тетя считает великим праздником. А именно: Спенсеры, все до единого, пришли на обед. Ничего более нудного нельзя себе представить, но тетка свято уверена, что таким образом наполняет мою жизнь развлечениями, радостью и весельем, – сам по себе факт абсолютно невыносимый.
Миссис Спенсер, думаю, относится к числу самых странных гостей, каких кому-нибудь когда-нибудь доводилось принимать. У себя дома она бывает пассивной и вялой, ужасно беспокоится только о том, чтобы вы не скучали. Страдает комплексом неполноценности – не дай бог, удалившись, вы останетесь недовольны тем, как она все устроила. В результате обыкновенно выходит одна маета: с одной стороны, чувствуешь себя досадной обузой для дорогой хозяйки, с другой – именно смертельно скучаешь. Во всяком случае, я скучаю. На тетин же вкус все, что касается Спенсеров, – верх совершенства. По этой причине я обычно держу свои суждения при себе и вынужден терпеть авторитарного доктора, его никчемную жену и рубаху-парня сына ad nauseam[22]. Разумно было бы предположить, что, освободившись от сугубо домашних тревог, миссис Спенсер более открыто смотрит миру в лицо и слегка приободряется. Ничуть не бывало – остается рассеянной и безучастной ко всему происходящему, разве что время от времени бросает полные обожания взгляды на мужа и сына – их она почитает двумя лучшими Божьими творениями на земле. Долгое время я не мог постичь, о чем, собственно, эта дама думает все то время, пока остается вне своего жилища, пока наконец не догадался: она относится к тем людям, которых вечно преследует страх, не оставлен ли кран в ванной открытым? Не заперли ли кошку ненароком в кладовой? И тому подобное. Сегодня у миссис Спенсер – в бледно-лавандовом платье, виденном мною на ней страшно сказать сколько раз, – был особенно отсутствующий вид. Казалось, она едва могла смотреть мне в лицо, а всякий раз, когда я обращался к ней, отчетливо вздрагивала. Очевидно, опасалась какого-то совсем уж непоправимого бедствия в брошенном хозяйстве. Право же, милосерднее всего было бы дать ей выговориться, рассказать напрямую, что у нее на душе. Причем, по всей вероятности, она вспомнила о грозной опасности сразу, как только покинула родной кров, ибо уже в тот момент, когда я спустился в гостиную – буквально через пару минут после прибытия гостей, – леди так подскочила на своем месте, будто ее кольнуло невыносимое угрызение совести. Между тем пусть миссис Спенсер и зануда, но я уверен, что она ни разу в жизни не совершила поступка, которого следовало бы стыдиться, – ей просто не хватило бы пороху.
Судя по всему, мое появление прервало какой-то разговор между остальными четырьмя собравшимися – и вероятно, обо мне. Тетка всегда обсуждает меня за глаза. Однако вскоре я овладел ситуацией и сумел затронуть другую тему. Горжусь своим savoir-faire[23]. У меня на уме как раз имелся предмет, который я хотел обсудить, точнее – я снял его с языка у молодого Спенсера. И как удачно, что это вышло на людях! De l’audace, toujours l’audace[24]. Если действуешь в открытую, никто никогда не заподозрит твоих истинных мотивов. Дело в том, что беседа за ужином вертелась вокруг одного случая, весьма занимавшего в то время мое воображение. Несколько человек в то время обвинялись в умышленном поджоге целой партии устаревших товаров с целью мошеннического получения страховки.
– Все, что я знаю о страховых компаниях, – сказал молодой Спенсер, – говорит об одном: их совсем не грех обобрать. В них самих обирала на обирале сидит и обиралой погоняет – оптом и в розницу. В жизни не заплатят ни гроша, если найдут хоть малейшую лазейку.
– Не судите так огульно, Джек. Мои страховщики заплатили мне за автокатастрофу как миленькие.
– Ну а как они могли не заплатить, дорогая тетушка? – Мне хотелось повернуть разговор в несколько иное, желательное для меня русло, и тут, казалось, подвернулся подходящий момент. Доктор при этом почему-то сосредоточенно уставился в свою тарелку, а миссис Спенсер охватил очередной пароксизм ее загадочных сомнений. – Но вот чего я в толк не возьму – как все-таки устраиваются такие пожары? Какова, так сказать, технология? Навскидку кажется, что от злоумышленников требуются серьезная подготовка, смекалка и хитрость. Между тем, если знать, как это делается, наверное, все просто.
– Наверное. – Тон доктора был явно призван потушить пожар данного разговора, пока тот не разгорелся, но от меня так легко не отделаешься.
– Во всяком случае, из нас тут никто не знает, как это делается, – разве что кроме вас, Джек?
– Кроме меня? Почему кроме меня?
– Ну, а разве в Территориальной армии не обучают взрывать полевые склады, закладывать мины замедленного действия и всякое такое? Мне казалось, принципы схожи.
Лицо Джека Спенсера – «все красное, и взгляд, безумием опустошенный»[25] (я считаю это лучшей строчкой у Теннисона) – выразило чистое, без примесей, изумление.
– Но, дорогой старина, я же состою в пехоте, а не в инженерном корпусе.
В этом вся Территориальная армия! Никогда от нее никакого толка. Я так рассчитывал вытащить из юного Спенсера нужные сведения… Тут, однако, неожиданная помощь пришла со стороны Спенсера-старшего:
– А тем не менее, Джек, было бы совсем нелишним обладать навыками разрушения материальных объектов – это очень пригодилось бы, например, при отступлении с занимаемой территории. Ребят из ККИ[26] может не оказаться под рукой. Неужели вам не дают хотя бы начальных навыков? Не говорят хотя бы проштудировать «Наставление по полевым сооружениям»? Боши вовсю взрывали все за собой, когда отходили за линию Гинденбурга в семнадцатом году. Очень скверное вышло для нас дельце.
Тут снова вклинился я, желая предотвратить превращение оставшейся части обеда в декламацию отрывка из ненаписанных военных мемуаров Спенсера – сочинения до зевоты скучного.
– Похоже, в ваших учебниках, как и во всех учебниках мира, не содержится решительно ничего полезного?
– Не говори глупостей, Эдвард. Уверена, что у них – отменные учебники.
Интересно, откуда ей-то об этом знать? Джек Спенсер перевел озадаченный взгляд со своего отца на мою тетю и при этом выплеснул на рубашку порядочную порцию соуса. Тут, впрочем, я большой беды не усматривал. Эту рубашку следовало отправить в стирку до званого обеда, а не после него. Ну, теперь-то уж придется от нее избавиться, слава богу.
– Наверное, эти сведения я бы мог раздобыть, – произнес он. – Без особого труда. Кстати, тот тип, о котором мы говорили, – у него, по-моему, механизм сработал при помощи часов.
– Часов? – переспросил я. – А каким образом? – Тут мне на долю секунды показалось, что миссис Спенсер была готова вмешаться и пресечь данную тему, но, посмотрев на мужа, передумала. Джек продолжал:
– А таким: к циферблату крепится некоторое количество припоя, и, когда стрелки показывают определенный час, происходит соединение.
Казалось, он собирался этим ограничиться, но его снова подтолкнул доктор. Право слово, старик начинает приносить пользу! Я даже на долю секунды почувствовал к нему что-то вроде симпатии.
– Соединение с чем? – переспросил Джек в ответ на вопрос отца. – Ну, с аккумулятором или, если угодно, с системой энергоснабжения, как-то так. Можно просто подтянуть оба провода нужной электроцепи через штекер к обычной розетке на стене.
– Но отчего происходит само возгорание? – попробовал уточнить я.
Джек предпринял напрасную попытку стереть пятно от соуса, которое только теперь заметил, и высказался несколько туманно:
– А надо электроцепь не полностью замкнуть в таких проводах, по которым ток поступает нормально, бесперебойно. Надо нарушить поступление тока тонкой проволокой. Тогда она будет тлеть. Не скажу точно, какой материал подойдет для такой проволоки, но что-то, что способно эффективно накаливаться.
– Тление – это еще не пламя.
– Нет, мисс Пауэлл, но все дело в том, что поверх тонкой проволоки вы кладете еще что-нибудь, способное заняться огнем, если окажется в контакте с раскаленной субстанцией.
– Может, просто стопку бумаги? – вставил я. Неужели все так просто?!
– Нет, бумага не подойдет. Слабовата. Тот парень воспользовался каким-то целлулоидом, не помню, каким именно. У Корпуса королевских инженеров, если не ошибаюсь, на вооружении пироксилиновый порох.
– Браво, Джек, сынок. А ты, оказывается, весьма-таки сведущ в этих вопросах. Несомненно, ваши учебные пособия гораздо полезнее, чем думает Эдвард.
Моя мимолетная симпатия к доктору Спенсеру растаяла, как дым. А миссис Спенсер наконец не выдержала.
– О каких ужасах мы тут говорим! – вскричала вдруг она. – Ведь таким способом, который вы все спокойно обсуждаете, нас можно легко сжечь в собственных постелях. Боже, все эти страшные адские машины… Милдред, дорогая, вы ведь собираетесь на Окружную выставку?
Но ее благие намерения изменить ход разговора не имели полного успеха. Доктор, недолго думая, перепрыгнул через Окружную выставку прямо к новому предмету:
– Вот, кстати, раз речь зашла о всяких «машинах» и устройствах. Мисс Пауэлл, сегодня я видел часы, извлеченные из обломков вашей машины. Мне показал их Гербертсон. Они остановились на без семи минут четыре. Выходит, вы не опоздали бы на совещание в лечебнице, если бы не несчастье. – Он повернулся ко мне: – Я просто обязан восстановить репутацию вашей тети по части пунктуальности, Эдвард. Вам ведь известно, как она ею дорожит. Особенно когда дело касается завтрака, не так ли, Эдвард? – Лукавые нотки в его голосе перетекли в буйный хохот.
При данных обстоятельствах мне очень захотелось, чтобы чертова репутация лопнула, как пузырь, проколотый булавкой, но было не до того. Я вспомнил его же, доктора, слова: мол, он точно заметил время, когда я ему звонил, – пять минут пятого. Пришлось немедленно искать способ спасти положение. Новость, сообщенная Спенсером, ошеломила бы кого угодно на моем месте, но я не потерял головы, а с быстротою само́й мысли нашел вышеупомянутый способ. Toujours l’audace, toujours l’audace!
– Прошу прощения, но это едва ли возможно, иначе я бы успел связаться с вами по телефону раньше, чем связался. Мне очень жаль подмачивать вашу репутацию, тетя, но я еще накануне заметил, что ваши часы отстают на добрых пять минут.
Тетя одарила меня злым и надменным взглядом:
– В самом деле, Эдвард? Я такого, право, не припоминаю.
Будь мы одни, без посетителей, дело сей же миг обернулось бы ссорой – в этом нет сомнений. И все из-за чего? Из-за того, что ей поперек горла признать: она могла, могла всего лишь опаздывать на распроклятую встречу. Ну и самомнение у этой женщины!
Разговор снова вернулся к Окружной выставке, и через несколько изнурительно тоскливых часов зануды Спенсеры наконец удалились.
Однако же для меня вечер прошел очень успешно! Во-первых, удалось непринужденно и к своей выгоде разрешить неприятное и неожиданное недоразуменьице с часами из старого «Морриса». Во-вторых, стало известно, что деятели из страховой компании безропотно заплатили по тетиному полису. А значит, ни Гербертсон как их доверенное лицо, ни они сами не усмотрели ничего любопытного в состоянии рулевой колонки и тормозных канатов. Было бы, конечно, и чудно́, если бы усмотрели, – учитывая, как сильно разбита машина. Но все-таки – облегчение. И наконец, в-третьих, я невзначай извлек массу ценной информации из «доклада» молодого Спенсера об использовании часов для устройства пожаров. Опираясь на эти данные, прочее можно доработать самому. Жаль, конечно, что вмешалась миссис Спенсер со своим «сгоранием в постелях», но, бог даст, неуместное замечание забудется. Интересно, откуда ей в голову пришла такая мысль? Мне-то она пришла уже довольно давно – отчасти подсказанная пресловутым уголовным делом о поджоге, отчасти моей собственной более ранней «заготовкой» со взрывом бензобака (сейчас понятно, что лучше было воспользоваться именно ею). Огонь! Огонь! Божественно прекрасное, живое как жизнь, полыхающее языками пламя, поглощающее всё и вся, и всё и вся способное списать. Теперь я вижу, какими вещими, провидческими были те мои сны. Отныне днем и ночью со мною пребывает видение этого пламени.
Глава 3
Какая жалость, что в школе не учат ничему полезному. Не то чтобы я ходил в школу слишком долго или проявлял более нежели поверхностный интерес (если только меня не заставляли специально) к тем отчаянно тоскливым предметам, какие значились в учебной программе. Уже на очень раннем этапе мне стало ясно: невозможно найти никакого отклика в сердцах наставников, чей ум косен и узок, а дух изнурен и вял.
С другой стороны, никогда не знаешь, что и когда может пригодиться. Меня теперь уже немного смущает сам факт открытого обсуждения поджогов со Спенсерами. Но льщу себе надеждой: я провернул его так непринужденно, что оно скоро забудется. Лучше изучить все досконально самому. Тем более что составленная мною картина еще далеко не полна, а придется ставить и опыты, что весьма затруднительно, когда рядом в доме живет такое пытливое существо, как моя тетя. Кроме того, я бы желал побольше узнать о действии снотворных.
Посему сегодня в погоне за знаниями – просто удивительно, как подобные занятия обостряют интеллект, – я отправился по магазинам. Страсть наших местных к сплетням превосходит всякое воображение, так что я почел за благо обойти на этом пути не только Ллвувлл, но даже Аберквум. Один лишь Шрусбери, как мне казалось, был достаточно велик и многолюден, чтобы не обратить внимания на мои пустяковые покупки. А именно: дешевые часики, детский набор для паяльных работ (при общении с продавцом мне очень удалась трогательная роль заботливого дядюшки!), несколько отрезков гибкого электрошнура, пара очень тонких проволок (якобы для развешивания миниатюр по стенам, куда жалко вбивать гвозди, и чтобы «веревочка» была почти незаметной), компактный аккумулятор (только для опытов; когда дойдет до дела, я прибегну к энергоблоку – черт с ним, все равно Бринмаурский ручей снабжает его энергией в далеко не достаточном объеме), сотня дробовых патронов, дюжина уродливых игрушек из целлулоида (снова на сцену вышел любимый дядя воображаемого юного племянника) и номер медицинской газеты с устрашающим названием. Уже оно само вызывало неприятные ассоциации с болезненными процедурами, каковым подвергаются те, кто попадает в лапы Спенсера и его братии. Мое предприятие становилось, однако, все дороже.
Эти богатства я помещу «за семью замками» – в инструментальном ящике «Ла-Жуаёз». Внутри дома не решусь поставить ни одного эксперимента – кроме единственной, так сказать, репетиции, о которой скажу позже. Но в окрестностях – масса проселочных дорожек и аллей, где можно продолжить изыскания без всякой опасности быть потревоженным или замеченным.
На обратном пути в Бринмаур случилось маленькое происшествие, лишний раз напомнившее, как жизненно необходимо держаться в стороне от нескромных глаз. Я встретил Уильямса, который стоял и напряженно вглядывался прямо в тот изгиб дороги, где с тетей случилась авария. Пришлось притормозить, поскольку прямо по проезжей части кружила его собака. Стало быть, пришлось и вступить в разговор. Впрочем, мне самому было любопытно узнать, что он тут делает.
– Доброго вам утречка, мистер Эдвард. – Голос фермера зазвучал, как всегда, напевно. – Какая, право слово, милость божья для всех нас, что мисс Пауэлл осталась невредима. Вот, видите ли, она попросила меня посмотреть, как бы так сделать, чтобы никто больше не свалился в пропасть. Этого, говорит, мало, что поставлены белые столбы, которые видны ночью, нужно что-то еще, что не даст машине упасть. Железную ограду она не хочет, и барьеров не хочет, видите ли, – а то, дескать, пропадет вид.
– Почему бы, раз так, не посадить живую изгородь?
– Да, это было бы правильно, это точно, только она ведь за три недели не вырастет, а мисс Пауэлл после своего… – тут он помялся, подбирая слово, – после своего приключения стала немного нервная. Лучше всего, наверное, сделать подпор к дороге – думаю, да, хорошо, пожалуй, такое можно сделать. А вот вам в самом деле, мистер Эдвард, не надо было вам бросать собачонке печенье, она ведь привыкла, начала их искать, наверняка из-за печенья через дорогу и бросилась. Вот это и убило беднягу, да и мисс Пауэлл, ее тоже чуть не убило – и все из-за какого-то печенья.
Перемена темы в середине этой красноречиво сбивчивой речи застала меня слегка врасплох, но я сумел не показать удивления:
– Чепуха, Уильямс. Ну да, кажется, был случай – я швырнул бедняжке Так-Таку печеньице где-то неподалеку, но он не стал бы искать его здесь снова и снова только потому, что получил однажды. Думаю, он просто рванул за кроликом.
– Может, и так, а только как раз на этом самом месте я болтал с вашим крохотным песиком, и он грыз печенье.
– В самом деле? Что ж, мир полон совпадений. – Я взглянул на наручные часы. – Ну, не буду задерживать тетю с ланчем. – И колеса «Ла-Жуаёз» заскользили дальше, оставив позади мой светский тон – надеюсь, столь же легкий, как и ход моей прекрасной машины.
А все-таки было бы хорошо, если бы старый дурак впредь держал язык за зубами!
После полудня я читал медицинскую газету – ну как минимум рекламные объявления. Весьма занимательное чтиво, доложу вам. Я уже достаточно давно пришел к выводу, что у меня имеется пара-тройка мелких болячек, на каковые старик Спенсер не обращает должного внимания. Теперь, к счастью, найдены от них средства. Надо почаще покупать этот листок. И еще мне пришлось пересмотреть одно мнение, которого я придерживался долгое время. Мне как-то сказали, что объявления в медицинских газетах пишутся особыми людьми, так называемыми «агентами по рекламе» – это весьма невежественное и неотесанное сословие. То, что я прочел сейчас, подобным людям сочинить явно не по зубам. Кто же, интересно, это все-таки делает?.. То есть, вы понимаете, если во фразе есть выражения: «при сепсисе, сопровождаемом сильной лейкопенией, нейтропенией…» или «… состоящий из золотистого стафилококка и бацилл акне», значит, фразу составил человек, безусловно, образованный.
Приятнее всего, что в газете я обнаружил и то, что искал. Собственно, я хотел узнать, возможно ли простому обывателю, человеку с улицы, зайти в аптеку и купить снотворное. Конечно, прямого ответа там не содержалось. И опять-таки, конечно, легче всего просто доехать до ближайшей фармацевтической лавки и попробовать купить что-то в этом роде. Сразу все выяснится, и, возможно, я даже получу искомое, но очень боюсь, что аптекарь пустится в расспросы. Наверное, он даже по закону обязан в них пускаться. В общем, идти на такой риск неразумно – как минимум меньше чем за сто километров от Бринмаура. Разве что в Лондоне? Там можно в крайнем случае оставить фальшивый адрес.
Кроме того, интуиция подсказывала мне: у аптекаря следует спрашивать не просто «что-то, чтобы заснуть», а конкретный продукт – это прозвучит гораздо солидней и убедительней. Будет нетрудно завладеть чистым бланком рецепта с печатью доктора Спенсера, а потом еще написать самому себе письмо от вымышленного отправителя-медика с рекомендацией попробовать некое средство. Быть может, в таких уж тонкостях нет нужды, и я внутренне надеюсь, что письмо пускать в ход не придется, но все же разумнее его приготовить. Ах, как мало я во всем этом сведущ! Как уже неоднократно отмечалось, школьное образование вопиюще однобоко.
Но газета и в этом смысле не подкачала – кое-что нашлось. Даже не кое-что, а самое новейшее изобретение – крохотные таблетки, которые стоит только опустить в жидкость, как они тут же растворятся. Их можно дать выпить пациенту, а он и ведать ничего не будет. Поистине блестящая идея – не задеть тонкой чувствительности больного! Высокая, благородная, достойная восхищения цель. И эти «Сомнокубики» гарантируют крепкий, здоровый, беспробудный сон. Не считая того, что мне не нравятся фамильярные выражения вроде «кубики» на патентованных этикетках, остальное вполне подходит.
Дело начинает налаживаться.
Глава 4
Огромный недостаток моего плана заключается в том, что может погибнуть все, чем я владею. У меня есть мизерная страховка на личные вещи. Пришлось ее оформить, потому что у нас дровяное отопление, искры разлетаются во все стороны. Раза два, подремав зимним деньком у камина, я обнаруживал дырочки, прожженные в брюках (а искр во сне не почувствовал). Естественно, костюмы после этого отправлялись на выброс. Залатанный костюм я не надел бы даже посреди Сахары.
Но в полисе моем, повторяю, стоит очень незначительная сумма. Она не покроет восстановления всего гардероба, составленного, смею сказать, с великим тщанием и вкусом. Можно будет, наверное, весь его заменить – и, замечу, нет на свете ничего интереснее, чем приобретение одежды, я лично способен планировать его часами, – а все равно никак не могу смириться с мыслью об утрате любимых вещей, на подбор которых ушло столько труда и усилий. Кроме того, остается проклятый финансовый вопрос. Унизительно, но это так.
Помимо одежды у меня есть и другое имущество. Например, книги. Многие – самые чудесные – были куплены во Франции и не без труда провезены через таможню. Их мне вряд ли удастся восстановить, ибо хоть они – маленькие шедевры в своем роде, в глазах многоголовой гидры большинства остаются распутными претенциозными безделицами и уж точно не адресованы широкому читателю. Такие книги, увы, уносятся бризом времени, таким же легким, как они сами. Что касается бестселлеров, то ни один из них у меня ни разу не получилось дочитать до конца. И неудивительно. Надо понимать, что некоторые люди наделены вкусом выше среднего.
Я все их старательно перебрал. Две или три можно унести с собой как бы случайно – естественно, меня не окажется в доме, когда случится пожар. Вероятно, можно унести даже дюжину – без риска чрезмерно оголить полки, а то тетя сейчас же обнаружит эту оголенность. Помимо врожденной пытливости, о которой я уже не раз распространялся, она за долгие годы жизни в совершенстве отточила искусство засовывания своего носа туда, куда не просят. Кроме того, сильно подозреваю: старуха тайком почитывает книги из моей библиотеки. Не сомневаюсь, она так же лицемерна, как вся эта публика, которая воспевает добрые дела и становится в позу сэра Галахада. Не ровен час, только я за порог – старушка кинется за своей тайной порцией разврата и не найдет ее на месте. Должен признать: одно или два из этих сочинений отличаются крайним… реализмом. Если тетя их читает, то, пожалуй, хорошо, что слабое владение французским не позволяет ей оценить особо тонкие нюансы самых интересных double ententes[27].
Ну, она уж как хочет, а будить в ней подозрения крайне нежелательно. Моя комната – это не гараж, где я приводил в надлежащее состояние «Моррис». Если ее обыщут и обнаружат какие-то приготовления, дело плохо. Особенно в свете того, что мне придется пользоваться аккумулятором. Я всего лишь раз рискнул поставить эксперимент с электричеством – прошлой ночью – и, увы, выбил в доме все пробки. Не представляю, что я сделал не так, но произошедшее очень меня встревожило. К счастью, это случилось посреди ночи, и у меня была масса времени, чтобы все убрать – ведь никто в тот момент, естественно, ничего не заметил. Правда, я очень испугался, что едва не устроил пожар раньше, чем нужно! Потом, проведя некоторое время в сильном волнении, пришел к выводу, что все в порядке, но заснуть смог очень нескоро.
А на следующий день обнаружилась новая проблема. Единственный человек в Бринмауре, кому доверено чинить электричество, – это Эванс. Однако, если неисправность пробок обнаружится лишь тогда, когда у нас обычно зажигают свет, он уже успеет уйти домой. Его коттедж – в километре отсюда, причем километр этот надо преодолеть, спустившись за усадьбой до самого дна Лощины и потом взобравшись почти на самый верх с обратной стороны.
Эванса, конечно, упрашивать не придется, но у меня имелось смутное предчувствие: пошлют за ним именно меня, причем в темное время суток. Значит, решил я, лучше, если неприятное «открытие» будет сделано лично мною – и пораньше, днем. А еще разумнее сразу убить двух зайцев одним выстрелом: выигрышная комбинация сложилась в моей голове, когда тетя в прихожей готовила бандероли для отсылки.
– Ничего же не видно, темнота, как тут можно завязать? Позвольте, я включу свет. Вам не следует так напрягать зрение. В вашем возрасте его легко перенапрячь.
Ну и, естественно, свет не зажегся – очень просто. Пришлось выдержать сеанс шипения со стороны тетки, которую, казалось, возмутила констатация того факта, что ей уже не шестнадцать. Но цель оказалась достигнута. Дальше разыгрывать партию было нетрудно. Следующим ходом стала реплика: «Эге-ге, что это у нас с электричеством?» Потом я делано небрежной походкой направился в столовую, чтобы выяснить: света нет и там. Затем, искусно изображая удивление, пришел к выводу: он выключился во всем доме. И, наконец, послал Мэри за Эвансом.
Тетя все это время продолжала упаковывать посылки и прокомментировала мои действия лишь словами:
– Почему бы тебе самому не сходить?
Мне пришлось попросить повторить ее вопрос, ибо я ничего не расслышал – все это время тетка держала во рту кончик веревки. Подобные язвительные замечания становятся еще язвительнее, если произнести их дважды.
Бандероли, однако, навели меня на блестящую мысль. Я взял быка за рога, присел на дубовый сундук в прихожей, покачал в воздухе изящно заостренным кончиком коричневого ботинка и обронил пару как бы незначительных замечаний. Знала бы тетя, что в них роковым образом заключена ее судьба!
– На следующей неделе мы проведем пару дней вместе с Иннзом, тетя Милдред.
– С Иннзом? А, с этим твоим малоприятным другом на «Бентли», который не умеет водить. Ну, если только не здесь, – ради бога. Иначе как бы нам на этот раз не пришлось перекрашивать весь дом. Если, конечно, он вовсе не снесет его своей машиной.
– Что за абсурд! Он здесь ни при чем. Простейшие математические вычисления доказывают, что пространство, оставленное вами, а вернее, специально расчищенное за безумные деньги (что у тетки до сих пор стоит костью в горле, так это чрезмерная цена, заплаченная за никому не нужную дорожку вокруг дома, причем заплаченная исключительно из-за ее упрямого желания задействовать только местную рабочую силу. Собственно, не удивлюсь, если это был своего рода благотворительный заказ от Милдред Пауэлл родному Ллвувллу, словно она – правительство), – так вот это пространство слишком узко для автомобиля Гая.
– Гая? Ну да, мистера Иннза. Ну, что ни говори, а краску со стены содрал он. А вот этот сундук, кстати, не окрашен, он из дуба, Эдвард, и если ты будешь дубасить по нему ботинком, то лак растрескается или случится еще чего похуже. Ты не способен две минуты постоять на ногах? Тогда, ради всего святого, сядь на стул или на лестницу – если только не сломаешь ступеньку и сможешь не выплеснуть свои телеса за пределы коврового покрытия. – Тут она ударилась в вульгарные сравнения ширины упомянутого покрытия с местом, занимаемым мною в сидячем положении. Цитировать их я не стану.
– Как бы там ни было, я отправляюсь в следующий вторник. Думаю также воспользоваться случаем и взять с собой в Шрусбери несколько костюмов для глажки. Отдам их по дороге туда, а поеду обратно – заберу. У меня также вызывает беспокойство состояние переплета некоторых моих книг, их я тоже прихвачу.
Тетка воззрилась на меня:
– С каких это пор ты взял обычай тратиться на глажку вне дома?
– С тех самых, тетя Милдред, как пришел к выводу, что ни вы, ни Мэри не способны погладить их как следует. Кроме того, химчистки же у нас нет. Или есть?
– Нету, это точно. К тому же, пока ты не извинишься и не возьмешь свое оскорбление обратно, Эдвард, можешь не сомневаться: глажки в домашних условиях тебе больше не видать.
– Законы природы никогда не просят извинений![28] – удачно процитировал я.
– Не будет извинений – будут мешки на коленях. Сам знаешь, Эдвард, на толстом человеке одежда растягивается сильнее, чем на худом. Так что как тебе будет угодно. Твоя благодарность за многолетние труды, потраченные на глажку чертовых костюмов, просто берет за душу. А что касается твоих грязных книжонок, по мне, так меньше грязи – чище дом. Поступай по своему усмотрению. Видно, ты у нас внезапно разбогател? – Тетя в сердцах бросила на стол последнюю посылку. – А, Эванс, вот и вы. Мастер Эдвард выбил все пробки.
– Дорогая тетушка, я лишь только по доброте душевной, каковую тут, впрочем, никто не ценит, собирался зажечь в прихожей свет, чтобы вам не работать вслепую, и случайно обнаружил: он не горит. Затем, применив малую толику здравого смысла, проверил, как обстоит дело с остальными выключателями, и установил: они тоже не работают. Каким образом из этого следует, что «я выбил все пробки», понимать отказываюсь. Да вам еще пока и не известно (как видите, я аккуратно подбираю слова), в пробках ли дело. Может, испортилось что-то другое. И почему, если «выбил», то непременно я?! Вы всегда обвиняете меня, и почти всегда несправедливо.
Тетя проявила любезность и слегка зарделась – насколько, конечно, была способна.
– Прости, Эдвард, наверное, я немного поторопилась с выводами.
Она и вправду выглядела смущенной. Несомненно, сама мысль об извинениях ей претит. И такую радость мне редко удается от нее получить, а нынешний случай еще стократ слаще, ибо знала бы старая карга, что выбил их действительно я! Что ж, продемонстрируем наше царственное великодушие:
– О, не беспокойтесь, все в порядке. Забудем об этой перепалке, а Эванс, даст бог, тем временем починит свет.
Очень удачное выдалось утро. Вы просто поразитесь, узнав, сколько книг у меня нуждаются в новом переплете и сколько костюмов – в чистке! Правда, зря я погорячился – приплел в разговоре домашнюю глажку, ибо, положа руку на сердце, и тетя, и Мэри справляются с этим делом вполне удовлетворительно, а продолжать экономить по несколько монет и кучу времени в неделю было бы очень кстати… Господи, ну вот опять! Все время забываю, что это не имеет значения – ведь я не останусь здесь надолго.
Глава 5
Долго ли, коротко ли, в понедельник к вечеру я тихонько уехал в Шрусбери. В «Ла-Жуаёз» – мою ласточку – особенно много багажа не влезает, поэтому, если бы я взял с собой все, что собирался (помимо книг и костюмов), возникли бы серьезные трудности с размещением. Кроме того, всем стало бы очевидно: машина перегружена кладью, а мне, как уже говорилось, лишние вопросы не нужны.
Нечто немного необычное проделать все-таки пришлось, но, скорее всего, никто не заметит. А именно: запереть платяной шкаф и увезти ключ с собой. Я сперва думал воспользоваться ящиком туалетного столика, но все, что надо, туда толком не поместилось. Да и Мэри, когда станет убирать комнату, заметит, что ящик заперт. К платяному шкафу у нее нет никаких причин даже подходить, а вот туалетный столик я никогда не закрываю на ключ. У меня, видите ли, имеется маленький, но очень надежный сейф. Тетя выделила его мне много лет назад, когда у меня впервые стали появляться вещи, которые стоило держать под замком, но не в банке. Сейф как нельзя лучше пригодился теперь для хранения драгоценного дневника (в настоящее время он у меня, конечно, с собой, я пишу эти строки у Гая). Ах, любопытно было бы узнать, что творится в Бринмауре! Вот, ей-богу, не находился бы я за много километров – забрался бы сейчас на крышу любого высокого здания и, напрягая зрение, вглядывался бы в яркое пламя, которое – имею все основания надеяться! – разгорается в усадьбе.
Я живо представляю себе картины сегодняшнего вечера. До обеда все должно было идти, как обычно. Ведь обедает же тетя как-то, когда меня нет дома. У многих женщин есть отвратительная привычка, оставаясь в одиночестве, клевать что придется – но моя старуха, полагаю, ее не имеет. Она с должным уважением относится ко всем условностям и, между прочим, не жалуется на плохой аппетит. Да и в кои-то веки должно же сослужить мне добрую службу это наказание незыблемыми обычаями, от которых я мучаюсь всю жизнь. Всегда, испокон веков, по вторникам в Бринмауре ужин подается в столовую, и ничто не изменит этого порядка. Следовательно, тетя при полном параде в торжественной тишине будет поглощать там пищу, а потом в гостиной пить кофе. Вот тогда-то и начнется самое интересное. Большинство людей находит, что кофе бодрит и не дает задремать. Но моя тетушка, выпив сегодняшний кофе, минут через двадцать почувствует необыкновенную тягу ко сну. Надеюсь, не настолько сильную, чтобы предаться ему прямо в гостиной… Тревожная мысль, но не думаю, что такое случится, а если и случится, Мэри уложит ее в постель. Опять-таки надеюсь – надеюсь! – глупышке не взбредет на ум, что хозяйка заболела и надо звонить проклятому старикану Спенсеру!
Но нет, нет, налицо достаточно оснований полагать: все пройдет хорошо. Я ведь для проверки успел положить «сомнокубики» самому себе в суп. Очень неудачный вышел опыт! Они сработали еще до окончания обеда! Воистину, мне стоило неимоверного труда держать веки разомкнутыми, пока не уберут основное блюдо, а о кофе не могло идти и речи. Мне просто необходимо было немедленно отойти ко сну, а я ужасно боялся, что во сне проговорюсь! Собственно, у меня и так остались весьма неполные воспоминания о сказанном мною во второй половине обеда. Помню только, что еле сумел отговориться усталостью, головной болью и сбежать в направлении кровати. На следующее утро оказалось, что тетка решила, будто я напился. Более того, она даже предприняла несанкционированный обыск моей комнаты и в самом деле обнаружила толику абсента, который я потом вернул обратно лишь огромными усилиями и немедленно уничтожил. Если старуха пришла к выводу, что я регулярно употребляю данное вещество внутрь, она кардинально ошиблась. Я, хоть и старался привыкнуть к нему, наслышавшись весьма интригующих историй о его эффектах, вынужден был признать абсент гадостью. А обысков в своей комнате все равно не одобряю.
На следующий раз я уменьшил дозировку «сомнокубиков» и положил их в кофе. Теперь эксперимент прошел успешно. То есть неприятно, конечно, было отчаянно бороться с дремотой все время, отведенное распорядком для обязательного нахождения в тетином обществе, но зато порадовало осознание того факта, что сонливость чувствовалась как вполне натуральная, природная и притом почти неодолимая. После этих пилюль засыпалось крепко и спокойно.
Так вот, возвращаясь к тете: выпив кофе сегодня вечером, она грузными, словно отяжеленными Морфеем шагами поплетется из своей кошмарной гостиной в свою же аскетически обставленную, но не менее кошмарную спальню. И отойдет ко сну, и пробуждение ее будет не из легких. Я об этом позаботился. В Бринмауре не держат кофейников современного типа. Никакой «новомодной ерунды» хозяйка не терпит. Кофе у нас всегда приготовляется невообразимо древним способом: кипяток выливается прямо на зерна – не берусь предполагать, смолотые уже или нет, – а затем все это процеживается. Довольно длительный процесс, поэтому, согласно обычаю, принятому с незапамятных времен, он производится по утрам в расчете сразу на ланч и на обед. К обеду кофе лишь подогревается – одно это уже характеризует вышеописанный метод как никуда не годный. В промежутке между двумя трапезами напиток неизменно стоит в специальном жбане на специальной полке. Очень по-бринмаурски. Таким образом, мне не составило труда, пока Мэри убирала со стола после ланча, проникнуть в кладовку и опустить в упомянутый жбан лакомый «сомнокубик».
Придется, кстати говоря, надеяться, что разогревание не отразится на его свойствах! Интересно, кипятят ли кофе заново? Пожалуй, нет – зачем? Если так, полагаю, все кончится хорошо. Было бы спокойней, наверное, предварительно обратиться с этим вопросом в медицинскую газету, но едва ли у меня имелась возможность сделать это без риска.
К тому же действие «сомнокубика» играет второстепенную роль в моем плане, оно призвано только лишний раз подстраховать то, что уже «застраховано». Видите ли, пожар начнется внутри моего платяного шкафа. Там огонь хорошенько займется – об этом я позаботился, – а значит, быстро перекинется на всю комнату, оттуда по деревянным панелям стен – в коридор, а когда загорится в коридоре, путь к тетиной спальне (она прямо за соседней дверью) и из нее окажется отрезан. Понимаете, прихожая в Бринмауре – это огромное открытое пространство без перегородок, поднимающееся прямо до крыши, по каковой причине в доме всегда холодно зимой. Через прихожую наверх ведет лестница, покрытая не слишком широкой ковровой дорожкой, которая в свое время дала тете столько материала для упражнений в остроумии. Наверху же начинается длинный проход, отделенный от прихожей только балюстрадой. Проход ведет мимо моей спальни к спальне тетки, расположенной как раз над гостиной. Те комнаты, что ближе к балюстраде, предназначены для гостей и сейчас свободны. Имеется также ответвление коридора – к помещениям для слуг и чердаку (о, вот вам еще одно неприятное воспоминание).
Так вот, когда в коридоре напротив моей комнаты как следует заполыхает – а до этого момента никто ничего не заметит! – слуги не смогут пробиться к тетиной двери, а сама она будет мирно почивать. Ей не придется страдать перед кончиной. Эти старые деревянные усадьбы сгорают легко и быстро, как свечки. Даже электричество в них, говорят, проводить опасно. Кстати, разве всего неделю назад (какой блестящий аргумент!) в Бринмауре не выбивало все пробки?.. А я в это время спокойно нахожусь за много километров от места событий. И вот – за много километров от него – заканчиваю сегодняшнюю запись. Пожар начнется через сорок семь минут. Интересно, каким образом печальная новость дойдет до меня?
Глава 6
Утро было серым и унылым. Накануне я допоздна засиделся за дневником и теперь совсем не отказался бы провести еще некоторое время в покое и неге, получив добрый завтрак в постель. Помимо недосыпа, приходилось учитывать и предстоящий день, по моим расчетам, обещавший стать хлопотным.
Но понежиться мне не пришлось. Начать с того, что, хотя Гай относится ко мне с неизменным участием и знает толк в гостеприимстве, семья его смотрит на подобный образ жизни слегка неодобрительно. Они не такие спартанцы, как моя тетя, но я знаю, что с ними моему другу приходится преодолевать свои сложности, – знаю и не хочу их усугублять. В общем, завтраки в постели здесь не приветствуются. К тому же необходимо вести себя как ни в чем не бывало, совершенно обычным образом, – а это непросто, если ты переутомлен и каждую секунду ожидаешь чрезвычайных вестей. Пришлось опоздать к столу ровно настолько, насколько я опаздываю обычно.
В процессе одевания я уже начал лихорадочно думать о телеграмме, за завтраком ей уже точно пришла пора прийти, но – ничего! Мы продолжили утро осмотром нового оснащения, установленного Гаем на «Бентли», и обсуждением новейших идей в области автомеханики. Вынужден признать: концентрация на этих предметах давалась мне с огромным трудом. Одним глазом я все время поглядывал на дорогу, где, по моим расчетам, рано или поздно должен появиться мальчик-посыльный… Но он не появлялся.
Внезапно меня поразила ужасная мысль. А что, если там ничего не произошло? Если по какому-то невероятному, сказочному невезению моя затея не сработала – что должно было тогда случиться? По всей видимости, абсолютно ничего! Я не видел никакой разумной причины, по какой кому-либо пришло бы в голову открывать мой платяной шкаф, а если бы кому-то и пришло, он обнаружил бы его запертым на ключ. Замок – очень прочный, сам предмет мебели – на славу, штучно изготовлен в солидном, основательном средневикторианском стиле. Очень сомнительно, чтобы тетя позволила его взламывать. Не было там ничего для нее любопытного настолько, чтобы это любопытство перебороло отвращение к порче вещей. Страсть к экономии не позволит ей разоблачить мои замыслы. Однако же, если до вечера не поступит никаких сообщений, стоит послать ей строчку-другую: так, мол, и так, случайно прихватил с собой ключ от платяного шкафа. Я не имел привычки, уезжая куда-нибудь, сообщать ей о благополучном прибытии на место, так что это покажется ей немного странным, но все же это лучше, чем если бы все раскрылось. А так – появится шанс заново все подготовить.
И тем не менее из моего воображения никак не улетучивалось видение тети, вскрывающей мой гардероб, обнаруживающей мои приспособления, и… и как, спрашивается, я объясню ей их назначение?!
Впрочем, все обошлось. Я строчу эти заметки, просто чтобы сохранить в памяти моральное напряжение, пережитое сегодня утром, строчу их у Гая, как раз перед тем, как покинуть его гостеприимный дом. Теперь, когда мне известно, что причин для беспокойства нет, я даже не могу вызвать в памяти образ борьбы между страхом и надеждой, происходившей в моей душе совсем недавно; к тому же нельзя особенно терять время. Впервые в жизни я всем сердцем стремлюсь в Бринмаур. Отправлюсь сразу после ланча – его подадут с минуты на минуту. По моей просьбе сегодня здесь самый ранний ланч, какой только приличен, чтобы я мог скорее уехать.
Однако я опять позволил моему перу лететь впереди событий (весьма удачный оборот, перья ведь и вправду летают! Ну, да бог с ним). Я ведь еще даже не передал вам текста телеграммы, очень краткого и очень содержательного: просто «Немедленно возвращайтесь. Спенсер».
Жаль, что подписано «Спенсер». Мне вовсе не улыбается, чтобы он снова совал свой уродский кривой нос в наши дела. Но ничего не поделаешь, наверняка кухарка или Мэри не преминули его пригласить, чтобы доктор уж сам решал, что в таких обстоятельствах предпринять. Кстати говоря, надеюсь, обе они не пострадали. Кое-какие счеты с кухаркой у меня есть, однако я не настолько злопамятен. Интересно, как им удалось связаться со Спенсером, ведь телефон наверняка вышел из строя. Наверное, успели все-таки вызвать по нему пожарную команду. Едва ли из этого вышел толк – только для того, чтобы славная ллвувллская бригада огнеборцев собралась воедино, требуется несколько часов. Если дело происходит днем, все лошади заняты на полевых работах. Если ночью – за каждым пожарным приходится отправлять вестового на велосипеде. Как бы там ни было, наверное, из-за этого последнего в истории Бринмаура телефонного звонка поднялся шум, и старик Спенсер самолично решил проехать – узнать, что случилось.
Ну, вот и зовут к ланчу. Интересно, где и при каких обстоятельствах мне суждено продолжить дневник?
Никогда не забуду того поспешного возвращения. Только я отъехал от дома Гая, как солнце пробилось из-за туч – доброе и многозначительное, как мне казалось, предзнаменование! Я приободрился и пришел в настроение почти веселое, но сразу вспомнил о необходимости придерживаться серьезно-взволнованной манеры поведения. Телеграммы, вроде полученной мною, как правило, несут дурные вести. В то же время нужно было помнить: я «не могу» пока точно знать, какие именно дурные вести принесла данная телеграмма. Ох и трудная же мне досталась роль! Я даже рад был отделаться от Иннза: еще час в его обществе – и, боюсь, имел бы неосторожность посвятить его в свои подлинные дела. Учитывая все обстоятельства, каким бы верным товарищем ни зарекомендовал себя Гай, это было бы явной ошибкой.
Добрая английская дорога шуршала под моими ногами, а из моей груди буквально рвалась песня. Солнце сияло, «Ла-Жуаёз» весело урчала мотором, мир принадлежал мне и ждал моих повелений.
– Свобода, свобода! – восклицал я. – Наконец-то я тебя обрел!
В этот момент случилось маленькое происшествие. Следовало бы еще тогда разглядеть в нем определенное знамение: в этой чертовой стране никто не может чувствовать себя подлинно свободным. Меня остановил полисмен и принялся обвинять в «опасном вождении».
– «Опасном» для кого, констебль? Для вон тех овец?
– Отчасти, сэр. И отчасти для пастуха.
Ужасно неприятно. Мне вовсе не улыбалось заново сдавать на права. По сей причине я прибегнул к подвернувшейся кстати «дипломатической» помощи – рассыпался в извинениях перед представителем ББМ (Бездушной бюрократической машины – так я ее называю) и продемонстрировал ему телеграмму Спенсера.
– Боюсь, пришлось излишне торопиться вот из-за этого. Признаться, мне несколько тревожно на душе. – Одновременно я попытался опустить в его ладонь полкроны. Этого оказалось явно недостаточно. Дуралей, похоже, даже оскорбился.
– Несомненно, сэр, это может служить смягчающим обстоятельством, но уж никак не вот это! – Он рассерженно показал на мою ладонь, в коей все еще была зажата чертова монета, а затем битых пять минут переписывал в блокнот номер моей машины. Могу сказать одно: если сотрудники полиции станут тратить меньше времени на длинные выражения вроде «смягчающих обстоятельств» и научатся работать пошустрее, бедолагам автолюбителям останется больше времени наверстывать остановки в пути. Тем временем к нам приблизился почтенный предводитель отары и принялся ругательски ругать меня с распевным шропширским акцентом. Не понимаю, какого черта овец вообще допускают к автотрассам? Придется теперь провести un mauvais quart d’heure[29] в аберквумском суде! Только бы права не отобрали.
Потребовалось немало времени, чтобы вернуть себе самообладание. Когда оно все-таки вернулось, под колесами уже извивались выщербленные дороги округа Квум. Мост через Бринмаурский ручей я пересек перед самым вечером – тени от высоких деревьев ложились густо и низко на дно Лощины. У вершины холма солнце ударило мне прямо в глаза, так что усадьбы сразу было даже не рассмотреть.
То есть я, конечно, больше и не рассчитывал ее «рассматривать». Вполне естественным образом я предполагал: она сгорела дотла. Что могло остаться? Ну, пара обугленных несущих стен – самое большее, каркас здания, но вероятнее всего – совсем ничего, холм пепла. Я так подробно пересказываю эти мысленные картины, чтобы вы лучше могли понять, что именно случилось в действительности.
Въехав в тенистую полосу – как раз там, где когда-то подумывал установить препятствие, в которое тетка могла бы врезаться, – я увидел дом. Это был шок. Дом стоял целехонек, без малейшего видимого повреждения! На какое-то мгновенье мой разум даже помутился, и пару метров машина прошла на автомате – или, лучше сказать, божьей милостью. А тут еще прямо передо мной на дороге возникла фигура тети – выглядела она в точности так, как всегда при жизни.
Но в глубине моей души не оставалось никаких сомнений: в живых ее быть не должно. Иначе что означала телеграмма Спенсера? Еще более свирепый вал ужаса накрыл меня, когда я осознал: фигура стоит на том самом месте, где ее автомобиль вылетел в пропасть. Люди, столь же суеверные, как я сам, без труда поймут: вывод был очевиден. Где же еще бродить тетиному духу, как не вокруг этой злосчастной точки на шоссе – чтобы и меня утащить с собой в преисподнюю тем же самым способом! Это так на нее похоже, так в ее стиле! Но нет, я преисполнюсь решимости раз и навсегда показать этому привидению: меня не запугаешь. В этот миг волосы встали бы дыбом на моей голове, если бы только я не имел благородной привычки ежедневно пользоваться весьма эффективным гелем для волос «Цветочный аромат». Но поскольку такую привычку я имел, то всего лишь ощутил сильное покалывание в области черепа. Стиснув зубы, я нажал на газ и направил машину прямо на призрака.
Фигура вскрикнула изумленно-испуганно и проворно отскочила на обочину, но, зацепившись одной ногой за импровизированный предупреждающий знак – большой белый камень, рухнула на землю. Только у ворот заднего двора мне пришло в голову: подобное поведение для призраков нехарактерно. Говорите что угодно о духах и прочих пришельцах с того света, но о камни они не спотыкаются. Они через них свободно проскальзывают. И о том, чтобы выскакивать из-под колес автомобилей, им тоже не приходится беспокоиться. Я пустил «Ла-Жуаёз» задним ходом и тихонько, но быстро съехал обратно к месту мистического происшествия. Привидение к тому времени как раз успело встать, отряхнуться и выйти на дорогу. Теперь ему снова пришлось отпрыгивать в сторону – я едва на него не наехал.
– Право слово, Эдвард, – послышался тут голос тети во всем его неподражаемом своеобразии и натуральности, – твои методы становятся все примитивней. Один раз еще ладно, но вернуться опять – это уж… я прямо не знаю…
Мне к тому времени и так досталось. Я был измотан, находился в смятении, я только что пережил приступ неописуемого ужаса. Теперь, боюсь, меня хватало лишь на то, чтобы оставаться на водительском месте с широко открытым ртом и молча взирать на тетю. Ибо это была она. Она, эта поразительная женщина, была жива, совершенно здорова и явно убеждена в том, что минуту назад я собирался задавить ее, а когда не получилось, повторил попытку. С какой точки зрения ни смотри – смешно, когда бы не было так страшно. Очень серьезная ситуация. Ведь я изо всех сил стремился к тому, чтобы не возбудить в ней ни малейшего подозрения, а теперь, уж конечно, поводов у нее предостаточно – и все из-за чистого, неумышленного, непреднамеренного, глупого несчастного случая, который и несчастным-то нельзя назвать – ведь ничего, собственно, не произошло. Как жестока судьба!
Тетин голос между тем продолжал греметь:
– Черт побери, Эдвард!
Всегда морщусь, когда женщины чертыхаются.
– Я, по-моему, лодыжку растянула! – Она принялась бесцельно ковылять взад и вперед, проверяя правильность своего предположения, и наконец остановилась у крыла «Ла-Жуаёз». На таком расстоянии не оставалось уже никаких сомнений в ее материальности. Тем временем она всерьез заинтересовалась содержимым машины. – Так. Три чемодана. Дорожная сумка – не ты ли говорил мне однажды, что не появишься с ней на людях даже по приговору суда? «Гладстон»[30] – между прочим, мой, вот уж не думала, что он тебе понадобится, дражайший Эдвард. Напомни-ка, как долго ты собирался гостить у мистера Иннза.
– Я сам не знал точно. А там, знаете ли, очень хочется иметь под рукой широкий выбор одежды. У них, – я сделал легкое ударение на этом местоимении, – много разных занятий для гостей. И все всегда так элегантны, у всех всё с иголочки…
Тетка продолжала рыться в салоне.
– Поэтому тебе понадобился еще и цилиндр?
– Гай сказал, у них по соседству как раз намечается свадьба. По-моему, блестящая импровизация, как вы находите?
– Да, естественно, такие вещи часто устраиваются экспромтом. Да, да. Подготовиться ко всему – никогда нелишне. Поэтому ты прихватил еще и котелок – вдруг хозяева увезут тебя с собой в Лондон. И мягкую шляпу, конечно, и черную велюровую – никогда не представляла, по какому случаю вообще можно такое напялить, хоть в Лондоне, хоть в деревне. И чудовищное кричащее кепи, в котором ты садишься за руль. И старую панаму – надеюсь, тебе не пришло в голову надеть ее в обществе всех этих «элегантных, одетых с иголочки» господ, Эдвард? – Произнося последние слова, она тщательно подражала моему голосу. Какое нахальство! – А то уж очень она облезла. Гляди-ка, и зонт не забыл взять. И ротанговую коричневую трость. Вот уж действительно ко всему подготовился. – Тут старуха сделала паузу, продолжая задумчиво перебирать вещи. – Но чего я вовсе не знала, так это что у тебя есть соломенное канотье, дорогой мой Эдвард.
Пришлось истолковать появление данного головного убора в максимально благоприятном свете:
– Я купил его как раз по пути туда. В Шрусбери. Ну да, производство лондонское. С провинциальной маркой я, естественно, ничего не стал бы приобретать. А то слуги такие снобы…
– Слуги – снобы, дорогой мой? – Ей обязательно нужно перебить человека.
– Да, слуги. Они нынче повадились так модничать. Хочу сказать – у всех у них соломенные шляпы, – добавил я в ответ на удивленно поднятые тетины брови. – Только, пожалуйста, тетя Милдред, не называйте их «канотье».
– Как скажешь, дорогой, – с подозрительной кротостью отозвалась она. – Ну, вижу, для меня тут места нет, значит, в Ллвувлл ты меня не отвезешь. Да и стоит ли мне садиться в машину, когда ее ведешь ты, – после всего, что тут случилось? Лодыжке моей, наверное, только на пользу пойдет добрая прогулка пешком. – Тетя зашагала по дороге. – Пока что – до свидания!
Больше я терпеть не мог.
– Тетя Милдред! Что означает эта телеграмма от доктора Спенсера?
– Попозже расскажу, дорогой. – Старуха чуть ли не вскачь припустила вниз. – Очень спешу! Надо было раньше спрашивать, а не тратить время на просьбы не произносить сло́ва «канотье». Вернусь к обеду. – Она, не оборачиваясь, бодро помахала в воздухе своей палочкой и исчезла за поворотом – моя безграмотная, противная, гнусно насмешливая, грубая, неотесанная, невосприимчивая к чужим чувствам тетка!
Я поспешил загнать «Ла-Жуаёз» в гараж и, оставив там весь багаж, бросился к себе в комнату. Платяной шкаф бесследно исчез, в ковре зияла солидного размера прожженная дыра, по стенам везде разметались следы пламени. Я постарался припомнить, что еще стояло рядом, и, к досаде своей, припомнил. У шкафа помещалась этажерка с книгами – не самыми драгоценными в коллекции, но все же любимыми, – она тоже бесследно исчезла.
Стало быть, пожар все-таки случился. В нем сгорел мой шкаф. Ну, там-то ничего ценного не хранилось. Он уничтожил мои книги. Очень печально, но не очень существенно. Ковер потерян навсегда. Вряд ли мне еще когда-нибудь удастся найти ковер такой редкой цветовой гаммы… Но это и все. Ничего глобального, ничего важного – но тут и кроется загвоздка! Как удалось потушить огонь, и к какому выводу тетка пришла относительно причин возгорания? Как неудачно, что случай дал ей возможность осмотреть мой багаж в машине. Я взял с собой буквально все, что влезло, но все же, полагаю, это не бросилось бы в глаза, если бы не злосчастная до последней соломинки соломенная шляпа, которую я, кстати, действительно купил по пути. От цилиндра, пожалуй, следовало воздержаться – теперь придется на всякий случай срочно послать Гаю просьбу подтвердить факт намечавшейся свадьбы. Открывать ему все карты надобности нет, но ведь можно позволить другу подстраховать себя? Придется только рассказать, что мне нужно, а подробности лучше опустить.
Одна фраза, прозвучавшая из тетиных уст, не давала мне покоя: «Твои методы становятся всё примитивней». «Методы… становятся… всё…» Что она хотела этим сказать? Следует ли сделать из ее слов все неприятные для меня заключения, какие только возможны? Или у нее так получилось случайно? Ладно, скоро она возвратится из Ллвувлла, и, надо полагать, все встанет на свои места. Во всяком случае, читать по ее лицу я всегда умел не хуже, чем в раскрытой книге.
Глава 7
Тетка ведет себя загадочно. Просто отказывается что-либо объяснять и все. Она вообще относится к этому эпизоду так, будто нечего объяснять. Похоже, считает: вызвать меня домой по случаю гибели в огне платяного шкафа – дело само собой разумеющееся. О том, почему телеграмму отправил Спенсер – или, если угодно, почему на ней оказалась его подпись, – старуха тоже ничего не сказала, даже не намекнула. В некотором отношении для меня даже лучше оставить все как есть и позволить загадочному инциденту просто выветриться из ее памяти, но два момента говорят решительно против этого. Первый: вполне ли естественно с моей стороны принять все дело как обыденное, ничем не примечательное? Если верить, что пожар возник случайно, разве не должно у меня возникнуть множество вопросов, разве не следует мне поднять всяческий шум? Полагаю, следует. И хотелось бы, и, вероятно, следовало бы его поднять. Вот только никак не решу, как лучше подступиться. Говоря коротко, побаиваюсь переиграть.
Второй момент – и он беспокоит меня куда больше – это противоестественное тетино уклонение от данного вопроса. Обычно, если у нее есть повод для недовольства, она использует его в хвост и в гриву. Ни в коей мере не страдает недостатком прямоты. Ухищрения, недомолвки – чей угодно стиль, только не ее. Она говорит все, что хочет, чинит расправу направо и налево – как пресловутый слон в посудной лавке. К ситуациям, столь щекотливым, что и ангелы побоялись бы к ним прикоснуться, она подходит с деликатностью и осмотрительностью парового катка. Бедная тетя Милдред. Savoir-faire[31] у нее ни на грош. Как правило, ни на грош.
Но нельзя не заметить, что в настоящий момент она проявляет необъяснимый дипломатизм. Залегла на столь глубокое дно, хранит столь сверхъестественное молчание, что мне грозит опасность не выдержать и прибегнуть к худшей тактике прений. Правда, прений, собственно, никаких нет – ну, значит, к худшей тактике безмолвия… В общем, чувствую, скоро я совершу что-нибудь неблагоразумное!
Позвольте запротоколировать те немногие беседы, что мы вели на интересующую меня тему.
Первая состоялась за обедом в день моего возвращения.
Начал я, выразив надежду, что прогулка до Ллвувлла доставила ей удовольствие. Довольно-таки глупая, бессмысленная реплика, нельзя не признать. Она выдает такие постоянно, а вот я – никогда. Во всяком случае, старуха не могла не понимать: мне совершенно безразлично, получила она удовольствие или нет. Так что я вполне заслужил ядовитый ответ, какой получил, – слишком уж «подставился» первым ходом партии.
– Да, мой родной, спасибо. Приятно было прогуляться, хоть и ныла лодыжка.
Я пропустил издевку мимо ушей.
– Так вы собирались рассказать мне, зачем вы или, точнее, зачем доктор Спенсер отправил телеграмму.
Тетя вздернула бровь:
– Ты что, еще не был наверху?
– Был, тетушка. Я же переоделся, как видите. Насколько я понимаю, в моей комнате произошел пожар. Но почему из-за него меня вытащили из гостей?
Тут воцарилась тишина. Тетя вперила взор в небольших размеров скромную картину, изображавшую одну из прародительниц нашего рода – даму в голубой шляпке с серым пером, с напудренной прической и приятной мягкой улыбкой. Стена же напротив меня демонстрировала менее привлекательное полотно. Оно представляло какой-то персонаж из Писания – по-видимому, Иакова в момент встречи с молодой женщиной, опять-таки, по-видимому, Ревеккой. Рядом помещался колодец, окруженный темными подтеками краски, которые отдаленно напоминали дубы в пышном лиственном убранстве, – не думаю, что подобные произрастают в Палестине. Иаков склонялся в некоем подобии поклона – такие были в ходу при дворе Людовика Четырнадцатого, а молодица в ответ гадко усмехалась. Позади Иакова стоял верный верблюд – на вид в последней стадии истощения. На морде его играла лукавая улыбка. Верблюд выглядел единственным среди них существом с проблеском мысли на челе – мысль эта состояла в том, как бы отгрызть кусок побольше от нелепой грязной бурой попоны, в которую задрапировал себя Иаков. После чего, насколько я мог себе представить, должна была последовать пикантная сцена, ибо никакой иной одежды на Иакове не имелось. Мне рассказывали, что эту картину взял когда-то мой дед в счет одного безнадежного долга, и я убежден: нахождение такого кошмара на всеобщем обозрении в нашем доме скорее увеличило упомянутый долг, чем покрыло его, но, как бы там ни было, «шедевр» остается на своем месте.
– Особой красоты нет, но ведь он всегда тут висел, – последовал неизбежный ответ тетки, когда я однажды отважился заявить эстетический протест.
Поразглядывав пару минут вышеописанное произведение искусства, я повторил свой вопрос. Прежде чем собеседница соизволила отреагировать, последовала еще одна длинная пауза.
– Имелась в виду твоя страховка, дорогой. Но раз ты решительно все увез с собой, то заявлять претензий, конечно, не станешь.
– Разве это не могло подождать?
Снова молчание. Верблюд оставался готовым в любой момент сорвать с хозяина тряпье. Как завороженный, я много лет ждал этого «любого момента».
– Ты мог бы подождать, дорогой?
Хотелось бы мне точно припомнить, сказала ли она тогда «ты мог бы» или все-таки «это» могло бы подождать. Второй вариант лучше согласуется со здравым смыслом, но, памятуя о той терзавшей душу неизвестности, в какой я пребывал у Гая, склоняюсь теперь к первому. Он звенит в моих ушах, очень похожий на правду. Не хочу даже думать о том, что могло прийти тете на ум той ночью. Нет! Наверняка она спросила: «Это могло бы подождать, дорогой?» Хотя я мог бы поклясться, что слышал местоимение «ты».
На следующее утро вновь был затронут опасный предмет. На сей раз беседу начала тетя – с констатации улучшения своего самочувствия.
– Знаешь, Эдвард, позапрошлой ночью после кофе меня стало так клонить в сон – вот точно как тебя незадолго до этого, помнишь? И у кофе еще был такой странный привкус… – Я бросил проницательный взгляд на ее лицо, но оно выражало благодушную мягкость безо всякого подтекста. – Пожар, конечно, не дал мне уснуть.
– Не расскажете ли вы мне все же, как это произошло, тетя?
– Да нечего рассказывать, Эдвард. Загорелся платяной шкаф, за ним этажерка, ну, а я погасила их. Струей из огнетушителя.
– Даже не знал, что у нас есть огнетушитель – думал, они имеются только в машинах…
– А раньше и не было. Не правда ли, удачно вышло: как раз недавно я обзавелась им? Что-то такое прочитала, и оно навело меня на мысль купить огнетушитель.
– Прочли в газете, тетя Милдред?
– Да, в газете. А может, в журнале. Или в какой-то книге. В общем, неважно – слава богу, он оказался под рукой. Шкаф сгорел дьявольски быстро. Ну что, поел, дорогой? – Тетя уже рвалась вскочить из-за стола и нестись куда-то в своей вечной лихорадочной погоне неизвестно за чем.
– Да. Благодарю. Насчет требований по страховке – наверное, надо подумать. Сегодня этим займусь.
– Лучше не надо, Эдвард. В шкафу совсем ничего не лежало. Книг полис не покрывает, а ковер, в сущности, был мой, хотя ты считал его своим. Так что, по зрелом размышлении, лучше не заявлять претензий. Я так думаю. Ты не согласен? – И она удалилась, унеся поднос и закрыв за собой дверь загнутым вверх носком туфли – обе эти привычки терпеть не могу.
Слуги в этом доме и так недорабатывают – нечего им помогать. А эквилибристика туфлями просто вульгарна.
Однако я уже начинаю нервничать. Не таится ли в ее колкостях скрытый смысл? Естественно, я не собираюсь предъявлять к оплате полис, просто подумал: покажется странным, если такая мысль даже не придет мне в голову. У страховых агентов есть дурная привычка задавать такие неудобные вопросы… Вовсе не хочется, чтобы они слетелись сюда все вынюхивать. Но и тетино мнение, что «лучше не надо», мне тоже не нравится! Уж не подозревает ли она в чем-то меня?
Ах, до чего не помешало бы получить хоть сколько-нибудь внятный отчет – от нее, или от кухарки, или от Мэри. Но нет! В ответ – лишь незамутненные пустые взгляды. Обе служанки утверждают, будто мирно проспали все события, а тетка по-прежнему уклоняется. Возможно (это лишь догадка), «кубики» придали кофе специфический вкус (что тут скажешь? Моему кофе они его не придали), и старушка отпила лишь пару глотков. Поэтому сонливость сперва наступила, но скоро прошла и сменилась даже более бодрым состоянием, чем обычно. В результате, надо думать, первые же признаки пожара разбудили тетю или заставили вскочить с постели, если она просто беспокойно ворочалась. К тому моменту, как она их почувствовала, гардероб уже, наверное, охватило пламя; но ей все же удалось потушить его своим не ко времени подвернувшимся пеногоном. Желал бы я знать – что и где она могла прочесть такого, что подвигло ее пуститься на такую экстравагантную трату? Вероятно, что-нибудь о губительных пожарах в сельских усадьбах… Слава богу, хоть не прочла мой дневник! Ха! Какая, в самом деле, сногсшибательная, щекочущая нервы мысль! Смеюсь прямо над рукописью. Какая жалость, что она купила эту штуку именно теперь. Впрочем, как посмотреть, – ведь если главная мишень плана все равно не спала, какой толк в уничтожении дома? Нет, кто действительно подкачал, так это паршивые «сомнокубики»… Однако не понимаю! Я ведь точно знаю: они эффективны и, клянусь, не дают привкуса. Тревожно как-то. Ведь не знает же она больше, чем делает вид, что знает, правда? Если знает, жизнь моя станет невыносима.
Я сделал еще одну попытку выведать побольше. Снова спросил, почему сообщение пришло от Спенсера.
– Он просто как раз ехал в Ллвувлл, вот я его и попросила.
– Вы попросили? По-моему, в таком случае он должен был подписаться вашим именем.
– Нет, почему? Ведь отсылал он, Эдвард, мой мальчик. – В ее голосе словно бы зазвучало сочувствие ко мне, несмышленышу, лишенному каких бы то ни было знаний о приличиях. – Он очень деликатный человек и никогда не стал бы подписываться чужим именем.
– Я вовсе не обвиняю его в подлоге, дорогая тетя Милдред, но никак не возьму в толк… Как минимум с его стороны это было очень неосмотрительно. Ведь я испугался, что несчастье случилось с вами.
– Испугался? И о каком несчастье ты подумал? Уверен, что именно «испугался», Эдвард?
Мне показалось, что она хочет взглядом просверлить мой мозг.
На долю секунды у меня голова пошла кругом и перед глазами заплясали круги. Но странное выражение если и появилось, то немедленно сползло с красного, как свекла, лица тетки. Больше никаких попыток проникнуть в ход моих мыслей, больше никакого пристального внимания – вместо них опять столь привычная мне маска отрешенности и бесстрастия.
– То есть я хочу сказать: чего тебе было бояться? Я, знаешь ли, Эдвард, прекрасно умею о себе позаботиться.
О, не сомневаюсь ни секунды. В копилке моей памяти уже есть доказательство, и не одно: это она умеет. Могу даже утверждать: с самого моего рождения она только тем и занимается, что демонстрирует свои выдающиеся способности в области присмотра за собой – а также за мной. Но как бы я мечтал твердо увериться в том, что именно она «хотела сказать»! «Уверен, что ты именно испугался, Эдвард?» Или: «Чего тебе было бояться?» Кажется, я в точности припомнил и ту и другую фразу, но, согласитесь, огромная разница заключается в том, выразила ли она свои истинные чувства в первой, а вторую использовала для «прикрытия» – или наоборот: первая вырвалась случайно, просто прозвучала «сильнее», чем следовало, а вторая была призвана ее смягчить и объяснить? Не могу постичь, не могу разобраться.
В одном не сомневаюсь. Я несколько раз перечитал свои «стенограммы» этих разговоров, разобрал их слово за словом, и мне совершенно ясно: тетино поведение очень, очень подозрительно. Необходимо зорко следить за каждым ее шагом!
Часть IV Что растет в саду?
Глава 1
Сейчас уже не уверен, что был прав. Тетя – исключительно коварная, лживая женщина. Она наверняка годами тренировалась в сокрытии от меня своих истинных чувств. Во всяком случае, не подлежит сомнению: старуха думает о прошедших событиях гораздо больше, чем говорит. Точно не представляю, на чем она строит свои умозаключения; не знаю даже, что именно у нее на уме, но уверен: ей взбрело в голову многое, и, к великому несчастью, это многое соответствует истине. Конечно, выстроить сколько-нибудь стройную логическую цепочку эта женщина не способна, но в искусстве угадывания, черт ее побери, поднаторела.
Я сам прекрасно понимаю: внезапное возгорание шкафа хоть кому показалось бы чудны́м. Признаюсь, чем больше ретроспективно размышляю о своем плане, тем больше за него краснею. Как ни крути, а я некритически принял за прямое руководство сырые, неоформленные идеи Джека Спенсера. Только потому, что он имеет какое-то там отношение к пехотному батальону, решил, что парень досконально сведущ во всем, что касается Корпуса инженеров. К тому же забыл, что все Спенсеры – дураки. И доверился я дураку в таком деле, какое, если раскроется, наверняка покажется необычным. Как минимум. Следовало подумать об этом с самого начала – моя ошибка, конечно. С другой стороны, ума не приложу, ну вот просто жизнью клянусь – не представляю, как бы я мог лучше обеспечить успех операции – разве что облил бы свою комнату бензином? Но это еще глупее – жуткая вонь расползлась бы по всему дому.
Между прочим, каким бы странным ни выглядело данное происшествие, женщина, по-настоящему благомыслящая, могла бы применить к нему презумпцию невиновности и поверить, что оно явилось тем, чем и показалось на первый взгляд – а именно следствием несчастного случая. Она могла бы согласиться с этой формулировкой без всякого сарказма и иронии. Но именно сарказм и иронию тетка щедро вложила в нее сегодня, причем в ее устах «несчастный случай» относился не только к пожару, но и, очевидно, к автокатастрофе (а чем же, спрашивается, была эта катастрофа, если не несчастным случаем – ну, в известном смысле?). И почему бы ей вправду не счесть оба события несчастными случаями – ума не приложу. Все это наглядно демонстрирует только одно – темные, неприглядные глубины тетиного злого ума. Но позвольте подробно отчитаться о сегодняшнем эпизоде.
Разумеется, я не смирился с поражением. Я уже вовсю прокладываю мысленную дорогу к полному успеху, с каковой целью сегодня все утро выуживал ценные сведения из «Британской энциклопедии». Весьма утомительная работа – энциклопедия на первый взгляд битком набита всякими сведениями, но прямого ответа на вопрос, поставленный читателем, почти никогда не дает. За неимением лучшего, однако, я погрузился именно в нее и даже вздрогнул, неожиданно услышав над ухом неприятно пронзительный голос тети:
– Жажда знаний и Эдвард Пауэлл – совместимы ли эти понятия? Боже милостивый, кто бы мог подумать! Причем энциклопедия – Британская, а все британское тебе, как известно, чуждо, ты ведь много выше всего британского. – Сказав это, она, представьте, принялась насвистывать (!) адскую безвкусицу из репертуара этих пошляков Гилберта и Салливана[32] о «дураке, готовом славить день-деньской век любой и край любой, но лишь не свой»[33] или что-то в этом роде. Не затрудняю себя заучиванием подобной ерунды. А тетя считает ее действенным методом раздражать меня – и, сказать по чести, не сильно ошибается! Как все это глупо…
Я не смог сдержать непроизвольного движения указательных пальцев к ушным раковинам – хорошо хоть не забыл заодно поскорее захлопнуть том энциклопедии.
– Ради бога, тетя Милдред, давайте избавим нас обоих от свиста, еще и фальшивого!
– А приятно, что мелодия тебе знакома, как и слова, на которые она положена, дорогой мой.
– Мне удалось ее распознать. Просто привык: вы всегда свистите одно и то же. Хотя, думаю, не совсем так, как сочинил композитор.
– Плевать на то, как он сочинил, Эдвард, дорогой. Полагаю, смысл арии тебе чужд в любом исполнении. Однако что ты там вынюхивал в энциклопедии?
Ответить ей честно было, как вы понимаете, невозможно, а хорошей предварительной заготовки для ответа у меня не имелось. Трудное, доложу вам, создалось положение. Хотя… Если тетке позволено изъясняться намеками из «Микадо», почему мне нельзя? Изобразив улыбку, призванную как следует вывести собеседницу из себя, я нежно промурлыкал:
Об этом и знать никому не годится – О чем ворковал голубок с голубицей.Однако дьявол в тетином лице не спасовал и тут же подобрал у Гилберта (его либретто для нее – что Библия) подходящую ответную цитату:
Ничтожный юнец, Он вовсе не лжец, Коль выгодно правду сказать…– выпалила она, после чего я наконец ухитрился сунуть ученый том обратно на полку и сменить тему.
Я надеялся, что предыдущую мы на этом исчерпали, но, увы, оказалось, что рано тешил себя такой надеждой. Во время стандартного вечернего обмена пожеланиями «спокойной ночи» тетя снова коснулась злополучного предмета.
– Помнишь, я спрашивала, зачем ты копаешься в энциклопедии? Утром я не настаивала на ответе. Подозреваю, Эдвард, что ты бы с ним затруднился. Скажу только одно: больше я не допущу никаких… – Тут последовала краткая пауза, а за ней слова, произнесенные с выражением, которое иначе как язвительным назвать было нельзя: – …несчастных случаев. Если произойдет еще хоть один, мне придется принять меры. А меры, Эдвард, как ты, наверное, успел усвоить, я принимаю без предварительного предупреждения. Говорю в первый и в последний раз, Эдвард: больше никаких несчастных случаев.
Просто так на этом с ней распрощаться я, как вы понимаете, не мог.
– Вы собираетесь взять несколько уроков вождения? Слава богу, тетя!
– Не говори глупостей, Эдвард. – Тетя, кажется, рассердилась не на шутку. Вопрос о вождении всегда был для нее больным. Думаю, она сама в глубине души знает, что водит плохо. – Не говори и не делай их, Эдвард.
Я взглянул на нее в упор:
– Хорошо, тетя, не буду. Спокойной ночи… – В самом деле, чего-чего, а глупостей я совершать не собираюсь. Буду действовать только наверняка. Иллюзий у меня нет: если тетка заявила, что «примет меры», она их примет, и они будут весьма болезненными для меня. Вообще поражаюсь собственной смелости: как у меня хватает духу спокойно оставаться здесь после всего, что случилось? Нет никаких сомнений – если мои планы потерпят фиаско еще хоть один раз, мне ничего не останется, как только бежать. Вот только куда?! Если бы было куда!
Теперь, обдумывая тот неприятный разговор задним числом, я пришел к выводу, что упоминать о вождении едва ли было разумно. Скорее всего, тетя решила подвергнуть меня своего рода «допросу с пристрастием» – пока только с моральным пристрастием, но все же. Она наверняка использовала выражение «несчастные случаи» нарочно, чтобы посмотреть на мою реакцию. А я, простак, угодил в ловушку, сразу вспомнив о машине… Но ведь она сказала не «несчастный случай», а «несчастные случаи» – во множественном числе! Черт его знает. Во всяком случае, что делать дальше – совершенно ясно. Если тетя имеет глупость дать волю своей подозрительности, значит, ее подозрения нужно усыпить навеки. До сих пор мне мешало – просто связывало по рукам и ногам – глупое, сентиментальное стремление усыпить их без боли, но раз она пугает «мерами» – возмездие! Возмездие – вот единственное, чего она заслужила, и пусть это возмездие будет для нее мучительным. Если бы такая мысль пришла в голову ей самой, она наверняка припомнила бы из наследия своего любимого автора что-нибудь «томленое в кипящем масле». Так далеко я заходить не намерен. Но она первая сняла лайковые перчатки! Теперь игра пойдет без правил.
Глава 2
Мне удалось на некоторое время улизнуть из Бринмаура. Зачем? Чтобы в тишине и покое, без риска быть потревоженным теткой покопаться в различных справочниках. Я, кстати, недавно застукал ее за тщательным просмотром того же тома «Энциклопедии», над которым корпел сам, – а ведь старуха обещала не доискиваться, что мне там было нужно. Впрочем, кто поверит подобным заявлениям из ее уст? Конечно, чтобы покинуть пределы округа Квум, пришлось придумать благовидный предлог, но это оказалось нетрудно. Я с давних пор наотрез отказывался пользоваться услугами нашего местного дантиста, а с тем, что состояние зубов надо время от времени проверять, не станет спорить даже моя тетя. Собственно, обычно она даже давит на меня в этом смысле. Как многие в мире, эта пожилая дама придерживается спартанских и «единственно правильных» воззрений на чужие зубы и необходимость подвергать их осмотру через регулярные, довольно частые промежутки времени. И как многие же в мире, к собственным зубам таких правил не применяет.
Еще я стратегически мудро позаботился добавить, что надо подыскать замену одежде, погибшей в платяном шкафу. Хотя вид, с которым тетка в ответ на это вздернула бровь, меня в восторг не привел.
Таким образом, я пишу эти строки, сидя в несколько старомодном, неуютном клубе, членом которого являюсь. Зачем являюсь – понятия не имею. Моей натуре совершенно чужда подобная атмосфера. Судя по всему, таково было желание моей матери. Кажется, она считала – во всяком случае, так утверждает тетя, – что старые хрычи, завсегдатаи данного заведения, со временем могут оказать на меня благотворное влияние, то есть – превратить в старого хрыча такого же печального образа, как они сами. Как им это могло бы удаться – такая же загадка для меня, как и зачем это нужно. Но пожелание было в свое время высказано, и тетка исполнила его с неумолимой серьезностью – такая уж она есть. Теперь каждый год аккуратно оплачивает мое членство, и вы никогда не угадаете, как она это называет. Рождественским подарком! Весьма подлый способ отделаться от необходимости что-то дарить, вы не находите? А уж о его «оригинальности» вовсе умолчу. Но по крайней мере это позволяет мне не ломать голову над «ответом»: я с тем же постоянством «возвращаю» дар каким-нибудь французским романом, заведомо ей не нужным, и таким образом изящно указываю, что стоит поработать над изобретательностью по части выбора подарков. При этом на моей стороне даже остается преимущество: роман я потом сам могу почитать, а ее в клуб не пустят.
В общем, во всем есть положительные стороны. Кроме того, что щегольнуть принадлежностью к этому клубу бывает престижно, здесь можно время от времени с пользой провести часок в тишине, и сейчас как раз такой часок наступил. Честно говоря, я еще не остановился ни на каком определенном методе, который можно было бы применить против тети, и хочу хорошенько обдумать варианты. К настоящему моменту оформилась только генеральная идея: лучше всего прибегнуть к яду. Трудность, естественно, заключается в том, чтобы воспользоваться таким ядом, который не оставляет никаких характерных следов. Если бы только я был уверен, что осмотр тела не станет проводить никто, кроме старикана Спенсера, то чувствовал бы себя сравнительно спокойно: уж он-то, если только не допустить очень грубых, откровенных оплошностей, точно ничего не заметит. Что еще надо выяснить? Конечно, как достать яд. Это, несомненно, тоже трудно. Так трудно, что можно разрушить весь план, но все-таки, прежде чем унывать, нужно досконально изучить вопрос. Я осмотрел всю клубную библиотеку – надо сказать, невероятно богатую – сколько здесь всяческой классики и религиозно-философской дребедени, страшное дело! – но ни единой добротной медицинской работы о ядах не нашел. Придется опять начать с энциклопедической статьи – той самой, на которой меня прервала тетка.
Я взял нужный том и начал листать страницы… Вот оно, яды! Посмотрим-посмотрим, чем «Британника» будет нам полезна. Во всяком случае, хоть что-то я из нее да выжму.
Так. Начинается с какой-то болтовни о законах – этот раздел лучше оставить в стороне. «Продажа Я. строго регулируется законодательством. Опасность для человеческой жизни и здоровья, которая могла бы произойти от неизбирательного распространения путем продажи Я. неквалифицированными лицами и организациями, таким образом, сведена к минимуму». Удивительно, правда? А уж как утешительно и как кстати для меня!
Потом речь заходит о порошковом стекле и металлической стружке. И то и другое подошло бы неплохо, стоит, пожалуй, взять на заметку и узнать о них больше. Впрочем, с другой стороны… Стекло, стружка… Все это слишком хорошо известно, слишком уж vieux jeu[34] в рассуждении моих вкусов и моей безопасности. Далее: «Отравление Я. может являться результатом несчастного случая, попытки самоубийства или покушения на убийство. В подавляющем большинстве случаев имеет место первая причина». Вот именно. Как бы заставить Спенсера прочесть это и выучить наизусть! Поразительно и неприятно, однако, как отовсюду вечно вылезает это выражение – «несчастный случай». Впрочем, нельзя забывать: именно его-то мне и надлежит подстроить.
Следующий абзац. Тут есть чем поживиться. «Хотя государственная власть принимает серьезные меры предосторожности в области продажи Я., частные лица нередко относятся с вопиющей беспечностью к хранению и применению Я., уже находящихся в их распоряжении или в пределах их доступа. Я. часто принимаются за иные, безвредные вещества, также зарегистрированы случаи передозировки Я. по чистой неосторожности. Так, щавелевую кислоту кристаллической формы, приобретенную в бумажном пакете, случается, пересыпают в бутылку или банку без пояснительной этикетки, а затем, по забывчивости, принимают за сульфат магния, в просторечии именуемый горькой, или английской, солью, – порошки внешне очень сходны между собой».
Нельзя ли организовать что-то в этом роде? Вероятно – как можно косвенно понять из вышеприведенного пассажа, тщательно скопированного мною в записную книжку, – мне просто так не продадут порошок щавелевой кислоты (что бы ни скрывалось за таким названием). Однако я сделал пометку: непременно узнать, кто имеет право его покупать. А также нельзя ли каким-то простым способом получить кислоту в домашних условиях. Скорее всего – вряд ли. И вот еще беда: насколько мне известно, тетка не имеет привычки принимать горькую соль – досадная мелочь, но что поделаешь?
Вернемся к «Энциклопедии». Дальше – сулема (дихлорид ртути) в таблетках углекислого железа (пилюлях доктора Бло). Что-то она меня не вдохновляет, хотя, насколько могу себе представить, уж точно относится к категории «тягучего в кипящем масле»… «Обыкновенно дозировка так или иначе соответствует последующему эффекту…» – что вполне естественно, вы не находите? Или автор имел в виду, что есть в этом мире такие «дозировки» таких «Я.», что никакого физического отравления не надо, они и без химического «эффекта» достаточно подтачивают ваш организм? Если так, то этот ученый муж наверняка хорошо изучил и науку, и жизнь. Не было ли у него тети?
Так, так, так. Привыкание… Зависимость… Индивидуальная реакция… Непереносимость… Мне никак не удастся представить дело так, будто тетя когда-то обнаруживала склонность к приему наркотических препаратов. «Непереносимых индивидуальных реакций» она полна, можно сказать, только из них и состоит, но какую именно ее организм выдает в ответ даже, скажем, на простейшую ацетилсалициловую кислоту (в просторечии – аспирин), не знаю и не знаю, как узнать.
…Возраст… Состояние здоровья… Тут, похоже, нечего ловить. Медицинские показания и способы применения – вот о чем хотелось бы получить подробные разъяснения! Господи, благослови этого типа, автора. А мне пошли практической выгоды от данного раздела! Что-то он уж слишком короткий, и… и… проклятье! Пользы с полмизинца.
Ну, кое-что, какие-то крохи стоит, конечно, списать. «Я. действуют эффективнее, если глотать их вместе с жидкостью, быстрее – если принимать перед едой, сильнее – если вводить подкожно или внутривенно». Все это прекрасно, но я слабо представляю, как мне проколоть тетке кожу или добраться до ее вены – об этом вроде идет речь? Разве только раздобыть где-нибудь отравленный ржавый гвоздь? А что, не такая глупая мысль. Возьму на заметку как один из вариантов. Правда, он казался бы привлекательнее и проще, если бы я знал, какой именно яд подойдет в таких случаях.
Продолжим. Диагнозы и методы лечения… Ну, это дело Спенсера. Характерные признаки… Надо будет прочесть повнимательнее. Разъедающие яды… Раздражающий эффект… Системное многофакторное воздействие на организм… Отравляющие газы… Ядовитые продукты и пищевые отравления… Из последнего раздела, не исключено, удастся почерпнуть подходящую идею: тут все про грибы да про морепродукты. Если бы тут оказались как-то «замешаны» грибы, в этом была бы даже высшая, идеальная справедливость – ведь вы помните, как Спенсер вместе с теткой позволили себе усомниться в моем честном слове, когда я заявил, что они померещились мне на лугу возле Бринмаура перед жестоким убийством Так-Така.
«Разъедающие, или едкие Я.». Звучит неаппетитно, то есть хуже даже, чем я могу себе вообразить, и к тому же их действие, предположу: а) весьма легко распознать, б) можно нейтрализовать. Не пойдет. На сей раз я не могу себе позволить промахнуться, а тут в качестве одного из средств против едких «Я.» упоминается такая тривиальная вещь, как куриный белок, – этого добра в Бринмауре найдется сколько угодно. Надо прибегнуть к чему-то, что потребует менее легкодоступного противоядия.
Аммиак? Что ж, это мысль. Его, наверное, нетрудно достать. Правда, я тут вижу, что для отравления требуется особо концентрированный раствор, а его так просто не найдешь. Жаль. Ведь одной драхмы[35] достаточно для причинения смерти. Интересно, драхма – это сколько, если точно? Еще одно препятствие: раствор аммиака очень сильно пахнет, любой почувствует. Трудно вообразить, что мне представится возможность напоить им тетю насильно… Ну пусть остается пока в списке вариантов наравне с другими.
Например, вот с таким: «Фенол, или карболовая кислота, обычно применяется в домашних условиях для дезинфекции. Родственные и смежные препараты, такие, как креозот, креозол (масло букового креозота), имеют сходное отравляющее действие». (Разжиться толикой креозола не составит труда, а еще ведь существует «Джейз»[36], в его продуктах содержится, если не ошибаюсь, карболовая кислота?) «Фенол принадлежит к числу Я., наиболее часто используемых самоубийцами». Хм. Не удастся ли мне обставить все как самоубийство? По зрелом размышлении, я решил, что не удастся. За «самоубийством» обязательно последует расследование, а главное – у тетки нет никакой склонности к суициду и ни малейших причин для него, если, конечно, выражаясь иронически, не считать причиной меня. «В силу того, что фенол широко используется в домашнем хозяйстве, нередки случайные отравления». Прекрасно! Однако как ухитриться выпить достаточное количество, чтобы сразу отравиться и не заметить специфического вкуса?! Вы его непременно почувствуете, даже если смешать карболовую кислоту с чем-то другим. Однажды я глотнул такой «коктейль» – ощущение, доложу вам, отвратительное.
Если же принять лишь пресловутую «драхму» вещества, то смерть, как следует из «Британники», наступит в течение двенадцати часов. Слишком долго. За такое время даже идиот Спенсер найдет средство предотвратить ее, да и, собственно, раз данный «Я.» «широко используется в домашнем хозяйстве», доктор, наверное, уже сталкивался с отравлениями им и знает, что делать.
Переходим к «Веществам раздражающего действия, или Ирритантам»: «Щавелевая кислота обычно используется для чистки соломенных шляп, удаления чернильных пятен, натирания изделий из латуни, меди и т. п. Она является также обычным средством случайных и суицидальных отравлений». Ну, раз так, достать ее легко. Да к тому же тетка так любит саркастически высмеивать мою соломенную шляпу, или, как она ее оскорбительно называет, канотье! «Щавелевая кислота», значит. Подчеркиваем!
«Если не принять немедленных мер медицинского характера, быстро наступает распад внутренних тканей… летальный исход с высокой степенью вероятности наступает в теч. часа или, в отдельных случаях, несколько позднее». Без сомнения, нужно собрать самые полные сведения. И противоядия – «пол-литра растворенного гидроксида кальция, именуемого в просторечии «известковой водой», жидко смешанного с толченым мелом в количестве одной унции (28,35 грамма)» – я точно готовить не стану. На мой слух, звучит отвратительно.
Перейдем к мышьяку. И сразу от него откажемся – о мышьяке слишком многое известно, и я достаточно умен, чтобы даже не читать этот параграф. «Синильная (цианисто-водородная) кислота… в свободную продажу поступает только в разбавленном состоянии». Все-таки поступает, однако. «Менее чайной ложки двухпроцентного раствора кислоты вызывает летальный исход. Симптомы отравления синильной кислотой проявляются крайне быстро; появление таковых симптомов происходит в теч. даже не минут, а секунд». Звучит многообещающе. От мысли, что придется наблюдать медленное «проявление симптомов», стать свидетелем всей болезни, мне стало как-то не по себе. Вот еще, кстати, тут пишут, что «… иные растворимые цианиды, в особенности цианистый калий – калиевая соль синильной кислоты, применяемая в фотоделе, – имеют равные отравляющие свойства с самой цианисто-водородной кислотой». «В фотоделе» – значит, можно достать! Обязательно надо вставить в список. Вот только еще раз внимательно перечитаю весь раздел.
Нет, пришлось вычеркнуть. «Молниеносный характер заболевания и стремительное наступление смерти в совокупности со специфическим ароматом данной кислоты являются верными признаками отравления, так что относительно причин летального исхода редко возникают сомнения». Так совсем, совсем не пойдет – по понятной причине. Надо быть осторожным. Твердым. Сохранять спокойствие. Не терять голову.
А тут у нас что? «Отравление растением борец, или аконит, семейства лютиковых. Борец обыкновенный, он же «аптечный», «сборный», «клобучковый», или «волчья отрава», а также добываемый из него алкалоид аконитин принадлежат к числу наиболее сильно действующих известных ядов. Одна шестнадцатая грана аконитина, как показывает практика, является смертельной дозой для взрослого человека». Под «взрослым человеком», полагаю, можно разуметь и «пожилую женщину», но главное-то вот в чем: «Корень аконита часто попадает в пищу по недоразумению, будучи принят за хрен».
Чудно и великолепно. Эти ужасные, всем набившие оскомину воскресные обеды в Бринмауре почти никогда не обходятся без ростбифа, а его тетка любит густо намазывать хреном. Я же к нему не притрагиваюсь – и никогда не притрагивался. Никаких подозрений возникнуть не может.
Мэри сможет подтвердить. Достаточно мне подменить корешки хрена борцовыми – и дело в шляпе! Видимо, они в достаточной мере сходны, раз «недоразумения» уже случались. Кухарка нипочем не заметит подмены. Интересно, кстати говоря, а Мэри с кухаркой едят хрен? Впрочем, наверняка прежде, чем они приступят к обеду, уже поднимется переполох. Все зависит от того, как быстро эта штука действует. В общем, надеюсь, что уже поднимется. В любом случае кухарка заслуживает самой суровой судьбы, судомойка вообще не в счет. Ее едва ли можно причислить к роду человеческому. А Мэри? Что ж, Мэри предала меня. И все же хотелось бы, чтобы у них у всех успела появиться причина не притрагиваться к еде.
Следующий пункт программы – досконально выяснить все, что возможно, о «борце, или аконите». Пока мне невдомек даже, как он выглядит. Ну, с божьей помощью тут я что-нибудь вычитаю – попозже. Полагаю, сегодня я уже достаточно потрудился, и можно заканчивать. Надеюсь, в этом «великом» клубе подадут приличный ланч – чувствую, что я заслужил его после активно проведенного дня.
Глава 3
Ланч оказался вполне достойным, хоть лицезрение старых хрычей за соседними столами и наводило некоторую тоску. У всех – тяжелые лица ценой в миллион фунтов, и свои тяжелые мясные блюда из говядины и баранины они запивают большим количеством марочного портвейна. Того, кто сидел ко мне ближе всего, я бы описал, перефразируя рекламу какого-нибудь трактира, как человека, ежедневно поглощающего две порции основного блюда с одним овощным гарниром. До меня донеслись обрывки его высказываний. Интересовало этого джентльмена только одно, а именно: когда наконец научатся как следует делать стилтон[37]. Пока что, сокрушался он, сыр по вкусу напоминает известь и всякий раз оказывается недостаточно выдержан.
Себе я заказал ланч более тщательно и, надеюсь, с бо́льшим вкусом. Крабы под шубой были превосходны, как и perdreau perigourdin[38]. Добавьте к этому omelette espagnol[39] в сопровождении нескольких бокалов качественного кларета – и вы получите представление о моей трапезе. Она получилась существеннее, чем я обычно ем в это время дня, но не могу не признать: от утренних трудов у меня разыгрался аппетит. Немного передохнув после принятия пищи, я отправился пройтись по Риджент-стрит – так, большей частью поглазеть на витрины, а то чувствую: после долгой жизни в глуши мои взгляды и познания несколько устарели. Я рад был заметить, что обычай цеплять шаблонные ярлычки на одежду, словно на лотки с овощами, уходит в прошлое. Раньше все готовое платье было «Из последней коллекции», «Криком сезона», «Как теперь носят», да еще – это, пожалуй, самое залихватское – «Высшим шиком». Теперь же мне удалось отыскать магазин, полностью порвавший с этой традицией. Тут в ходу другие привлекательные формулировки: «Одно слово – божественно», «Чертовски здорово» и тому подобное. Правда, характеристика «Просто пальчики оближешь» показалась мне несколько вульгарной, особенно применительно к предмету одежды, на котором фигурировала, а именно – к коричневому джемперу, весьма, на мой взгляд, заурядному, даже скучноватому. Зато вот «Колоссально и потрясающе» – это и впрямь mot juste[40] для оранжевого в серую полоску твидового пальто с крупными перламутровыми пуговицами и меховым (похоже, из настоящего меха) воротником. Я внутренне покатывался со смеху, представляя, как выглядела бы в нем моя тетя. Эффект получился бы такой, что любого отправил бы в нокдаун. Впрочем, тетины одеяния обыкновенно и так служат неиссякаемым источником развлечения – не только для меня, но, уверен, для большинства других людей тоже. Жаль, что в этом магазине не продается мужская одежда – наверняка у них нашлось бы что-то привлекательное для меня.
Однако я здесь не за этим. Мне нужно провести эксперимент – значит, путь лежит в ближайшую большую аптеку. То есть это заведение когда-то можно было назвать аптекой, теперь же трудно сказать, чем они только не торгуют. Но неважно. Моя цель заключается в одном – понять, можно ли просто так купить щавелевую кислоту в кристаллическом виде. Не то чтобы я уже твердо решил воспользоваться именно ею, но знание в любом случае сила, как заметил какой-то поэт – любитель банальностей. Забыл, кто именно.
То, что произошло в аптеке, поистине курьезно, и я оставляю подробную запись об этом событии, чтобы не забыть момента, в который дал слабину – быть может, самую серьезную слабину в своей жизни. Я неторопливо мерил шагами пол, затейливо инкрустированный изображениями зубных щеток, гребней – даже мочалок, тампонов и расчесок (очень современно, но все-таки чудно́). Потом наконец решился приблизиться к нефритово-зеленому восьмиугольному прилавку, где мириадами громоздились баночки с солями для ванн в самых соблазнительных упаковках, выстроенные очаровательными пирамидками. Среди них было несколько марок совершенно в моем вкусе – тонко, изящно разукрашенных и с такими заманчивыми названиями… Поистине только тетя способна поднимать шум из-за изысканных парфюмерных изделий. Однако пришлось с неохотой оторвать глаза от этого великолепия. Я осмотрелся в поисках продавца. И тут же один из представителей слишком услужливого и трудолюбивого племени «консультантов по работе с клиентами» буквально свалился мне на голову, в прямом и переносном смысле заставив пошатнуться:
– Могу я оказать вам содействие, сэр? Какой вам требуется отдел?
И почему бедолага не может говорить нормально: «помочь», «нужен»? Впрочем, я ведь тоже не мог ответить честно и прямо: «Отдел ядов», а простую фразу «Я ищу щавелевую кислоту в кристаллах» по какой-то непонятной, несуразной причине просто не мог выговорить.
Этот тип смотрел на меня так, будто хотел просверлить взглядом насквозь, и – как бы глупо это ни прозвучало – я совершенно растерялся и выдавил из себя первое, что пришло мне в голову:
– Я… я бы… У вас нет рождественских открыток? – Ну не идиотский ли вопрос?
– О да, конечно, сэр. Прошу вас на второй этаж, сэр. Там вам покажут, сэр. Если вы простите мне такое замечание, сэр, мне представляется, что с вашей стороны весьма мудро озаботиться данным предметом столь заранее – ведь еще только сентябрь, сэр. Правда, я не буду удивлен, сэр, если в соответствующем нашем отделе уже появился полный ассортимент, сэр. Прошу сюда, сэр. Не желаете ли воспользоваться лифтом? – Болтая подобным образом, он буквально затолкал меня (вместо того, чтобы просто проводить) в лифт, уже набитый к тому времени какими-то женщинами с лицами, напоминавшими брюссельскую капусту. Потом громко объявил «Рождественские открытки!» мальчику-лифтеру, который, судя по удивлению на его лице, счел данное восклицание так же мало уместным в это время года, как и мало приличествующим чопорному виду консультанта. Все «брюссельские капустницы», как по команде, фыркнули, а одна из них отчетливо пробормотала: «Да быть не может!» (знала бы она, что и вправду «не может»).
В общем, я выполз из этого злосчастного заведения несолоно хлебавши, в сильном потрясении чувств, а также с нелепым изображением малиновки, пытающейся склевать весьма колючий лист падуба, в кармане.
На обратном пути мне попалась еще одна аптека – другой сети, по внешнему виду менее склонная нанимать велеречивых сотрудников. На сей раз я прямо-таки ворвался внутрь и, обращаясь к бледнолицему юноше-очкарику, на одном дыхании выпалил:
– Нет-ли-у-вас-щавелевой-кислоты-в-кристаллах?!
Юноша сложил вдвое какой-то листок бумаги и посмотрел на меня неодобрительно.
– Одну минуту, пожалуйста, сэр. Позвольте, я сперва обслужу эту даму.
Нервы мои были настолько взвинчены, что я мог бы поклясться: там стояла одна из обладательниц лица «à la брюссельская капуста» – ну тех, из лифта, хотя это было никак невозможно. Ну и бог с ними, все женщины такого сорта на одно лицо.
Наконец юноша повернулся ко мне:
– Значит, кристаллы щавелевой кислоты, сэр? Вы ведь знаете, что это яд, сэр?
Если бы он только знал, как забавно для меня звучит его вопрос, мы сразу сравнялись бы знаниями. Но на сей раз я сохранил самообладание:
– Конечно.
Парень бросил на меня очень серьезный взгляд:
– Прошу меня простить, сэр, но для какой цели они вам понадобились?
– Хочу почистить соломенную шляпу.
Такой неожиданный ответ его явно изумил.
– Э-э… Да, сэр, конечно, сэр. Очень многие джентльмены находят, что проще избавиться от таких хлопот, поручив дело шляпнику, и шляпники в последнее время выполняют эту работу со все бо́льшим умением и блеском, сэр. – Продавец заметно оживился.
Пришлось сделать над собой еще одно усилие.
– Я живу далеко, в сельской глубинке. Там за километры вокруг не сыщешь ни одного толкового шляпника, а каждый раз ездить в Лондон, чтобы вычистить шляпу, знаете ли, не слишком удобно. Так что, если вас не затруднит оказать мне эту услугу…
– Разумеется, сэр. Я сейчас позову мистера Маршбэнкса. Надо, знаете ли, соблюсти некоторые формальности, сэр, поскольку речь идет о яде. Задержу вас не долее чем на секунду. Полагаю, сэр, необходимо расписаться в учетном журнале. Мистер Маршбэнкс знает лучше. Одну минуту, сэр.
– О, если нужны такие хлопоты, то они того не стоят. Благодарю вас, не беспокойтесь. Уверен, на свете найдется еще что-нибудь подходящее для моей цели. Хотя мне говорили, что щавелевой кислотой чистить лучше всего.
– Как вам угодно, сэр, но это и вправду займет не более минуты. А, глядите, вот и сам мистер Маршбэнкс собственной персоной.
На расстоянии мистер Маршбэнкс казался родным братом-близнецом консультанта из первой аптеки. Сходство было так велико, что у меня невольно вырвалось: «Рождественские открытки!», после чего, поспешно обернувшись к озадаченному продавцу, я решительно отказался от дальнейших услуг по продаже кислоты. Пустяки все это – так я ему и заявил. И покинул сию фармацевтическую лавку, унося неприятное чувство, будто оказался объектом самых серьезных подозрений как бледнолицего молодого человека, так и мистера Маршбэнкса, с которым он торопливо и жарко о чем-то сразу заговорил.
Но я бы вызвал куда более страшные, неотвратимые подозрения, если бы сглупил и оставил в учетном журнале свою подлинную фамилию с адресом в придачу, а потом удачно использовал купленное вещество против тети! Вы скажете: можно было оставить фальшивые имя и адрес. Но, понимаете, явочным порядком – так сказать, на острие момента, тяжело их сразу сочинить, а ведь это надо сделать непринужденно и убедительно! И что, если бы им пришло в голову вставить эти данные в какой-нибудь отчет или проверить их подлинность или бог знает что еще? Как ни крути, ну и законы в нашей стране! Человеку нельзя купить горстку кристалликов для чистки шляпы без дурацкой канители и маяты. Наверное, так велит Закон о защите королевства[41] или еще какой-нибудь дурацкий акт в том же роде. Нет, право, мне стоит избраться в парламент – только ради того, чтобы способствовать принятию одного-единственного закона, а именно – об отмене всех глупых, идиотских, отживших свое, обременительных, досадных, набивших оскомину, никому не нужных, тиранических, бессмысленных, бесполезных актов, а также всех статей всех прочих актов, где содержатся глупость, идиотизм, обветшалость – далее по тексту. Свод законов сразу стал бы раза в два короче.
«Британская энциклопедия» меня подвела. Сообщила, что щавелевую кислоту можно получить путем окисления сахара другой кислотой, азотной, но как пройти этим путем, не пояснила. Еще можно поэкспериментировать со стружкой, доведенной до состояния густой пасты, смешанной с крепким раствором едкого калия (гидроксида калия) и раствором соды, разогретой на плоской металлической сковороде до температуры 200–250 градусов, что, между прочим, само по себе невозможно, хотя «куличик», судя по ингредиентам, получится прелестный. Опять-таки, если можете, попробуйте такое: разогрейте натрий в потоке двуокиси углерода до 350 градусов по Цельсию… Благодарю покорно. Еще они там в «Энциклопедии» пытаются вдохновить публику на использование горькой соли (сульфата магния), соблазняя ее простотой. Ужасно утомительная книга «Британника». Придется прибегнуть к борцу, или акониту.
Глава 4
Но без труда не вытащишь и рыбку из пруда – прежде чем борец приготовить, надо его «поймать», то есть найти и сорвать.
«У борца – короткий, целиком скрытый под землей стебель, растущий от темного оттенка конусообразного корневища. Корень хрена обыкновенного намного длиннее корня борца и не отличается конической формой; цвет его – желтоватый, верхушка покрыта остатками листовых черешков». В общем и целом, я бы предпочел, чтоб было наоборот – тогда представлялось бы возможным взять нужный корень, укоротить его, придать ему «коническую форму», добавить каплю желтой краски и очистить от «листовых черешков». Однако в реальности таким образом можно только выдать хрен за аконит, то есть нарядить овец в волчью шкуру – или, если позволено так выразиться, в «шкуру волчьей отравы». Кухарка наверняка не знает всех этих премудростей, но с этой настырной женщины запросто станется заявить что-нибудь вроде: «Не знаю, как-то он странно выглядит. Не так, как надо», – и выбросить мой с таким гипотетическим трудом добытый борец к черту.
Продолжим чтение: «Из корней вида борец свирепый получают знаменитый индийский (точнее, непальский) яд, известный под названиями бикх, биш или наби. Он в значительном количестве содержит алкалоид псевдоаконитин – самое смертоносное из всех известных отравляющих веществ». На этом месте я улыбнулся.
«Будучи садовым растением, борец относится к выносливым, морозоустойчивым декоративным многолетникам. Он прекрасно приживается и цветет в любых обыкновенных садовых почвах, также хорошо себя чувствует в густой тени деревьев». Ага, значит, его легко вырастить в Бринмауре. Интересно, как лучше поступить – достать семена и посеять их или высадить прямо в землю маленькие побеги? Если семена – то, вероятно, придется ждать следующей весны – раньше не сеют, следовательно, на всю операцию уйдет не меньше года. Возможно, если удача улыбнется, удастся достать уже хорошо подрощенные кусты. Надо будет наведаться в какой-нибудь из этих, как их?.. Питомников растений? Надеюсь, там публика не столь щепетильна по части торговли ядовитыми товарами, как в аптеках!
Однако мне до сих пор решительно не известно, как эта штука выглядит. А «Британская энциклопедия» далее толкует что-то о вератрилпсевдаконине, вератровой кислоте (вератрине), об алкалоиде «япаконитине» (этот получается из японской разновидности аконита, которую местные жители склонны именовать странным словом «кузауза»; я этой склонности следовать не намерен, увольте) и, наконец, в словоблудии доходит даже до какого-то япобензаконина. Впрочем, потом ученый автор переходит на человеческий язык: «Многие виды борца выращивают в садах, для них, как правило, характерны голубые или желтые цветки», – по цветкам я, конечно, сразу их узнаю! Ну да, ну да. О чем разговор! У тех же анютиных глазок лепестки такого же цвета; а больше ничего из статьи не вытянешь, кроме разве весьма успокоительного заявления: единственными постмортальными признаками отравления борцом являются проявления асфиксии. Впрочем, это не имеет значения: какой бы причиной потом ни объяснили смерть, все спишется на халатность Эванса.
Все же что-то я никак не «выужу из пруда своего борца». В качестве справочной библиотеки почтенный клуб, увы, никуда не годится. Кажется, я уже упоминал, что среди авторов здесь царят классики и богословы – и кому только нужны как те, так и другие? Разве что любителям разгадывать невразумительные кроссворды мистера Торквемады[42]. Поэзия, путешествия, беллетристика, история, двуязычные словари – всем им тут нашлось место, и все они готовы просветить любого интересующегося, но ботаника – ботанике места среди тематических лидеров на клубных полках не нашлось. Проведя, однако, всестороннюю, тщательную ревизию последних по весьма путаной картотеке, я смог составить краткую подборку. Итак:
«Иллюстрированный словарь садоводства» (он же – «Растениеводческая энциклопедия»). Приобретен клубной библиотекой в 1911 году и написан, смею полагать, еще бабушкой королевы Виктории.
«Ботаника» Уитеринга, 1812 года издания.
«Энциклопедия растений» Лондона, 1855 года издания.
«Латинские наименования обыкновенных растений» – авторства, как я вижу, кого-то из членов клуба.
«Английский цветочный сад» – первое издание 1883 года и второе, 1898-го.
Этими пятью томами, насколько я мог судить, исчерпывался список того, что здесь можно было найти. Кто бы ни подбирал книги для библиотеки клуба, он, судя по всему, руководствовался принципом мистера Хардкасла[43]: «Люблю все старое: старые книги, старые вина и даже свою старую жену». Я же вполне солидарен с гневной реакцией миссис Хардкасл на эту реплику. Вообще, помню, я от души проклинал всю пьесу, когда меня заставили читать ее на каникулах.
Второе и третье наименования из пятизначного списка можно сразу отбросить. Это сочинения столь ученые, что в них нет ни единого понятного слова, а только условные обозначения, аббревиатуры и ломаная латынь – такое мне разобрать не под силу. Что касается «Латинских наименований», этот тоже академический труд по этимологии разных ботанических терминов – занимательное в своем роде чтение, но для моих нужд бесполезное.
Вот «Английский цветочный сад». Он, кажется, покороче и не такой сухой, скучный и педантичный, как «Иллюстрированный словарь». Возьмемся сперва за него. Читаем: «Борец клобучковый, он же аконит – высокое многолетнее травянистое растение семейства лютиковых, его ядовитые корни представляют серьезную опасность… Для него существует больше названий, чем предполагает подлинное видовое разнообразие. Впрочем, лучшие разновидности представляют определенную ценность для наших садов». Дальнейший текст – в свете моих обстоятельств – начинается слегка забавно (автор тут, конечно, не виноват): «Разумеется, вряд ли разумно идти на риск и сажать борец там, где его корневища могут быть случайно выкопаны по ошибке с целью дальнейшего употребления в пищу – ибо, как уже говорилось, они смертоносны; однако практически все природные формы данного растения легко приживаются в рощах, перелесках или кустарниковых аллеях подальше от основной части сада». Значит, если мы заведем какую-нибудь из «природных форм» в Бринмауре – а, судя по книге, это вполне возможно, – ее следует высаживать за садовой оградой, подальше от овощей и фруктов, лучше – где-нибудь в неприметной тени деревьев. Надо взять на заметку. Автор продолжает: «Аконит вырастает, как правило, на метр-полтора над землей. Цветение – с июля по сентябрь». Ну вот, постепенно складывается картина. Те же анютины глазки не «вырастают, как правило, на метр-полтора». Отличить легко.
Собственно говоря, в книге даже есть иллюстрация или, во всяком случае, то, что призвано ею служить. Конечно, очень нечеткая. На ней борец предстает длинным худосочным стеблем, диковатым, неопрятным, неаппетитным и унылым на вид. Его будет кстати выдернуть с корнем как сорняк, когда придет один из тягостных моментов моей жизни и тетя принудит меня к прополке. Иногда она это делает. Картинку я стану отныне всегда держать под рукой – тем более если придется полоть, но… Все же она слишком расплывчатая и крошечная, чтобы на нее положиться.
Обратимся теперь к «Иллюстрированному словарю». «Аконит назван в честь древнегреческой гавани Аконе близ Гераклеи в Вифинии, где, как говорят, произрастал и произрастает поныне в изобилии». Гм. Во всяком случае, туда я за ним не поехал бы, даже если бы знал, где эта «Гераклея в Вифинии» и если бы автор был уверен в собственном утверждении – что вызывает сомнения… Так. «Борец, он же борец клобучковый, или волчья отрава, – красивое многолетнее выносливое декоративное растение…» Могу только заметить, что на иллюстрации из «Английского сада» оно таким не кажется… «Цветет со строгой периодичностью кистевидными соцветиями; чашелистиков пять, верхний из них – шлемовидный; лепестков пять, небольших, два верхних – с длинной базальной частью, закругляющейся на кончике в форме колпачка, три нижних – еще меньше по размерам, недоразвиты; листья пальчатые. Цветы привлекательны на вид, образуют тонкие метелки. Хотя внешне борец не похож на хрен, его часто путают с последним, причем это приводит к роковым последствиям; ни один из видов борца не следует разводить поблизости от кухонных грядок». Ясно-понятно, этот тезис мы уже усвоили.
Все-таки надо признать: этот тип хоть и слишком увлекается формальной стороной дела, но для широкого круга читателей постарался изо всех сил. Я даже хочу заочно извиниться перед ним за то, что слегка разрушил ткань его повествования некоторыми сокращениями. Если бы только знать, что обозначают «соцветия», «чашелистики», «метелки» и прочие «базальные части», было бы совсем хорошо. Видимо, придется разыскать в словаре каждый из терминов.
Еще здесь имеются целых три иллюстрации! И потом, автор данного труда не согласен с автором предыдущего, который утверждал, что для борца «существует больше названий, чем предполагает подлинное видовое разнообразие». Вот, пожалуйста, у меня перед глазами список из целых дюжин видов аконита, жаль только, что не приводится изображение «свирепого». А ведь именно этому «крошке», кажется, предстоит стать средством достижения моей цели.
Однако будь я проклят, если изображение на третьем рисунке не кажется мне знакомым! Дайте-ка подумать. Дайте представить его себе полутораметровым, голубым или желтым – мне он почему-то представляется бледно-желтым – где-нибудь за деревом… Ура, да, да, да! Вспомнил! Прямо под буком справа от лужайки, если смотреть из окна гостиной. Несомненно, это он! И сейчас как раз в полном цвету – у нас в Бринмауре все поспевает поздно! К тому же растет недалеко от огорода, хотя, правда, по ту сторону ограды. Тетя сама его высадила и сама заботливо ухаживает за борцом! Скоро старая волчица получит свою отраву.
Как все оказалось просто. Просто «куза-уза», как говорят японцы!
Глава 5
После принятия исторического решения я решил для себя не слишком засиживаться в Лондоне. Единственной веской причиной для задержки оставалась необходимость посетить дантиста, но тут ожидание, слава богу, оказалось не столь долгим и томительным, как обычно. Что касается всего прочего – в столице наступил мертвый сезон, когда все приличные люди предпочитают уехать за границу, – я уже начал с досадой понимать, каким типичным «дальним родственником из провинции» выгляжу в глазах всех знакомых, раз явился в такое время года.
Путь назад в Бринмаур я проделал на одном дыхании. В кои-то веки мне повезло с пробками в городе (точнее, с их отсутствием), и, что еще невероятнее, под колеса не попал ни один зевака-пешеход. Уверен, что я поставил бы новый рекорд на дистанции клуб – гараж, улучшив прежний минимум на пять минут, если бы прямо у ворот усадьбы меня не задержал Спенсер. Я приложил все усилия, чтобы элегантно его объехать, просто помахав на ходу, однако тот по неуклюжести, а возможно, и нарочно перекрыл всю дорогу своей заляпанной грязью, неопрятной на вид машиной. Пришлось затормозить. Объяснять старикану, почему именно я хочу проследовать дальше без остановок, было бы совершенно напрасным трудом. Доктор испытывает стойкое отвращение к быстрой езде, когда речь идет о других, хотя сам иногда передвигается с рискованной скоростью. Вспомнить хотя бы, как он опрометью ринулся на помощь тетке, узнав, что она свалилась в кустарник на дне Лощины. Естественное стремление человека улучшить результат в личном зачете ему тоже недоступно. Понятие спортивного триумфа у него ассоциируется только с упражнениями атлетического свойства; лучше всего, если с элементами избиения соперника. Как бы там ни было, вот он стоит теперь передо мной со своей вечной грубовато-добродушной сердечной улыбкой на лице, с неизменным шумом посасывая свою дурацкую трубку, однако вид имеет почему-то необычайно торжественный.
– Какая удача, Эдвард, что я издалека заприметил вашу машину! Хочу поговорить с вами прежде, чем вы пройдете к вашей тете.
– Вот как?!
Он навалился всем телом на борт «Ла-Жуаёз» как раз со стороны низко посаженного водительского сиденья, и мне пришлось буквально руками разводить тучи табачного дыма.
– Ваша тетя, Эдвард, находится в необычайно нервозном состоянии. Говоря прямо и откровенно, она беспокоится о чем-то, чего я решительно не понимаю. Видимо, автомобильная катастрофа потрясла ее – и сильно потрясла, гораздо сильнее, чем казалось сразу после происшествия. Сама авария, а также ваше личное отношение к ней, Эдвард, ваше поведение в той ситуации – все это оказалось для нее страшным ударом. Не будет преувеличением сказать, что ныне она представляет собой комок оголенных нервов.
– Мой дорогой доктор, – прервал я его наконец, – при всем уважении к вам, что за вздор? Я за всю свою жизнь не встречал более уравновешенной и собранной особы, чем моя тетя. Если о какой-нибудь женщине можно сказать, что она вообще не знает, что такое нервы, так это о ней.
– Вы правы, если иметь в виду ее обычное состояние. Однако, если бы вы хоть немного разбирались в медицине, Эдвард, то поняли бы: в настоящий момент мисс Пауэлл сама не своя. Это вовсе не вздор, Эдвард, и вы сами хорошо это знаете, хотя уважение к старшим никогда не относилось к числу ваших добродетелей.
Я пожал плечами и не стал спорить.
– Как угодно. Посмотрим, что можно сделать. Но почему вы возлагаете на меня ответственность за ее состояние – не представляю. Знаете ли, другим людям с тетей тоже приходилось довольно трудно в последнее время. И полагаю, дело тут не в нервах, а в скверном характере – она всегда сердится, когда не может во всем настоять на своем. У многих пожилых людей появляется такая черта, вы не находите?
По крайней мере, я хоть как-то парировал странные замечания Спенсера, да еще высказанные таким покровительственным тоном. Не представляю, почему считается, что к старикам надо относиться с уважением просто потому, что они старики? Уважать их следует, если они заслуживают уважения! Однако голос Спенсера снова загудел над моим ухом:
– Не знаю, как вы можете таким образом отзываться о своей тете, Эдвард. Но поскольку я считаю, что в вас все же есть что-то хорошее…
– Сердечно благодарю, – опять сумел вставить я.
– Так вот, поскольку я так считаю, у меня к вам две просьбы. Вспомните, Эдвард, обо всем, что тетя для вас сделала, и подумайте: разве не в вашей власти освободить ее от материальных забот по вашему содержанию и от душевных забот по присмотру за вами? Не следует ли вам покинуть ее дом и самому начать зарабатывать себе на жизнь? Признаюсь честно, не знаю, каким образом вы могли бы это сделать, но, несомненно, у вас хватит мозгов, чтобы заняться чем-то иным, кроме бессмысленного безделья в Бринмауре. Простите, я бы не хотел показаться резким, и во всем этом нет вашей вины. Тете следовало давно указать вам на все это, но она никогда не стала бы этого делать, хотя я знаю, что ей часто советовали поступить именно так. (Несложно угадать, кто советовал, – ты, настырный грубиян, вечно лезущий не в свое дело.) Но теперь, когда все высказано вам в открытую, не считаете ли вы нужным хорошенько это обдумать?
Разумеется, подобные глупости мне и в голову не придет хорошенько обдумывать. Душевные заботы по присмотру за мной – ха-ха! Однако же, пока чертов дуралей извергал из себя столь радикальные речи, мыслительный процесс в моей голове действительно резко ускорился. Сейчас очень и очень неподходящий момент, чтобы пробуждать чьи-либо подозрения касательно моих чувств к тетке. Особенно – подозрения ее лечащего врача. Ответ мягкий, смиренный – как раз то, что могло бы избавить меня в настоящий момент от всяких arriere pensees[44]. Несколько секунд я молчал, напряженно размышляя. Затем заговорил очень медленно, словно бы взвешивая слова, а на самом деле – чтобы они поглубже увязли в сознании старого олуха:
– Да… Конечно… Я так и поступлю. В сущности, знаете ли, я часто думал об этом. Проводить здесь время в бессмысленном, как вы выразились, безделье – несколько скучно. Мне приходило в голову, что хорошо было бы поселиться где-нибудь еще, но, сами понимаете, тетя Милдред так беззаветно привязана к усадьбе, что предлагать ей переезд немыслимо. – Тут я опять вступил на скользкую почву. Сама подобная мысль – это всякий бы заметил – показалась Спенсеру кощунственной. – Но существуют, понимаете ли, объективные трудности. Невозможно получить работу – по крайней мере такую, какая стоила бы того, чтобы работать, – без соответствующей подготовки. А я, знаете ли, ничему конкретному не учился. Разве стоит как-то попробовать себя на литературном поприще? И еще, что касается обучения: честно говоря, до сих пор не могу остановиться на чем-то, что влекло бы меня по-настоящему. А если бы такое дело нашлось, то на время овладения им – вдали от дома – мне потребовалось бы бо́льшее содержание, чем теперь.
– Полагаю, об этом можно договориться, если ваша тетя искренне поймет серьезность ваших намерений, в какой бы области они ни лежали.
Тут-то, конечно, он себя и выдал. Именно в этом состояла далеко идущая цель тетки – избавиться от меня ценой жалкой надбавки к содержанию, чтобы потом запереть на всю оставшуюся жизнь в какой-нибудь безрадостной конторе, – и прощупать почву она уполномочила Спенсера. Нет, спасибо, это не для меня, и речи быть не может, ни на каких условиях! Но пока, хоть я и раскрыл с легкостью маленький заговор моей родственницы с доктором, свои карты выкладывать рано. Наоборот, под таким предлогом следует изящно выиграть пару дней!
– Понимаю. – Я выждал паузу. – А какую специальность или род занятий вы представляете себе, когда говорите о «серьезных намерениях»?
– О, Эдвард, дорогой мой, я понимаю: пока рано говорить об обстоятельном плане, разработанном во всех деталях. (Верить этому или нет – дело мое, однако «Эдвард, дорогой мой» – хорошее обращение, пусть продержится подольше.) Но, конечно, можно сказать с уверенностью: мисс Пауэлл будет рада, если вы изберете профессию, максимально близкую вашим склонностям.
Мои губы тронула невольная улыбка. Наивный старый юноша! Как он себе это представляет: я выхожу на «авансцену» и торжественно объявляю, в какой именно круг ада решил направить свои стопы? Комедия, да и только. Интересно, а если бы я выразил намерение уйти в церковь, стать священником? Тут бы он, наверное, просто рухнул как громом пораженный, а ведь, если разобраться, сутана мне подходит точно так же, как какая-нибудь адвокатская мантия, нарукавники бухгалтера или банковского клерка.
– Что ж, обещаю вам тщательно все обдумать. – Двигатель «Ла-Жуаёз» при этих моих словах мелодично заурчал. Этот намек дошел даже до Спенсера.
– Ну и правильно, Эдвард. Молодчина. Я знал, что вы способны внять голосу разума, если облечь мысль в правильные слова. Кстати, как вам такая идея – это только идея, но все же… Я знаю, вы хорошо разбираетесь в автомобильных моторах. Значит, у вас инженерный склад ума. Впрочем, все в ваших руках. Не хочу показаться навязчивым – выбор целиком и полностью за вами. И еще – пожалуйста, в ближайшие несколько дней, которые уйдут у вас на размышления, будьте добры к тете. Берегите ее. Это, собственно, и есть моя вторая просьба. Поверьте, она сейчас необыкновенно растревожена. Ладно? Ну, вот и хорошо. Вы славный парень, Эдвард. – Сказав это, старикан, так и не выросший из штанишек школяра, удалился, довольно ухмыляясь.
Еще бы ему не ухмыляться. Ведь он уверен, что их с тетей низкая интрига удалась. Как, право же, удачно, как кстати вышло, что я заранее приготовил контрмеры. Иначе не могло быть никакой уверенности, что старуха силой не заставит меня пойти на что-то, вроде предложенного Спенсером, – такова великая, непоколебимая решительность ее характера. Так и вижу себя в запачканном синем комбинезоне грубого покроя, с ног до головы обрызганным машинным маслом, в обучении на какой-нибудь мерзопакостной инженерной фирме. А вот я уже каждый день хожу конструировать бездушные грузовые фуры, столь противные самой сущности моей поэтической натуры, – хожу где-нибудь в Бирмингеме, отвратительнейшем, насколько я понимаю, месте на земле, до щелей мостовых пропитанном духом наживы и убожества (исключая, возможно, лишь ту часть города, что называется Вулверхемптоном). Как может тетя со старым Спенсером за компанию хоть на минуту представить себе это, всерьез вообразить, как я, «закованный» в голубой комбинезон, тружусь не покладая рук? Являюсь на какой-нибудь завод с мрачными коридорами ежедневно к пяти утра или когда там они начинают. И провожу там целый рабочий день от звонка до звонка. И говорю какому-нибудь очередному безликому начальнику цеха: «Да, сэр» и «Никак нет, сэр». Все это было бы лишь смехотворно, если бы тетка не умела отлично проводить в жизнь свои самые несообразные, самые абсурдные мечты. Она смотрит на них как на простую данность, и, глядишь, так или иначе они вскоре в данность и превращаются.
Глава 6
С неохотой, но вынужден признать: в одном Спенсер прав, тетя и вправду пребывает в очень нервозном, каком-то суетном состоянии. Все время смотрит так, будто вот-вот что-то скажет, но передумывает. Несколько раз я ловил на себе ее пронзительный взгляд, когда она думала, что я не замечаю. Опять-таки за каждой трапезой непрестанно шарит рукой по кольцу для салфетки или по вилке, чем приводит меня в бешенство. Попробовал бы я проделывать такое за столом в детстве – сразу последовало бы резкое замечание.
Конечно, теперь, придя относительно меня к судьбоносному, как она полагает, решению, тетка с беспокойством ждет результата – попаду я в сети или нет. До некоторой степени это объясняет ее поведение, но все же не полностью. У меня из головы не идет ее последнее обещание «принять меры» – все еще не ведаю, ни по какому поводу (с ней вечно остаешься в неведении), ни что именно это за меры. Возможно, схема по избавлению от моей персоны и есть «мера»? Не уверен. Не могу отделаться от подозрения, что в рукаве у нее припасен еще какой-то туз. Туз неприятный, она сама его побаивается и не очень хочет с него ходить, но постепенно склоняется к выводу: если понадобится – придется. А ведь тетка моя – женщина очень решительная, на мелочи размениваться не станет, так что можно ни секунды не сомневаться: что бы она там ни обдумывала – это нечто кардинальное, поистине крутое. В самом деле, если как следует разобраться, я немного встревожен. А если разобраться еще лучше – встревожен сильнее, чем немного. Скажу больше: если бы у меня не был готов собственный план, вряд ли бы я осмелился при таких обстоятельствах остаться в доме. Или уж, во всяком случае, мне следовало бы во что бы то ни стало прояснить ситуацию и допытаться, что у старухи на уме. Если каким-то чудом, по какой-то несчастной случайности мои намерения снова не реализуются, если она снова что-то пронюхает, мне останется только спешно скрыться – с максимальной скоростью, какую способна развить «Ла-Жуаёз». Когда придет великий день – а придет он либо в следующее воскресенье, либо через воскресенье (тем или другим воскресным вечером должно стать ясно, принес ли Эванс хрен для вечернего застолья – уж я за ним прослежу), – все будет готово к мгновенному бегству. Конечно, в высшей степени маловероятно, что мне придется к нему прибегнуть; что мне вообще придется делать что-нибудь, кроме как сидеть и ждать, но не помешает держать наготове автомобиль и пару смен одежды. Что должно воспоследовать в худшем случае? Сам не знаю и, честно говоря, не хочу сейчас об этом размышлять. Наверное, не может последовать ничего страшнее временной ссылки в Бирмингем. Слишком уж тетка печется о чести нашего никому не нужного и не интересного рода, слишком уж переполняет ее гордость от ношения «титула» «госпожи Пауэлл из Бринмаура» (чем тут гордиться, не понимаю и никогда не пойму), чтобы пойти на публичный скандал «в благородном семействе». Ну а там, после короткого опыта совместного проживания – к кому в Бирмингеме старуха меня ни соизволит послать, – я легко смогу убедить этого кого-то, что без меня ему будет лучше. Настолько лучше, что он, в свою очередь, сможет убедить в этом даже такого человека, как моя тетя. Однако оставаться под одной крышей с нею для меня, конечно же, станет невозможно.
Пока же меня огорчает еще одна вещь. Видите ли, я более не уверен, что растение, опознанное мною как борец, действительно является борцом. Проблема в том, что, движимый неуместными угрызениями совести, я не смог заставить себя вырезать иллюстрации из всех этих допотопных книг по садоводству, и теперь приходится полагаться на память. Листья, по-моему, выглядят как-то не так. К тому же, по моим расчетам, аконит сейчас должен цвести, а он не цветет. Впрочем, в словаре значилось «с июля по сентябрь», а сейчас уже давно сентябрь, так что, видимо, это нормально. Но очень хочется знать наверняка! Ну, собственно, в самом худшем случае – если тетя примет внутрь парочку совершенно безвредных корешков совершенно безобидного растения – тоже ничего страшного не случится, и впоследствии можно будет повторить попытку. Однако как все это меня уже утомило! И, случись отсрочка, у Спенсера с тетей появится больше времени на затягивание бирмингемской удавки вокруг моей шеи. Кстати, я попробовал выдернуть один стебель, чтобы выяснить, конусообразный ли у него корень, но целиком извлечь его из почвы не смог, а лопатой копать не хочу из боязни выдать себя. И из той же боязни не хочу выдергивать более одного стебля.
На этом месте я убрал дневник в маленький сейф, подаренный мне много лет назад, – никогда не оставляю его лежать на видном месте дольше минуты, – и отправился прямиком в сад, где находилась тетя. Почему бы ей самой не предоставить мне крупицу полезных сведений? При известном такте и осторожности, вероятно, удастся их из нее выудить.
– Разрешите вам помочь, тетя Милдред? – начал я. – Вам, знаете ли, не следует так напрягаться. На днях, возвращаясь в Бринмаур, я встретил Спенсера. Он всерьез за вас беспокоится.
Тетка, казалось, была удивлена, и, надо признать, у нее имелись на то основания. Она стряхнула с зубцов граблей полчервяка (мне более или менее успешно удалось скрыть непроизвольную дрожь отвращения, каковая всегда охватывает меня при виде извивающихся разрубленных пополам беспозвоночных) и подобрала с земли тяпку.
– Какая неожиданность, Эдвард. Не припомню, чтобы ты хоть раз в жизни по собственной воле предлагал помочь в саду. Тут всегда дел хватает. Что касается меня, то можешь не волноваться. Я прекрасно могу о себе позаботиться. – Старуха швырнула в тачку целый пук выполотого крестовника и добавила: – К счастью. – Последние слова она произнесла почти шепотом.
Не знаю, имела ли она в виду что-то особенное. Вполне возможно, что имела – поскольку секундой позже я перехватил взгляд, брошенный на меня искоса. Но как бы там ни было, предпочел ничего не расслышать и спокойно продолжал:
– Кстати, ума не приложу, откуда вам известно, где сорняк, а где что-то полезное, и вообще, как нужно прореживать. Вот это, например, что такое?
– Это колокольчик средний, мой юный друг. Еще называется кентерберийским. Не надо быть гением, чтобы обнаружить на клумбе сорняк.
Я терпеливо вернул ее к изначальной теме:
– Вероятно, не надо. Но трудно ведь помнить все растения по именам, особенно после того, как пройдет пора цветения. А для большинства культур в пределах данного цветочного бордюра она уже прошла.
– Довольно-таки просто для тех, кому интересно, дорогой Эдвард. После того как ты десяток раз потянешь себе спину, возясь с рассадой, волей-неволей начнешь разбираться в форме листьев и всем таком. Вот крестовник, его, полагаю, и ты отличишь на глаз. На этой клумбе его полно, так что, если и вправду хочешь подсобить, давай, начинай дергать.
Работа была в прямом смысле грязная, но, раз уж я решил вызвать тетю на разговор, не возбуждая подозрений, пришлось приняться за дело. К тому же она честно поймала меня на слове – в смысле, на предложении помочь. Терпеть не могу попадать в такие положения. Целый час без малого я надрывался сначала на одной клумбе, потом на другой, а тетя время от времени поднимала на меня взгляд, полный мрачного удовлетворения. Недели ухода и забот уйдут теперь на приведение ногтей обратно в приличный вид. Если вообще удастся что-то с ними сделать до следующего маникюра.
Только через час (как я уже упоминал) мы с теткой случайно разогнулись отдохнуть одновременно. Она ухмыльнулась:
– Подустал, Эдвард?
– Мне кажется, я не пропустил ни единого росточка на всей клумбе, тетя Милдред, но, поскольку названия их мне все так же не известны, интеллектуального багажа у меня не прибавилось. А что, – тут я беззаботно рассмеялся, – может быть, проведете со мной занятие по ботанике и расскажете поподробнее, что все это такое?
На какое-то мгновение мне показалось, что она собирается отказаться, но после некоторого колебания пришла к обратному решению. Мы побрели бок о бок вдоль бордюра. Тетина видавшая виды запачканная юбка и броги с квадратными носами, предназначенные специально для садоводства, составляли странный контраст моему серому с голубоватым отливом фланелевому костюму и коричневым заостренным туфлям. Старуха, не умолкая, распространялась то о тех цветах, то об этих; и о том, что эти вот – очень морозостойкие, а с теми пришлось здорово повозиться, но они прелестны, когда распускаются весной, а еще вон те, другие, ей в свое время подарила в виде семян старинная закадычная подруга. Она рассказывала о своих великих победах над садоводами-соперниками. О нежданных унизительных поражениях (кто бы мог подумать, что разведение декоративных растений – такой состязательный вид спорта). Каждый раз терпеливо называла и, если надо, повторяла название каждого цветка, а я повторял за ней, а сам все время как бы невзначай «подталкивал» ее к тому заветному кустику под деревом – хотя, как оказалось, рос он не совсем под ним, не настолько близко, насколько подсказывала мне память, но неважно – к тому кустику, чье название я действительно жаждал узнать.
Развязка наступила неожиданно. Я как раз собирался заявить, что случайно знаю название какого-то другого цветка – такого голубенького, если память мне не изменяет, – как вдруг тетка заметила:
– А вот это, Эдвард, называется борец. – Да так неожиданно, что я чуть себя не выдал.
– Вот это? – повторил я недоверчиво. – А мне казалось…
– Что же тебе казалось, Эдвард?
– Я думал, это живокость. Вот видите, как я безграмотен в ботанике. Но… разве борец не ядовитое растение?
Обдумывая этот диалог задним числом, я решил: наверное, это был слишком опасный вопрос, но смысл его заключался в том, чтобы прикинуться святою простотой, то есть спасти положение при помощи блефа.
– Ядовит только корень. Трудно представить себе такого законченного дурака, который станет его выкапывать и совать в рот. Впрочем, как видишь, я его держу подальше от огорода. Эванс не идиот и тоже, конечно, в курсе дела. Бояться мне нечего, Эдвард. Случайно борец никто не съест.
Неужели! И неужели все остальные будут так же в этом уверены, как она, когда кто-то его все же съест?! Так-так.
– Ну что ж, в любом случае он уже отцвел, и скоро стебли совсем засохнут. Лучше бы, однако, вам больше этот борец не сажать.
– Почему? Цветы довольно миленькие. Знаешь, в большинстве садов они есть. Да ты их сам видел все эти годы.
– Да, наверное, видел. – Я продолжил разговор в таком духе, будто данный конкретный предмет меня мало интересовал: – А там что такое? – и указал пальцем на кустик, который считал аконитом до сей секунды и еще не окончательно перестал считать.
– Там? А, это аквилегия. Выражаясь простым языком, орлик или водосбор.
Тут у меня появилась возможность вступить с нею в спор о предпочтительности «простых» народных названий перед бинарной латинской номенклатурой, и наоборот – такой спор мне представлялся вполне безопасным при общении с садоводами, – и так далее и тому подобное. В общем, скоро наше так называемое занятие по ботанике окончилось.
Однако, что же, право, такое? В жизни мне приходилось встречать столько этих невзрачных растений, которые тетка назвала борцами, что, по-моему, просто преступное легкомыслие – держать их вот так вот повсюду, на самом видном месте. Если она на какое-то мгновение заподозрила меня в намерении пустить аконит в ход, то наверняка солгала нарочно! Но нет, совершенно немыслимо, чтобы ей пришло это в голову, – я хочу сказать, пришло в голову заподозрить, а не солгать (на это-то она более чем способна!). Об ошибке с ее стороны тоже не может идти речи… А вот что и вправду возможно: во-первых, борец опасен для жизни, тут сомневаться не приходится; во-вторых, тетя принадлежит к таким людям, которые могут просто так, из общих соображений, нарочно ввести ближнего – меня ли, кого ли другого – в заблуждение, если такой возможностью располагают. А значит… значит, она все же могла указать не на то растение!
Продолжим логическую цепочку. Если бы аконитов в саду вовсе не было, ей просто не пришло бы в голову говорить о них. Таким образом, сам факт упоминания аконита неопровержимо доказывает, что где-то в саду – и скорее всего, где-то достаточно близко к кусту, который она назвала аконитом, – действительно находится, так сказать, «оригинал». Подлинный борец! Следовательно, когда придет время, я просто подвергну тщательному исследованию и тот ее так называемый борец – в конце концов, возможно, он и настоящий, – и тот, который настоящим считаю я, и еще вдобавок все растения в той части цветочного бордюра: везде стану искать конический корень. Потом, если мне сразу выпадет удача, соус из хрена окажется приготовлен вперемешку с некоторыми элементами посторонних цветочных кореньев. А если не сразу, то так и буду методом проб и ошибок продвигаться от воскресенья к воскресенью, пока не найду искомое. Значит, придется от воскресенья к воскресенью следить или за самим Эвансом, или за кладовой (не появился ли ростбиф?). Значит, будильнику придется поднимать меня на земляные работы рано-рано поутру каждое воскресенье несколько недель подряд, но… Как известно, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Прошу прощения, мой дорогой дневник, за столь расхожее клише.
Глава 7
Время тянется ужасно медленно – просто терпение теряешь. На обед у нас бывает баранина («В теплую погоду она как-то приятнее на вкус, ты не находишь, дорогой мой?» – «О да, конечно, тетя Милдред. Только если не подавать ее совсем уж каждый день» – такие вот приходится отвешивать пошлости). На обед у нас бывают голуби, поставляемые Спенсером. Они – в силу своего размера – накормить никого не способны, а способны только навести тетю на одну из ее излюбленных тем разговоров со мной – почему это я так и не увлекся охотой, не научился стрелять? Ее любопытство по этому поводу я уже удовлетворил много лет назад. На обед у нас бывают бифштексы, и отбивные, и свиное жаркое («сегодня лучше попробовать его, дорогой мой, на улице стало прохладнее»), и телятина, и ветчина, и рагу по-ирландски, и печенка, и утятина, и цыплята табака, и окорока, и всякая требуха с луком (которую человек с душой и достоинством употреблять в пищу вообще не станет), и говядина тушеная, и говядина отварная, и говядина, фаршированная яйцами пашот, и снова еще бог знает какая говядина – все это целыми неделями по кругу, как в дерби. Не было у нас за все это время только ростбифа и соуса с хреном к нему.
Еще мы беседуем. Обмениваемся нескончаемыми банальностями о местной лечебнице, о грешных скитаниях по округе вильямсовой скотины, о том, ехать ли нам на чай к Хауэллам, о том, нужна ли мне, в сущности, хорошая книга по садоводству, и как вершина всего – великий диспут: правда ли, что нынешнее лето более влажное, чем предыдущее. О политике мы говорить не можем, поскольку по всем вопросам расходимся с неистовой яростью; тетя – стойкая почитательница пустозвона Болдуина, я же, естественно, стою за возмужавшего Мосли[45]. О литературе мы говорить тоже не можем, иначе дело доходит почти до драки. Не можем даже обсудить, собирается ли старуха все-таки выставить Мэри – а то у девушки, видите ли, сохранились «странные мысли» на мой счет. При этом каждый из нас напряженно следит за другим, каждый тщательно избегает того предмета, который ни на минуту не идет ни у одного из головы, и вследствие этого оба мы на грани нервного срыва, оба сильно возбуждены. Ей-богу, меня надолго не хватит, скоро я ляпну: «Скоро ли у нас на обед будут подавать хрен?»
Именно так, ибо могу честно признаться, что ростбиф представляется мне теперь только лишь гарниром к соусу из хрена! Перед моим внутренним взором бесконечно проносятся всякие безумные меню, которые открываются «Мясным супом потаж с сомнокубиками» и продолжаются в том же духе, вплоть до «Bœuf Rôti aux Aconits»[46]. Все это, конечно, абсурдно – ведь в наших ресторанных картах «ростбиф» всегда обозначается просто как «ростбиф».
И если мне не дает покоя образ желтоватого корневища темного оттенка и конусообразной формы, то тетю, уверен, преследует другое видение: я в синем комбинезоне, поднимающийся с постели в пять утра и разжигающий печь. Или даже она представляет своего племянника (ведь старуха по натуре сверхоптимистка) суровым «капитаном промышленности» с квадратной челюстью, стоящим рядом с какой-нибудь презренной машиной, которую он (я) изобрел и которая так умна, что лишит работы множество людей. Что ж, по крайней мере, преимущество на моей стороне – я-то знаю, что у нее на уме, и могу сознательно уходить от разговора об условном Бирмингеме. А вот она моих мыслей не ведает, и даже чисто случайное, хоть и длительное, выпадение хрена из списка покупок только дает мне время для проработки последних деталей плана. Тетя, помнится, говорила, что больше не потерпит никаких несчастных случаев. Значит, их не должно быть. Точно, не должно. То есть абсолютно определенно, совершенно не должно, поскольку нельзя, ко всему прочему, исключить, что мстительная кухарка, вероломная Мэри и вечно хихикающая судомойка Вайолет по глупости, непрошеным образом подставят свои головы (точнее, желудки) под лезвие опасности. Впрочем, при удачном стечении обстоятельств этого удастся избежать…
И вот мое терпение вознаграждено по заслугам. Не побоюсь утверждать, что завтра дело так или иначе будет доведено до конца. И так совпало, что тетка окончательно освободила меня от всполохов раскаяния и последних угрызений совести. А то я, признаться, склонялся к тому, чтобы притормозить, мне жаль стало всю эту путающуюся под ногами прислугу, и даже саму стареющую родственницу стало как-то жаль. Но сегодня… сегодня она сожгла мосты.
Во-первых, сочла время (сразу после ланча) и место (комнату вашего покорного слуги) подходящими для произнесения монолога, или, скорее, лекции о моих мнимых (ею) несовершенствах и недостатках. Не стану утруждать себя подробной записью этой лекции, лучше попробую просто забыть… Однако, боюсь, не удастся. Эта коренастая нескладная фигура с уверенно попирающими мой каминный коврик ногами будет вечно стоять у меня перед глазами. Этот рот, из которого нескончаемым потоком льются речи, вылетают жестокие, резкие, обидные слова, эти чеканные фразы, в какие они складываются, – навсегда запечатлеются в моей памяти.
Вначале она затронула (наконец) тему Бирмингема. Она, оказывается, «слышала от доктора Спенсера» о нашем разговоре. И была счастлива узнать, что я отнесся к нему серьезно.
– Вы были счастливы, тетя Милдред?! Значит, вам так не терпится расстаться со мной?
Все же, что ни говори, а тетка у меня, по крайней мере, честная.
– Не надо этого примитивного пафоса, Эдвард. Даже у тебя не хватит ханжества утверждать, что мы живем душа в душу, что ты со мной, что я с тобой. – И далее, задетая моим молчанием или выражением моего лица, она открыто призналась в том, что я, разумеется, и так прекрасно знал, а именно в том, что демарш Спенсера был произведен целиком с ее согласия и по ее наущению.
Воцарилась тишина. Я, с большой горечью понимая, что дневного отдыха сегодня не видать, размышлял, стоит ли вообще отвечать ей. Но надежда на свободу выбора в этом деле оказалась напрасной иллюзией.
– Итак, Эдвард. Я жду ответа. – Тетин голос грубо вывел меня из задумчивости – словно камень в колодец свалился.
Знаю, это было глупо, но я сказал ей правду, сказал прямо и попросту. Смутно всплывают в памяти какие-то обороты вроде «ваши со старым дураком Спенсером хитроумные интриги», «хотите превратить меня в никчемного раба жалованья», «страстное стремление заставить меня заниматься тем, к чему я совершенно не приспособлен, чтобы освободиться от меня и от необходимости меня содержать», «от собачки моей вы уже избавились, теперь гоните меня». В общем, к концу речи, должно быть, даже моей тете стало более или менее понятно, что в Бирмингем я не поеду. Признаю, вышло сумбурно, непродуманно, грубовато, но против ее упрямства срабатывают лишь абсолютная ясность и категорический отпор. Если бы я дал хоть легкую слабину, то, не сомневайтесь, мигом очутился бы «в учениках у старого пирата», как выразился теткин любимый «поэт»[47].
Подобно всем людям, привыкшим повелевать, она впала в неописуемую ярость, когда услышала, что ее воле перечат. Любопытно при этом, что отповедь старуха начала как раз с последнего замечания. Упоминание о Так-Таке, очевидно, особо уязвило ее – что поделать, муки совести. Она просто загрохотала как гром небесный: как смею я напоминать ей о гибели жалкой моськи?! (Моськи! Вы слышали? Бедный мой дружок Так-Так!) Она-то надеялась, что у меня хватит такта постараться забыть о тех событиях. Но нет! Ведь я сам, как эта собачка, – «робкое, трусливое трепло, шавка, способная только тявкать и кусать руку, которая ее кормит». А также «подлый, жадный, жирный слизняк, который думает только о своем комфорте и о том, как бы побольше съесть. Всегда был таким, с самого рождения!»
– А ведь вырастили меня вы, – удалось мне вставить.
– Да, вырастила, и ты очень редко об этом вспоминаешь.
Боже праведный, разве она когда-нибудь давала мне об этом забыть! Как же мне хотелось поделиться с ней своей версией собственного детства. Но куда там! Тетин голос продолжал греметь. Нос ее, и так вечно красный, безобразный и неухоженный, теперь сиял от возбуждения, словно яркий маяк. Лицо быстро преодолело хорошо знакомый мне воинственно-красный цвет мясистого придатка под клювом у индюка и от необузданного гнева стало белым как снег. Поистине, она более не владела собой. Теперь старуха обратилась к годам моего обучения в школе. Она бросала мне в лицо упреки в том, как скоропалительно я покинул стены этого мрачного учреждения, и с веселой злобой, не выражая ни секундного сомнения, высказывала самые дурные предположения насчет такой скоропалительности. Она бранила меня и издевалась над моими друзьями, моими книгами, моими вкусами, предпочтениями, моральными устоями (да-да, не сомневайтесь, вся эта канитель с Мэри опять всплыла на свет Божий, причем в связи с последним мнимым инцидентом – помните, когда мы с ней краснели в столовой? – к истории добавилась пара новых глав). Она осыпа́ла меня площадной руганью, словно торговка рыбой в порту: я, дескать, никчемный лодырь, ленивое пустое место, никуда не годный бездельник, лоботряс, «тунеядец, нахлебник, пользующийся ее щедростью и не имеющий духа это признать». Она опустилась даже до того, что перешла на мои физические недостатки. Я получился и жирный, и прыщавый, и лицо у меня одутловатое не в меру, и одет как «инфантильный, сентиментальный, жеманный хлюпик-педераст». Даже если бы изо всех оскорблений прозвучало только последнее, любой на моем месте стал бы искать мести.
Но ей этого показалось мало. Я, мол, пренебрег ее любезным предложением (да уж, очень любезным!). Проявил непочтительность и неуважение к доктору Спенсеру. Я неблагодарный. Я палец о палец не ударю в этой жизни, чтоб честно заработать хоть медный грош. И прочая, и прочая, и прочая. Более я не мог этого выдерживать. Удивляюсь даже, как дотерпел до того момента. Я встал и показал своим видом, что собираюсь покинуть комнату.
– Когда вы снова придете в себя, тетя Милдред, мы, вероятно, сможем продолжить этот интересный обмен мнениями, хоть лично я считаю, выйдет лучше, если ни одно из них больше не будет высказано вслух. В настоящий момент я отказываюсь вас слушать.
Я сделал движение по направлению к двери, но уж очень проворно моя тетя передвигается. Она прыгнула первой, словно пантера, прижалась спиной к косяку и загородила мне путь, при этом не прекращая браниться. Однако теперь в ее голосе зазвучали иные интонации. Старуха постепенно овладевала собой.
– Ты прав, Эдвард, полагаю, я все сказала и нет нужды прибавлять что-нибудь еще. Теперь тебе известно мое отношение. Но хочу четко прояснить одну вещь на будущее: отныне ты всегда будешь вести себя прилично. Всегда, тебе ясно? Ты будешь вести себя прилично и начнешь работать не позже, чем через месяц, – если, конечно, нам удастся найти тебе работу, что непросто. Если найдем, ты уедешь. Если нет, дашь мне торжественную клятву отправиться, куда я скажу и когда скажу. В противном случае я приму меры. И я точно знаю, Эдвард, как мне поступить. Гораздо точнее, чем ты знаешь, как поступить тебе. И повторяю еще раз: до тех пор ты будешь вести себя прилично, не то… А теперь открой дверь и пропусти меня.
Находясь словно в тумане, я так и сделал. Она величественно покинула помещение, стараясь держаться подобно Елизавете I после аудиенции, – излишне объяснять, что получалось у нее это смехотворно.
Что же касается меня, то я вышел в сад остудить голову и там наткнулся на Эванса, тащившего в дом пучок каких-то стеблей с длинными корневищами. Желтоватыми. Не конусовидными. За окном кладовки, хоть оно и было закрыто оцинкованной сеткой от мух, виднелся свисающий с потолка шмат говядины для ростбифа.
Мой будильник установлен на час ночи. Все меры предосторожности приняты: багаж упакован, «Ла-Жуаёз» заправлена. Интересно только, готовит ли кухарка соус с вечера? Впрочем, не имеет значения. Я могу натереть немного своего добра в кастрюлю, но в любом случае великая историческая подмена произойдет завтра утром. К ланчу все будет готово. К вечернему чаю все будет кончено. Мне, наверное, придется где-нибудь отдельно раздобыть себе чаю и пить его одному.
Часть V Послесловие
Глава 1
Как это было похоже на бедолагу Эдварда – ворчать и не желать помочь натягивать сетку над вишневыми деревьями при том, что, кроме него, вишни никто не любит. Как это было в его духе – пуститься на любые уловки, только чтобы сделать вид, будто не ходил жарким воскресным днем в Ллвувлл пешком. Ну и, честно признаться, – пуститься на любые уловки, чтобы его выследить и все проверить, – это похоже на меня и в моем духе.
Хотя для этого было несколько причин. Во-первых, если живешь в сельской местности, приходится особенно следить за мозгами – не то заржавеют. А ничто не поддерживает их в рабочем состоянии лучше, чем такие вот маленькие «этюды» – игры разума, соревнования в смекалке. Потом, признаюсь, меня это развлекло от души. Поглядеть, как Эдвард, потея и отдуваясь, выкарабкивается из Фронского леса, – да ради одного этого стоило самой попотеть. А тут еще ему обязательно надо было поспеть вовремя и создать впечатление, что он и ногой не пошевелил, разве что нажимая на газ в своем пошлом автомобильчике, – ну, уморительно карикатурная сценка. Уж не знаю, каким чудом мне удалось сохранить серьезность на лице, а ведь пришлось, в этом заключалась самая соль веселья – не дать ему понять раньше времени, что мне все известно о его давешних «ужимках и прыжках», во всяком случае, не раньше, чем возня с сеткой над вишнями доконает его окончательно. Не дать ему догадаться, что я еще раньше звонила Гербертсону и Хьюзу (приятные люди, на них можно положиться), и даже телефонистку в дело вовлекла, и, собственно, своими глазами видела, как он тащится обратно. Не дать догадаться, что я вообще сама поставила весь этот кукольный спектакль с ним в роли марионетки. Хоть и в главной. Была, правда, одна деталь, которую я не предусмотрела: ему все же удалось заполучить несколько капель бензина. Но и здесь судьба проявила ко мне благосклонность.
Смысл состоял, конечно, не только в том, чтобы скоротать денек за веселой комедией и вдоволь посмеяться над племянником. Имелась вполне серьезная цель. С самых ранних лет Эдвардом было очень трудно управлять. Еще в колыбели он показывал такое упрямство, какого я в других детях не видела, а когда подрос до коротких штанишек, превратился в сущий кошмар. Если хоть на минуту исполнение желаний его императорского величества запаздывало – сразу растекались океаны слез и проявлялся норов, а за проявлениями норова следовали приступы угрюмой замкнутости, причем решимости настоять на своем они никак не мешали. Помню, как-то раз у него отобрали игрушку – на время, конечно. Просто у него их была уйма, а эту он совершенно забросил. Естественно, сразу оказалось, что нужна ему только она. Когда мальчик понял, что всхлипы и вопли не помогут, то вдруг притих. А ночью встал с кроватки и разгромил всё и вся в детской. Разбил вдребезги все, что только билось. И поломал все, что, как ему казалось, было дорого няньке.
Не знаю, виновата ли я в его дурном воспитании. Бог его ведает. Кто теперь скажет? Вырастить дитя – вообще довольно трудная задача, а своенравного парня, который к тому же не ваш родной сын и у которого такие родители… О моем несчастном брате скажу так скупо, как только возможно. Только то, что он был, к сожалению, не очень уравновешенным человеком, и смерть его и его жены навечно окутана тайной. Естественно, мы всегда старались оградить Эдварда от любых упоминаний об этом, но какие-то слухи и намеки все же до него дошли. До шока и удара ребенок, слава богу, тогда еще не дорос, но, повторю, когда у тебя такой отец, ты, пожалуй, обречен иметь трудный характер.
Ясно было одно: если характер, проявленный в детской комнате, останется у него навсегда, то качеству этой жизни никто не позавидует. Мир не станет терпеть человека, считающего себя всегда обиженным, всегда настаивающего на своем, мстительного и таящего в душе коварство. Так что с большой неохотой, но пришлось взять за правило: обращаться с ним по-доброму, но очень и очень твердо. Не всегда мне это давалось легко, но результат был почти всегда. Отчасти, конечно, это был просто блеф – к нему относится и коронная фраза, которая родилась у меня когда-то: «Я приму меры». Мне думалось (а теперь известно точно), что некое гипнотическое воздействие она на Эдварда оказывала. Часто ее стоило только произнести – и повод для приведения угрозы в исполнение сам собой исчезал.
Но в целом не могу утверждать, что моя система воспитания дала особо добрые плоды, хоть и не представляю, как еще я могла бы действовать. Эдвард как был закоренелым эгоистом, «трудным подростком», так и остался. Это я прекрасно знала, но в том, что в нем скопились такие запасы злой воли, отчета себе не отдавала. Сейчас, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю произошедшее, не могу даже удержаться от сдержанного восхищения. Не каждому дано выдержать такую муштру, как у меня, и притом сохранить душу в столь неизменном, девственном состоянии. Особенно если ты – существо такое глубоко ничтожное, как мой племянник, юноша слабый, женоподобный, изнеженный внешне и в своих привычках. Однако теперь очевидно, что у Эдварда имелся характер – хоть и очень противный, паршивый, самому ему не принесший ничего, кроме несчастья.
Ясельные годы стали для него одной сплошной битвой со взрослыми, школьные обернулись полным фиаско, точнее – целой серией полных фиаско. Мы без конца переводили его из одной школы в другую, из каждой он вылетал в раскаленном, неистовом бешенстве и отправлялся в следующую, исполненный решимости и дальше чувствовать себя несчастным. Никогда Эдварду не было равных в искусстве делать назло себе самому. И все эти школы, ни одна из каковых не заслужила его одобрения, платили ему той же монетой. Из одних мне поступали открытые просьбы забрать мальчика, из других – лишь намеки, но везде, повсеместно и без исключения, вздыхали с облегчением, когда за ним закрывалась дверь. Кончилось все отвратительным скандалом, о котором упомяну лишь кратко – так неприятно вспоминать. В припадке бешенства он изуродовал некие реликвии, имевшие для очередной школы великую сентиментальную ценность, после чего его чуть не линчевали… Конечно, школьные годы не были для Эдварда счастливыми, но жизненный опыт привел меня вот к какому выводу: мальчики, которым плохо в школе – в частной ли, в государственной ли, – обыкновенно, если разобраться, сами виноваты.
В общем, после того случая я оставила мысль пристроить его в школу. Собственно, ни в одну из них его, наверное, больше бы и не приняли. Оставалось единственная проблема – что делать с его жизнью. Но после провала всех попыток дать ему нормальное образование я в какой-то апатии пустила дело на самотек, надеясь: естественный ход вещей сам куда-нибудь его направит. Надежда, как теперь вижу, напрасная, но больше ничего мне в голову не пришло. Пока же суд да дело, я предоставила ему кров и весьма приемлемое денежное содержание, достаточное для удовлетворения всех разумных потребностей – при условии проживания в моем доме (приятно, что ему хватило совести признавать этот факт), – но, конечно, недостаточное для независимой жизни по своему вкусу. Для такой жизни надо засучивать рукава и начинать трудиться. К тому же платить больше я не могла себе позволить.
Конечно, я могла бы применить рычаг финансового давления, чтобы заставить Эдварда чем-то заняться. И наверное, в конце концов, все же к нему прибегла бы. Но считала (и продолжаю считать): мой племянник нарочно провалил бы любое насильно порученное ему дело – такова его натура. Кроме того, я дала слово его родителям и слово свое держала свято. И еще – он был последним в роду Пауэллов из Бринмаура, и мне так хотелось надеяться, что наш дорогой, добрый старый дом и все имение не останутся со временем без любящего, заботливого хозяина. Боюсь, с этой надеждой придется расстаться.
Зная Эдварда так хорошо, как знала я, можно было не сомневаться: такой удар, как вынужденная прогулка до Ллвувлла, причинит ему сильную боль. Но… Понимаете, он был в моих глазах таким незначительным, таким ничтожным, таким никчемным; и он на самом деле был таким беспомощным, таким недееспособным, что, привыкнув за долгие годы одерживать над ним легкие победы, я стала жертвой привычки его недооценивать. Если взять конкретно ту пустяковую историю, я забыла тогда об одной вещи. Забыла, что на сей раз открыто над ним посмеялась – такого никто не любит, а Эдвард и вовсе не переносил. Мне обычно удавалось воздерживаться от подобных действий, а тут… В общем, с этой маленькой комедии и началась вся заваруха, а значит, я сыграла главную роль как, вероятно, в ее завязке («вероятно» здесь лишнее слово, вы не находите?), так, в некотором роде, и в развязке. На правах главной героини я и отредактировала дневник Эдварда – всего лишь изменила некоторые имена и даты, чтобы запутать следы. По некоторым причинам я не желаю быть узнана сама и не желаю, чтобы был узнан Бринмаур. Причины эти станут ясны вам в самом конце, а пока перехожу к нижеследующему послесловию, необходимому в целях пояснения всех обстоятельств.
Глава 2
Тем, что до сих пор жива, я главным образом обязана дорогому доктору Спенсеру. Говорю «главным образом», а не «целиком и полностью», потому что лишь по чистому везению не погибла в той аварии на месте. То есть когда Эдвард повредил тормоза в моей машине. Катастрофа была отлично «спроектирована» с инженерной точки зрения. Племянник действительно прекрасно разбирался во всяких механизмах, мне всегда хотелось, чтобы он нашел этим талантам практическое применение. Но во всех остальных отношениях это была грубая работа. Как вы сами могли убедиться, наивный юноша полагал, что не оставил следов. На самом деле он их оставил великое множество.
Во-первых, как понимал он сам, нельзя было возбуждать никаких подозрений – хотя бы потому, что свидетель из него получался и без того подозрительный. Сразу привлекла внимание нелепость его поведения после происшествия. Уже первое явление Эдварда на сцене выглядело странным. Таким странным, что доктор Спенсер, под чьей благодушной наружностью скрывается исключительная проницательность, немедленно отметил эту странность, хотя и был в тот момент почти полностью поглощен необходимостью моего спасения. С одной стороны, парень слишком старался казаться озабоченным. Все повторял, как встревожен и тому подобное. С другой – совершенно не пытался помочь спасателям, а просто стоял рядом с лицом побелевшим и напряженным. Трясся всем телом, а главное – с такой навязчивой убежденностью повторял, что я мертва… Все вместе это создавало странное впечатление.
Доктор не забыл об этом впечатлении, поэтому, сделав для меня все, что мог, решил провести небольшое расследование. Сперва просто собирался разузнать, что случилось, да как случилось, да не видел ли кто чего. По дороге из спальни он встретил мою поистине золотую старую кухарку, самое верное существо на всем белом свете. Она, бедняжка, была так расстроена, так опечалена, что за работу свою взялась, только чтобы успокоить нервы.
– Послушайте, милая, – сказал доктор. – Каждый из нас должен сейчас делать все от него зависящее, чтобы помочь мисс Пауэлл. Стало быть, всем надо успокоиться, не терять голову, стараться принести максимум пользы. Думаю, ваша хозяйка выкарабкается (не сомневаюсь, что при этих словах добрая старушка залилась слезами радости), так что очень прошу вас взбодриться и прийти в нормальное состояние. А теперь мне нужно от вас небольшое содействие. Скажите, кто-нибудь из слуг видел, как произошла авария?
– Ох, нет, сэр, я была на кухне, а первое, что я услышала, – это грохот, будто что-то падает. По крайней мере, мне показалось, что услышала. Я пошла в прихожую, но оттуда тоже ничего не было видно, так что я постояла немного, да и опять вернулась на кухню. Но все как-то не могла успокоиться и за что-то взяться. Знаете, сэр, как это бывает? Такое чувство, что стряслась беда, а какая – неведомо. А потом через несколько минут я услыхала, как вошел мастер Эдвард и направился к телефону, и… мне стыдно, сэр, но я подслушала разговор.
Доктор улыбнулся мягко и ободряюще. Кто же не знает, что с кухарками такое случается – подслушивать?
– Не берите в голову, дорогая. Значит, вы случайно знаете, видел ли что-нибудь мистер Эдвард?
– Ей-богу, не могу точно утверждать, сэр, но, кажется, видел, потому что вся беда произошла из-за его собачки, сэр, да и саму собачку-то убило, сэр. Ну так вот, значит, мастер Эдвард сказал: ее машина, хозяйкина, лежит там, на дне Лощины, но ему показалось, что ее выбросило наружу, бедную мою хозяйку. Так оно и оказалось.
– Очень хорошо, что оказалось, моя милая. В машине у нее бы не было ни единого шанса выжить. Так, значит, вы услышали грохот как раз перед тем, как вернулся мистер Эдвард?
– А вот и нет, сэр, минут за пять до того. А то и за десять.
– Вот как! Наверное, мистер Эдвард сперва решил сам на месте разобраться, что к чему. Неумно с его стороны. Следовало немедля связаться со мной.
Тут кухарка бросила на доктора довольно-таки тяжелый взгляд.
– По моему мнению, – вырвалось у нее, – он больше переживал из-за пса. Обернул его аккуратно в половую тряпку и положил на стол. Все это жуткое месиво, в которое пес превратился, – на стол!
На этом доктор Спенсер свернул разговор и направил кухаркины мысли в новое русло, выразив сочувствие относительно уборки и чистки стола, которой ей теперь придется заниматься. Неожиданно он вспомнил, что самое сильное душевное переживание на лице Эдварда отразилось как раз в ту секунду, когда он узнал, что я жива. Молодой человек мучительно скривил губы в стоне: «О боже!», и этот стон прозвучал как раз очень искренне.
Не успел доктор поставить ногу на первую ступеньку лестницы, как кухарка вернула его назад.
– Знаете, сэр, а ведь я вам не на все вопросы ответила. Ну, на вопрос – видел ли у нас кто-нибудь, как это случилось. Я ведь знаю. Я ведь подавала мастеру Эдварду чашку крепкого чая, и он сидел такой сам не свой, а я и говорю: «Вы ведь все это сами видели!» А он мне в ответ: «Не все, дорогая, далеко не все». А что уж он хотел этим сказать, точно не соображу.
Вооруженный такими данными, доктор Спенсер отправился вниз побеседовать с Эдвардом. Диалог от начала до конца передан в дневнике моего племянника достаточно точно. Есть, однако, несколько важных моментов, прямо из него вытекавших, – автор дневника, конечно, о них не знал, хотя, отдадим ему должное, кое до чего додумался. Доктор, человек очень методичный, позже передал мне записную книжку с несколькими пунктами, которые набросал прямо в процессе разговора, – для дальнейшего дознания:
1. Э. заявил кухарке, что как следует не видел момента аварии (видел «не все»). Мне он сказал, что заметил, как машина исчезает за краем обрыва. На заметку: самому провести «следственный эксперимент» – можно ли наблюдать прямо с луга, как автомобиль уходит в пропасть и скрывается ли он после этого сразу из поля зрения.
2. Э. утверждает, что видел, как машина разбилась о дно Лощины. На заметку: видно ли это оттуда в действительности? Как быстро он мог добраться до места из-за забора? Есть ли следы пролома?
3. Э. показалось: он видел тело своей тети в кустарнике. Что он в действительности мог видеть?
4. Что Э. делал на поле? Кратчайший путь до дома в др. стороне. Там никогда не росли грибы.
5. Осмотреть яблони и терносливы.
6. Почему Э. так задержался со звонком?
Как видите, не прошло и двух часов, а доктор Спенсер нащупал сразу несколько сомнительных мест, разобрался, что к чему, – и этого человека Эдвард самонадеянно смел считать дураком!
Конечно, этим доктор не ограничился. Он мне рассказывал, как сразу же и кропотливейшим образом изучил место преступления и его окрестности. Что касается яблок и тернослив – тут Эдвард не ошибся. Значит, он вправду недавно проходил мимо фруктового сада – именно мимо, а не через него, поскольку тернослив, видимых со стороны луга, на деревьях не было, но на одном дереве глубоко внутри сада, закрытом с внешней стороны, они были! Далее, доктор Спенсер не нашел решительно ничего, что хоть отдаленно, хоть на миг могло напомнить Эдварду гриб. Конечно, листок бумаги уже давно сдуло бы, а игра солнечных бликов в траве – дело обыкновенное. Проверить ее экспериментально, правда, не удалось – к тому времени, когда мой друг заканчивал свои изыскания, на зеленый покров уже наползла тень от холма Ир-Аллт.
В вопросе о том, что он имел возможность увидеть, Эдвард неплохо все продумал. Стоя у забора, он мог наблюдать, как машина переваливается через край обрыва, и сразу после этого действительно потерял бы ее из виду. Однако, если так, почему я его не заметила? Впоследствии доктор Спенсер спрашивал меня об этом, и я решительно не могла припомнить, чтобы видела племянника. Задним числом я очень тщательно прокрутила в голове каждое мгновение перед аварией – и нет, такого не было. Практически безоговорочно. Конечно, из-за сотрясения мозга у меня могло многое вылететь из памяти, и сперва мы с доктором на том и сошлись, но что-то у нас свербело внутри, не давало успокоиться – как теперь известно, правильно свербело, верный след был взят уже тогда. Я бы наверняка заметила Эдварда – если только он специально не пригнулся!
Следующий вопрос: как ему удалось перебраться через забор столь быстро, чтоб успеть прямо к падению машины на дно Лощины? Доктор Спенсер нашел простое объяснение. Там в одном месте ограда была завалена кучей бревен – очевидно, чтобы у Уильямса не разбредался скот. Со временем бревна слегка раскатились и образовали импровизированные ступеньки. Вот только… как все удобно устроилось, как кстати они раскатились, вы не находите?
Оставалось найти причину долгой паузы между происшествием и звонком. Кухарка услышала грохот, вероятно, в тот момент, когда автомобиль стукнулся о дерево или когда уже упал на дно. Скорее – второе, но в любом случае племянник, если ему верить, должен был оказаться на дороге максимум через две секунды после звука. Далее, до телефона он добрался бы ну, минуты через две. Ладно, если заложить в этот отрезок время на беглый осмотр обстановки и подъем собачьего трупа, – пусть четыре. От силы и даже с лихвой. Как бы ни обожал он свою моську, не стал же бы он убивать прорву драгоценного времени на оплакивание пекинеса, в то время как его тетка была по меньшей мере ранена и каждый миг был на счету. Однако кухарка говорит: звонок последовал только через пять-десять минут. Доктор Спенсер все это счел необычным. Эдварду он показался «настырным старым дураком», но вопросы парню задавал весьма уместные, логичные, не так ли?
Естественно, мой лечащий врач решил проверить все свидетельские показания, касавшиеся времени. Кухарка прикидывала наобум: «пять минут», «десять минут». Могла ошибаться. Но тут, как ни странно, нашлась возможность узнать все точнее.
Помните, Эдвард несколько раз отмечал, как быстро приехал доктор? (Кстати, тот и вправду летел сломя голову, подвергая опасности свою жизнь!) Поэтому-то у моего друга и засел в памяти тот факт, что звонок раздался ровно в пять минут пятого. По крайней мере, трубку он положил точно в это время. Значит, начался разговор где-то в 16.03. От силы – в 16.02. Разговаривая с Эдвардом, Спенсер полагал, что катастрофа случилась еще тремя или четырьмя минутами раньше, – по крайней мере, так получалось со слов звонившего. Именно это навело доктора на мысль, что я опаздывала на совещание в лечебнице, назначенное на четыре. Опаздывала всего на минуту или две – ничего примечательного, если бы не моя знаменитая, просто дьявольская пунктуальность. Наверное, многие от нее даже подустали.
Разумеется, Эдвард выдвинул насчет моего мнимого опоздания весьма здравое объяснение. Я, дескать, завозилась с гороховой плетью (а племянник «смотрел на меня со склона холма» вместо того, чтобы помогать, – тоже весьма правдоподобно. Его никогда нет рядом, когда нужно работать). Однако, когда Спенсер в моем присутствии заметил, что я, видимо, задерживалась, это меня так возмутило, что, по его утверждению, даже вызвало новое повышение температуры, чуть ли не рецидив!
Доктор был впечатлен и отправился в город потолковать с Гербертсоном. А Гербертсон, знаете ли, – типичный валлиец. Не только внешностью, манерами, поведением (смуглый, хмурый, скрытный коротышка, колени всегда чуть согнуты – всю юность лазил по холмам), но и характером. Если один раз убедится, что вы его друг и всегда поступите с ним прямо и честно, то в лепешку для вас расшибется при необходимости. Но заденете его, наступите на больную мозоль – тогда всё. Сами станете для него больной мозолью. Эдвард ею, безусловно, стал и навсегда остался (в общем и целом – заслуженно). Именно Гербертсону тот водевиль с бензином доставил самое большое удовольствие.
Когда доктор Спенсер попросил продемонстрировать ему бренные останки моего автомобиля, которые славный малый извлек из Лощины и оттащил к себе в гараж, у того на лице отразилось огромное облегчение.
– Да уж, пожалуйста, сэр, буду рад, очень даже рад показать вам, во что превратилась машина мисс Пауэлл. И очень прошу вас, сэр, самому там все осмотреть, о-очень внимательно осмотреть – а уж потом я вам кое-что покажу.
– Как скажете, Гербертсон. Но почему? Вы же не предполагаете услышать от меня о разбитых машинах что-то, чего сами не знаете? Собственно, меня интересует только одно – встроенные часы на приборной панели.
– Часы? – Гербертсон склонился над искореженной бесформенной грудой металла. – Наверняка их выломало с корнем. Думаете, их можно опять завести?! Да вот они! Смотрите, остановились на без семи четыре. Судя по их виду, не думаю, что они теперь когда-нибудь дойдут до полного часа. Но лучше возьмите их сами, сэр, и покажите мисс Пауэлл.
– Именно так и поступлю. Гербертсон, вы сообщили мне все, что я хотел знать. Однако вы еще что-то собирались мне показать?
Хозяин гаража почесал затылок.
– Вот что, – произнес он наконец. – Кажется, выходит, я сказал вам то, что вам было нужно, но сам не знаю, что вам было нужно. А вы не сделаете то же для меня?
Доктор Спенсер добродушно рассмеялся:
– Договорились, Гербертсон. Но я ведь вам все-таки указал на нечто определенное – часы. А вы мне на что укажете?
Автомеханик помрачнел:
– На тормоза, сэр. На тормоза!
Несколько минут спустя у доктора Спенсера был уже не менее серьезный и озабоченный вид.
– Вы правы, Гербертсон. Ни случайные камушки на дороге, ни что-то другое в этом роде не оставили бы таких ровных порезов. И таких свежих.
– Вот именно. И вот еще послушайте – здесь за отгадкой далеко ходить не надо. Может, я простой работяга, всего лишь управляю Уиннландским гаражом и ничего сверх этого, так что некоторые разборчивые звереныши у меня даже заправляться брезгуют. Но глаза у меня есть, и мозгов тоже хватает.
– Несомненно, Гербертсон, все это так. Прибавьте еще умение держать язык за зубами. Доказательств нет, но если ваша отгадка верна (а ведь вы понимаете: без серьезных подтверждений это всего только догадка), то право решать, как поступить, принадлежит мисс Пауэлл.
Гербертсон показал себя настоящим человеком. Благородным человеком. Как я впоследствии узнала, он искренне считал, что превратится в соучастника, если скроет факты, и что рано или поздно его за такое засадят в тюрьму. Но тем не менее он изъявил готовность оставить дело на усмотрение доктора Спенсера и мое. Почему? Просто потому, что безоговорочно нам доверял.
Глава 3
После таких открытий мой добрый друг счел себя обязанным поделиться ими со мной – тем более что, по его мнению, я уже достаточно оправилась от шока после аварии, чтобы выдержать новый удар.
Естественно, поначалу я отказывалась верить. Никогда в жизни не питала особых иллюзий относительно привязанности Эдварда ко мне, однако одно дело, осознавать черную неблагодарность и отсутствие любви, а другое – поверить, что тебя готовы убить. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что, наверное, держала племянника на слишком коротком поводке. Ну, в своем роде. А в другом роде, наоборот – поводок оказался недостаточно коротким и не сработал.
Мало-помалу доктор Спенсер склонил меня к трезвому изучению улик. Честно говоря, поначалу они показались мне довольно шаткими. Малоубедительными. В сущности, все упиралось лишь в два главных пункта: опоздание со звонком и тормоза. Что касается первого – тут, казалось, должна найтись какая-то простая, естественная причина. Собственно, как теперь известно, она и была. Поистине, вот уж не повезло так не повезло Эдварду: одно-единственное нормальное ощущение – отвращение, вызвавшее у него тошноту, как раз попало в число первых причин, по которым его заподозрили. Поди ж ты. Какая ирония судьбы!
Теперь насчет тормозов. Доктор Спенсер с Гербертсоном были свято уверены в своей версии, но я считала: они торопятся с выводами и принимают домыслы за непреложный факт. В конце концов, разве не мог в автомобильных механизмах сам собой начаться какой-то разрушительный процесс, «запустивший» иссечение тормозных тросов, а аварийная ситуация только завершила дело – они порвались, поэтому-то и выглядят словно перерезанные чьей-то рукой? Вот, например, в Аберквуме имеется канал. Он течет на юг прямо под главной дорогой, а потом на его пути попадается ряд сильно выгнутых горбатых мостов. Эти мостики известны одним характерным свойством. Каждый водитель в округе знает, как осторожно следует их переезжать, поскольку из-за крутизны изгиба противоположная сторона совсем не видна. Мне часто приходилось замечать, как машины с низкой посадкой скребут днищем по верху арочного свода. Так что, возможно, и мне случилось ободрать там тормоза? Это – просто мысль, которую я подбросила сама себе, но авторитетно утверждать, конечно, ничего не могла, так как в отличие от Эдварда в технике не разбираюсь и навскидку не скажу даже, где тормоза находятся. Зато в вопросах автотранспортной безопасности, как показало дальнейшее, я не совсем профан.
Но к черту всю эту бестолковщину и казуистику. Так вот: я никак не могла прийти к определенному заключению, и никакие перечисления подозрительных деталей доктором Спенсером меня не убеждали. Наверное, в глубине души я уже начинала понимать: он прав, но внутри просто сработал классический защитный механизм – не верить тому, чему не хочешь верить. Вскоре судьба подбросила новый ворох доказательств.
Я пришла к логическому выводу, что место, где меня выбросило с трассы, довольно опасное, и распорядилась относительно переделок. Невысокий земляной вал, например, обеспечил бы – со всех точек зрения – невозможность повторения таких происшествий в будущем. Однажды утром я вышла из дому проинспектировать работы: хоть я и глубоко привязана ко всем ллвувллцам (между прочим, очень красивое название, и произносить его совсем не трудно), но работяги, мастеровой народ – они, знаете ли, нуждаются в постоянном надзоре и руководстве. Так вот, я как раз надзирала и руководила, когда ко мне подошел Лливелин Уильямс и сказал, что хочет поговорить наедине.
Я довольно уныло пробрела за ним десяток метров вниз по дороге. Мне хорошо известно, что означает «поговорить наедине». Что сказать? Я не раз и не два помогала ему выпутаться из передряг, и, полагаю, моя чаша добрососедского долга близка к переполнению. Однако речь зашла не об очередном новорожденном, не о штрафе за появление на ярмарке в пьяном виде, не о новой крыше для свинарника и даже не о классическом «взаймы буквально на пару дней». Она зашла об Эдварде.
Предположительно Эдвард опять проломил его забор. Фермер подвел меня к вороху бревен, о котором уже рассказывал доктор Спенсер – что, мол, они могли послужить удобной лесенкой племяннику, когда он спешил полюбоваться, как я со своей машиной лечу в преисподнюю.
– Но я не понимаю, мистер Уильямс. Вы сами видите, что здесь любой человек с легкостью перебрался бы через ограду, не ломая ее. Кстати, судя по следам, кто-то недавно так и сделал. Забор абсолютно прочный и крепкий.
– Так оно и есть, мисс Пауэлл, но вот еще послушайте! Не в этом дело. Забор тут крепкий, вы правы, да только там, откуда этот штабель взят, – совсем наоборот. Не хотелось вас тревожить понапрасну, мисс Пауэлл, но с другой стороны поля, с той, где он лежал, опять осталась брешь. Ту брешь я бревнами и закрыл.
– Откуда же вы знаете, что это тот самый штабель, мистер Уильямс?
– Вот вы еще послушайте! Была брешь. Я ее заложил. Теперь там опять брешь, а ни одного бревна из тех, что я принес, нету. А здесь – та же самая древесина. По крайней мере, очень похожая. И скажите мне теперь – откуда она здесь и зачем она здесь? Видите сами: нужды в ней нет. И так забор крепкий.
В самом деле, он отвалил в сторону распроклятую груду бревен, и за нею оказалась идеально ровная стена ограды.
– Сочувствую вам в связи с очередной брешью, мистер Уильямс. Если у вас есть какие-то основания полагать, что ее проделал мистер Эдвард, я велю ее заделать за свой счет. – В голосе моем, как вы заметили, сквозила некоторая ирония. Я не могла отделаться от мысли, что все это – очередная уловка Уильямса, чтобы переложить на меня свои заботы. Не ждет ли меня «на той стороне поля» колоссальная зияющая каверна, которую и близко невозможно заложить тем объемом древесины, что сейчас лежит у нас под ногами? Увы, фермер сразу доказал, что я на ложном пути.
– Да что там брешь, мисс Пауэлл, из-за нее я бы вас не беспокоил, ее залатать легко. Но я вам хочу доказать, чтобы вы не подумали, будто я просто так болтаю. Вот еще послушайте! Не зря я думаю на мистера Эдварда, это точно.
– Почему?
И тут Уильямс в красках начал описывать мне, как наткнулся на пекинеса, который носился от невидимого, но присутствовавшего на том самом месте Эдварда через дорогу и обратно. И как собачонка удивительным образом нашла печенье у противоположной обочины. И как он, Уильямс, все пытался подружиться с Так-Таком, а через него косвенным образом – с Эдвардом, и как не преуспел – ни в том, ни в другом. Если бы рассказ ограничился только этим, он уже казался бы крайне странным, но фермер, что называется, пошел дальше: мол, он и еще – минимум однажды – видал здесь моего племянника с песиком, а как ему кажется, если на то пошло, то еще два раза, хоть тут нельзя сказать наверняка. Я сразу поняла: речь идет о постоянном полигоне, где Так-Така обучали некоему фокусу, и этот самый фокус он пытался исполнить, когда опрометчиво ринулся мне под колеса. Эта же информация пролила свет на особый интерес Эдварда к фирменным бринмаурским хрустикам. А я-то думала, ему просто недостает лакомств!
Итак. Теперь первым делом надо было пресечь дальнейшее словоизвержение Уильямса. Не самая легкая задача – кем-кем, а молчальником этого джентльмена не назовешь даже в будний день, а уж в праздничный – прошу покорно… Как это лучше сделать, я никак не могла сообразить – ведь фермер явно не желал расставаться с историями о своих подозрениях, а я, в свою очередь, не хотела подать вида, что разделяю их. Опять-таки, если переиграть в беспечность и мнимую «слепоту», он только еще глубже задумается, а подумав хорошенько, захочет поделиться выводами еще бог ведает с кем, и тогда уж точно быть беде. К счастью, мой собеседник разглагольствовал так долго и повторялся так часто, что я успела набросать в голове план спасения.
– Знаете, мистер Уильямс, я догадываюсь, что у вас на уме. Более того, теперь, когда вы все рассказали, мне самой стало ясно. Бедняга мистер Эдвард тоже намекал, что в моей аварии, возможно, виноват один трюк, которому он пытался обучить своего Так-Така. На самом деле, конечно, виноват не трюк, а тормоза машины, уж к ним, – тут мне удалось выдавить смешок, – пекинес точно отношения не имеет. Но мистера Эдварда такая мысль страшно растревожила, буквально лишила сна, и мне только-только удалось его успокоить, поэтому хочу, чтобы все эти глупости были забыты. Кроме того, и доктор Спенсер говорит: для моего здоровья тем полезнее, чем скорее прекратятся всякие разговоры о катастрофе. Так что сделайте мне одолжение, мистер Уильямс. Большое спасибо, что вы все это поведали, сердечно благодарю, но теперь, когда я в курсе, не могли бы вы тоже предать рассказанное забвению и больше ни с кем им не делиться?
Уильямсу было явно тяжело взять на себя такое обязательство – в конечном итоге мне даже пришлось пойти на уступку и позволить фермеру поговорить хотя бы с доктором Спенсером, если уж ему так неймется. Он все настаивал, что мне надлежит быть начеку, держать ухо востро и заботиться о своей безопасности. Версию «несчастного случая» он никак не соглашался проглотить так просто, но наконец, после долгих прений, все же признал: мне виднее или, по крайней мере, нам вместе с доктором Спенсером виднее, и удалился, несколько сбитый с толку, с чувством, как мне кажется, не до конца выполненного долга, но против собственного желания переубежденный. Я чувствовала, что могу на него положиться, – если только душу его снова не разбередит нечто непредвиденное. Но что в этой ситуации точно нужно было сделать, и поскорее, так это решительно ликвидировать жуткий каприз Эдварда – надгробие Так-Така. Если Уильямс о нем узнает – просто взорвется. Не говоря уже о том, что сам Так-Так, пес, по правде говоря, не лишенный вкуса и (почти не сомневаюсь) чувства юмора (во всяком случае, ни один пекинес не позволил бы сделать из себя посмешище), наверняка будет ворочаться в могиле, а возможно, даже бродить по округе призраком, пока ужасный памятник не сроют.
После всего услышанного даже мне стало трудно поддерживать огонь веры в невиновность Эдварда. Естественно, я все передала доктору Спенсеру. При этом случайные отголоски рассказа достигли ушей миссис Спенсер и Джека – к моему большому сожалению. Хотя… Мысль о том, что старые надежные друзья посвящены теперь в мои дела, принесла успокоение. Не знаю уж почему мир так устроен: поделишься несчастьями с ближними – и становится легче, но он устроен именно так.
Тем вечером Спенсеры обедали у нас, и мы вместе обсуждали создавшееся положение, когда Эдвард, как всегда опоздав, вошел весьма некстати. Нельзя не признать, что его появление сразу вызвало напряженность, к тому же Вайолет Спенсер – кто угодно, только не актриса. Неудивительно, что даже мой племянник заметил отчаяние и ужас на ее лице, когда завел за едой разговор о том, как устраивать поджоги.
Впрочем, я тоже хороша. Вынуждена признать: до меня позже, чем до остальных, дошла цель расспросов Эдварда. Бедняга снова решил, что он умнее всех, и снова выдал себя безнадежно, со всеми потрохами. Думаю, Вайолет поняла это первой. Впрочем, быстро сообразили, что к чему, все трое – и сразу начали лихорадочно думать, как реагировать. Вайолет – как я уже сказала, совсем не актриса – просто ушла в себя, замкнулась и приняла такой несчастный вид, что чуть не испортила дело. Джек, которому в прямом смысле пришлось «держать ответ», сперва парировал довольно ловко, и, если бы никто не захотел, несчастный Эдвард так и не добыл бы желанную информацию о том, как разжечь костер.
Но тут вдруг – к крайнему изумлению и Вайолет, и Джека, да и моему – руку помощи ему протянул сам доктор. Я ушам своим не поверила, когда он вдруг вмешался и раздул гаснущее пламя опасной беседы (да простится мне такая, весьма, впрочем, уместная, в настоящем случае метафора). Спенсер подал Джеку прозрачный намек: давай, мол, расскажи Эдварду все, что ему нужно.
– Но зачем вам это понадобилось?! – недоумевала я потом, после обеда. – Если вы сами опасаетесь, что Эдвард замышляет что-то с огнем, зачем давать ему подробные инструкции?
– Затем, моя дорогая леди, что предупрежден – значит вооружен. Затем, что, зная умысел Эдварда – то есть, если он у него есть, а я надеюсь, что нет, – мы сможем предотвратить его осуществление. Затем, что если уж вы решительно отказываетесь сделать то, о чем я вас буквально умоляю, и напрямую разобраться с племянником, то придется нам всем напрягать мозги и все время идти на шаг впереди. Вот я и показал кюбид[48] Джеку. Как выражаются любители контрактного бриджа, пригласил объявить шлем. И по-моему, он его весьма искусно разыграл. Вы не согласны?
– Согласна, согласна, но чего мы достигли? Предположим, мы знаем, что Эдвард собирается где-то когда-то что-то поджечь. Но что? И когда?
– Ну, когда – ясно. Разумеется, он собирается устроить, так сказать, отложенный пожар, чтобы иметь время самому ускользнуть с места событий. Значит, «когда» – это ровно в следующий, максимум второй по счету его отъезд из дома на выходные или хотя бы на одну ночь. Эдвард, знаете ли, не очень хитер и не так уж неуловим. Если мы станем смотреть в оба, то отследим все приготовления. А вот относительно того, что он собирается поджечь… Боюсь, это тоже не тайна. О, прошу вас, не начинайте снова. Нет смысла обманывать себя и отрицать…
– А я отрицаю. Не поверю, что он на такое способен.
– Вы просто неисправимы. Умоляю вас снова: позвольте тогда, я сам им займусь. Мне совсем не нравится неопределенность и тревога ожидания, в которой вам приходится существовать. Я уж не говорю о реальной опасности – а она реальна, даже при условии, что мы начеку. Ну что же, нельзя?
– Нет, нельзя. Если кому-то и придется с ним поговорить, то только мне. Но я постараюсь сдержать его, не прибегая к словам. Знаете ли, после такой беседы жизнь у нас тут станет, мягко говоря, чудно́й, причем независимо от того, призна́ет он вину или нет. Вам так не кажется? Кроме того, пока Эдварду невдомек, как много нам известно, он и дальше будет себя выдавать напропалую, точно как вчера за обедом. А заяви мы о своих подозрениях – сразу затаится. Позвольте, я попробую действовать по-своему. По крайней мере, еще какое-то время.
– Вы смелая женщина, но… – доктор Спенсер грустно улыбнулся, – но, по-моему, еще и безрассудная. Не обижайтесь.
Я не обиделась – что уж там. Положа руку на сердце, он был прав, но решение уже было принято: лишь зорко следить за Эдвардом и проверять справедливость наших догадок. Если они окажутся ложными, никто не обрадуется сильнее меня. Если оправдаются, что ж, я сначала позабочусь о провале его планов, пригрожу обычным порядком «мерами» – даже еще не знаю, какими именно (этот выбор я сделала бы позднее), – и останусь выжидать в надежде, что угрозы отобьют у него охоту к дальнейшим покушениям. Неужели потрясение от второй неудачи подряд не отрезвит его, не вернет на землю? Только этого я страстно и желала. Никакие скандалы не должны больше пятнать репутацию Пауэллов из Бринмаура – отец Эдварда и так уже успел достаточно наследить на этом позорном поприще. Теперь оставалось только одно: любой ценой заставить его сына спокойно обосноваться в усадьбе и продолжить честные семейные традиции – все, вплоть до розовых оконных ставней «кошмарного цвета соуса из анчоусов» (если угодно Эдварду). Кстати, цвет ничуть не кошмарный, а очень приятный.
Очередное происшествие вышло положительно комическим. Он спустился к обеду с видом напыщенно-торжественным – по крайней мере, таким мне этот вид показался. Лицо всегда его выдает – мне заранее понятно, если парень что-то скрывает. Пил он за трапезой, по моим наблюдениям, не больше обычного, но к концу выглядел совершенно наклюкавшимся, так что чуть не сползал под стол. Наконец, сделав всего несколько глотков кофе, после серии чудовищно широких зевков и клевков носом Эдвард удалился в постель. Поначалу я решила, что он просто почел за благо «переспать» ту бессвязную околесицу и чушь, которую, словно в тумане, нес последние полчаса за столом. Но когда, черт возьми, и где ему удалось нализаться? Уж точно не за обедом. Оставалось предположить: он тайно приложился к выпивке перед едой. Пришлось, как в добрые старые времена, напрягать мозги, вычисляя, из какого графинчика сколько и чего именно испарилось в минувшие дни. Поразмыслив, я пришла к заключению: ниоткуда и ничего не пропало. Оставалось предположить, что у Эдварда имелись собственные запасы, а такого я терпеть в доме не собиралась.
Поэтому я произвела поиски, сунула нос всюду, куда следует, и, почти сразу найдя бутылку абсента, подумала было, что докопалась до корня беды. Бутылку, конечно, конфисковала – и, надо сказать, удивилась потом, что Эдвард не поднял из-за нее никакого крика. До сих пор не понимаю почему. Наверное, ему немного стыдно было держать у себя абсент, к тому же не имея к нему особого пристрастия, – может, эти два фактора в совокупности и заставили его промолчать? Так я теперь полагаю. А в тот момент подумала: это потому, что у него где-то есть еще тайник, – и усилила разведывательные мероприятия.
Сознаю, перетряхивать чужие личные вещи в поисках сокрытого спиртного – занятие, недостойное леди, и даже чуточку краснею, когда пишу об этом, но, право же, я считала: так дело оставлять нельзя. Мною овладела идея фикс: Эдварда необходимо контролировать. Пример его деда все еще стоит у меня перед глазами… Чрезмерное употребление алкоголя необходимо пресечь. Пришлось решиться на поступок, еще менее достойный леди. У меня, знаете ли, сохранился ключ от сейфа племянника. Там и был обнаружен мною его дневник, который вы только что прочли, а я прочла уже тогда и с тех пор регулярно перечитывала. Первым делом прояснилась причина неадекватного поведения за обедом: автор принял не излишнюю дозу алкоголя, а «сомнокубик». Ну и словечко!
Знаете, вскоре мне уже не терпелось снова открыть этот безумный документ, чтобы узнать, каким новым удивительным извращениям племянник на сей раз припишет мои поступки. Наибольшее удовольствие от чтения я получила в ходе подготовки пожара и после него – оно дало мне ощущение потрясающей собственной силы и защищенности. Теперь я с легким сердцем могла позволить Эдварду делать все, что он хочет. А сама изящно вела его за нос по извилистой дорожке – чтобы в конце оглушительным ударом огреть по башке.
Я от души веселилась, читая, как доволен собою он был, ловко (ему казалось, что ловко!) уйдя от вопросов Спенсера о времени на часах в разбитой машине. На самом деле слишком складное, словно заранее приготовленное, объяснение только подлило масла в огонь докторских подозрений! В общем, если кое-где на этих страницах очередные нелестные упоминания обо мне самой и заставляли меня ежиться, то все неприятные ощущения с лихвой окупались удовольствием от наблюдений за дьявольскими приготовлениями… Предвосхищая ваш вопрос, заявляю со всей решительностью и прямотой: никогда не читала и не прочту ни одной строчки, ни одного грязного пассажа из французских книг Эдварда. Такого от меня никто не дождется. Я вообще никогда не читала ничего непристойнее дневника моего племянника. Во мне оформилось твердое решение: он должен заплатить за написанное в этом дневнике, и наилучшим способом расплаты, по зрелом размышлении, мне показалось сожжение всех мерзких книжонок.
К сожалению, Эдвард уже сам смирился с такой перспективой. Естественно, он смирился с гибелью книг в огне только вместе с моей гибелью в нем же, а мой план отличался большей скромностью. Увы, тут ему удалось меня переиграть: большую часть макулатуры злоумышленник утащил с собой под предлогом реставрации переплетов и, не сомневаюсь, спас как раз самые пакостные. Кстати, обратно он привез не все – интересно, где бы теперь могли находиться остальные? Лучше их все-таки найти и уничтожить.
Естественно, любой идиот почуял бы неладное в помпезных приготовлениях Эдварда к отъезду. К тому времени, когда он еще и всю одежду упаковал – якобы чтобы сдать в чистку-глажку (тяжкое оскорбление для нас с горничной), а также чтобы пустить пыль в глаза приятелям щеголя Гая Иннза, – в его спальне практически ничего не осталось. Тут даже Мэри заподозрила подвох.
Племянник на самом деле вел себя по отношению к несчастной девушке гораздо более предосудительно, чем вы могли заключить из его записей. Настолько предосудительно, что, наблюдая за грандиозными сборами, бедняжка вбила себе в голову, будто он хочет бежать вместе с ней, увезти ее – а на такое она не пошла бы ни при каких обстоятельствах. Не помню точно, на каком этапе истории Мэри явилась ко мне жаловаться на поведение Эдварда, но рассказ ее звучал правдоподобно и обстоятельно. Я поверила, не колеблясь ни секунды. И соответствующий разговор с ним, как вы заметили, имела, хотя его отчет о нем далеко не полон. Но сейчас о другом.
Однажды я, что называется, чуть не раскололась. Опыты Эдварда, конечно, были неопасны – чистая умора. Клоунский набор покупок из Шрусбери тоже вызывал только смех. Но когда вместо прежнего обыкновения таскаться за километр от усадьбы, чтобы извлечь пользу для своих планов из карьера с гравием или еще откуда, он перенес свою деятельность непосредственно в Бринмаур, это стало выводить из себя. И все же напрасно я откровенно проговорилась, что поняла: это он выбил все пробки, – надо было сыграть дурочку и купиться на его низкопробное представление со щелканьем выключателями: ах, мол, надо же, везде отключился свет! Досадно. Пожалуй, меня тогда спровоцировала его лицемерная забота о моем «старческом зрении». Старческом, поди ж ты! Я все вижу получше большинства молодых, и к тому же не такая уж я старуха.
Глава 4
Дела шли своим чередом до тех пор, пока Эдвард не отправился с визитом к кошмарному Гаю Иннзу – описание этого субъекта самим моим племянником настолько убийственно, что можно ничего не добавлять. Я осталась, так сказать, на сожжение заживо – хотя, положа руку на сердце, не имела ничего против. Слишком уж забавляла меня наша общая комедия, чтобы хоть капельку волноваться.
Проводив взглядом машину Эдварда, я от души похохотала над смятенным состоянием, в каком он должен был сейчас находиться. Предстоявшей ночью меня ждали веселые приключения. Я чувствовала себя в полной безопасности при наличии значительного запаса великолепных новеньких огнетушителей, только что доставленных в глубокой тайне от племянника, – в сущности, для его же блага.
Первым делом предстояло выяснить, что за адскую машину он соорудил. Найти ее было нетрудно – в пустой-то комнате, где не осталось почти ничего, кроме мебели. И неудивительно, что пустой: когда Эдвард отъезжал, его самого практически не было видно за багажом, наваленным в салоне машины. Что ж, мне же легче: покопавшись всего пару минут в ящиках комода, я добралась уже до платяного шкафа, но тут возникла заминка. Запасной ключ к нему, вероятно, отыскался бы в конце концов, но стоило ли затрудняться поисками? И потом, если бы даже я нашла его и открыла гардероб, следовало ли тогда вмешиваться в замысел Эдварда или лучше оставить все как есть? Видите ли, я заранее решила дать огню разгореться – во-первых, чтобы ликвидировать оставшиеся варварские книги, во-вторых – для правдоподобия. Очень хорошо. Однако, если оставить все как есть, мне полночи придется сидеть возле этого дурацкого шкафа. Ведь неизвестно, на какое время племянник назначил свой фейерверк. Наверняка на весьма позднее, ведь для успеха необходимо дождаться, когда и я и все остальные крепко уснут.
Что ж, хотя вообще-то я не любительница особо поздних бдений, но время от времени их можно себе позволить. Тем более у меня как раз имелась книжка, которую надо было дочитать, и доклад для Женского института, который надо было дописать, так почему бы и нет? Собственно, даже если бы я и отыскала ключ, то оставила бы часовой механизм на взводе. Зажженную спичку к взрывному устройству подносить не хотелось – вдруг дело пойдет как-нибудь не так? Переводить, если можно так выразиться, стрелки на другой, более ранний, час в бомбах замедленного действия я тоже не умею. В общем, решила ограничиться перечитыванием инструкций к огнетушителям, а потом выбросить – до нужной поры – всю ерунду из головы. Не могла же я позволить Эдварду завладеть всем временем и пространством моего существования, у меня и другие дела есть.
И конечно, я тут же напрочь забыла о моем глупыше и его каверзах. Просто счастье, что вечерний кофе показался мне чудны́м на вкус, при первом же глотке напомнив о проклятых «кубиках». И все равно, даже после мизерной дозы бороться со сном оказалось адски тяжело. Несколько часов целиком выпали из моего сознания – совершенно не помню, что делала. Окружающие предметы в комнате то подбирались вплотную, одновременно разрастаясь до гигантских размеров, то отступали в безбрежную даль. У меня едва хватило ясности рассудка, чтобы выплеснуть остатки кофе в окно – между прочим, потом под ним обнаружилось несколько погибших сальпиглоссисов[49] – не странно ли? Хотя, может быть, это и совпадение. Так вот, у меня едва хватило ясности рассудка, чтобы выплеснуть кофе и с горем пополам бодрствовать, пока действие лекарства не начало проходить. Прислуга к тому времени уже легла, так что пришлось плестись самой – сначала заваривать себе новый, страшно крепкий кофе, а потом дежурить в спальне Эдварда.
У меня оставалось предостаточно времени, чтобы отобрать литературу для аутодафе. Поначалу я собиралась подойти к делу обстоятельно, но, увы, не вышло. Невозможно жечь книги избирательно, если не желаешь, чтобы их хозяин заподозрил тебя, а открывать карты я была не готова. К тому же Эдварду пришло бы в голову потребовать страхового возмещения, а это повлекло бы за собой расследование, которое, возможно, привело бы к результатам, неудобным в том числе для меня. Я уж не говорю о простой честности. Меня и без того угнетало умолчание в случае с машиной… Нет, если хорошенько подумать, требования страховой выплаты допускать нельзя. Придется, стиснув зубы, просто смириться с потерей купленного на мои деньги гардероба, полок, этажерки, обоев (ну, их-то давно было пора переклеить) …и любым способом предотвратить возможные страховые претензии Эдварда. С великой неохотой я разложила обратно по ящикам все эти отвратительные малиновые рубашки, лиловые и лимонные пижамы, предназначенные для уничтожения. И уселась ждать…
Ждать пришлось ужасающе долго. Доклад был давно закончен, глаза устали читать, а мина все не взрывалась. Неужели Эдвард и механик такой дрянной, что механизм вообще не сработает? Если так, придется мне торчать тут без сна до самого его возвращения! Целую неделю! Я собралась с последними силами и пообещала себе: если в ближайшие полчаса ничего не случится – черт с ним, как-нибудь открою шкаф. Настроение у меня, естественно, испортилось, и я стала строить планы на завтра, злорадно прикидывая, как бы посильнее уязвить и унизить Эдварда. Теперь, когда его подробный отчет об этом унижении лежит у меня на столе, я могу быть собой довольна… Тогда же, сидя у шкафа, я определилась со своими окончательными намерениями относительно племянника.
Все эти размышления заняли еще порядочно времени, поэтому полчаса растянулись на гораздо более долгий отрезок времени. Мыслями я пребывала уже в отдаленном будущем, когда вдруг вздрогнула, расслышав донесшийся из недр гардероба треск. За ним сквозь щели потянулся легкий дымок. Очень скоро по деревянным бокам заиграли языки пламени, и я без труда могла специально направлять их на обои и этажерку поленом из камина, которое притащила как раз для этой цели. На такой риск адреналина мне хватило. Потом, в состоянии уже легкой паники (вынуждена признать), я все же воспользовалась огнетушителем и выключила его, лишь убедившись: огонь полностью потушен. Я успела как раз вовремя, чтобы предотвратить настоящий пожар, однако чертова библиотека при этом, увы, пострадала лишь слегка. Ну да ладно. Что оказалось не под силу адской машине, то вполне по плечу старой доброй кухонной печке. В общем, в постель я отправилась страшно утомленной, но счастливой…
…А на следующее утро попросила завтрак в постель (вообще-то я не одобряю и практически никогда не позволяю себе этого), объяснив Мэри, что долго не могла уснуть из-за маленького возгорания – о, ничего серьезного, совершенно незначительный случай, не стоит обращать внимания. Конечно, пришлось потрудиться, чтобы они с кухаркой не слишком разволновались и не переполошились. В конце концов мне это удалось, после чего все утро ушло на вполне безмятежный отдых. Наверное, проклятый кубик все еще действовал, погружая меня в некоторую вялость, ну что ж, тем лучше: такое мое состояние лишний раз заставит Эдварда поломать голову в тревоге, когда он вернется. Чтобы еще подлить масла в огонь (как уже надоел этот огонь!), я попросила доктора Спенсера нарочно составить телеграмму позагадочнее. Всего несколько слов, а поди ж ты – сочинение этого послания потребовало от нас особой тонкости, знаете ли.
Мне совсем не хотелось, чтобы Эдвард влетел в дом как сумасшедший и выдал себя прислуге, так что я почла за благо перехватить его у главных ворот, но, конечно, не предвидела попытки переехать меня – двойной попытки, так сказать, туда и обратно, – тут уж я совсем, можно сказать, вышла из себя. Уже потом прочла у него в дневнике: он принял меня за привидение, которое бродит вокруг места его предыдущего преступления. Теперь понимаю, что, в общем, у него имелись на то основания (смех, да и только), однако все это мне стало известно лишь недавно. Тогда же – и вплоть до момента, когда начала писать это послесловие, – я думала: речь идет об очередной, на сей раз уже совершенно дикой попытке отправить меня на тот свет. Уверенность в том, что Эдвард решился без оглядки идти напролом, и сподвигла меня на последние, крайние меры. Теперь понимаю: я заблуждалась, ну что ж – жизнь есть жизнь.
В общем, на тот момент я просто сгорала от ярости и почти выдала себя, высмеивая его багаж. Да и намерение ехать в Ллвувлл, честно говоря, просто выдумала.
С этих пор между нами возникло забавное недоразумение, так и не исчезнувшее до самого конца. Я уже приняла решение относительно тех мер, к которым прибегну, если он будет упорствовать в своем безумии, но в то же время пообещала себе и другое: поступить по совести. А именно – предупредить Эдварда самым недвусмысленным образом, что больше никаких глупостей не потерплю. Сейчас, оглядываясь назад, по-прежнему вижу: таковые предупреждения я рассыпа́ла ему, так сказать, в изобилии, – разве что открыто не сообщала, что собираюсь делать. Даже из самого дневника моего племянника видно: предупреждения были вполне очевидными и четкими, могу добавить – даже более очевидными и четкими, чем он пишет. Однако, как ни поразительно, сейчас, когда уже слишком поздно, я думаю: неужели он так ничего и не понял? Не понял, что его дурацкие замыслы были раскрыты?
Тем временем так дело и продолжалось. Я полагала, что он знает, что я знаю, и понимает мои намеки, а он полагал, что я не знаю, и игнорировал мои намеки или делал вид, что игнорирует. Неужели и вправду ничего не понимал? Такой идиот? Неужели хотя бы где-то в самой глубине души не открыл смысла происходящего? Наверное, я отчасти успокаиваю себя такими мыслями, но, право, положа руку на сердце, разве это было трудно?
В общем, я думала – и до сих пор склонна так думать, – что уж когда застала Эдварда за «Британской энциклопедией», до него наконец дошло. Вряд ли он заметил, что случайно загнул краешек страницы, которую читал и которую я благодаря этому сама потом прочла, но ведь это любому стало бы ясно и так! Нет? Естественно, я перепугалась, увидев, что речь идет о ядах. Ужасно неприятная штука – яд, чертовски трудно с ней бороться, и такие болезненные от него, говорят, последствия… Но, ей-богу, я была уверена, что спугнула племянника. Что полностью отвадила его от мысли применить яд. Поэтому, когда он уехал в Лондон, искренне надеялась: вся эта мерзкая история уже позади, можно вздохнуть полной грудью и жить дальше спокойно, не изводя себя постоянными мыслями о том, что еще замышляет этот чертов проказник.
Глава 5
Но пока он находился в отъезде, я что-то опять занервничала. Обратила внимание: в дневнике Эдвард начал допускать умолчания, не так детально писать о своих идеях. А если такая тенденция еще усилится? Я не верила, будто племянник заподозрил или вот-вот заподозрит, что я читаю его записи, но ведь он просто из суеверия может отложить перо, когда осозна́ет: все, что отражается на бумаге, все его задокументированные планы летят в тартарары. А еще вероятнее, ему просто надоест писать…
Пока его не было, я все беспокоилась и беспокоилась по этому поводу, а также из-за того, что мне предпринять в ответ, если Эдвард не уймется, и мне так не хотелось принимать никаких мер, что буквально стало нездоровиться. Наверное, если бы я могла в то время переговорить, посоветоваться с добрым доктором Спенсером, мне сделалось бы лучше, но как-то не хотелось посвящать его в свои замыслы. Пришлось волноваться одной. Пожалуйста, когда вы дочитаете оставшиеся несколько страниц, помните: я была на грани нервного срыва!
Но все же сделала попытку в последний, решительный раз прояснить ситуацию, устроить все так, как, по моему душевно выстраданному мнению, будет лучше для всех. Разумеется, это с моей подачи доктор заговорил с Эдвардом о том, чтобы он сам встал на ноги. В конце концов, сколько молодых людей в этом мире не ухватились бы с радостью за такой шанс, какой предлагала я? Самому выбрать себе дело, профессию, при этом за все твои покупки, по всем твоим счетам платишь не ты, при этом тебе еще обеспечивают солидное содержание, пока ты учишься. Неужели вы скажете, со стороны Эдварда справедливо было отвергнуть все это с язвительной спесью? Сказать что-то презрительное о «Бирмингеме» и «комбинезонах»? Не спорю и соглашаюсь: любая фирма на этом свете, если уж приняла бы его к себе, то постаралась бы привить чувство дисциплины, заставила бы вставать по утрам в приличное время, соблюдать рабочее расписание и вообще делать, что велено. Не спорю и соглашаюсь: ему бы это все наверняка не понравилось, однако разве огромному большинству юношей не приходится пройти через такие «неприятности»? Причем заметьте: ему была предоставлена полная свобода выбора любой карьеры, какая его душе угодна. Он мог поступить куда угодно. В одном Эдвард не ошибся: никто не выдержал бы его и два дня – выгнали бы. Однако… до этого не дошло. Даже если оставить в стороне черную неблагодарность ко мне и моим – весьма ощутимым! – предполагаемым расходам, не ухватиться за такой шанс было верхом глупости. Да что говорить! Эдвард всегда был дураком и недотепой.
Поэтому после прочтения отзыва о моем щедром предложении кровь во мне буквально заклокотала. Значит, по-хорошему не получится. Нет, я ожидала всяких придирок, предварительных замечаний, торговли, но теперь выяснялось, что он вообще не собирается смириться со своей судьбой. Сообщения об очередных приготовлениях к моему хладнокровному умерщвлению на сей раз принесли мне необычайную боль. Не отвратительно ли и вам было бы видеть, как этот юнец спокойно раздумывает и рассуждает о преимуществах одних ядов перед другими? Я читала о сравнительных достоинствах синильной кислоты, креозота, щавелевой кислоты и всего прочего и злилась все больше и больше. Но в то же время и смеялась над дуралеем от души. Например, над тем, чем окончились его несуразные попытки приобрести щавелевые кристаллы, – рождественскими открытками! Чтобы купить их хоть раз в жизни по собственному желанию, он был слишком скареден – хотя, впрочем, вру, однажды он подарил-таки мне открытку. Только одну… Или над тем, как он струсил поставить подпись в регистрационном журнале продажи ядов. Над его серьезными размышлениями о способах изготовления того или иного химиката. Над тем, как он ругался и досадовал, не понимая элементарных научных терминов. Даже над тем, как объелся за обедом. Но вот когда я узнала, что последствия жалкой мести Эдварда могут затронуть бог знает сколько других, ни в чем не повинных, никак не связанных с нашими разногласиями людей, мне стало совсем не смешно. Племянник на всех парах приближался к состоянию безумия, в каковом не поколебался бы отправить на тот свет всех Спенсеров – за то, что мешали ему, кухарку – за то, что его не выносила, Мэри – за то, что отказалась стать его любовницей… Пришлось бы ему убить половину населения Ллвувлла – он остался бы в лучшем случае равнодушен. Всего этого я допустить не могла.
И все же я подала ему еще несколько сигналов, дала последнюю возможность отступиться от сумасшедших намерений, оставила открытой дверь к достойной, честной карьере – ему было нужно только смириться и вступить на путь ее обретения. Но он не вступил.
В то же время хоть я и надеялась, что раскаяние или, если уж я слишком многого прошу, простая предусмотрительность как-то сдержит его, но от легкой безобидной игры в кошки-мышки отказаться не смогла. Вся соль моей шутки заключалась в том, что никакого аконита в саду вообще не было! Даже если бы мне безумно нравилась эта штука, я воздержалась бы от ее выращивания – а она мне не особенно и нравится. Более того, если бы у меня появилась прихоть ее выращивать, я уж как-нибудь знаю: на приусадебных участках принято культивировать не «борца свирепого», а разновидность хоть не совсем безвредную, но гораздо менее смертоносную, чем представлялось Эдварду.
Поэтому я имела возможность без всякого риска изучать «познания» племянника в элементарной ботанике, а также в буквальном смысле вести его «за нос по садовой дорожке» и наслаждаться видом его спины, нывшей от непривычных усилий при прополке. Видеть, как мягкие изнеженные ручки покрываются волдырями при соприкосновении с тяпкой и граблями (между прочим, тогда вечером Эдварду пришлось поработать куда дольше и напряженнее, чем он пишет) – а ради чего? Ведь я ловко и бессовестно надула бедного парня – заслуженной награды за тяжкий труд он так и не получил.
Поначалу я решила: лучше вообще молчать о борце. Чего проще – не упоминать названия кустарника, которого в саду нет. Да и разговор можно было свернуть гораздо раньше, чем мы приблизились к растению, принятому Эдвардом за аконит. (Как уже известно, речь шла о совершенно безобидных аквилегиях, или, если уж вы предпочитаете народные прозвища, – водосборах. Мой племянник описал их не только абсолютно неграмотно с научной точки зрения, но неточно даже с обывательской.) Повторяю, можно было прекратить беседу, просто предложив ему повторить парочку уже выученных названий, а когда ученик запутается (а запутался бы он непременно!), заявить: дескать, я устала и на сегодня ботаники достаточно. Так я и собиралась поступить, а потом заставить Эдварда еще раз-другой хорошенько потрудиться в саду ради мнимых сведений, которых он так жаждал. Но увидела, что парень буквально на последнем издыхании от перенесенных нагрузок, и усомнилась, хватит ли его когда-нибудь еще на подобные испытания.
Тут мне в голову пришла новая, еще более блестящая идея. Сначала я проверила, есть ли у него вообще хоть какие-нибудь познания в садоводстве. Как и предполагалось – никаких. Он радостно проглатывал самые нелепые глупости, любые несообразности. Ничто не мешало мне назвать розу наперстянкой, обыкновенный георгин выспренно окрестить эрикой пепельной, с каковой у него нет ни малейшего сходства, а «на сладкое» изобрести несколько очаровательных видов вроде сколерии, саксифрана и тому подобной чепухи. Эдварду, судя по всему, это очень понравилось. Ну и в конце путешествия просто для смеха – посмотреть, что из этого выйдет, – я заявила, что живокость, он же дельфиниум, он же шпорник садовый, или обыкновенный, – это и есть борец.
Отличная шутка. И полезная. Если бы Эдвард понял, что борцов в саду нет, он попытался бы где-нибудь их раздобыть, купить или, чего доброго, разработать новый гениальный план, что-нибудь, как он выразился бы, «томленное в кипящем масле». Кроме того, видели бы вы лицо племянника в тот момент! Вообще, он выдавал себя гораздо чаще, чем думал, а уж смехотворными вопросами – в первую очередь. Что уж говорить о дальнейших скрытно-хитроумных попытках проверить правильность полученных ботанических сведений – не надула ли я его часом?! Или сказала правду?! Я следила за ним украдкой. Ну и потеха. Поистине, никогда в жизни не встречала человека столь невежественного – а вот поди ж ты, даже у него, как теперь известно, возникли сомнения. Надо же. Я-то полагала, проглотит все и не подавится. Лучше бы ему было просто усвоить: борец принадлежит «к семейству лютиковых», а не забивать голову «соцветиями» и «чашелистиками» – толку вышло бы больше. Некоторые опыты Эдварда выглядели совсем уж чудно́. Похоже, ему думалось так: если выкопать растение из земли, рассмотреть корневища, а потом закопать обратно, оно преспокойно продолжит жить. Вы не поверите, но в короткий срок мой сад лишился всех аквилегий. А также водосборов.
Но как ни веселил меня ботанический идиотизм этого верного ученика «возмужавшего Мосли» – в политике нам было не сойтись, это точно, однако тут он дал бедному сэру Освальду незаслуженно плебейскую характеристику, – кошмарный факт оставался кошмарным фактом: Эдвард так и не отказался от мысли всех нас тут отравить.
Меня к тому же охватили смутные сомнения – будут ли полезны для моего пищеварения корневища аквилегии, водосбора, шпорника и всего остального, что растет в моем саду? А если говорить серьезнее, то, скорее, такие сомнения: когда данный план провалится так же бесславно, как все остальные, откажется ли Эдвард хоть тогда от неравной борьбы с судьбой? А то здоровье у меня тоже не бесконечное.
И вот я решила форсировать события. Надо предоставить Эдварду самый последний шанс одуматься и начать работать. Захочет им воспользоваться – сделаю все от меня зависящее, чтобы ему помочь. Откажется или просто надует губы – попробую заставить. Тут он прав, я хотела его заставить, и мне давно следовало это сделать – хоть отправляться именно в Бирмингем необязательно. Если впервые в жизни у него получится меня ослушаться и он останется в Бринмауре, при этом отказавшись от преступных умыслов, так что все вернется к прежнему порядку, который существовал до его пешей прогулки в Ллвувлл и обратно, – что ж, постараюсь с этим примириться, и мы как-нибудь потрусим по жизни бок о бок дальше. Но если он откажется, надует губы и к тому же – к тому же! – несмотря на последнее страшное предупреждение, продолжит строить козни, я его не пощажу.
Глава 6
И вот наступил час, так сказать, последнего собеседования. Отчет Эдварда о нем не слишком честен. Возможно, и бестактно было с моей стороны приступать к нему с серьезной беседой в то время, когда он собирался поспать, но ведь я никогда не только не одобряла привычки к дневному сну, а даже не помнила о ее существовании. К тому же он сам отрицал, что следует ей регулярно, и, как и многие другие, говорил, что любит иногда отдохнуть, если нет дел. Утверждать же, будто я прочла «монолог, или, скорее, лекцию», мне представляется явным преувеличением. Я всего лишь попыталась подчеркнуть: ему пришла пора поднапрячься и занять более надежное положение в жизни. Даже из проклятого дневника вы сами видели: начала я достаточно мягко. И, кстати говоря, может, фигура у меня и «коренастая», и «нескладная», но ногами я «попирала» не его каминный коврик, а свой! Именно эту деталь племянник всегда упускал из виду, а в ней все дело.
Ну да бог с ним. Эдвард отреагировал на то, что я считала и до сих пор считаю более чем щедрым деловым предложением, как угодно, только не с пониманием. До тех пор мне удавалось сносно владеть собой, хотя, признаюсь, не без труда – разве что, допускаю, тон мой приобрел некоторую резкость, когда прозвучало: «Жду ответа». Я намерена была добиться ответа во что бы то ни стало. Однако непоправимые слова еще не слетели с губ: имела место откровенная прямота, но не «ожесточение» и не «безжалостность», о которых упоминает Эдвард.
Но тут племянник, к моему глубокому удивлению, совершенно взбеленился. Я даже представить себе не могла, сколько ненависти в нем накопилось, и сначала слушала скорее с изумлением. Но постепенно и во мне закипела ярость. Трескучую ахинею насчет рабской зависимости от жалованья еще можно было пропустить мимо ушей, как и глупости об «избавлении от необходимости содержать его» – даже Эдвард в своем ослеплении не мог не признать: в этой ситуации ему предлагалось больше денег, а не меньше! – но грубых выпадов в адрес дражайшего доктора Спенсера, без чьих забот неблагодарный дурак просто не достиг бы зрелого возраста, а также упреков в гибели пекинеса, которого племянник сам швырнул под колеса, чтобы отправить на тот свет меня, – такого я вынести не могла. Прямо по ходу дела созрело решение: раз так, значит, пришло время говорить начистоту – и хотя бы таким образом предостеречь его от саморазрушительного шага к неминуемой гибели. И тогда я, как правильно написал Эдвард, напомнила ему о сплошном безобразии, в которое он превратил и собственное детство, и всю свою дальнейшую жизнь. Поверьте мне, записи племянника отличаются замечательным качеством, вообще свойственным этому автору, – незаметно смягчать все неприглядные стороны своего поведения – в данном случае неприятные обстоятельства его исключения из школы. Тут он достигает особой ловкости в подмене понятий. В общем, по этому пункту, как и по множеству других, я высказалась прямо и – охотно признаю – весьма горячо, но, конечно, не как «торговка рыбой в порту». Всего-то вырвалось одно-два крепких выражения.
И потом, разве я не закончила свою речь открытым, ясным, недвусмысленным предостережением – то есть требованием «вести себя прилично»? На сей раз он не мог не понять, что имеется в виду. Вот и «веди себя прилично». «Или я приму меры».
Но пришлось убедиться: Эдвард явно и цинично отказывается вести себя прилично. И я приняла меры. Что еще оставалось? Нельзя же было просто оставить все как есть. Не только потому, что мне угрожала опасность. Опасность угрожала всему населению Бринмаура и даже Ллвувлла – ведь с Эдварда бы сталось строить все новые планы, и пусть они абсурдны и бессмысленны, но по закону статистики одно из множества нелепых покушений сработало бы рано или поздно. Поделиться своей бедой с окружающими мне тоже было нельзя – в последнюю очередь я соглашусь опозорить благородное имя Пауэллов из Бринмаура. Мы обитаем здесь несколько столетий. Если нам с племянником суждено стать последними в роду, то история семьи ни в коем случае не должна закончиться повешением Эдварда за мое убийство. Даже в лучшем случае, даже если его не осудят, доверить такому человеку нести фамилию дальше в века без моего руководства – немыслимо.
Настало время оставить комментирование грязного дневника Эдварда Пауэлла и добавить лишь то, о чем он, по естественным причинам, написать не мог. Сразу предупрежу: пару деталей придется указать намеренно неточно – так же, как я уже исказила мелкие обстоятельства, имена, топонимы и т. д. при редактировании прочитанных вами записей. В противном случае люди особо пытливого ума получили бы возможность проявить пристальный интерес к тому, что их не касается.
Итак, остаток вечера я провела в мрачном молчании. Эдвард со мной не заговаривал, я тоже оставила всякие усилия. Тем более что мне пришлось уже после этой попытки пережить еще один легкий шок. Как верно заметил племянник, я на долгое время отказалась от ростбифа. Но как раз в тот день перед обедом ко мне явилась Мэри с сообщением: мясник не прислал заказанную баранину – не нашлось у него, видите ли, незамороженной баранины, а вместо нее прислал вырезку, и «он добавил, мадам, что вы, кажется, давненько ее не отведывали, будет вкусно, а Эванс еще утром достал к ней хрен». Оставалось только уповать, что Эдвард об этом не узнает. Я поблагодарила Мэри – надеюсь, вышло достаточно вежливо, – ибо теперь, когда кульминация кризиса, казалось, стремительно приближалась, нервы мои одинаково остро реагировали на любое сообщение.
Той ночью я очень плохо спала – потому, наверное, и вскочила от звонка будильника Эдварда. Несколько минут я пролежала озадаченная: что это за звук? А потом меня осенило.
Я быстро поднялась с кровати и наспех оделась. Украдкой выглянула из-за оконной занавески на чудесный сельский пейзаж валлийско-английского приграничья. Вдали гора Широкая выпрастывала свои лесистые бока из предутреннего тумана. Краешек солнечного диска на моих глазах показался над самой вершиной, в то время как подножья длинных холмов все еще оставались окутаны белой паутинкой, которую ткет по ночам река. Справа, на склоне Ир-Аллта, овечки щипали подстриженную травку, сверкавшую ранней росой. Слева тянулись высокие стволы Фронского леса, его «баки» уже тут и там были подернуты осенью. Такому утру душа должна радоваться. В такое утро хочется жить, оставить все обиды и видеть в каждом ближнем доброго брата. Между тем прямо передо мной на зеленой лужайке топтал подошвами мои клумбы, распугивал моих белых голубей, злобно шикал на любопытных трясогузок Эдвард. И пришел он не за цветами для утреннего букета, а за корешками. Какая прелесть!
По дороге он бросил краткий взгляд на свое окно, и в это мгновение я окончательно убедилась: задуманные мною меры единственно верны и справедливы. Это был взгляд безумца. Наверное, так же смотрел его отец на его мать, перед тем как с обоими случилось таинственное несчастье – никогда я не верила, что это было только «несчастье». Стараясь не выдать себя, я тихонько вылезла из своего окна и залезла в окно Эдварда. Еще через несколько секунд в моих руках оказался дневник. С мрачной радостью прочла я о подготовке к скорому побегу. Потом отправилась в гараж. Знаете, теперь можно сказать честно: я совсем не такая невежа во всем, что касается машин, как представлял себе Эдвард и как я сама тут лукаво признавалась. Маленькие «усовершенствования» в системе управления были произведены точно и успешно. Теперь «Ла-Жуаёз» (терпеть не могу эту кошмарную кличку) поедет таким образом, как пожелаю я.
Настало время зайти на кухню и подождать. Впрочем, первым делом – проверить, не успел ли Эдвард уже перемешать корешки хрена с той ерундой, которую только что накопал. Не удивилась бы, если бы успел: я, конечно, старалась действовать максимально быстро, но долгое ли дело – немного повозиться на кухне. Но оказалось – нет, не успел. Тогда мне это показалось странным: что могло так задержать бедного дуралея? Впоследствии выяснилось: так и не поняв до конца, что именно в саду является борцом, он потратил немало драгоценных минут, собирая гербарий. Вот почему я оказалась на кухне первой. Но уже очень скоро послышалось, как кто-то крадется по коридору, и через мгновение появился племянник – в одной руки снятые с ног ботинки, в другой – черт его знает какая растительная дрянь.
Я решила поймать его с поличным, чтобы как следует напугать. Поэтому дождалась, пока он бросит оба своих пучка в соответствующий лоток, и только после этого показалась из-за маленькой дверцы посудомоечной.
Можете мне поверить – он очень испугался. Подпрыгнул, издал сдавленный крик – хорошо, не разбудил никого из домочадцев – и понесся наутек. Через считаные мгновения Эдвард уже скатился по лестнице – слава богу, мне пришло в голову заняться его машиной раньше, чем схватить преступника за руку, а не после этого. Я осторожно выложила из лотка весь мусор и швырнула в печку. Вскоре послышался хлопок автомобильной дверцы и легкий шорох шин по гравию. С большой поспешностью и легкой грустью я подошла к окну. Моему взору открылся участок трассы перед усадьбой – как раз до того места, где когда-то свалился в Лощину мой старый «Моррис».
Приблизившись к нему, Эдвард потянул руку куда-то к рычагу тормоза или к переключателю скоростей – мне было отчетливо видно его движение. Еще через миг произошло это. Вниз, вниз по отвесному откосу, на дно Лощины – вот куда отправился Эдвард вместе со своей машиной, переворачиваясь и натыкаясь в падении на стволы деревьев. На сей раз авария постигла его. Точку поставил взрыв. Огонь быстро охватил корпус автомобиля. Один из чемоданов взрывной волной выбросило наружу, и он остался совершенно невредим. Остальное – погибло.
Мне остается только одно: дать этим запискам заглавие. Наверное, мой выбор нужно как-то объяснить? Что ж. Ведь в словосочетании «убийство моей тетушки» тетя может быть не только объектом убийства, но и субъектом. Правда?
Убить нелегко
Примечание автора
Само собой разумеется, все персонажи в книге вымышлены. Однако меня слегка беспокоит, что название рекламного агентства «Neo-aD» может походить на действительно существующее. Если такое вдруг случится, следует помнить: подобное совпадение случайно.
Ричард ХаллЧасть I Преступный замысел
Глава 1
У каждого в работе могут быть промахи, наносящие вред бизнесу, всякое бывает, но Пол Спенсер определенно превзошел все разумные пределы.
Сразу дам пояснения относительно нашего бизнеса. Дело в том, что он не совсем обычный и довольно хрупкий. Подорвать его может некомпетентность одного сотрудника, особенно если он занимает ответственный пост и решительно отказывается слушать разумные доводы коллег. В этом случае своими действиями он может свести на нет все результаты их работы, как бы хороши они ни были.
Наш бизнес не связан ни с наукой, ни с производством. Он является двигателем торговли. Да, это реклама. У нас рекламное агентство. Некоторые склонны смотреть на нашу профессию с некоторым презрением. Думают, тоже мне, занятие, да я, если надо, разработаю рекламу любого товара получше, чем они. Глупость, конечно. Так ведь им этого не скажешь – обидятся. Прежде чем делать такие заявления, пусть сначала попробуют. Посмотрим, что получится. Тут жонглирование словами не пройдет, как и пустое повторение расхожих фраз. Нет, в нашем деле важна каждая запятая, это вам не какой-то роман. Там плети, что хочешь, все равно никто не заметит.
Но мало просто написать текст, его еще надо как следует оформить. Только тогда реклама заиграет всеми красками. Для этого нужен художник. У нас он есть, его фамилия Томас. Не ахти какой, но с простой работой справляется. Подбирает нужные шрифты, создает то, что у нас называется макетом. Ну а потом уже мы решаем, что и как. Какой шрифт здесь лучше всего применить и какого размера, взвешиваем все «за» и «против» и в конце концов добиваемся эффективной, привлекающей внимание публики рекламы. Где каждое слово на месте. Поверьте, это не так просто.
Пожалуй, перед тем как пояснить, почему следует избавиться от Пола Спенсера, я вначале расскажу о том, как возникло наше «Агентство». В дальнейшем буду писать это слово с большой буквы и в кавычках, чтобы не путаться с названием. Кстати, придумал его я. «Neo-AD» – «Нео-реклама», в том смысле, что у нас новый подход к этому делу, нестандартный. И слоган тоже я придумал – «МЫ ВСЕГДА НАЧЕКУ». Как, впечатляет? Я довольно долго присматривался к тому, как работают другие рекламные агентства, и понял, что буду действовать иначе. У них совершенно не научный подход, к тому же отсутствует понимание запросов клиентов. Поначалу я собирался попробовать свои способности в одном из существующих агентств, но быстро понял, что с ними не сработаюсь, и создал свое.
Причем сразу же совершил ошибку, полагая, будто для создания фирмы (а «Агентство» я мыслил как фирму) необходим капитал, которого у меня не было. Более того, я думал, что у нас будет много работы с финансами, и пригласил для этого дела Барраклафа. Еще одна ошибка. Теперь-то я знаю: капитал не нужен. Вы можете просто выпустить акции и, включив в балансовую стоимость нематериальные активы, спокойно начать работать. В конце концов, деньги можно занять, так что их отсутствие не повод сидеть без дела. Что касается обязанностей Барраклафа как финансового директора фирмы, то, насколько я понял, ему приходится всего лишь раз в год составлять налоговую декларацию. И за это я вынужден делиться с ним прибылью, которую «Агентство» получает с моей помощью. Отдавать целую треть.
Конечно, у Барраклафа есть определенные обязанности в «Агентстве», раз уж он входит в совет директоров. Это, прежде всего, ведение бухгалтерии, а также заключение договоров с газетами на рекламную площадь. Он также присматривает за имуществом нашего «Агентства». Впрочем, для такой работы можно было нанять служащего за два фунта в неделю.
Должен заметить, что сотрудничество с Барраклафом явилось не единственной моей ошибкой. Еще сильнее я прокололся с Полом Спенсером. Да, конечно, у меня есть оправдания. Я умел создавать рекламу, но для процветания «Агентства» этого недостаточно. Надо еще иметь клиентов, заказывающих эту рекламу. Значит, нужен человек, ищущий заказы. И не просто ищущий, но и продвигающий мои рекламные идеи, чтобы заказчикам они понравились и они выбрали наше «Агентство», а не другое.
Потом ему надлежало не прерывать с этими людьми связь, время от времени приглашать на ланч директора фирмы или менеджеров по продажам. В общем, не давать нас забыть. У меня на такие дела времени нет, его едва хватает на творчество, но можно подобрать энергичного, внешне привлекательного и достаточно тактичного сотрудника. Что я и сделал. Признаюсь, поначалу мне показалось, что Спенсер вполне для этого подходит.
Мы были знакомы некоторое время. Пол – симпатичный блондин, правда, слегка полноватый, но это придавало ему вид добряка (вскоре выяснилось, что в этом я ошибался), и он казался мне полным сил и энергии. Мне было известно, что он слегка грубоват и не переносит, когда ему перечат, но это тогда представлялось скорее достоинством, чем недостатком. Уж он-то, думал я, вцепится зубами в заказ и обязательно его нам притащит, чего бы это ни стоило. Вот таким я видел Пола Спенсера.
Впрочем, насчет его энергии я оказался прав. Это, конечно, помогало работе, но он был несдержан и не способен сохранить клиента. Рано или поздно обязательно с ним ссорился, причем обычно «рано», а донести должным образом мои идеи вообще не мог. Если их изложить как следует, так за них любой клиент ухватится, а Спенсер не только возвращался ни с чем, но и делал клиента чуть ли не врагом. Мало того, он иногда вмешивался в мою работу, внося дурацкие предложения. Тут у меня просто руки опускались.
Когда мы организовали «Агентство», подразумевалось, что наши области работы разграничены. Спенсеру надлежало искать заказы, мне – их выполнять, а Барраклафу по мере возможности заниматься офисными делами и бухгалтерией. Мне и в голову не приходило, что Спенсер начнет придумывать рекламу, а мне придется искать заказчиков. В общем, с первых дней все перемешалось. Из-за Спенсера. Первое время я выслушивал всю его чушь с завидным терпением, но вскоре оно начало истощаться. Если вам предлагают что-то разумное, то тут можно указывать на какие-то недочеты, но с откровенной глупостью спорить невозможно. Так что противостоять его дилетантским предложениям мне становилось все труднее и труднее, увы, по части напористости ему не было равных. С этим можно было бы как-то примириться, если бы в его предложениях содержалось действительно что-то дельное, а не пустая болтовня. При этом убедить его заниматься своими делами не представлялось никакой возможности.
– Дорогой Латимер! – воскликнул он, когда я впервые заговорил об этом. – А в чем же еще заключается моя работа?
Вот сейчас, когда я пишу эти слова, в ушах отчетливо звучит его наглый, уверенный голос. Спенсер, разумеется, пытался вывести меня из себя. Это был его излюбленный прием, поскольку он прекрасно знал, что я терпеть не могу фразы, начинающиеся с «дорогой Латимер». Обычно он называл меня по имени, Николас, а фамилию использовал, только когда хотел разозлить. Однако я был настроен на мирный лад и вместо того, чтобы прямо указать ему на место, спросил, почему он считает это своей работой.
– Разве мы с самого начала не договорились, что ты должен заниматься заказами? Обеспечивать «Агентство» работой. И за это получать третью часть прибыли.
По выражению его лица я понял, что последнее замечание пришлось ему не по вкусу. Спенсер, видимо, уже тогда осознавал, что таких денег не заслуживает.
Однако препирательств мои слова не остановили. Он лишь слегка покраснел и, притворившись, что не понимает о чем идет речь, продолжил:
– Вот-вот, я заинтересован, чтобы эта треть была как можно больше. Именно поэтому забочусь о том, что мне предстоит показать в офисе «Пена-люкс» (мы как раз говорили об этой фирме, выпускающей пену для ванн), и убедить их заказать нам рекламу.
– Полностью с тобой согласен, – сказал я, – но боюсь, ты не до конца понял, что это мое дело создавать образцы рекламы, которые ты будешь им показывать.
– Ты действительно считаешь, что мне достаточно будет им это показать, и все, победа обеспечена?
Я пожал плечами. Вот таков был Пол Спенсер. Груб и прямолинеен, как всегда. Намекает на мою самонадеянность. Разве это справедливо?
Заметив, что перегнул палку, он смягчился:
– Позволь мне объяснить так, чтобы все было понятно. Ты постоянно мне твердишь – и я прислушиваюсь к твоим словам, – что хорошая реклама у тебя получится, только когда ты будешь уверен в качестве товара. Что ж, это справедливо. Но и я считаю так же. Мне тоже для того, чтобы убедить потенциального клиента сделать заказ, необходима уверенность в качестве предлагаемой рекламы. Я не могу пойти к старине Макнейру и продать ему твой слоган «Вкусите сладость ванны с «Пеной-люкс» и ощутите наслаждение и радость». Не могу, хоть убей. Потому что это длинно, неинтересно и скучно. Извини, но я не уверен в качестве товара. – Он помолчал, а затем добавил без тени сожаления: – Вот такое дело, понимаешь.
Надо отдать мне должное, я тогда сдержался и не бросился на него, хотя меня переполняла ярость. Мы так и остались каждый при своем. Спенсер, представьте себе, категорически отказался идти в «Пену-люкс» с моим, как он выразился «некачественным товаром», а я, что естественно, отказался писать другой слоган, не желая становиться мишенью его невежественной критики, требуя, чтобы он попытался продать этот. А его наверняка бы взяли. Я рекомендовал поместить свою рекламу с этим слоганом в женском журнале, а то и во всех сразу. Например, «Женская красота», «Уютный дом», «Женский журнал». Была еще пара журналов, таких, как «Ройал». В любом из них моя реклама смотрелась бы замечательно. Барраклаф уже подсчитал прибыль. Неплохо получалось.
Но поскольку Спенсер отказывался нести мою рекламу в фирму, то шансов, что она где-нибудь появится, не было. Спустя пару недель мне пришла в голову мысль отправить в фирму письмо с материалом и выражением сожаления, что мистер Спенсер принести рекламу сейчас не в состоянии. Он простудился и лежит в постели.
Вскоре письмо вернулось без комментариев, а потом я узнал, что накануне получения моего письма в фирме побывал Спенсер и сообщил, что я дорабатываю рекламу, потому что данным вариантом недоволен, и попросил Макнейра подождать еще неделю. Тот, конечно, сказал, что ему нужна реклама немедленно и он больше ждать не может.
Мне довольно часто попадается на глаза реклама «Пены-люкс». Она помещена на видном месте в ежедневных газетах, в основном в «Скетче» и «Миррор». Это, конечно, не хуже женских журналов, но сама реклама удручает.
На этом месте могла быть моя, если бы не упрямство Спенсера.
Глава 2
Разумеется, после этого наши отношения обострились. Правда, раскола пока не возникло. Со стороны все выглядело как обычно. Иначе и быть не могло. Ведь мы делали общее дело и много времени проводили вместе, так что волей-неволей приходилось сохранять видимость согласия.
Но, естественно, я об этой истории не забыл и каждый раз, увидев рекламу «Пены-люкс», вспоминал о провале Спенсера и очень хотел исправить эти убогие тексты. Просто руки чесались. Должен заметить, я вообще-то не обидчив, но если уж достанут, то обиды не прощаю.
Впрочем, работы хватало, так что я был постоянно занят. И не всегда приходилось сидеть в офисе, нередко я оставался дома. Здесь легче думалось, и мне, как творческому работнику, было известно, что, стоит только сосредоточиться на количестве, обязательно проиграешь в качестве.
Рутина в мои обязанности не входила, и мне всегда было жаль смотреть на Барраклафа, переживающего о том, чтобы успеть вовремя сдать материалы в журнал. Его нельзя было убедить, что любые бумаги могут подождать день-два, ничего с ними не случится. Слишком уж суетлив Барраклаф. Я заметил, что у людей, связанных с цифрами, очень узкий кругозор, и любое письменное предписание с требованием представить такие-то материалы к такому-то сроку приводит их в трепет. Иными словами, они рабы часов и календаря. Я тешу себя надеждой, что, будучи творцом, стою выше этого педантизма.
Но если Барраклаф раздражает меня, как звенящий по утрам будильник (а он, кстати, такой и есть, когда постоянно напоминает, что макеты для «Аптекаря и фармацевта» должны быть готовы к двадцатому числу каждого месяца и тем отрывает меня от создания качественных произведений), Спенсер то и дело норовит свалить на меня дополнительную работу. Думаю, он в душе надеется, что сможет этим заставить меня забыть историю с «Пеной-люкс». Не понимает, что на меня давить бесполезно. Ничего не получится.
Это случилось через несколько недель после тех событий. Спенсер явился ко мне с предложениями, отпечатанными на машинке. Три или четыре листа. Он уже надоел со своими выходками. Вместо того чтобы прийти и просто что-то сказать, все приносит в письменном виде. В результате я не могу дождаться, когда мисс Уиндем отпечатает что-то для меня. Ему, видите ли, важно быть уверенным, что на этот раз я не забуду, о чем он говорил. Плюс эта его насмешливая улыбка. Просто хамство какое-то. При том, что я никогда ничего относящегося к делу не забываю. Ну, может быть, один раз такое случилось. И это утверждает Спенсер, а я до сих пор не уверен, что он мне вообще что-то говорил.
Впрочем, это к делу не относится, память у меня – любой позавидует.
Теперь о записке. Она была посвящена компании, якобы занимающейся производством консервов в Грейфилдсе.
– Что за Грейфилдс? – поинтересовался я. – Где это?
– Ну, в Эссексе, – ответил он. – Тебе-то какая разница.
– Представь себе, мне это важно, – сказал я, кладя его бумаги на стол.
– Надеюсь, ты не будешь тянуть и сразу прочтешь мои записи, – проговорил он.
Я деловито вытащил блокнот и сделал несколько заметок, бормоча под нос:
– Значит, Грейфилдс… где-то в Эссексе… хорошо… – Затем поднял глаза: – Все в порядке. Видишь, я приготовил блокнот, куда запишу все возникшие вопросы и замечания. Мы это обсудим потом, а пока я занят.
– Перестань прикидываться! – воскликнул он. – Когда я вошел, ты просто дремал.
К сожалению, у меня на столе не было бумаг, а приход Пола Спенсера настолько выбил меня из колеи, что я совершенно забыл, о чем только что размышлял. Кажется, у меня на уме был какой-то оригинальный план о том, как наладить связь со сравнительно небольшими предприятиями, которые подавали надежды стать крупными, но боюсь, что уже никогда не вспомню, что я придумал.
Хочешь не хочешь, пришлось начать читать его писанину. Какие-то люди задумали начать производство консервов где-то в Эссексе, в каком-то его захолустье. Ничего там еще не было, одни планы на будущее, но Спенсер был настолько убежден в их успехе, что требовал немедленных действий. Например, чтобы Барраклаф сделал для них кое-какие расчеты с оценкой степени риска и размеров необходимых капиталовложений, а также ожидаемой прибыли с каждой банки. Затем он даст рекомендации, какую часть прибыли они могут потратить на рекламу каждого продукта в отдельности – клубнику, фасоль, картофель и так далее, а также какой продукт сделать фирменным.
В принципе с этим можно было бы согласиться, и Барраклаф мог бы заняться расчетами, делать ему все равно нечего, но Спенсер этим не ограничился и предложил мне разработать рекламную кампанию.
Прочитав последнюю строчку, я рассмеялся. Не смог удержаться.
– Я вижу, ты нашел здесь что-то смешное. Какая-то забавная опечатка?
– Нет, – ответил я, решив не ходить вокруг да около. – Мне забавным показалось твое предложение ни с того ни с сего начать разработку рекламной кампании. Ты не хуже меня понимаешь, что это, мягко говоря, преждевременно.
– Так я не имел в виду готовый вариант, – заметил он. – Только предварительные наброски, чтобы показать им наши возможности.
– Но я не понимаю зачем?
– А что тут понимать, Николас? – воскликнул Спенсер. – Реклама консервов – это же проще простого. Красивые картинки с симпатичной клубникой, сочными сладкими сливами и связками пастернака, орошенными утренней росой.
Как это было похоже на Спенсера – взять и сунуть рядом с клубникой и сливами пастернак. Тупица, что с него возьмешь.
– Ну, предположим, мы изобразили все эти картинки, – сказал я. – А потом окажется, что пастернаком они вообще заниматься не собираются.
– Хорошо, оставим пастернак. Но зеленый горошек выпускает любая консервная фабрика.
– Вот именно, – подхватил вошедший Барраклаф, – зеленый горошек производят где угодно. Весь рынок им заполнен. Не думаю, что новичку удастся пробиться.
– С достойной рекламой, думаю, пробьется. В этом все и дело. Потому что первые два года без серьезной рекламы им не обойтись. И ты мог бы сделать для них нужные расчеты, а Николас покажет свои красивые картинки.
– Боюсь, они откажутся начинать дело, когда узнают, сколько им предстоит потратить, – отозвался Барраклаф.
– А это уже от тебя зависит, какие цифры написать. Для начала, думаю, можно ограничиться пятью тысячами фунтов в год. Предлагаю тебе в расчетах отталкиваться от этой суммы.
Барраклаф кивнул:
– Я понял. Задаюсь конечным результатом и двигаюсь к началу. Это должно их сильно воодушевить.
Мне не очень нравятся шутки Барраклафа, но тут я был с ним согласен.
– А я тем временем буду заниматься красивыми, как ты их назвал, картинками, совершенно не понимая, что к чему, – заметил я, пытаясь вернуть разговор в серьезное русло.
– А что еще нужно знать? О том, какие они собираются производить консервы, тебе скажут, а дальше садись и работай.
– Мне много чего нужно знать, – ответил я. – И самое главное, есть ли у них действительно деньги на сырье. На фрукты, овощи, птицу, если возьмутся производить куриные консервы на экспорт. – Я полистал его записи. – Мне интересно, как они намерены торговать – через оптовиков, непосредственно сами, по почте…
– Тут все написано, надо только взять на себя труд внимательно прочесть. А что касается почты, дорогой Латимер, то сомневаюсь, чтобы ты когда-нибудь слышал о таком способе торговли консервами.
– Это я сказал для примера. И еще мне хотелось бы знать, учитывают ли твои знакомые конкуренцию на рынке? Как они собираются действовать? В чем состоит их торговая политика? Потому что – извини, что напоминаю об очевидном, – без этого грамотную рекламную кампанию провести невозможно.
Спенсер принялся беспокойно переминаться с ноги на ногу.
– Зачем сейчас, на этом этапе, вникать во все детали? Дай вначале общую картину.
– Так не получится, – ответил я. – Для общей картины нужны подробности. Научный подход в рекламе как раз и предусматривает движение от частного к общему. Поэтому тут без деталей не обойтись. Рекламодатели любят, чтобы им все преподнесли на блюдечке. Да ты и сам это прекрасно знаешь.
– От тебя. Потому что ты постоянно твердишь об этом.
– Приходится повторять, потому что это важно.
Наверное, последнюю фразу я произнес излишне резко, потому что Пол определенно разозлился, и Барраклаф решил вмешаться с присущей ему тактичностью. У него это всегда получается так неуклюже.
– Разве не видно, что Латимер тебя не понимает? Объясни ему, чего ты от него хочешь.
– Мне не нужно ничего объяснять, – сказал я. – Дело не в этом. И, пожалуйста, не подумайте, будто я не хочу браться за эту работу, потому что бездельник.
– Может быть, ему и в самом деле не следует заранее разрабатывать рекламу, которая не понадобится? – невозмутимо продолжил Барраклаф. – К тому же все эти картинки стоят денег.
– Ну вот, опять завел свою волынку о деньгах, – проворчал Спенсер. – Неужели, чтобы вырваться вперед, мы не можем потратить несколько фунтов? Иногда, знаете ли, стоит рискнуть малым ради большего.
Я заметил, как Барраклаф вздрогнул. Он находился в постоянной тревоге за состояние финансов «Агентства» и по опыту знал, что подобные риски дорого обходятся.
– Да, – подхватил я, – к тому же это большее пока не появилось.
– И ты туда же, Николас. – Пол неожиданно заулыбался. У него было поразительное свойство в одну секунду подавлять в себе злость и становиться добродушным. – Лучше послушай, о чем я толкую. Мне удалось наладить с этими людьми неплохой контакт, и я уверен – со временем они создадут весьма прибыльное предприятие. И конечно, им понадобится солидная реклама. Как только они заявят о себе, за ними сразу начнут гоняться рекламные агенты. А мы уже тут как тут. Понимаешь?
– А если у них ничего не получится?
– Получится. – Он махнул рукой. – Обязательно получится. Денег у них хватает. Думаю, эта подробность вас обоих немного приободрит. Так что давайте попробуем. Для начала я хотел бы иметь рекламные макеты нескольких видов консервов в разных стилях.
– Премного благодарен, – отозвался я.
– Я имею в виду этикетки для банок, – продолжил он, не обращая внимания на мои слова, – образцы торговых марок, небольшие рекламные плакаты. Подготовительная работа перед началом чего-то серьезного, о чем упоминал Николас.
– Значит, этикетки, торговые марки, рекламные плакаты, – а ты представляешь, сколько с этим будет возни?
– Много, не сомневаюсь. Но если на то пошло, ты не так уж завален работой. Можно и заняться чем-нибудь полезным, чем просто так сидеть без дела. А что касается расходов, – он повернулся к Барраклафу, – то никого со стороны приглашать не надо. Со всем прекрасно справится Томас. Сделает эскизы и прикинет, как все будет выглядеть в окончательном виде.
К моему неудовольствию, Барраклаф начал сдавать позиции, но лично я не собирался соглашаться с этой сумасбродной идеей.
– Выходит, место рекламных агентов в этой фирме нам обеспечено, – произнес я спокойно. – Надо лишь проделать всю эту работу. И с оплатой, полагаю, тоже проблем не будет?
Барраклаф моментально оживился:
– Но, насколько я понимаю, фирмы как таковой еще не существует. О каком же контракте может идти речь? Юридические нормы…
Спенсер его остановил:
– Да заплатят они нам, заплатят, если им понравится наш материал. Но не за кота в мешке.
– Ах вот как! – воскликнул я. – Они, значит, не собираются покупать кота в мешке, а мне ты его предлагаешь. Нет, пока у них все не прояснится, я категорически отказываюсь тратить время Томаса и свое тоже. Кроме того, ты прекрасно знаешь, что Институт[50] не одобряет подготовку рекламы без заказа.
– Но так не честно, Николас. Обычно ты склонен игнорировать правила Института рекламных агентств, а когда тебе удобно, как, например, сейчас, вдруг ссылаешься на него.
– Это потому, что они иногда говорят дельные вещи. В частности, по поводу этого случая.
– Да что ты в самом деле такой упрямый! – вскипел Спенсер. Он был зол как тысяча чертей. – Тебе предлагают дело, а ты находишь формальные причины его отвергнуть. И если бы за этим действительно что-то стояло, а то ведь обыкновенная лень, нежелание пошевелить рукой. Контракт с «Пеной-люкс» мы с твоей помощью тогда успешно прошляпили, с этим будет то же самое.
– С моей помощью, говоришь? Что за чушь! Разве не ты отказался выполнить пустяковую работу, которую обязан был сделать? Просто из вредности. А я чуть не плачу каждый раз, когда мне на глаза попадается тот материал, который ты проигнорировал.
– Тогда мы не ставили условий: сначала заключение контракта и только потом начало работы. Платить за твои каракули заранее никто не собирался. Все дело в том, что идея исходит от меня. Для возражений у тебя есть две причины, и первая – это я. Любое мое предложение ты встречаешь в штыки. Вторая – твоя лень. Только это, что бы ты тут ни плел.
– Вот и прекрасно. Сегодняшнее утро мы из-за тебя потеряли, и дальше в таком тоне продолжать разговор не имеет смысла. – Я устало вздохнул и встал, с достоинством надевая шляпу. – Пора на ланч. Может быть, спустя какое-то время ты образумишься и мы поговорим более продуктивно.
Спенсер многозначительно посмотрел на часы. Была половина первого, а я как раз сегодня пришел в офис чуть позже обычного. Но, во-первых, это из-за него я все утро ничего не делал, а во-вторых, как известно, у меня рабочий день не нормирован. Прихожу и ухожу, когда пожелаю.
Глава 3
Думаю, уже понятно – с таким отвратительным типом, как Пол Спенсер, работать не-воз-мо-жно. Неотесанный, бестактный, самонадеянный и чванливый – вот такие определения приходят на ум, стоит только подумать о нем. Но меня особенно раздражают два его качества. Впрочем, они вообще вряд ли кому-то понравятся.
Первое – это свойство менять окраску, как хамелеон. Поясню: он может в одну секунду выйти из себя, сорваться, а в следующую успокоиться и быть милейшим человеком. Но расслабляться нельзя. Очень скоро Пол может вас снова обидеть. И так происходит снова и снова. Причем от других он ожидает сдержанности. Я эти фокусы не раз испытывал на себе.
Второе его качество раздражает меня еще сильнее. Это стремление всегда быть правым. Типичным примером может служить мое замечание относительно Института рекламных агентств. Я совершенно верно заметил, что в Институте не одобряют практику подготовки рекламы без соответствующего заказа. Это подрывает престиж нашей профессии. Там считают, и совершенно справедливо, что начинать работу надо лишь в полной уверенности, что за нее заплатят.
И в самом деле, разве вам не показалось бы странным, если бы на пороге вашего дома вдруг появился адвокат и заявил, что у него есть для вас почти готовое завещание, на случай если вы захотите его составить? Извольте ознакомиться. А что, если приглашенный бухгалтер придет к вам в фирму с уже готовым балансовым отчетом или заранее составленной налоговой декларацией?
Впрочем, обстоятельства могут сложиться по-разному, и потому надо всегда придерживаться здравого смысла, а не слепо следовать указаниям Института. В случае с этой еще не существующей консервной фабрикой рекомендации Института были вполне уместны, а когда речь шла о «Пене-люкс», можно было поступить иначе. Но Пол Спенсер все повернул так, будто я во всем виноват, а он, естественно, прав. Это не может не раздражать.
В общем, тут и размышлять нечего – работать с Полом Спенсером чрезвычайно трудно. Но тогда я еще был далек от вывода, к которому в конце концов пришел. К этому меня подтолкнул сам Пол, став совершенно невыносимым.
В тот день я расстроился настолько, что работать просто не мог и решил прогуляться по парку. Я шел и перебирал способы, с помощью которых можно было бы от него избавиться.
Первое, что пришло на ум и одновременно самое простое, было созвать общее собрание «Агентства», которое вынесет решение вывести его из совета директоров. Тут мне потребуется поддержка Барраклафа. Умом он не богат, но убедить его можно, если попасть под настроение.
Но возможно, придется придумывать что-то другое. Потому что этот человек невыносимо глуп и упрям, и неизвестно, что ему взбредет в голову. Например, Барраклаф решит, что так поступать со Спенсером нечестно. Хвататься за такие старомодные понятия вполне в его духе. В тот момент я ничего путного не мог вспомнить, но был уверен, что решу этот вопрос в ближайшее время. Между делом подумалось о том, что неплохо бы выкупить долю Спенсера, но денег на это у меня не было, так что нечего и мечтать. Хотя… если взять кредит в банке… Говорят, в некоторых денег столько, что они не знают, куда их девать… Я поразмышлял с минуту и решил, что договориться с Барраклафом будет проще.
К сожалению, на следующее утро я застал его в обычном тревожном настроении. Наш старый клиент, Энрикес, для которого мы уже довольно давно давали одну и ту же рекламу в провинциальной прессе, вполне приличную, должен сказать, вдруг почему-то потребовал ее изменить. Просто так, без всякой причины, видно, старая надоела. Энрикес решил, что с новой у него дела пойдут лучше.
В любом случае умной эту затею назвать было трудно. Но и я тоже хорош, сразу согласился – не откажешь, Энрикес был одним из наших основных заказчиков.
Как раз в тот день, когда Спенсер заявился со своими прожектами по поводу консервной фабрики, я собирался поработать над новой рекламой для Энрикеса, но этот идиот меня так расстроил, что я совершенно забыл об Энрикесе. И после этого он смеет заявлять, что я маюсь от безделья. Как можно отвлекать от работы человека, являющегося мозгом предприятия.
В общем, работа для Энрикеса не была сделана, а время поджимало, и потому в то утро Барраклаф пребывал, как я уже упомянул, в весьма взвинченном состоянии. Он даже накануне пытался мне позвонить, но мы как-то с ним разминулись, так что, когда я наконец пришел, он тут же заговорил об этой работе. Я принялся винить во всем Спенсера, что это из-за него реклама до сих пор не готова, но Барраклаф отказывался слушать. Без конца повторял, чтобы я немедленно принимался за новую рекламу.
Ничего не поделаешь, если я хочу заручиться его поддержкой, лучше не перечить. Так что, хотя спешка меня раздражает, я сел, намереваясь что-нибудь быстренько придумать. Можно было сразу поручить Томасу сделать небольшой эскиз, ведь время поджимало.
Я сказал об этом Барраклафу, и тот обрадовался. Ну понятно – есть формальная причина выиграть время, потому что создать рекламный макет дело не простое. Тут и шрифт надо подобрать соответствующий, и слова расположить в нужном порядке. Если одна и та же реклама размещается в разных газетах, то изготавливают так называемые стереотипы, копии форм высокой печати. Это уже подробности, которые мало кому интересны.
Признаюсь, мне нравится работать над рекламными макетами. Необычные шрифты и все такое, но иногда в газетах, особенно небольших, нет того, что мне нужно. Приходится заказывать отдельно, а это стоит денег, и Барраклаф, который стремится экономить буквально на всем, требует от меня перестать оригинальничать и уговаривает заказчиков соглашаться на простые варианты.
Что касается Энрикеса, то он предпочитал для своих магазинов одежды и тканей стандартную рекламу и потому никогда не соглашался на нешаблонные решения, считая расходы на это неоправданными. Полагал, что лучше менять рекламу чуть ли не каждую неделю. Чудак.
Таким образом, мое решение повременить с созданием макета хотя бы неделю доставило старине Барраклафу огромное удовольствие. А я с воодушевлением принялся за дело, надеясь создать что-нибудь выдающееся. Это было особенно необходимо, поскольку Энрикес экономил на технических средствах.
Но блеснуть в спешке как-то не получалось. До сих пор мы давали слоган «Превосходно сшитое превосходно сидит», и дальше развивалась мысль о сравнении с великолепием Сэвил-Роу и роскошью Бонд-стрит[51]. Теперь надо было искать другой подход. Первое, что пришло в голову: «Модные новинки из Лондона для…» – и дальше указать город, где находится магазин, – Кентербери и остальные, там много названий, все не упомнишь.
Этот вариант привлекал меня универсальностью, но отталкивал некоторым высокомерием и излишней вычурностью. Так что я решил поиграть с темой сексуальности – она сейчас была весьма популярна. «Наденьте платье от Энрикеса, и Он ваш», что-то в таком духе. Попробовал зарифмовать слово «оборки», но застрял. Ничего интересного в голову не приходило. Да и чего это ради я ухватился за оборки? Кому они нужны? Трудность состояла в том, что мне было неизвестно, на что делать упор. На нижнее белье или верхнюю одежду.
В конце концов я решил не рисковать и начать слоган со слов «А теперь…». Например, «А теперь позвольте представить вам новинку – шляпка от…» и так далее. Может, и пойдет, если оформить должным образом. Я отдал этот вариант Томасу, чтобы он подобрал оригинальные шрифты, привлекающие внимание. Барраклаф должен быть доволен. Энрикесу это, наверное, обойдется дешевле, чем типографский набор.
Воодушевившись, я продолжил в том же духе. «Что может ярче подчеркнуть вашу привлекательность, – это слово надо дать крупнее и курсивом, – чем новая шляпка. В великолепном магазине-салоне «Энрикес» в… – тут пропуск с указанием, где это все находится, – вы найдете фантастическую коллекцию самых последних моделей из Лондона и Парижа». Я выделил «Париж», затем подумал и выделил также «Лондон». Неизвестно, какая из столиц больше впечатлит жен фермеров, молодых фабричных работниц и служащих офисов из глубинки графства Кент. Кого-то очарует Париж, а другие побоятся выглядеть француженками. Наверное, такая реклама должна привлечь тех, кто помоложе. В общем, своей работой я остался доволен. Особенно мне понравилось слово «фантастическая».
Я умиротворенно сидел, когда вошел Барраклаф и сообщил, что, увидев, как Томас выводит слоган насчет шляпок, он позвонил в фирму и выяснил: шляпок у Энрикеса совсем мало, зато завал дешевой бижутерии, которую по глупости приобрел кто-то из закупщиков. Они хотят ее побыстрее сбыть, так что нужна реклама.
Ну как такое можно вытерпеть? Просто ужас. Значит, вся моя работа пошла псу под хвост, да и Томаса тоже, а газеты в Кенте еще неделю буду выходить со старой рекламой товаров Энрикеса. Но в любом случае это он виноват, не мы. Сказал бы заранее об этой чертовой бижутерии, я, может быть, что-нибудь и придумал. А так…
И тут меня осенило. А что, если все оставить как есть, только «шляпки» заменить на «бусы» или что-нибудь еще? И Томасу не нужно ничего переделывать. Так что если Энрикес не будет возражать, то новая реклама вполне сгодится.
Глава 4
Я человек мягкий, покладистый и потому часто ошибаюсь относительно реакции человека. Причем мне прекрасно известно: сделав для кого-то что-то хорошее, не стоит ждать, будто он это надолго запомнит. Но я все равно надеюсь, что это останется в его памяти хотя бы сутки.
Вот так получилось у меня и с Барраклафом. Я надеялся, что он видит, как я изо всех сил стараюсь ему угодить, видит, как легко со мной работать, и в ответ охотно поддержит мое стремление избавиться от Спенсера. Вскоре выяснилось, что мои надежды не оправдались. Барраклаф очень меня подвел своим желанием мира и покоя.
Я решил поговорить с ним на эту тему на следующее утро, сразу как пришел. Повесил шляпу, пальто и направился в его кабинет. Хотя насчет кабинета громко сказано. Наш офис занимает небольшое помещение, но мы все же сумели выделить каждому отдельную комнату. Вернее, комнатку, слово «шкаф», думаю, тут больше подходит. Барраклафа я застал, как обычно, в окружении кучи документов. Как это возможно – так тонуть в бумагах?
Увидев меня, он почему-то вздрогнул и отодвинул лист, исписанный цифрами, с которыми работал. Не понимаю, почему каждый норовит спрятать от меня цифры. Они для меня ничего не значат, это известно всем, включая Барраклафа, так что его поведение должно было сразу же вызвать у меня подозрение, будто за моей спиной происходит что-то не то. Но тогда я подумал, что просто прервал его работу. Славно, если бы это было так на самом деле, но Барраклаф большой мастер показухи и постоянно делает вид, что у него нет ни единой свободной секунды. Побольше наблюдательности мне бы не помешало. А то я, как обычно, хлопал ушами и упустил возможность более уверенно отстаивать свою точку зрения на собрании, которое собирался созвать.
Барраклафу мое предложение о собрании не понравилось. Он смотрел на меня, пожевывая кончики усов – неприятная привычка – и многозначительно поглядывая на кучу бумаг на столе. Должен признаться, я забыл, что сегодня ему нужно отправить месячный отчет.
– Николас, может, отложим это собрание денька на два? Понимаешь, сейчас я очень занят.
– Ты всегда занят. Твое усердие – это пример…
– А в чем, собственно, дело? – прервал он меня со вздохом. – Ты заговорил о собрании таким тоном, будто мы важные государственные деятели и будем обсуждать важные государственные дела. Надеюсь, нам не придется для этого снимать конференц-зал в отеле «Ритц-Карлтон».
Я не стал обращать внимание на его шутку.
– Назрел важный вопрос. Нам нужно собраться и поговорить.
Тут его прорвало. Он принялся цитировать закон, регулирующий деятельность акционерных обществ и компаний в стране. В частности, упирал на то, что по закону собрание в фирме можно провести, только заранее уведомив участников, за четырнадцать полных дней. Я не понимал, что такое полный день и чем он отличается от пустого, но спрашивать не стал. Однако высказал опасение, что, пока мы будем ждать две недели, фирма может развалиться.
Барраклаф улыбнулся:
– Ну мы все же не настолько связаны бюрократическими процедурами. Директора могут принимать решения в любое время, а поскольку у нас они же являются акционерами, то проблем нет.
– Ну и прекрасно, – согласился я. – Давай соберем совет директоров.
Барраклаф пожал плечами:
– Но ты же говорил об общем собрании.
– Общее собрание, совет директоров, какая разница?
– Что за причина, Николас?
Вот сейчас наступил момент, ради которого я и затеял разговор. Мне предстояло убедить его голосовать за исключение Спенсера из совета. Я замешкался на секунду, и как раз в эту секунду в комнату вошел Спенсер и лишил меня возможности спокойно поговорить с Барраклафом.
А тот, завидев его, тотчас выпалил:
– Николас хочет сегодня во второй половине дня провести заседание совета директоров.
– А почему не сейчас?
По правде говоря, реплика Спенсера сбила меня с толку. Я еще не успел как следует обдумать все, что собирался сказать, и надеялся, что Барраклаф поддержит предложение насчет второй половины дня. Он со скрытой тоской посмотрел на свои бумаги и, думаю, собирался настаивать на том, чтобы ему дали возможность поработать, но Спенсер его опередил:
– Во второй половине дня у тебя бумаг на столе не убавится, ты это сам хорошо знаешь. А у меня в три часа встреча, которая может занять остаток дня, и еще одна завтра. Так что сейчас или никогда или, по крайней мере, намного позднее. Так что давай, Николас.
Вот в такой обстановке мне пришлось начать. Без подготовки, без намека на официальность. Но я постарался. Заявил, что наш бизнес стоит на месте, доходы падают. Впрочем, это им было хорошо известно и без отсылок к бухгалтерии.
– А почему? – задал я риторический вопрос.
– Что ты хочешь услышать в ответ? – беспечно проговорил Спенсер. – Дай-ка лучше спичку.
Вот так он всегда, чуть что, старается увести разговор в сторону. К тому же спичек у меня не оказалось, так что возникла заминка, во время которой Спенсер попросил Томаса принести спички. Этот человек не успокоится, пока не заставит всех суетиться.
– И как могут у нас хорошо идти дела, – продолжил я, когда восстановилась тишина, – если сотрудников, в частности меня, постоянно отвлекают от важной работы. Совсем недавно на пустом месте возникла эта проблема с Грейстоуном…
– Грейфилдсом, – поправил меня Барраклаф.
– Хорошо, Грейфилдсом, какая разница. Эта консервная фабрика…
– Значит, стремление продвинуть наш бизнес называется «отрывать от дела», – проговорил Спенсер, деловито стряхивая пепел с сигареты. – Ну что ж, спасибо за науку.
– Нечего паясничать, – бросил я. – И это не продвижение бизнеса, а предложение выполнить работу для еще не существующего предприятия без всякой надежды на оплату.
– И что ты предлагаешь? – спросил Спенсер ледяным тоном.
Теперь, когда наступил решающий момент, я наконец совершенно успокоился и произнес медленно, как бы показывая, что пришел к этому после серьезных размышлений:
– Мне неприятно это говорить, но именно ты тормозишь работу нашего агентства, и потому я предлагаю исключить тебя из совета директоров.
Спенсер по-шутовски поклонился:
– А я позволю себе возразить. Мне твое предложение не нравится.
Я повернулся за поддержкой к Барраклафу и увидел, что он занимается расчетами, не обращая внимания на происходящее. Мне пришлось дважды его окликнуть.
Он раздраженно поднял голову:
– Ну вот, опять сбился, придется пересчитывать.
– Ты поддерживаешь мое предложение? – спросил я.
– Что еще за предложение? – невольно проговорил он, снова переключая внимание на бумаги.
Спенсер заулыбался. Ответ Барраклафа его почему-то рассмешил.
– А теперь позвольте мне внести встречное предложение – исключить из совета директоров Николаса. – Этот нахал не постеснялся при таких обстоятельствах назвать меня по имени. – Полагаю, Николасу мое предложение не понравится, так же как и мне его. Так что, Барраклаф, твой голос решающий. И нечего отмахиваться.
– Погодите! – воскликнул я. – Это мой голос решающий как председателя совета директоров. Так что объявляю предложение принятым.
– Чье предложение, Николас? Твое или мое?
– Тут вместо восьмерки напечатано четырнадцать, поэтому у меня не сходится, – задумчиво произнес Барраклаф. – Мисс Уиндэм становится такой невнимательной. – Он наконец поднял глаза. – Должен напомнить, что мы с самого начала договорились обойтись в «Агентстве» без председателя совета директоров, чтобы избежать подобных ситуаций.
– В таком случае предлагаю учредить в «Агентстве» пост председателя и назначить на эту должность меня, – проговорил я, отчаянно пытаясь изменить ситуацию в свою сторону.
Спенсер кивнул:
– С первой частью предложения согласен, а что касается второй, то прошу внести небольшие изменения. Председателем совета директоров должен быть я. Осталось только, чтобы Барраклаф выдвинул в председатели себя. – Он посмотрел на него: – Что скажешь?
Барраклаф насупился:
– Я думаю, все эти разговоры не имеют смысла. При учреждении «Агентства» мы все подписали договор, согласно которому, неважно, будет кто-то из нас в совете директоров или нет, все равно каждому положена треть прибыли. Если, конечно, будет что начислять. В связи с этим предлагаю дискуссию закрыть.
Спенсер посмотрел на меня:
– Наш друг шутник, но эта шутка, я думаю, самая удачная.
– Я вовсе не шучу, – обиженно произнес Барраклаф. – И в одном Латимер безусловно прав. Если вы не перестанете ссориться, ни о какой прибыли не может быть и речи. Мы просто-напросто вылетим в трубу. В этот трудный период желательно все вопросы решать мирно. Жаль, что вы не отдаете себе в этом отчет.
– Именно поэтому я и прошу меня поддержать, – не сдавался я. – «Агентству» обойдется дешевле платить Спенсеру его долю просто так, чем позволять выводить меня из душевного равновесия.
Удар попал в цель, и, хотя Спенсер делал вид, будто мои слова его развеселили, он прекрасно знал: ситуация обстоит именно так. А Барраклаф, на поддержку которого я все еще надеялся, вдруг встал из-за стола и уставился в окно, пока мы ждали. Я со смутной надеждой, а Спенсер с присущим ему оптимизмом и самомнением.
В конце концов последний участник нашего триумвирата наконец повернулся.
– Я голосую… – начал он и замолк. – Против каких-либо изменений.
Не скрою, его заявление меня разочаровало.
– А теперь, – продолжил он, – прошу вас, перестаньте. Особенно ты, Латимер. – Думаю, он выбрал меня, потому что с разумным человеком всегда приятнее иметь дело, хотя в его совете нуждался именно Спенсер. – Мы должны прекратить выяснять отношения друг с другом, и для начала призываю тебя еще раз подумать о рекламе для консервной фабрики. Мне кажется, с ними стоит попытаться установить контакт.
– А мне кажется, что не стоит! – взорвался я. – Это откровенная глупость. Ты-то сам готов провести для них расчеты? Наверное, нет.
– Отчего же, готов.
Так я ему и поверил!
– Выходит, у тебя есть для этого время. К тому же расчеты сейчас могут им понадобиться. А мне приниматься за работу рано.
– Ты вообще никогда не торопишься сделать что-то полезное, – возмутился Спенсер.
Я улыбнулся:
– Ничего подобного. Как раз сегодня утром я собирался сесть за работу, но мне вечно мешают.
На этом наш разговор закончился. Мои надежды не оправдались, но кое-какую пользу я из него извлек. Во мне созрело твердое решение избавиться от Пола Спенсера во что бы то ни стало. Неважно, каким способом, хотя предпочтителен был бы самый простой. И ради этого можно даже рискнуть переступить закон.
Глава 5
Забавно устроен человеческий мозг. Стоит позволить себе расслабиться и отпустить мысли в свободное плаванье, как из глубин подсознания может выплыть такое, о чем вы и не помышляли.
Поясню. Приняв решение избавиться от Спенсера, не гнушаясь никакими средствами, я не имел в виду ничего определенного. Один легальный способ был уже использован. Без результата. Теперь предстояло придумать что-то более действенное. Преступать закон я собирался только в самом крайнем случае. Если бы подвернулась возможность сыграть с ним какую-нибудь злую шутку, которую при других обстоятельствах я счел бы недостойной, тут я бы определенно не отказался. И внезапно проявилась эта странная особенность моей натуры. Чем больше я размышлял, тем прочнее в моем мозгу помимо воли формировалась решимость устранить Спенсера физически. Точнее убить, будем называть вещи своими именами. Вскоре это совсем перестало меня смущать. Я лишь обдумывал способ, как легче с такой задачей справиться.
Правда, за эту идею я сразу хвататься не стал, оставив ее на крайний случай, если не придумаю ничего другого. Тем более убить человека нелегко, кто бы что ни говорил.
Впрочем, в известном смысле сделать это довольно просто. Любой может купить нож и воткнуть его жертве в спину. Хватило бы храбрости. Но для меня такой способ неприемлем. Хотя бы потому, что на этом легко засыпаться. Устранить Спенсера и вскоре после этого отправиться на виселицу совсем не хотелось. Он такой жертвы не стоил.
По этой причине я решил вернуться к вопросу позже, когда в уме созреет какой-нибудь приемлемый план. Я был в этом уверен, потому что так неоднократно случалось. Казалось, перестаешь совсем думать о проблеме, проходит время, и вдруг решение возникает, и всегда в нужный момент. Вот как раз этого мои компаньоны никогда не могли понять. Ожидали, что я буду постоянно думать и думать о какой-то проблеме, пока не найду решение. Но ко мне самые интересные мысли являются спонтанно, сами собой.
Поэтому я сделал вид, что совершенно забыл о Спенсере. Пусть расслабится и думает, будто ему ничто не угрожает. Благо как раз в это время нам подвернулась действительно важная работа.
Надо ли говорить о том, что нашел ее я. И случилось это так.
С утра я отправился на выставку «Медикаменты и оборудование» и неплохо провел день. Спенсер, ясное дело, назвал это пустой тратой времени, что лишний раз напоминает о его невежестве. Как я могу создать что-то хорошее, откуда брать новые интересные идеи и вообще держаться на высоте, если не буду знакомиться с тем, что делают другие. А на выставке было на что посмотреть. Хотя бы на то, как оформлены стенды.
Спенсеру не по душе, что я уделяю слишком много внимания новинкам (на самом деле не так много, как ему кажется), хотя это грамотный подход к делу, потому что такие вещи привлекают не только меня, но и других, и надо выяснить – почему, что в них такого.
В тот день что-то на одном из стендов мне показалось интересным – я уже забыл, что именно, – и я остановился поговорить со стендистом. В частности, подчеркнул, что для показа достоинств товара необходима соответствующая реклама. Этот человек, наверное, был не просто служащим, а рангом повыше, потому что стал сомневаться, оправдаются ли расходы. На что я ему с достоинством возразил, что при сотрудничестве с нашим «Агентством» расходы непременно оправдаются, и тут же вручил ему нашу карточку. А чего теряться? Если мы «всегда начеку», так надо этому соответствовать.
Я бы поговорил с ним дольше, но нас прервал человек довольно странной наружности. Кстати, он какое-то время стоял неподалеку, ждал, когда мы закончим. Видно, у него было дело к стендисту. Я отошел. Мне, собственно, там больше нечего было делать. Семечко бросил, теперь подождем, может, и проклюнется. Давить на потенциального клиента, мозолить глаза – пустое дело. Тут всегда есть риск пересолить, чего никогда не может взять в толк Спенсер.
Так что я отошел к следующему стенду и стал незаметно разглядывать этого странного человека, о чем-то разговаривающего со стендистом, которому я вручил карточку «Агентства». Скорее всего, это был иностранец, но трудно сказать откуда. Темноволосый, довольно смуглый, с маленькими, похожими на бусинки, черными глазками. Синеватый подбородок. Явно южанин. Может быть, француз? Хотя нет, француз так безвкусно одетым быть не может. Размышляя о том, итальянец этот человек или португалец, я увидел, что он поглядывает на меня, и отвернулся. Пора было сходить в буфет, покрепиться. Чашка хорошего чая сейчас бы не помешала.
Я сажусь за столик, недовольно поглядывая на букет искусственных цветов – я их не терплю, – как в буфете появляется тот самый иностранец.
Осматривается, как будто кого-то ищет, затем замечает меня и направляется к моему столику.
– Извините, мсье, – он слегка поклонился, чем удивил меня, – вы уронили перчатку.
Скверно, когда теряешь одну перчатку, лучше сразу две, не так жалко. Наверное, я уронил ее, когда доставал карточку. Я, разумеется, рассыпался в благодарностях, возможно, чересчур обильных, так ведь иностранец. И я его этим впечатлил. Сильно. Это был с моей стороны весьма разумный ход, поскольку, как потом выяснилось, ему предстояло стать нашим весьма ценным клиентом.
Но не буду забегать вперед.
Я пригласил его присесть, решив, что неприлично не сказать хотя бы пару слов, завести какой-то пустяковый разговор. Показать, что мы, англичане, не такие холодные, какими нас представляют.
– Простите, а вы случайно не итальянец?
– Итальянец?! – воскликнул он негодующе. – Как вы могли такое подумать! – Моя догадка его почему-то возмутила, и он разразился длинной тирадой на своем языке. Ясное дело, никто из окружающих его не понимал, но и без того своим красновато-фиолетовым галстуком с замысловатым узлом при черном костюме и серыми замшевыми туфлями он привлек всеобщее внимание. Я уже начал подыскивать повод, чтобы поскорее уйти, но жаль было оставлять недопитый чай. Кроме того, казалось невежливым – вот так откланяться, когда я сам виноват, сунулся со своим вопросом. Хотя что может быть обидного в том, если тебя приняли за итальянца, ума не приложу. Так что я остался сидеть, и правильно сделал.
Да и он вскоре успокоился.
– Извините меня, мсье, но прошу вас при мне больше Италию не упоминать. По крайней мере до тех пор, пока там правит Муссолини. Я, к вашему сведению, р-румын. – Он произнес это именно так, с рычанием, и подкрепил сказанное, стукнув по-театральному кулаком себя в грудь. Затем, помолчав, объявил: – Моя фамилия Тонеску.
Как бы в подтверждение этому румын метнул на стол свою карточку, которая аккуратно прилепилась к моему шоколадному пирожному, я его только начал есть.
– Пардон, мсье, – пробормотал он и протянул другую карточку уже спокойнее.
Мне почему-то тогда не показалось странным, что этот румын изъясняется на французский манер. Не до того было, потому что я замешкался, не зная, как поступить с первой карточкой. Так ничего и не придумав, оставил ее, как есть, на пирожном, к которому больше не прикоснулся.
Затем извинился за свою ошибку, признав, что мы, англичане, не очень сильны в географии, и выразил надежду, что он приятно проведет время в нашей стране.
– К сожалению, мсье, у меня нет времени на развлечения. Я приехал по делам и не могу ни на что отвлекаться, пока их не улажу. Понимаете, мсье, я здесь не один, с друзьями, и мы намерены продавать в этой стране наше изобретение. Потрясающее, должен заметить. Потому что здесь у него замечательные перспективы. – Услышав слово «замечательные», я оживился. Оно мне понравилось. – Да, да, – продолжил он, – я верю, что у нашего изобретения здесь большое будущее. И все готово. Производство мы организуем в другой стране, обеспечим сюда бесперебойную доставку продукции. Остается решить лишь две проблемы.
– Какие? – поинтересовался я, уже начиная понимать, что, возможно, натолкнулся на золотую жилу.
– Первая проблема – капитал, – быстро ответил мой новый знакомый. – Впрочем, уладить этот вопрос оказалось не так сложно. Это у них сложности, – он махнул в сторону стенда, где я уронил перчатку, – а у нас все в порядке. Трудности есть только с ограничением вывоза валюты – наших румынских лей, но мы с этим справимся. Нам ведь нужно только покрыть – как это у вас называется – торговые затраты. Так это просто. Через полгода они окупятся, и мы останемся с большой прибылью. И пока мы утрясаем этот вопрос, я занимаюсь второй проблемой. Британским рынком. Здесь, мсье, нельзя продвигать мое уникальное изобретение так, как мы это делали в Румынии. Не получится.
Теперь я уже не сомневался, что это тот самый счастливый шанс, который ни в коем случае нельзя упустить. С рассуждениями моего собеседника нельзя было не согласиться. По-английски он говорил свободно, с небольшим акцентом, приятным на слух, певучим. А вот манера одеваться, на наш, британский, вкус, оставляла желать лучшего. Если он сам возьмется продвигать здесь свое изобретение, то вряд ли добьется успеха. Но как раз с этим делом мы могли бы прекрасно справиться.
Я согласился с его доводами, затем добавил, как бы между прочим:
– Кстати, по чистой случайности фирма, которую я представляю, могла бы оказаться вам полезной.
Он удивленно вскинул брови:
– И чем же может быть полезна для нас ваша фирма, мсье? Если деньгами, то мы в них не нуждаемся. Во всяком случае, эта проблема у нас решена.
– Видите ли, сэр, я председатель совета директоров рекламного агентства (представиться председателем мне показалось как-то солиднее), занимающего передовые позиции в части освоения современных методов торговли. Мы работаем не как заблагорассудится, а вдумчиво и методично и можем дать вам советы практически по любому вопросу на сугубо научной основе. Начиная с упаковки емкостей, в которые будет помещен ваш продукт, – коробки, банки и что еще может быть использовано, до каталогов и прочего, необходимого для успешного сбыта товара. И главное, реклама.
Я произносил эти слова с замиранием сердца, потому что всегда мечтал находиться у истоков зарождения нового продукта. Развивать свои идеи с самого начала, а не когда уже там изрядно потоптались.
И надо сказать, это произвело на моего собеседника глубокое впечатление. Он необыкновенно оживился:
– Что вы говорите? Так это же замечательно! Определенно, мне было суждено подобрать вашу перчатку, иначе бы мы не встретились. Значит, вы поможете продвинуть здесь мое замечательное изобретение?
Я, конечно, закивал, хотя в душе был несколько смущен. Дело в том, что в «Агентстве» существовало твердое правило не брать заказы без согласия всех трех директоров. Это предложил Барраклаф из каких-то своих финансовых соображений, и я его поддержал, чтобы иметь возможность управлять ситуацией. Так что посоветоваться с ними было необходимо.
– Мистер Тонеску, я уверен, что мы сможем сотрудничать, но, боюсь, мне придется заручиться согласием коллег.
– Ваших коллег? – удивился он. – И сколько их?
– Двое.
– Но председатель вы?
– Вообще-то да, но не официально. Конечно, они мои подчиненные, но я привык с ними советоваться. Так у нас заведено. Уверен, вы меня понимаете.
– Разумеется. И какие у них обязанности?
Я издал короткий смешок.
– Один как раз должен заниматься тем, что делаю сейчас я, – заказами для «Агентства», а другой ведет бухгалтерию.
– Ах да, бухгалтерия, финансы, но, как я сказал, с этим у нас все в порядке. – Деятельность Барраклафа, похоже, его нисколько не заинтересовала. – Мы уже в нашем кругу распределили доли от прибыли, которую принесет мое изобретение.
Неожиданно мне пришло в голову, что можно попытаться и нам войти к ним в долю. Но заводить разговор об этом было еще рано, так что я заговорил о другом:
– Что собой представляет ваше изобретение?
Тонеску огляделся с видом конспиратора, которых показывают в кино.
– Я вам, конечно, скажу без подробностей, но и так все будет понятно. Вы уж извините, придется говорить тихо, почти шепотом. Крайне нежелательно, чтобы услышал кто-то посторонний.
Честно говоря, все это выглядело довольно глупо. Кто тут мог подслушать? И что секретного может быть в изобретении, если основанную на нем продукцию он собирается продавать? Технологические подробности меня совершенно не интересовали, да я бы ничего и не понял, но ладно, у каждого свои причуды.
Тонеску коротко пояснил, в чем суть изобретения, и ничего секретного я в этом не обнаружил. Оно, несомненно, представляло интерес, если, конечно, работало. Он изобрел средство, предотвращающее запотевание стекол. Попавшая на стекло влага благодаря его средству мгновенно стекает, и оно становится чистым. Тонеску считал, что изобретение будет особенно полезным для зеркал в ванных комнатах. Он ведь из Румынии, где, наверное, о ванных комнатах и не слышали, зато ходили легенды об английской чистоплотности. Вот он на этом и зациклился. Но ему почему-то не пришла в голову основная область применения продукта – чистка ветровых стекол автомобилей.
Глава 6
– Николас, неужели ты сам не понимаешь, что этого не может быть?
Вот с таким «энтузиазмом» воспринял Барраклаф мою новость. Что касается Спенсера, то он сидел рядом и язвительно ухмылялся. Собственно, иного я от него и не ожидал, но сейчас трудился Барраклаф, так что ему не надо было напрягаться.
Да и сам Барраклаф меня не очень удивил. Его реакция на все новое была неизменно категорической. Так он был устроен. Тут же начинал выискивать в предложении слабые стороны и обязательно находил. Спустя какое-то время он привыкал к новшеству и в конце концов соглашался. Мне всегда приходилось противопоставлять его возражениям логику, что большей частью получалось.
Вот и сейчас я вначале слегка уступил:
– Признаю, это немного настораживает. Не часто выпадает такая удача, но все было не так легко, как может показаться. Я старался изо всех сил.
– Да, ты старался, это несомненно, – прервал молчание Спенсер. – Но ты не обижайся, Николас, слишком уж просто у тебя получилось. Ты уверен, что этот Тонеску ничего не знал о тебе заранее? Возможно, он слышал твою болтовню со стендистом.
Я думаю, меня вывело из себя слово «болтовня». Уже не в первый раз Спенсер употребляет это слово в мой адрес. Якобы все мои разговоры с потенциальными клиентами не больше, чем пустая болтовня, и я всегда рассказываю им лишнее. Но я был уверен, что Тонеску, явившись с перчаткой, понятия не имел, кто я такой, и потому все разговоры на эту тему считал пустой тратой времени. Однако я действительно предлагал стендисту услуги нашего «Агентства», когда Тонеску находился где-то в ста ярдах от этого места, так что рассеять сомнения моих коллег было невозможно. Поэтому мне показалось весьма разумным увести разговор в другую сторону.
Не удостоив Спенсера ответом, я повернулся к Барраклафу:
– Какие у тебя основания отвергать это предложение?
– Такое средство ищут производители автомобилей во всем мире, – ответил он. – Подумай о деньгах, которые готовы заплатить Остин или Форд за исключительное право использовать подобный патент. И ты что думаешь, никто до сих пор не пытался изобрести такое средство? Еще как пытались, потратили большие деньги на исследования, привлекали самых лучших специалистов. А это, оказывается, очень просто – тебе случайно на выставке подворачивается гениальный изобретатель…
– Я протестую против слова «подворачивается». Это совсем не так.
– А как?
– Я уронил у стенда перчатку, он ее нашел и вернул мне. Мы познакомились, разговорились и…
– …и этот человек между делом сообщает тебе о своем изобретении, которое может оказаться полезным для чистки зеркал в ванных комнатах и которое он намерен продавать здесь, рассчитывая на огромную прибыль. При этом он настолько наивен, что даже не догадывается, как еще можно применить его выдающееся изобретение.
– Это вообще какой-то подозрительный тип, неизвестно откуда взявшийся, – добавил Спенсер.
Надо заметить, что он времени зря не терял, то и дело вставляя в разговор свои глупые шуточки. Сейчас вот этот дурак собрался опорочить очень выгодное для «Агентства» дело.
– Представь себе, мне известно, откуда он взялся, – парировал я его выпад. – Из Румынии, а там, надо полагать, ни дорог нормальных нет, ни автомобилей.
– Тогда и ванные комнаты в этой стране большая редкость. – Спенсер опять влез со своим замечанием.
– Не слишком ли плохо вы оба думаете о румынах? – проговорил Барраклаф. – Из рассказа Латимера ясно, что там имеют понятие о ванных комнатах. Я думаю, у них есть автомобили – это все же Европа, – и они представляют, что значит ездить в дождь.
– Нет, – возразил я, – не все знают, что значит ездить в дождь, потому что не везде такой климат, как в Англии. Не все такие страдальцы, как мы. Есть немало мест, где ездить на автомобиле можно только в хорошую погоду, а в ненастье ни по какой дороге не проедешь. Возможно, именно так обстоят дела в Румынии.
– Позволь тебя спросить, Николас, а ты вообще имеешь хоть какое-то понятие о румынском климате? Ты действительно знаешь, что на машине там можно ездить только в сухую погоду, или это твои домыслы?
Ну какой мог задать вопрос Спенсер? Конечно, дурацкий. Лишь бы меня задеть.
– Я знаю географию в пределах школьной программы, – с достоинством ответил я.
– И что же?
– То, что я уже сказал.
– Ты, наверное, учился в какой-то особенной школе, где давали особенные практические знания.
– Вот именно. Можешь ухмыляться, сколько хочешь. Даже если ты закончил какую-то знаменитую привилегированную частную школу, это не повод для оскорблений.
– Да остановитесь вы оба! – не выдержал Барраклаф. Я и не знал, что он может быть таким строгим. – Вы забыли, что мы обсуждаем? Какой галстук кто носил в школе? Или, может быть, румынский климат? Нет, перед нами важный вопрос – как отнестись к Тонеску и его изобретению.
– Ты совершенно прав, – подхватил Спенсер. – Николас постоянно уводит разговор в сторону.
Подумать только, какая наглость!
– Латимер обвинил меня в том, что я отвергаю его предложение с порога, – задумчиво проговорил Барраклаф. – Это неверно. Я только призываю вас к осторожности. Надо все тщательно обдумать и взвесить, а не хвататься за неизвестное изобретение очертя голову. Лично у меня проект Тонеску вызывает серьезные сомнения.
– И что ты предлагаешь? – спросил я.
– В первую очередь посмотреть, что это за средства от запотевания стекол, и самим проверить его действие.
В его словах был резон, и я согласился.
– А во-вторых, – продолжил он, – принимать заказ следует только после получения существенных финансовых гарантий.
– Что ты имеешь в виду?
– Предоплату.
Тут меня словно подбросило на стуле.
– Так это же самый верный способ загубить дело. Любой, кому ты такое предложишь, обидится.
– Любой, но не мистер Тонеску, – возразил Барраклаф. – Ты сам сказал, что этот человек не слишком сведущ в наших порядках. Так ему можно сказать, что у нас принято платить вперед. Я слышал о подобных случаях. Но если убедить его не удастся – ты можешь мотать головой сколько угодно, Латимер, я все равно уверен, что такое возможно, – но если он не согласится, то ему можно напомнить его собственные сетования о трудностях вывоза за границу румынской валюты. Кстати, я попробую проверить, насколько это верно.
– Я думаю, – вмешался Спенсер, – Тонеску сочтет это весьма разумным. Если, конечно, растолковать ему все должным образом. Это и Николасу должно быть понятно.
– Зря надеетесь, – хмыкнул я. – В отличие от вас я с ним общался. Тонеску очень темпераментный.
Спенсер кивнул:
– Ну и хорошо. Пусть будет темпераментным. Это его дело. Но я согласен начать работать с ним только после выполнения условий, которые назвал Барраклаф.
– Иными словами, вы оба отвергаете предложение только потому, что оно исходит от меня.
– Ты как ребенок! – воскликнул Спенсер.
Надо же, какой наглец! Я этого ему никогда не забуду. Он отвергает все мои предложения без исключений и перед этим обязательно их высмеивает. Что за человек?
Обсуждение затянулось. Барраклафу кое-как удалось навести порядок, и в конце концов мы приняли решение начать сотрудничество с Тонеску только после выполнения двух названных выше условий. Ничего не поделаешь, мне пришлось с этим согласиться.
Но, разумеется, за то, что я нашел такой замечательный заказ, меня никто не похвалил. Я уже упоминал в начале этих записей, что не намерен дальше терпеть выходки этого клоуна. Все-таки есть предел, до которого можно позволять дураку разваливать бизнес. Конечно, и Барраклаф не намного лучше, но все же главная моя беда – это Спенсер. Нельзя ни на минуту забывать о том, что он должен быть устранен.
Мало того, что меня забыли поблагодарить за проявленную инициативу, так еще этот нахал выступил с обвинениями, будто я отбираю у него работу. Представлять клиента – это, видите ли, его прерогатива.
Я ему ответил как положено:
– Я вынужден выполнять твою работу, потому что ты ничего не делаешь.
– Ты на себя посмотри, – тут же нашелся он. – Тоже мне работник. От своей работы отлыниваешь, а в чужую лезешь. Представляю, какой бы ты поднял крик, если бы я осмелился придумать рекламу. А тут, пожалуйста, нашел на выставке какого-то придурка и притащил сюда, чтобы мы с Барраклафом плясали под твою дудку.
– Собираешься снова завести разговор о консервной фабрике?
– А почему бы и нет? Мы ведь с этим так ничего и не решили.
– Но это не причина отказываться от заказа Тонеску.
– А почему бы не принять и то и другое? И я прошу тебя понять одну важную вещь: хочешь вмешиваться в мои дела – пожалуйста, только не обижайся, если я стану вмешиваться в твои.
Я насмешливо улыбнулся:
– Думаю, с моими делами тебе, профану, будет не так просто справиться.
Обычно Спенсер делал вид, будто мои слова ему безразличны. Но теперь эта тактика в первый раз дала сбой. Он большей частью вел себя сдержанно, а тут взорвался по ничтожному поводу. Видимо, ему не понравилась правда. Спенсер резко вскочил на ноги, едва не перевернув стол. Я даже подумал, что он полезет драться. Но, слава богу, все обошлось. Спенсер лишь грязно выругался, а затем ринулся к себе в кабинет, с шумом захлопнув дверь.
То, что между нами не все ладно, вовсе не обязательно было афишировать перед Томасом, мисс Уиндэм и посыльными.
Нет, дальше такое безобразие терпеть невозможно. То, что Спенсер должен быть устранен, теперь у меня сомнений не вызывало. Осталось придумать, каким способом. Может, устроить так, чтобы заподозрили Барраклафа? Всего лишь заподозрили, без доказательств. До суда дело не дойдет, но он напугается до смерти. Нет, пожалуй, не надо. Во-первых, это не так просто, во-вторых, он нужен «Агентству». Всегда на месте, может отвечать на звонки, принимать посетителей, как-никак один из руководителей. Не ахти какой важный, но все же.
Кроме того, Барраклаф может пригодиться для общения с журналистами. Они у нас частые гости, навещают по делу и без дела.
В конце концов я решил, что Спенсер должен умереть – чем скорее, тем лучше. Но втягивать в это дело Барраклафа не стоит.
Глава 7
У всех рекламных агентств существует одна и та же проблема. Состоит она в том, что в работе нельзя сосредоточиться на чем-то одном, пусть даже очень важном.
Взять хотя бы нас. Разве не разумно было бы сконцентрировать все силы на таком интересном заказе, как средство для чистки стекол Тонеску, забыв обо всем остальном? Так нет же, приходится заниматься рутиной. Скучной, утомительной, но необходимой.
А связано это с тем, что настоящая реклама не должна прерываться даже на краткое время. Производители просто обязаны поддерживать постоянную связь с потребителями, а для этого нужно вкладывать средства в рекламу. Иногда немалые. При этом реклама, даже очень хорошая, действует не сразу. Прибыль следует ожидать позже, а деньги тратить сейчас. Подобную дальновидность могут позволить себе крупные бизнесмены, а малым предприятиям мы сами советуем действовать осторожно, потому что безнадежные должники нам не нужны.
Замечу, что непрерывная реклама – это идеал, к которому нужно стремиться. В провинции ее реализовать легче. Пример тому рекламные объявления магазинов Энрикеса в кентских газетах. Отраслевые газеты процветают благодаря рекламе, потому их развелось такое множество. Каждую отрасль обслуживает не меньше двух газет. Только, наверное, похоронным бюро достаточно одной.
Больше всего изданий у трех крупных отраслей: автомобили, медицина и одежда. Лучше расходятся газеты, посвященные всему, что связано с автомобилями. Они интересны если не каждому, то уж точно большинству. На втором месте с небольшим отставанием идут медицинские газеты. Продукция медицинской промышленности тоже товар, и, разумеется, его надо рекламировать. Врачебное обслуживание люди покупают. Значит, это также товар. Я поручил Барраклафу составить перечень отраслевых газет – особенно нас интересовали медицинские, – и получился внушительный список. Больше сотни.
Для чего обычно публикуют рекламу в отраслевых изданиях? Думаю, главная цель заключается в популяризации названия фирмы. Оно должно попадаться на глаза читателям как можно чаще. Желательно в каждом номере и без перерыва. Я всегда считал, что тут важно не содержание, а сам факт упоминания. Особенно это касается газет с узкой специализацией, таких, как «Газета бакалейщика» или «Пекарь и кондитер». Это, конечно, не касается таких солидных изданий, как «Британский медицинский журнал» и «Автомобиль». Там дело обстоит иначе. Мне так и не удалось втолковать Спенсеру, что в отраслевых газетах новшества неуместны, а он поощряет в клиентах стремление каждую неделю видеть в газете что-нибудь новенькое про свой товар. Зачем, спрашивается? Иногда мне кажется, что они делают это только для того, чтобы мне досадить и заставить делать бесплатно лишнюю работу.
Конечно, я имею в виду вполне определенного клиента, близкого приятеля Спенсера и моего личного врага. У него есть какое-то лекарство от простуды – уверен, оно совершенно не лечит, – и он требует, вопреки моему совету, чтобы раз в неделю его рекламу давали в журнале «Аптекарь и фармацевт» малым форматом. Издание солидное, ничего не скажешь, но этого мало. Ваше снадобье, например «Флукицид», будет лежать на полке в каждой аптеке, но при такой рекламе никогда не дойдет до покупателя. К тому же «Аптекарь и фармацевт» – один из немногих журналов, которые никогда не выплачивают рекламщикам комиссионные. Я так и не понял почему, но нам приходится брать с производителей дополнительную плату за «Флукицид».
Так вот, этот приятель Спенсера, я думаю, не без его влияния считает, что наша реклама ему дорого обходится, и потому он требует вносить изменения каждую неделю.
Подумать только, каждую неделю! Первые шесть недель я справлялся с этим довольно легко, но когда предложил вернуться к первому варианту и повторять рекламу циклами, то наткнулся на категорический отказ. Мне ничего не оставалось делать, как каждую неделю придумывать что-то новое. Но как тут придумаешь, если я уже с самого начала написал лучшее, что тогда пришло в голову. Теперь, значит, писать надо снова и еще лучше. А откуда его взять? Качество, естественно, начало снижаться, и приятель Спенсера, никак не могу запомнить его фамилию, принялся возмущаться. А я старался, как мог, из кожи лез вон. Иногда получалось, иногда нет, но самое главное, когда я не успевал сделать эту работу, был занят чем-то другим, Барраклафу приходилось выдавливать из себя какую-нибудь несусветную чепуху. Так вот, как раз в таких случаях этот тип звонил мне и поздравлял с удачей. Убогие, беспомощные опусы Барраклафа ему неизменно нравились. Понятное дело, они со Спенсером сговорились травить меня. Ну как после этого можно было продолжать спокойно работать?
Вот и теперь, когда появилась замечательная возможность получить заказ от Тонеску, я был вынужден сидеть и сочинять, наверное, двести шестьдесят девятый вариант рекламы этого снадобья от простуды, что мешало сосредоточиться на главном.
Очень важно было придумать удачное название для Тонеску. От этого многое зависело. Действует это вещество, насколько я понял, очень просто. Достаточно намазать его на стекло. Название должно сразу говорить, что все стеклоочистители отошли в прошлое и теперь вам не страшен самый сильный дождь. Стекла всегда будут оставаться прозрачными, как в сухую погоду. Это на ветровых стеклах автомобилей, а зеркала перестанут запотевать, даже если будет сколько угодно пара. Таким образом, название должно содержать намек на оба обстоятельства. У меня вертелось в голове что-то вроде «Обзор без помех», «Чистый вид» или «Антидождь», но не то это было, не то. К тому же запотевание зеркал тут не упоминалось. И вообще непонятно было, что это средство предназначено для стекол.
В общем, я продолжал размышлять, и только у меня начало проклевываться что-то действительно стоящее, как зазвонил телефон и меня в очередной раз отвлекли по пустяковому делу. Звонил Энрикес, он, видите ли, недоволен рекламой его бижутерии только потому, что ее плохо раскупают. Это наша реклама виновата.
– А чего вы ожидали? – осведомился я и тут же получил ответ:
– А мы, мистер Латимер, ожидаем отдачи, – проворчал Энрикес, – когда покупаем рекламные места в большом количестве газет и позволяем вам помещать там все, что придет в голову. Мы ожидаем рост продаж нашего товара. Вот чего мы ожидаем и полагаем, что вам об этом известно, а получается наоборот. Нам из магазинов сообщают: после публикации вашей рекламы продажи моментально падают повсюду, почти одновременно.
– Вы не дали мне закончить, – отозвался я, терпеливо его выслушав. – Со временем продажи вашего товара обязательно возрастут, как вы и ожидаете. Но это произойдет не сразу, надо учитывать фактор времени. – Я хотел добавить, что глупо ожидать результат через четыре дня, но не стал. – Подержите рекламу хотя бы шесть недель, и я уверен…
– Шесть недель! Да при таком темпе снижения спроса нам придется устраивать распродажи гораздо раньше этого срока. – Энрикес покряхтел немного и добавил: – Нет, от такой рекламы я категорически отказываюсь. Чего стоит хотя бы фраза: «… последние модели из Лондона и Парижа». Париж, я спрашиваю, тут при чем, когда мы всюду призываем публику покупать британские товары? Покупатели уже начали над этим зло подшучивать, поставщики бижутерии тоже недовольны.
– А кто они?
– Англичане, но бижутерия у них, насколько мне известно, японская. Как видите, к Парижу никакого отношения не имеет.
– К сожалению, я этого не знал, иначе бы…
– А могли бы выяснить заранее, прежде чем писать что попало.
Напоминать Энрикесу о том, что это именно он настоял на срочной подготовке рекламы бижутерии, было бесполезно. И Барраклаф его поддержал. Тогда, насколько я помню, его устраивало что угодно. Но виноват оказался я, а Барраклаф, как всегда, ни при чем. Энрикес ничего слушать не хочет – подавай ему результат, и немедленно.
– Ну хорошо, – проговорил я, пытаясь его успокоить, – скажите, какой вы хотели бы видеть рекламу вашей бижутерии, и я попробую все исправить.
Я вовсе не имел в виду, что Энрикес должен написать текст, но он воспринял это именно так:
– Вы что, предлагаете делать за вас работу? Но от платы не отказываетесь. Замечательно! Тогда, позвольте спросить, какая нам от вас польза? Мы положились на ваше агентство, дали полную свободу – пишите что угодно, лишь бы был результат, – а вы, значит, вот как реагируете на первое критическое замечание. Вполне справедливое, должен заметить. Спокойно предлагаете нам самим делать эту работу.
Вообще-то разбираться с недовольными клиентами в мои обязанности не входит. Для этого у нас имеется Спенсер. Так что я зря взялся уговаривать Энрикеса, не надо было этого делать. Это все мисс Уиндэм, совсем распустилась, перестала следить за тем, чтобы меня по пустякам не беспокоили. Кстати, Барраклаф тоже заметил, что она в последнее время допускает одну ошибку за другой. Мне кажется, у них с Томасом намечается роман. Если так, придется уволить обоих.
Однако надо было закончить разговор с Энрикесом, как-то его успокоить. Пришлось пообещать сделать и то и это, так что следует ожидать, что Энрикес скоро станет для меня таким же проклятием, как приятель Спенсера со своим снадобьем от простуды, и я вообще лишусь возможности делать что-то серьезное. Кроме того, Энрикес действительно может отказаться от наших услуг, если не получит в ближайшем будущем желаемых результатов. Очень не хотелось бы его терять, он неплохо нас кормит.
Закончив разговор с Энрикесом (он затянулся настолько, что у меня даже рука заболела держать трубку), я вышел в приемную, чтобы указать мисс Уиндэм на ее недочет. Однако она, вместо того чтобы покорно выслушать замечание, дерзко ответила:
– И что же, мистер Латимер, я, по-вашему, должна была сделать? Мистера Спенсера нет, а мистер Барраклаф уже не может разговаривать с мистером Энрикесом. Он сказал, с него хватит. Раз рекламу писали вы, значит, вам и следует за нее отвечать.
– Я вас понял, мисс Уиндэм. Пожалуйста, запомните на будущее – разговоры с клиентами не моя работа и соединять меня с ними не следует.
Мисс Уиндэм, кажется, осознала свою ошибку, так что, возможно, такое больше не повторится. Уходя, я заметил, что мальчишка-посыльный бесстыдно скалится, потешаясь над ней, а Томас подскочил и дал ему подзатыльник. Чего ради он взялся ее защищать? Значит, я не ошибся, между ними определенно что-то есть.
Глава 8
Забавно видеть, какой эффект производит на серые личности нечто необычное. В данном случае я имею в виду появление в нашем офисе Тонеску. Мне доставило большое удовольствие наблюдать, как его воспринял типичный англичанин Спенсер, напыщенный и недалекий, а также сухой и замкнутый Барраклаф. К тому же я был в приемной и мог видеть реакцию на него совсем уж простых англичан, мисс Уиндэм и Томаса, которым с такими типажами прежде встречаться наверняка не доводилось.
Лицо мисс Уиндэм – это вообще забавное зрелище. У нее всегда немного удивленный вид. Я думаю, потому, что у девушки зубки слегка торчат вперед. Впрочем, умишко у нее такой ограниченный, что она, наверное, удивленно замирает перед любым мало-мальски диковинным явлением, а это для нее почти все, кроме, пожалуй, самого обыденного. Когда я вижу, как банальный факт объявляют в какой-то газете «сенсацией», то сразу вспоминаю мисс Уиндэм. Представляю ее застывшей с открытым ртом, показывающей свои кроличьи зубки и с благоговением восклицающей: «Вот это да! Надо же, как бывает».
Увидев Тонеску, мисс Уиндэм лишилась дара речи, а тот от волнения вдруг заговорил по-румынски. Она сидела, вытаращив на него глаза. Трудно даже представить, что с ней могло случиться, не приди я на помощь. Возможно, истерика. Она ведь такая впечатлительная. А вот Томас являет собой другой пример типичного англичанина. Вообще-то я подозреваю, что он из Уэльса, но это не важно. Так вот он, услышав иностранную речь, решил, что этот человек не владеет английским, а значит, с ним можно не церемониться. Оглядел Тонеску, как странного зверя в зоопарке или восковую фигуру в музее мадам Тюссо, а затем вернулся на свою территорию у окна, где обычно работал, и проговорил, наклонившись к своему альбому:
– Болтай что хочешь, приятель, я все равно тебе не поверю.
Тонеску, конечно, не понял, о чем шла речь. Да и не требовалось. Дело в том, что заминка длилась каких-то полминуты, после чего я взял ситуацию под контроль. Конечно, потом пришлось указать мисс Уиндэм и Томасу на их, мягко скажем, не совсем корректное поведение. И тут же Барраклаф выразил недовольство тем, что я делаю замечания сотрудникам, потому что они его подчиненные. С чего это вдруг? По крайней мере, художник должен подчиняться мне, это очевидно. Поскольку мы с ним оба занимаемся творчеством. Если я не имею права что-то сказать машинистке по поводу общения с клиентами, так это вообще никуда не годится.
Но вернемся к Тонеску.
Я поспешил усадить его в своем кабинете и представить коллегам. Сначала он повторил им то, что говорил мне за чаем на выставке. Они его внимательно выслушали, хотя вполне могли остановить и сказать, что знают все от меня. Проявили, так сказать, уважение. В общем, я сидел понурившись, ожидая, когда разговор пойдет о деле. Однако потом стало еще скучнее, когда Барраклаф принялся интересоваться, где именно в Румынии производят это вещество:
– Где расположен ваш завод? В Бухаресте?
– Нет, мсье. В Бухаресте ищут удачу слишком многие, так что мы обосновались в Галаце, небольшом городке, там свободнее.
Тут полез со своими глупостями Спенсер:
– Где именно находится этот Галац?
Как будто ему не все равно.
Тонеску пришлось нарисовать на нескольких листах фрагменты карты Румынии, откуда стало ясно, что это в Добрудже – есть там такая область, а Галац – порт на Дунае. К делу это не имело никакого отношения, но время отнимало. Потом стало очевидно, что Спенсер подготовился к встрече. Он почитал учебник географии и фактически проверял Тонеску. Так ли все на самом деле, как он говорит. Неслыханная наглость! Конечно, все это было задумано специально, чтобы позлить меня.
Но он зря потратил время на Бухарест, потому что предприятие Тонеску находится в нескольких сотнях миль оттуда. И вообще, зачем устраивать человеку экзамен по географии его страны? Какой в этом смысл, кроме желания выставить себя напоказ.
Разговор в деловое русло вернул Барраклаф. Он, как человек практичный – со Спенсером и сравнивать не стоит, – проявил интерес к производительности предприятия.
Мне показалось, что его вопрос сильно удивил Тонеску. Пришлось объяснить, что нам, рекламщикам, важно знать, сколько товара выходит на рынок.
Ответил он весьма туманно:
– Да, конечно… мы можем производить много, очень много.
– Но сколько именно? – попытался уточнить Барраклаф.
– Столько, сколько надо. Большое количество.
– Но вы можете назвать конкретную цифру? В фунтах или центнерах. В тех единицах, в каких вы измеряете свою продукцию.
Кажется, для Тонеску английские меры веса были не совсем ясны.
– Много фунтов центнеров, – ответил он.
– Мне бы хотелось знать определенные цифры, – недовольно покачал головой Барраклаф.
Тонеску ничего не оставалось делать, как назвать цифру:
– Думаю, мы производим до десяти тысяч левиц в день.
– Левиц? – удивился Спенсер.
Тонеску кивнул:
– Да, это румынская мера веса.
Следом началось нудное выяснение соотношения этих самых левиц с общепринятыми единицами. В частности, сколько их содержится в тонне. Тонеску, как ни старался, ничего толком пояснить не смог. Так что Барраклаф остался неудовлетворенным.
Зачем, спрашивается, надо было лезть со своими вопросами? Какая тебе разница, сколько они производят? Нам важно, чтобы они платили за рекламу.
В конце концов Барраклаф от него отвязался, так ничего толком не узнав, но потратив со Спенсером полтора часа неизвестно на что. Я понял, что пришло время вмешаться:
– Мистер Тонеску, давайте обсудим само средство для очистки стекол. Области применения нам более или менее понятны. А вот как именно его использовать? Расскажите, пожалуйста.
Тонеску уставился на меня, не понимая:
– Использовать? А разве это не то же самое, что применять?
– Я имел в виду способ нанесения его на стекло.
– А… вот в чем дело. – Он просиял. – Способ очень простой. Вы берете кристаллы – наш продукт представляет собой особого рода кристаллы, – растворяете их в воде согласно инструкции, затем смачиваете специальную салфетку, она прилагается, и протираете ею стекло. Вот и все.
Слово «салфетка» он произнес как-то странно, в нос, я не сразу понял, о чем идет речь. Тонеску неожиданно вскочил со стула и без всякой необходимости начал показывать, как наносит свой продукт на воображаемое стекло. При этом он был немного похож на фокусника, демонстрирующего простейший трюк.
– А потом, вуаля, дело сделано.
Тонеску вернулся на свое место так же стремительно, как вскочил, и закинул ногу на ногу, показав ярко-лиловый носок, резко контрастирующий с его фиолетово-красноватым галстуком.
Я сидел, ожидая (разумеется, тщетно), что коллеги заметят, как мне всего за пару минут удалось вытянуть из него хоть какую-то полезную информацию. Меня восхитила простота процесса очистки. Я боялся, что потребуются особые приготовления.
Спенсер, конечно, тут же решил усложнить ситуацию.
– Если все так просто, – заметил он, – то давайте проверим его действие на ветровом стекле машины Барраклафа. Однако гарантируете ли вы, что это будет совершенно безвредная процедура? Выражаясь языком врачей – не вызывает ли ваше лекарство у пациента какие-то побочные эффекты?
– Надеюсь, вы не возражаете против испытания вашего продукта? – добавил я, пытаясь смягчить ситуацию.
Мне показалось, что Тонеску недовольно поморщился. Вообще-то мы уже этот вопрос между собой обсудили, и Спенсер настоял на проверке. Я лишь потребовал сделать все как можно тактичнее, и с моей помощью сейчас все прошло гладко. Тонеску в конце концов согласился, однако его все же что-то смущало.
– Тут есть небольшая сложность, – нехотя проговорил он.
Мои коллеги настороженно вскинули головы. Я не сомневался в их готовности отказаться от сотрудничества с Тонеску.
– Наше средство, – продолжил он, – очень ядовито.
– В каком смысле? – спросил я. – Повреждает кожу? Или выделяет ядовитый газ?
– Нет-нет, – быстро успокоил он меня, – ничего такого. Им можно отравиться, только съев.
– Только и всего! – Я торжествующе повернулся к коллегам: – Тогда это не повод для сомнений. Кому взбредет в голову пробовать чистящее средство на вкус? Тем более есть.
Хотя и неохотно, но они с моими доводами согласились. Действительно, есть это вещество вряд ли кто захочет. Мы вернулись к обсуждению проверки изобретения Тонеску. Выяснилось, что действовать средство начинает только через несколько дней после нанесения на поверхность стекла.
– В таком случае, – сказал я, – давайте начнем прямо сейчас работать с ветровым стеклом машины Барраклафа.
Ему это не очень понравилось.
– Как что-нибудь проверять, так всегда на моем. Давайте ради разнообразия проверим это средство на чем-нибудь вашем.
– Но у нас нет автомобилей.
– Нет так нет. Почему бы не протереть этим веществом просто кусок стекла?
– Потому что это не одно и то же. Так что единственный выход из ситуации – вынуть ветровое стекло из машины и считать его простым куском стекла. Но, я думаю, так поступать нецелесообразно.
Барраклаф кивнул:
– Ладно, но «Агентство» должно взять обязательство возместить любой ущерб, который может быть нанесен моей машине.
– Ну, конечно, конечно, как же без этого, – заверил я его и посмотрел на румына: – Мистер Тонеску, как вы считаете, может ли машине быть нанесен ущерб в результате проверки вашего средства?
Увидеть Барраклафа покрасневшим было для меня большой новостью. Неизвестно, что бы он ответил, посматривая на ухмыляющегося Спенсера, но тут заговорил Тонеску:
– Не понимаю, почему вы ставите под сомнение такое выдающееся изобретение? Я пришел к вам с заказом на разработку рекламы средства века, а вы встречаете меня с недоверием. О да, джентльмены, я читаю это в ваших глазах. Вам кажется, что в Румынии невозможно произвести продукт в экспортном объеме. Спрашиваете о каких-то побочных эффектах, об ущербе для автомобиля. Вас не удивляет замечательное действие моего средства, вы им не восхищаетесь. Прошу прощения, но для сотрудничества все же нужно больше доверия.
Он закончил свою речь, недовольно топнув ногой, после чего мы заговорили, перебивая друг друга:
– Нам необходимо убедиться, с чем мы имеем дело, – проговорил Барраклаф. – Так что вы зря обижаетесь.
– Мистер Тонеску, – продолжил я следом, – мы с большим уважением относимся к вашему изобретению и весьма заинтересованы в…
Договорить мне не дал Спенсер. Как всегда, грубо оборвал и начал громко излагать условия проверки. Как ни странно, но Тонеску с этим сразу согласился. В конце концов мы договорились, что он даст Барраклафу необходимое количество кристаллов, чтобы тот проверил их на ветровом стекле своего автомобиля. Спустя сорок восемь часов мы прокатимся на машине и посмотрим, как действует средство. Насчет дождя можно не беспокоиться, он наверняка будет. Спенсер захотел взять немного вещества, чтобы проверить его на зеркале в своей ванной.
– А вы, мистер Латимер, не хотите проверить? – спросил Тонеску.
Я подумал, что это подходящий момент сделать шаг навстречу:
– Мне ничего не нужно, я вам полностью доверяю…
Тут опять влез Спенсер, попытаясь испортить впечатление от моих слов:
– Но, дорогой Николас, мы ведь не видели, как работает это средство.
– С меня достаточно того, что сказал мистер Тонеску, – ответил я. – Возиться с ядом мне ни к чему.
– Да-да, – подхватил Тонеску. – Я вас предупредил, джентльмены, предупреждаю еще раз – будьте осторожны, наше средство для очистки стекол ядовито.
– Не беспокойтесь, все будет в порядке, – беззаботно отозвался Спенсер. – Не все тревожатся за свою жизнь, как наш друг Латимер, не все такие пугливые.
Этот наглец открыто обвинил меня в трусости. Это просто так ему с рук не сойдет.
Глава 9
Нашему «Агентству» повезло, что я такой терпеливый. Уверен, любой непредвзятый читатель этих заметок без труда поймет, с чем мне приходится сталкиваться при общении с коллегами. Поэтому, если нам и удалось начать сотрудничество с Тонеску, то исключительно благодаря моему спокойствию и упорству.
Думаю, не стоит удивляться тому, что Спенсер предпринял попытку исключить меня из переговоров с заказчиком. Этот наглец посмел утверждать, что я, видите ли, с одной стороны, слишком доверчив, а с другой – якобы докучаю Тонеску беспочвенными опасениями относительно токсичности его средства для чистки стекол. Естественно, я с негодованием отверг эти абсурдные претензии и пошел в наступление – надо же как-то проучить этого дурака.
– Ты, я вижу, теперь убедился, что с таким темпераментным клиентом, как Тонеску, надо действовать мягко, ни в коем случае не давить, так мы ничего не добьемся. А тебе, Барраклаф, надо быть осторожнее со своими финансовыми заморочками.
– Что значит «моими»? – тут же возмутился он. – Разве финансы «Агентства» не самое важное для каждого из нас?
– Ты, конечно, прав, – согласился я, – но в общении с Тонеску лучше на первый план их не выставлять.
Барраклаф кивнул:
– Ладно, впредь буду вести с ним разговоры на эту тему осторожнее.
– А я все равно считаю, что Николасу лучше в эти дела не вмешиваться! – выпалил Спенсер и тут же вышел. Я даже не успел ответить.
Жаль, что мне до сих пор не удалось разработать надежный способ его устранения. Вчера в разговоре со своим банковским менеджером я попробовал забросить удочку насчет того, чтобы он стал моим сообщником в этом деле. Куда там! Этот человек, как и все банковские служащие, слишком старомоден и потому неспособен разглядеть для себя какие-то возможности. Этих людей ни к чему не склонишь. Они привыкли осторожничать во всем.
Как бы там ни было, но дела с изобретением Тонеску (мы так пока и не придумали ему удачное название) сдвинулись с места. Убедившись, что оно действительно работает, мои коллеги сопротивление прекратили. Первым подтверждение получил Спенсер и не смог скрыть изумления. В меблированных комнатах, где обитает этот аристократ (по крайней мере, он на это постоянно намекает, щеголяя передо мной своим якобы очень элитным школьным галстуком), в ванной над раковиной висит большое зеркало. Разумеется, оно Полу Спенсеру не принадлежит, но подобные мелочи его никогда не беспокоили. Он нанес на зеркало состав Тонеску даже гуще, чем рекомендовалось, а хозяйку поставил в известность потом. Этого от Спенсера и следовало ожидать. Вот Барраклаф, например, получил бы вначале письменное разрешение на манипуляции с зеркалом, а затем покрыл бы чистящим веществом точно четверть его площади и ровно таким количеством, как предписано.
Когда истекли необходимые сорок восемь часов, Спенсер окутал зеркало густыми клубами пара.
– Средство работает, – рассказывал он нам потом. – Было четко видно, где оно нанесено, а где нет. Признаюсь, я даже побрызгал на него немного, и на нем остались пятна от попавших капель. Но там, где я как следует намазал, зеркало стало кристально чистым.
– А может быть, так и назвать? – спросил я, озабоченный подбором подходящего названия.
– Что назвать?
– Это средство назвать «Кристальная чистота».
Барраклаф пожал плечами:
– Не пойдет. Слишком длинно.
Пришлось согласиться. С длинными названиями составлять рекламу труднее.
– Теперь давайте посмотрим на ветровое стекло машины, – продолжил он. – Я поставил ее в гараж недалеко отсюда. К счастью, дождливо, а мы можем позволить себе заплатить только за один день.
Вот это скупец! Плата за место в гараже, разве это деньги? Для Барраклафа важен каждый пенни.
До гаража идти было всего ничего, и на этом пути едва не разрешились все мои трудности. Потому что нам необходимо было пересечь улицу с односторонним движением. При таком потоке машин, как здесь, одностороннее движение было совершенно излишним. Непонятно, зачем его устроили. Когда мы вышли на переход, машин на улице вообще не было. Однако у меня уже выработался инстинкт обязательно смотреть в обе стороны при пересечении любой улицы. Ничего особенного, обычная предосторожность.
И сейчас это оказалось весьма кстати, потому что с другого направления, запрещенного, на приличной скорости двигалась машина. Наверное, какой-то провинциал не заметил запрещающий знак. Такое иногда бывает.
Увидев машину, я остался стоять на тротуаре. Барраклаф остановился где-то в ярде позади меня, у него развязался шнурок. А вот Спенсер (он шел слева от меня, а машина двигалась справа) пошел дальше как ни в чем не бывало. Ну, это же так просто, осмотреться, прежде чем переходишь улицу, но правила, видно, написаны не для таких идиотов, как Спенсер. Он шел вперед, наверное, погруженный в свои дурацкие мысли.
Да и водитель тоже хорош, заметил его в самый последний момент. Я видел, как его лицо исказилось от ужаса. Пронзительно завизжали тормоза, машина протащилась юзом по слякоти, развернулась и, выехав на тротуар, уперлась бампером в стеклянную витрину магазина. Это просто чудо, что ни машина, ни витрина не пострадали.
Конечно, я был возмущен выходкой водителя. Как можно так неосторожно вести машину, не глядя на знаки. Не помню точно, что я тогда сказал, но в любом случае водитель все равно никакой ответственности не понес, потому что полицейского, как всегда, поблизости не оказалось. В нужный момент вы их никогда не найдете, зато потом – пожалуйста.
Спенсер, конечно, отреагировал на это совершенно иначе. Он был склонен даже похвалить водителя за быстроту реакции и храбрость. Ведь он мог сам серьезно пострадать, если бы машина ударилась о стену или перевернулась. Вот так легко Спенсер может поставить все с ног на голову. Даже Барраклафа это удивило.
– Не понимаю, чем тут восхищаться, – сказал он. – Это инстинктивная реакция любого сидящего за рулем, даже новичка. Человек нажал на тормоз. Что тут особенного?
Но это уже было потом, после того как мы наконец пересекли улицу и подошли к водителю. Он был цел, невредим и, кажется, не очень испуган. Попеняв ему на невнимательность, мы двинулись дальше, и тогда я наконец обратил внимание на Спенсера.
Вид у него был, прямо скажем, потрепанный. Может, его все же задела машина, когда ее заносило, либо он потом оступился и упал, но на его лице под глазом красовалась внушительная ссадина, была порвана штанина и испачкан грязью бок.
– Как же так? – воскликнул я. – Мало того, что водитель никуда не годный, так и ты идешь, не смотришь под ноги и валишься в самое грязное место на дороге, еще глаз ухитрился подбить. Вид у тебя теперь, как у пьяницы после хорошей попойки.
Спенсер отозвался в своем духе:
– Хватит, Николас. Вместо того чтобы выразить хотя бы притворное сочувствие, ты городишь какую-то чепуху. Между прочим, в этом есть и твоя вина. Да-да, ты видел машину, сам остановился, но меня не окликнул.
– Я думал, ты ее тоже видишь.
Тут решил вставить слово Барраклаф, как всегда кстати:
– У тебя было достаточно времени предупредить Спенсера. Я стоял сзади и не мог понять, почему ты не оттащил его назад.
– А ты почему молчал? – вдруг спросил Спенсер, поворачиваясь к нему.
Барраклаф потупился:
– Да, я должен был тебе крикнуть, но так испугался, что потерял голос. Однако все же спохватился и ринулся тебя оттащить.
– Поздно спохватился. Машины уже не было. И вообще, это выглядело так, будто ты пытался меня под нее толкнуть.
Теперь Барраклаф понял, что попытка выставить меня в дурном свете повернулась против него самого. И он с кислой улыбкой решил замять неловкость, процитировав короткий стишок, как будто в тему. Вроде пародии на десять заповедей:
Другого жизни не лишай, Но с ней расстаться не мешай[52].Думаю, его слова здесь воспроизведены точно. Мне казалось, что тогда я не обратил на них внимания, но, оказывается, стишок запомнился и с тех пор часто звучит у меня в голове.
Моя задача состояла в том, чтобы помочь Спенсеру расстаться с жизнью, а не стоять в стороне и ждать, когда это само собой случится. Ведь я до сих пор так и не разработал план. Впрочем, я мог бы решить задачу без всякого плана, если бы воспользовался предоставившейся возможностью, а я ее так бездарно упустил. С другой стороны, машина появилась неожиданно, застала меня врасплох. Конечно, больше мне удача не улыбнется.
Вот так размышляя, я вместе с коллегами дошел до гаража. Они тоже шли молча. Барраклафа, наверное, обидели обвинения Спенсера. Неужели он действительно думает, что Барраклаф пытался толкнуть его под машину? Забавно бы получилось, если бы он сделал работу за меня. Молчание Спенсера понять легко – он отходил после шока.
Впрочем, один раз Спенсер голос подал: когда мы выкатили машину. Такую развалину надо еще поискать, а Барраклаф беспокоится о возмещении какого-то ущерба. Да весь возможный ущерб этой машине уже нанесен. Может, он надеется, что «Агентство» (в моем лице) купит ему новую? Так пусть и не мечтает, ничего не получится.
Когда мы с Барраклафом сели в машину, Спенсер окинул нас неприветливым взглядом, помедлил секунду и, перед тем как влезть, произнес, ни к кому не обращаясь:
– Пожалуй, если они тоже в машине, то за свою безопасность можно не беспокоиться.
Ничего не скажешь, приятную атмосферу он создал в начале проверки действия средства, которое мы собирались рекламировать. Происшествие при переходе улицы нас всех взволновало. В таком состоянии мы собрались куда-то ехать, чтобы проверить, как действует средство Тонеску, хотя и без того все было ясно. В довершение ко всему улицы поливал холодный дождь, мы злились друг на друга, а один из нас подозревал остальных в попытке убийства.
Глава 10
В любом случае сомнений в действенности изобретения Тонеску не было. Результат оказался поистине близким к чуду. Даже сквозь грязное ветровое стекло было все хорошо видно, включать дворники не требовалось. Правда, на стекле осталось два или три пятнышка. Они не мешали, но тем не менее я указал на них Барраклафу, потому что он, как всегда, из скупости пожадничал, недостаточно намазав чистящего вещества, хотя оно ему досталось бесплатно. Барраклаф заявил, что я все выдумываю, никаких пятен нет, и отрицал это даже тогда, когда я ему их показал. Заявил, что это у меня просто рябит перед глазами по причине плохой работы печени. Тут еще Спенсер – он теперь уже пришел в себя и неожиданно повеселел – принялся отпускать шуточки в мой адрес, будто я накануне вечером слишком много выпил. Думаю, это была попытка отомстить мне за намек насчет его подбитого глаза – сам хорош.
Утихомирить его удалось только предложением поменяться местами, чтобы он сел впереди и убедился, есть на стекле пятна или нет. Машина у Барраклафа была открытая, и заднее сиденье сильно промокло, но он, конечно, моего благородства не оценил. А ведь мне холод чрезвычайно вреден, в то время как Спенсер здоров как бык и сочувствие к другим у него полностью отсутствует. К тому же он и без того был весь измазан грязью.
К счастью, наша поездка вскоре закончилась. Еще больше я был рад, что они убедились в действенности изобретения Тонеску. Однако чувствовал я себя неважно, сильно замерз и потому очень хотел попасть домой, переодеться и погреться у камина, а затем уже приступать к работе. Я попросил Барраклафа, и, пока он недовольно морщился, Спенсер предложил заехать к нему посмотреть на зеркало.
– Зря ты стал чистить зеркало в ванной, – вздохнул я. – Взял бы переносное, прихватил с собой, мы бы посмотрели. А теперь надо всем тащиться к тебе. Зачем? Лично я верю тебе на слово.
Мне, конечно, хотелось, чтобы он заметил в моих словах упрек. Правда, чуть больше доверия с моей стороны сильно помогло бы наладить взаимопонимание. Однако он возмутился:
– Ты предлагаешь мне притащить в офис всю ванную комнату вместе с колонкой?
Я покрутил пальцем у виска:
– Ну что за глупости! Для проверки переносного зеркала хватило бы пара от чайника.
Спенсер махнул рукой:
– Ладно, Николас, хватит. Я вижу, ты собрался домой, подремать у камина часок-другой, так почему бы мне не последовать твоему примеру. Послушай, Барраклаф, когда высадишь его, подбрось, пожалуйста, и меня. В любом случае мне нужно переодеться.
– Потом я поеду в гараж поставить машину, – проворчал тот в ответ, – а после потащусь в офис, где меня ждет работа.
– Мы очень скоро к тебе присоединимся, – заверил его я, с трудом сдерживая раздражение. – И у меня уже будут готовые предложения относительно рекламы товара Тонеску.
Барраклаф снова принялся ныть, демонстративно не замечая моего рвения к работе. Он, видите ли, не понимает, как можно начинать действовать, не зная, сколько этот Тонеску собирается заплатить «Агентству», и как можно говорить о рекламе, не имея о товаре конкретных сведений. Наконец выдвинул свой коронный аргумент об отсутствии доказательств финансовой состоятельности Тонеску.
– Детали мы уточним потом, – возразил я. – Сейчас речь идет об общей стратегии рекламы.
Барраклаф недовольно на меня покосился. Он очень не любил, когда ему напоминали, что, кроме его работы, в «Агентстве» есть дела поважнее. Возможно, он хотел что-то ответить, но тут в разговор влез Спенсер со своим обычным сарказмом:
– Разве ты не видишь, Николас вознесся к вершинам, подобно Зевсу на Олимпе, и оттуда собирается ниспосылать нам свои божественные повеления.
Разумеется, это замечание меня возмутило. Уж в чем-чем, а в стремлении командовать меня упрекнуть было нельзя.
– Наверное, мне надо было сказать не Зевс, а Юпитер, – не унимался этот наглец. – Боюсь, о греческой мифологии наш ученый друг имеет смутное представление.
– Спешу напомнить, – парировал я, – что в школе мне преподавали те же предметы, что и тебе.
– Очень прошу, перестаньте, – проговорил Барраклаф. – Я развезу вас по домам, только не ссорьтесь. Надеюсь увидеть вас обоих в офисе перед чаем.
Дома мне удалось немного поспать, так что в офис я вернулся только к четырем. Однако сон, к сожалению, не был освежающим, потому что в последнее время мне постоянно снился один и тот же кошмар. Видимо, под влиянием переживаний по поводу заказа на рекламу румынского очистителя стекол. Вот и сейчас опять приснилось, как Тонеску наливает в чашку чай, подносит к ней зеркальце и показывает, что оно не запотело, а потом сыплет в нее горсть своих кристаллов и заставляет меня выпить, крича в ухо мои же слова: «Кто же, в самом деле, захочет такое есть?!» Буквально требует обязательно попробовать его изобретение на вкус. При этом называет меня полным именем: Николас Латимер.
Я проснулся ужасно напуганный, но в офис прибыл, как обещал, с четким планом рекламы, отличающимся необыкновенной простотой и логичностью. Суть его состояла в следующем: мы готовим рекламные листовки и рассылаем во все автомагазины и гаражи. Для начала в Лондоне, но с намерением расширить охват. Это зависит от того, насколько просто удастся получить соответствующие адреса в провинции. Распространять листовки мы наймем людей, обслуживающих торговлю по почте.
Кроме этого, мы поместим рекламу только в «Дейли мейл», но на регулярной основе, обеспечив тем самым непрерывность. Газета популярная, должно сработать на славу. Желательно вначале поместить нашу рекламу на первой полосе, хотя это не просто, а без очереди фактически невозможно. Так что первые три-четыре раза, видимо, придется удовлетвориться тремя колонками по десять дюймов, а потом двумя по семь-восемь дюймов два-три раза в неделю в течение трех месяцев. Ну а дальше посмотрим. Если я смогу располагать достаточным газетным пространством, то будет смысл говорить о создании более яркой и результативной рекламы, которая станет бросаться в глаза, и тогда надобность в первых полосах отпадет. При этом помимо крупного первоначального материала потребуется подготовить около четырех рекламных вставок, повторяющихся без изменений. План казался проще простого, и я был абсолютно уверен в его успехе. Однако стоило мне заговорить с коллегами, как они тут же выступили со своими идеями.
Спенсер ратовал за то, чтобы рекламируемый продукт отнести к категории люкс и продавать по высокой цене, в то время как я предлагал сделать его привлекательным для широкого круга потребителей. Автомобилистов, а также мужчин, собирающихся бриться, и вообще для всех, кто смотрится в зеркало и не желает, чтобы оно запотевало. Спенсер собирался размещать рекламу в дорогих газетах и журналах, таких, как «Скетч», «Татлер» и «Байстендер», которые, по моему мнению, для наших целей никак не годились по причине дороговизны рекламных мест. Барраклаф со мной соглашался. Я продолжал настаивать, что самое подходящее для нас издание – это «Мейл».
– Все так, Николас, – отозвался Спенсер своим покровительственным тоном, – но мы с тобой оба достаточно поднаторели в рекламном деле, чтобы не учитывать покупательскую способность читателей этих изданий, а также число читателей на каждый экземпляр. Думаю, нам надо не забывать и о «Панче».
Последнее предложение Барраклафу явно не понравилось. Видимо, у него прежде с этим журналом были какие-то трения. Дело в том, что там к рекламщикам подходили по-деловому и неукоснительно требовали оплату в срок.
– В «Панче» непозволительно дорого, – возразил я. – «Мейл» предпочтительнее. У нее и тираж больше, и наш материал не поставят в самый конец, потому что в таких изданиях не располагают рекламу рядом с текстом.
– Я вижу, ты взялся учить ученого, – так прокомментировал мои слова Спенсер. – Позволь напомнить тебе об известном всем факте – рекламу в «Панче» действительно читают, так что то, где она расположена, значения не имеет.
Он мнил себя в этот момент очень умным.
– Мое мнение таково, – подал голос Барраклаф, – что вы оба слишком размахнулись. Во что нам обойдется предложение Спенсера, пока неизвестно, а вот трехмесячная реклама в «Мейл», которую предлагает Латимер, будет стоить почти пять тысяч.
– Ну и что, – устало произнес я, – разве мы не можем себе позволить расход в пять тысяч? При любом раскладе нам следует выделить на эти цели не меньшую сумму.
– А может быть, мы вначале попытаемся выяснить, есть ли у Тонеску эти пять тысяч, – заметил Барраклаф.
– Должны быть. К тому же с таким товаром все наши расходы с лихвой окупятся.
– Если все сработает.
– Должно сработать.
Барраклаф пожал плечами:
– Я предлагаю для начала поместить простенькую рекламу в автомобильной прессе. Например, в… – И он прочел нам целую лекцию о газетах и журналах, так или иначе связанных с автомобилями, с указанием тиражей, цен и сведений о читателях. Он, должно быть, потратил на подготовку целый день. Некоторые подробности были явно излишними, но Барраклаф сыпал ими, не останавливаясь. Оказалось, что все это обойдется «Агентству» в сумму, не превышающую семисот пятидесяти фунтов. Он назвал даже точную цифру, которую я запомнил, – семьсот тридцать один фунт, двенадцать шиллингов и шесть пенсов. Для Барраклафа и полпенса имели вес, и он им никогда не пренебрегал. Расходы на художественное оформление и изготовление формы еще не были подсчитаны, но они тоже ожидались незначительными.
– Если, конечно, Латимер не затеет что-нибудь исключительное, – добавил он, заканчивая свою длинную речь. – После чего можно будет подыскивать и другие издания. А пока мы познакомим с нашими планами Тонеску.
– Пойдем к нему каждый со своим планом? – проговорил Спенсер, глядя в потолок. – Или все вместе? Ему, наверное, будет сложно выбрать, тем более что он не знаком со спецификой английской прессы. Так что придется бросать монету.
– Никакой монеты бросать не надо, – произнес я. – Эти вопросы в моей компетенции как директора, отвечающего за производство, значит, мне и решать.
– К твоему сведению, – раздраженно проговорил Барраклаф, – выбор газет и журналов для размещения рекламы осуществляет исполнительный директор, каковым являюсь я. Тем более вам обоим далеко до меня в знании прессы.
– А вы забыли, кто получает от клиента подпись на контракте? – воскликнул Спенсер. – Это я. Значит, последнее слово за мной, тут нечего и думать.
Я начал возмущенно возражать, но он меня остановил:
– Так, может, бросим жребий сами и не будем беспокоить Тонеску?
– Начнем с того, что наконец выясним, сколько он готов нам заплатить, – сказал Барраклаф.
– А почему бы нам не доверить выбор рекламной кампании профессионалу? – подал голос я, взывая к их здравому смыслу.
Барраклаф неприятно заулыбался, а Спенсер начал насвистывать какую-то печальную мелодию.
– Я думаю, мой план стоит не больше двух тысяч, – произнес он, закончив свое представление. – Но мы, очевидно, договориться не сможем ни по этому вопросу, ни по любому другому. Так что нам все же придется предстать перед Тонеску. Сообщить, что мы имеем три плана рекламной кампании. Каждый по-своему хорош, а выбор зависит от наличия соответствующего количества фунтов, шиллингов и пенсов.
– И что дальше? – спросил я.
– А дальше мы узнаем, как далеко распространяется щедрость этого румынского магната, и остановимся на том плане, чья стоимость ближе всего подойдет к его сумме. Надеюсь, мне удастся с ним поладить, если не будет никаких помех.
Я кивнул:
– Хорошо. Хотя вести переговоры с Тонеску следовало бы мне, потому что нашел его все-таки я, но, думаю, и тебе не мешает иногда поработать. Так что давай, действуй. Уверен, что, хотя он и не знаком со спецификой английской прессы, все равно увидит преимущества моего плана.
– А я не сомневаюсь, что будет выбран мой план, – проговорил Барраклаф. – Но ты, Спенсер, должен нам пообещать, что не станешь проталкивать свой в ущерб остальным.
Довольный, что ему доверили вести переговоры с заказчиком, на что он и не надеялся, Спенсер повеселел и подобрел. Сказал, что готов всучить Тонеску любой вариант, на который тот согласится. И что он не собирается цепляться за свой, а затем со смехом добавил:
– Возможно, я смогу продать ему все три.
Глава 11
Конечно, это было нелепо и абсурдно, но вполне в духе Спенсера. Он пытался во всем находить смешное, и никогда не угадаешь, какую из неподходящих ситуаций он выберет для упражнений в остроумии и какой вполне серьезный факт покажется ему смешным.
Я убежден, что юмор в рекламе неуместен. Да, можно встретить слоганы, заставляющие рассмеяться, но кто знает, сколько из них повлияли на увеличение продаж товара. Думаю, такое случалось лишь в редких случаях. Зато можно встретить многочисленные примеры обратного. Мне кажется, самые смешные рекламные фокусы никогда не оправдывают возлагаемых на них надежд, потому что результативность рекламы определяется ее непрерывностью. Идея должна вдалбливаться в головы, пока потенциальные покупатели не станут реагировать на нее автоматически, а повторяющиеся шутки быстро надоедают и начинают раздражать людей. Когда шутка перестает смешить, реклама теряет смысл.
Но я возвращаюсь к нашим делам. Спенсер отнесся к своей миссии крайне легкомысленно. Подумать только, три разных плана рекламы одного и того же товара, принципиально отличающиеся друг от друга. Какой из них выбрать? Он даже предлагал бросить жребий. Глупо. Разве серьезные дела так решают?
Еще глупее выглядела идея предоставить выбор клиентам. Спенсер всегда почему-то пытается им внушить, что они имеют право голоса по части рекламы своего товара, хотя ничего в этом деле не понимают. Производить товар и его рекламировать – задачи совершенно разные, и заниматься ими должны разные специалисты. От клиента требуется только одно – финансировать рекламу, а остальное уже наша забота.
Смог ли я убедить в чем-то Спенсера? Иногда он даже частично признавал мою правоту, но по-прежнему считал, что решать все должен рекламодатель. Даже если он в чем-то ошибается, нам следует с ним соглашаться, иначе он откажется от наших услуг. В соответствии с этим Спенсер всегда выставлял на суд невежественного в рекламном деле заказчика все наши материалы – рисунки Томаса, мое творчество, перечень выбранных нами для размещения рекламы изданий – только на том основании, что тот платит. В итоге реклама у нас получалась менее качественная, заказчик начинал предъявлять претензии, а Спенсер, вопреки логике, его поддерживал.
Что касается Тонеску, то конкретных рекламных материалов еще не было, но не приходилось сомневаться, что мой коллега, с которым я, на свою беду, впрягся в одну повозку, собирается действовать, как обычно. То есть предоставить Тонеску выбрать из трех наших вариантов рекламной кампании тот, который ему больше всего понравится. Без какого-либо обсуждения. Я думаю, Спенсер просто ленился этим заниматься. Хотя подробно разработал вариант с размещением рекламы в «Панче», «Байстендере» и других подобных изданиях, доведя стоимость до желаемых двух тысяч. Затем вынудил Барраклафа все тщательно проверить, а мисс Уиндэм напечатать кучу бумаг.
Ему, конечно, хотелось, чтобы я тут же подготовил рекламные материалы для всех трех вариантов, разумеется, с картинками, хотя прекрасно знал, что времени на это у меня нет, да и не стану я заниматься его глупостями.
Возмутительно также, что он все это проворачивал за моей спиной, уверенный, будто без меня получится еще лучше, и тайно отправился на встречу с Тонеску. Барраклаф об этом тоже ничего не знал.
Затем он с лучезарной улыбкой собрал нас в офисе, торопясь похвастаться своим триумфом:
– Дело сделано. Все получилось до смешного просто.
– Что получилось? – спросил я, сдерживая раздражение. Светящаяся счастьем красная физиономия Спенсера была мне противна.
– Продал Тонеску наш товар, – ответил он, кладя на стол договор, подписанный клиентом. – Он согласился, не торгуясь, на все три варианта. – Спенсер весело рассмеялся.
– Не вижу тут ничего смешного, – заметил я.
– Отчего же, – возразил он, – разве то, что мне удалось всучить ему все три варианта, не смешно?
– Тебе будет не до смеха, когда возникнет путаница из-за того, что варианты несовместимы, и мы прогорим.
– Почему несовместимы? Что-то поправим в одном варианте, что-то изменим в другом, и дело пойдет, – беззаботно проговорил он. – И может быть, не стоит привязывать материал к определенной газете, на случай если Тонеску какая-то не понравится.
Тут я был готов с ним согласиться. Мне самому не сильно нравилась такая привязка, когда в газете печатают отрезной бланк для заказа, где ясно видно, откуда он взят.
– Тебе придется поспешить с подготовкой рекламных материалов, которые Тонеску должен будет одобрить, – продолжил Спенсер.
– А зачем вообще нужно его одобрение?
Сейчас мы оба почувствовали, что возвращаемся к нашему старому спору по поводу участия заказчика в организации рекламной кампании, но снова затеять дискуссию нам помешал Барраклаф.
– Ты обсудил с ним вопрос финансирования? – спросил он.
Спенсер засмущался. Он ведь прекрасно понимал, что не имеет права подписывать договор, пока не будет выполнено главное требование Барраклафа о проверке финансовой состоятельности клиента. Я был уверен, что с этим проблем не возникнет, но все равно к коллеге надо было прислушаться.
Как и следовало ожидать, Спенсер заюлил:
– Нет. Я решил, что ты с этим справишься лучше.
– Понятно. Как же ты предлагаешь мне теперь начать с ним этот разговор? Когда уже подписаны документы, правда, без указания сроков.
– А сроки зависят от того, когда Николас сможет подготовить материалы.
– Что же получается?! – гневно воскликнул Барраклаф. – После того как Тонеску выполнил все наши условия, я должен пойти к нему и сказать, что мы не вполне уверены в его финансовой состоятельности и порядочности. Думаю, это усложнит ситуацию.
– Ты это прекрасно уладишь, – проговорил Спенсер, не теряя спокойствия.
– К твоему сведению, я это уже уладил, – проговорил Барраклаф с нотками иронии в голосе.
– Что?
– Да. Я предвидел, что ты поведешь себя именно так, и потому вчера встретился с Тонеску. Желаемых финансовых гарантий мне он не дал, но кое-что прояснилось. Так что, я полагаю, мы можем рискнуть, разумеется, соблюдая осторожность.
– Почему ты так поступил? – обиженно проворчал Спенсер. – Из-за тебя все мои усилия могли пойти насмарку.
– Мне пришлось это сделать, потому что ты действовал необдуманно.
Я решил, что пора вмешаться и повернуть разговор в другое русло:
– Может быть, обсудим задачи, стоящие перед нами? Я уже совсем запутался и не знаю, чем теперь заниматься, хотя работы невпроворот.
Услышав это, Спенсер стукнул кулаком по столу:
– Я ожидал от вас хоть какой-то похвалы, но куда там! Каждый дует в свою дудку, а ведь я только что заключил контракт на десять тысяч фунтов.
– Не забывай, что половину успеха обеспечил я, – тем, что нашел заказчика.
– Кстати, – подал голос Барраклаф (терпеть не могу его манеру начинать любую фразу со слова «кстати», как будто ему принадлежит право всегда за нами что-то уточнять), – вчера я практически договорился с ним о контракте. Показал вторые экземпляры документов. У нас был долгий разговор, в ходе которого он уяснил преимущества сотрудничества с нами. Пришлось сделать вид, будто я знаю о твоем завтрашнем визите к нему, и он заверил меня, что подпишет все твои бумаги, не читая. Так что приписывать себе все заслуги не совсем верно, хотя, надо признать, ты поработал неплохо. Кстати, – добавил он, немного помолчав, – Тонеску прекрасно понял мой намек, что в разговоре с тобой лучше не упоминать о моем визите. Выходит, он умнее, чем я полагал.
На этот раз Спенсер промолчал, сказать ему было нечего. Выражение лица у него было такое обиженное, что я не удержался от смеха.
– Смейся, паяц, – зло бросил он единственное, что смог придумать.
– Спасибо за совет, – проговорил я. – Вот сейчас ты меня действительно развеселил. Можно было обойтись и без оскорблений.
– Кстати, – произнес Барраклаф, уже в третий ряд подряд употребляя это слово, – мы так и не придумали название товара.
– Я уже предлагал «Кристальная чистота», – сказал я.
– Тут нет намека на автомобили, – возразил Спенсер. – Название должно быть броское, быстро запоминающееся.
Я предложил еще пять вариантов, но они все по тем или иным причинам были отвергнуты. Ничего стоящего не смогли придумать ни Спенсер, ни Барраклаф. Мы просидели без толку больше часа, горячась и споря, и тут Спенсер спохватился:
– Давайте позвоним Тонеску, может, у него есть идеи.
Прежде чем мы с Барраклафом успели ответить, он попросил мисс Уиндэм соединить телефон Тонеску с моим кабинетом, где мы собрались.
Румынский коммерсант отозвался мгновенно.
– Добрый день! – произнес Спенсер. – Мы в данный момент обсуждаем название вашего средства для очистки стекол. Нет ли у вас на этот счет каких-то предложений? Что? Вы уже зарегистрировали название? Неужели? И как оно звучит? Понятно, понятно, название румынское. Нет, оно нам прекрасно подходит. Думаю, проблем не будет.
Мне не нравился развязный тон Спенсера, но ничего не поделаешь, придется позволить ему закончить разговор.
– Да-да, я все понял. На редкость удачно придумано. Большое спасибо. До свидания.
Он положил трубку и повернулся к нам:
– Представляете, они дали своему очистителю название города, где он был произведен. «Галац». Насколько я понял, оно уже зарегистрировано. Так что нам придется с этим смириться.
– Пусть будет «Галац», – пожал плечами я. – Нам-то какая разница. Хотя некоторые из моих вариантов звучали лучше.
– Это тоже звучит совсем неплохо, – добавил Барраклаф.
Глава 12
Теперь, когда появилось название, спорить было не о чем. Тем более товар говорил сам за себя, и как бы Спенсер и Барраклаф ни старались мне помешать, я все равно собирался представить его на рынке в должном свете.
Надо смотреть вперед и ждать триумфа, а он несомненно наступит. Повсюду будут говорить об этом средстве для очистки стекол и вспоминать нашу рекламу. К тому же мы получаем замечательную возможность показать рекламодателям эффективность работы «Агентства». Я указал на это Барраклафу и заметил, что мы имеем полное право гордиться успехами. Однако он призвал меня не торопиться праздновать победу.
– Учти, вариант рекламной кампании выбрал Тонеску. Он же ее финансирует. Название своему товару придумал тоже он. Так что Тонеску тут главный.
– Чепуха! – воскликнул я. – Он сам сказал, что не знает, как организовать продажу своего товара в нашей стране.
– Не знает, не знает, но пока все решил за нас.
На этом мы разговор закончили.
Без поддержки коллег начинать работу очень трудно. Но они действовали как раз наоборот. Ни единого доброго слова, словно сговорились, а для меня это было просто необходимо.
В любом случае следовало приниматься за сочинение текста рекламы, но не успел я сесть за стол, как меня отвлекли. Мне удалось лишь написать: «А теперь ветровое стекло вашей машины будет всегда чистым», но я сразу это зачеркнул, потому что боялся, как бы Спенсер не вспомнил рекламу товара Энрикеса. В этот момент появилась мисс Уиндэм сказать, что звонили из журнала «Практикующий врач», требовали рекламу «Флукицида». Владелец этого снадобья для меня чистое наказание. Я попросил мисс Уиндэм найти что-нибудь подходящее из того, что мы давали в «Аптекаре и фармацевте», и отправить в «Практикующий врач», потому что рекламу «Флукицида» начали публиковать там совсем недавно, это был, кажется, второй раз. В принципе, они вполне могли оставить тот же материал.
– О, мистер Латимер, – запричитала она, – у меня не получится.
Дурочка, что с нее возьмешь.
– Что же у вас не получится? – спросил я.
– Как что? Решить, какую рекламу им послать.
– Тогда пойдите и спросите у мистера Барраклафа.
Я вернулся к работе над рекламой «Галаца», осознавая, что скоро мне придется объясняться с Барраклафом, которому определенно не понравится, что я взвалил на него лишнюю работу, не входящую в его обязанности. Придется ему напомнить, что я взвалил на себя несоизмеримо больший груз, связанный с «Галацем». То, что я нашел заказчика, это, как говорится, само собой, но мне пришлось долго сидеть за составлением плана рекламной кампании, придумывать название (оно не пригодилось, но я все равно затратил время) и так далее. Да, финансами я не занимался, но мне и того, что было, оказалось вполне достаточно. И вот теперь, когда я фактически расчистил путь и взялся наконец за собственную работу, требующую максимальных временны́х и душевных затрат, никто из них помогать мне не собирался. Да я и не стану ни о чем их просить. Они же в моем деле совершенно ничего не смыслят.
Впрочем, времени на обдумывание своих трудностей у меня не было, и я продолжил работу над заголовком рекламы. Решил вставить строчки из детской песенки о дожде, но потом отказался. Не совсем уместно. Попробовал зайти с другой стороны: пофантазировать насчет превосходной прозрачности стекла. Вспомнил широко известную рекламу светлого портвейна и добавил к ней строчку о солнечных зайчиках, играющих на ветровом стекле. Но все было не то. Ни один из вариантов меня не устраивал. Каждый был далек от совершенства.
В конце концов я подумал, что лучше всего, пожалуй, придумать рекламный текст-обоснование, быстрее убеждающий покупателя. И тут же в голове начали вспыхивать одна за другой идеи. Я закрыл глаза, давая им устояться, ожидая появления варианта, подходящего на все сто процентов. Он уже начал формироваться у меня в голове, как дверь неожиданно распахнулась и вошел Спенсер:
– Ну ты даешь, Латимер! Теперь, когда наконец пришла твоя очередь сделать что-то полезное, можно было бы чуточку и пободрствовать на работе.
Это уже никуда не годилось. Он покрутился в моем кабинете пару секунд и ушел, но настроение основательно испортил. Самое ужасное, что плодотворные мысли испарились. Я тщетно ждал их возвращения, размышляя о коварстве коллеги. Оказывается, он приходил просто посмотреть, чем я занимаюсь. Какая наглость!
Вот в таких условиях приходится работать. Поскольку идеи текста рекламы без следа испарились, я взялся обдумывать, каким будет оформление. Конечно, сначала должен появиться текст, а уже к нему следует привязывать рисунки, но поскольку работу над текстом мне пришлось пока отложить, надо было занять чем-нибудь нашего художника Томаса, а то он бездельничает целыми днями, не отрабатывая зарплаты. Так пусть изготовит для начала несколько эскизов; если они потом не пойдут в дело, ничего страшного. По крайней мере, это отвлечет его от любимого занятия в свободное время – рисования портретов мисс Уиндэм. Надо сказать, что он на своих творениях нашу секретаршу изрядно приукрашивает, на них не видны кроличьи зубки – ее отличительная черта. Мне кажется, Томас надеется со временем стать настоящим портретистом. Ну и пусть. Я, в принципе, не возражаю, чтобы он льстил своими рисунками несчастной девушке, думаю, она этим не слишком избалована, но его художества тормозят работу. Кроме того, мисс Уиндэм в последнее время начала слишком высоко задирать голову, лепить одну опечатку за другой и даже вызывающе вести себя.
Так что подкинуть Томасу работу было бы сейчас совсем неплохо, даже если рисунки потом не понадобятся. Он мог бы подготовить небольшие эскизы, где струи дождя ударяют о ветровое стекло автомобиля после обработки «Галацем», а в салоне уютно расположились водитель и пассажиры. Неплохо было бы ему также выбрать шрифты для слова «Галац». Буква «Г» должна выделяться своей округлостью, и все слово должно ярко отражать суть рекламируемого продукта – чистоту и прозрачность. Пусть он попробует изобразить ванную комнату, окутанную облаками пара, с двумя зеркалами. Одно запотевшее, другое чистое. Может быть, тут стоит ввернуть какой-нибудь парафраз из «Гамлета», где он говорит: «Вот два изображенья: вот и вот…»[53], если я правильно помню, и слово «изображенья» заменить на «зеркала»?
Я вышел в приемную сказать мальчику-посыльному, чтобы он пролистал «Гамлета» и отыскал нужную мне строчку, а потом решил, что сам потом посмотрю в словаре шекспировских цитат, так будет проще, и направился к Томасу дать задание.
Он удивил меня своими возражениями:
– Простите, сэр, но вы сами рекомендовали ничего не рисовать заранее. Приступать, только когда появится надлежащий текст.
Немного подумав, я согласился, потому что это была правда. Я действительно говорил ему такое, причем несколько раз. Пришлось немного слукавить:
– Сделайте это в виде исключения, что, как известно, подтверждает правило. – Прозвучало не очень убедительно, но ничего не поделаешь. – Дело в том, что время сильно поджимает, – продолжил я. – Желательно начать работу немедленно. Возможно, понадобятся не все рисунки, но со временем мы их тоже используем.
Выслушав меня, Томас повел себя странно. Признаться, он мне вообще не сильно нравился, но я считал его достаточно усердным. Он не был взбалмошным, как некоторые художники, возможно, потому, что настоящим пока себя не считал, и прежде никаких трудностей у меня с ним не возникало. Теперь, вспоминая ту ситуацию, я жалею, что просто не приказал ему работать, а начал слушать его бормотание. Но, наверное, к лучшему, что так получилось, иначе бы я не раскрыл интригу, какую плел за моей спиной Спенсер.
Произошло это следующим образом.
– Но сейчас у вас, кажется, работы нет, – сказал я. – Или есть?
– Нет… нет, – ответил он.
Первое отрицание он произнес как-то очень медленно, а второе чересчур быстро, при этом странно поглядывая на довольно увесистую папку, лежащую на шкафу. Повинуясь инстинкту, я взял ее и раскрыл.
И что же в ней было? Совершенно уверен, вряд ли бы кто догадался. Я и сам не сразу сообразил, что это такое. Сначала мне показалось, что в папке рисунки, которые Томас делал для себя в рабочее время. Но вскоре выяснилось, что ситуация гораздо хуже. Меня просто обвели вокруг пальца. Бессовестным образом. В папке лежал полный комплект эскизов рекламы продукции пресловутой консервной фабрики в Грейфилдсе, которая, подчеркиваю, еще не существует и, скорее всего, никогда не появится и с которой мы твердо решили не иметь дел. По крайней мере, так решил я, что сути не меняет.
Чего там только не оказалось: и баночные этикетки, и эскизы товарного знака, на которые противно было смотреть, и тщательно выполненные красочные картинки с клубникой, сливами и зеленым горошком. Один рисунок выделялся – на него, наверное, Томас потратил много часов, – овощное ассорти: морковь, фасоль, свекла, помидоры. Я не стал гадать, куда они собирались пристроить эту красоту, мне было очень жаль потраченного времени и энергии, потому что результат получился плачевный. Иначе и выйти не могло без моего руководства.
Полюбовавшись вдоволь его творениями, я наконец заметил на полу бумажный рулон и поднял посмотреть. Оказалось, что это еще одна примечательная вещица из той же серии. Так сказать, итоговая. Название фирмы с торговым знаком, а под ними россыпи сочных персиков и вишен с примитивным призывом покупать замечательные фруктовые консервы фабрики в Грейфилдсе. Удивительно, что они забыли про виноград. Он бы сделал рекламу еще ярче. Я продолжал разворачивать рулон, а он все не кончался.
– И для чего этот монстр предназначен?
– Вешать на автобусы, по бокам, – ответил Томас.
– Понятно. Кто поручил вам тратить время на подобную ерунду?
– Мистер Спенсер.
– Вот оно что! С каких это пор мистер Спенсер начал давать вам распоряжения?
– Он сказал, чтобы я занялся этим, если не будет другой работы, и добавил, что, возможно, понадобятся не все рисунки, но со временем он их тоже использует.
– Язвить совсем не обязательно, – возмутился я. – Не сомневаюсь, мистер Спенсер сказал это как-то иначе, а не моими словами. Это мне придется забрать.
Я начал собирать хлам, на который Томас наверняка потратил массу времени, не очень заботясь, чтобы не помять. Чего церемониться, если все равно эта белиберда отправится на свалку. Я не допущу, чтобы рекламные материалы «Агентства» выходили без моего одобрения. И Томас должен это знать.
– А теперь… – начал я.
– …новая рекламная кампания, – закончил за меня Томас.
Это прозвучало как насмешка, но у него был такой простодушный вид, и я притворился, будто не заметил, что он передразнивает мой излюбленный прием начинать рекламные слоганы. Просто строго на него посмотрел и закончил:
– Теперь вы будете заниматься нужным делом. Выполнять мои задания.
Покинув Томаса, я направился в кабинет Спенсера, где провел совсем немного времени. Вошел и, не говоря ни слова, начал по очереди доставать из папки рисунки и со смехом их разглядывать. Они действительно были забавные. После чего, не давая Спенсеру опомниться, порвал их все до одного и швырнул обрывки ему в лицо. Расправиться с рулоном он мне не дал – успел выхватить.
Потом я ушел, так и не сказав ни слова. Конечно, рулон надо было тоже уничтожить, но не затевать же драку.
В таком состоянии я еще не видел Спенсера. Лицо у него было краснее свеклы и помидоров на рисунках Томаса. Он буквально онемел от ярости. Хорошо, что я вовремя вышел, иначе возникла бы потасовка, а у нас разные весовые категории. Так что я поступил мудро.
О том, чтобы продолжить сегодня работу, не могло быть и речи, несмотря на горячее желание поскорее что-то сделать по «Галацу», поэтому я отправился домой, надеясь все хорошенько обдумать, после того как успокоюсь.
Глава 13
Подумать мне удалось, а вот успокоиться – нет. Пытаясь отвлечься от неприятностей, связанных со Спенсером, я принялся листать «Гамлета» в поисках подходящей цитаты, но вскоре мне это занятие наскучило.
Поработать над рекламой «Галаца» тоже не получалось. Всему виной были Спенсер и его затея с рекламой консервной фабрики. От него определенно надо избавляться. Но как? Честным путем не сработало. Мои попытки вывести Спенсера из совета директоров и выкупить его долю провалились. Я даже предлагал ему просто уйти и по-прежнему получать треть от прибыли «Агентства», но он и на это не согласился, смеясь мне в лицо.
Пришла пора прибегнуть к радикальным мерам. Теперь я был готов на все, лишь бы поскорее убрать его с моих глаз.
Однако такие люди, как Спенсер, необыкновенно живучи, и убить их нелегко. Очень нелегко. В старину он бы погиб на дуэли еще в ранней молодости за несносное поведение, а сейчас надо напрячь мозги и придумать что-нибудь подходящее.
И тут мне в голову пришла отличная мысль. Ядовитые кристаллы «Галаца» – вот идеальное орудие убийства. Удивительно, что я не вспомнил о них раньше. Кристаллы под руками, объяснений, откуда они взялись, не потребуется. Как я уже упоминал, самые лучшие идеи являются ко мне спонтанно, поскольку я долго думал над этим, сам того не осознавая.
Я уже давно перебираю в уме способы устранения Спенсера, не признаваясь себе в этом. Когда Тонеску принес банку с кристаллами «Галаца» и вручил Барраклафу, тот предложил мне тоже взять немного, на чем-нибудь попробовать. Я отказался, но затем потихоньку утащил горсть из банки – так, на всякий случай. Теперь это обстоятельство оказалось как нельзя кстати. В случае чего можно будет призвать Барраклафа в свидетели, что кристаллы я не брал. Я тогда не поленился надеть перчатки, так что, даже если мои отпечатки найдут на банке, можно ответить, что да, я ее тронул случайно, но внутрь не залезал.
Если кристаллы отлично растворяются в воде, то и в чае тоже. Значит, Спенсеру предстоит выпить чаю со средством для очистки стекол, которому Тонеску придумал звучное название «Галац». Спенсер наверняка положит в чай сахар, так что вкус вообще не почувствует и ничего не заподозрит. Там более он пьет чай особым образом – ждет, пока остынет, а затем выпивает залпом. Мне всегда было противно на это смотреть, но теперь эта привычка оказалась кстати.
Насыпать ему в чай кристаллы проще простого. Мисс Уиндэм каждый день ровно в половине пятого – пунктуальность является одним из немногих ее достоинств – обходит кабинеты с подносом с тремя чашками чая и тремя бисквитами. Начинает с Барраклафа, затем посещает меня и заканчивает Спенсером. Ничего не стоит попросить ее принести необходимый мне документ – у меня нередко возникала такая необходимость именно в тот момент, когда она разносит чай, так что ничего удивительного в этом никто не усмотрит. Кстати, когда я в такие моменты иногда посылал мисс Уиндэм за чем-нибудь, Спенсер непременно начинал выражать недовольство тем, что, пока она ходит, его чай стынет у меня на столе. Как будто ему не все равно, раз он пьет его холодным. Но шум он устраивает специально, чтобы мне досадить.
Когда мисс Уиндэм выйдет, мне останется только насыпать в его чашку кристаллы, не прикасаясь к ней. После чего с невинным видом заняться своими делами. Между прочим, чай у нас все пьют по-разному. Спенсер, как я уже упоминал, некоторое время не обращает на него внимания, а затем залпом опрокидывает остывший. Барраклаф любит подчеркнуть, что он ни на секунду не прекращает работу, чем бы ни занимался. Разумеется, это притворство. Сидит, сосредоточившись на колонках с цифрами, и время от времени подносит к губам чашку. Я же, как правило, на несколько минут забываю о работе, чтобы в полной мере почувствовать освежающее действие мягкого бодрящего напитка, потому что моя работа требует существенно больших умственных усилий, несравнимых с тем, что делают эти двое. Конечно, Спенсеру не дают покоя мои несколько минут перерыва, и он не перестает меня в этом упрекать, но от него вообще ничего иного и ждать не следует. Этот человек не одобряет мои действия, все без исключения.
Таким образом, уже без четверти пять, если, конечно, кристаллы Тонеску обладают теми свойствами, о которых он говорил, все мои печали закончатся. Оскорбления, мелочные придирки и прочее будут отомщены. Чуть было не включил сюда унижения, но вспомнил, что Спенсер, с его убогим умишком, не способен меня унизить.
Вот такой возник замысел. Но прежде чем приступить к его осуществлению, надо подготовиться к расследованию смерти Спенсера. Во-первых, не должно быть улик, которые могли бы поставить меня под подозрение, во-вторых, следует придумать правдоподобную причину его гибели.
То, что кристаллов у меня нет, известно всем. Чтобы их случайно не обнаружили, я выброшу все, кроме небольшой порции, предназначенной для чая. Принесу ее в конверте, который потом выброшу в окно. Никто на улице не подумает нагнуться, чтобы его поднять, – зачем он кому-то нужен? – а потом его сдует ветром. Чтобы этот конверт нельзя было связать со мной, я куплю пачку дешевых и выброшу все, кроме одного.
Придумать же повод, чтобы ненадолго отослать мисс Уиндэм из кабинета, легко. Что касается наших постоянных ссор со Спенсером, то у меня и с Барраклафом отношения тоже не блестящие. Я даже подумал, а не подстроить ли все так, чтобы подозрение упало на него, но быстро понял: не стоит. Он может что-то почуять и захочет сам выяснить, как умер Спенсер. Зачем мне это? Кроме того, Барраклаф нужен для рутинной работы в «Агентстве».
По той же причине я отказался от мысли попытаться впутать в это дело Томаса или мисс Уиндэм. У них нет достаточных мотивов. Даже если они его терпеть не могут, что неудивительно, все равно для убийства этого маловато. Нет, все надо обставить так, чтобы его смерть выглядела как самоубийство или несчастный случай. Впрочем, версию самоубийства вряд ли кто-то сочтет правдоподобной. Самоубийцы, как правило, несчастны в личной жизни либо ощущают приближение неотвратимого краха, а Спенсер неугомонный оптимист, жизнелюб, и шкура у него, как у носорога. Куда правдоподобнее выглядело бы самоубийство такого, как я, обладающего тонкой художественной натурой. Только не Спенсера.
Остается несчастный случай. Организовать его не так легко, но у меня получится.
Вот один из вариантов. В ящике стола Спенсера обнаружат кристаллы «Галаца», которыми он «случайно» отравился. Произошло это так: Спенсер хранил кристаллы в небольшой жестяной коробочке из-под бесполезного лекарства «Флукицид». Я видел, как он ее доставал, чтобы насыпать туда кристаллы для проверки средства дома на зеркале в ванной, а через пару дней заметил, что эта коробочка снова у него в столе. Помню, как он отреагировал на мое замечание, что в таких коробочках только яд и держать.
Я могу потом тайком пройти в его кабинет и перевернуть коробочку, чтобы кристаллы высыпались. Тогда это будет выглядеть так, словно он случайно уронил в ящике коробочку и несколько кристаллов попали к нему в чай. Подумав, я решил, что это не слишком убедительно и для инсценировки несчастного случая не подходит. К тому же заходить в нему в кабинет в тот момент для меня было бы крайне нежелательно.
Можно проникнуть в кабинет Спенсера, встав пораньше или в то время, когда его точно не будет в офисе, и взять эту коробочку, а потом забросить обратно через вентилятор между нашими комнатами. Но мне опять это показалось неубедительным. Как могли рассыпанные по полу кристаллы попасть в чашку с чаем? Этот вариант был даже хуже предыдущего.
Затем меня осенило. Ведь Спенсер уже однажды принимал «Флукицид», так почему не предположить, что ему понадобилось принимать его снова? Я куплю упаковку «Флукицида» и положу ему в ящик стола на то место, где лежала старая, а старую переложу чуть подальше. Тогда будет легко поверить, что он перепутал коробочки и вместо лекарства принял яд.
Но тут обнаружилась одна серьезная неувязка. Дело в том, что спутать кристаллы «Галаца» с таблетками «Флукицида» было невозможно даже на ощупь, не говоря уже о внешнем виде.
Это служило большим препятствием для осуществления моего плана. Конечно, в разговоре со следователем можно будет упирать на то, что Спенсер был человек не очень внимательный к мелочам и часто действовал, не думая. Это могли бы подтвердить все, кто его знал. Но мне все равно хотелось чего-то более основательного. В конце концов я пришел к оптимальному, как казалось, решению. У меня сохранилась коробочка с этим «Флукицидом». Не знаю, почему я ее не выбросил, ведь от препарата все равно никакой пользы не было. Зато теперь ему можно найти весьма ценное применение. Надо растолочь таблетки так, чтобы частицы стали хотя бы немного похожи на кристаллы «Галаца», а затем принести коробочку в офис.
Теперь в общих чертах все было ясно, а дальше я буду действовать по обстоятельствам. Главное, не пропустить момент, когда Спенсер выйдет из кабинета, чтобы поменять коробочки местами, а на следующий день во время чаепития действовать по плану. Теперь уже ни один детектив не сможет придраться.
Мне не очень нравилась перспектива сидеть у себя в кабинете и ждать, когда Спенсер выйдет, поэтому я решил позвонить в офис и сказать, что с утра меня не будет. Я появлюсь там, когда Спенсер и Барраклаф уйдут на ланч, переложу в ящике стола коробочки и тихо уйду, вернусь лишь к тому времени, когда мисс Уиндэм начнет угощать нас чаем.
Часть II Контрзамысел
Глава 1
Если какой-то работник по недомыслию наносит вред своему предприятию, с этим можно мириться при условии, что он исправится. Но Николас Латимер перешел все разумные пределы. Впрочем, этот глуповатый педант Сэнди Барраклаф не лучше его.
Так получилось, что нам троим выпало руководить рекламным агентством, которое называется «Neo-AD». Ничего оригинальнее придумать не смогли. Что нас свело вместе, ума не приложу – таких разных людей поискать надо. Мне бы хорошенько подумать, прежде чем влезать в это дело, а не бросаться очертя голову. На предложение Латимера я сразу ответил согласием. Теперь, конечно, жалею, но никуда не денешься, приходится работать с этими идиотами.
Я уже устал удивляться, что не разглядел Латимера с первого раза. Не понял, что он собой представляет. Впрочем, этому есть объяснение. Он на первых порах производит впечатление весьма достойного человека, пока не познакомишься с ним поближе. От этого надутого индюка веет таким самомнением, что поначалу заблуждаешься, начинаешь думать, будто он что-то собой представляет, и только потом соображаешь, что это пустое место – ни умом Латимер не может похвастаться, ни профессиональными качествами, и общаться с ним настоящее испытание.
Когда мы только начинали, я думал, что с его тщеславием можно будет примириться и оно может быть в определенной степени полезно. Когда человек создает рекламные тексты, ему хочется добиться самого высокого качества.
Первым разочарованием было узнать, что он бездарен. Ему не хватает силенок даже на самые посредственные тексты. Позднее выяснилось, что Латимер невероятно ленив и потому лепит все пришедшее в голову. В общем, бездельник в чистом виде. Есть люди со скромными способностями, но трудолюбивые, и у них что-то получается. К Николасу Латимеру это не относится.
Некоторые из его опусов просто чудовищные. У меня есть друг, мы знакомы со школы, Чарлз Флетчер. Он отличный парень и замечательный фармацевт. Разработал хорошее лекарство от простуды. «Флукицид». Вполне приличное, не хуже других. Но как пробиться с ним на рынок при такой конкуренции? Надо помочь, тем более денег у человека особых нет. «Агентство», естественно с моей подачи, заключило с ним контракт на рекламу, а Николас невзлюбил Чарлза с первого раза и теперь всеми силами саботирует работу. О том, что его дурацкие тексты смогут привлечь покупателей, не стоит и мечтать. Тут особый случай – он не может и не хочет.
Латимер не меняет свой никуда не годный текст рекламы по несколько недель и начинает хоть как-то суетиться только под давлением Чарлза, при этом страшно злясь на меня, понимает, что к чему, – на это у него мозгов хватает.
И ни малейшего интереса к работе, любой. Большего лодыря в Лондоне и окрестностях поискать надо. Рабочий день себе установил с двенадцати до четырех при двухчасовом перерыве на ланч и трех сокращенных рабочих днях в неделю. Раньше одиннадцати Латимер в офисе не появляется, и никто никогда не видел, чтобы он хотя бы раз задержался на работе. При этом всегда ищет и находит повод, чтобы прийти в офис к ланчу или уйти сразу после него. Вот с каким человеком мне приходится делить руководство «Агентством».
Мало того, что он лодырь, так и к нашей работе совершенно не способен. Вы просите его написать рекламу нового товара, а он моментально переделывает что-нибудь из своей старой писанины, и вот, пожалуйста, работа готова. При этом без стеснения заимствует все, что углядит в какой-нибудь газете. Однажды увидел рекламу, начинающуюся словами «а теперь», – я ее тоже помню, неплохой текст, о детской коляске, кажется, – так он с тех пор вставляет это «а теперь» всюду, где только может: и для бижутерии Энрикеса (из-за этого бизнесмен чуть не отказался от наших услуг), и для «Флукицида», и для остального. Ни на что больше Латимер не способен. Это «а теперь» стало в офисе предметом постоянных шуток у нашей секретарши мисс Уиндэм (славная, в общем, девушка, только немного со странностями) и художника Томаса. Они по этому поводу неплохо изощряются.
Не скрою, лень и бездарность коллеги Латимера меня откровенно раздражают. Я никогда не рассчитывал, что мы станем большими друзьями, это было невозможно по многим причинам. Во-первых, разница в уровне образования – Латимер если пять классов закончил, и то хорошо, но я, зная его обидчивость, стараюсь это не подчеркивать, – а во-вторых, круг общения у нас разный.
Человек я, должен признаться, вспыльчивый. Быстро завожусь – иногда по пустякам, зато быстро успокаиваюсь. Но с Николасом всегда стараюсь вести себя дружелюбно, хотя у нас нет и не может быть ничего общего. Его глупые замечания меня постоянно раздражают – терпеть дурака рядом большое испытание, но я стараюсь сдерживаться и даже нахожу возможность пошутить. Временами я бываю резок, что верно, то верно, но не злобен и всегда готов простить обидчика и пожать руку.
Чего не скажешь о Николасе Латимере. Ни в коей мере. Я склонен думать, что его больше раздражает моя отходчивость: я через несколько секунд после вспышки снова становлюсь веселым и веду себя так, как будто ничего не случилось. Тут такое дело: я с кем-нибудь сильно поссорюсь, он мне скажет что-нибудь неприятное, я в ответ, но потом мы опять добрые друзья, дуться – это не по мне, плохо отражается на пищеварении.
Для Николаса же затаить обиду первое дело. Я не удивлюсь, если он задумал какую-нибудь гадость. Это вполне вероятно. Наверное, не может забыть обиду, когда я ему однажды сказал, не помню по какому поводу, что не надо учить ученого. У него тогда все лицо пошло пятнами.
Стоит упомянуть и его внешность. Я считаю, что у каждого есть возможность поддерживать физическую форму. Если человек пренебрегает даже прогулками и простейшими упражнениями, это непременно отражается на его душевном состоянии. Николас Латимер, наверное, в своей жизни не прошел и лишнего ярда, если этого можно было избежать, а принять участие в какой-нибудь спортивной игре ему и в голову не приходило. Результат не заставил себя ждать. Он и прежде, наверное, не мог похвастаться спортивным телосложением, а теперь просто заплыл жиром, будем называть вещи своими именами. Лицо одутловатое, нездорового цвета, с тремя подбородками. Склонен предполагать, что состояние его печени оставляет желать лучшего, отсюда и сонливость. Каждый день после ланча он буквально клюет носом за столом у себя в кабинете. А ведь казался вполне приятным молодым человеком и одевался весьма прилично. Насчет того, что он казался приятным, это я так, лично у меня слащавые брюнеты никогда восторга не вызывали. Но это было давно, а сейчас, как я уже заметил, Латимер неопрятный толстяк. Хоть бы усы отрастил, чтобы прикрыть дряблый рот.
Думаю, любой согласится, что с таким человеком поладить очень трудно. Ленивый бездельник, бездарный и глупый. К этому следует добавить злопамятность и неприятный вид. Вот вам, пожалуйста, полный набор. Наверное, можно было бы со всем этим как-то примириться, будь у него хоть капля чувства юмора. Вот меня, например, без конца тянет пошутить и от души посмеяться, с этим намного легче жить, но, если вы попробуете пошутить с Николасом, он посмотрит на вас, как на спятившего. Для него надо обязательно пояснить, что это шутка, а потом повторить медленно, с несколькими паузами. Вот тогда, может быть, до него дойдет.
Должен заметить, у Николаса Латимера ни одна моя шутка смеха не вызвала. Он вообще злится, когда я улыбаюсь, а если пошутить над его рекламными текстами, так это воспринимается как кощунство со всеми вытекающими последствиями. Конечно, у меня тогда возникает желание еще сильнее поиздеваться над его писаниной.
Поверьте мне, работать в такой обстановке – тоска смертная. Другой мой коллега, Сэнди Барраклаф, тоже без чувства юмора, такой же сухарь. А ведь рекламный агент просто обязан иметь чувство юмора, без этого он никто. Достоин жалости человек, не способный относиться к себе с иронией. Вспомните лучшие рекламные кампании, там же юмор бьет через край.
Вот так, одно за другое, постепенно наши отношения накалились до предела, а сегодня случился взрыв.
Но прежде чем описать инцидент, когда Николас попытался меня убить, я должен сказать несколько слов о Барраклафе.
Это сухой педант, молчун. О чем он думает, никому не известно. Обычно таких люди принимают за умников. Но Сэнди Барраклафу совершенно наплевать, за кого его принимают, потому что он зациклен на работе, и если говорит о чем-то, то только о ней.
Этот человек поражает своей правильностью. Может просидеть десять часов за работой. Назвать это увлечением язык не поворачивается. Нет, это что-то другое. Что – я понятия не имею. Но определенно этому есть причина, потому что проживать так скучно и безрадостно жизнь вряд ли кто станет. Подумать только, ни единой улыбки, ни единой попытки хотя бы однажды расслабиться, забросить ко всем чертям работу и повести себя, как все нормальные люди. Так нет же, он медленно тащится в гору по узкой тропинке, не осознавая, сколько в мире существует приятных развлечений. Просто непостижимо.
Я не думаю, что это от недостатка ума. Он достаточно умен. И это не эгоизм, потому что Барраклаф лишает удовольствия только себя, но другим не препятствует, если только они не мешают его занятиям.
Быть может, все это у него от любви к деньгам. Он шотландец и потому знает им цену. Во всяком случае, о деньгах он всегда говорит с огромным почтением.
Когда мы открыли «Агентство», Барраклаф сразу установил контроль над финансами, а кто управляет деньгами, тот и хозяин. Латимер думает, что хозяин он, раз ему доверили работу над рекламой, но на самом деле за рулем «Агентства» сидит Барраклаф. Куда этот человек повернет, туда и поедем. Но я не против, потому что в бухгалтерии не разбираюсь. В школе по математике едва дотягивал до тройки. Писать рекламные тексты тоже бы не взялся. Общаться с людьми и заводить знакомства – вот моя стихия. Деньгами пусть занимается Барраклаф, раз у него получается. Я надеялся, что Латимер тоже чего-то стоит, но ошибся. Вот такие дела.
Однако по поводу Барраклафа должен заметить, что он слишком уж придирчив и до минимума ограничивает мои текущие расходы. Недоволен даже, если я лишний раз проеду на автобусе. Поначалу я думал, что все его разговоры о «финансовой дисциплине» – это шутка. Оказалось, что он не желает понимать специфику моей работы, когда для дела иногда требуется взять такси или угостить перспективного клиента выпивкой. Выходит, за все это я должен платить из своего кармана. С какой стати? Помню, однажды я по ошибке в отчете повторно указал поездку на такси, которую включил в прошлый отчет, так он чуть не обвинил меня в воровстве. Чертов зануда.
Однако, несмотря на то что Сэнди порой гасит полезную инициативу своим «мы не можем себе этого позволить», я все равно отношусь к нему с теплотой, и желания избавиться от него у меня никогда не возникало. Он хорошо справляется с работой и весьма полезен в «Агентстве». А вот я почему-то пришелся ему не по душе, и он недоволен моим присутствием в фирме.
В чем дело? Что ему взбрело в голову? Ведь я человек совершенно безобидный и абсолютно безвредный.
То, что Николас меня возненавидел, неудивительно. Этот человек обиды не прощает. Но Барраклаф! Его поведение просто сразило меня наповал.
Теперь пришла пора рассказать об этом инциденте.
Николас где-то откопал бизнесмена-румына. Странный тип. Носит лиловые носки с котелком, думает, что сигарный король Фонеска художник, пьет портвейн и, наверное, приправляет икру горчицей, если, конечно, в Румынии слышали об икре. Вот такой чудак. Правда, позднее я выяснил, что икры в Румынии в избытке, там ее производят и даже продают за границу, так что последнее замечание об икре и горчице я снимаю, но это дела не меняет.
Интересно другое. Оказывается, этот румын, его фамилия Тонеску, настоящий изобретатель и создал чудодейственное средство для очистки стекол, которое назвал «Галац». Это город в Румынии, где его производят. Вы о нем, несомненно, скоро услышите.
Когда речь зашла о том, чтобы наше «Агентство» взялось провести рекламную кампанию этого продукта, мы, перед тем как заключить с Тонеску контракт, решили проверить действие его изобретения на ветровом стекле машины Барраклафа.
С этим Тонеску вышло не совсем правильно, потому что находить клиентов моя работа. Но, с другой стороны, такого чудика мог отыскать только Николас. Поскольку у нас с ним автомобилей не было, Барраклафу пришлось согласиться испытать изобретение Тонеску на своем. Для чего он пригнал автомобиль из пригорода, где живет, и поставил в гараж на день или даже два, если не будет дождя.
Надо ли говорить, что старина Барраклаф подсчитал свои расходы до пенса. Включил не только плату за гараж, но и бензин, амортизацию резины и все остальное, что смог придумать. Постеснялся, наверное, только включить в смету амортизацию часов в автомобиле, потому что они стоя́т. Этот благородный джентльмен ничего лишнего не приписал, аккуратно все подсчитал, с точностью до восьмого знака, а затем поделил на число дней в году, предварительно осведомившись, не високосный ли сейчас год. Мой вопрос, почему он не учел летнее время, его так разволновал, что пришлось успокаивать. Сказать, что это шутка.
Но я, кажется, погряз в подробностях. У меня всегда так получается. Стоит только начать что-то излагать на бумаге, как я тут же сворачиваю в сторону от главной темы, а мне хочется рассказать про поведение Сэнди в то утро. Ну и Николаса тоже.
Мы втроем направлялись к тому месту, где находилась машина, и я, как всегда, говорил больше всех. Нам предстояло перейти улицу с односторонним движением. Машин на ней практически не было, а тут вдруг появляется одна. Причем движется с другой, неположенной стороны. Видимо, водитель не заметил знак, а может, решил, что это несущественно, и ехал с довольно приличной скоростью.
В этой ситуации мои коллеги повели себя довольно странно. Шедший рядом, справа, Николас своей обширной спиной загородил мне обзор, так что я, в отличие от него, приближающуюся машину не видел и не мог, потому что смотрел налево. А Николас как раз смотрел туда, куда надо, – не ожидал я от этого тюфяка такой сообразительности, – но меня не предупредил. Молча отскочил назад, а я пошел дальше и заметил опасность, только когда завизжали тормоза.
Потом я спросил у водителя, почему он не просигналил, а он ответил, что, во-первых, считал, что раз мой спутник его видит, то он меня предупредит, а во-вторых, напомнил, что звуковые сигналы ночью запрещены. То, что сейчас утро, он не сообразил. Видимо, в голове все перепуталось с перепугу.
С ним, кажется, все ясно, и с Николасом тоже.
А вот поведение Барраклафа мне не совсем понятно. Он утверждает, что остановился завязать шнурок. Наверное, это правда. Машина появилась случайно, так что заранее сговориться с Николасом он не мог. Однако не крикнул, чтобы меня предупредить. Просто спокойно стоял и смотрел. Потом я обратил внимание на его странное выражение лица, словно он разочарован, и он начал оправдываться, хотя я его ни в чем не упрекал. Сказал, что у него от испуга отнялся язык. Что-то не верится.
Николас, как и следовало ожидать, закатил скандал водителю, даже высматривал, нет ли поблизости полицейского. В общем, устроил шоу в своем духе. Все это, конечно, было устроено напоказ. Возможно, он сердился на водителя, но только за то, что он вовремя затормозил. Машина прошла юзом и встала поперек улицы. Водитель сделал все возможное, чтобы не сбить меня. Вот это, наверное, Николасу не понравилось.
Разумеется, никаких сочувственных слов я ни от того, ни от другого не дождался. Представляю, что было бы с Николасом, если бы он получил такой фингал под глазом, как у меня. Наверное, неделю бы провел в постели, а Сэнди за порванные брюки потребовал бы у водителя компенсацию, на которую можно было бы купить новый костюм. Это ведь такой простак, как я, забыл потребовать у водителя хотя бы полкроны на починку брюк.
Вот теперь, когда я все это записал, на душе стало легче. Это предупреждение коллегам, чтобы знали: если в будущем со мной что-то случится, мои записки обязательно обнаружат. Так что пусть перестанут играть с огнем.
Когда мы потом ехали на машине, я им осторожно намекнул, что обо всем догадался. Кажется, они меня поняли.
Описав один инцидент, сразу приступлю к изложению другого. Мне это даже стало нравиться, я имею в виду – писать. По-моему, получается складно.
Событие произошло после того, как я нашел потенциальных клиентов, которые собрались открыть в Кенте производство овощных и фруктовых консервов. Пойдет ли у них дело, не знаю, но почему бы не попробовать? Ради возможной прибыли можно и рискнуть, даже если наша реклама не понадобится. Это все равно лучше, чем сидеть без дела. Я не предлагал бросить все дела и заняться консервной фабрикой. Нет. Предлагал просто выкроить время, и не лично мне это было нужно – я беспокоился о процветании «Агентства».
От коллег ничего сверхъестественного не требовалось – только выполнить свою обычную работу. Ничего больше. Барраклафу, правда, пришлось немного потрудиться, но он, к моему удивлению, возражать не стал. Работа его не пугает.
Когда же я попросил Николаса выполнить его часть работы, он тут же встал в позу. Нельзя, говорит, начинать работу без уверенности в оплате. Так никто не делает. В общем, обычная демагогия. Он всегда, когда ему выгодно, говорит одно и прямо противоположное, если это не соответствует его интересам.
Но я на болтовню внимание обращать не стал, а решил действовать самостоятельно. Тем более Томас этой работой заинтересовался. Он вообще любит рисовать, особенно когда ему что-то нравится. Корпение над маленькими эскизами и шрифтами он считает скучным занятием, и я с ним согласен. Другое дело, когда есть красивая натура и можно не жалеть красок. Николас на него постоянно давит, требует, чтобы рисунки лишь оттеняли его замечательные перлы. Конечно, Томас всем этим сыт по горло. Да и кому такое понравится?
В общем, рисунки для рекламы продукции консервной фабрики он взялся делать с энтузиазмом. В этой работе его никто не контролировал. Приятно творить, когда над тобой никто не стоит. Томас выбирал время, когда Латимера не было в офисе, что оказалось не так уж трудно. Николас чаще отсутствовал, чем присутствовал.
Мне его рисунки понравились. Яркие, сочные, красочные. Ароматная клубника, сливы и другие фрукты и овощи буквально просились, чтобы их съели. Рассмотрев рисунки, я не поскупился на похвалу.
А вот Николас, обнаружив их, пришел в бешенство. Смешал работу Томаса с грязью. Только потому, что они были сделаны не под его руководством. Что он сказал художнику, я не знаю, но, наверное, задел его профессиональную гордость, потому что Том после происшествия страшно рассвирепел – это я узнал от мисс Уиндэм. Николасу повезло, что у Томаса в тот момент под рукой не оказалось ничего тяжелого. Линейка, которой он пользовался для разметки, лежала в углу на полу, а кисточкой если даже и треснешь обидчика, то безболезненно.
Поиздевавшись над Томасом, Латимер кинулся ко мне и повел себя так, что я, человек отходчивый, подобного не забуду. Когда он завтра заявится в офис, я ему такое скажу, мало не покажется, и не позволю возразить. Просто зажму рот ладонью и заставлю выслушать все. У него не получится сбежать, как сегодня.
Он врывается ко мне в кабинет. Волосы растрепаны, глаза выпучены, щеки горят. Достает из папки рисунок Томаса и, насмехаясь, начинает рассматривать, затем повторяет с другим рисунком, потом со следующим. Фальшивый смех становится все громче.
Наконец, чтобы эффектно завершить представление, он решил демонстративно порвать рисунки. У него это получилось настолько неуклюже, что впору было пожалеть мерзавца. Он взял сразу два, но порвать их, видимо, силенок не хватило – так что разорвался только один, а другой лишь чуть помялся. Я резко поднялся с намерением прекратить этот вандализм, но он успел выскочить за дверь.
Не сомневаюсь, в его собственном представлении это выглядело так, будто он порвал рисунки на мелкие кусочки и бросил мне в лицо. Вообще, он попытался это сделать – бросил один обрывок, но промахнулся.
Если бы этот трус не сбежал, я бы вытряс из него всю душу, но догонять не захотелось. Разберусь с ним завтра, он ведь все равно придет в офис. Вот и поговорим. Как следует.
Видимо, дома он сообразил, что натворил, и испугался, потому что утром в офис не заявился, предупредив по телефону, что придет к ланчу или чуть позже, несмотря на то что у нас полно работы. Надо делать рекламу «Галаца». Думаю, к чаю заявится. Почему не выпить чашечку с бисквитом, если платить не надо.
Должен признаться, что я тоже сейчас не способен работать. Пока не разберусь с ним, не успокоюсь. Сегодняшнее утро уже потеряно. Обычно, если у меня ни с кем не назначена встреча, я просматриваю рекламу в провинциальных газетах. Как правило, сочиняют ее сами производители, так что качество оставляет желать лучшего. Любителя от профессионала отличить несложно. О Николасе я молчу, его продукция вообще ни под какую категорию не попадает.
Я выбираю самую слабую рекламу и затем навожу справки о производителе. Если он внушает доверие, предлагаю ему наши услуги: «Не хотелось бы вам иметь надлежащую рекламу своего товара? Обойдется это не дороже, чем сейчас, а может, и дешевле. Мы знаем, как выгодно купить в газете рекламное место».
Конечно, получается не всегда. Во-первых, предлагая свои услуги, надо постараться не обидеть того, кто эту рекламу сейчас поместил в газете. А во-вторых, Барраклаф не любит, когда в разговорах с клиентами я намекаю на возможность дешево купить рекламное место. Для нас это невыгодно.
Но сегодня утром я занялся совсем другим. Вот сижу, пишу эти заметки и думать могу лишь о том, что будет, когда Латимер наконец соизволит появиться.
К чаю, не иначе.
Попытаюсь представить, как это будет. Мисс Уиндэм подаст чай сначала Барраклафу, а потом Николасу. Он, конечно, попросит ее принести какую-нибудь совершенно ненужную бумажку. Лишь бы мне досадить. Как только она войдет в мой кабинет, я тут же отправлюсь к нему. На то, чтобы высказать ему мои мысли, уйдет минут десять. Как раз за это время мой чай остынет. Можно не сомневаться, что я застану Николаса отдыхающим, хотя он сегодня еще палец о палец не ударил. Этот бездельник превращает чаепитие в своеобразную церемонию, требующую минут пятнадцать, не меньше.
Вот тогда я и заговорю, а он будет слушать. Если не будет – заставлю. Неплохо бы заранее продумать речь.
Впрочем, основные мысли изложены тут, на бумаге. Думаю, следует больше напирать на его лень и необязательность, чем на неспособность к работе. Это оставит ему возможность в будущем доказать мне, что он может работать лучше. Значит, главная линия тут должна идти в направлении «…сейчас ты работаешь плохо, потому что…», и затем я приведу примеры его разгильдяйства.
Также надо четко указать, где он мог сработать лучше. Можно было бы упомянуть и «Флукицид», но это для него, как для быка красная тряпка, а мне не хочется снова затевать по этому поводу спор. А вот о рекламе бижутерии Энрикеса разговор завести стоит. Но говорить буду я один, а он пусть слушает.
Покончив с этим, я затрону более серьезный вопрос – его вздорное поведение. Его готовность причинить вред себе назло другому, точнее «Агентству», чтобы досадить мне. Иными словами, Николас должен осознать, что глупо с его стороны и невыгодно для фирмы все время препятствовать новым идеям только потому, что они исходят не от него. К тому же он ничего дельного ни разу не предложил, а то, что предлагал, только мешало работе.
Закончу я историей с рекламой консервной фабрики в Грейфилдсе и попрошу впредь не устраивать детских истерик, когда что-то делается без его ведома. Это будет прекрасный пример того, как он тормозит работу «Агентства». Ему давно пора понять, что при всем его отношении ко мне цели у нас общие. «Агентство» должно зарабатывать деньги, если мы хотим существовать дальше.
Думаю, такие простые истины Николас Латимер способен уяснить. Позлится несколько дней, а потом до него дойдет. Это единственный путь как-то наладить отношения. Неприятный, но придется по нему пройти.
Однако для этого Николас Латимер должен внимательно вслушиваться в каждое мое слово и, уж конечно, не перебивать. Я этого не потерплю. Как я уже упоминал, если понадобится сила, за этим дело не станет. Честно говоря, я даже надеюсь, что такое случится, потому что тогда у меня будет возможность отомстить за свой подбитый глаз. Потом я как ни в чем не бывало пожурю его, мол, надо быть осторожнее, как он мне тогда сказал. Хотелось бы и грязью его как следует вымазать, но где ее возьмешь в офисе. Правда, можно попытаться ее чем-нибудь заменить.
Но в любом случае ему придется все выслушать, даже если он не будет к этому расположен. А потом я скажу…
Часть III Реализация
Глава 1
Уже дважды упоминалось, что существует предел, когда еще можно терпеть в фирме идиота, наносящего вред работе.
Повторю это в третий, потому что полностью согласен с моими покойными коллегами, но все же хочу уточнить, что, обвиняя друг друга, было бы неплохо им заняться и самокритикой.
Они оба начали свои записи почти в одно время и закончили на одном и том же событии. Это может показаться невероятным, но такое совпадение произошло по вполне понятным причинам.
Записки Пола Спенсера приведены здесь без изменений. Я не счел необходимым их редактировать, потому что все изложено более или менее прилично. Хотя, признаться, от Спенсера я ожидал большего, в смысле литературного стиля. Он ведь так кичился своим образованием.
Что касается записок, автором которых являлся Латимер, то с ними пришлось поработать. И занимался я этим без стеснения, потому что оставить их в первоначальном виде было нельзя. Никто бы в его писанине тогда не разобрался. Разумеется, пришлось сделать необходимые дополнения, за счет чего увеличился объем. Знавших Латимера такое количество страниц, несомненно бы, удивило, потому что написать столько он был просто не способен.
Это я придумал начать его записки примерно так, как у Спенсера. По-моему, получилось неплохо. Совсем не случайно, что в записях изложены одни и те же события – они думали об одном и том же и замышляли одно и то же.
Прежде чем приступить к рассказу о событиях того памятного дня и последующих, я должен пояснить два важных обстоятельства. Первое: как ко мне попала рукопись Спенсера. А второе: почему, несмотря на загруженность работой, я все же потратил много времени на переработку записок Николаса Латимера.
Сначала отвечу на второй вопрос. По соображениям, которые будут изложены ниже, мне захотелось как следует разобраться в Латимере. Как он мыслит, что у него за психика. Пришлось вспомнить, как он себя вел в той или иной ситуации, его реакцию на события, которые он потом описал с моей помощью. Я четко обозначил его намерения, потому что уверен: так оно и было, и дополнил его дневник. Думаю, мне удалось показать чрезвычайную мстительность этого человека, на которую обратил внимание даже Спенсер, по-моему, начисто лишенный наблюдательности.
Но зачем Спенсер взялся вести это подобие дневника, понять было труднее. Думаю, из желания снять напряжение, выпустить пар. Его, несомненно, напугало происшествие на улице с односторонним движением. Возможно, он даже пережил шок, сам того не осознавая. Честно говоря, я так до конца и не разобрался, что там произошло. Думаю, Латимер прав: умысла ни у кого не было.
О том, что Спенсер ведет дневник, я догадался. Как – уточнять не буду, но это оказалось несложно. Сомневаюсь, чтобы о нем знал Латимер, поэтому я в его записях это опустил. В любом случае инцидент с машиной произвел на Спенсера большое впечатление и пробудил фантазию. Уверен, он собирался упомянуть об этом в решающем разговоре с Латимером, к которому готовился.
Я знал об их ссоре по поводу рисунков, сделанных Томасом для рекламы консервной фабрики в Грейфилдсе, поскольку это касалось и меня, на следующее утро я пришел в офис пораньше и пролистал записи, лежавшие в столе Спенсера. Тогда они заканчивались словами: «Вот и поговорим. Как следует».
Предчувствуя неладное, я все же предпочел заниматься своими делами, полагая, что они разберутся друг с другом без меня. Своих намерений я не изменил и после того, как во время ланча мне удалось бегло прочитать продолжение записок Спенсера.
По этой же причине я не следил за происходящим, хотя голоса в кабинете Латимера были хорошо слышны.
Ровно в половине пятого мисс Уиндэм принесла мне чай, после чего я продолжил работу по «Галацу». Надо было спешить, Латимер со своей депрессией сильно тормозил работу. То, что я постоянно латаю за ним дыры, уже никого не удивляет.
Затем я услышал диалог Латимера и мисс Уиндэм:
– Мне нужно посмотреть, в какие дни в «Мейл» будет помещена реклама «Галаца».
– Хорошо, мистер Латимер. Я подам мистеру Спенсеру чай и сразу же принесу вам расписание.
– Вы подадите мистеру Спенсеру чай потом. Он все равно предпочитает пить его холодным. Поставьте поднос и идите. Расписание нужно мне немедленно.
– Но, мистер Латимер, мистер Спенсер будет, как всегда, недоволен…
– Пожалуйста, принесите расписание. Я жду.
Мисс Уиндэм подчинилась, что еще ей оставалось делать. Разумеется, я тогда даже не подозревал Латимера в преступных намерениях. Не думал, будто чай вообще что-то значит. Наконец мисс Уиндэм понесла чай Спенсеру, затем тот спустя некоторое время вошел в кабинет Латимера, а я, понимая, что скандал неизбежен, постарался погрузиться в работу и ни в коем случае не прислушиваться.
Но это было невозможно. Ведь я не глухой, а заткнуть уши оказалось нечем. Правда, в других помещениях офиса никто разговора не слышал, так что я был единственным свидетелем происходящего в кабинете Латимера. Разумеется, не очевидцем, поскольку воспринимал все на слух. Судя по всему, Спенсер произнес заготовленную речь и за подбитый глаз тоже поквитался.
Людям чрезмерно любопытным находиться в такой ситуации было бы комфортно, а вот я мучился, изо всех сил стараясь продолжать работу. Единственное, что мне хотелось знать, – удалось ли Спенсеру найти заменитель грязи.
К счастью, все закончилась раньше, чем я ожидал. Без десяти пять Спенсер вернулся к себе в кабинет. После чего наступила тишина.
Как-то даже странно, прошло уже минут пятнадцать, и ни единого звука. Эта тишина стала меня раздражать и даже мешала работать. Обычно было слышно, как Спенсер шумно разворачивает газеты, кряхтит, а тут молчание.
Из кабинета Латимера тоже не доносилось ни звука. Я подумал, что Спенсер перестарался, заставляя его себя слушать. Но вряд ли Латимер потерял сознание, а значит, может уйти домой. Возможно, ему стыдно перед мисс Уиндэм и посыльными за пережитое унижение. Думаю, больше он работать со Спенсером не сможет. Я напряженно ждал, когда же он наконец решится выйти. Когда минутная стрелка на часах начала приближаться к половине шестого, а оттуда по-прежнему не доносилось ни единого звука, я забеспокоился. Неужели Спенсер зашел так далеко?
Честно говоря, желания видеть кого-то из них у меня не было. Я подумал: ну войду я в кабинет Латимера, увижу, что с ним все в порядке, и что потом? Как объяснить причину моего визита? В конце концов я решил напомнить ему, что иллюстративный материал для первой публикации надо отправить в «Дейли мейл» за двое суток, и в этот момент услышал крик мисс Уиндэм.
Через пару секунд она влетела ко мне – впервые без стука.
– О, мистер Барраклаф, пойдемте скорее. Мистер Латимер… – Она замолкла, вытаращив на меня глаза.
– Что?
– Мистер Латимер… лежит в своем кресле без движения. Вид у него очень странный.
Я бросился мимо нее в кабинет Латимера, и тут же стало ясно, что он мертв. Для этого не надо быть доктором. Впервые с его лица исчезло мрачное выражение. Оно стало привлекательным, немного портил впечатление только синяк под глазом. Имелось еще и другое обстоятельство, позволяющее считать, что Латимер не просто потерял сознание. Стол и его одежда были обсыпаны кристаллами, очень похожими на те, что Тонеску дал нам для проверки действия его вещества. Присмотревшись, я убедился, что это именно они.
Понимая, что ничего трогать нельзя, я вышел, запер дверь и направился сообщить Спенсеру. Очень странно, что он никак не отреагировал на крик мисс Уиндэм.
Все прояснилось, стоило мне переступить порог его кабинета. Спенсера уже ничто не могло потревожить. Он сидел в кресле, повалившись лицом на стол. Чашка валялась на полу. В том, что он тоже мертв, сомнений не было.
Услышав в коридоре шаги мисс Уиндэм, я решил избавить молодую женщину от лишних потрясений и крикнул, чтобы она не входила, а сам внимательно осмотрел комнату. Тут все было, как обычно, только на полу лежало несколько листов с записями Спенсера. На одном из них можно было прочесть в начале страницы последнюю написанную им фразу. Она была не закончена: «А потом я скажу…»
Возможно, закон это запрещает, но иначе я поступить не мог. Дело в том, что в самом начале своего дневника Спенсер описал меня самым нелестным образом. По его мнению, все мои побуждения продиктованы исключительно алчностью. Я предположил, что в дальнейшем он разовьет эту тему. Впрочем, сказанного в самом начале было достаточно, чтобы в полиции – если записки попадут туда – составили обо мне совершенно ложное представление. Поэтому я решил, что пусть лучше их содержание останется известным лишь мне, и, быстро собрав листки, отнес в свой кабинет.
Затем, сообразив, что если у меня есть дневник одного героя трагедии, то желательно иметь и второй, я зашел к Латимеру и достал из ящика стола его дневник. Латимер напрасно полагал, что это мне не известно. На самом деле я уже давно обзавелся ключом от этого ящика, который он так аккуратно запирал каждый вечер. Так что его помыслы секретом для меня не были, что, я думаю, помогало работе.
Конечно, если бы дневник Латимера был таким, каким он есть сейчас, то лучше было бы оставить его на месте. Но я не успел дочитать записи до конца. Мало ли какие в дневнике могли всплыть глупости.
Так что дневник Латимера пришлось забрать. Тем более листов было немного и они поместились у меня в кармане.
Затем я позвонил в Скотленд-Ярд.
Глава 2
Будь у инспектора возможность ознакомиться с записями погибших, расследовать дело было бы значительно проще. А так попробуй разберись. Я даже начал побаиваться, как бы он не заподозрил меня на том основании, что я жив, а два других совладельца фирмы мертвы. Хуже, если бы он увидел, что они там про меня понаписали, буквально смешав с грязью. Выходит, что я вовремя припрятал записи.
Однако помочь инспектору в раскрытии тайны гибели моих коллег было необходимо. Я собирался поделиться с ним наблюдениями, рассказать о странностях, замеченных в поведении Латимера в последние дни перед гибелью.
Когда инспектор Скотленд-Ярда Хупингтон наконец прибыл, то стоило мне на него взглянуть, как я понял – без моей помощи он не справится. Инспектор показался мне, мягко говоря, не очень умным.
Начал он с тщательного осмотра всех дверей в офисе на предмет отпечатков пальцев. Разумеется, их оставили все наши служащие, а мои, наверное, были самыми свежими, поскольку я совсем недавно открывал двери обоих кабинетов. Затем он занялся окнами, в том числе и у меня.
Я не мог скрыть удивления. Заметив это, инспектор снизошел до объяснения, хотя большей частью молчал!
– Понимаете, сэр, мне необходимо убедиться в том, что попасть в кабинеты погибших можно было только через дверь и что на дверях и окнах нет следов взлома.
Разговор происходил в моем кабинете. Я подошел к окну и, посмотрев на тротуар, заметил с ноткой иронии в голосе:
– Забраться сюда, наверное, под силу только умелому вору-форточнику.
– Да, сэр, – согласился он. – Но все же к окну, пожалуйста, не прикасайтесь.
Ну что за чепуха! Я едва удержался от смеха. Латимер и Спенсер погибли каждый в своем кабинете. При чем тут окна?
Глянув на балкон этажом ниже, я обнаружил кое-что интересное, но инспектор заговорил раньше, помешав мне сообщить об этом!
– Вы любите смотреть в окно, сэр? Прикасались ли вы к нему сегодня?
– Да, – ответил я. – Где-то около трех открывал окно на несколько минут. Кстати, вон того листа бумаги тогда на балконе не было.
– Что за лист бумаги? – спросил он, как будто удивившись.
– Тот, что лежит на балконе под окном кабинета мистера Латимера, – пояснил я, хотя это было очевидно.
– Вот как, сэр? – произнес он по-прежнему удивленно. – Но мне кажется, от вашего окна до предмета на балконе такое же расстояние, как и от окна мистера Латимера. Впрочем, это неважно. – Он подошел ко мне. – По-моему, это конверт.
Я познакомился с инспектором всего несколько минут назад, но он уже начал меня раздражать. Во-первых, я не люблю, когда со мной разговаривают таким снисходительным тоном, а во-вторых, он соглашался явно из вежливости, не признавая мою правоту. И наконец, инспектор притворился, будто видел лист бумаги с самого начала, хотя это наверняка не так. Я прекрасно знал, что там лежит конверт, но специально назвал листом бумаги, проверяя, поправит он меня или нет. Он поправил, но не сразу, значит, увидел его только что.
Я тогда не подумал, что конверт окажется серьезной уликой, но в любом случае его следовало достать.
– Конверт может сдуть ветром.
– Но сейчас ветра нет, – ответил инспектор.
Я хотел возразить, что конверт с балкона может сбросить даже голубь, взмахнув крыльями, но не стал. Инспектора, кажется, этот конверт совсем не заинтересовал.
Вскоре прибыли доктор и криминалисты. Их действия были вполне предсказуемы. Доктор быстро констатировал смерть обоих. Криминалисты начали фотографировать, снимать отпечатки пальцев и заниматься прочей рутиной. Внимательно осмотрели все помещения, в том числе и мой кабинет. Разумеется, собрали кристаллы, рассыпанные в кабинете Латимера. Как только увезли мертвых, инспектор опечатал кабинеты. Меня очень удивило, что он взялся проверять содержимое ящиков моего стола.
На мой вопрос «зачем», инспектор ответил:
– Кабинеты погибших я смогу осмотреть потом, а ваш лучше проверить сейчас, потому что завтра вы будете работать, и я не хочу вам мешать.
– Но что интересного для себя вы можете найти в моих бумагах? – удивился я.
– Как знать, сэр, – туманно отозвался сыщик.
Я понимал, что здравых рассуждений от этого тупицы дожидаться бесполезно, но все равно попытался:
– Работу в «Агентстве» невозможно будет продолжить без материалов, находящихся в опечатанных кабинетах.
– В этом отношении, сэр, – ответил инспектор, – мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. А пока я должен осмотреть ваш кабинет, после чего вы будете свободны.
О том, что он попросту теряет время, говорить не стоило. К тому моменту я окончательно понял, что инспектор Хупингтон твердо вознамерился именно попусту тратить свое время. Видимо, ему девать его было некуда. Скотленд-Ярд таких «специалистов» работой не загружает. Зачем его только там держат? Кабинет мой пусть проверяет, сколько угодно. Ничего компрометирующего в нем нет. Тем более безграмотные записки Спенсера и дневник Латимера благополучно покоились в моем кармане. Так что я терпеливо ждал, пока он с напускной серьезностью, не торопясь, изучит вторые экземпляры счетов, пару выписок, сделанных мной из отраслевых изданий, черновики рекламы «Галаца» и прочие материалы, которые я потом передам мисс Уиндэм, чтобы она подшила их в папки.
– Поскольку уже поздно, сэр, то… – начал он, но я не дал ему договорить:
– Инспектор, сейчас всего лишь семь часов. Если надо, я могу задержаться. Для меня предпочтительнее все решить с вами сегодня, чтобы завтра спокойно работать, а сейчас желательно отпустить по домам сотрудников.
Он, видимо, забыл об их существовании, поскольку поспешно направился в приемную, где объявил, что все могут идти домой, и попросил никому о случившемся не рассказывать. Особенно газетчикам.
– А если они начнут спрашивать? – забеспокоилась мисс Уиндэм. – Я уверена, среди собравшихся внизу – их сюда не пускает констебль – немало журналистов.
– Ссылайтесь на меня, – ответил инспектор и повернулся в мою сторону: – Я бы хотел поговорить с вами перед уходом.
Я пожал плечами:
– Пожалуйста. Буду рад все разговоры закончить сегодня.
– К сожалению, это невозможно, сэр, – отозвался инспектор Хупингтон, деловито складывая в папку мои бумаги и беря ее под мышку.
Зачем это нужно, он, конечно, не пояснил, ну и не надо. То, что «Галац» ядовит и мог явиться причиной смерти коллег, было очевидно без изучения документов.
Он посмотрел на меня:
– Пойдемте. Надевайте пальто и шляпу.
– А как же конверт на балконе? – спросил я, удивляясь, что мне приходится об этом напоминать.
Инспектор кивнул:
– Я захвачу его по дороге. Всего вам доброго, сэр.
Он с невозмутимым лицом запер дверь моего кабинета и положил ключ в карман. Не знаю, что мне не понравилось больше. Его бесцеремонность, притворство, что конверт ему безразличен, или тот факт, что он приглашал меня поговорить, а сказал всего несколько малозначащих слов и попрощался. Возможно, ему зачем-то понадобилось, чтобы сотрудники знали о нашем предстоящем разговоре.
Глава 3
Поужинав у себя дома на Холлэнд-парк-роуд – и это вовсе не дальний пригород, как утверждал в своих записках Спенсер, – я устроился в кресле, чтобы в тишине обдумать свое положение.
Мне казалось это необходимым, поскольку для таких сыщиков, как Хупингтон, очень важен мотив. Если он обнаружен, то ничего больше его интересовать не будет. Вернее, будет, но ничего значимого он не найдет.
К сожалению, мотивы можно усмотреть и у меня. Долго ломать голову инспектору не придется. Все лежит на поверхности. Конечно, от него ускользнет тот факт, что с покойными коллегами у меня была психологическая несовместимость, подобные тонкости – не его сфера, но что собой представляли эти люди, инспектор наверняка очень скоро выяснит. Мисс Уиндэм и Томас расскажут. Да что там, даже мальчикам-посыльным известно, что Спенсер был хамоват, а Латимер – никчемный бездельник. Отсюда инспектор Хупингтон сделает вывод, что их смерть для фирмы небольшая потеря, а значит, и для меня тоже.
Когда мы разрабатывали устав фирмы, я позволил коллегам указать для них любые полномочия, кроме финансов. Этот участок они без всяких возражений позволили окучивать мне, видимо, не понимая, что истинный хозяин фирмы тот, кто ведает финансами. Ну и, разумеется, я устроил так, чтобы обеспечить для себя выгодные условия выкупа доли одного из директоров в случае его смерти. У меня сейчас нет перед глазами конкретных цифр, но могу прикинуть. Спенсер и Латимер жили не по средствам, особенно последний. Тратили больше, чем позволяли их директорские оклады, и не слушали моих советов.
Я уже собирался решительно потребовать сокращения расходов, как вдруг появился этот румын Тонеску со своим «Галацем», а вместе с ним надежда погасить все долги. Однако деньги за рекламу нового продукта поступят на счет «Агентства» еще не скоро, так что мои покойные коллеги остались ни с чем. Выкупить их доли для меня не составит никакого труда. Что касается Спенсера, то тут достаточно погасить его долг «Агентству», который на данный момент составляет несколько фунтов. Латимер, я думаю, потратил больше, но все равно это не проблема.
Для меня сейчас главное – поскорее раскрутить «Галац», но прежде надо обдумать стратегию поведения с инспектором Хупингтоном.
Мотивы у меня есть. Психологическая несовместимость и тот факт, что после их смерти я остаюсь полновластным хозяином фирмы. То есть инспектор вполне может заподозрить меня в желании от них избавиться, но у него нет и не может быть никаких улик.
Для того чтобы окончательно себя обезопасить, я должен иметь версию их гибели. Как это произошло с Латимером, легко представить, прочитав записки Спенсера. Он вошел к нему для разговора, но, когда Латимер попытался его перебить, сначала подбил глаз, а затем, повинуясь вспышке ярости, заставил его проглотить горсть кристаллов «Галаца».
При этом возникает несколько вопросов. Откуда у него кристаллы? Что вызвало такую неконтролируемую ярость? И как ему удалось сделать это бесшумно?
Мне вдруг пришло в голову совершенно абсурдное предположение. Ведь Спенсер в своих записках сетовал, что не может найти грязи, чтобы вымазать Латимера в отместку за тот случай на дороге. А что, если он решил для этого использовать кристаллы? Потом понял, что грязь они заменить не могут, и в расстройстве запихнул их ему в рот. Глупо, но Спенсер и не на такое способен.
В любом случае я должен подготовиться к разговору с инспектором, который состоится в ближайшее время. Стоит ли показывать ему записки Спенсера? Если я решу это сделать, как объяснить, что это произошло не сразу? Может быть, так прямо и сказать: «Я очень недоволен, как он меня описал, и не хочу, чтобы этот вздор читали другие».
Но если в отношении гибели Латимера у меня были какие-то предположения, то насчет того, как погиб сам Спенсер, я терялся в догадках. Следует помнить, что дневник Латимера еще не был мной отредактирован. Наверное, нужно попытаться что-нибудь выведать у инспектора. Жаль, что он такой необщительный. Может быть, когда мне удастся хотя бы немного завоевать его доверие, он кое-что раскроет. Это еще одна причина придержать пока у себя записки Спенсера.
Покончив с размышлениями, я взялся за работу над рекламой «Галаца», чтобы утром передать материалы Томасу. Дело двигалось с трудом. Но ведь совсем недавно погибли коллеги, с которыми я организовал эту фирму. Чему тут удивляться.
Единственное утешение в том, что реклама «Галаца» должна принести «Агентству» солидную прибыль.
Глава 4
Я совсем не такой, каким меня изобразил Спенсер, но в одном он не ошибся. В разговоре я не отвлекаюсь по мелочам, а строго придерживаюсь сути.
Жаль, что инспектор Хупингтон ведет себя совсем наоборот. Копается в мелочах, не имеющих никакого значения. Отнимает у меня время, которое я мог бы потратить на благо «Агентства». Спенсер и Латимер мертвы, их уже не воскресишь, а фирма должна продолжать работу, иначе очень скоро нам всем нечего будет есть.
А ведь я достаточно постарался, чтобы ему помочь. Фактически создал дневник Латимера, где убедительно показал его намерения. Это случилось после трагических событий, но сути не меняло. Главное, дневник Латимера помог сформировать довольно правдоподобную версию гибели Спенсера. Надеюсь, мне удалось убедить в этом инспектора.
Поначалу он думал совсем иначе.
Пожалуй, я опишу все по порядку, раз уж начал.
На следующий же день после трагедии в «Агентстве» инспектор Хупингтон начал расследование и несколько раз беседовал со мной. Подолгу и очень нудно. Детали я не запомнил, потому что он постоянно перескакивал с одного на другое.
– Насколько вы были дружны с погибшими коллегами?
Таким, кажется, был его первый вопрос, который в известной мере поставил меня в тупик. Я не хотел притворяться, что у нас все шло гладко, но откровенничать сверх меры с таким человеком, как инспектор Хупингтон, было опасно. Он легко мог обратить мои слова против меня.
Поэтому я, поразмышляв несколько секунд, осторожно ответил:
– Думаю, наши отношения можно назвать вполне дружескими. С Латимером мы были знакомы в течение нескольких лет. Это он уговорил меня перейти сюда, оставив хорошо оплачиваемую работу. Но я должен заметить…
– Извините, сэр. Значит, вы были знакомы с мистером Латимером некоторое время до образования «Агентства». А с мистером Спенсером?
– С ним я знаком не был.
– Мистер Латимер и мистер Спенсер раньше знали друг друга?
– Да, но это было неблизкое знакомство, и вместе они никогда не работали.
– Значит, вы оцениваете свои отношения с ними как дружеские?
Тут мы вернулись к тому моменту, когда он меня прервал.
– Верно, – сказал я. – Но у нас бывали разногласия.
Он понимающе кивнул.
– Отношения отношениями, но особой теплоты к ним вы не испытывали. Верно?
Я пожал плечами:
– Почему же, я тепло относился к каждому.
Тут можно было говорить что угодно. Никто не мог мои слова опровергнуть и доказать, что я относился к покойным коллегам без особой теплоты. Инспектору, сколько бы он ни опрашивал персонал, не удастся выяснить, что я на самом деле думал о Спенсере и Латимере. Несомненно, у мисс Уиндэм появятся домыслы, подсказанные «женской интуицией», что с дурочки возьмешь. Но никаких фактов она привести не сможет, а инспектор, какой бы он ни был, на станет в расследовании опираться на чью-то интуицию.
– Так вы говорите, у вас бывали разногласия? – произнес Хупингтон, прервав мои размышления. – И в чем они выражались?
Вот тут над ответом следовало основательно подумать. Но времени у меня не было.
– Откровенно говоря, – произнес я, осторожно выбирая слова, – мне не нравилось их отношение к работе. Я ушел с предприятия, где у меня было весьма устойчивое положение, в надежде, что здесь мои усилия будут должным образом поддержаны. Однако они вкладывали в работу меньше энергии.
Инспектор слушал меня молча, изредка кивая.
– Возможно, я был к ним излишне строг, – продолжил я. – Работа Спенсера состояла в том, чтобы находить клиентов. Более или менее он с ней справлялся. Латимер у нас занимался, если можно так выразиться, творчеством. Писал рекламные тексты и часто жаловался, что ему не создают здесь надлежащих условий. Но мне кажется, это одна из отговорок. Когда лень работать, их можно найти массу. Существует такое понятие, как чувство долга. Если оно у человека имеется, он работает, даже превозмогая усталость. Не сомневаюсь, с вами такое не раз бывало.
– Очень часто, – инспектор кивнул, затем, помедлив секунду, спросил: – Значит, ваши коллеги не сильно утруждали себя работой? Их можно было назвать лентяями?
Я чуть замялся:
– Ну, лентяями я их не считал. Просто мне казалось, что они работают не так интенсивно, как я. Полагаю, мисс Уиндэм и Томас вам кое-что о них расскажут. – Я помолчал. – Должен сказать, что как раз сейчас у нас появился новый важный заказ, и в связи с этим возникло очень много работы.
Последние слова я произнес со значением, но инспектор намека не понял. В том, что он не замечает изменений в интонации, я убедился во время наших последующих встреч.
Он лишь кивнул в знак того, что принимает это к сведению, и снова принялся задавать свои бессмысленные вопросы. Во всяком случае, таковыми они казались мне, а инспектор, как потом выяснилось, придавал им большое значение.
– Как относились к погибшим совладельцам «Агентства» служащие? Томас и… – он заглянул в блокнот, – мисс Уиндэм?
– Понятия не имею, инспектор. Мне никогда не приходило в голову интересоваться мнением машинистки о моих коллегах.
Наверное, я произнес эту фразу излишне резко, но надо же было как-то поставить его на место. Однако все было напрасно. Он гнул свою линию:
– Из разговора с Томасом и мисс Уиндэм я сделал вывод, что мистер Латимер временами был с ними довольно груб. Это так?
– Ну, грубость – это громко сказано, – отозвался я. – Просто он отдавал им распоряжения властным тоном.
– Еще я слышал, – продолжил инспектор, – что мистер Спенсер открыто выражал нежелание держать на службе замужнюю женщину.
Я пожал плечами:
– От Пола Спенсера можно было услышать и не такое. Да, я помню, как он однажды в разговоре с мисс Уиндэм высказался – я решил, что в шутку, – в том духе, что уволит ее, если она выйдет замуж. И обосновал это невозможностью совмещать домашнее хозяйство, ребенка и работу. Насколько я понял, мисс Уиндэм эта шутка не очень понравилась. Она несколько старомодна, и ее легко обидеть.
– Я не удивлен, – заметил инспектор, быстро записывая в своем блокноте. – Получается, что мистер Спенсер угрожал мисс Уиндэм увольнением, если она выйдет замуж?
– Выходит, что так, – согласился я, – но нет уверенности, что он говорил это всерьез.
– Вы думаете, она не могла воспринять это всерьез?
– Не знаю.
Опять я ответил довольно резко, и снова инспектор Хупингтон пропустил это мимо ушей, невозмутимо продолжив:
– А как смотрел на это мистер Латимер?
– Никогда не слышал, чтобы он что-то говорил по этому поводу, – ответил я. – Мне кажется, Латимер вообще не видел в ней человека. Так, приложение к пишущей машинке. И постоянно придирался – то одно она не так напечатала, то другое. Наверное, он бы поддержал Спенсера, если бы тот вздумал ее уволить. Но пока вопрос об этом не стоял. Латимер имел больше претензий к Томасу. Его раздражало, что тот, когда нет работы, рисует портреты мисс Уиндэм. Томаса тяготила рутина, он хотел творить, а Латимер ограничивал его только шрифтами и мелкими рисунками и обижал замечаниями вроде: «Если нам понадобится портрет или красивая картинка на коробку с шоколадом, мы найдем другого художника и другую модель».
Инспектор неожиданно оживился:
– И что, Томаса это не возмутило?
– Еще как возмутило. Мне его пришлось долго успокаивать. Он попросил меня поговорить с Латимером, чтобы тот обращался с мисс Уиндэм повежливее. Но мне кажется, это к делу не относится.
– Напротив, сэр, – поспешил заверить меня инспектор, – все, что вы рассказываете, мне очень интересно и, несомненно, относится к делу.
Помню, я тогда с тоской посмотрел на кучу бумаг, ожидающих на столе. Вчера мне все же удалось подготовить необходимый материал для Томаса, но надо было кое-что сделать для Энрикеса, а также проверить счета и ответить на письма. В общем, море работы.
Однако инспектор моего взгляда не заметил и продолжил задавать вопросы. Его интересовали отношения Томаса и мисс Уиндэм и как к художнику относился Спенсер. Не обошел он вниманием и меня, спросив о моем отношении к ним. Почему он об этом спрашивал, зачем ему это было нужно – мне оставалось лишь ломать голову. Потому что никакой логики я в этом не увидел, лишь попытку выудить сведения, представляющиеся ему ценными. Он попросту отнимал у меня время. На его записную книжку мне было уже противно смотреть, но ничего не поделаешь, приходилось терпеть.
Очень странным мне показалось, что дотошный инспектор до сих пор не удосужился спросить о самом важном, единственном, имевшем значение. Об отношениях Спенсера и Латимера.
В конце концов я не выдержал и заговорил об этом, но он меня оборвал:
– Мы к этому обратимся в свое время, мистер Барраклаф, а пока давайте закончим то, что обсуждаем сейчас.
Честно говоря, я не понимал, что же мы сейчас обсуждаем, и тут он снова заговорил о проблемах, связанных с наймом на работу замужних женщин. Оказывается, это для него было важным.
Глава 5
Вот так прошла наша первая беседа. Инспектор Хупингтон тогда двигался на ощупь, совершенно не представляя, в какую сторону идти.
В следующий раз он обрадовал меня тем, что начал действовать более осмысленно. Стал выяснять, кто имел доступ к «Галацу», который передал нам Тонеску, и почему в ящике стола Спенсера оказались две одинаковые коробки, одна с кристаллами «Галац», а в другой, как и положено, лежали таблетки от простуды «Флукицид».
Я объяснил, что поначалу весь «Галац» от Тонеску хранился у меня, но большая часть ушла на очистку стекла автомобиля. То, что осталось, по-прежнему находится в моем столе.
– Да, – подтвердил инспектор, – я видел.
– Надеюсь, у вас нет сомнений, что они умерли от отравления этим ядовитым веществом?
– А кто мог залезть в ваш стол? – спросил он, не замечая моего вопроса.
– Наверное, любой желающий.
– Вы что, не запирали ящик?
– Нет.
Инспектор прекрасно знал, что ящики в моем столе были не заперты, но все равно спрашивал. Непонятно зачем.
– Значит, ядовитые кристаллы мог свободно взять любой, кто пожелает?
– Да.
Инспектор задержал на мне взгляд:
– А вам не кажется, что это непозволительная небрежность?
– Помилуйте, инспектор, я не мог себе представить, что кому-то взбредет в голову травить людей этим средством. Кроме того, «Галац» был не у меня одного.
Я уже не ожидал в действиях Хупингтона логики, поэтому, когда он задал следующий вопрос, не удивился.
Его заинтересовало, не заметил ли я, что количество «Галаца» у меня в столе уменьшилось.
– Вы знаете, – ответил я, немного подумав, – мне действительно показалось, что его стало меньше, но полной уверенности нет. Вероятно, так и должно было быть.
Инспектор снова начал уклоняться в сторону:
– А почему вы считаете, что так оно и должно быть?
– Потому что, кроме меня, «Галац» был только у Спенсера. У него все ушло на зеркало, которое он намазал с большим избытком. Если бы вы его знали, то наверняка бы не удивились. Такой у Пола Спенсера был характер. Он ни в чем не знал меры. Так что у него от «Галаца» ничего не осталось. Он мне даже сказал, что ему может понадобиться еще немного для дополнительной проверки. А я на ветровое стекло использовал вещества ровно столько, сколько рекомендовал мистер Тонеску. Не стал без нужды тратить «Галац» и одновременно обеспечил более точную проверку его действия. Увидев рассыпанные в кабинете Латимера кристаллы, я сразу заподозрил, что они из моего стола. Больше их взять было неоткуда.
– Что ж, это понятно. Ведь о том, что в вашем столе хранится это ядовитое вещество, знали все. И ящик был не заперт.
– Вы совершенно правы.
Инспектор помолчал.
– Давайте снова вспомним, что находилось в столе мистера Спенсера. В частности, меня интересует коробка с «Флукицидом». Она там всегда лежала?
– Да.
– И это знали все служащие?
– Думаю, знали. Мистер Латимер определенно.
– Но и вы, сэр, конечно, об этом тоже знали.
Ну что за идиотское замечание! Разумеется, я об этом знал, иначе как можно было бы утверждать, что о «Флукициде» в столе Спенсера было известно остальным.
– Но там обычно лежала только одна коробка? – продолжил спрашивать инспектор. – Та, что в ящике слева?
– Да, – ответил я.
– По-вашему, «Флукицид» можно спутать с «Галацем»?
– Нет. Цвет у них одинаковый, белый, но «Флукицид» – это таблетки, а «Галац» кристаллы. Вы же их сами видели.
– Видел. Но хотел услышать ваше мнение. Мистер Спенсер таблетки «Флукицида» измельчал?
– Нет. А зачем?
– Вот именно, сэр. Зачем. Однако таблетки в коробке, хранящейся в его столе, были измельчены в порошок.
Обдумав этот новый для меня факт, я отважился высказать предположение:
– Что, если Спенсер всыпал в рот Латимеру кристаллы «Галаца», а потом вернулся к себе в кабинет, и там у него вдруг заболела голова? Он решил принять «Флукицид» и перепутал коробки.
– Как он мог перепутать, – удивился инспектор, – если они лежали в разных местах?
Только теперь мне стало ясно, что Хупингтон кое-что соображает, а не просто действует наобум.
– Так вы думаете, коробки намеренно поменяли местами, чтобы он перепутал? – спросил я.
– Возможно. – Инспектор задумался. – Тут ситуация сложнее. Мистер Спенсер, только что расправившись с мистером Латимером, попадает в свой кабинет и немедленно принимает «Флукицид». Причем не глотает таблетку, а кладет растолченный порошок себе в чай, размешивает и пьет.
Этого я, разумеется, не знал и даже не подозревал, потому что к тому времени в намерениях Латимера еще не разобрался.
– Вы полагаете, что «Галац» ему в чай подсыпали?
– Да, но неизвестно откуда. Тот, кто поменял коробки в столе, аккуратно протер их, так что на них ни единого отпечатка. Получается, что в чай ядовитые кристаллы попали либо из вашего стола, либо из той коробки, но раньше. На вашей коробке отпечатков так много, что не разберешься. Ясно лишь одно – смерть настигла мистера Спенсера после того, как он отведал отравленного чая. Насколько я понял, он любил пить чай остывшим и это было известно всем. Значит, яд ему могли подсыпать в то время, когда он находился в кабинете мистера Латимера.
– Или раньше, – заметил я.
– Или раньше, – согласился инспектор. – И сделать это мог любой работник вашей фирмы. Например, мисс Уиндэм или Томас, перед тем как подать чай. У вас тоже была такая возможность, пока чай остывал в его кабинете. Одно лишь несомненно – мистера Спенсера убил яд, добавленный в чай.
Значит, инспектор Хупингтон наконец-то догадался, что это произошло не случайно. Уже прогресс.
– Инспектор, позвольте мне кое-что уточнить, – произнес я. – Подсыпать в чай яд заранее было неразумно. Потому что мисс Уиндэм могла подать с подноса любую чашку мне или Латимеру.
– А разве вам чашку подавали?
– По-разному. Но вы правы, чаще всего я сам ее снимал с подноса мисс Уиндэм. Причем ту, что стояла ближе.
– Вот видите.
– Но все же, – настаивал я, – лучше предположить, что яд в чашку Спенсера был добавлен позже. Тут важно одно обстоятельство, о котором вам, возможно, не известно. Когда мисс Уиндэм принесла Латимеру чай, ему вдруг срочно понадобилась какая-то бумага, и он отправил ее за ней. То есть Латимер некоторое время оставался наедине с чашкой, несомненно, предназначавшейся для Спенсера, и ничто не мешало ему насыпать туда кристаллы. Вы не считаете, что на это стоит обратить внимание?
Инспектор надолго задумался, видимо, пытаясь сообразить, что я имею в виду. А ведь моя версия была совершенно очевидна. Латимер, заранее спланировав убийство Спенсера, специально попросил мисс Уиндэм принести график публикаций нашей рекламы в «Дейли мейл», хотя он был ему совершенно не нужен, и в ее отсутствие насыпал в чай Спенсера яду. Надо учитывать, что я предлагал Латимеру взять немного «Галаца» для проверки, но он категорически отказался. Скорее всего, манипуляцию с коробками в ящике стола Спенсера провел он, чтобы потом все выглядело, как будто тот отравился по ошибке. Но Спенсер нанес удар первым и только потом пал жертвой замысла Латимера.
Я все это подробно растолковал инспектору, но этому тупице моя версия показалась не очень убедительной.
– Извините, сэр, – наконец произнес он, – но вашу версию в качестве главной я принять не могу. Все выглядит достаточно правдоподобно, но, к сожалению, не подкреплено доказательствами. К тому же у меня есть свои версии, не менее основательные.
Меня не удивило, что инспектор не пожелал признать свое поражение. Обидно, конечно, когда за тебя сделали твою работу, но можно было проявить благородство, однако инспектор Хупингтон не из таких. Он теперь потратит много времени на проверку своих никчемных версий, чтобы в конце концов остановиться на моей. Но тогда это будет уже его версия. Вот в чем дело.
Ему вдруг потребовалось выяснить, кто вытирает пыль в офисе, чтобы определить того, кто стер отпечатки с коробок в ящике стола Спенсера. Чушь несусветная. У нас есть уборщица, но она в столы не лазит. Мисс Уиндэм тоже. А протереть коробки можно носовым платком, который есть у каждого.
Когда я сказал об этом инспектору, он нахмурился и попросил повторить подробности происходящего в кабинете Латимера, когда туда вошел Спенсер. Я повторил то, что мне удалось услышать, а он все не унимался и продолжал задавать вопросы. Его даже заинтересовало мое отношение к замужеству мисс Уиндэм, если такое случится.
Глава 6
– Если она выйдет замуж, вы ее уволите? – спросил он меня в конце разговора.
Я уже порядочно устал, поэтому ответил с легким раздражением, что для меня сейчас неважно, замужем она или нет. Важно, чтобы хорошо работала, поскольку непрофессионализма я не потерплю.
– Понимаете, ошибки машинистки нам дорого обходятся. Такая у нас работа.
Выслушав меня, инспектор разговор закончил и поспешно удалился, не сказав больше ни слова. Оставшись один, я продолжал думать. Мне не давали покоя его слова о версиях гибели (вернее, убийства) моих коллег, которые он считал «основательными». В конце концов я пришел к выводу, что версия у него может быть всего одна, и та очень слабая. Он заподозрил Томаса и мисс Уиндэм, не обращая внимания на отсутствие мотива. Впрочем, позднее выяснилось, что мотив у них все-таки был, но несерьезный, притянутый за уши.
Между тем инспектор, не желая прислушаться к моим доводам, начал разрабатывать версию причастности к преступлению Томаса и мисс Уиндэм, потратив на это уйму времени.
Вот что мне удалось узнать позднее.
В тот самый вечер, когда погибли мои коллеги, инспектор Хупингтон, отпустив всех по домам, нанес довольно странный визит. Наскоро поужинав, он отправился домой к мисс Уиндэм по адресу, который она ему продиктовала.
Открывшая дверь пожилая женщина на вопрос о мисс Уиндэм, в свою очередь, осведомилась:
– Наверное, вы имеете какое-то отношение к фирме, где она работает?
– Да, но почему вы так решили?
– Потому что только там мою дочь знают как мисс Уиндэм.
Инспектор, вероятно, смутился (могу представить, как это выглядело) и, в свою очередь, осведомился, как же следует ее называть.
– Миссис Томас, – ответила любезная женщина и затем добавила удивленному инспектору, что ее дочь живет с мужем по такому-то адресу.
Чуть помедлив, инспектор заметил, что в офисе никто о замужестве ее дочери не знает, потому что там она числится под девичьей фамилией.
– Это все из-за Спенсера, ее босса, – охотно пояснила старушка. – Вернее, одного из троих. Он не терпит замужних женщин.
Хупингтону не пришлось прикладывать много усилий, чтобы разговорить миссис Уиндэм. Она оказалась весьма словоохотливой.
Выяснилось, что мистер Спенсер уже не раз и не два прозрачно намекал ее дочери: стоит ей только выйти замуж, она тут же окажется на улице.
– Если бы моя дочь была там одна, – продолжила миссис Уиндэм, – я бы не позволила ей оставаться в этой фирме на таком унизительном положении. Но настоял Перси – мистер Томас. Он сказал, что не даст ее в обиду. Им сейчас действительно нужны деньги на обустройство дома. Так что пусть пока поработают, что бы там эти боссы ни говорили.
– Вы сказали, там трое боссов, – подал голос инспектор.
– Трое, но главных два. Барраклаф не в счет. (Вот, значит, какое у них обо мне мнение.) – Латимер еще хуже, чем Спенсер. Он самый противный. Вечно недоволен и не устает делать выговоры Мод – мою дочку зовут Мод – и ее мужу Перси. По любому поводу. Представляете, не так давно Перси – у него тогда не было никакого задания, такое у них часто случается, – взялся писать портрет Мод. Надо сказать, он прирожденный портретист и со временем станет известным. Вот увидите. – Миссис Уиндэм посмотрела на инспектора. – Понимаете, Мод получилась у него ну просто замечательно, но Латимера это вывело из себя: «Если нам понадобится украсить коробки шоколадных конфет красивыми картинками, мы поищем художника на стороне и модель найдем получше, чем мисс Уиндэм». Ну как можно говорить такое! Моя Мод, может быть, не такая уж красавица, но явно не дурнушка. Перси считает ее привлекательной, и не он один. Бедняжка плакала, когда рассказывала.
Я подозревал инспектора в наивности, но не думал, что он поверит пустой болтовне этой женщины. А она, найдя в нем благодарного слушателя, разошлась не на шутку. Принялась тараторить без остановки. Очень скоро Спенсер превратился у нее не только в злобного посягателя на права женщин, но и коварного соблазнителя, притязания которого отвергла ее добродетельная Мод. Не лучше был и Латимер, грубый и циничный.
Думаю, инспектор при всей его наивности смог бы разобраться, что к чему, но тут появилась сама Мод со словами:
– Господи, мама, что ты такое рассказываешь инспектору!
– Вы инспектор? – воскликнула потрясенная миссис Уиндэм. – Из полиции? А я думала, что разговариваю с джентльменом.
– Да что ты, мама, – поспешила успокоить ее дочка. – Мистер Хупингтон настоящий джентльмен, ведь он из Скотленд-Ярда.
Но миссис Уиндэм была сильно расстроена. Мысль о том, что люди, недостатки которых она только что обсуждала, умерли несколько часов назад, причем явно насильственной смертью, повергла ее в глубокую печаль. Ведь одной из ее жизненных установок было говорить о покойных только хорошее. А тут…
В общем, утешив ее насколько возможно, Мод Томас в сопровождении инспектора отправилась к себе домой, где он допросил новоиспеченную семейную пару, обоих. Что ему там удалось выяснить – неизвестно. Думаю, ничего.
Но я забегаю вперед. Когда мне впервые пришло в голову, что Хупингтон подозревает художника и машинистку, я еще не знал о их браке. Я не сомневался: он зря теряет время, но инспектор мог повернуть дело так, что их действительно могли обвинить.
Разумеется, для них это катастрофа, но мне-то что. А если дело дойдет до суда? Дойдет так дойдет, меня это не касается. К тому же они невиновны, и их не повесят. Если повесят, я тут ни при чем.
Рассуждая подобным образом, я понял, что не прав. Это меня касается, потому что художник и машинистка нужны на работе. Специалисты они, прямо скажем, средние, но других у меня пока нет. Со временем я, конечно, их заменю, но сейчас, когда рекламная кампания «Галаца» только начинается, мне без них не обойтись. Отсутствие Латимера и Спенсера никак на деле не скажется, а вот Томас должен остаться.
Придется пожертвовать временем, которого катастрофически не хватает, чтобы убедить инспектора Хупингтона отказаться от своей версии. Убедить его, что мисс Уиндэм и Томас тут совершенно ни при чем, и уговорить не предпринимать в их отношении никаких решительных мер. По крайней мере, в ближайшее время.
Одновременно мне нужно добиться, чтобы Тонеску перевел на счет «Агентства» аванс за рекламу «Галаца».
За двое суток Томас, я думаю, закончит работу, а дальше пусть инспектор Хупингтон делает, что хочет.
Глава 7
К сожалению, преодолеть упрямство инспектора Хупингтона оказалось не так просто, как я полагал. Он уцепился за свою вздорную версию обеими руками и не желал отпускать. Поэтому я набрался терпения, ожидая, что рано или поздно здравый смысл возьмет верх.
– Вот вы советуете мне, сэр, снять подозрения с мисс Уиндэм, – произнес он в ответ на мои увещевания. – Но тут не все ясно. Дело в том, что ее рассказ о событиях, происходивших в вашем офисе в тот трагический день, не полностью совпадают с тем, что я услышал от вас.
– Но женщины часто путаются в деталях, – заметил я.
Инспектор кивнул:
– Согласен, такое бывает. Но давайте все же обсудим те моменты, где я усмотрел расхождения.
Сказав это, он достал из кармана свою знаменитую записную книжку, вид которой вызывал у меня тревогу. Значит, разговор у нас будет долгий.
– Мистер Латимер действительно попросил мисс Уиндэм принести расписание публикаций рекламы вашего «Агентства» в «Дейли мейл». Она это подтвердила и сказала, что редкое чаепитие обходилось без подобных поручений. Она, как и вы, сэр, считает, что мистер Латимер делал это, чтобы позлить мистера Спенсера. Он вообще постоянно стремился показать, кто в офисе главный.
– Выходит, мисс Уиндэм гораздо умнее, чем я думал. Но пока не видно никаких расхождений.
– Она утверждает, что в кабинете мистера Латимера было тихо. Откуда вы взяли, что они ссорились?
– Я, кажется, уже упоминал, – ответил я, ничуть не смущенный вопросом, – в приемной не слышно, что говорят в кабинетах, учитывайте шум от печатной машинки.
– Но мисс Уиндэм говорит, что в это время сама пила чай. Эти минуты отдыха у нее чуть ли не единственные за весь день.
– Это, конечно, к делу не относится, но вам не следует думать, что мисс Уиндэм у нас серьезно перетрудилась. Задерживаться на работе ее просят очень редко и не торопят без особой надобности. Но продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю.
К обсуждаемому вопросу это никакого отношения не имело, но инспектор счел необходимом тщательно все записать. Пожалуй, мне нужно впредь следить за своими словами и не говорить лишнего.
– Если так, то ничего удивительного, что во время чая она на машинке не работала. Должен вам сказать, я проверил и убедился, что обычный разговор из кабинета мистера Латимера в приемной действительно не слышен. Но если собеседники повышают голос, их можно услышать, когда на улице тихо.
– А тогда на улице было тихо? – спросил я. – Допускаю, что в тот момент мисс Уиндэм ничего не печатала, но наверняка с кем-нибудь болтала. Учтите, Латимер сидел в кресле, значит, Спенсер стоял к нему лицом и спиной к двери. То есть его голос был направлен не в сторону мисс Уиндэм, а от нее.
– Вам не кажется странным, что мистер Латимер так легко позволил себя ударить? Почему не было слышно шума?
– Шум был, но очень слабый, – ответил я.
Инспектор оживился:
– Значит, вы его слышали? Почему не вмешались?
Инспектор, видимо, решил, будто прижал меня к стенке и сейчас я скажу что-то, подтверждающее его версию. На самом деле это я подвел его к вопросу, ответ на который был уже давно приготовлен. Пришло время рассказать о намерениях Спенсера, которыми он якобы со мной поделился. Естественно, о записках инспектор ничего знать не должен.
И я поведал инспектору о том, в какую ярость привела Спенсера выходка Латимера с рисунками, которые Томас сделал для рекламы консервной фабрики в Грейфилдсе. Передал его слова о том, что он завтра выскажет Латимеру все, что о нем думает, и заставит себя выслушать. Если понадобится, силой. Обещал расквитаться за подбитый глаз.
– Поэтому, услышав в кабинете Латимера небольшой шум, я не удивился и не счел нужным вмешиваться. Пусть разбираются сами. Но мне, конечно, и в голову не приходило, что дело дойдет до убийства. А о намерении Латимера расправиться со Спенсером вообще было трудно предположить.
Инспектор помрачнел:
– Вам следовало рассказать об этом раньше.
Разумеется, его слова не застали меня врасплох.
– У нас было несколько долгих бесед, инспектор, – позволю себе заметить, очень долгих, – и я, кажется, ответил на все ваши вопросы исчерпывающим образом.
– Да, но вы предпочли скрыть, что были готовы к такому развитию событий.
– Я не собирался ничего скрывать, инспектор. Но всякий раз, когда хотел рассказать вам это, вы прерывали разговор.
Инспектор нахмурился:
– Когда это было?
– В первый раз, когда вы всех отпустили по домам, а меня задержали только для того, чтобы в моем присутствии запереть мой кабинет. На следующий день у нас было долгое обсуждение замужества мисс Уиндэм, а когда я собрался начать разговор об этом, вы заторопились уходить.
Инспектор Хупингтон, надо отдать ему должное, принял мои доводы без возражений. Я даже удивился, насколько легко удалось его убедить. Конечно, для меня было бы большим облегчением рассказать ему правду (признаюсь, я плохой конспиратор) и показать записи Спенсера. Тогда бы все решилось само собой. Если бы дневник Латимера был к тому времени в надлежащем виде, я бы с удовольствием отдал инспектору и его.
Мой рассказ произвел на инспектора большое впечатление. Он послужил убедительным подтверждением моей версии, и вдвойне ценным был тот факт, что ему якобы пришлось вытягивать из меня эти сведения. Он заставил меня описать все в мельчайших подробностях. Когда у нас случился этот разговор со Спенсером, при каких обстоятельствах и прочее. Я совсем недавно перечитывал его записи, так что все помнил замечательно.
Рассказывать пришлось долго, и где-то в середине у инспектора закончилась записная книжка. Мои надежды, что он перестанет записывать, не оправдались. Он тут же достал из кармана новую и продолжил. Думаю, он и на Страшном суде появится с записной книжкой в руке, где будут подробно изложены все его прегрешения и добродетели.
– Это все, сэр? – спросил инспектор с легкой ноткой недовольства, когда я закончил. Ему явно хотелось продолжения. – Это все претензии мистера Спенсера? Он собирался мстить за пустяковый инцидент при переходе улицы, когда мистер Латимер нелестно выразился по поводу его подбитого глаза?
– Инцидент был не такой уж пустяковый, – не согласился я. – Спенсер вполне мог попасть под машину. Помню, он рассердился на Латимера, что он его не предупредил. Скорее всего, потом это вылилось у него в обиду только за подбитый глаз. Кстати, Латимера он ударил всего за несколько минут до своей смерти.
– Это должно быть в заключении экспертов. Когда был нанесен удар, можно определить по цвету ссадины. Почему мистер Латимер, видя приближающийся автомобиль, не предупредил…
– Хотите, я расскажу, как было дело? – спросил я.
Несомненно, инспектор этого хотел. Драгоценные (для меня) минуты уходили одна за другой, пока инспектор исписывал своим аккуратным почерком страницы новой записной книжки. Ну зачем эти записные книжки, это же так неэкономно? Если бы мне доверили руководить отделом документации полиции, я бы на одной только бумаге сэкономил солидную сумму средств налогоплательщиков. А если бы такое можно было сделать во всех правительственных учреждениях, то подоходный налог уменьшился бы, по меньшей мере, на шесть пенсов с фунта.
Все-таки я правильно сделал, что не сразу упомянул о том случае на дороге. Потому что теперь, когда я как будто об этом вспомнил, инспектор с рвением за него ухватился. Пусть хотя бы так он наконец разглядит то, что давно лежит на поверхности. Наверное, инспектор кое-что уже слышал от наших служащих, теперь ему предстояло узнать подробности из первых рук.
– Мистер Спенсер не намекал вам о своем намерении изложить все это на бумаге? – спросил инспектор, внимательно меня выслушав.
По тону, каким был задан вопрос, я сразу понял, что он что-то подобное подозревает. Умному человеку вообще несложно угадать его мысли. Ну что же, посмотрим, как он поведет себя дальше.
– Мне кажется, у Спенсера было такое намерение, – осторожно ответил я. – Но он редко когда заканчивал начатое. Например, затевал переговоры одновременно с несколькими потенциальными заказчиками, вместо того чтобы сосредоточиться на каком-то одном, и в конце концов результат получался нулевой.
– Вы думаете, он начал писать об этом, а потом перестал? – уточнил инспектор.
– Такое возможно, но где же эти его записи, хотя бы начатые? Ведь вы ничего не нашли. Он их либо не начинал, либо написал несколько листов и порвал. – Я сделал вид, что напрягаю память, пытаясь вспомнить. – Вы знаете, мне кажется, он действительно говорил что-то по поводу записок, но куда они подевались, не представляю.
Инспектор понимающе кивнул.
– Мисс Уиндэм говорит, будто, когда за день до трагедии она принесла ему чай, он что-то сосредоточенно писал. Ей случайно запомнилась фраза в начале листа: «А потом я скажу…»
– И что?
– А то, что ни в его столе, ни в мусорной корзине листа с этими словами не оказалось. Хотя меня заверили, что корзину никто не трогал.
– Так он, наверное, их выбросил. Спенсер бумагу не экономил.
– Да, сэр, таких, как вы, немного. – Заметив на моем лице улыбку, инспектор тоже улыбнулся и продолжил: – Как, по-вашему, куда мог подеваться тот лист? Вы не могли его случайно прихватить?
– А зачем он мне?
– Действительно, сэр, зачем? Это я спросил на всякий случай.
Надо же, спросил на всякий случай. Делать ему нечего. Однако надо дать версию исчезновения записок Спенсера. Не говорить же правду.
– От Спенсера можно было ожидать чего угодно, – сказал я. – Он мог выбросить эти бумаги в окно. Кроме того, лист, который видела мисс Уиндэм, не обязательно имел отношение к его записям, если такие были.
Инспектор неожиданно со мной согласился:
– Вы совершенно правы, но лист, о котором говорила машинистка, к сожалению, не остался на балконе внизу, как тот конверт. Если бы я знал об этом раньше, то попросил осмотреть тротуары поблизости от здания.
Я пожал плечами:
– Сомневаюсь, что лист мог долго пролежать на оживленной улице. И вообще, какой от этого листа толк, даже если бы вы его нашли.
Инспектор закивал:
– Верно, но я привык проверять любую мелочь.
В это я охотно верил. Инспектор был именно таким. Но раз речь зашла о конверте, я решил поинтересоваться:
– В том конверте оказалось что-то интересное?
Инспектор вскинул голову:
– О да. Там были ядовитые кристаллы.
– …Которые Латимер взял из моего стола, – закончил я.
Инспектор покачал головой:
– Совсем не обязательно, сэр.
– Но я думаю, это подтверждает мой рассказ о случившемся.
– О вашей версии случившегося, так будет точнее, – произнес он раздраженно. – Ваше предположение необходимо доказать, и у меня на этот счет есть другие соображения. Убить, знаете ли, дело не простое, так же как и расследовать убийство.
Таков инспектор Хупингтон. Ему и в голову не приходило, что я давно догадался о его версии убийства. И зачем таких в Скотленд-Ярде держат, если даже обыватель вроде меня может, не напрягаясь, понять, что у него на уме.
Глава 8
Работы у меня было много, так что время летело быстро. Конечно, приходилось отвлекаться на беседы с инспектором, но он меня беспокоил не часто.
В «Агентстве» все были заняты рекламной кампанией «Галаца», которая проходила с огромным успехом. После случившегося мы стали широко известны. После первого же сенсационного репортажа о «двойной трагедии в рекламном агентстве» я постарался передать журналистам подробнейшие сведения о нашей фирме и ее возможностях и заверил общественность, что на работе «Агентства» гибель двух менеджеров не отразится. Как и следовало ожидать, клиенты выстроились в очередь. Правда, не очень известные, но это большого значения не имело.
Я также просил журналистов не забывать упоминать, что «Галац» совсем не опасен, а несчастье произошло по нелепой случайности. В общем, с прессой у меня был налажен прекрасный контакт, так что сведения о «Галаце», практически ничем не отличимые от рекламы, появились в газетах раньше, чем я заплатил за площадь. Возникло желание взять с Тонеску за это деньги, потому что это тоже реклама, но я подавил искушение, поскольку привык работать честно. Удовлетворился лишь тем, что немного повысил цену за услуги. Он принял это без возражений, так что я пожалел. Надо было повысить плату вдвое.
Кстати, Тонеску внакладе тоже не остался. Как только люди узнали о его средстве для очистки стекол, тут же пошли заказы. Он открыл офис, поднял цену на товар и принял мое предложение расширить число изданий для публикации рекламы.
В общем, пока дела складывались совсем неплохо. Если честно, отсутствие Латимера и Спенсера пошло «Агентству» на пользу. Как говорится, нет худа без добра. Выкупить их доли мне почти ничего не стоило. На фоне успеха «Галаца» долги Латимера уже ничего не значили.
Я начал подумывать о том, чтобы пригласить в «Агентство» более опытного художника и машинистку. А может быть, даже понадобятся две. Бизнес идет в гору.
Я также решил занять кабинет Латимера. Надо ли говорить, что это было самое лучшее помещение в офисе. В этом на Латимера можно было смело положиться. Томасу придется переместиться в кабинет Спенсера, хотя он этого, кажется, не хочет. Непонятно почему, ведь там он сможет работать без помех. В мой прежний кабинет можно будет посадить вторую машинистку или сотрудника, который займется связью с прессой и наконец освободит меня от этого утомительного и бесполезного занятия, отнимающего массу времени. Так или иначе, но пока я эту комнату оставил незанятой.
Томас переселяться на новое место категорически не желает. Сначала я подумал, что он просто не хочет менять привычную обстановку, но затем выяснилось, что ему неприятно работать в месте, где недавно умер человек. У него, видите ли, богатое воображение, как у каждого художника-творца, и он опасается появления привидений. В общем, вот такая чепуха. Замечу, что Томас не творец, а всего лишь оформитель с очень средними способностями и что хорош он только до тех пор, пока не появится кто-нибудь более подходящий. Да и воображение у него не богаче, чем у таракана.
Как бы Томас ни хитрил, догадаться об истинной причине было нетрудно. Разумеется, он не хотел расставаться со своей дорогой Мод. Я тогда еще не знал, что они супруги, но подозрение такое в душу закралось. На мой вопрос, не помолвлены ли они, Томас ответил отрицательно, но слегка замявшись. Вот тогда я припер его к стенке следующим вопросом: является ли Мод Уиндэм его женой? Тут ему деваться было некуда.
Обнаружившееся обстоятельство полностью меняло ситуацию. В этом я полностью согласен со Спенсером и непременно эту парочку уволю, как только представится возможность. Разве можно ожидать от замужней женщины полной отдачи на работе? Что касается Томаса, то он и сейчас не очень покладистый, а после ее ухода станет вообще невыносимым. Так что пусть отправляется следом.
Говорить им об этом я, понятное дело, не стану, пока не найду замену. Предупрежденный об увольнении сотрудник тут же охладевает к работе. Зачем мне это нужно? Надо лишь подсчитать, сколько будет стоить увольнение без предварительного уведомления. Месячное жалованье, или хватит недельного? По закону, кажется, следует платить за месяц, но я все же попробую обойтись двумя неделями. Реклама «Галаца» начала приносить неплохие деньги, но их лучше придержать. Неизвестно, как все пойдет дальше.
В течение недели мне удалось найти подходящих людей на замену четы Томас. Они пока ни о чем не догадываются. Ну и прекрасно. Уволю их, как только закончится следствие, буквально на следующий день. Думаю, у инспектора Хупингтона хватит ума не вешать на них убийство, если существует вполне убедительная версия о том, что Латимер и Спенсер убили друг друга. Если же ему взбредет в голову обвинить Томасов, это его дело. Они к тому времени не будут служащими «Агентства». Я постараюсь их уволить до ареста.
На следующей встрече с инспектором я сразу заявил, что был не прав, так упорно настаивая на своей версии в то время, как существует другая, согласно которой моих коллег убили Томас и мисс Уиндэм. При этом добавил, что сам я убежден в их невиновности.
Затем я открыл ему тайну, что они супруги, и обнаружил: он об этом уже давно знает. После чего инспектор рассказал мне о встрече с матерью Мод, о чем я довольно подробно написал в одном из предыдущих разделов моих записей.
Но самое интересное случилось после. Когда я сообщил инспектору о своем твердом намерении в ближайшее время их уволить, он повел себя весьма странно. Заявил вдруг, что супруги Томас не причастны к убийству Латимера и Спенсера и что он, оказывается, никогда такую версию не рассматривал. Подумать только, какая откровенная ложь!
Дальше – больше. Затем он заявил, что признает мою правоту и собирается принять версию взаимного убийства Спенсера и Латимера в качестве основной.
Надо ли говорить, как я этому обрадовался. Ведь тогда дело можно считать закрытым. Если они убили друг друга, то судить некого. Я убедился, что инспектор Хупингтон поддается на провокации, и завел разговор о том, что, наверное, следует все же точно установить невиновность художника и машинистки. Ведь мисс Уиндэм легко могла подсыпать в чай Спенсера отраву.
– В таком случае вы слышали разговор мистера Латимера и Спенсера уже после того, как она его убила.
– Я мог спутать голоса Спенсера и Томаса.
– Однако вы слышали не только голос, – возразил инспектор, – но и то, как мистер Спенсер перешел из своего кабинета к мистеру Латимеру.
Я не сдавался:
– Это могли быть шаги мисс Уиндэм. К тому же голоса до меня доносились весьма неотчетливо.
Мой прием сработал на славу. Инспектор Хупингтон, окончательно сбитый с толку, наконец полностью уверовал, что они убили друг друга.
– Я полагаю, сэр, – заключил он, – что для доказательства достаточно подбитого глаза мистера Латимера.
Он неожиданно вернулся к конверту, найденному на балконе под нами:
– Думаю, эта улика ставит под подозрение мисс Уиндэм. Кристаллы «Галаца», несомненно, попали в конверт из ящика вашего стола, сэр, и взял его один из убийц.
Я кивнул в знак согласия. Хотелось, конечно, сказать, что убийцей был Латимер, но пришлось сдержаться. Пусть инспектор сам придет к этому выводу.
– Мисс Уиндэм, – продолжил он, – гораздо легче было бы выбросить конверт из окна комнаты, где она находилась. А еще проще порвать конверт и выкинуть обрывки в переполненную мусорную корзину. Вряд ли она подозревала, что я стану проверять ее содержимое.
– Но вы как раз это и сделали, – сказал я.
– Естественно. А вот мистеру Латимеру требовалось избавиться от конверта немедленно. Так что он выбросил его из окна своего кабинета без промедления. Он, конечно, не рассчитывал, что конверт застрянет на балконе.
Помня, что самый лучший способ убедить инспектора в правильности той или иной версии это подвергнуть ее сомнению, я начал возражать. Как и ожидалось, он после этого еще сильнее укрепился в своем мнении.
В конце концов я добился главной цели. Инспектор Хупингтон теперь уже, несомненно, предложит коронеру эту версию в качестве основной. А я, конечно, подготовлю свои показания, чтобы подтвердить ее как можно убедительнее. Хотя, возможно, этого и не понадобится. Все произойдет само собой.
Глава 9
Итак, моя цель достигнута. Значит, эта запись последняя.
Расследование коронера прошло превосходно, дело закрыто, о нем можно больше не думать. Осталось завершить эти записи, и я смогу полностью сосредоточиться на работе. Завершить их надо только потому, что не в моих правилах оставлять начатое дело незаконченным.
Не буду в деталях описывать слушания у коронера. Все прошло, как обычно. Сначала, как положено, разные формальности, затем доклад инспектора Хупингтона о проведенном расследовании с выводом, который был мне известен с самого начала. После этого наконец вызвали меня.
Подготовился я основательно, так что не только смог без запинки изложить события того «фатального дня», как называли его в прессе, но и подробно рассказать об отношениях между моими коллегами, приведшими к трагическому исходу.
Я был единственным свидетелем, так что более исчерпывающих показаний никто дать не мог.
Мне удалось убедительно показать, насколько Латимер и Спенсер не терпели друг друга. Степень их взаимной неприязни была столь высока, что рано или поздно это обязательно должно было привести к взрыву. Каждый считал другого бездельником и невежей. В своем рассказе я постарался не слишком заострять внимание на их профессиональной некомпетентности, чтобы у публики не создалось впечатления, что в «Агентстве» нет профессионалов. Кстати, надо все же придумать нашей фирме более интересное название. Мне не надо было подчеркивать, что единственным работником в «Агентстве», без которого нельзя обойтись, был и остаюсь я. Надеюсь, внимательный читатель уже давно это понял.
Не забыл я и об интересах наших клиентов. Товары Энрикеса и Флетчера получили неплохое продвижение, акции консервной фабрики в Грейфилдсе теперь раскупают охотнее, поскольку о них стало широко известно. Все это так, но мои старания согласился оплатить лишь Тонеску, надо отдать ему должное. Флетчер продвижения своего «Флукицида» вообще замечать не желает. Скорбит о друге Спенсере и полагает, что и я должен. Обвиняет меня в бесчувственности. Полный абсурд.
Когда речь зашла о том, что произошло в тот день в офисе, я дал исчерпывающие пояснения. Уже было ясно, что они имели все основания желать друг другу смерти. Осталось только рассказать, как каждый воплотил свой замысел.
Помогло и то, что процедура слушаний у коронера позволяет выдвигать предположения и делать допущения – преимущества этого я прежде не понимал и даже был склонен осуждать, – и вот теперь это дало мне возможность сформулировать свою версию случившегося. Думаю, Хупингтон вряд ли смог бы справиться с этим так удачно. Наверняка это заняло бы у него больше времени и не было бы столь убедительно. К тому же он бы придерживался фактов, а я позволил себе свободные рассуждения. Впрочем, это мне труда не составило.
После того как я своим выступлением внес в рассматриваемый вопрос полную ясность, коронер снова вызвал инспектора Хупингтона, который ограничился подтверждением лишь части моего рассказа. Впрочем, остальное не опроверг. Формальности ради заслушали показания Томаса и его супруги. Они ничего нового не добавили, лишь внесли небольшую путаницу. В любом случае я выступал дольше всех, вместе взятых.
Как и следовало ожидать, присяжные вынесли единственно правильный вердикт. Спенсер и Латимер убили друг друга. Я запамятовал, была ли оговорка, что они действовали в состоянии временного помрачения рассудка. Впрочем, это ни на что не влияет.
Итак, теперь, когда дело закрыто, мне осталось сообщить этой паре никчемных работников об увольнении. Я сделаю это с особым удовольствием. Мисс Уиндэм – вернее, миссис Томас – заявила у коронера, что дверь в коридор, где расположены кабинеты директоров, открывалась лишь один раз после того, как она разнесла чай, и перед тем, как обнаружила мертвого Латимера, что противоречило моим показаниям.
Итак, скоро я с величайшим наслаждением расстанусь с супругами Томас, а вместе с ними выброшу из головы всю эту неприятную историю.
Часть IV Наказание
Глава 1
Я не стану, как мистер Барраклаф, начинать свои записи с замечаний в чей-то адрес, хотя у меня есть что сказать. Как и любой секретарше о своем боссе. Хотя какие могут быть секреты на работе. Личная жизнь – другое дело.
Секретарши знают многое, но не все следует рассказывать. Думаю, это ясно каждому. А я всегда себе говорила: узнавай, потихоньку высматривай, но держи язык за зубами. Это главное.
Знаю, многие девушки со мной не согласятся. Для некоторых подсмотреть что-то, в том числе и на работе, смертный грех, а я мыслю по-другому и не считаю себя неправой.
Однажды я зашла к мистеру Спенсеру по какому-то делу – он в это время что-то сосредоточенно писал – и увидела наверху листа незаконченную фразу «А потом я скажу…». Признаюсь, она меня озадачила. Кому он что-то скажет и что значит «потом»? Вскоре выяснилось, что речь шла о мистере Латимере, но тогда я не знала, что и думать.
Спустя какое-то время я заглянула в кабинет мистера Барраклафа, зная, что его там нет, и подергала ящики стола. Один был не заперт. Тот, в котором лежала довольно толстая пачка исписанных листов. Конечно, я их пролистала – а какая секретарша удержалась бы от соблазна? – и прочла в самом конце, что он намерен нас с Перси уволить, причем с огромным удовольствием. Это был сюрприз. До сих пор мне и в голову не приходило, что я могу потерять работу в «Агентстве». Ведь ко мне никогда не было претензий. А то, что мистер Барраклаф собирался избавиться от Перси, причем с радостью, вообще было выше понимания.
Конечно, я вполне могла устроиться в другое место, а Перси тем более. Он классный художник, таких мало. Мы подумывали об этом, но пока работали, хотя мистер Барраклаф платил нам унизительно мало, потому что на поиски другого места могло уйти несколько недель.
Выясняется, что мистер Барраклаф собирается нас уволить без предупреждения. Значит, на хорошие рекомендации рассчитывать нельзя.
Вот так одно, другое, а тут еще мебель, купленная в кредит, – все это привело меня к мысли, что нужно действовать.
Надо заметить, что мистер Барраклаф в то утро был чем-то сильно взволнован, – я скоро об этом скажу, – и у меня было время до его возвращения, чтобы просмотреть его записи повнимательнее.
Там было такое написано, просто удивительно, как он оставил их в незапертом ящике. Приглядевшись, я увидела, что ящик он запирал, но в спешке не до конца повернул защелку. Можно представить, как был взволнован в этот момент мистер Барраклаф, который все делает с большой аккуратностью, а потом еще проверяет и перепроверяет.
Должна сказать, что в то утро у него был неприятный разговор с какой-то женщиной. Кажется, шла речь о деньгах, которые надо заплатить, чтобы от нее отвязаться. Закончив с этим, он сразу позвонил румыну. Перси, правда, говорит, что никакой он не румын, но об этом я тоже скажу чуть позже. Что говорилось по телефону, не знаю. Не хотелось, чтобы посыльные видели, как я подслушиваю. Потом он выскочил из кабинета в страшном волнении, иначе бы не оставил свои записи, не проверив, надежно ли заперт ящик.
Они меня с самого начала сильно удивили. Значительная часть была написана почерком мистера Барраклафа, но встречались листы, взятые из дневника мистера Латимера, а затем мне среди написанного мистером Барраклафом попался обрывок фразы, поначалу совершенно непонятный: «…пригласил для этого дела Барраклафа». Получалось, как будто мистер Барраклаф пишет сам о себе. Почитав дальше, я увидела, что он зачем-то составляет их от лица мистера Латимера, и запуталась еще сильнее.
Поэтому решила взять записи себе, чтобы прочесть внимательно, ничего не упуская. Мне ведь уже было известно о его намерении нас уволить без всяких причин, и я понимала, что, забирая их, даю ему для этого удобный повод. Но, с другой стороны, может, он передумает, догадавшись, что записи у нас, или выплатит приличную компенсацию вместе с хорошими рекомендациями. Во всяком случае, без этого он свои записи назад не получит.
Когда я, бегло просматривая листы, увидела, что он по закону обязан выплатить нам при увольнении месячное жалование, но собирается ограничиться двумя неделями, мое решение окрепло. Это же неслыханная жадность!
В общем, я принесла эти записи Перси. Он очень умный, так что сразу увидел, что первую часть почти всю написал мистер Барраклаф от лица мистера Латимера, как будто это он написал, включив туда кое-что подлинное из его дневника.
– Это стиль Барраклафа, – сказал он. – Никто из знавших Латимера не поверит, что он мог так написать.
– Ты совершенно прав, – подхватила я. – К тому же, чтобы столько написать, надо посидеть, потрудиться. Это не похоже на Латимера.
– Этими записями он себя полностью выдает, – добавил Перси.
Когда я внимательно прочла их до конца, все стало ясно. В одном месте Барраклаф прямо заявлял, что очень доволен тем, как хорошо ему удалось переработать дневник Латимера. Зачем ему это понадобилось, я тогда не могла даже представить.
Но это было потом. А сейчас Перси, просматривая рукопись, добрался до страниц, написанных рукой Спенсера. Последняя кончалась фразой «А потом я скажу…».
Вот так сюрприз! Та самая страница, которую я видела, оказывается, цела, а мистер Барраклаф убеждал инспектора, что мистер Спенсер выбросил эту страницу в окно.
Я, конечно, все это сообщила Перси. Он задумался, а потом сказал:
– Знаешь что, подруга (Перси любит меня называть «подругой», и мне это нравится), я думаю, нам надо позвонить инспектору Хупингтону.
Правильно – инспектор должен об этом знать.
Иногда очень хочется открыто, вслух восхититься своим мужем. Вот как сейчас. Ну какой же он молодец, как мудро рассудил.
Но у меня хватило выдержки произнести эти слова про себя. Я просто сняла трубку и набрала номер, как будто это был самый обычный телефонный звонок.
Услышав про записи мистера Спенсера, инспектор тут же собрался ехать к нам.
Теперь позвольте мне отвлечься и сказать несколько слов относительно того, что понаписал про мою маму мистер Барраклаф. Я этого ему никогда не прощу. Он представил ее сплетницей, которая выкладывает все первому встречному. Она совсем не такая, у нее воспитание не хуже, чем у любой благородной леди. А то, что у нее в разговоре с инспектором случайно вырвалось, что я замужем, так это не секрет. Мы просто решили пока об этом в «Агентстве» не объявлять.
Почему? Вы подумаете, что это из-за мистера Спенсера, и ошибетесь. Он действительно пару раз нелестно высказывался по поводу замужних женщин на работе, но не всерьез. Он ведь шутник, это всем известно. Мистер Спенсер мне нравился, но, признаться, я побаивалась его шуток. Иногда они были грубоваты. Но все равно он был джентльменом, а если кому-то его шутки казались несмешными, так вкусы у всех разные. Я думаю, даже такие хорошо воспитанные джентльмены, как мистер Спенсер, иногда нам кажутся вульгарными. Я не была знакома ни с одним лордом, но не удивилась бы, окажись он пошляком.
Нет, мы с Перси опасались не мистера Спенсера, а двух других.
Мистера Латимера, этого надменного хама. Никогда нельзя было сказать заранее, какой он выкинет фортель. Говорил мало, но почти всегда грубости. Перси считал, что с ним можно поладить, если найти правильный подход. Но я его едва терпела и никак не могла понять, что это такое – правильный подход. Да что там, мистер Латимер даже Перси разозлил, когда начал рвать рисунки, которые он сделал для рекламы консервной фабрики. Вы бы на них посмотрели – красота.
Но все же самым трудным для нас было общение с мистером Барраклафом. Перси считал его мерзким типом и говорил, что он обязательно нас уволит, если узнает, что мы женаты. И как всегда, оказался прав.
В своих записках мистер Барраклаф ни о ком не сказал ни единого доброго слова. А уж какие глупости он понаписал об инспекторе, с которым мы, между прочим, очень хорошо поладили. И ему, конечно, в голову не приходило подозревать нас в убийстве мистера Спенсера и мистера Латимера. Нет, инспектор Хупингтон совсем не такой, каким его изобразил мистер Барраклаф. Прежде всего, он добрый и понимающий. Кроме того, красивый и сильный. Очень похож на сыщиков, каких показывают в кино. К моим словам он внимательно прислушивался. Так что не верьте мистеру Барраклафу. Инспектор за мной все подробно записывал, видно, считал это важным. В конце концов так оно и получилось. Но об этом позже.
Кстати, маме он тоже очень понравился. Все, что написано у мистера Барраклафа, будто она говорила, что не считает инспектора джентльменом, это неправда. Мистер Хупингтон не похож на полицейского. Совсем не похож. С мамой он поговорил очень славно, а потом мы поехали к нам, где он побеседовал с Перси.
У мистера Барраклафа написано, будто инспектор рассердился на мою маму и поэтому начал искать против нас улики. Так это опять неправда. Мистер Хупингтон никогда бы не пошел на подобную низость. Можете мне поверить. Он с самого начала знал, что мы тут ни при чем.
Ему можно было открыть душу. Он располагал к этому. Даже мама, обычно молчаливая, с ним разговорилась, а это многое значит.
Так что сами видите – все, что написал мистер Барраклаф, ложь. Я уж не говорю, какой он представил меня. И работаю я плохо, и зубы у меня не такие… Разве джентльмен такое напишет?
Но у нас джентльменом был только мистер Спенсер. Этих двоих очень злило, когда он напоминал о своем образовании. Временами он тоже бывал несносным, но с ними не стоит даже сравнивать.
Что касается работы, то больше меня мало кто из машинисток где-нибудь трудился. В восемь сорок пять я уже в офисе, иногда в девять, но не позже. Когда такое случалось (очень редко), то выговор от мистера Барраклафа был обеспечен. Перерыв на ланч сорок пять минут, а окончание рабочего дня вообще нестабильное. Раньше половины седьмого я никогда домой не уходила. Чаще в семь и позже, причем за переработку не доплачивали ни пенса. То, что мистер Барраклаф сказал инспектору, будто я никогда сверхурочно не работала, так это опять бессовестное вранье.
Перси переживал, что я очень устаю, уговаривал так не напрягаться. Он был прав: я работала за троих. Но что делать? Конечно, я могла уйти, но мы решили повременить. К тому же, когда началась рекламная кампания «Галаца», мистер Барраклаф собирался взять еще одну машинистку. Правда, дальше слов дело не пошло.
Перси хотел поговорить с ним, чтобы он перестал меня эксплуатировать, но я уговорила его этого не делать.
Вот так обстояли дела до последнего времени.
Мистер Барраклаф разбил свои записки на главы, и я решила последовать его примеру. Во второй главе вы узнаете о двух важных событиях, имеющих отношение к «Галацу» и его изобретателю – румыну Тонеску.
Глава 2
Начну, пожалуй, не с самого главного, но весьма интересного. Сначала это показалось мне забавным, но потом стало не до смеха.
Утром, почти сразу после моего прихода, в офис явилась пожилая женщина. Один глаз у нее слегка косил, а так ничего, вполне приличного вида. Войдя, она встала у двери, агрессивно сложив на груди руки (это мне сразу не понравилось), осведомилась, здесь ли находится рекламное агентство «Neo-AD». Услышав мой ответ, она уточнила:
– Это где работал покойный мистер Спенсер?
Удостоверившись, что попала в нужное место, дама представилась:
– Я миссис Хиггинс, его квартирная хозяйка. Он занимал в моем доме лучшие комнаты. Пришла сюда, чтобы увидеть хозяина этой фирмы и потребовать с него компенсацию.
– Какую компенсацию? – спросила я.
– Это уже мое дело, какую, – ответила она, не церемонясь.
Я, знаете ли, не люблю, когда со мной так разговаривают, – а кому это понравится? – так что ответила, напустив на себя строгий вид:
– Мистер Барраклаф очень занят и не любит, когда его беспокоят по мелочам. Я секретарша. Скажите, по какому вы делу, и я запишу вас на прием. Возможно, у него появится время на следующей неделе.
– Да нет же, – возмутилась визитерша, – он мне нужен сейчас, немедленно. Я никуда отсюда не уйду, пока его не увижу.
Ну, раз такое дело, я решила зайти к мистеру Барраклафу, спросить, примет ли он ее.
– Скажите ему, что я пришла насчет зеркала! – крикнула она мне вслед.
Мне не очень хотелось видеть мистера Барраклафа, он обычно по утрам бывает раздраженным, но ничего не поделаешь. К моему удивлению, пожилая визитерша его заинтересовала, и он попросил пригласить ее в кабинет.
Я, как только за ней закрылась дверь, вспомнила, что мистер Спенсер проверял действие «Галаца» на зеркале у себя дома, и задержалась в коридоре послушать, что она скажет.
Визитерша сразу выложила претензии. Зеркало, которое мистер Спенсер помазал средством для очистки, пришло в негодность.
– Несколько дней назад, – пояснила она, – на нем появились странные пятна, а потом весь угол, где он намазал, разъело.
– Что значит разъело? – спросил мистер Барраклаф.
– А то, что ничего в нем не видно, все мутное, – ответила она. – Он даже не спросил разрешения, просто взял и намазал. Потом, правда, сказал, когда уже поздно было. Начал мне голову дурить. Якобы теперь оно не будет запотевать. От чего запотевать, я так и не поняла. В общем, он испортил мне зеркало. Полностью.
– Но зеркало могло испортиться и по другим причинам, – возразил мистер Барраклаф.
– Нет уж, позвольте! – повысила голос миссис Хиггинс. – У него несколько капель этой гадости попало на другие части зеркала, и они тоже помутнели и потемнели. Так что это гадость виновата, а не что-то другое. Представляю, что там внутри у человека делается, когда она туда попадает. Неудивительно, что оба, мистер Спенсер и другой джентльмен, так быстро умерли.
Могу представить, какое у мистера Барраклафа в этот момент было лицо, но он быстро взял себя в руки, потому что голос у него оказался спокойный:
– Все равно, миссис Хиггинс, ваша претензия не по адресу. Все, что вы рассказали, это, конечно, интересно, но ко мне не имеет никакого отношения. Возможно, мистер Спенсер не рассчитал дозу препарата.
– Это имеет к вам отношение, и еще какое! – воскликнула квартирная хозяйка мистера Спенсера. – Вы обязаны заплатить мне за зеркало.
При этих словах я еле удержалась от смеха. Всем было известно, как тяжело этот скупец расстается с деньгами.
Он начал говорить ей о том, что виноват во всем мистер Спенсер и ей следует обратиться за компенсацией к его душеприказчику.
Но она и слышать ничего не хотела:
– Мне все равно, кто виноват. Мистер Спенсер проверял действие этого средства на моем зеркале по заданию вашей фирмы. И я никуда отсюда не уйду, пока вы мне не заплатите.
Мистеру Барраклафу, видимо, ничего не оставалось, как предложить ей компенсацию. Вы не поверите, один фунт!
Она зло рассмеялась:
– Целый фунт, подумать только. Вы хотя бы знаете, сколько стоит зеркало? Думаю, моему супругу оно обошлось в двадцать, а то и больше. Но я, так и быть, возьму с вас пятнадцать.
Они начали торговаться, упорно, со знанием дела. Возможно, мистер Барраклаф добился бы значительного снижения, будь у него больше времени. В конце концов они сошлись на восьми фунтах пяти шиллингах. Напомню, начал он с одного фунта, а она требовала пятнадцать.
Потом спор возобновился. Она желала получить деньги наличными, а мистер Барраклаф собирался выписать чек. Но тут ей пришлось уступить, потому что он в офисе наличные не держал.
Я вовремя успела вернуться к своему столу, потому что меньше чем через минуту миссис Хиггинс с мрачным видом прошествовала мимо на выход. Не успела за ней закрыться дверь, как мистер Барраклаф крикнул, чтобы я соединила его с мистером Тонеску.
Он быстро с ним поговорил и второпях выбежал за дверь, даже не сказав, куда уходит, что было для него необычно, а я сразу проскользнула в его кабинет, где нашла эти записи.
После чтения я так разволновалась, что коротко рассказала Перси про визит миссис Хиггинс только перед приездом инспектора Хупингтона.
Так вот, вторым важным событием, о котором я упомянула в конце первой главы, было как раз то, что я от него потом услышала.
– Этот Тонеску – проходимец, – сказал он. – Скоро ты сможешь в этом убедиться.
– С чего ты взял? – удивилась я.
Перси усмехнулся:
– Помнишь, как он в первый раз сюда пришел и от волнения заговорил якобы по-румынски? Я раньше на этом языке ни единого слова не слышал, но то, что он говорил, вполне понимал. Потому что это был не румынский язык, а наш, валлийский. Я ведь сам из Уэльса, и этот язык мне знаком с детства. Стало быть, румын он фальшивый. Думаю, и все остальное тоже обман.
– Но почему ты сразу не сказал?! – почти крикнула я. – Не предупредил боссов?
Перси помрачнел:
– А почему мы должны о них заботиться? Они нас за людей не считают, а мы, значит… – Он махнул рукой. – Нет, пусть сами разбираются. Кроме того, может, он действительно изобрел чудодейственное средство для очистки стекол, и ему зачем-то понадобилось выдавать себя за румына. Откуда мне знать?
Позднее стало ясно, что Перси не ошибся. Тонеску действительно оказался валлийцем. Звали его Тони, а фамилию я забыла, что-то похожее на Уильямс. Средство для очистки делали не в Галаце (как выяснилось, города с таким названием в Румынии вообще нет), а здесь, в Лондоне. Он и его сообщники прекрасно знали, что их средство для очистки губит стекла.
Этот жулик притворился румыном, чтобы втереться в доверие к мистеру Латимеру, что было несложно. Тогда, на выставке, подслушал, что он представитель рекламного агентства, и решил поживиться. Изобразил из себя румына, ничего не понимающего в местных порядках и готового следовать любым советам. Эту часть дневника мистера Латимера его коллега изменять не стал.
Главное, все боссы «Агентства» поверили, что перед ними глупый иностранец. Даже такой скептик, как мистер Барраклаф, воспринял его изобретение совершенно серьезно, не стал ничего о нем узнавать, поверил на слово. Двое других тем более. Потом выяснилось, что справка румынского банка о кредитоспособности Тонеску была поддельная. Поэтому им, наверное, и понадобилась Румыния, потому что с английскими банками такое жульничество бы не прошло.
Даже мне в тот момент было ясно, что дело приняло серьезный оборот. Ведь если это средство для очистки испортило зеркало миссис Хиггинс, то, значит, оно вообще разрушает стекла. Мистер Барраклаф, наверное, сразу об этом подумал и позвонил мистеру Тонеску, а после разговора – я это потом узнала – побежал посмотреть свою машину. Он, кажется, на ней не ездил несколько дней, а может быть, неделю, и не знал, что с ветровым стеклом.
А когда увидел, могу представить, какая его охватила паника, потому что это означало крах фирмы. Скоро все узнают, что это за «чудодейственное» средство, достоинства которого так превозносились в рекламной кампании «Агентства». И что теперь?
Но это все будет потом. Пока мистер Барраклаф ходил смотреть свою машину и был у мистера Тонеску, к нам приехал инспектор Хупингтон.
Поскольку кабинет мистера Барраклафа сейчас пустовал, мы повели инспектора туда и показали свою находку. Не делать же это при мальчиках-посыльных, которых, когда они нужны, нигде не найдешь, а теперь вот, пожалуйста, путаются под ногами.
Глава 3
Увидев записи мистера Барраклафа, инспектор Хупингтон обрадовался. Сейчас он их только пролистал, оставив подробное чтение на потом. Дело в том, что почерк у мистера Барраклафа был мелкий и неразборчивый (а как еще мог писать этот зануда?), да и у мистера Латимера был не лучше. Я, когда печатала его материалы, часто просила диктовать, потому что ничего не могла прочесть. Инспектор также бегло просмотрел записи мистера Спенсера, а еще мы ему показали места, где мистер Барраклаф возводил на нас поклеп.
Оказывается, эти записи являются серьезной уликой, которой инспектору как раз не хватало. Потом он нам коротко (на долгую беседу времени не было) рассказал о своей версии гибели двух директоров «Агентства». Многое мы узнали позже, но я, пожалуй, напишу все сразу.
В общем, инспектору с самого начала не понравилась эта история с конвертом на балконе. Мистер Барраклаф якобы его случайно заметил и обратил внимание инспектора.
На окне в кабинете мистера Латимера отпечатков не оказалось, а у мистера Барраклафа, наоборот, было очень много. Он признал, что открывал в этот день окно, так что все в порядке. Но инспектору показалась странной настойчивость, с которой он говорил о конверте, лежавшем на балконе ближе к его окну, чем к окну мистера Латимера.
Инспектор решил на этот день разговор с мистером Барраклафом прекратить и, расставшись с ним, начал разбираться с тем, как конверт попал на балкон. Оказалось, что так он лежать мог только в том случае, если его бросили из окна кабинета мистера Барраклафа. Затем, спустившись вниз, инспектор сделал другое открытие. На тротуаре под балконом оказался еще один конверт, точно такой же. И в нем тоже обнаружили остатки кристаллов «Галац».
После этого кое-что прояснилось. Кому-то потребовалось, чтобы конверт со следами яда оказался на балконе. Он не пожалел для этого двух конвертов (причем в обоих присутствовал «Галац»), потому что забросить конверт на балкон ему удалось только со второго раза, а потом этот кто-то усиленно обращал внимание инспектора на конверт.
Тут и думать было нечего – конверт подбросил мистер Барраклаф. И понятно зачем: чтобы направить следствие по ложному следу.
Инспектору все стало окончательно ясно после разговора с нами. Я рассказала, как разносила чай, и он понял, что мистер Барраклаф насыпал яд в обе чашки еще у себя в кабинете. Подумать только, он сделал это прямо у меня под носом, а я ничего не заметила. Может быть, это случилось, когда он брал сахар? Потом мистер Барраклаф зашел в кабинет мистера Латимера, где сначала ударил умирающего по лицу, а затем рассыпал по полу ядовитые кристаллы. В своих записках позднее он все это описал так, как ему было нужно.
Бить по лицу умирающего человека жестоко, но мистер Хупингтон пояснил, почему он так сделал. Ему нужно было навести подозрение на мистера Спенсера, якобы он мстит за случай при переходе улицы. Но мистер Барраклаф кое-чего не учел и за это поплатился. Дело в том, что ссадина под глазом у мистера Латимера могла образоваться, пока он был еще жив. Но яд уже начал действовать, поэтому посинение кожи было не таким, как у живого человека. Мистер Хупингтон сказал, что мертвому поставить синяк невозможно. Я так и не поняла почему, но это неважно.
Приятно осознавать, что мне удалось помочь инспектору разобраться, кто из боссов куда тогда заходил. Мистер Барраклаф утверждал, что он слышал, как мистер Спенсер заходит в кабинет к мистеру Латимеру, а потом возвращается к себе. А мне показалось, что открывалась дверь мистера Барраклафа и это он заходил к мистеру Латимеру. Я повторила это на разбирательстве у коронера, но присяжные в конце концов решили, что в кабинете мистера Барраклафа было лучше слышно, какие открываются двери. Это действительно так, но инспектор Хупингтон вскоре убедился, что я была права.
Инспектор также объяснил мне, зачем мистеру Барраклафу понадобилось дополнять дневник мистера Латимера. Сначала план у него был такой: он убивает мистера Спенсера и подставляет мистера Латимера, будто это сделал он. Тем самым он убирал с дороги сначала одного, а потом другого. Уликой против мистера Латимера должен был послужить его дневник, где описано, как он был зол на мистера Спенсера. Чтобы все выглядело убедительно, мистер Барраклаф добавил от себя целые страницы. Но главной его целью было убрать мистера Спенсера. Он его ненавидел. Тот был умнее, образованнее и лучше его во всех отношениях.
Но позднее, когда мистер Барраклаф добрался до записок мистера Спенсера, у него созрел план представить все так, как будто они убили друг друга. Так, как это описано в его сочинении. Очень помогло ему то, что мистер Латимер действительно в тот день посылал меня за расписанием публикаций нашей рекламы в «Дейли мейл».
Эту версию он начал предлагать инспектору так назойливо, что, наверное, в конце концов сам в нее поверил. Эти записи он создал специально, чтобы все видели, что он чист. Хотя инспектор говорит, что в нем есть несколько мест, которые наводят на подозрения.
С конвертом на балконе все было ясно. Таким способом мистер Барраклаф хотел подставить мистера Латимера. Вторую коробку в ящик мистера Спенсера он подложил, надеясь, что сначала инспектор подумает, что мистер Спенсер перепутал коробки и вместо «Флукицида» принял яд, а потом разберется и поймет: это был хитрый замысел мистера Латимера, сбивающий с толку полицию. Для меня это все было слишком сложно, я совершенно запуталась, но инспектор Хупингтон считал, что мистер Барраклаф все умно придумал, только перестарался.
Затем было разбирательство у коронера, но инспектор продолжал собирать улики, уже понимая, что мистер Латимер ни в чем не виновен. По всем свидетельствам, он был ленивым, недалеким и слабовольным человеком. Совершить убийство у него не хватило бы мужества. Мистер Спенсер тоже не стал бы бить по лицу умирающего, это совершенно не было на него похоже.
Помню то утро, когда инспектор наконец собрал нужные улики и получил ордер на арест подозреваемого. Мистер Барраклаф куда-то уходил, а вернувшись, тяжело опустился в кресло со словами:
– Все кончено… кончено.
Тут инспектор вошел к нему и спросил:
– Что кончено?
Я не могла удержаться и вошла следом, хотя Перси был против. Мистера Барраклафа мое появление вывело из себя настолько, что он начал оскорблять меня, эти слова я не могу здесь воспроизвести.
Тем временем инспектор показал ему ордер на арест и предъявил обвинение, попросив держать себя в руках, но мистер Барраклаф не унимался. Повторял, как он жалеет, что до сих пор нас не уволил.
Тут вмешался Перси, он к тому времени тоже вошел в кабинет. Сказал, что это ему на руку, иначе некому будет вести бизнес в его отсутствие.
– Ты прекрасно знаешь, что я уже сюда никогда не вернусь, – мрачно проговорил мистер Барраклаф. – Так что начинай руководить «Агентством». Тебе никто мешать не будет. Приступай.
Я на мгновение представила, как бы это было замечательно. Перси очень толковый, да и я бы изо всех сил старалась ему помогать. Но тут мистер Барраклаф горько рассмеялся:
– Вот только «Агентство» уже перестало существовать. После моего звонка Тонеску понял, что игра окончена, и сбежал, одному небу известно куда. Естественно, прихватив все деньги, что выручил от продажи своей гадости. А нашей фирме придется платить по контрактам на рекламу, которые мы заключили. Так что давай, начинай работу. Только сначала погаси долги.
Мы с Перси погрустнели, а мистер Барраклаф продолжил со смехом:
– Одно приятно: банк не оплатит чек, который я выписал этой стерве Хиггинс. – Он посмотрел на меня: – Значит, мои записи выкрали вы, мисс Уиндэм. Вернее, миссис Томас. Но я не удивлен: вы большая любительница подслушивать и подсматривать…
Продолжать говорить мерзости Перси ему не позволил, он подскочил и коротким ударом заткнул негодяю рот.
Мистер Барраклаф как будто ничего не почувствовал. Лишь чуть качнулся назад, затем повернулся к инспектору Хупингтону:
– Пойдемте отсюда. Я вам все расскажу, только избавьте меня от общества этих супругов. «Агентство» приказало долго жить, а следом моя очередь.
Мы встретились с ним еще один раз, на суде. Я с трудом заставила себя посмотреть на этого человека. Разбирательство длилось недолго. Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения и не стал подавать апелляцию. Так что из процесса сенсации не получилось, и пререканий между адвокатом и прокурором не было.
То, что меня и Перси не вызвали для дачи показаний и не написали о нас в газетах, очень хорошо, потому что работу сейчас найти непросто. Особенно мне.
Глава 4
Пожалуй, следует объяснить, почему рукопись, которую мистер Барраклаф составил из дневника мистера Латимера, записей мистера Спенсера и своих, заканчиваю я.
Получилось так. Поскольку мистер Барраклаф полностью признал вину, то его записи в качестве улики на суде не понадобились. Но перед этим я напечатала их для инспектора Хупингтона, а после суда он любезно оставил записи мне и посоветовал их доработать, придать законченный вид.
Что я и сделала. Когда появилась возможность опубликовать, изменила фамилии, чтобы произведение выглядело как авторская работа.
С инспектором Хупингтоном мы до сих дружим, ходим друг к другу в гости. Нашего первенца назвали Джорджем в его честь.
С этой истории я начала свою карьеру литератора и уже давно поняла: написать об убийстве так, чтобы читателям было интересно, не легче, чем совершить это убийство. Ценители жанра меня поймут.
И все же признаюсь, это занятие начинает мне нравиться все больше и больше.
Сноски
1
Барон Джордж Родни (1719–1795) – британский адмирал, победитель в Доминикском сражении, крупнейшем в XVIII веке. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Здесь и в следующей фразе – цитаты из стихотворения английского поэта Уильяма Купера (1731–1800) «Александр Селькирк», перевод Е. Фельдмана. Стихотворение написано от лица прототипа Робинзона Крузо, реального матроса, прожившего несколько лет на необитаемом острове Мас-а-Тьерра в архипелаге Хуан-Фернандес в Тихом океане.
(обратно)3
Форель, зажаренная в мучной панировке, французское блюдо.
(обратно)4
Буквально: форельно-мукомольное дело (фр.).
(обратно)5
Эротический роман французского писателя Шарля Фоли (1861–1956), опубликован в 1932 году.
(обратно)6
Имеется в виду Роберт Смит Сертис (1805–1864) – английский писатель реалистического направления, классический представитель ранней Викторианской эпохи.
(обратно)7
Роман Джона Бойнтона Пристли (1894–1984), опубликован в 1929 году.
(обратно)8
Роман английского писателя Артура Хатчинсона (1879–1971), опубликован в 1921 году.
(обратно)9
Английский писатель, славился литературной плодовитостью.
(обратно)10
Современная библиотека (фр.).
(обратно)11
Дело (фр.), здесь: происшествие.
(обратно)12
Итальянское название города Дубровник в современной Хорватии.
(обратно)13
Бридж-«аукцион» и бридж-«контракт» – две разновидности правил карточной игры в бридж; «контракт» значительно сложнее «аукциона».
(обратно)14
Попытка выиграть взятку картой, которая не является старшей в ряду.
(обратно)15
Игра к фигуре в надежде, что она возьмет взятку, если старшая фигура лежит перед ней.
(обратно)16
Цвета шаров в крокете.
(обратно)17
Резерв первой очереди сухопутных войск Великобритании, основан в 1927 г., в 1960 г. преобразован в Территориальный армейский добровольческий резерв.
(обратно)18
Британская организация девочек-скаутов, основана в 1910 г.
(обратно)19
Приличия, условности (фр.).
(обратно)20
Строки из шуточного пародийного стихотворения «Дин-дон» английского поэта-абсурдиста и мастера черного юмора Артура Клемента Хилтона (1851–1877).
(обратно)21
Из стихотворения ирландского поэта Бартоломью Даулинга (1823–1863).
(обратно)22
До тошноты, до отвращения (лат.).
(обратно)23
Смекалка, умение выходить из положения (фр.).
(обратно)24
«Смелость и еще раз смелость!» – цитата из речи Жоржа Дантона в Законодательном собрании 2 сентября 1792 г.
(обратно)25
Цитата из «Королевских идиллий» лорда Альфреда Теннисона, часть «Гарет и Линнета». Перевод Н. Конова.
(обратно)26
Британский Корпус королевских инженеров, основан в 1716 г.
(обратно)27
Двусмысленности (фр.).
(обратно)28
Цитата из «Песни о себе» Уолта Уитмена (1819–1892). Перевод Н. Гребнева.
(обратно)29
Несколько неприятных минут (фр., идиом.).
(обратно)30
Кожаный неглубокий саквояж, прозванный так в Британии по имени премьер-министра Уильяма Гладстона (1809–1898).
(обратно)31
Навык, сноровка, умение (фр.).
(обратно)32
Драматург сэр Уильям Швенк Гилберт (1836–1911) и композитор сэр Артур Сеймур Салливан (1842–1900) – английские авторы, совместно сочинившие в конце XIX века множество популярных легких комических опер.
(обратно)33
Здесь и далее – слегка искаженный текст из комической оперы Гилберта и Салливана «Микадо» (1885).
(обратно)34
Старая игра (фр. букв.), здесь – «несовременно», «старомодно», «устарело».
(обратно)35
Одна восьмая унции в аптекарском весе.
(обратно)36
Фирменное название дезинфицирующих и моющих средств, а также предметов личной гигиены одноименной британской фирмы.
(обратно)37
Полутвердый выдержанный английский белый сыр повышенной жирности с плесенью, изначально изготовлялся в местечке Стилтон, графство Хантингдоншир.
(обратно)38
Молодая куропатка по-перигорски (фр.).
(обратно)39
Омлет по-испански (фр.).
(обратно)40
Меткое словцо (фр.).
(обратно)41
Британский законодательный акт 1914 г., предоставлял чрезвычайные полномочия правительству в связи с Первой мировой войной и ограничивал гражданские права и свободы граждан.
(обратно)42
Псевдоним британского поэта Эдварда Повиса Мэтерса (1892–1939) – пионера в области составления особо сложных кроссвордов, которые обычно публиковались в газете «Обзервер».
(обратно)43
Персонаж комедии «Ночь ошибок» английского драматурга Оливера Голдсмита (1730–1774).
(обратно)44
Задних мыслей (фр.).
(обратно)45
Имеется в виду Стэнли Болдуин, граф Бьюдли (1867–1947) – британский политик-консерватор, премьер-министр в 1923–1929 и 1935–1937 годах, кузен Киплинга; сэр Освальд Мосли (1896–1980) – политик, основатель Британского союза фашистов.
(обратно)46
Ростбиф с борцом (фр.).
(обратно)47
Имеется в виду все тот же автор либретто к комическим операм Уильям Гилберт, речь идет о строчке из оперы «Пираты Пензанса».
(обратно)48
В бридже – заявка, указывающая на контроль над открывающей мастью или картами.
(обратно)49
Род трав семейства пасленовых.
(обратно)50
Профессиональная организация, созданная в 1917 г. с целью объединения рекламных агентств Великобритании.
(обратно)51
Улицы в центре Лондона, известные своими элитными магазинами, салонами и ателье.
(обратно)52
Строчки из стихотворения английского поэта Артура Хью Клафа (1819–1861). Перевод Т. Гвоздюкевич.
(обратно)53
Перевод Б. Пастернака.
(обратно)


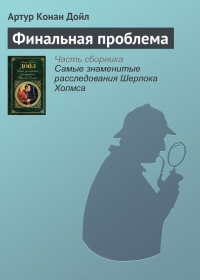

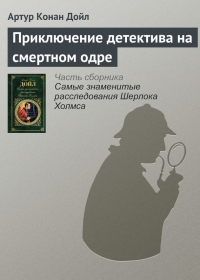
Комментарии к книге «Убийство моей тетушки. Убить нелегко», Ричард Халл
Всего 0 комментариев