Рисунки В.Высоцкого
Оформление С.Пожарского
I
Я пишу эти строки из Индии к моим родственникам в Англию, чтобы объяснить, почему я отказал в дружеском рукопожатии кузену моему, Джону Гернкастлю. Молчание мое по этому поводу было ложно истолковано членами нашего семейства, доброго мнения которых я не хочу лишиться. Прошу их отложить свои выводы до тех пор, покуда они не прочтут мой рассказ. Даю честное слово, что напишу строгую и безусловную истину.
Тайное разногласие между мной и моим кузеном возникло во время великого события, в котором участвовали мы оба, — штурма Серингапатама под командованием генерала Бэрда 4 мая 1799 года.
Для того чтобы обстоятельства были вполне понятны, я должен обратиться к периоду, предшествовавшему осаде, и к рассказам, ходившим в нашем лагере о драгоценных каменьях и грудах золота, хранившихся в серингапатамском дворце.
II
Один из самых невероятных рассказов относится к желтому алмазу — вещи, знаменитой в отечественных летописях Индии.
Стариннейшее из преданий гласит, что камень этот украшал чело четверорукого индийского бога Луны. Отчасти по своему особенному цвету, отчасти из-за легенды — будто камень этот подчиняется влиянию украшаемого им божества и блеск его увеличивается и уменьшается с полнолунием и с ущербом луны — он получил название, под которым и до сих пор известен в Индии, — Лунного камня. Я слышал, что подобное суеверие некогда имело место и в Древней Греции и в Риме, относясь, однако же, не к алмазу, посвященному божеству (как в Индии), а к полупрозрачному камню низшего разряда, подверженному влиянию луны и точно так же получившему от нее свое название, под которым он и доныне известен минералогам нашего времени.
Приключения желтого алмаза начинаются с одиннадцатого столетия христианской эры.
В ту эпоху магометанский завоеватель Махмуд Газни вторгся в Индию, овладел священным городом Сомнаут и захватил сокровища знаменитого храма, несколько столетий привлекавшего индийских богомольцев и почитавшегося чудом Востока.
Из всех божеств, которым поклонялись в этом храме, один бог Лупы избег алчности магометанских победителей. Охраняемый тремя браминами, неприкосновенный идол с желтым алмазом во лбу был перевезен ночью во второй по значению священный город Индии — Бенарес.
Там, в новом капище — в чертоге, украшенном драгоценными каменьями, под сводами, покоящимися на золотых колоннах, был помещен бог Луны, ставший вновь предметом поклонения. В ночь, когда капище было достроено, Вишну-зиждитель явился будто бы во сне трем браминам. Он вдохнул свое дыхание в алмаз, украшавший чело идола, и брамины пали перед ним на колена и закрыли лицо одеждой. Вишну повелел, чтобы Лунный камень охранялся тремя жрецами день и ночь, до скончания века. Брамины преклонились перед божественной волей. Вишну предсказал несчастье тому дерзновенному, кто осмелится завладеть священным камнем, и всем его потомкам, к которым камень перейдет после него. Брамины велели записать это предсказание на вратах святилища золотыми буквами.
Век проходил за веком, и из поколения в поколение преемники трех браминов день и ночь охраняли драгоценный Лунный камень. Век проходил за веком, пока в начале восемнадцатого столетия христианской эры не воцарился Аурангзеб, монгольский император. По его приказу храмы поклонников Брамы были снова преданы грабежу и разорению, капище четверорукого бога осквернено умерщвлением священных животных, идолы разбиты на куски, а Лунный камень похищен одним из военачальников Аурангзеба.
Не будучи в состоянии возвратить свое потерянное сокровище силой, три жреца-хранителя, переодевшись, следили за ним. Одно поколение сменялось другим; воин, совершивший святотатство, погиб ужасной смертью; Лунный камень переходил, принося с собой проклятье, от одного незаконного владельца к другому, и, несмотря на все случайности и перемены, преемники трех жрецов-хранителей продолжали следить за своим сокровищем, в ожидании того дня, когда воля Вишну-зиждителя возвратит им их священный камень. Так продолжалось до последнего года восемнадцатого столетия. Алмаз перешел во владение Типпу, серингапатамского султана, который вставил его, как украшение, в рукоятку своего кинжала и хранил среди драгоценнейших сокровищ своей оружейной палаты. Даже тогда — в самом дворце султана — три жреца-хранителя тайно продолжали охранять алмаз. В свите Типпу находились три чужеземца, заслужившие доверие своего властелина, перейдя (может быть, притворно) в магометанскую веру; по слухам, это-то и были переодетые жрецы.
III
Так рассказывали в нашем лагере фантастическую историю Лунного камня.
Она не произвела серьезного впечатления ни на кого из нас, кроме моего кузена, — любовь к чудесному заставила его поверить этой легенде. В ночь перед штурмом Серингапатама он самым нелепым образом рассердился на меня и на других за то, что мы назвали ее басней. Возник глупейший спор, и несчастный характер Гернкастля заставил его выйти из себя. Со свойственной ему хвастливостью он объявил, что если английская армия возьмет Серингапатам, то мы увидим алмаз на его пальце. Громкий хохот встретил эту выходку, и тем дело и кончилось, как думали мы все.
Теперь позвольте мне перенести вас ко дню штурма.
Кузен мой и я были разлучены при самом начале приступа. Я не видел его, когда мы переправлялись через реку; не видел его, когда мы водрузили английское знамя на первом проломе; не видел его, когда мы перешли через ров и, завоевывая каждый шаг, вошли в город. Только в сумерки, когда город был уже наш и генерал Бэрд сам нашел труп Типпу под кучей убитых, я встретился с Гернкастлем.
Мы оба были прикомандированы к отряду, посланному, по приказанию генерала, остановить грабежи и беспорядки, последовавшие за нашей победой.
Солдаты предавались страшным бесчинствам, и, что еще хуже, они пробрались в кладовые дворца и разграбили золото и драгоценные каменья. Я встретился с моим кузеном на дворе перед кладовыми, куда мы пришли для того, чтобы водворить дисциплину среди наших солдат. Я сразу увидел, что пылкий Гернкастль до крайности возбужден ужасной резней, через которую мы прошли.
По моему мнению, он был не способен выполнить свою обязанность.
В кладовых было много смятения и суматохи, но насилия я еще не видел.
Солдаты бесславили себя очень весело, если можно так выразиться.
Перекидываясь грубыми прибаутками и остротами, они внезапно вспомнили, в лукавой шутке, историю алмаза. Насмешливый крик: “А кто нашел Лунный камень?” снова заставил утихший было грабеж вспыхнуть в другом месте. Пока я тщетно старался восстановить порядок, послышался страшный вопль на другом конце двора, и я тотчас побежал туда, опасаясь какого-нибудь нового бесчинства.
Я подошел к открытой двери и наткнулся на тела двух мертвых индусов, лежащие на пороге. (По одежде я узнал в них дворцовых офицеров.) Раздавшийся снова крик заставил меня поспешить в здание, которое оказалось оружейной палатой. Третий индус, смертельно раненный, упал к ногам человека, стоявшего ко мне спиной. Человек этот обернулся в ту минуту, когда я входил, и я увидел Джона Гернкастля, с факелом в одной руке и с окровавленным кинжалом в другой. Когда он повернулся ко мне, камень, вделанный в рукоятку кинжала, сверкнул, как огненная искра.
Умирающий индус поднялся на колени, указал на кинжал в руках Гернкастля и, прохрипев на своем родном языке: “Проклятие Лунного камня на тебе и твоих потомках!” — упал мертвый на землю.
Прежде чем я успел что-нибудь сделать, солдаты, следовавшие за мною, вбежали в палату. Кузен мой, как сумасшедший, бросился к ним навстречу.
— Очистите помещение, — закричал он мне, — и поставьте у дверей караул!
Когда Гернкастль бросился на солдат с факелом и кинжалом, они отступили. Я поставил двух верных человек из моего отряда на часы у дверей. Всю остальную часть ночи я уже не встречался с моим кузеном.
Рано утром грабеж все еще продолжался, и генерал Бэрд публично, с барабанным боем, объявил, что всякий вор, пойманный на месте преступления, кто бы он ни был, будет повешен. Присутствие полицейского офицера доказывало, что генерал Бэрд не шутит, и в толпе, слушавшей этот приказ, я снова встретился с Гернкастлем.
Здороваясь, он, по обыкновению, протянул мне руку.
Я не решился подать ему свою.
— Ответьте мне прежде, — сказал я, — каким образом умер индус в оружейной палате и что значили его последние слова, когда он указал на кинжал в вашей руке?
— Индус умер, я полагаю, от смертельной раны, — ответил Гернкастль. — А что означали его последние слова, я знаю так же мало, как и вы.
Я пристально посмотрел на него. Ярость, владевшая им накануне, совершенно утихла. Я решил дать ему возможность оправдаться.
— Вы ничего более не имеете сказать мне? — спросил я.
Он отвечал:
— Ничего.
Я повернулся к нему спиной, и с тех пор мы больше не разговаривали друг с другом.
IV
Прошу помнить, что все здесь написанное о моем кузене (если только не встретится необходимость предать эти обстоятельства гласности) предназначается лишь для членов нашей семьи. Гернкастль не сказал ничего такого, что могло бы дать мне повод для разговора с нашим полковым командиром. Моего кузена не раз поддразнивали алмазом те, кто помнил его бурную вспышку перед штурмом; но он молчал, вспоминая, очевидно, обстоятельства, при которых я застал его в оружейной палате. Носились слухи, что он намеревался перейти в другой полк, — вероятно для того, чтобы расстаться со мною.
Правда это или нет, — но я не могу стать его обвинителем по весьма основательной причине. Если я оглашу все вышенаписанное, у меня не будет никаких доказательств, кроме моральных. Я не только не могу доказать, что он убил двух индусов, стоявших у дверей, я не стану даже утверждать, что он убил третьего, внутри помещения, — потому что не видел это собственными главами.
Правда, я слышал слова умирающего индуса, но, если мне возразят, что они были предсмертным бредом, как я могу это опровергнуть? Пусть наши родственники с той и другой стороны сами составят себе мнение обо всем вышесказанном и решат, основательно или нет отвращение, которое я и поныне испытываю к этому человеку.
Хоть я и не верю фантастической индийской легенде об алмазе, но должен сознаться, что и сам не свободен от некоторого суеверия. Убеждение это или обманчивый домысел, — псе равно, я полагаю, что преступление влечет за собою кару. Я не только уверен в виновности Гернкастля, но и не сомневаюсь, что он пожалеет, если оставил алмаз у себя, и что другие тоже пожалеют, взяв этот алмаз, если он отдаст его им.
СОБЫТИЯ, рассказанные Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Джулии Вериндер
Глава I
Раскройте первую часть “Робинзона Крузо” на странице сто двадцать девятой, и вы найдете следующие слова:
“Теперь я вижу, хотя слишком поздно, как безрассудно предпринимать какое-нибудь дело, не рассчитав все его издержки и не рассудив, по нашим ли оно силам”.
Только вчерашний день раскрыл я моего “Робинзона Крузо” на этом самом месте. Только сегодня утром, 21 мая 1850 года, пришел ко мне племянник миледи, мистер Фрэнклин Блэк, и завел со мною такую речь.
— Беттередж, — сказал мистер Фрэнклин, — я был у нашего адвоката по поводу некоторых семейных дел, и, между прочим, мы заговорили о пропаже индийского алмаза, случившейся в доме тетки моей в Йоркшире. Стряпчий полагает, — думаю так же и я, — что всю эту историю следовало бы записать в интересах истины, и чем скорее, тем лучше.
Не понимая еще его намерения и считая, что ради мира и спокойствия всегда следует быть на стороне стряпчего, я сказал, что и я думаю точно так же. Мистер Фрэнклин продолжал:
— Как вам известно, пропажа алмаза бросила тень подозрения на репутацию невинных людей. Память невинных может пострадать и впоследствии, по недостатку письменных фактов, к которым могли бы прибегнуть те, кто будет жить после нас. Нет сомнения, что эта наша странная семейная история стоит того, чтобы о ней рассказать, и мне кажется, Беттередж, мы с адвокатом придумали правильный способ, как это сделать.
Без всякого сомнения, они придумали прекрасно, но я еще не понимал, какое отношение имеет все это ко мне.
— Нам надо рассказать известные события, — продолжал мистер Фрэнклин, — есть люди, причастные к этим событиям и способные последовательно передать их. Вот почему стряпчий думает, что мы все должны написать историю Лунного камня поочередно, — насколько простирается наша личная осведомленность, и не более. Мы должны начать с того, каким образом алмаз попал в руки моего дяди Гернкастля, когда он служил в Индии пятьдесят лет тому назад. Такой предварительный рассказ уже имеется — это старая фамильная рукопись, в которой очевидец излагает все существенные подробности. Потом следует рассказать, каким образом алмаз попал в дом моей тетки в Йоркшире два года назад и как он исчез через двенадцать часов после этого. Никто не знает лучше вас, Беттередж, что произошло в то время в доме. Следовательно, вы и должны взять перо в руки и начать рассказ.
Вот в таких-то выражениях сообщили мне, какое участие должен я принять в изложенной истории с алмазом. Если вам любопытно узнать, как я поступил в этих обстоятельствах, то позвольте сообщить вам, что я сделал то, что, вероятно, вы сами сделали бы на моем месте. Я скромно заявил, что подобная задача мне не по силам, а сам подумал, что уж суметь-то я сумею, если только дам себе развернуться. Кажется, мистер Фрэнклин прочитал тайные мысли на моем лице. Он не захотел поверить моей скромности и настоял на том, чтобы я дал себе как следует развернуться.
Прошло два часа, как мистер Фрэнклин меня оставил. Не успел он повернуться ко мне спиной, как я уже направился к своему письменному столу, чтобы начать рассказ. И вот сижу беспомощный, несмотря на все свои способности, и все более убеждаюсь, подобно вышеупомянутому Робинзону Крузо, — что неразумно приниматься за какое-нибудь дело, прежде чем не высчитаешь его издержки и прежде чем не рассудишь, по силам ли оно тебе.
Прошу вас, обратите внимание, что я случайно раскрыл книгу как раз на этом месте накануне того дня, когда так опрометчиво согласился приняться за дело, которое теперь у меня на руках; и позвольте спросить — неужели это не было предсказанием?
Я не суеверен; я прочел множество книг за свою жизнь; я, можно сказать, в своем роде ученый. Хотя мне минуло семьдесят, память у меня крепкая и ноги тоже. Пожалуйста, не считайте меня невеждой, когда я выражу свое мнение, что книги, подобной “Робинзону Крузо”, никогда не было и не будет написано. Много лет обращался я к этой книге, — обыкновенно в минуты, когда покуривал трубку, — и она была мне верным другом и советчиком во всех трудностях этой земной юдоли. В дурном ли я расположении духа — иду к “Робинзону Крузо”. Нужен ли мне совет — к “Робинзону Крузо”. В былые времена, когда жена чересчур надоест мне, и по сей час, когда чересчур приналягу на стаканчик, — опять к “Робинзону Крузо”. Я истрепал шесть новеньких “Робинзонов Крузо” на своем веку. В последний день своего рождения миледи подарила мне седьмой экземпляр. Тогда я по этому поводу хлебнул лишнего, и “Робинзон Крузо” опять привел меня в порядок. Стоит он четыре шиллинга шесть пенсов в голубом переплете, да еще картинка в придачу.
А ведь это как будто не похоже на начало истории об алмазе? Я словно брожу да ищу бог знает чего, бог знает где. Мы, с вашего позволения, возьмем новый лист бумаги и начнем сызнова с моим нижайшим почтением.
Глава II
Я упомянул о миледи несколькими строками выше. Пропавшему алмазу никогда бы не бывать в нашем доме, если бы он не был подарен дочери миледи; а дочь миледи не могла бы получить этого подарка, если б миледи в страданиях и муках не произвела ее на свет. Но если мы начнем с миледи, нам придется начать издалека, а это, позвольте мне сказать вам, когда у вас на руках такое дело, как у меня, служит большим утешением.
Если вы хоть сколько-нибудь знаете большой свет, вы, наверно, слышали о трех прелестных мисс Гернкастль: мисс Аделаиде, мисс Каролине и мисс Джулии — младшей и красивейшей из трех сестер, по моему мнению, а у меня была возможность судить, как вы сейчас убедитесь. Я поступил в услужение к старому лорду, их отцу (слава богу, нам нет никакого дела до него в связи с алмазом; я никогда не встречал ни в высшем, ни в низшем сословии человека с таким длинным языком и с таким неспокойным характером), — я поступил к старому лорду, говорю я, пажом к трем благородным дочерям его, когда мне было пятнадцать лет. Там жил я, пока мисс Джулия не вышла за покойного сэра Джона Вериндера. Превосходный был человек, только нужно было, чтобы кто-нибудь управлял им, и, между нами, он нашел кого-то; он растолстел, повеселел и жил счастливо и благоденствовал с того самого дня, как миледи повезла его в церковь венчаться, до того дня, когда она облегчила его последний вздох и закрыла ему глаза навсегда.
Забыл сказать, что я переселился с новобрачной в дом ее мужа и в его поместье.
— Сэр Джон, — сказала она, — я не могу обойтись без Габриэля Беттереджа.
— Миледи, — отвечал сэр Джон, — я также не могу без него обойтись.
Таким образом он поступал с нею всегда, — так именно я и попал к нему в услужение. Мне было все равно, куда ни ехать, только бы но расставаться с моей госпожой.
Видя, что миледи интересуется хозяйством, фермой и тому подобным, я сам начал этим интересоваться, — тем более что был седьмым сыном бедного фермера. Миледи отдала меня в помощники к управляющему, я старался изо всех сил и получил повышение. Несколько лет спустя, в понедельник, если не ошибаюсь, миледи говорит мужу:
— Сэр Джон, твой управляющий глупый старик. Дай ему хорошую пенсию и вместо него назначь Габриэля Беттереджа.
Во вторник сэр Джон отвечает ей:
— Миледи, управляющий получил хорошую пенсию, а Габриэль Беттередж получил его место.
Вы слышали много раз о супругах, живущих несчастливо. Вот пример, совершенно противоположный. Пусть он будет предостережением для некоторых и поощрением для других. А я тем временем буду продолжать свой рассказ.
Вы скажете, что я зажил припеваючи. Мне доверяли. Я занимал почетное место, имел свой собственный коттедж, утром объезжал поместья, днем составлял отчет, вечером курил трубку и читал “Робинзона Крузо”, — чего еще мог я желать для того, чтобы считать себя счастливым? Вспомните, чего недоставало Адаму, когда он жил один в раю, и если вы не осуждаете Адама, то не осуждайте и меня.
Женщина, на которой я остановил свое внимание, занималась хозяйством в моем коттедже. Звали ее Селина Гоби. Я согласен с покойным Уильямом Коббетом относительно выбора жены. Смотрите, чтобы женщина хорошо пережевывала пищу и имела твердую походку, — и вы не сделаете ошибки. У Седины Гоби было все как следует во всех отношениях, и это было одною из причин, почему я женился на ней. Было у меня и другое основание, до которого я додумался. Когда она была не замужем, я должен был платить ей жалованье и содержать ее. Сделавшись моей женой, Селина должна была служить мне даром. Вот с какой точки зрения я посмотрел на это. Экономия с примесью любви. Я изложил это миледи надлежащим образом, так, как излагал самому себе.
— Я думал о Селине Гоби, — сказал я, — и мне кажется, миледи, что мне будет дешевле жениться на ней, чем содержать ее в услужении.
Миледи расхохоталась и ответила, что не знает, что для нее более оскорбительно, мой ли способ выражения или мои правила. Я полагаю, ей это показалось смешным по причине, которой вы понять не можете, если вы не знатная особа. Не поняв ничего, кроме того, что мне позволено сделать предложение Селине, я пошел и сделал его. Что же сказала Селина? Боже ты мой, до чего мало знаете вы женщин, если спрашиваете об этом! Разумеется, она сказала “да”.
Когда подошло время свадьбы и начали поговаривать о том, что мне следует сшить новый фрак, я немножко струсил. Я спрашивал других мужчин, что они чувствовали, когда находились в моем положении, и они все сознались, что за неделю до венца сильно желали отказаться от него. Я зашел немножко далее: я постарался отказаться. Конечно, не даром! Я знал, что она даром от меня не отступится. Вознаградить женщину, когда мужчина отказывается от нее, — это предписывают английские законы. Повинуясь законам и старательно все обдумав, я предложил Селине Гоби перину и пятьдесят шиллингов вознаграждения. Вы, может быть, не поверите, а между тем это истинная правда: она была так глупа, что отказалась.
Разумеется, после этого делать было нечего. Я купил новый фрак, самый дешевый, и все остальное сделал так дешево, как только мог. Мы не были счастливою, но мы не были и несчастною четой. Того и другого было пополам.
Как это случилось, я не понимаю, только мы всегда мешали друг другу. Когда я хотел подняться по лестнице, моя жена спускалась вниз, а когда моя жена хотела сойти вниз, я шел наверх. Вот какова супружеская жизнь, я сам испытал ее.
После пятилетних недоразумений всемудрое провидение освободило нас друг от друга, соблаговолив взять мою жену. Я остался с моей маленькой Пенелопой; других детей у меня не было. Вскоре после того умер сэр Джон, и миледи тоже осталась с маленькой дочерью, мисс Рэчель; других детей не было у нее. Плохо же я описал миледи, если вам следует разъяснить, что маленькая Пенелопа росла на глазах моей доброй госпожи, отдана была в школу, сделалась проворной девушкой, а как выросла, была определена в горничные к мисс Рэчель.
Я же занимал должность управляющего до рождества 1847 года, когда в жизни моей произошла перемена. В этот день миледи наведалась ко мне в коттедж на чашку чая. Начала она разговор с замечания, что с того дня, как я поступил пажом к старому лорду, я более пятидесяти лет находился у нее на службе, — и после этих слов подарила мне прекрасный шерстяной жилет, который сама сшила, чтобы предохранить меня от зимних холодов.
Я принял этот великолепный подарок, не находя слов благодарности моей госпоже за оказанную мне честь. Но, к великому моему удивлению, жилет оказался не честью, а подкупом. Оказывается, миледи подметила, прежде чем почувствовал это я сам, что с годами я сдал, и пришла ко мне в коттедж улестить меня (если можно употребить подобное выражение) отказаться от должности управляющего и провести на покое остальные дни моей жизни, дворецким в ее доме. Я противился, как только мог, обидному предложению жить на покое. Но госпожа моя знала мою слабую сторону: она выставила это как одолжение для нее самой. Спор наш кончился тем, что я, как старый дурак, вытер глаза своим новым шерстяным жилетом и сказал, что подумаю.
После ухода миледи я впал в ужасное душевное расстройство и решил обратиться к средству, которое еще никогда не изменяло мне в затруднительных и непредвиденных случаях. Я закурил трубку и принялся за “Робинзона Крузо”. Не прошло и пяти минут, как я развернул эту необыкновенную книгу, и мне попалось следующее утешительное местечко (страница сто пятьдесят восьмая): “Сегодня мы любим то, что возненавидим завтра”. Я тотчас увидел, как мне следует поступить. Сегодня я еще хочу остаться в должности управителя, но завтра, основываясь на “Робинзоне Крузо”, я буду желать совсем другого. Стоит только вообразить себе завтрашний день и завтрашнее расположение духа, и дело будет в шляпе.
Успокоив себя таким образом, я заснул в эту ночь как управляющий леди Вериндер, а проснулся утром как ее дворецкий. Все как нельзя лучше, и все по милости “Робинзона Крузо”.
Дочь мая Пенелопа заглянула сию минуту мне за плечо — посмотреть, сколько я написал. Она заметила, что написано превосходно и справедливо во всех отношениях. Но она сделала одно возражение. Она говорит, что я до сих пор писал совсем не то, о чем мне следовало писать. Меня просили рассказать историю алмаза, а я между тем рассказываю свою собственную историю. Странно, не могу объяснить — отчего это. Желал бы я знать, неужели господа сочинители впутывают себя самих в свои рассказы, как я?
Если так, я сочувствую им. А между тем вот опять не то. Что же теперь делать? Ничего, сколько мне известно, — только вам не терять терпения, а мне начать сызнова в третий раз.
Глава III
Вопрос о том, как мне надлежит начать рассказ, старался я решить двумя способами. Во-первых, я почесал в голове; это не повело ни к чему.
Во-вторых, посоветовался с моей дочерью Пенелопой, которая и подала мне совершенно новую мысль.
Пенелопа думает, что я должен начать с того самого дня, как мы получили известие, что мистера Фрэнклина Блэка ожидают к нам. Когда вы мысленно остановитесь таким образом на какой-нибудь дате, это удивительно, как ваша память подберет все нужные обстоятельства. Единственное затруднение состоит в том, чтобы вспомнить ход событий. Но Пенелопа предложила это сделать для меня, заглянув в свой собственный дневник, который ее обучили вести в школе и который она продолжает вести и по сей день. В ответ на мое предложение писать рассказ вместо меня, справляясь со своим дневником, Пенелопа вся вспыхнула и заметила со свирепым взглядом, что дневник ее предназначен только для нее самой и ни одно живое существо в мире не узнает, что в нем такое написано. Когда я спросил, почему, Пенелопа ответила:
— Так, батюшка!
А я говорю вам, что здесь не без каких-нибудь любовных проделок!
Начиная по плану Пенелопы, прошу позволения упомянуть, что утром в среду, 24 мая 1848 года, меня позвали в кабинет миледи.
— Габриэль, — сказала миледи, вот новость, которая должна вас удивить.
Фрэнклин Блэк воротился из-за границы. Он гостит в Лондоне у отца, а завтра приедет к нам на месяц и проведет у нас день рождения Рэчель.
Будь у меня в руках шляпа, только одно уважение к миледи помешало бы мне подбросить ее к потолку. Я не видел мистера Фрэнклина с тех пор, как он мальчиком жил с нами в этом доме. Он был во всех отношениях (насколько я его помню) самый милый мальчик, какой когда-либо запускал волчок или разбивал окно. Присутствовавшая при нашем разговоре мисс Рэчель заметила, что она помнит его как самого лютого тирана и мучителя кукол и самого жестокого кучера, загонявшего девочек до изнеможения своими жесткими вожжами.
— Я пылаю негодованием и заранее умираю от усталости, — заключила свою речь мисс Рэчель, — когда думаю о Фрэнклине Блэке.
Вы, натурально, спросите, почему же мистер Фрэнклин все свои годы с того самого времени, как он был мальчиком, до того времени, как он сделался мужчиной, провел вне своего отечества. Я отвечу: потому что его отец имел несчастье быть ближайшим наследником одного герцогского титула и не мог юридически этого доказать.
В двух словах, вот каким образом это случилось.
Старшая сестра миледи вышла за знаменитого мистера Блэка, в равной мере прославившегося своим огромным богатством, как и своим судебным процессом с неким герцогом. Сколько лет надоедал он судам на своей родине, требуя, чтоб герцог был изгнан, а он поставлен на его место, скольких стряпчих обогатил он, сколько других ни в чем не повинных людей заставил поссориться друг с Другом из-за пари, — прав он или нет, этого я установить не могу. Жена его умерла, и двое его детей умерли прежде, чем суды решились захлопнуть перед ним дверь и не тянуть больше с него денег.
Когда все было кончено и герцог остался при своем, мистер Блэк рассудил, что единственный способ отомстить отечеству за его поступок с ним — это лишить Англию чести воспитывать его сына.
— Как я могу положиться на наши отечественные учреждения, — объяснял он, — после того, что наши отечественные учреждения проделали со мной!
Прибавьте к этому, что мистер Блэк не любил мальчиков, включая и своего, и вы согласитесь, что это могло кончиться только таким образом.
Мистер Фрэнклин был увезен из Англии и послан в учреждения, на которые его отец мог положиться, в такую превосходную страну, как Германия; сам мистер Блэк, заметьте, преспокойно остался в Англии, чтобы трудиться на пользу своих соотечественников в парламенте и чтобы представить отчет по делу о герцоге, — отчет, которого он не окончил и до сих пор.
Вот, слава богу, это рассказано. Ни вам, ни мне не следует ломать головы насчет мистера Блэка-старшего. Оставим его с его герцогством и обратимся к алмазу.
Алмаз возвращает нас к мистеру Фрэнклину, которому суждено было самым невинным образом внести этот несчастный камень к нам в дом.
Наш милый мальчик не забыл нас, когда уехал за границу. Время от времени он писал: иногда миледи, иногда мисс Рэчель, а иногда мне. Он перед своим отъездом занял у меня клубок веревок, перочинный нож о четырех лезвиях и семь шиллингов шесть пенсов, которых я обратно не получил и не надеюсь получить. Его письма ко мне относились все к новым займам; я слышал, однако, от миледи, как он поживал за границей с тех пор, как стал взрослым. Научившись тому, чему могли научить его германские учреждения, он поехал во Францию, а потом в Италию; они сделали его там универсальным гением, насколько я мог понять. Он немножко писал, немножко рисовал, немножко пел, играл и сочинял, — заимствуя, как я подозреваю, во всех этих случаях, как он занимал у меня. Состояние его матери (семьсот фунтов в год) досталось ему, когда он сделался совершеннолетним, и прошло сквозь него, как сквозь решето. Чем больше у него было денег, тем больше он имел в них надобности; в кармане мистера Фрэнклина была дыра, которую никогда нельзя было зашить. Повсюду его веселость и непринужденность доставляли ему хороший прием. Он жил то тут, то там, и повсюду адрес его (как он сам его давал) был: “до востребования, Европа”. Два раза решался он возвратиться в Англию и увидеться с нами, и два раза (с позволения сказать) какая-нибудь женщина удерживала его. Третья попытка удалась, как вам уже известно из того, что миледи сказала мне. В четверг 25 мая мы должны были в первый раз увидеть, каким мужчиной сделался наш милый мальчик. Он был хорошего происхождения, имел мужественный характер и двадцать пять лет от роду, по нашему расчету. Теперь вы знаете мистера Фрэнклина Блэка столько же, сколько и я, перед тем как мистер Фрэнклин Блэк приехал к нам.
В четверг была прекрасная летняя погода; миледи и мисс Рэчель, не ожидая приезда мистера Фрэнклина, поехали завтракать к каким-то друзьям по соседству.
Когда они уехали, я пошел осмотреть спальню, приготовленную для нашего гостя, и увидел, что все там в порядке. Потом, будучи не только дворецким, но и буфетчиком миледи (по моей собственной просьбе, заметьте: мне было неприятно, чтобы кто-нибудь владел ключами от погреба покойного сэра Джона), — потом, говорю, я вынул наш знаменитый латурский кларет и поставил его согреться до обода на теплом летнем солнышке. Вздумав и сам посидеть на теплом летнем солнышке, — потому что если это хорошо для старого кларета, то хорошо и для старых костей, — я взял стул, чтоб выйти на задний двор, когда меня остановил звук тихого барабанного боя, раздавшийся на террасе перед комнатами миледи.
Обойдя кругом террасу, я увидел смотревших на дом трех темнокожих индусов в белых полотняных блузах и штанах.
Когда я присмотрелся поближе, я заметил, что на шее у них висели маленькие барабаны. Перед ними стоял маленький, худенький белокурый английский мальчик, державший мешок. Я рассудил, что эти люди — странствующие фокусники, а мальчик с мешком носит орудия их ремесла. Один из троих, говоривший по-английски и имевший, должен признаться, самые изящные манеры, подтвердил мою догадку: он попросил позволения показать свои фокусы в присутствии хозяйки дома.
Я старик не угрюмый, люблю удовольствия и не стану не доверять человеку только потому, что его кожа потемнее моей. Но самые лучшие из нас имеют свои слабости, — а моя слабость в том, что, когда корзина с фамильным серебром вынута из кладовой, я немедленно вспоминаю об этой корзине при виде странствующего чужеземца, у которого манеры лучше моих. Поэтому я сообщил индусу, что хозяйки нет дома, и велел ему уйти с его товарищами. В ответ он ловко мне поклонился и ушел. Я, со своей стороны, воротился к моему стулу и уселся на солнечной стороне двора, погрузившись, если говорить правду, не то чтобы в сон, а в состояние, весьма к нему близкое.
Меня разбудила дочь моя Пенелопа, примчавшаяся ко мне, как на пожар.
Чем, вы думаете, было вызвано ее появление? Она, видите ли, потребовала, чтобы три индийских фокусника были немедленно отведены в полицию, по той причине, что будто бы они знали о приезде к нам из Лондона мистера Фрэнклина Блэка и имели намерение нанести ему вред.
Имя мистера Фрэнклина разбудило меня. Я открыл глаза и заставил дочь мою объясниться.
Оказалось, что Пенелопа только что вернулась из сторожки нашего привратника, куда она ходила поболтать с его дочерью. Обе девушки видели, как выпровоженные много индусы прошли в сопровождении мальчика. Почему-то забрав себе в голову, что эти иноземцы дурно обращаются с мальчиком, — не потому ли, что он был красив и слабого сложения? — обе девушки пробрались вдоль внутренней стороны живой изгороди, отделявшей нас от дороги, и стали смотреть, что будут делать индусы. А делать они стали странные штуки.
Сперва они оглядели со всех сторон дорогу, чтобы удостовериться, одни ли они. Потом все трое повернулись лицом к фасаду нашего дома и стали пристально в него вглядываться. Потом затараторили и заспорили на своем родном языке, глядя друг на друга с каким-то сомнением. Потом оборотились к английскому мальчику, как бы ожидая, что он поможет им. А потом главный индус, говоривший по-английски, приказал мальчику:
— Протяни руку.
Дочь моя Пенелопа, дойдя до этого места в рассказе, воскликнула, что она просто не понимает, как при таких страшных словах сердце не выскочило у нее из груди. Я подумал, грешным делом, что этому мог помешать корсет.
Но вслух пробормотал только одно:
— Ох, меня мороз продирает по коже!
Nota bene: женщины любят такие маленькие уступки.
Когда индус потребовал: “Протяни руку”, мальчик отступил на шаг, покачал головой и ответил, что ему не хочется. Индус спросил тогда (вовсе без гнева), уж не хочет ли он, чтобы его снова отправили в Лондон и оставили там, где нашли, спящим в пустой корзине на рынке, голодным, оборванным и бесприютным? Это, кажется, решило вопрос. Мальчуган неохотно протянул руку. Индус вынул из-за пазухи бутылку и палил из нее что-то черное, похожее на чернила, на ладонь мальчика. Потом, дотронувшись до головы мальчика и сделав над нею в воздухе какие-то знаки, сказал:
— Гляди.
Мальчик замер на месте и стоял как статуя, глядя на чернила, налитые на его ладонь…
До сих пор все эти проделки индусов в рассказе Пенелопы казались мне фокусами вместе с пустой тратой чернил. Я было снова погрузился в дрему, но последующие слова Пенелопы сразу разогнали мой сон.
Индусы опять зорко оглядели дорогу, и главарь их сказал мальчику:
— Где сейчас англичанин, приехавший из чужих краев?
Мальчик ответил:
— Я его вижу.
Индус сказал:
— По этой или другой дороге приедет англичанин сегодня?
Мальчик ответил:
— По этой дороге, а не по другой, приедет сегодня англичанин.
Помолчав, индус задал новый вопрос:
— Имеет ли англичанин это при себе?
Мальчик ответил, также после короткого молчания:
— Имеет.
Тогда индус задал четвертый и последний вопрос:
— Приедет ли англичанин сюда, как обещал, к вечеру?
Мальчик ответил:
— Не могу сказать.
Индус спросил, почему. Мальчик ответил:
— Я устал. У меня в глазах туман, и он мне мешает. Сегодня не могу ничего больше видеть.
На этом вопросы закончились. Индус сказал что-то на своем языке другим двум своим спутникам, указывая на мальчика и на город, в котором (как мы узнали после) они остановились. Потом, снова сделав знаки над головой мальчика, дунул ему в лоб; тот вздрогнул и очнулся. После этого все отправились в город, и девушки уже не видели их более.
Говорят, что почти изо всего можно вывести мораль, если только вы постараетесь отыскать ее. Какую же мораль можно было вывести из всего этого?
Я рассудил, что, во-первых, главный фокусник слышал из разговора прислуги у ворот о приезде мистера Фрэнклина и увидел возможность заработать деньги. Во-вторых, что он, его товарищи и мальчик имели намерение (с целью заработать деньги) пошататься где-нибудь поблизости, покуда миледи не приедет домой, а потом воротиться и предсказать ей приезд мистера Фрэнклина как бы по волшебству. В-третьих, что Пенелопа слышала их репетицию, такую же, как у актеров, репетирующих свою пьесу. В-четвертых, что мне не худо в этот вечер присмотреть за столовым серебром. В-пятых, что Пенелопе хорошо бы успокоиться и оставить своего отца опять вздремнуть на солнышке.
Это показалось мне самым благоразумным заключением. Если вы хоть сколько-нибудь знаете молодых женщин, вы не удивитесь, услыхав, что Пенелопа не разделила моего мнения. По словам моей дочери, дело было очень серьезное. Она особенно напомнила мне третий вопрос индуса: “Имеет ли англичанин это при себе?”
— О батюшка! — воскликнула Пенелопа, всплеснув руками. — Не шутите с этим! Что значит это?
— Мы спросим мистера Фрэнклина, душа моя, — сказал я, — если можешь подождать, пока приедет мистер Фрэнклин.
Я подмигнул, показывая этим, что шучу. Но Пенелопа приняла мои слова совершенно серьезно. Ее озабоченный вид подстрекнул меня.
— Откуда может знать это мистер Фрэнклин? — сказал я.
— Спросите его, — ответила Пенелопа. — И вы увидите, считает ли он это забавным.
Пустив в меня последней парфянской стрелой, дочь моя ушла.
Я решил после ее ухода действительно спросить мистера Фрэнклина, хотя бы для успокоения Пенелопы. О пашем с ним разговоре в этот же самый день вы узнаете в свое время. Но так как я не желаю возбуждать ваше любопытство и держать его неудовлетворенным, прошу разрешения сразу же, прежде чем мы пойдем дальше, предупредить вас, что в нашем с ним разговоре о фокусниках не было и тени шутливости. К моему величайшему удивлению, мистер Фрэнклин, как и Пенелопа, принял это известие серьезно. Вы поймете, насколько серьезно, когда узнаете, что, по его мнению, это означало Лунный камень.
Глава IV
Мне, право, стыдно занимать ваше внимание собой и своим соломенным стулом. Сонный старик на солнечном заднем дворе предмет малоинтересный, я это прекрасно знаю. Но рассказ должен идти своим чередом, и вам придется помешкать еще немного со мною в ожидании приезда мистера Фрэнклина Блэка.
Прежде чем я снова успел вздремнуть по уходе дочери, меня разбудило бренчание тарелок и блюд в людской, означавшее, что обед готов. Сам я обедаю в своей комнате и до общего обеда в людской мне дела нет, а потому мне оставалось лишь пожелать им всем хорошего аппетита и опять успокоиться на своем стуле. Только что вытянул я с этой целью ноги, как прибежала другая женщина. Не дочь моя на этот раз, а Нанси, судомойка. Я загородил ей дорогу и подметил, что, когда она просила меня пропустить ее, лицо ее было надуто, — а этого, из принципа, как глава прислуги, я никогда не пропускаю без исследования.
— Это почему вы убежали из-за стола? Что случилось, Нанси?
Нанси постаралась ускользнуть, не отвечая, но я взял ее за ухо. Она премиленькая, толстенькая, молоденькая девушка, и я имею обыкновение показывать таким образом свое дружеское внимание к ней.
— Розанна опять опоздала к обеду, — ответила она, — и меня послали за ней. Вся трудная работа падает на мои плечи в этом доме. Пустите меня, мистер Беттередж!
Розанна была наша вторая служанка. Так как я чувствовал сострадание к нашей второй служанке (вы сейчас узнаете, почему) и видел по лицу Нанси, что она побежит и обрушится на свою подругу с бранными словами, которых обстоятельства вовсе не требовали, мне пришло в голову, что у меня сейчас нет никакого дела и что я сам могу сходить за Резанной, и попрошу ее быть вперед исправнее. Я знал, что она терпеливо перенесет это от меня.
— Где Розанна? — спросил я.
— Разумеется, на песках! — ответила Нанси, качая головой. — Ей, видите ли, опять дурно, и она отпросилась подышать свежим воздухом. Она выводит меня из себя!
— Воротись обедать, моя милая, — сказал я, — она не выводит меня из себя, и я за ней схожу.
Нанси (у нее прекрасный аппетит) осталась довольна. Когда у нее довольный вид, она мила; тогда я треплю ее по подбородку. Это не безнравственно — это привычка.
И вот я взял палку и отправился на пески.
Нет, так дальше дело не пойдет. Мне жаль, что я опять вас задерживаю, но вам непременно надо выслушать историю песков и историю Розанны, — по той причине, что дело об алмазе тесно связано с ними. Как прилежно стараюсь я вести рассказ, не останавливаясь, и как плохо мне это удается!
Но что же делать! Люди и вещи перепутываются таким досадным образом в этой жизни и сами напрашиваются на ваше внимание. Примем это спокойно, расскажем коротко, и мы скоро проникнем в самую глубь тайны, обещаю вам!
Розанна (говорить о лице прежде, чем о вещи, требует простая вежливость) была единственной новой служанкой в нашем доме. Месяца за четыре до того времени, о котором я пишу, миледи была в Лондоне и ездила в исправительное заведение, имевшее целью не допускать преступниц, освобожденных из тюрьмы, снова возвращаться к дурной жизни. Начальница, видя, что миледи интересуется этим учреждением, указала ей на одну девушку, по имени Розанна Спирман, и рассказала очень печальную историю, которую у меня не хватает здесь духу повторить, потому что не люблю волновать себя без нужды, да, верно, и вы также. Дело в том, что Розанна Спирман была воровка, но не из тех воров, которые орудуют целыми конторами в Сити и крадут не из крайней нужды раз в жизни, а обкрадывают тысячи людей; она попалась в руки полиции, ее посадили в тюрьму, а потом направили в исправительный дом. По мнению начальницы, Розанна была (несмотря на ее прежние поступки) девушка, каких мало, и ей только нужна была возможность, чтобы показать себя достойной участия любого доброго человека. Миледи (будучи столь добрым человеком, что другого такого и сыскать было бы трудно) сказала начальнице:
— Розанна Спирман найдет эту возможность у меня в услужении.
Через неделю Розанна Спирман поступила к нам в дом второю служанкой. Ни одной душе не была рассказана история этой девушки, кроме мисс Рэчель и меня. Миледи, часто обращавшаяся ко мне за советом, посоветовалась со мною и по поводу Розанны. Переняв в последнее время привычку покойного сэра Джона всегда соглашаться с миледи, я искренно согласился с нею и насчет Розанны Спирман.
Редко представляется лучший случай, чем тот, какой выпал этой бедной девушке. Ни одна живая душа из прислуги не могла попрекнуть ее прошлым, потому что никто его не знал. Она получила жалованье и пользовалась преимуществами наравне со всеми остальными, и время от времени миледи дружеским словцом поощряла ее. Зато, должен сказать, и она оказалась достойною такого ласкового обращения. Хотя она была далеко не крепкого здоровья и подвержена иногда обморокам, о которых я упоминаю ниже, она исполняла свое дело скромно и безропотно, старательно и хорошо. Но как-то не приобрела друзей между служанками, кроме моей дочери Пенелопы, которая была обычно ласкова с Розанной, хотя и не очень близка с ней.
Не знаю, почему эта девушка не нравилась им. В ней не было красоты, которая возбуждала бы в других зависть; она была самая некрасивая девушка во всем доме, и вдобавок одно плечо ее было выше другого. Я думаю, что слугам больше всего не нравились ее молчаливость и склонность к уединению.
Она читала или работала в свободные часы, когда другие болтали между собой. А когда приходила ее очередь отдыхать, в девяти случаях из десяти она спокойно надевала шляпку и отправлялась погулять одна. Она никогда не ссорилась, никогда не обижалась; она только упорно и вежливо держалась поодаль от всех. Прибавьте к этому, что, при всей ее некрасивости, в ней было что-то похожее не на служанку, а на благородную госпожу. Может быть, это проявлялось в ее голосе, может быть, в лице. Я могу только сказать, что другие женщины подметили это с самого первого дня, когда она поступила к нам в дом, и утверждали (совершенно несправедливо), что Розанна Спирман важничает.
Рассказав историю Розанны, я должен упомянуть об одной из многих причуд этой странной девушки, а потом уже перейти к истории песков.
Дом наш стоит высоко на йоркширском берегу, возле самого моря. Около нас есть прекрасные места для прогулки — во всех направлениях, кроме одного. По-моему, это пренеприятная прогулка. С четверть мили идешь по печальному сосновому лесу и, пройдя между низкими утесами, оказываешься в самой уединенной и безобразной бухте на всем нашем берегу.
Песчаные холмы спускаются тут к морю и оканчиваются двумя остроконечными скалами, выступающими из воды друг против друга. Одна называется Северным, а другая — Южным утесом. Между этими двумя скалами лежат самые ужасные зыбучие пески на всем йоркширском побережье. Во время отлива что-то происходит в их глубине, заставляя всю поверхность песков колебаться самым необычайным образом. Поэтому здешние жители и назвали их Зыбучими песками. Большая насыпь, тянущаяся на полмили возле устья бухты, сдерживает напор океана. И зимой и летом, когда прилив заливает пески, море как будто оставляет свои волны на насыпи, катит их, тихо вздымаясь, и бесшумно покрывает песок. Уединенное и страшное место, могу уверить вас.
Ни одна лодка не осмеливается входить в эту бухту. Дети из нашей рыбачьей деревни, называемой Коббс-Голл, никогда не приходят сюда играть. Даже птицы, как мне кажется, летят подальше от Зыбучих песков. Чтобы молодая женщина в часы своего отдыха, имея возможность выбрать из десяти приятных прогулок любую и всегда найти спутников, которые были бы готовы пойти с нею, если бы только она сказала: “Пойдемте!” — предпочла такое место и работала или читала тут совсем одна, — это превосходит всякое вероятие, уверяю вас. Однако — объясняйте, как хотите — это была любимая прогулка Розанны Спирман. Только раз или два ходила она в Коббс-Голл, к единственному другу, которого имела в наших местах и о котором я скажу вам впоследствии. Теперь я иду к этому самому месту звать девушку обедать. И это благополучно возвращает нас к началу рассказа и направляет опять в сторону песков.
Я не встретил девушку в сосновом лесу. Когда я вышел песчаными холмами к берегу, я увидел ее, в маленькой соломенной шляпке и в простом сером плаще, который она всегда носит, чтобы скрыть, насколько возможно, свое уродливое плечо. Она сидела одна и смотрела на море и на пески.
Она вздрогнула, когда я подошел к ней, и отвернулась от меня. Поскольку я отвечаю за прислугу, я из принципа всегда стараюсь выяснить, почему мне не смотрят прямо в лицо; я повернул ее к себе и увидел, что она плачет.
Мой носовой платок — один из полудюжины прекраснейших фуляровых носовых платков, подаренных мне миледи, — лежал у меня в кармане. Я вынул его и сказал Розанне:
— Пойдемте посидим со мной, моя милая, на пологом берегу. Я сперва вытру вам глаза, а потом осмелюсь спросить, о чем вы плакали.
Когда вы доживете до моих лет, вы узнаете, что удобно устроиться на берегу гораздо сложнее, чем кажется вам теперь. Пока я усаживался, Розанна вытерла себе глаза своим носовым платком, который был гораздо хуже моего — дешевый кембриковый. Она казались очень спокойной и очень несчастной, но села возле меня, как послушная девочка, лишь только я ей велел. Если вы желаете поскорее утешить женщину, посадите ее к себе на колени. Я вспомнил об этом золотом правиле, но Розанна не Нанси, вот в том-то и дело!
— Теперь скажите мне, моя милая, — продолжал я, — о чем вы плакали?
— О прошедших годах, мистер Беттередж, — спокойно ответила Розанна. — Моя прошлая жизнь иногда приходит мне на ум.
— Полно, полно, милая моя, — сказал я, — ваша прошлая жизнь вся заглажена. Почему бы вам не забыть о ней?
Она взяла меня за полу сюртука. Я старик неопрятный и пачкаю платье, когда ем и пью. То одна женщина, то другая отчищает мою одежду. Накануне Розанна вывела пятно с полы моего сюртука каким-то новым составом, уничтожающим всевозможные пятна. Жир вышел, но на сукне осталось темное пятнышко. Девушка указала на это место и покачала головой.
— Пятно снято, — сказала она, — но место, на котором оно было, все еще видно, мистер Беттередж, место видно!
На замечание, сделанное человеку невзначай, по поводу его собственного сюртука, ответить не так-то легко. Что-то в самой девушке заставило меня особенно пожалеть ее в эту минуту. У нее были карие прекрасные глаза, хотя вообще она была некрасива, — и она смотрела на меня с каким-то уважением к моей счастливой старости и к моей репутации, как на нечто, чего сама она никогда достигнуть не сможет; и мое старое сердце наполнилось состраданием к нашей второй служанке. Так как я не чувствовал себя способным утешить ее, мне оставалось сделать только одно — повести ее обедать.
— Помогите мне встать, — сказал я. — Вы опоздали к обеду, Розанна, и я пришел за вами.
— Вы, мистер Беттередж! — сказала она.
— За вами послали Нанси, — продолжал я, — но я подумал, что от меня вам легче будет выслушать этот маленький упрек.
Вместо того чтоб помочь мне встать, бедняжка тихо пожала мне руку. Она силилась удержаться от слез и успела в этом, за что я стал уважать ее.
— Вы очень добры, мистер Беттередж, — сказала она. — Я не хочу обедать сегодня, позвольте мне подольше посидеть здесь.
— Почему вы любите здесь бывать? — спросил я. — Что заставляет вас постоянно приходить в это печальное место?
— Что-то привлекает меня сюда, — сказала девушка, выводя пальцем фигуры на песке. — Я стараюсь не приходить сюда — и не могу. Иногда, — прибавила она тихо, как бы пугаясь своей собственной фантазии, — иногда, мистер Беттередж, мне кажется, что моя могила ждет меня здесь.
— Вас ждет жареная баранина и жирный пудинг, — сказал я. — Ступайте сейчас обедать. Вот что получается, Розанна, когда философствуешь на голодный желудок.
Я говорил строго, чувствуя естественное негодование (в мои лета) на двадцатипятилетнюю женщину, говорящую о смерти.
Она как будто не слыхала моих слов. Она положила руку на мое плечо и удержала меня возле себя.
— Мне кажется, это место околдовало меня, — сказала она. — Я мечтаю о нем днем и ночью, думаю о нем, когда сижу за шитьем. Вы знаете, я так признательна, мистер Беттередж; вы знаете, я стараюсь заслужить вашу доброту и доверие ко мне миледи. Но я спрашиваю себя иногда, не слишком ли спокойна и хороша здешняя жизнь для такой женщины, как я, после всего, что я вынесла. Я чувствую себя более одинокой между слугами, чем когда я здесь, сознавая, что я не такова, как они. Миледи не знает, начальница исправительного дома не знает, каким страшным упреком честные люди служат сами по себе такой женщине, как я. Не браните меня, милый, добрый мистер Беттередж. Я исполняю свое дело, не так ли? Пожалуйста, не говорите миледи, что я недовольна. Я довольна всем. Душа моя неспокойна иногда, вот и все.
Она сняла руку с моего плеча и вдруг указала мне на пески.
— Посмотрите! — сказала она. — Не удивительно ли? Не страшно ли это? Я видела это раз двадцать, но это ново для меня, как будто я никогда не видела его прежде.
Я взглянул, куда она указывала. Начался отлив, и страшный песок стал колебаться. Широкая коричневая поверхность его медленно поднималась, а потом вся задрожала.
— Знаете, на что это похоже? — сказала Розанна, опять схватив меня за плечо. — Это похоже на то, будто сотня людей задыхается под этим песком, — люди силятся выйти на поверхность и тонут все глубже в его страшной глубине. Бросьте камень, мистер Беттередж. Бросьте камень, и посмотрим, как втянет его песок!
Вот сумасбродные-то речи! Вот как голодный желудок действует на растревоженную душу! Ответ мой (правда, резкий, но на пользу бедной девушки, уверяю вас!) вертелся у меня на языке, когда его внезапно остановил голос из-за песчаных холмов, звавший меня по имени.
— Беттередж! — кричал этот голос. — Где вы?
— Здесь! — закричал я в ответ, не понимая, кто бы это мог быть.
Розанна вскочила и стала смотреть в ту сторону, откуда слышался голос.
Я сам собирался уже подняться, но тут меня испугала внезапная перемена в лице девушки.
Лицо ее покрылось таким прекрасным румянцем, какого я никогда не видел у нее прежде; она как будто вся просияла от безмолвного и радостного изумления.
— Кто это? — спросил я.
Розанна повторила мой же вопрос.
— О! Кто это? — сказала она тихо, скорее про себя, чем говоря со мною.
Я повернулся и стал смотреть в ту сторону. К нам подходил между холмами молодой человек с блестящими глазами, в прекрасном сером костюме, в таких же перчатках и шляпе, с розаном в петлице и с улыбкой на лице, которая могла бы вызвать в ответ улыбку даже у Зыбучих песков. Прежде чем я успел стать на ноги, он прыгнул на песок возле меня, бросился мне на шею, по иностранному обычаю, и так крепко обнял, что из меня чуть дух не вылетел.
— Милый старичок Беттередж, — сказал он, — я должен вам семь шиллингов и шесть пенсов. Теперь вы знаете, кто я?
Господи, спаси нас и помилуй! Это был — приехавший на четыре часа ранее того, чем мы его ожидали, — мистер Фрэнклин Блэк!
Прежде чем я успел сказать слово, я увидел, что мистер Фрэнклин с удивлением смотрит на Розанну. Следя за направлением его глаз, я тоже посмотрел на девушку; она покраснела больше прежнего, может быть потому, что встретилась глазами со взглядом мистера Фрэнклина, повернулась и вдруг ушла от нас в замешательстве, совершенно для меня непонятном, не поклонившись молодому джентльмену и не сказав мне ни слова, что совсем не походило на нее: более вежливую и приличную служанку трудно было найти.
— Какая странная девушка! — сказал мистер Фрэнклин. — Желал бы я знать, что такого удивительного нашла она во мне?
— Я полагаю, сэр, — ответил я, подтрунивая над континентальным воспитанием нашего молодого джентльмена, — ее удивил ваш заграничный лоск.
Я привел здесь небрежный вопрос мистера Фрэнклина и мой глупый ответ в утешение и поощрение всем глупым людям, — ибо я приметил, что ограниченным людям служит большим утешением сознание, что и те, которые умнее их, при случае поступают не лучше, чем они. Ни мистеру Фрэнклину с его удивительным заграничным воспитанием, ни мне, в моих летах, с моею опытностью и природным умом, не пришло в голову, что значило непонятное смущение Розанны Спирман. Мы перестали думать о бедняжке, прежде чем скрылся за песчаными холмами ее серый плащ. Что ж из этого, спросите вы весьма естественно. Читайте, добрый друг, терпеливо, и, может быть, вы пожалеете Розанну Спирман так же, как пожалел ее я, когда узнал всю правду.
Глава V
Когда мы остались одни, я прежде всего сделал третью попытку приподняться с песка. Мистер Фрэнклин остановил меня.
— У этого страшного места есть одно преимущество, — сказал он, — мы здесь одни. Не вставайте, Беттередж, я должен сказать вам кое-что.
Покуда он говорил, я смотрел на него и старался найти сходство с мальчиком, которого помнил, в мужчине, находившемся передо мною. Мужчина сбил меня с толку. Как я ни смотрел, я так же мало мог бы узнать румяные щечки мальчика, как и его детскую карточку. Цвет лица мистера Фрэнклина сделался бледным, а нижняя часть лица покрылась, к моему величайшему удивлению и разочарованию, кудрявой каштановой бородкой и усами. Его живая развязность была очень приятна и привлекательна, я с этим согласен, но она не могла сравниться с его прежней непринужденностью обращения. Что еще хуже, он обещал сделаться высоким и не сдержал обещания. Он был гибок, строен и хорошо сложен, но ни на крошечку не выше среднего роста. Словом, он совершенно обманул мои ожидания. Годы не оставили в нем ничего прежнего, кроме светлого, прямого взгляда. В этом я опять узнал нашего милого мальчика и этим заключил свои исследования.
— Добро пожаловать в родное местечко, мистер Фрэнклин, — сказал я. — Тем приятнее видеть вас, что вы приехали несколькими часами ранее, чем мы ожидали.
— У меня была причина приехать раньше, мистер Беттередж, — ответил мистер Фрэнклин. — Я подозревал, Беттередж, что за мной следили и подстерегали меня в Лондоне три или четыре дня, и я приехал с утренним, а не с последним поездом, потому что мне хотелось ускользнуть от одного иностранца мрачной наружности.
Слова эти чрезвычайно удивили меня. В голове моей промелькнула, как молния, мысль о трех фокусниках и о предположении Пенелопы, что они намерены нанести какой-то вред мистеру Фрэнклину Блэку.
— Кто следил за вами, сэр, и почему? — спросил я.
— Расскажите мне о трех индусах, которые были у вас сегодня, — продолжал мистер Фрэнклин, не обращая внимания на мой вопрос. — Может быть, Беттередж, мой иностранец и три фокусника окажутся друг другу сродни.
— А как вы узнали о фокусниках, сэр? — спросил я, отвечая на вопрос вопросом.
Я сознаю, что это был очень дурной тон. Но ведь вы не ожидаете многого от бедной человеческой натуры, — не ожидайте же многого и от меня.
— Я видел Пенелопу, — продолжал мистер Фрэнклин, — и она рассказала мне. Ваша дочь обещала сделаться хорошенькой, Беттередж, и сдержала свое обещание. У Пенелопы маленькие уши и маленькие ноги. Разве покойная миссис Беттередж обладала этими неоценимыми преимуществами?
— Покойная миссис Беттередж обладала множеством недостатков, сор, — сказал я. — Один из них, — если вы позволите упомянуть о нем, — состоял в том, что она никогда ничем не занималась серьезно. Она скорее походила на муху, чем на женщину, она не могла остановиться ни на чем.
— Она пришлась бы как раз по мне, — заметил мистер Фрэнклин. — Я также не останавливаюсь ни на чем, Беттередж, вы сделались еще остроумнее прежнего. Ваша дочь упомянула об этом, когда я расспрашивал ее подробно о фокусниках. “Батюшка вам все расскажет, сэр, он удивительный человек для своих лет и выражается бесподобно”, — собственные слова Пенелопы; при этом она божественно покраснела. При всем моем уважении к вам я не удержался от того, чтобы… Впрочем, это пустяки; я знал ее, когда она была ребенком, и она не сделалась от этого для меня хуже. Будем говорить серьезно. Что делали тут фокусники?
Я был не совсем доволен своей дочерью, — не за то, что она позволила мистеру Фрэнклину поцеловать себя — мистеру Фрэнклину это дозволено, — но за то, что она заставила меня повторять эту глупую историю. Однако делать было нечего, пришлось снова пересказывать все обстоятельства. Веселость мистера Фрэнклина пропадала по мере того, как я говорил. Он сидел, нахмурив брови и дергая себя за бороду. Когда я кончил, он повторил два вопроса, которые главный фокусник задал мальчику, — вероятно для того, чтобы хорошенько запечатлеть их в своей памяти.
— “По этой дороге, а не по другой поедет сегодня англичанин? Имеет ли англичанин это при себе?” Я подозреваю, — сказал мистер Фрэнклин, вынимая из кармана маленький запечатанный пакет, — что это значит вот что: это, Беттередж, значит — знаменитый алмаз дяди моего Гернкастля.
— Великий боже, сэр! — вскричал я. — Как к вам попал алмаз нечестивого полковника?
— Нечестивый полковник в завещании своем отказал этот алмаз в подарок кузине моей Рэчель в день ее рождения, — ответил мистер Фрэнклин, — а мой отец, как душеприказчик нечестивого полковника, поручил мне привезти его сюда.
Если бы море, тихо плескавшееся по зыбучему песку, вдруг превратилось перед моими глазами в сушу, — сомневаюсь, удивило ли бы меня это более, чем слова мистера Фрэнклина.
— Полковник отказал алмаз мисс Рэчель? — воскликнул я. — А ваш отец, сэр, душеприказчик полковника? Ну, готов биться об заклад на что угодно, мистер Фрэнклин, что ваш отец не захотел бы дотронуться до полковника даже щипцами!
— Сильно сказано, Беттередж. Что дурного можно сказать о полковнике? Он принадлежал вашему времени, не моему. Расскажите мне, что вы знаете о нем; и я расскажу вам, как отец мой сделался его душеприказчиком, и еще кое о чем. Я сделал в Лондоне некоторые открытия по поводу моего дяди Гернкастля и его алмаза, которые кажутся мне не совсем благовидными, и я хотел бы знать, подтверждаете ли вы их. Вы назвали его сейчас “нечестивым”.
Поищите-ка в вашей памяти, старый друг, и скажите мне — почему?
Видя, что он говорит серьезно, я рассказал ему все, что знал.
Вот сущность моего рассказа, приводимая здесь единственно для вас.
Будьте внимательны, а то вы совсем собьетесь с толку, когда мы зайдем подальше в этой истории. Выкиньте из головы детей, обед, новую шляпку и что бы там ни было. Постарайтесь забыть политику, лошадей, биржевой курс в Сити и неприятности в вашем клубе. Надеюсь, вы не рассердитесь на мою смелость; я пишу это только для того, чтобы возбудить ваше внимание, любезный читатель. Боже! Разве я не видел в ваших руках величайших авторов и разве я не знаю, как легко отвлекается ваше внимание, когда его просит у вас книга, а не человек?
Я упоминал выше об отце миледи, старом лорде с крутым нравом и длинным языком. У него было всего-навсего пять человек детей. Сначала два сына; потом, после довольно долгого времени жена его опять сделалась беременна, и три молодые девицы появились на свет одна за другою так скоро, как только позволила это природа; моя госпожа, как уже было упомянуто, была самая младшая и самая лучшая из трех. Из двух сыновей старший, Артур, наследовал титул и имение отца. Второй, высокородный Джон, получил прекрасное состояние, оставленное ему одним родственником, и определился на военную службу.
Дурна та птица, которая пачкает свое собственное гнездо. Я считаю благородную фамилию Гернкастлей своим гнездом и почту за милость, если мне позволят не входить в подробности о высокородном Джоне. Я глубоко убежден, что это один из величайших негодяев, когда-либо существовавших на свете.
Он начал службу с гвардейского полка. Он должен был уйти оттуда прежде, чем ему миновало двадцать два года, — умолчу, по какой причине. Слишком большая строгость в армии была не по силам высокородному Джону. Он отправился в Индию посмотреть, так же ли там строго, и понюхать пороху.
Что касается храбрости, то, надо отдать ему справедливость, он был смесью бульдога, боевого петуха и дикаря. Гернкастль участвовал во взятии Серингапатама. Вскоре после этого он перешел в другой полк, а впоследствии и в третий. Тут он был произведен в полковники, получил солнечный удар и воротился в Англию.
Он приехал с такой репутацией, что перед ним заперлись двери всех его родных; миледи (только что вышедшая замуж) первая объявила (с согласия своего мужа), что ее брат никогда не войдет к ней в дом. Запятнанная репутация полковника заставляла людей избегать его; но мне надо здесь упомянуть только об одном пятне, связанном с алмазом.
Говорят, что он, несмотря на свою смелость, никому не признавался, каким путем завладел этой индийской драгоценностью. Он никогда не пытался продать алмаз, — не нуждаясь в деньгах и (опять надо отдать ему справедливость) не дорожа ими. Он никому его не дарил и не показывал ни одной живой душе. Одни говорили, будто он опасается, как бы это не навлекло на него неприятности от начальства; другие (не знавшие натуру этого человека) утверждали, что, если он покажет алмаз, это может стоить ему жизни.
В последних слухах, может статься, и есть доля правды. Было бы несправедливо назвать его трусом, но это факт, что жизнь его два раза подвергалась опасности в Индии, и все твердо были убеждены, что Лунный камень тому причиной. Когда полковник вернулся в Англию и все начали его избегать, это опять-таки было приписано Лунному камню. Тайна жизни полковника мешала ему во всем, она изгнала его из среды соотечественников.
Мужчины не пускали его в свои клубы; женщины (а их было немало), на которых он хотел жениться, отказывали ему; друзья и родственники вдруг делались близоруки, встречаясь с ним на улице.
Другие в таких затруднительных обстоятельствах постарались бы оправдаться перед светом. Но уступить, даже когда он не прав и когда все общество восстало против него, было не в привычках высокородного Джона. Он держал при себе алмаз в Индии, желая показать, что не боится быть убитым.
Он оставил при себе алмаз в Англии, желая показать, что презирает общественное мнение. Вот вам портрет этого человека, как на полотне: характер, шедший всему наперекор, и лицо хотя красивое, но с дьявольским выражением.
Время от времени до нас доходили о нем самые различные слухи.
Рассказывали, будто он стал курить опиум и собирать старые книги; будто он производит какие-то странные химические опыты; будто он пьянствует и веселится с самыми низкими людьми в самых низких лондонских трущобах. Как бы то ни было, полковник вел уединенную, порочную, таинственную жизнь; один раз, — только один раз, — после его возвращения в Англию, я сам видел его лицом к лицу.
Года за два до того времени, о котором я теперь пишу, и года за полтора до своей смерти полковник неожиданно приехал в дом к миледи в Лондоне. Это было в день рождения мисс Рэчель, двадцать первого толя, и в честь этого дня, по обыкновению, собирались гости. Лакей пришел сказать мне, что какой-то господин желает меня видеть.
Войдя в переднюю, я нашел полковника, похудевшего, состарившегося, изнуренного и оборванного, по по-прежнему дерзкого и злого.
— Ступайте к моей сестре, — сказал он, — и доложите, что я приехал пожелать моей племяннице много раз счастливо встретить этот день.
Он уже несколько раз пытался письменно примириться с миледи, — только для того (я твердо в этом убежден), чтобы сделать ей неприятность. Но к нам в дом он приехал в первый раз. Меня подмывало сказать ему, что у миледи гости. Но дьявольское выражение его лица испугало меня. Я пошел передать его поручение и, по собственному его желанию, оставил полковника издать ответа в передней. Слуги таращили на него глаза, стоя поодаль, как будто он был ходячей разрушительной машиной, начиненной порохом и ядрами, каждую минуту способной произвести взрыв.
Миледи также обладает — крошечку, не более — фамильной горячностью.
— Скажите полковнику Гернкастлю, — сказала она, когда я передал ей поручение ее брата, — что мисс Вериндер занята, а я не хочу его видеть.
Я старался уговорить миледи дать ответ повежливее, зная, что полковник не поклонник той сдержанности, которой вообще подчиняются джентльмены.
Совершенно бесполезно. Фамильная горячность тотчас обратилась на меня.
— Когда мне нужен ваш совет, — сказала миледи, — вы знаете, что я сама спрашиваю его. Теперь я вас не спрашиваю.
Я пошел вниз с этим поручением, взяв на себя смелость передать его в новом и исправленном виде.
— Миледи и мисс Рэчель сожалеют, что они заняты, полковник, — сказал я, — и просят извинить за то, что они не будут иметь чести видеть вас.
Я ожидал от него вспышки даже при той вежливости, с какою я передал ответ миледи. К удивлению моему, ничего подобного не случилось: полковник испугал меня, приняв это с неестественным спокойствием. Глаза его, серые, блестящие, с минуту были устремлены на меня; он засмеялся, не громко, как другие люди, а про себя, тихо и страшно зло.
— Благодарю вас, Беттередж, — сказал он, — я буду помнить день рождения моей племянницы.
С этими словами он повернулся и вышел из дома.
Когда через год снова наступил день рождения мисс Рэчель, мы услышали, что полковник болен и лежит в постели. Полгода спустя — то есть за полгода до того времени, о котором я теперь пишу, — миледи получила письмо от одного весьма уважаемого пастора. Оно сообщало ей о двух удивительных семейных новостях. Во-первых, о том, что полковник все простил своей сестре на смертном одре; во-вторых, о том, что простил он и всем другим и принял весьма назидательную кончину. Я сам (несмотря на епископов и пасторов) имею нелицемерное уважение к церкви, но я убежден, что высокородный Джон постоянно находился во власти дьявола и что последний гнусный поступок в жизни этого гнусного человека состоял в том (с позволения вашего сказать), что он обманул священника.
Вот сущность моего рассказа мистеру Фрэнклину. Я заметил, что он слушает все более внимательно по мере продолжения рассказа и что сообщение о том, как сестра не приняла полковника в день рождения его племянницы, по-видимому, поразило мистера Фрэнклина, словно выстрел, попавший в цель.
Хотя он в этом и не сознался, я увидел довольно ясно по его лицу, как это растревожило его.
— Вы рассказали все, что знали, Беттередж, — заметил он. — Теперь моя очередь. Но прежде чем рассказать вам, какие открытия я сделал в Лондоне и каким образом был замешан в это дело с алмазом, мне хочется знать следующее. По вашему лицу видно, мой старый друг, что вы как будто не совсем понимаете, какова цель нашего совещания. Обманывает ли меня ваше лицо?
— Нет, сэр, — ответил я. — Мое лицо, по крайней мере в данном случае, говорит правду.
— Ну, так я постараюсь, — сказал мистер Фрэнклин, — убедить вас разделить мою точку зрения, прежде чем мы пойдем далее. Три очень серьезных вопроса связаны с подарком полковника ко дню рождения моей кузины Рэчель. Слушайте меня внимательно, Беттередж, и пересчитывайте по пальцам, если это поможет вам, — сказал мистер Фрэнклин, находя некоторое удовольствие в показе своей собственной дальновидности, что хорошо напомнило мне те прежние времена, когда он был мальчиком. — Вопрос первый: был ли алмаз полковника предметом заговора в Индии? Вопрос второй: последовал ли заговор за алмазом полковника в Англию? Вопрос третий: знал ли полковник, что заговор последовал за алмазом, и не с умыслом ли оставил он в наследство неприятности и опасность своей сестре через ее невинную дочь? Вот что хочу я узнать, Беттередж. Не пугайтесь!
Хорошо ему было предупреждать меня, когда я уже перепугался.
Если он прав, в наш спокойный английский дом вдруг ворвался дьявольский индийский алмаз, а за ним заговор живых мошенников, спущенных на нас мщением мертвеца. Вот каково было наше положение, открывшееся мне в последних словах мистера Фрэнклина! Слыхано ли что-нибудь подобное — в девятнадцатом столетии, заметьте, в век прогресса, в стране, пользующейся благами британской конституции! Никто никогда не слыхал ничего подобного, а следовательно, никто не может этому поверить. Тем не менее буду продолжать мой рассказ.
Когда вы вдруг испугаетесь до такой степени, как испугался я, этот испуг почти неминуемо скажется на вашем желудке, и внимание ваше отвлечется, вы начнете вертеться. Я молча заерзал, сидя на песке. Мистер Фрэнклин приметил, как я боролся со встревоженным желудком — или духом, если хотите, а это одно и то же, — и, остановившись именно в ту минуту, когда он уже готов был начать свой рассказ, спросил меня резко:
— Что такое с вами?
Что такое было со мной? Ему я не сказал, а вам скажу по секрету. Мне захотелось закурить трубку и почитать “Робинзона Крузо”.
Глава VI
Оставив при себе свои чувства, я почтительно попросил мистера Фрэнклина продолжать. Мистер Фрэнклин ответил: “Не вертитесь, Беттередж!” и продолжал.
Первые слова нашего молодого джентльмена разъяснили мне, что открытие, относящееся к нечестивому полковнику и к алмазу, он сделал (прежде чем приехать к нам) при посещении стряпчего своего отца в Хэмпстеде. Мистер Фрэнклин случайно проговорился ему, когда они сидели вдвоем после обеда, что отец поручил ему отвезти мисс Рэчель подарок ко дню ее рождения. Слово за слово — беседа кончилась тем, что стряпчий открыл мистеру Фрэнклину, в чем состоял этот подарок и как возникли дружеские отношения между покойным полковником и мистером Блэком-старшим. Обстоятельства эти так необыкновенны, что я сомневаюсь, способен ли передать их своим языком.
Предпочитаю изложить открытие мистера Фрэнклина его собственными словами.
— Вы помните то время, Беттередж, — сказал он, — когда отец мой пытался доказать свои права на это несчастное герцогство? Как раз в это самое время и возвратился из Индии дядя Гернкастль. Отец мой узнал, что у него есть какие-то бумаги, которые могут быть полезны для его процесса. Он поехал к полковнику под предлогом поздравить его с приездом в Англию. Но полковника не так-то легко было провести подобным образом. “Вам что-то от меня нужно, — сказал он, — иначе вы не решились бы рисковать своей репутацией, приехав ко мне”. Отец мой понял, что ему больше ничего не остается, как откровенно признаться во всем; он тотчас сознался, что ему нужны бумаги. Полковник просил дать ему день на размышление. Ответ его пришел в виде чрезвычайно странного письма, которое приятель мой, стряпчий, показал мне. Полковник начал с того, что он сам имеет надобность в моем отце и предлагает ему дружескую услугу за услугу. Случайности войны (его собственное выражение!) сделали его обладателем одного из самых больших алмазов на свете, и он имеет основание думать, что ни сам он, ни его драгоценный камень не будут в безопасности ни в одном доме, ни в одной части света, если он оставит этот камень при себе. При таких рискованных обстоятельствах он решился отдать алмаз на хранение другому человеку. Этот человек лично не подвергается никакому риску. Он может отдать драгоценный камень на хранение в любое место — как, например, банкиру или ювелиру, у которых есть особая кладовая для хранения драгоценностей. Его личная ответственность в этом деле будет пассивного свойства. Он будет получать — или сам, или через надежного поверенного — по заранее условленному адресу, в заранее условленные дни, каждый год письмо от полковника с простым извещением, что тот еще жив. В случае если письмо не будет получено в условленный день, молчание полковника может служить верным признаком того, что он убит. В таком случае, но не иначе, определенные инструкции относительно распоряжения алмазом, запечатанные и хранящиеся вместе с ним, должны быть вскрыты и безусловно исполнены. Если отец мой согласится принять это странное поручение, то бумаги полковника будут отданы в его распоряжение. Вот что заключалось в письме.
— Что же сделал ваш отец, сэр? — спросил я.
— Что он сделал? — повторил мистер Фрэнклин. — Я вам скажу, что он сделал. Он применил отменную способность, называемую здравым смыслом, к оценке письма полковника. Он объявил, что все это — чистейший вздор.
Где-то в своих странствованиях по Индии полковник подцепил какое-нибудь дрянное стеклышко, которое принял за алмаз. Что касается опасения быть убитым и принятия предосторожностей для сохранения его жизни и этого стеклышка, то ныне девятнадцатое столетие, и каждому здравомыслящему человеку стоит только обратиться к полиции. Известно, что полковник много лет уже употреблял опиум, и если единственный способ достать драгоценные бумаги состоит в том, чтобы принять бред опиума за факт, то отец мой был вполне готов принять на себя возлагаемую на него смешную ответственность тем охотнее, что она не навлечет на него никаких хлопот. Алмаз и запечатанные инструкции были отданы в кладовую банкира, а письма полковника, периодически сообщавшие, что он жив, получались и распечатывались стряпчим нашего семейства, мистером Бреффом, поверенным моего отца. Ни один разумный человек в подобном положении не мог бы взглянуть на это дело иначе. Нам только то и кажется вероятным, Беттередж, что согласно с нашим собственным житейским опытом, и мы верим роману только тогда, когда прочтем его в газете.
Мне стало ясно, что сам мистер Фрэнклин считает мнение своего отца о полковнике опрометчивым и ошибочным.
— А каково ваше мнение об этом деле, сэр? — спросил я.
— Дайте прежде покончить с историей полковника, — ответил мистер Фрэнклин. — Для английского ума характерно отсутствие системы, и ваш вопрос, мой старый друг, служит этому примером. Когда мы перестаем делать машины, мы (в умственном отношении) самый неряшливый народ во всей вселенной!
“Вот оно, заграничное-то воспитание! — подумал я. — Он, должно быть, во Франции научился подтрунивать над собственной нацией”.
Между тем мистер Фрэнклин опять взялся за прерванную нить рассказа и продолжал:
— Отец мой получил нужные бумаги и с той поры не видел более своего шурина. Каждый год в заранее условленные дни заранее условленное письмо получалось от полковника и распечатывалось стряпчим Бреффом. Я видел целую кучу этих писем. Все они состояли из одной и той же краткой деловой фразы: “Сэр, это убедит вас в том, что я еще жив, пусть алмаз остается там же. Джон Гернкастль”.
Вот все, что он писал, и приходило это аккуратно к назначенному дню. Но шесть или восемь месяцев тому назад форма письма изменилась в первый раз. Теперь там стояло: “Сэр, говорят, что я умираю. Приезжайте ко мне и помогите мне составить завещание”. Стряпчий Брефф поехал и нашел полковника в маленькой пригородной вилле, с прилегающими к ней землями, где полковник жил один с тех пор, как оставил Индию. Он держал собак, кошек и птиц для компании, но с ним не было ни единого человеческого существа, кроме приходящей служанки для присмотра за хозяйством и доктора. Завещание оказалось очень простым. Полковник истратил большую часть своего состояния на химические опыты. Его завещание начиналось и кончалось тремя пунктами, которые он продиктовал в постели при полном обладании своими умственными способностями. В первом пункте он обеспечивал содержание и уход за своими животными. Вторым пунктом основывалась кафедра экспериментальной химии в одном из северных университетов. В третьем полковник завещал Лунный камень, как подарок ко дню рождения, своей племяннице, с условием, чтобы мой отец был его душеприказчиком. Отец начал было отказываться. Но, подумав немного, уступил: отчасти из-за уверенности, что обязанность душеприказчика не доставит ему никаких хлопот, отчасти из-за намека стряпчего, сделанного им в интересах Рэчель, — что алмаз все-таки может чего-нибудь стоить.
— Полковник не сказал, сэр, — спросил я, — по какой причине он завещал алмаз мисс Рэчель?
— Он не только сказал, но и написал эту причину в своем завещании, — ответил мистер Фрэнклин. — Я взял себе выписку, которую вы сейчас увидите.
Не спешите, Беттередж! Все должно идти по порядку. Вы слышали о завещании полковника, теперь вы должны услышать, что случилось после его смерти.
Формальности потребовали, чтобы алмаз был оценен прежде, чем будет предъявлено завещание. Все ювелиры, к которым для этого обратились, тотчас подтвердили заявление полковника, что это самый большой алмаз на свете.
Вопрос о точной оценке представил довольно серьезные затруднения. Величина камня сделала его феноменом между алмазами, цвет поставил его в категорию совершенно особую, и вдобавок к этим сбивчивым фактам в нем оказался недостаток — в виде пятна в самой середине камня. Даже с таким недостатком самая низкая оценка алмаза равнялась двадцати тысячам фунтов. Представьте себе удивление моего отца: он чуть было не отказался от обязанности душеприказчика, чуть было не выпустил из нашей семьи эту великолепную драгоценность! Интерес, возбужденный в нем этим делом, побудил его вскрыть запечатанные инструкции, хранившиеся вместе с алмазом. Стряпчий показал мне эти инструкции вместе с другими бумагами, и, по моему мнению, они дают ключ к заговору, угрожавшему жизни полковника.
— Стало быть, вы думаете, сэр, — сказал я, — что заговор имел место?
— Не обладая отменным “здравым смыслом” моего отца, — ответил мистер Фрэнклин, — я думаю, что жизнь полковника действительно находилась в опасности, как он и говорил. Запечатанная инструкция объясняет, отчего он все-таки умер спокойно в своей постели. В случае его насильственной смерти (то есть в случае, если бы от него не было получено условленное письмо в назначенный день), отец мой должен был секретно отправить Лунный камень в Амстердам и отдать знаменитому резчику, чтобы разбить на четыре или шесть отдельных камней. Камни эти продать за любую цену, а вырученные деньги употребить на основание той кафедры экспериментальной химии, о которой потом полковник упомянул в своем завещании. Теперь, Беттередж, напрягите-ка свой находчивый ум и сообразите, к какому заключению приводят указания полковника?
Я тотчас навострил свой ум. Но ему была свойственна английская медлительность, и он все перепутал, пока мистер Фрэнклин не указал на то, что именно следовало видеть.
— Заметьте, — сказал мистер Фрэнклин, — что ценность бриллианта была искусно поставлена в зависимость от сохранения жизни полковника. Он не удовольствовался тем, что сказал врагам, которых опасался: “Убейте меня — и вы будете не ближе к алмазу, чем сейчас. Он там, откуда вы не можете его достать, — в кладовой банкира”. Он сказал вместо этого: “Убейте меня — и алмаз перестанет быть алмазом: его тождество уничтожится”. О чем это говорит?
Тут, как мне показалось, меня озарила вспышка чудесной прозорливости, свойственной иностранцам.
— Знаю, — сказал я. — Это значит, что цена камня понизится и злодеи останутся в дураках.
— Ничуть не бывало! — сказал мистер Фрэнклин. — Я об этом справлялся.
Алмаз с пятном, разбитый на отдельные камни, будет стоить дороже, чем целый, по той простой причине, что четыре или шесть прекрасных бриллиантов должны стоить дороже, чем один большой камень, но с пятном. Если бы простое воровство из-за прибыли было целью заговора, инструкции полковника решительно сделали бы алмаз еще привлекательней для воров. За него можно было бы получить больше денег, а продать его гораздо легче, если б он вышел из рук амстердамских мастеров.
— Господи помилуй, сэр! — воскликнул я. — В чем же состоял заговор?
— Заговор, составленный индусами, которым прежде принадлежал алмаз, — сказал мистер Фрэнклин, — основан на каком-то древнем индийском суеверии.
Таково мое мнение, подтвержденное одним фамильным документом, который находится при мне в настоящую минуту.
Теперь я понял, почему появление трех индийских фокусников у нашего дома показалось мистеру Фрэнклину обстоятельством, достойным внимания.
— Я не хочу навязывать вам своего мнения, — продолжал мистер Фрэнклин.
— Мысль об избранных служителях древнего индийского суеверия, посвятивших себя, несмотря на все затруднения и опасности, задаче возвратить священную национальную драгоценность и выжидающих для этого первого удобного случая, кажется мне совершенно согласною с тем, что нам известно о терпении восточных племен и о влиянии восточных религий. Я человек с живым воображением, и мясник, булочник и налоговой инспектор не кажутся мне единственной правдоподобной реальностью. Пусть же моя догадка оценивается как угодно; перейдем к единственному практическому вопросу, касающемуся нас. Переживет ли полковника заговор о Лунном камне? И знал ли полковник об этом, когда оставлял своей племяннице подарок ко дню ее рождения?
Я начинал понимать, что дело это ближе всего касается теперь миледи и мисс Рэчель. Ни одно слово, сказанное мистером Фрэнклином, теперь не ускользнуло от меня.
— Мне не очень хотелось, когда я узнал историю Лунного камня, — продолжал он, — привозить его сюда, но мистер Брефф напомнил мне, что кто-нибудь должен же передать моей кузине наследство дяди и что я могу сделать это точно так же, как и всякий другой. Когда я взял алмаз из банка, мне показалось, что за мной следит на улице какой-то оборванный смуглый человек. Я отправился к отцу за своими вещами и нашел там письмо, неожиданно удержавшее меня в Лондоне. Я вернулся в банк с алмазом и опять увидел этого оборванного человека. Снова забирая алмаз из банка сегодня утром, я встретил этого человека в третий раз, ускользнул от него и уехал (прежде чем он успел напасть на мой след) с утренним, вместо послеобеденного, поездом. Вот я здесь с алмазом, и мы оба в целости и сохранности. И какую же первую новость я слышу? Я слышу, что здесь были три странствующих индуса и что мой приезд из Лондона и то, что я должен иметь при себе, были главным предметом их разговора в то время, когда они думали, что они одни. Не стану терять время на рассказ о том, как они выливали чернила в ладонь мальчика и приказывали ему увидеть вдали человека. Штука эта, которую я часто видел на Востоке, и по моему мнению, и по вашему, не более как фокус. Вопрос, который мы теперь должны решить, состоит в том, не приписываю ли я ошибочно большое значение простой случайности, или мы действительно имеем доказательство, что индусы напали на след Лунного камня с той минуты, как он взят из банка?
Но ни он, ни я, казалось, не были расположены заниматься этим исследованием. Мы посмотрели друг на друга, потом на прилив, все выше и выше покрывавший Зыбучие пески.
— О чем вы думаете? — вдруг спросил мистер Фрэнклин.
— Я думаю, сэр, — ответил я, — что мне хотелось бы зарыть алмаз в зыбучий песок и решить этим вопрос раз и навсегда.
— Если вы имеете у себя в кармане стоимость Лунного камня, — ответил мистер Фрэнклин, — объявите это, Беттередж, и дело с концом!
Любопытно заметить, как облегчает вас самая пустая шутка, когда у вас неспокойно на душе. Нам показалась очень забавной мысль покончить с законной собственностью мисс Рэчель и ввести мистера Блэка, как душеприказчика, в страшные хлопоты, хотя теперь я не могу понять, что тут было смешного.
Мистер Фрэнклин первый снова вернулся к предмету разговора. Он вынул из кармана конверт, вскрыл его и подал мне лежавшую там бумагу.
— Беттередж, — сказал он, — мы должны в интересах тетушки обсудить вопрос о том, какая причина заставила полковника оставить это наследство своей племяннице. Припомните обращение леди Вериндер со своим братом с того самого времени, как он вернулся в Англию, и до той минуты, когда он сказал вам, что будет помнить день рождения племянницы. И прочтите это.
Он дал мне выписку из завещания полковника. Она при мне, когда я пишу эти строки, и я ее списываю сюда для вас:
“В-третьих и в последних, дарю и завещаю моей племяннице, Рэчель Вериндер, единственной дочери сестры моей Джулии Вериндер, вдовы, — в том случае, если ее мать, названная Джулия Вериндер, будет жива после моей смерти, — желтый алмаз, принадлежащий мне и известный на Востоке под названием Лунного камня. И поручаю моему душеприказчику отдать алмаз или самому, или через какого-нибудь надежного посредника, которого он выберет, в собственные руки вышеупомянутой племянницы моей Рэчель, в первый же день ее рождения после моей смерти и в присутствии, если возможно, моей сестры, вышеупомянутой Джулии Вериндер. И я желаю, чтобы вышеупомянутой сестре моей был сообщен посредством верной копии третий и последний пункт моего завещания, что я дарю алмаз дочери ее Рэчель в знак моего полного прощения за тот вред, который ее поступки причинили моей репутации, а особенно в доказательство, что я прощаю, как и следует умирающему, оскорбление, нанесенное мне как офицеру и джентльмену, когда ее слуга, по ее приказанию, не пустил меня к ней в день рождения ее дочери”.
Я возвратил бумагу мистеру Фрэнклину, решительно недоумевая, что ему ответить. До этой минуты я думал, как вам известно, что полковник умер так же нечестиво, как и жил. Не скажу, чтобы копия с этого завещания заставила меня переменить это мнение; скажу только, что она поколебала меня.
— Ну, — спросил мистер Фрэнклин, — теперь, когда вы прочли собственные слова полковника, что вы на это скажете? Привезя Лунный камень к тетушке в дом, служу я слепо его мщению или оправдываю его, как раскаявшегося христианина?
— Тяжело представить себе, сэр, — ответил я, — что он умер с гнусным мщением в сердце и с гнусным обманом на устах. Одному богу известна правда. Меня не спрашивайте.
Мистер Фрэнклин вертел и комкал в руках выписку из завещания, как будто надеясь выжать из нее таким образом истину. В то же время он поразительно изменился. Из живого и веселого он сделался теперь, непонятно как, тихим, торжественным, задумчивым молодым человеком.
— Этот вопрос имеет две стороны, — сказал он: — объективную и субъективную. Которую нам предпочесть?
Он получил не только французское, но и немецкое воспитание. До сих пор он находился под влиянием, как я полагал, первого из них. А теперь (насколько я мог разобрать) его место заступило второе. Одно из правил моей жизни: никогда не примечать того, чего я не понимаю. Я выбрал среднее между объективной и субъективной стороной. Говоря попросту, я вытаращил глаза и не сказал ни слова.
— Извлечем сокровенный смысл из всего этого, — сказал мистер Фрэнклин.
— Почему дядя отказал алмаз Рэчель? Почему не отказал он его тетушке?
— Это, по крайней мере, отгадать не трудно, сэр, — ответил я. — Полковник Гернкастль знал хорошо, что миледи не захочет принять никакого наследства от него.
— Но почему он знал, что Рэчель не откажется также?
— Есть ли на свете молодая девушка, сэр, которая могла бы устоять от искушения принять такой подарок, как Лунный камень?
— Это субъективная точка зрения, — сказал мистер Фрэнклин. — Вам делает большую честь, Беттередж, что вы способны на субъективную точку зрения. Но в завещании полковника есть еще другая тайна, до сих пор не объясненная: почему он дарит свой камень Рэчель в день ее рождения лишь при том необходимом условии, чтобы мать ее была в живых?
— Я не желаю порочить покойника, сэр, — ответил я, — но если он с умыслом оставил в наследство сестре хлопоты и опасность через ее дочь, то непременным условием этого наследства должно было быть, чтобы сестра его находилась в живых, дабы почувствовать всю неприятность этого.
— О! Так вот какие вы приписываете ему намерения! Это опять-таки субъективное истолкование! Бывали вы в Германии, Беттередж?
— Нет, сэр. А ваше истолкование, позвольте узнать?
— Мне кажется, — сказал мистер Фрэнклин, — что цель полковника, может быть, состояла не в том, чтобы принести пользу племяннице, которую он даже никогда не видел, но чтобы доказать сестре, что он простил ее, и доказать очень любезно, посредством подарка, сделанного ее дочери. Это совершенно другое объяснение по сравнению с вашим, Беттередж, и оно внушено объективной точкой зрения. По всему видно, что одно истолкование может быть так же справедливо, как и другое.
Доведя дело до этого приятного и успокоительного вывода, мистер Фрэнклин, по-видимому, решил, что он исполнил все, что от него требовалось. Он бросился навзничь на песок и спросил, что же ему теперь делать.
Он выказал себя таким умным и дальновидным, прежде чем пуститься в заграничную тарабарщину, и все время до такой степени первенствовал надо мной в этом деле, что я совершенно не был готов к внезапной перемене, когда он, сложив оружие, вдруг обратился за помощью ко мне. Только впоследствии узнал я от мисс Рэчель, — первой, кто сделал это открытие, — что странные перемены и переходы в мистере Фрэнклине происходили от его заграничного воспитания. В том возрасте, когда мы все способны принимать нашу окраску как отражение окраски других людей, его послали за границу, и он переходил от одной нации к другой, прежде чем настала пора для того, чтобы какой-нибудь один преимущественный колорит установился на нем твердо. Вследствие этого он воротился с такими различными сторонами в своем характере, более или менее неоконченными и более или менее противоречащими одна другой, что как будто проводил жизнь в постоянном несогласии с самим собой. Он мог быть и деловым человеком и лентяем, со сбивчивым и с ясным умом, образцом решимости и беспомощности в одно и то же время. У него была и французская, и немецкая, и итальянская сторона; первоначальный, английский фундамент выказывался иногда, как бы говоря: “Вот я жалко исковеркан, как вы видите, но кое в чем я остался самим собой”. Мисс Рэчель обыкновенно говорила, что итальянская сторона одерживала верх в тех случаях, когда он неожиданно сдавал и просил вас со своей милой кротостью снять с него ответственность и возложить на свои плечи. Вы не будете к нему несправедливы, я полагаю, если заключите, что итальянская сторона одержала верх и теперь.
— Вам самим следует решить, сэр, — сказал я, — что теперь делать; уж конечно, не мне.
Мистер Фрэнклин, по-видимому, не оценил всей силы моих слов, — в то время он был в таком состоянии, что не мог видеть ничего, кроме неба над своей головой.
— Я не желаю пугать тетушку без причины, — сказал он, — но и не желаю оставлять ее без надлежащего предостережения. Если бы на моем месте были вы, Беттередж, — скажите мне в двух словах, что бы сделали вы?
Я сказал ему в двух словах:
— Подождал бы.
— Готов от всего сердца, — сказал мистер Фрэнклин. — Долго ли?
Я начал объяснять свою мысль.
— Как я понимаю, сэр, — сказал я, — кто-нибудь должен же отдать этот проклятый алмаз мисс Рэчель в день ее рождения, и вы можете сделать это точно так же, как всякий другой. Очень хорошо. Сегодня двадцать пятое мая, а день рождения двадцать первого июня. Перед нами почти четыре недели.
Подождем и посмотрим, что случится за это время, и либо предостережем миледи, либо нет — в зависимости от обстоятельств.
— Прекрасно, Беттередж, — воскликнул мистер Фрэнклин. — Но что нам делать с алмазом до дня рождения?
— То же, что сделал ваш отец, сэр, — ответил я. — Отец ваш сдал его в банк в Лондоне, а вы отдайте его в банк во Фризинголле.
Фризинголл — наш ближайший город, и банк его так же надежен, как Английский банк.
— Будь я на вашем месте, сэр, — прибавил я, — я прямо отправился бы верхом с алмазом во Фризинголл, прежде чем дамы вернутся.
Возможность предпринять что-нибудь, да еще верхом, заставила мистера Фрэнклина мигом вскочить на ноги. Он вскочил и бесцеремонно заставил встать и меня.
— Беттередж, вы золото, а не человек! — сказал он. — Пойдем, и велите тотчас же оседлать самую лучшую лошадь в конюшне.
Тут, слава богу, английский фундамент проступил наконец сквозь весь заграничный лоск! Это был тот же мистер Фрэнклин, которого я помнил, оживившийся по-прежнему при мысли о поездке верхом и напомнивший мне доброе старое время. Оседлать для него лошадь? Я оседлал бы ему двенадцать лошадей, если бы только он мог поскакать на всех разом!
Мы поспешно возвратились домой, поспешно велели оседлать самую быстроногую лошадь из всей конюшни, и мистер Фрэнклин поспешно ускакал отдать в кладовую банка проклятый алмаз. Когда затих стук копыт его лошади в аллее и я опять остался один, я почти готов был спросить себя, не привиделось ли мне все это во сне.
Глава VII
Пока я находился в такой растерянности, чрезвычайно нуждаясь в чем-нибудь успокоительном для приведения в порядок своих чувств, дочь моя Пенелопа попалась мне навстречу, точь-в-точь как ее покойная мать попадалась мне на лестнице, и тотчас пристала ко мне с расспросами. Я рассказал ей о своей встрече с мистером Фрэнклином. При настоящих обстоятельствах оставалось только одно — тотчас же прихлопнуть гасильником любопытство Пенелопы. Я ответил ей, что мы с мистером Фрэнклином толковали об иностранной политике и договорились до того, что оба крепко заснули на солнце. Попробуйте дать этот ответ, когда жена или дочь пристанут к вам с неуместным вопросом, и будьте уверены, что, по природной женской кротости, они расцелуют вас и опять станут приставать при первом же удобном случае.
День прошел, и миледи с мисс Рэчель вернулись.
Бесполезно говорить, как они удивились, когда услыхали, что мистер Фрэнклин Блэк приезжал и опять уехал верхом. Бесполезно также говорить, что они тотчас задали неуместные вопросы и что “иностранная политика” и крепкий сон на солнце не годились для них. Не придумав ничего другого, я сказал, что приезд мистера Фрэнклина с ранним поездом надо единственно приписать одной из его причуд. Когда меня спросили, неужели отъезд его верхом был также причудой, я ответил: “Да, точно так”, и отделался, кажется, очень ловко.
Преодолев затруднения с дамами, я нашел еще больше затруднений, ожидавших меня, когда вернулся в свою комнату. Пришла Пенелопа — с природной женской кротостью — поцеловать меня и — с природным женским любопытством — задать новый вопрос. На этот раз она только пожелала узнать, что случилось с нашей второй служанкой, Розанной Спирман.
Оставив мистера Фрэнклина и меня на Зыбучих песках, Розанна, как оказалось, воротилась домой в самом непонятном расположении духа. Она менялась в лице (если верить Пенелопе), как цвета радуги. Она была то весела, то грустна без всякой причины. Не переводя духа, она задала сотню вопросов о мистере Фрэнклине Блэке и тотчас же рассердилась на Пенелопу за то, что та предположила, будто посторонний джентльмен смог заинтересовать ее. Заметили, как она, улыбаясь, чертила имя мистера Фрэнклина на дне своего рабочего ящика. Застали ее в слезах, смотрящей в зеркало на свое уродливое плечо. Знала ли она прежде мистера Фрэнклина? Совершенно невозможно! Не слыхали ли они чего-нибудь друг о друге? Опять невозможно!
Я мог засвидетельствовать, что удивление мистера Фрэнклина было искренно, когда он увидел, как девушка смотрит на него. Пенелопа могла засвидетельствовать, что любопытство девушки было искренно, когда она расспрашивала о мистере Фрэнклине. Разговор наш был довольно скучен до тех пор, пока дочь моя вдруг не высказала самое нелепое предположение, какое я когда-либо слышал в своей жизни.
— Батюшка, — сказала Пенелопа совершенно серьезно, — остается только одно объяснение: Розанна влюбилась в мистера Фрэнклина Блэка с первого взгляда.
Вы слышали о прелестных молодых девицах, влюблявшихся с первого взгляда, и находили это весьма естественным. Но чтобы горничная из исправительного дома, дурная собой и с уродливым плечом, влюбилась с первого взгляда в джентльмена, приехавшего в гости к ее госпоже?! Найдите мне что-нибудь, подобное этой нелепости в любом романе, если можете. Я хохотал до слез. Пенелопа рассердилась на меня за мою веселость.
— Я прежде не замечала, чтобы вы были жестоки, батюшка, — сказала она очень кротко и ушла.
Слова моей девочки точно обдали меня холодной водой. Я взбесился на себя за то, что разволновался, когда она проговорила их, — но это было именно так. Мы переменим предмет рассказа, если вы позволите. Мне жаль, что я вынужден был написать об этом, — и не без причины, как вы увидите дальше.
Настал вечер; звонок, возвещавший, что пора одеваться к обеду, раздался прежде, чем мистер Фрэнклин возвратился из Фризинголла. Я сам отнес горячую воду к нему в комнату, ожидая услышать после этого необыкновенно продолжительного отсутствия о каком-нибудь приключении. Но, к моему великому разочарованию (вероятно, и к вашему), не случилось ничего. Он не встретился с индусами ни по пути туда, ни на обратном пути. Он отдал Лунный камень в банк, сказав просто, что это камень очень дорогой, и привез расписку в кармане. Я сошел вниз, чувствуя, что после всех наших утренних тревог об алмазе конец этот слишком обыден.
Как произошло свидание мистера Фрэнклина с теткой и кузиной, не знаю.
Я дал бы многое, чтобы служить за столом в этот день. Но при моем положении в доме служить за обедом (исключая большие семейные празднества) значило бы унизить свое достоинство в глазах других слуг, — миледи и без того считала меня довольно склонным к этому; не к чему было искать еще случая для этого. Известия из “верхних областей” в тот вечер были принесены мне Пенелопой и лакеем. Пенелопа сказала, что мисс Рэчель никогда не занималась так тщательно своей прической и никогда не казалась так весела и хороша. Лакей донес, что сохранение почтительного спокойствия в присутствии высших и прислуживание мистеру Фрэнклину Блэку за обедом — две вещи самые несовместимые, какие только случалось ему встретить при исполнении своих обязанностей. Позднее вечером мы услышали, как они играли и пели дуэты. Мистер Фрэнклин брал высоко, мисс Рэчель еще выше, а миледи на фортепиано, поспевая за ними, как на скачках, так сказать, через канавы и заборы, благополучно помогала им, так что приятно было слышать их в открытые окна на террасе. Еще позднее я отнес мистеру Фрэнклину в курительную комнату содовой воды и виски и увидел, что мисс Рэчель вытеснила алмаз из его головы.
— Самая очаровательная девушка из всех виденных мною, с тех пор как я вернулся в Англию! — Вот все, чего я мог от него добиться, покуда старался навести разговор на более серьезные предметы.
Около полуночи я вместе с моим помощником (Самюэлем, лакеем) обошел, по обыкновению, вокруг дома, чтобы запереть все двери. Когда все двери были заперты, за исключением боковой, отворявшейся на террасу, я отослал Самюэля спать, а сам вышел подышать свежим воздухом, прежде чем пойду спать в свою очередь.
Ночь была тихая и душная, и луна сияла на небе. Так было тихо, что я слышал время от времени очень слабо и глухо шум моря, когда прибой подкатывался к песчаному берегу возле устья нашей маленькой бухты. Дом стоял так, что на террасе было темно; но яркий лунный свет освещал песчаную дорожку, шедшую по другую сторону террасы. Поглядев сперва на море, а потом в ту сторону, я увидел тень человека, отбрасываемую лунным светом из-за угла дома.
Будучи стар и лукав, я не вскрикнул; но так как я также, к несчастью, стар и тяжел, ноги изменили мне на песке. Прежде чем я успел тихонько пробраться за угол, как намеревался, я услышал топот ног полегче моих — и, как мне показалось, не одной пары, — торопливо удалявшихся. Когда я дошел до угла, беглецы, кто бы они там ни были, исчезли в кустарнике по другую сторону дорожки и скрылись из глаз между густыми деревьями и кустами в той части парка. Из кустарника они могли легко пробраться через наш забор на дорогу. Будь я сорока годами моложе, я, быть может, и успел бы поймать их прежде, чем они убегут из нашего парка. Теперь же я возвратился, чтобы послать пару ног помоложе моих. Не потревожив никого, Самюэль и я взяли ружья, обошли вокруг дома и обшарили кустарники. Удостоверившись, что в наших владениях никто не прятался, мы вернулись. Пройдя через дорожку, где я видел тень, я в первый раз приметил светлую вещицу, лежавшую на песке, освещенную луной. Подняв эту вещицу, я увидел, что это была скляночка с густой, приятного запаха, жидкостью, черной, как чернила.
Я ничего не сказал Самюэлю. Но вспомнив, что Пенелопа говорила мне о фокусниках и о том, как они наливали чернила на ладонь мальчика, я тотчас догадался, что спугнул трех индусов, шатавшихся около дома и старавшихся своим языческим способом разузнать в эту ночь об алмазе.
Глава VIII
Здесь на мгновение сделаем остановку.
Призвав на помощь свои воспоминания и дневник Пенелопы, я вижу, что мы можем быстро пройти промежуток между приездом мистера Фрэнклина Блэка и днем рождения мисс Рэчель. Большая часть этого времени прошла, не принеся с собой ничего, достойного упоминания. С вашего позволения и с помощью Пенелопы я упомяну здесь только о некоторых событиях, чтобы потом продолжать рассказывать историю день за днем, как только мы дойдем до того времени, когда Лунный камень сделался в нашем доме предметом всеобщего внимания.
Начну со скляночки приятно пахнущих чернил, которую я нашел на песчаной дорожке ночью.
На следующее утро (двадцать шестого числа) я показал мистеру Фрэнклину эту колдовскую штуку и сообщил ему то, что уже рассказал вам. Он решил, что индусы не только следили за алмазом, но имели глупость верить в свое колдовство, — он подразумевал под этим знаки над головою мальчика, наливание чернил на его ладонь и надежду, что ребенок увидит людей и предметы, недоступные для человеческого зрения. Мистер Фрэнклин сказал мне, что и у нас, так же как на Востоке, есть люди, занимающиеся этими странными фокусами (однако без чернил) и называющие их французским именем, чем-то вроде “ясновидения”.
— Поверьте, — сказал мистер Фрэнклин, — индусы убеждены, что мы оставили алмаз здесь, и привезли с собою своего ясновидящего мальчика, чтобы он показал им дорогу к нему, как только они заберутся в дом.
— Вы полагаете, сэр, что они повторят свою попытку? — спросил я.
— Это зависит от того, что именно мальчик может сказать. Если он способен увидеть алмаз в железном сундуке фризинголлского банка, индусы до поры до времени не будут тревожить нас своими посещениями. Если он этого не сможет, у нас еще будет случай спугнуть их в кустарнике, прежде чем пройдет несколько ночей.
Я ожидал, что именно так и будет, но странное дело — случай этот действительно больше не повторился.
Услышали ли фокусники в городе, что мистера Фрэнклина видели в банке, и вывели из этого свое заключение, или мальчик действительно увидел алмаз там, где он теперь находился (чему я решительно не верю), или это было простым совпадением, только ни тени индуса не показалось возле нашего дома в те недели, которые прошли до рождения мисс Рэчель. Фокусники оставались в городе и в окрестностях, занимаясь своим ремеслом, а мистер Фрэнклин и я ждали, что будет, решив не тревожить мошенников слишком рано, выказывая им свои подозрения. Этим отчетом о поступках обеих сторон и кончается все, что я могу пока сказать об индусах.
С двадцать девятого числа мисс Рэчель и мистер Фрэнклин придумали новый способ проводить время, которое иначе им некуда было бы девать. Есть причины обратить особенное внимание на занятие, которое их увлекло, так как оно имеет отношение к случившемуся позже.
Вообще говоря, господа имеют в жизни весьма неудобный подводный камень — свою собственную праздность. Жизнь их по большей части проходит в изыскивании какого-нибудь занятия; и любопытно видеть — особенно, если у них есть вкус к чему-нибудь умственному, — как часто они слепо набрасываются на предмет прямо-таки отвратительный. В девяти случаях из десяти они принимаются или мучить кого-нибудь, или портить что-нибудь, и при этом твердо убеждены, что образовывают свой ум, тогда как, попросту сказать, они только поднимают кутерьму в доме. Я видел (с сожалением должен сказать), что и дамы, точно так же как мужчины, разгуливают изо дня в день, например, с пустыми коробочками от пилюль и ловят ящериц, жуков, пауков и лягушек, а возвращаясь домой, втыкают в несчастных булавки или режут их без малейшего угрызения совести на куски. Вы видите, как ваш барин или барыня разглядывают внутренность паука в увеличительное стекло, или вам попадается на лестнице лягушка без головы; а когда вы удивляетесь, что означает эта отвратительная жестокость, вам говорят, что молодой барин или молодая барышня имеют наклонность к естественным наукам. Иногда же опять-таки вы замечаете, как они по целым часам, из нелепого любопытства, портят прекрасные цветы острым инструментом, стараясь узнать, из чего они сделаны. Разве цвет их сделается красивее или запах приятнее оттого, что вы это узнаете? Да ведь нужно же бедняжкам провести время — видите ли — нужно же провести время! Вы пачкались в грязи и лепили из нее пирожки, когда были ребенком, а когда выросли — пачкаетесь в науках, режете пауков и портите цветы. В обоих случаях весь секрет заключается в том, что вашей бедной праздной голове не о чем думать, а вашим бедным праздным ручкам нечего делать. Тем и кончится, что вы начнете портить красками полотно да навоняете ими на весь дом; или разведете в стеклянном ящике с грязной водой головастиков, от которых всех в доме тошнит; или станете откалывать и собирать там и сям кусочки камней, посыпая ими домашнюю провизию; если займетесь фотографией, пачкая себе пальцы и беспощадно искажая физиономию всех и каждого в доме. Конечно, тяжело приходится людям, которые должны доставать себе приют, пищу и одежду, чтобы прикрыться. Но сравните самый тяжелый труд, которым вы когда-либо занимались, с тою праздностью, которая заставляет вас портить цветы и перевертывать желудки пауков, и благодарите свою счастливую звезду, что ваша голова должна о чем-нибудь думать, а ваши руки должны что-нибудь делать.
С удовольствием скажу, что мистер Фрэнклин и мисс Рэчель не мучили никого. Они ограничились тем, что наделали кутерьмы и, надо отдать им справедливость, испортили только одну дверь.
Мистер Фрэнклин, этот универсальный гений, пачкавшийся во всем, допачкался до так называемой “декоративной живописи”. Он сообщил нам, что изобрел новый состав для разведения краски; как он изготовлялся, я не знаю. А чем отличался этот состав, я могу сказать вам в двух словах: он вонял. Так как мисс Рэчель непременно хотела испробовать этот новый состав, мистер Фрэнклин послал в Лондон за материалами и приготовил состав с таким букетом, что даже собаки чихали, когда входили в комнату; надел на мисс Рэчель передник и косыночку и заставил ее расписывать свою собственную маленькую гостиную, называемую, за неимением английского слова, “будуаром”. Начали с внутренней стороны двери. Мистер Фрэнклин счистил с нее всю прекрасную лакировку пемзой и сделал то, что он называл “поверхностью для работы”. Потом мисс Рэчель покрыла эту поверхность, по его указанию и с его помощью, узорами и фигурами — грифами, птицами, цветами, купидонами и тому подобным, с рисунков, сделанных знаменитым итальянским живописцем, имени которого я не припомню, — того самого, что поразил мир девой Марией и взял любовницу из булочной. Работа эта была самая хлопотливая и прегрязная. Но наша барышня и молодой джентльмен, казалось, не уставали заниматься ею. Когда они не ездили верхом, не принимали гостей, не сидели за столом, не пели, они рядышком, трудолюбиво, как пчелы, портили дверь. Какой это поэт сказал, что сатана всегда придумает какой-нибудь вред даже и для праздных рук? Если бы он занимал место дворецкого миледи и видел мисс Рэчель с кистью, а мистера Фрэнклина с его составом, он не мог бы написать о них ничего правдивее, нежели это.
Следующий день, о котором стоит упомянуть, было воскресенье, четвертое июня.
В этот вечер мы в людской первый раз обсудили домашний вопрос, который, так же как и расписывание двери, имеет отношение к тому, что еще предстоит.
Видя, какое удовольствие мистер Фрэнклин и мисс Рэчель находят в обществе друг друга и какая это была бы прекрасная парочка во всех отношениях, мы, весьма естественно, предположили, что они займутся чем-нибудь другим, кроме расписывания двери; некоторые из нас говорили, что еще не минует и лето, как в доме будет свадьба. Другие (во главе со много) соглашались, что, весьма вероятно, мисс Рэчель выйдет замуж; но сомневались (по причинам, которые сейчас будут изложены), что мистер Фрэнклин Блэк будет ее женихом.
А в том, что мистер Фрэнклин был влюблен, никто из наблюдавших его не сомневался. Затруднение состояло в том, чтобы понять мисс Рэчель.
Позвольте мне иметь честь познакомить вас с нею; после этого я предоставлю вам самим разгадать ее, — если вы сможете.
Двадцать первого июня наступал восемнадцатый год рождения нашей молодой барышни. Если вам нравятся брюнетки (как я слышал, в последнее время они вышли из моды в большом свете) и если вы не имеете особенного предрассудка насчет роста, я скажу, что вы никогда не видели такой хорошенькой девушки, как мисс Рэчель. Она была мала и гибка, но бесподобно сложена с головы до ног. Глядя, как она сидит, как стоит и, особенно, как ходит, всякий человек в здравом уме удостоверился бы, что грация ее фигуры (если вы простите мне это выражение) заключается в ее сложении, а не в платье. Я никогда ни у кого не видел таких черных волос, как у нее. Глаза под стать волосам; нос, должен сознаться, довольно мал. Рот и подбородок (говоря словами мистера Фрэнклина) — лакомые кусочки для богов, а цвет ее лица (по тому же неопровержимому свидетельству) был такой же теплый, как солнце, с тем великим преимуществом, что на него было всегда приятно смотреть.
Прибавьте ко всему сказанному, что она держала голову прямо, как стрела, надменно, повелительно, аристократично, что она имела чистый голос, звучный, как металл, улыбку, которая очень мило возникала в глазах, прежде чем ей появиться на губах, — и вот вам ее портрет во весь рост, — я нарисовал его, как умел.
А каков был ее характер? Неужели у этого очаровательного создания не было недостатков? У нее было ровно столько же недостатков, сколько и у вас, сударыня, — ни более, ни менее.
Говоря серьезно, моя милая, хорошенькая мисс Рэчель, обладая бездною прелестей и очарования, имела один недостаток, и строгое беспристрастие принуждает меня это признать. Она отличалась от многих других девушек тем, что у нее были свои собственные идеи и она была так своеобразна, что даже шла наперекор модам, если моды шли вразрез с ее вкусом. В безделицах эта независимость была еще сносной, но в делах важных она заходила (как думали миледи и я) слишком далеко. Она рассуждала так, как рассуждают немногие женщины вдвое ее старше, никогда не спрашивала совета, никогда не говорила заранее, что она намерена делать, никогда не поверяла секретов никому, даже матери. В малых и больших вещах, с людьми, которых она любила, и с людьми, которых она ненавидела (и то и другое с равной энергией), мисс Рэчель всегда поступала по-своему, полагаясь только на себя и в радостях и в горестях своей жизни. Часто я слышал от миледи:
— Лучший друг и злейший враг Рэчель — она сама.
Прибавлю к этому еще одно и на том закончу.
При всей ее скрытности, при всем ее своеволии в ней не было и тени фальши. Я не помню, чтобы она когда-нибудь сказала “нет”, думая “да”. Я припоминаю, что в детстве не раз эта добрая душа принимала на себя вину и подвергалась наказанию за какой-нибудь проступок любимой подруги; никто никогда не слыхал от нее признания, когда это обнаруживалось и ее допрашивали. Но никто не слыхал также, чтобы она солгала. Она глядела вам прямо в лицо, качая своей упрямой головкой, и говорила просто:
— Не скажу.
Снова наказанная за это, она сознавалась, что жалеет, зачем сказала “не скажу”, но, несмотря на то, что ее сажали на хлеб и воду, все-таки не говорила. Своевольна, чертовски своевольна иногда, — я согласен с этим; но тем не менее это было самое прелестное создание, когда-либо родившееся на свет. Может быть, вы найдете тут некоторое противоречие. В таком случае позвольте шепнуть вам словечко на ушко. Изучайте повнимательнее вашу жену в продолжении двадцати четырех часов. Если ваша добрая супруга не выкажет за это время какого-нибудь противоречия, помоги вам бог! — вы женились на чудовище.
Теперь я познакомил вас с мисс Рэчель, и это ставит нас лицом к лицу с вопросом о видах этой молодой девицы на замужество.
Двенадцатого нюня госпожа моя послала приглашение одному джентльмену в Лондон приехать на день рождения мисс Рэчель. Этому-то счастливому смертному, как я полагал, было отдано ее сердце. Как и мистер Фрэнклин, он был ее кузен. Звали его мистер Годфри Эбльуайт.
Вторая сестра миледи (не пугайтесь, мы не станем на этот раз слишком глубоко вдаваться в семейные дела) — вторая сестра миледи, говорю я, испытала разочарование в любви, а потом, лишь бы только выйти замуж, отважилась на то, что называется “неравным браком”. Страшно взбаламутилась вся семья, когда высокородная Каролина непременно захотела быть женою мистера Эбльуайта, фризинголлского банкира. Он был очень богат и очень добр и произвел на свет огромную семью, — все это пока говорит в его пользу. Но он вздумал занять высокое положение, — и это говорит против него. Однако время и прогресс современного просвещения поправили дело, и неравный брак обошелся благополучно. Мы теперь все либералы (только бы вы не могли оцарапать меня, если я оцарапаю вас), — какое мне дело, в парламенте вы или нет, мусорщик вы или герцог? Это современный взгляд. А я держусь современного взгляда. Эбльуайты жили в прекрасном доме с большим парком, в некотором расстоянии от Фризинголла. Очень достойные люди, весьма уважаемые во всех окрестностях. Мы не будем уделять им слишком много внимания на этих страницах, исключая мистера Годфри, второго сына мистера Эбльуайта, который займет здесь важное место, с вашего позволения, так как он имеет отношение к мисс Рэчель.
При всем блеске, уме и вообще хороших качествах мистер Фрэнклин едва ли мог, по моему мнению, затмить мистера Годфри в глазах нашей молодой барышни.
Во-первых, мистер Годфри ростом был гораздо выше. Он был выше шести футов, цвет лица имел прекрасный, белый, румяный, лицо гладкое и круглое, чисто выбритое, на голове прекрасные длинные льняные волосы, небрежно откинутые на затылок. Но зачем мне стараться описывать его? Если вы когда-нибудь состояли в комитете дамской благотворительности в Лондоне, вы знаете мистера Годфри Эбльуайта так же хорошо, как и я. Он был адвокат по профессии, дамский угодник по темпераменту и милосердный самаритянин по собственному выбору. Ни женщины-благотворительницы, ни нищие женщины не могли без него обойтись. В материнских обществах помощи бедным роженицам, в обществах св. Магдалины для спасения падших женщин, в объединениях ригористов для помещения на работу бедных женщин вместо бедных мужчин, предоставляющих мужчинам пробиваться, как они сами знают, — он был вице-президентом, директором, членом. Где только дамский комитет, там и мистер Годфри с шляпой в руке сдерживает горячность собрания и ведет милых дам по тернистому деловому пути. Я полагаю, что это был самый совершенный филантроп (с небольшим состоянием), когда-либо рождавшийся в Англии. На благотворительных митингах не легко было найти оратора, равного ему по умению выжимать слезы и деньги. Это был закопченный общественный деятель.
В последний раз, когда я был в Лондоне, госпожа моя доставила мне два удовольствия. Она послала меня в театр посмотреть танцовщицу, которая всех сводила с ума, и в Экстер-Холл послушать мистера Годфри. Танцовщица выступала с оркестром. Джентльмен выступал с носовым платком и со стаканом воды. На представлении ногами — давка, на представлении языком — тоже. И при всем том — самый кроткий невзыскательный человек, какого только случалось вам встретить. Он любил всех. И все любили его. Какие шансы имел мистер Фрэнклин, какие шансы имел кто-либо с обыкновенной репутацией и обыкновенными способностями рядом с таким человеком?
Четырнадцатого числа был получен ответ от мистера Годфри.
Он принял приглашение моей госпожи со среды (дня рождения) до вечера пятницы, — когда обязанности по комитету дамской благотворительности заставят его воротиться в город. Он вложил в письмо стихи на то, что он изящно называл “днем рождества” своей кузины. Мне сообщили, что мисс Рэчель, присоединившись к мистеру Фрэнклину, трунила над этими стихами за обедом, и Пенелопа, которая была на стороне мистера Фрэнклина, спросила меня с торжеством, что я насчет этого думаю.
— Мисс Рэчель навела тебя, душа моя, на фальшивый след, — ответил я, — твое чутье не разберет его, а мой нос обмануть нелегко. Подожди, пока вслед за стихами мистера Эбльуайта появится сам мистер Эбльуайт.
Дочь моя ответила, что мистер Фрэнклин может попытать счастья прежде, чем поэт явится вслед за стихами. Должен сознаться, что действительно мистер Фрэнклин не оставил ни одной неиспользованной возможности, чтобы заслужить благосклонность мисс Рэчель.
Хотя он был одним из самых закоренелых курильщиков, которых только случалось мне встречать, он тотчас бросил сигары, когда она сказала как-то, что терпеть не может запах табака, пропитавшего его платья. Он спал так дурно после решения ограничить себя в курении и, лишившись успокоительного действия табака, к которому привык, приходил каждое утро с таким расстроенным и изнуренным видом, что сама мисс Рэчель попросила его опять приняться за сигары. Но нет! Он не пожелал снова вернуться к тому, что может возбудить в ней хотя бы минутное неудовольствие; он будет решительно бороться со своей привычкой и возвратит себе сон рано или поздно, одною лишь силой воли и терпенья. Вы можете сказать, что такая преданность (как внизу в людской и поговаривали) не могла не оказать на мисс Рэчель надлежащего действия, — преданность, к тому же поддерживаемая ежедневным расписыванием двери. Все это очень хорошо, но у нее в спальне висела фотографическая карточка мистера Годфри, изображавшая его говорящим на благотворительном митинге, с лицом, воспламененным собственным красноречием, и с глазами, самым восхитительным образом выманивавшими деньги из вашего кармана. Что скажете вы на это? Каждое утро, — сама Пенелопа признавалась мне, — изображение мужчины смотрело, как причесывали волосы мисс Рэчель. Он сам скоро будет смотреть на это в действительности, — таково было мое мнение.
Шестнадцатого июня случилось происшествие, понизившее более прежнего шансы мистера Фрэнклина на успех.
Незнакомый господин, говоривший по-английски с иностранным акцентом, приехал к нам в дом в это утро и пожелал увидеть мистера Фрэнклина по делу. Дело это не могло относиться к алмазу по следующим двум причинам: во-первых, мистер Фрэнклин ничего не сказал мне об этом; во-вторых, он сообщил о нем (после отъезда иностранца) миледи. Вероятно, она намекнула об этом и дочери. Как бы то ни было, рассказывали, что в тот вечер за игрой на фортепиано мисс Рэчель делала строгие замечания мистеру Фрэнклину по поводу людей, с которыми он общался, и правил, которые он усвоил за границей. На следующий день в первый раз не расписывали дверь. Я подозреваю, что какой-нибудь неосторожный поступок мистера Фрэнклина на континенте (в отношении женщины или денежного долга) повлек за собой неприятности в Англии. Но все это одни догадки. В данном случае не только мистер Фрэнклин, но и миледи оставили меня в неведении.
Семнадцатого числа туча, по всей видимости, опять рассеялась. Они вернулись к работе над дверью, и казались такими же добрыми друзьями, как и прежде. Если верить Пенелопе, мистер Фрэнклин воспользовался примирением, чтобы сделать предложение мисс Рэчель, и не получил ни согласия, ни отказа. Моя дочь была уверена (по некоторым признакам и приметам, которыми я нахожу излишним вам надоедать), что ее барышня уклонилась от предложения мистера Фрэнклина, отказавшись верить его серьезности, а потом втайне пожалела, что обошлась с ним таким образом.
Хотя Пенелопа была допущена к большей близости со своей молодой барышней, чем обычно допускаются горничные, потому что они с детства почти воспитывались вместе, — а все-таки я слишком хорошо знал сдержанный характер мисс Рэчель, для того чтобы поверить в такую откровенность с ее стороны. То, что моя дочь сказала мне в данном случае, было, как я подозревал, скорее ее желанием, нежели слышанным в действительности.
Девятнадцатого числа случилось новое происшествие. К нам приезжал доктор. Его приглашали прописать лекарство одной особе, которую я уже имел случай представить вам на этих страницах, — нашей второй служанке, Розанне Спирман.
Эта бедная девушка, приведшая меня в недоумение на Зыбучих песках, не раз еще удивляла меня в течение того времени, о котором я пишу. Мнение Пенелопы, что ее подруга влюблена в мистера Фрэнклина (это моя дочь по моему приказанию держала в строгой тайне), казалось мне по-прежнему нелепым. Но должен признаться, поведение нашей второй служанки сделалось прямо таинственным, чтобы не сказать более.
Девушка, например, постоянно попадалась навстречу мистеру Фрэнклину, — очень хитро и тихо, но попадалась. Он обращал на нее внимания не более, чем на кошку: ему и в голову не приходило хоть раз взглянуть на некрасивое лицо Розанны. Аппетит бедняжки, и без того небольшой, совсем пропал, а глаза утром выказывали явные признаки бессонницы и слез. Однажды Пенелопа сделала щекотливого свойства открытие, о котором мы никому не сказали: она застала Розанну у туалетного стола мистера Фрэнклина, когда та украдкой вынимала розу, которую мисс Рэчель дала ему носить в петлице, и на ее место ставила точно такую же розу, но сорванную ею самой. После этого она раза два дерзко ответила мне на мой доброжелательный совет вести себя осторожнее, и, что еще хуже, она была не слишком почтительна в тех немногих случаях, когда мисс Рэчель случайно заговаривала с нею.
Миледи приметила эту перемену и спросила меня, что я думаю об этом. Я старался выгородить девушку, ответив, что, по моему мнению, она не совсем здорова, и кончилось тем, что послали за доктором, как упомянуто выше, девятнадцатого числа. Он сказал, что у нее расстроены нервы, и сомневался, годится ли она для услуг. Миледи предложила отправить ее для перемены воздуха в одну из наших отдаленных ферм. Розанна просила и умоляла со слезами на глазах, чтобы ей позволили остаться, и в недобрый час я посоветовал миледи испытать ее еще некоторое время. Как показали события и как вы скоро увидите, я не мог дать худшего совета. Если бы можно было заглянуть в будущее, я собственной рукой вывел бы Розанну Спирман из нашего дома.
Двадцатого числа была получена записка от мистера Годфри. Он предполагал заночевать во Фризинголле, имея надобность посоветоваться с отцом об одном деле. На следующий день, после полудня, он и две его старшие сестры должны были приехать к нам верхом, задолго до обеда. С запиской была прислана нарядная шкатулка из китайского фарфора в подарок мисс Рэчель, с любовью и пожеланиями всего наилучшего от ее кузена. Мистер Фрэнклин подарил ей простой медальон, стоивший вдвое дешевле шкатулки. И все-таки дочь моя Пенелопа — уж таково упрямство женщин — предсказывала ему успех.
Слава богу, мы дошли наконец до кануна дня рождения. Сознайтесь, что на этот раз я вел вас, не слишком мешкая по пути. И развеселитесь, я порадую вас новой главой, которая введет вас прямо в самую суть истории.
Глава IX
Двадцать первого июня, в день рождения, погода с утра была пасмурная и переменчивая, но к полудню совершенно прояснилась.
Мы, слуги, начали этот счастливый день, по обыкновению, с поднесения маленьких подарков мисс Рэчель, а я произнес речь, которую произношу ежегодно, как глава слуг. Я следую в этом методу, принятому королевой при открытии парламента, — то есть говорю каждый год почти одно и то же. Мою речь (так же, как и речь королевы) до ее произнесения ждут с нетерпением, как нечто такое, подобного чему не слыхивали прежде. Когда же она оказывается вовсе не новою, слушатели, хоть и ворчат немножко, но надеются услышать что-нибудь поновее в будущем году. Легко управлять и в парламенте и на кухне, — вот что следует из этого заключить.
После завтрака мистер Фрэнклин имел со мною тайное совещание о Лунном камне: пора было вынуть его из фризинголлского банка и отдать в собственные руки мисс Рэчель.
Пытался ли он опять объясниться в любви своей кузине и получил отказ, или продолжительная бессонница увеличила странные противоречия и нерешительность его характера — я не знаю. Но только мистер Фрэнклин выказал себя весьма невыгодно утром в день рождения. Он двадцать раз менял свои намерения касательно алмаза. Я со своей стороны придерживался простых фактов, нам известных. Не случилось ничего такого, что дало бы нам повод тревожить миледи по поводу алмаза и не из-за чего было отменять законное обязательство, по которому мистер Фрэнклин должен был передать алмаз своей кузине. Таков был мой взгляд на дело, и хотя мистер Фрэнклин много раз менял свое решение, он принужден был наконец согласиться со мной. Мы решили, что он поедет верхом, после ленча, во Фризинголл и привезет алмаз и, но всей вероятности, мистера Годфри в обществе двух молодых девиц, его сестер.
Приняв такое решение, наш молодой джентльмен опять отправился к мисс Рэчель.
Они провели все утро за раскрашиванием двери. Пенелопа, стоя рядом, размешивала краски по их указанию, а миледи, перед ленчем, то входила в комнату, то выходила, приложив к носу платок (они злоупотребляли в этот день составом мистера Фрэнклина), и напрасно старалась оторвать художников от работы. Не ранее трех часов сняли они передники и отпустили Пенелопу (которая больше всех пострадала от состава) и смыли с себя всю эту пачкотню. Но они добились, чего хотели, — закончили дверь ко дню рождения и очень гордились своей работой. Грифы, купидоны и все прочее было, должен признаться, очень красиво на глаз, но их было так много, они были так перепутаны цветами и девизами, а позы их представлены так ненатурально, что купидоны эти пренеприятно врезались вам в память на много часов после того, как вы имели удовольствие посмотреть на них. Если я прибавлю, что по окончании утренней работы Пенелопу стошнило в черной кухне, то говорю это не из предубеждения против состава. Нет! Нет! Он перестал вонять, как только высох, а если искусство требует подобных жертв, то, хотя Пенелопа родная дочь мне, — я скажу: пусть искусство получит эту жертву.
Мистер Фрэнклин закусил наскоро за ленчем и поехал во Фризинголл — привезти своих кузин (как он сказал миледи); доставить Лунный камень (как было известно только ему и мне).
Так как это был один из тех торжественных дней, когда я должен был занять место у буфета и распоряжаться во время обеда, то в отсутствие мистера Фрэнклина у меня было чем занять свои мысли. Приготовив вино и сделав смотр мужской и женской прислуге, которая должна была служить за обедом, я ушел к себе собраться с мыслями, прежде чем приедут гости.
Затянувшись — вы знаете чем — и заглянув — вы знаете, в какую книгу, о которой я уже имел случай упоминать на этих страницах, я успокоился и душевно и телесно. Меня пробудил — не от дремоты, а от задумчивости — топот копыт, и я пошел встречать кавалькаду, состоявшую из мистера Фрэнклина, его кузена и двух кузин, сопровождаемых грумом старого мистера Эбльуайта.
Мистер Годфри весьма поразил меня тем, что был похож на мистера Фрэнклина в одном отношении, — он казался не в духе. Он, по обыкновению, ласково пожал мне руку и вежливо выразил удовольствие, видя своего старого друга Беттереджа в столь добром здоровье. Но он был как-то сумрачен, чего я ничем не мог объяснить, и когда я спросил о здоровье его отца, ответил довольно коротко:
— Как всегда, Беттередж!
Зато обе мисс Эбльуайт были веселы за десятерых, и это вполне восстановило равновесие. Они были почти так же высоки, как их брат, рослые, желтоволосые, румяные девицы, с избытком крови и мяса; здоровьем и веселостью так и пышет от них. Бедные лошади прямо подгибались под ними, и когда они соскочили с седел, не дожидаясь помощи, то, уверяю вас, подпрыгнули на земле, словно резиновые мячи. Все, что говорят мисс Эбльуайт, начинается с большой буквы “О”, все, что они делают, сопровождается шумом; они хихикали и кричали кстати и некстати при малейшем поводе. “Тараторки” — вот как я их прозвал.
Воспользовавшись шумом, производимым этими молодыми девицами, я тайком обменялся словцом—другим с мистером Фрэнклином в передней.
— Благополучно привезли алмаз, сэр?
Он кивнул головой и ударил по нагрудному карману своего сюртука.
— Видели индусов?
— Ни одного.
Дав этот ответ, он спросил о миледи и, услышав, что она в маленькой гостиной, направился прямо туда. Он не пробыл там и минуты, как раздался звонок, и Пенелопа доложила мисс Рэчель, что мистер Фрэнклин Блэк желает поговорить с нею.
Проходя через переднюю спустя полчаса после этого, я вдруг остановился как вкопанный, услышавши взрыв восклицаний из маленькой гостиной. Не могу сказать, чтобы я испугался, — в этих возгласах мне послышалось любимое “О” обеих мисс Эбльуайт. Однако я вошел (под предлогом спросить распоряжений об обеде), чтобы узнать, не случилось ли чего-нибудь серьезного.
Там, у стола, стояла, как очарованная, мисс Рэчель, с злополучным алмазом полковника в руках. Там, справа и слева от нее, стояли на коленях тараторки, пожирая глазами драгоценный камень и вскрикивая от восторга всякий раз, как он излучал новый блеск. Там, у противоположного конца стола, стоял мистер Годфри, он всплескивал руками, как взрослый ребенок, и тихо произносил своим певучим голосом:
— Бесподобен! Бесподобен!
Мистер Фрэнклин сидел перед футляром, дергая себя за бороду, и тревожно поглядывал в сторону окна. А у окна, куда он смотрел, повернувшись спиною ко всему обществу, сидел предмет его особого внимания — миледи, державшая в руке выписку из завещания полковника.
Она обернулась, когда я спросил у нее о распоряжениях к обеду, и я увидел фамильную складку у нее на лбу, и фамильный темперамент проглянул в уголках ее рта.
— Зайдите через полчаса ко мне в комнату, — ответила она. — Я должна кое-что вам сказать.
С этими словами она вышла из гостиной. Было ясно, что ею овладели те же сомнения, какие охватили мистера Фрэнклина и меня во время нашего совещания на Зыбучих песках. Что означало завещание Лунного камня? То ли, что она жестоко и несправедливо обошлась со своим братом? Или же брат ее был еще хуже, чем она думала о нем? Серьезный вопрос должна была решить миледи, между тем как ее дочь, ничего не зная о характере полковника, стояла с его подарком в руках.
Прежде чем я успел, в свою очередь, выйти из комнаты, мисс Рэчель, всегда внимательная к старому слуге, бывшему в доме со дня ее рождения, остановила меня.
— Посмотрите, Габриэль, — сказала она и поднесла сверкнувший алмаз к солнечному лучу, падавшему из окна.
Господи помилуй! Вот уж поистине алмаз! Величиной с яйцо ржанки! Блеск, струившийся из него, походил на сияние полной луны. Когда вы смотрели на камень, его золотистая глубина притягивала ваши глаза к себе так, что вы не видели ничего другого. Глубина его казалась неизмеримой; этот камень, который вы могли держать между большим и указательным пальцами, казался бездонным, как само небо. Сначала он лежал на солнце; потом мы затворили ставни, и он засиял в темноте своим собственным лунным блеском. Не удивительно, что мисс Рэчель была очарована; не удивительно, что кузины ее то и дело вскрикивали. Алмаз до такой степени обворожил и меня, что я так же громко вскрикнул “О”, как и тараторки. Один мистер Годфри сохранил самообладание. Он обнял за талию своих сестер и, снисходительно посматривая то на алмаз, то на меня, сказал:
— Уголь, Беттередж! Простой уголь, мой добрый друг!
Я полагаю, он сказал это с целью просветить меня. Но он только напомнил мне об обеде. Я заковылял к своей команде вниз. Когда я выходил, мистер Годфри проговорил:
— Милый, старый Беттередж! Я питаю к нему искреннее уважение!
В ту минуту, когда он удостаивал меня этим изъявлением своего расположения, он нежно обнимал своих сестер и нежно поглядывал на мисс Рэчель, вот какой запас любви таился в нем! Мистер Фрэнклин был настоящий дикарь по сравнению с ним.
Через полчаса я явился, как мне было приказано, в комнату миледи.
То, что произошло в этот вечер между моей госпожой и мною, было повторением того, что произошло между мистером Фрэнклином и мною на Зыбучих песках, с тою лишь разницей, что я умолчал о фокусниках, ибо пока ничто не давало мне повода пугать миледи на этот счет. Когда меня отпустили, я не мог не заметить, что миледи смотрела с самой черной стороны на побуждения полковника и что она желала при первом удобном случае отнять у дочери Лунный камень.
Возвращаясь на свою половину, я встретил мистера Фрэнклина. Он пожелал узнать, не видел ли я его кузину Рэчель. Нет, я ее не видел. Не мог ли я сказать ему, где кузен Годфри? Нет, не мог; но я начал подозревать, что кузен Годфри должен быть недалеко от кузины Рэчель. Подозрения мистера Фрэнклина, по-видимому, приняли то же направление. Он сильно дернул себя за бороду и заперся в библиотеке, захлопнув за собою дверь с шумом, который многое обозначал.
Меня уже не отрывали от приготовлений к обеду, пока не настало время принарядиться для приема гостей. Не успел я надеть белый жилет, как явилась Пенелопа, будто бы для того, чтобы причесать те немногие волосы, которые у меня остались на голове, и поправить бант моего галстука.
Девочка моя была очень весела, и я видел, что она хочет что-то сказать мне. Она поцеловала меня в лысину и шепнула:
— Новости, батюшка! Мисс Рэчель отказала ему.
— Кому? — спросил я.
— Члену дамского комитета, — ответила Пенелопа. — Гадкий хитрец! Я ненавижу его за то, что он старается вытеснить мистера Фрэнклина.
Если бы я мог свободно вздохнуть в эту минуту, я, наверное, запротестовал бы против таких неприличных выражений о знаменитом филантропе. Но дочь моя в эту минуту завязывала бант моего галстука, и вся сила ее чувства перешла в ее пальцы. Я никогда в жизни не был так близок к удушению.
— Я видела, как он увел ее в цветник, — болтала Пенелопа, — и спряталась за остролистником, чтобы посмотреть, как они воротятся. Они ушли рука об руку, и оба смеялись. А воротились они врозь, угрюмые, как могила, и глядя в разные стороны, так что ошибиться было нельзя. Я никогда в жизни не была так рада, батюшка! Есть же на свете хоть одна женщина, которая может устоять против мистера Годфри Эбльуайта; а будь я леди, я была бы второю!
Тут я хотел опять запротестовать. Но моя дочь в это время взяла в руки щетку, и вся сила ее пальцев перешла туда. Если вы плешивы, вы поймете, как она меня исцарапала. Если вы не плешивы, пропустите эти строки и благодарите бога, что у вас есть защита между головной щеткой и кожей вашей головы.
— Мистер Годфри остановился по другую сторону остролистника, — продолжала Пенелопа. — “Угодно ли вам, — сказал он, — чтобы я у вас остался, как если бы ничего не произошло?” Мисс Рэчель обернулась к нему быстро, как молния. “Вы приняли приглашение моей матери, — сказала она, — и вы здесь вместе с ее гостями. Если вы не хотите возбудить разговора в доме, разумеется, вы останетесь здесь!” Она сделала несколько шагов, а потом как будто немножко смягчилась. “Забудем, что случилось, Годфри, — сказала она, — и останемся кузенами”. Она подала ему руку, которую он поцеловал, что я сочла бы за вольность, а потом ушла. Он немножко постоял, повесив голову и медленно копая каблуком яму в песке; вот уж никогда в моей жизни не видела я человека более сконфуженного. “Неловко! — сказал он сквозь зубы, подняв глаза и направившись к дому, — очень неловко!” Если это было его мнение о самом себе, то он был совершенно прав. Конечно, довольно неловко. А ведь вышло-то, батюшка, как я вам давно говорила! — вскричала Пенелопа, в последний раз царапнув меня щеткой изо всех сил. — Настоящий-то — это мистер Фрэнклин!
Я завладел щеткой и раскрыл рот, чтобы сделать выговор, которого, сознайтесь, слова и поведение моей дочери вполне заслуживали. Но прежде чем я успел сказать слово, послышался стук колес. Это начали съезжаться гости. Пенелопа тотчас убежала. Я надел фрак и посмотрел на себя в зеркало. Голова моя была красна, как рак, но в других отношениях я был одет для вечерней церемонии так прилично, как полагалось. Я поспел в переднюю как раз вовремя, чтобы доложить о двух первых гостях. Вам нечего ими особенно интересоваться. Это были только отец и мать филантропа — мистер и миссис Эбльуайт.
Глава X
Один за другим гости прибывали вслед за Эбльуайтами, пока не оказались в полном составе. Включая хозяев, всех было двадцать четыре человека.
Прекрасное это было зрелище, когда все уселись за стол и ректор фризинголлский, обладавший превосходным произношением, встал и прочел молитву.
Не буду утомлять вас описанием гостей. Вы не встретите никого из них во второй раз, — по крайней мере, в моей части рассказа, — за исключением двух.
Эти последние сидели по обе стороны мисс Рэчель, которая, как царица праздника, естественно была предметом внимания всего общества. На этот раз она более обыкновенного была центром, к которому обращали свои глаза присутствующие, потому что (к тайному неудовольствию миледи) на груди ее сиял чудный подарок, затмевавший все остальные, — Лунный камень. Он был отдан ей без оправы, но этот универсальный гений, мистер Фрэнклин, успел с помощью своих ловких пальцев и серебряной проволоки пришпилить его, как брошку, к ее белому платью. Разумеется, все восхищались огромной величиной и красотой алмаза. Но только двое сказали кое-что не совсем обыкновенное, — это были два гостя, о которых я упоминал, сидевшие по правую и по левую руку мисс Рэчель.
Гость по левую руку был мистер Канди, наш фризинголлский доктор.
Это был приятный, общительный маленький человек, однако, должен признаться, с одним недостатком; он любил кстати и некстати восхищаться собственными шуточками и довольно опрометчиво вступать в разговор с незнакомыми. В обществе он постоянно делал ошибки и без всякого умысла ссорил других людей между собою. В медицинской практике он держал себя гораздо осторожнее, руководствуясь каким-то инстинктом (но словам его врагов), который оказывался безошибочен там, где более рассудительные доктора делали ошибки. То, что он сказал об алмазе мисс Рэчель, было сказано, по обыкновению, в виде мистификации или шутки. Он умолял ее (в интересах науки) взять алмаз да и сжечь.
— Мы сначала нагреем его, мисс Рэчель, — говорил доктор, — до известного градуса теплоты, потом подвергнем его действию воздуха и мало-помалу испарим алмаз и избавим вас от забот сохранять такой драгоценный камень.
Миледи слушала с таким озабоченным выражением на лице, словно желала, чтобы доктор говорил серьезно и чтобы ему удалось возбудить в мисс Рэчель желание пожертвовать для пользы науки своим подарком.
Другой гость, сидевший по правую руку моей барышни, был знаменитый индийский путешественник, мистер Мертуэт, который, рискуя жизнью, пробрался, переодевшись, туда, где никогда еще не ступала нога ни одного европейца.
Это был длинный, худощавый, смуглый, молчаливый человек, утомленный на вид и с очень твердым, внимательным взглядом. Ходили слухи, что ему надоела будничная жизнь среди людей в наших странах и что он тоскует по диким странам Востока. За исключением того, что он сказал мисс Рэчель по поводу ее алмаза, вряд ли проговорил он и шесть слов или выпил стакан вина за все время обеда. Лунный камень был единственным предметом, заинтересовавшим его до некоторой степени. Слава этого камня, по-видимому, дошла до него давно, когда он странствовал в каких-то опасных местах.
Пристально глядя на него, он молчал так долго, что мисс Рэчель начала конфузиться, и наконец сказал ей со своим обычным хладнокровием:
— Если вы когда-нибудь поедете в Индию, мисс Вериндер, не берите с собою подарка вашего дяди. Индийский алмаз является предметом религиозного культа в Индии. Я знаю один город и один храм в этом городе, где ваша жизнь не продлилась бы и пяти минут, появись вы с этим украшением.
Мисс Рэчель, находясь в безопасности в Англии, с восторгом слушала о той опасности, которая грозила бы ей в Индии. Тараторки были в еще большем восторге, они шумно побросали ножи и вилки и громко закричали:
— О, как интересно!
Миледи задвигалась на своем стуле и переменила разговор.
По мере того как подвигался обед, я примечал мало-помалу, что этот праздник далеко не так удался, как удавались предыдущие.
Припоминая теперь день рождения и то, что случилось позже, я почти готов думать, что проклятый алмаз навел какое-то уныние на все общество. Я потчевал их вином и, будучи привилегированным лицом, следовал вокруг стола за теми кушаньями, которых брали мало, и шептал гостям:
— Пожалуйста, попробуйте, я знаю, что это вам понравится.
В девяти случаях из десяти они пробовали из уважения к старому оригиналу Беттереджу, — так угодно было им именовать меня, — но все напрасно. Разговор не клеился, и мне самому делалось не по себе. А когда кто-нибудь заговаривал, то всегда как-то некстати. К примеру, мистер Канди, доктор, более обыкновенного наговорил неловкостей. Вот вам один образчик, и вы поймете, что я должен был чувствовать, стоя у буфета и всем сердцем желая успеха празднику.
Среди дам, присутствовавших за обедом, была почтенная миссис Тридголл, вдова профессора. Эта добрая дама беспрестанно говорила о своем покойном муже, никогда не сообщая посторонним того, что он уже отошел в лучший мир.
Я полагаю, она была уверена, что каждый мало-мальски образованный англичанин должен это знать. В одну из наступивших заминок в разговоре кто-то упомянул о сухом и довольно неприличном предмете — об анатомии человеческого тела; тотчас же добрая миссис Тридголл завела речь о своем покойном муже, не упоминая, что он умер. Анатомия, по ее словам, была любимым занятием профессора в часы досуга. К несчастью, мистер Канди, сидевший напротив и ничего не знавший о покойном джентльмене, услышал ее.
Будучи чрезвычайно вежлив, он воспользовался этим случаем, чтобы тотчас же предложить профессору свои услуги по части анатомических досугов.
— Недавно в хирургической академии получено несколько замечательных скелетов, — сказал мистер Канди через стол своим громким, веселым голосом, — Я очень советую, сударыня, профессору посмотреть их, когда у него найдется свободный часок.
Стало так тихо, что можно было бы услышать, как падает булавка. Гости (из уважения к памяти профессора) сидели в гробовом молчании. Я в это время стоял за стулом миссис Тридголл, потчуя ее рейнвейном. Она опустила голову и проговорила тихим голосом:
— Мой возлюбленный супруг уже не существует более.
К несчастью, мистер Канди не услыхал ее слов и, нисколько не подозревая истины, продолжал через стол еще громче и вежливее прежнего:
— Может быть, профессору неизвестно, что с карточкой члена академии он может быть там каждый день, кроме воскресенья, от десяти до четырех часов?
Миссис Тридголл уткнула голову в кружевной воротник и повторила еще тише торжественные слова:
— Мой возлюбленный супруг не существует более.
Я мигал мистеру Канди через стол. Мисс Рэчель толкала его под руку.
Миледи бросала на него невыразимые взгляды. Совершенно бесполезно! Он продолжал с добродушием, которого никак нельзя было остановить:
— Я был бы очень рад послать профессору мою карточку, если вы сообщите мне его адрес.
— Его адрес, сэр, могила, — сказала миссис Тридголл, вдруг выйдя из терпения, и заговорила с такой яростью, что рюмки забренчали:
— Профессор скончался десять лет назад.
— О великий боже! — сказал мистер Канди.
Исключая тараторок, которые захохотали, такое уныние распространилось во всем обществе, будто все готовы были убраться вслед за профессором и, подобно ему, взывать из могилы.
Но довольно о мистере Канди. Остальные гости вели себя так же неподобающе, как и доктор. Когда им следовало говорить, они не говорили, а когда заговаривали, то все невпопад. Мистер Годфри, обычно столь красноречивый на трибуне, решительно не желал проявлять себя в частном обществе. Сердит он был или сконфужен после своего поражения в цветнике, я сказать не могу. Он приберег все свое красноречие для ушей сидевшей с ним рядом дамы, члена нашей семьи. Она была участницей его комитета, особой весьма достойной, с прекрасной обнаженной шеей и с большим пристрастием к сухому шампанскому, — она пила его, как вы понимаете, в большом количестве. Я стоял за их спиной возле буфета и могу засвидетельствовать, что общество лишилось очень назидательного разговора, который я слушал, откупоривая бутылки, разрезая баранину и прочее, и прочее. Что именно говорили они о благотворительных делах, я не слышал. Но когда я начал прислушиваться к ним, они уже давно перестали рассуждать о женщинах, разрешающихся от бремени, и о женщинах, спасаемых от бедности, и перешли к более серьезным предметам. Религия (как я понял из их слов, откупоривая бутылки и разрезая мясо) означает любовь. А любовь означает религию. А земля была небом несколько обветшалым. А небо было землею, несколько обновившеюся. На земле жили довольно порочные люди, но зато, искупая это, все женщины будут на небе членами обширного комитета, где никто никогда не ссорится, а мужчины, в виде ангелов-распорядителей, будут исполнять веления женщин. Прелестно! Прелестно! Но почему же мистер Годфри лишил остальное общество такой интересной беседы?
Вы, может быть, думаете, что мистер Фрэнклин постарался расшевелить общество и сделать вечер приятным?
Ничуть не бывало! Он совершенно оправился и был в самом веселом расположении духа; я подозреваю, что Пенелопа сообщила ему, как мистер Годфри был принят в цветнике. Но о чем бы он ни заговаривал, в девяти случаях из десяти он выбирал неловкий предмет или обращался невпопад, и кончилось тем, что одних он оскорбил, других озадачил. Его заграничное воспитание — эти французская, немецкая и итальянская стороны его, о которых я упоминал выше, — обнаружилось самым неблагоприятным образом за гостеприимным столом миледи.
Что вы думаете, например, по поводу его рассуждения о том, как далеко может зайти замужняя женщина в своем расположении к постороннему мужчине?
Все это он с французским остроумием растолковывал незамужней тетке фризинголлского викария! Что вы скажете, когда он, уклонившись в немецкую сторону, объявил одному из землевладельцев, великому авторитету по части скотоводства, говорившему о своей опытности в разведении быков, — что опытность, строго говоря, ничего не стоит и что надлежащий способ разводить быков состоит в том, чтобы углубиться в самого себя, развить идею образцового быка и таким способом произвести его на свет? И наконец, какого вы мнения о следующем его выпаде: когда у депутата нашего графства, ораторствовавшего за сыром и салатом по поводу распространения демократизма в Англии, вырвались следующие слова:
— Если мы лишимся старинной защиты наших прав, мистер Блэк, позвольте вас спросить, что же у нас останется? — мистер Фрэнклин ответил с итальянской точки зрения:
— У нас останутся три вещи, сэр: любовь, музыка и салат!
Мистер Фрэнклин не только перепугал людей подобными выходками, но, когда английская сторона его вышла наконец наружу, он утратил свой заграничный лоск и, перейдя к разговору о медицинской профессии, так поднял на смех всех докторов, что взбесил даже маленького, добродушного мистера Канди.
Спор между ними начался с того, что мистер Фрэнклин принужден был сознаться, — я забыл, по какому поводу, — что в последнее время он страдает бессонницей. Мистер Канди сказал ему на это, что его нервы расстроились и что он немедленно должен начать лечиться. Мистер Фрэнклин ответил, что лечиться и идти ощупью впотьмах — по его мнению, одно и то же. Мистер Канди, отвечая метким ударом, сказал, что сам мистер Фрэнклин ищет сна ощупью впотьмах и только лекарство может помочь ему найти его.
Мистер Фрэнклин, отражая удар, с своей стороны сказал, что он часто слышал, как слепец водит слепца, а теперь в первый раз он узнал, что это значит. Таким образом пререкались они резко и метко, и оба разгорячились; особенно мистер Канди до того вышел из себя, защищая свою профессию, что миледи была принуждена вмешаться и запретила продолжать спор. Этот вынужденный необходимостью приказ окончательно уничтожил веселость гостей.
Разговор начинался еще время от времени то там, то сям минуты на две, но в нем недоставало ни жизни, ни огня. Сатана (или алмаз) вселился в гостей, и все почувствовали облегчение, когда госпожа моя встала и подала дамам сигнал оставить мужчин за вином.
Только что расставил я в ряд графины перед старым мистером Эбльуайтом (который заменял хозяина дома), как на террасе раздались звуки, до такой степени испугавшие меня, что я тотчас же утратил свои светские манеры. Мы переглянулись с мистером Фрэнклином: это был звук индийского барабана. Я готов был поклясться, что фокусники возвратились к нам, узнав о появлении в нашем доме Лунного камня.
Когда они уже обходили угол террасы, я поспешил к ним, чтоб отослать их прочь. Но, к несчастью, две тараторки опередили меня. Они вылетели на террасу, как пара фейерверочных ракет, с нетерпением желая взглянуть на фокусы индусов. Другие дамы последовали за ними, и, наконец, вышли и мужчины. Прежде чем вы успели бы сказать “господи помилуй”, мошенники начали свое представление, а тараторки уже целовали хорошенького мальчика.
Мистер Фрэнклин стал возле мисс Рэчель, а я позади нее. Если наши подозрения были справедливы, она, ни о чем не догадываясь, показала индусам алмаз на своем платье.
Не могу сказать, какие штуки они представляли и как они представляли.
Раздосадованный неудачным обедом и рассерженный на мошенников, подоспевших как раз вовремя, чтобы увидеть алмаз собственными глазами, я, признаюсь, совсем растерялся. Первое, что я помню, это внезапное появление на сцене индийского путешественника мистера Мертуэта. Обойдя полукруг стоявших или сидевших гостей, он спокойно подошел сзади к фокусникам и вдруг заговорил с ними на их родном языке.
Если б он уколол их штыком, я сомневаюсь, испугались ли бы индусы сильнее и повернулись ли бы к нему с такой же быстротою, как сейчас, услыхав первые слова, сорвавшиеся с его губ. Через минуту они уже кланялись ему самым вежливым и раболепным образом. Обменявшись с ними несколькими словами на неизвестном языке, мистер Мертуэт ушел так же спокойно, как пришел. Главный фокусник, исполнявший роль переводчика, опять повернулся к зрителям. Я приметил, что кофейное лицо этого человека сделалось серым, после того как мистер Мертуэт поговорил с ним. Он поклонился миледи и объявил ей, что представление кончилось. Тараторки, чрезвычайно разочарованные, вскричали громко “О”, направленное против мистера Мертуэта за то, что он остановил представление. Главный фокусник униженно приложил руку к груди и во второй раз сказал, что представление кончено. Мальчик стал обходить всех со шляпой. Дамы ушли в гостиную, а мужчины (за исключением мистера Фрэнклина и мистера Мертуэта) возвратились к своему вину. Я с одним из лакеев пошел вслед за индусами, чтоб выпроводить их подальше от нашего дома.
Возвращаясь через кустарник, я почувствовал запах табака и увидел мистера Фрэнклина и мистера Мертуэта (последний курил сигару), медленно ходивших взад и вперед между деревьями. Мистер Фрэнклин сделал мне знак, чтобы я подошел к нему.
— Это, — сказал мистер Фрэнклин, представляя меня знаменитому путешественнику, — Габриэль Беттередж, старый слуга и друг нашего семейства, о котором я сейчас вам говорил. Повторите ему, пожалуйста, все то, что вы сейчас сказали мне.
Мистер Мертуэт вынул сигару изо рта и со своим обычным утомленным видом прислонился к дереву.
— Мистер Беттередж, — начал он, — эти три индуса такие же фокусники, как мы с вами.
Новая неожиданность! Само собой, я спросил у путешественника, не встречался ли он с этими индусами прежде.
— Никогда, — ответил мистер Мертуэт, — но я знаю, что такое индусские фокусы. Все, что вы видели сегодня, это только очень плохое и неловкое подражание им. Если мой большой и долгий опыт не обманывает меня, эти люди — брамины высокой касты. Я сказал им, что они переодеты, и вы видите, как это их смутило, хотя индусы очень искусно умеют скрывать свои чувства. В их поведении есть какая-то тайна, которой я объяснить не могу; они вдвойне погрешили против своей касты, — во-первых, переехав через море, во-вторых, переодевшись фокусниками. В той стране, где они живут, это страшное преступление. Должна быть очень серьезная причина для этого и какое-нибудь не совсем обыкновенное оправдание, чтоб они получили возможность снова быть принятыми в свою касту, когда возвратятся на родину.
Я онемел от изумления. Мистер Мертуэт продолжал курить свою сигару.
Мистер Фрэнклин, маневрируя, как показалось мне, между различными сторонами своего характера, прервал молчание, заговорив в милом итальянском стиле, сквозь который проглядывал прочный английский фундамент.
— Я не решился бы, мистер Мертуэт, беспокоить вас нашими семейными делами, которые не могут вас интересовать и о которых я сам не весьма охотно говорю вне нашего домашнего круга. Но после ваших слов я считаю себя обязанным, в интересах леди Вериндер и ее дочери, рассказать вам о том, что, может быть, даст вам в руки ключ. Я говорю с вами по секрету, и, смею надеяться, вы этого не забудете.
После такого предисловия он передал индийскому путешественнику (перейдя к ясному французскому способу изложения) все, о чем рассказывал мне на Зыбучих песках. Даже бесстрастный Мертуэт до того заинтересовался этим рассказом, что дал потухнуть своей сигаре.
— Что говорит вам обо всем этом ваш опыт? — спросил мистер Фрэнклин в заключение.
— Мой опыт говорит, — ответил путешественник, — что вы были гораздо ближе к смерти, чем бывал я в своей жизни, мистер Блэк, а этим много сказано.
Пришла очередь удивиться самому мистеру Фрэнклину.
— Неужели это так серьезно? — спросил он.
— По моему мнению, да, — ответил мистер Мертуэт. — Я не могу сомневаться, после всего рассказанного вами, что возвращение Лунного камня на его место, на чело индусского идола, есть причина и оправдание того нарушения закона касты, о котором я вам говорил. Эти люди будут ждать удобного случая с терпением кошек и воспользуются им со свирепостью тигра.
Как вы избавились от них, я понять не могу, — прибавил знаменитый путешественник, снова закурив свою сигару и пристально глядя на мистера Фрэнклина. — Вы разъезжали с алмазом взад и вперед здесь и в Лондоне, и вы еще живы! Постараемся это разъяснить. Я полагаю, оба раза вы забирали алмаз из Лондонского банка среди белого дня?
— Да, — ответил мистер Фрэнклин.
— И на улицах тогда было много народа?
— Много.
— Вы, разумеется, назначили время, в какое должны были приехать к леди Вериндер. Отсюда до станции местность уединенная. Вы приехали в назначенный день?
— Нет, я приехал четырьмя часами ранее назначенного срока.
— Позвольте поздравить вас с этим! Когда вы отвезли алмаз назад?
— Я отвез его через час после приезда сюда, и за три часа до того, как меня ожидали здесь видеть.
— Позвольте опять вас поздравить! Вы привезли его обратно один?
— Нет. Я приехал с моим кузеном, кузинами и грумом.
— Позвольте поздравить вас в третий раз! Если когда-нибудь вы вздумаете попутешествовать вне границ цивилизации, мистер Блэк, дайте мне знать, и я поеду с вами. Вы счастливый человек.
Тут я вмешался. Мои английские взгляды не мирились с подобными вещами.
— Неужели вы хотите сказать, сэр, — воскликнул я, — что индусы лишили бы жизни мистера Фрэнклина, чтобы овладеть своим алмазом, если бы он предоставил им эту возможность?
— Вы курите, мистер Беттередж? — спросил путешественник.
— Курю, сэр.
— Очень вы дорожите той золой, которая остается на дне вашей трубки?
— Нисколько не дорожу, сэр.
— В той стране, из которой приехали эти люди, так же мало дорожат жизнью человека, как вы золой из вашей трубки. Если бы жизнь тысячи человек стояла между ними и возвращением алмаза и если бы они думали, что могут убить этих людей безнаказанно, они убили бы их всех. Пожертвовать кастой дело серьезное в Индии, принести в жертву жизнь не значит ничего.
На это я сказал, что это шайка воров и убийц. Мистер Мертуэт высказал мнение, что это удивительный народ. Мистер Фрэнклин не высказал никакого мнения, а возвратил нас к делу.
— Они видели Лунный камень на платье мисс Вериндер, — сказал он. — Что теперь делать?
— То, что грозил сделать ваш дядя, — ответил мистер Мертуэт. — Полковник Гернкастль понимал, с какими людьми он имеет дело. Пошлите алмаз завтра (под караулом нескольких человек) в Амстердам. Велите сделать из него полдюжины бриллиантов вместо одного. Тогда кончится священное значение Лунного камня — кончится и опасность.
Мистер Фрэнклин обернулся ко мне.
— Нечего делать, — сказал он. — Мы должны завтра же переговорить с леди Вериндер.
— А как же сегодня, сэр? — спросил я. — Что, если индусы вернутся?
Мистер Мертуэт ответил мне прежде, чем успел заговорить мистер Фрэнклин.
— Индусы не решатся вернуться сегодня, — сказал он. — Они никогда не идут прямым путем, не говоря уже о таком деле, как это, когда малейшая ошибка может быть гибельной для их цели.
— Но если эти мошенники окажутся смелее, чем вы думаете, сэр? — настаивал я.
— В таком случае спустите собак, — сказал мистер Мертуэт. — Есть у вас большие собаки на дворе?
— Есть две, сэр. Бульдог и ищейка.
— Их достаточно. В настоящем случае, мистер Беттередж, бульдог и ищейка имеют одно большое достоинство: у них, вероятно, нет ваших предрассудков относительно неприкосновенности человеческой жизни.
Звуки фортепиано донеслись до нас из гостиной, когда он выпустил в меня этот последний заряд. Он бросил свою сигару и взял под руку мистера Фрэнклина, чтобы возвратиться к дамам. Идя за ними в дом, я приметил, что небо быстро покрывается тучами. Мистер Мертуэт тоже это приметил. Он посмотрел на меня и сказал со своей обычной сухостью и насмешливостью:
— Индусам в нынешнюю ночь понадобятся зонтики, мистер Беттередж!
Хорошо было ему шутить. Но я не был знаменитым путешественником и прошел свой жизненный путь, не рискуя жизнью среди воров и убийц в разных заморских странах. Я вошел в свою комнатку, сел на свое кресло, весь в поту, и спросил себя с отчаянием, что же теперь делать? В таком тревожном состоянии духа другие впали бы в лихорадку; я кончил совсем другим образом. Я закурил трубку и заглянул в “Робинзона Крузо”.
Не прошло и пяти минут, как мне попалось это удивительное место, страница сто шестьдесят первая:
“Страх перед опасностью в десять тысяч раз страшнее самой опасности, видимой глазу, и мы находим, что бремя беспокойства гораздо больше того несчастья, которое нас тревожит”.
У человека, который после этого не уверует в Робинзона Крузо, или недостает в мозгу винтика, или он отуманен самонадеянностью. Не стоит тратить на него доказательства, лучше сохранить их для человека с более доверчивой душой.
Я давно уже выкурил вторую трубку и все восхищался этой удивительной книгой, когда Пенелопа (подававшая чай) пришла ко мне с донесением из гостиной. Она оставила тараторок певшими дуэт, — слова начинались с “О”, и музыка соответствовала словам. Она заметила, что миледи делала ошибки в висте, чего мы прежде никогда за ней по замечали. Она видела, что знаменитый путешественник заснул в углу. Она слышала, как мистер Фрэнклин потешался над мистером Годфри по поводу дамских комитетов вообще, а мистер Годфри возражал ему гораздо резче, нежели приличествовало джентльмену с такими благопристойными манерами. Она подметила, как мисс Рэчель, по-видимому пытаясь успокоить миссис Тридголл, показывала ей фотографии, на самом же деле бросала украдкой на мистера Фрэнклина такие взгляды, в которых ни одна умная горничная не могла ошибиться ни на минуту. Наконец, она видела, как мистер Канди, доктор, таинственно исчезнувший из гостиной и потом таинственно вернувшийся, вступил в секретный разговор с мистером Годфри. Словом, дела шли гораздо хуже, чем, судя по тому, что было за обедом, мы могли ожидать. Если бы только мы могли продержаться еще часок, старик Время подвез бы экипаж и освободил бы нас совсем от гостей.
Все проходит на этом свете, и даже успокоительное действие “Робинзона Крузо” прошло, когда Пенелопа ушла от меня. Я опять разволновался и решил обойти вокруг дома, прежде чем начнется дождь. Вместо того чтобы взять лакея, у которого нос был человеческий и, следовательно, бесполезный в каком-нибудь непредвиденном случае, я взял с собой ищейку. Можно было положиться на то, что уж ее то нос почуял бы чужого. Мы обошли вокруг дома и вышли на дорогу; мы вернулись так, как и ушли, — ни с чем, не найдя нигде притаившегося человеческого существа. Я опять посадил собаку на цепь и, возвращаясь через кустарник, встретил наших двух джентльменов, выходивших ко мне из гостиной. Это были мистер Канди и мистер Годфри; они (как сообщила мне Пенелопа) все еще разговаривали друг с другом, тихо смеясь над какой-то забавной выдумкой. Я подивился тому, что эти два человека подружились, но, разумеется, прошел мимо, будто и не замечая их.
Прибытие экипажей послужило как бы сигналом к началу дождя. Он полил так, словно имел намерение лить всю ночь. За исключением доктора, которого ожидал открытый гиг, все остальное общество с удобством отправилось домой в каретах. Я высказал опасение мистеру Канди, как бы он не промок насквозь. Он же ответил мне, что удивляется, как это я дожил до своих лет и не знаю, что кожа доктора непромокаема. Он укатил под дождем, смеясь над своей шуточкой. И мы, таким образом, избавились от наших обеденных гостей.
Теперь остается рассказать историю этой ночи.
Глава XI
Когда последний из гостей уехал, я вернулся в холл и нашел Самюэля у бокового столика, готовившего бренди с содовой водой. Миледи и мисс Рэчель пришли из гостиной в сопровождении двух джентльменов. Мистер Годфри выпил бренди с содовой водой, мистер Фрэнклин не пил ничего. Он сел; вид у него был смертельно усталый. Должно быть, разговоры в этот торжественный день измучили его.
Миледи, повернувшаяся, чтоб пожелать нам спокойной ночи, пристально посмотрела на подарок нечестивого полковника, блиставший на платье ее дочери.
— Рэчель, — сказала она, — куда ты спрячешь на ночь свой алмаз?
Мисс Рэчель находилась в самом веселом расположении духа, именно в таком расположении, когда хочется говорить пустяки и упорно отстаивать их, как нечто разумное, что вы, может быть, замечали в молодых девицах, когда нервы их возбуждены в конце дня, переполненного сильными ощущениями.
Сперва она объявила, что но знает, куда спрятать алмаз. Потом сказала:
“Разумеется, положу на туалет вместе с другими вещами”. Потом сообразила, что алмаз может засиять сам по себе своим странным лунным светом в темноте и напугать ее ночью. Потом вспомнила об индийском шкапчике, который стоял в ее гостиной, и тотчас решила спрятать индийский алмаз в индийский шкапчик, чтобы дать возможность двум прекрасным туземным произведениям полюбоваться друг на друга. Слушавшая терпеливо весь этот вздор миледи вмешалась и остановила Рэчель.
— Душа моя, твой индийский шкапчик не запирается!
— Великий боже, мама! — вскричала мисс Рэчель. — Да разве мы в гостинице, разве у нас в доме есть воры?
Не обращая внимания на этот причудливый ответ, миледи пожелала джентльменам доброй ночи, потом повернулась к мисс Рэчель и поцеловала ее.
— Почему бы тебе не дать мне спрятать твой алмаз? — спросила она.
Мисс Рэчель приняла эти слова так, как приняла бы десять лет назад предложение расстаться с новой куклой. Миледи поняла, что ее в этот вечер не уговорить.
— Приходи ко мне утром, Рэчель, как только встанешь, — сказала она, — я тебе кое-что расскажу.
С этими словами миледи медленно ушла от нас, глубоко задумавшись и, по всей вероятности, не очень довольная направлением, какое приняли ее мысли.
Вслед за нею простилась и мисс Рэчель. Сперва она пожала руку мистеру Годфри, который стоял на другом конце залы, разглядывая картину на стене.
Потом повернулась к мистеру Фрэнклину, все еще молча и утомленно сидевшему в уголке.
О чем они говорили между собой, я не могу сказать. Но, стоя возле большой дубовой рамы, в которую вставлено зеркало, я увидел в нем, как она, прежде чем уйти спать, украдкой вынула из-за корсажа медальон, подаренный ей мистером Фрэнклином, и показала ему с улыбкой, конечно означавшей нечто не совсем обыкновенное. Это обстоятельство несколько поколебало мою прежнюю уверенность, и я начал думать, что, может быть, Пенелопа права насчет чувств ее барышни.
Как только мисс Рэчель перестала ослеплять его, мистер Фрэнклин приметил и меня. Его непостоянный нрав, то и дело изменявшийся, уже успел измениться и в отношении индусов.
— Беттередж, — сказал он, — я почти готов допустить, что придал слишком большое значение словам мистера Мертуэта, когда мы разговаривали в кустарнике. Желал бы я знать, не угостил ли он нас россказнями, которыми так любят щегольнуть путешественники? Неужели вы в самом деле намереваетесь спустить собак?
— Я сниму с них ошейники, сэр, — ответил я, — и дам им вволю побегать ночью, если они учуют чужой след.
— Это хорошо, — сказал мистер Фрэнклин. — Мы тогда увидим, что нам делать завтра. Я вовсе не собираюсь пугать тетушку, Беттередж, без серьезной причины. Спокойной ночи!
Он казался таким усталым и бледным, когда кивнул мне головой и взял свечу, чтобы идти наверх, что я осмелился посоветовать ему выпить на ночь бренди с содовой. Мистер Годфри, подошедший к нам с другого конца комнаты, поддержал меня. Он самым дружеским образом стал уговаривать мистера Фрэнклина выпить чего-нибудь, прежде чем лечь спать.
Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что после всего виденного и слышанного мною в этот день мне было приятно заметить, что оба наши джентльмена по-прежнему находятся в хороших отношениях. Их словесная битва (слышанная Пенелопой в гостиной) и соперничество за благосклонность мисс Рэчель, по-видимому, не привели к серьезной размолвке. Но ведь оба они были люди светские и с хорошим характером. А люди высокого звания имеют то достоинство, что никогда так не вздорят между собой, как люди незнатные.
Мистер Фрэнклин отказался от бренди и пошел наверх с мистером Годфри, так как комнаты их были рядом, но, вероятно, на площадке кузен уговорил его или, по обыкновению, у него изменилось настроение.
— Может быть, мне и захочется выпить ночью, — крикнул он, — пришлите-ка мне в комнату бренди.
Я послал Самюэля с бренди и водой, а потом вышел снять ошейники с собак. Обе они чуть не сошли с ума от удивления, что их выпустили в такую пору ночи, и прыгали на меня, как щенки. Однако дождь скоро охладил их пыл; они полакали немножко воды и вползли назад в свою конуру. Возвращаясь домой, я приметил на небе признаки, предвещавшие перемену погоды к лучшему. Мы с Самюэлем обошли весь дом и, по обыкновению, заперли все двери. На этот раз я все осмотрел сам и ни в чем не положился на своего помощника. Все было крепко-накрепко заперто, когда мои старые кости улеглись в постель в первом часу ночи.
Должно быть, хлопоты этого дня были мне не под силу. Как бы то ни было, а и я заразился болезнью мистера Фрэнклина в эту ночь. Солнце уже всходило, когда я наконец заснул. Все время, пока я не спал, в доме было тихо, как в могиле. Не слышалось ни малейшего звука, кроме шума дождя и шелеста ветра в деревьях, поднявшегося к утру.
В половине восьмого я проснулся и открыл окно. День был прекрасный, солнечный. Часы пробили восемь, и я вышел, чтобы снова посадить собак на цепь, когда услышал позади себя на лестнице шуршание женских юбок.
Я обернулся: с лестницы, как сумасшедшая, бежала за мною Пенелопа.
— Батюшка! — кричала она. — Ради бога ступайте наверх! Алмаз пропал.
— Ты, верно, с ума сошла? — спросил я.
— Пропал! — повторила Пенелопа. — Пропал, и никто не знает как.
Ступайте и посмотрите.
Она потащила меня за собой в гостиную нашей барышни, ведшую в ее спальню. Там, на пороге спальни, стояла мисс Рэчель, почти такая же бледная, как ее белый пеньюар. Обе половинки индийского шкапчика были раскрыты настежь. Один из ящиков выдвинут так далеко, как только можно его было выдвинуть.
— Посмотрите! — сказала Пенелопа. — Я сама видела, как мисс Рэчель положила вчера алмаз в этот ящик.
Я подошел к шкапчику: ящик был пуст.
— Правда ли это, мисс? — спросил я.
Со взглядом, который не походил на ее обычный взгляд, и голосом, который не походил на ее голос, мисс Рэчель ответила, как моя дочь:
— Алмаз пропал!
Сказав эти слова, она ушла в свою спальню и заперла за собою дверь.
Прежде чем мы успели сообразить, что теперь делать, вошла миледи; она услышала мой голос в гостиной дочери и спросила, что случилось. Известие о пропаже алмаза ошеломило ее. Она тотчас подошла к спальне дочери и настояла, чтобы ее впустили. Мисс Рэчель впустила ее.
Тревога, охватившая дом с быстротой пожара, прежде всего достигла обоих джентльменов.
Мистер Годфри первый вышел из своей комнаты. Когда он услышал, что случилось, он только в изумлении всплеснул руками, что не слишком-то свидетельствовало в пользу его душевной твердости. Мистер Фрэнклин, на прозорливость которого я рассчитывал, надеясь, что он подаст нам совет, оказался так же ненаходчив, как и его кузен, когда, в свою очередь, услышал это известие. Против ожидания, он наконец-то хорошо выспался, и эта непривычная роскошь привела его, как он сам говорил, в какое-то одурение. Однако, когда мистер Фрэнклин выпил чашку кофе, которую, по иностранному обычаю, всегда выпивал за несколько часов до завтрака, — разум его прояснился, он стал проявлять свое врожденное здравомыслие: решительно и умно он принял следующие меры.
Он начал с того, что послал за слугами и велел им оставить все двери и окна первого этажа (за исключением парадной двери, которую я отпер) именно так, как они были, когда мы запирали их накануне. Потом он предложил своему кузену и мне, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, удостовериться, не завалился ли куда-нибудь алмаз, например, за шкапчик или за стол, на котором стоял шкапчик. Поискав в обоих местах и не найдя ничего, расспросив также Пенелопу и узнав от нее не более того, что она уже сказала мне, мистер Фрэнклин предложил расспросить мисс Рэчель и послал Пенелопу постучаться в дверь ее спальни.
На стук вышла миледи и закрыла за собою дверь. Через минуту мы услышали звуки ключа в замке; мисс Рэчель заперла дверь изнутри. Госпожа моя подошла к нам в сильном недоумении и огорчении.
— Пропажа алмаза совершенно потрясла Рэчель, — сказала она в ответ мистеру Фрэнклину. — Она какая-то странная и не хочет говорить об этом даже со мною. Вам невозможно увидеть ее теперь.
Усилив этим сообщением о мисс Рэчель наше недоумение, миледи после маленького усилия вернула себе свое обычное спокойствие и смогла действовать с обычной решимостью.
— Я полагаю, что ничего не остается делать, как послать за полицией, — сказала она спокойно.
— А полиция прежде всего должна, — прибавил мистер Фрэнклин, подхватив ее слова, — схватить индусских фокусников, дававших здесь вчера представление.
Миледи и мистер Годфри (не знавшие того, что было известно мистеру Фрэнклину и мне) оба вздрогнули и удивились.
— Мне теперь некогда объясняться, — продолжал мистер Фрэнклин. — Я могу только сказать вам, что именно индусы украли алмаз. Дайте мне рекомендательное письмо, — обратился он к миледи, — к одному из фризинголлских судей; просто скажите ему, что я представляю ваши интересы и выполняю ваши желания, и позвольте мне тотчас же отправиться с этим письмом. Наша возможность поймать воров зависит от наших стараний не потерять ни единой минуты понапрасну.
Nota bene. Французская это или английская сторона мистера Фрэнклина одержала теперь верх, только это была сторона разумная. Вопрос состоял лишь в том, надолго ли ее хватит.
Он положил перо, чернила и бумагу перед теткой, которая (как мне показалось) написала письмо не совсем охотно. Если б было возможно оставить без внимания пропажу вещи, стоящей двадцать тысяч фунтов, я полагаю, судя по мнению миледи о ее покойном брате и по ее недоверию к его подарку, для нее было бы облегчением позволить ворам убежать с Лунным камнем.
Я пошел с мистером Фрэнклином в конюшню и воспользовался этим случаем, чтобы спросить его, каким образом индусы (которых я подозревал с такой же проницательностью, как и он) могли забраться в дом.
— Один из них мог пробраться в залу, когда гости уезжали, — сказал мистер Фрэнклин. — Он, должно быть, лежал под диваном, когда тетушка и Рэчель решали, куда спрятать алмаз. Ему стоило только подождать, пока в доме все стихнет, а потом подойти к шкапчику и взять оттуда алмаз.
Сказав это, он крикнул груму, чтобы открыли ворота, и ускакал.
Это было действительно единственное разумное объяснение. Но каким же образом вор успел выбраться из дома? Когда я пошел отворять парадную дверь, утром она оказалась запертой на замок совершенно так, как я оставил ее вечером. А другие двери и окна сами говорили за себя, — они до сих пор оставались запертыми. А собаки? Положим, вор убежал, выпрыгнув из верхнего окна, — но как же он мог избавиться от собак? Не запасся же он для них отравленным мясом? Не успело это подозрение промелькнуть в голове моей, как собаки выбежали ко мне из-за угла, кувыркаясь по мокрой траве, такие веселые и здоровые, что я с большим трудом унял их и снова посадил на цепь. Чем более думал я об этом, тем менее удовлетворительным казалось мне объяснение мистера Фрэнклина. Мы позавтракали, — ведь что бы ни случилось в доме, воровство или убийство, все равно люди должны завтракать. После завтрака миледи послала за мною, и я принужден был рассказать ей все, что до сих пор скрывал об индусах и об их заговоре. Будучи женщиной очень мужественной, она скоро оправилась от первого испуга, возбужденного в ней тем, что я ей сообщил. Она казалась гораздо более встревоженной состоянием дочери, нежели этими мошенниками-язычниками и их заговором.
— Вы знаете, какая странная девушка Рэчель и как непохожа на других своих сверстниц, — сказала мне миледи. — Но я никогда еще не видела ее такой странной и скрытной, как сейчас. Пропажа алмаза как будто лишила ее рассудка. Кто мог бы подумать, что этот ужасный камень так очарует ее в такое короткое время?
Конечно, это было странно. Мисс Рэчель вовсе не сходила с ума по безделушкам и всяким вещицам, как многие другие молодые девушки. Между тем она оставалась неутешной и сидела взаперти в своей спальне. Справедливость требует прибавить, что не одна она в нашем доме вышла из своей привычной колеи. Мистер Годфри, например, — общий утешитель по профессии, — казалось, тоже не знал, куда ему деваться. Сознаюсь, что и сам я был встревожен и не в духе. Проклятый Лунный камень перевернул все вверх дном в нашем доме.
Незадолго до одиннадцати мистер Фрэнклин воротился. Судя по его виду, решительность его испарилась под гнетом ответственности, свалившейся на его плечи. Он уехал от нас галопом, а воротился шагом. Когда он уезжал, он казался железным. Когда он вернулся, он был подбит ватой.
— Ну что же, — спросила миледи, — будет полиция?
— Да, — ответил мистер Фрэнклин, — сказали, что едут вслед за мной.
Главный инспектор нашей местной полиции, Сигрэв, и два его помощника.
Чистая формальность! Надежды нет никакой.
— Как! Да разве индусы убежали, сэр? — спросил я.
— Бедные обиженные индусы зря были заключены в тюрьму, — ответил мистер Фрэнклин. — Они невинны, как новорожденные младенцы. Мое предположение, что один из них спрятался в доме, как и все остальные мои предположения, рассеялось, как дым. Было доказано, — прибавил мистер Фрэнклин, с жаром подчеркивая свою ошибку, — что это просто физически невозможно.
Удивив нас известием об этом новом обороте дела с Лунным камнем, наш джентльмен, по просьбе тетки, сел и объяснился.
Оказалось, что решительная сторона его характера продержалась до самого Фризинголла. Он ясно изложил все дело перед судьей, а судья тотчас же послал за полицией. По первым же наведенным справкам оказалось, что индусы и не пытались выйти из города. Дальнейшие справки показали, что всех троих вместе с мальчиком видели возвращающимися во Фризинголл накануне, в одиннадцатом часу вечера, — а это (принимая в расчет время и расстояние) доказывало, что они воротились назад прямо после представления на нашей террасе. Еще позднее, в полночь, полиция, делавшая обыск в том доме, где они остановились, опять видела их всех троих и с мальчиком. Вскоре после полуночи я сам благополучно запер дом. Не могло быть более ясных доказательств в пользу индусов. Судья сказал, что покуда против них нет и тени подозрения. Но так как возможно, что по приезде полиции розыски приведут к каким-нибудь открытиям, касающимся фокусников, он арестует их как плутов и бродяг и продержит некоторое время под замком, на случай, если они нам понадобятся.
Достойный судья был старым другом миледи — и шайка индусов в то же утро, как началось следствие, была арестована.
Таков был рассказ мистера Фрэнклина о событиях во Фризинголле.
Индийский ключ от тайны пропавшего алмаза, по всей вероятности, сломался у нас в руках. Если фокусники были невиновны, то кто же вынул Лунный камень из ящика мисс Рэчель?
Минут через десять, к бесконечному нашему облегчению, прибыл инспектор Сигрэв. Он сообщил, что прошел мимо мистера Фрэнклина, сидевшего на террасе на солнышке (верно, итальянскою стороною кверху), заранее предупредившего их, когда они проходили, что всякое следствие будет бесполезно, — еще прежде, чем это следствие началось.
В том положении, в каком мы находились, инспектор фризинголлской полиции был самым приятным посетителем, какого только можно было желать.
Мистер Сигрэв был высок и представителен, с военною выправкой, приятным начальственным голосом и решительным взглядом, в мундире, сверху донизу красиво усаженном пуговицами. “Я именно тот человек, какой вам нужен”, — было написано на его лице. Он обращался с сопровождавшими его двумя низшими полицейскими чинами со всей строгостью, способной сразу убедить вас, что с ним шутки плохи. Он начал с того, что осмотрел все строения снаружи и внутри; результат этого осмотра показал, что снаружи воры не могли к нам проникнуть и что, следовательно, кражу совершил кто-нибудь в доме. Предоставляю вам судить, в какое состояние пришли слуги, когда это официальное заявление дошло до их ушей. Инспектор решил, что начнет с осмотра “будуара”, а потом допросит слуг. В то же время он поставил одного из своих подчиненных на лестнице, которая вела в спальни слуг, с приказом не впускать туда никого из живущих в доме впредь до дальнейших распоряжений.
Услышав это последнее приказание, представительницы слабейшей половины рода человеческого окончательно помешались. Они выскочили из своих углов и помчались наверх, к комнате мисс Рэчель, увлекая за собой на этот раз и Розанну Спирман, накинулись на инспектора Сигрэва и все с одинаково виновным видом стали требовать, чтобы он сказал, которую из них он подозревает.
Инспектор не растерялся: он посмотрел на них весьма решительно и припугнул их своим военным голосом:
— Эй, вы, ступайте-ка опять вниз, все до одной! Я вас сюда не звал.
Посмотрите-ка! — вдруг прервал он себя, указав на пятнышко под самым замком на раскрашенной двери мисс Рэчель:
— Посмотрите, что наделали ваши юбки. Вон отсюда!
Розанна Спирман, которая была всех ближе к нему и к пятнышку на двери, первая подала пример послушания и тотчас же возвратилась к своей работе.
Остальные последовали за нею. Инспектор закончил осмотр комнаты и, ничего этим не добившись, спросил меня, кто первый открыл пропажу. Первой открыла ее моя дочь. Послали за моей дочерью.
Инспектор сначала обошелся с Пенелопой несколько круто.
— Слушайте меня, молодая женщина, и помните, что вы должны отвечать правду.
Пенелопа тотчас вспылила:
— Меня никогда не учили лгать, и если отец мой может стоять здесь и выслушивать, как его дочь обвиняют во лжи и в воровстве, не пускают в собственную ее комнату, отнимают доброе имя, единственное достояние бедной девушки, то он не такой добрый отец, каким я его считала.
Слово, сказанное мною кстати, сделало отношения Пенелопы с правосудием более приятными. Вопросы и ответы пошли гладко и не завершились ничем, о чем стоило бы упомянуть. Дочь моя видела, как мисс Рэчель вечером спрятала алмаз в ящик шкапчика. Она вошла в восемь часов утра к мисс Рэчель с чашкою чая, увидела, что ящик открыт и пуст, и тотчас подняла тревогу. На том и закончились показания Пенелопы.
Затем инспектор попросил позволения видеть мисс Рэчель. Пенелопа передала его просьбу через дверь. Ответ пришел к нам тем же путем:
— Мне не о чем говорить с полицейским: я никого не могу видеть.
Наш опытный полицейский, казалось, был удивлен и обижен, услышав такой ответ. Я объяснил ему, что наша барышня нездорова, и просил его подождать немного и повидаться с нею попозже. После этого мы опять спустились вниз и, проходя через переднюю, встретили мистера Годфри и мистера Фрэнклина.
Оба джентльмена, гостившие в доме, были допрошены им: не смогут ли они пролить какой-нибудь свет на это дело. Никто из них ничего не знал.
Освобожденный от допроса, мистер Фрэнклин шепнул мне:
— Этот человек не принесет нам никакой пользы. Инспектор Сигрэв осел.
Освобожденный в свою очередь, мистер Годфри шепнул мне:
— Очевидно, знаток своего дела. Беттередж, я сильно на него надеюсь!
Сколько голов, столько и умов, как сказал какой-то древний писатель задолго до меня.
Потом инспектор отправился назад в “будуар”, в сопровождении меня и Пенелопы. Целью его было удостовериться, не переставлялась ли за ночь мебель, — первый его обыск в комнате, очевидно, в этом отношении ничего ему не дал.
Пока мы шарили между стульями и столами, дверь спальни вдруг открылась.
Отказавшись видеть нас всех, мисс Рэчель, к нашему удивлению, сама к нам вышла. Она взяла со стула свою летнюю шляпку и подошла прямо к Пенелопе с таким вопросом:
— Мистер Фрэнклин Блэк посылал вас ко мне сегодня утром?
— Посылал, мисс.
— Он желал говорить со мною, не так ли?
— Точно так, мисс.
— Где он теперь?
Услышав голоса внизу, я выглянул из окна и увидел двух джентльменов, ходивших взад и вперед по террасе. Отвечая за свою дочь, я сказал:
— Мистер Фрэнклин на террасе, мисс.
Не говоря более ни слова, не обращая внимания на инспектора, который пытался было заговорить с нею, бледная, как смерть, и странно погруженная в свои собственные мысли, она вышла из комнаты и спустилась к кузенам на террасу.
Я не проявил должного уважения, я нарушил приличие, но если бы даже дело шло о моей жизни, я и тут не мог бы удержаться, чтобы не выглянуть из окна, когда мисс Рэчель встретилась с джентльменами. Она подошла к мистеру Фрэнклину, делая вид, будто не замечает мистера Годфри, который отошел и оставил их вдвоем. Она, по-видимому, говорила с мистером Фрэнклином раздражительно. Это продолжалось недолго и (судя по его лицу, которое я видел из окна) сильно его поразило. Когда они стояли вдвоем, на террасе показалась миледи. Мисс Рэчель заметила ее, сказала еще несколько слов мистеру Фрэнклину и вдруг повернулась и ушла, прежде чем мать успела подойти к ней. Миледи, удивленная и сама, и видя необыкновенное удивление мистера Фрэнклина, заговорила с ним. Мистер Годфри подошел к ним и также заговорил. Мистер Фрэнклин начал ходить с ними обоими, очевидно, передавая им, что случилось; слушая его, они оба, сделав несколько шагов, разом остановились, как вкопанные, видимо, сильно изумленные. Не успел я заметить все это, как вдруг дверь гостиной снова распахнулась настежь.
Мисс Рэчель быстро пошла в свою спальню, расстроенная и разгневанная, со сверкающими яростью глазами и пылающими щеками. Инспектор опять попытался остановить ее. Она обернулась к нему в дверях спальни.
— Я за вами не посылала! — вскричала она запальчиво. — Мне вы не нужны. Мой алмаз пропал. Ни вам, да и никому на свете не удастся отыскать его.
С этими словами она вошла в комнату и захлопнула дверь перед самым нашим носом. Пенелопа, стоявшая ближе всех к двери, слышала, как она зарыдала, как только осталась одна.
Мгновение — в бешенстве, другое — в слезах, — что могло это значить?
Я сказал инспектору, что все это показывает лишь, до какой степени мисс Рэчель раздражена пропажею своего алмаза. Я с огорчением видел, что моя молодая барышня забылась даже перед полицейским офицером; и, заботясь о чести семьи, принес извинения, какие только мог придумать. Но в душе я был более озадачен необыкновенными речами и поведением мисс Рэчель, нежели можно выразить словами. Основываясь на сказанном ею в дверях спальни, я мог только заключить, что она смертельно оскорблена прибытием полиции и что удивление мистера Фрэнклина на террасе вызвано было тем, что она резко выразила ему свое мнение на этот счет (как человеку, призвавшему полицию).
Если эта догадка была справедлива, почему же, лишившись своего алмаза, она была против присутствия в доме тех самых людей, которые обязаны были отыскать его для нее? И каким образом могла она знать, что Лунный камень никогда не найдется?
При настоящем положении дел ответа на эти вопросы нечего было ждать ни от кого в доме.
Обшарив всю мебель в “будуаре” и ничего не найдя, наш опытный сыщик обратился ко мне с вопросом, знали слуги или нет, куда будет положен алмаз на ночь.
— Я знал это, сэр, — ответил я. — Самюэль, лакей, тоже знал это, потому что он был в передней, когда говорили о том, куда спрятать на ночь алмаз.
Знала моя дочь, как она уже вам сказала. Она или Самюэль могли сообщить об этом другим слугам, или другие слуги могли слышать этот разговор через боковую дверь передней, которая могла быть открыта на черную лестницу. Как мне кажется, все в доме могли знать, где в прошлую ночь лежал алмаз.
Мой ответ представлял слишком обширное поле для подозрений инспектора, и он постарался сузить его, попросив меня охарактеризовать наших слуг.
Я тотчас подумал с Розанне Спирман. Но упоминать о ней сейчас было неуместно, да я и не желал направить подозрения на бедняжку, честность которой не подлежала никакому сомнению за все время ее пребывания у нас.
Надзирательница исправительного дома говорила о ней миледи, как об искренно раскаявшейся и заслуживающей полного доверия девушке. Если бы полицейский офицер нашел причины подозревать ее, только тогда я обязан был бы сказать ему, каким образом попала она в услужение к миледи.
— Все наши слуги имеют отличные рекомендации, — ответил я. — И все заслужили доверие своей госпожи.
После этого мистеру Сигрэву оставалось только одно: самому приняться за дело и лично испытать всех наших слуг.
Их допросили одного за другим, и ни один из них не мог ничего открыть, хотя наговорили они, особенно женщины, очень много и весьма негодовали на запреты, наложенные на их комнаты.
Следующий и последний шаг в следствии довел дело, как говорится, до кризиса. Полицейский офицер имел свидание (при котором я присутствовал) с миледи. Сообщив ей, что алмаз, должно быть, похищен кем-нибудь в доме, он просил позволения обыскать комнаты и сундуки слуг. Моя добрая госпожа, как великодушная и благовоспитанная женщина, не хотела позволить обходиться с нами, как с ворами:
— Я никогда не соглашусь отплатить таким образом за все, чем я обязана верным слугам, живущим в моем доме!
Полицейский офицер поклонился и бросил на меня взгляд, ясно говоривший:
“Зачем же было призывать меня, если вы связываете мне руки таким образом?”
Я тотчас почувствовал, что по справедливости мы не имеем права злоупотреблять великодушием нашей госпожи.
— Сердечно благодарим ваше сиятельство, — сказал я, — но просим позволения поступить так, как надлежит в этом деле, и сами отдаем наши ключи. Когда Габриэль Беттередж подаст пример, — сказал я, останавливая в дверях инспектора Сигрэва, — остальные слуги последуют ему, ручаюсь вам.
Вот вам прежде всего мои ключи!
Миледи взяла меня за руку и поблагодарила со слезами на глазах. Боже!
Чего не дал бы я в эту минуту, чтобы иметь право отколотить инспектора Сигрэва!
Так как я поручился за них, остальные слуги последовали моему примеру, — весьма неохотно, разумеется, но все же согласившись со мной. Стоило поглядеть на женщин, когда полицейские рылись в их вещах. Кухарка так смотрела, словно хотела изжарить инспектора живьем на сковороде, а другие женщины — словно собираясь съесть его, как только он изжарится.
Обыск окончился, а алмаза, разумеется, не нашли и следа. Инспектор Сигрэв удалился в мою комнату поразмыслить, что ему предпринять дальше. Он и его помощники были у нас в доме уже несколько часов и не подвинулись ни на шаг к открытию того, как и кем был украден Лунный камень.
Пока полицейский инспектор раздумывал в одиночестве, меня позвали к мистеру Фрэнклину в библиотеку. К моему невыразимому удивлению, не успел я взяться за ручку двери, как она вдруг открылась изнутри, и из комнаты вышла Розанна Спирман.
После того как библиотека была выметена и убрана утром, ни первой, ни второй служанке незачем было входить в эту комнату. Я остановил Розанну Спирман и тут же сделал ей выговор за нарушение домашней дисциплины.
— Что вам понадобилось в библиотеке в такую пору? — спросил я.
— Мистер Фрэнклин Блэк потерял кольцо наверху, — сказала Розанна, — и я ходила отдать его ему.
Щеки девушки пылали.
Я нашел мистера Фрэнклина пишущим за столом в библиотеке. Как только я вошел в комнату, он попросил у меня лошадей на станцию. По первому же звуку его голоса я определил, что опять одержала верх его решительная сторона. Человек, подбитый ватой, исчез, и снова сидел передо мной человек железный.
— Вы едете в Лондон, сэр? — спросил я.
— Еду телеграфировать в Лондон, — ответил мистер Фрэнклин. — Я убедил тетушку, что нам должен помочь человек поумнее инспектора Сигрэва, и получил ее позволение послать телеграмму моему отцу. Он знает начальника полиции, а начальник может выбрать человека, способного разгадать тайну алмаза. Кстати о тайнах, — прибавил мистер Фрэнклин, понизив голос, — я должен сказать вам два слова, прежде чем вы пойдете на конюшню. Но не говорите пока об этом никому. Или голова Розанны Спирман не совсем в порядке, или, боюсь, она знает о Лунном камне более, чем ей следует знать.
Не могу сказать наверное, чего причинили мне больше — испуга или огорчения — эти слова. Будь я помоложе, я бы признался в этом мистеру Фрэнклину. Но когда вы состаритесь, вы приобретете одну превосходную привычку: в тех случаях, когда в голове у вас не все ясно, помолчать.
— Она пришла сюда с кольцом, которое я обронил в своей спальне, — продолжал мистер Фрэнклин. — Я поблагодарил ее и ждал, разумеется, что она уйдет. Вместо этого она остановилась против моего стола и уставилась на меня самым странным образом — полуиспуганно и полуфамильярно, — я не мог разобрать. “Странное это дело насчет алмаза, сэр!” — сказала она неожиданно. Я ответил “да” и ждал, что будет дальше. Клянусь честью, Беттередж, мне кажется, она, должно быть, не в своем уме! Она говорит:
“Алмаза-то ведь не найдут, сэр, не так ли? Нет, не найдут и того, кто его взял, — я поручусь за это”. Она кивнула мне головой и улыбнулась. Прежде чем я успел спросить ее, что она хочет этим сказать, послышались ваши шаги за дверью. Она, верно, испугалась, что вы застанете ее здесь. Как бы то ни было, она изменилась в лице и ушла из комнаты. Что это может значить?
Я не мог решиться даже тогда рассказать ему историю этой девушки. Ведь это значило бы назвать ее воровкой. Кроме того, предположим даже, что я рассказал бы ему все откровенно, и допустил, что алмаз украла она, — причина, по которой из всех людей на свете Розанна выбрала именно мистера Фрэнклина, чтобы открыть свою тайну, — все равно осталась бы неразгаданной.
— Я не могу решиться обвинить эту бедную девушку только потому, что она ветрена и говорит очень странно, — продолжал мистер Фрэнклин. — А между тем, если она сказала инспектору то, что сказала мне, — как он ни глуп, я боюсь…
Он остановился, не досказав остального.
— Лучше всего будет, сэр, — ответил я, — если я расскажу об этом миледи при первом удобном случае. Миледи принимает дружеское участие в Розанне, и очень может быть, что эта девушка была только опрометчива и безрассудна.
Когда в доме поднимается какая-нибудь кутерьма, сэр, служанки всегда любят смотреть на дело с мрачной стороны, — это придает бедняжкам некоторый вес в их собственных глазах.
Такой взгляд на дело, кажется, очень понравился мистеру Фрэнклину; он сложил телеграмму и прекратил разговор. Отправляясь на конюшню, чтобы приказать заложить кабриолет, я заглянул в людскую, где люди обедали.
Розанны Спирман не было среди них. Спросив о ней, я узнал, что она вдруг занемогла и пошла в свою комнату прилечь.
— Странно! Она казалась совсем здоровой, когда я недавно видел ее, — заметил я.
Пенелопа вышла вслед за мною.
— Батюшка, не говорите так при других, — сказала она, — вы этим только еще сильнее настроите прислугу против Розанны. Бедняжка сокрушается от любви к мистеру Фрэнклину Блэку.
Это был уже другой взгляд на вещи. Если Пенелопа была права, это могло объяснить странные речи и поведение Розанны.
Я сам наблюдал, как запрягали пони. В адской сети тайн и неизвестностей, теперь окружавших нас, право, утешительно было видеть, как пряжки и ремни понимали друг друга. Когда вы видите, как пони запрягают в оглобли, — это уже нечто, не подлежащее сомнению.
Подъезжая в кабриолете к парадной двери, я увидел не только мистера Фрэнклина, но и мистера Годфри и инспектора Сигрэва, ожидавших меня на лестнице.
Размышления инспектора (после того, как ему не удалось найти алмаз в комнатах или в сундуках слуг), по-видимому, привели его к новому заключению. Все еще будучи убежден, что алмаз украден кем-то в доме, наш опытный чиновник был теперь такого мнения, что вор действовал заодно с индусами, и он предложил перенести следствие к фокусникам в фризинголлскую тюрьму. Узнав об этом новом решении, мистер Фрэнклин вызвался отвезти инспектора обратно в город, откуда можно было телеграфировать в Лондон так же просто, как с нашей станции. Мистер Годфри, все так же упорно веривший Сигрэву и чрезвычайно желавший присутствовать при допросе индусов, просил позволения поехать с инспектором во Фризинголл. Один из полицейских должен был остаться в доме на случай какого-нибудь непредвиденного обстоятельства. Другой возвращался с инспектором в город. Таким образом, четыре места в кабриолете были заняты.
Прежде чем мистер Фрэнклин взялся за вожжи, он отвел меня в сторону на несколько шагов, чтобы никто не мог нас слышать.
— Я подожду посылать депешу в Лондон, — сказал он, — пока не увижу, что выйдет из допроса индусов. Я, собственно, убежден, что этот тупоголовый полицейский ровно ничего не понимает и просто старается выиграть время.
Мысль, что кто-нибудь из слуг был в заговоре с индусами, по моему мнению, сущая нелепость. Наблюдайте-ка хорошенько в доме, Беттередж, до моего возвращения и постарайтесь выпытать что-нибудь от Розанны Спирман. Я не прошу у вас чего-нибудь унизительного Для вашего достоинства или жестокого по отношению к девушке. Я только прошу вас пустить в ход всю вашу наблюдательность. Мы скроем все это от тетушки, — но дело гораздо важнее, чем вы, может быть, предполагаете.
— Речь идет о двадцати тысячах фунтов, сэр, — сказал я, думая о ценности алмаза.
— Речь идет о том, чтобы успокоить Рэчель, — серьезно ответил мистер Фрэнклин. — Я очень беспокоюсь за нее.
Он вдруг отошел от меня, как будто желал прекратить дальнейший разговор. Мне показалось, я понял почему. Он побоялся, что выдаст мне тайну слов, сказанных ему мисс Рэчель.
Таким-то образом они уехали во Фризинголл.
За полчаса до обеда оба джентльмена воротились из Фризинголла, условившись с инспектором Сигрэвом, что он вернется к нам на следующий день. Они заезжали к мистеру Мертуэту, индийскому путешественнику, проживавшему близ города. По просьбе мистера Фрэнклина, путешественник очень любезно согласился служить переводчиком при допросе тех двух индусов, которые совершенно не знали английского языка. Допрос, подробный и тщательный, не кончился ничем: не нашли ни малейшего повода подозревать фокусников в сговоре с кем-нибудь из наших слуг. Придя к этому заключению, мистер Фрэнклин послал в Лондон депешу; на том дело и остановилось до завтрашнего дня.
Но довольно об истории дня, последовавшего за дном рождения. Ни малейший свет не озарил тогда нас. Только дня через два туман как будто начал немножко рассеиваться.
Глава XII
Прошла ночь четверга, и ничего не случилось. В пятницу утром появились две новости.
Первая: приказчик булочника объявил, что он встретил Розанну Спирман накануне, под вечер, когда она пробиралась под густой вуалью во Фризинголл, по тропинке, которая шла через болото. Странно, что кто-то мог ошибиться — плечо делало бедняжку слишком заметной, — но этот человек наверняка ошибся, потому что Розанна, как вам известно, весь четверг пролежала больная у себя наверху.
Вторую новость принес почтальон. Достойный мистер Канди опять отпустил неудачную остроту, когда, уезжая под дождем, вечером в день рождения, сказал мне, что кожа доктора непромокаема. Кожа его промокла. Он простудился в ту же ночь и теперь лежал в горячке. По рассказам почтальона, он молол вздор в бреду так же бегло и безостановочно, как, бывало, врал в здравом рассудке. Мы все жалели маленького доктора, но мистер Фрэнклин сожалел о его болезни особенно — из-за мисс Рэчель. Из слов, сказанных им миледи за завтраком, когда я присутствовал в комнате, можно было понять, что если неизвестность относительно Лунного камня не разрешится вскорости, то мисс Рэчель понадобится совет самого лучшего доктора, какого только мы сможем найти.
Вскоре после завтрака пришла телеграмма от мистера Блэка-старшего в ответ сыну. Депеша сообщала нам, что он напал (через своего приятеля, начальника полиции) именно на такого человека, который может нам помочь.
Звали его сыщик Кафф, а ожидать его из Лондона можно было с утренним поездом.
Прочтя имя нового полицейского чиновника, мистер Фрэнклин вздрогнул.
Кажется, он слышал разные любопытные анекдоты о сыщике Каффе от стряпчего своего отца во время своего пребывания в Лондоне.
— Я начинаю надеяться, что скоро придет конец нашим беспокойствам, — сказал он. — Если половина рассказов, слышанных мною, справедлива, то в Англии никто не может сравниться с сыщиком Каффом, когда дело идет о том, чтобы раскрыть тайну.
Мы все пришли в волнение и в нетерпение, когда приблизилось время приезда этого знаменитого и талантливого человека. Инспектор Сигрэв, возвратившийся к нам в назначенное время и узнавший, что ожидают лондонского сыщика, тотчас заперся в отдельной комнате и взял перо, чернила и бумагу, чтобы написать отчет, который, без сомнения, потребуют от пего. Мне хотелось самому встретить на станции сыщика. Но о карете и лошадях миледи нечего было и думать даже для сыщика Каффа, а кабриолет был нужен позже для мистера Годфри. Он глубоко сожалел, что принужден оставить свою тетку в такое тревожное время, и любезно отложил час отъезда до последнего поезда, чтобы узнать об этом деле мнение искусного лондонского сыщика. Но в пятницу вечером он непременно должен был быть в Лондоне, потому что дамский комитет ввиду каких-то серьезных затруднений нуждался в его советах в субботу утром.
Приближалось время приезда сыщика, и я вышел к воротам ожидать его.
Когда я стоял у домика привратника, со станции подъехала извозчичья карета, и из нее вышел седоватый пожилой человек, до того худой, что, казалось, у него нет ни одной унции мяса на костях. Одет он был в приличное черное платье, с белым галстуком на шее. Лицо его было остро, как топор, а кожа такая желтая, сухая и поблекшая, как осенний лист. В его стальных светло-серых глазах появлялось весьма неутешительное выражение, когда они встречались с вашими глазами, — словно они ожидали от вас более того, что было известно вам самим. Походка его была медленная, голос меланхолический; длинные сухощавые пальцы были крючковаты, как когти. Он походил на пастора, на подрядчика похоронного бюро — на кого угодно, только не на того, кем он был. Большей противоположности инспектору Сигрэву, нежели сыщик Кафф, и полицейского с менее успокоительной наружностью (для встревоженной семьи), сколько бы ни искали, вы не могли бы найти.
— Это дом леди Вериндер? — спросил он.
— Точно так, сэр.
— Я сыщик Кафф.
— Пожалуйте сюда.
По дороге к дому я назвал себя и сообщил о своем положении в семействе, чтобы дать ему возможность говорить о деле, которое поручила мне миледи.
Однако он ни слова не сказал о деле. Он восхищался ландшафтом, заметил, что морской воздух очень резок и свеж. Я удивился про себя, чем это знаменитый сыщик Кафф заслужил свою репутацию. Мы дошли до дома, подобно двум незнакомым собакам, первый раз в жизни посаженным вместе на одну цепь.
Спросив о миледи и услышав, что она в оранжерее, мы обошли сад позади дома и послали слугу доложить ей. Пока мы ждали, сыщик Кафф разглядел сквозь арку, увитую плющом, наш питомник роз и прямо вошел туда, в первый раз выказав нечто похожее на интерес. К удивлению садовника и к моему негодованию, этот знаменитый полицейский оказался кладезем учености в пустячном искусстве разведения роз.
Хорош же был человек, который должен отыскать алмаз мисс Рэчель и узнать вора, укравшего его!
— Вы, кажется, любите розы, сэр? — заметил я.
— Не имею времени любить что-нибудь, — ответил сыщик Кафф. — Но когда у меня есть свободная минутка, я всегда посвящаю ее розам, мистер Беттередж.
Я начал жизнь среди них, в питомнике моего отца, и кончу жизнь среди них, если смогу. Да. В один прекрасный день (с божьей помощью) я перестану ловить воров и попробую ухаживать за розами. Между моими клумбами, господин садовник, будут травяные дорожки!
По-видимому, сыщика неприятно поразили наши дорожки, посыпанные песком.
— Для человека вашей профессии, сэр, это довольно странный вкус, — решился я заметить.
— Если вы посмотрите вокруг себя (а это делают немногие), — сказал сыщик Кафф, — вы увидите, что вкус человека по большей части совершенно не согласуется с его занятиями. Покажите мне две вещи, более противоположные, чем роза и вор, и я тотчас же изменю мой вкус, если еще не поздно в мои лета. Вы не находите, что дамасская роза — красивый фон почти для всех более нежных сортов, господин садовник? А, я так и думал. Вот идет дама.
Это леди Вериндер.
Он увидел ее прежде, чем заметили ее я или садовник, хотя мы знали, в какую сторону смотреть, а он нет. Я начал думать что он гораздо наблюдательнее, чем показалось мне с первого взгляда.
Наружность сыщика, или дело, по которому он приехал, или то и другое — как будто несколько смутили миледи. Первый раз в жизни заметил я, что она не нашлась, что сказать постороннему. Сыщик Кафф тотчас же вывел ее из затруднения. Он спросил, не поручили ли уже кому-нибудь дело о краже, прежде чем мы послали за ним, и, услыхав, что был приглашен другой человек, который и теперь еще находится в доме, просил позволения прежде всего переговорить с ним. Миледи пошла к дому. Прежде чем инспектор последовал за нею, он отвел душу, выругав на прощанье садовника за посыпанные песком дорожки.
— Уговорите миледи оставить дорожки заросшими травой, — сказал он, бросив кислый взгляд на песок.
Почему инспектор Сигрэв сделался гораздо ниже ростом, когда его представили Каффу, я не берусь объяснить. Я могу только упомянуть этот факт. Они удалились вместе и очень долго сидели, запершись и не впуская к себе никого. Когда они вышли, инспектор был взволнован, а сыщик зевал.
— Мистер Кафф желает посмотреть гостиную мисс Вериндер, — сказал Сигрэв, обращаясь ко мне чрезвычайно торжественно и с большим воодушевлением. — Он, может быть, вздумает задать несколько вопросов.
Пожалуйста, проводите его.
Пока мною распоряжались таким образом, я смотрел на знаменитого Каффа.
Знаменитый Кафф, в свою очередь, смотрел на инспектора с тем спокойным ожиданием, которое я уже заметил.
Я повел их наверх. Сыщик внимательно осмотрел индийский шкапчик и обошел вокруг всего “будуара”, задавая вопросы (лишь изредка инспектору и постоянно мне), цель которых, я полагаю, была непонятна нам обоим в равной мере. Он дошел наконец до двери и очутился лицом к лицу с известной нам разрисовкой. Он положил свой сухой палец на небольшое пятнышко под замком, которое инспектор Сигрэв уже приметил, когда выговаривал служанкам, толпившимся в комнате.
— Какая жалость! — сказал сыщик Кафф. — Как это случилось?
Он задал вопрос мне. Я ответил, что служанки столпились в этой комнате накануне утром и что эту беду наделали их юбки.
— Инспектор Сигрэв приказал им выйти, сэр, — прибавил я, — чтобы они не наделали еще больших бед.
— Правда, — сказал инспектор своим военным тоном, — я велел им убраться вон. Это сделали юбки, мистер Кафф, это сделали юбки.
— Вы приметили, чьи юбки это сделали? — спросил сыщик Кафф, все еще обращаясь не к своему собрату по службе, а ко мне.
— Нет, сэр.
Тогда он обратился к инспектору Сигрэву и спросил:
— А вы это заметили, я полагаю?
Инспектор, казалось, был застигнут врасплох, но поспешил оправдаться.
— Я не могу обременять свою память, — сказал он, — это пустяки, сущие пустяки.
Сыщик Кафф посмотрел на Сигрэва, как смотрел на дорожки, посыпанные песком в питомнике роз, и со своей обычной меланхолией в первый раз дал нам урок, показавший нам его способности.
— На прошлой неделе я производил одно секретное следствие, господин инспектор, — сказал он. — На одном конце следствия было убийство, а на другом чернильное пятно на скатерти, которого никто не мог объяснить. Во всех моих странствованиях по грязным закоулкам этого грязного света я еще не встречался с тем, что можно назвать пустяками. Прежде чем мы сделаем еще шаг в этом деле, мы должны увидеть юбку, которая сделала это пятно, и должны узнать наверно, когда высохла эта краска.
Инспектор, довольно угрюмо приняв это замечание, спросил, надо ли позвать женщин. Сыщик Кафф, подумав с минуту, вздохнул и покачал головой.
— Нет, мы прежде займемся краской. Вопрос о краске потребует двух слов: да или нет, — это недолго. Вопрос о женской юбке — длинен. В котором часу служанки были в этой комнате вчера утром? В одиннадцать часов? Знает ли кто-нибудь в доме, сыра или суха была краска в одиннадцать часов утра?
— Племянник миледи, мистер Фрэнклин Блэк, знает, — сказал я.
— Он здесь?
Мистер Фрэнклин был очень близко, ожидая удобного случая быть представленным знаменитому Каффу. Через полминуты он был уже в комнате и давал следующее показание:
— Эту дверь рисовала мисс Вериндер под моим наблюдением, с моей помощью и составом моего изобретения. Этот состав высыхает, с какими бы красками ни употребили его, через двенадцать часов.
— Вы помните, сэр, когда было закончено то место, на котором теперь пятно? — спросил сыщик.
— Помню очень хорошо, — ответил мистер Фрэнклин. — Это место было окончено последним. Нам надо было кончить к прошлой среде, и я сам закончил его к трем часам пополудни или вскоре после этого.
— Сегодня пятница, — сказал сыщик Кафф, обращаясь к инспектору Сигрэву.
— Вернемся назад, сэр. В три часа в среду это место было окончено. Состав должен был высохнуть через двенадцать часов — то есть к трем часам утра в четверг. Вы производили здесь следствие в одиннадцать часов утра. Вычтите три из одиннадцати, и останется восемь. Эта краска была суха уже восемь часов, господин инспектор, когда вы предположили, что женские юбки запачкали дверь.
Первый жестокий удар для мистера Сигрэва! Если б он не заподозрил бедную Пенелопу, я пожалел бы его.
Решив вопрос о краске, сыщик Кафф с этой минуты словно забыл о своем товарище по профессии и стал обращаться к мистеру Фрэнклину, как к более надежному помощнику.
— Вы дали нам ключ к тайне, сэр, — сказал он.
Не успели эти слова сорваться у него с губ, как дверь спальни распахнулась и мисс Рэчель неожиданно появилась перед нами. Она заговорила с сыщиком, словно не замечая или не обращая внимания на то, что он был ей совершенно незнаком.
— Вы сказали, — спросила она, указывая на мистера Фрэнклина, — что именно он дал вам ключ к тайне?
— Это мисс Вериндер, — шепнул я сыщику.
— Очень возможно, что именно этот джентльмен, мисс, — проговорил сыщик, внимательно изучая лицо моей барышни своими стальными серыми глазами, — дал нам в руки ключ.
Мгновенно она повернулась и сделала попытку взглянуть на мистера Фрэнклина. Я говорю “сделала попытку”, потому что она тотчас же опять отвернулась, прежде, чем глаза их встретились. Она была, по-видимому, чем-то странно встревожена. Она покраснела, потом опять побледнела. Вместе с бледностью на ее лице появилось новое выражение — выражение, испугавшее меня.
— Ответив на ваш вопрос, мисс, — сказал сыщик, — я прошу у вас позволения в свою очередь задать вам вопрос. Здесь, на вашей двери, есть пятно. Известно ли вам, когда оно было сделано или кто его сделал?
Вместо того чтобы ответить ему, мисс Рэчель продолжала говорить свое, как если б сыщик ни о чем не спросил ее или она ничего не слышала.
— Вы новый полицейский офицер?
— Я сыщик Кафф, мисс, из следственной полиции.
— Как вы думаете, стоит ли вам выслушать совет молодой девушки?
— Очень буду рад выслушать его, мисс.
— Так исполняйте вашу обязанность сами и не позволяйте мистеру Фрэнклину Блэку помогать вам!
Она сказала эти слова с таким озлоблением и с такой яростью, с таким необыкновенным взрывом недоброжелательства к мистеру Фрэнклину в голосе и в выражении лица, что, хотя я знал ее с младенчества, хотя я любил и уважал ее больше всех после миледи, мне сделалось стыдно за мисс Рэчель первый раз в моей жизни.
Сыщик Кафф не отрывал от ее лица своего неподвижного взгляда.
— Благодарю вас, мисс, — сказал он, — не знаете ли вы чего-нибудь об этом пятне? Не сделали ли вы его нечаянно сами?
— Я ничего не знаю об этом пятне.
Ответив так, она отвернулась от нас и опять заперлась в своей спальне.
На этот раз и я услышал, как услышала прежде Пенелопа, что она зарыдала, лишь только осталась одна. Я не мог решиться взглянуть на сыщика и взглянул на мистера Фрэнклина, который стоял ближе всех ко мне. Он казался еще более огорченным, нежели я, тем, что случилось.
— Я говорил вам, что тревожусь за нее, — шепнул он, — теперь вы понимаете, почему?
— Мисс Вериндер, кажется, не в духе из-за пропажи ее алмаза, — заметил сыщик, — это вещь ценная… Весьма естественно.
Извинение, которое я придумал за нее вчера (когда она забылась при инспекторе Сигрэве), сделал за нее сегодня человек, не принимавший в ней такого участия, как я, потому что он был посторонним ей человеком.
Холодная дрожь пробежала по мне, — почему, я тогда не знал; думаю, что в ту минуту у меня, должно быть, мелькнуло первое подозрение о новой мысли (и мысли ужасной), которая появилась у сыщика Каффа, — лишь на основании того, что он усмотрел в мисс Рэчель и услышал от нее при этом первом их свидании.
— Язык молодых девиц имеет свои особенности, сэр, — продолжал сыщик, обращаясь к мистеру Фрэнклину. — Забудем о том, что произошло, и приступим прямо к делу. Благодаря вам мы знаем, когда краска высохла. Теперь остается узнать, когда в последний раз эту дверь видели без пятна. У вас, по крайней мере, есть голова на плечах, и вы понимаете, о чем я говорю.
Мистер Фрэнклин постарался успокоиться и с усилием оторвал свои мысли от мисс Рэчель.
— Кажется, я понимаю. Чем более мы ограничим вопрос о времени, тем более мы ограничим поле розысков.
— Именно так, сэр, — ответил сыщик. — Вы смотрели на вашу работу в среду, после того, как кончили ее?
Мистер Фрэнклин покачал головой и ответил:
— Не помню.
— А вы, — обратился сыщик Кафф ко мне.
— И я также не могу сказать, сэр.
— Кто был последним в этой комнате вечером в среду?
— Я полагаю, мисс Рэчель, сэр.
— Или, может быть, ваша дочь, Беттередж, — вмешался мистер Фрэнклин.
Он обернулся к мистеру Каффу и объяснил, что моя дочь была горничной мисс Вериндер.
— Мистер Беттередж, попросите вашу дочь сюда. Постойте, — сказал сыщик, отводя меня к окну, где нас никто не мог услышать. — Сигрэв, — продолжал он шепотом, — дал мне подробный отчет о том, как он вел дело. Между прочим, он, по своему собственному признанию, рассердил всех слуг, а для меня очень важно помириться с ними. Кланяйтесь от меня вашей дочери и всем остальным и скажите им, что, во-первых, я не имею еще доказательств перед глазами, что алмаз был украден; я только знаю, что алмаз пропал. И во-вторых, обращение мое к слугам заключается просто в том, чтобы просить их помочь мне.
Зная, какое действие произвело на женскую прислугу запрещение, наложенное инспектором Сигрэвом на их комнаты, я поспешил спросить:
— Могу ли я, мистер Кафф, сказать женщинам еще кое-что? Могу ли я им сообщить, что вы приказали им кланяться и сказать, что они свободно могут бегать по лестницам взад и вперед и заглядывать в свои комнаты, когда это им вздумается?
— Можете, — сказал сыщик.
— Это их всех тотчас смягчит, сэр, — заметил я, — начиная с кухарки и кончая судомойкой.
— Ступайте же и сделайте это немедленно, мистер Беттередж.
Я сделал это менее чем в пять минут. Было только одно затруднение, когда я дошел до спален. Мне, как главе слуг, понадобилось употребить всю свою власть, чтобы удержать всю женскую прислугу от попытки влететь наверх вслед за мной и Пенелопой в качестве добровольных свидетельниц, горячо желавших помочь сыщику Каффу.
Сыщику, по-видимому, понравилась Пенелопа. Он стал несколько менее сух, и на лице его появилось точно такое же выражение, какое было в то время, когда он приметил белую мускатную розу в цветнике. Вот показание моей дочери, взятое у нее сыщиком. Она дала его, мне кажется, очень мило, но ведь она вся в меня! В ней ничего нет материнского; слава богу, в ней ничего нет материнского!
Пенелопа показала, что ее весьма заинтересовала разрисовка двери и что она помогала смешивать краски; она приметила место под замком, потому что его раскрашивали последним; видела его несколько часов спустя без пятна; оставила его в двенадцать часов ночи без пятна. Простившись со своей барышней в этот час в ее спальне, она слышала, как часы пробили в “будуаре”; она держалась в это время за ручку разрисованной двери; знала, что краска сыра (так как помогала смешивать краски, как было выше сказано); особенно старалась поэтому не дотрагиваться до двери; могла присягнуть, что подобрала подол платья, и что тогда не было на краске пятна; не могла присягнуть, что ее платье случайно не коснулось двери, когда она выходила; помнила, какое платье было на ней, потому что оно было новое, подарок мисс Рэчель; отец ее тоже помнил и тоже мог это подтвердить; он подтвердил это и сам принес платье, бывшее на ней в тот вечер; юбку понадобилось рассматривать долго, ввиду обширности ее размеров, и ни одного пятнышка на ней нигде не оказалось.
Потом сыщик стал расспрашивать меня, нет ли у нас в доме больших собак, которые могли бы вбежать в комнату и размазать краску своим хвостом.
Услышав, что это было невозможно, он послал за увеличительным стеклом и попробовал разглядеть пятно с его помощью. На краске не виднелось следа человеческой руки. Все видимые признаки показывали, что краска была размазана чьим-то платьем. Тот, на ком было это платье, судя по показаниям Пенелопы и мистера Фрэнклина, чтоб сделать это пятно, должен был находиться в комнате между полуночью и тремя часами утра в четверг.
Доведя следствие до этого пункта, сыщик Кафф вспомнил, что в комнате еще находится инспектор Сигрэв, и, в назидание своему товарищу по службе, сделал следующий вывод из произведенного им следствия.
— Эти ваши пустяки, господин инспектор, — сказал он, указывая на пятно, — сделались довольно важными после того, как вы видели их в последний раз.
В том положении, в каком находится теперь следствие, это пятно должно привести к трем открытиям. Следует, во-первых, узнать, есть ли в этом доме одежда, запачканная такою краской. Во-вторых, выяснить, кому эта одежда принадлежит. В-третьих, добиться объяснений от этой особы; почему она была в этой комнате и как сделала это пятно между полуночью и тремя часами утра? Если эта особа не сможет дать удовлетворительного объяснения, то вам незачем искать далеко руку, похитившую алмаз. Я сделаю это сам, с вашего позволения, а вас не стану больше отрывать от ваших городских занятий. Я вижу, что у вас здесь есть один из ваших подчиненных. Оставьте его мне на всякий случай и позвольте мне пожелать вам всего доброго.
Уважение инспектора Сигрэва к сыщику было велико, но уважение его к себе самому было еще больше. Метко задетый знаменитым Каффом, он отразил удар не менее ловко.
— До сих пор я воздерживался от высказывания своего мнения, — сказал инспектор все тем же нисколько не изменившимся воинственным тоном. — Теперь мне остается заметить, оставляя следствие в ваших руках, что из мухи очень легко сделать слона. Прощайте!
— Легко также совсем не заметить мухи тем людям, которые слишком высоко задирают голову.
Ответив на комплимент своего собрата в таких выражениях, сыщик Кафф отвернулся от него и отошел к окну.
Мистер Фрэнклин и я ждали, что будет дальше. Сыщик стоял, засунув руки в карманы, глядел в окно и тихо насвистывал про себя мотив: “Последняя летняя роза”.
Позднее я заметил, что только этот свист выдавал работу его мысли, шаг за шагом продвигавшейся к цели. “Последняя летняя роза”, очевидно, помогала ему и ободряла его. Вероятно, она чем-нибудь соответствовала его характеру, напоминая ему, видите ли, о любимых розах; и насвистывал он эту песенку на самый заунывный мотив.
Постояв у окна минуты две, сыщик дошел до середины комнаты и остановился в глубокой задумчивости, устремив взгляд на спальню мисс Рэчель. Через несколько мгновений он опомнился, кивнул головой, как бы говоря: “Так будет лучше!”, и, обратясь ко мне, изъявил желание поговорить десять минут с моей госпожой, как только миледи сможет.
Выходя из комнаты с этим поручением, я слышал, как мистер Фрэнклин задал сыщику вопрос, и остановился на пороге двери выслушать ответ.
— Вы еще не догадываетесь, — спросил мистер Фрэнклин, — кто украл алмаз?
— Никто не крал алмаза, — ответил мистер Кафф.
Такой необыкновенный взгляд на дело заставил нас вздрогнуть, и мы оба стали убедительно просить его объяснить, что он хотел этим сказать.
— Подождите немного, — ответил сыщик.
Глава XIII
Я нашел миледи в ее кабинете. Она вздрогнула, и на лице ее выразилось неудовольствие, когда я заметил, что мистер Кафф желает говорить с нею.
— Неужели я обязана его принять? Не можете ли вы заменить меня, Габриэль?
Мне это показалось непонятным, и, наверное, недоумение отразилось на моем лице. Миледи соблаговолила объясниться.
— Я боюсь, что мои нервы несколько расстроены, — сказала она. — В этом лондонском полицейском есть что-то, внушающее мне отвращение, — не знаю почему. Я предчувствую, что он внесет расстройство и несчастье в мой дом.
Очень глупо и очень несвойственно мне, но это так.
Я не знал, что ей ответить на это. Чем больше я наблюдал сыщика Каффа, тем больше он мне нравился. Миледи, высказавшись передо мною, тотчас взяла себя в руки; как я уже говорил вам, она была по природе женщиной высокого мужества.
— Если необходимо увидеться с ним, делать нечего, — сказала она, — но я не могу решиться увидеться с ним наедине. Приведите его сюда, Габриэль, и оставайтесь здесь все время, пока останется он.
Это был первый приступ мигрени у моей госпожи с тех самых пор, как она еще была молодою девушкой. Я воротился в “будуар”. Мистер Фрэнклин вышел в сад к мистеру Годфри, время отъезда которого приближалось. Сыщик Кафф и я прошли прямо в комнату моей барыни.
Уверяю вас, миледи чуточку побледнела, когда увидела его. Однако она овладела собою и спросила сыщика, не имеет ли он чего-либо против моего присутствия в комнате. По доброте своей она прибавила, что я не только ее старый слуга, но надежный советчик, и что во всем, относящемся к домашним делам, она привыкла со мною советоваться. Сыщик вежливо ответил, что смотрит на мое присутствие как на помощь, потому что он должен сказать кое-что о слугах вообще, и нашел уже мою опытность в этом отношении полезною для себя. Миледи указала на два стула, и мы немедленно приступили к совещанию.
— Я уже составил свое мнение об этом деле, — начал сыщик Кафф. — Прошу у вас, миледи, позволения оставить его пока при себе. А сейчас я должен упомянуть о том, что нашел наверху, в гостиной мисс Вериндер, и чем решил — с вашего позволения, миледи, — заняться прежде всего.
Он рассказал о пятне на двери и о сделанном им выводе, который только что, лишь в менее почтительных выражениях, сообщил инспектору Сигрэву.
— Одно несомненно, — добавил он в заключение, — алмаз пропал из ящика шкапчика. Несомненно также и другое: следы от пятна на двери должны находиться на одежде, принадлежащей кому-нибудь в этом доме. Мы должны отыскать эту одежду, прежде чем сделаем следующий шаг.
— Это приведет, вероятно, к открытию вора? — спросила моя госпожа.
— Извините, миледи, — я не говорю, что алмаз украден. Я только говорю сейчас, что алмаз пропал. Если найдется запачканная одежда, то это может повести к отысканию алмаза.
Миледи посмотрела на меня.
— Понятно ли вам это? — спросила она.
— Сыщик Кафф понимает, миледи, — ответил я.
— Каким же образом вы собираетесь отыскать запачканное платье? — спросила госпожа моя, опять обращаясь к сыщику. — Стыдно сказать, но сундуки и комнаты моих добрых слуг, много лет живущих у меня, уже были обысканы первым следователем. Я не могу и не хочу позволить оскорблять их вторично!
Вот это так госпожа! Вот это так женщина, единственная на десять тысяч!
— На это я и хотел обратить внимание вашего сиятельства, — отозвался сыщик. — Первый следователь причинил много вреда следствию, дав понять слугам, что он подозревает их. Если я дам им повод думать, что их подозревают во второй раз, неизвестно, какие еще препятствия будут они нам чинить, особенно женщины. А между тем сундуки их должны быть обысканы опять, — по той простой причине, что первый осмотр имел в виду алмаз, а второй будет иметь в виду запачканное платье. Я совершенно согласен с вами, миледи, что следует пощадить чувства слуг. Но я также совершенно убежден, что гардероб слуг должен быть обыскан.
Мы были, по-видимому, в тупике. Миледи высказала это в выражениях более изысканных, чем я.
— Мне пришел в голову план, разрешающий это затруднение, — сказал сыщик Кафф. — Если вы, миледи, согласитесь на него, я намерен объявить об этом слугам.
— Женщины сейчас же вообразят, что их опять подозревают, — прервал я его.
— Не вообразят, мистер Беттередж, — ответил сыщик, — не вообразят, если я скажу им, что буду обыскивать гардероб всех, — начиная с миледи и тех, кто ночевал в доме в среду. Это простая формальность, — прибавил он, взглянув искоса на мою госпожу, — но служанки подумают, что их ставят наравне с господами, и вместо того чтобы мешать следствию, сочтут за честь содействовать ему.
Я должен был признать, что он прав. Миледи, когда прошло ее изумление, также это признала.
— Вы уверены, что такой обыск нужен? — спросила она.
— Это кратчайший путь к цели из всех, какие я вижу, миледи.
Госпожа моя встала, чтобы позвонить горничной.
— Мы поговорим со слугами, как только ключи от моего гардероба будут в ваших руках.
Сыщик Кафф остановил ее неожиданным вопросом:
— Не лучше ли нам прежде убедиться в согласии на это других дам и джентльменов, находящихся в доме?
— Единственная другая дама в доме — мисс Вериндер, — ответила моя госпожа с удивлением. — Единственные джентльмены — мои племянники, мистер Блэк и мистер Эбльуайт. Нечего опасаться отказа с их стороны!
Я напомнил миледи, что мистер Годфри уезжает. Не успел я произнести эти слова, как мистер Годфри сам постучался в дверь, чтобы проститься; вслед за ним пришел и мистер Фрэнклин, собиравшийся проводить его до станции.
Миледи объяснила им наше затруднение. Мистер Годфри тотчас его решил. Он крикнул Самюэлю в окно, чтобы тот опять внес наверх его чемодан, а потом сам отдал ключ сыщику Каффу.
— Мои вещи можно переслать ко мне в Лондон, — сказал он, — когда кончится следствие.
Сыщик принял ключи с приличествующим извинением:
— Мне жаль, что я ввожу вас в хлопоты, сэр, из-за пустой формальности, но пример господ примирит и прислугу с обыском.
Мистер Годфри с большим чувством простился с миледи, прося ее передать его почтение мисс Рэчель, в выражениях, доказывавших, что он не принимает ее “нет” за окончательный отказ и намерен снова посвататься к ней при первом удобном случае. Мистер Фрэнклин, уходя вслед за своим кузеном, сообщил сыщику, что все его вещи готовы для осмотра и что все принадлежащее ему никогда не запирается. Сыщик Кафф изъявил ему свою признательность. Заметьте, что план его был принят с чрезвычайной готовностью как миледи, так и мистером Фрэнклином и мистером Годфри.
Осталось только получить согласие мисс Рэчель, прежде чем созвать слуг и начать поиски запачканного платья.
Необъяснимое отвращение миледи к сыщику как будто еще усилилось после их ухода.
— Если я пришлю вам ключи мисс Вериндер, — сказала она, — полагаю, вам пока ничего более от меня не нужно?
— Прошу извинения у вас, миледи, — сказал мистер Кафф. — Прежде чем мы начнем, мне хотелось бы заглянуть в бельевую книгу, где записывается нательное белье. Запачканная одежда, может быть, относится к белью. Если эти поиски не приведут ни к чему, я попрошу сообщить мне обо всем белье, находящемся в доме, и обо всем белье, отданном в стирку; если какой-нибудь вещи недостанет, можно будет предположить, что именно на ней осталась краска и что эта вещь с умыслом припрятана вчера или сегодня тем лицом, которому она принадлежит. Инспектор Сигрэв, — прибавил Кафф, обернувшись ко мне, — обратил внимание служанок на пятно, когда они столпились в комнате в четверг утром. Может быть, мистер Беттередж, и это окажется одною из многочисленных ошибок инспектора Сигрэва.
Миледи велела мне позвонить и приказать принести бельевую книгу. Она оставалась с нами до тех пор, пока не принесли эту книгу, на тот случай, если б, просмотрев ее, сыщик Кафф опять захотел спросить о чем-нибудь.
Книгу для записи белья принесла Розанна Спирман. Эта девушка пришла к завтраку страшно бледная и расстроенная, но, очевидно, достаточно оправившаяся от своего вчерашнего нездоровья, чтобы приняться за работу.
Сыщик Кафф пристально вгляделся в нашу вторую служанку и в ее лицо, когда она вошла, и в ее уродливое плечо, когда она вышла.
— Имеете ли вы еще что-нибудь сказать мне? — спросила миледи с нетерпением, желая поскорее освободиться от общества сыщика.
Знаменитый Кафф открыл книгу, разобрался в ней в полминуты и опять закрыл ее.
— Я осмелюсь обеспокоить вас, миледи, только одним вопросом, — сказал он. — Молодая женщина, которая принесла сюда эту книгу, служит у вас так же давно, как и другие слуги?
— Почему вы об этом спрашиваете?
— Потому что, когда я видел ее в последний раз, она сидела в тюрьме за воровство.
После этого ничего не оставалось, как сказать ему всю правду. Госпожа моя распространилась о хорошем поведении Розанны в ее доме и упомянула, что надзирательница исправительного дома была о ней самого лучшего мнения.
— Надеюсь, вы не подозреваете ее? — в заключение и очень серьезно прибавила миледи.
— Я уже говорил вам, миледи, что до настоящего времени никого в доме не подозреваю в воровстве.
После этого ответа миледи встала, чтобы отправиться наверх, за ключами мисс Рэчель. Мистер Кафф опередил меня, поспешно открыв перед нею дверь и отвесив ей низкий поклон. Миледи задрожала, проходя мимо него.
Мы ждали, ждали, а ключей все не было. Сыщик Кафф не сделал мне никакого замечания. Он обратил к окну свое меланхолическое лицо, засунул в карманы свои худощавые руки и уныло насвистывал про себя “Последнюю летнюю розу”.
Наконец вошел Самюэль, но не с ключами, а с запиской ко мне. Я неловко и с трудом надел очки, чувствуя, что унылые глаза сыщика неотступно устремлены на меня.
На клочке бумаги рукою миледи были написаны три строчки карандашом. Она сообщала мне, что мисс Рэчель наотрез отказалась показать свой гардероб.
Я понял нежелание миледи встретиться с сыщиком Каффом после подобного ответа ее дочери. Не будь я слишком стар для юношеской конфузливости, мне кажется, я покраснел бы от мысли, что должен на него взглянуть.
— Известие о ключах мисс Вериндер? — спросил сыщик.
— Барышня не соглашается на обыск своего гардероба.
— А!
Голос его не был подчинен такой совершенной дисциплине, как его лицо.
Когда он сказал: “А!” — это было сказано тоном человека, который услышал то, что ожидал услышать. Он и рассердил и испугал меня, — почему, сказать не могу, но это было так.
— От обыска придется отказаться? — спросил я.
— Да, — ответил Кафф, — от обыска придется отказаться, потому что ваша барышня не соглашается подвергнуться ему наравне с другими. Мы должны или осмотреть все гардеробы в доме, или не осматривать ни одного. Пошлите чемодан мистера Эбльуайта в Лондон с первым же поездом, а книгу для белья возвратите с моим поклоном и благодарностью молодой женщине, которая принесла ее.
Он положил книгу на стол и, вынув перочинный ножик, стал чистить себе ногти.
— Вы, кажется, не очень обманулись в своих ожиданиях? — спросил я.
— Да, — ответил сыщик Кафф, — не очень.
Я постарался заставить его объясниться.
— Зачем же мисс Рэчель препятствовать вам? — спросил я. — Кажется, ее интересы требуют, чтобы она вам помогала.
— Подождите немножко, мистер Беттередж, подождите немножко.
Головы поумнее моей могли бы понять смысл его слов. Или человек, менее привязанный к Рэчель, чем я, мог бы видеть, куда он метит. Отвращение миледи к нему могло означать, — как я понял уже впоследствии, — что она видела, куда он метил.
— Что же теперь делать? — спросил я.
Сыщик Кафф кончил чистить ногти, посмотрел на них минуту с меланхолическим интересом и спрятал свой перочинный ножик.
— Пойдемте, — сказал он, — поглядим на розы.
Глава XIV
Ближайший путь из кабинета миледи в сад вел через известный вам кустарник. Для того чтобы вы лучше поняли дальнейшее, я должен прибавить, что дорожка в кустарнике была излюбленной прогулкой мистера Фрэнклина.
Когда он исчезал из дома и его нигде не могли найти, мы обыкновенно находили его там.
Надо признаться, читатель, я довольно упрямый старик. Чем упорнее сыщик Кафф скрывал от меня свои мысли, тем упорнее старался я в них проникнуть.
Когда мы свернули в кустарник, я попытался провести его другим способом.
— При настоящем положении вещей, — сказал я, — на вашем месте я стал бы в тупик.
— При настоящем положении вещей, — ответил Кафф, — на моем месте вы пришли бы к выводу, который уничтожил бы всякое сомнение. Оставим этот вывод пока в стороне, мистер Беттередж. Я привел вас сюда не за тем, чтобы вы подкапывались под меня, как барсук; я привел вас сюда для того, чтобы получить от вас некоторые сведения. Конечно, вы могли бы сообщить их мне и в доме. Но двери и слушатели взаимно притягивают друг друга, и люди моей профессии иногда имеют полезное для здоровья пристрастие к свежему воздуху.
Немыслимо было провести этого человека. Я уступил и стал терпеливо, насколько мог, ожидать, что последует дальше.
— Не будем вникать в причины поведения вашей барышни, — продолжал сыщик, — пожалеем только, что она отказывается мне помочь, потому что, поступая так, она делает следствие более трудным, чем оно могло бы быть.
Мы должны теперь постараться без ее помощи разрешить тайну пятна, которое, верьте моему слову, является также и тайной алмаза. Я решил повидать слуг и исследовать их мысли и поступки, мистер Беттередж, вместо того чтобы обыскивать их гардеробы. Однако, прежде чем приступить к этому, я хотел бы задать вам два вопроса. Вы человек наблюдательный; скажите, не заметили ли вы какой-нибудь странности в ком-либо из слуг, — кроме, разумеется, весьма естественного испуга и волнения, — после того, как обнаружилась пропажа алмаза? Не было ли между ними какой-нибудь особенной ссоры? Например, не рассердился ли кто-нибудь совершенно неожиданно? Или не занемог ли вдруг?
Я вспомнил о внезапной болезни Розанны Спирман за вчерашним обедом, но не успел ответить, как сыщик вдруг уставился на кустарник и пробормотал про себя:
— Ага!
— Что случилось? — спросил я.
— Опять приступ ревматизма, — ответил сыщик громким голосом, словно желая, чтобы нас услышало третье лицо. — Должно быть, к перемене погоды.
Еще несколько шагов, и мы очутились у дома. Круто повернув направо, мы вышли на террасу и спустились по ступенькам в нижний сад. Сыщик Кафф остановился на открытом месте, откуда все хорошо было видно на большом расстоянии.
— Невероятно, чтобы эта молодая девушка, Розанна Спирман, с такой наружностью имела любовника, — сказал он, — но в интересах этой девушки я должен спросить у вас сейчас, не обзавелась ли она, бедняжка, обожателем, по примеру остальных?
Что означал его вопрос при данных обстоятельствах? Вместо ответа я вытаращил на него глаза.
— Дело в том, что я приметил Розанну Спирман, прятавшуюся в кустах, когда мы проходили мимо, — сказал сыщик.
— Это когда вы сказали “ага”?
— Да, когда я сказал “ага”. Если у нее есть обожатель, такое поведение не означает ничего. Если же нет, то, при настоящем положении дел в доме, это крайне подозрительно, и, как мне ни жаль, я буду вынужден действовать соответствующим образом.
Что мог я ему сказать? Я знал, что кустарник был любимой прогулкой мистера Фрэнклина; я знал, что, по всей вероятности, он пойдет по этой дороге, возвращаясь со станции; я знал, что Пенелопа не раз заставала тут свою подругу и всегда уверяла меня, что Розанна хотела привлечь к себе внимание мистера Фрэнклина. Если дочь моя права, Розанна могла тут поджидать возвращения мистера Фрэнклина как раз в то время, когда сыщик заметил ее, Я был поставлен перед трудным выбором — или упомянуть о фантазиях Пенелопы, как о своих собственных, или предоставить несчастной девушке пострадать от последствий, от очень серьезных последствии, возбудив подозрения сыщика Каффа. Из чистого сострадания к девушке — клянусь честью и душою, из чистого сострадания к девушке — я дал сыщику необходимые объяснения и сказал ему, что Розанна имела неосмотрительность влюбиться в мистера Фрэнклина Блэка.
Инспектор Кафф не смеялся никогда. В тех немногих случаях, когда что-нибудь казалось ему забавным, углы его губ слегка кривились, и только.
Они слегка покривились и сейчас.
— Не лучше ли было бы вам сказать, что она имела неосмотрительность родиться безобразной и служанкой? — спросил он. — Влюбиться в джентльмена с наружностью и обращением мистера Фрэнклина кажется мне не самым большим сумасбродством в ее поведении. Однако я рад, что все выяснилось. Как-то легче на душе, когда хоть какая-нибудь загадка разрешается. Да, я сохраню ото в тайне, мистер Беттередж. Я люблю обращаться нежно с человеческими недугами, хоть мне в моей профессии не так уж часто представляется такой случай. Вы думаете, мистер. Фрэнклин Блэк не подозревает о склонности этой девушки? Поверьте, он скорехонько узнал бы о ней, будь девушка недурна собой. Некрасивым женщинам плохо живется на этом свете; будем надеяться, что они получат награду на том. А у вас премиленький сад, и как хорошо содержится луг! Посмотрите сами, насколько красивей кажутся цветы, когда их окружает трава, а не песок. Нет, благодарю. Я не сорву розу. У меня болит сердце, когда их срывают со стеблей, так же, как у вас болит сердце, когда что-нибудь неладно в людской. Вы не заметили что-нибудь необычное для вас в слугах, когда узнали о пропаже алмаза?
До сих пор я держал себя очень откровенно с сыщиком Каффом. Но вкрадчивость, с какою он вторично обратился ко мне с этим вопросом, заставила меня быть осторожнее. Сказать попросту, меня вовсе не радовала мысль помогать его розыскам, если эти розыски приводили его, словно змею, ползущую в траве, к моим товарищам — слугам.
— Я ничего не заметил, — сказал я, — кроме того, что все мы растерялись, включая и меня самого.
— О! — сказал сыщик. — И вы ничего больше не имеете мне сказать, не так ли?
Я ответил с невозмутимой физиономией (льщу себя этой мыслью):
— Ничего.
Унылые глаза сыщика Каффа пристально уставились мне в лицо.
— Мистер Беттередж, — сказал он, — позвольте пожать вам руку. Я чрезвычайно вас полюбил.
Почему он выбрал именно эту минуту, когда я обманул его, чтоб высказать мне свое расположение, понять но могу. Но, разумеется, я несколько возгордился, не на шутку возгордился тем, что наконец-то провел знаменитого Каффа!
Мы вернулись домой, Кафф попросил отвести ему для допроса особую комнату, а потом присылать туда слуг, живущих в доме, одного за другим, по порядку их звания, от первого до последнего.
Я привел сыщика Каффа в свою собственную комнату, а потом созвал всех слуг в переднюю. Розанна Спирман пришла вместе с другими, такая же, как всегда. Она была в своем роде не менее опытна, нежели сыщик, и, я подозреваю, слышала в кустарнике, как он расспрашивал меня о слугах вообще, прежде чем увидел ее. Но по лицу ее нельзя было и догадаться, что она помнит о существовании такого места, как наш кустарник.
Я отправлял к сыщику одну служанку за другой, как мне было ведено.
Кухарка первая вошла в судилище, другими словами — в мою комнату. Она оставалась там очень недолго. Выводом ее было, когда она вышла:
— Сыщик Кафф не в духе, но сыщик Кафф настоящий джентльмен.
Вслед за нею отправилась горничная миледи. Оставалась она гораздо дольше. Заключением ее было, когда она вышла:
— Если сыщик Кафф не верит словам порядочной женщины, то он мог бы, по крайней мере, оставить свое мнение при себе!
Потом отправилась Пенелопа. Оставалась минуты две, не больше. Донесение:
— Сыщика Каффа очень жаль; должно быть, он в молодости был несчастлив в любви, батюшка.
После Пенелопы пошла старшая служанка. Оставалась, как и горничная миледи, довольно долго. Вывод:
— Я поступила к миледи не затем, чтобы какой-нибудь полицейский подозревал меня в глаза.
Потом пошла Розанна Спирман. Оставалась дольше всех. Никакого вывода — мертвое молчание и бледные, как смерть, губы. Самюэль, лакей, пошел вслед за Розанной. Оставался минуты две. Донесение:
— Стыдно должно быть тому, кто чистит сапоги мистеру Каффу.
Нанси, судомойка, пошла последней; оставалась минуты две. Донесение:
— У сыщика есть сердце, он не насмехается, мистер Беттередж, над бедной работящей девушкой.
Отправившись в судилище, когда все уже было закончено, узнать, не будет ли мне каких-нибудь новых приказаний, я нашел сыщика глядящим в окно и насвистывающим “Последнюю летнюю розу”.
— Набрели на что-нибудь, сэр? — спросил я.
— Если Розанна Спирман отпросится из дому, — сказал сыщик, — отпустите ее, бедняжку, но сперва дайте мне знать.
Уж лучше было бы мне промолчать о Розанне и мистере Фрэнклине. Было ясно, что несчастная девушка возбудила подозрения сыщика Каффа, несмотря на все мои старания не допустить этого.
— Надеюсь, вы не считаете Розанну причастной к пропаже алмаза? — осмелился я спросить.
Углы меланхолических губ Каффа искривились, и он пристально посмотрел мне в лицо.
— Я думаю, лучше будет не говорить вам ничего, мистер Беттередж, — сказал он, — а иначе вы, пожалуй, расстроитесь.
Я усомнился: уж точно ли удалось мне тогда, в саду, провести знаменитого Каффа. К моему облегчению, нас прервал стук в дверь, и пришло известие кухарки: Розанна Спирман отпросилась выйти, по всегдашней своей причине: болит голова и хочется подышать свежим воздухом.
По знаку сыщика я сказал:
— Пусть ее идет.
— Где у вас выход для прислуги? — спросил он, едва мы остались одни.
Я показал ему его.
— Заприте дверь вашей комнаты, — проговорил сыщик, — и если кто-нибудь спросит обо мне, скажите, что я сижу здесь и размышляю.
Он опять скривил углы губ и исчез.
Оставшись один, я почувствовал сильнейшее любопытство, подтолкнувшее меня самолично заняться розысками.
Было ясно, что подозрения сыщика Каффа были возбуждены ответами слуг на допросе. А между тем две служанки (кроме самой Розанны), остававшиеся на допросе дольше других, — горничная миледи и горничная по дому, — были из самых ярых гонительниц несчастной девушки. Придя к этому заключению, я будто случайно заглянул в людскую, увидел, что там происходит чаепитие, и тотчас на него напросился.
Надежда моя найти союзника в чайнике оправдалась. Менее чем через полчаса я знал столько же, сколько сам сыщик.
Ни горничная миледи, ни первая горничная по дому не поверили вчерашней болезни Розанны. Эти две чертовки — прошу прощения, но как же иначе назвать злых женщин? — несколько раз прокрадывались в четверг после полудня наверх, пытаясь отворить дверь Розанны и всякий раз находя ее запертою, стучались и но получали ответа, слушали и не слышали никакого звука изнутри.
Когда девушка спустилась к чаю и снова была отослана в постель по причине нездоровья, две вышеупомянутые чертовки опять попробовали отворить ее дверь и нашли ее запертой, заглянули в замочную скважину и нашли ее заткнутой, видели свет под дверями в полночь и слышали треск огня (огонь в спальне служанки в июне!) в четыре часа утра. Все это они рассказали сыщику Каффу, который, вместо благодарности за их желание помочь ему, посмотрел на них кислым и подозрительным взглядом, явно показывая, что не верит ни той, ни другой. Отсюда — нелестный отзыв обеих женщин о сыщике.
Отсюда (а также и под влиянием чайника) — их готовность дать волю языку о неджентльменском обращении сыщика с ними.
Так как я уже подметил уловки знаменитого Каффа и знал, что он намерен тайно следить за Розанной, когда она выйдет на прогулку, мне стало ясно, что он нарочно не показал обеим горничным, как существенно они ему помогли. Покажи только женщинам подобного рода, что считаешь их показания достойными доверия, и они до того зачванятся этим, такого наговорят, что сразу заставят Розанну Спирман быть начеку.
Я вышел из дома. Летний вечер был удивительно хорош. Я сильно жалел бедную девушку и вообще был очень встревожен оборотом, какой приняло дело.
Направившись к кустарнику, я встретил мистера Фрэнклина в его любимой аллее. Он давно уже вернулся со станции и успел переговорить с миледи. Она рассказала ему о непонятном отказе мисс Рэчель дать осмотреть ее гардероб и привела его этим в такое уныние, что он, казалось, не решался больше говорить о барышне. Фамильный характер сказался в нем в этот вечер впервые во всей своей силе.
— Ну, Беттередж, — сказал он, — как нравится вам атмосфера тайны и подозрения, в которой мы все теперь живем? Помните утро, когда я приехал с Лунным камнем? Боже мой, как я жалею, что мы не бросили его в пески!
После этой вспышки он не захотел продолжать разговора, пока не успокоится. Мы молча шли рядом минуты две, а потом он спросил меня, куда делся сыщик Кафф. Невозможно было обмануть мистера Фрэнклина, сказав ему, будто сыщик сидит в моей комнате и размышляет. Я рассказал ему все, как было, упомянув в особенности то, что горничная миледи и горничная по дому сообщили о Розанне Спирман.
Ясный ум мистера Фрэнклина постиг в одно мгновение, на кого направлены подозрения сыщика.
— Вы, кажется, говорили мне сегодня утром, — сказал он, — что один из лавочников уверял, будто встретил Розанну вчера, по дороге во Фризинголл, когда мы предполагали, что она лежит больная в своей комнате?
— Да, сэр.
— Если горничная тетушки и другая женщина говорят правду, значит лавочник действительно встретил ее. Болезнь была предлогом, чтобы нас обмануть. У нее была какая-нибудь преступная причина, для того чтобы тайно побывать в городе. Запачканное краской платье, по-видимому, принадлежит ей, а огонь в ее комнате в четыре часа был разведен для того, чтобы сжечь это платье. Розанна Спирман украла алмаз. Я сейчас же пойду и скажу тетушке, какой оборот приняло дело.
— Нет, повремените еще, сэр, — послышался меланхолический голос позади нас.
Мы быстро обернулись и очутились лицом к лицу с сыщиком Каффом.
— Почему же? — спросил мистер Фрэнклин.
— Потому что, сэр, если вы скажете миледи, то миледи передаст это мисс Вериндер.
— Предположим, что передаст. А дальше?
Мистер Фрэнклин произнес это с внезапным жаром и запальчивостью, как если б сыщик смертельно оскорбил его.
— А как вы думаете, сэр, — спокойно сказал сыщик Кафф, — благоразумно ли задавать этот вопрос мне — и в такую минуту?
Наступило минутное молчание. Мистер Фрэнклин приблизился к сыщику. Оба они пристально посмотрели в лицо друг другу. Мистер Фрэнклин заговорил первый, понизив голос так же внезапно, как повысил его.
— Я полагаю, вам известно, мистер Кафф, — сказал он, — что вы ведете дело чрезвычайно щекотливое.
— Не в первый, а может быть, в сотый раз веду я щекотливое дело, — ответил тот со своим обычным бесстрастием.
— Вы хотите сказать, что запрещаете мне говорить тетушке о случившемся?
— Я хочу сказать, сэр, что я брошу это дело, если вы сообщите леди Вериндер или кому бы то ни было о том, что случилось, пока я не дам вам позволения на это.
Эти слова решили вопрос. Мистеру Фрэнклину ничего больше не оставалось, как покориться; он гневно повернулся и оставил нас.
Я с трепетом слушал их, не зная, кого подозревать и что теперь думать.
Но, несмотря на мое смущение, две вещи были мне ясны: во-первых, что барышня, неизвестно почему, была причиною тех колкостей, которые они наговорили друг другу. Во-вторых, что они совершенно поняли друг друга, не обменявшись накануне никакими предварительными объяснениями.
— Мистер Беттередж, — сказал сыщик, — вы сделали очень большую глупость в мое отсутствие. Вы сами пустились на розыски. Впредь, может быть, вы будете так любезны, что станете производить розыски совместно со мной.
Он взял меня под руку и повел по дороге, которой сюда пришел. Должен признаться, что хотя я и заслужил его упрек, тем не менее я не собирался помогать ему расставлять ловушки Розанне Спирман. Воровка она была или нет, законно это или нет, мне было все равно, — я ее жалел.
— Чего вы хотите от меня? — спросил я, вырвав свою руку и остановившись.
— Только небольших сведений о здешних окрестностях, — ответил сыщик.
Я не мог отказаться пополнить географический багаж сыщика Каффа.
— Есть ли на этой стороне какая-нибудь дорога, которая вела бы от морского берега к дому? — спросил Кафф.
С этими словами он указал на сосновую аллею, которая вела к Зыбучим пескам.
— Да, — ответил я, — тут есть дорожка.
— Покажите ее мне.
Рядышком, в сумерках летнего вечера, оба мы, сыщик и я, отправились к Зыбучим пескам.
Глава XV
Кафф молчал, погруженный в свои думы, пока мы не вышли в сосновую аллею. Тут он очнулся, как человек, принявший решение, и опять заговорил со мной.
— Мистер Беттередж, — сказал он, — так как вы сделали мне честь и впряглись, как говорится, со мной в одну упряжку и так как я думаю, что вы можете быть мне полезны еще до истечения нынешнего вечера, — я не вижу никакой надобности мистифицировать друг друга и намерен со своей стороны подать вам пример откровенности. Вы решили не сообщать мне никаких сведений, которые могли бы повредить Розанне Спирман, потому что с вами она вела себя хорошо и потому что вам искренно жаль ее. Эти гуманные побуждения делают вам большую честь, по в данном случае они совершенно бесполезны. Розанне Спирман не грозит никакая опасность, даже если я обвиню ее как соучастницу в пропаже алмаза, на основании улик, которые так же очевидны для меня, как нос на вашем лице.
— Вы хотите сказать, что миледи не станет преследовать ее судебным порядком? — спросил я.
— Я хочу сказать, что миледи не сможет преследовать ее, — ответил сыщик. — Розанна Спирман — не более как орудие в руках другого лица, и ради этого другого лица Розанна Спирман будет пощажена.
Он говорил серьезно, в этом нельзя было сомневаться. Однако в душе моей шевельнулось что-то недоброе против него.
— Не можете ли вы назвать это другое лицо? — спросил я.
— Не можете ли вы, мистер Беттередж?
— Нет.
Сыщик Кафф все стоял неподвижно и смотрел на меня с меланхолическим участием.
— Мне всегда приятно обращаться нежно с людскими слабостями, — сказал он. — А в настоящую минуту я испытываю прямо нежность к вам, мистер Беттередж. А вы, по той же прекрасной причине, чувствуете особенную нежность к Розанне Спирман, не правда ли? Скажите, не сшила ли она себе недавно новое белье?
К чему он так неожиданно ввернул этот странный вопрос, я никак не мог догадаться. Но, не видя, чем правда могла бы повредить Розанне, я ответил, что девушка поступила к нам с очень скудным запасом белья и что миледи в вознаграждение за ее хорошее поведение (я сделал ударение на последних словах) подарила ей новое белье недели две тому назад.
— Как жалок этот свет! — сказал сыщик. — Человеческая жизнь есть нечто вроде мишени, в которую несчастье стреляет беспрестанно и всегда попадает в цель. Если б не этот новый запас белья, мы легко нашли бы новую кофту или юбку в вещах Розанны и уличили бы ее таким образом. Вы следите за моей мыслью, не так ли? Вы сами допрашивали служанок и знаете, какие открытия сделали две из них у двери Розанны. Наверно, вы знаете, чем занималась вчера девушка, после того как она занемогла? Вы не можете догадаться? О боже мой! Это так же ясно, как полоса света вон там за деревьями. В одиннадцать часов в четверг утром инспектор Сигрэв (это скопление человеческих слабостей) указывает всем женщинам пятно на двери. У Розанны есть основание бояться за свои собственные вещи; она пользуется первым удобным случаем, чтобы уйти в свою комнату, находит пятно на своей кофточке или юбке, или все равно на чем, притворяется больною, пробирается в город, покупает материал для новой юбки или кофты, шьет ее одна в своей комнате в четверг ночью, разводит огонь (не для того, чтоб сжечь: две ее подруги подсматривают у дверей, и она знает, что запах гари ее выдаст, да ей и некуда деть кучу пепла), — разводит огонь, говорю я, чтобы выстирать, высушить и выгладить подмененную юбку, а запачканную скрывает (вероятно, на себе) и вот сейчас, в эту самую минуту, старается уничтожить ее где-нибудь в удобном местечке на этом уединенном берегу перед нами. Я видел сегодня вечером, как она зашла в рыбачьей деревне в одну хижину, куда, может быть, и мы с вами заглянем до возвращения домой. Она оставалась в этой хижине некоторое время и вышла оттуда (как мне показалось) с чем-то спрятанным под плащом. Плащ на женщине — эмблема милосердия — прикрывает множество грехов. Я видел, как она отправилась к северу вдоль берега, когда вышла из хижины. Неужели ваш морской берег считается таким живописным, мистер Беттередж?
Я ответил “да” так коротко, как только мог.
— Вкусы бывают разные, — сказал сыщик Кафф. — На мой взгляд, нет морского ландшафта, который был бы менее приятен. Если бы вам понадобилось следить за другим человеком, идя по этому берегу, и если б человек этот внезапно оглянулся, вы бы не нашли ни малейшего местечка, за которым вы могли бы спрятаться. Мне оставалось выбрать одно из двух: или посадить Розанну в тюрьму по подозрению, или предоставить ей действовать по своему усмотрению. По причинам, объяснением которых не стану вам надоедать, я предпочел лучше пойти на всевозможные жертвы, нежели возбудить тревогу в одной особе, которую мы с вами называть не станем. Я вернулся домой, чтобы попросить вас провести меня к северному концу берега другой дорогой. Песок — одна из лучших мне известных ищеек, — он отлично ведет вас по следу.
Если мы не встретим Розанну Спирман на обратном пути, то песок, пока еще светло, может сказать нам, где она была. Вот песок. Вы меня извините, но я посоветую вам идти молча и пропустить меня вперед.
Если докторам известна болезнь под названием сыскной лихорадки, — то именно такая болезнь овладела сейчас вашим нижайшим слугой. Сыщик Кафф спустился между песчаными холмами к берегу. Я последовал за ним, с сильно бьющимся сердцем, и ждал поодаль, что будет дальше.
Оглядевшись, я увидел, что стою на том самом месте, где Розанна Спирман разговаривала со мною в тот день, когда мистер Фрэнклин вдруг появился перед нами, приехав из Лондона. Покуда взгляд мой следовал за сыщиком, мысли мои невольно устремились к тому, что тогда произошло между Розанной и мною. Уверяю вас, я почти чувствовал, как бедняжка с признательностью пожала мне руку за ласковые слова, сказанные ей. Уверяю вас, я почти слышал, как голос ее говорил мне, что Зыбучие пески притягивают ее против воли, почти видел, как лицо ее просияло, когда она вдруг заметила мистера Фрэнклина, внезапно вышедшего к нам из-за холмов. Тоска моя все усиливалась, и я еще больше растревожился, когда огляделся вокруг, чтоб оторваться от своих мыслей.
Последний вечерний свет быстро догорал, и над этим печальным местом нависла какая-то зловещая тишина. Волны океана набегали на большой песчаный берег бухты, не производя ни малейшего звука. Ни малейший ветерок не тревожил водного пространства, лежавшего неподвижно и мрачно, до самого горизонта. Клочки грязной тины, желтовато-белые, плавали по мертвой поверхности воды. Ил и пена заметно мелькали в тех местах, где последний свет еще падал на них между двух больших утесов, выступавших с севера и с юга в море. Начинался отлив, и, пока я стоял и ждал, широкая поверхность Зыбучих песков стала морщиться и дрожать, — это было единственное движение в этом отвратительном месте.
Я видел, как сыщик вздрогнул, когда колебание песка бросилось ему в глаза. Посмотрев на него минуты две, он отвернулся и снова подошел ко мне.
— Коварное это место, мистер Беттередж, — сказал он, — и никаких следов Розанны Спирман на всем берегу, куда бы вы ни посмотрели.
Он повел меня ближе к берегу, и я сам увидел, что только его следы и мои виднелись на песке.
— В какой стороне от нас рыбачья деревня? — спросил сыщик Кафф.
— Коббс-Голл, — ответил я (так называлась деревня), — будет отсюда к югу.
— Я видел, как девушка шла сегодня вечером к северу вдоль берега из Коббс-Голла, — сказал сыщик. — Следовательно, она направлялась к этому месту. Коббс-Голл по ту сторону вон того мыска? Не можем ли мы пройти туда берегом, так как вода теперь стоит низко?
Я ответил утвердительно на оба вопроса.
— Вы меня извините, если я попрошу вас пойти скорее, — сказал сыщик. — Мне нужно, прежде чем стемнеет, отыскать то место, где она сошла с берега.
Мы прошли, как мне кажется, шагов двести к Коббс-Голлу, как вдруг сыщик Кафф опустился на колени, словно почувствовал внезапное желание помолиться богу.
— Можно кое-что сказать в пользу вашего морского пейзажа, — заметил он.
— Вот женские следы, мистер Беттередж! Назовем их следами Розанны, пока не найдем противоположных доказательств, против которых нам не устоять. Следы очень сбивчивые, заметьте, — с умыслом сбивчивые, сказал бы я. Ах, бедняжка! Она знает так же хорошо, как и я, предательские особенности песка. Но не слишком ли торопливо стирала она следы? Вот один идет из Коббс-Голла, а другой обратно. Не правда ли, носок ее ботинка прямо указывает на воду? И не вижу ли я отпечатки двух каблуков дальше по берегу и также возле воды? Я не хочу оскорблять ваши чувства, но боюсь, что Розанна хитра. Она как будто намеревалась пройти к тому месту, откуда мы сейчас ушли, не оставив на песке следов, по которым ее можно было бы отыскать. Не допустить ли нам, что она шла по воде, пока не дошла до выступа скал, что позади нас, и вернулась тою же дорогою, а потом опять пошла по берегу, где еще остались следы двух каблуков? Да, мы это допустим. Это согласуется с моим предположением, что у нее было что-то под плащом, когда она выходила из хижины. Нет! Не для того, чтобы уничтожить это, — ведь тогда ни к чему были бы все эти старания не дать мне отыскать место, где кончилась ее прогулка. А для того, чтобы спрятать это здесь, — вот, думается, более правильная догадка. Может быть, зайдя в хижину, мы узнаем, что именно она несла?
Моя сыскная лихорадка вдруг прошла.
— Я вам не нужен, — сказал я. — Какую пользу могу я вам принести?
— Чем больше узнаю вас, мистер Беттередж, — сказал сыщик, — тем больше добродетелей открываю в вас. Скромность! О господи! Как редко встречается скромность на белом свете и как много этой редкой добродетели в вас! Если я один войду в хижину, хозяева насторожатся при первом же моем вопросе.
Если я войду с вами, меня представит уважаемый сосед, и беседа потечет непринужденно. В таком свете представляется это дело мне; а как оно представляется вам?
Не придумав удачного ответа так скоро, как мне хотелось бы, я постарался выиграть время, спросив, в какую хижину он хочет войти.
Когда сыщик описал мне место, я тотчас узнал в нем хижину рыбака по имени Йолланд, живущего с женой и двумя взрослыми детьми, сыном и дочерью.
Если вы оглянетесь несколько назад, вы припомните, что, представляя впервые вашему вниманию Розанну Спирман, я упомянул, что, бывая на Зыбучих песках, она изредка посещала друзей в Коббс-Голле. Друзья эти и были Йолланды — почтенные, достойные люди, делавшие честь нашим окрестностям.
Знакомство Розанны с ними началось собственно с их хромой дочери, известной под именем Хромоножки Люси. Две страдавшие физическим недостатком девушки имели, по-видимому, какое-то дружеское тяготение друг к другу. Как бы то ни было, Йолланды и Розанна в те редкие случаи, когда встречались, всегда были в теплых, приятельских отношениях. И то, что сыщик Кафф проследил девушку до их коттеджа, заставило меня по-новому отнестись к его просьбе помочь ему. Розанна пошла туда, где часто бывала, — и доказать, что она была в обществе рыбака и его семьи, было все равно, что доказать ее полную невинность. Стало быть, выполнить просьбу сыщика Каффа значило оказать девушке услугу, а не вред.
Мы пошли в Коббс-Голл и, пока было еще светло, видели следы на песке.
Когда мы дошли до хижины, выяснилось, что рыбак с сыном уехали в лодке, а Хромоножка Люси, всегда слабая и утомленная, отдыхала наверху в своей спальне. Добрая миссис Йолланд одна приняла нас в кухне. Когда она услышала, что сыщик Кафф — лицо, знаменитое в Лондоне, она поставила на стол бутылку голландского джипа, положила пару чистых трубок и не спускала с сыщика глаз, как будто не могла на него насмотреться.
Я спокойно сидел в углу, ожидая, что сыщик наведет разговор на Розанну Спирман. Его обычная манера начинать разговор с околичностей сказалась и в этом случае. Он начал с королевской фамилии, с первых методистов и с цен на рыбу и перешел от всего этого (со своей обычной меланхолической и скрытной манерой) к пропаже Лунного камня, к злобности нашей старшей горничной и к жестокому обращению служанок с Резанной Спирман. Дойдя, таким образом, до главного предмета, он о себе самом сказал, что наводит справки о пропаже алмаза отчасти для того, чтобы отыскать его, отчасти для того, чтоб оправдать Розанну от несправедливых подозрений ее врагов в нашем доме. Через четверть часа после нашего прихода добрая миссис Йолланд была убеждена, что разговаривает с лучшим другом Розанны, и уговаривала сыщика Каффа подкрепиться и оживить свою душу голландской бутылочкой.
Будучи твердо уверен, что сыщик попусту тратит время с миссис Йолланд, я сидел и слушал их разговор почти так, как, бывало, прежде слушал в театре актеров. Знаменитый Кафф выказал удивительное терпение, уныло пытая счастье и так и эдак и производя выстрел за выстрелом, так сказать, наудачу, — авось попадет в цель. Все — к чести Розанны, ничего — ей во вред, — вот как это кончилось, сколько он ни старался. Миссис Йолланд несла разный вздор и верила сыщику слепо. Когда мы взглянули на часы и встали с намерением проститься, он сделал последнюю попытку:
— Теперь я пожелаю вам доброго вечера, сударыня, — произнес сыщик, — и скажу на прощанье: ваш покорнейший слуга — искренний доброжелатель Розанны Спирман. Но, поверьте, ей не следует оставаться на этом месте; мой совет ей — оставить его.
— Господи помилуй, да ведь она его и оставляет! — вскричала миссис Йолланд.
Розанна Спирман оставляет нас! Я навострил уши. Мне показалось странным, чтобы не сказать более, что она не предупредила ни миледи, ни меня. В душе моей возникло сомнение: не попал ли в цель последний выстрел сыщика Каффа. Я начал сомневаться, так ли уж безвредно было мое участие во всем этом деле, как думал я сам. Может быть, сыщик заставил проговориться честную женщину, запутав ее в сети своих лживых уловок; но моим долгом доброго протестанта было вспомнить, что отец лжи — дьявол и что дьявол и зло никогда не бывают далеко друг от друга. Почуяв в воздухе что-то недоброе, я хотел было увести сыщика. Однако он тотчас снова уселся и попросил позволения подкрепиться последним глотком из голландской бутылочки. Миссис Йолланд села напротив него и палила ему рюмочку. Я двинулся к выходу, очень встревоженный, и сказал, что, кажется, должен с ними проститься, а между тем все медлил и не уходил.
— Итак, она намерена оставить свое место? — спросил сыщик. — Что же она будет делать, когда его оставит? Грустно, грустно. У бедняжки ведь нет никого на свете, кроме вас и меня.
— Есть! — возразила миссис Йолланд. — Она пришла сюда, как я вам уже сказала, нынче вечером и, посидев и поговорив немножко с моей дочерью Люси и со мною, попросила позволения побыть одной наверху в комнате Люси. Это единственная комната в нашем доме, где есть чернила и перо. “Мне нужно написать письмо к одному другу, — сказала она, — а я не могу этого сделать у нас в доме, где за мною подсматривают мои товарки”. К кому было это письмо, я вам сказать не могу; только, должно быть, оно было очень длинно, судя по тому, сколько времени просидела она над ним наверху. Я предложила ей почтовую марку, когда она сошла вниз. Но письма в руках у нее не было, и марки она не приняла. Бедняжечка, как вам известно, немножко скрытна насчет себя и своих поступков. Но у нее есть где-то друг, уж за это я поручусь вам, и к этому-то другу, помяните мое слово, она и поедет.
— Скоро? — спросил сыщик.
— Как только сможет, — ответила миссис Йолланд.
Тут я опять отошел от двери. Как глава прислуги миледи, я не мог допустить, чтобы в моем присутствии продолжался такой бесцеремонный разговор о том, уйдет наша служанка или не уйдет.
— Вы, должно быть, ошибаетесь насчет Розанны Спирман, — сказал я. — Если б она хотела оставить свое место, она прежде всего сообщила бы об этом мне.
— Ошибаюсь? — вскричала миссис Йолланд. — Только час назад она купила у меня самой несколько вещей для дороги, мистер Беттередж, вот в этой самой комнате! Да, кстати, — прервала себя несносная женщина, начав шарить в кармане, — у меня кое-что на совести насчет Розанны и ее денег. Увидит ли ее кто-нибудь из вас, когда вы вернетесь домой?
— С величайшим удовольствием передам ваше поручение бедняжке, — ответил сыщик Кафф, прежде чем я успел ввернуть слово.
Миссис Йолланд вынула из кармана несколько шиллингов и шестипенсовых монет и, держа их на ладони, пересчитала одну за другой с особенной и предосадной тщательностью. Она протянула эти деньги сыщику, хотя по лицу ее было видно, что ей не очень-то хочется расстаться с ними.
— Могу я вас просить передать эти деньги Розанне с моим поклоном и почтением? — сказала миссис Йолланд. — Она непременно хотела заплатить мне за несколько вещиц, которые ей понадобились сегодня вечером, а деньгам мы всегда рады, об этом спорить не стану. А все-таки мне как-то неловко, что я взяла у бедняжки накопленные тяжелым трудом деньги. И сказать вам по правде, не думаю, что мужу моему будет приятно услышать, когда он вернется с работы завтра утром, что я взяла деньги у Розанны Спирман. Пожалуйста, скажите ей, что я с радостью дарю ей вещи, которые она купила у меня. Не оставляйте денег на столе, — сказала миссис Йолланд, вдруг выложив их перед сыщиком, словно они жгли ей пальцы, — а не то — времена нынче трудные, плоть слаба и, пожалуй, мне захочется опять положить их в карман.
— Пойдемте! — позвал я Каффа. — Мне нельзя дольше ждать; я должен вернуться домой.
— Сейчас последую за вами, — ответил сыщик Кафф.
Во второй раз подошел я к двери и во второй раз, как ни старался, не мог перешагнуть через порог.
— Возвращать деньги — дело щекотливое, сударыня, — услышал я голос сыщика. — Вы и так, наверное, дешево с нее взяли.
Она взяла свечу и повела сыщика в угол кухни. Если б даже дело шло о моей жизни, я не мог бы удержаться, чтобы не пойти за нею. В углу была навалена целая куча разного лома (по большей части старого металла), который рыбак набрал в разное время с потонувших кораблей и не успел еще распродать. Миссис Йолланд засунула руку в этот хлам и вынула оттуда старый японский оловянный ящичек с крышкой и кольцом для того, чтобы его вешать, — такие ящики употребляются на кораблях для географических и морских карт, чтобы предохранить их от сырости.
— Вот! — сказала она. — Когда Розанна пришла сюда сегодня, она выбрала у меня точно такой ящичек. “Этот как раз годится, — сказала она, — для моих манжеток и воротничков, чтобы они не смялись в чемодане”. Один шиллинг и девять пенсов, мистер Кафф. Хоть сейчас умереть на месте, ни полпенни больше!
— Экая дешевка! — промолвил сыщик с тяжелым вздохом.
Он взвесил ящичек на руке. Мне послышался мотив “Последней летней розы”, когда он глядел на ящичек. Не было никакого сомнения: он открыл что-то новое во вред Розанне Спирман, открыл в таком именно месте, где, как я был убежден, репутация ее в безопасности, — и все через меня!
Предоставляю вам судить о моих чувствах и о том, как искренно я раскаялся, что помог знакомству мистера Каффа с миссис Йолланд.
— Довольно, — сказал я, — нам, право, пора идти.
Не обращая на меня ни малейшего внимания, миссис Йолланд опять засунула руку в хлам и на этот раз вытащила оттуда цепочку.
— Взвесьте на руке, сэр, — сказала она сыщику. — У нас было три таких цепочки, и Розанна взяла две. “Зачем вам, душечка, нужны такие цепочки?” — говорю я. “Я сцеплю их вместе и обвяжу ими чемодан”, — говорит она. “Веревка будет дешевле”, — говорю я. “А цепь надежнее”, — говорит она. “Разве чемоданы обвязывают цепью?” — говорю я. “О, миссис Йолланд, не возражайте, — говорит она, — уступите мне цепочки!” Странная девушка, мистер Кафф, чистое золото; она любит мою Люси, как родная сестра, но всегда была со странностями. Ну, я отдала их ей. Три шиллинга и шесть пенсов!
— За каждую? — спросил сыщик.
— За обе, — ответила миссис Йолланд. — Три шиллинга шесть пенсов за обе.
— Даром отдали, сударыня, — покачал сыщик головой, — даром отдали!
— Вот они, деньги, — сказала миссис Йолланд, возвращаясь к кучке серебра, лежавшей на столе и как будто против ее воли притягивавшей ее. — Розанна только и купила, что этот оловянный ящичек и цепочки. Один шиллинг девять пенсов и три шиллинга шесть пенсов — всего-навсего пять шиллингов и три пенса. Кланяйтесь ей и скажите, что совесть не позволяет мне брать у бедной девушки накопленные ею деньги, когда они могут понадобиться ей самой.
— А мне, сударыня, совесть не позволяет возвращать деньги, — сказал сыщик Кафф. — Вы и так, можно сказать, подарили ей эти вещи, — право, подарили.
— Это ваше искреннее мнение, сэр? — спросила миссис Йолланд, вдруг просияв.
— Не может быть ни малейшего сомнения в этом, — ответил сыщик. — Спросите мистера Беттереджа.
Не к чему было спрашивать меня. Они добились от меня только одного слова:
— Прощайте!
— Да ну, пропади они совсем, эти деньги! — вдруг вскрикнула миссис Йолланд.
С этими словами она, словно потеряв всякую власть над собою, схватила кучку серебра и быстро спрятала ее в карман.
— Видеть не могу, когда деньги валяются и никто их не берет! — несносная женщина вдруг шлепнулась на стул, глядя на сыщика Каффа с таким выражением, словно говорила: “Деньги опять у меня в кармане, попробуйте-ка их оттуда вытянуть!”
На этот раз я не только подошел к порогу, но и перешагнул его, твердо решив идти домой. Объясняйте, как можете, но я чувствовал, что кто-то из них, или оба они вместе, смертельно оскорбили меня. Прежде чем сделать несколько шагов, я услышал, как сыщик догоняет меня.
— Благодарю вас за это знакомство, мистер Беттередж, — сказал он. — Я обязан жене рыбака совершенно новым ощущением. Миссис Йолланд озадачила меня.
У меня вертелся на языке колкий ответ, — дело в том, что я был рассержен на него, так как сердился на самого себя. Но когда он признался, что озадачен, я усомнился, действительно ли я причинил большой вред. Я ждал, скромно, молча, что он еще скажет.
— Да, — проговорил сыщик, как будто читая мои мысли. — Вместо того чтобы навести меня на след, вы, мистер Беттередж, — при вашем участии к Розанне, вам, может быть, утешительно будет это узнать, — вы привели меня к тому, что озадачили меня. Действия этой девушки сегодня, разумеется, довольно ясны. Она прикрепила обе цепи к кольцу оловянного ящичка; она засунула этот ящичек в воду или в песок; другой конец цепи она прикрепила к какому-нибудь месту под скалой, известному только ей. Она оставит ящичек там до тех пор, покуда кончится производимое сейчас следствие, а потом, на свободе, сможет опять вынуть его из тайника, когда ей заблагорассудится.
До сих пор вое совершенно ясно. Но, — прибавил сыщик с впервые замеченным мною за все это время оттенком нетерпения в голосе, — вопрос состоит в тем, какого черта спрятала она в этом оловянном ящике?
Я подумал про себя: “Лунный камень!” Но сыщик сказал только одно:
— Неужели вы не догадываетесь?
— Это не алмаз, — продолжал он. — Весь опыт моей жизни ничего не стоит, если Розанна Спирман взяла алмаз.
Когда я услышал эти слова, меня снова начала трясти сыскная лихорадка, и я до того забылся, заинтересованный этой новой загадкой, что воскликнул опрометчиво:
— Запачканная одежда!
Сыщик Кафф вдруг остановился в темноте и положил свою руку на мою.
— Когда что-нибудь бросают в ваши Зыбучие пески, выходит ли это опять на поверхность? — спросил он.
— Никогда, — ответил я, — будь это легкая или тяжелая вещь, а уж Зыбучие пески втянут в себя все и навсегда.
— Розанна Спирман это знает?
— Она это знает так же хорошо, как и я.
— Значит, ей стоило только привязать камень к запачканной одежде и попросту бросить его в Зыбучие пески, — сказал сыщик. — Нет ни малейшей надобности в том, чтобы прятать ее, — а между тем она несомненно спрятала.
Вопрос состоит в том, — прибавил он, продолжая идти, — являются ли запачканная юбка или кофточка или другой предмет чем-то таким, что необходимо сохранить во что бы то ни стало? Мистер Беттередж, если не случится никакой помехи, я должен завтра поехать во Фризинголл и узнать, что именно купила она в городе, когда доставала тайно материал, чтобы сшить новую одежду вместо запачканной. При настоящем положении дел выезжать из дому — риск, но еще больший риск продолжать действовать вслепую. Извините, что я не в духе; я потерял к себе уважение, — я позволил Розанне Спирман поставить меня в тупик.
Когда мы вернулись, слуги сидели за ужином. Первый, кого мы встретили на дворе, был полисмен, которого инспектор Сигрэв оставил в распоряжение сыщика. Мистер Кафф спросил его, вернулась ли Розанна Спирман. Да. Когда?
Почти час назад. Что она сделала? Она поднялась наверх, чтобы снять шляпку и плащ, а сейчас спокойно ужинает с остальными слугами.
Не сделав никакого замечания, сыщик Кафф направился к черному ходу, все более и более теряя к себе уважение. Пройдя в темноте мимо входа, он все шел и шел, хотя я и звал его, пока не остановился у ивовой калитки, которая вела в сад. Когда я подошел к нему, чтобы вернуть его назад, я увидел, что он внимательно смотрит на окно в том этаже, где были спальни, с другой стороны дома.
В свою очередь подняв глаза, я обнаружил, что предметом его созерцания было окно комнаты мисс Рэчель и что огонь в этом окне мелькал взад и вперед, как будто в комнате происходило что-то необычное.
— Это, кажется, спальня мисс Вериндер? — спросил сыщик Кафф.
Я ответил утвердительно и пригласил его ужинать ко мне.
Сыщик не тронулся с места, пробормотав, что он любит по вечерам дышать свежим воздухом. Я оставил его наслаждаться природой. Когда я возвращался, я услышал “Последнюю летнюю розу” у ивовой калитки. Сыщик Кафф сделал новое открытие! И на этот раз ему помогло окно барышни!
Последняя мысль заставила меня опять вернуться к сыщику с вежливым замечанием, что у меня не хватает духу оставить его одного.
— Вам что-нибудь тут непонятно? — прибавил я, указывая на окно мисс Рэчель.
Судя по голосу, сыщик Кафф опять ощутил надлежащее уважение к своей собственной особе.
— Вы в Йоркшире, кажется, охотники держать пари? — спросил он.
— Ну так что ж из этого? Положим, что и так.
— Будь я йоркширец, — продолжал сыщик, взяв меня за руку, — я прозакладывал бы вам целый соверен, мистер Беттередж, что ваша молодая барышня решилась уехать из дома. Если я выиграю это пари, я готов прозакладывать вам другой соверен, что мысль об отъезде пришла к ней не прежде, чем час тому назад.
Первая догадка сыщика испугала меня. Вторая как-то перепуталась у меня в голове с донесением полисмена, что Розанна Спирман вернулась с Зыбучих песков час тому назад. Обе эти догадки произвели на меня странное впечатление. Когда мы пошли ужинать, я выдернул свою руку из руки сыщика Каффа и, забыв всякое приличие, прошел прежде него в дверь, чтобы самому навести справки.
Лакей Самюэль был первым человеком, встреченным мною в передней.
— Миледи ждет вас и мистера Каффа, — сказал он, прежде чем я успел задать ему вопрос.
— Давно ли она ждет? — раздался позади меня голос сыщика.
— Уже с час, сэр.
Опять! Розанна вернулась час тому назад, мисс Рэчель приняла какое-то необыкновенное решение, и миледи ждала сыщика — в течение последнего часа!
Неприятно было видеть, как столь различные люди и предметы связывались таким образом между собою. Я пошел наверх, не глядя на сыщика Каффа и не говоря с ним. Рука моя внезапно задрожала, когда я поднял ее, чтобы постучаться в дверь комнаты моей госпожи.
— Меня не удивит, — шепнул сыщик за моей спиной, — если у вас в доме разразится сегодня какой-нибудь скандал. Не пугайтесь. Я в своей жизни выдерживал и не такие семейные сцепы.
Не успел он произнести эти слова, как я услышал голос госпожи моей, приказывавшей нам войти.
Глава XVI
В комнате миледи горела только маленькая лампа, при которой она обычно читала. Абажур был опущен так низко, что закрывал ее лицо. Вместо того чтобы поднять на нас глаза со своей обычной прямотой, она сидела возле стола и упорно не отрывала глаз от раскрытой книги.
— Мистер Кафф, — сказала она, — важно ли вам знать заранее для следствия, которое вы теперь ведете, не пожелает ли кто покинуть этот дом?
— Чрезвычайно важно, миледи.
— Стало быть, я должна сказать вам, что мисс Вериндер намерена переехать во Фризинголл, к своей тетке, миссис Эбльуайт. Она покидает нас завтра рано утром.
Сыщик Кафф взглянул на меня. Я шагнул было вперед, чтобы заговорить с моей госпожой, но, признаюсь вам, почувствовал, что у меня не хватает духу на это, и опять шагнул назад, так и не сказав ни слова.
— Могу я спросить, ваше сиятельство, когда мисс Вериндер надумала поехать к своей тетке? — осведомился сыщик.
— Около часу тому назад, — ответила моя госпожа.
Сыщик Кафф опять взглянул на меня. Говорят, сердце у старых людей не может биться быстро. Мое сердце не могло бы забиться сильнее, чем оно билось сейчас, если б даже мне снова сделалось двадцать пять лет!
— Я не имею никакого права, — сказал сыщик, — контролировать поступки мисс Вериндер. Я только покорнейше прошу вас отложить ее отъезд, если возможно. Мне самому необходимо съездить во Фризинголл завтра утром и вернуться к двум часам дня, если не раньше. Если б мисс Вериндер смогла задержаться здесь до этого времени, я желал бы сказать ей два слова, неожиданно, перед самым ее отъездом.
Миледи тотчас приказала мне передать кучеру ее распоряжение, чтобы карета была подана для мисс Рэчель не ранее двух часов дня.
— Имеете ли вы сказать еще что-нибудь? — спросила она затем сыщика.
— Только одно, ваше сиятельство. Если мисс Вериндер удивится этой перемене в распоряжении, пожалуйста, не упоминайте, что я причиною замедления ее путешествия.
Госпожа моя вдруг подняла голову от книги, как будто хотела сказать что-то, удержалась с большим усилием и, опять опустив глаза на раскрытую страницу, движением руки отпустила нас.
— Удивительная женщина, — сказал сыщик Кафф, когда мы вышли в переднюю, — если б не ее самообладание, тайна, озадачивающая вас, мистер Беттередж, раскрылась бы сегодня.
При этих словах истина наконец промелькнула в моей глупой старой голове. На минуту я, должно быть, совсем лишился рассудка. Я схватил сыщика за ворот и припер его к стене.
— Черт вас возьми! — закричал я. — С мисс Рэчель что-то неладно, а вы скрывали это от меня все время!
Припертый к стене сыщик не пошевелил ни рукою, ни единым мускулом на своем меланхолическом лице и только взглянул на меня.
— Ага! — произнес он. — Вы отгадали наконец.
Я выпустил воротник его сюртука, и голова моя опустилась на грудь.
Вспомните, пожалуйста, в оправдание моей вспышки, что я служил этому семейству пятьдесят лет. Я попросил у сыщика Каффа извинения, но боюсь, что сделал это с влажными глазами и не весьма приличным образом.
— Не сокрушайтесь, мистер Беттередж, — сказал сыщик с большей добротой, чем я имел право ожидать от него. — Если бы мы, при нашей профессии, были обидчивы, мы не стоили бы ничего. Если это может служить для вас хоть каким-нибудь утешением, схватите меня опять за шиворот. Вы не имеете ни малейшего понятия, как это делать, но я извиню вашу неловкость, принимая во внимание ваши чувства.
Он скривил углы губ, по-видимому, воображая, что отпустил удачную шуточку. Я провел его в свой маленький кабинет и запер дверь.
— Скажите мне правду, мистер Кафф, — начал я, — что именно вы подозреваете? Было бы жестоко скрывать это от меня теперь.
— Я не подозреваю, — ответил сыщик Кафф, — я знаю.
Мой горячий характер снова заявил о себе.
— Вы, кажется, просто хотите меня уверить, — воскликнул я, — что мисс Рэчель украла свой собственный алмаз!
— Да, — ответил сыщик, — я именно это хотел вам сказать. Мисс Вериндер прятала у себя, втайне от всех, Лунный камень с начала и до конца и доверилась в этом только Розанне Спирман, потому что она была уверена, что мы будем подозревать Розанну Спирман в воровстве. Вот вам все дело как на ладони. Схватите меня опять за шиворот, мистер Беттередж. Если вы таким образом облегчите ваши чувства, схватите меня опять за шиворот!
Помоги мне господь! Моим чувствам это не принесло бы облегчения.
— Приведите мне свои доводы, — вот все, что я мог ему сказать.
— Бы услышите мои доводы завтра, — ответил сыщик, — если мисс Вериндер откажется отложить поездку к своей тетке, — а вы увидите, что она откажется, — я буду принужден завтра изложить все дело перед вашей госпожою. А так как я не знаю, что может из этого выйти, прошу вас находиться при этом и быть свидетелем того, что произойдет. Пока же оставим это дело. Больше, мистер Беттередж, вы ни слова не услышите от меня о Лунном камне. Ваш стол накрыт для ужина. Это одна из многих человеческих слабостей, с которыми я всегда обращаюсь нежно. Пока вы позвоните слугам, я прочту молитву. Что касается до того, что нам подадут…
— Желаю вам хорошего аппетита, мистер Кафф, — сказал я. — Мой аппетит пропал. Я подожду и присмотрю, чтобы вам все было подано как следует, а потом, уж извините меня, я уйду и постараюсь наедине совладать с собою.
Я видел, что ему подали все самое лучшее, и ничуть не пожалел бы, если б он подавился всем этим.
Будучи встревожен и несчастен и не имея комнаты, где я мог бы уединиться, я пошел прогуляться по террасе и подумать обо всем в тишине и спокойствии.
Размышления мои были прерваны Самюэлем, он принес мне записку от моей госпожи.
В то время как я направился домой, чтобы прочитать эту записку при свете, Самюэль заметил, что будет перемена погоды. Мое встревоженное состояние помешало мне заметить это самому. Но сейчас, когда он обратил на это мое внимание, я услышал, что собаки беспокойны и ветер тихо воет.
Подняв глаза к небу, я увидел, что тучи становятся все чернее и чернее и все быстрее и быстрее затягивают бледную луну. Близилась буря, Самюэль был прав, близилась буря.
Миледи уведомляла меня в записке, что фризинголлский судья написал ей о трех индусах. В начале будущей недели мошенников надо будет выпустить на волю, — следовательно, дать свободу их действиям. Если мы намереваемся задать им еще какие-нибудь вопросы, то времени терять нельзя. Забыв упомянуть об этом при встрече с сыщиком Каффом, госпожа моя приказывала мне теперь же исправить ее забывчивость. Индусы совсем выскочили у меня из головы (как, без сомнения, выскочили они из вашей). Я не видел большой пользы в том, чтобы опять возвращаться к этому предмету. Но, разумеется, тотчас же повиновался отданному мне приказу.
Сыщика Каффа я нашел сидящим за бутылкой шотландского виски и положил записку миледи перед ним на стол.
В то время я уже почти ненавидел сыщика. Но в интересах истины должен сознаться, что в смысле находчивости это был все-таки удивительный человек.
Спустя полминуты после того, как он прочитал записку, он уже вспомнил то место в донесении инспектора Сигрэва, где говорилось об индусах, и ответ его был готов. В донесении инспектора Сигрэва сказано об одном знаменитом индийском путешественнике, хорошо знавшем индусов и их язык, не так ли? Очень хорошо. Не знаю ли я имя и адрес этого джентльмена? Опять очень хорошо. Не напишу ли их на обороте записки миледи? Очень обязан.
Сыщик Кафф сам заедет к этому джентльмену, когда отправится во Фризинголл.
— Вы надеетесь, что из этого выйдет что-нибудь? — спросил я. — Инспектор Сигрэв считает, что индусы так же невинны, как младенцы.
— До сих пор все предположения инспектора Сигрэва оказывались неверными, — ответил сыщик. — Не худо бы проверить завтра, но ошибся ли инспектор Сигрэв и насчет индусов.
В коридоре я встретил Пенелопу и спросил, чего она ждет.
Она ждала звонка своей барышни, чтобы укладываться для завтрашнего путешествия. Из дальнейших расспросов выяснилось, что причиной желания мисс Рэчель переехать к тетке во Фризинголл было то, что дом сделался для нее нестерпим и что она не может больше переносить гнусного присутствия полицейского под одной крышей с нею. Узнав полчаса назад, что ее отъезд отложен до двух часов дня, она ужасно рассердилась. Миледи, бывшая при этом, сделала ей строгий выговор, а потом (желая, по-видимому, сказать что-то дочери наедине) выслала Пенелопу из комнаты. Дочь моя чрезвычайно приуныла от перемены обстоятельств в нашем доме.
— Все идет не так, как следует, батюшка, все идет не так, как прежде. Я чувствую, что нам всем угрожает какое-то ужасное несчастье.
Я сам это чувствовал, но при Пенелопе старался придать всему благополучный вид. Пока мы говорили, раздался звонок мисс Рэчель. Пенелопа побежала наверх укладываться. Я пошел другой дорогой в переднюю — посмотреть, что говорит барометр о перемене погоды.
Когда я приблизился к двери, которая затворялась сама собою, на пружинах, и вела в нижнюю залу из людской, она распахнулась мне навстречу, и Розанна Спирман пробежала мимо меня с выражением ужасного страдания на лице, крепко прижимая руку к сердцу, как будто оно у нее болело.
— Что с вами, милая моя? — спросил я, останавливая ее. — Не больны ли вы?
— Ради бога, не говорите со мною, — ответила она и, вырвавшись из моих рук, побежала на черную лестницу.
Я попросил кухарку (которая была недалеко) пойти вслед за бедной девушкой. Два другие лица оказались так же недалеко, как и кухарка. Сыщик Кафф тихо вышел из моей комнаты и спросил, что случилось. Я ответил, что ничего. Мистер Фрэнклин с другой стороны отворил дверь и, выглянув в переднюю, спросил, не видел ли я Розанны Спирман.
— Она сейчас пробежала мимо меня, сэр, с весьма расстроенным лицом и сказала что-то весьма странное.
— Я боюсь, что я сам — невольная причина этого расстройства, Беттередж.
— Вы, сэр?
— Не могу себе этого объяснить, — но если девушка замешана в пропаже алмаза, я, право, думаю, что она готова была признаться во всем, избрав почему-то для этого меня, не долее как две минуты тому назад.
Когда он произносил последние слова, я случайно взглянул на дверь, и мне показалось, будто она немножко приотворилась с внутренней стороны.
Неужели там кто-то подслушивал? Дверь была снова плотно притворена, когда я подошел к ней; выглянув в коридор, я увидел, как мне показалось, фалды черного фрака сыщика Каффа, исчезавшие за углом. Он знал так же хорошо, как и я, что уже не может рассчитывать на мою помощь при том обороте, какой приняло его следствие. В подобных обстоятельствах от него можно было ожидать, что он сам придет себе на помощь, и притом именно таким тайным способом.
Не будучи вполне уверен, что видел сыщика, и не желая натворить беды там, где беды уже и так было достаточно, я сказал мистеру Фрэнклину, что, должно быть, одна из собак вошла в дом, и просил его передать мне, что именно произошло между ним и Розанной.
Мистер Фрэнклин указал на бильярд.
— Я катал шары, — сказал он, — и пытался выбросить из головы это несчастное дело об алмазе; поднял случайно глаза — и возле меня, как привидение, стоит Розанна Спирман! Она прокралась в комнату так незаметно, что сначала я просто не знал, как поступить. Увидя, что она сильно перепугана, я спросил, не хочет ли она сообщить мне что-нибудь. Она ответила: “Да, если я смею”. Зная, в чем ее подозревают, я мог только в одном смысле истолковать эти слова. Признаюсь, мне стало неловко. Я не желал вызывать откровенности этой девушки. В то же время, при тех трудностях, какие сейчас окружают нас, я был бы просто не вправе отказаться выслушать ее, если она действительно желала что-то сказать мне.
Положение было неудобное, и, кажется, я вышел из него довольно неловко. Я сказал ей: “Я не совсем понимаю вас. Чем могу вам служить?” Имейте в виду, Беттередж, что я говорил с ней отнюдь не сурово; бедная девушка не виновата в том, что она некрасива. Кий еще был в моих руках, и я продолжал катать шары, чтобы скрыть свою неловкость. Между тем, этим я еще более ухудшил дело. Кажется, я оскорбил ее, не имея ни малейшего намерения. Она вдруг отвернулась, и я услышал, как она сказала: “Он смотрит на бильярдные шары, ему приятнее смотреть на что угодно, только не на меня!” И прежде чем я успел удержать ее, она выбежала из залы. У меня неспокойно на душе, Беттередж, не возьметесь ли вы передать Розанне, что я не хотел быть неласковым с нею. Может быть, в мыслях своих я был немного жесток к ней, — я чуть ли не надеялся, что пропажу алмаза можно приписать ей. Не из недоброжелательства к бедной девушке, но…
Тут он замолк и, вернувшись к бильярду, принялся опять катать шары.
После того, что произошло между сыщиком и мною, я знал, что именно не договорил мистер Фрэнклин, не хуже его самого.
Только открытие, что Лунный камень был украден нашей второй служанкой, могло теперь избавить мисс Рэчель от подозрений, поселившихся против нее в душе сыщика Каффа. Вопрос шел уже не о том, чтобы успокоить нервное раздражение моей барышни; вопрос шел о том, чтобы доказать ее невиновность. Если бы Розанна ничем не скомпрометировала себя, надежда, которую испытывал мистер Фрэнклин, была бы, как сам он признался, по совести говоря, жестокою в отношении нее. Но дело было не так. Она притворилась больною и тайно ходила во Фризинголл. Она не спала всю ночь или уничтожала что-то такое секретно. И она ходила к Зыбучим пескам в этот вечер при обстоятельствах чрезвычайно подозрительных, чтобы не сказать больше. По всем этим причинам (как ни жаль мне было Розанны) я не мог не думать, что взгляд мистера Фрэнклина на это дело был естествен и не безрассуден.
Я сказал ему об этом.
— Да, да, — ответил он. — Но есть еще надежда, — конечно, очень слабая, — что поведение Розанны может иметь какое-то объяснение, которого мы сейчас еще не видим. Я терпеть не могу оскорблять чувства женщины, Беттередж. Передайте бедной девушке то, о чем я просил вас. Если она пожелает говорить со мною, — все равно, попаду я через это в беду или нет, — пришлите ее ко мне в библиотеку.
С этими добрыми словами он положил кий и оставил меня.
Наведя справки в людской, я узнал, что Розанна ушла в свою комнату, отклонивши всякую помощь кухарки и прося только об одном: чтобы ее оставили в покое. Вопрос об ее исповеди кому бы то ни было отпал на сегодня. Я передал это мистеру Фрэнклину, который покинул тотчас же библиотеку и пошел спать.
Я гасил огни и запирал окна, когда Самюэль пришел ко мне с известием о сыщике Каффе, — его нигде нельзя было отыскать в нижнем этаже дома. Я заглянул в свою комнату. Совершенно справедливо, там никого не было; я нашел только пустой стакан и сильный запах горячего грога. Может быть, сыщик сам ушел в спальню, приготовленную для него? Я пошел наверх посмотреть.
Когда я добрался до второй площадки, мне послышался слева звук тихого и мерного дыхания. Левая сторона площадки вела в коридор, сообщавшийся с комнатой мисс Рэчель. Я заглянул туда, и там, свернувшись на трех стульях, поставленных поперек коридора, с красным носовым платком, обвязанным вокруг седовласой головы, со свернутым черным фраком у изголовья, лежал и спал сыщик Кафф!
Он проснулся тотчас, тихо, как собака, как только я подошел к нему.
— Спокойной ночи, мистер Беттередж, — сказал он.
— Что вы тут делаете? — спросил я. — Почему вы не легли в постель?
— Я не лег в постель, — ответил сыщик, — потому, что принадлежу к числу тех многих людей на этом жалком свете, которые не могут зарабатывать свои деньги зараз — быстро, легко и честно. Сегодня вечером произошел ряд странных событий в отрезок времени между возвращением Розанны Спирман с Зыбучих песков и решением мисс Вериндер оставить дом. Что бы ни спрятала Розанна, мне ясно, что ваша молодая барышня не сможет уехать, пока не узнает, что это спрятано. Обе они должны сегодня же ночью секретно снестись друг с другом, когда в доме все стихнет, и я хочу этому помешать.
Браните не меня за то, что я нарушил ваши распоряжения насчет спальни, мистер Беттередж, браните алмаз.
— Желал бы я, чтобы этот алмаз никогда не попадал в наш дом! — вырвалось у меня.
Сыщик Кафф с плачевной миной взглянул на три стула, к которым он сам себя приговорил в эту ночь, и ответил серьезно:
— И я также.
Глава XVII
Ночью ничего не произошло, и (я счастлив добавить!) мисс Рэчель и Розанна не делали никаких попыток к свиданию, — бдительность сыщика Каффа осталась невознагражденной.
Я ожидал, что сыщик Кафф тотчас же, утром, отправится во Фризинголл.
Однако он задержался, словно хотел проделать прежде что-то другое. Я предоставил Каффа его собственным замыслам и, выйдя вскоре из дома, встретил мистера Фрэнклина в его любимой аллее у кустарника.
Прежде чем мы успели обменяться двумя словами, сыщик неожиданно подошел к нам. Должен признаться, мистер Фрэнклин принял его довольно надменно.
— Вы хотите что-нибудь сказать мне? — вот все, что Кафф получил в ответ на свое вежливое пожелание мистеру Фрэнклину доброго утра.
— Да, я хочу кое-что сказать вам, сэр, — ответил сыщик, — по поводу следствия, которое здесь произвожу. Вчера вы узнали, какой оборот принимает это следствие. Весьма естественно, что, в вашем положении, вы оскорбились и огорчились. Весьма естественно также, что вы вымещаете на мне свой гнев, возбужденный семейным скандалом.
— Что вам нужно? — перебил мистер Фрэнклин довольно резко.
— Мне нужно напомнить вам, сэр, что до сих пор обстоятельства не подтвердили, что я ошибаюсь. Имея это в виду, вспомните также, что я полицейский чиновник и действую здесь по поручению хозяйки дома. При настоящем положении дела, скажите, обязаны вы или нет, как добрый гражданин, помочь мне особенными сведениями, которыми вы, весьма возможно, располагаете?
— Я не имею никаких особенных сведений, — ответил мистер Фрэнклин.
Сыщик Кафф отклонил этот ответ, как если бы мистер Фрэнклин не ответил вовсе.
— Вы сможете сберечь мне время, сэр, — продолжал он, — если захотите понять и высказаться откровенно.
— Я вас не понимаю, — ответил мистер Фрэнклин, — и мне не о чем высказываться.
Стоя молча возле них, я вспомнил о приотворенной накануне двери и о фалдах фрака, исчезнувших в коридоре. Сыщик Кафф, без всякого сомнения, слышал достаточно до той минуты, как я помешал ему, — чтобы возыметь подозрение, что Розанна облегчила свою душу, признавшись в чем-то мистеру Фрэнклину Блэку.
Не успела эта мысль прийти мне в голову, как в конце дорожки у кустарника появилась сама Розанна Спирман. За нею шла Пенелопа, старавшаяся, по-видимому, заставить ее вернуться назад в дом. Видя, что мистер Фрэнклин не один, Розанна остановилась, как бы в большом недоумении — что ей делать? Пенелопа ждала позади нее. Мистер Фрэнклин заметил девушек в одно время со мной. Сыщик со своей дьявольской хитростью сделал вид, будто совсем не заметил их. Все это случилось в одно мгновение.
Прежде чем мистер Фрэнклин и я успели сказать хоть слово, сыщик Кафф как ни в чем не бывало, будто продолжая начатый разговор, проговорил громким голосом так, чтобы Розанна могла его услышать:
— Вам нечего бояться причинить кому-либо вред, сэр! Напротив, я прошу вас удостоить меня своим доверием, если вы принимаете участие в Розанне Спирман.
Мистер Фрэнклин тотчас же сделал вид, будто и он тоже не заметил девушки. Он ответил так же громко:
— Я не принимаю никакого участия в Розанне Спирман.
Взглянув на другой конец дорожки, я увидел издали, как Розанна вдруг повернула обратно, едва только мистер Фрэнклин проговорил эти слова.
Вместо того чтобы сопротивляться Пенелопе, как это она делала за минуту перед тем, она позволила теперь моей дочери взять ее за руку и отвести в дом.
Раздался звонок к первому завтраку, и сыщик Кафф был теперь вынужден отказаться от дальнейших попыток узнать что-либо. Он сказал мне спокойно:
— Я поеду во Фризинголл, мистер Беттередж, и вернусь до двух часов дня.
Не сказав более ни слова, он пошел своей дорогой, и мы освободились от него на несколько часов.
— Вы должны поправить это дело перед Резанной, — сказал мне мистер Фрэнклин, как только мы остались одни, — судьба словно предназначила меня говорить или делать неловкости при этой несчастной девушке. Вы видите сами, что сыщик Кафф обоим нам подстроил ловушку. Если бы он добился того, чтобы сконфузить меня или раздражить ее, он мог бы заставить меня или ее сказать что-нибудь, отвечающее ого цели. Под влиянием минуты я но нашел лучшего исхода, чем тот, который выбрал. Этим я помешал девушке сказать лишнее и дал понять сыщику, что вижу его насквозь. Очевидно, он подслушивал, Беттередж, когда мы с вами беседовали вчера.
“Мало того, что подслушивал, — хуже! — подумал я. — Сыщик вспомнил мои слова о том, что девушка влюблена в мистера Фрэнклина, и нарочно заговорил об участии мистера Фрэнклина к Розанне, — так, чтобы Розанна могла услышать его ответ”.
— Что до подслушивания, сэр, — заметил я (оставив при себе второй вывод), — мы все, как говорится, окажемся товарищами по несчастию, если такого рода вещи станут продолжаться. Подсматривать, подглядывать и подслушивать — естественное занятие людей, находящихся в нашем теперешнем положении. Я не забуду того, что вы мне сказали. Я воспользуюсь первым случаем, чтобы поправить дело с Розанной Спирман.
— Вы еще ничего не говорили ей о прошлом вечере? — спросил мистер Фрэнклин.
— Ничего, сэр.
— Так и не говорите ничего. Мне лучше не вызывать признаний девушки, когда сыщик только того и ждет, чтобы застать нас вдвоем. Мое поведение не очень-то последовательно, Беттередж, не так ли? Если только алмаза не окажется у Розанны, я не представляю себе выхода из этого дела, о котором нельзя подумать без ужаса. А между тем я не могу и не хочу помогать сыщику Каффу уличать эту девушку.
Довольно нелогично, без сомнения. Но я и сам чувствовал то же. Я вполне его понимал. И если хоть раз в жизни вы вспомните, что вы смертны, может быть, и вы тоже вполне поймете его.
Положение дела в нашем доме и вне дома, пока сыщик ездил во Фризинголл, было вкратце следующее.
Мисс Рэчель, упорно запершись в своей комнате, ожидала, когда ей подадут карету, чтобы ехать к тетке. Миледи и мистер Фрэнклин позавтракали вдвоем. После завтрака мистер Фрэнклин вдруг принял одно из своих внезапных решений — стремительно вышел из дому успокоить свои нервы довольно продолжительной прогулкой. Только я один видел, как он ушел; он сообщил мне, что вернется до возвращения сыщика. Перемена в погоде, предвиденная накануне, настала. За проливным дождем вскоре после рассвета подул сильный ветер. Весь день было свежо и ветрено. Хотя тучи нависли мрачнее прежнего, дождя не было. Погода для прогулки человека молодого и сильного, способного вынести редкие порывы ветра с моря, была недурна.
После завтрака я помогал миледи просматривать наши домашние счета. Она только раз намекнула на Лунный камень, и только для того, чтобы запретить упоминать о нем.
— Подождите, пока вернется этот человек, — сказала она, имея в виду сыщика, — мы тогда будем обязаны говорить об этом, сейчас нас никто к тому не принуждает.
Расставшись с миледи, я нашел в своей комнате поджидавшую меня Пенелопу.
— Батюшка, прошу вас, пойдите и поговорите с Розанной, — сказала она, — я очень беспокоюсь за нее.
Я отлично понимал, в чем дело. Но у меня правило, чтобы мужчины, как существа высшие, воздействовали на женщин где только возможно. Если женщина хочет заставить меня что-нибудь сделать (дочь моя или кто другой), я всегда желаю знать: для чего? Чем чаще вы заставите их ломать голову, выискивая резон, тем более покладистыми будут они в течение всей жизни. Не вина этих бедняжек, что они сперва действуют, а уже потом соображают. Это вина тех, кто потакает им, как дурак. Причину, приведенную по данному поводу Пенелопой, передаю ее собственными словами:
— Я очень боюсь, батюшка, что мистер Фрэнклин, сам не желая того, жестоко оскорбил Розанну.
— А зачем она пошла тогда в рощу? — спросил я.
— Из-за собственного сумасбродства, — ответила Пенелопа, — не могу назвать это другим словом. Она хотела говорить с мистером Фрэнклином сегодня утром во что бы то ни стало. Я употребила все усилия, чтобы остановить ее; вы сами видели это. Если бы только я могла увести ее прежде, чем она услышала эти ужасные слова!
— Полно, полно! — сказал я. — Не преувеличивай. Ничего особенного не произошло, чтобы привести Розанну в отчаяние.
— Ничего особенного не произошло, чтобы привести ее в отчаяние, батюшка, только мистер Фрэнклин сказал, что не принимает в ней никакого участия и — ох! — таким жестоким тоном.
— Он сказал это, чтобы заткнуть рот сыщику.
— Я говорила ей: но, батюшка, он уже много недель подряд унижал и огорчал ее; и в довершение еще и это! Она просто ужаснула меня, батюшка, когда мистер Фрэнклин сказал эти слова. Она как будто окаменела, услышав их. Она вдруг сделалась необыкновенно спокойна и продолжает с тех пор работать как во сне.
Я почувствовал тревогу на душе. Было что-то в голосе Пенелопы, заставившее замолчать мой рассудок. Я вспомнил, что произошло между мистером Фрэнклином и Розанной вчера в бильярдной. Она была тогда поражена в самое сердце, а сейчас опять, на беду, бедняжку уязвили в самое чувствительное место.
Вспомнив данное мною мистеру Фрэнклину слово поговорить с Розанной, я решил, что наступило самое подходящее время сдержать это слово.
Розанна подметала коридор, бледная и спокойная, опрятная, как всегда, в своем скромном ситцевом платье. Только глаза ее были странно тусклы — не то чтобы они были заплаканы, по как будто смотрели на что-то слишком пристально. Может быть, то был туман, нагнанный ее собственными мыслями.
Вокруг нее не было, конечно, ничего, что она бы уже не видала и перевидала сотни и сотни раз.
— Поднимите-ка голову, Розанна! — сказал я. — Не мучайте себя собственными фантазиями. Я пришел передать вам кое-что от мистера Фрэнклина.
Я изложил перед нею все дело с настоящей точки зрения в самых дружелюбных и успокоительных словах, какие только мог придумать. Мои правила относительно слабого пола, как вы уже могли приметить, очень строги. Но каким-то образом, когда я сталкиваюсь лицом к лицу с женщинами, правила эти, признаюсь, на практике не применяются.
— Мистер Фрэнклин очень добр и внимателен. Пожалуйста, поблагодарите его.
Вот все, что она сказала мне в ответ. Дочь моя уже заметила, что Розанна занималась своим делом, как во сне; прибавлю, что она и слушала, и говорила тоже как во сне. Сомневаюсь, поняла ли она то, о чем я ей говорил.
— Уверены ли вы, Розанна, что понимаете мои слова? — спросил я.
— Совершенно уверена.
Она повторила это не как живая женщина, а как заводная кукла. Говоря, она продолжала все время мести коридор. Я взял у нее из рук щетку, так кротко и ласково, как только мог.
— Полно, полно, милая моя, — сказал я, — вы как будто сами не своя. У вас есть что-то на душе. Я ваш друг, и останусь вашим другом, даже если за вами есть какой-нибудь грешок. Будьте откровенны со мной, Розанна, будьте откровенны!
Было время, когда, говоря с нею таким образом, я вызвал бы слезы на ее глаза. Теперь я не увидел в них никакой перемены.
— Да, — механически произнесла она, — я расскажу все откровенно.
— Миледи?
— Нет.
— Мистеру Фрэнклину?
— Да, мистеру Фрэнклину.
Я сам не знал, что ей ответить на это. Она находилась в таком состоянии, что никак не смогла бы понять предостережения не говорить с мистером Фрэнклином наедине, которое он посоветовал мне сделать ей. Пробуя ощупью следующий свой шаг, я сказал ей, что мистер Фрэнклин вышел погулять.
— Это все равно, — ответила она, — я больше не стану беспокоить мистера Фрэнклина сегодня.
— Почему бы вам не поговорить с миледи? — спросил я. — Вы облегчили бы себе душу в беседе с такой сострадательной госпожой, всегда относившейся к вам сердечно.
Она смотрела на меня с минуту с серьезным и пристальным вниманием, будто старалась запечатлеть в памяти мои слова. Потом взяла из рук моих щетку и пошла с нею медленно вдоль коридора.
— Нет, — сказала она, продолжая мести, — я знаю лучший способ облегчить свою душу.
— Какой?
— Пожалуйста, позвольте мне продолжать мою работу!
Пенелопа пошла вслед за нею, предлагая ей помощь. Она ответила:
— Нет. Я хочу исполнить свою обязанность. Благодарю вас, Пенелопа.
Она взглянула на меня.
— Благодарю вас, мистер Беттередж.
Ничем нельзя было тронуть ее, не о чем было говорить с ней. Я сделал знак Пенелопе уйти со мною. Мы оставили ее, как нашли, метущую коридор словно во сне.
— Это дело нашего доктора, — сказал я, — тут мы бессильны.
Дочь моя напомнила мне о том, что наш доктор, мистер Канди, был болен.
Он простудился, — как вы, может быть, помните, — еще в тот самый вечер, после званого обеда у нас. Его помощник, некий мистер Эзра Дженнингс, был, разумеется, к нашим услугам. Но в нашей местности мало кто его знал.
Я решил переговорить с миледи. Но миледи заперлась с мисс Рэчель. Мне было невозможно увидеть ее, покуда она не выйдет оттуда.
Я долго ждал понапрасну, пока часы на парадной лестнице не пробили без четверти два. Через пять минут меня окликнули с дорожки перед домом. Я тотчас узнал этот голос. Сыщик Кафф вернулся из Фризинголла.
Глава XVIII
Подойдя к парадной двери, я встретил сыщика уже на ступенях лестницы.
Не по нутру мне было выказывать ему, после того что произошло между нами, хоть сколько-нибудь интереса к его делам; и все же этот интерес был настолько силен, что я не смог устоять. Чувство собственного достоинства спряталось вглубь, а наружу вырвались слова:
— Что нового во Фризинголле?
— Я видел индусов, — ответил сыщик Кафф, — и узнал, что именно Розанна покупала тайком в городе в прошлый четверг. Индусы будут освобождены в среду на будущей неделе. Я нисколько не сомневаюсь, так же как не сомневается мистер Мертуэт, что они приходили сюда для того, чтобы украсть Лунный камень. Однако расчеты их были расстроены тем, что случилось здесь в среду ночью, и они так же мало замешаны в пропаже алмаза, как и вы. Но я могу вам сказать одно, мистер Беттередж: если мы не найдем Лунного камня, то найдут они. Вы еще услышите об этих трех фокусниках.
Мистер Фрэнклин возвращался с прогулки, когда сыщик произнес эти изумительные слова. Преодолев свое любопытство лучше, чем сумел это сделать я, он прошел мимо нас в дом. А я, окончательно пожертвовав собственным достоинством, решился полностью воспользоваться принесенной жертвой.
— Это насчет индусов; а как насчет Розанны?
Сыщик Кафф покачал головой.
— С этой стороны тайна темнее, чем прежде. Я проследил ее до лавки во Фризинголле, содержимой торговцем полотна, по имени Молтби. Она не купила ничего в других лавках, ни у суконщиков, ни у модисток, ни у портных. Она и у Молтби купила только большой кусок полотна и особенно интересовалась его добротностью. А что до количества, она взяла достаточно, чтобы хватило на ночную сорочку.
— Чью ночную сорочку?
— Свою собственную, разумеется. Между полночью и тремя часами утра в четверг она, должно быть, прошла в комнату своей барышни, чтобы договориться, куда спрятать Лунный камень, пока все вы лежали в постели.
При возвращении оттуда задела ночной рубашкой за свежеокрашенную дверь. У нее не было возможности смыть пятно, не смела она и уничтожить рубашку, не запасшись другой, совершенно такой же, чтобы весь комплект ее белья оказался в целости.
— Какое у вас доказательство, что это ночная рубашка Розанны?
— Материал, купленный ею для замены, — ответил сыщик. — Если б дело шло о ночной рубашке мисс Вериндер, она должна была бы купить кружева, оборки и бог знает еще что, и не успела бы сшить ее за одну ночь. Кусок простого полотна означает простую рубашку служанки. Нет, нет, мистер Беттередж, — все это довольно ясно. Затруднение состоит в том, чтобы ответить на вопрос: почему, сделав новую ночную рубашку, она припрятала запачканную, вместо того чтобы ее уничтожить? Если девушка не захочет объясниться, есть только один способ разгадать эту загадку: обыскать Зыбучие пески. И тогда истина откроется.
— Как же вы найдете настоящее место? — осведомился я.
— Сожалею, что не могу удовлетворить вашего любопытства, — сказал сыщик. — Но это секрет, который я намерен оставить при себе.
Чтобы не дразнить ваше любопытство, как он раздразнил мое, скажу здесь заранее, что он вернулся из Фризинголла с разрешением на обыск. Его опыт в подобных делах подсказал ему, что Розанна, по всей вероятности, носит при себе памятную записку о том месте, куда она спрятала вещь, — на случай, если ей придется вернуться туда при изменившихся обстоятельствах и после продолжительного времени. Завладев этой запиской, сыщик располагал бы всем, что ему было нужно.
— А теперь, мистер Беттередж, — продолжал он, — оставим-ка предположения и перейдем к делу. Я поручил Джойсу наблюдать за Резанной.
Где Джойс?
Джойс был фризинголлский полисмен, которого инспектор Сигрэв оставил в распоряжении сыщика Каффа. В ту минуту, когда он задал мне этот вопрос, часы пробили два. И аккуратно в назначенное время подъехал экипаж, чтобы отвезти мисс Рэчель к ее тетке.
— Два дела зараз не сделаешь, — проговорил сыщик, останавливая меня, когда я направился было на поиски Джойса. — Прежде всего надо проводить мисс Вериндер.
Так как угроза дождя еще не прошла, для мисс Рэчель подали карету.
Сыщик Кафф сделал Самюэлю знак сойти к нему с запяток.
— Один мой приятель ждет за деревьями, не доезжая ворот, — сказал он. — Этот приятель, не останавливая кареты, сядет с вами на запятки. Вам следует попридержать свой язык и закрыть на это глаза. Иначе вы попадете в неприятность.
С таким советом он отослал лакея на его место. Что подумал об этом Самюэль, я не знаю. Но для меня было ясно, что за мисс Рэчель установится тайное наблюдение с той самой минуты, как она выедет из нашего дома и если она выедет. Надзор за моей барышней! Шпион позади нее на запятках экипажа ее матери! Я отрезал бы свой собственный язык, прежде чем забыться до того, чтобы заговорить после этого с сыщиком Каффом.
Первой из дома вышла миледи. Она стада поодаль, на верхней ступени, откуда могла видеть все, что происходило. Ни слова не сказала она ни сыщику, ни мне. Сжав губы и спрятав руки под легкое манто, которое она накинула на себя, выходя на воздух, миледи стояла неподвижно, как статуя, в ожидании дочери.
Через минуту вышла Рэчель, очень мило одетая в костюм из какой-то мягкой желтой материи, которая шла к ее смуглому лицу. Жакет плотно облегал ее стан. На голове у нее была щегольская соломенная шляпка с белой вуалью, на руках перчатки цвета буковицы, обтягивавшие ей пальцы, как вторая кожа. Ее чудные черные волосы казались из-под шляпки гладкими, как атлас. Ее маленькие ушки напоминали розовые раковины: с каждого свисала жемчужина. Она быстро подошла к нам, прямая, как лилия на стебле, и гибкая в каждом движении, как котенок. Я не мог подметить никакого изменения на ее хорошеньком личике. Только лишь глаза были более блестящи и свирепы, чем этого бы мне хотелось, а губы до того лишились своего цвета и улыбки, что я их просто не узнал. Она торопливо поцеловала мать в щеку, сказав:
“Постарайтесь простить меня, мама”, и так быстро опустила вуаль на лицо, что разорвала ее. Через минуту она сбежала со ступеней и бросилась в карету, словно хотела там спрятаться.
Сыщик Кафф проявил проворство в свою очередь. Он оттолкнул Самюэля и, держась рукою за открытую дверцу, встал перед мисс Рэчель в ту самую минуту, как она уселась на свое место.
— Что вам нужно? — спросила мисс Рэчель из-под вуали.
— Мне нужно сказать вам одно слово, мисс, прежде чем вы уедете, — ответил сыщик. — Я не смею не разрешить вам ехать к вашей тетушке, я могу только осмелиться сказать, что ваш отъезд, при настоящем положении вещей, становится препятствием для дела, — поймите это и решите сами, уедете вы или останетесь.
Мисс Рэчель даже не ответила ему.
— Поезжайте, Джеме! — крикнула она кучеру.
Не говоря больше ни слова, сыщик запер дверцу кареты. В ту минуту, как он запирал ее, мистер Фрэнклин сбежал с лестницы.
— Прощайте, Рэчель! — сказал он, протягивая ей руку.
— Поезжайте! — крикнула Рэчель громче прежнего, не обращая внимания на мистера Фрэнклина, как она не обратила внимания на сыщика Каффа.
Мистер Фрэнклин отступил назад, словно пораженный громом. Кучер, не зная, что ему делать, посмотрел на миледи, все еще неподвижно стоявшую на верхней ступени лестницы. Госпожа моя, на лице которой боролись гнев, горесть и стыд, сделала кучеру знак ехать и торопливо вернулась в дом.
Мистер Фрэнклин, к которому возвратился дар речи, крикнул ей вслед, когда карета отъезжала:
— Тетушка, вы были совершенно правы. Примите мою благодарность за всю вашу доброту и позвольте мне уехать.
Миледи повернулась, как бы для того, чтобы заговорить с ним. Потом, словно не доверяя себе, ласково махнула рукой.
— Зайдите ко мне, прежде чем вы нас оставите, Фрэнклин, — сказала она прерывающимся голосом и ушла в свою комнату.
— Окажите мне последнюю милость, Беттередж, — обратился мистер Фрэнклин ко мне со слезами на глазах, — отвезите меня на железную дорогу так скоро, как только это возможно.
Он тоже пошел в дом. Поведение мисс Рэчель совершенно потрясло его. Как он, должно быть, судя по этому, ее любил!
Сыщик Кафф и я остались вдвоем около лестницы. Сыщик стоял, повернувшись лицом к просеке между деревьями, в которой виднелся один из поворотов проезжей дороги, ведущей из дому. Он сунул руки в карман и тихо насвистывал про себя “Последнюю летнюю розу”.
— На все есть время, — вырвалось у меня довольно яростно, — теперь не до свиста.
В эту минуту в просеке показалась карета, быстро двигавшаяся к воротам.
Кроме Самюэля, на запятках ее виднелся другой человек.
— Все в порядке, — пробормотал про себя Кафф.
Он повернулся ко мне.
— Теперь не до свиста, мистер Беттередж, как вы правильно говорите.
Время приступить к делу, не щадя никого. Мы начнем с Розанны Спирман. Где Джойс?
Мы оба позвали Джойса, по не получили ответа. Я послал одного из помощников конюха отыскать его.
— Вы слышали, что я сказал мисс Вериндер? — спросил сыщик, пока мы ждали. — И вы видели, как она это приняла? Я говорю ей прямо, что ее отъезд ставит препятствие к отысканию алмаза, — и она уезжает, несмотря на эти слова! У вашей барышни есть спутник в карете ее матери, мистер Беттередж, и зовут его Лунный камень.
Я не сказал ничего. Я только твердо держался своей веры в мисс Рэчель.
Помощник конюха вернулся, за ним шел, очень неохотно, как мне показалось, Джойс.
— Где Розанна Спирман? — спросил сыщик Кафф.
— Никак не могу понять, сэр, — начал Джойс, — мне очень жаль, но каким-то образом…
— Перед моим отъездом во Фризинголл, — сказал сыщик резко, перебивая его, — я приказал вам не спускать глаз с Розанны Спирман, не давая ей заметить, что за нею следят. Неужели вы хотите сказать мне, что позволили ей ускользнуть от вас?
— Боюсь, сэр, — пробормотал Джойс, начиная дрожать, — что я, может быть, слишком перестарался, не давая ей заметить моего надзора. В этом доме так много коридоров в нижнем этаже…
— Как давно упустили вы ее из виду?
— Около часа, сэр.
— Вы можете вернуться к вашей должности во Фризинголл, — произнес сыщик, по-прежнему совершенно спокойно и со своим обычным унынием. — Мне кажется, ваши дарования не годятся для вашей профессии, мистер Джойс. Ваша теперешняя работа требует больших способностей. Прощайте.
Полисмен убрался. Мне трудно сейчас описать вам, как подействовало на меня известие об исчезновении Розанны Спирман. Мысли мои менялись с лихорадочной быстротой, — словно я думал о пятидесяти разных вещах в одну и ту же минуту. Я стоял, не спуская глаз с сыщика Каффа, — дар речи совершенно изменил мне.
— Нет, мистер Беттередж, — сказал сыщик, словно угадав в потоке моих мыслей самую важную и отвечая на нее прежде, чем на все остальные. — Ваш друг Розанна не проскользнет у меня между пальцами так легко, как вы думаете. Пока я знаю, где мисс Вериндер, я держу в своих руках средство отыскать и сообщницу мисс Вериндер. Я помешал им встретиться в нынешнюю ночь. Очень хорошо. Они встретятся во Фризинголле, вместо того чтобы сойтись здесь. Следствие должно быть просто перенесено, — несколько скорее, чем я ожидал, — из этого дома в тот дом, куда уехала мисс Вериндер. А пока, боюсь, что должен просить вас опять созвать слуг.
Я пошел с ним к людской. Недостойно меня, — по приходится сознаться, что я почувствовал при последних его словах новый приступ сыскной лихорадки. Я забыл, что ненавижу сыщика Каффа, и доверчиво взял его под руку. Я сказал:
— Ради бога, скажите нам, что вы теперь будете делать со слугами?
Знаменитый Кафф остановился неподвижно, с каким-то меланхолическим восторгом обращаясь к пустому пространству.
— Если бы этот человек, — произнес он, очевидно подразумевая меня, — знал еще толк в разведении роз, он был бы самым совершенным человеком во всем мироздании!
После такого сильного проявления чувств он вздохнул и взял меня под руку.
— Вот в чем вопрос, — сказал он, опять переходя к делу. — Розанна сделала одно из двух: либо она прямо отправилась во Фризинголл (прежде чем я туда поспею), либо пробралась сперва в свой тайник на Зыбучие пески.
Надо узнать, кто из слуг видел ее в последний раз, прежде чем она вышла из дому.
Следствие выяснило, что последней Розанну видела Нанси, судомойка.
Нанси видела, как она вышла с письмом в руках и остановила приказчика из мясной лавки, который у черной лестницы сдавал кухарке привезенное им мясо. Нанси слышала, как она просила этого человека снести на почту письмо, когда он вернется во Фризинголл. Он посмотрел на адрес и сказал, что странно сдавать письмо, адресованное в Коббс-Голл, на почту во Фризинголле, да еще в субботу, так что письмо не сможет дойти раньше понедельника. Розанна ответила ему, что если письмо не придет до понедельника, это не имеет значения. Она только хочет, чтобы он исполнил ее просьбу. Он обещал и уехал. Нанси позвали в кухню, она вернулась к своей работе. Никто не видел после этого Розанны Спирман.
— Что теперь делать дальше? — спросил я, когда мы опять остались одни.
— Дальше, — ответил сыщик, — я должен ехать во Фризинголл.
— Насчет письма, сэр?
— Да. Памятная записка, как найти то место, где она спрятала свою вещь, и есть это письмо. Я должен взглянуть на адрес в почтовой конторе. Если это тот адрес, который я подозреваю, я нанесу нашей приятельнице, миссис Йолланд, новый визит в следующий понедельник.
Я пошел заказать сыщику кабриолет. На конюшенном дворе мы получили новое известие о пропавшей девушке.
Глава XIX
Слух об исчезновении Розанны разнесся среди слуг. Они начали свое собственное следствие и поймали проворного мальчишку, прозванного Деффи, которого иногда нанимали полоть траву в саду и который видел Розанну Спирман полчаса назад. Деффи утверждал, что девушка не прошла, а пробежала мимо него по сосновой аллее, ведущей к морскому берегу.
— Мальчик знаком со здешним берегом? — спросил сыщик Кафф.
— Он родился и вырос на этом берегу, — ответил я.
— Деффи, — сказал сыщик, — хочешь заработать шиллинг? Если согласен, так пойдем со мной. Пусть кабриолет будет наготове, мистер Беттередж, когда я вернусь.
Он отправился к Зыбучим пескам с такою поспешностью, что мои ноги (хотя и хорошо сохранившиеся для моих лет) не могли бы поспеть за ним. Маленький Деффи, как это делают юные дикари и в наших местах, когда им очень весело, — замычал от удовольствия и помчался вслед за сыщиком.
Тут я опять не нахожу для себя возможным дать ясный отчет о состоянии моих мыслей в промежуток между уходом и возвращением сыщика Каффа.
Странная тревога охватила меня. Я проделал множество бесполезных вещей и внутри, и вне дома, и ни одной не могу сейчас припомнить. Я даже не знаю, сколько прошло времени после ухода сыщика к пескам, когда Деффи прибежал назад с поручением ко мне. Сыщик Кафф дал мальчику листок, вырванный из записной книжки, на котором было написано карандашом:
“Пришлите мне скорее ботинок Розанны Спирман”.
Я отправил первую попавшуюся мне служанку за ботинком в комнату Розанны и отослал мальчика назад, поручив ему сказать, что принесу его лично.
Знаю хорошо, что действовать таким образом не означало быстро повиноваться полученным мною инструкциям. Но я решил проверить, что это за новая мистификация, прежде чем я отдам ботинок Розанны в руки сыщика.
Прежнее желание выгородить девушку снова вернулось ко мне в эти минуты.
Такое состояние чувств (не говоря уже о сыскной лихорадке) заставило меня поспешить, лишь только ботинок отдали мне в руки, как только может спешить семидесятилетний человек.
Когда я подошел к берегу, тучи сгустились и дождь хлынул сплошной белой стеной, гонимой ветром. Я слышал грохот моря, ударявшегося о песчаный берег залива. Несколько дальше я обогнал мальчика, приютившегося от дождя под песчаными холмами. Потом я увидел бушующее море, волны, заливающие берег, пелену дождя, дождь над водой и желтый дикий берег с одинокой черной фигурой, стоявшей на нем, — с фигурой сыщика Каффа.
Он указывал жестом на север и кричал:
— Держитесь этой стороны! Идите ко мне сюда!
Я пошел к нему; я задыхался; сердце мое билось так, будто хотело выскочить из груди. Я не мог говорить. Я хотел задать ему сто вопросов, но ни один не срывался с моих губ. Его лицо испугало меня. Я увидел в глазах его выражение ужаса. Он выхватил ботинок из моих рук и приложил его к следам на песке, шедшим к югу от той стороны, где мы стояли, прямо к тому выступу скалы, что называется Южным утесом. След не был еще смыт дождем, ботинок девушки как раз пришелся по нем.
Сыщик, но говоря ни слова, указал на ботинок, пришедшийся к следу.
Я схватил его за руку, силясь заговорить с ним, и не мог. Он двинулся по следам к тому месту, где соединялись скалы и песок. Южный утес начинало постепенно заливать приливом; вода покрывала отвратительную поверхность Зыбучих песков. То тут, то там, с упорным молчанием, тяжелым, как свинец, с упорным терпением, которое страшно было видеть, сыщик Кафф прикладывал ботинок к следам и всегда находил его направленным в одну сторону — прямо туда, к скалам. Как он ни искал, он нигде не мог найти никаких следов, ведущих оттуда.
Наконец он остановился. Он опять взглянул на меня, а потом на воду, находившуюся перед нами, все шире и шире покрывавшую отвратительную поверхность Зыбучих песков. Я посмотрел по направлению взгляда сыщика и понял, о чем он думает. Страшный тупой трепет вдруг охватил меня. Я упал на колени в песок.
— Она приходила к своему тайнику, — услышал я голос сыщика. — Какое-то страшное несчастье случилось на этих скалах.
Изменившееся лицо девушки, ее слова и поступки, отупение, с каким она слушала меня и говорила со мною, когда я нашел ее метущей коридор несколько часов назад, пришли мне на память и подтвердили страшную догадку сыщика. Я хотел сообщить ему о страхе, охватившем меня. Я пытался сказать:
— Она умерла смертью, которую сама искала.
Но нет, слова не сходили с моих губ. Онемение и трепет держали меня в своих когтях. Я не чувствовал проливного дождя. Я не видел поднимающегося прилива. Как в бреду или во сне, бедное погибшее существо представлялось мне. Я видел ее опять, как и в прежнее время, как в то утро, когда я пришел сюда, чтобы привести ее домой. Я слышал опять, как она говорит мне, что Зыбучие пески притягивают ее против воли, и спрашивает себя, не ждет ли ее тут могила. Меня охватил какой-то непонятный ужас, когда я подумал о своей дочери. Моя дочь была одних с нею лет. Моя дочь, подвергшись таким же испытаниям, как Розанна, могла жить такой же страшной жизнью и умереть такой же ужасной смертью.
Сыщик ласково поднял меня и отвел от места, где она погибла. Мне стало легче дышать, и я теперь видел предметы такими, какими они были в действительности. Обернувшись на песчаные холмы, я заметил, как перепуганные слуги и рыбак Йолланд бежали к нам узнать, нашлась ли девушка. В немногих словах сыщик объяснил им, что показывали следы, и сказал, что, должно быть, с нею случилось несчастье. Потом он задал рыбаку вопрос, опять обернувшись к морю:
— Скажите, могла ли она отплыть в лодке с того выступа скалы, где кончаются ее следы?
Рыбак указал на волны, которые заливали песчаный берег и обдавали облаками пены мыс со всех сторон.
— Никакая лодка, — ответил он, — не могла бы вывезти ее из этого.
Сыщик Кафф посмотрел в последний раз на следы, видневшиеся на песке, которые смывал теперь дождь.
— Итак, — сказал он, — вот доказательство того, что она не могла уехать морем.
Он замолчал и соображал с минуту.
— Ее видели бегущей к этому месту за полчаса до того, как я пришел сюда, — сообщил он Йолланду. — После этого прошло довольно много времени.
Как высоко стояла тогда вода по сю сторону скал?
Он указал на южную сторону, то есть туда, где не было Зыбучих песков.
— Судя по тому, как вода прибывает сегодня по ту сторону утеса, час назад ее не хватило бы, чтобы утопить котенка.
Сыщик Кафф повернулся на север, к Зыбучим пескам.
— А на этой стороне? — спросил он.
— Еще меньше, — ответил Йолланд. — Зыбучие пески были бы едва смочены, не больше.
Сыщик обернулся ко мне и сказал, что несчастный случай произошел, должно быть, в Зыбучих песках. Язык мой развязался.
— Несчастного случая не было, — воскликнул я. — Она пришла сюда, устав от жизни, и кончила ее здесь.
Он отскочил от меня.
— Почему вы знаете? — спросил он.
Все столпились вокруг меня. Сыщик тотчас оправился. Он оттолкнул от меня всех; он сказал, что я — старик, сказал, что открытие потрясло меня, потребовал:
— Оставьте его одного.
Потом обернулся к Йолланду и спросил:
— Есть ли возможность найти ее, когда начнется отлив?
Йолланд ответил:
— Никакой. Что попадет в эти пески, то остается там навсегда.
Рыбак сделал шаг ко мне и сказал:
— Мистер Беттередж, я хочу сообщить вам кое-что о смерти этой молодой женщины. Вдоль одной стороны утеса, фута на четыре от скалы, среди Зыбучих песков тянется отмель. Я вас спрашиваю: почему она не воспользовалась ею?
Если бы она и поскользнулась нечаянно, она упала бы там, где могла снова встать на ноги, и на такой глубине, что вода едва покрыла бы ее до пояса.
Она, должно быть, сознательно пошла вброд или бросилась в море, — а то она не могла бы погибнуть. Нет, случайного несчастья, сэр, не было! Зыбучие пески поглотили ее, и поглотили по ее собственной воле.
После свидетельства человека, на знание которого можно было положиться, сыщик замолчал. Мы все молчали, как и он. Как бы по взаимному согласию, мы повернули назад и поднялись на берег.
На песчаных холмах нам встретился помощник конюха, бежавший к нам из дома. Это был добрый малый, питавший искреннее уважение ко мне. Он подал мне записку с приличной случаю горестью на лице.
— Пенелопа прислала вам это, мистер Беттередж, — она это нашла в комнате Розанны.
То были ее последние прощальные слова к старику, который делал все возможное, — слава богу! Всегда делал все возможное, — чтобы быть дружелюбным с нею.
“Вы часто прощали меня, мистер Беттередж, в прошлые времена. В следующий раз, как вы увидите Зыбучие пески, постарайтесь простить меня еще раз. Я нашла свою могилу там, где могила ждала меня. Я жила и умираю, сэр, с признательностью за вашу доброту”.
Более ничего не было. Как ни коротка была эта записка, у меня недостало мужества устоять против таких слов. Слезы легко у вас льются, когда вы молоды и начинаете жить на свете. Слезы льются у вас легко, когда вы уже стары и покидаете свет. Я зарыдал.
Сыщик Кафф сделал шаг ко мне, — с добрым намерением, не сомневаюсь. Но я с ужасом отступил от пего.
— Не дотрагивайтесь до меня! — сказал я. — Это вы ее напугали, вы довели до этого.
— Вы не правы, мистер Беттередж, — ответил он спокойно. — Но об этом будет время говорить, когда мы опять вернемся в дом.
Я пошел за всеми, опираясь на руку конюха. Мы вернулись под проливным дождем, чтобы встретить тревогу и ужас, ожидавшие нас в доме.
Глава XX
Шедшие впереди принесли печальное известие раньше нас. Мы нашли всех слуг пораженными паническим страхом. Когда мы проходили мимо комнаты миледи, дверь распахнулась изнутри. Госпожа моя вышла к нам (за нею шел мистер Фрэнклин, напрасно стараясь успокоить ее) совершенно вне себя от ужасного происшествия.
— Это вы виноваты в этом! — вскричала она, грозя сыщику рукой. — Габриэль, заплатите этому негодяю, и чтобы я не видела его больше!
Только один сыщик из всех нас был способен сладить с нею, — ибо только он один владел собою.
— Я так же мало виноват в том, что произошло это горестное событие, миледи, как и вы, — сказал он. — Если через полчаса после этого разговора вы все еще будете настаивать на том, чтобы я оставил ваш дом, я соглашусь уехать, но не приму деньги вашего сиятельства.
Это было сказано очень почтительно, но в то же время и очень твердо и подействовало на мою госпожу так же, как и на меня. Она позволила мистеру Фрэнклину увести себя в комнату. Когда дверь затворилась за ними, сыщик взглянул на служанок со своей обычной наблюдательностью и заметил, что, в то время как другие были просто испуганы, Пенелопа была в слезах.
— Когда ваш отец переоденется, — сказал он, — придите поговорить с нами в его комнату.
Не прошло и получаса, в которые я успел сменить свое мокрое платье на сухое и дал переодеться сыщику, как Пенелопа пришла к нам узнать, что именно он хочет услышать от нее. С этой минуты я, право, особенно остро почувствовал, какая у меня добрая и послушная дочь. Я посадил ее к себе на колени и молил бога благословить ее. Она спрятала голову на моей груди и охватила руками мою шею, и некоторое время мы сидели в молчании. Должно быть, оба мы думали о бедной умершей девушке. Сыщик подошел к окну и тоже молча стал смотреть в него. Я решил, что мне следует поблагодарить его за деликатность по отношению к нам обоим, и поблагодарил.
Пенелопа и я были готовы отвечать ему, как только сыщик, в свою очередь, будет готов. Когда он спросил ее, не знает ли она, что именно заставило подругу ее покончить с собою, моя дочь ответила (как вы предвидите), что она это сделала из-за любви к мистеру Фрэнклину Блэку.
Когда сыщик спросил ее, говорила ли она об этом кому-нибудь другому, Пенелопа ответила:
— Я никому не говорила об этом, жалея Розанну.
Я счел нужным прибавить к этому несколько слов. Я сказал:
— Щадя также мистера Фрэнклина, моя милая. Если Розанна умерла из-за любви к нему, то случилось это без его ведома и не по его вине. Пусть себе уедет отсюда сегодня, если он собрался уезжать; к чему напрасно огорчать его, сообщая ему истину?
Сыщик Кафф заметил “Совершенно справедливо” и опять замолчал, сравнивая мнение Пенелопы (как мне показалось) со своим собственным мнением, которое он оставил при себе.
Через полчаса раздался звонок моей госпожи. Идя на зов, я встретил мистера Фрэнклина, выходившего из кабинета тетки. Он мне передал, что леди Вериндер готова увидеть мистера Каффа — в моем присутствии, как и прежде, — и что лично он хочет до этого сказать сыщику два слова. Возвращаясь со мною в мою комнату, он остановился и посмотрел на таблицу расписания поездов, висевшую в передней.
— Неужели вы точно оставите нас, сэр? — спросил я. — Мисс Рэчель, наверно, одумается, если вы дадите ей время.
— Она одумается, — ответил мистер Фрэнклин, — когда услышит, что я уехал и что она не увидит меня более.
Я думал, что он говорит так в раздражении на мою барышню. Но это было не так. Госпожа моя заметила, что с того самого времени, как полиция появилась в пашем доме, одного упоминания имени мистера Фрэнклина было достаточно, чтобы заставить Рэчель вспыхнуть от гнева. Он очень любил свою кузину и по хотел сознаться в этом самому себе; но истина обнаружилась, когда мисс Рэчель уехала к тетке. Он внезапно почувствовал это в тяжелую для себя минуту и тут же принял решение — единственное решение, которое мог принять человек энергичный, — уехать из нашего дома.
Он говорил с сыщиком в моем присутствии. Он сказал, что миледи готова признать, что выразилась слишком запальчиво. Он спросил, согласится ли сыщик — при таком с ее стороны признании — принять вознаграждение и оставить дело об алмазе в том положении, в каком оно находится. Сыщик возразил:
— Нет, сэр, вознаграждение дается мне за исполнение моих обязанностей.
Я отказываюсь принять его, пока не исполню моих обязанностей.
— Я не понимаю вас, — произнес мистер Фрэнклин.
— Я вам объясню, сэр, — ответил сыщик. — Когда я приехал сюда, то взялся надлежащим образом раскрыть темное дело о пропаже алмаза. Сейчас я к этому готов и только жду возможности исполнить мое обещание. Когда я представлю леди Вериндер, в каком положении находится дело, и когда скажу ей прямо, как следует поступить, чтобы отыскать Лунный камень, ответственность будет с меня снята. Пусть миледи сама решит после этого, продолжать дело или нет. В случае положительном я закопчу то, за что взялся, и приму вознаграждение.
Эти слова мистера Каффа напомнили нам, что даже у полицейского сыщика есть достоинство, которое он не желает утрачивать.
Точка зрения его была настолько справедлива, что возразить было нечего.
Когда я встал, чтобы проводить его и комнату миледи, он спросил, желает ли мистер Фрэнклин присутствовать при разговоре. Мистер Фрэнклин ответил:
— Нет, если только леди Вериндер сама этого не пожелает.
Он добавил мне шепотом, когда я шел за сыщиком:
— Этот человек будет говорить о Рэчель, а я слишком привязан к ней, чтобы слушать это и сдержаться. Лучше мне побыть одному.
Я оставил его в большом огорчении; он облокотился на подоконник, закрыл лицо обеими руками, между тем как Пенелопа выглядывала из-за дверей в страстном желании его утешить.
Тем временем сыщик Кафф и я проследовали в комнату миледи.
Глава XXI
Первые слова, когда мы заняли свои места, были сказаны моей госпожой:
— Мистер Кафф, может быть, есть извиняющие обстоятельства для тех необдуманных слов, которые я вам сказала полчаса назад. Я, однако, не желаю ссылаться на эти обстоятельства. Я говорю с полной искренностью, что сожалею, если оскорбила вас.
Ее приятный голос и манера, с какою она произнесла это извинение, произвели надлежащее действие на сыщика. Он попросил позволения оправдаться в своем образе действий, выставляя это оправдание как знак уважения к моей госпоже. Он сказал, что никак не может быть виною несчастья, поразившего всех нас, по той уважительной причине, что успех всего следствия зависел от его тактического поведения с Резанной Спирман, которую ни в косм случае не следовало волновать или пугать. Он обратился ко мне, прося засвидетельствовать справедливость его слов. Я не мог отказать ему в этом. Я думал, что на том дело и остановится.
Сыщик Кафф сделал, однако, еще один шаг, очевидно, с намерением начать самое неприятное из всех возможных объяснений между леди Вериндер и им.
— Я слышал, что самоубийство молодой женщины связывают с одной причиной, — сказал сыщик, — может быть, эта причина и существует в действительности. Но она не имеет никакого отношения к тому делу, которым я здесь занимаюсь. И я должен прибавить, что усматриваю здесь другую причину. Какое-то необъяснимое беспокойство, вызванное пропажей алмаза, побудило, как я полагаю, эту бедную девушку лишить себя жизни. Я не собираюсь уверять, что знаю, чем было вызвано это странное беспокойство.
Но я мог бы, с вашего позволения, миледи, указать на одну особу, которая способна решить, прав я или нет.
— Особа эта находится сейчас в доме? — спросила моя госпожа после некоторого молчания.
— Особа эта уехала отсюда, миледи.
Ответ указывал на мисс Рэчель с такой прямотой, с какой только было возможно. Наступило молчание; я думал, что оно не прервется никогда. Боже!
Как выл ветер, как хлестал дождь в окна! Я сидел и ждал, чтобы кто-нибудь из них заговорил опять.
— Сделайте одолжение, выскажитесь яснее, — произнесла наконец миледи. — Вы имеете в виду мою дочь?
— Я имею в виду мисс Рэчель, — ответил сыщик Кафф столь же прямо.
Когда мы вошли в комнату, на столе у миледи лежала чековая книжка — приготовленная, без сомнения, для того, чтобы расплатиться с сыщиком.
Теперь она положила ее опять в ящик. Мне больно было видеть, как дрожала ее бедная рука — рука, осыпавшая благодеяниями старого слугу; я молю бога, чтобы эта рука держала мою руку, когда придет час моей кончины и я покину эту юдоль.
— Я надеялась, — продолжала миледи очень медленно и спокойно, — что вознагражу вас за ваши услуги и расстанусь с вами, не упоминая имени мисс Вериндер так открыто, как оно было упомянуто нами сейчас. Мой племянник, наверно, сказал вам об этом, прежде чем вы пришли в мою комнату?
— Мистер Блэк исполнил ваше поручение, миледи. А я объяснил мистеру Блэку причину…
— Бесполезно говорить мне об этой причине. После того, что вы сейчас сказали, вы знаете так же хорошо, как и я, что вы зашли слишком далеко для того, чтобы возвращаться назад. Я обязана ради себя самой и ради своей дочери настоять, чтобы вы остались здесь и высказались прямо.
Сыщик посмотрел на часы.
— Будь у меня время, миледи, я предпочел бы сделать свое донесение письменно, а не устно. По если продолжать это следствие, время слишком важно для того, чтобы терять его на письменные донесения. Я готов тотчас приступить к делу. Мне будет очень тяжело говорить, а вам слушать…
Тут моя госпожа опять остановила его:
— Может статься, будет менее тягостно и для вас, и для моего доброго слуги и друга, — сказала она, — если я подам пример и смело начну говорить. Вы подозреваете, что мисс Вериндер обманывает нас всех, скрывая алмаз для собственной своей цели? Не так ли?
— Совершенно так, миледи.
— Очень хорошо. Теперь, прежде чем вы начнете, я должна вам сказать, как мать мисс Вериндер, что она совершенно неспособна сделать то, в чем вы ее подозреваете. Вы узнали ее характер только два дня тому назад. А я знаю ее характер с тех пор, как она родилась. Высказывайте ваши подозрения так резко, как хотите, — вы этим не можете оскорбить меня. Я уверена заранее, что при всей вашей опытности, обстоятельства обманули вас в данном случае.
Помните, я не имею никаких тайных сведений. Дочь моя так же мало откровенна по этому поводу со мною, как и с вами. Причина, заставляющая меня говорить так уверенно, одна: я знаю свое дитя.
Она обернулась ко мне и протянула мне руку. Я молча поцеловал ее.
— Вы можете продолжать, — сказала она, взглянув на сыщика опять с прежней твердостью.
Сыщик Кафф поклонился. Слова моей госпожи произвели на него только одно действие: топорное его лицо смягчилось на минуту, словно он сочувствовал ей. Что до того, чтобы поколебать его убеждения, было ясно, что она не поколебала их ни на волос. Он плотнее уселся на стуле и повел свою гнусную атаку на мисс Рэчель следующими словами.
— Я должен просить вас, миледи, — сказал он, — взглянуть на это дело с моей точки зрения. Будьте добры представить себе, что вы приехали сюда в моей роли и с моей опытностью, и позвольте напомнить вам вкратце, в чем эта опытность состоит.
Моя госпожа наклонила голову в знак согласия. Сыщик продолжал:
— В последние двадцать лет меня часто приглашали в щекотливых семейных делах в качестве поверенного. Единственный результат моей практики в таких вопросах, имеющий отношение к настоящему делу, я могу объяснить в двух словах. Согласно полученному мной опыту, молодые девушки, знатные и богатые, часто имеют секретные долги, в которых они не смеют признаться своим ближайшим родственникам и друзьям. В одних случаях причиною этих долгов модистка и ювелир. В других деньги нужны для целей, которых я в настоящем деле не подозреваю и не хочу оскорблять вас упоминанием о них.
Держите в мыслях сказанное мною, миледи, — а теперь рассмотрим, как происшествия в этом доме вынудили меня вспомнить мой старый опыт, хотелось ли мне этого или нет.
Он собирался несколько мгновений с мыслями, а потом продолжал, с удивительной ясностью, принуждавшей нас понять его, с жестокой справедливостью, не щадившей никого:
— Первую информацию о пропаже алмаза я получил от инспектора Сигрэва.
Он убедил меня, что совершенно неспособен исследовать это дело.
Единственное, что показалось мне в его словах достойным внимания, — это известие, что мисс Вериндер отказалась отвечать на его вопросы и говорила с ним с непонятной грубостью и презрением. Это было странно, но я приписал это какой-нибудь неловкости инспектора, быть может оскорбившей молодую девушку. Удержав это в памяти, я занялся делом один. Исследования мои кончились, как вам известно, открытием пятна на двери; из показаний мистера Фрэнклина Блэка ясно, что это пятно и пропажа алмаза — звенья одной и той же головоломки. До сих пор я подозревал, — впрочем, очень неопределенно, — что, может быть, Лунный камень и был украден и что кто-нибудь из слуг окажется вором. Очень хорошо. Что же случилось на данном этапе следствия? Мисс Вериндер вдруг вышла из своей комнаты и заговорила со мною. Я заметил три подозрительных обстоятельства в поведении этой молодой девушки. Она все еще невероятно взволнована, хотя после пропажи алмаза прошло более суток. Она обращается со мною так же грубо, как и с инспектором Сигрэвом. И она ужасно сердится на мистера Фрэнклина Блэка. Прекрасно. Вот, говорю я себе, молодая девушка, лишившаяся драгоценной вещи; молодая девушка, как говорят мне мои глаза и уши, горячего темперамента. При настоящем положении вещей и с таким характером, что же она делает? Она выказывает непонятную вражду к мистеру Блэку, к инспектору и ко мне, — другим словами, именно к тем трем лицам, которые все, разными способами, стараются помочь ей отыскать ее пропавшую вещь. Доведя мое следствие до этой точки, миледи, я тогда, и только тогда, обратился к своей опытности. Эта опытность объяснила поведение мисс Вериндер, казавшееся иначе совершенно непонятным. Эта опытность заставила меня причислить ее к тем, другим молодым девушкам, которых я знал. Эта опытность подсказала мне, что она имеет долги, в которых не смеет признаться и которые во что бы то ни стало должны быть уплачены. И я не могу не спросить себя, не значит ли пропажа алмаза только то, что он пойдет на уплату этих долгов? Вот заключение, которое моя опытность выводит из простых фактов. Что может возразить против этого ваша опытность, миледи?
— Только то, что я вам уже сказала, — ответила моя госпожа. — Обстоятельства обманывают вас.
Сыщик Кафф продолжал:
— Справедливо мое заключение или нет, миледи, я должен был прежде всего проверить его. Я предложил вам, миледи, осмотреть все гардеробы в доме.
Это был единственный способ найти одежду, которая, по всей вероятности, оставила пятно на двери, и это был единственный способ проверить мое заключение. Что же из этого вышло? Вы, миледи, согласились на это. Мистер Блэк согласился, мистер Эбльуайт согласился. Только одна мисс Вериндер остановила следствие, отказавшись наотрез. Этот результат доказал мне, что мой взгляд был справедлив. Если вы и мистер Беттередж все-таки не хотите согласиться со мною, вы должны быть слепы к тому, что произошло у вас на глазах сегодня. В вашем присутствии я громко сказал молодой девушке, что ее отъезд, — при настоящем положении дела, — будет препятствовать отысканию ее алмаза. Вы видели сами, как она приказала кучеру ехать, несмотря на мое заявление. Вы сами видели, что в благодарность за то, что мистер Блэк сделал более всех других для того, чтобы дать ключ мне в руки, она публично оскорбила мистера Блэка в доме своей матери. Что это значит?
Если мисс Вериндер не причастна к пропаже алмаза, то — что это значит?
Он взглянул на меня. Было ужасно слушать, как он, одно за другим, нанизывает доказательства против мисс Рэчель, и сознавать, что тебе, при всем страстном желании защитить ее, нечего ему возразить. Я, благодарение богу, стою выше доводов рассудка. Это помогло мне твердо удержаться на точке зрения миледи. Воспользуйтесь, читатель, умоляю вас, моим примером!
Воспитывайте в себе превосходство над доводами рассудка, — и вы увидите, как непоколебимы вы будете перед усилиями других люден лишить вас вашего добра!
Видя, что ни я, ни госпожа моя не делаем никаких замечании, сыщик Кафф продолжал (боже! как бесило меня, что его совсем не смутило наше молчание):
— Таково следствие, миледи, и оно говорит против одной мисс Вериндер.
Обратимся теперь к доказательствам, говорящим против мисс Вериндер и покойной Розанны Спирман вместе. Вернемся на минуту; с вашего позволения, к отказу вашей дочери осмотреть ее гардероб. После этого отказа я уже пришел к своему заключению, по мне нужно было решить для себя два вопроса.
Во-первых, как мне в дальнейшем продолжать следствие? Во-вторых, имеет ли мисс Вериндер сообщницу среди служанок в доме? Старательно обдумав это, я решился вести следствие, — как мы называем в нашей профессии, — весьма не правильным образом. Почему? Потому что имел дело с семейным скандалом, который не должен был выйти за пределы семьи. Чем меньше шуму, чем меньше помощи от посторонних, тем лучше. Обычный способ задерживать людей по подозрению, допрашивать их на суде и тому подобное — здесь совершенно не годился, если сама ваша дочь, миледи, — как я полагаю, — была в центре всего дела. При таких условиях я чувствовал, что лицо, подобное мистеру Беттереджу, с его характером и положением в доме, знающее слуг и дорожащее честью семьи, — более подходит для роли помощника, нежели какой-либо другой человек, который мог попасться мне под руку. Я взял бы в помощники мистера Блэка, но тут помешало одно обстоятельство. Мистер Блэк с самого начала подметил, куда клонится мое следствие, и, при его преданности мисс Вериндер, взаимное соглашение между ним и мною стало невозможно. Я беспокою вас, миледи, всеми этими подробностями для того, чтобы показать, что я не вынес эту тайну за пределы семейного круга. Я — единственный посторонний человек, знающий эту тайну; и моя карьера следователя зависит от того, насколько я умою молчать.
Тут я почувствовал, что моя карьера зависит от того, что я не промолчу. Быть выставленным перед моей госпожой, в мои старые годы, чем-то вроде домашнего сыщика, — этого я не мог вынести.
— Прошу позволения доложить вам, миледи, — сказал я, — что я никогда сознательно не помогал этому гнусному следствию никаким способом с начала его и до конца, и прошу мистера Каффа опровергнуть мои слова, если он посмеет!
Дав, таким образом, волю своим чувствам, я испытал большое облегчение.
Миледи оказала мне честь, дружески потрепав меня по плечу. Со справедливым негодованием взглянул я на сыщика, желая узнать, что думает он о подобном свидетельстве. Сыщик присмирел, как ягненок, и казалось, расположился ко мне еще больше прежнего.
Миледи предложила ему продолжать его объяснение.
— Я понимаю, — сказала она, — что вы добросовестно употребили все свои старания на пользу того, что считаете моими интересами. Я готова выслушать, что вы скажете далее.
— То, что я скажу далее, — ответил мистер Кафф, — относится к Розанне Спирман. Я узнал молодую женщину, как вы, миледи, может быть, помните, когда она принесла сюда бельевую книгу. До того времени я сомневался, поверила ли мисс Вериндер свою тайну кому-нибудь другому. Когда я увидел Розанну, я изменил свое мнение. Я стал подозревать, что она причастна к пропаже алмаза. Бедная девушка умерла ужасной смертью, и я не желаю, чтобы вы, миледи, сейчас, когда ее нет на свете, могли подумать, что я был несправедлив и жесток к ней. Если б это был обыкновенный случай воровства, я стал бы подозревать Розанну не более, чем любого другого слугу в доме.
Опыт говорит нам, что женщины, бывшие в исправительном доме, когда поступают в услужение и когда с ними обращаются ласково и справедливо, по большей части проявляют искреннее раскаяние и оказываются достойными милостей, которыми их осыпают. Но это не был обыкновенный случай воровства. Это был, по моему мнению, хитро задуманный план с участием самой владелицы алмаза. Имея это в виду, я, весьма естественно, прежде всего вспомнил о Розанне и подумал следующее: удовольствуется мисс Вериндер, — прошу извинения, миледи, — нашим предположением, что Лунный камень просто пропал, или она пойдет еще дальше и постарается убедить других в том, что Лунный камень украден? В последнем случае Розанна Спирман — с репутацией воровки — была у нее под рукой, как лицо, наиболее способное навести вас, миледи, и меня на ложный след.
Возможно ли было, спрашивал я себя, изложить дело против мисс Рэчель и Розанны с более отвратительной точки зрения? Оказывается, было возможно, как вы сейчас увидите!
— Я имел другую причину подозревать покойницу, — продолжал сыщик, — причину, казавшуюся мне еще более убедительной. Кто мог лучше всех помочь мисс Вериндер тайно получить деньги за алмаз? Розанна Спирман. Ни одна молодая девушка, при общественном положении мисс Вериндер, не смогла бы сама вести такое рискованное дело. Она должна иметь помощницу, а кто всех более годился для этого, спрашиваю я опять, как не Розанна Спирман?
Покойная служанка ваша, миледи, отлично знала свое ремесло, когда была воровкою. Я знаю наверное, что она имела сношения с одним из тех немногих лондонских ростовщиков, которые охотно дадут огромную сумму за такую замечательную вещь, как Лунный камень, не задавая вам неудобных вопросов и не ставя неудобных условий. Держите все это в уме, миледи; а теперь позвольте мне объяснить, как мои подозрения подтвердились поступками Розанны и какие ясные заключения можно из них вывести.
Вслед за этим он перебрал все поступки Розанны. Вы уже знакомы с этими поступками так же, как и я, и вы поймете, как эти неопровержимые доводы набросили тень на память бедной умершей девушки, обвиняя ее в краже алмаза. Даже госпожа моя была испугана его словами. Она ничего не ответила ему, когда он кончил. Сыщику, кажется, было все равно, отвечают ему или нет. Он продолжал — черт его побери! — с прежней твердостью.
— Изложив все это дело так, как я его понимаю, — сказал он, — мне остается только добавить, миледи, как я намерен действовать дальше. Вижу два способа довести следствие до успешного завершения. Один из них я считаю наиболее надежным. Другой допускаю только как смелый опыт, и ничего более. Вы, миледи, это решите сами. Выберем ли мы надежный способ?
Госпожа моя сделала ему знак поступить, как он хочет, и выбрать самому.
— Благодарю вас, — ответил сыщик, — мы начнем с достоверного, поскольку ваше сиятельство предоставляете выбор мне. Останется ли мисс Вериндер во Фризинголле или вернется сюда, я намерен в том и в другом случае бдительно наблюдать за всеми ее поступками — за людьми, с которыми она видится, за прогулками верхом или пешком, которые она будет совершать, за письмами, которые она будет получать или писать.
— Далее что? — спросила моя госпожа.
— Далее, — ответил сыщик, — я попрошу вас, миледи, взять в дом на место Розанны Спирман служанкой женщину, привыкшую к тайным следствиям в этом роде, за скромность которой могу поручиться.
— Далее что? — повторила моя госпожа.
— Далее, — продолжал сыщик, — я намерен поручить одному из моих товарищей в Лондоне завязать сношения с тем ростовщиком, который, как я упоминал, был прежде знаком с Розанной Спирман и имя которого и адрес — вы, миледи, можете на меня положиться — были сообщены Розанной мисс Вериндер. Я не отрицаю, что меры, предлагаемые мною, будут стоить денег и потребуют много времени. Но результат их несомненен. Мы очертим кольцо вокруг Лунного камня и будем суживать это кольцо все более и более, до-тех пор, пока не найдем Лунный камень в руках мисс Вериндер, если только она вздумает оставить его при себе. Если же долги ее не терпят отлагательства и она решится продать его, у нас будет человек, который захватит Лунный камень тотчас по прибытии его в Лондон.
Слышать, как родная ее дочь становится предметом подобного предложения, было для моей госпожи настолько невыносимо, что она впервые заговорила гневно:
— Считайте, что ваше предложение отвергнуто совершенно, и объясните другой ваш способ довести следствие до конца.
— Другой мой способ, — продолжал сыщик так же непринужденно, как раньше, — состоит в том, чтобы произвести один смелый опыт. Мне кажется, я составил себе довольно правильное понятие о характере мисс Вериндер. Она вполне способна — по моему мнению — на смелый обман. Но она слишком горячего и вспыльчивого нрава и не привыкла к обманам, поэтому не умеет лицемерно вести себя и сдерживаться, когда есть поводы к раздражению. Ее чувства все это время неоднократно выходили из-под ее контроля, в то время как ее интересы требовали скрывать их. На эту-то особенность ее характера я и предлагаю воздействовать. Я хочу неожиданно нанести ей сильное потрясение при обстоятельствах, которые живо заденут со. Проще говоря, я хочу сообщить внезапно мисс Вериндер о смерти Розанны, в надежде, что лучшие ее чувства заставят ее откровенно во всем сознаться. Принимает ли миледи этот способ?
Госпожа моя удивила меня выше всякой меры. Она тотчас ответила:
— Да, принимаю.
— Кабриолет подан, — сказал сыщик, — позвольте вам пожелать, миледи, всего доброго.
Миледи подняла руку и остановила его в дверях.
— Лучшие чувства моей дочери будут испытаны, как вы предлагаете, — проговорила она, — но я, как мать, требую права произвести это испытание лично. Оставайтесь здесь, а во Фризинголл поеду я сама.
Раз в жизни знаменитый Кафф онемел от изумления, как самый обыкновенный человек.
Госпожа моя позвонила в колокольчик и приказала подать ей непромокаемое пальто. Дождь все еще лил, а карета, как вам известно, повезла мисс Рэчель во Фризинголл. Я старался уговорить свою госпожу не подвергать себя суровости погоды. Совершенно бесполезно! Я просил позволения ехать с нею и держать над нею зонтик. Она не захотела и слышать об этом. Подъехал кабриолет с грумом.
— Вы можете положиться на две вещи, — сказала она сыщику Каффу в передней. — Я проделаю этот опыт с мисс Вериндер так же смело, как вы могли бы сделать его сами. И я сообщу вам результат, или устно, или письменно, прежде чем последний поезд отправится сегодня в Лондон.
С этими словами она села в кабриолет и, взяв вожжи, поехала во Фризинголл.
Глава XXII
Когда госпожа моя покинула нас, у меня нашлось время для сыщика Каффа.
Я застал его сидящим в уютном уголке в нижней зале. Он просматривал свою записную книжку и злобно кривил углы губ.
— Справляетесь о нашем деле? — спросил я.
— Нет, — ответил сыщик, — справляюсь, каким делом я должен заняться после этого.
— О! — воскликнул я. — Стало быть, вы считаете, что у нас все уже кончено?
— Я считаю, — ответил сыщик Кафф, — что леди Вериндер одна из умнейших женщин в Англии. Считаю также, что на розу приятнее смотреть, чем на алмаз. Где садовник, мистер Беттередж?
Нельзя было добиться от него ни слова более о Лунном камне. Он потерял уже всякий интерес к своему следствию и непременно хотел отыскать садовника. Через час я услышал, как они спорили в оранжерее, и предметом их спора опять был шиповник.
Между тем я должен был узнать, не переменил ли мистер Фрэнклин своего намерения уехать от нас на послеполуденном поезде. Расспросив меня о совещании в комнате миледи и узнав, чем оно кончилось, мистер Фрэнклин тотчас решил дождаться от псе известий из Фризинголла. Это естественное изменение в его планах, не грозившее людям ничем особенным, мистеру Фрэнклину было не на пользу. Оно оставляло его в праздности и нерешимости, и, таким образом, все иностранные стороны его характера повыскакивали наружу, как крысы из мешка.
То итальянцем, то немцем, то французом поочередно вбегал он в разные комнаты дома и тотчас же выбегал из них, ни о чем другом не говоря, кроме как об обращении с ним мисс Рэчель, а слушать-то его было некому, кроме меня. Например, я нашел его в библиотеке, сидящим над картой современной Италии; видимо, он не находил другого способа отвлечься от своих огорчений, кроме постоянных разговоров о них.
— У меня было несколько похвальных стремлений, Беттередж, но что я теперь должен делать с ними? Во мне дремлет множество хороших качеств, — но только Рэчель могла бы помочь мне вызвать их наружу!
Кабриолет вернулся на полчаса ранее, чем я ожидал. Миледи решила остаться пока в доме своей сестры. Грум привез два письма от моей госпожи — одно к мистеру Фрэнклину, другое ко мне.
Письмо, адресованное мистеру Фрэнклину, я отправил к нему в библиотеку.
Письмо ко мне прочел в своей комнате. Чек, выпавший из письма, когда я распечатал его, доказал мне, — прежде, чем я прочел содержание, — что прекращение следствия о Лунном камне — дело решенное.
Я послал за сыщиком Каффом в оранжерею, чтобы сказать, что желаю сейчас же переговорить с ним. Сыщик явился, всецело поглощенный мыслями о шиповнике, и объявил, что мистер Бегби в упрямстве не имеет на свете себе равных. Я просил его не касаться в нашем разговоре подобных недостойных пустяков и обратить все внимание на дело действительно важное. Он тотчас заметил письмо в моих руках.
— А! — сказал он утомленно. — Вы получили известие от миледи. Касается ли оно меня, мистер Беттередж?
— Судите сами, мистер Кафф.
И я прочел ему письмо (с должной выразительностью и расстановкой), составленное в следующих выражениях:
“Мой добрый Габриэль, прошу вас сообщить сыщику Каффу, что я исполнила обещание, данное ему в связи со смертью Розанны Спирман, и результаты следующие. Мисс Вериндер торжественно уверяет, что она никогда не говорила ни слова наедине с Розанной с того самого времени, как эта несчастная женщина поступила ко мне в дом. Они не встретились даже случайно в ту ночь, когда алмаз исчез, и решительно никаких сношений между ними с утра четверга, когда поднялась тревога, до субботы, когда мисс Вериндер оставила нас, — не было. Таков был ответ моей дочери, когда я внезапно и коротко сообщила ей о самоубийстве Розанны Спирман”.
Дойдя до этого места, я поднял глаза на мистера Каффа и спросил его, что он об этом думает.
— Я только оскорблю вас, если выскажу мое мнение, — ответил сыщик. — Продолжайте, мистер Беттередж, продолжайте.
Когда я вспомнил, как этот человек имел дерзость жаловаться на упрямство нашего садовника, язык зачесался у меня “продолжить” своими словами, а не теми, что написаны были в письме моей госпожи. На этот раз, однако, христианские чувства не изменили мне. Я твердым голосом продолжал читать письмо миледи:
“Подойдя к мисс Вериндер таким образом, как предлагал полицейский офицер, я потом заговорила с нею, как сама находила нужным, для того чтобы произвести на нее впечатление. Дважды, перед ее отъездом из дому, я тайно предостерегала ее, что она подвергает себя самым нестерпимым подозрениям.
Сейчас я объяснила без обиняков, что опасения мои оправдались.
Она торжественно и как нельзя более убедительно заверила меня, что, во-первых, не имеет никаких долгов; во-вторых, алмаз не находится и не находился в ее руках с той минуты, как она положила его в шкапчик в среду.
Признания, сделанные моей дочерью, не идут дальше этого. Она упорно молчит, когда я спрашиваю ее, не может ли она объяснить мне пропажу алмаза. Она отказывается со слезами, когда я упрашиваю ее быть со мной откровенной. “Наступит день, когда вы узнаете, почему мне все равно, что меня подозревают, и почему я не откровенна даже с вами. Я сделала многое для того, чтобы заслужить сострадание моей матери, и не сделала ничего, что заставило бы мою мать краснеть за меня”. Вот собственные слова моей дочери.
Считаю, что после разговора, происшедшего между полицейским офицером и мною, он должен, хотя он и посторонний человек, узнать так же, как вы, ответ мисс Вериндер. Прочтите ему мое письмо, а потом отдайте вложенный для него чек. Отказываясь от всякого права на его дальнейшие услуги, я не могу не сказать, что убеждена в его добросовестности и в его уме; но убеждена также, — еще тверже прежнего, — что в данном случае обстоятельства роковым образом обманули его”.
На этом заканчивалось письмо. Прежде чем передать сыщику Каффу чек, я спросил, не желает ли он сделать какое-нибудь замечание.
— В обязанности мои не входит, мистер Беттередж, делать замечания о деле, уже законченном.
Я бросил ему чек через стол.
— А этой части письма леди Вериндер вы верите? — спросил я с негодованием.
Сыщик посмотрел на чек и уныло поднял брови, отдавая должное щедрости миледи.
— Это такая щедрая оценка моего времени, — сказал он, — что я считаю себя обязанным отплатить за нее кое-чем. Я вспомню цифру на этом чеке, мистер Беттередж, когда наступит случай для этого.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.
— Леди Вериндер пока очень искусно уладила дело, — сказал сыщик. — Но этот семейный скандал принадлежит к числу таких, которые вдруг вспыхивают опять, когда вы менее всего ожидаете этого. У нас на руках опять будет дело о Лунном камне, прежде чем пройдет несколько месяцев.
Я ответил на его слова в следующих ясных выражениях:
— Мистер Кафф, я считаю ваше последнее замечание оскорблением для миледи и ее дочери.
— Мистер Беттередж, считайте это предостережением для себя, и вы будете ближе к цели.
Как ни был я разгорячен и рассержен, адская уверенность, с которой он дал мне этот ответ, замкнула мне рот.
Я отошел к окну, чтобы успокоиться. Дождь перестал, и кого же увидел я на дворе, как не мистера Бегби, садовника, ждавшего, чтобы продолжать спор о шиповнике с сыщиком Каффом.
— Кланяйтесь от меня сыщику, — сказал мистер Бегби, как только увидел меня. — Если он захочет идти на станцию пешком, я с удовольствием пойду с ним вместе.
— Как! — вскричал сыщик за моей спиной. — Вы еще не убедились?
— Как бы не так! Ничуть не убедился!
— В таком случае я иду пешком на станцию, — сказал сыщик.
— А я встречу вас у калитки, — ответил мистер Бегби.
Я был в этот миг, как вам известно, сильно рассержен, — но может ли гнев устоять после такого вмешательства? Сыщик Кафф заметил перемену во мне и поощрил ее весьма кстати одним словцом.
— Полно, полно! — сказал он. — Зачем не взглянуть на мою точку зрения так, как это делает миледи? Почему не сказать, что обстоятельства роковым образом обманули меня?
Глядеть на что-нибудь одинаково с миледи было весьма приятным преимуществом, даже при той невыгоде, что это преимущество было мне предложено сыщиком Каффом. Гнев мой тотчас остыл, и я пришел в нормальное состояние. Я смотрел на всякое другое мнение о мисс Рэчель, кроме мнения миледи и своего, с надменным презрением. Однако, чего я не мог сделать, это молчать о Лунном камне. Здравый смысл должен был бы предупредить меня, — я это знаю, — что это дело следовало оставить в покое. Но вот подите ж!
Добродетели, отличающие нынешнее поколение, не были известны в мое время.
Сыщик Кафф попал в больное место, и, хотя я презирал его, больное место все-таки болело. Кончилось тем, что я коварно вернул его к письму леди Вериндер.
— Меня это письмо совершенно убедило, — сказал я, — но все равно, продолжайте, как если бы вы могли меня переубедить. Вы думаете, что словам мисс Рэчель верить нельзя и что мы еще услышим о Лунном камне. Докажите-ка это, мистер Кафф, — заключил я весело. — Докажите-ка это!
Вместо того чтобы обидеться, сыщик Кафф схватил мою руку и так крепко пожал ее, что пальцам моим сделалось больно.
— Клянусь небом, — торжественно воскликнул этот странный сыщик, — я завтра же пошел бы в услужение, мистер Беттередж, если бы имел возможность служить вместе с вами! Сказать, что вы простодушны, как ребенок, сэр, значило бы сделать детям комплимент, которого не заслуживают десять малюток из десяти. Нет, нет! Мы больше не будем спорить. Вы получите истину от меня на более легких условиях. Я больше ни слова не скажу ни о миледи, ни о мисс Вериндер, я только превращусь в пророка — впервые в моей жизни и исключительно ради вас. Я уже предупреждал вас, что вы еще не покончили с Лунным камнем. Очень хорошо, теперь я предскажу вам при расставании три события, которые, как я полагаю, сами заставят вас обратить на них ваше внимание, хотите вы этого или нет.
— Что ж, выкладывайте их, — сказал я, нисколько не смутившись и с прежней веселостью.
— Во-первых, — начал сыщик, — в будущий понедельник вы услышите кое-что от Йолландов, когда почтальон принесет письмо Розанны в Коббс-Голл.
Если б он окатил меня ведром холодной воды, сомневаюсь, вызвало ли бы это во мне более неприятное ощущение, чем то, какое произвели его слова.
Заверение мисс Рэчель своей невиновности делало поведение Розанны — шитье новой рубашки, попытки спрятать запачканную и все прочее — совершенно необъяснимым. Это не приходило мне в голову до тех пор, пока сыщик Кафф не напомнил мне все в одно мгновение!
— Во-вторых, — продолжал сыщик, — вы опять услышите о трех индусах. Вы услышите о них в здешних окрестностях, если мисс останется здесь. Вы услышите о них в Лондоне, если мисс Рэчель поедет в Лондон.
Потеряв всякий интерес к трем фокусникам и совершенно уверившись в невиновности моей барышни, я довольно легко принял второе предсказание.
— Вы перечислили из трех событий, которые должны произойти, два, — сказал я, — каково третье?
— Третье, и последнее, заключается в том, что вы рано или поздно услышите кое-что о лондонском ростовщике, про которого я уже имел смелость дважды упомянуть. Дайте мне вашу записную книжку, и я запишу вам на всякий случай его имя и адрес, чтоб не было ошибки на этот счет, когда это случится.
Он четко написал на чистом листке: “Мистер Септимус Люкер, Миддлсекская площадь, Лэмбет, Лондон”.
— Вот, — сказал он, указывая на адрес, — последнее упоминание о Лунном камне, которым побеспокою вас в настоящее время. Будущее покажет, прав я или нет. А пока, сэр, уношу с собой искреннюю привязанность к вам, которая, мне думается, делает честь нам обоим. Если мы не встретимся до выхода моего в отставку, надеюсь видеть вас в гостях в моем домике близ Лондона, которым думаю обзавестись. Обещаю вам, мистер Беттередж, что в моем саду будут поросшие травой дорожки. А что касается махровой розы…
— Не вырастет у вас белая махровая роза, если вы не привьете ее к шиповнику! — крикнул кто-то нам в окно.
Мы оба обернулись. Это был Бегби, у которого недостало терпения дожидаться у калитки. Сыщик пожал мне руку и выбежал из дому, разгорячившись еще больше.
— Спросите его о махровой розе, когда он вернется домой, и вы увидите, оставил ли я на нем хоть одно живое место! — крикнул мне в окно, в свою очередь, знаменитый Кафф.
Глава XXIII
Я приготовил кабриолет на тот случай, если мистер Фрэнклин непременно захочет уехать от нас вечерним поездом. Появление на лестнице сперва багажа, а вслед за ним и самого мистера Фрэнклина показало мне довольно ясно, что он первый раз в жизни твердо держится принятого решения.
— Итак, вы непременно решили ехать, сэр, — сказал я, когда мы с ним встретились в холле. — Почему бы не подождать денька два и по дать мисс Рэчель возможность одуматься?
Заграничный лоск, по-видимому, совершенно сошел с мистера Фрэнклина в минуту, когда пришло время сказать “прощай”. Вместо ответа он подал мне письмо, которое миледи написала ему. Большая часть письма содержала то, что уже было сказано ею в письме, полученном много. Но в конце была приписка о мисс Рэчель, которая объяснит намерения мистера Фрэнклина, если по объяснит ничего другого.
“Вы удивляетесь, наверное, — писала миледи, — что я позволяю дочери оставлять меня в совершенном неведении. Пропал алмаз ценою в двадцать тысяч фунтов, и я должна предполагать, что пропажа его не составляет никакой тайны для Рэчель; что какое-то непонятное обязательство молчания наложено на нее каким-то человеком или какими-то людьми, совершенно неизвестными мне, имевшими в виду какую-то цель, которую я не могу даже угадать. Объяснимо ли, что я позволяю шутить со мною таким образом? Вполне объяснимо при настоящем состоянии Рэчель. Она в таком нервном возбуждении, что на нее жалко смотреть. Я не смею снова поднимать вопрос о Лунном камне до тех пор, пока время не успокоит ее хоть немного. Вот почему я, не колеблясь, отпустила сыщика. Тайна, сбивающая с толку нас, сбивает с толку и его. В этом деле посторонний не может нам помочь. Одно имя его сводит с ума Рэчель.
Мои планы на будущее время обдуманы настолько хорошо, насколько это возможно. Я намерена отвезти Рэчель в Лондон, — отчасти для того, чтобы успокоить ее переменой места, отчасти для того, чтобы попробовать, что можно будет сделать, посоветовавшись с лучшими врачами. Уместно ли мне просить вас встретиться с нами в Лондоне? Любезный Фрэнклин, вы должны со своей стороны проявить терпение, подобное моему, и ждать, как буду ждать я, более удобного времени. Драгоценная помощь, которую вы оказали следствию, все еще кажется непростительной обидой для Рэчель в теперешнем ее душевном состоянии. Действуя в этом деле вслепую, вы только увеличили ее мучения, так как помогали открытию ее тайны. Я не могу извинить злобу, с какой она обвиняет вас за печальные последствия, которых ни вы, ни я не могли вообразить или предвидеть. С Рэчель говорить нельзя — ее можно только жалеть. С огорчением должна сказать, что пока вам и Рэчель лучше разойтись. Единственный совет, который я могу предложить вам, ото — дать ей время одуматься”.
Я возвратил обратно письмо, искренно жалея мистера Фрэнклина, потому что знал, как он любит барышню, и видел, что слова ее матери уязвили его сердце.
— Вы знаете пословицу, сэр, — вот все, что я ему сказал. — Когда дело дойдет до худшего, оно начнет изменяться к лучшему. Дела у нас не могут находиться в худшем состоянии, мистер Фрэнклин, чем они находятся сейчас.
Мистер Фрэнклин сложил письмо тетки, по-видимому не очень утешенный замечанием, которое я осмелился сделать ему.
— Когда я приехал сюда из Лондона с этим ужасным алмазом, — сказал он, — я не думал, чтобы в Англии была семья, счастливее этой. Посмотрите теперь на эту семью! Она разбросана, разъединена, самый воздух этого дома отравлен тайнами и подозрениями. Помните вы то утро на Зыбучих песках, когда мы разговаривали о моем дяде Гернкастле и его подарке ко дню рождения? Лунный камень послужил орудием мщения полковника, Беттередж, да так, как даже сам полковник не мог вообразить!
С этими словами он пожал мне руку и пошел к кабриолету.
Я проводил его по лестнице. Прискорбно было видеть, что он оставляет таким образом старый дом, где провел самые счастливые годы своей жизни.
Пенелопа (чрезвычайно расстроенная всем, что случилось в доме) пришла вся в слезах проститься с мистером Фрэнклином. Он поцеловал ее. Я махнул рукой, как бы говоря: “На доброе здоровье, сэр”. Некоторые из служанок поглядывали на него из-за угла. Он был одним из тех мужчин, которые нравятся всем женщинам. В последнюю минуту я остановил кабриолет и попросил у мистера Фрэнклина, как милости, чтобы он уведомил нас о себе письмом. Он, кажется, не обратил внимания на мои слова, — он осматривался вокруг, глядя то на один предмет, то на другой, как бы прощаясь со старым домом и садом.
— Скажите нам, куда вы отправляетесь, сэр? — спросил я, держась за кабриолет и стараясь узнать его будущие планы.
Мистер Фрэнклин внезапно надвинул шляпу на самые брови.
— Куда я отправляюсь? — повторил он мои слова. — Я отправляюсь к черту!
Пони вздрогнул при этих словах, как если б почувствовал христианское отвращение к ним.
— Господь с вами, сэр, отправляйтесь туда, где вам посчастливится! — вот все, что я успел сказать, прежде чем он скрылся из глаз.
Приятный, милый джентльмен! При всех его недостатках и сумасбродствах, милый и приятный джентльмен! Он оставил за собою печальную пустоту, когда уехал из дома миледи.
Было довольно скучно и мрачно, когда наконец этот длинный субботний летний вечер приблизился к концу.
Я подбадривал себя, не выпуская из рук трубочку и “Робинзона Крузо”.
Женщины, кроме Пенелопы, проводили время в пересудах и толках о самоубийстве Розанны. Они упорно держались мнения, будто бедная девушка украла Лунный камень и лишила себя жизни из страха, боясь, что это узнают.
Дочь моя, разумеется, упорно стояла на том, что утверждала раньше.
Однако ее предположение о причине самоубийства Розанны не приводило нас ни к какому заключению насчет алмаза, так же как и уверения в ее невиновности. Тайное путешествие Розанны во Фризинголл и все ее поступки оставались совершенно необъяснимыми. Бесполезно было указывать на это Пенелопе; возражения производили на нее так же мало впечатления, как мало следов оставляет проливной дождь на непромокаемом плаще. Дело в том, что дочь моя унаследовала мое собственное пренебрежение к умственным доводам, — и в этом отношении далеко опередила своего родного отца.
На следующий день (в воскресенье) карета, остававшаяся в доме мистера Эбльуайта, вернулась к нам пустая. Кучер привез мне записку от миледи и письменные приказания к горничным миледи и к Пенелопе.
В своей записке миледи сообщала, что решилась отвезти мисс Рэчель в свой лондонский дом в понедельник. Письменные приказания к обеим горничным состояли в том, какие им платья следовало взять и в какой час встретить своих хозяек в Лондоне. Многие другие слуги должны были также ехать туда.
Миледи, видя, что мисс Рэчель не желает после всего случившегося возвращаться домой, решила ехать в Лондон прямо из Фризинголла. Я же должен был оставаться в деревне впредь до дальнейших распоряжений, присматривать и вне и внутри дома. Слугам, остававшимся со мною, приказано было выдавать вместо пищи денежное содержание.
Все это напоминало мне слова мистера Фрэнклина о разбросанной и разъединенной семье, и мысли мои, естественно, обратились к самому мистеру Фрэнклину. Чем более я думал о нем, тем более тревожили меня его будущие поступки. Кончилось тем, что я написал с воскресной почтой к камердинеру его отца, мистеру Джефко (которого знал прежде), прося дать мне знать, на что решится мистер Фрэнклин по приезде в Лондон.
Воскресный вечер был еще скучнее субботнего, если только это возможно.
Мы кончили этот день, как сотни тысяч других людей кончают его регулярно раз в неделю на этих островах, — ожиданием, когда наконец наступит время ложиться спать, и не дождавшись, заснули на наших стульях.
Как прошел понедельник для остальной прислуги, не знаю. Мне он нанес порядочный удар. Первое предсказание сыщика Каффа о том, что я услышу кое-что от Йолландов, сбылось в этот день.
Я отослал Пенелопу и горничную миледи на железную дорогу с вещами в Лондон и шатался по саду, когда вдруг услышал свое имя. Обернувшись, я очутился лицом к лицу с дочерью рыбака. Хромоножкой Люси. За исключением хромоты и худобы (последнее, по моему мнению, страшный недостаток в женщине), эта девушка имела немало привлекательных качеств на мужской взгляд. Смуглое, умное лицо, приятный чистый голос, прекрасные каштановые волосы принадлежали к ее достоинствам. А горячий характер был дополнением к ее недостаткам.
— Ну, моя милая, — сказал я, — что вам от меня нужно?
— Где человек по имени Фрэнклин Блэк? — сказала девушка, устремив на меня свирепый взгляд и опираясь на свой костыль.
— Непочтительно говорить так о джентльменах, — ответил я. — Если вы хотите справиться о племяннике миледи, не угодно ли вам назвать его мистером Фрэнклином Блэком?
Она сделала шаг ко мне и взглянула на меня так, словно собиралась съесть меня живьем.
— Мистером Фрэнклином Блэком! — повторила она вслед за мной. — Его приличнее было бы назвать убийцей Фрэнклином Блэком.
Мой метод обращения с покойной миссис Беттередж помог мне и на этот раз. Когда женщина старается вывести вас из себя, постарайтесь, с своей стороны, вывести ее из себя. Женщина вообще приготовлена ко всякому отпору, какой вы можете избрать для самозащиты, кроме этого.
Одним-единственным словом можно добиться этого не хуже, чем сотней слов, и одним словом я добился этого от Хромоножки Люси. Любезно посмотрев ей в лицо, я сказал:
— Фи!
Девушка тотчас вспыхнула. Она тверже стала на здоровую ногу и раза три свирепо ударила об землю своим костылем.
— Он убийца! Он убийца! Он убийца! Он был причиною смерти Розанны Спирман!
Она закричала это самым пронзительным голосом. Два человека, работавшие в саду подле нас, подняли глаза, увидели, что это Хромоножка Люси, и, зная, чего можно было ждать от нее, опять вернулись к своему делу.
— Он был причиною смерти Розанны Спирман? — спросил я. — Что заставляет вас говорить так, Люси?
— Какое вам дело? Какое дело какому бы то ни было мужчине до этого? О, если бы только она думала о мужчинах так, как думаю я о них, она была бы сейчас жива!
— Она всегда хорошо думала обо мне, бедняжка, — сказал я, — и я всегда относился к ней хорошо.
Я проговорил это насколько мог успокоительно. Сказать по правде, у меня духа не хватило раздражать девушку колкими ответами. Раньше я примечал только ее дурной прав. Сейчас я приметил то несчастье, которое часто заставляет быть дерзкими людей простого звания. Мой ответ смягчил Хромоножку Люси. Она опустила голову на свой костыль.
— Я любила ее, — нежно сказала девушка. — У нее была несчастная жизнь, мистер Беттередж; гнусные люди дурно поступили с нею и причинили ей вред, но это не испортило ее кроткого характера. Она была ангелом. Она могла бы быть счастлива со мною. У меня был план ехать в Лондон нам обеим, устроиться, как двум сестрам, и зарабатывать шитьем. Этот человек приехал сюда и испортил все. Он околдовал ее. Не говорите мне, что он но имел этого намерения и не знал об этом. Он должен был знать. Он должен был пожалеть ее. “Я не могу жить без него, а он, Люси, даже не смотрит на меня”, — вот что она говорила. Жестоко, жестоко, жестоко! Я говорила ей: “Ни один мужчина не стоит, чтобы о нем изнывать”. А она отвечала: “Есть мужчины, ради которых стоит умереть, Люси, а он один из них”. Я накопила немного денег. Я договорилась с моим отцом и матерью. Я хотела увезти ее от унижений, которые она терпела здесь. У нас была бы маленькая квартирка в Лондоне, и мы жили бы как сестры. Она получила хорошее воспитание, сэр, как вам известно, и писала хорошим почерком. Она умела проворно шить. Я шью не так проворно, как шила она, но я тоже могу шить. Мы жили бы прекрасно. И что же случилось сегодня? Приходит письмо от нее, и она пишет мне, что расстается с тяжелой жизнью. Приходит письмо, где она прощается со мною навсегда! Где он? — вскричала девушка, подняв голову и опять вспыхивая гневом. — Где этот джентльмен, о котором я должна говорить не иначе, как с почтением? Недалек тот день, мистер Беттередж, когда бедные в Англии восстанут на богатых. Я молю бога, чтобы начали с него! Я молю бога, чтобы начали с него!
Думаю, что даже сам пастор (хотя признаюсь, это сказано слишком сильно) не мог бы образумить девушку в таком состоянии, в каком находилась она. Я отважился лишь на то, чтобы вернуть ее к предмету ее гнева, в надежде услышать от нее что-нибудь полезное.
— На что вам нужен мистер Фрэнклин Блэк? — спросил я.
— Мне нужно его видеть.
— Для чего?
— У меня есть к нему письмо.
— От Розанны Спирман?
— Да.
— Вложенное в письмо к вам?
— Да.
Неужели мрак начинает рассеиваться? Неужели то, что я стремился так страстно узнать, само собою открывается? Я был вынужден помедлить с минуту. Сыщик Кафф оставил после себя заразу. По некоторым лично мне известным признакам сыскная лихорадка снова начала овладевать мною.
— Вы не можете увидеть мистера Фрэнклина, — сказал я.
— Я должна его видеть и увижу.
— Он вчера уехал в Лондон.
Хромоножка Люси пристально посмотрела мне в лицо и поняла, что я говорю правду. Не сказав более ни слова, она тотчас повернулась и пошла к Коббс-Голлу.
— Постойте! — воскликнул я. — Завтра я жду известий о мистере Фрэнклине Блэке. Дайте мне письмо, и я пошлю его по почте.
Хромоножка Люси оперлась на свой костыль и взглянула на меня через плечо.
— Я передам ему письмо только из рук в руки, иначе не смею.
— Написать ему об этом?
— Напишите, что я его ненавижу, — и вы скажете правду.
— Да, да, по как же насчет письма?..
— Если он хочет получить это письмо, он должен вернуться сюда и взять его у меня.
С этими словами она заковыляла к Коббс-Голлу. Сыскная лихорадка лишила меня всякого достоинства. Я поспешил вслед за нею и приложил все усилия, чтоб заставить ее разговориться. Напрасно! К несчастью, я был мужчиной, и Хромоножке Люси доставляло удовольствие разочаровывать меня. В тот же день, попозднее, я попытал счастья у ее матери. Добрая миссис Йолланд могла только всплакнуть и посоветовала извлечь капельку утешения из голландской бутылочки. Я нашел рыбака на берегу. Он сказал, что дело путаное, и продолжал чинить сеть. Ни отец, ни мать не знали больше меня самого. Оставалось испробовать последнее средство — написать с утренней почтой мистеру Фрэнклину Блэку.
Предоставляю вам судить, с каким нетерпением поджидал я почтальона во вторник утром. Он мне принес два письма. Одно от Пенелопы (у меня едва хватило терпения его прочесть), сообщавшей мне, что миледи и мисс Рэчель благополучно переселились в Лондон. Другое от мистера Джефко, с известием, что сын его господина уже уехал из Англии.
Приехав в столицу, мистер Фрэнклин, как оказывается, отправился прямо к отцу. Он явился не совсем кстати. Мистер Блэк-старший с головой ушел в свои депутатские дела в нижней палате и забавлялся дома в этот вечер любимой парламентской игрой — составлением записок, которые они именуют “частным биллем”. Сам мистер Джефко проводил мистера Фрэнклина в кабинет отца.
— Любезный Фрэнклин, что заставило тебя так неожиданно ко мне явиться?
Не случилось ли чего дурного?
— Да. Случилось дурное с Рэчель, и я чрезвычайно огорчен.
— С прискорбием слышу это. Но у меня нет сейчас времени выслушивать тебя.
— А когда вы сможете меня выслушать?
— Милый мой мальчик, не стану тебя обманывать. Я смогу выслушать тебя но окончании этой сессии, ни на минуту раньше. Спокойной ночи!
— Благодарю вас, сэр, спокойной ночи!
Таков был разговор в кабинете, переданный мне мистером Джефко. Разговор вне кабинета был еще короче.
— Джефко, посмотрите, когда отходит завтрашний поезд, приуроченный к пароходу на континент?
— В шесть часов утра, мистер Фрэнклин.
— Велите разбудить меня в пять.
— Едете за границу, сэр?
— Еду, Джефко, куда железные дороги увезут меня.
— Прикажете доложить вашему батюшке, сэр?
— Да, доложите ему по окончании сессии.
На следующее утро мистер Фрэнклин отправился за границу. В какое именно место ехал он, никто, — не исключая и его самого, — отгадать не мог. Может быть, мы получим от него первое известие из Европы, Азии, Африки или Америки. По мнению мистера Джефко, он мог находиться в любой из четырех стран света.
Весть об отъезде мистера Фрэнклина в субботу утром и весть о прибытии миледи в Лондон с мисс Рэчель в понедельник, дошли до меня, как вам известно, во вторник. Наступила среда и не принесла ничего нового. Четверг преподнес вторую пачку новостей от Пенелопы.
Дочь моя сообщала, что для ее барышни пригласили какого-то знаменитого лондонского доктора и что он получил гинею за то, что посоветовал развлекать ее. Цветочные выставки, оперы, балы, — множество веселья предстояло в будущем; и мисс Рэчель, к удивлению ее матери, с жаром погрузилась во все это. Мистер Годфри наведывался; по всей видимости, он по-прежнему ухаживал за кузиной, несмотря на прием, оказанный ему, когда он попробовал счастья в день ее рождения. К величайшему сожалению Пенелопы, на этот раз его приняли очень любезно, и он тут же вписал имя мисс Рэчель в членский список комитета дамской благотворительности.
Госпожа моя, по словам Пенелопы, была не в духе и имела две продолжительные беседы со своим стряпчим. Дальше следовали кое-какие рассуждения относительно одной бедной родственницы, некоей мисс Клак, — той самой, о которой я упоминал при описании обеда в день рождения, что она сидела возле мистера Годфри и обнаружила большое пристрастие к шампанскому. Пенелопа выражала удивление, что мисс Клак все еще не дала о себе знать. Наверное, она скоро привяжется к миледи по обыкновению… — и так далее, в том же роде, как это принято у женщин — высмеивать друг друга и на словах и письменно. Об этом не стоило бы упоминать, если бы не одно обстоятельство. Я слышал, что, расставшись со мною, вы перейдете к мисс Клак. Если это так, окажите мне милость, не верьте ни единому ее слову, когда она станет говорить о вашем нижайшем слуге.
В пятницу не случилось ничего, кроме того, что у одной из собак сделался нарыв за ухом. Я дал ей настойку из трав и посадил на диету.
Извините, что упоминаю об этом. Как-то невзначай вырвалось. Пожалуйста, пропустите это. Я быстро приближаюсь к концу моих погрешностей против вашего современного изысканного вкуса. Притом собака эта была предоброе животное и заслуживала хорошего лечения; право, заслуживала.
Утренняя почта принесла мне сюрприз в виде лондонской газеты, присланной на мое имя. Почерк, которым написан был адрес, озадачил меня. Я его сличил с записанными в моей книжке именем и адресом лондонского ростовщика — и тотчас узнал почерк сыщика Каффа.
Просмотрев газету с любопытством, я заметил, что одно из полицейских донесений обведено чернилами. Вот оно, к вашим услугам. Прочтите его, как прочел я, и вы справедливо оцените вежливое внимание сыщика, приславшего мне эту последнюю новость.
“Лэмбет. — Незадолго до закрытия заседания мистер Септимус Люкер, известный торговец старинными драгоценными камнями, резными изделиями и пр., и пр., обратился за советом к заседающим судьям. Проситель объяснил, что его беспокоило в течение всего дня поведение трех странствующих индусов, слоняющихся по улице возле его дома. Прогнанные полицией, они опять вернулись и пытались несколько раз проникнуть в дом, якобы за милостыней. Когда их отогнали от парадной двери, они появились у черного хода. Кроме вполне естественной досады на этих попрошаек, мистер Люкер выразил опасение, не замышляют ли они кражу. В его коллекции много единственных в своем роде вещей, и античных, и восточных, огромной стоимости. Только накануне он был принужден отказать работнику, искусному в резьбе (индусскому уроженцу), как мы поняли, по подозрению в покушении на воровство, и он не был уверен, что этот работник и уличные фокусники, на которых он жаловался, не действовали сообща. Может быть, целью их было собрать толпу, произвести на улице суматоху и в этой суматохе получить доступ к дому. В ответ на вопрос судьи мистер Люкер сознался, что, не имея фактов, он не может представить доказательств, что замышляется попытка воровства. Жаловаться он может только на то, что индусы надоедали ему и мешали. Судья заметил, что если эта неприятность повторится еще раз, проситель может вызвать индусов в суд, где с ними поступят по закону. Что касается драгоценностей, находящихся у мистера Люкера, он должен сам принять надлежащие меры для их охраны. Быть может, следовало бы дать знать полиции и принять все предосторожности, какие может предусмотреть опытность полицейских чиновников. Проситель поблагодарил судью и удалился”.
Говорят, один из древних мудрецов советовал своим ближним (забыл по какому случаю) “заглянуть в конец”. Глядя на конец моих страниц и вспоминая, как я беспокоился несколько дней тому назад, справлюсь или нет со своим рассказом, я вижу, что мое полное описание фактов дошло до заключения очень прилично. Мы переходим в деле о Лунном камне от одного чуда к другому и кончаем самым большим чудом — исполнением трех предсказаний сыщика Каффа меньше чем через неделю с того дня, как они были сделаны.
Услышав в понедельник об Йолландах, я теперь услышал об индусах и ростовщике, и вспомните — сама мисс Рэчель была в это время в Лондоне. Вы видите, я выставляю все в самом худшем свете, даже когда это противоречит моим собственным воззрениям. Если вы бросите меня и перейдете на сторону сыщика, руководствуясь всеми этими уликами; если единственное разумное объяснение, какое можете вы подыскать, заключается в том, что мисс Рэчель и мистер Люкер вступили в сношения и Лунный камень находится в залоге у ростовщика, — признаюсь, я не смогу вас осудить. В темноте довел я вас до этого места. В темноте принужден вас оставить, с нижайшим моим почтением.
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ, написанный мисс Клак, племянницей покойного сэра Джона Вериндера
Глава I
Любезным моим родителям (оба теперь на небесах) я обязана привычкой к порядку и аккуратности, внушенной мне с самого раннего возраста.
В это счастливое, давно миновавшее время я обучена была опрятно держать волосы во все часы дня и ночи и старательно складывать каждый предмет моей одежды в одном и том же порядке, на одном и том же стуле и на одном и том же месте у кровати, прежде чем отправиться на покой. Запись происшествий дня в моем маленьком дневнике неизменно предшествовала складыванию одежды. Вечерний гимн (повторяемый в постельке) неизменно следовал за этим. А сладкий сон детства неизменно следовал за вечерним гимном.
В последующей жизни — увы! — вечерний гимн заменили печальные и горькие размышления; а сладкий сои вытеснили тревожные сновиденья, заставлявшие меня беспокойно метаться по подушке. Но привычку складывать свою одежду и вести дневничок я сохранила и в последующей моей жизни.
Первая привычка напоминает мне счастливое детство — дни, когда папенька еще не разорился. Вторая, бывшая полезной до сих пор главным образом тем, что помогала мне дисциплинировать грешную природу, унаследованную всеми нами от Адама, неожиданно оказалась важным для скромных моих интересов совершенно в другом отношении. Она позволила мне, бедной, исполнить прихоть одного богатого члена нашей семьи. Мне посчастливилось быть полезной мистеру Фрэнклину Блэку.
В течение некоторого времени я не имела никаких вестей от этой благоденствующей ветви нашей фамилии. Когда мы одиноки и бедны, о нас нередко забывают. Мне приходится жить сейчас, из соображений экономии, в маленьком городке, где имеется избранный круг почтенных английских друзей и где налицо два преимущества: протестантский пастор и дешевый рынок.
В этот уединенный уголок дошло вдруг до меня письмо из Англии. О моем ничтожном существовании неожиданно вспомнил мистер Фрэнклин Блэк. Богатый родственник (о, как я хотела бы добавить: духовно богатый!) пишет, даже не пытаясь скрыть этого, что я ему нужна. Ему пришла в голову фантазия опять воскресить скандальную историю Лунного камня, и я должна помочь ему в этом, написав рассказ обо всем, чему была свидетельницей в доме тетки моей Вериндер в Лондоне. Мне предлагают денежное вознаграждение — со свойственным богатым людям отсутствием чуткости. Я должна опять разбередить раны, которые едва затянуло время; я должна пробудить самые мучительные воспоминания и, сделав это, считать себя вознагражденною новым терзанием — в виде чека мистера Фрэнклина.
Плоть слаба. Мне пришлось долго бороться за то, чтобы христианское смирение победило во мне греховную гордость, а самоотречение заставило согласиться на чек.
Без привычки к дневнику, сомневаюсь, — позвольте мне выразить это в самых грубых словах, — могла ли бы я честно заработать эти деньги; но с моим дневником бедная труженица (прощающая мистеру Блэку его оскорбление) заслуживает обещанную плату. Ничто не ускользнуло от меня в то время, когда я гостила у дорогой тетушки Вериндер. Все записывалось, благодаря давнишней привычке моей, изо дня в день, и все до мельчайшей подробности будет рассказано здесь. Священное уважение к истине (слава богу!) стоит выше уважения к людям. Мистер Блэк легко может изъять те места, которые покажутся ему недостаточно лестными в отношении одной особы, — он купил мое время; но даже его щедрость не может купить мою совесть![1]
Дневник сообщает мне, что я случайно проходила мимо дома тетушки Вериндер на Монтегю-сквер в понедельник 3 июля 1848 года.
Увидя, что ставни открыты, а шторы подняты, я почувствовала, что вежливость требует постучаться и спросить о хозяевах. Лицо, отворившее дверь, сообщило мне, что тетушка и ее дочь (я, право, не могу назвать ее кузиной) приехали из деревни неделю тому назад и намерены остаться в Лондоне на некоторое время. Я тотчас поручила передать, что не желаю их тревожить, а только прошу спросить, не могу ли быть чем-нибудь полезна.
Лицо, отворившее дверь, с дерзким молчанием выслушало мое поручение и оставило меня стоять в передней. Это дочь одного нечестивого старика по имени Беттередж, которого долго, чересчур долго, терпят в семействе моей тетки. Я села в передней ждать ответа и, всегда имея при себе в сумке несколько религиозных трактатов, выбрала один, как нельзя более подходящий для особы, отворившей дверь. Передняя была грязна, стул жесткий, по блаженное сознание, что я плачу добром за зло, поставило меня выше всех таких ничтожных мелочей. Трактат этот принадлежал к целой серии брошюр, написанных для молодых женщин, на тему о греховности нарядов. Слог был набожный и очень простой, заглавие: “Словечко с вами о лентах к вашему чепчику”.
— Миледи крайне обязана и просит вас ко второму завтраку на следующий день в два часа.
Не буду распространяться о тоне, каким она передала мне это поручение, и об ужасной дерзости ее взгляда.
Я поблагодарила юную грешницу и сказала тоном христианского участия:
— Не сделаете ли вы мне одолжение принять эту брошюру?
Она взглянула на заглавие:
— Кем это написано, мисс, мужчиной или женщиной? Если женщиной, мне, право, не к чему ее читать по данному вопросу; а если мужчиной, то прошу передать ему, что он ничего в этом не понимает. — Она вернула мне брошюру и отворила дверь. Мы должны сеять семена добра, где можем и как можем. Я подождала, пока дверь за мной затворилась, и сунула брошюру в ящик для писем. Когда я просунула другую брошюру сквозь решетку сквера, я почувствовала, что на душе у меня стало несколько легче, ответственность за души ближних уже не так меня тяготила.
У нас в этот вечер был митинг в “Материнском попечительном комитете о превращении отцовских панталон в детские”. Цель этого превосходного благотворительного общества (как известно каждому серьезному человеку) состоит в том, чтобы выкупать отцовские панталоны из заклада и не допускать, чтобы их снова взял неисправимый родитель, а перешивать немедленно для его невинного сына. В то время я была членом этого избранного комитета, и я упоминаю здесь об этом обществе потому, что мой драгоценный и чудный друг, мистер Годфри Эбльуайт, разделял наш труд моральной и материальной помощи. Я ожидала увидеть его в комитете в понедельник вечером, о котором теперь пишу, и намеревалась сообщить ему, когда мы встретимся, о приезде дорогой тетушки Вериндер в Лондон. К моей крайней досаде, его там не было. Когда я высказала удивление по поводу его отсутствия, все мои сестры по комитету подняли глаза с панталон (у нас было много дела в этот вечер) и спросили с изумлением, неужели я не слышала о том, что случилось. Я призналась в своем неведении, и тогда мне впервые рассказали о происшествии, которое и составит, так сказать, исходную точку настоящего рассказа. В прошлую пятницу два джентльмена, занимающие совершенно различное положение в обществе, стали жертвами оскорбления, изумившего весь Лондон. Один из этих джентльменов был мистер Септимус Люкер, живущий в Лэмбете, другой — мистер Годфри Эбльуайт.
Живя сейчас уединенно, я не имею возможности перенести в мой рассказ информацию об этом оскорблении, напечатанную тогда в газетах. В тот момент я была также лишена бесценного преимущества услышать обо всем из вдохновенных уст самого мистера Годфри Эбльуайта. Все, что я могу сделать, — это лишь представить факты в том порядке, в каком они были представлены мне самой в тот понедельник вечером.
Дата события (благодаря моим родителям ни один календарь не может быть более точен насчет дат, нежели я) — пятница 30 июня 1848 года.
Рано утром в этот достопамятный день наш талантливый мистер Годфри пошел менять чек в один из банкирских домов на Ломбард-стрит. Название фирмы случайно зачеркнуто в моем дневнике, а мое священное уважение к истине запрещает мне отважиться на догадку в деле подобного рода. К счастью, имя фирмы не имеет никакого отношения к этому делу. А имеет отношение одно обстоятельство, случившееся, когда мистер Годфри уже покончил со своим делом. Выходя из банка, он встретил в дверях джентльмена, совершенно ему незнакомого, который случайно выходил из конторы в одно время с ним. Они обменялись взаимными вежливостями насчет того, кому первому пройти в двери банка. Незнакомец настоял, чтобы мистер Годфри прошел прежде него; мистер Годфри сказал несколько слов благодарности; они поклонились и разошлись.
Беспечные люди могут сказать: что за ничтожный и пустяковый случай, рассказанный в нелепо-условной манере. О, мои друзья и братья во грехе!
Уберегитесь от поспешного употребления вашего бедного здравого смысла!
Будьте благонравнее! Да будет ваша вера, как ваши чулки, и ваши чулки, как ваша вера, — оба без пятнышка и оба в готовности, чтобы тотчас быть натянутыми в минуту необходимости. Но — тысяча извинений! Я незаметно для себя перешла в свой воскресно-школьный стиль. В высшей степени неуместно в отчете, подобном моему. Разрешите мне снова вернуться к светскости, разрешите заговорить о легкомысленных вещах, которые в данном случае, как и во многих других случаях, ведут вас к убийственным последствиям.
Пояснив предварительно, что вежливый джентльмен был мистер Люкер из Лэмбета, мы теперь последуем за мистером Годфри к нему домой в Кильберн.
Он нашел в передней поджидавшего его бедно одетого, но деликатного и интересной наружности мальчика. Мальчик дал ему письмо, сказав лишь, что получил его от одной старой леди, которой не знал и которая не велела ему ждать ответа. Подобные случаи бывали не редки в огромной практике мистера Годфри, как члена благотворительных обществ. Он отпустил мальчика и распечатал письмо.
Почерк был ему совершенно незнаком. В письме его приглашали быть через час в одном доме на Стрэнде, по Нортумберленд-стрит, где ему еще ни разу не приходилось бывать.
Приглашение исходило от пожилой леди, собиравшейся сделать щедрое пожертвование на благотворительные цели, если он удовлетворительно ответит на некоторые ее вопросы. Она назвала свое имя, прибавив, что кратковременность пребывания ее в Лондоне не позволяет ей отодвинуть срок встречи со знаменитым филантропом, к которому она обращается. Ординарные люди могли бы дважды подумать, прежде чем пойти по приглашению неизвестного лица. Но подлинный христианин никогда не колеблется, если речь идет о добром поступке. Мистер Годфри тотчас же снова вышел из дома и направился на Нортумберленд-стрит. Человек довольно почтенной наружности, хотя немножко толстый, отворил ему дверь и, услышав имя мистера Годфри, тотчас провел его в пустую комнату на внутренней стороне дома, в бельэтаже. Мистер Годфри заметил две необыкновенные вещи, когда вошел в комнату. Во-первых, слабый запах мускуса и камфары; во-вторых, старинную восточную рукопись, богато иллюстрированную индусскими фигурами и девизами, которая лежала развернутой на столе.
Он заглянул в эту книгу, стоя спиной к запертой двери, сообщавшейся с передней комнатой, как вдруг, без малейшего шума, его сзади схватили за шею. Он успел лишь заметить, что рука, схватившая его за шею, была голая и смуглая, но тут глаза его были крепко завязаны, рот заткнут кляпом, а сам он брошен на пол (как ему показалось) двумя людьми. Третий обшарил его карманы и обыскал его без церемоний с ног до головы.
Все это насилие совершалось в мертвом молчании. Когда оно было кончено, невидимые злодеи обменялись несколькими словами на языке, которого мистер Годфри не понял, но таким тоном, который ясно выражал (для его просвещенного слуха) обманутое ожидание и ярость. Его вдруг приподняли с пола, посадили на стул и связали по рукам и по ногам. Через минуту он почувствовал струю воздуха из открытой двери, прислушался и убедился, что остался опять один в комнате.
Прошло некоторое время, и мистер Годфри услышал шум, похожий на шелест женского платья. Он приближался со стороны лестницы и вдруг прекратился.
Женский крик прорезал эту атмосферу преступления. Мужской голос снизу воскликнул: “Хелло!” Мужские шаги послышались на лестнице. Мистер Годфри почувствовал, как чьи-то христианские пальцы развязывают его и вынимают изо рта его кляп. Он с удивлением увидел двух приличного вида незнакомцев и слабо воскликнул:
— Что все это значит?
Незнакомцы почтенной наружности оглянулись вокруг и ответили:
— Точь-в-точь такой же вопрос мы намеревались задать вам.
Последовало неизбежное объяснение. Нет! Будем скрупулезно точными: последовали стакан воды и флакон с солями, чтобы привести в порядок нервы мистера Годфри. Объяснение последовало за этим.
Из рассказа хозяина и хозяйки дома (людей, пользующихся хорошей репутацией среди соседей) выяснилось, что их первый и второй этажи были наняты накануне на неделю джентльменом почтенной наружности, тем самым, который отворил дверь на стук мистера Годфри. Джентльмен заплатил за целую неделю вперед, сказав, что комнаты эти надобны для трех восточных вельмож, его друзей, посетивших Англию впервые. Утром, в день нанесения оскорбления, два восточных незнакомца, в сопровождении их почтенного английского друга, переехали на эту квартиру. Третьего ожидали к ним вскоре, а поклажа (очень большая, как уверяли) должна была прибыть к ним из таможни попозже, в тот же день. Минут за десять до прихода мистера Годфри явился третий незнакомец. Не произошло ничего необыкновенного, насколько это было известно хозяину и хозяйке, которые находились внизу до тех пор, пока, пять минут назад, три иностранца в сопровождении их английского друга все вместе вышли из дома и спокойно отправились пешком по направлению к Стрэнду. Хозяйка вспомнила, что к ним приходил посетитель, и так как она не видела, чтобы он вышел из дома, ей показалось странным, почему этого господина оставили наверху одного. Посоветовавшись с мужем, она нашла нужным удостовериться, не случилось ли чего-нибудь.
Результат я уже описала выше; на том и кончилось объяснение хозяина и хозяйки.
В комнате был произведен обыск. Вещи дорогого мистера Годфри были разбросаны во все стороны. Когда их собрали, все оказалось, однако, налицо; часы, цепочка, кошелек, ключи, носовой платок, записная книжка; все бумаги, находившиеся при нем, были внимательно перебраны и оставлены в совершенной целости. Из имущества хозяев дома также не было унесено ни малейшей вещицы. Восточные вельможи взяли с собой только свою иллюстрированную рукопись и ничего более.
Что все это означало? Если судить с мирской точки зрения, это, по-видимому, значило, что мистер Годфри стал, в силу недоразумения, жертвою каких-то неизвестных людей. Какой-то темный заговор имел здесь место, и наш возлюбленный невинный друг попался в сети преступников.
С точки же зрения духовной, если христианин, герой сотни человеколюбивых побед, попадает в ловушку, расставленную для него по ошибке, — о, какое это предостережение для остальных из нас быть непрестанно начеку! Как быстро могут наши собственные темные страсти оказаться восточными вельможами, схватывающими нас внезапно!
Мы должны теперь оставить мистера Годфри на Нортумберленд-стрит и последовать несколько позже уже в другой дом, за мистером Люкером.
По выходе из банка мистер Люкер посетил различные части Лондона по своим делам. Вернувшись домой, он нашел ожидавшее его письмо, которое, как ему сказали, недавно оставил какой-то мальчик. И тут, как в письме мистера Годфри, почерк был незнаком; упоминалось имя одного из иногородних клиентов мистера Люкера. Корреспондент сообщал (письмо было написано от третьего лица, вероятно, помощником), что он был неожиданно вызван в Лондон, остановился на площади Альфреда, Тоттенхэм-Корт-род, и желает немедленно повидать мистера Люкера по поводу одной покупки, которую он собирается сделать. Джентльмен этот был восторженный собиратель восточных древностей и много лет был щедрым клиентом мистера Люкера в Лэмбете. Мистер Люкер тотчас взял кэб и поехал к своему щедрому клиенту.
Решительно все, что случилось с мистером Годфри на Нортумберленд-стрит, повторилось и с мистером Люкером на площади Альфреда. Опять человек почтенной наружности отворил дверь и провел гостя в заднюю гостиную. Опять на столе оказалась иллюстрированная рукопись. Внимание Люкера было поглощено совершенно так же, как внимание мистера Годфри, этим чудным произведением индусского искусства. Он также вдруг почувствовал смуглую голую руку на своей шее, ему также были завязаны глаза и в рот сунут кляп.
Он также был брошен наземь и обыскан с ног до головы. Последовавший затем промежуток был длиннее, чем в случае с мистером Годфри, но и он окончился, как первый, тем, что хозяева дома, подозревая что-то неладное, пошли наверх посмотреть, что случилось. Именно такое объяснение, какое хозяин дома на Нортумберленд-стрит дал мистеру Годфри, дал и хозяин дома на площади Альфреда мистеру Люкеру. Оба были обмануты под одинаково благовидным предлогом и туго набитым кошельком незнакомца почтенной наружности, который будто бы действовал для своих заграничных друзей.
Единственная разница была в том, что когда разбросанные вещи из карманов мистера Люкера были собраны с пола, его часы и кошелек оказались целы, но (ему не так повезло, как мистеру Годфри) одна из бумаг унесена. Бумага эта была квитанцией от очень ценной вещи, которую мистер Люкер отдал в тот день на хранение своим банкирам. Однако же документ этот был бесполезен для вора, поскольку драгоценная вещь должна была быть возвращена лишь самому владельцу. Как только мистер Люкер пришел в себя, он поспешил в банк, на тот случай, если воры, обокравшие его, по неведению явятся туда с этою квитанцией. Но в банке никто их не видел ни в тот день, ни впоследствии. Их толстый английский друг, по мнению банкира, разобрался в квитанции прежде, чем они решились воспользоваться ею, и предостерег их вовремя.
Оба пострадавших заявили об этом деле в полицию, что вызвало тщательные расследования, произведенные с большой энергией. Полицейские власти пришли к выводу, что грабителями задумано было похищение на основании полученных недостаточных сведений. Они явно не были уверены в том, произвел или не произвел мистер Люкер сдачу своей драгоценности, а бедный благовоспитанный мистер Годфри пострадал оттого, что случайно заговорил с ним.
Прибавьте к этому, что отсутствие мистера Годфри на нашем митинге в понедельник было вызвано необходимостью для него присутствовать в этот день на совещании полицейских властей, — и вы получите все требуемые объяснения, а я смогу перейти к скромному рассказу о пережитом мною лично на Монтегю-сквер.
Я аккуратно явилась во вторник к завтраку.
Добрейшая тетушка Вериндер приняла меня со своей обычной любезностью.
Но вскоре же я заметила, что в семье не все благополучно. Тетушка бросила несколько тревожных взглядов на дочь. Всякий раз, как я гляжу на Рэчель, я не могу не удивляться, каким образом такая ничтожная девушка может быть дочерью таких замечательных родителей, как сэр Джон и леди Вериндер.
Теперь же она не только разочаровала, она прямо шокировала меня. В ее разговоре и обращении заметно было отсутствие всякой благовоспитанной выдержки, очень неприятное на мой взгляд. Она была одержима каким-то лихорадочным волнением, заставлявшим ее громко хохотать и быть греховно-капризной и разборчивой в кушаньях и напитках за завтраком. Мне очень было жаль ее бедную мать, даже прежде, чем истинное положение вещей сделалось мне известным.
По окончании завтрака тетушка сказала:
— Помни, что доктор предписал, Рэчель, чтобы ты тихо посидела за книжкой после еды.
— Я пойду в библиотеку, мама, — ответила она. — Но если Годфри приедет, велите мне сказать. Я умираю от желания узнать подробнее о его приключении на Нортумберленд-стрит.
Она поцеловала мать в лоб и посмотрела в мою сторону.
— Прощайте, Клак! — произнесла она небрежно.
Ее дерзость не вызвала во мне гневных чувств. Я только сделала особую зарубку в памяти, чтобы помолиться за нее. Когда мы остались одни, тетушка рассказала мне ужасную историю об индийском алмазе, которую, как с радостью я узнала, мне нет никакой надобности здесь пересказывать. Она не скрывала от меня, что предпочла бы сохранить ее в тайне. Но теперь, когда все слуги узнали о пропаже алмаза и когда некоторые обстоятельства попали даже в газеты и посторонние люди рассуждают о том, есть ли какая-нибудь связь между случившимся в поместье леди Вериндер и происшествиями на Нортумберленд-стрит и на площади Альфреда, — уже нет смысла скрытничать, и полная откровенность становится не только добродетелью, но и необходимостью.
Многие, услышав то, что я услышала, были бы, вероятно, крайне изумлены.
Но я, зная, что характер Рэчель с детства не подвергался исправлению, была подготовлена ко всему, что тетушка могла мне сказать о своей дочери. Могло быть еще хуже и окончиться убийством, а я все-таки сказала бы себе: “Естественный результат! О боже, боже, — естественный результат!” Меня покоробили лишь меры, какие приняла тетушка в данном случае. Вот уж тут следовало бы действовать пастору, а леди Вериндер считала, что надо обратиться к врачу. Свою молодость моя бедная тетушка провела в безбожном доме своего отца. Опять естественный результат! О боже, боже, — опять естественный результат!
— Доктора предписали Рэчель движение и развлечения и настойчиво убеждали меня отвлекать ее мысли от прошлого, — сказала леди Вериндер. — Я прилагаю все силы, чтобы исполнить эти предписания. Но странное приключение с Годфри случилось в самое неудачное время. Рэчель сразу встревожилась и взволновалась, как только услышала об этом. Она не давала мне покоя до тех пор, пока я не написала и не пригласила моего племянника Эбльуайта приехать к нам. Она проявила интерес и к другому человеку, с которым так же грубо поступили, — к мистеру Люкеру, или как его? Хотя, разумеется, это уже совершенно посторонний для нее человек.
— Ваше знание света, милая тетушка, гораздо выше моего, — ответила я недоверчиво. — Но должна же быть причина для такого странного поведения Рэчель. Она скрывает греховную тайну от вас и от всех. Нет ли чего-нибудь такого в этих недавних происшествиях, что угрожает открытию ее тайны?
— Открытию? — переспросила тетушка. — Что вы хотите этим сказать?
Открытию через Люкера? Открытию через моего племянника?
Едва эти слова сорвались с ее губ, как вмешалось само провидение. Слуга открыл двери и доложил о мистере Годфри Эбльуайте.
Глава II
Мистер Годфри явился вслед за докладом, — именно так, как мистер Годфри делает все, — в самое надлежащее время. Он вошел не настолько быстро, чтобы испугать вас. И не настолько медленно, чтобы доставить вам двойное неудобство ожидания у открытой двери.
— Ступай к мисс Вериндер, — обратилась тетушка к слуге, — и скажи ей, что мистер Эбльуайт здесь.
Мы обе осведомились о его здоровье. Мы обе вместе спросили, оправился ли он после страшного приключения на прошлой неделе. С совершеннейшим тактом успел он ответить нам обеим в одну и ту же минуту. Леди Вериндер он ответил, а мне досталась его очаровательная улыбка.
— Чем заслужил я все это сочувствие? — воскликнул он с бесконечной нежностью. — Милая тетушка! Милая мисс Клак! Меня лишь приняли за кого-то другого; мне лишь завязали глаза; меня лишь едва не задушили; меня лишь бросили на спину на очень тонкий ковер, покрывавший какой-то особенно жесткий пол. Ведь могло быть гораздо хуже! Я мог быть убит, меня могли обокрасть. Чего я лишился? Ничего, кроме Нервной Силы, которую закон не признает собственностью, так что, в строгом смысле, я не лишился ничего.
Если б я мог поступить по-своему, я умолчал бы об этом приключении. Мне неприятна вся эта суматоха и гласность. Но мистер Люкер разгласил свои обиды, и, как естественное следствие, были разглашены, в свою очередь, и мои обиды. Я сделался собственностью газет, так что кроткому читателю скоро надоест этот предмет. Мне самому он надоел. Дай бог, чтобы кроткий читатель скорее последовал моему примеру! Как здоровье милой Рэчель? Все ли еще наслаждается она лондонскими развлечениями? Очень рад слышать это.
Мисс Клак, мне нужно ваше снисхождение. Я ужасно запустил свои дела по комитету и своих любезных дам. Но я надеюсь заглянуть на следующей неделе в общество материнского попечительства. Много ли вы успели сделать в понедельник? Имеет ли комитет какие-нибудь надежды насчет будущего? Много ли у нас запасено панталон?
Нельзя было устоять против небесной кротости его улыбки. Глубина его бархатистого голоса усиливала его очарование и повышала мой интерес к деловому вопросу, с которым он обратился ко мне. У нас было запасено слишком много панталон; мы были совершенно завалены ими. Я только что хотела об этом сказать, как дверь опять отворилась, и веяние мирской тревоги ворвалось в комнату в лице мисс Вериндер.
Она подбежала к мистеру Годфри с неприличной быстротой, с ужасно растрепанными волосами и непристойно раскрасневшимся лицом.
— Как я рада видеть вас, Годфри! — обратилась она к нему тем открыто-приятельским тоном, с каким один молодой человек обращается к другому. — Как жаль, что вы не захватили с собой мистера Люкера! Вы и он, — пока длится наша последняя сенсация, — сейчас самые интересные люди во всем Лондоне. Это больно говорить, это неестественно, от этого инстинктивно содрогается упорядоченная натура, подобная мисс Клак. Все равно. Расскажите мне сейчас полностью историю на Нортумберленд-стрит. Я знаю, что газеты кое о чем не упомянули.
Даже милый мистер Годфри унаследовал падшую натуру, доставшуюся нам всем от Адама, — весьма ничтожную долю человеческого наследства, но — увы! — все же унаследовал. Признаюсь, мне тяжко было видеть, как он взял руку Рэчель в обе свои руки и тихо приложил ее к левой стороне своего жилета.
Это было прямым поощрением ее безудержной манере разговора и ее дерзкому намеку на меня.
— Дражайшая Рэчель, — промолвил он тем самым голосом, который потряс меня, когда он говорил о наших надеждах и наших панталонах, — газеты рассказали вам все — и рассказали гораздо лучше, чем мог бы я.
— Годфри считает, что мы приписываем слишком много значения этому делу, — заметила тетушка. — Он только сейчас говорил нам, что ему не хочется рассказывать об этом.
— Почему?
Она задала этот вопрос, внезапно сверкнув глазами и уставившись прямо в лицо мистеру Годфри.
— Рэчель, милочка, — запротестовала я мягко, — истинное величие и истинное мужество всегда скромны!
— Вы добрый малый, Годфри, — продолжала она, но обращая на меня ни малейшего внимания, — но я уверена, что в вас нет никакого величия; я не верю, чтобы вы обладали каким-либо особым мужеством; и я твердо убеждена, что у вас есть личная причина не говорить о вашем приключении на Нортумберленд-стрит. И я намереваюсь узнать эту причину.
— Причина очень простая, и признаться в ней очень легко, — ответил он с величайшим к ней снисхождением, — мне надоело говорить об этом.
— Вам надоело? Милый Годфри, я сделаю вам замечание.
— Какое?
— Вы проводите чересчур много времени в женском обществе. Вы усвоили там две прескверные привычки: серьезно разговаривать о пустяках и лгать из одного удовольствия говорить ложь. Вы не можете говорить прямо с вашими обожательницами. Но я намереваюсь заставить вас со мною говорить прямо. Подите сюда и сядьте. Я горю нетерпением забросать вас прямыми вопросами и надеюсь заставить вас дать мне прямые ответы.
Она прямо-таки потащила его через всю комнату к стулу у окна, где свет падал бы на его лицо. Мне тяжела необходимость описывать подобные речи и поступки. Но между чеком мистера Фрэнклина Блэка, с одной стороны, и святой потребностью в правде с другой, — что в силах я сделать? Я взглянула на тетушку. Она сидела неподвижно, по-видимому отнюдь не расположенная вмешиваться. Никогда раньше не видела я ее в таком оцепенении. Это была, быть может, реакция после беспокойного времени, проведенного в деревне.
Между тем Рэчель села у окна с мистером Годфри. Она принялась за вопросы, которыми грозила ему, так же мало обращая внимания на свою мать и на меня, как если бы нас вовсе не было в комнате.
— Полиция ничего не открыла, Годфри?
— Решительно ничего.
— Это действительно правда, что три человека, расставившие вам ловушку, были те самые, которые потом расставили ловушку мистеру Люкеру?
— Не может быть никакого сомнения в этом, милая Рэчель.
— И ни малейшего следа этих людей не было найдено?
— Ни малейшего.
— Думают — не правда ли? — что это те самые три индуса, которые приходили к нам в деревне?
— Кое-кто думает так.
— А вы это думаете?
— Дорогая моя, они завязали мне глаза, прежде чем я успел увидеть их лица. Я решительно ничего не знаю об этом. Как могу я высказывать какое-нибудь мнение?
Она, не смущаясь, продолжала свои вопросы.
— Я хочу узнать что-нибудь о мистере Люкере, Годфри.
— Опять мне не везет, Рэчель. Никто не знает о мистере Люкере менее моего.
— Вы не виделись с ним раньше, до встречи в банке?
— Никогда.
— А позднее вы его видели?
— Да. Нас допрашивали, и вместе, и поодиночке, в полиции.
— У мистера Люкера, кажется, отняли расписку, которую он получил от своего банкира. Что это за расписка?
— На какую-то драгоценность, которую он отдал на хранение в банк.
— Так и было сказано в газетах. Но если этого достаточно для читателей вообще, то мне этого мало. В расписке банкира было, вероятно, указано, что это за драгоценность?
— Я слышал, Рэчель, что в расписке ничего не было указано.
Драгоценность, принадлежащая мистеру Люкеру, запечатанная его печатью и отданная в банк на хранение, с тем чтобы быть выданной обратно только одному ему, — вот ее форма, и вот все, что я знаю об этом.
Рэчель помолчала с минуту, взглянула на мать и вздохнула. Потом опять перевела глаза на мистера Годфри и продолжала:
— Наши частные дела, кажется, попали в газеты?
— С прискорбием должен сознаться, что это так.
— И кое-какие праздные люди, совершенно чужие нам, стараются установить связь между тем, что случилось в нашем доме в Йоркшире, и тем, что произошло после этого здесь, в Лондоне?
— Боюсь, что любопытство публики направлено именно в эту сторону.
— Люди, утверждающие, что трое неизвестных, оскорбивших вас и мистера Люкера, это те же индусы, говорят также, что и драгоценность…
Тут Рэчель остановилась. Она делалась постепенно все бледнее и бледнее.
Необыкновенно черные волосы ее сделали эту бледность, по контрасту, такой страшной, что мы все думали, она упадет в обморок в ту минуту, когда остановилась на середине своего вопроса. Милый мистер Годфри сделал вторую попытку встать со стула. Тетушка умоляла ее не говорить более. Я поспешила на помощь тетушке со скромным залогом мира в виде склянки с нюхательной солью.
— Годфри, оставайтесь на своем месте. Мама, нет ни малейшей причины пугаться за меня. Клак, вы умираете от желания услышать конец, — я не упаду в обморок специально для того, чтобы сделать вам одолжение.
Таковы были подлинные ее слова, я записала их в дневнике тотчас, как вернулась домой.
Она опять обратилась к мистеру Годфри. С упорством, на которое страшно было смотреть, она опять вернулась к прерванной фразе, на которой остановилась, и докончила ее:
— Скажите мне прямо, Годфри, говорит ли кто-нибудь, что драгоценность мистера Люкера — Лунный камень?
Едва лишь упоминание об алмазе сорвалось с ее губ, я увидела перемену в моем чудном друге. Лицо его потемнело. Его покинула присущая ему мягкость в обращении, составлявшая одну из главных его прелестей. Ответ его был преисполнен благородного негодования.
— Они говорят это! — воскликнул он. — Есть люди, не останавливающиеся перед тем, чтобы обвинить мистера Люкера в обмане во имя каких-то частных личных интересов. Он снова и снова торжественно клянется в ответ на клевету, что никогда в жизни даже и не слышал о Лунном камне. А эти низкие люди отвечают, — без тени каких-либо доказательств, — что у него есть причины быть скрытным. Мы отказываемся верить его клятве! Стыд и позор!
Пока он говорил, Рэчель глядела на него как-то странно, — не берусь описать, до чего странно. Когда он кончил, она сказала:
— Если принять во внимание, что мистер Люкер едва вам знаком, вы что-то уж очень горячо ратуете за его интересы, Годфри.
Мой талантливый друг дал ей один из самых истинно-евангельских ответов, какие я когда-либо в жизни слышала:
— Надеюсь, Рэчель, я горячо ратую за интересы каждого притесняемого человека.
Тон, каким были сказаны эти слова, мог бы растопить камень. Но — о, друзья мои! — что такое твердость камня? Ничто перед твердостью необращенного сердца человеческого! Она фыркнула. Я краснею, вспоминая это: фыркнула ему в лицо.
— Приберегите ваши благородные фразы для женского комитета, Годфри. Я убеждена, что скандал, коснувшийся Люкера, не пощадил и вас.
Даже оцепенение тетушки прошло при этих словах.
— Рэчель, дорогая, — вступилась она, — вы не имеете права так говорить!
— Я не имею в виду ничего плохого, мама, я говорю это с добрыми намерениями. Потерпите еще минутку, и вы увидите.
Она опять взглянула на мистера Годфри с выражением, похожим на внезапную жалость. Она зашла так далеко, так несовместимо с женским достоинством, что позволила себе взять его за руку.
— Я уверена, что догадываюсь о причине вашего нежелания говорить на эту тему с моей матерью и со мной. Несчастная случайность соединила ваше имя в глазах людей с именем мистера Люкера. Вы рассказали мне о скандальных слухах, которые ходят про него. Скажите мне, какие скандальные слухи ходят про вас?
Даже в эту минуту милый мистер Годфри, всегда готовый отвечать добром на зло, попытался пощадить ее.
— Не спрашивайте меня! — сказал он. — Лучше позабудем об этом, Рэчель, право же, лучше!
— Я хочу это знать! — вскричала она яростно, во всю мощь своего голоса.
— Ответьте ей, Годфри, — вмешалась тетушка, — ничто так не повредит ей сейчас, как ваше молчание.
Красивые глаза мистера Годфри наполнились слезами. Он устремил на нее последний умоляющий взгляд и произнес наконец роковые слова:
— Если вы хотите знать, Рэчель, слух идет, что Лунный камень в закладе у мистера Люкера и что я — тот человек, кто заложил его.
Она вскочила на ноги со стоном. Она попеременно глядела то на тетушку, то на мистера Годфри с таким безумным видом, что я, право же, подумала: уж не сошла ли она с ума?
— Не говорите со мной! Не дотрагивайтесь до меня! — воскликнула она, отшатываясь от нас всех, словно загнанный зверь, в дальний угол комнаты. — Это моя вина! Я должна исправить ее! Я принесла в жертву себя — это мое право. Но видеть, как гибнет невинный человек, хранить тайну, разрушая ему жизнь? О господи! Это слишком ужасно! Я не могу этого вынести!
Тетушка приподнялась со стула и вдруг снова села. Она окликнула меня слабым голосом, указав на флакон в своей рабочей корзинке.
— Скорей, — шепнула она, — шесть капель с водой. Чтобы Рэчель не заметила!
При других обстоятельствах я нашла бы это странным. Но сейчас не было времени думать, — нужно было дать лекарство. Милый мистер Годфри бессознательно помог мне скрыть это от Рэчель, говоря ей на другом конце комнаты сдержанным голосом:
— Право же, право же, вы преувеличиваете, — услышала я его слова. — Моя репутация слишком безупречна, для того чтоб ее могла погубить такая мимолетная клевета. Все это позабудется через неделю. Перестанем говорить об этом.
Она осталась совершенно нечувствительна даже к такому великодушию. Она вела себя все хуже и хуже.
— Я должна и хочу пресечь эту клевету, — сказала она. — Мама, послушайте, что я скажу. Мисс Клак, послушайте, что я скажу. Я знаю руку, взявшую Лунный камень. Я знаю, — она сделала сильное ударение на этих словах; она топнула ногою в ярости, овладевшей ею, — я знаю, что Годфри Эбльуайт невиновен! Ведите меня к судье, Годфри! Ведите меня к судье, и я присягну в этом!
Тетушка схватила меня за руку и шепнула:
— Загородите меня от них минуты на две. Не допускайте, чтобы Рэчель увидела меня.
Синеватый оттенок, проступивший на лице ее, ужаснул меня. Она увидела, что я испугалась.
— Капли поправят дело минуты через две, — шепнула она и, закрыв глаза, стала ждать их действия.
Покуда это продолжалось, я слышала, как милый мистер Годфри кротко возражал:
— Ваше имя не должно быть связано с такими делами. Ваша репутация, возлюбленная Рэчель, слишком чиста и слишком священна для того, чтобы с нею можно было шутить!
— Моя репутация! — Она разразилась хохотом. — Меня обвиняют, Годфри, так же как и вас. Лучший сыщик в Англии убежден, что я украла свой собственный алмаз. Спросите его мнение, и он вам скажет, что я заложила Лунный камень в уплату своих секретных долгов!
Она замолчала, перебежала в комнату и упала на колени у ног матери.
— О, мама! мама! мама! Я, должно быть, сумасшедшая, не правда ли? Не открыть истины даже теперь!
Она была так возбуждена, что не заметила состояния своей матери. Она опять вскочила на ноги и в одно мгновение очутилась возле мистера Годфри.
— Я не позволю, чтобы вас, не позволю, чтобы какого-нибудь невинного человека обвинили и обесчестили по моей вине. Если вы не хотите повести меня к судье, напишите сейчас заявление о вашей невиновности, и я подпишу его. Сделайте, что я говорю вам, Годфри, или я напечатаю об этом в газетах, выбегу и стану кричать об этом на улицах!
Мы не станем уверять, что слова эти были внушены угрызениями совести, — мы скажем, что они были внушены истерикой. Снисходительный мистер Годфри успокоил ее, взяв лист бумаги и написав заявление. Она подписала его с лихорадочной торопливостью.
— Показывайте это везде, не думайте обо мне, — сказала она, подавая ему бумагу. — Боюсь, Годфри, что в мыслях моих я не была к вам до сих пор справедлива. Вы не такой эгоист, вы гораздо добрее, чем я думала.
Приходите к нам, когда сможете, и я постараюсь загладить ту несправедливость, с которой обошлась с вами.
Она подала ему руку. Увы! Как жалка наша падшая натура! Увы! Мистер Годфри — он не только забылся до такой степени, что поцеловал ее руку, — он ответил ей кротким тоном, который сам по себе, при данных обстоятельствах, был греховным:
— Я приду, дорогая, с условием, чтобы мы больше не говорили об этом ненавистном предмете.
Прежде чем кто-нибудь из нас успел сказать еще слово, раздался громкий стук в дверь. Я выглянула в окно и увидела Мирское, Плоть и Дьявола, ожидавших перед домом в виде кареты и лошадей, напудренного лакея и трех женщин, одетых до такой степени смело, что еще ни разу в моей жизни не доводилось мне видеть что-либо подобное.
Рэчель вздрогнула и пришла в себя. Она приблизилась к своей матери.
— За мной заехали взять меня на цветочную выставку, — сказала она. — Одно словечко, мама, прежде чем я пойду. Я не огорчила вас?
Капли произвели свое действие. Цвет лица бедной моей тетки принял свой естественный оттенок.
— Нет, нет, душа моя, — сказала она, — поезжай со своими друзьями и повеселись.
Дочь наклонилась к ней и поцеловала ее.
Я стояла возле двери, когда Рэчель выходила из комнаты. Новая перемена — она была в слезах. Я с интересом наблюдала за мгновенным смягчением этого ожесточенного сердца. Я склонна уже была сказать ей несколько серьезных слов. Увы! Моя симпатия, вызванная добрыми намерениями, только оскорбила ее. “С какой стати вы жалеете меня? — спросила она горьким шепотом. — Разве вы не видите, что я счастлива? Я еду на цветочную выставку, Клак; и у меня самая красивая шляпка во всем Лондоне”. Она завершила эту насмешку надо мной воздушным поцелуем в мой адрес и выбежала из комнаты.
Вернувшись к тетушке, я заметила, что милый мистер Годфри тихо ищет что-то по всем углам комнаты. Прежде чем я успела предложить ему помощь, он уже нашел то, что искал. Он вернулся к своей тетке и ко мне с заявлением о его невиновности в одной руке и с коробочкой серных спичек в другой.
— Дорогая тетя, маленький заговор, — сказал он. — Дорогая мисс Клак, благочестивый обман, извинительный даже с точки зрения вашей высокой нравственной прямоты! Прошу вас, оставьте Рэчель в убеждении, что я принимаю великодушное самопожертвование, с каким она подписала эту бумагу.
И прошу вас, будьте свидетельницами, что я уничтожил эту бумагу в вашем присутствии, прежде чем выйти из этого дома!
Он зажег спичку и сжег бумагу на тарелке, стоявшей на столе.
— Маленькая неприятность, случившаяся со мной, — сущий пустяк, — несравнимо важнее сохранить это чистое имя от мирской заразы. Вот!
Безобидная маленькая кучка золы, и наша милая впечатлительная Рэчель никогда не узнает о том, что мы сделали. Каковы ваши чувства сейчас?
Драгоценные друзья мои, каковы сейчас ваши чувства? Что до меня, бедного, — у меня сейчас так же легко на душе, как у маленького мальчика.
Он засиял своей прелестной улыбкой; он протянул одну руку тетушке, а другую мне. Я была слишком потрясена его благородным поведением, чтобы заговорить. Я зажмурила глаза, поднесла его руку в каком-то мистическом самозабвении к своим губам. Он прошептал мягкое возражение. О, восторг!
Чистый, неземной восторг этой минуты! Я села, сама не знаю, на что, совершенно забыв обо всем в экзальтации своих чувств. Когда я опять открыла глаза, я точно спустилась с неба на землю. В комнате не было никого, кроме тетушки. Он ушел.
Хотела бы я поставить здесь точку, закончив рассказ на благородном поступке мистера Годфри. К несчастью, остается еще многое, очень многое, о чем финансовое давление мистера Фрэнклина Блэка вынуждает меня писать.
Оставшись одна с леди Вериндер, я, естественно, заговорила о ее здоровье, деликатно упомянув, что меня удивили ее старания скрыть от дочери свой припадок и принятые лекарства. Ответ моей тетки чрезвычайно меня удивил.
— Друзилла, — сказала она (если я еще не упомянула, что мое христианское имя Друзилла, то позвольте сообщить об этом теперь), — вы коснулись — без всякого умысла, я в этом уверена, — тяжелого предмета.
Я тотчас поднялась с места. Деликатность оставила мне лишь один выход: сперва извиниться, а потом уйти. Леди Вериндер остановила меня и настояла, чтобы я опять села.
— Вы случайно узнали тайну, которую я доверила только своей сестре, миссис Эбльуайт, и своему стряпчему, мистеру Бреффу, и никому другому. Я могу положиться на их скромность и уверена, что, когда я расскажу вам все обстоятельства, смогу положиться и на вас. Свободен ли у вас сегодняшний день или вы обещали где-нибудь быть сегодня, Друзилла?
Излишне говорить, что я тотчас отдала все свое время в полное распоряжение тетушки.
— Если так, останьтесь со мною еще на часок, — сказала она. — Я вам сообщу кое-что, и думаю, что вы выслушаете это с огорчением. А потом я попрошу вас оказать мне услугу, если только вы не против.
Бесполезно говорить, что я отнюдь не была против и чрезвычайно желала ей помочь.
— Подождемте мистера Бреффа, он должен приехать в пять часов. И вы сможете быть одною из свидетельниц, Друзилла, когда я подпишу мое завещание.
Ее завещание! Я вспомнила о каплях в ее рабочем ящике. Я вспомнила о синеватом оттенке ее лица. Свет не от мира сего, — свет, пророчески засиявший из невырытой еще могилы, осветил мои мысли. Тайна моей тетушки перестала быть для меня тайною.
Глава III
Уважение к бедной леди Вериндер не позволило мне даже и намекнуть ей, что я угадала печальную истину, прежде чем она раскрыла рот. Я молча ждала, пока она вздумает заговорить.
— Уже несколько времени, как я серьезно больна, Друзилла, — начала тетушка, — и, странно сказать, я сама об этом не подозревала.
Я подумала о тысячах и тысячах погибающих существ, которые в эту минуту больны духовно, сами не подозревая об этом. И я очень боялась, что моя бедная тетушка может быть в их числе.
— Да, дорогая, — произнесла я грустно, — да.
— Вы знаете, что я привезла Рэчель в Лондон, чтобы посоветоваться с докторами, — продолжала она. — Я сочла нужным обратиться к двум докторам.
— Да, дорогая, — опять повторила я, — да.
— Один из двух докторов, — продолжала тетушка, — был мне незнаком.
Другой был старый друг моего мужа и всегда принимал во мне искреннее участие ради моего мужа. Прописав лекарства Рэчель, он сказал, что хотел бы поговорить со мною наедине. Я, разумеется, думала, что он даст какие-нибудь особые наставления для моей дочери. К удивлению моему, он с серьезным видом взял меня за руку и сказал: “Я гляжу на вас, леди Вериндер, с участием не только друга, но и медика. Я боюсь, что совет врача гораздо нужнее вам, чем вашей дочери”. Он задал мне несколько вопросов, которым я не придавала никакого значения, пока но заметила, что мои ответы огорчают его. Кончилось тем, что он условился приехать ко мне со своим другом, также доктором, на следующий день, в такой час, когда Рэчель не будет дома. Результаты этого визита очень ласково и осторожно сообщены мне. Осмотр показал обоим врачам, что потеряно было много драгоценного времени, которое уже нельзя вернуть, и что болезнь моя стала уже недоступна их искусству. Более чем два года я страдаю болезнью сердца, которая, не проявляя симптомов, способных напугать меня, мало-помалу гибельно разрушала мое здоровье. Я могу прожить еще несколько месяцев или умереть раньше, в течение сегодняшнего дня, — на этот счет доктора не могут, или не решаются, сказать ничего определенного. Не стану утверждать, моя милая, что я не переживала тяжелых минут, узнав о своем настоящем положении. Но сейчас я уже покорилась своей участи и всеми силами стараюсь привести в порядок свои мирские дела. Я беспокоюсь лишь об одном, — чтобы Рэчель не узнала правды. Если она ее узнает, она тотчас припишет мою болезнь беспокойству по поводу алмаза и станет горько упрекать себя, бедняжка, за то, в чем сама не виновата. Оба врача согласны, что болезнь началась года два, если не три тому назад. Я уверена, что вы сохраните мою тайну, Друзилла, — я вижу искреннюю горесть и сочувствие на вашем лице.
Горесть и сочувствие! О, не этих языческих чувств следовало ожидать от англичанки, глубоко преданной христианской вере!
Тетушка и не воображала, какой трепет набожной признательности пробежал по моим жилам, когда она приблизилась к концу своего печального рассказа.
Что за поприще для полезной деятельности открывалось предо мною!
Возлюбленная моя родственница и погибающая ближняя стояла на краю великой перемены, совершенно не приготовившись, и благость провидения заставила ее открыть свое положение мне! Как я могу описать радость, с какою я тотчас вспомнила, что драгоценных друзей среди церковных пастырей, на которых могла бы в этом деле положиться, я насчитываю не единицы, а десятки! Я заключила тетушку в свои объятия, — избыток переполнявшей меня нежности не мог теперь удовлетвориться ничем меньшим, нежели объятие.
— О, — произнесла я набожно, — какой невыразимый интерес внушаете вы мне! О, какую пользу намерена я принести вам, прежде чем мы с вами расстанемся, душечка!
Подготовив ее двумя—тремя серьезными словами, я предложила ей выбор между драгоценными духовными пастырями, которые все занимались делом милосердия с утра до вечера в этих окрестностях и одинаково блистали неистощимым красноречием, и одинаково готовы были пустить в ход свои дарования по одному моему слову. Увы! Я не встретила должного отклика. На лице бедной леди Вериндер выразились недоумение и испуг, и она отвечала на все, что я могла сказать ей, чисто мирскими возражениями: что она слишком слаба физически для встреч с посторонними людьми. Я уступила — разумеется, на первое время. Огромная опытность чтицы и проповедницы подсказала мне, что это был случай, когда еще требовалась подготовка путем соответствующего чтения.
У меня была маленькая библиотечка, целиком подходящая к данному случаю, рассчитанная на то, чтобы пробудить, убедить, подготовить, просветить и подкрепить тетушку.
— Вы не откажетесь прочитать, дорогая моя, не правда ли? — сказала я самым умильным тоном, — не откажетесь прочитать, если я принесу вам мои собственные драгоценные книги? Листы загнуты в надлежащих местах, тетушка.
А карандашом сделаны отметки там, где вы должны остановиться и спросить себя: “Применимо ли это ко мне?”
Даже такая простая просьба — столь сильно нечестивое влияние света! — как будто испугала тетушку. Она ответила, бросив на меня взгляд удивления, который было и поучительно и вместе с тем страшно видеть:
— Я сделаю, что могу, Друзилла, чтобы доставить вам удовольствие.
Нельзя было терять ни минуты. Часы на камине показали мне, что я едва успею сбегать домой, запастись первой серией избранных книг (скажем, всего лишь дюжиной) и вернуться вовремя, — чтобы застать стряпчего и расписаться как свидетельница на завещании леди Вериндер. Дав слово непременно вернуться к пяти часам, я поспешила по моему благотворительному делу.
Когда дело идет о собственных моих интересах, я смиренно довольствуюсь омнибусом. Вы получите полное представление о моей преданности интересам тетушки, если узнаете, что в данном случае я разорилась на кэб.
Приехав домой, я выбрала и покрыла отметками первую серию для чтения и вернулась на Монтегю-сквер с дюжиной книг в дорожном мешке, подобных которым не сыщешь в литературе никакой другой европейской страны. Я заплатила кучеру только то, что ему следовало. Он взял деньги с ругательством, а я немедленно протянула ему один из моих трактатов. Если бы я приставила ему ко лбу пистолет, этот негодяй не обнаружил бы большего испуга. Он вскочил на козлы и с нечестивыми восклицаниями недовольства ускакал во весь опор. И совершенно напрасно, — могу вам сказать это с радостью: я — таки успела посеять добрые семена, вопреки его собственной воле, бросив второй трактат в окно его кэба.
К моему великому облегчению, дверь отворила не служанка в чепчике с лентами, а лакей, доложивший мне, что приехал доктор и все еще сидит, запершись, с леди Вериндер. Мистер Брефф, стряпчий, также приехал с минуту назад и ждет в библиотеке. Меня провели в библиотеку и просили обождать.
Брефф, казалось, был удивлен, увидев меня. Он семейный стряпчий, и мы не раз встречались с ним в доме леди Вериндер. Я с огорчением должна сказать, что он постарел и поседел, занимаясь мирскими делами. В деловые свои часы этот человек был избранным пророком Закона и Мамоны, а в свободные часы одинаково был способен прочесть роман и разорвать брошюру.
— Вы приехали сюда на жительство, мисс Клак? — спросил он, взглянув на мой мешок.
Открыть ему то, что лежало в моем драгоценном мешке, значило бы просто вызвать поток нечестивых слов. Я унизила себя до его уровня и призналась, по какому делу приехала сюда.
— Тетушка сообщила мне, что собирается подписывать свое завещание, — ответила я. — Она была так добра, что просила меня быть одною из свидетельниц.
— А! Ну, что ж, мисс Клак, вы вполне годитесь в свидетельницы. Годами вы давно уже совершеннолетняя, и вы не имеете ни малейшего денежного интереса в завещании леди Вериндер.
Ни малейшего денежного интереса в завещании леди Вериндер! О, с какою признательностью услышала я это! Если бы тетушка, обладая тысячами, вспомнила и бедную меня, для которой даже пять тысяч значат очень много, и если бы мое имя появилось в завещании в связи с маленьким наследством, — мои враги могли бы еще усомниться в причине, заставившей меня привезти с собою избранные сокровища моей библиотеки и истощить мои ничтожные средства на разорительный наем кэба. Но теперь в этом не мог сомневаться даже самый жестокий поноситель. Гораздо лучше, что произошло именно так!
О, наверное, наверное, гораздо лучше!
Я была оторвана от этих утешительных размышлений голосом мистера Бреффа. Мое молчание, исполненное раздумья, по-видимому, тяготило этого суетного человека и принуждало его, так сказать, обращаться ко мне против его собственной воли.
— Ну, мисс Клак, каковы последние новости в ваших благотворительных кружках? Как поживает ваш приятель мистер Годфри Эбльуайт после таски, заданной ему мошенниками на Нортумберленд-стрит? Хорошенькую историю рассказывают в моем клубе об этом благочестивом джентльмене!
Я смолчала на тон, каким этот человек заявил мне, что я совершеннолетняя и не имею никакого денежного интереса в завещании тетушки. Но тон, каким намекнул он на милого мистера Годфри, вывел меня из терпения. Считая себя обязанной, после всего, что случилось в моем присутствии в этот день, утверждать невиновность моего чудного друга, кто бы и где бы ни стал сомневаться в ней, — я почувствовала необходимость включить в исполнение этого справедливого намерения язвительный укор мистеру Бреффу.
— Я не вращаюсь в свете, — сказала я, — и не пользуюсь преимуществом, сэр, быть членом вашего клуба. Но я случайно узнала историю, на которую вы намекаете, и знаю также, что более гнусной лжи, чем эта история, не было выдумано никогда.
— Да, да, мисс Клак, — вы верите вашему другу. Это довольно естественно. Но мистеру Годфри Эбльуайту не так легко будет убедить весь свет, как комитет дам-благотворительниц, — факты говорят против него. Он был в доме, когда пропал алмаз, он первый уехал из этого дома в Лондон.
Это очень некрасивые обстоятельства, сударыня, если взглянуть на них с точки зрения последних событий.
Я знаю, что мне следовало остановить его, прежде чем он будет продолжать дальше. Мне следовало сказать ему, что он говорит, не имея представления о свидетельстве невиновности мистера Годфри, выданном ему единственным лицом, чье право тут неоспоримо, поскольку связано с положительным знанием истины. Увы! Искушение довести самого юриста до необходимого сознания своей не правоты было сильнее. Я спросила у него с видом полной невинности, что он подразумевает под “последними событиями”.
— Под последними событиями, мисс Клак, я подразумеваю те события, в которых замешаны индусы, — начал мистер Брефф, все более и более беря верх надо мною, по мере того как он продолжал. — Что делают индусы, как только их выпускают из фризинголлской тюрьмы? Они прямо отправляются в Лондон и начинают пристально наблюдать за мистером Люкером. Что говорит мистер Люкер, когда просит защиты у полиции? Он признается, что подозревает одного иностранного работника в своем магазине в сообщничестве с индусами.
Может ли быть более ясное доказательство, что мошенники нашли сообщника между людьми, служащими у мистера Люкера? Очень хорошо. Что следует затем?
Мистер Люкер боится — и весьма основательно — за безопасность драгоценной вещи, которую он взял в залог. Он дает ее тайно (под общим названием, не упомянув, какая это вещь) на сохранение банкиру. Удивительно хитро с его стороны, по индусы тоже удивительно хитры с своей стороны. Они подозревают, что “драгоценная вещь” перенесена с одного места на другое, и они избирают необыкновенно смелый и удачный способ, чтобы проверить свои подозрения. Кого они хватают и обыскивают? Не только мистера Люкера, — что было бы довольно понятно, — но и мистера Годфри Эбльуайта также. Почему?
Объяснение Эбльуайта состоит в том, что индусы будто бы действовали по слепому подозрению, увидя его случайно разговаривающим с мистером Люкером.
Абсурд! Полдюжины других людей говорило с мистером Люкером в это утро.
Почему же индусы не проследили этих людей до их дома и не заманили их в ловушку? Нет, нет! Простой вывод, какой можно сделать из этого, состоит в том, что мистер Эбльуайт имеет какое-то особое отношение к “драгоценной вещи”, так же как и мистер Люкер, и что индусы не знали наверное, у кого именно из них была эта драгоценность, так что им больше ничего не оставалось, как обыскать того и другого. Так говорит общественное мнение, мисс Клак, и опровергнуть общественное мнение в данном случае не так-то легко!
Он произнес эти последние слова с такой самоуверенностью, что, — признаюсь к стыду моему, — я не могла устоять от желания заставить его зайти еще дальше, прежде чем поразить его истиной.
— Не берусь спорить с таким искусным юристом, — сказала я, — но справедливо ли будет, сэр, в отношении мистера Эбльуайта пренебречь мнением знаменитого лондонского сыщика, который производил следствие?
Сыщик Кафф не подозревает решительно никого, кроме мисс Вериндер.
— Вы хотите сказать мне, мисс Клак, что вы согласны с сыщиком?
— Я не осуждаю никого, сэр, и не выражаю никакого мнения.
— А я делаю и то, и другое, сударыня. Я считаю, что сыщик был совершенно не прав, и выражаю свое мнение, состоящее в том, что если бы он знал характер Рэчель так, как знаю я, он подозревал бы в доме каждого, прежде чем стал подозревать ее. Я согласен, что она имеет свои недостатки, — она скрытна, самовольна, странна, причудлива и совсем не похожа на других девушек ее лет. Но она тверда, как сталь, великодушна и благородна даже сверх меры. Если б самые явные улики на свете указывали на одно, и ничего, кроме честного слова Рэчель, не указывало бы на другое, я отдал бы предпочтение ее слову перед уликами, несмотря на то, что я стряпчий! Это сильно сказано, мисс Клак, но я думаю то, что говорю.
— Не угодно ли вам пояснить значение ваших слов, мистер Брефф, так, чтобы я была уверена, что понимаю вас. Предположите, что вы нашли мисс Вериндер, совершенно непонятно заинтересованной тем, что случилось с мистером Эбльуайтом и мистером Люкером. Предположите, что она задала самые странные вопросы об ужасной клевете на мистера Эбльуайта и обнаружила самое непреодолимое волнение, когда узнала, какой оборот принимает эта клевета.
— Предполагайте, что хотите, мисс Клак, это не поколеблет моего доверия к мисс Вериндер ни на волос.
— Вы, значит, считаете, что на нее можно решительно положиться?
— Решительно.
— Так позвольте же мне сообщить вам, мистер Брефф, что мистер Годфри Эбльуайт был в этом доме два часа назад и что его совершенная невиновность во всем, что касается исчезновения Лунного камня, была провозглашена самой мисс Вериндер в самых сильных выражениях, какие я когда-либо слышала от молодой девушки.
Я насладилась торжеством, — боюсь, что это было торжество греховное, — видя, как совершенно подавлен и поражен моими простыми словами мистер Брефф. Он вскочил и молча вытаращил на меня глаза. Я невозмутимо осталась на своем месте и рассказала ему всю сцену именно так, как она произошла.
— Что вы теперь скажете о мистере Эбльуайте? — спросила я с чрезвычайной кротостью по окончании рассказа.
— Если Рэчель засвидетельствовала его невиновность, мисс Клак, я без колебания скажу, что верю в его невиновность так же твердо, как верите вы.
Меня, как и многих других, обманули внешние факты, и я заглажу это как и где могу, публично опровергая клевету, преследующую вашего друга, повсюду, где я ее услышу. А пока позвольте мне поздравить вас с тем мастерством, с каким вы открыли полный огонь вашей батареи в ту минуту, когда я менее всего это ожидал. Вы сделали бы много замечательного в моей профессии, если б родились мужчиной.
С этими словами он отвернулся от меня и стал раздраженно ходить взад и вперед по комнате.
Я видела ясно, что новый свет, в котором я представила ему этот предмет, чрезвычайно удивил и встревожил его. Отдельные слова, срывавшиеся с его губ, по мере того как он все более и более погружался в свои мысли, объяснили мне, с какой ужасной точки зрения смотрел он до сих пор на тайну пропажи Лунного камня. Он не стеснялся подозревать милого мистера Годфри в гнусном похищении алмаза и приписывать поведение Рэчель великодушному желанию скрыть его преступление. По собственному свидетельству мисс Вериндер — авторитета неопровержимого, как вам известно, по мнению мистера Бреффа, — это объяснение теперь оказалось совершенно ошибочным.
Недоумение, в которое впал этот высокий юридический авторитет, было так сильно, что он совершенно не в силах был скрыть его от меня.
— Вот так казус! — услышала я, как он пробормотал, остановившись в своей прогулке у окна и барабаня пальцами по стеклу, — это никак не подходит под объяснение, это превосходит всякое предположение!
В его словах не заключалось ничего, требовавшего ответа с моей стороны, — и все ж я ответила ему.
— Простите, если я прерву ваши размышления, — сказала я ничего не подозревавшему мистеру Бреффу. — Но ведь можно же сделать одно предположение, до сих пор еще не приходившее вам в голову?
— Может быть, мисс Клак. Признаюсь, я такового не знаю.
— Прежде чем я имела счастье, сэр, убедить вас в невиновности мистера Эбльуайта, вы упомянули как один из поводов подозревать его тот факт, что он был в доме во время пропажи алмаза. Позвольте мне напомнить вам, что мистер Фрэнклин Блэк был также в доме во время пропажи алмаза.
Старый грешник отошел от окна, сел на стул как раз против меня и пристально посмотрел на меня с жесткой и злобной улыбкой.
— Из вас вышел бы не такой хороший стряпчий, мисс Клак, как я предполагал, — заметил он задумчиво, — вы не умеете остановиться вовремя.
— Боюсь, что не понимаю вашей мысли, мистер Брефф, — скромно ответила я.
— Так но подобает думать, мисс Клак, право, не подобает. Фрэнклин Блэк мой любимец, вам это хорошо известно. Но это ничего не значит. Я взгляну на дело с вашей точки зрения, прежде чем вы успеете напуститься на меня.
Вы совершенно правы, сударыня. Я подозревал мистера Эбльуайта по причинам, которые дают право подозревать также и мистера Блэка. Очень хорошо, будем также подозревать и его. Допустим, что по своему характеру он способен украсть Лунный камень. Единственный вопрос состоит в том, был ли для пего какой-либо интерес в этом.
— Долги мистера Фрэнклина Блэка, — заметила я, — известны всему семейству.
— А долги мистера Годфри Эбльуайта еще не дошли до такой степени.
Совершенно справедливо. Но тут встречаются два затруднения, мешающие вашей теории, мисс Клак. Я управляю делами Фрэнклина Блэка и прошу позволения заметить вам, что большинство его кредиторов (зная, что отец его богатый человек) довольствуется набавлением процентов на его долги и спокойно ждет возврата своих денег. Это первое, довольно сильное затруднение. Существует и второе, еще более сильное. Я знаю от самой леди Вериндер, что дочь ее была готова выйти замуж за Фрэнклина Блэка, прежде чем этот гнусный индийский алмаз исчез из их дома. Она то подавала ему надежду, то отталкивала его с кокетством молодой девушки. Но она призналась своей матери, что любит кузена Фрэнклина, а мать доверила кузену Фрэнклину эту тайну. Вот в каком положении находился он, мисс Клак, — с кредиторами, согласными ждать, и с женитьбой на богатой наследнице в перспективе.
Считайте его негодяем, сколько вам угодно, но скажите мне, сделайте милость, на что ему было брать Лунный камень?
— Человеческое сердце неисповедимо, — ответила я, — кто может изведать его глубины?
— Другими словами, сударыня, хотя он не имел ни малейшей причины красть алмаз, он все-таки его украл по своей развращенной натуре? Очень хорошо.
Положим, что он украл. За каким же чертом…
— Извините, мистер Брефф. Если вы будете поминать таким образом черта, я вынуждена буду удалиться из комнаты.
— Извините меня, мисс Клак, впредь буду осторожнее в выражениях. Я только хотел спросить вот о чем. Почему — предположим, что он украл алмаз, — почему Фрэнклин Блэк делает себя самой заметной персоной в доме, больше всех стараясь отыскать его? Вы можете ответить, что он хитро пытался отвлечь подозрения от себя. А я отвечу, что ему не нужно было отвлекать подозрений, потому что никто его и не подозревал. Сначала он крадет Лунный камень, — без всяких оснований, лишь в силу природной испорченности, — а потом играет первую роль в отыскании пропавшего алмаза, роль, совершенно ему не нужную и смертельно оскорбившую молодую девицу, которая если бы не это, вышла бы за него замуж. Вот нелепое утверждение, к которому вы неизбежно придете, если будете стремиться связать исчезновение Лунного камня с Фрэнклином Блэком. Нет, нет, мисс Клак! После нашего с вами сегодняшнего обмена мыслями решительно можно стать в тупик. Невиновность Рэчель, — как известно ее матери и мне, — вне всякого сомнения.
Невиновность мистера Эбльуайта неопровержима, — иначе Рэчель никогда бы не засвидетельствовала ее. Невиновность Фрэнклина Блэка, как вы сейчас видели, бесспорно доказывает сама себя. С одной стороны, мы все нравственно уверены во всем этом. С другой стороны, мы также уверены, что кто-то привез Лунный камень в Лондон и что алмаз тайно находится в эту минуту или у мистера Люкера, или у его банкира. Какая польза в моей опытности, какая польза в опытности чьей бы то ни было в подобном деле?
Оно сбивает с толку меня, оно сбивает с толку вас, оно сбивает с толку нас всех.
Нет, не всех. Оно не сбило с толку сыщика Каффа. Я уже хотела упомянуть об этом со всей возможной кротостью и со всем необходимым протестом против предположения, будто я желаю набросить тень на Рэчель, — как вошел слуга сказать, что доктора уехали и что тетушка ждет нас.
Это прекратило наш спор. Мистер Брефф собрал свои бумаги, несколько утомленный разговором; я взяла свой мешок с драгоценными изданиями, чувствуя, что могла бы говорить еще несколько часов. И оба мы молча пошли в комнату леди Вериндер.
Глава IV
Церемония подписи завещания оказалась гораздо короче, чем я ожидала. По моему мнению, все было сделано с неприличной скоростью. Послали за Самюэлем, лакеем, который должен был быть вторым свидетелем, и тотчас же подали перо тетушке. Я чувствовала сильное побуждение сказать несколько приличествующих случаю слов, но обращение мистера Бреффа убедило меня, что будет благоразумнее от этого воздержаться, пока он находится в комнате. Не прошло и двух минут, как все было кончено, и Самюэль (не воспользовавшись тем, что я могла бы сказать) опять ушел вниз.
Сложив завещание, мистер Брефф взглянул на меня, по-видимому спрашивая себя, намерена я или нет оставить его наедине с тетушкой. Но мне нужно было выполнить свою высокую миссию, и мешок с драгоценными изданиями лежал у меня на коленях. Стряпчий точно так же мог рассчитывать сдвинуть своим взглядом с места Собор святого Павла, как сдвинуть с места меня. У него есть одно достоинство (приобретенное, без сомнения, благодаря светскому воспитанию), которое я не имею желания опровергать. Он очень зорко видит все. Я, кажется, произвела на него почти такое же впечатление, какое произвела на извозчика. Он так же пробормотал какие-то нечестивые слова и поспешно ушел, оставив меня победительницей.
Как только мы остались одни, тетушка прилегла на диван, а потом намекнула с некоторым замешательством на свое завещание.
— Я надеюсь, что вы не сочтете себя забытою, Друзилла, — сказала она. — Я намерена отдать вам ваше маленькое наследство лично, милая моя.
Вон он, золотой случай! Я тотчас воспользовалась им. Другими словами, я тотчас раскрыла свой мешок и вынула трактат, лежавший сверху. Он оказался одним из изданий — только двадцать пятым — знаменитого анонимного сочинения (думают, что его писала драгоценная мисс Беллоус), под заглавием “Домашний змей”. Цель этой книги, с которой, может быть, мирской читатель незнаком, — показать, как злой дух подстерегает нас во всех, с виду невинных, поступках нашей повседневной жизни. Главы, наиболее приспособленные к женскому чтению, называются: “Сатана в головной щетке”, “Сатана за зеркалом”, “Сатана под чайным столом”, “Сатана, глядящий из окна” и т. д.
— Подарите ваше внимание, милая тетушка, этой драгоценной книге, — вот лучший дар, которого я у вас прошу.
С этими словами я подала ей книгу, раскрытую на замечательном месте:
“Сатана между подушками дивана”.
Бедная леди Вериндер, легкомысленно прислонившаяся к подушкам своего дивана, взглянула на книгу и возвратила ее мне, смутившись еще больше прежнего.
— Боюсь, Друзилла, — сказала она, — что надо выждать, пока мне станет лучше, прежде чем я смогу это прочесть. Доктор сказал: “Не делайте ничего, леди Вериндер, что могло бы вызвать у вас умственное утомление или ускорить биение пульса”.
Мне ничего не оставалась, как уступить, но лишь на одну минуту. Всякое открытое уверение, что дело мое гораздо важнее дела врачей, заставило бы доктора воздействовать на человеческую слабость своей пациентки угрозою бросить ее лечить. К счастью, есть много способов сеять добрые семена, и мало кто знает эти способы лучше меня.
— Вы, может быть, почувствуете себя лучше, душечка, часа через два, — сказала я, — или вы можете проснуться завтра утром с ощущением, что вам чего-то не хватает, и тогда эта простая книга может заменить вам недостающее. Вы позволите оставить ее здесь, тетушка? Доктор ничего не сможет сказать против этого!
Я засунула книгу под подушку дивана возле ее носового платка и скляночки с нюхательным спиртом. Каждый раз, как рука ее станет отыскивать то или другое, она дотронется и до книги, и кто знает, рано или поздно книга может увлечь ее. Распорядившись таким образом, я сочла благоразумным уйти.
— Позвольте мне оставить вас отдохнуть, милая тетушка, до завтра!
Говоря так, я случайно взглянула на окно, — там стояло множество цветов в ящиках и горшках. Леди Вериндер до безумия любила эти тленные сокровища и имела привычку вставать время от времени, любоваться на них и нюхать.
Новая мысль мелькнула у меня в голове.
— О! Могу ли я сорвать цветок? — сказала я и, не возбуждая подозрения, подошла к окну.
Но вместо того чтобы срывать цветы, я прибавила к ним еще один, а именно — другую книгу из своего мешка, которую я оставила, как сюрприз тетушке, между геранью и розами. Счастливая мысль последовала за этим:
“Почему бы не сделать того же для нее, бедняжки, в каждой другой комнате, куда она войдет?” Я немедленно простилась с нею и, проходя через переднюю, прокралась в библиотеку. Самюэль, подойдя к двери, чтобы выпустить меня, и предположив, что я уже ушла, вернулся к себе вниз. На столе в библиотеке лежали две “интересные книги”, рекомендованные нечестивым доктором. Я немедленно спрятала их с глаз долой под своими двумя драгоценными книгами.
В столовой я увидела любимую канарейку тетушки, певшую в клетке. Тетушка имела привычку всегда кормить эту птичку из собственных рук. На столе, стоявшем под клеткою, было рассыпано семя. Я положила книгу в семена. В гостиной мне выпал более счастливый случай опорожнить свой мешок. Любимые музыкальные пьесы тетушки лежали на фортепиано. Я засунула две книги между нотами. Еще одну книгу я положила в дальней гостиной под неоконченным вышиванием: я знала, что это работа леди Вериндер. Третья маленькая комнатка находилась возле дальней гостиной, и была отделена от нее портьерами, а не дверью. Простой старинный веер тетушки лежал на камине. Я раскрыла девятую книгу на одном весьма полезном месте, а веер положила вместо закладки. Тут возник вопрос, не пробраться ли мне еще выше, в спальню, — рискуя, без сомнения, подвергнуться оскорблению, если особа в чепчике с лентами находится в это время на верхнем этаже и увидит меня. Но — о боже! — что ж из этого? Неужели бедной христианке страшны оскорбления?
Я отправилась наверх, готовая вынести все. Везде было тихо и пусто — кажется, это был час чаепития прислуги. Первою комнатой была спальня тетушки. Миниатюрный портрет дорогого покойного дядюшки, сэра Джона, висел на стене против постели. Он как будто улыбался мне, как будто говорил:
“Друзилла, положи сюда книгу”. По обе стороны постели тетушки стояли столики. Она страдала бессонницей, и по ночам ей нужны были (или казалось, что нужны) различные предметы. Я положила одну книгу возле серных спичек с одной стороны и еще одну книгу под коробочку с шоколадными лепешками — с другой. Понадобится ли ей огонь или понадобится ей лепешечка, драгоценная книга бросится ей в глаза или попадется под руку и в каждом случае будет говорить с безмолвным красноречием: “Изведай меня! Изведай меня!” Только одна еще книга оставалась теперь на дне мешка, и только одна комната, в которой я еще не бывала — ванная, примыкавшая к спальне. Я заглянула туда, и священный внутренний голос, никогда не обманывающий, шепнул мне: “Ты положила ее повсюду, Друзилла, положи теперь и в ванной, и дело твое будет сделано”. Я заметила утренний халат, брошенный на стул. В этом халате был карман, и туда я всунула последнюю книгу. Можно ли выразить словами сладостное сознание исполненного долга, охватившее меня, когда я выскользнула из дому, не замеченная никем, и очутилась на улице с пустым мешком под мышкой? У меня было так легко на сердце, как будто я опять стала ребенком. Опять стала ребенком!
Когда я проснулась на следующее утро, — о, какою молодою почувствовала я себя! Я могла бы прибавить: какой молодой казалась я, будь я способна распространяться о моем тленном теле. Но я неспособна — и не прибавлю ничего.
Когда приблизилось время завтрака — не ради человеческих потребностей, но ради свидания с милой тетушкой, — я надела шляпу, чтоб отправиться на Монтегю-сквер. Только-только я приготовилась, как служанка квартиры, где я тогда жила, заглянула в дверь и сказала:
— Слуга от леди Вериндер к мисс Клак.
Я занимала нижний этаж во время своего пребывания в Лондоне. Гостиная моя была очень мала, очень низка и очень скудно меблирована, но зато как опрятна! Я заглянула в коридор, посмотреть, кто из прислуги леди Вериндер пришел за мной. Это был молодой лакей Самюэль — вежливый, румяный мужчина, со сметливым выражением лица и с очень услужливыми манерами. Я всегда чувствовала духовное расположение к Самюэлю и желание сказать ему несколько поучительных слов. На этот раз я пригласила его в гостиную. Он вошел с большим свертком под мышкой. Он положил его на стол с таким видом, словно боялся этого свертка.
— Миледи приказала вам кланяться, мисс, и сказать, что вы найдете тут письмо.
Исполнив поручение, румяный молодой лакей удивил меня тем, что как будто хотел тотчас повернуться и убежать.
Я удержала его, чтобы задать ему несколько ласковых вопросов. Смогу ли я увидеть тетушку, если зайду на Монтегю-сквер? Нет, она уехала кататься.
Мисс Рэчель поехала с нею, и мистер Эбльуайт тоже сел с ними в коляску.
Зная, как сильно милый мистер Годфри запустил свои благотворительные занятия, я нашла странным такое праздное катание. Задержав Самюэля уже в дверях, я задала еще несколько ласковых вопросов. Мисс Рэчель едет сегодня на бал, а мистер Эбльуайт условился прибыть к вечернему кофе и уехать с нею. На завтра объявлен утренний концерт, и Самюэлю приказано взять несколько билетов, в том числе и для мистера Эбльуайта.
— Боюсь, что все билеты будут проданы, мисс, — сказал этот невинный юноша, — если я не побегу за ними сейчас.
Он проговорил эти слова на бегу, и я опять очутилась одна, с тревожными мыслями, занимавшими меня.
В этот вечер у нас должно было состояться спешное заседание “Комитета материнского попечительства о превращении отцовских панталон в детские”, созванное специально для того, чтобы получить совет и помощь от мистера Годфри. И вместо того чтобы поддержать комитет, заваленный целой грудой панталон, которые совершенно подавили нашу маленькую общину, он условился пить послеобеденный кофе на Монтегю-сквер, а потом ехать на бал! На завтрашний день было назначено празднество “Общества надзора британских дам над воскресными обожателями служанок”. Вместо того чтобы присутствовать на нем и быть душой этого с трудом борющегося за свое существование общества, он дал слово суетным людям ехать вместе с ними на утренний концерт! Я спросила себя: “Что это значит?” Увы! Это означало, что наш христианский герой предстал передо мною в совершенно новом свете и в мыслях моих должен был встать рядом с самыми ужасными вероотступниками наших дней.
Вернемся, однако, к истории настоящего дня. Оставшись одна в комнате, я, естественно, обратила внимание на сверток, вызывавший, по-видимому, какой-то странный ужас у румяного молодого лакея. Не прислала ли мне тетушка обещанного наследства, и не явится ли оно в виде изношенного платья, потертых серебряных ложек, вышедших из моды вещиц или чего-нибудь в этом роде? Приготовившись смиренно принять все и не сердиться ни на что, я раскрыла сверток. И что же представилось глазам моим: двенадцать драгоценных изданий, которые я разбросала накануне по дому, все возвращены мне, по приказанию доктора! Как же было не дрожать юному Самюэлю, когда он принес сверток ко мне в комнату! Как ему было не бежать, когда он исполнил такое гнусное поручение! В своем письме бедняжка тетушка коротко сообщала о том, что она не смела ослушаться своего доктора. Что же теперь делать?
При моем воспитании и моих правилах у меня не оставалось ни малейшего сомнения на этот счет. Руководствуясь своей совестью и подвизаясь на пользу ближнего своего, истинная христианка никогда не падает духом. Ни общественное влияние, ни влияние отдельных лиц не оказывают на нас ни малейшего действия, когда мы уже приступили к исполнению своей миссии.
В деле моей заблудшей тетки форма, которую должна была принять моя набожная настойчивость, была для меня довольно ясна.
Ввиду явного нежелания леди Вериндер, ее не удалось подготовить к будущей жизни при помощи клерикальных друзей. Не удалось ее подготовить и при помощи книг — из-за нечестивого упорства доктора. Пусть так! Что же оставалось делать? Подготовить ее посредством писем. Другими словами, так как книги были отосланы, то выбранные места из них, переписанные разными почерками и адресованные в виде писем тетушке, должны были посылаться по почте, а некоторые разбрасываться в доме по тому плану, который я приняла накануне. Как письма — они не возбудят подозрения, как письма — они будут распечатаны и, может быть, прочтены. Некоторые из них я написала сама:
“Милая тетушка, могу ли я просить вас обратить внимание на эти несколько строк?” и пр.
“Милая тетушка, читая вчера, я случайно напала на следующее место…” и пр.
Другие письма были написаны для меня моими неоценимыми сотрудниками, членами общества материнского попечительства.
“Милостивая государыня, простите за участие, принимаемое в вас истинным, хотя смиренным другом…”
“Милостивая государыня, может ли серьезная особа побеспокоить вас несколькими утешительными словами?”
Путем такого рода вежливых просьб нам удалось преподнести все эти драгоценные места в такой форме, в которой их не смог заподозрить даже самый проницательный из нечестивых докторов. Прежде чем сгустились вечерние тени, я написала двенадцать поучительных писем к тетушке вместо двенадцати поучительных книг. Я немедленно распорядилась, чтобы шесть писем были посланы по почте, а шесть я спрятала в карман, для того чтобы самой разбросать их по дому на следующий день. Вскоре после двух часов я опять вступила на поле благочестивой борьбы, обратившись к Самюэлю с ласковыми расспросами у дверей дома леди Вериндер. Тетушка провела дурную ночь. Она опять находилась в той комнате, где я подписалась свидетельницей на ее завещании, лежала на диване и старалась заснуть. Я сказала, что подожду в библиотеке, в надежде увидеть ее попозднее. В моем пламенном усердии разбросать скорей письма мне и в голову не пришло разузнать о Рэчель. В доме было тихо, и прошел час, когда должен был начаться концерт.
Уверенная, что и она, как и все общество искателей удовольствия (включая — увы! — и мистера Годфри) была на концерте, я с жаром посвятила себя моему доброму делу, между тем как время и удобный случай находились еще в полном моем распоряжении.
Утренняя корреспонденция тетушки, включая шесть поучительных писем, которые я послала по почте, лежала еще нераспечатанною на столе в библиотеке. Она, очевидно, чувствовала себя не в состоянии заняться таким множеством писем, — и, может быть, ее испугало бы еще большее их количество, если б она позднее вошла в библиотеку. Я положила поэтому одно из второй шестерки писем отдельно, чтобы привлечь ее любопытство именно тем, что оно будет лежать особо от остальных. Второе письмо я с намерением положила на пол в столовой. Первый, кто войдет после меня из прислуги, подумает, что его обронила сама тетушка, и постарается возвратить его ей.
Завершив свой посев в нижнем этаже, я легко побежала наверх, чтобы разбросать свои благодеяния на полу в бельэтаже.
Войдя в гостиную, я услышала многократный стук в дверь с улицы — тихий, торопливый и настойчивый. Прежде чем я успела проскользнуть обратно в библиотеку (в которой должна была находиться), проворный молодой лакей оказался уже в передней и отворил дверь. Я не придала этому большого значения. Состояние здоровья тетушки не позволяло принимать гостей. Но, к моему ужасу и изумлению, тот, кто постучался тихо и осторожно, оказался исключением из общего правила. Голос Самюэля (очевидно, в ответ на вопросы, которых я не слышала) произнес очень ясно:
— Пожалуйте наверх, сэр.
Через минуту я услышал шаги — шаги мужские, приближавшиеся к бельэтажу.
Кто мог быть этот избранный гость? Не успел возникнуть этот вопрос, как пришел в голову и ответ. Кто же это мог быть, кроме доктора?
Будь это любой другой посетитель, я позволила бы застать меня в гостиной. Ничего необыкновенного не было бы в том, что мне наскучило ждать в библиотеке и что я поднялась наверх для перемены места. Но уважение к самой себе помешало мне встретиться с человеком, который оскорбил меня, отослав обратно мои книги. Я проскользнула в третью маленькую комнатку, которая, как я упоминала, примыкала к дальней гостиной, и опустила портьеры, закрывавшие пролет двери. Стоит мне переждать минуты две, и произойдет то, что обыкновенно бывает в таких случаях: доктора проведут в комнату к его пациентке.
Но прошло две минуты и даже более. Я слышала, как гость тревожно ходил взад и вперед. Я слышала также, как он говорил сам с собой. Мне даже показалось, что я узнала его голос. Не ошиблась ли я? Неужели это не доктор, а кто-то другой? Мистер Брефф, например? Нет, безошибочный инстинкт подсказывал мне, что это не мистер Брефф. Но кто бы это ни был, он все продолжал разговаривать с собою. Я чуть-чуть раздвинула портьеры и стала прислушиваться.
Слова, которые я услышала, были: “Я сделаю это сегодня!” А голос, который произнес их, принадлежал мистеру Годфри Эбльуайту.
Глава V
Рука моя опустила портьеру. Но не предполагайте, — о! не предполагайте, — что меня ужаснула мысль о крайней трудности моего положения. Так велико было сестринское мое участие к мистеру Годфри, что я даже не остановилась на мысли, почему он не на концерте. Нет! Я думала только о словах — об изумительных словах, сорвавшихся с его губ. Он сделает это сегодня! Он сказал тоном отчаянной решимости, что сделает это сегодня. Что же, что же такое он сделает? Что-нибудь еще более недостойное, чем то, что уже сделал? Не отречется ли он от веры? Не бросит ли наш материнский комитет?
Неужели мы в последний раз видели его ангельскую улыбку в зале комитета?
Неужели мы в последний раз слышали его бесподобное красноречие в Экстер-Холле? Я была так взволнована при одной мысли об ужасных возможностях для такого человека, как он, что, кажется, готова была выбежать из своего убежища и заклинать его именем всех дамских комитетов в Лондоне объясниться, — когда вдруг услышала другой голос. Он проник сквозь портьеру, он был громок, он был смел, в нем вовсе не было женского очарования. Это был голос Рэчель Вериндер!
— Почему вы пришли сюда, Годфри? — спросила она. — Почему вы не в библиотеке?
Он тихо засмеялся и ответил:
— В библиотеке сидит мисс Клак.
— Клак в библиотеке?!
Она тотчас опустилась на диван.
— Вы совершенно правы, Годфри, нам лучше остаться здесь.
Минуту назад я была как в горячке и не знала, что мне делать. Теперь я стала холодна, как лед, и не испытывала больше никаких сомнений.
Показаться им после того, что я услышала, было невозможно. Скрыться, кроме как в камин, было решительно некуда. Мне предстояло мученичество. Я осторожно раздвинула портьеры так, чтобы можно было видеть и слышать их. А потом пошла на мученичество по примеру первых христиан.
— Не садитесь на диван, — продолжала молодая девушка. — Возьмите стул, Годфри. Я люблю, чтобы тот, с кем я говорю, сидел против меня.
Он сел на ближайший стул. Стул был низенький и слишком мал для высокого роста Годфри. Я еще никогда не видела его ног в таком невыгодном для них положении.
— Ну, — продолжала она, — что же вы им сказали?
— Именно то, милая Рэчель, что вы сказали мне.
— Что мама не совсем здорова сегодня и что мне не хочется оставлять ее из-за концерта?
— Именно так. Они очень жалели, что лишились вашего общества на концерте, но поняли ваш отказ. Все они шлют вам привет и выражают надежду, что нездоровье леди Вериндер скоро пройдет.
— Вы не считаете его серьезным, Годфри?
— Ничуть! Я совершенно уверен, что через несколько дней она совершенно поправится.
— Я тоже так думаю. Сначала я немножко испугалась, но теперь успокоилась. Вы были очень добры, что извинились за меня перед людьми, почти вам незнакомыми. Но почему вы сами не поехали с ними на концерт?
Жалко, что вы не послушаете эту музыку.
— Не говорите так, Рэчель! Если б вы только знали, насколько я счастливее здесь с вами!
Он сложил руки и взглянул на нее. В том положении, какое он занимал на стуле, он должен был, сделав это, повернуться в мою сторону. Можно ли передать словами, как мне сделалось противно, когда я увидела то самое патетическое выражение на его лице, какое очаровало меня, когда он ратовал за миллионы своих неимущих братьев на трибуне Экстер-Холла!
— От дурной привычки бывает трудно отделаться, Годфри. Но постарайтесь отделаться от привычки говорить любезности, — постарайтесь, чтобы сделать мне удовольствие!
— Я никогда в жизни не говорил любезностей вам, Рэчель. Счастливая любовь может иногда прибегать к языку лести, я с этим согласен, по безнадежная любовь, моя дорогая, всегда говорит правду.
Он придвинул поближе свой стул и при словах “безнадежная любовь” взял ее за руку. Наступило минутное молчание. Он, волновавший всех, без сомнения, взволновал и ее. Мне кажется, я начала понимать слова, вырвавшиеся у него, когда он был один в гостиной: “Я сделаю это сегодня”.
Увы! Даже воплощенная скромность не могла бы не догадаться, что именно делал он теперь.
— Разве вы позабыли, Годфри, о чем мы условились, когда вы говорили со мною в деревне? Мы условились, что будем кузенами и только.
— Я нарушаю это условие каждый раз, как вижу вас, Рэчель.
— Ну, так не надо со мною видеться.
— Это было бы совершенно бесполезно! Я нарушаю это условие каждый раз, как думаю о вас. О, Рэчель! Вы так ласково сказали мне на днях, что я повысился в вашем мнении. Безумие ли это с моей стороны — основывать надежды на этих дорогих словах? Безумие ли это — мечтать, не наступит ли когда-нибудь день, когда ваше сердце хоть немного смягчится ко мне? Не говорите, что ото безумие! Оставьте меня в моем заблуждении, дорогая моя!
Хотя бы мечту должен я лелеять для успокоения своего, если у меня нет ничего другого!
Голос его дрожал, и он поднес к глазам белый носовой платок. Опять Экстер-Холл! Для полноты сходства недоставало лишь зрителей, возгласов и стакана воды.
Даже ее закоснелая натура была тронута. Я видела, как она ближе склонилась к нему. Я услышала нотку нового интереса в следующих ее словах:
— Уверены ли вы, Годфри, что любите меня до такой степени?
— Уверен ли! Вы знаете, каков я был, Рэчель? Позвольте мне сказать вам, каков я теперь. Я потерял интерес ко всему на свете, кроме вас. Со мною произошло превращение, которого я и сам не могу объяснить. Поверите ли, благотворительные дела сделались несносной обузой для меня, и когда я сейчас вижу дамский комитет, я хотел бы сбежать от него на край света.
Если в летописях вероотступничества имеется что-нибудь равносильное этому уверению, могу только сказать, что я этого не читала. Я подумала об обществе “Материнского попечительства о превращении отцовских панталон в детские”. Я подумала об обществе “Надзора над воскресными обожателями”. Я подумала о других обществах, слишком многочисленных, чтобы упоминать здесь о них, опиравшихся на силу этого человека, как на несокрушимый столп.
Справедливость требует прибавить, что при этом я не упустила ни единого слова из последующего их разговора. Рэчель заговорила первая.
— Вы дали мне услышать вашу исповедь, — сказала она. — Хотела бы я знать, вылечат ли вас от вашей несчастной привязанности мои признания, если я тоже сделаю их вам?
Он вздрогнул. Признаюсь, вздрогнула и я. Он подумал, и я также подумала, что она хочет открыть тайну Лунного камня.
— Можете ли вы поверить, глядя на меня, — продолжала она, — что перед вами самая несчастная девушка на свете? Это правда, Годфри. Может ли быть большее несчастье, чем сознание, что ты потерял уважение к себе? Вот такова теперь моя жизнь!
— Милая Рэчель, это невозможно, чтобы вы имели хоть какую-нибудь причину говорить о себе таким образом!
— Откуда вы знаете, что у меня нет этой причины?
— Можете ли вы об этом спрашивать? Я знаю это потому, что знаю вас.
Ваше молчание, моя дорогая, нисколько не унизило вас во мнении ваших истинных друзей. Исчезновение драгоценного подарка, сделанного вам в день рождения, может показаться странным; ваша непонятная связь с этим происшествием может показаться еще страннее…
— Вы говорите о Лунном камне, Годфри?
— Я думал, что вы намекаете на него…
— Я вовсе не намекала на него. Я могу слушать о пропаже Лунного камня, кто бы ни говорил о нем, нисколько не теряя уважения к самой себе. Если история алмаза когда-нибудь выйдет наружу, станет ясно, что я взяла на себя ужасную ответственность, станет ясно, что я взялась хранить ужасную тайну, — но также станет ясно, что я сама не виновата ни в чем! Вы не так меня поняли, Годфри. Мне надо было высказаться яснее. Чего бы это ни стоило, я выскажусь теперь яснее. Положим, что вы не влюблены в меня.
Положим, что вы влюблены в какую-нибудь другую женщину…
— Да?
— Допустим, вы узнали, что эта женщина совершенно недостойна вас.
Положим, вы совершенно убедились, что для вас будет унизительно думать о ней. Положим, что от одной мысли о браке с подобной женщиной лицо ваше вспыхнуло бы от стыда.
— Да?
— И положим, что, несмотря на все это, вы не можете вырвать ее из вашего сердца. Положим, что чувство, которое она вызвала в вас (в то время, когда вы верили ей), непреодолимо. Положим, что любовь, которую это презренное существо внушило вам… О, где мне найти слова, чтобы высказать это? Как могу я заставить мужчину понять, что это чувство одновременно ужасает и очаровывает меня? Это и свет моей жизни, Годфри, и яд, убивающий меня, в одно и то же время! Уйдите! Должно быть, я с ума сошла, говоря так. Нет! Не покидайте меня сейчас, не уносите ошибочного впечатления. Я должна сказать все, что могу, в свою собственную защиту. Помните одно: он не знает и никогда не узнает того, о чем я вам сказала. Я никогда его не увижу, — мне все равно, что бы ни случилось, я никогда, никогда не увижу его! Не спрашивайте меня больше ни о чем. Переменим предмет разговора.
Понимаете ли вы настолько в медицине, Годфри, чтобы сказать мне, почему я испытываю такое чувство, будто задыхаюсь от недостатка воздуха? Не существует ли такой истерики, которая выражается в потоках слов, а не в потоках слез? Наверное, есть. Да не все ли равно! Вы теперь легко перенесете всякое огорчение, какое я когда-либо причинила вам. Я уронила себя в ваших глазах, не так ли? Не обращайте больше внимания на меня. Не жалейте меня. Ради бога, уйдите!
Она вдруг повернулась и с силой ударила руками по спинке оттоманки.
Голова ее опустилась на подушки, и она зарыдала. Прежде чем я успела опомниться, меня поразил ужасом совершенно неожиданный поступок со стороны мистера Годфри. Возможно ли поверить, — он упал перед ней на колена, на оба колена! Может ли скромность моя позволить мне упомянуть, что он обнял ее рукой? Могу ли я сознаться, что против воли своей почувствовала восторг, когда он вернул ее к жизни двумя словами:
— Благородное создание!
Он не сказал ничего больше. Но это он сказал с тем порывом, который доставил ему славу публичного оратора. Она сидела — или пораженная или очарованная, не знаю, право, — не пытаясь даже оттолкнуть его руки гуда, где им следовало находиться. А я, с моими понятиями о приличии, была совершенно сбита с толку. Я была в такой мучительной неизвестности: предписывал ли мне долг зажмуриться или заткнуть уши, что не сделала ни того, ни другого. Тот факт, что я способна была надлежащим образом держать портьеру для того, чтобы можно было видеть и слышать, я приписываю единственно душившей меня истерике. Даже доктора соглашаются, что когда истерика душит вас, надо крепко держаться за что-нибудь.
— Да, — сказал он, прибегая к чарам своего небесного голоса и обращения, — вы благороднейшее создание! Женщина, которая может говорить правду ради самой правды, женщина, которая пожертвует своей гордостью скорее, чем честным человеком, любящим ее, — это драгоценнейшее из всех сокровищ. Если такая женщина выйдет замуж, питая к своему мужу только одно уважение — она достаточно осчастливит его на всю жизнь. Вы говорили, моя дорогая, о месте, какое вы занимаете в моих глазах. Судите сами о том, каково это место, — ведь я умоляю вас на коленях позволить мне вылечить ваше бедное уязвленное сердечко своей заботой о вас. Рэчель, удостоите ли вы меня чести, доставите ли вы мне блаженство, сделавшись моей женой?
Тут я непременно решилась бы заткнуть себе уши, если бы Рэчель не поощрила меня держать их открытыми, ответив ему первыми разумными словами, какие мне довелось от нее услышать.
— Годфри! — сказала она. — Вы, верно, с ума сошли?
— Я никогда в жизни не говорил рассудительнее, моя дорогая, с точки зрения вашей и моей пользы. Бросьте взгляд в будущее. Неужели вы должны пожертвовать собой ради человека, который никогда не знал о ваших чувствах к нему и которого вы решились никогда более не видеть? Не является ли вашим долгом по отношению к себе самой — забыть эту несчастную привязанность? А разве вам удается найти забвение в той жизни, которую вы сейчас ведете? Вы испытали эту жизнь, и она уже утомила вас. Окружите себя интересами, более возвышенными, чем эти жалкие светские развлечения.
Сердце, любящее и уважающее вас, домашний кров, спокойные права и счастливые обязанности которого день за днем будут тихо увлекать вас за собой, — попробуйте это утешение, Рэчель! Я не прошу у вас любви, я буду доволен вашей дружбой и уважением. Предоставьте остальное, доверчиво предоставьте остальное преданности вашего мужа и времени, которое излечивает раны, даже такие глубокие, как ваши.
Она уже начинала склоняться к его увещаниям. О, что за воспитание получила она! О, как совсем по-другому поступила бы на ее месте я!
— Не искушайте меня, Годфри! — сказала она. — Я и без того достаточно расстроена и несчастна. Не делайте меня еще более расстроенной и несчастной.
— Один только вопрос, Рэчель. Не внушаю ли я вам отвращения?
— Вы? Вы всегда мне нравились! После того, что вы мне сказали, я была бы просто бесчувственной, если бы не уважала вас и не восхищалась вами.
— А много ли найдете вы жен, милая Рэчель, которые бы уважали своих мужей и восхищались ими? Между тем они очень хорошо живут со своими мужьями. Многие ли невесты, идущие к венцу, могли бы открыть строгим людским взорам свое сердце? Между тем брак их не бывает несчастлив, они живут себе потихоньку. Дело в том, что женщины ищут в браке прибежища гораздо чаще, нежели они желают сознаться в этом; мало того, они находят, что брак оправдал их надежды. Вернемся снова к вашему случаю. В ваши лета и с вашей привлекательностью можно ли вам обречь себя на одинокую жизнь?
Положитесь на мое знание света, — для вас это совершенно невозможно. Это допустимо только на время. Вы выйдете замуж за кого-нибудь другого спустя несколько лет. Или выйдете замуж, моя дорогая, за человека, который сейчас у ваших ног и который ценит ваше уважение и восхищение выше любви всякой другой женщины на свете.
— Тише, Годфри! Вы пытаетесь убедить меня в том, о чем раньше я никогда не думала. Вы искушаете меня новой надеждой, когда все другие мои надежды рухнули. Опять повторяю вам, я так сейчас несчастна, я дошла до такого отчаяния, что, если вы скажете еще хоть слово, я, пожалуй, решусь выйти за вас на этих условиях. Воспользуйтесь этим предостережением и уйдите!
— Я не встану с колен, пока вы не скажете да!
— Если я скажу да, вы раскаетесь, и я раскаюсь, когда будет слишком поздно.
— Оба будем благословлять тот день, дорогая, когда я настоял, а вы уступили.
— Действительно ли вы так уверены, как это говорите?
— Судите сами. Я говорю на основании того, что видел в своей собственной семье. Скажите мне, что вы думаете о нашем фризинголлском семействе? Разве отец мой и мать живут несчастливо между собой?
— Напротив, насколько могу судить.
— А ведь когда моя мать была девушкой, Рэчель (это не тайна в нашем семействе), она любила, как любите вы, — она отдала свое сердце человеку, который был недостоин ее. Она вышла за моего отца, уважая его, восхищаясь им, но не более. Результат вы видите собственными глазами. Неужели в этом нет поощрения для вас и для меня?
— Вы не станете торопить меня, Годфри?
— Вы сами назначите время.
— Вы не станете требовать от меня более того, что будет в моих силах?
— Ангел мой, я только прошу вас себя самое вручить мне.
— Вручаю вам себя.
С этими словами она приняла его предложение.
Последовал новый порыв — порыв нечестивого восторга на этот раз. Он привлекал ее все ближе и ближе к себе, так что лицо его уже касалось ее лица, и тогда… — нет! я, право, не могу решиться описывать дальше этот неприличный поступок. Позвольте мне только сказать, что я собиралась закрыть глаза, прежде чем это случится, и опоздала только на одну секунду.
Я рассчитывала, видите ли, что она будет сопротивляться. Она покорилась.
Для всякой благомыслящей особы моего пола целые тома не могли бы сказать ничего более.
Даже я, с моей невинностью в подобных вещах, начала подозревать, к чему клонится настоящее свидание. Они до такой степени понимали теперь друг друга, что я ожидала, что они тотчас же пойдут рука об руку венчаться.
Однако последующие слова мистера Годфри напомнили, что следовало исполнить еще одну пустую формальность. Он сел — на этот раз ему это не возбранялось — на диван возле нее.
— Могу я сказать вашей милой матери? — спросил он. — Или вы сделаете это сами?
Она отклонила и то и другое.
— Лучше пусть мама ничего но узнает об этом до тех пор, пока не поправится. Я хочу сохранить это в тайне, Годфри. Ступайте теперь и вернитесь вечером. Мы уже и так слишком засиделись здесь вдвоем.
Она встала и в первый раз взглянула на маленькую комнатку, в которой я претерпевала мое мученичество.
— Кто опустил эти портьеры? — воскликнула она. — В комнате и без того душно, к чему еще лишать ее воздуха?
Она подошла к портьерам. В ту минуту, как она дотронулась до них рукой, в ту минуту, когда она неизбежно должна была обнаружить меня в комнате, голос румяного молодого лакея на лестнице вдруг остановил ее и помешал мне что-либо предпринять. Это, без сомнения, был голос человека, крайне перепуганного.
— Мисс Рэчель! — кричал он. — Где вы, мисс Рэчель?
Она отскочила от портьер и бросилась к двери. Лакей только что вошел в комнату. Румянец сбежал с его лица. Он сказал:
— Пожалуйте вниз! С миледи обморок, мы никак не можем привести ее в чувство.
Через минуту я осталась одна и могла в свою очередь незаметно сойти вниз. Мистер Годфри прошел мимо меня в переднюю. Он спешил за доктором.
— Ступайте и помогите им! — сказал он, указывая мне на дверь.
Я застала Рэчель на коленях у дивана. Голова матери лежала у нее на груди. Одного взгляда на лицо тетушки (зная то, что знала я) было достаточно, чтобы открыть мне страшную истину. Я оставила свои мысли при себе до приезда доктора. Он приехал скоро. Прежде всего он выслал Рэчель из комнаты, а потом сказал всем нам, что леди Вериндер скончалась.
Серьезным особам, интересующимся примерами закоренелого неверия, может быть, интересно услышать, что он не выказал никаких признаков угрызения совести, когда посмотрел на меня.
Немного позднее я заглянула в столовую и библиотеку. Тетушка умерла, не распечатав ни одного из моих писем. Меня это так потрясло, что в ту минуту мне и в голову не пришло (я вспомнила об этом несколько дней спустя), что она умерла, не оставив мне обещанного маленького наследства.
Глава VI
Последовательно излагая все лично пережитое, должна сказать тут, что прошел целый месяц после смерти моей тетки, прежде чем я снова встретилась с Рэчель Вериндер. Я провела несколько дней под одной с нею крышей. Именно в это время и случилось нечто важное, относящееся к ее помолвке с мистером Годфри Эбльуайтом, требующее особого здесь упоминания. Когда эта последняя из многих семейных неприятностей будет описана, моя авторская обязанность закончится, потому что тогда я передам все, что знаю, как непосредственная (хотя и невольная) свидетельница событий.
Тело моей тетки было перевезено из Лондона и похоронено на маленьком кладбище возле церкви в ее собственном парке. Я была приглашена на похороны вместе со всеми другими родственниками. Но мне было невозможно (с моими религиозными воззрениями) оправиться раньше, чем через несколько дней, от потрясения, которое эта смерть причинила мне. Сверх того, я узнала, что хоронить будет фризинголлский ректор. А так как я видела этого клерикального отщепенца в качестве партнера за карточным столом леди Вериндер, сомневаюсь, хорошо ли я поступила бы, присутствуя на похоронах, — даже если б была в состоянии ехать.
После смерти леди Вериндер дочь ее поступила под опеку зятя покойной, мистера Эбльуайта-старшего. По завещанию, он был назначен опекуном Рэчель до ее замужества или совершеннолетия. Полагаю, что мистер Годфри уведомил отца о своих новых отношениях с кузиной. Как бы то ни было, через десять дней после смерти моей тетки помолвка Рэчель уже не была тайной в семейном кругу, и для мистера Эбльуайта-старшего — другого законченного отщепенца — стало важно сделать свою опекунскую власть как можно более приятной для богатой молодой девушки, которая выходила за его сына.
Сначала Рэчель наделала ему немало хлопот с выбором места, где ей следовало жить. Дом на Монтегю-сквер напоминал ей о смерти матери. Дом в Йоркшире напоминал ей о скандальном деле пропавшего Лунного камня.
Резиденция ее опекуна во Фризинголле не напоминала ни о том, ни о другом, но присутствие Рэчель в этом доме, после недавней ее утраты, помешало бы развлечению ее кузин, девиц Эбльуайт — и она сама просила, чтобы ее перестали посещать впредь до более благоприятного времени. Кончилось тем, что старик Эбльуайт предложил ей нанять меблированный дом в Брайтоне. Его жена с больной дочерью должны были жить там вместе с нею, а он собирался приехать к ним попозже. Они не будут принимать никакого общества, кроме немногих старых друзей, а сын его, Годфри, разъезжая взад и вперед с лондонским поездом, всегда будет к их услугам.
Я описываю этот бессмысленный переезд с одного места на другое, эту ненасытную физическую тревогу и страшный душевный застой ради того конечного результата, к которому они привели. Наем дома в Брайтоне явился таким событием, которое по воле провидения снова свело меня с Рэчель Вериндер.
Тетка моя Эбльуайт — это полная, молчаливая белокурая женщина с одной замечательной чертой характера. Отроду она никогда ничего сама для себя не делала. Она прожила всю свою жизнь, принимая чужую помощь и заимствуя мнения от всех и каждого. Более беспомощной особы, с духовной точки зрения, я не встречала никогда, — воздействовать на такой трудный характер было решительно невозможно. Тетушка Эбльуайт станет слушать тибетского далай-ламу с тем же вниманием, с каким слушает меня, и будет рассуждать об его воззрениях с такою же готовностью, с какой рассуждает о моих. Она остановилась в лондонской гостинице и, лежа на диване, осуществила наем дома в Брайтоне с помощью своего сына. Нужную прислугу разыскала, завтракая утром в постели (все в той же гостинице); она отпустила свою горничную погулять с условием, чтобы та “до прогулки доставила себе маленькое удовольствие, сходив за мисс Клак”. Придя к ней в одиннадцать часов, я застала ее еще в капоте, спокойно обмахивавшуюся веером.
— Милая Друзилла, мне нужны слуги. Вы так умны, — пожалуйста, наймите их для меня.
Я осмотрелась в этой неопрятной комнате. Церковные колокола благовестили к обедне, они внушили мне слово дружеского увещания.
— Ах, тетушка! — сказала я грустно. — Разве это достойно христианки и англичанки? Разве наш переход к вечности должен совершаться таким образом?
Тетушка ответила:
— Я накину платье, Друзилла, если вы будете так добры и поможете мне.
Что можно было сказать после этого? Я творила чудеса с убийцами — я никогда не продвигалась, ни на один дюйм с тетушкой Эбльуайт.
— Где, — спросила я, — список слуг, которые вам нужны?
Тетушка покачала головой; у нее недоставало даже энергии хранить у себя список.
— Он у Рэчель, душечка, — сказала она, — в той комнате.
Я пошла в ту комнату и, таким образом, опять увидела Рэчель, в первый раз после того, как мы с ней расстались на Монтегю-сквер.
В глубоком трауре она казалась маленькой и худенькой. Если бы я придавала серьезное значение таким тленным безделицам, как человеческая внешность, я могла бы прибавить, что у нее был такого рода цвет лица, который, к несчастью, всегда теряет, если не оттеняется чем-нибудь белым у шеи. К великому моему удивлению, Рэчель встала, когда я вошла в комнату, и встретила меня с протянутою рукою.
— Я рада вас видеть, — сказала она. — Друзилла, я имела привычку говорить с вами прежде очень сумасбродно и очень грубо. Прошу у вас прощения; надеюсь, что вы простите меня.
Должно быть, лицо мое обнаружило изумление, которое я почувствовала при этих словах. Рэчель покраснела, а потом продолжала свое объяснение:
— При жизни моей бедной матери ее друзья не всегда были моими друзьями.
Теперь, когда я лишилась ее, сердце мое обращается за утешением к людям, которых она любила. Она любила вас. Постарайтесь быть моим другом, Друзилла, если можете.
Откликнувшись на ее предупредительность со всем доступным мне дружелюбием, я села, по ее просьбе, возле нее на диван. Мы заговорили о семейных делах и планах на будущее, — обо всем, за исключением одного только плана, который должен был окончиться свадьбой. Как ни старалась я повернуть разговор в эту сторону, она решительно отказывалась понимать мои намеки. Глядя на нее теперь с новым интересом и припоминая, с какою опрометчивою быстротой она приняла предложение мистера Годфри, я сочла своей священною обязанностью горячо вмешаться и заранее была уверена в исключительном успехе. Быстрота действия тут была, как я полагала, залогом этого успеха. Я тотчас вернулась к вопросу о прислуге, нужной для меблированного дома.
— Где список, душечка?
Рэчель подала мне список.
— Кухарка, судомойка, служанка и лакей, — прочитала я. — Милая Рэчель, эти слуги нужны только на срок, на тот срок, на который ваш опекун нанял этот дом. Нам будет очень трудно найти честных и способных людей, которые согласились бы наняться на такой короткий срок, если мы будем искать их в Лондоне. Дом в Брайтоне найден?
— Да. Его нанял Годфри, и люди в этом доме просили, чтобы он оставил их в качестве прислуги. Он не был уверен, годятся ли они для нас, и вернулся, не решив ничего.
— А сами вы неопытны в таких вещах, Рэчель?
— Не особенно.
— А тетушка Эбльуайт не хочет утрудить себя?
— Нет. Не осуждайте ее, бедняжку, Друзилла. Я думаю, что это единственная счастливая женщина, с какою я когда-либо встречалась.
— Есть различные степени счастья, дружок. Мы должны как-нибудь посидеть и поговорить с вами об этом. А пока я возьму на себя затруднительный выбор слуг. Пусть ваша тетушка напишет письмо к тем людям в брайтонском доме.
— Она подпишет письмо, если я его напишу за нее, — а это одно и то же.
— Совершенно одно и то же. Я возьму письмо и завтра поеду в Брайтон.
— Как вы добры! Мы приедем туда к вам, как только все будет у вас готово. Надеюсь, вы останетесь погостить у меня. Брайтон очень сейчас оживлен, вам, наверное, там понравится.
В таких словах мне было сделано приглашение, и блестящая перспектива вмешательства открылась передо мной.
Разговор происходил в середине недели. В субботу дом был для них готов.
В этот краткий промежуток я проверила не только характеры, но и религиозные воззрения всех слуг, обращавшихся ко мне, и успела сделать выбор, одобренный моею совестью. Я также нашла и навестила двух серьезных моих друзей, живших в этом городе, которым могла поверить благочестивую цель, приведшую меня в Брайтон. Один из них — духовный друг — помог мне закрепить места для нашего маленького общества в той церкви, в которой он сам служил. Другой друг — незамужняя женщина, такая же, как и я, — предоставил в полное мое распоряжение свою библиотеку (всю состоявшую из драгоценных изданий). Я взяла у нее с полдюжины сочинений, старательно выбранных для Рэчель. Разложив их в тех комнатах, которые она должна была занять, я сочла свои приготовления законченными. Незыблемая твердыня веры в слугах, которые будут ей служить, незыблемая твердыня веры в пасторе, который будет ей проповедовать, незыблемая твердыня веры в книгах, лежавших на ее столе, — таков был тройной подарок, который мое усердие приготовило для осиротевшей девушки. Небесное спокойствие наполнило мою душу в ту субботу, когда я сидела у окна, поджидая приезда моих родственниц. Суетная толпа народа сновала взад и вперед перед моими глазами. Ах! Многие ли из них сознавали так, как я, что они безупречно исполнили свою обязанность? Ужасный вопрос! Не будем останавливаться на нем.
В седьмом часу приехали путешественники. К моему великому изумлению, их провожал не мистер Годфри (как я ожидала), а стряпчий, мистер Брефф.
— Как вы поживаете, мисс Клак? — сказал он. — На этот раз я намерен остаться.
Этот намек на случай, когда я принудила его отступить со своими делами перед моим делом на Монтегю-сквер, убедил меня, что старый грешник приехал в Брайтон для какой-то особой цели. Я приготовила маленький рай для моей возлюбленной Рэчель, и вот уже является змей-искуситель.
— Годфри было очень досадно, Друзилла, что он не мог приехать с нами, — сказала моя тетка Эбльуайт. — Что-то задержало его в Лондоне. Мистер Брефф вызвался занять его место и остаться у нас до понедельника. Кстати, мистер Брефф, мне предписано делать моцион, а мне это совсем не нравится. Вот, — прибавила тетушка Эбльуайт, указывая из окна на больного, которого вез в кресле слуга, — вот мой идеал моциона. Если вам нужен воздух, вы можете им пользоваться в кресле, а если вам нужна усталость, я уверена, можно достаточно устать, глядя на этого слугу.
Рэчель молча стояла у окна, устремив взгляд на море.
— Вы устали, дружок? — спросила я.
— Нет. Мне только немного грустно, — ответила она. — Когда я жила в Йоркшире, я часто видела море при таком же освещении. И я думаю, Друзилла, о тех днях, которые никогда не вернутся.
Мистер Брефф остался и к обеду, и на целый вечер. Чем дольше я глядела на него, тем сильнее убеждалась, что он приехал в Брайтон с какой-то тайной целью. Я старательно наблюдала за ним. Он принял самый непринужденный вид и все время болтал безбожные пустяки, — до тех пор, пока не настала пора проститься. Когда он пожимал руку Рэчель, я поймала его суровый и проницательный взгляд, остановившийся на ней на минуту с особым интересом и вниманием. Очевидно, цель, которую он имел в виду, касалась ее. Он не сказал ничего особенного ни ей и никому другому при расставании. Он сам напросился к завтраку на следующий день и ушел ночевать в гостиницу.
На следующее утро не было никакой возможности заставить тетушку Эбльуайт вовремя снять капот, чтоб успеть одеться для церкви. Ее больная дочь (по моему мнению, не страдавшая ничем, кроме неизлечимой лености, унаследованной от матери) объявила, что она намерена весь день провести в постели. Рэчель и я одни пошли в церковь. Великолепную проповедь сказал мой даровитый друг об языческом равнодушии света к маленьким прегрешениям.
Более часа гремело его красноречие в священном здании. Я спросила у Рэчель, когда мы выходили из церкви:
— Нашло ли это путь к вашему сердцу, дружок?
Она ответила:
— Нет, у меня только сильно разболелась голова.
Такой ответ мог обескуражить многих. Но когда я вступаю на душеспасительную стезю, ничто не обескураживает меня.
Мы нашли тетушку Эбльуайт и мистера Бреффа за завтраком. Когда Рэчель, сославшись на головную боль, отказалась от завтрака, хитрый стряпчий тотчас этим воспользовался.
— Для головной боли есть только одно лекарство, — сказал этот противный старик. — Прогулка, мисс Рэчель, вылечит вас. Я к вашим услугам; сделаете ли вы мне честь принять мою руку?
— С величайшим удовольствием; я сама очень хочу прогуляться.
— Уже третий час, — кротко заметила я, — а вечерня, Рэчель, начинается в три.
— Как можете вы думать, что я снова пойду в церковь, — сказала она вспыльчиво, — с такой головной болью!
Мистер Брефф раболепно распахнул перед нею дверь, и через мгновение оба вышли из дома. Не знаю, чувствовала ли я когда-нибудь сильнее священную обязанность вмешаться, нежели в эту минуту. Но что было делать? Ничего, как только вмешаться при первом удобном случае попозднее в тот же день.
Когда я вернулась с вечерни и они возвратились с прогулки, первый же взгляд на стряпчего убедил меня, что он высказал ей все, что собирался сказать. Никогда раньше не видела я Рэчель такой молчаливой и задумчивой.
Никогда раньше не видела, чтобы мистер Брефф выказывал ей такую преданность, такое внимание и смотрел на нее с таким явным уважением. Он объявил (может быть, выдумав это), что приглашен к обеду, и рано простился с нами, намереваясь вернуться в Лондон первым же утренним поездом.
— Вы тверды в принятом вами решении? — спросил он Рэчель в дверях.
— Совершенно тверда, — ответила она; так они и расстались.
Едва он скрылся, как Рэчель ушла к себе. Она не вышла к обеду.
Горничная ее (та самая, что носит чепчики с лентами) пришла вниз сказать, что у барышни опять началась мигрень. Я побежала к ней, предлагая ей через запертую дверь свои сестринские услуги. Но дверь осталась запертой, и Рэчель не открыла ее. Сколько тут предстояло препятствий преодолеть мне? Я почувствовала новый прилив сил и воодушевления при виде этой запертой двери.
Когда на следующее утро ей понесли чашку чая, я вошла к ней вслед за прислугой. Я села возле ее постели и сказала ей несколько серьезных слов.
Она выслушала их с томной вежливостью. Я заметила драгоценные издания моего серьезного друга, сваленные в кучу на углу стола. Не заглянула ли она в них? Да, но они ее не заинтересовали. Позволит ли она прочесть ей вслух несколько мест, чрезвычайно интересных, которые, вероятно, ускользнули от ее внимания. Нет, не сейчас, — она должна подумать о другом. Давая эти ответы, она сосредоточенно перебирала оборки своей ночной кофты. Необходимо было привлечь ее внимание каким-нибудь намеком на мирские интересы, которыми она дорожила.
— Знаете, дружок, — сказала я, — мне пришла вчера в голову странная фантазия насчет мистера Бреффа. Увидя вас с ним после прогулки, я решила, что он сообщил вам какую-нибудь неприятную новость!
Она выпустила оборку своей ночной кофты, и ее свирепые черные глаза сверкнули.
— Совсем нет! Эту новость мне было очень интересно выслушать, и я глубоко благодарна за нее мистеру Бреффу.
— Да? — сказала я тоном кроткого интереса.
Она опять начала перебирать пальцами оборку и угрюмо отвернулась от меня. Сотни раз при выполнении моих добрых дел наталкивалась я на такое обращение. Оно и на этот раз только подстрекнуло меня на новую попытку. В своем ревностном усердии к спасению ее души я решилась на огромный риск и открыто намекнула на ее помолвку.
— Интересная для вас новость? — повторила я. — Вероятно, милая Рэчель, это известие о мистере Годфри Эбльуайте?
Она вскочила с постели и смертельно побледнела. У нее, очевидно, вертелась на языке прежняя необузданная дерзость. Но она сдержала себя; снова опустила голову на подушки, подумала с минуту, а потом произнесла замечательные слова:
— Я никогда не выйду за мистера Годфри Эбльуайта.
Пришла моя очередь вскочить при этих словах.
— Что вы хотите сказать? — воскликнула я. — Этот брак считается всеми нашими родными решенным делом.
— Мистера Годфри Эбльуайта ожидают сюда завтра, — сказала она угрюмо. — Подождите, пока он приедет, и вы увидите.
— Но, милая Рэчель…
Она позвонила в колокольчик, висевший у ее изголовья. Персона в чепчике с лентами появилась в комнате.
— Пенелопа, ванну!
Отдадим ей должную справедливость. При тогдашнем состоянии чувств моих она отыскала единственный возможный способ принудить меня уйти из комнаты!
Ее ванна, сознаюсь, была выше моих сил.
Она спустилась к завтраку, но ничего не ела и почти все время молчала.
После завтрака она бесцельно бродила из комнаты в комнату, потом вдруг опомнилась и открыла фортепиано. Музыка, которую она выбрала для своей игры, была непристойного и нечестивого рода и напоминала те представления на сцене, о которых нельзя подумать без того, чтобы кровь не застыла в жилах. Я тайком разузнала, в котором часу ожидают мистера Годфри Эбльуайта, а потом спаслась от этой музыки, ускользнув из дому.
Очутившись одна, я воспользовалась этим случаем, чтобы навестить двух моих местных друзей. Это было неописуемое наслаждение, снова чувствовать себя занятой серьезным разговором с серьезными людьми! Бесконечно подбодренная и освеженная, обратила я стопы мои назад, чтобы поспеть как раз к тому времени, когда ожидался гость. Я вошла в столовую, всегда в это время пустую, — и очутилась лицом к лицу с мистером Годфри Эбльуайтом!
Он не сделал никакой попытки убежать. Напротив, он подошел ко мне чрезвычайно поспешно.
— Дорогая мисс Клак, вас-то я и ждал! Я случайно освободился раньше, чем предполагал, от моих лондонских дел и приехал сюда до назначенного времени.
В его объяснении не чувствовалось ни малейшего замешательства, хотя это была первая наша встреча после сцены на Монтегю-сквер.
— Видели вы Рэчель? — спросила я.
Он коротко вздохнул и взял меня за руку. Конечно, я вырвала бы свою руку, если бы тон его ответа не поразил меня.
— Я видел Рэчель, — сказал он совершенно спокойно, — вам известно, дорогой друг, что она была помолвлена со мной? Но она вдруг решилась взять назад свое слово. Размышления убедили ее, что для нашего обоюдного блага будет лучше, если она возьмет назад опрометчивое обещание и предоставит мне свободу сделать другой, более счастливый выбор. Это единственная причина, на которую она ссылается, и единственный ответ, который она мне дает.
— А что вы сделали с своей стороны? — спросила я. — Покорились?
— Да, — ответил он с самым невозмутимым спокойствием, — я покорился.
Его поведение при подобных обстоятельствах было настолько непостижимо, что я стояла вне себя от изумления, в то время как рука моя лежала в его руке. Смотреть вытаращив глаза на кого бы то ни было — грубо, а на джентльмена — неделикатно. Я совершила оба эти неприличных поступка. И я произнесла, как во сне:
— Что это значит?
— Позвольте все рассказать вам, — ответил он, — и давайте лучше сядем.
Он подвел меня к креслу. Я смутно припоминаю, что он был очень внимателен. Кажется, он обнял меня рукою, чтобы поддержать меня, — хотя не знаю этого наверно. Я была совершенно беспомощна, а его обращение с дамами всегда такое сердечное. Во всяком случае, мы сели. За это я могу поручиться, если не могу поручиться ни за что другое.
Глава VII
— Я лишился прелестной невесты, превосходного общественного положения и богатого дохода, — начал мистер Годфри, — и покорился этому без борьбы.
Что может быть причиною такого необыкновенного поведения? Мой драгоценный друг, причины нет.
— Причины нет? — повторила я.
— Позвольте мне, дорогая мисс Клак, привести вам для сравнения в пример ребенка, — продолжал он. — Ребенок избирает какую-нибудь линию в своих поступках всегда непосредственно. Вы удивлены этим и пытаетесь узнать причину. Бедняжка неспособен объяснить вам эту причину. Вы можете точно так же спросить траву, почему она растет, и птиц, почему они поют. Так вот, в данном случае я похож на милого ребенка, на траву, на птиц. Я не знаю, почему я сделал предложение мисс Вериндер. Я не знаю, почему я постыдно пренебрег моими милыми дамами. Я по знаю, как мог я отречься от комитета материнского попечительства. Вы говорите ребенку: почему ты капризничаешь? А этот ангелочек засунет палец в рот и сам не знает.
Совершенно так, как со мною, мисс Клак! Я не могу признаться в этом никому другому. Но я чувствую себя обязанным признаться вам.
Я начала приходить в себя. Мне предлагалось разобраться в нравственной проблеме. Меня глубоко интересуют нравственные проблемы, и думаю, я довольно искусно их разрешаю.
— Лучший из друзей, изощрите ваш разум и помогите мне, — продолжал он.
— Скажите мне, почему настало время, когда мои матримониальные планы кажутся мне чем-то вроде сна. Почему мне вдруг пришло в голову, что мое истинное счастье в том, чтобы помогать моим милым дамам в исполнении скромных, полезных дел и чтобы произносить немногие убедительные слова, когда меня вызывает председатель? На что мне общественное положение? Оно у меня и без того есть. На что мне доход? Я и так могу заплатить за свой насущный хлеб, за свою миленькую квартирку и за два фрака в год. На что мне мисс Вериндер? Она призналась мне собственными устами (это между нами, милая мисс Клак), что любит другого человека и выходит за меня замуж только для того, чтобы скорее выбросить этого человека из головы. Какой ужасный союз! О боже мой! Какой ужасный союз! Вот о чем я размышлял, мисс Клак, когда узнал, что и она также передумала и предложила мне взять свое слово обратно. Я почувствовал (в этом не может быть ни малейшего сомнения) чрезвычайное облегчение. Месяц назад я с восторгом прижимал ее к груди.
Час тому назад радость, когда я узнал, что никогда более не прижму ее к груди, опьянила меня, как крепкий напиток. Это кажется невозможным, — этого как будто не может быть. А между тем это факты, как я имел честь сообщить вам, когда мы с вами сели на эти два стула. Я лишился прелестной невесты, прекрасного дохода и покорился этому без борьбы. Как вы можете это объяснить, милый друг? Самому мне объяснение недоступно, оно выше моих сил.
Его великолепная голова опустилась на грудь, и он с отчаянием отказался от разрешения нравственной проблемы.
Я была глубоко тронута. Болезнь стала для меня ясна, как день. Все мы по опыту знаем, что люди с высокими способностями часто опускаются до уровня самых ограниченных людей, окружающих их. Без сомнения, цель мудрого провидения заключается в том, чтобы напомнить великим мира сего, что и они смертны и что власть, давшая им их величие, может также и отнять его.
Теперь, как мне кажется, читателю легко различить в печальных поступках милого мистера Годфри, — которых я была невидимой свидетельницей, — одно из таких полезных унижений.
Я изложила ему свой взгляд в немногих простых и сестринских словах. На его радость приятно было смотреть. Он прижимал к губам попеременно то ту, то другую мою руку. Взволнованная торжеством при мысли, что он вернется к нам, я позволила ему делать, что он хочет, с моими руками. Я зажмурила глаза. В экстазе духовного самозабвения я опустила голову на его плечо.
Через минуту я, конечно, упала бы в обморок на его руки, если бы шум внешнего мира не заставил меня опомниться. Противное звяканье ножей и вилок послышалось за дверьми, — лакей пришел накрывать стол для завтрака.
Мистер Годфри вскочил и взглянул на часы, стоявшие на камине.
— Как летит время, когда я с вами! — воскликнул он. — Я опоздаю к поезду.
Я осмелилась спросить у него, почему он так торопится вернуться в Лондон. Его ответ напомнил мне о семейных затруднениях, которым еще предстояло наступить.
— Я получил письмо от отца, — сказал он. — Дела принуждают его ехать из Фризинголла в Лондон сегодня, и он намерен приехать сюда или сегодня вечером или завтра утром. Необходимо поставить его в известность о том, что случилось между Рэчель и мною.
С этими словами он поспешил уйти. Точно так же торопясь со своей стороны, я побежала наверх, успокоиться в своей комнате до того, как встречусь с тетушкой Эбльуайт и Рэчель за завтраком.
Мне хорошо известно, что все оскверняющее мнение света обвинило мистера Годфри в том, что он по каким-то своим соображениям освободил Рэчель от данного ею слова при первом же удобном случае, который ему представился.
До ушей моих дошло также, что его нетерпеливое желание восстановить себя в моих глазах было приписано некоторыми лицами корыстолюбивому намерению примириться (через меня) с одной почтенной дамой, членом комитета материнского попечительства, обильно одаренной благами мира сего и бывшей моим кротким и возлюбленным другом. Я упоминаю об этих гнусных сплетнях только для того, чтобы объявить, что они никогда не имели ни малейшего влияния на мою душу.
Я сошла вниз к завтраку, с нетерпением желая видеть, как подействовал на Рэчель разрыв с женихом.
Мне показалось (но признаюсь, я плохой судья в подобных вещах), что полученная ею свобода вернула ее к прежним мыслям о другом человеке, которого она любила, и что она злилась на себя за то, что не могла преодолеть чувства, которого в душе стыдилась. Кто был этот человек? Я догадывалась, — но бесполезно было тратить время на пустые соображения.
Если мне удастся обратить ее, она, разумеется, не будет иметь тайн от меня. Я услышу все об этом человеке, я услышу все и о Лунном камне. Если бы даже у меня не было высшей цели довести ее до высоты духовного сознания, — одного только желания освободить ее душу от этих греховных тайн было бы достаточно, чтобы поощрить меня действовать дальше.
Тетушка Эбльуайт делала вечером моцион в кресле для больных. Рэчель провожала ее.
— Хотелось бы мне самой тащить это кресло, — беспокойно произнесла она, — хотелось бы мне утомить себя до такой степени, чтобы свалиться!
Ее состояние не изменилось и к вечеру. Я нашла в одном из драгоценных изданий моего друга — “Житие, послания и труды мисс Джейн-Энн Стампер”, сорок пятое издание — места, чудесно подходившие к данному положению Рэчель. Но когда я предложила ей прочесть их, она отошла от меня к фортепиано. Как же мало она знала серьезных людей, если могла подумать, что мое терпение так быстро истощится. Я оставила при себе мисс Джейн Стампер и ожидала событий с неизменным упованием на будущее.
Старик Эбльуайт совсем не приехал в этот вечер. Но я знала, какое значение этот алчный мирянин приписывает браку своего сына с мисс Вериндер, и была твердо уверена, что (как бы ни мешал этому мистер Годфри) мы увидим его на следующий день.
И действительно, на следующий день, как я и предвидела, тетушке Эбльуайт, насколько позволила ей ее природа, пришлось выказать нечто вроде удивления при внезапном появлении ее мужа. Не успел он пробыть в доме и минуты, как вслед за ним явилось, к моему великому удивлению, неожиданное и запутанное обстоятельство в виде мистера Бреффа.
Не помню, чтобы когда-нибудь присутствие стряпчего было мне более неприятно, нежели в эту минуту. Он, по-видимому, приготовился к военным действиям.
— Какой приятный сюрприз, сэр, — сказал мистер Эбльуайт, обращаясь к мистеру Бреффу с обманчивой вежливостью. — Когда я выходил вчера из вашей конторы, я не ожидал иметь честь видеть вас в Брайтоне сегодня.
— После вашего ухода я мысленно перебрал весь наш разговор, — ответил мистер Брефф, — и мне пришло в голову, что, может быть, я буду здесь полезен. Я едва успел к поезду и не видел, в каком вагоне вы ехали.
Дав это объяснение, он сел возле Рэчель. Я скромно удалилась в угол, с мисс Джейн-Энн Стампер на коленях на всякий случай. Тетушка сидела у окна, спокойно обмахиваясь веером, по обыкновению. Мистер Эбльуайт стоял посреди комнаты; его плешивая голова была краснее обычного, когда он самым дружелюбным образом обратился к племяннице.
— Милая Рэчель, — сказал он, — я слышал от Годфри очень странные известия. Я приехал сюда узнать о них. В этом доме у тебя есть своя собственная гостиная. Проводи меня туда.
Рэчель не пошевелилась. Решилась ли она довести дело до кризиса, или ее побудил какой-нибудь секретный знак мистера Бреффа, не могу сказать.
Только она отказалась проводить старика Эбльуайта в свою гостиную.
— Все, что вы хотите сказать мне, — ответила она, — можно сказать здесь, в присутствии моих родственниц и (она посмотрела на мистера Бреффа) верного старого друга моей матери.
— Как хочешь, дружок, — любезно ответил мистер Эбльуайт.
Он сел и продолжал:
— Несколько недель назад сын уведомил меня, что мисс Вериндер дала ему слово выйти за него. Может ли быть, Рэчель, что он это не так понял или нафантазировал?
— Конечно, нет, — ответила она. — Я дала слово выйти за него.
— Очень откровенный ответ, — сказал мистер Эбльуайт, — и самый удовлетворительный! В том, что случилось несколько недель назад, Годфри, значит, не ошибся. По-видимому, он ошибся в том, что произошло вчера. Понимаю. Вы с ним просто поссорились, как ссорятся влюбленные, и мой сумасбродный сын принял это серьезно. Ах, в его лета я был сообразительней!
Греховная природа нашей прабабушки Евы пробудилась в Рэчель, и она начала горячиться.
— Постараемся понять друг друга, мистер Эбльуайт, сказала она. — Ничего похожего на ссору не произошло вчера между вашим сыном и мною. Если он вам сказал, что я предложила ему разрыв и что он на него согласился, — он сказал вам правду.
Подобно термометру, показывающему повышение температуры, цвет плешины мистера Эбльуайта доказал, что он начинает сердиться. Лицо его было любезнее прежнего, но и без того красная макушка стала еще краснее.
— Полно-полно, душа моя! — произнес он самым успокоительным тоном, — не сердись и не будь жестока к бедному Годфри. Он, верно, сказал что-нибудь некстати. Он с детства такой неловкий, — но намерения у него хорошие, Рэчель, намерения хорошие!
— Мистер Эбльуайт, я или неясно выразилась, или вы нарочно не понимаете меня. Разрыв между вашим сыном и мною решен раз и навсегда, мы останемся на всю жизнь кузенами, и никем больше. Достаточно ли это ясно?
Она произнесла это таким тоном, что не понять ее было невозможно даже старику Эбльуайту. Температура повысилась еще на градус, а голос, когда он опять заговорил, перестал быть голосом, подобающим человеку, известному своим добродушием.
— Стало быть, я должен понять, — сказал он, — что у вас с ним все кончено?
— Пожалуйста, поймите это, мистер Эбльуайт.
— И я также должен понять, что предложение разрыва исходило от тебя?
— Вначале от меня. Но, как я вам сказала, с согласия и одобрения вашего сына.
Ртуть в термометре поднялась на самый верх, красная макушка побагровела.
— Сын мой малодушный трус! — вскричал в ярости старый грешник. — Я сам, как отец, — а не ради него, — хочу знать, мисс Вериндер, что смущает вас в поведении мистера Годфри Эбльуайта?
Тут мистер Брефф вмешался в первый раз.
— Вы не обязаны отвечать на этот вопрос, — сказал он Рэчель.
Старик Эбльуайт тотчас напустился на пего.
— Не забывайте, сэр, — сказал он, — что вы здесь незваный гость. Ваше вмешательство было бы гораздо желательней, если бы вы подождали, когда вас попросят вмешаться.
Мистер Брефф не обратил на это никакого внимания. Не дрогнул ни один мускул его морщинистого, старого лица. Рэчель поблагодарила его за совет, который он дал ей, а потом обернулась к старику Эбльуайту, сохраняя свое спокойствие, которое (принимая во внимание ее возраст и пол) было просто страшно видеть.
— Ваш сын задал мне точно такой же вопрос, — сказала она, — и у меня был для него только один ответ; только один ответ есть у меня и для вас. Я предложила, чтобы мы разошлись, потому что размышление убедило меня, что и для его и для моего блага будет лучше взять назад опрометчиво данное слово и предоставить ему свободу сделать другой выбор.
— Что же сделал мой сын? — настаивал мистер Эбльуайт. — Я имею право это знать. Что сделал мой сын?
Она так же упорно стояла на своем.
— Вы получили единственное объяснение, которое я считаю необходимым дать ему или вам, — сказала она.
— Говоря попросту, вам вздумалось и заблагорассудилось, мисс Вериндер, обмануть моего сына?
Рэчель помолчала с минуту, сидя позади нее, я слышала, как она вздохнула. Мистер Брефф взял ее руку и пожал. Собравшись с силами, она ответила мистеру Эбльуайту так же смело, как прежде.
— Я подвергла себя еще худшим толкам, — сказала она, — и терпеливо перенесла их. Прошло то время, когда вы могли бы оскорбить меня, назвав меня обманщицей.
Она говорила с такой горечью, что я подумала, не пришла ли ей в голову скандальная история Лунного камня.
— Мне больше нечего сказать, — уныло прибавила она, не обращаясь ни к кому из нас в отдельности, отвернувшись от всех и глядя в ближайшее к ней окно.
Мистер Эбльуайт вскочил и так сильно отодвинул свой стул, что тот опрокинулся и упал.
— А мне есть что сказать, — объявил он, стукнув по столу ладонью. — Я скажу, что если сын мой не чувствует этого оскорбления, то чувствую я.
Рэчель вздрогнула и взглянула на него с внезапным удивлением.
— Оскорбление? — повторила она. — Что вы хотите этим сказать?
— Оскорбление! — повторил Эбльуайт. — Я знаю, по какой причине, мисс Вериндер, вы нарушили обещание, данное моему сыну. Я знаю это так же хорошо, как если бы вы сами признались в нем. Ваша проклятая фамильная гордость наносит оскорбление Годфри, как оскорбила она и меня, когда я женился на вашей тетке. Ее родные, ее нищие родные показали ей спину за то, что она вышла за честного человека, своими руками составившего себе состояние. Предков у меня не было. Я не происхожу от головорезов и мошенников, живущих воровством и убийством. Я не могу указать время, когда у Эбльуайтов не было рубашки на теле и когда они не умели подписать своего имени. Ага! Я не годился для Гернкастлей, когда я женился. А теперь сын мой не годится для вас. Я давно это подозревал. В вас заговорила кровь Гернкастлей, молодая особа! Я давно это подозревал.
— Весьма недостойное подозрение, — заметил Брефф. — Удивляюсь, как у вас хватило мужества высказать его.
Прежде чем мистер Эбльуайт успел найти слова для ответа, Рэчель заговорила тоном самого оскорбительного презрения.
— Не стоит обращать на это внимания, — сказала она стряпчему, — если он думает так, предоставим ему думать, как он хочет.
Из багрового мистер Эбльуайт сделался синим. Он задыхался и едва переводил дух; он глядел то на Рэчель, то на Бреффа с таким бешенством, словно не знал, на кого из них прежде напасть. Жена его, до сих пор бесстрастно обмахивавшаяся веером, испугалась и попыталась, совершенно безрезультатно, успокоить его. Во время всего этого прискорбного разговора меня неоднократно охватывал внутренний порыв вмешаться и сказать несколько серьезных слов, но я удерживалась из опасения возможных последствий, — опасения, недостойного христианки и англичанки, стремящейся не к тому, чего требует малодушное благоразумие, а к тому, что нравственно справедливо. Видя, до чего дошло теперь дело, я встала, поставив себя выше всяких соображений о приличии. Если бы я собиралась возражать собственными, смиренно придуманными мною доводами, быть может, я еще поколебалась бы. Но печальное домашнее несогласие, которого я теперь была свидетельницей, было чудно и прекрасно предусмотрено в корреспонденции мисс Джейн-Энн Стампер, — письмо тысяча первое на тему “Семейный мир”. Я вышла из моего укромного уголка и раскрыла мою драгоценную книгу.
— Любезный мистер Эбльуайт, — сказала я, — одно только слово!
Когда, вставши, я привлекла к себе внимание всего общества, я могла заметить, что мистер Эбльуайт собирается сказать мне что-то грубое. Мои дружеские слова, однако, остановили его. Он вытаращил на меня глаза с языческим удивлением.
— Позвольте мне, — продолжала я, — как искренней доброжелательнице и другу, как женщине, давно привыкшей пробуждать, убеждать, приготовлять, просвещать и укреплять других, — позвольте мне взять на себя вполне простительную вольность успокоить вашу душу.
Он начал приходить в себя; он готов был разразиться гневом, и разразился бы, будь на моем месте всякий другой. Но мой голос (обыкновенно кроткий) обладает высокою нотою в важных случаях жизни. В данном случае я испытывала неотступное призвание говорить самым высоким голосом. Я поднесла к нему мою драгоценную книгу и указала пальцем на открытую страницу.
— Не к моим словам! — воскликнула я в порыве горячего усердия. — О, не предполагайте, что я требую внимания к моим смиренным словам! Манна в пустыне, мистер Эбльуайт! Роса на засохшей земле! Слова утешения, слова благоразумия, слова любви — блаженные, блаженные, блаженные слова мисс Джейн-Энн Стампер!
Тут я остановилась, потому что у меня захватило дыхание. Прежде чем я успела опомниться, это чудовище в человеческом образе бешено закричало:
— К … мисс Джейн-Энн Стампер!
Я не могу написать ужасное слово, какое заменено здесь точками. Я вскрикнула, когда оно сорвалось с его губ; я бросилась к моему мешочку, лежавшему на столико у стены; я высыпала из него все мои трактаты; я схватила один трактат о нечестивых ругательствах, под названием “Умолкните во имя неба!” и подала ему с выражением томной мольбы. Он разорвал его и швырнул в меня через стол. Все вскочили в испуге, не зная, что произойдет дальше. Я тотчас села в свой угол. Однажды был такой случай, почти при подобных же обстоятельствах, когда мисс Джейн-Энн Стампер схватили за плечи и вытолкали из комнаты. Я ожидала, вдохновляемая ее мужеством, повторения ее мученичества.
Но нет, этого не случилось. Прежде всего он обратился к своей жене:
— Кто, кто, кто, — забормотал он в бешенстве, — пригласил сюда эту дерзкую изуверку?
Прежде чем тетушка Эбльуайт успела сказать слово, Рэчель ответила за нее:
— Мисс Клак в гостях у меня.
Слова эти произвели странное действие на мистера Эбльуайта. Они вдруг превратили его из человека, пылавшего гневом, в человека, одержимого ледяным презрением. Всем сделалось ясно, что Рэчель сказала что-то такое, — как ни кроток и ясен был ее ответ, — что, наконец, дало ему преимущество над нею.
— Ого! — сказал он. — Мисс Клак здесь, у вас в гостях, в моем доме?
В свою очередь, Рэчель вышла из терпения; лицо ее вспыхнуло, а глаза гневно засверкали. Она обернулась к стряпчему и, указав на мистера Эбльуайта, спросила надменно:
— Что он хочет этим сказать?
Мистер Брефф вмешался в третий раз.
— Вы, кажется, забываете, — обратился он к мистеру Эбльуайту, — что вы наняли этот дом для мисс Вериндер, как ее опекун.
— Сделайте одолжение, не торопитесь, — перебил мистер Эбльуайт, — мне остается сказать одно последнее слово, которое я давно бы сказал, если бы эта… — он посмотрел на меня, придумывая, какое гнусное название должен он дать мне, — если бы эта буйная старая дева не перебила нас. Позвольте мне сказать вам, сэр, что если мой сын не годится в мужья мисс Вериндер, то я не думаю, чтобы и его отец годился ей в опекуны. Прошу вас понять, что я отказываюсь от опекунства, предложенного мне в завещании леди Вериндер. Говоря юридическим языком, я слагаю с себя звание опекуна. Этот дом был нанят на мое имя. Я беру всю ответственность за этот наем на себя.
Это мой дом. Я могу его оставить или отдать внаймы, как хочу. Я не желаю торопить мисс Вериндер. Напротив, я прошу ее взять отсюда свою гостью и свои вещи только тогда, когда это будет для нее удобно.
Он отвесил низкий поклон и вышел из комнаты. Вот каким образом мистер Эбльуайт отомстил за то, что Рэчель не захотела выйти за его сына!
Как только дверь за ним затворилась, тетушка Эбльуайт выказала необыкновенный прилив энергии, заставившей умолкнуть всех нас. У нее достало сил перейти через комнату.
— Милая моя, — сказала она, взяв Рэчель за руку, — мне было бы стыдно за своего мужа, если бы я не знала, что с тобой говорил его гнев, а не он сам. Вы, вы, — продолжала тетушка Эбльуайт, обратясь в мой угол с новым припадком энергии, — это вы раздражили его. Надеюсь, я никогда больше не увижу ни вас, ни ваших трактатов!
Она снова повернулась к Рэчель и поцеловала ее.
— Прошу у тебя прощения, душечка, от имени моего мужа. Что я могу сделать для тебя?
Постоянно упрямая во всем, капризная и безрассудная во всех поступках своей жизни, Рэчель неожиданно залилась слезами при этих незначительных словах и молча поцеловала тетку.
— Если вы мне позволите ответить за мисс Вериндер, — сказал мистер Брефф, — я попрошу вас, миссис Эбльуайт, прислать сюда Пенелопу со шляпой и шалью ее барышни. Оставьте нас наедине на десять минут, — прибавил он тихим голосом, — и вы можете положиться на меня; я устрою все как следует, к обоюдному удовольствию, вашему и Рэчель.
Доверие, какое это семейство питало к стряпчему, было просто удивительно. Не говоря более ни слова, тетушка Эбльуайт вышла из комнаты.
— Ах, — сказал мистер Брефф. — Кровь Гернкастлей имеет свои дурные стороны, я с этим согласен. Но все-таки в хорошем происхождении есть кое-что.
Сделав это чисто мирское замечание, он пристально взглянул в мой угол, как будто ожидая, что я уйду. Мое участие к Рэчель, несравненно более высокое, нежели его участие, приковало меня к стулу. Мистер Брефф отказался от надежды выпроводить меня, совершенно так, как это было на Монтегю-сквер. Он подвел Рэчель к стулу возле окна и заговорил там с нею.
— Милая моя мисс Рэчель, — сказал он, — поведение мистера Эбльуайта, естественно, оскорбило и удивило вас. Если бы стоило спорить с таким человеком, мы быстро показали бы ему, что он не смеет поступать самовольно. Но не стоит. Вы были совершенно правы, когда сказали, что на него не следует обращать внимания.
Он остановился и посмотрел в мой угол. Я сидела совершенно неподвижно, с трактатами под мышкой и с мисс Джейн-Энн Стампер на коленях.
— Вы знаете, — повернулся он к Рэчель, — что ваша матушка, по своей доброте, всегда видела в окружающих людях одни только лучшие стороны и не замечала худших. Она назначила вашим опекуном своего зятя потому, что доверяла ему и думала, что это понравится ее сестре. Сам я никогда не любил мистера Эбльуайта и уговорил вашу мать включить в завещание пункт, по которому ее душеприказчикам в некоторых случаях предоставляется право советоваться со мною о назначении нового опекуна. Один из таких случаев представился сегодня. И я сейчас именно в таком положении. Мне приятно покончить с этими сухими печальными подробностями передачей поручения от моей жены. Не окажете ли вы миссис Брефф честь стать ее гостьей? Согласны ли вы остаться в моем доме как член моей семьи, пока мы, умные люди, будем совещаться и решим, что нам делать?
При этих словах я встала. Мистер Брефф сделал именно то, чего я опасалась, когда он просил миссис Эбльуайт прислать шляпку и шаль Рэчель.
Прежде чем я успела сказать слово, Рэчель приняла его предложение в самых горячих выражениях.
— Остановитесь! — вскрикнула я. — Остановитесь! Вы должны выслушать меня, мистер Брефф. Не вы ей родня, а я. Я приглашаю ее, я умоляю душеприказчиков назначить опекуншей меня. Рэчель, милейшая Рэчель, я предлагаю вам мой скромный дом; поезжайте в Лондон со следующим поездом, душа моя, и разделите со мною мой приют!
Мистер Брефф не сказал ничего. Рэчель посмотрела на меня с холодным удивлением, которое не постаралась даже скрыть.
— Вы очень добры, Друзилла, — ответила она, — я буду навещать вас, когда мне случится приехать в Лондон. Но я приняла приглашение мистера Бреффа и думаю, что будет гораздо лучше, если я теперь останусь под надзором мистера Бреффа.
— О, не говорите этого! — умоляла я. — Я не могу расстаться с вами, Рэчель, не могу расстаться с вами!
Я попыталась заключить ее в свои объятия, но она отступила от меня. Моя горячность не сообщилась ей, а только отпугнула ее.
— Это бесполезное волнение, — сказала она, — я не понимаю его.
— И я также, — произнес мистер Брефф.
Их черствость, их отвратительная мирская черствость, возмутила меня.
— О Рэчель, Рэчель! — вскричала я. — Неужели вы еще не видите, что я всем сердцем стремлюсь сделать из вас христианку? Неужели внутренний голос не говорит вам, что я стараюсь сделать для вас то, что старалась сделать для вашей милой матери, покуда смерть не вырвала ее из моих рук?
Рэчель приблизилась ко мне на шаг и очень странно посмотрела на меня.
— Я не понимаю вашего намека на мою мать, — сказала она, — будьте так добры, мисс Клак, объяснитесь.
Прежде чем я успела ответить, подошел мистер Брефф и предложил руку Рэчель, стараясь увести ее из комнаты.
— Вам лучше не продолжать этого разговора, милая моя, — сказал он, — и мисс Клак лучше не объясняться.
Будь я палкой или камнем, подобное вмешательство и тогда заставило бы меня сказать правду. Я с негодованием оттолкнула мистера Бреффа и торжественно, приличным случаю языком поведала ей воззрения христианского учения на то, каким страшным бедствием является смерть без покаяния.
Рэчель отпрянула от меня, — пишу об этом, краснея, — с криком ужаса.
— Уйдем отсюда! — сказала она мистеру Бреффу. — Уйдем, ради бога, прежде чем эта женщина не скажет еще чего-нибудь! О, подумайте о невинной, полезной, прекрасной жизни бедной моей матери. Вы были на похоронах, мистер Брефф, вы видели, как все ее любили; вы видели, как бедняки плакали над ее могилой, лишившись своего лучшего друга. А эта негодная женщина старается возбудить во мне сомнение, будет ли моя мать, бывшая ангелом на земле, — ангелом на небе! Перестанем говорить об этом! Пойдемте! Меня убивает мысль, что я дышу одним воздухом с нею! Для меня ужасно сознание, что мы находимся в одной комнате!
Глухая ко всем увещаниям, она побежала к двери. В эту минуту ее горничная вошла со шляпкой и шалью. Рэчель напялила их на себя как попало.
— Уложите мои вещи, — сказала она, — и доставьте их к мистеру Бреффу.
Я попыталась подойти к ней, я была огорчена, но — бесполезно говорить — я не была оскорблена. Я только хотела сказать ей: “Дай бог, чтобы ваше жестокое сердце смягчилось! Я охотно прощаю вам!” Но она опустила вуаль и, вырвав у меня из рук кончик своей шали, торопливо выбежала из комнаты и захлопнула дверь у меня под носом. Я перенесла это оскорбление со свойственной мне обычной твердостью. Я вспоминаю это теперь со своим обычным терпением, привыкнув ставить себя выше всякого оскорбления.
Мистер Брефф на прощанье сказал мне насмешливое словцо.
— Лучше бы вам не объясняться, мисс Клак, — сказал он, поклонился и вышел.
Вслед за ним обратилась ко мне особа в чепчике с лентами.
— Легко догадаться, кто перессорил их всех, — сказала она. — Я только бедная служанка, но, право, мне стыдно за вас!
Она тоже вышла и захлопнула за собою дверь.
Я осталась в комнате одна. Поруганная и покинутая всеми, я осталась в комнате одна.
С тех пор я никогда больше не встречалась с Рэчель Вериндер. Я прощала ее, когда она оскорбляла меня. Я молилась за нее в последующие дни. И когда я умру, то, — как ответ мой ей добром на зло, — она получит “Житие, послания и труды” мисс Джейн-Энн Стампер, оставленные ей в наследство по моему завещанию.
ВТОРОЙ РАССКАЗ, написанный Мэтью Бреффом, стряпчим с Грейс-Инн-сквер
Глава I
Мой прекрасный друг, мисс Клак, положила перо; я принимаюсь за него тотчас после нее по двум причинам.
Во-первых, потому, что могу пролить необходимый свет на некоторые пункты, до сих пор остававшиеся во мраке. Мисс Вериндер имела свои тайные причины разойтись с женихом, и я был тому виною. Мистер Годфри Эбльуайт имел свои причины отказаться от всяких прав на руку своей очаровательной кузины, и я открыл их.
Во-вторых, уж не знаю, к счастью или к несчастью, но в тот период, о котором я теперь пишу, я сам оказался замешанным в тайну индийского алмаза. Я имел честь увидеть у себя в конторе иностранца с необыкновенно изящными манерами, который, бесспорно, был не кем иным, как главарем трех индусов. Прибавьте к этому, что на следующий день я свиделся со знаменитым путешественником, мистером Мертуэтом и имел с ним разговор о Лунном камне, оказавший важное влияние на последующие события. Вот краткий перечень моих прав на то положение, которое я занимаю на этих страницах.
Подлинная причина разрыва помолвки хронологически всему этому предшествовала и должна, следовательно, занять первое место и в настоящем рассказе. Озирая всю цепь событий с одного конца до другого, я нахожу необходимым начать свой рассказ со сцены, — как ни странно это вам покажется, — у постели моего превосходного клиента и друга, покойного сэра Джона Вериндера.
Сэр Джон имел свою долю — может быть, слишком большую долю — самых безвредных и симпатичных слабостей, свойственных человечеству. Среди этих слабостей упомяну об одной, относящейся к настоящему делу: о непреодолимом нежелании, — пока он находился в добром здоровье, — написать завещание.
Леди Вериндер употребила все свое влияние, чтоб побудить его выполнить свой долг; пустил и я в ход свое влияние. Он согласился со справедливостью нашего взгляда, но дальше этого не пошел, пока с ним не приключилась болезнь, которая впоследствии свела его в могилу. Тогда наконец за мною послали, чтобы выслушать решение моего клиента относительно завещания. Оно оказалось самым простым, какое я когда-либо выслушивал за всю свою юридическую карьеру.
Сэр Джон дремал, когда я вошел в комнату. Он проснулся, увидя меня.
— Как вы поживаете, мистер Брефф? — спросил он. — Я буду очень краток, а потом опять засну.
С большим интересом наблюдал он, как я вынимал перья, чернила и бумагу.
— Вы готовы? — спросил он.
Я поклонился, обмакнул перо и ждал указаний.
— Я оставляю все своей жене, — сказал сэр Джон. — Вот и все.
Он повернулся на своей подушке и приготовился опять заснуть. Я вынужден был потревожить его.
— Так ли я понимаю? — спросил я. — Вы оставляете все свое имущество, которым владеете по сей день, в полную собственность леди Вериндер?
— Да, — ответил сэр Джон, — только я выразился гораздо короче. Почему вы не можете написать покороче и дать мне опять заснуть? Все — моей жене.
Вот мое завещание.
Его имущество находилось в полном его распоряжении и было двух родов: земельное (я нарочно не употребляю юридических выражений) и денежное. В большинстве случаев подобного рода я счел бы своим долгом просить моего клиента обдумать свое завещание. Но в данном случае я знал, что леди Вериндер не только достойна безусловного доверия (все добрые жены этого достойны), но и оправдает это доверие надлежащим образом (на что, насколько я знаю прекрасный пол, способна одна из тысячи). В десять минут завещание сэра Джона было написано и засвидетельствовано, а сам сэр Джон повернулся и продолжал прерванный сон.
Леди Вериндер вполне оправдала доверие, оказанное ей мужем. В первые же дни вдовства она послала за мною и сделала свое завещание. Ее понимание своего положения было настолько здраво и умно, что не было никакой надобности ей что-либо советовать. Ответственность моя началась и кончилась переложением ее указаний в юридическую форму. Не прошло и двух недель, как сэр Джон сошел в могилу, а будущность его дочери была обеспечена с любовью и умом.
Завещание пролежало в моей конторе, в несгораемом шкафу, гораздо менее того времени, нежели мне хотелось бы. Уже летом тысяча восемьсот сорок восьмого года пришлось мне взглянуть на него опять, при весьма грустных обстоятельствах.
В то время, о котором я говорю, доктора вынесли бедной леди Вериндер свой приговор, который в буквальном смысле можно назвать смертным приговором. Мне первому сообщила она о своем положении и пожелала пересмотреть свое завещание вместе со мною.
Невозможно было лучше обеспечить положение своей дочери. Но с течением времени ее намерения наградить некоторых менее близких родственников несколько изменились, и стало необходимо прибавить три или четыре пункта к документу. Сделав это тотчас, во избежание непредвиденных случайностей, я получил разрешение леди Вериндер перенести эти последние инструкции во второе завещание.
Засвидетельствование второго завещания было описано мисс Клак, которая подписалась на нем в качестве свидетельницы. Относительно денежных интересов Рэчель Вериндер второе завещание было слово в слово дубликатом первого. Единственное изменение коснулось назначения нового опекуна. После смерти леди Вериндер я отдал завещание моему поверенному, чтобы он зарегистрировал его, как это у нас принято.
Спустя три недели, насколько помню, пришли первые сведения о том, что происходит нечто необыкновенное. Мне случилось зайти в контору моего поверенного и друга, и я заметил, что он принял меня с большим, чем всегда, интересом.
— У меня есть для вас новость, — сказал он. — Как вы думаете, что услышал я сегодня утром в Докторс-Коммонс?[2] Завещание леди Вериндер уже спрашивали и рассматривали!
Это, действительно, была любопытная новость. В завещании не имелось решительно ничего, возбуждающего спор, и я не мог придумать, кому интересно его рассматривать.
— А вы узнали, кто спрашивал завещание? — спросил я.
— Да, клерк сказал это мне без малейшей нерешительности. Завещание рассматривал мистер Смолли, из фирмы Скипп и Смолли. Оно еще не было внесено в список. Стало быть, ничего не оставалось делать, — пришлось показать ему оригинальный документ. Он посмотрел его очень старательно и переписал к себе в записную книжку. Имеете вы какое-нибудь понятие о том, что ему было нужно?
Я покачал головой.
— Нет, но узнаю, — ответил я, — и сегодня же! — И тотчас вернулся в свою контору.
Если бы этот непонятный интерес к завещанию моей покойной клиентки проявила другая фирма, мне, быть может, стоило бы труда сделать необходимые открытия. Но на Скиппа и Смолли я имел влияние, так что тут мне сравнительно легко было действовать. Мой собственный клерк (чрезвычайно способный и превосходный человек) был братом мистера Смолли, и по милости этой косвенной связи Скипп и Смолли уже несколько лет подбирали падавшие с моего стола крохи — то есть те дела, которые попадали в мою контору и которые я по разным причинам не хотел вести лично. Мое профессиональное покровительство было в этом отношении довольно важно для фирмы. Я намеревался, если будет нужно, напомнить им об этом покровительстве в настоящем случае.
Как только я вернулся в контору, я рассказал моему клерку о том, что случилось, и послал его к Скиппу и Смолли со следующим поручением: “Мистер Брефф приказал кланяться и сообщить вам, что он желал бы знать, почему господа Скипп и Смолли нашли необходимым рассматривать завещание леди Вериндер”.
Это заставило мистера Смолли тотчас же прийти в мою контору. Он признался, что действовал по инструкциям, полученным от клиента. А потом прибавил, что он не может сказать более, потому что нарушает данное им слово молчать.
Мы порядком поспорили насчет этого. Конечно, был прав он, а не я.
Сказать по правде, я был рассержен, у меня пробудилось подозрение, и я настойчиво стремился узнать больше. Кроме того, я отказался считать это тайной, вверенной мне, и требовал полной свободы действий для себя. Более того, я захотел извлечь неоспоримые выгоды из своего положения.
— Выбирайте, сэр, — сказал я мистеру Смолли, — между риском лишиться дел или вашего клиента, или моих.
Согласен, что это совершенно не извинительно, — деспотический нажим и ничего более. Подобно всем другим деспотам, я настоял на своем. Мистер Смолли сделал выбор без малейшей нерешительности. Он покорно улыбнулся и назвал имя своего клиента:
— Мистер Годфри Эбльуайт.
Этого было довольно, мне не нужно было знать больше.
Дойдя до этого пункта в моем рассказе, я должен посвятить читателя этих строк в содержание завещания леди Вериндер.
Говоря коротко, по этому завещанию Рэчель Вериндер не могла пользоваться ничем, кроме пожизненного дохода. Превосходный здравый смысл ее матери и моя продолжительная опытность освободили ее от всякой ответственности и предохранили от всякой опасности сделаться жертвой алчного и бессовестного человека. Ни она, ни ее муж (если бы она вышла замуж) не могли взять и шести пенсов ни из дохода от земли, ни из капитала. Они могли жить в лондонском и йоркширском доме и иметь хороший доход — вот и все.
Когда я обдумал то, что узнал, я стал в тупик: что же мне делать? Еще и недели не прошло с того дня, когда я услышал (к моему удивлению и огорчению) о помолвке мисс Вериндер. Я искренно восхищался ею и любил ее, и мне было невыразимо грустно услышать, что она решилась выйти замуж за мистера Годфри Эбльуайта. И вот теперь этот человек, — которого я всегда считал лжецом с хорошо подвешенным языком, — оправдал мое самое худшее о нем мнение и прямо открыл, что он женится с корыстной целью. Что ж такое? — можете вы сказать. — Это делается каждый день. Согласен, любезный сэр.
Но приняли бы вы это с тою же легкостью, если бы дело шло о вашей сестре?
Первое соображение, которое должно было прийти мне в голову, состояло в следующем: не откажется ли мистер Годфри Эбльуайт от своей невесты после того, что узнал стряпчий по его поручению? Это целиком зависело от его денежных обстоятельств, о которых я ничего не знал. Если дела его были просто очень плохи, ему выгодно было жениться на мисс Рэчель ради одного только ее дохода. Если, с другой стороны, ему было необходимо срочно достать большую сумму к определенному сроку, тогда завещание леди Вериндер достигло своей цели и не допустит ее дочь попасть в руки мошенника.
В последнем случае мне не было никакой необходимости огорчать мисс Рэчель в первые же дни ее траура по матери, немедленно обнаружив перед ней истину. Но в первом случае промолчать — значило способствовать браку, который сделает ее несчастной на всю жизнь.
Мои сомнения кончились в той самой лондонской гостинице, где остановились миссис Эбльуайт и мисс Вериндер. Они сообщили мне, что едут в Брайтон на следующий день и что какое-то неожиданное препятствие помешало мистеру Годфри Эбльуайту сопровождать их. Я тотчас предложил занять его место. Когда я лишь думал о Рэчель Вериндер, я еще мог колебаться. Когда я увидел ее, я тотчас решил, — что бы ни вышло из этого, — сказать ей правду. Случай представился, когда мы вместе отправились на прогулку на другой день после моего приезда в Брайтон.
— Могу я поговорить с вами, — спросил я, — о вашей помолвке?
— Да, — ответила она равнодушно, — если у вас нет ничего интереснее для разговора.
— Простите ли вы старому другу и слуге вашей семьи, мисс Рэчель, если я осмелюсь спросить, по любви ли выходите вы замуж?
— Я выхожу замуж с горя, мистер Брефф, надеясь на тихую пристань, которая сможет примирить меня с жизнью.
Сильно сказано! И под этими словами, вероятно, таится нечто, намекающее на роман. Но у меня была своя тема для разговора, и я не стал отклоняться (как мы, юристы, выражаемся) от основного русла.
— Мистер Годфри Эбльуайт вряд ли думает так, как вы, — сказал я. — Он-то, по крайней мере, женится по любви?
— Он так говорит, и мне кажется, что я должна ему верить. Он не женился бы на мне после того, в чем я ему призналась, если бы не любил меня.
Задача, которую я сам себе задал, начала казаться мне гораздо труднее, чем я ожидал.
— Для моих старых ушей, — продолжал я, — очень странно звучит…
— Что странно звучит? — спросила она.
— Тон, каким вы говорите о вашем будущем муже, доказывает, что вы не совсем уверены в искренности его чувства. Есть у вас какие-нибудь основания сомневаться в нем?
Удивительная быстрота соображения помогла ей сразу подметить перемену в моем голосе или в моем обращении при этом вопросе, — перемену, показавшую ей, что я преследую какую-то свою цель в разговоре. Она остановилась, выдернула свою руку из моей руки и пристально посмотрела на меня.
— Мистер Брефф, — сказала она, — вы хотите что-то сказать о Годфри Эбльуайте. Говорите.
Я знал ее настолько, что, не колеблясь, рассказал ей все.
Она опять взяла меня под руку и медленно пошла со мною. Я чувствовал, как рука ее машинально все крепче и крепче сжимает мою руку, и видел, как, слушая меня, сама она становится все бледнее и бледнее. Когда я кончил, она долго хранила молчание. Слегка потупив голову, она шла возле меня, не сознавая моего присутствия, поглощенная своими мыслями. Я не пытался ее отвлекать от них. Мое знание ее натуры подсказывало мне, как в других таких же случаях, что ей надо дать время прийти в себя.
Мы прошли около мили, прежде чем Рэчель очнулась от задумчивости. Она вдруг взглянула на меня со слабым проблеском прежней счастливой улыбки — улыбки, самой неотразимой из всех, какие я видел на женском лице.
— Я уже многим обязана вашей доброте, — сказала она, — а теперь чувствую себя гораздо более обязанной вам, чем прежде. Если вы услышите, вернувшись в Лондон, разговоры о моем замужестве, тотчас же опровергайте их от моего имени.
— Вы решили разойтись с вашим женихом? — спросил я.
— Можете ли вы сомневаться в этом, — гордо возразила она, — после того, что сказали мне?
— Милая мисс Рэчель, вы очень молоды и, может быть, встретите больше трудностей при выходе из этого положения, нежели ожидаете. Нет ли у вас кого-нибудь, — я имею в виду даму, — с кем вы могли бы посоветоваться?
— Нет.
Я был огорчен, я действительно был огорчен, услышав это. Так молода и так одинока, и так стойко переносила это! Желание помочь ей победило во мне сознание неловкости, которую мог бы почувствовать при подобных обстоятельствах, и я высказал ей мысли, пришедшие мне в голову под влиянием минуты. В моей жизни мне приходилось давать советы бесчисленному множеству клиентов и справляться с чрезвычайно щекотливыми обстоятельствами. Но это был первый случай, когда я должен был советовать молодой девушке, как освободиться от слова, данного жениху. Совет, поданный мною, вкратце был таков: сказать мистеру Годфри Эбльуайту — разумеется, наедине, — что ей стала достоверно известной корыстолюбивая цель его сватовства к ней, что брак их после этого стал просто невозможен, и она предлагает ему на выбор: обеспечить себя ее молчанием, согласившись на разрыв помолвки, или иначе она будет вынуждена разгласить истинную причину разрыва. В случае же, если он вздумает защищаться или опровергать факты, она должна его направить ко мне.
Мисс Вериндер внимательно выслушала меня. Потом очень мило поблагодарила за совет и ответила, что ей невозможно последовать ему.
— Могу я спросить, — сказал я, — какое препятствие имеется к этому?
Она, видимо, колебалась, а потом с своей стороны задала мне вопрос:
— Что, если бы вас попросили высказать мнение о поведении мистера Годфри Эбльуайта? — сказала она.
— Да?
— Как бы вы назвали его?
— Я назвал бы его поведением низкого обманщика.
— Мистер Брефф, я верила этому человеку. Я обещала быть женою этого человека. Как могу я сказать ему, что он низок, что он обманул меня, как могу я обесславить его в глазах света после этого? Я уронила себя в собственном своем мнении, думая о нем, как о будущем муже. Сказать ему сейчас то, что вы советуете, значит сознаться перед ним в собственном унижении. Я не могу этого сделать! Стыд не будет иметь никакого значения для него. Но этот стыд будет нестерпим для меня.
Тут обнаружилась одна из замечательных особенностей ее характера.
Крайнее отвращение ко всему низменному, уверенность в том, что она всем обязана самой себе, могут поставить ее в фальшивое положение и скомпрометировать во мнении всех друзей. До этого я немного сомневался, приличен ли данный мною совет, но после ее слов я уверился, что это самый лучший совет в ее положении, и без всяких колебаний стал опять уговаривать ее последовать ему. Она только покачала головой и опять повторила свои доводы.
— Но, дорогая мисс Рэчель, — возразил я, — невозможно объявить ему о разрыве, не приводя для этого никаких резонов!
— Я скажу, что передумала обо всем и нашла, что для нас обоих лучше расстаться.
— И ничего, кроме этого?
— Ничего.
— Подумали вы, что он может сказать со своей стороны?
— Он может сказать, что ему угодно.
В душе моей толпились странные, противоречивые чувства к Рэчель, когда я оставил ее в этот день. Она была упряма, она была не права. Она была интересна, она была удивительна, она была достойна глубокого сожаления. Я взял с нее обещание написать мне, как только у нее будет что сообщить, и вернулся в Лондон в чрезвычайно тревожном состоянии духа.
В вечер моего возвращения, когда еще не могло прийти обещанное письмо, я был удивлен посещением мистера Эбльуайта-старшего, сообщившего мне, что мистер Годфри получил отказ и принял его — в этот же самый день.
С моей точки зрения, простой факт, заключавшийся в словах, подчеркнутых здесь мною, объяснял причину согласия мистера Годфри Эбльуайта так же ясно, как если б он признался в ней сам. Ему нужна была большая сумма денег, и нужна к известному сроку. Доход Рэчель мог помочь во всем другом, но не в этом, и вот почему Рэчель освободилась от него, не встретив ни малейшего сопротивления с его стороны. Если мне скажут, что это простое предположение, я спрошу в свою очередь: какое другое предположение объяснит, почему он отказался от брака, который доставил бы ему богатство на всю остальную жизнь?
Радость, испытанная мною при столь счастливом обороте, омрачилась тем, что произошло во время моего свидания со стариком Эбльуайтом.
Он приехал, разумеется, узнать, не могу ли я объяснить ему странный поступок мисс Вериндер. Бесполезно говорить, что я никак не мог доставить ему нужных сведений. Досада, которую я возбудил в нем, и раздражение, вызванное недавним свиданием с сыном, заставили мистера Эбльуайта потерять самообладание. И лицо его, и слова убедили меня, что мисс Вериндер найдет в нем безжалостного человека, когда он приедет к ней в Брайтон на следующий день.
Я провел тревожную ночь, соображая, что мне теперь делать. Чем кончились эти размышления и как они оправдали мое недоверие к старшему мистеру Эбльуайту, уже рассказано (насколько мне известно) в надлежащем месте этой добродетельной особой, мисс Клак. Мне остается только добавить к ее рассказу, что мисс Вериндер нашла спокойствие и отдых, в которых она, бедняжка, сильно нуждалась, в моем доме в Хэмпстеде. Она сделала нам честь, остановившись у нас погостить продолжительное время. Жена моя и дочери были ею очарованы, а когда душеприказчики избрали нового опекуна, я почувствовал искреннюю гордость и удовольствие при мысли, что моя гостья и мое семейство расстались добрыми друзьями.
Глава II
Теперь мне остается сообщить те дополнительные сведения, какие мне известны о Лунном камне или, говоря правильнее, о заговоре индусов. То немногое, что остается мне сказать (кажется, я уже говорил об этом), все-таки довольно важно из-за примечательного отношения к событиям, ожидающим нас впереди.
Через неделю или дней через десять после того, как мисс Вериндер оставила нас, один из клерков вошел в мой частный кабинет с карточкой в руке и сообщил мне, что какой-то господин ждет внизу и желает со мною говорить.
Я взглянул на карточку. Там стояла иностранная фамилия, уже ускользнувшая из моей памяти. Под фамилией были написаны по-английски слова, которые я запомнил очень хорошо: “Рекомендован мистером Септимусом Люкером”.
Дерзость такого человека, как мистер Люкер, осмелившегося рекомендовать кого-то мне, до того удивила меня, что я с минуту сидел молча, спрашивая себя, не обманули ли меня мои глаза. Клерк, заметив мое удивление, счел нужным поделиться со мной результатом своих собственных наблюдений над иностранцем, ожидавшим внизу:
— Это человек замечательной наружности, сэр; такой смуглый, что все мы в конторе приняли его за индуса или кого-нибудь в этом же роде.
Мысленно связав мнение клерка с обидной для меня строчкой на карточке, которую я держал в руке, я тотчас подумал, что рекомендация мистера Люкера и посещение иностранца относятся к Лунному камню. К удивлению моего клерка, я решился немедленно принять господина, ждавшего внизу.
В оправдание в высшей степени непрофессиональной жертвы, принесенной мною любопытству, позволяю себе напомнить каждому, кто будет читать эти строки, что ни один человек (в Англии, по крайней мере) не мог бы притязать на более тесную связь с историей Лунного камня, нежели я.
Полковник Гернкастль доверил мне план, составленный им, чтобы избегнуть смерти от руки мстителей. Я получал письма полковника, периодически сообщавшие, что он жив. Я писал его завещание, в котором он отказывал Лунный камень мисс Вериндер. Я уговорил душеприказчика не отказываться от возложенной на него обязанности, поскольку этот алмаз может оказаться драгоценным приобретением для его семьи. Наконец, я преодолел нерешимость мистера Фрэнклина Блэка и уговорил его отвезти алмаз в дом леди Вериндер.
Думаю, что никто не сможет опровергнуть мое право больше всех интересоваться Лунным камнем.
В ту же минуту, как мой таинственный клиент был введен в комнату, я почувствовал внутреннее убеждение, что нахожусь в присутствии одного из трех индусов, — вероятно, начальника. Он был тщательно одет в европейскую одежду. Но смуглого цвета лица, длинной, гибкой фигуры, серьезной и грациозной вежливости обращения было достаточно, чтобы обнаружить его восточное происхождение для всякого наблюдательного взгляда.
Я указал ему на стул и попросил сообщить, что привело его ко мне.
После первых извинений (в самых отборных английских выражениях) в том, что осмелился побеспокоить меня, индус вынул небольшой сверток, обернутый золотой парчой. Сняв эту и еще другую обертку, из какой-то шелковой ткани, он поставил на стол крошечный ящичек или шкатулочку, красиво и богато выложенную драгоценными камнями по эбеновому дереву.
— Я пришел просить вас, сэр, — сказал он, — дать мне взаймы денег. А это я оставлю вам в залог.
Я указал на его карточку.
— Вы обратились ко мне по рекомендации мистера Люкера? — спросил я.
Индус поклонился.
— Могу я спросить, почему сам мистер Люкер не дал вам денег?
— Мистер Люкер сказал мне, сэр, что у него нет денег.
— И он посоветовал вам обратиться ко мне?
Индус в свою очередь указал на карточку:
— Так здесь написано.
Краткий и точный ответ! Будь Лунный камень у меня, я твердо уверен, этот восточный джентльмен убил бы меня без малейшего колебания. И в то же время, за исключением упомянутого неприятного маленького обстоятельства, должен сказать, то был поистине образцовый клиент. Может быть, он не пожалел бы моей жизни, но он сделал то, чего никто из моих соотечественников не делал никогда, — он пожалел мое время.
— Мне жаль, — сказал я, — что вы побеспокоились явиться ко мне. Мистер Люкер ошибся, послав вас сюда. Мне поручают, как и другим людям моей профессии, давать деньги взаймы. Но я никогда не даю их людям, неизвестным мне, и под такой залог, как ваш.
Совершенно не пытаясь, как это сделали бы другие, уговаривать меня поступить против моих правил, индус еще раз поклонился и завернул свою шкатулку в обе обертки, ни слова не говоря. Он встал, этот удивительный убийца, встал в ту самую минуту, как я ответил ему!
— Будете ли вы снисходительны к иностранцу, разрешив мне задать один вопрос, — сказал он, — прежде чем я уйду?
Я поклонился с своей стороны. Только один вопрос на прощанье! А мне задают их обычно пятьдесят!
— Предположим, сэр, что вы дали бы мне денег взаймы, — сказал он, — в какой именно срок я должен был бы вернуть их вам?
— По обычаю нашей страны, — ответил я, — вы были бы обязаны вернуть долг (если бы захотели) через год, день в день.
Индус отвесил мне последний поклон, ниже прежнего, и вдруг бесшумно вышел из комнаты.
Это произошло в одно мгновенье, — он выскользнул тихой, гибкой, кошачьей походкой, которая, признаюсь, немного испугала меня. Как только я пришел в себя настолько, чтобы начать думать, я вывел одно ясное заключение по поводу непонятного гостя, удостоившего меня своим посещением.
Лицо, голос и обращение его во время нашей беседы были так сдержанны, что казались непроницаемыми. Но было одно мгновение, когда он все-таки дал мне заглянуть под эту маску. Он не выказывал ни малейшего признака интереса ни к чему из сказанного мною, пока я не упомянул, в какой срок должник обязан вернуть взятую им ссуду. Только тогда он взглянул мне впервые прямо в лицо. Из этого я заключил, что он задал мне этот последний вопрос с особой целью, у него был особый интерес услышать мой ответ. Чем дольше размышлял я о нашем разговоре, тем сильнее подозревал, что принесенная шкатулка и просьба о займе были простым предлогом, пущенным в ход для того, чтобы проложить путь к последнему вопросу, заданному мне.
Уверовав в справедливость такого заключения, я постарался сделать дальнейший шаг и угадать причину прихода индуса. Тут мне как раз принесли письмо от самого Септимуса Люкера. Он просил у меня прощения в выражениях противно раболепных и уверял меня, что может все объяснить удовлетворительным для меня образом, если я удостою его личной встречи.
Еще раз пожертвовав делами ради простого любопытства, я назначил ему свидание в моей конторе на следующий день.
Мистер Люкер оказался во всех отношениях гораздо ниже индуса, — он был такой пошлый, такой безобразный, такой раболепный, что его не стоит подробно описывать на этих страницах. Вот сущность того, что он мне сказал:
— Накануне своего визита ко мне этот изящный джентльмен удостоил своим посещением мистера Люкера. Несмотря на его европейский костюм, мистер Люкер тотчас узнал в своем госте начальника трех индусов, которые, как помнит читатель, надоедали ему, шатаясь около его дома, так что ему пришлось подать на них в суд. Сделав это изумительное открытие, он пришел к заключению, — признаюсь, довольно естественному, — что индус непременно принадлежит и к шайке тех трех людей, которые завязали ему глаза, заткнули рот и отняли у него расписку банкира. В результате он оцепенел от ужаса и твердо уверовал, что пришел его последний час. Индус, со своей стороны, сохранял вид совершенно незнакомого человека. Он вынул маленькую шкатулочку и обратился к мистеру Люкеру с точно такою же просьбой, с какой обратился ко мне. Желая поскорей избавиться от него, мистер Люкер тотчас ответил, что у него нет денег. Тогда индус попросил его назвать человека, к которому было бы лучше и целесообразнее обратиться за займом. Мистер Люкер ответил, что лучше и целесообразнее в подобных случаях обращаться к стряпчему, пользующемуся хорошей репутацией. Индус попросил его назвать человека с такой репутацией и такой профессии, и мистер Люкер назвал меня, — по той простой причине, что, будучи крайне перепуган, он ухватился за первое припомнившееся ему имя.
— Пот лил с меня градом, сэр, — заключил этот несчастный. — Я сам не знал, что говорю. Надеюсь, вы не поставите мне этого в вину, сэр, принимая во внимание, что я был перепуган до смерти.
Я довольно любезно извинил этого человека. То был кратчайший способ освободиться от него. Когда он собрался уходить, я задержал его, чтобы задать один вопрос: не спросил ли индус чего-нибудь примечательного в ту минуту, когда уходил из дома мистера Люкера?
Да! Индус спросил мистера Люкера как раз о том, о чем, уходя, он спросил и меня.
Что означало это? Объяснение мистера Люкера не помогло мне. Собственная моя сообразительность, к которой я прибег, не помогла мне. В тот вечер я был приглашен на обед и пошел к себе наверх переодеться отнюдь не в приятном расположении духа. Я не подозревал, что дорога к себе наверх окажется для меня в данном случае дорогой к открытию.
Глава III
Главным лицом среди гостей, приглашенных к обеду, оказался мистер Мертуэт.
Когда он вернулся в Англию после всех своих странствований, общество очень заинтересовалось этим путешественником, как человеком, прошедшим через множество опасных приключений и избавившимся от них как бы для того, чтобы рассказывать о них. Теперь он объявил, что намерен снова вернуться на арену этих подвигов и проникнуть в области, совершенно еще неизведанные. Такое великолепное равнодушие к опасностям, которым он готов был вторично подвергнуть свою жизнь, подняло ослабевший было интерес к культу этого героя. Теория вероятности была явно против возможности нового спасения для него. Не каждый день удается вам встречаться за обедом с замечательным человеком и чувствовать, что скоро вы услышите известие об его убийстве.
Когда мужчины остались в столовой одни, я оказался поблизости от мистера Мертуэта. Стоит ли упоминать, что, будучи сплошь англичанами, все гости, как только присутствие дам перестало их стеснять, пустились в разговоры о политике.
В отношении этого всепоглощающего национального фетиша, я один из самых нетипичных англичан, когда-либо живших на свете. Разговор о политике, как правило, кажется мне самым скучным и бесполезным из разговоров. Взглянув на мистера Мертуэта, когда бутылка обошла первый раз вокруг стола, я увидел, что и он, по-видимому, разделяет мой образ мыслей. Он делал это крайне осторожно, со всем уважением к чувствам своего хозяина, но тем не менее было заметно, что он собирается вздремнуть. Мне пришло в голову попытаться разогнать его сон разговором о Лунном камне и, если это удастся, посмотреть, что он думает о новом осложнении индусского заговора, происшедшем в прозаической обстановке моей конторы.
— Если я не ошибаюсь, мистер Мертуэт, — начал я, — вы были знакомы с покойной леди Вериндер и как будто заинтересовались странными событиями, кончившимися пропажею Лунного камня.
Знаменитый путешественник сделал мне честь тотчас очнуться от своей дремоты и осведомиться, кто я таков. Я сообщил ему о моих отношениях с семьей Гернкастлей, не забыв упомянуть и о том странном положении, которое я занимал относительно полковника и его алмаза. Мистер Мертуэт повернулся на своем стуле так, чтобы оставить за своей спиной всю компанию (и консерваторов и либералов), и сосредоточил все свое внимание на мистере Бреффе, простом стряпчем, жительствующем на Грейс-Инн-сквер.
— Слышно ли было что-нибудь за последнее время об индусах? — спросил он.
— У меня есть все основания полагать, что один из них имел вчера свидание со мной в моей конторе, — ответил я.
Мистера Мертуэта не так-то легко было удивить, но этот мой ответ совершенно поразил его. Я рассказал, что случилось с мистером Люкером и что случилось со мною, точь-в-точь, как описал выше.
— Ясно, что прощальный вопрос индуса имел какую-то цель, — прибавил я.
— Почему ему так хотелось знать, в какой срок должник обязан заплатить свой долг?
— Возможно ли, что вы не понимаете причины, мистер Брефф?
— Стыжусь своей глупости, мистер Мертуэт, но не понимаю.
Знаменитому путешественнику захотелось исследовать до самого дна глубину моей глупости.
— Позвольте мне задать вам один вопрос, — сказал он. — В каком положении находится сейчас заговор, имеющий целью похищение Лунного камня?
— Не могу этого сказать, — ответил я. — Заговор индусов для меня тайна.
— Заговор индусов, мистер Брефф, тайна для вас только потому, что вы никогда не смотрели на него серьезно. Давайте разберем его с вами вместе, с того времени, как вы составили завещание полковника Гернкастля, и до той минуты, когда индус пришел к вам в контору. В вашем положении семейного юриста может оказаться очень важным, чтобы вы могли, если это понадобится для интересов мисс Вериндер, иметь ясное понимание всего дела. С этой точки зрения, скажите, что вам интересней — подойти ли постепенно к пониманию побудительных причин индусов, или вы хотите, чтобы я избавил вас от хлопот самостоятельного логического анализа и сразу сообщил вам, что сам думаю?
Бесполезно говорить, что я вполне оценил практический смысл первого из двух предложений и выбрал именно его.
— Очень хорошо, — сказал мистер Мертуэт. — Коснемся прежде всего возраста трех индусов. Могу поручиться, что все они кажутся одних лет, — решите сами, не показался ли вам посетивший вас индус в самой цветущей поре жизни? Вы думаете, ему нет и сорока лет? Я и сам так думаю. Скажем, что ему нет еще сорока лет. Теперь оглянитесь на то время, когда полковник Гернкастль приехал в Англию и когда вы были втянуты в план, придуманный им для сохранения своей жизни. Я не заставлю вас считать годы. Я только скажу: ясно, что эти индусы по своим годам должны быть преемниками тех трех индусов (заметьте, мистер Брефф, все — брамины самой высокой касты!), которые последовали за полковником сюда. Очень хорошо. Эти наши индусы пришли на смену тем, что были здесь прежде них. Если бы речь шла только об этом, дело не представляло бы особого интереса. Но они сделали больше. Они сменили собою ту организацию, которую их предшественники установили в этой стране. Не пугайтесь. Я не сомневаюсь, что эта организация, по нашим понятиям, самое пустое дело. Она заключается в том, чтобы иметь в распоряжении деньги; пользоваться услугами англичан того подозрительного сорта, которые ведут в Лондоне загадочную жизнь; и, наконец, опираться на сочувствие тех немногих из своих соотечественников, которые ведут разнообразные дела в этом большом городе. Вы видите, что в этом нет ничего опасного. Но об этом стоит знать, потому что, может быть, мы найдем случай обратиться впоследствии к этой скромной маленькой индусской организации. После всех этих объяснений я задаю вопрос и жду, что ваша опытность поможет вам ответить на него. Как вы думаете, какое событие дало индусам первую возможность захватить алмаз?
— Первая возможность, — ответил я, — была дана им смертью полковника Гернкастля. Я полагаю, что они узнали о его смерти.
— Разумеется. Итак, вы говорите, эта смерть дала им первую возможность.
До того времени Лунный камень хранился в кладовой банкира. Вы придали законную форму завещанию полковника, оставлявшего драгоценность своей племяннице. Завещание было предъявлено обычным порядком. Как юрист, вы без труда догадались, что именно индусы могли (по совету англичан) предпринять после этого?
— Взять копию с завещания из Докторс-Коммонс! — сказал я.
— Именно. Тот или другой из подозрительных англичан, о которых я упомянул, достал для них копию. Из этой копии они узнали, что Лунный камень был завещан дочери леди Вериндер и что мистер Блэк-старший или человек, выбранный им, должен был отдать его в ее руки. Согласитесь, что все необходимые сведения о таких людях, как леди Вериндер и мистер Блэк, очень легко получить. Единственное затруднение для индусов состояло в том, чтобы решить, когда им сделать попытку похитить алмаз: во время ли изъятия его из банка, или позднее, когда его повезут в Йоркшир, в дом леди Вериндер. Второй способ, очевидно, был безопасней, и вот вам объяснение появления индусов, переодетых фокусниками, во Фризинголле. Бесполезно говорить, что лондонская организация держала их в курсе всех событий. Для этого достаточно было двух человек. Один должен был следить за тем, кто направился в банк из дома мистера Блэка. Другой, вероятно, угостил пивом слуг в доме мистера Блэка и узнал от них домашние новости. Таким простейшим способом они узнали, что мистер Фрэнклин Блэк был в банке и что он — единственный человек, поехавший оттуда к леди Вериндер. Что потом произошло в результате этих сведений, вы сами, вероятно, помните так же хорошо, как и я.
Я вспомнил, как Фрэнклин Блэк заметил чью-то слежку за собой на улице, как он вследствие этого ускорил время своего приезда в Йоркшир на несколько часов, и как (по милости превосходного совета старика Беттереджа) отдал алмаз во Фризинголлский банк, раньше чем индусы предполагали увидеть его в Йоркшире. До сих пор все было совершенно ясно.
Но поскольку индусы не знали о принятых предосторожностях, как могло случиться, что они не сделали ни единого покушения на дом леди Вериндер (в котором должен был, по их мнению, находиться алмаз) за все то время, какое прошло со дня приезда Фрэнклина Блэка до дня рождения Рэчель?
Предложив этот вопрос мистеру Мертуэту, я счел нужным добавить, что слышал о мальчике, о чернилах и обо всем остальном и что объяснение, основанное на теории ясновидения, неубедительно для меня.
— И для меня также, — ответил мистер Мертуэт. — Ясновидение в данном случае — просто проявление романтической стороны индусского характера. Для этих людей окружить утомительное и опасное задание в чужой стране элементами чудесного и сверхъестественного — значит освежить и успокоить душу. Согласен, что это совершенно непонятно для англичанина. Их мальчик, несомненно, — субъект, чувствительный к гипнотическому влиянию, и под этим влиянием он, несомненно, откликался на то, что чувствовал человек, гипнотизировавший его. Я изучил теорию ясновидения, и мне не удалось установить, чтобы практические ее проявления заходили далее этого пункта.
Индусы смотрят на этот вопрос иначе: индусы считают своего мальчика способным видеть предметы, невидимые для их собственных глаз, — и, повторяю, в этом чуде они находят источник нового интереса для достижения цели, объединяющей их. Я упоминаю об этом, только как о любопытной черте человеческого характера, совершенно новой для нас. При розысках, которыми мы теперь занимаемся с вами, нам нет сейчас никакого дела до ясновидения, месмеризма и всего прочего, во что трудно поверить практическому человеку.
Цель моя — проследить индусский заговор шаг за шагом и вывести заключение рациональными способами из естественных причин. Удалось ли мне удовлетворить ваше любопытство?
— Без всякого сомнения, мистер Мертуэт! Но я с нетерпением жду рационального объяснения той трудности, о которой сейчас вас спросил.
Мистер Мертуэт улыбнулся.
— Объяснить ее легче всего, — сказал он. — Позвольте мне для начала признать, что ваше объяснение дела было совершенно правильно. Индусы, без сомнения, не знали, что именно сделал мистер Фрэнклин Блэк с алмазом, потому что они совершили свою первую ошибку в первый же вечер приезда мистера Блэка в дом его тетки.
— Первую ошибку? — повторил я.
— Конечно! Ошибка их состояла в том, что они допустили Габриэля Беттереджа застать их на террасе вечером. Однако они сами тут же увидели свою ошибку, — потому что, как вы опять сказали, имея много времени в своем распоряжении, они не подходили к дому несколько недель после этого.
— Но почему, мистер Мертуэт? Вот что хотел бы я знать! Почему?
— Потому что ни один индус, мистер Брефф, не станет подвергать себя бесполезному риску. Пункт, написанный вами в завещании полковника Гернкастля, сообщил им (не правда ли?), что Лунный камень переходит в полную собственность мисс Вериндер в день ее рождения. Очень хорошо.
Скажите мне, как разумнее поступить людям в их положении? Сделать ли попытку похитить алмаз, пока он находится у мистера Фрэнклина Блэка, когда стало ясно, что он что-то подозревает и умеет перехитрить их, или подождать, пока алмаз будет в руках молодой девушки, которая с невинной радостью будет надевать эту великолепную вещь при всяком возможном случае?
Может быть, вам требуется доказательство справедливости моих слов? Пусть поведение индусов послужит вам этим доказательством. Они появились в доме, переждав все эти недели, в день рождения мисс Вериндер и были вознаграждены за свое терпение созерцанием Лунного камня на платье мисс Вериндер. Когда позднее в этот вечер я услышал историю полковника и алмаза, я был так уверен в исключительной опасности, какой подвергался мистер Фрэнклин (индусы непременно напали бы на него, если бы он вернулся в дом леди Вериндер один, а не в обществе других людей), и так сильно был убежден в еще худшей опасности, ожидающей мисс Вериндер, что посоветовал последовать плану полковника и уничтожить значение камня, разбив его на отдельные куски. Его необыкновенное исчезновение в ту ночь, сделавшее совет мой бесполезным и совершенно опровергнувшее индусский заговор, и дальнейшие действия индусов, приостановленные на следующий день заключением их в тюрьму, как мошенников и бродяг, — известны вам так же хорошо, как и мне. Здесь кончается первое действие заговора. Прежде чем идти дальше, могу ли я спросить, насколько объяснение мое удовлетворительно для практического человека?
Нельзя было отрицать, что он прекрасно разрешил для меня трудный вопрос, — и по милости своего знания индусского характера, и потому еще, что ему не пришлось, как мне, думать о сотне других завещаний после смерти полковника Гернкастля!
— Итак, — продолжал мистер Мертуэт, — первая возможность, представившаяся индусам, захватить алмаз была для них потеряна в тот день, когда их посадили во фризинголлскую тюрьму. Когда же представилась им другая возможность? Другая возможность представилась, — как я могу доказать, когда они еще сидели в тюрьме.
Он вынул свою записную книжку и раскрыл ее, прежде чем продолжать свой рассказ.
— В те дни я гостил у моих друзей во Фризинголле, — и за два дня до того, как индусов освободили (это было, кажется, в понедельник), тюремный смотритель пришел ко мне с письмом. Какая-то миссис Маканн, у которой они снимали квартиру, принесла это письмо в тюрьму для передачи одному из индусов, а самой миссис Маканн принес это письмо утром в дом почтальон.
Тюремные власти заметили, что штемпель на письме был лэмбетский и что адрес, хотя и написанный на правильном английском языке, как-то странно не соответствовал принятому у нас обычаю адресовать письма. Распечатав письмо, они увидели, что оно написано на иностранном языке — одном из языков Индии, как они предположили. Ко мне они пришли для того, чтобы я перевел им это письмо. Я скопировал в моей записной книжке и подлинник, и мой перевод, — оба они к вашим услугам.
Он подал мне развернутую книжку. Прежде всего был скопирован адрес письма. Он был написан сплошной фразой, без знаков препинания: “Трем индусам живущим у дамы называющейся Маканн во Фризинголле в Йоркшире”.
Затем следовал сам текст, а английский перевод стоял в конце и заключался в следующих таинственных словах:
“Именем правителя Ночи, который восседает на Сайге, руки которого обнимают четыре угла земли!
Братья, обернитесь лицом к югу, приходите ко мне на улицу многошумную, спускающуюся к грязной в о де!
Причина этому та:
Мои собственные глаза видели это”.
На том письмо и кончилось, не было ни числа, ни подписи. Я подал его обратно мистеру Мертуэту и признался, что этот любопытный образчик индусской корреспонденции поставил меня в тупик.
— Я могу объяснить вам первую фразу, — сказал он, — а поведение индусов объяснит остальное. Бог луны представлен в индусской мифологии четвероруким божеством, сидящим на антилопе, а один из его титулов — правитель Ночи. Здесь есть что-то подозрительно похожее на косвенный намек на Лунный камень. Теперь посмотрим, что сделали индусы, когда тюремные власти вручили им письмо. В тот самый день, как их освободили, они тотчас отправились на станцию железной дороги и заняли места в первом же поезде, отправлявшемся в Лондон. Мы все очень жалели во Фризинголле, что над дальнейшими поступками индусов не было установлено тайного наблюдения. Но после того как леди Вериндер отпустила сыщика и остановила дальнейшее следствие о пропаже алмаза, никто уже не мог ничего предпринять в этом деле. Индусам дана была воля ехать в Лондон, они в Лондон и поехали. Что потом мы узнали, мистер Брефф?
— Они стали надоедать мистеру Люкеру, — ответил я, — шатаясь около его дома в Лэмбете.
— Вы читали о том, как мистер Люкер обратился к судье?
— Да.
— Если вы припомните, он упомянул об иностранце, служившем у него, которого он только что уволил, заподозрив его в попытке воровства; он думал также, что этот иностранец действовал заодно с индусами, надоедавшими ему. Вывод, мистер Брефф, напрашивается сам собой: и относительно того, кто написал индусам письмо, поставившее вас сейчас в тупик; и о том, какую восточную драгоценность этот служащий покушался украсть у мистера Люкера.
Вывод, — как сам я поспешил сознаться, — был достаточно ясен, чтобы его еще разъяснять. Я никогда не сомневался, что Лунный камень попал в руки мистера Люкера именно в тот промежуток времени, о котором упоминал мистер Мертуэт. Единственный вопрос для меня в том, как могли индусы узнать об этом. Сейчас и этот вопрос — по-моему, самый трудный — получил разрешение, как и все остальные. Хоть я и юрист, я почувствовал, что мистер Мертуэт проведет меня с завязанными глазами по самым последним извилинам лабиринта, которым он вел меня до сих пор. Я сделал ему этот комплимент, и он любезно его принял.
— Сообщите и вы, в свою очередь, мне одно сведение, — попросил он. — Кто-то отвез Лунный камень из Йоркшира в Лондон и кто-то получил за него деньги, а то бы он не был в руках мистера Люкера. Известно ли уже, кто это сделал?
— Сколько мне известно, еще нет.
— Была какая-то улика — не так ли? — указывавшая на мистера Годфри Эбльуайта. Мне сказали, что он знаменитый филантроп, — это уж прямо говорит против него.
Я искренне согласился с мистером Мертуэтом. В то же время я почувствовал себя обязанным сообщить ему (бесполезно писать здесь, что я не назвал имени мисс Вериндер), что мистер Годфри Эбльуайт оправдался от всякого подозрения на основании показаний такого лица, за правдивость которого я мог поручиться.
— Очень хорошо, — спокойно произнес Мертуэт, — предоставим времени разъяснить это дело. А пока, мистер Брефф, мы должны вернуться к индусам.
Путешествие их в Лондоне кончилось тем, что они сделались жертвою другой неудачи. Потерю второй возможности похитить алмаз следует, по моему мнению, приписать хитрости и предусмотрительности мистера Люкера, недаром занимающегося прибыльным и старым ремеслом лихоимства! Поспешно отказав своему служащему, он лишил индусов помощи, которую их сообщник мог бы оказать им, впустив их в дом. Поспешно перенеся Лунный камень к своему банкиру, он озадачил заговорщиков прежде, чем они смогли составить новый план обокрасть его. Откуда догадались индусы о том, что было им сделано, и как они успели захватить расписку банкира — события, слишком свежие для того, чтобы стоило о них распространяться. Достаточно сказать, что они узнали, что Лунный камень опять ускользнул от них и был отдан (под общим названием драгоценной вещи) в кладовую банкиру. Какую же третью возможность, мистер Брефф, предвидят они для захвата алмаза и когда наступит она?
Когда этот вопрос сорвался с его губ, я догадался наконец, для чего индус приходил ко мне вчера.
— Вижу! — воскликнул я. — Индусы уверены, так же как и мы, что Лунный камень заложен, и им непременно нужно знать самый ранний срок выкупа залога, — потому что именно тогда-то алмаз и будет взят от банкира!
— Я предупредил вас, что вы сами сообразите все, мистер Брефф, если только дать вам возможность догадаться. Через год после того, как Лунный камень был заложен, индусы будут подстерегать третью возможность похитить его. Мистер Люкер сам сказал им, сколько времени им придется ждать, и вы своим уважаемым авторитетом подтвердили истину слов мистера Люкера. Когда, по вашему предположению, алмаз попал в руки заимодавца?
— В конце июня, — ответил я, — сколько мне помнится.
— А теперь тысяча восемьсот сорок восьмой год. Очень хорошо. Если неизвестное лицо, заложившее Лунный камень, может выкупить его через год, алмаз будет в руках этого человека в конце июня тысяча восемьсот сорок девятого года. В те дни я буду на тысячи миль от Англии и английских новостей. Но, может быть, вам стоило бы записать число и постараться быть в Лондоне в это время?
— Вы думаете, что случится что-нибудь серьезное? — спросил я.
— Я думаю, что я буду в большей безопасности, — ответил он, — среди свирепых фанатиков Центральной Азии, чем был бы, если бы переступил порог двери банка с Лунным камнем в кармане. Индусы два раза потерпели неудачу, мистер Брефф. Я твердо уверен, что они не потерпят неудачи в третий раз.
То были его последние слова. Принесли кофе; гости встали и разошлись по комнате, а мы поднялись наверх, к дамам.
Я записал число, и, быть может, не худо закончить рассказ, переписав сюда эту заметку:
“Июнь тысяча восемьсот сорок девятого года. Ожидать известий об индусах в конце этого месяца.”
Сделав это, я передаю перо, на которое не имею более права, тому, кто должен писать после меня.
ТРЕТИЙ РАССКАЗ, написанный Фрэнклином Блэком
Глава I
Весною тысяча восемьсот сорок девятого года я странствовал по Востоку; я только что изменил свои дорожные планы, составленные несколько месяцев назад и сообщенные тогда моему стряпчему и моему банкиру в Лондоне.
Это изменение вызвало необходимость послать моего слугу за письмами и векселями к английскому консулу в один из городов, который я уже раздумал посещать. Слуга мой должен был опять присоединиться ко мне в назначенное время и в назначенном месте. Непредвиденный случай, в котором он не был виноват, задержал его в пути. Целую неделю я и нанятые мною люди поджидали его у пределов пустыни. Наконец пропавший слуга появился перед входом в мою палатку, с деньгами и письмами.
— Боюсь, что привез вам дурные вести, сэр, — сказал он, указывая на одно из писем с траурной каймой, адрес на котором был написан рукою мистера Бреффа.
В подобных случаях нет ничего тяжелее неизвестности. Я распечатал письмо с траурной каймой раньше всех прочих. Оно уведомляло меня, что отец мой умер и что я стал наследником его огромного состояния. Богатство, переходившее в мои руки, приносило с собою ответственность; мистер Брефф упрашивал меня, не теряя времени, вернуться в Англию.
На рассвете следующего утра я был уже на пути к моей родине.
Портрет мой, нарисованный моим старым другом Беттереджем в то время, когда я уезжал из Англии, немного не точен, как мне кажется. Он по-своему серьезно перетолковал сатирические замечания своей барышни о моем заграничном воспитании и убедил себя, что действительно видел те французские, немецкие и итальянские стороны моего характера, над которыми и подшучивала моя веселая кузина и которым существовали разве только в воображении нашего доброго Беттереджа. Но, за исключением этого, должен признаться, что он написал истинную правду, я действительно был уязвлен в самое сердце обращением Рэчель и покинул Англию в первом порыве страдания, причиненного мне самым горьким разочарованием.
Решив, что перемена места и продолжительное отсутствие помогут мне забыть ее, я уехал за границу. Убежден, что человек, отрицающий благотворное действие перемены места и разлуки в подобных случаях, — неверно представляет себе человеческую природу. Перемена и разлука отвлекают внимание от всепоглощающего созерцания своего горя. Я не забывал Рэчель, но печаль воспоминания утрачивала мало-помалу свою горечь, по мере того как время, расстояние и новизна все больше и больше отделяли меня от Рэчель.
Но, с другой стороны, при возвращении моем на родину действие этого лекарства, так хорошо мне помогавшего, начало ослабевать. Чем более я приближался к стране, где она жила, и к возможности снова увидеться с ней, тем непреодолимее становилась ее прежняя власть надо мной. При отъезде из Англии последнее, что сорвалось с моих губ, было ее имя. По возвращении в Англию я прежде всего спросил о ней, когда встретился с мистером Бреффом.
Разумеется, мне рассказали все, что случилось в мое отсутствие, — другими словами, все, что было написано здесь как продолжение рассказа Беттереджа, исключая одно только обстоятельство. В то время мистер Брефф не считал себя вправе сообщить мне о причинах, побудивших Рэчель и Годфри Эбльуайта разорвать свою помолвку. Я не беспокоил его затруднительными вопросами об этом щекотливом предмете.
Для меня было достаточным облегчением узнать после ревнивого разочарования, возбужденного во мне известием об ее намерении сделаться женою Годфри, что размышление убедило ее в опрометчивости ее поступка и что она взяла назад свое слово.
Когда я выслушал о прошлом, мои последующие расспросы (все о Рэчель!) перешли к настоящему. На чьем попечении находилась она, оставив дом мистера Бреффа, и где жила она теперь?
Она жила у вдовствующей сестры покойного сэра Джона Вериндера, миссис Мерридью, которую душеприказчики ее матери просили быть опекуншей и которая согласилась принять это предложение. Мне сказали, что они отлично уживаются и что сейчас они устроились на весь сезон в доме миссис Мерридью на Портлэнд-плейс.
Спустя полчаса после того, как я узнал об этом, я отправился на Портлэнд-плейс, — не имея мужества признаться в этом мистеру Бреффу!
Слуга, отворивший дверь, не был уверен, дома ли мисс Вериндер. Я послал его наверх с моей визитной карточкой, чтобы скорее разрешить этот вопрос; слуга вернулся с непроницаемым лицом и сообщил мне, что мисс Вериндер нет дома.
Кого-нибудь другого я мог бы заподозрить в умышленном отказе увидеться со мной, но Рэчель подозревать было невозможно. Я сказал, что приду опять в шесть часов вечера. В шесть часов мне было сказано вторично, что мисс Вериндер нет дома. Не поручила ли она передать мне что-нибудь? Никакого поручения не было передано. Разве мисс Вериндер не получила моей карточки?
Мисс Вериндер ее получила.
Вывод был слишком ясен: Рэчель не хотела меня видеть.
С своей стороны и я не хотел, чтобы со мною обращались подобным образом, не сделав попытки узнать хотя бы причину этого. Я послал свою карточку миссис Мерридью, с просьбой назначить мне свидание в любое, удобное для нее время.
Миссис Мерридью приняла меня тотчас. Я был введен в красивую маленькую гостиную и очутился перед красивой маленькой пожилой дамой. Она была так добра, что выразила мне большое сочувствие и некоторое удивление. Но в то же время она не могла ни объяснить мне поведение Рэчель, ни попытаться уговорить ее, поскольку дело касалось, по-видимому, ее личных чувств. Она повторила все это несколько раз, с вежливым терпением, которого ничто не могло утомить. Вот все, что я выиграл, обратившись к миссис Мерридью.
Моей последней попыткой было написать Рэчель. Слуга отнес к ней письмо, получив строгий приказ дождаться ответа.
Ответ был принесен и заключался в одной фразе:
— Мисс Вериндер отказывается вступать в переписку с мистером Фрэнклином Блэком.
Как ни любил я ее, оскорбление, нанесенное мне таким ответом, вызвало во мне бурю негодования. Зашедший поговорить со мною о делах мистер Брефф застал меня еще не опомнившимся от пережитого.
Я тотчас отбросил все дела и откровенно рассказал ему обо всем. Мистер Брефф, подобно миссис Мерридью, по сумел дать мне удовлетворительного объяснения.
Я спросил его, не оклеветал ли меня кто-нибудь перед Рэчель? Мистер Брефф не знал ни о какой клевете. Не говорила ли она чего-нибудь обо мне, когда жила в доме мистера Бреффа? Никогда. Не спрашивала ли она во время моего долгого отсутствия, жив я или умер? Такого вопроса она не задавала.
Я вынул из бумажника письмо, написанное мне бедною леди Вериндер из Фризинголла в день моего отъезда из ее йоркширского поместья. Я обратил внимание мистера Бреффа на две фразы в этом письме:
“Драгоценная помощь, которую вы оказали следствию в поисках пропавшего алмаза, до сих пор кажется непростительной обидой для Рэчель при настоящем страшном состоянии ее души. Поступая слепо в этом деле, вы увеличили ее беспокойство, невинно угрожая открытием ее тайны вашими стараниями”.
— Возможно ли, — спросил я, — чтобы она и теперь была раздражена против меня так же, как прежде?
На лице мистера Бреффа выразилось непритворное огорчение.
— Если вы непременно настаиваете на ответе, — сказал он, — признаюсь, я не могу иначе истолковать ее поведение.
Я позвонил и велел слуге своему уложить вещи и послать за расписанием поездов. Мистер Брефф спросил с удивлением, что я намерен делать.
— Я еду в Йоркшир, — ответил я, — со следующим поездом.
— Могу я спросить, для чего?
— Мистер Брефф, помощь, которую я самым невинным образом оказал при поисках ее алмаза, была непростительным оскорблением для Рэчель год тому назад, и остается непростительным оскорблением до сих пор. Я не хочу подчиняться этому. Я решил узнать, почему она ничего не сказала матери и чем вызвана ее неприязнь ко мне. Если время, труды и деньги могут это сделать, я отыщу вора, укравшего Лунный камень!
Достойный старик попытался возражать, уговаривал меня послушаться голоса рассудка — словом, хотел исполнить свой долг передо мной. Но я остался глух ко всем его убеждениям. Никакие соображения на свете не поколебали бы в эту минуту моей решимости.
— Я буду продолжать следствие, — заявил я, — с того самого места, на котором остановился, и буду вести его шаг за шагом до тех пор, пока не дойду до решающего факта. В цепи улик недостает нескольких звеньев, после того как я оставил следствие, — их может дополнить Габриэль Беттередж. Я еду к Габриэлю Беттереджу!
В тот же вечер, на закате солнца, я опять очутился на хорошо знакомой мне террасе спокойного старого деревенского дома. Первым, кого я встретил в опустелом саду, был садовник. На мой вопрос, где Беттередж, он ответил, что видел его час назад греющимся в своем обычном уголке на заднем дворе.
Я хорошо знал этот уголок и сказал, что сам пойду и отыщу его.
Я пошел по знакомым дорожкам и заглянул в открытую калитку на двор.
Вот он — милый старый друг счастливых дней, которые никогда уже не вернутся; вот он — в прежнем своем уголке, на том же соломенном стуле, с трубкою во рту, с “Робинзоном Крузо” на коленях и со своими двумя друзьями-собаками, дремлющими у его ног. Я стоял так, что последние косые лучи солнца удлинили мою тень. Увидели ли собаки эту тень, или тонкое их чутье уловило мое приближение, но они, заворчав, вскочили. В свою очередь вздрогнув, старик одним окриком заставил их замолчать, а потом, прикрыв свои слабые глаза рукою, вопросительно посмотрел на человека, стоявшего в калитке.
Глаза мои наполнились слезами. Я принужден был переждать минуту, прежде чем решился с ним заговорить.
Глава II
— Беттередж, — произнес я наконец, указывая на хорошо знакомую книгу, лежавшую у него на коленях, — сообщил ли вам “Робинзон Крузо” в этот вечер о возможности увидеть Фрэнклина Блэка?
— Ей-богу, мистер Фрэнклин, — вскричал старик, — “Робинзон Крузо” именно так и сделал!
Он поднялся на ноги с моей помощью и с минуту постоял, то глядя перед собой, то озираясь назад, переводя взгляд с меня на “Робинзона Крузо” и обратно, словно не был уверен, кто же из нас двух поразил его более.
Книга, как всегда, одержала верх. Он смотрел на эту удивительную книгу с неописуемым выражением, будто надеясь, что сам Робинзон Крузо сойдет с этих страниц и удостоит нас личным свиданием.
— Вот место, которое я читал, мистер Фрэнклин, — произнес он, едва лишь вернулась к нему способность говорить, — и это так же верно, как то, что я вас вижу, сэр, — вот то самое место, которое я читал за минуту до вашего прихода! Страница сто пятьдесят шестая: “Я стоял, как пораженный громом, или как будто увидел призрак”. Если это не означает: “Ожидайте внезапного появления мистера Фрэнклина Блэка”, то английский язык вообще лишен смысла! — докончил Беттередж, шумно захлопнув книгу и освободив наконец руку, чтобы взять мою, которую я протягивал ему.
Я ожидал — это было бы очень естественно при настоящих обстоятельствах, — что он закидает меня вопросами. Но нет, чувство гостеприимства заняло главное место в душе старого слуги, когда член семейства явился (все равно, каким образом) гостем в дом.
— Пожалуйте, мистер Фрэнклин, — сказал он, отворяя дверь со своим характерным старомодным поклоном, — я спрошу попозднее, что привело вас сюда, а сначала должен устроить вас поудобнее. После вашего отъезда было много грустных перемен. Дом заперт, слуги отосланы. Но это неважно! Я сам приготовлю вам обед, жена садовника сделает вам постель, а если в погребе сохранилась бутылочка нашего знаменитого латурского кларета, содержимое ее попадет в ваше горло, мистер Фрэнклин. Милости просим, сэр, милости просим! — сказал бедный старик, мужественно отстаивая честь покинутого дома и принимая меня с гостеприимным и вежливым вниманием прошлых времен.
Мне было больно обмануть его ожидания. Но этот дом принадлежал теперь Рэчель. Мог ли я есть или спать в нем после того, что случилось в Лондоне?
Самое простое чувство уважения к самому себе запрещало мне — решительно запрещало — переступать через его порог.
Я взял Беттереджа за руку и повел его в сад. Нечего делать, я принужден был сказать ему всю правду. Он был очень привязан к Рэчель и ко мне, и его очень огорчил и озадачил оборот, какой приняло это дело. Он выразил свое мнение с обычной прямотой и со свойственной ему самой положительной философией в мире, какая только мне известна, — философией беттереджской школы.
— Мисс Рэчель имеет свои недостатки, я никогда этого не отрицал, — начал он. — И один из них — взять иногда высокую ноту. Она постаралась взять эту высокую ноту и с вами, — и вы это вынесли. Боже мой! Мистер Фрэнклин, неужели вы до сих пор мало знаете женщин? Слышали вы когда-нибудь от меня о покойной миссис Беттередж?
Я очень часто слышал от него о покойной миссис Беттередж, — он неизменно приводил ее как пример слабости и своеволия прекрасного пола. В таком виде выставил он ее и теперь.
— Очень хорошо, мистер Фрэнклин. Теперь выслушайте меня. У каждой женщины свои собственные прихоти. Покойная миссис Беттередж начинала горячиться всякий раз, как мне случалось отказывать ей в том, чего ей хотелось. Когда я в таких случаях приходил домой с работы, жена непременно кричала мне из кухни, что после моего грубого обращения с ней у нее не хватает сил приготовить мне обед. Я переносил это некоторое время так, как вы теперь переносите капризы мисс Рэчель. Но наконец терпение мое лопнуло.
Я отправился в кухню, взял миссис Беттередж — понимаете, дружески — на руки и отнес ее в нашу лучшую комнату, где она принимала гостей.
— “Вот твое настоящее место, душечка”, — сказал я и сам пошел на кухню.
Там я заперся, снял свой сюртук, за сучил рукава и состряпал обед. Когда он был готов, я сам себе подал его и пообедал с удовольствием. Потом я выкурил трубку, хлебнул грогу, а после прибрал со стола, вычистил кастрюли, ножи и вилки, убрал все это и подмел кухню. Когда было чисто и опрятно, я отворил дверь и пустил на кухню миссис Беттередж. “Я пообедал, душа моя, — сказал я, — надеюсь, ты найдешь кухню в самом лучшем виде, такою, как только можешь пожелать”. Пока эта женщина была жива, мистер Фрэнклин, мне никогда уже не приходилось стряпать самому обед. Из этого мораль: вы переносили капризы мисс Рэчель в Лондоне, не переносите же их в Йоркшире. Пожалуйте в дом!
Что было ответить на это? Я мог только уверить моего доброго друга, что даже его способности к убеждению пропали даром в данном случае.
— Вечер прекрасный, — сказал я, — и я пройдусь пешком во Фризинголл и остановлюсь в гостинице, а вас прошу завтра утром прийти ко мне позавтракать. Мне нужно сказать вам кое-что.
Беттередж с серьезным видом покачал головой.
— Искренно сожалею об этом, — сказал он, — я надеялся услышать, мистер Фрэнклин, что все идет гладко и хорошо между вами и мисс Рэчель. Если вы должны поступить по-своему, сэр, — продолжал он после минутного размышления, — то вам нет никакой надобности идти ночевать в Фризинголл.
Ночлег можно получить гораздо ближе. Готерстонская ферма только в двух милях отсюда. Против этого вы не можете ничего возразить, — лукаво прибавил старик. — Готерстон живет, мистер Фрэнклин, не на земле мисс Рэчель, а на своей собственной.
Я вспомнил это место, как только Беттередж назвал его. Ферма стояла в тенистой долине, на берегу самого красивого ручейка в этой части Йоркшира: у фермера были отдельные спальни и гостиная, которые он имел обыкновение отдавать внаймы художникам, удильщикам рыбы и туристам. Я не мог бы найти более приятного жилища на время моего пребывания в этих окрестностях.
— Комнаты отдаются внаймы? — спросил я.
— Сама миссис Готерстон, сэр, просила меня еще вчера рекомендовать ее комнаты.
— Я возьму их, Беттередж, с удовольствием.
Мы снова вернулись во двор, где я оставил свой дорожный мешок. Продев палку в его ремешки и подняв мешок на плечо, Беттередж снова впал в то состояние, которое возбудил в нем мой неожиданный приезд в ту минуту, когда он дремал на своем соломенном стуле. Он недоуменно взглянул на дом, а потом повернулся ко мне и еще более недоуменно посмотрел на меня.
— Довольно долго прожил я на свете, — сказал этот лучший и милейший из всех старых слуг, — но не ожидал, что когда-нибудь придется мне увидеть что-либо подобное. Вот стоит дом, а здесь стоит мистер Фрэнклин Блэк — и он повертывается спиной к дому и идет ночевать в наемной квартире!
Он пошел вперед, качая головой и ворча.
— Остается произойти еще только одному чуду, — сказал он мне через плечо, — это, когда вы, мистер Фрэнклин, вздумаете заплатить мне семь шиллингов и шесть пенсов, которые вы заняли у меня в детстве.
Этот сарказм привел его в лучшее расположение духа. Мы миновали домик привратника и вышли из калитки. Как только ступили мы на нейтральную почву, обязанности гостеприимства (по кодексу морали Беттереджа) прекратились и вступили в силу права любопытства.
Он приостановился, чтобы я мог поравняться с ним.
— Прекрасный вечер для прогулки, мистер Фрэнклин, — сказал он, будто мы только что случайно встретились с ним. — Предположим, что вы идете во фризинголлскую гостиницу, сэр…
— Да?
— Тогда я имел бы честь завтракать у вас завтра утром.
— Приходите ко мне завтракать на Готерстонскую ферму.
— Очень обязан вам за вашу доброту, мистер Фрэнклин. Но стремлюсь-то я, собственно, не к завтраку. Мне кажется, вы упомянули о том, что имеете нечто сказать мне. Если это не секрет, сэр, — сказал Беттередж, вдруг бросив окольные пути и вступив на прямую дорогу, — я горю нетерпением узнать, что привело вас сюда так неожиданно?
— Что привело меня сюда в прошлый раз? — спросили.
— Лунный камень, мистер Фрэнклин. Но что привело вас сюда сейчас, сэр?
— Опять Лунный камень, Беттередж.
Старик вдруг остановился и посмотрел на меня, словно не веря своим ушам.
— Если это шутка, сэр, — сказал он, — боюсь, что я немного поглупел на старости лет. Я не понимаю ее.
— Это не шутка, — ответил я, — я приехал сюда снова начать следствие, прерванное при моем отъезде из Англии. Я приехал сюда сделать то, что никто еще не сделал, — узнать, кто украл алмаз.
— Бросьте вы этот алмаз, мистер Фрэнклин! Послушайтесь моего совета, бросьте вы этот алмаз! Проклятая индийская штучка сбивала с пути всех, кто к ней приближался. Не тратьте ваших денег и сил в самое цветущее время вашей жизни, сэр, занимаясь Лунным камнем. Как можете вы надеяться на успех, когда сам сыщик Кафф запутался в этом деле? Сыщик Кафф, — повторил Беттередж, сурово грозя мне пальцем, — крупнейший сыщик в Англии!
— Решение мое твердо, старый друг. Даже сыщик Кафф не убедит меня.
Кстати, рано или поздно мне придется с ним посоветоваться. Слышали вы что-нибудь о нем за последнее время?
— Кафф вам не поможет, мистер Фрэнклин.
— Почему?
— В полицейских кругах произошло, после вашего отъезда, событие, сэр.
Знаменитый Кафф вышел в отставку. Он нанял маленький коттедж в Доркинге и по уши увяз в разведении роз. Он сам написал мне об этом, мистер Фрэнклин.
Он вырастил белую махровую розу, не прививая ее к шиповнику. И мистер Бегби, наш садовник, собирается съездить в Доркинг, чтоб сознаться в своем окончательном поражении.
— Это ничего не значит, — ответил я, — обойдусь и без помощи сыщика Каффа. А для начала я должен во всем довериться вам.
Возможно, что я сказал это несколько небрежно. Как бы то ни было, что-то в моем ответе обидело Беттереджа.
— Вы могли бы довериться кому-нибудь и похуже меня, мистер Фрэнклин, могу вам сказать, — произнес он немного резко.
Тон, каким он сделал это замечание, и некоторая растерянность в его манерах подсказали мне, что он располагает какими-то сведениями, которые не решается мне сообщить.
— Надеюсь, вы поможете мне, рассказав о разрозненных открытиях, которые оставил за собой сыщик Кафф. Знаю, что это вы в состоянии сделать. Ну, а могли бы вы сделать что-нибудь, кроме этого?
— Чего же еще вы ожидаете от меня, сэр? — с видом крайнего смирения спросил Беттередж.
— Я ожидаю большего, судя по тому, что вы недавно сказали.
— Пустое хвастовство, мистер Фрэнклин, — упрямо ответил старик, — есть люди, родившиеся хвастунами на свет божий и до самой своей смерти остающиеся таковыми. Я — один из этих людей.
Оставался только один способ воздействия на него.
Я решил воспользоваться его привязанностью к Рэчель и ко мне.
— Беттередж, обрадовались ли бы вы, если б услышали, что Рэчель и я стали опять добрыми друзьями?
— Я служил бы вашей семье совершенно без всякой пользы, сэр, если б вы усомнились в этом.
— Помните, как Рэчель обошлась со мною перед моим отъездом из Англии?
— Так отчетливо, словно это случилось вчера. Миледи сама написала вам об этом, а вы были так добры, что показали ее письмо мне. В нем было сказано, что мисс Рэчель считает себя смертельно оскорбленною вами за то участие, которое вы приняли в отыскании ее алмаза. И ни миледи, ни я, и никто не мог угадать, почему.
— Совершенно справедливо, Беттередж. Я вернулся из путешествия и нашел, что Рэчель все еще считает себя смертельно оскорбленной мною. Я знал в прошлом году, что причиною этого был алмаз. Знаю, что это так и теперь, Я пробовал говорить с нею, она не захотела меня видеть: Пробовал писать ей, она не захотела мне ответить. Скажите, ради бога, как это понять?
Разузнать о пропаже Лунного камня — вот единственная возможность, которую Рэчель мне оставляет!
Мои слова, по-видимому, заставили его взглянуть на дело с новой стороны. Он задал мне вопрос, показавший, что я наконец-то поколебал его.
— У вас нет недоброго чувства к ней, мистер Фрэнклин?
— Был гнев, когда я уезжал из Лондона, — ответил я, — но сейчас он прошел. Я хочу заставить Рэчель объясниться со мною и ничего более.
— Предположим, вы сделаете какое-нибудь открытие, сэр, — не боитесь ли вы, что благодаря этому открытию вам станет что-нибудь известно о мисс Рэчель?
Я понял его безграничное доверие к своей барышне, продиктовавшее ему эти слова.
— Я верю в нее так же, как и вы, — ответил я. — Самое полное открытие ее тайны не может обнаружить ничего такого, что могло бы уменьшить ваше или мое уважение к ней.
Последняя нерешительность Беттереджа исчезла после этих слов.
— Пусть я поступлю дурно, помогая вам, мистер Фрэнклин, — воскликнул он, — но я могу сказать только одно: я так же мало понимаю это, как новорожденный младенец! Я поставлю вас на путь открытий, а затем вы пойдете по нему сами. Помните вы нашу бедную служанку, Розанну Спирман?
— Разумеется.
— Вы всегда подозревали, что она хочет что-то открыть насчет Лунного камня?
— Я, конечно, не мог объяснить ее странное поведение чем-нибудь иным.
— Так я могу рассеять ваши сомнения на этот счет, мистер Фрэнклин, если вам угодно.
Пришла моя очередь стать в тупик. Напрасно старался я разглядеть в наступившей темноте выражение его лица. Охваченный удивлением, я несколько нетерпеливо спросил, что хочет он этим сказать.
— Не торопитесь, сэр! — остановил меня Беттередж. — Я говорю то, что хочу сказать. Розанна Спирман оставила запечатанное письмо, адресованное вам.
— Где оно?
— У ее приятельницы в Коббс-Голле. Верно вы слышали, когда были здесь, сэр, о Хромоножке Люси — девушке, которая ходит с костылем?
— Дочери рыбака?
— Точно так, мистер Фрэнклин.
— Почему же письмо не было отослано мне?
— Хромоножка Люси своенравная девушка, сэр. Она захотела отдать это письмо в ваши собственные руки. А вы уехали из Англии, прежде чем я успел написать вам об этом.
— Вернемся тотчас назад, Беттередж, и сейчас же заберем это письмо!
— Сейчас поздно, сэр. Рыбаки экономят свечи, и в Коббс-Голле рано ложатся спать.
— Вздор! Мы дойдем туда в полчаса.
— Можете, сэр. А дойдя, вы найдете дверь запертою.
Он указал на огни, мелькавшие внизу, и в ту же минуту я услышал в ночной тишине журчанье ручейка.
— Вот ферма, мистер Фрэнклин. Проведите спокойно ночь и приходите ко мне завтра утром, если вы будете так добры.
— Вы пойдете со мною к рыбаку?
— Пойду, сэр.
— Рано утром?
— Так рано, как вам будет угодно.
Мы спустились по тропинке, ведущей на ферму.
Глава III
Я сохранил самое смутное воспоминание о том, что случилось на Готерстонской ферме.
Помню гостеприимную встречу, обильный ужин, которым можно было накормить целую деревню на Востоке, восхитительно опрятную постель, с единственным недостатком — ненавистным наследием наших предков — пуховою периной; бессонную ночь, беспрестанное зажигание свечей и чувство огромного облегчения, когда наконец взошло солнце и можно было встать.
Накануне я условился с Беттереджем, что зайду за ним по дороге в Коббс-Голл так рано, как мне будет угодно, — что на языке моего нетерпеливого желанья овладеть письмом означало: “так рано, насколько возможно”. Не дождавшись завтрака на ферме, я взял с собой ломоть хлеба и отправился, опасаясь, не застану ли еще доброго Беттереджа в постели. К великому моему облегчению, он был, так же как и я, взволнован предстоящим событием. Я нашел его уже одетым и ожидающим меня с палкой в руке.
— Как вы себя чувствуете сегодня, Беттередж?
— Очень нехорошо, сэр.
— С сожалением слышу это. На что вы жалуетесь?
— На новую болезнь, мистер Фрэнклин, моего собственного изобретения. Не хотелось бы вас пугать, но и вы, вероятно, заразитесь этой болезнью нынешним же утром.
— Черт возьми!
— Чувствуете ли вы неприятный жар в желудке, сэр, и прескверное колотье на вашей макушке? А! Нет еще! Ну, так это случится с вами в Коббс-Голле, мистер Фрэнклин. Я называю это сыскной лихорадкой, и заразился я ею впервые в обществе сыщика Каффа.
— Ну, ну! А вылечитесь вы, наверное, когда я распечатаю письмо Розанны Спирман. Пойдем же и получим его.
Несмотря на раннее время, мы нашли жену рыбака на кухне. Когда Беттередж представил меня ей, добрая миссис Йолланд проделала церемониал, рассчитанный (как я позднее узнал) исключительно на знатных приезжих. Она поставила на стол бутылку голландского джипа, положила две трубки и начала разговор словами:
— Что нового в Лондоне, сэр?
Прежде чем я мог придумать ответ на этот общий вопрос, странное видение возникло в темном углу кухни. Худощавая девушка, с расстроенным лицом, с удивительно красивыми волосами и с гневной проницательностью во взгляде, подошла, хромая и опираясь на костыль, к столу, у которого я сидел, и посмотрела на меня так, как будто я внушал и ужас и интерес, какими-то чарами приковывая ее внимание.
— Мистер Беттередж, — сказала она, не спуская с меня глаз, — пожалуйста, назовите его еще раз.
— Этого джентльмена зовут, — ответил Беттередж (делая сильное ударение на слове “джентльмен”), — мистер Фрэнклин Блэк.
Девушка повернулась ко мне спиной и вдруг вышла из комнаты. Добрая миссис Йолланд, насколько помню, извинилась за странное поведение своей дочери, а Беттередж, должно быть, перевел ее слова на вежливый английский язык. Я говорю все это наугад. Внимание мое было всецело поглощено стуком удалявшегося костыля. Он прозвучал по деревянной лестнице, прозвучал в комнате над нашими головами, прозвучал опять вниз по лестнице, — а потом в открытой двери снова возник призрак, на этот раз с письмом в руке, и поманил меня из комнаты.
Я оставил миссис Йолланд, рассыпавшуюся в еще больших извинениях, и пошел за этим странным существом, которое ковыляло передо мной все скорее и скорее по направлению к берегу. Оно повело меня за рыбачьи лодки, где нас не могли ни увидеть, ни услышать жители деревни, и там остановилось и взглянуло мне в лицо в первый раз.
— Стойте здесь, — сказала она, — я хочу посмотреть на вас.
Нельзя было обмануться в выражении ее лица. Я внушал ей сильную ненависть и отвращение. Не, примите это за тщеславие, если я скажу, что ни одна женщина еще не смотрела на меня так. Решаюсь на более скромное уверение: ни одна женщина еще не дала мне заметить этого. Такое бесцеремонное разглядывание мужчина может выдержать лишь до известного предела. Я пытался перевести внимание Хромоножки Люси на предмет, не столь ей ненавистный, как мое лицо.
— Вы, кажется, хотели передать мне письмо, — начал я. — Это то самое, что у вас в руках?
— Повторите свои слова, — было ее единственным ответом.
Я повторил свои слова, как послушный ребенок, затверживающий урок.
— Нет, — сказала девушка, говоря сама с собой, но все не спуская с меня безжалостных глаз. — Не могу понять, что нашла она в его лице. Не могу угадать, что услышала она в его голосе.
Она вдруг отвернулась от меня и тяжело опустила голову на свой костыль.
— О бедняжка! — произнесла она мягким тоном, который я впервые услышал от нее. — О моя погибшая подружка! Что ты нашла в этом человеке!
Она снова подняла голову и свирепо посмотрела на меня.
— В состоянии вы есть и пить? — спросила она.
Я употребил все силы, чтобы сохранить серьезный вид, и ответил:
— Да.
— В состоянии вы спать?
— Да.
— Когда вы видите какую-нибудь бедную служанку, вы не чувствуете угрызений совести?
— Конечно, нет. Почему должен я их чувствовать?
Она вдруг швырнула письмо мне в лицо.
— Возьмите! — с яростью воскликнула она. — Я никогда не видела вас прежде. Не допусти меня всемогущий снова увидеть вас!
С этими прощальными словами она заковыляла от меня так быстро, как только могла. Мне пришло в голову то, что подумал бы всякий на моем месте об ее поведении, а именно, что она помешана.
Придя к этому неизбежному выводу, я обратился к более интересному предмету — к письму Розанны Спирман. Адрес был следующий:
“Фрэнклину Блэку, эсквайру. Должна отдать в собственные руки (не поручая никому другому) Люси Йолланд”.
Я сорвал печать. В конверте лежало письмо, а в этом письме бумажка. Прежде всего я прочел письмо:
“Сэр, если вам любопытно узнать, что значило мое обращение с вами в то время, когда вы гостили в доме моей госпожи, леди Вериндер, сделайте то, что вам предписывается в памятной записке, вложенной в это письмо, — сделайте это так, чтобы никто не присутствовал при этом. Ваша нижайшая слуга
Розанна Спирман”.
Я взглянул на бумажку, вложенную в письмо. Вот ее копия слово в слово:
“Памятная записка. — Пойти к Зыбучим пескам, когда начнется отлив. Идти по Южному утесу до тех пор, пока маяк на Южном утесе и флагшток на таможенной станции, которая находится выше Коббс-Голла, не сольются в одну линию. Положить палку или какую-нибудь другую прямую вещь на скалы, чтоб отметить именно ту линию, которая должна быть наравне с утесом и флагштоком. Позаботиться, делая это, чтобы один конец палки находился на краю скал с той стороны, которая возвышается над Зыбучими песками. Ощупать землю между морскою травой, вдоль палки (начиная с того ее конца, который лежит ближе к маяку), чтобы найти цепь. Провести рукою вдоль цепи, когда она найдется, до того места, где она свешивается по краю скалы вниз к Зыбучим пескам. И тогда потянуть цепь”. Не успел я прочесть последние слова, подчеркнутые в оригинале, как услышал позади себя голос Беттереджа.
Изобретатель сыскной лихорадки был совершенно подавлен этой непреодолимой болезнью.
— Не могу больше выдержать, мистер Фрэнклин. О чем говорится в ее письме? Ради бога, сэр, скажите мне, о чем говорится в ее письме?
Я подал ему письмо и памятную записку. Он прочел письмо без особенного интереса. Но памятная записка произвела на него сильное впечатление.
— Сыщик говорил это! — вскрикнул Беттередж. — С начала и до конца, сэр.
Кафф утверждал, что у нее есть план тайника. Вот он! Господи, спаси нас и помилуй! Мистер Фрэнклин, вот тайна, сбившая с толку всех, начиная с самого знаменитого Каффа, вот она, готовая и ожидающая, так сказать, только того, чтобы открыться вам! Наступил прилив, сэр, это может увидеть каждый. Сколько еще времени остается до отлива?
Он поднял голову и увидел в некотором расстоянии от нас молодого рыбака, чинившего сеть.
— Тамми Брайт! — крикнул он во весь голос.
— Слышу! — закричал Тамми в ответ.
— Когда начнется отлив?
— Через час.
Мы оба взглянули на часы.
— Мы можем пойти по берегу, чтоб пробраться к Зыбучим пескам, мистер Фрэнклин, — сказал Беттередж, — у нас остается довольно времени для этого.
Что вы скажете, сэр?
— Пойдемте.
С помощью Беттереджа я скоро нашел прямую линию от утесов до флагштока.
Руководствуясь памятной запиской, мы положили мою палку в указанном направлении так прямо, как только могли на неровной поверхности скалы, а потом опять взглянули на наши часы.
Оставалось еще двадцать минут до отлива. Я предложил переждать это время на берегу, а не на мокрой и скользкой поверхности скалы. Дойдя до сухого песка, я приготовился уже сесть, как Беттередж, к великому моему удивлению, вдруг повернулся, чтоб уйти от меня.
— Почему вы уходите? — спросил я.
— Загляните в письмо, сэр, и вы сами поймете.
Взглянув на письмо, я вспомнил, что мне надлежало сделать это открытие одному.
— Тяжеленько мне оставлять вас одного в такую минуту, — сказал Беттередж. — По бедняжка умерла ужасной смертью, и я чувствую как бы долг перед ней, мистер Фрэнклин, исполнить ее последнюю просьбу. Притом, — добавил он значительно, — в письме ничего не говорится о том, чтобы вы держали свое открытие в тайне. Я пойду в сосновый лес и подожду вас там.
Не медлите слишком долго, сэр. С такой болезнью, как сыскная лихорадка, не так-то легко совладать при подобных обстоятельствах.
С этим прощальным предостережением он оставил меня.
Как бы ни было коротко время ожидания, оно растягивается, когда находишься в неизвестности. Это был один из тех случаев, когда неоценимая привычка курить становится особенно драгоценной и утешительной. Я закурил сигару и сел на пологом берегу.
Солнце придавало особую красоту всем окрестным предметам. Воздух был так свеж, что жить и дышать само по себе было наслаждением. Даже уединенная маленькая бухта весело приветствовала утро, и даже голая, влажная поверхность Зыбучих песков, сверкая золотистым блеском, скрывала весь таившийся в них ужас под мимолетной улыбкой. Это был самый лучший день со времени моего возвращения в Англию.
Отлив наступил прежде, чем я докурил сигару. Я увидел, как начал подниматься песок, а потом, как страшно заколебалась его поверхность, — как будто какой-то злой дух ожил, задвигался и задрожал в его бездонной глубине. Я бросил сигару и снова направился к скалам.
Памятная записка давала мне указания ощупать землю вдоль палки, начиная с того конца, который был ближе к маяку.
Я прошел таким образом более половины длины палки, не находя ничего, кроме выступов скал. Еще два дюйма, и мое терпение было вознаграждено. В узкой маленькой расселине, как раз в том месте, до которого мог дотянуться мой указательный палец, я нащупал цепь. Пытаясь проследить ее, я запутался в густой морской траве, выросшей здесь, без сомнения, за то время, которое протекло после того, как Розанной Спирман был выбран этот тайник.
Не было решительно никакой возможности вырвать эту морскую траву или просунуть сквозь нее руку. Я заметил место концом палки, ближайшим к Зыбучим пескам, и решил по собственному плану отыскать цепь. План мой состоял в том, чтобы поискать внизу под самыми скалами, не найдется ли, потерянный след цепи в том месте, где она входила в песок. Я взял палку и стал на колени на северном краю Южного утеса.
В таком положении лицо мое очутилось почти на уровне поверхности Зыбучих песков. Вид их, колебавшихся время от времени вблизи от меня, был так отвратителен, что на минуту расстроил мои нервы. Ужасная мысль, что умершая может явиться на место самоубийства, чтобы помочь моим поискам, невыразимый страх, что вот-вот она поднимется над колеблющимися песками и укажет мне нужное место, охватили мою душу и нагнали на меня озноб при теплом солнечном свете. Признаюсь, я зажмурил глаза в ту минуту, когда кончик палки вошел в зыбучий песок.
Но через мгновенье, прежде чем палка углубилась в песок еще на несколько дюймов, я освободился от этого суеверного ужаса и весь задрожал от волнения. Воткнув палку наугад, я при первой же попытке попал в нужное место. Палка ударилась о цепь.
Я выдернул цепь без малейшего труда. К концу ее был прикреплен оловянный ящичек.
Цепь так заржавела от воды, что я никак не мог отцепить ее от кольца, которое прикрепляло ее к ящику. Поставив ящик между колен и напрягши все свои силы, я сорвал крышку ящика. Что-то белое находилось внутри него. Я на ощупь узнал, что это было полотно.
Пробуя вынуть его, я вместе с ним вытащил и смятое письмо. Посмотрев на адрес и убедившись, что письмо адресовано мне, я сунул его в карман и достал наконец полотно. Оно было туго свернуто, чтобы уместилось в ящичке, и хотя долго пролежало в нем, но нисколько не пострадало от морской воды.
Я положил полотно на сухой песок, развернул его и разгладил. Это была ночная мужская рубашка.
Передняя ее сторона, когда я расправил рубашку, представляла глазам бесчисленные складки и сгибы, и ничего более. Но когда я повернул рубашку на другую сторону, я тотчас увидел пятно от краски, которою была выкрашена дверь будуара Рэчель!
Глаза мои оставались прикованными к пятну, а мысли одним прыжком перенесли меня от настоящего к прошлому. Мне так ясно пришли на память слова сыщика Каффа, словно этот человек опять стоял возле меня, сообщая мне неопровержимый вывод, к которому он пришел, размышляя о пятне на двери:
“Найдите в доме одежду, запачканную такою краской. Узнайте, кому эта одежда принадлежит. Узнайте, как объяснит эта особа свое пребывание в этой комнате, где она запачкала свою одежду, между полуночью и тремя часами утра. Если эта особа не сможет дать удовлетворительного объяснения, незачем далеко искать руку, похитившую алмаз”.
Одно за другим слова эти приходили мне в голову, повторяясь снова и снова с утомительным, механическим однообразием. Я очнулся от столбняка, продолжавшегося, как мне казалось, несколько часов, — хотя на самом деле эти часы составили всего несколько минут, — когда услышал звавший меня голос. Подняв глаза, я увидел, что терпение изменило наконец Беттереджу.
Он пробирался между песчаными холмами, возвращаясь к берегу.
Вид старика тотчас же вернул меня к настоящему и напомнил, что следствие, за которое я принялся, еще не кончено. Я нашел пятно на ночной рубашке. Но кому принадлежала эта рубашка?
Первым моим побуждением было взглянуть на письмо, лежавшее у меня в кармане, письмо, найденное мною в ящичке.
Но, сунув руки в карман, я вспомнил, что есть более быстрый способ узнать это. Сама рубашка откроет истину, потому что, по всей вероятности, на ней есть метка ее хозяина.
Я поднял рубашку и стал искать метку.
Я нашел эту метку и прочитал мое собственное имя!
Знакомые буквы сказали мне, что эта ночная рубашка — моя. Я отвел от них глаза. Я увидел солнце, увидел блестящие воды бухты, увидел старика Беттереджа, подходившего все ближе и ближе ко мне. Я опять взглянул на метку. Мое собственное имя. Прямо против меня — мое собственное имя.
“Если время, труды и деньги могут это сделать, я отыщу вора, укравшего Лунный камень”, — с этими словами я уехал из Лондона. Я проник в тайну, которую Зыбучие пески скрыли от всех живущих. И неопровержимая улика пятна, сделанного краской, открыла мне, что вором был я сам!
Глава IV
Ничего не могу сказать о своих ощущениях.
Удар, полученный мною, казалось, совершенно парализовал во мне способность думать и чувствовать. Без сомнения, я не сознавал, что со мною делается, потому что, по словам Беттереджа, я расхохотался, когда он подошел ко мне и спросил, в чем дело, и, сунув ему в руки ночную рубашку, сказал, чтобы он сам прочел разгадку.
О том, что говорено было между нами на берегу, я не имею ни малейшего представления. Первое место, которое припоминаю сейчас, это сосновая аллея. Мы с Беттереджем шли обратно к дому, и Беттередж говорил мне, что и он, и я будем в состоянии прямо взглянуть на вещи только после доброго стакана грогу.
Действие переходит из сосновой аллеи в маленькую гостиную Беттереджа.
Мое намерение не входить в дом Рэчель — забыто. Мне были отрадны тень и тишина этой комнаты. Я пил грог (совершенно необычное для меня наслаждение в это время дня), который мой добрый старый друг приготовил с холодной, как лед, водой из колодца. При всяких других обстоятельствах этот напиток просто привел бы меня в отупение. Теперь же он укрепил мои нервы. Я начинаю прямо глядеть на вощи, как предсказал Беттередж, и Беттередж, со своей стороны, также начинает прямо глядеть на вещи.
Боюсь, что описание моего состояния, данное мною здесь, покажется читателю очень странным, чтобы не сказать больше. К чему я прибег прежде всего, попав в такое исключительное положение? Отдалился ли от всякого общества? Заставил ли себя проанализировать неопровержимый факт, стоявший передо мною? Поторопился ли в Лондон с первым же поездом, чтобы посоветоваться с компетентными людьми и немедленно произвести следствие?
Нет. Я приютился в доме, куда решил не входить никогда, чтобы не унизить собственного достоинства, в сидел, прихлебывая крепкий напиток, в обществе старого слуги в десять часов утра. Такого ли поведения можно было ожидать от человека, поставленного в мое ужасное положение? Могу только ответить, что вид знакомого лица старого Беттереджа был для меня неоценимым утешением и что грог старого Беттереджа помог мне так, как, думаю, ничто другое не помогло бы мне в том телесном и душевном унынии, в которое я впал. Только это и могу я сказать в свое оправдание и готов искренно восхищаться, если мои читатели и читательницы неизменно сохраняют достоинство и строгую логичность поведения во всех обстоятельствах жизни.
— Вот одно-то уж верно, по крайней мере, мистер Фрэнклин, — сказал Беттередж, бросая ночную рубашку на стол и указывая на нее, как на живое существо, которое может его услышать:
— Верно то, что она лжет.
Этот взгляд на предмет не показался мне успокоительным.
— Я так же непричастен к краже алмаза, как и вы, — сказал я, — но рубашка свидетельствует против меня! Краска и метка на ночной рубашке — это факты.
Беттередж взял мой стакан со стола и сунул его мне в руку.
— Факты? — повторил он. — Выпейте-ка еще грогу, мистер Фрэнклин, и вы преодолеете слабость, заставляющую вас верить фактам. Нечистое дело, сэр! — продолжал он, понизив голос. — Вот как я отгадываю загадку. Дело нечистое, и мы с вами должны его расследовать. В оловянном ящике ничего больше не было, когда вы его раскрыли?
Вопрос этот тотчас же напомнил мне о конверте в моем кармане. Я вынул его и распечатал. Там оказалось письмо на нескольких мелко исписанных страницах. Я с нетерпением взглянул на подпись внизу письма: “Розанна Спирман”.
Когда я прочитал это имя, внезапное воспоминание осенило меня, и я воскликнул, охваченный неожиданной догадкой:
— Постойте! Розанна Спирман поступила к моей тетке из исправительного дома? Розанна Спирман прежде была воровкой?
— Сущая правда, мистер Фрэнклин. Что ж из этого, позвольте спросить?
— Как “что же из этого”? Почем мы знаем, может быть, она с умыслом запачкала краской мою ночную рубашку?
Беттередж положил свою руку на мою и остановил меня, прежде чем я успел сказать что-либо еще.
— Вы сумеете оправдаться, мистер Фрэнклин, в этом нет ни малейшего сомнения. Но, я надеюсь, — не таким путем. Посмотрите сперва, что говорится в письме, сэр. Воздайте должное памяти этой девушки и посмотрите, что говорится в письме.
Серьезность, с какою он произнес это, показалась мне почти упреком.
— Судите сами об ее письме, — сказал я, — я прочту его вслух.
Я начал — и прочитал следующие строки:
— “Сэр, я должна сделать вам признание. Иногда признание, в котором заключается много горя, можно сделать в немногих словах. Мое признание можно сделать в трех словах: я вас люблю”.
Письмо выпало из моих рук. Я взглянул на Беттереджа.
— Ради бога, — воскликнул я, — что это значит?
Ему, по-видимому, неприятно было отвечать на этот вопрос.
— Сегодня утром вы были наедине с Хромоножкой Люси, — сказал он, — разве она вам ничего не говорила о Розанне Спирман?
— Она даже не упоминала имени Розанны Спирман.
— Пожалуйста, вернитесь к письму, мистер Фрэнклин. Говорю вам прямо, у меня недостает духа огорчать вас после того, что вы уже перенесли. Пусть она сама говорит за себя, сэр, и продолжайте пить ваш грог. Ради собственного спасения, продолжайте пить ваш грог!
Я снова вернулся к письму:
— “Постыдно для меня было бы писать вам об этом, — будь я жива, вы никогда бы не прочли этого. Но меня уже не будет на свете, сэр, когда вы найдете мое письмо. Вот это-то и придает мне смелости. Даже и могилы моей не останется, чтобы сказать вам обо мне. Я решаюсь написать всю правду, потому что Зыбучие пески ждут, чтобы скрыть меня, едва лишь слова эти будут написаны.
Кроме того, вы найдете вашу ночную рубашку в моем тайнике, испачканную краской, и захотите узнать, каким образом я спрятала ее и почему ничего не сказала вам об этом, когда была жива. Могу привести только одну причину: я сделала эти странные вещи потому, что люблю вас.
Не стану надоедать вам рассказом о себе самой и о своей жизни до того дня, как вы приехали в дом миледи. Леди Вериндер взяла меня из исправительного дома. Я поступила в исправительный дом из тюрьмы. Я была посажена в тюрьму потому, что была воровкой. Я была воровкой потому, что мать моя таскалась по улицам, когда я была девочкой. Мать моя таскалась по улицам потому, что господин, бывший моим отцом, бросил ее. Нет никакой необходимости рассказывать такую обыкновенную историю подробно. Они рассказываются довольно часто в газетах.
Леди Вериндер и мистер Беттередж были очень добры ко мне. Эти двое и начальница исправительного дома были единственные добрые люди, с которыми мне случилось встретиться за всю мою жизнь. Я могла бы оставаться на своем месте, — не была бы счастлива, но могла бы оставаться, если бы вы не приехали. Я не осуждаю вас, сэр. Это моя вина, целиком моя!
Помните утро, когда вы спустились к нам с песчаных холмов, отыскивая мистера Беттереджа? Вы были похожи на принца из волшебной сказки. Вы похожи были на любовника, созданного мечтой. Вы были восхитительнейшим человеческим созданием, когда-либо виденным мною. Что-то похожее на счастливую жизнь, которой я никогда еще не знала, мелькнуло передо мною в ту минуту, когда увидела вас. Не смейтесь над этим, если можете. О, если бы я могла заставить вас почувствовать, насколько серьезно это для меня!
Я вернулась домой и написала ваше и мое имя рядом — на рабочем ящичке.
Потом какой-то демон — нет, мне следовало бы сказать добрый ангел — шепнул мне: “Ступай и посмотрись в зеркало”.
Зеркало сказало мне… все равно, что оно сказало. Но я была слишком сумасбродна, чтобы воспользоваться этим предостережением. Я все больше и больше привязывалась к вам сердцем, словно была одного с вами звания и прекраснее всех существ, какие когда-либо случалось вам видеть. Как я старалась — о боже, как я старалась! — заставить вас взглянуть на меня. Если бы вы знали, как я плакала по ночам от горя и досады, что вы никогда не обращали на меня внимания! Может быть, вы пожалели бы меня тогда и время от времени удостаивали бы меня взглядом, для того, чтобы я находила силу продолжать жить.
Но, может быть, взгляд ваш не был бы очень добрым, если б вы знали, как я ненавижу мисс Рэчель. Я, кажется, догадалась о том, что вы влюблены в нее, прежде, чем вы это узнали сами. Она дарила вам розы, чтобы вы носили их в петлице. Ах, мистер Фрэнклин! Вы носили мои розы чаще, чем предполагали вы или она! Единственное утешение, которое я имела в то время, состояло в том, чтобы потихоньку поставить в ваш стакан с водой мою розу, вместо ее розы, — а ее розу выбросить.
Если бы она действительно была так хороша, какою казалась вам, я, может быть, легче переносила бы все это. Нет, пожалуй, я сильнее возненавидела бы ее. Что, если бы одеть мисс Рэчель служанкой и снять с нее все ее уборы?.. Не знаю, зачем я пишу все это. Нельзя ведь отрицать, что у нее дурная фигура: она слишком худощава. Но кто может сказать, что нравится мужчине? И молодым леди позволительно иметь такие манеры, за которые служанка лишилась бы места. Но это не мое дело. Я не могу надеяться, что вы прочтете мое письмо, если я стану писать таким образом. Только обидно слышать, как мисс Рэчель называют хорошенькой, когда знаешь, что все это происходит благодаря ее нарядам и от ее уверенности в самой себе.
Постарайтесь быть терпеливым со мною, сэр. Я сейчас перейду к тому времени, когда пропал алмаз.
Мистер Сигрэв начал, как вы, может быть, припомните, с того, что поставил караульных у спален служанок, и все женщины с бешенством бросились к нему наверх узнать, с какой стати он так их оскорбил. Я тоже пошла с ними, потому что, если бы я не сделала того, что делают другие, мистер Сигрэв тотчас же непременно заподозрил бы меня. Мы нашли его в комнате мисс Рэчель. Он сказал нам, что женщинам тут нечего делать, и, указав на пятно на раскрашенной двери, прибавил, что мы наделали это нашими юбками, и выслал всех нас вниз.
Выйдя из комнаты мисс Рэчель, я остановилась на минуту на площадке посмотреть, не испачкала ли я краской свое платье. Проходившая мимо Пенелопа Беттередж (единственная женщина, с которою я находилась в дружеских отношениях) увидела, что я делаю.
“Вам нечего беспокоиться, Розанна, — сказала она, — краска на двери мисс Рэчель высохла уже несколько часов назад. Если бы мистер Сигрэв не велел караулить наши спальни, я бы ему сказала об этом. Не знаю, как вы, но я никогда в жизни еще не была так оскорблена!”
Пенелопа была горячего права. Я успокоила ее и переспросила о краске на двери, будто бы высохшей, по ее словам, уже несколько часов назад.
— Откуда вы это знаете? — спросила я.
— Вчера я была все утро с мисс Рэчель и с мистером Фрэнклином, — ответила Пенелопа, — смешивала для них краски, покуда они заканчивали дверь. И я слышала, как мисс Рэчель спросила, высохнет ли дверь к вечеру, к приезду гостей. А мистер Фрэнклин покачал головой и сказал, что она высохнет не раньше, чем через двенадцать часов. Уже давно прошло время завтрака, — было три часа дня, когда они кончили. Что говорят ваши подсчеты, Розанна? Они говорят мне, что дверь должна была высохнуть сегодня в три часа утра.
— Не ходили ли вчера вечером дамы смотреть на дверь? — спросила я. — Мне показалось, будто мисс Рэчель предостерегала их, чтобы они не выпачкались о дверь.
— Никто из дам не мог сделать этого пятна, — ответила Пенелопа. — Я оставила мисс Рэчель в постели в двенадцать часов прошлой ночью. Уходя, я посмотрела на дверь и тогда на ней не было никакого пятна.
— Не следует ли вам сказать об этом, чтоб помочь мистеру Сигрэву, Пенелопа?
— Я ни слова не скажу, чтобы помочь мистеру Сигрэву!
Она пошла заниматься своими делами, а я — своими. Мое дело, сэр, было постелить вам постель и убрать вашу комнату. Это был мой самый счастливый час за весь день. Я целовала обычно изголовье, на котором покоилась всю ночь ваша голова. Кто бы ни убирал вашу комнату после меня, никто так хорошо не сложит ваших вещей. Ни на одной безделушке в вашем несессере не было ни малейшего пятна. Вы не замечали этого, как не замечали и меня.
Простите меня, я забываюсь. Потороплюсь и буду продолжать.
Ну, я пошла в то утро заниматься своим делом в вашу комнату. На постели лежала ночная рубашка в том виде, как вы ее сбросили. Я стала ее складывать — и увидела на ней пятно от раскрашенной двери мисс Рэчель!
Я была так испугана этим открытием, что выбежала с ночной рубашкой в руках по задней лестнице и заперлась в своей комнате, чтобы рассмотреть эту рубашку в таком месте, где никто бы не мог мне помешать.
Как только я пришла в себя, мне вспомнился мой разговор с Пенелопой, и я сказала себе: “Вот доказательство, что он был в гостиной мисс Рэчель между двенадцатью и тремя часами нынешней ночью!”
Не скажу вам прямо, какое подозрение первым промелькнуло в голове моей, когда я сделала это открытие. Вы только рассердились бы, а если вы рассердитесь, вы, можете быть, разорвете письмо и не станете читать дальше.
Достаточно, с вашего позволения, сказать только одно: обдумав все, я решила, что это невероятно, — по причине, о которой я скажу вам. Если бы вы были в гостиной мисс Рэчель в такой час ночи и мисс Рэчель знала это (и если бы вы имели, сумасбродство забыть, что следует остерегаться невысохшей двери), она сама напомнила бы вам об этом, она не позволила бы вам унести с собою такую улику против нее, которая была сейчас перед моими глазами. В то же время, признаюсь, я не была совершенно уверена, что мои подозрения ошибочны. Не забудьте, что я призналась в своей ненависти к мисс Рэчель, и постарайтесь, если сможете, представить себе, что во всем была частица этой ненависти. Кончилось тем, что я решила оставить вашу ночную рубашку у себя, ждать, наблюдать и смотреть, какую выгоду смогу я из этого извлечь. В то время — вспомните, пожалуйста, — мне и в голову не приходило, что вы украли алмаз”.
Тут я снова прервал чтение письма.
Места, где несчастная женщина делала мне свои признания, я читал с неприятным удивлением и, могу по совести сказать, с искренним огорчением.
Я жалел, искренно жалел, что набросил тень на ее память, прежде чем прочитал хоть строчку из ее письма. Но когда я дошел до вышеприведенного места, признаюсь, я почувствовал, что все более и более раздражаюсь против Розанны Спирман.
— Дочитывайте остальное сами, — сказал я, протягивая Беттереджу письмо через стол. — Если есть там что-нибудь, о чем я должен узнать, вы сможете мне это сказать.
— Понимаю вас, мистер Фрэнклин, — ответил он, — и это вполне естественно с вашей стороны. Помоги боже нам всем, — прибавил он, понизив голос, — но ведь это также было естественно и с ее стороны.
Продолжаю списывать с оригинала письма, находящегося сейчас в моих руках:
“Решив оставить вашу ночную рубашку у себя и посмотреть, как поступят с ней моя любовь или моя ненависть (право, не знаю, что) в будущем, — мне оставалось прежде всего придумать, как бы мне ее спрятать, не подвергаясь риску, что об этом узнают.
Единственный выход — сшить другую ночную рубашку, точно такую же, до субботы, когда в дом приходит прачка со своей записной книжкой.
Я побоялась отложить дело до следующего дня (пятницы), из боязни, не случилось бы чего в этот промежуток, и решила сшить новую ночную рубашку в тот же день (четверг), когда я могла бы, если бы хорошенько сыграла свою роль, выкроить для этого свободное время. Но прежде всего было необходимо (заперев вашу ночную рубашку в комод) вернуться в вашу спальню — не столько для того, чтобы закончить уборку (Пенелопа сделала бы это для меня, если бы я попросила), сколько для того, чтобы узнать, не запачкали ли вы краскою от ночной рубашки постель или какую-нибудь мебель в комнате.
Я осмотрела все тщательно и наконец нашла крошечные полоски краски на внутренней стороне вашего халата — не полотняного халата, который вы обыкновенно носите летом, а фланелевого, который вы тоже привезли с собой.
Должно быть, вы озябли, бродя взад и вперед в одной только ночной рубашке, и надели первую попавшуюся теплую вещь. Как бы то ни было, на внутренней стороне вашего халата были видны пятнышки. Я легко уничтожила их, отскоблив краску с фланели. После этого единственной уликой против вас осталась только та улика, которая была заперта в моем комоде.
Не успела я закончить уборку вашей комнаты, как меня вызвали вместе с другими слугами на допрос к мистеру Сигрэву. Потом стали осматривать все наши вещи. А потом случилось самое необыкновенное для меня происшествие за этот день, после того как я нашла пятно от краски на вашей ночной рубашке.
Это произошло после второго допроса Пенелопы Беттередж инспектором Сигрэвом.
Пенелопа вернулась к нам вне себя от бешенства, ее оскорбило обращение мистера Сигрэва. Он намекнул, да так, что нельзя было ошибиться в смысле его слов, что подозревает ее в воровстве. Мы все одинаково удивились, услышав это, и все спросили ее, почему?
— Потому что алмаз находился в гостиной мисс Рэчель, — ответила Пенелопа, — а я последняя ушла из гостиной вчера вечером.
Прежде чем эти слова сорвались с ее губ, я вспомнила, что в гостиной побывало еще одно лицо, уже после Пенелопы. Это лицо были вы. Голова моя закружилась, и мысли мои страшно перепутались. И тотчас что-то шепнуло мне, что краска на вашей ночной рубашке могла иметь совершенно другое значение, нежели то, которое я придавала ей до сих пор. “Если надо подозревать того, кто был в этой комнате последним, подумала я, то вор не Пенелопа, а мистер Фрэнклин Блэк!”
Если бы речь шла о другом джентльмене, я думаю, было бы стыдно подозревать его в воровстве.
Но одна мысль, что вы стали со мною на одну доску и что я, имея в руках вашу ночную рубашку, получаю возможность избавить вас от позора, — одна мысль об этом, говорю я, сэр, открывала передо мной такую возможность заслужить ваше расположение, что я перешла слепо, как говорится, от подозрения к убеждению. Я тотчас же решила, что вы хлопотали больше всех о том, чтобы послать за полицией, только для того, чтобы обмануть всех нас, и что рука, взявшая алмаз мисс Рэчель, никоим образом не могла принадлежать никому другому, кроме вас.
Когда я вернулась в людскую, раздался звонок к нашему обеду. Был уже полдень. А материю для новой рубашки еще предстояло достать. Была только одна возможность достать ее. За обедом я притворилась больною и, таким образом, получила в свое распоряжение весь промежуток времени до чая.
Чем я занималась, когда весь дом думал, что я лежу в постели в своей комнате, и как я провела ночь, опять притворившись больною за чаем, когда меня опять отправили в постель, — нет надобности рассказывать. Сыщик Кафф узнал все это, если не узнал ничего более. А я могу догадаться, каким образом. Меня узнали (хотя я и не поднимала вуали) во фризинголлской лавке. Напротив меня висело зеркало у того прилавка, где я покупала полотно, и в этом зеркале, я увидела, как один из лавочников, указав на мое плечо, шепнул что-то другому. И вечером, когда я тайком сидела за работой, запершись в своей комнате, я слышала за дверью дыхание служанок, подозревавших меня.
Мне это было безразлично тогда, безразлично это мне и теперь. Ведь в пятницу утром, за несколько часов до того, как сыщик Кафф вошел в дом, новая ночная рубашка, — взамен той, которую я взяла у вас, — была сшита, выстирана, высушена, выглажена, помечена, сложена так, как обычно прачки складывали все другие рубашки, и благополучно лежала в вашем комоде.
Нечего было бояться (если бы белье в доме стали осматривать), что новизна ночной рубашки выдаст меня. Весь запас вашего белья был новый, оно было сшито, вероятно, в то время, когда вы вернулись из-за границы.
Потом приехал сыщик Кафф и возбудил великое удивление во всех, объявив, что он думает о пятне на двери.
Я подозревала вас (как я вам призналась) больше потому, что мне хотелось считать вас виновным, чем по каким-либо другим причинам. А сыщик дошел до такого же заключения совершенно другим путем. Но одежда, служившая единственною уликою против вас, находилась в моих руках! И ни одной живой душе не было это известно, включая и вас самого! Боюсь сказать вам, что я чувствовала, когда думала об этом, память обо мне станет вам ненавистна”.
В этом месте Беттередж поднял глаза от письма.
— Ни одного проблеска света до сих пор, мистер Фрэнклин, — сказал старик, снимая свои тяжелые очки в черепаховой оправе и отталкивая исповедь Розанны Спирман. — Пришли вы к какому-нибудь логическому заключению, сэр, пока я читал?
— Кончайте прежде письмо, Беттередж; может быть, конец его даст нам ключ в руки, а потом я вам скажу слова два.
— Очень хорошо, сэр. Пусть глаза мои отдохнут немножко, а потом я опять буду продолжать. А пока, мистер Фрэнклин, не желаю торопить вас, но не намекнете ли вы мне хоть словом, нашли ли выход из этой ужасной путаницы?
— Я поеду в Лондон, — сказал я, — посоветоваться с мистером Бреффом.
Если он не сможет мне помочь…
— Да, сэр?
— И если сыщик не захочет оставить своего уединения в Доркинге…
— Не захочет, мистер Фрэнклин.
— Тогда, Беттередж, — насколько я вижу теперь, — все мои средства исчерпаны. Кроме мистера Бреффа и сыщика, я не знаю ни одной живой души, которая могла бы быть хоть сколько-нибудь полезна для меня.
Едва эти слова сорвались с моих губ, как кто-то постучался в двери комнаты. На лице Беттереджа выразились и удивление и досада, что нам помешали.
— Войдите, — крикнул он с раздражением, — кто бы вы ни были.
Дверь отворилась, и спокойно вошел человек самой замечательной наружности, какую я когда-либо видел. Судя по его фигуре и движениям, он был еще молод. Лицом же он казался старше Беттереджа. Цвет лица его был смуглый, как у цыгана, худые щеки глубоко впали, и скулы резко выдавались.
Нос был тонкого очертания и формы, часто встречающейся у древних народов Востока и так редко попадающейся среди более молодых народов Запада. Лоб был высокий. Морщин и складок на лице было бесчисленное множество. И на этом странном лице — глаза, еще более странные, нежнейшего карего цвета; задумчивые и печальные, глубоко запавшие, — они смотрели на вас (по крайней мере, так было со мною) и приковывали ваше внимание силою собственной воли. Прибавьте к этому шапку густых, коротко остриженных волос, которые по какой-то прихоти природы лишились своего цвета самым удивительным и причудливым образом. Сверху, на макушке они еще сохранили свой природный густой черный цвет. С обеих же сторон головы, без малейшего постепенного перехода к середине, который уменьшил бы силу необыкновенного контраста, они были совершенно белы. Граница между этими двумя цветами не была ровной. В одном месте белые волосы переходили в черные, а в другом черные — в белые. Я смотрел на этого человека с любопытством, которое — стыдно сказать — совершенно не мог обуздать. Его мягкие карие глаза кротко взглянули на меня, и он ответил на мою невольную грубость (я вытаращил на него глаза) извинением, которого, по моему убеждению, я совсем не заслужил.
— Извините, — сказал он, — я не знал, что мистер Беттередж занят.
Он вынул из кармана бумажку и подал ее Беттереджу.
— Список на будущую неделю, — произнес он.
Глаза его опять устремились на меня, и он вышел из комнаты Так же тихо, как вошел.
— Кто это? — спросил я.
— Помощник мистера Канди, — ответил Беттередж. — Кстати, мистер Фрэнклин, вы с огорчением узнаете, что маленький доктор не выздоровел еще от болезни, которую он схватил, возвращаясь домой с обеда в день рождения мисс Рэчель. Чувствует он себя довольно хорошо, но потерял память в горячке, и с тех пор она почти к нему не возвращалась. Весь труд падает на его помощника. Практика у него сильно сократилась, остались одни бедные.
Они ведь не могут выбирать. Они должны примириться и с человеком пеговолосым и загорелым по-цыгански, иначе вовсе останутся без врача.
— Вы, кажется, не любите его, Беттередж?
— Никто его не любит, сэр.
— Почему же он так непопулярен?
— Сама его наружность против него. Потом, ходят слухи, что мистер Канди взял его с весьма сомнительной репутацией. Никому неизвестно, откуда он.
Здесь нет у него ни одного приятеля. Как же можете вы ожидать, сэр, чтобы после всего этого его кто-нибудь любил?
— Разумеется, никак нельзя ожидать. Могу я спросить, что ему нужно было от вас, когда он отдавал вам эту бумажку?
— Он принес мне список больных, сэр, которым требуется вино. Миледи всегда раздавала хороший портвейн и херес бедным больным, и мисс Рэчель желает продолжать этот обычай. Времена переменились! Времена переменились!
Помню, как мистер Канди сам приносил этот список моей госпоже. А теперь помощник мистера Канди приносит этот список — мне. Я дочитаю письмо, если вы позволите, сэр, — сказал Беттередж, опять придвигая к себе исповедь Розанны Спирман. — Невесело читать, уверяю вас. Но все-таки это отвлекает меня от моих печальных мыслей о прошлом.
Он надел очки и мрачно покачал головой:
— Есть здравый смысл, сэр, в нашем поведении, когда мы появляемся на свет божий. Каждый из нас более или менее сопротивляется этому появлению.
И мы совершенно правы в этом, все до одного.
Помощник мистера Канди произвел на меня такое сильное впечатление, что я не мог немедленно прогнать его из своих мыслей. Я пропустил мимо ушей последнее философское изречение Беттереджа и вернулся к вопросу о пегом человеке.
— Как его зовут? — спросил я.
— У него пребезобразное имя, — угрюмо ответил Беттередж:
— Эзра Дженнингс.
Глава V
Сообщив мне имя помощника мистера Канди, Беттередж, по-видимому, решил, что он потратил достаточно времени на такой ничтожный предмет, и снова принялся за письмо Розанны Спирман.
Я сидел у окна, ожидая, пока он кончит. Мало-помалу впечатление, произведенное Эзрой Дженнингсом на меня (хотя в том положении, в каком был я, казалось совершенно непонятным, чтобы какое-нибудь человеческое существо могло произвести на меня какое бы то ни было впечатление), изгладилось из души моей. Мысли мои вернулись в прежнюю колею. Я еще раз перебрал в голове тот план, который наконец составил для будущих своих действий.
Вернуться в Лондон в этот же день, рассказать все мистеру Бреффу и наконец — “то было всего важнее — добиться (все равно какими способами и ценой каких жертв) личного свидания с Рэчель, — вот каков был мой план, насколько я был способен составить его в то время. Оставался еще час до отправления поезда; оставалась слабая надежда, что Беттередж может найти в непрочитанной еще части письма Розаны Спирман что-нибудь, что полезно мне было бы знать, прежде чем я оставлю дом, в котором пропал алмаз. Этого я и дожидался теперь.
Письмо заканчивалось в следующих выражениях:
“Не надо сердиться на меня, мистер Фрэнклин, даже если я чуть-чуть поторжествовала, узнав, что держу в руках всю вашу будущность. Тревога и опасения скоро опять вернулись ко мне. Зная мнение сыщика Каффа о пропаже алмаза, можно было предположить, что он начнет с осмотра нашего белья и одежды. В комнате моей не было места, — в целом доме не было места, — которое, по моему мнению, укрылось бы от обыска. Как спрятать вашу ночную рубашку, чтобы сыщик Кафф не смог ее найти, и как сделать это, не теряя ни минуты драгоценного времени? Нелегко было ответить на такие вопросы. Моя нерешительность кончилась тем, что я придумала способ, который, может быть, заставит вас посмеяться. Я разделась и надела вашу ночную рубашку на себя. Вы носили ее — и на минуту я почувствовала удовольствие, надев ее после вас.
Новое известие, дошедшее до нас в людской, показало, что я не опоздала ни на минуту, надев на себя вашу ночную рубашку. Сыщик Кафф пожелал видеть книгу, в которой записывалось грязное белье.
Я отнесла эту книгу в гостиную миледи. Мы с сыщиком встречались не раз в прежнее время. Я была уверена, что он узнает меня, — и не была уверена в том, как он поступит, когда увидит, что я служу в доме, где пропала ценная вещь. Я почувствовала, что в таком состоянии для меня будет облегчением сразу встретиться с ним и узнать тотчас самое худшее.
Когда я подала ему книгу, он посмотрел на меня, как будто был со мной совершенно незнаком, и особенно вежливо поблагодарил меня за то, что я принесла ее. Я подумала, что и то и другое — дурной знак. Неизвестно, что он мог сказать обо мне за спиной; неизвестно, как скоро могла я быть обыскана и очутиться в тюрьме по подозрению. В это время пришла пора вашего возвращения с железной дороги, куда вы ездили провожать мистера Годфри Эбльуайта, и я пошла в нашу любимую аллею в кустарнике, дождаться нового случая поговорить с вами — последнего случая, как я предполагала, который еще мог представиться мне.
Вы не явились, и, что было еще хуже, мистер Беттередж и сыщик Кафф прошли мимо места, где я пряталась, — и сыщик увидел меня.
После этого мне ничего не оставалось, как вернуться на свое место, к своей работе, пока со мной не случились еще новые беды. В тот момент, когда я пересекала тропинку, вы возвращались с вокзала. Вы шли прямо к кустарнику. Когда вы увидели меня, — я уверена, сэр, что вы меня увидели, — вы вдруг повернули от меня в другую сторону, словно от зачумленной, и вошли в дом.[3]
Я пробралась домой по черной лестнице. В те часы прачечная была пустая, и я оставалась там одна. Я уже вам говорила, какие мысли Зыбучие пески вызвали во мне. Эти мысли вернулись ко мне опять. Я спрашивала себя, что будет труднее сделать, если дела пойдут таким образом: перенести равнодушие мистера Фрэнклина Блэка или прыгнуть в Зыбучие пески и положить этим конец всему?
Бесполезно было бы требовать от меня объяснения моего поведения в то время. Я прилагаю все силы, и сама не могу понять его.
Почему я не остановила вас, когда вы отвернулись от меня таким жестоким образом? Почему не закричала: “Мистер Фрэнклин, я должна сказать вам кое-что, касающееся вас самих, и вы должны выслушать и выслушаете меня. Вы в моих руках, я держу вас в своей власти, как говорится. Мало того, я имею средства (если бы я только могла заставить вас поверить мне) быть полезной вам в будущем. Разумеется, я никак не предполагала, что вы, джентльмен, украли алмаз только ради одного удовольствия украсть его. Нет, Пенелопа слышала, как мисс Рэчель, а я слышала, как мистер Беттередж говорили о вашей расточительности и о ваших долгах. Для меня было ясно, что вы взяли алмаз для того, чтобы продать его или заложить и, таким образом, достать деньги, которые были вам нужны. Ну, я могла бы назвать вам одного человека в Лондоне, который дал бы вам взаймы большую сумму под залог этой вещи и не задал бы вам нескромных вопросов.
Почему я не заговорила с вами! Почему я не заговорила с вами!
Первый, кто нашел меня в пустой прачечной, была Пенелопа. Она давно уже знала мою тайну и делала все возможное, чтобы образумить меня, — и делала это ласково.
— Ах, — сказала она, — я знаю, почему вы сидите здесь одна-одинешенька и сокрушаетесь. Лучшее, что могло бы случиться для вас, Розанна, это если бы мистер Фрэнклин уехал отсюда… Я думаю, что он скоро должен будет оставить наш дом.
Мысль о возможном вашем отъезде еще ни разу не приходила мне в голову.
Я не в силах была говорить с Пенелопой. Я могла только смотреть на нее.
— Я только что ушла от мисс Рэчель, — продолжала Пенелопа, — и порядочно-таки помучилась из-за ее капризов. Она говорит, что дома ей невыносимо оставаться, пока тут полицейский; она решила сегодня же переговорить с миледи и завтра перебраться к тетушке Эбльуайт. Если она это сделает, мистер Фрэнклин тотчас найдет причину для отъезда, поверьте!
Ко мне вернулась способность говорить, когда я услышала эти слова.
— Вы хотите сказать, что мистер Фрэнклин уедет с нею? — спросила я.
— Очень охотно уехал бы, если бы она позволила ему, но она не позволит.
Ему тоже досталось от ее капризов; он тоже у нее в немилости, между тем как он сделал все, чтобы помочь ей, бедняжка! Нет, нет! Если они не помирятся до завтрашнего дня, вы увидите, что мисс Рэчель уедет в одну сторону, а мистер Фрэнклин в другую. Куда он отправится, не могу сказать.
Но он не останется здесь, Розанна, после отъезда мисс Рэчель.
Мне удалось скрыть отчаяние, которое я почувствовала при мысли о вашем отъезде. Сказать правду, я увидела проблеск надежды для себя в том, что между вами и мисс Рэчель случилось серьезное недоразумение.
— Вы не знаете, — спросила я, — из-за чего они поссорились?
— Виною всему мисс Рэчель, — сказала Пенелопа, — и, сколько мне известно, это только капризы мисс Рэчель и больше ничего. Неприятно мне огорчать вас, Розанна, но не увлекайтесь мыслью, что мистер Фрэнклин поссорится с нею. Он слишком любит ее для этого!
Едва она произнесла эти жестокие слова, как к нам вошел мистер Беттередж. Все слуги должны были сойти в нижнюю залу. А оттуда мы должны были по очереди, одна за другой, отправляться в комнату мистера Беттереджа, где нас будет допрашивать сыщик Кафф.
Очередь моя наступила после допроса горничной миледи и первой служанки.
Расспросы сыщика Каффа — хотя он их очень искусно маскировал, — вскоре показали мне, что эти две женщины (первые враги мои в доме) подсматривали у моих дверей в четверг после полудня и в тот же четверг ночью. Они достаточно наговорили сыщику, чтобы открыть ему часть истины. Он знал, что я тайно сшила ночную рубашку, но ошибочно думал, что рубашка, запачканная краской, принадлежит мне. Из того, что он мне сказал, явствовало еще одно, хотя я это и не совсем поняла. Он, разумеется, подозревал, что я замешана в пропаже алмаза. Но в то же время он показал мне — но без умысла, как я полагаю, — что не на мне лежит главная ответственность за пропажу алмаза.
Он, кажется, думал, что я действовала по приказанию какого-то другого лица. Кто это другое лицо, я так и не могла догадаться тогда, не догадываюсь и теперь.
Одно было несомненно, что сыщик Кафф вовсе не подозревает истины. Вы были в безопасности до тех пор, пока по будет найдена ваша ночная рубашка, — но ни минуты больше.
Я решила спрятать рубашку и выбрала место, известное мне лучше других, — Зыбучие пески.
Как только допросы закончились, я сослалась на первый же пришедший мне в голову предлог и выпросила позволение пойти подышать свежим воздухом. Я отправилась прямо в Коббс-Голл, в коттедж мистера Йолланда. Его жена и дочь были моими друзьями. Не подумайте, что я доверила им вашу тайну; я не доверила ее никому. Я только хотела написать вам это письмо и снять с себя в безопасном месте ночную рубашку. Так как меня подозревали, я не могла сделать ни того, ни другого в нашем доме.
Теперь я почти дописала мое длинное письмо, одна, в спальне Люси Йолланд. Когда оно будет копчено, я сойду вниз, свернув рубашку и спрятав ее под плащ. Я найду между старыми вещами в кухне миссис Йолланд какой-нибудь ящичек, чтоб сохранить рубашку целой и сухой в моем тайнике.
А потом пойду к Зыбучим пескам — не бойтесь, следы моих шагов не выдадут меня — и спрячу вашу ночную рубашку в песке, где ни одна живая душа не найдет ее, если я сама не открою этой тайны.
А когда это будет сделано, что тогда?
Тогда, мистер Фрэнклин, у меня будет двойное основание еще раз попытаться сказать вам слова, которых не смогла сказать до сих пор.
Во-первых, мне необходимо поговорить с вами до вашего отъезда, а не то я навсегда потеряю эту возможность. Во-вторых, меня успокаивает сознание, что если слова мои и рассердят вас, то ночная рубашка будет смягчающим обстоятельством. Если же эти основания не дадут мне силы выдержать холодность, которая до сих пор угнетала меня (я говорю о вашей холодности со мною), то скоро придет конец и моим усилиям и моей жизни.
Да. Если я не смогу воспользоваться первым представившимся мне случаем, если вы своей холодностью опять отпугнете меня, я прощусь со светом, отказавшим мне в счастье, которое он дает другим. Я прощусь с жизнью, которую ничто; кроме вашей доброты, не может сделать для меня приятною. Не осуждайте себя, сэр, если это кончится таким образом. Но постарайтесь хоть немного пожалеть меня! Я позабочусь, чтобы вы узнали о том, что я сделала для вас, когда уже не буду в состоянии сказать вам об этом сама. Скажете ли вы тогда что-нибудь ласковое обо мне тем же самым кротким тоном, каким вы говорите с мисс Рэчель? Если вы это сделаете и если существуют духи, я верю, что мой дух это услышит и обрадуется.
Пора кончать письмо. Я довела себя до слез. Как же я найду дорогу к тайнику, если дам ненужным слезам ослеплять мне глаза?
Кроме того, зачем смотреть мрачно на вещи? Почему не верить, что все еще может кончиться хорошо? Я могу найти вас в хорошем расположении духа сегодня, а если нет, мне, быть может, это удастся завтра утром. Мое бедное безобразное лицо не похорошеет от горя — ведь нет? Почем знать, может быть, я писала все эти скучные, длинные страницы попусту? Я положу их для безопасности (не надо упоминать сейчас о другой причине) в тайник вместе с ночной рубашкой. Трудно мне было, очень трудно писать вам это письмо. О, если бы мы могли понять друг друга, с какою радостью разорвала бы я его!
Остаюсь, сэр, преданно вас любящая и скромная слуга ваша, Розанна Спирман”.
Беттередж молча дочитал письмо. Старательно вложил его в конверт и задумался, опустив голову и потупив глаза в землю.
— Беттередж, — сказал я, — нет ли в конце письма какого-нибудь намека, который мог бы нам помочь?
Он поднял глаза медленно и с тяжелым вздохом.
— Тут нет ничего, что могло бы помочь вам, мистер Фрэнклин, — ответил он, — послушайтесь моего совета и не вынимайте этого письма из конверта до тех пор, пока ваши теперешние заботы не прекратятся. Оно очень огорчит вас, когда бы вы ни прочитали его. Не читайте его теперь.
Глава VI
Я отправился пешком на станцию. Излишне говорить, что меня сопровождал Габриэль Беттередж. Письмо находилось у меня в кармане, а ночная рубашка была спрятана в дорожную сумку, — для того чтобы показать то и другое, прежде чем сомкнуть глаза в эту ночь, мистеру Бреффу.
Мы молча вышли из дома. В первый раз, с тех пор как я его знаю, старик Беттередж не знал, о чем со мной говорить. Но так как с своей стороны я должен был сказать ему что-нибудь, я сам начал разговор, как только мы вышли из ворот парка.
— Прежде чем уехать в Лондон, — начал я, — хочу задать вам два вопроса.
Они имеют отношение ко мне самому и, думаю, несколько удивят вас.
— Если только они выбьют из головы моей письмо этой бедной девушки, мистер Фрэнклин, пусть делают со мною все, что только хотят. Пожалуйста, удивите меня, сэр, как можно скорее.
— Первый вопрос, Беттередж, вот какой: не был ли я пьян вечером в день рождения Рэчель?
— Пьяны? Вы? — воскликнул старик. — Напротив, это как раз ваш большой недостаток, мистер Фрэнклин, что вы пьете только за обедом, а уж потом — ни капельки!
— Но день рождения — день особенный. Я мог изменить своим постоянным привычкам именно в этот вечер.
Беттередж с минуту раздумывал.
— Вы изменили своим привычкам, сэр, и я скажу вам, каким образом. Вы казались ужасно нездоровым, и мы уговорили вас выпить несколько капель виски с водой, чтобы подбодрить вас немножко.
— Я не привык к виски с водою. Очень может быть…
— Погодите, мистер Фрэнклин. Я знал, что вы не привыкли, и налил вам полрюмки нашего пятидесятилетнего старого коньяку и — стыд и срам мне! — развел этот благородный напиток целым стаканом холодной воды. Ребенок не мог бы опьянеть от этого, а тем более взрослый человек!
Я знал, что могу положиться на его память в делах такого рода.
Следовательно, предположить, что я мог быть пьян, было решительно невозможно. Я перешел ко второму вопросу.
— До моей поездки за границу, Беттередж, вы наблюдали меня, когда я был ребенком. Скажите мне прямо, не было ли чего-нибудь странного во мне, после того, как я засыпал? Замечали вы когда-нибудь, чтобы я ходил во сне?
Беттередж остановился, посмотрев на меня с минуту, покачал головой и пошел дальше.
— Вижу, куда вы метите, мистер Фрэнклин, — сказал он. — Вы стараетесь объяснить, каким образом краска могла очутиться на вашей ночной рубашке без вашего ведома. Но вы на тысячи миль от истины, сэр. Разгуливать во сне? Да никогда в жизни не делали вы ничего подобного!
Опять я почувствовал, что Беттередж должен быть прав. Ни дома, ни за границей — я никогда не вел уединенного образа жизни. Если б я был лунатиком, сотни людей должны были бы заметить эту мою особенность, и из участия ко мне предостеречь меня, чтобы я мог избавиться от этой болезни.
И все-таки, допуская это, я ухватился — с упорством, и естественным, и простительным при подобных обстоятельствах, — за эти единственные два объяснения, которые могли осветить мне ужасное положение, в каком я тогда находился. Заметив, что я не удовлетворился его ответами, Беттередж искусно намекнул на последующие события в истории Лунного камня и разбил мои надежды в пух и прах, тотчас и навсегда.
— Допустим, ваше предположение правильно, но каким образом оно приведет нас к открытию истины? Если считать, что ночная рубашка является доказательством, — а я этому не верю, — вы не только перепачкались краскою от двери, сами того не зная, но также и взяли алмаз, сами не зная того.
Правильно ли я говорю?
— Совершенно правильно. Продолжайте.
— Очень хорошо, сэр. Предположим, что вы были пьяны или, как лунатик, ходили во сне, когда взяли алмаз. Это объясняет то, что случилось в ночь после дня рождения. Но каким образом это объяснит то, что случилось после?
Алмаз был отвезен в Лондон. Алмаз был заложен мистеру Люкеру. Разве вы сделали то и другое, сами не зная того? Разве вы были пьяны, когда я провожал вас в кабриолете в субботу вечером? И разве вы во сне пошли к мистеру Люкеру, после того как поезд довез вас до Лондона? Извините меня, если я скажу, мистер Фрэнклин, что это дело так расстроило вас, что вы еще не в состоянии рассуждать. Чем скорее вы посоветуетесь с мистером Бреффом, тем скорее выберетесь из безвыходного положения, в какое теперь попали.
Мы дошли до станции минуты за две до отхода поезда.
Я торопливо передал Беттереджу мой адрес в Лондоне, чтобы он мог написать мне, если это будет нужно, обещая со своей стороны сообщить ему, если и у меня будут новости. Сделав это и уже прощаясь с ним, я случайно взглянул в сторону лотка с книгами и газетами. Там опять стоял этот необыкновенный человек, помощник мистера Канди, разговаривая с хозяином лотка. В ту же минуту глаза наши встретились. Эзра Дженнингс снял шляпу. Я ответил на поклон и сел в вагон, когда поезд уже тронулся. Мне кажется, для меня было облегчением думать о совсем посторонних предметах. Как бы то ни было, я пустился в обратный путь, направляясь к мистеру Бреффу, и это имело для меня огромное значение; дорогой я раздумывал с удивлением, — сознаюсь, довольно нелепым, — что видел человека с пегими волосами дважды за один день!
Я приехал в Лондон в такой час, что у меня не было никакой надежды застать мистера Бреффа в его конторе. Я поехал поэтому с вокзала прямо к нему домой в Хэмпстед и потревожил старого стряпчего, который один-одинешенек дремал у себя в столовой, с любимой моськой на коленях и с бутылкой вина под рукой.
Действие, произведенное моим рассказом на мистера Бреффа, лучше всего передам, описав, что он стал после этого делать. Выслушав меня до конца, он приказал развести огонь, принести крепкого чаю в кабинет и велел передать своим дамам, чтоб они не тревожили нас ни под каким предлогом.
Распорядившись таким образом, он сначала рассмотрел ночную рубашку, а потом стал читать письмо Розанны Спирман.
Прочитав письмо, мистер Брефф заговорил со мною в первый раз с тех пор, как мы заперлись в его кабинете.
— Фрэнклин Блэк, — сказал старый джентльмен, — это очень серьезное дело во всех отношениях. По-моему, оно касается Рэчель так же близко, как и вас. Ее странное поведение теперь уже не тайна. Она уверена, что вы украли алмаз.
Я долго боролся с собой, отталкивая этот возмутительный вывод. Но он все же неизбежно навязывался мне. Намерение добиться личного свидания с Рэчель основывалось, правду сказать, именно на том утверждении, которое теперь высказал мистер Брефф.
— Первый шаг, какой следует теперь сделать, — продолжал стряпчий, — это обратиться к Рэчель. Она молчала до сих пор по причинам, которые я, зная ее характер, легко могу понять, но после того, что случилось, невозможно более сносить это молчание. Ее надо убедить или принудить сказать нам, почему она уверена, что именно вы взяли Лунный камень. Есть надежда, что все это дело, которое кажется нам таким серьезным, обратится в ничто, если нам удастся переломить Рэчель и убедить ее высказаться.
— Это очень успокоительное мнение для меня, — сказал я. — Признаюсь, мне хотелось бы знать…
— Вам хотелось бы знать, чем я обосновываю свое мнение, — перебил мистер Брефф. — Я могу объяснить вам это в две минуты. Поймите, во-первых, что я смотрю на дело с юридической точки зрения. Для меня вопрос состоит в улике. Очень хорошо! Улика оказывается несостоятельной с самого начала в одном важном пункте.
— В каком?
— Вы сейчас услышите. Согласен, что метка на ночной рубашке доказывает, что эта рубашка ваша. Согласен, что пятно от краски доказывает, что эта ночная рубашка испачкана краской на двери Рэчель. Но где доказательства, что эта ночная рубашка была на вас?
Это соображение наэлектризовало меня. До этой минуты оно не приходило мне в голову.
— Что до этого, — продолжал стряпчий, взяв в руки признание Розанны Спирман, — то я понимаю, письмо неприятно для вас. Понимаю, что вы не решаетесь анализировать его с чисто объективной точки зрения. Но я нахожусь не в таком положении, как вы. Основываясь на своем юридическом опыте, я могу рассматривать этот документ, как рассматривал бы всякий другой. Не упоминая о том, что эта женщина была воровкой, я только замечу, что ее письмо доказывает, по ее собственному признанию, насколько искусной обманщицей она была, — поэтому я имею право подозревать, что она сказала вам не всю правду. Не стану сейчас рассуждать о том, могла или не могла она это сделать. Скажу только, что если Рэчель подозревает вас лишь из-за одной этой ночной рубашки, можно почти наверное сказать, что эту рубашку показала ей Розанна Спирман. Эта женщина признается в своем письме, что она ревновала к Рэчель, что она подменяла ее розы в вазе, что она видела проблеск надежды для себя в ссоре между Рэчель и вами. Не стану спрашивать, кто взял Лунный камень (чтобы достигнуть своей цели, Розанна Спирман взяла бы пятьдесят Лунных камней), — скажу только, что исчезновение алмаза дало этой влюбленной воровке удобный случай поссорить вас с Рэчель на всю жизнь. Она не решилась лишить себя жизни тогда, вспомните это! И я решительно утверждаю, что по своему характеру и положению она была вполне способна воспользоваться случаем украсть камень.
Что вы на это скажете?
— Нечто подобное мелькнуло в моих мыслях, как только я распечатал письмо, — ответил я.
— Именно! А когда вы прочли письмо, вы пожалели эту бедную девушку, и у вас не хватило духу заподозрить ее. Это делает вам честь, любезный сэр, это делает вам честь!
— Но, положим, окажется, что эта ночная рубашка была на мне. Тогда что?
— Я не вижу, как это может быть доказано, — сказал мистер Брефф. — Но если допустить, что это предположение возможно, доказать вашу невиновность будет не легко. Не станем сейчас входить в это. Подождем и посмотрим, заподозрила ли вас Рэчель только на основании улики, какой является ночная рубашка.
— Боже! Как хладнокровно говорите вы о том, что Рэчель подозревает меня! — вспылил я. — Какое право имеет она подозревать в воровстве на основании какой бы то ни было улики?
— Весьма разумный вопрос, любезный сэр. Несколько горячо предложенный, но все-таки стоящий внимания. То, что приводит в недоумение вас, приводит в недоумение и меня. Поищите в своей памяти и скажите мне, не произошло ли чего-нибудь, когда вы гостили в доме леди Вериндер, такого, что заставило бы ее усомниться в вашей честности, или, скажем, хотя бы (пусть даже и неосновательно) в ваших нравственных принципах вообще?
В непреодолимом волнении я вскочил с места. Вопрос стряпчего впервые после отъезда моего из Англии напомнил мне о том, что действительно произошло у леди Вериндер.
Я имел неосторожность (нуждаясь, по обыкновению, в то время в деньгах) взять некоторую сумму взаймы у содержателя небольшого ресторана в Париже, которому я был хорошо известен, как его постоянный посетитель. Для уплаты назначен был срок, а когда он настал, я не смог сдержать своего слова, как это часто случается с тысячью других честных людей. Я послал этому человеку вексель. Подпись моя, к несчастью, была хорошо известна на подобных документах: ему не удалось перепродать его. Дела его пришли в беспорядок, и его родственник, французский стряпчий, приехал ко мне в Англию и стал настаивать, чтобы я заплатил ему свой долг. Это был человек весьма вспыльчивый, и он выбрал неверный тон для объяснений. С обеих сторон было сказано много резкостей; тетушка и Рэчель, к несчастью, находились в соседней комнате и слышали наш разговор. Леди Вериндер вошла к нам и захотела непременно узнать, что случилось. Француз показал данную ему доверенность и объявил, что я виноват в разорении бедного человека, который поверил в мою честность. Тетушка немедленно выплатила ему деньги и отослала его. Она, разумеется, настолько знала меня, что не разделяла мнения француза обо мне. Но она была оскорблена моей небрежностью и справедливо рассердилась на меня за то, что я поставил себя в положение, которое без ее вмешательства могло бы сделаться очень неприятным. Мать ли рассказала ей обо всем, или Рэчель сама услышала об этом из соседней комнаты, не могу сказать. Но только она по-своему, романтически и свысока, взглянула на этот случай. Я был “бездушен”, я был “неблагороден”, я “не имел правил”, неизвестно, “что я мог сделать потом”, — словом, она наговорила мне таких жестоких вещей, каких я еще не слыхивал ни от одной молодой девушки. Разрыв между нами продолжался весь следующий день. На третий день мне удалось помириться с ней, и я перестал думать об этом. Не припомнила ли Рэчель этот несчастный случай в ту критическую минуту, когда мое право на ее уважение снова, и гораздо серьезнее, было поставлено под вопрос? Мистер Брефф, когда я рассказал ему все, тотчас ответил утвердительно.
— Он должен был повлиять на нее, — ответил он серьезно, — и я, ради вас самого, желал бы, чтобы этого не произошло. Однако мы с вами открыли, что это обстоятельство повредило вам, и, по крайней мере, выяснили хоть одну загадку. Не вижу, что могли бы мы сделать дальше. Следующий наш шаг в этом следствии должен привести нас к Рэчель.
Он встал и начал в задумчивости ходить взад и вперед по комнате. Два раза я чуть было не сказал ему, что сам решил увидеться с Рэчель, и два раза, принимая во внимание его лета и характер, поостерегся обрушить на него новую неожиданность в такую неблагоприятную минуту.
— Главное затруднение состоит в том, — продолжал он, — чтобы заставить ее высказаться до конца. Что вы предлагаете?
— Я решил, мистер Брефф, сам поговорить с Рэчель.
— Вы?!
Он вдруг остановился и посмотрел на меня так, как будто я был не в своем уме.
— Вы? Да разве это возможно для вас?
Он резко тряхнул головой и опять прошелся по комнате.
— Стойте-ка, — сказал он. — В подобных необыкновенных случаях неосторожность может иногда оказаться лучшим способом.
Он обдумывал вопрос в этом новом свете еще минуты две-три и вдруг смело решил в мою пользу.
— Не рискнешь — не выиграешь, — заключил старый джентльмен. — У вас есть шансы, которых нет у меня, — вы первый и сделаете опыт.
— У меня есть шансы? — повторил я с величайшим удивлением.
На лице мистера Бреффа впервые появилась улыбка.
— Вот в чем дело, — произнес он, — честно признаюсь, я не питаю надежды ни на вашу осторожность, ни на ваше хладнокровие. Но я питаю надежду на то, что в глубине своего сердца Рэчель еще сохранила к вам некоторую слабость. Коснитесь этой слабости, и, поверьте, за этим последует самое откровенное признание, на какое только способна женщина. Вопрос лишь в том, каким образом вам встретиться с нею.
— Она гостила у вас в этом доме, — ответил я. — Могу я просить вас пригласить ее сюда, не говоря о том, что она увидится здесь со мною?
— Здорово! — сказал мистер Брефф.
Произнеся только одно это слово в ответ на мое предложение, он снова прошелся по комнате.
— Проще говоря, — продолжал он, — мой дом должен превратиться в ловушку для Рэчель, с приманкою в виде приглашения от моей жены и дочерей. Если б вы были не Фрэнклин Блэк и если бы это дело было на волос менее серьезно, чем оно есть, я отказался бы наотрез. Но обстоятельства сейчас таковы, что я твердо уверен: сама Рэчель будет впоследствии благодарна за мое вероломство по отношению к ней, неожиданное для моих преклонных лет.
Считайте меня своим сообщником. Рэчель будет приглашена провести у нас день и вам своевременно дано будет знать об этом.
— Когда? Завтра?
— Завтра мы еще не успеем получить от нее ответ. Пусть будет послезавтра.
— Как вы дадите мне знать?
— Сидите весь вечер дома, я сам заеду к вам.
Я поблагодарил его за неоценимую помощь, которую он мне оказывал, с чувством горячей признательности и, отказавшись от гостеприимного приглашения переночевать в Хэмпстеде, вернулся на свою лондонскую квартиру.
О следующем дне я могу только сказать, что это был самый длинный день в моей жизни. Хотя я знал о своей невиновности, хотя я был уверен, что гнусное обвинение, лежавшее на мне, должно разъясниться рано или поздно, все же в душе моей было чувство самоунижения, как-то инстинктивно державшее меня вдали от моих друзей. Мы часто слышим, — чаще всего, впрочем, от поверхностных наблюдателей, — что преступление может иметь вид невинности. Гораздо вернее мне кажется то, что невинность может походить на преступление. Я приказал никого не принимать целый день и осмелился выйти лишь под покровом ночной темноты.
На следующее утро, когда я еще сидел за завтраком, неожиданно появился мистер Брефф. Он подал мне большой ключ и сказал, что ему стыдно за себя первый раз в жизни.
— Она придет?
— Придет сегодня завтракать и проведет целый день с моей женой и дочерьми.
— Миссис Брефф и ваши дочери посвящены в нашу тайну?
— Иначе было нельзя. Но женщины, как вы, может быть, сами заметили, не так строги в своих правилах. Мое семейство не испытывает угрызений совести. Так как цель состоит в том, чтобы свести вас с Рэчель, моя жена и дочери, подобно иезуитам, смотрят на средства для ее достижения со спокойной совестью.
— Я бесконечно обязан им. Что это за ключ?
— Ключ от калитки моего сада. Будьте там в три часа. Войдите в сад, а оттуда через оранжерею в дом. Пройдите маленькую гостиную и отворите дверь прямо перед собою, которая ведет в музыкальную комнату. Там вы найдете Рэчель — и найдете ее одну.
— Как мне благодарить вас?
— Я вам скажу, как: не обвиняйте меня за то, что случится после этого!
С такими словами он ушел от меня.
Ждать приходилось еще долго. Чтобы как-нибудь провести время, я стал пересматривать письма, принесенные с почты. Между ними оказалось письмо от Беттереджа.
Я поспешно распечатал это письмо. К моему удивлению и разочарованию, оно начиналось с извинения в том, что не содержит никаких особенных новостей. В следующей фразе необыкновенный Эзра Дженнингс появился опять!
Он остановил Беттереджа, возвращавшегося со станции, и спросил его, кто я таков. Узнав мое имя, он сообщил о том, что видел меня, своему патрону, мистеру Канди. Доктор Канди, услышав об этом, сам приехал к Беттереджу выразить свое сожаление, что мы не увиделись. Он сказал, что имеет особую причину желать встречи со мною и просил, чтобы я дал ему знать, как только опять буду в окрестностях Фризинголла. Кроме нескольких фраз, характерных для философии Беттереджа, вот все содержание письма моего корреспондента.
Добрый, преданный старик сознавался, что написал его “скорее из удовольствия писать ко мне”.
Я сунул это письмо в карман и через минуту забыл о нем, поглощенный мыслями о свидании с Рэчель.
Когда на часах хэмпстедской церкви пробило три, я вложил ключ мистера Бреффа в замок двери, сделанной в стене сада. Признаюсь, что, входя в сад и запирая калитку с внутренней стороны, я чувствовал некоторый страх при мысли о том, что может произойти. Украдкой я осмотрелся по сторонам, опасаясь какого-нибудь неожиданного свидетеля в скрытом уголке сада. Но ничто не подтвердило моих опасений. Аллеи сада все до одной были пусты, и единственными моими свидетелями были птицы и пчелы.
Я прошел через сад, вошел в оранжерею, миновал маленькую гостиную.
Когда я взялся за ручку двери, которая вела в комнату, я услышал несколько донесшихся оттуда жалобных аккордов на фортепиано. Рэчель часто так же рассеянно перебирала клавиши, когда я гостил в доме ее матери. Я был принужден остановиться на несколько мгновений, чтобы собраться с духом. В ту минуту мое прошлое и настоящее всплыли передо мною, и контраст между ними поразил меня.
Через несколько секунд я вооружился мужеством и отворил дверь.
Глава VII
В то мгновение, когда я показался в дверях, Рэчель встала из-за фортепиано.
Я закрыл за собою дверь. Мы молча смотрели друг на друга. Нас разделяла вся длина комнаты. Движение, которое Рэчель сделала, встав с места, было как будто единственным движением, на какое она была сейчас способна. В эту минуту все ее душевные силы сосредоточились во взгляде на меня.
У меня промелькнуло опасение, что я появился слишком внезапно. Я сделал к ней несколько шагов. Я сказал мягко:
— Рэчель!
Звук моего голоса вернул ее к жизни и вызвал краску на ее лице. Она молча двинулась мне навстречу. Медленно, как бы действуя под влиянием силы, не зависящей от ее воли, она подходила ко мне все ближе и ближе; теплая, густая краска залила ее щеки, блеск ее глаз усиливался с каждой минутой. Я забыл о цели, которая привела меня к ней; я забыл, что гнусное подозрение лежит на моем добром имени; я забыл всякие соображения, прошлое, настоящее и будущее, о которых обязан был помнить. Я не видел ничего, кроме женщины, которую я любил, подходящей ко мне все ближе и ближе. Она дрожала, она стояла в нерешительности. Я не мог больше сдерживаться, — я схватил ее в объятия и покрыл поцелуями ее лицо.
Была минута, когда я думал, что на мои поцелуи отвечают, минута, когда мне показалось, будто и она также забыла все на свете. Но не успела эта мысль мелькнуть у меня в голове, как ее первый же сознательный поступок заставил меня почувствовать, что она все помнит. С криком, похожим на крик ужаса, и с такою силою, что я сомневаюсь, мог ли бы устоять я против нее, если бы попытался, она оттолкнула меня от себя. Я увидел в глазах ее беспощадный гнев, я увидел на устах ее безжалостное презрение. Она окинула меня взглядом сверху вниз, как сделала бы это с человеком посторонним, оскорбившим ее.
— Трус! — сказала она. — Низкий вы, презренный, бездушный трус!
Таковы были ее первые слова. Она выискала самый непереносимый укор, какой только женщина может сделать мужчине, и обратила его на меня.
— Я помню время, Рэчель, — ответил я, — когда вы могли более достойным образом сказать мне, что я оскорбил вас. Прошу вас простить меня.
Быть может, горечь, которую я чувствовал, сообщилась и моему голосу.
При первых моих словах глаза ее, отвернувшиеся от меня за минуту перед этим, снова нехотя обратились ко мне. Она ответила тихим голосом, с угрюмой покорностью в обращении, которая была для меня совершенно нова в ней.
— Может быть, я заслуживаю некоторого извинения, — сказала она. — После того, что вы сделали, мне кажется, — это низкий поступок с вашей стороны пробраться ко мне таким образом, как пробрались сегодня вы. Мне кажется, малодушно с вашей стороны рассчитывать на мою слабость к вам. Мне кажется, это низко, пользуясь неожиданностью, добиться от меня поцелуя. Но это лишь женская точка зрения. Мне следовало бы помнить, что вы не можете ее разделять. Я поступила бы лучше, если бы овладела собой и не сказала вам ничего.
Это извинение было тяжелее оскорбления. Самый ничтожный человек на свете почувствовал бы себя униженным.
— Если бы моя честь не была в ваших руках, — сказал я, — я оставил бы вас сию же минуту и никогда больше не увиделся бы с вами. Вы упомянули о том, что я сделал. Что же я сделал?
— Что вы сделали? Вы задаете этот вопрос мне?
— Да.
— Я сохранила в тайне вашу гнусность, — ответила она, — и перенесла последствия своего молчания. Неужели я не имею права на то, чтобы вы избавили меня от оскорбительного вопроса о том, что вы сделали? Неужели всякое чувство признательности умерло в вас? Вы были когда-то джентльменом. Вы были когда-то дороги моей матери, и еще дороже — мне…
Голос изменил ей. Она опустилась на стул, повернулась ко мне спиной и закрыла лицо руками.
Я выждал немного, прежде чем нашел в себе силы говорить дальше. В эту минуту молчания сам не знаю, что я чувствовал больнее — оскорбление ли, нанесенное мне ее презрением, или гордую решимость, которая не позволяла мне разделить ее горе.
— Если вы не заговорите первая, — начал я, — должен это сделать я. Я пришел сюда с намерением сказать вам нечто серьезное. Будете ли вы ко мне хотя бы справедливы и согласитесь ли выслушать меня?
Она не шевелилась и не отвечала. Я не спрашивал ее более; я не подвинулся ни на шаг к ее стулу. Проявляя такую упорную гордость, как и она, я рассказал ей о своем открытии в Зыбучих песках и обо всем, что привело меня к нему. Рассказ, разумеется, занял немного времени. С начала до конца она не обернулась ко мне и не произнесла ни слова.
Я был сдержан. Вся моя будущность, по всей вероятности, зависела от того, не потеряю ли я самообладания в эту минуту. Настало время проверить теорию мистера Бреффа. Охваченный острым желанием испытать ее, я обошел вокруг стула и стал так, чтоб оказаться лицом к лицу с Рэчель.
— Я должен задать вам один вопрос, — сказал я. — И это вынуждает меня вернуться к тяжелому предмету. Показала вам Розанна Спирман мою ночную рубашку? Да или нет?
Она вскочила на ноги и прямо подошла ко мне. Глаза ее впились мне в лицо, словно желая прочесть там то, чего еще никогда не читали в нем.
— Вы сошли с ума! — воскликнула она.
Я все еще сдерживался. Я сказал спокойно:
— Рэчель, ответите ли вы на мой вопрос?
Она продолжала, не обращая на меня внимания:
— Не кроется ли тут какая-нибудь неизвестная мне цель? Какой-нибудь малодушный страх за будущее, который затрагивает и меня? Говорят, после смерти вашего отца вы разбогатели. Может быть, вы пришли сюда затем, чтобы вернуть мне стоимость моего алмаза? И неужели вам не совестно приходить но мне с такой целью? Не это ли тайна вашей мнимой невиновности и вашей истории о Розанне Спирман? Не кроется ли стыд в глубине всей этой лжи?
Я перебил ее. Я не мог уже сдерживаться.
— Вы нанесли мне ужасную обиду, — вскричал я. — Вы все еще подозреваете, что я украл ваш алмаз. Я имею право и хочу знать, по какой причине?
— Подозреваю вас! — воскликнула она, приходя в возбуждение, равное моему. — Негодяй! Я видела собственными глазами, как вы взяли алмаз! Открытие, засверкавшее на меня из этих слов, уничтожение всего, на что надеялся мистер Брефф, привело меня в оцепенение. При всей моей невиновности, я стоял перед ней молча. В ее глазах, в глазах всякого я должен был казаться человеком, потрясенным открытием его преступленья.
Ее смутило зрелище моего унижения и своего торжества. Внезапное мое молчание как будто испугало ее.
— Я пощадила вас в то время, — сказала она, — я пощадила бы вас и теперь, если б вы не вынудили меня заговорить.
Она отошла, как бы для того, чтобы выйти из комнаты, и заколебалась, прежде чем дошла до двери.
— Почему вы пришли сюда унижать себя? — спросила она. — Почему вы пришли сюда унижать меня?
Она сделала еще несколько шагов и опять остановилась.
— Ради бога, скажите что-нибудь! — воскликнула она в волнении. — Если осталась в вас хоть какая-нибудь жалость, не давайте мне унижать себя таким образом. Скажите, что-нибудь — и выгоните меня из комнаты!
Я подошел к ней, сам не зная, что делаю. Может быть, у меня была какая-нибудь смутная мысль удержать ее, пока она не сказала еще чего-нибудь. С той минуты, как я узнал, что свидетельство, на основании которого Рэчель обвинила меня, было свидетельством ее собственных глаз, ничто — даже убеждение в собственной невиновности — не было ясно для меня.
Я взял ее за руку; я старался говорить с нею твердо и разумно, а мог только выговорить:
— Рэчель, вы когда-то любили меня!
Она задрожала и отвернулась от меня. Рука ее, бессильная и дрожащая, оставалась в моей руке.
— Пустите мою руку, — произнесла она слабым голосом.
Мое прикосновение к руке ее произвело на нее такое же действие, как звук моего голоса, когда я вошел в комнату. После того, как она назвала меня трусом, после ее признания, поставившего на мне клеймо вора, я еще имел власть над нею, покуда рука ее лежала в моей руке!
Я тихо отвел ее на середину комнаты. Я посадил ее возле себя.
— Рэчель, — сказал я, — не могу объяснить противоречия в том, что сейчас вам скажу. Могу только сказать вам правду, как сказали ее вы. Вы видели, как я взял алмаз. Перед богом, который слышит нас, объявляю, что только сейчас впервые узнал, что я взял его! Вы все еще сомневаетесь во мне?
Она или не обратила внимания на мои слова, или не слыхала их.
— Оставьте мою руку, — повторила она слабым голосом.
Это было единственным ее ответом. Голова ее упала на мое плечо, а рука бессознательно сжала мою руку в ту минуту, когда она попросила меня выпустить ее.
Я удержался от повторения вопроса. Но на этом и кончилось мое терпение.
Я понял, что снова смогу смотреть в глаза честным людям, только если заставлю Рэчель рассказать все подробно. Единственная надежда, остававшаяся у меня, состояла в том, что, может быть, Рэчель не обратила внимания на какое-нибудь звено в цепи, — на какую-нибудь безделицу, которая, быть может, при внимательном исследовании могла послужить средством для доказательства моей невиновности. Признаюсь, я не выпускал ее руки. Признаюсь, я заговорил с нею со всей теплотой и доверием прошлых времен.
— Я хочу спросить вас кое о чем, — сказал я. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что случилось с той самой минуты, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи, и до того момента, когда вы увидели, что я взял алмаз.
Она подняла голову с моего плеча и сделала усилие, чтобы высвободить свою руку.
— О! Зачем возвращаться к этому? — сказала она. — Зачем возвращаться?
— Я скажу вам зачем, Рэчель. Вы и я жертвы какого-то страшного обмана, надевшего маску истины. Если мы взглянем вместе на то, что случилось в ночь после дня вашего рождения, мы, быть может, еще поймем друг Друга.
Голова ее опять упала на мое плечо. Слезы выступили на ее глазах и медленно покатились по щекам.
— О! — сказала она. — Разве я не имела этой надежды? Разве я не старалась смотреть на это так, как смотрите вы теперь?
— Вы старались одна, — ответил я, — вы еще не старались с моей помощью.
Эти слова как будто пробудили в ней ту надежду, которую я чувствовал сам, когда произнес их. Она отвечала на мои вопросы не только с покорностью, но и с усилием ума; она охотно раскрывала мне всю душу.
— Начнем, — сказал я, — с того, что случилось после того, как мы пожелали друг другу спокойной ночи. Легли вы в постель или нет?
— Я легла в постель.
— Заметили вы, который был час? Было поздно?
— Не очень. Я думаю, около двенадцати часов.
— Вы заснули?
— Нет. Я не могла спать в эту ночь.
— Вы были встревожены?
— Я думала о вас.
Этот ответ почти отнял у меня все мужество. Что-то в тоне, даже более, чем в словах, прямо проникло мне в сердце. Только после некоторого молчания мог я продолжать.
— Был у вас в комнате свет? — спросил я.
— Нет, — пока я не встала и не зажгла свечу.
— Через сколько времени после того, как вы легли в постель.
— Кажется, через час.
— Вы вышли из спальни?
— Я собиралась выйти. Я накинула халат и пошла в гостиную за книгой…
— Вы отворили дверь вашей спальни?
— Отворила.
— Но еще не вошли в гостиную?
— Нет, я была остановлена…
— Что остановило вас?
— Я увидела свет в щели под дверью и услышала шаги.
— Вы испугались?
— Нет. Я знала, что моя бедная мама страдает бессонницей, и вспомнила, что она уговаривала меня отдать ей на сохранение алмаз. Мне казалось, что она безосновательно беспокоилась о нем, и я вообразила, что она пришла посмотреть, в постели ли я, и поговорить со мною об алмазе, если увидит, что я еще не сплю.
— Что же вы сделали?
— Я потушила свечу, чтобы она вообразила, что я сплю. Я была упряма, — мне хотелось оставить алмаз там, куда я его положила.
— Задув свечу, вы опять легли в постель?
— Я не успела. В ту минуту, когда я задула свечу, дверь гостиной отворилась, и я увидела…
— Вы увидели?
— Вас.
— Одетого, как обычно?
— Нет. В ночной рубашке, со свечою в руке.
— Одного?
— Одного.
— Вы могли видеть мое лицо?
— Да.
— Ясно?
— Совершенно, Свеча в вашей руке осветила мне его.
— Глаза мои были открыты?
— Да.
— Вы заметили в них что-нибудь странное, что-нибудь похожее на пристальное или бессмысленное выражение?
— Совсем нет. Ваши глаза были блестящи, более блестящи, чем обыкновенно. Вы так осматривались в комнате, словно знали, что вы там, где вам не следует быть, и словно боялись, что вас увидят.
— Вы обратили внимание, какой у меня был вид, когда я входил в комнату?
— Вы шли, как ходите всегда. Вы дошли до середины комнаты, а потом остановились и осмотрелись вокруг.
— Что же вы сделали, когда увидели меня?
— Я не могла ничего сделать. Я стояла как окаменелая. Я не могла заговорить, я не могла закричать, я не могла даже пошевелиться, чтобы запереть дверь.
— Мог я вас видеть там, где вы стояли?
— Конечно, вы могли видеть меня. Но вы ни разу не взглянули на меня.
Бесполезно задавать этот вопрос. Я уверена, что вы меня не видели.
— Почему же вы так уверены?
— Иначе разве вы взяли бы алмаз? Поступили бы так, как поступили впоследствии? Были бы вы здесь теперь, если б знали, что я тогда не спала и смотрела на вас? Не заставляйте меня говорить об этом! Я хочу отвечать вам спокойно. Помогите мне сохранить спокойствие. Перейдемте к чему-нибудь другому.
Она была права, права во всех отношениях. Я перешел к другому.
— Что я сделал после того, как вышел на середину комнаты и остановился там?
— Вы повернулись и прямо пошли к углу возле окна, где стоит мой индийский шкапчик.
— Когда я стоял у шкапчика, я должен был стоять к вам спиной. Как же вы видели, что я делал?
— Когда вы двинулись с места, двинулась и я.
— Чтобы видеть, что я делаю?
— В моей гостиной три зеркала. Когда вы стояли там, я увидела все отраженным в одном из зеркал.
— Что же вы увидели?
— Вы поставили свечу на шкапчик. Вы выдвинули и задвинули один ящик за другим, пока не дошли до того, в который я положила алмаз. Вы с минуту смотрели на отворенный ящик, а потом сунули в него руку и вынули алмаз.
— Почему вы узнали, что я вынул алмаз?
— Я видела, как вы сунули руку в ящик. Я видела блеск камня между вашим указательным и большим пальцем, когда вы вынули руку из ящика.
— Не протянулась ли рука моя опять к шкапу, чтобы, например, запереть его?
— Нет. Алмаз был у вас в правой руке, а свечку со шкапчика вы сняли левой рукой.
— После этого я опять осмотрелся вокруг?
— Нет.
— Я сейчас же вышел из комнаты?
— Нет. Вы стояли совершенно неподвижно, как мне показалось, и довольно долго. Я видела лицо ваше в зеркале. Вы походили на человека задумавшегося и недовольного своими мыслями.
— Что же случилось потом?
— Вы вдруг пробудились от задумчивости и сразу вышли из комнаты.
— Я запер за собою дверь?
— Нет. Вы быстро вышли в коридор и оставили дверь открытой.
— А потом?
— Потом огонь от вашей свечи исчез, и звук ваших шагов замер, а я осталась одна в комнате.
— И ничего не произошло больше до той минуты, когда весь дом узнал, что алмаз пропал?
— Ничего.
— Вы уверены в этом? Не заснули ли вы на короткое время?
— Я совсем не спала, я совсем не ложилась в постель. Ничего не случилось до тех пор, пока не вошла Пенелопа, в свое обычное время, утром.
Я выпустил ее руку, встал и прошелся по комнате. На каждый мой вопрос был дан ответ. Каждая мелочь, какую я захотел узнать, была освещена передо мною. Я даже вернулся было к мысли о лунатизме и опьянении; и опять невозможность того и другого встали передо мной — на этот раз в показании свидетеля, видевшего меня своими глазами. Что следовало теперь сказать?
Что следовало теперь сделать? Только один ужасный факт воровства — единственный видимый и осязаемый факт — стоял передо мною среди непроницаемого мрака, окружавшего меня, в котором тонуло все? Не было ни малейшего проблеска света, когда я узнал тайну Розанны Спирман в Зыбучих песках. И ни малейшего проблеска света теперь, когда я обратился к самой Рэчель и услышал отвратительную историю ночи от нее самой.
На этот раз она первая прервала молчание.
— Ну, — сказала она, — вы спрашивали, а я отвечала. Вы подали мне надежду, что из всего этого выйдет что-нибудь, потому что вы сами на что-то надеялись. Что вы теперь скажете?
Тон, которым она говорила, показал мне, что мое влияние на нее прекратилось.
— Мы должны были вместе пересмотреть то, что случилось в ночь после дня моего рождения, — продолжала она, — и тогда мы должны были понять друг друга. Случилось ли это?
Она безжалостно ждала моего ответа. Отвечая ей, я сделал гибельную ошибку, — я позволил отчаянной беспомощности моего положения одержать верх над моим самообладанием. Опрометчиво и бессмысленно я стал упрекать ее за молчание, которое до сих пор оставляло меня в неведении.
— Если б вы высказались, когда вам следовало высказаться, — начал я, — если б вы поступили со мной справедливо и объяснились…
С криком бешенства прервала она меня. Слова, сказанные мною, немедленно привели ее в неистовую ярость.
— Объясниться! — повторила она. — О, есть ли другой такой человек на свете? Я пощадила его, когда разрывалось мое сердце, я защитила его, когда дело шло о моей репутации, а он теперь упрекает меня и говорит, что мне следовало объясниться! После того, как я верила ему, после того, как я его любила, после того, как я думала о нем днем, видела его во сне ночью, — он спрашивает, почему я не обвинила его в бесчестии в первый раз, как мы встретились. “Возлюбленный моего сердца, ты вор! Мой герой, которого я люблю и уважаю, ты пробрался в мою комнату под прикрытием ночной темноты и украл мой алмаз!” — вот что следовало мне сказать. О негодяй, о низкий, низкий, низкий негодяй! Я лишилась бы пятидесяти алмазов скорее, чем увидеть ваше лицо, лгущее мне, как оно лжет теперь!
Я взял шляпу. Из сострадания к ней — да, честно говорю, — из сострадания к ней я отвернулся, не говоря ни слова, и отворил дверь, через которую вошел в комнату.
Она пошла за мною, оттолкнула меня от двери, захлопнула ее и указала на стул, с которого я поднялся.
— Нет, — сказала она. — Не сейчас! Оказывается, я еще обязана оправдать мое поведение перед вами. Так останьтесь и выслушайте меня, а если вы, против моей воли, уйдете отсюда, это будет самая большая низость.
Тяжко было мне видеть ее, тяжко было мне слышать ее слова. Я ответил знаком — вот все, что я мог сделать, — что покоряюсь ее воле.
Яркий румянец гнева начал сбегать с ее лица, когда я вернулся и молча сел на стул. Она переждала немного и собралась с силами. Когда она заговорила, ни единого признака чувства не было заметно в ней. Она говорила, не глядя на меня. Руки ее были крепко стиснуты на коленях, а глаза устремлены в землю.
— Я должна была поступить с вами справедливо и объясниться, — повторила она мои слова. — Вы увидите, старалась ли я быть с вами справедлива или нет. Я сказала вам сейчас, что совсем не спала и совсем не ложилась в постель после того, как вы вышли из моей гостиной. Бесполезно докучать вам рассказом о том, что я думала, — вы меня не поймете; скажу только, что я сделала, когда через некоторое время пришла в себя. Я решила не поднимать тревоги в доме и не рассказывать о том, что случилось, как это мне следовало бы сделать. Несмотря на то, что я все видела своими глазами, я так любила вас, что готова была поверить чему угодно, только не тому, что вы вор. Я думала, думала — и кончила тем, что написала вам.
— Я никогда не получал этого письма.
— Знаю, что вы никогда его не получали. Подождите немного, и вы услышите — почему. Письмо мое ничего не сказало бы вам ясно. Оно не погубило бы вас на всю жизнь, если бы попало в руки кому-нибудь другому. В нем только говорилось (но так, что вы не могли ошибиться), что у меня есть основание думать, что вы в долгу и что мне и матери моей известно, до какой степени вы неразборчивы и нещепетильны в средствах, какими достаете деньги, когда они вам нужны. Вы при этом вспомнили бы визит французского стряпчего и догадались бы, на что я намекаю. Если б вы продолжали читать с интересом и после того, вы дошли бы до предложения, которое я хотела вам сделать, — предложения тайного (с тем, чтобы ни слова не было сказано вслух об этом между нами): дать вам взаймы такую большую сумму денег, какую я только могу получить. И я достала бы ее! — воскликнула Рэчель.
Румянец на щеках ее опять сгустился, она взглянула на меня. — Я сама заложила бы алмаз, если б не смогла достать денег другим путем. Вот о чем написала я вам. Подождите! Я сделала больше. Я условилась с Пенелопой, чтобы она отдала вам письмо с глазу на глаз. Я хотела запереться в своей спальне и оставить свою гостиную открытой и пустой все утро. И я надеялась — надеялась всем сердцем и душой, — что вы воспользуетесь этим случаем и тайно положите алмаз обратно в шкапчик.
Я попытался заговорить. Она нетерпеливым жестом остановила меня. Ее настроение то и дело менялось, и гнев ее снова начал разгораться. Она встала со стула и подошла ко мне.
— Я знаю, что вы скажете, — продолжала она. — Вы хотите опять напомнить мне, что не получили письма. Я могу сказать вам, почему: я его порвала.
— По какой причине?
— По самой основательной. Я предпочла скорее порвать его, чем отдать такому человеку, как вы! Какие первые известия дошли до меня утром? Как только я составила свой план, о чем я услышала? Я услышала, что вы — вы!!! — прежде всех в доме пригласили полицию. Вы были деятельнее всех, вы были главным действующим лицом, вы трудились прилежнее всех, чтобы отыскать алмаз! Вы даже довели вашу смелость до того, что хотели говорить со мною о пропаже алмаза, который украли сами же, алмаза, который все время находился у вас в руках! После этого доказательства ужасной вашей лживости и хитрости я разорвала свое письмо. Но даже тогда, когда меня с ума сводили допытывания и расспросы полицейского, которого пригласили вы, — даже тогда какое-то ослепление души моей не допустило меня совершенно отказаться от вас. Я говорила себе: “Он играет свой гнусный фарс перед всеми другими в доме. Попробуем, сможет ли он разыгрывать его передо мной”. Кто-то сказал мне, что вы на террасе. Я принудила себя взглянуть на вас. Я принудила себя заговорить с вами. Вы забыли, что я сказала вам?
Я мог бы ответить, что помню каждое ее слово. Но какую пользу в эту минуту принес бы мне мой ответ?
Как я мог сказать ей, что сказанное ею тогда удивило и огорчило меня, заставило думать, что она находится в состоянии самого опасного нервного возбуждения, вызвало в душе моей даже сомнение, составляет ли для нее пропажа алмаза такую же тайну, как и для всех нас, — но не показало мне и проблеска истины. Не имея ни малейшего доказательства в свое оправдание, как я мог убедить ее, что знал не более самого постороннего слушателя о том, что было в ее мыслях, когда она говорила со мною на террасе?
— Может быть, в ваших интересах забыть это, по в моих интересах это помнить, — продолжала она. — Я знаю, что я сказала, потому что обдумала свои слова, прежде чем произнести их. Я дала вам один за другим несколько случаев признаться в истине. Я высказала все, что могла, — кроме того, что мне известно, что вы совершили воровство. А вы ответили только тем, что посмотрели на меня с притворным изумлением, и с ложным видом невинности, точь-в-точь как смотрите на меня теперь! Я ушла от вас в то утро, узнав наконец, каков вы есть — самый низкий негодяй, когда-либо существовавший на свете!
— Если бы вы полностью высказались в то время, вы могли бы уйти от меня, Рэчель, с сознанием, что жестоко оскорбили человека невинного.
— Если бы я высказалась при других, — возразила она с новой вспышкой негодования, — вы были бы опозорены навсегда! Если б я высказалась только вам одному, вы отперлись бы, как отпираетесь теперь! Неужели вы думаете, я поверила бы вам? Остановится ли перед ложью человек, который сделал то, что, как я сама видела, сделали вы, и вел себя после этого так, как вели себя вы? Повторяю вам, я боюсь услышать от вас ложь, после того как видела вас во время кражи. Вы говорите об этом, словно это недоразумение, которое можно исправить несколькими словами. Так вот, недоразумение разъяснилось.
Исправлено ли дело? Нет, оно осталось в прежнем положении. Я вам не верю сейчас! Я не верю, что вы нашли ночную рубашку; не верю, что Розанна Спирман написала вам письмо; не верю ни одному вашему слову. Вы украли алмаз, — я видела сама! Вы притворялись, будто помогаете полиции, — я видела сама! Вы заложили алмаз лондонскому ростовщику, — я уверена в этом!
Вы навлекли подозрение в бесчестии (из-за моего низкого молчания) на невинного человека! Вы бежали на континент со своей добычей! После всех этих гадостей вы смогли сделать только одно. Вы пришли сюда с этой последней ложью на устах, — вы пришли сюда и сказали мне, что я оскорбила вас!
Если бы я остался минуту долее, у меня могли вырваться слова, о которых я вспоминал бы потом с напрасным раскаянием и сожалением. Я прошел мимо Рэчель и снова отворил дверь. И снова, с неистовой женской злобой, она схватила меня за руку и загородила мне путь.
— Пустите меня, Рэчель, — сказал я, — это будет лучше для обоих нас.
Пустите меня!
Грудь ее поднималась от истерического гнева, ускоренное, судорожное дыхание почти касалось моего лица, когда она удерживала меня у двери.
— Зачем вы пришли сюда? — настаивала она с отчаянием. — Спрашиваю вас опять — зачем вы пришли сюда? Вы боитесь, что я выдам вас? Теперь вы богаты, теперь вы заняли место в свете, теперь вы можете жениться на лучшей невесте во всей Англии, — или вы боитесь, что я скажу другим слова, которых не говорила никому на свете, кроме вас? Я не могу сказать этих слов! Я не могу выдать вас! Я еще хуже, если только это возможно, чем вы.
У нее вырвались рыдания. Она отчаянно боролась с ними; она все крепче и крепче держала меня.
— Я не могу вырвать чувство к вам из своего сердца, — крикнула она, — даже теперь! Вы можете положиться на постыдную, постыдную слабость, которая может бороться с вами только таким образом!
Она вдруг отпустила меня, подняла кверху руки и неистово заломила их.
— Всякая другая женщина в мире считала бы позором дотронуться до него! — воскликнула она. — О боже! Я презираю себя еще сильнее, чем презираю его.
Слезы против воли выступили на глазах моих, я не мог более вынести такой ужасной сцепы.
— Вы узнаете, что напрасно оскорбили меня, — сказал я, — или никогда не увидите меня больше!
С этими словами я покинул ее. Она вскочила со стула, на который опустилась за минуту перед тем, — она вскочила — благородное создание! — и проводила меня через всю соседнюю комнату с последним сострадательным словом на прощанье.
— Фрэнклин! — сказала она. — Я прощаю вас! О Фрэнклин, Фрэнклин! Мы больше никогда не встретимся. Скажите, что вы прощаете меня.
Я повернулся, чтобы она прочла у меня на лице, что я не в силах был сказать, — я повернулся, махнул рукой и увидел ее смутно, как видение, сквозь слезы, наконец одолевшие меня.
Через минуту все кончилось. Я опять вышел в сад. Я не видел и не слышал ее более.
Глава VIII
В этот вечер мистер Брефф неожиданно заехал ко мне.
В обращении стряпчего появилась заметная перемена. Он лишился обычной своей самоуверенности и энергии. Он пожал мне руку — первый раз в жизни — молча.
— Вы возвращаетесь в Хэмпстед? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.
— Я сейчас еду из Хэмпстеда, — ответил он. — Я знаю, мистер Фрэнклин, что вы наконец узнали все. Но, говорю вам прямо, если б я мог предвидеть, какой ценой придется заплатить за это, я предпочел бы оставить вас в неизвестности.
— Вы видели Рэчель?
— Я отвез ее на Портлэнд-плейс и приехал сюда; невозможно было отпустить ее одну. Я не могу винить вас, — ведь вы увиделись с нею в моем доме и с моего позволения, — в том страшном потрясении, какое это несчастное свидание причинило ей. Я могу только не допустить повторения подобного зла. Она молода, она решительна и энергична, — она это перенесет; время и спокойная жизнь помогут ей. Хочу получить уверенность, что вы не сделаете ничего для того, чтобы помешать ее выздоровлению. Могу я положиться на вас в том, что вы не сделаете второй попытки увидеться с нею без моего согласия и одобрения?
— После того, что она выстрадала, и после того, что выстрадал я, — ответил я, — вы можете положиться на меня.
— Вы даете мне обещание?
— Даю вам обещание.
На лице мистера Бреффа выразилось облегчение. Он положил шляпу и придвинул свой стул ближе к моему.
— Это решено, — сказал он. — Теперь поговорим о будущем, — о вашем будущем. По моему мнению, вывод из необыкновенного оборота, который приняло это дело теперь, вкратце следующий. Во-первых, мы уверены, что Рэчель сказала вам всю правду, так ясно, как только можно ее высказать в словах. Во-вторых, хотя мы знаем, что тут кроется какая-то ужасная ошибка, — мы не можем осуждать Рэчель за то, что она считает вас виновным, основываясь на показании собственных своих чувств, поскольку это показание подтвердили обстоятельства, говорящие прямо против вас.
Тут я перебил его.
— Я не осуждаю Рэчель, — сказал я, — я только сожалею, что она не решилась поговорить со мной откровенно в то время.
— У вас столько же оснований сожалеть, что Рэчель — Рэчель, а не кто-нибудь другой, — возразил мистер Брефф. — Да и тогда сомневаюсь, решилась ли бы деликатная девушка, всем сердцем желавшая сделаться вашей женой, обвинить вас в глаза в воровстве. Как бы то на было, сделать это было не в характере Рэчель. Кроме того, она сама сказала мне сегодня по дороге в город, что и тогда не поверила бы вам, как не верит сейчас. Что можете вы ответить на это? Решительно ничего. Полноте, полноте, мистер Фрэнклин. Моя теория оказалась совершенно ошибочной, согласен с этим, но при настоящем положении вещей неплохо все-таки послушаться моего совета.
Говорю вам прямо: мы будем напрасно ломать голову и терять время, если попытаемся вернуться назад и распутывать эту страшную путаницу с самого начала. Забудем решительно все, что случилось в прошлом году в деревенском поместье леди Вериндер, и посмотрим, что мы можем открыть в будущем, вместо того, чего не можем открыть в прошлом.
— Вы, верно, забыли, — сказал я, — что все это дело, — по крайней мере то, что касается меня, — как раз в прошлом.
— Ответьте мне, — возразил мистер Брефф, — вы считаете, что именно Лунный камень причина всех этих неприятностей? Лунный камень или нет?
— Разумеется, Лунный камень.
— Очень хорошо. Что, по-вашему, было сделано с Лунным камнем, когда его отвезли в Лондон?
— Он был заложен у мистера Люкера.
— Мы знаем, что не вы его заложили. Знаем мы, кто это лицо?
— Нет.
— Где же, по-вашему, находится сейчас Лунный камень?
— Он отдан на сохранение банкирам мистера Люкера.
— Вот именно. Теперь заметьте. У нас уже июнь. В конце этого месяца (не могу точно установить день) исполнится год с того времени, когда, как мы предполагаем, был заложен алмаз. Налицо возможность, — чтобы но сказать более, — что человек, заложивший эту вещь, захочет выкупить ее по истечении года. Если он ее выкупит, мистер Люкер должен сам — по собственному своему распоряжению — взять алмаз от банкира. При данных обстоятельствах я считаю нужным поставить сыщика у банка в конце этого месяца и проследить, кому мистер Люкер возвратит Лунный камень. Теперь вы понимаете?
Я согласился, что идея, по крайней мере, была нова.
— Это идея мистера Мертуэта столько же, сколько и моя, — сказал мистер Брефф. — Может быть, она никогда не пришла бы мне в голову, если бы не разговор с ним. Если мистер Мертуэт прав, индусы тоже будут стеречь возле банка в конце месяца, — и что-нибудь серьезное, может быть, произойдет тогда… Что из этого выйдет, совершенно безразлично для вас и для меня, — кроме того, что это поможет нам схватить таинственного “некто”, заложившего алмаз. Человек этот, поверьте моему слову, причиною (не имею претензий знать в точности, каким образом) того положения, в котором вы очутились в эту минуту, и только один этот человек может возвратить вам уважение Рэчель.
— Не могу отрицать, — сказал я, — что план, предлагаемый вами, разрешит затруднение очень смелым, очень замысловатым и совершенно новым способом, но…
— Но у вас имеется возражение?
— Да. Мое возражение заключается в том, что ваше предложение заставляет нас ждать.
— Согласен. По моим расчетам, вам придется ждать приблизительно около двух недель. Неужели это так долго?
— Это целая вечность, мистер Брефф, в таком положении, как мое. Жизнь будет просто нестерпима для меня, если я не предприму чего-нибудь, чтобы тотчас восстановить свою репутацию.
— Ну, ну, я понимаю это. Вы уже придумали, что можно сделать?
— Я придумал посоветоваться с сыщиком Каффом.
— Он вышел в отставку. Бесполезно ожидать, чтобы Кафф мог вам помочь.
— Я знаю, где найти его, и могу попытаться.
— Попытайтесь, — сказал мистер Брефф после минутного размышления. — Дело это приняло такой необычайный оборот после окончания следствия сыщика Каффа, что, может быть, вы его заинтересуете. Попытайтесь и сообщите мне результат. А пока, — продолжал он, — если вы не сделаете никаких открытий до конца месяца, я со своей стороны добьюсь чего-нибудь, устроив слежку у банка.
— Конечно, — ответил я, — если только я не избавлю вас от необходимости сделать этот опыт.
Мистер Брефф улыбнулся и взял шляпу.
— Передайте сыщику Каффу, — ответил он, — мои слова: разгадка тайны алмаза кроется в разгадке того, кто его заложил. И сообщите мне, какого мнения об этом опытный сыщик Кафф.
Так мы расстались с ним в этот вечер.
На следующее утро я отправился в маленький городок Доркинг — в то самое место, куда удалился сыщик Кафф, как сообщил мне Беттередж.
Расспросив в гостинице, я получил необходимые указания, как найти коттедж сыщика. К нему вела тихая проселочная дорожка в некотором расстоянии от города, и коттедж стоял уютно среди садика, окруженного позади и по бокам хорошей кирпичной стеной, а спереди высокой живой изгородью. Калитка со щегольской, выкрашенной сверху решеткой была заперта. Позвонив в колокольчик, я заглянул сквозь решетку и повсюду увидел любимые цветы знаменитого Каффа: они цвели в его саду гроздьями, они заслоняли его двери, они заглядывали ему в окна. Вдали от преступлений и тайн великого города знаменитый сыщик, гроза воров, спокойно доживал сибаритом последние годы своей жизни, с головой уйдя в свои розы.
Почтенная пожилая женщина отворила мне калитку и тотчас разрушила мои надежды на помощь сыщика Каффа. Он только накануне уехал в Ирландию.
— Он уехал туда но делу? — спросил я.
Женщина улыбнулась.
— Теперь у пего только одно дело, сэр, — сказала она, — розы. Один знаменитый садовник в Ирландии изобрел какой-то новый способ разведения роз, и мистер Кафф поехал узнать о нем.
— Вы не знаете, когда он вернется?
— Совершенно не знаю, сэр. Мистер Кафф сказал, что он может вернуться и тотчас, и задержаться, смотря по тому, найдет ли он новый способ стоящим или нестоящим изучения. Если вам угодно передать ему что-нибудь, я позабочусь об этом, сэр.
Я отдал ей мою карточку, написав на ней карандашом:
“Имею сообщить вам кое-что о Лунном камне. Уведомите меня, как только вернетесь”.
После этого мне ничего более не оставалось, как покориться обстоятельствам и вернуться в Лондон.
В том раздраженном состоянии, в каком я находился в то время, о котором пишу теперь, неудавшаяся поездка моя в коттедж только увеличила во мне тревожную потребность что-нибудь сделать.
Так как события достопамятной ночи были все еще непонятны для меня, я оглянулся несколько назад и начал искать в моей памяти какое-нибудь происшествие в часы, предшествовавшие этой ночи, которое помогло бы мне отыскать ключ к загадке.
Не случилось ли чего в то время, когда Рэчель и я кончали раскрашивать дверь? Или позднее, когда я ездил во Фризинголл? Или после, когда я вернулся с Годфри Эбльуайтом и его сестрами? Или еще позднее, когда я отдал Рэчель Лунный камень? Или еще позднее, когда приехали гости и мы все уселись за обеденный стол? Память моя очень легко отвечала на все вопросы, пока я не дошел до последнего. Оглядываясь на события, случившиеся за обедом в день рождения, я вдруг стал в тупик. Я не был способен даже точно припомнить число гостей, сидевших за одним столом со мною.
Узнав имена тех лиц, которые присутствовали за обедом, я решился, — чтобы восполнить несостоятельность своей собственной памяти, — обратиться к памяти других гостей, записать все, что они могли припомнить о событиях, случившихся в день рождения, и результат, полученный таким образом, проверить по тем событиям, какие произошли после отъезда гостей.
Мне нужен был только намек, который дал бы правильное направление моим мыслям с самого начала. Не прошло и дня, как этот намек был мне дан одним из тех гостей, которые присутствовали на пиршестве в день рождения.
Составив этот план действия, я должен был прежде всего заручиться полным списком гостей. Его легко можно было получить от Габриэля Беттереджа. Я решил в тот же день вернуться в Йоркшир и начать мое исследование со следующего утра.
Было уже поздно отправляться с тем поездом, который уходил из Лондона до полудня. Ничего более не оставалось, как ждать около трех часов следующего поезда. Не мог ли я в Лондоне с пользой употребить этот промежуток времени?
Мысли мои опять упорно возвращались к обеду в день рождения.
Хотя я забыл и число, и большую часть имен присутствующих гостей, я припомнил довольно скоро, что почти все они приехали из Фризинголла или его окрестностей. Но “почти все” еще не означало “все”. Некоторые из них не были постоянными жителями этих мест. Я сам был одним из таких, мистер Мертуэт был другим, Годфри Эбльуайт — третьим, мистер Брефф… нет, я вспомнил, что дела помешали мистеру Бреффу приехать. Не было ли кого-нибудь среди дам из постоянных жительниц Лондона? Я мог припомнить одну только мисс Клак, принадлежащую к этой последней категории. Однако вот, по крайней мере, уже трое гостей, с которыми мне полезно было бы повидаться, прежде чем я уеду из Лондона. Не зная адресов лиц, которых искал, я тотчас поехал в контору мистера Бреффа, в надежде, что, быть может, он мне поможет отыскать их. Мистер Брефф оказался так занят, что не мог уделить мне более минуты своего драгоценного времени. Но в эту одну минуту он успел, однако, решить — самым неприятным образом — все вопросы, которые я задал ему.
Во-первых, он считал мой новоизобретенный метод отыскать ключ к тайне слишком фантастическим, для того чтобы о нем можно было рассуждать всерьез. Во-вторых, в-третьих и в-четвертых, мистер Мертуэт был сейчас на пути к месту своих прошлых приключений; мисс Клак понесла денежную потерю и переселилась, из соображений экономии, во Францию; мистера Годфри Эбльуайта, может быть, можно было найти где-нибудь в Лондоне. Не узнать ли мне его адрес в клубе? А может быть, я извиню мистера Бреффа, если он вернется к своему делу и пожелает мне всего доброго?
Поле розысков в Лондоне теперь так ограничилось, что мае оставалось только узнать адрес Годфри. Я послушал совета стряпчего и поехал в клуб.
В передней я встретил одного из членов клуба, бывшего старым приятелем моего кузена, а также и моим знакомым. Этот джентльмен, сообщив мне адрес Годфри, рассказал о двух недавних происшествиях, случившихся с ним и еще не дошедших до моих ушей, при всей их большой важности для меня.
Оказалось, что, получив от Рэчель отказ, он, вместо того чтобы прийти в отчаяние, вскоре же после этого сделал предложение другой молодой девушке, слывшей богатой наследницей. Предложение его было принято, и брак считался делом решенным. Но вдруг помолвка опять внезапно и неожиданно расстроилась, и на этот раз по милости серьезного несогласия в мнениях между женихом и отцом невесты по поводу брачного контракта.
Как бы в вознаграждение за эту вторую неудачу, Годфри вскоре после этого сделался предметом внимания в денежном отношении одной из многочисленных своих почитательниц. Богатая и пожилая дама, чрезвычайно уважаемая в комитете материнского попечительства и большая приятельница мисс Клак (которой она, кстати сказать, не отказала ничего, кроме траурного кольца), завещала чудному и достойному мистеру Годфри пять тысяч фунтов. Получив это приятное добавление к своим скромным денежным ресурсам, он, говорят, почувствовал необходимость немного отдохнуть от своих благотворительных трудов и, по предписанию доктора, должен был “отправиться на континент, поскольку это могло впоследствии принести пользу его здоровью”. Если он мне нужен, следовало не теряя времени нанести ему визит.
Я тотчас отправился к нему.
Но та же роковая судьба, которая заставила меня опоздать на один день к сыщику Каффу, заставила меня и тут опоздать на один день к Годфри. Он уехал накануне утром в Дувр. Он отправлялся в Остендэ, и слуга его думал, что он поедет в Брюссель. Время его возвращения не было установлено, но я мог быть уверен, что он будет отсутствовать, по крайней мере, три месяца.
Я вернулся к себе в угнетенном состоянии. Трое из гостей, бывших на обеде в день рождения (и все трое исключительно умные люди), были далеко от меня как раз в то время, когда мне так важно было иметь с ними связь. Я возлагал последние надежды теперь на Беттереджа и на друзей покойной леди Вериндер, которых я мог еще найти живущими по соседству от деревенского поместья Рэчель.
На этот раз я прямо отправился во Фризинголл, так как этот город был теперь центральным пунктом моих розысков. Я приехал вечером, слишком уже поздно для того, чтобы увидеться с Беттереджем. На следующее утро я отправил к нему гонца с письмом, прося его приехать ко мне в гостиницу так скоро, как только возможно.
Отчасти для того, чтобы сократить время, отчасти для того, чтобы было удобней Беттереджу, я предусмотрительно послал своего гонца в наемной карете и мог надеяться, если не случится никаких помех, увидеть старика менее чем через полчаса. А в этот промежуток я решил опросить тех из гостей, присутствовавших на ободе и день рождения, кто был мне лично знаком и находился поблизости. То были родственники мои Эбльуайты и мистер Канди. Доктор выразил особое желание видеть меня, жил он на соседней улице. Итак, я прежде всего отправился к мистеру Канди.
После того, что рассказал мне Беттередж, я, естественно, ожидал увидеть на лице доктора следы серьезной болезни, которую он перенес. Но я не был готов к перемене, какую увидел в нем, когда он вошел в комнату и пожал мне руку. Глаза его потускнели, волосы совершенно поседели, лицо покрылось морщинами, тело съежилось. Я хорошо помнил этого подвижного, болтливого, веселого маленького доктора, помнил его невинную светскую болтовню и бесчисленные шуточки, но, к моему удивлению, ни в чем не проявлялась его прежняя личность, разве только в склонности к смешному щегольству. Человек этот был обломком былого, но одежда его и украшенья (словно в жестокую насмешку над переменой, совершившейся в нем) были так же пестры и ярки, как прежде.
— Я часто думал о вас, мистер Блэк, — сказал он, — и искренне рад наконец снова вас увидеть. Если я смогу сделать что-нибудь для вас, пожалуйста, распоряжайтесь мной, сэр, пожалуйста, распоряжайтесь мной!
Он сказал эти простые, обыкновенные слова с ненужной откровенностью и жаром, проявляя любопытство узнать, что привело меня в Йоркшир, любопытство, которое он совершенно (я сказал бы, по-ребячески) неспособен был скрыть.
— Я недавно побывал в Йоркшире и теперь снова явился сюда по делу довольно романтическому, — сказал я. — В этом деле, мистер Канди, все друзья покойной леди Вериндер принимают участие. Вы помните таинственную пропажу индийского алмаза около года тому назад? Недавно произошли события, подающие надежду, что этот алмаз можно отыскать, и я, как член семьи, принимаю участие в розысках. В числе трудностей, встреченных мною, есть и необходимость снова собрать все показания, какие были собраны раньше, и как можно больше, если возможно. Некоторые особенности этого дела требуют воскрешения моих воспоминаний обо всем, что случилось в этом доме вечером в день рождения мисс Рэчель. И я осмеливаюсь обратиться к друзьям ее покойной матери, которые присутствовали при этом, чтобы просить их помочь мне своими воспоминаниями.
Едва я дошел до этого места, как вдруг остановился, ясно увидев по лицу мистера Канди, что опыт мой совершенно не удался.
Маленький доктор тревожно покусывал кончики своих пальцев все время, пока я говорил. Его тусклые водянистые глаза смотрели на меня с таким бессмысленным выражением, которое было очень мучительно видеть. Невозможно было угадать, о чем он думает. Ясно было только одно, что мне не удалось после двух-трех первых слов привлечь его внимание к вопросу. Единственная возможность заставить его прийти в себя заключалась в перемене предмета разговора. Я попытался немедленно заговорить о другом.
— Вот что привело меня во Фризинголл, — сказал я весело. — Теперь, мистер Канди, ваша очередь. Вы поручили Габриэлю Беттереджу сказать мне…
Он перестал кусать пальцы и вдруг развеселился.
— Да, да, да! — воскликнул он с жаром. — Так! Я поручил сказать вам!
— И Беттередж сообщил мне об этом в письме, — продолжал я. — Вы хотели что-то сказать мне, как только я приеду в эти места. Ну, мистер Канди, вот я здесь!
— Вот вы и здесь! — повторил доктор. — И Беттередж был совершенно прав.
Я хотел что-то вам сказать. Я дал ему это поручение. Беттередж человек удивительный. Какая память! В его годы — какая память!
Он опять замолчал и снова начал кусать пальцы. Вспомнив, что я слышал от Беттереджа о последствиях горячки, отразившейся на его памяти, я продолжал разговор, в надежде, что, быть может, помогу маленькому доктору.
— Как давно мы не встречались! — сказал я. — Мы виделись в последний раз на обеде в день рождения Рэчель, последнем званом обеде, который дала моя бедная тетушка.
— Так, так! — вскричал мистер Канди. — На обеде в день рождения!
Он вскочил с места и посмотрел на меня. Густой румянец вдруг разлился по его поблекшему лицу, и он опять опустился на стул, как бы сознавая, что обнаружил слабость, которую ему хотелось бы скрыть. Больно было видеть, как сознает он недостаток своей памяти и желает скрыть его от внимания своих друзей.
До сих пор он возбуждал во мне только сострадание. Но слова, сказанные им сейчас, — хотя их было немного, — тотчас возбудили до крайности мое любопытство. Обед в день рождения уже сделался событием прошлого, на которое я смотрел со странной смесью надежды и недоверия. И вдруг оказалось, что об этом обеде мистер Канди должен сообщить что-то важное!
Я постарался снова помочь ему. Но на этот раз причиною моего участия были мои собственные интересы, и они заставили меня чересчур поспешить к той цели, которую я имел в виду.
— Скоро уже минет год, — сказал я, — как мы сидели за этим приятным столом. Не записано ли у вас — в дневнике или где-нибудь в другом месте — то, что вы хотели мне сказать?
Мистер Канди понял мой намек и дал мне понять, что считает его оскорбительным.
— Мне вовсе не нужно записывать, мистер Блэк, — сказал он довольно холодно. — Я еще не так стар и на свою память, благодарение богу, еще могу положиться.
Бесполезно говорить, что я сделал вид, будто не понял, что он обиделся на меня.
— Хотел бы я сказать то же самое о своей памяти, — ответил я. — Когда я стараюсь думать о вещах, случившихся год назад, я нахожу свои воспоминания далеко не совсем такими ясными, как мне бы хотелось.
Например, обед у леди Вериндер…
Мистер Канди опять развеселился, как только эти слова сорвались с моих губ.
— А! Обед, обед у леди Вериндер! — воскликнул он с еще большим жаром. — Я должен рассказать вам кое-что об этом обеде.
Глаза его опять устремились на меня с вопросительным выражением, таким жалобным, таким пристальным, таким бессмысленным, что жалко было глядеть.
Очевидно, он мучительно и напрасно силился что-то припомнить.
— Обед был очень приятный, — вдруг заговорил он с таким видом, словно это именно и хотел сказать. — Очень приятный обед, мистер Блэк, не правда ли?
Он кивнул головой, улыбнулся и как будто уверовал, бедняжка, что ему удалось этой находчивостью скрыть полную потерю памяти.
Это зрелище было столь прискорбно, что я тотчас же, — хотя и был живо заинтересован в том, чтобы он припомнил обстоятельства обеда, — переменил тему и заговорил о предметах местного интереса.
Тут он начал болтать довольно бегло. Вздорные сплетни и ссоры в городе, случившиеся месяц тому назад, легко приходили ему на память. Он болтал с говорливостью почти прежних времен, но были минуты, когда даже среди полного полета его красноречия он вдруг колебался, смотрел на меня с минуту с бессмысленной вопросительностью в глазах, преодолевал себя и опять продолжал. Я терпеливо переносил эту муку (это, конечно, настоящая мука для космополита — слушать молчаливо и безропотно новости провинциального городка), покуда часы на камине не показали мне, что визит мой продолжается более чем полчаса. Имея уже некоторое право считать свою жертву принесенной, я встал проститься. Когда мы пожимали друг другу руки, мистер Канди сам заговорил опять об обеде в день рождения.
— Я так рад, что мы снова встретились, — сказал он. — Я в самом деле собирался поговорить с вами, мистер Блэк. Относительно обеда у леди Вериндер, — не так ли? Приятнейший обед, действительно приятный обед, вы согласны со мной?
Я медленно спустился с лестницы, убедившись с горечью, что доктор действительно желал что-то сказать чрезвычайно важное для меня, но не в силах был сделать это. Усилие вспомнить, что он желал мне что-то сказать, было, очевидно, единственным усилием, на которое была способна его ослабевшая память.
Когда я спустился с лестницы и повернул в переднюю, где-то в нижнем этаже дома тихо отворилась дверь и кроткий голос сказал позади меня:
— Боюсь, сэр, что вы нашли грустную перемену в мистере Канди.
Я обернулся и очутился лицом к лицу с Эзрой Дженнингсом.
Глава IX
Невозможно было оспаривать мнение Беттереджа о том, что наружность Эзры Дженнингса — с общепринятой точки зрения — говорила против него. Его цыганский вид, поджарые щеки с торчащими скулами, необычные разноцветные волосы, странное противоречие между его лицом и фигурой, заставлявшее его казаться и старым, и молодым одновременно, — все это было более или менее рассчитано на то, чтоб создать неблагоприятное представление о нем у неискушенного человека. И все же, чувствуя все это, нельзя было отрицать того, что Эзра Дженнингс какими-то непостижимыми путями возбуждал во мне симпатию, которой я не мог противостоять.
Хотя мой жизненный опыт советовал мне ответить ему насчет грустной перемены в мистере Канди, а потом продолжать идти своею дорогою, — интерес к Эзре Дженнингсу словно приковал меня к месту и доставил ему случай, — которого он, очевидно, искал, — поговорить со мною наедине о своем хозяине.
— Не по дороге ли нам, мистер Дженнингс? — спросил я, заметив у него в руке шляпу. — Я иду навестить свою тетку, миссис Эбльуайт.
Эзра Дженнингс ответил, что идет в ту же сторону, к больному.
Начав разговор о болезни мистера Канди, Эзра Дженнингс, по-видимому, решил предоставить продолжать этот разговор мне. Его молчание говорило ясно: “Теперь очередь за вами”. Я тоже имел свои причины вернуться к разговору о болезни доктора и охотно взял на себя ответственность заговорить первым.
— Судя по перемене, которую я в нем нахожу, — начал я, — болезнь мистера Канди была гораздо опаснее, чем я предполагал.
— Это почти чудо, что он перенес ее, — ответил Эзра Дженнингс.
— Бывают ли улучшения в его памяти по сравнению с тем, что я застал сегодня? Он все заговаривал со мною о чем-то.
— Что случилось перед его болезнью? — договорил он вопросительно, заметив, что я остановился.
— Именно.
— Его память о событиях того времени ослабела безнадежно, — сказал Эзра Дженнингс. — Даже досадно, что бедняга сохранил еще кое-какие жалкие ее остатки. Смутно припоминая намерения, которые он имел перед болезнью, вещи, которые собирался сделать или сказать, он решительно не в состоянии вспомнить, в чем эти намерения заключались и что он должен был сказать или сделать. Он мучительно сознает свой недостаток памяти и мучается, стараясь, как вы, вероятно, заметили, скрыть это от других. Если б он поправился, совершенно забыв о прошлом, он был бы счастливее. Мы все, может быть, чувствовали бы себя счастливее, — прибавил он с грустною улыбкою, — если б могли вполне забыть!
— В жизни каждого человека, — возразил я, — наверное, найдутся минуты, с воспоминанием о которых он не захочет расстаться.
— Надеюсь, что это можно сказать о большей части человечества, мистер Блэк. Опасаюсь, однако, что это но будет справедливо в применении ко всем. Есть ли у вас основание предполагать, что воспоминание, которое мистер Канди силился воскресить в своей памяти во время разговора с вами, имеет для вас серьезное значение?
Говоря это, он по собственному почину коснулся именно того, о чем я хотел с ним посоветоваться. Интерес к этому странному человеку заставил меня под влиянием минутного впечатления дать ему случай разговориться со мною; умалчивая пока обо всем том, что я, со своей стороны, хотел сказать по поводу его патрона, я хотел прежде всего удостовериться, могу ли положиться на его скромность и деликатность. Но и того немногого, что он сказал, было достаточно, чтобы убедить меня, что я имею дело с джентльменом. В нем было то, что я попробую описать здесь как непринужденное самообладание, что не в одной только Англии, но во всех цивилизованных странах есть верный признак хорошего воспитания. Какую бы цель им преследовал он своим последним вопросом, я был уверен, что могу ответить ему до некоторой степени откровенно.
— Думаю, что для меня крайне важно восстановить обстоятельства, которые мистер Канди не в силах припомнить сам, — сказал я. — Не можете ли вы указать мне какой-нибудь способ, чтобы помочь его памяти?
Эзра Дженнингс взглянул на меня с минутным проблеском участия в своих задумчивых карих глазах.
— Памяти мистера Канди уже ничем нельзя помочь, — ответил он. — Я столько раз пробовал ей помогать с тех пор, как он выздоровел, что могу это положительно утверждать.
Слова его огорчили меня, и я не скрыл этого.
— Сознаюсь, вы мне подали надежду на более удовлетворительный ответ, — сказал я.
Он улыбнулся.
— Быть может, это ответ не окончательный, мистер Блэк. Быть может, найдется способ восстановить обстоятельства, забытые мистером Канди, не обращаясь к нему самому.
— В самом деле? Не будет ли с моей стороны нескромным, если я спрошу — как?
— Ни в коем случае. Единственная трудность ответа на ваш вопрос заключается для меня в самом объяснении. Могу я рассчитывать на ваше терпение, если еще раз вернусь к болезни мистера Канди и, говоря о ней, на этот раз не избавлю вас от некоторых профессиональных подробностей?
— О, пожалуйста! Вы уже заинтересовали меня этими подробностями.
Мое любопытство, казалось, было ему приятно. Он улыбнулся опять. Мы в это время уже оставили за собою последние дома Фризинголла.
Эзра Дженнингс на минуту остановился, чтоб сорвать несколько придорожных полевых цветов.
— Как хороши они! — проговорил он просто, показывая мне свой букетик, — и как мало народу в Англии способно восхищаться ими так, как они того заслуживают!
— Вы не всегда жили в Англии? — спросил я.
— Нет. Я родился и частично воспитан был в одной из наших колоний. Отец мой был англичанин, но мать моя… Мы отдалились от нашей темы, мистер Блэк, и это моя вина. По правде сказать, у меня много ассоциаций связано с этими скромными маленькими придорожными цветами. Но оставим это. Мы говорили о мистере Канди. Давайте вернемся к мистеру Канди.
Сопоставив несколько слов, неохотно вырвавшихся у него о самом себе, с меланхолическим взглядом на жизнь, — он считал условием счастья для человечества полное забвение прошлого, — я понял, что история, которую я прочитал в его лице, совпадала (по крайней мере, в двух деталях) с его рассказом: он страдал, как мало кто из людей страдает; и в его английской крови была примесь чужеземной.
— Вы, вероятно, слышали о первоначальной причине болезни мистера Канди? — заговорил он опять. — В ночь званого обеда леди Вериндер шел проливной дождь. Мистер Канди ехал домой в открытом гиге и промок до костей. Дома его ждал посланный от больного с убедительной просьбой приехать немедленно. К несчастью, он отправился к своему пациенту, не дав себе труда переодеться. Я сам задержался в эту ночь у больного, в некотором расстоянии от Фризинголла. Когда я вернулся на следующее утро, меня уже поджидал у двери перепуганный грум мистера Канди и тотчас повел в комнату своего господина. За это время беда уже произошла, болезнь вступила в свои права.
— Мне сказали о ней только в самых общих словах, как о горячке, — сказал я.
— И я не могу ничего прибавить, чтобы определить ее точнее, — ответил Эзра Дженнингс. — От начала и до конца болезнь не принимала какой-либо определенной формы. Не теряя времени, я послал за двумя медиками, приятелями мистера Канди, чтобы узнать их мнение о болезни. Они согласились со мною, что она серьезна, но относительно лечения наши взгляды резко разошлись. Основываясь на пульсе больного, мы делали совершенно разные заключения. Ускоренное биение пульса побуждало их настаивать на лечении жаропонижающим как единственном, которого следовало держаться. Я же, со своей стороны, признавая, что пульс ускоренный, указывал на страшную слабость больного как на признак истощенного состояния организма, а следовательно, и на необходимость прибегнуть к возбудительным средствам. Оба доктора были того мнения, что следует посадить больного на кашицу, лимонад, ячменный отвар и так далее. Я бы дал ему шампанского или виски, аммиаку и хинина. Важное расхождение во взглядах, как видите, и между кем же? Между двумя медиками, пользующимися общим уважением в городе, и пришельцем, всего лишь помощником доктора! В первые дни мне не оставалось ничего другого, как покориться воле людей, поставленных выше меня. Между тем силы больного все более и более слабели.
Я решился на вторичную попытку указать на ясное, неоспоримо ясное свидетельство пульса. Быстрота его не уменьшилась нисколько, а слабость возросла. Докторов оскорбило мое упорство. Они сказали:
— Мистер Дженнингс, или мы лечим больного, или вы. Кто же из нас?
— Господа, — ответил я, — дайте мне пять минут на размышление, и вы на свой ясный вопрос получите не менее ясный ответ.
По истечении назначенного срока решение мое было принято.
— Вы положительно отказываетесь испробовать лечение возбуждающими средствами? — спросил я.
Они отказались в немногих словах.
— Тогда я намерен немедленно приступить к нему, господа.
— Приступайте, мистер Дженнингс, и мы тотчас откажемся от дальнейшего лечения.
Я послал в погреб за бутылкою шампанского и сам дал больному выпить добрых полстакана. Доктора молча взяли свои шляпы и удалились…
— Вы взяли на себя большую ответственность, — заметил я. — Будь я на вашем месте, я, наверное, уклонился бы от нее.
— Будь вы на моем месте, мистер Блэк, вы бы вспомнили, что мистер Канди взял вас к себе в дом при обстоятельствах, которые сделали вас его должником на всю жизнь. На моем месте вы, видя, что силы его угасают с каждым часом, решились бы скорее рискнуть всем, чем дать умереть на своих глазах единственному человеку на свете, оказавшему вам поддержку. Но думайте, чтобы я не сознавал ужасного положения, в которое себя поставил.
Были минуты, когда я чувствовал всю горечь своего одиночества и страшную ответственность, лежащую на мне. Будь я человек счастливый, будь жизнь моя исполнена одного благополучия, кажется, я изнемог бы под бременем обязанности, которую на себя возложил. Но у меня не было счастливого прошлого, на которое я мог бы оглянуться, не было того душевного спокойствия, с которым я мог бы перенести настоящую мучительную неизвестность, — и я мужественно боролся до конца. Для необходимого мне отдыха я выбирал часок среди дня, когда состояние больного несколько улучшалось. Все же остальное время дня я не отходил от его кровати, пока жизнь его находилась в опасности. К заходу солнца, как всегда бывает в подобных случаях, начинался обычный при горячке бред. Он продолжался с перерывами всю ночь и стихал в опасные часы раннего утра, от двух до пяти, когда жизненные силы даже самых здоровых ослабевают до последней степени.
В те часы смерть пожинает наиболее обильную, человеческую жатву. Тогда я вступил со смертью в борьбу за лежащего на одре ее больного, отбивая его у нее. Я ни разу не уклонился от принятого мною метода лечения, ради которого рисковал всем. Когда не хватало вина, я прибегал к виски. Когда другие возбуждающие средства утрачивали свое действие, я стал удваивать дозу. После длительной неизвестности (которую молю бога не посылать мне никогда более в жизни) настал день, когда слишком частый пульс постепенно стал становиться реже и ритмичнее. Тогда я понял, что спас его, и сознаюсь, мне изменила моя твердость. Я опустил исхудалую руку бедного больного на постель и зарыдал. Истерический припадок, мистер Блэк, ничего более! Физиология говорит, и говорит справедливо, что некоторые мужчины наделены женской конституцией, — я в их числе!
Это беспощадно трезвое научное оправдание своих слез он высказал тем же спокойным и естественным тоном, каким говорил до сих пор. Голос и манера его от начала до конца изобличали особенное, почти болезненное опасение возбудить к себе участие.
— Вы меня спросите, зачем я докучаю вам этими подробностями, — продолжал он. — Я не вижу другого способа подготовить вас надлежащим образом к тому, что мне предстоит сказать. Теперь вы знаете в точности мое положение во время болезни мистера Канди, и вы тем легче поймете, как остро я нуждался в то время в чем-нибудь, способном доставить мне хотя бы некоторое душевное облегчение. Несколько лет назад я начал в свободные часы писать книгу, предназначенную для моих собратьев по профессии, — книгу о сложных и затруднительных проблемах заболеваний мозга и нервной системы. Моя работа, вероятно, никогда не будет закончена и, уж конечно, не будет издана. Тем не менее она мне была другом в долгие одинокие часы; она же помогла мне скоротать время — время мучительного ожидания и бездействия — у кровати мистера Канди. Я, кажется, говорил вам, что у него был бред? Я даже определил время, когда он начинается, если не ошибаюсь?
— Да, вы говорили об этом.
— Ну, так я как раз дошел тогда в своей книге до отдела, посвященного именно бреду такого рода. Но стану утруждать вас подробным изложением своей теории по этому вопросу и ограничусь только тем, что для вас представляет интерес в настоящем случае. С тех пор, как я практикую, я не раз сомневался, можно ли сделать вывод, что при бреде потеря способности связной речи доказывает потерю способности последовательного мышления.
Болезнь бедного мистера Канди давала мне возможность выяснить свои сомнения. Я владею стенографией и легко мог записывать отрывистые фразы больного точь-в-точь так, как он их произносил. Понимаете вы теперь, мистер Блэк, к чему я все это веду?
Я понимал очень ясно и ожидал, что он скажет далее, едва переводя дух от напряженного внимания.
— В разное время и урывками, — продолжал Эзра Дженнингс, — я расшифровал мои стенографические заметки, оставив большие промежутки между отрывистыми фразами и даже отдельными словами, в том же порядке, как их бессвязно произносил мистер Канди. В результате я поступил со всем этим почти так, как поступают, разгадывая шарады. Сначала все представляется хаосом, по стоит только напасть на руководящую нить, чтобы все привести в порядок и придать всему надлежащий вид. Действуя сообразно с этим планом, я восполнял пробелы между двумя фразами, стараясь угадать мысль больного.
Я переправлял и изменял, пока мои вставки не встали на место после слов, сказанных до них, и так же естественно не примкнули к словам, сказанным вслед за ними. Результат показал, что я не напрасно трудился в эти долгие мучительные часы и достиг того, что мне казалось подтверждением моей теории. Проще говоря, — когда я связал отрывочные фразы, я убедился, что высшая способность — связного мышления — продолжала свою деятельность у пациента более или менее нормально, в то время как низшая способность — словесного изложения мысли — была почти совершенно расстроена.
— Одно слово! — перебил я его с живостью. — Упоминал ли он в бреду мое имя?
— Вы сейчас услышите, мистер Блэк. Среди моих письменных доказательств вышеприведенного положения — или, вернее, в письменных опытах, сводящихся к тому, чтобы доказать мое положение, — есть листок, где встречается ваше имя. Почти целую ночь мысли мистера Канди были заняты чем-то общим между вами и им. Я записал бессвязные его слова в том виде, в каком он говорил их, на одном листе бумаги, а на другом — мои собственные соображения, которые придают им связь. Производным от этого, как выражаются в арифметике, оказался ясный отчет: во-первых, о чем-то, сделанном в прошедшем времени; во-вторых, о чем-то, что мистер Канди намеревался сделать в будущем, если бы ему не помешала болезнь. Вопрос теперь в том, представляет ли это или нет то утраченное воспоминание, которое он тщетно силился уловить, когда вы его навестили сегодня?
— Не может быть сомнения в этом! — вскричал я. — Пойдемте тотчас и посмотрим бумаги.
— Невозможно, мистер Блэк.
— Почему?
— Поставьте себя на мое место, — сказал Эзра Дженнингс. — Согласились бы вы открыть другому лицу, что высказал бессознательно во время болезни ваш пациент и беззащитный друг, не удостоверившись сперва, что подобный поступок ваш оправдывается необходимостью?
Я понял, что возражать ему на это невозможно; я попытался подойти к вопросу с другой стороны.
— Мой образ действий в таком щекотливом деле зависел бы преимущественно от того, могу я или нет повредить моему другу своею откровенностью.
— Я давно уже отверг всякую необходимость обсуждать эту сторону вопроса, — сказал Эзра Дженнингс. — Если бы мои записки заключали в себе хоть что-нибудь, что мистер Канди желал бы сохранить в тайне, эти записки давным-давно были бы уничтожены. Рукописные опыты у постели моего друга не заключают в себе сейчас ничего, что он не решился бы сообщить другим, если бы к нему вернулась память. А по поводу вас я даже уверен, что в моих записках содержится именно то, что он вам так сильно хочет сейчас сказать.
— И вы все-таки колеблетесь?
— И я все-таки колеблюсь. Вспомните, при каких обстоятельствах я приобрел сведения, которые теперь имею. Как ни безобидны они, я не могу решиться сообщить вам их, пока вы не изложите мне причин, по которым это следует сделать. Он так страшно был болен, мистер Блэк, он находился в состоянии такой беспомощности и совершенно в моей власти! Разве это слишком много, если я попрошу вас только намекнуть мне, какого рода интерес связан для вас с утраченным воспоминанием, или в чем, полагаете вы, оно состоит?
Отвечать ему с откровенностью, которую вызывала во мне его манера держать себя и говорить, значило бы открыто поставить себя в унизительное положение человека, которого подозревают в краже алмаза. Хотя Эзра Дженнингс и вызвал во мне безотчетную симпатию, я все-таки не мог превозмочь своего нежелания рассказать ему о позорном положении, в которое я попал. Я опять прибегнул к тем пояснительным фразам, какие имел наготове для удовлетворения любопытства посторонних.
На этот раз я не имел повода жаловаться на недостаток внимания со стороны своего слушателя. Эзра Дженнингс слушал меня терпеливо, даже с тревогой, пока я не закончил рассказа.
— Мне очень жаль, мистер Блэк, что я возбудил в вас надежды только для того, чтобы обмануть их, — сказал он. — Во все время своей болезни, от начала и до конца ее, мистер Канди ни единым словом не упомянул об алмазе.
Дело, с которым он связывал ваше имя, не имеет, уверяю вас, никакого возможного отношения к потере или возвращению драгоценного камня мисс Вериндер.
Пока он это говорил, мы приблизились к месту, где большая дорога, по которой мы шли, разделялась на две ветви. Одна вела к дому мистера Эбльуайта, другая к деревне, лежавшей в низине, милях в двух или трех.
Эзра Дженнингс остановился у поворота к деревне.
— Мне сюда, — сказал он. — Я, право, очень огорчен, мистер Блэк, что не могу быть вам полезен.
Тон его убедил меня в его искренности. Кроткие карие глаза его остановились на мне с выражением грустного сочувствия. Он поклонился и пошел по дороге к деревне, не сказав более ни слова.
С минуту я стоял неподвижно, следя за ним взглядом, пока он уходил от меня все далее и далее, унося с собою все далее и далее то, что я считал возможною разгадкою, которой я доискивался. Пройдя небольшое расстояние, он оглянулся. Увидя меня все на том же месте, где мы расстались, он остановился, как бы спрашивая себя, не желаю ли я заговорить с ним опять.
У меня не было времени рассуждать о своем собственном положении и о том, что я упускаю случай, который может произвести важный поворот в моей жизни, — и все только из-за того, что я не мигу поступиться своим самолюбием. Я успел лишь позвать его назад, а потом уже стал раздумывать.
Сильно подозреваю, что нет на свете человека опрометчивее меня.
“Теперь уже нечего больше делать, — решил я мысленно. — Мне надо сказать ему всю правду”.
Он тотчас повернул назад. Я пошел к нему навстречу.
— Я был с вами не совсем откровенен, мистер Дженнингс, — начал я. — Интерес к утраченному воспоминанию мистера Канди у меня не связан с розысками Лунного камня. Важный личный вопрос побудил меня приехать в Йоркшир. Чтобы оправдать недостаток откровенности с вами в этом деле, могу сказать только одно. Мне тяжело (тяжелее, чем я могу это выразить) объяснять кому бы то ни было настоящее свое положение.
Эзра Дженнингс взглянул на меня со смущением, в первый раз с тех пор, как мы заговорили.
— Я не имею ни права, ни желания, мистер Блэк, — возразил он, — вмешиваться в ваши частные дела. Позвольте мне извиниться, со своей стороны, в том, что я, вовсе не подозревая этого, подверг вас неприятному испытанию.
— Вы имеете полное право ставить условия, на которых находите возможным сообщить мне то, что услышали у одра болезни мистера Канди. Я понимаю и ценю благородство, которое руководит вами. Как могу я ожидать от вас доверия, если сам буду отказывать вам в нем? Вы должны знать и узнаете, почему мне так важно установить, что именно хотел мне сообщить мистер Канди. Если окажется, что я ошибся в своих ожиданиях, и вы не вправе будете мне сообщить это, узнав настоящую причину моих розысков, я положусь на вашу честь, что вы сохраните мою тайну. И что-то говорит мне, что доверие мое не будет обмануто.
— Остановитесь, мистер Блэк! Мне еще надо сказать вам два слова, прежде чем я позволю вам продолжать.
Я взглянул на него с изумлением. Жестокое душевное страдание, по-видимому, внезапно им овладело и потрясло его до глубины души. Его цыганский цвет лица сменился смертельною сероватою бледностью, глаза его вдруг засверкали диким блеском, голос понизился и зазвучал суровою решимостью, которую я услышал у него впервые. Скрытые силы этого человека (трудно было сказать в ту минуту, к чему они направлены — к добру или ко злу) обнаружились передо мною внезапно, как блеск молнии.
— Прежде чем вы мне окажете какое-либо доверие, — продолжал он, — вам следует знать, и вы узнаете, при каких обстоятельствах я был принят в дом мистера Канди. Много времени это не займет. Я не намерен, сэр, рассказывать “историю своей жизни” (как это говорится) кому бы то ни было.
Она умрет со мною. Я только прошу позволения сообщить вам то, что сообщил мистеру Канди. Если, выслушав меня, вы не измените своего решения насчет того, что хотели мне сказать, то я весь в вашем распоряжении. Не пройти ли нам дальше?
Сдерживаемая скорбь на его лице заставила меня замолчать. Я жестом ответил на его вопрос, и мы пошли дальше.
Пройдя несколько сот ярдов, Эзра Дженнингс остановился у отверстия в стене из серого камня, которая в этом месте отделяла болото от дороги.
— Не расположены ли вы немного отдохнуть, мистер Блэк? — спросил он. — Я уже не тот, что был прежде, а есть вещи, которые потрясают меня глубоко.
Я, разумеется, согласился. Он прошел вперед к торфяному столбику на лужайке, поросшей вереском. Со стороны дороги лужайку обрамляли кусты и тщедушные деревья, с другой же стороны отсюда открывался величественный вид на все обширное пустынное пространство бурых пустошей. За последние полчаса небо заволоклось. Свет стал сумрачным, горизонт закутался туманом.
Краски потухли, и чудесная природа встретила нас кротко, тихо, без малейшей улыбки.
Мы сели молча. Эзра Дженнингс, положив возле себя шляпу, провел рукою по лбу с очевидным утомлением, провел и по необычайным волосам своим, черным и седым вперемежку. Он отбросил от себя свой маленький букет из полевых цветов таким движением, будто воспоминание, с ними связанное, сейчас причиняло ему страдание.
— Мистер Блэк, — сказал он внезапно, — вы в дурном обществе. Гнет ужасного обвинения лежал на мне много лет. Я сразу признаюсь вам в худшем.
Перед вами человек, жизнь которого сломана, доброе имя погибло без возврата.
Я хотел было его перебить, но он остановил меня.
— Нет, нет! — вскричал он. — Простите, не теперь еще. Не выражайте мне сочувствия, в котором впоследствии можете раскаяться, как в вещи для себя унизительной. Я упомянул о том обвинении, которое много лет тяготеет надо мной. Некоторые обстоятельства, связанные с ним, говорят против меня. Я не могу заставить себя признаться, в чем это обвинение заключается. И я не в состоянии, совершенно не в состоянии доказать мою невиновность. Я только могу утверждать, что я невиновен. Клянусь в том как христианин. Напрасно было бы клясться моей честью.
Он опять остановился. Я взглянул на него, но он не поднимал глаз. Все существо его казалось поглощено мучительным воспоминанием и усилием говорить.
— Многое мог бы я сказать, — продолжал он, — о безбожном обращении со мною моих близких и беспощадной вражде, жертвою которой я пал. Но зло сделано и непоправимо. Я не хочу ни утомлять, ни расстраивать вас. В начале моей карьеры в этой стране низкая клевета, о которой я упомянул, убила меня разом и навсегда. Я отказался от всякого успеха в своей профессии, — неизвестность осталась для меня теперь единственною надеждой на счастье. Я расстался с тою, которую любил, — мог ли я осудить ее разделять мой позор? Место помощника доктора нашлось в одном из отдаленных уголков Англии. Я получил его. Оно мне обещало спокойствие, обещало неизвестность; так думалось мне. Я ошибся. Дурная молва идет своим медленным путем и, с помощью времени и случая, заходит далеко. Обвинение, от которого я бежал, последовало за мною. Меня предупредили вовремя. Мне удалось уйти с места добровольно, с аттестатом, мною заслуженным. Он доставил мне другое место, в другом отдаленном уголке. Прошло некоторое время, и клевета, убийственная для моей чести, опять отыскала мое убежище.
На этот раз я не был предупрежден. Мой хозяин сказал мне:
— Я ничего не имею против вас, мистер Дженнингс, но вы должны оправдаться или оставить мой дом.
Выбора мне не оставалось. Я должен был уйти. Не к чему распространяться о том, что я вынес после этого. Мне только сорок лет. Посмотрите на мое лицо, и пусть оно вам скажет за меня о пережитых мучительных годах. Судьба наконец привела меня в эти края: мистер Канди нуждался в помощнике. По вопросу о моих способностях я сослался на отзыв последнего моего хозяина.
По вопросу о характере — я рассказал ему то же, что сказал вам, и еще более. Я предупредил его о тех трудностях, какие возникнут даже в том случае, если он мне не поверит. Здесь, как и везде, — сказал я ему, — я пренебрегаю постыдною уверткой жить под чужим именем; во Фризинголле я огражден не более, чем в других местах, от тучи, которая преследует меня, куда бы я ни укрылся.
— Я ничего не делаю наполовину, — ответил он мне. — Я верю вам и жалею вас. Если вы готовы пойти на любой риск, какой бы ни случился, то и я готов рисковать с вами.
— Господь да благословит его! Он дал мне приют, он дал занятие, он доставил мне спокойствие души, и я имею полное убеждение, — уже несколько месяцев, как я его имею, — что теперь не случится ничего, что заставило бы его в том раскаиваться.
— Клевета утихла? — спросил я.
— Она деятельнее прежнего. Но когда она доберется сюда, будет уже поздно.
— Вы уедете заранее?
— Нет, мистер Блэк, меня не будет более в живых. Десять лет я страдаю неизлечимого внутренней болезнью. Но скрою от вас, я давно дал бы ей убить себя, если б одна последняя связь с жизнью не придавала ей еще некоторую цепу в моих глазах. Я хочу обеспечить особу… очень мне дорогую… которую я никогда не увижу более. То немногое, что мне досталось от родителей, не может спасти ее от зависимости. Надежда прожить столько времени, чтобы довести эту сумму до известной цифры, побуждала меня бороться против болезни облегчающими средствами, какие только я мог придумать. Действовал на меня только один опиум. Этому всесильному лекарству для утоления всякой боли я обязан отсрочкою многих лет моего смертного приговора. Но и благодетельные свойства опиума имеют свои границы. Так как болезнь усиливалась, то я незаметно стал злоупотреблять опиумом. Теперь я за это расплачиваюсь. Вся моя нервная система потрясена; ночи мои исполнены жестоких мук. Конец уже недалек. Пусть он приходит: я жил и трудился не напрасно. Небольшая сумма почти собрана, и я имею возможность ее пополнить, если последний запас жизненных сил не истощится ранее, чем я думаю. Не понимаю сам, как я договорился до этого. Я не думаю, чтобы я был так низок, чтобы стараться разбудить в вас жалость к себе. Быть может, вы скорее поверите мне, если узнаете, что, заговорив с вами, я твердо был уверен в моей скорой смерти. Что вы внушили мне сочувствие, мистер Блэк, скрывать не хочу. Потеря памяти моего бедного друга послужила мне средством для попытки сблизиться с вами. Я рассчитывал на любопытство, которое могло быть возбуждено в вас тем, что он хотел вам сказать, и на возможность, с моей стороны, удовлетворить его. Разве нет для меня извинения, что я навязался вам таким образом? Может быть, и есть.
Человек, который жил подобно мне, имеет свои горькие минуты, когда размышляет о человеческой судьбе. У вас молодость, здоровье, богатство, положение в свете, надежды в будущем, — вы и люди, подобные вам, показывают мне солнечную сторону жизни и мирят меня с этим светом, перед тем как я расстанусь с ним навсегда. Чем бы ни кончился наш разговор, я не забуду, что вы оказали мне снисхождение, согласившись на него. Теперь от вас зависит, сэр, сказать мне то, что вы намерены были сказать, или — пожелать мне доброго утра.
У меня был только один ответ на этот призыв. Не колеблясь ни минуты, я рассказал ему все так же откровенно, как высказал на этих страницах.
Он вскочил на ноги и смотрел на меня, едва переводя дыхание от напряженного внимания, когда я дошел до главного места в моем рассказе.
— Положительно достоверно, что я вошел в комнату, — говорил я, — положительно достоверно, что я взял бриллиант. И на эти два неопровержимые факта я могу возразить только, что сделал я это — если сделал! — совершенно бессознательно.
Эзра Дженнингс вдруг схватил меня за руку.
— Стойте! — вскричал он. — Вы мне сказали более, чем предполагаете.
Случалось ли вам когда-нибудь принимать опиум?
— Никогда в жизни.
— Ваши нервы не были ли расстроены в прошлом году в это время? Не чувствовали ли вы особенного беспокойства и раздражительности?
— Действительно, чувствовал.
— Вы спали дурно?
— Очень дурно. Много ночей напролет я провел без сна.
— Не была ночь после рождения мисс Вериндер исключением? Постарайтесь припомнить, хорошо ли вы тогда спали.
— Помню очень хорошо. Я спал прекрепко.
Он выпустил мою руку так же внезапно, как взял ее, и взглянул на меня с видом человека, у которого исчезло последнее тяготившее его сомнение.
— Это замечательный день в вашей жизни и в моей, — сказал он серьезно.
— В одном я совершенно уверен, мистер Блэк: я теперь знаю, что мистер Канди хотел вам сказать сегодня; это есть в моих записках. Подождите, это еще не все. Я твердо уверен, что могу доказать, как бессознательно вы поступили, когда вошли в комнату и взяли бриллиант. Дайте мне только время подумать и расспросить вас. Кажется, доказательство вашей невиновности в моих руках!
— Объяснитесь, ради бога! Что вы хотите этим сказать?
Захваченные нашим разговором, мы сделали несколько шагов, сами того не замечая, и оставили за собою группу тщедушных деревьев, за которыми нас не было видно. Прежде чем Эзра Дженнингс успел мне ответить, его окликнул с большой дороги человек, сильно взволнованный и, очевидно, его поджидавший.
— Я иду, — крикнул он ему в ответ, — иду сейчас! Очень серьезный больной, — обратился он ко мне, — ожидает меня в деревне; мне бы следовало там быть с полчаса тому назад; я должен туда идти немедленно. Дайте мне два часа времени и приходите опять к мистеру Канди; даю вам слово, что я буду тогда совершенно в вашем распоряжении.
— Как могу я ждать! — воскликнул я нетерпеливо. — Разве не можете вы успокоить меня одним словом перед тем, как мы разойдемся?
— Дело слишком важно, чтобы его можно было пояснить второпях, мистер Блэк. Я не по своей прихоти испытываю ваше терпение; напротив, я сделал бы ожидание только еще более тягостным для вас, если б попробовал облегчить его теперь. До свидания во Фризинголле, сэр, через два часа!
Человек, стоявший на большой дороге, окликнул его опять. Он поспешно удалился и оставил меня одного.
Глава X
Как томительная неизвестность, на которую я был осужден, подействовала бы на другого на моем месте, сказать не берусь. Двухчасовая пытка ожидания отразилась на мне следующим образом: я чувствовал себя физически неспособным оставаться на одном месте и нравственно неспособным говорить с кем бы то ни было, пока не узнаю все, что хотел мне сказать Эзра Дженнингс.
В подобном настроении духа я не только отказался от посещения миссис Эбльуайт, но уклонился даже и от встречи с Габриэлем Беттереджем.
Возвратившись во Фризинголл, я оставил ему записку, в которой сообщал, что неожиданно отозван, но вернусь непременно к трем часам пополудни. Я просил его потребовать себе обед в обычный свой час и чем-нибудь занять до тех пор свое время. В городе у него была пропасть приятелей, — я это знал, — стало быть, и трудности не представлялось заполнить чем-нибудь немногие часы до моего прихода.
Исполнив это, я опять вышел из города и стал блуждать по бесплодной местности, окружающей Фризинголл, пока часы не сказали мне, что пришло наконец время вернуться в дом мистера Канди.
Эзра Дженнингс уже ожидал меня. Он сидел один в маленькой комнатке, стеклянная дверь из которой вела в аптеку. На стенах, выкрашенных желтой краской, висели цветные рисунки, изображающие отвратительные опустошения, какие производят различные страшные болезни. Книжный шкап, наполненный медицинскими сочинениями в потемневших переплетах, под которыми красовался череп вместо обычной статуэтки; большой сосновый стол, весь в чернильных пятнах; деревянные стулья, какие встречаются в кухнях и коттеджах; истертый шерстяной коврик посередине пола, водопроводный кран, таз и раковина, грубо приделанная к стене, невольно возбуждающие мысль о страшных хирургических операциях, — вот из чего состояла меблировка комнаты. Пчелы жужжали между горшками цветов, поставленными за окном, птицы пели в саду, и слабое бренчание расстроенного фортепиано в одном из соседних домов долетало по временам до слуха. Во всяком другом месте эти обыденные звуки приятно сообщали бы про обыденный мир за стенами; но сюда они вторгались как нарушители тишины, которую ничто, кроме человеческого страдания, не имело права нарушить. Я взглянул на ящик красного дерева с хирургическими инструментами и громадный сверток корпии, которые занимали отведенные им места на полке книжного шкапа, и содрогнулся при мысли о звуках, обычных для комнаты помощника мистера Канди.
— Я не прошу у вас извинения, мистер Блэк, что принимаю вас в этой комнате, — сказал он. — Она единственная во всем доме, где в это время дня мы можем быть уверены, что нас не потревожат. Вот лежат мои бумаги, приготовленные для вас; а тут две книги, к которым мы будем иметь случай обратиться, прежде чем кончим наш разговор. Придвиньтесь к столу и давайте посмотрим все это вместе.
Я придвинул к нему свой стул, и он подал мне записки. Они состояли из двух цельных листов бумаги. На первом были написаны слова с большими промежутками. Второй был весь исписан сверху донизу черными и красными чернилами. В том тревожном состоянии любопытства, в каком я в эту минуту находился, я с отчаянием отложил в сторону второй лист.
— Сжальтесь надо мною! — вскричал я. — Скажите, чего мне ждать, прежде чем я примусь за чтение?
— Охотно, мистер Блэк! Позволите ли вы мне задать вам два-три вопроса?
— Спрашивайте, о чем хотите.
Он взглянул на меня с грустною улыбкою на лице и с теплым участием в своих кротких карих глазах.
— Вы мне уже говорили, — начал он, — что, насколько это вам известно, никогда не брали в рот опиума.
— Насколько это мне известно? — спросил я.
— Вы тотчас поймете, почему я сделал эту оговорку. Пойдем дальше. Вы не помните, чтобы когда-либо принимали опиум. Как раз в это время в прошлом году вы страдали нервным расстройством и дурно спали по ночам. В ночь после дня рождения мисс Вериндер, однако, вы, против обыкновения, спали крепко. Прав ли я до сих пор?
— Совершенно правы.
— Можете ли вы указать мне причину вашего нервного расстройства и бессонницы?
— Решительно не могу. Старик Беттередж подозревал причину, насколько я помню. Но едва ли об этом стоит упоминать.
— Извините меня. Нет вещи, о которой не стоило бы упоминать в деле, подобном этому. Беттередж, говорите вы, приписывал чему-то вашу бессонницу. Чему именно?
— Тому, что я бросил курить.
— А вы имели эту привычку?
— Имел.
— И вы бросили ее вдруг?
— Да, вдруг.
— Беттередж был совершенно прав, мистер Блэк. Когда курение входит в привычку, человек должен быть необыкновенно сильного сложения, чтобы не почувствовать некоторого расстройства нервной системы, внезапно бросая курить. По-моему, ваша бессонница этим и объясняется. Мой следующий вопрос относится к мистеру Канди. Не имели ли вы с ним в день рождения или в другое время чего-нибудь вроде спора по поводу его профессии?
Вопрос этот тотчас пробудил во мне смутное воспоминание, связанное со званым обедом в день рождения. Мой нелепый спор с мистером Канди описан гораздо подробнее, чем он того заслуживает, в десятой главе рассказа Беттереджа. Подробности этого спора совершенно изгладились из моей памяти, настолько мало думал я о нем впоследствии. Припомнить и сообщить моему собеседнику я смог лишь то, что за обедом напал на медицину вообще до того резко и настойчиво, что вывел из терпения даже мистера Канди. Я вспомнил также, что леди Вериндер вмешалась, чтобы положить конец нашему спору, а мы с маленьким доктором помирились, как говорят дети, и были лучшими друзьями, когда пожимали друг другу руки на прощанье.
— Есть еще одна вещь, которую мне очень было бы важно узнать, — сказал Эзра Дженнингс. — Не имели ли вы повода беспокоиться насчет Лунного камня в это время в прошлом году?
— Имел сильнейший повод к беспокойству. Я знал, что он является предметом заговора, и меня предупредили, чтобы я принял меры к охране мисс Вериндер, которой он принадлежал.
— Безопасность алмаза не была ли предметом разговора между вами и кем-нибудь еще, перед тем как вы отправились в этот вечер спать?
— Леди Вериндер говорила о нем со своей дочерью…
— В вашем присутствии?
— В моем присутствии.
Эзра Дженнингс взял со стола свои записки и подал их мне.
— Мистер Блэк, сказал он, — если вы прочитаете сейчас мои записки в свете заданных мною вопросов и ваших ответов, вы сделаете два удивительных открытия относительно самого себя. Вы увидите, во-первых, что вошли в гостиную мисс Вериндер и взяли алмаз в состоянии бессознательном, произведенном опиумом; во-вторых, что опиум дан был вам мистером Канди — без вашего ведома, — для того, чтобы на опыте опровергнуть мысль, выраженную вами за званым обедом в день рождения мисс Рэчель.
Я сидел с листами в руках, в совершенном остолбенении.
— Простите бедному мистеру Канди, — кротко сказал Дженнингс. — Он причинил страшный вред, я этого не отрицаю, по сделал он это невинно.
Просмотрите мои записки, и вы увидите, что, не помешай ему болезнь, он приехал бы к леди Вериндер на следующее утро и сознался бы в сыгранной с вами шутке. Мисс Вериндер, конечно, услышала бы об этом; она его расспросила бы и, таким образом, истина, скрывавшаяся целый год, была бы открыта в один день.
— Мистер Канди вне пределов моего мщения, — сказал я сердито. — Но шутка, которую он со мною сыграл, тем не менее поступок вероломный. Я могу ее простить, но забыть — никогда!
— Нет врача, мистер Блэк, который в течение своей медицинской практики не совершил бы подобного вероломства. Невежественное недоверие к опиуму в Англии вовсе не кончается пределами низших и малообразованных классов.
Каждый врач со сколько-нибудь широкой практикою бывает вынужден время от времени обманывать своих пациентов, как мистер Канди обманул вас. Я не оправдываю злой шутки, сыгранной с вами при тех обстоятельствах, которые тогда сложились. Я только излагаю вам более точный и снисходительный взгляд на побудительные причины.
— Но как это было выполнено? — спросил я. — Кто дал мне его без моего ведома?
— Этого я сказать не могу. Об этом мистер Канди за всю свою болезнь не намекнул ни единым словом. Может быть, ваша собственная память подскажет вам, кого надо подозревать?
— Нет.
— Так бесполезно было бы теперь на этом останавливаться. Опиум вам дали украдкою тем или другим способом. Приняв это за основание, мы перейдем к обстоятельствам, более значительным в настоящем случае. Прочтите мои записки, если можете. Освойтесь с мыслями о том, что случилось в прошлом.
Я намерен предложить вам нечто крайне смелое и поразительное в отношении будущего.
Последние его слова пробудили во мне энергию. Я посмотрел на листы, сложенные в том порядке, в каком Эзра Дженнингс дал мне их в руки. Лист, менее исписанный, лежал наверху. На нем бессвязные слова и отрывки фраз, сорвавшиеся с губ мистера Канди во время бреда, читались следующим образом:
“…Мистер Фрэнклин Блэк… и приятен… выбить из головы загвоздку… медицине… сознается… бессонницей… ему говорю… расстроены… лечиться… мне говорит… ощупью идти впотьмах… одно и то же… присутствие всех за обеденным столом… говорю… ищете сна ощупью впотьмах… говорит… слепец водит слепца… знает, что это значит…
Остроумно… проспать одну ночь наперекор острому его языку… аптечка леди Вериндер… двадцать пять гран… без его ведома… следующее утро…
Ну что, мистер Блэк… принять лекарства сегодня… никогда не избавитесь… Ошибаетесь, мистер Канди… отлично… без вашего… поразить… истины… спали отлично… приема лауданума, сэр… перед тем… легли… что… теперь… медицине”.
Вот все, что было написано на первом листе. Я его вернул Эзре Дженнингсу.
— Это то, что вы слышали у кровати больного? — сказал я.
— Слово в слово то, что я слышал, — ответил он, — только я выпустил повторение одних и тех же слов, когда переписывал мои стенографические отметки. Некоторые фразы и слова он повторял десятки раз, иногда раз до пятидесяти, смотря по тому, какое значение приписывал мысли, ими выражаемой. Повторения в этом смысле служили мне некоторым пособием для восстановления связи между словами и отрывистыми фразами. Не думайте, — прибавил он, указывая на второй лист, — чтобы я выдал вставленные мною выражения за те самые, какие употребил бы мистер Канди сам, будь он в состоянии говорить связно. Я только утверждаю, что проник сквозь преграду бессвязного изложения к постоянной и последовательной основной мысли.
Судите сами.
Я обратился ко второму листу, который оказался ключом к первому. Бред мистера Канди был тут записан черными чернилами, а восстановленное его помощником — красными чернилами. Я переписываю то и другое подряд, поскольку и бред, и его пояснение находятся на этих страницах довольно близко один от другого — так, чтобы их легко можно было сличить и проверить.
“…Мистер Фрэнклин Блэк умен и приятен, но ему бы следовало выбросить из головы дурь, прежде чем рассуждать о медицине. Он сознается, что страдает бессонницею. Я ему говорю, что его нервы расстроены и что ему надо лечиться. Он мне говорит, что лечиться и ощупью идти впотьмах — одно и то же. И это он сказал в присутствии всех за обеденным столом. Я ему говорю: вы ищете сна ощупью впотьмах, и ничто, кроме лекарства, не сможет вам помочь найти его. На это он мне говорит, что слышал, как слепец водит слепца, а теперь знает, что это значит. Остроумно, — но я могу заставить его проспать одну ночь наперекор острому его языку. Он действительно нуждается в сне, и аптечка леди Вериндер в моем распоряжении. Дать ему двадцать пять гран лауданума к ночи, без его ведома, и приехать на следующее утро. — Ну что, мистер Блэк, не согласитесь ли вы принять лекарство сегодня? Без него вы никогда не избавитесь от бессонницы. — Ошибаетесь, мистер Канди, я спал отлично эту ночь без вашего лекарства. — Тогда поразить его объявлением истины:
— Вы спали отлично эту ночь благодаря приему лауданума, сэр, данного вам перед тем, как вы легли. Что вы теперь скажете о медицине?”
Я удивился находчивости, с которой он сумел из страшной путаницы восстановить гладкую и связную речь, и это было, естественно, первым моим впечатлением, когда я возвратил листок его составителю. Со свойственной ему скромностью он прервал меня вопросом, согласен ли я с выводом, сделанным из его записок.
— Полагаете ли вы, как полагаю и я, — сказал он, — что вы действовали под влиянием лауданума, делая все, что сделали в доме леди Вериндер в ночь после дня рождения ее дочери?
— Я имею слишком мало понятия о действии лауданума, чтобы составить себе собственное мнение, — ответил я. — Могу только положиться на ваше мнение и почувствовать внутренним убеждением, что вы правы.
— Очень хорошо. Теперь возникает следующий вопрос: вы убеждены, и я убежден, но как нам передать это убеждение другим?
Я указал на листы, лежавшие на столе перед нами. Эзра Дженнингс покачал головой.
— Бесполезны они, мистер Блэк, совершенно бесполезны, по трем неопровержимым причинам. Во-первых, эти записки составлены при обстоятельствах, совсем новых для большей части людей. Одно уже это говорит против них. Во-вторых, в этих записках изложена новая в медицине и еще не проверенная теория. И это тоже говорит против них! В-третьих, это записки — мои; кроме моего уверения, нет никакого доказательства, что они не подделка. Припомните, что я вам говорил на пустоши, и спросите себя: какой вес могут иметь мои слова? Нет, записки мои ценны только в одном отношении — с точки зрения людского приговора. Они указывают на способ, каким может быть доказана ваша невиновность, а она должна быть доказана. Мы обязаны обосновать наше убеждение фактами, и я считаю вас способным это выполнить.
— Каким образом? — спросил я.
Он наклонился ко мне через стол.
— Решитесь ли вы на смелый опыт?
— Я готов на все, чтобы снять лежащее на мне подозрение!
— Согласитесь ли вы подвергнуться некоторому временному неудобству?
— Какому бы то ни было, мне все равно!
— Будете ли вы безусловно следовать моему совету? Это может повести к насмешкам над вами глупцов; к увещаниям друзей, мнение которых вы обязаны уважать…
— Говорите, что надо делать, — перебил я его нетерпеливо, — и, будь что будет, я это выполню.
— Вот что вы должны сделать, мистер Блэк, — ответил он. — Вы должны украсть Лунный камень бессознательно во второй раз, в присутствии людей, свидетельство которых не может быть подвергнуто сомнению.
Я вскочил. Я пытался заговорить. Я мог только смотреть на него.
— Думаю, что это можно сделать, — продолжал он, — и это будет сделано, если только вы захотите мне помочь. Постарайтесь успокоиться. Сядьте и выслушайте, что я вам скажу. Вы опять начали курить, я сам это видел. Как давно вы начали?
— Около года.
— Вы курите сейчас больше или меньше прежнего?
— Больше.
— Бросите ли вы опять эту привычку? Внезапно, заметьте, как вы бросили тогда?
Я смутно начал понимать его цель.
— Брошу с этой же минуты, — ответил я.
— Если последствия будут такие же, как в июне прошлого года, — сказал Эзра Дженнингс, — если вы опять будете страдать так, как страдали тогда от бессонницы, мы сделаем первый шаг. Мы опять доведем вас до того нервного состояния, в каком вы находились в ночь после дня рождения. Если мы сможем восстановить, хотя бы приблизительно, домашние обстоятельства, окружавшие вас тогда, если мы сможем опять занять ваши мысли различными вопросами по поводу алмаза, которые прежде волновали их, мы поставим вас физически и морально так близко, как только возможно, в то самое положение, в каком вы приняли опиум в прошлом году. И в этом случае мы можем надеяться, что повторение приема опиума поведет в большей или меньшей степени к повторению результата приема. Вот мое предложение, выраженное в нескольких словах. Вы теперь увидите, какие причины заставляют меня сделать его.
Он повернулся к книге, лежавшей возле него, и раскрыл ее на том месте, которое было заложено бумажкой.
— Не думайте, что я намерен докучать вам лекцией о физиологии, — сказал он. — Я считаю своим долгом доказать, что прошу вас испробовать этот опыт не для того только, чтобы оправдать теорию моего собственного изобретения.
Узаконенные принципы и призванные авторитеты оправдывают принятое мною воззрение. Удостойте меня своим вниманием минут на пять, и я берусь показать вам, что наука одобряет мое предложение, каким бы странным оно ни казалось. Вот, во-первых, физиологический принцип, по которому я действую, изложенный самим доктором Карпентером. Прочтите лично.
Он подал мне бумажку, лежавшую как закладка в книге. На ней были написаны следующие строки:
“Есть много оснований думать, что каждое чувственное впечатление, однажды воспринятое сознанием, записывается, так сказать, в нашем мозгу и может быть воспроизведено впоследствии, хотя бы мы не сознавали его в течение данного периода”.
— Пока все ясно, не так ли? — спросил Эзра Дженнингс.
— Совершенно ясно.
Он придвинул ко мне через стол открытую книгу и указал на место, отмеченное карандашом.
— Прочтите это описание, — сказал он, — имеющее, как мне кажется, прямое отношение к вашему положению и к тому опыту, на который я уговариваю вас решиться. Заметьте, мистер Блэк, прежде чем начнете читать, что я ссылаюсь на одного из величайших английских физиологов. Книга в ваших руках, — это “Физиология человека” доктора Эллиотсона, а случай, на который ссылается доктор, основан на известном авторитете мистера Комба.
Место, на которое он указывал, было описано в следующих выражениях:
“Доктор Абль сообщил мне, — говорит мистер Комб, — об одном ирландском носильщике, который в трезвом виде забывал, что он делал в пьяном, но, напившись, вспоминал о поступках, сделанных в пьяном виде. Однажды, будучи пьян, он потерял довольно ценный сверток и в трезвые минуты не мог дать никаких объяснений. В следующий раз, когда он напился, он вспомнил, что оставил сверток в одном доме, и так как на нем не было адреса, то он и оставался там в целости, и носильщик получил его, когда сходил за ним”.
— Снова все ясно? — спросил Эзра Дженнингс.
— Как нельзя более ясно.
Он положил бумажку на прежнее место и закрыл книгу.
— Удостоверились вы теперь, что я говорил, опираясь на авторитеты? — спросил он. — Если нет, мне остается только обратиться к этим полкам, а вам прочесть места, на которые я вам укажу.
— Я вполне удовлетворен и не буду больше читать.
— В таком случае мы можем вернуться к вашим личным интересам в этом деле. Я обязан сказать вам, что против этого опыта можно кое-что возразить. Если бы мы могли в этом году воспроизвести точь-в-точь такие условия, какие существовали в прошлом, то, несомненно, мы достигли бы точно такого же результата. Но это просто невозможно. Мы можем лишь надеяться приблизиться к этим условиям, и если мы не сумеем вернуть вас как можно ближе к прошлому, опыт наш не удастся. Если сумеем, — а я надеюсь на успех, — мы сможем, по крайней мере, увидеть повторение всего сделанного вами в ночь после дня рождения мисс Рэчель, — и это должно будет убедить всякого здравомыслящего человека в том, что вы невиновны в похищении алмаза. Я полагаю, мистер Блэк, что рассмотрел теперь вопрос со всех сторон так справедливо, как только мог, в границах, установленных мною самим. Если для вас что-нибудь неясно, скажите мне, и я постараюсь вам это разъяснить.
— Все, что вы объяснили мне, — сказал я, — я понял прекрасно. Но, признаюсь, я в недоумении относительно одного пункта, который мне еще неясен.
— Какой пункт?
— Я не понимаю, как действовал опиум на меня. Я не понимаю, как я шел с лестницы и по коридорам, отворял и затворял ящики в шкалу и опять вернулся в свою комнату. Все это поступки активные. Я думал, что действие опиума приводит сначала в отупение, а потом нагоняет сон!
— Всеобщее заблуждение относительно опиума, мистер Блэк! В эту минуту я изощряю свой ум под влиянием дозы лауданума, которая в десять раз больше, чем данная вам мистером Канди. Но не полагайтесь на мой авторитет даже в таком вопросе, который проверен моим личным опытом. Я предвидел возражение, высказанное вами, и опять заручился свидетельством, которое будет иметь вес и в ваших глазах и в глазах ваших друзей.
Он подал мне вторую из двух книг, лежавших возле него на столе.
— Вот, — сказал он, — знаменитые “Признания англичанина, принимавшего опиум”. Возьмите с собой эту книгу и прочтите ее. В месте, отмеченном мною, вы найдете, что когда де Квинси принимал огромную дозу опиума, он или отправлялся в оперу наслаждаться музыкой, или бродил по лондонским рынкам в субботу вечером и с интересом наблюдал старания бедняков добыть себе воскресный обед. Таким образом, этот человек активно действовал и переходил с места на место под влиянием опиума.
— Вы мне ответили, — сказал я, — но не совсем: вы еще не разъяснили мне действия, производимого опиумом на меня.
— Я постараюсь ответить вам в нескольких словах, — сказал Эзра Дженнингс. — Действие опиума бывает в большинстве случаев двояким: сначала возбуждающим, потом успокаивающим. При возбуждающем действии самые последние и наиболее яркие впечатления, оставленные в вашей душе, — а именно впечатления, относившиеся к алмазу, — наверное, при болезненно-чувствительном нервном состоянии вашем, оставили глубокий след у вас в мозгу и подчинили себе ваш рассудок и вашу волю подобно тому, как подчиняет себе ваш рассудок и вашу волю обыкновенный сои. Мало-помалу под этим влиянием все беспокойство об алмазе, которое вы могли испытывать днем, должно было перейти из состояния неизвестности в состояние уверенности, должно было побудить вас к практическому намерению уберечь алмаз, направить ваши шаги с этой целью в ту комнату, в которую вы вошли, и руководить вашей рукой до тех пор, пока вы не нашли в шкапчике тот ящик, в котором лежал камень. Вы сделали все в состоянии опьянения от опиума.
Позднее, когда успокаивающее действие начало преодолевать действие возбуждающее, вы постепенно становились все более вялым и наконец впали в оцепенение. За этим последовал глубокий сон. Когда настало утро и действие опиума окончилось, вы проснулись в таком совершенном неведении относительно того, что делали ночью, как будто свалились с луны. Ясно ли вам все это?
— До такой степени ясно, — ответил я, — что я желаю, чтобы вы шли далее. Вы показали мне, как я вошел в комнату и как взял алмаз. Но мисс Вериндер видела, как я снова вышел из комнаты с алмазом в руке. Можете вы проследить за моими поступками с этой минуты? Можете вы угадать, что я сделал потом?
— Я перехожу именно к этому пункту, — ответил он. — Это для меня вопрос, не будет ли опыт, предлагаемый мною, не только способом доказать вашу невиновность, по также и способом найти пропавший алмаз. Когда вы вышли из гостиной мисс Вериндер с алмазом в руке, вы, по всей вероятности, вернулись в вашу комнату…
— Да! И что же тогда?
— Возможно, мистер Блэк, — не смею выразиться определенней, — что ваша мысль уберечь алмаз привела естественным образом к намерению спрятать алмаз и что вы спрятали его где-нибудь в своей спальне. В таком случае с вами могло произойти то же, что и с ирландским носильщиком. Вы, может быть, вспомните после второго приема опиума то место, куда вы спрятали алмаз под влиянием первой дозы.
Тут пришла моя очередь дать разъяснение Эзре Дженнингсу. Я остановил его прежде, чем он успел сказать мне что-либо.
— Все ваши соображения ни к чему не приведут, алмаз находится в эту минуту в Лондоне.
Он вздрогнул и посмотрел на меня с большим удивлением.
— В Лондоне? — повторил он. — Как он попал в Лондон из дома леди Вериндер?
— Этого не знает никто.
— Вы его вынесли своими собственными руками из комнаты мисс Вериндер. Как он был взят от вас?
— Не имею ни малейшего понятия об этом.
— Вы видели его, когда проснулись утром?
— Нет.
— Был он опять возвращен мисс Вериндер?
— Нет.
— Мистер Блэк! Тут есть кое-что, требующее разъяснения. Могу я спросить, каким образом вам известно, что алмаз находится в эту минуту в Лондоне?
Я задал тот же вопрос мистеру Бреффу, когда расспрашивал его о Лунном камне по возвращении в Лондон. Отвечая Эзре Дженнингсу, я повторил то, что сам слышал от стряпчего и что уже известно читателям этих страниц. Он ясно показал, что недоволен моим ответом.
— При всем уважении к вам и вашему стряпчему, — сказал он, — я держусь выраженного мною мнения. Мне хорошо известно, что основывается оно только на предположении. Но простите, если я напомню вам, что и ваше мнение основано лишь на предположении.
Взгляд его был совершенно нов для меня. Я ждал с беспокойством, как он будет защищать его.
— Я предполагаю, — продолжал Эзра Дженнингс, — что под влиянием опиума вы взяли алмаз, чтобы спрятать его в безопасном месте, под этим же влиянием вы могли спрятать его где-нибудь в вашей комнате. Вы предполагаете, что индусские заговорщики не могли ошибиться. Индусы отправились в дом Люкера за алмазом, — следовательно, алмаз должен находиться у мистера Люкера. Имеете вы какие-нибудь доказательства, что Лунный камень был отвезен в Лондон? Вы ведь не в силах даже угадать, как и кто увез его из дома леди Вериндер? Имеете вы улики, что алмаз был заложен Люкеру? Он уверяет, что никогда не слыхал о Лунном камне, а в расписке его банкира упоминается только о ценной вещи. Индусы предполагают, что мистер Люкер лжет, — и вы опять предполагаете, что индусы правы. Могу сказать в защиту своего мнения только то, что оно возможно. Что же вы, мистер Блэк, рассуждая логически или юридически, можете сказать в защиту вашего?
Сказано было резко; но нельзя было отрицать, что сказано было справедливо.
— Признаюсь, вы поколебали меня, — отвечал я. — Вы не против того, чтоб я написал мистеру Бреффу о том, что вы сказали мне?
— Наоборот, буду рад, если вы напишете мистеру Бреффу. Посоветовавшись с его опытностью, мы, может быть, увидим это дело в новом свете. Пока же вернемся к нашему опыту с опиумом. Решено, что вы бросаете курить тотчас же?
— Тотчас же.
— Это первый шаг. Следующий шаг должен состоять в том, чтобы воспроизвести, насколько возможно точно, домашние обстоятельства, окружавшие вас в прошлом году.
Как это можно было сделать? Леди Вериндер умерла. Рэчель и я, пока на мне лежало подозрение в воровстве, были разлучены безвозвратно. Годфри Эбльуайт был в отсутствии, путешествовал по континенту. Просто невозможно было собрать людей, находившихся в доме, когда я ночевал в нем в последний раз. Эти возражения не смутили Эзру Дженнингса. Он сказал, что придает весьма мало значения тому, чтобы собрать тех же самых людей, так как было бы напрасно ожидать, чтобы они заняли то же положение относительно меня, какое занимали тогда. С другой стороны, он считал необходимым для успеха опыта, чтобы я видел те же самые предметы около себя, которые окружали меня, когда я в последний раз был в доме.
— А важнее всего, — прибавил он, — чтобы вы спали в той комнате, в которой спали в ночь после дня рождения, и меблирована она должна быть точно таким же образом. Лестницы, коридоры и гостиная мисс Вериндер также должны быть восстановлены в том виде, в каком вы видели их в последний раз. Решительно необходимо, мистер Блэк, поставить мебель на те же места в этой части дома, откуда, может быть, теперь ее вынесли. Бесполезно жертвовать вашими сигарами, если мы не получим позволения мисс Вериндер сделать это.
— Кто обратится к ней за этим позволением? — спросил я.
— Нельзя обратиться вам?
— Об этом не может быть и речи. После того, что произошло между нами из-за пропажи алмаза, я не могу ни видеться с нею, ни писать ей.
Эзра Дженнингс умолк и соображал с минуту.
— Могу я задать вам деликатный вопрос? — спросил он. Я сделал утвердительный знак. — Правильно ли я сужу, мистер Блэк, по двум-трем фразам, вырвавшимся у вас, что вы испытывали не совсем обычный интерес к мисс Вериндер в прежнее время?
— Совершенно правильно.
— Платили вам за это чувство взаимностью?
— Платили.
— Как вы думаете, не заинтересуется ли мисс Вериндер опытом, могущим доказать вашу невиновность?
— Я в этом уверен.
— В таком случае я сам напишу мисс Вериндер, если вы дадите мне позволение.
— И расскажете ей о предложении, которое сделали мне?
— Расскажу ей все, что произошло между нами сегодня.
Излишне говорить, что я с жаром принял услугу, которую он мне предлагал.
— Я еще успею написать с сегодняшней почтой, — сказал он, взглянув на часы. — Не забудьте запереть ваши сигары, когда вернетесь в гостиницу! Я зайду завтра утром и услышу, как вы провели ночь.
Я встал, чтобы проститься с ним; я старался выразить признательность, которую действительно чувствовал за доброту его. Он тихо пожал мне руку.
— Помните, что я сказал вам на торфяном болоте, — ответил он. — Если я смогу оказать вам эту маленькую услугу, мистер Блэк, мне покажется это последним проблеском солнечного света, падающим на вечер длинного и сумрачного дня.
Мы расстались. Это было пятнадцатого июня. События последующих десяти дней (каждое из них более или менее относится к опыту, в котором я был пассивным участником) записаны, слово в слово, как они случились, в дневнике помощника мистера Канди. На его страницах ничто не утаено и ничего не забыто. Пусть Эзра Дженнингс расскажет, как был сделан опыт с опиумом и чем он кончился.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАССКАЗ, выписанный из дневника Эзры Дженнингса
1849, июня 15. Хотя меня прерывали мои больные и моя боль, я кончил письмо мисс Вериндер вовремя, к сегодняшней почте. Мне не удалось написать так коротко, как я того желал бы. Но мне кажется, я написал ясно. Письмо предоставляет ей совершенную свободу решить так, как пожелает она сама.
Если она согласится помочь опыту, она согласится добровольно, а не из милости к мистеру Фрэнклину Блэку или ко мне.
Июня 16. Встал поздно после ужасной ночи; действие вчерашнего опиума преследовало меня страшными снами. То я кружился в пустом пространстве и с призраками умерших друзей и врагов, то любимое лицо, которое я никогда не увижу, вставало над моей постелью, фосфоресцируя в черноте ночи, гримасничая и усмехаясь мне. Легкое возвращение прежней боли в обычное время, рано утром, было даже приятно мне, как перемена. Оно разогнало видения — и поэтому было терпимо.
После дурно проведенной ночи я поздно встал и опоздал поэтому к мистеру Фрэнклину Блэку. Я нашел его лежащим на диване, он пил виски с водой и ел печенье.
— Я начинаю так хорошо, как только вы можете пожелать, — сказал он, — несчастная, беспокойная ночь; полное отсутствие аппетита сегодня утром.
Точь-в-точь так, как случилось в прошлом году, когда я бросил курить. Чем скорее я буду готов для второго приема опиума, тем будет мне приятнее.
— Вы получите его так скоро, как только возможно, — ответил я. — А пока мы должны всеми силами беречь ваше здоровье.
Я покинул мистера Блэка для своих больных, чувствуя себя лучше и счастливее после этого краткого свидания с ним.
В чем тайна привлекательности для меня этого человека? Или это только значит, что я чувствую разницу между чистосердечным, ласковым обращением, с каким он допустил меня познакомиться с ним, и безжалостным отвращением и недоверием, с какими встречают меня другие люди? Или есть в нем действительно что-то, отвечающее стремлению моему к человеческому сочувствию, — стремлению, пережившему одиночество и гонение многих лет и делающемуся все сильнее и сильнее по мере того, как приближается время, когда я перестану и чувствовать, и терпеть? Как бесполезно задавать эти вопросы?! Мистер Блэк воскресил во мне интерес к жизни. Пусть будет довольно этого; к чему стараться понять, в чем состоит этот новый интерес?
Июня 17. Сегодня утром перед завтраком мистер Канди сообщил мне, что уезжает на две недели навестить своего друга на юге Англии. Он дал мне много специальных наставлений, бедняга, по поводу больных, как будто имел еще большую практику, бывшую у него до болезни.
Почта принесла мне ответ мисс Вериндер после отъезда мистера Канди.
Очаровательное письмо! Оно внушило мне самое высокое мнение о ней. Она не старается скрыть интереса, который чувствует к нашему предприятию, она говорит самым милым образом, что мое письмо убедило ее в невиновности мистера Блэка без малейшей надобности еще и доказывать это. Она даже упрекает себя — весьма неосновательно, бедняжка! — в том, что не разгадала в свое время тайны. Причина всех этих уверений кроется, очевидно, в великодушном желании поскорее загладить несправедливость, которую она невольно нанесла другому человеку. Ясно, что она не переставала его любить и во время их отчуждения. Во многих местах ее письма ее радость, что он заслуживает быть любимым, прорывается самым невинным образом сквозь принятые условности, вопреки сдержанности, какая требуется в письме к постороннему лицу. Возможно ли (спрашиваю я себя, читая это восхитительное письмо), что я единственный из всех людей на свете предназначен послужить средством к тому, чтобы опять соединить этих молодых людей? Мое личное счастье было растоптано, любовь моя была похищена. Неужели я доживу до того, чтобы видеть счастье других людей, устроенное моими руками, их возрожденную любовь?
В письме заключались две просьбы. Первая из них — не показывать это письмо мистеру Фрэнклину Блэку. Я имею право сказать ему, что мисс Вериндер охотно отдает свой дом в полное наше распоряжение; но не более этого.
Эту просьбу исполнить легко. Однако вторая ее просьба причиняет мне серьезные затруднения.
Мисс Вериндер, не довольствуясь указанием, данным мистеру Беттереджу о том, чтобы он исполнял все мои распоряжения, просит дозволения помочь мне личным своим наблюдением над тем, как будет приведена в прежний свой вид ее гостиная. Она ждет только ответа от меня, чтобы отправиться в Йоркшир и присутствовать в качестве одного из свидетелей в ночь, когда эксперимент с опиумом будет проделан во второй раз.
Здесь опять кроется какая-то причина, и мне кажется, я могу ее угадать.
То, что она запретила мне говорить мистеру Фрэнклину Блэку, она, — так я объясняю себе это, — с нетерпением желает сказать ему сама, прежде чем будет сделан опыт, который должен восстановить его репутацию в глазах других людей. Я понимаю и восхищаюсь великодушным желанием поскорее оправдать его, не ожидая, будет ли или не будет доказана его невиновность.
Она хочет, бедняжка, загладить нанесенную ему обиду. Но этого сделать нельзя. У меня нет ни тени сомнения, что обоюдное волнение, возбужденное встречей, старые чувства, которые она пробудит, новые надежды, которые возродит, — в своем действии на душу мистера Блэка будут гибельны для успеха нашего опыта. Уж и сейчас довольно трудно воспроизвести в нем те же настроения, какие владели им в прошлом году. Если же новые интересы и новые ощущения взволнуют его, попытка будет просто бесплодна.
А между тем, хотя я и знаю это, у меня недостает духа обмануть ее ожидания. Я должен постараться придумать какой-нибудь выход, который позволил бы мне сказать “да” мисс Вериндер, не повредив услуге, которую я обязан оказать мистеру Фрэнклину Блэку.
Два часа. Только что вернулся со своего медицинского осмотра, разумеется побывав прежде в гостинице.
Сообщение мистера Блэка о проведенной ночи то же, что и вчера. Сон его был прерывистый, но сегодня он менее беспокоен, потому что спал вчера после обеда. Этот послеобеденный сон, без сомнения, был результатом прогулки верхом, которую я ему посоветовал. Боюсь, что должен прекратить этот живительный моцион на свежем воздухе. Ему не следует быть вполне здоровым, как не следует быть и совсем больным.
Он еще не получил известий от мистера Бреффа. Он с нетерпением хотел узнать, не получил ли я ответа от мисс Вериндер.
Я рассказал ему только то, что мне было разрешено, и не более того.
Совершенно бесполезно придумывать предлоги, чтобы не показать ему это письмо. Он сказал мне с горечью — бедняжка! — что понимает деликатность, мешающую мне показать письмо.
— Она соглашается, разумеется, из вежливости и чувства справедливости, — сказал он. — Но она остается при своем мнении обо мне и ждет результата.
Мне очень хотелось намекнуть ему, что он сейчас так же несправедлив к ней, как она была несправедлива к нему. Но, поразмыслив, я не захотел лишить ее двойного наслаждения — удивить и простить его.
Посещение мое было очень коротким. После вчерашней ночи я вынужден был отказаться от приема опиума. Неизбежные последствием было то, что болезнь, гнездящаяся во мне, опять одержала верх. Я почувствовал приближение припадка и поспешно ушел, чтобы не испугать и не огорчить мистера Блэка.
Припадок продолжался на этот раз только четверть часа и оставил во мне довольно сил, чтобы продолжать мою работу.
Пять часов. Я написал ответ мисс Вериндер.
План, предложенный мною, если только она согласится на него, учитывает интересы обеих сторон. Сперва я привел все доводы против встречи ее с мистером Блэком до опыта, а потом посоветовал ей приехать тайно в тот вечер, когда мы будем производить самый опыт. Выехав из Лондона с послеобеденным поездом, она может приурочить свой приезд к девяти часам вечера. Я решил к этому времени проводить мистера Блэка в его спальню и, таким образом, дать возможность мисс Вериндер пройти в свои комнаты до того, как будет принят опиум. После того как это будет сделано, она сможет наблюдать за результатом вместе со всеми нами. На следующее утро она покажет мистеру Блэку (если захочет) свою переписку со мною и удостоверит его, таким образом, что он был оправдан в ее глазах прежде, чем была фактически доказана его невиновность.
В этом роде я написал ей. Вот все, что я мог сделать сегодня. Завтра увижусь с мистером Беттереджем и дам указания, как устроить дом.
Июня 18. Опять опоздал зайти к мистеру Фрэнклину Блэку. Ужасная боль усилилась рано утром, и вслед за нею мною овладела на несколько часов страшная слабость. Я предвижу, что, несмотря на разрушающее действие, оказываемое опиумом, мне придется вернуться к нему в сотый раз. Если бы я должен был думать только о самом себе, я предпочел бы острую боль страшным снам. Но физическое страдание истощает меня. Если я допущу себя до полного изнеможения, кончится тем, что я сделаюсь бесполезен мистеру Блэку в такое время, когда больше всего буду ему нужен.
Было уже около часа, прежде чем я успел добраться сегодня в гостиницу.
Это посещение, даже при моем болезненном состоянии, оказалось весьма забавным благодаря присутствию Габриэля Беттереджа.
Он был уже в комнате, когда я вошел. Отойдя к окну, он стал смотреть в него, пока я задавал обычные вопросы своему пациенту. Мистер Блэк опять дурно спал и чувствовал бессонницу сегодня утром гораздо сильнее, чем чувствовал ее до сих пор. Я спросил его, не получал ли он известий от мистера Бреффа.
Он получил письмо утром. Мистер Брефф высказывал сильное неодобрение плану, на который решился его друг и клиент по моему совету. Это было нехорошо с его точки зрения, потому что возбуждало надежды, которые могли не осуществиться. Кроме того, что это было совершенно непонятно для него, это казалось шарлатанством, вроде месмеризма, ясновидения и тому подобного. Это перевернет вверх дном дом мисс Вериндер и кончится тем, что расстроит самое мисс Вериндер.
Он рассказал об этом (не называя имен) одному знаменитому врачу, и знаменитый врач улыбнулся, покачал головой и не сказал ничего. Основываясь на всех этих причинах, мистер Брефф протестовал против нашего плана.
Мой следующий вопрос относился к алмазу. Представил ли стряпчий какое-нибудь доказательство того, что алмаз в Лондоне?
Нет, стряпчий просто отказался рассуждать об этом. Он был уверен, что Лунный камень заложен мистеру Люкеру. Его знаменитый отсутствующий друг (никто не мог отрицать того, что он идеально знал характер индусов) был также уверен в этом. При данных обстоятельствах и при многочисленных запросах, уже сделанных ему, он должен отказаться вступать в какие бы то ни было споры относительно доказательств. Время само покажет, и мистер Брефф охотно выждет.
Было совершенно ясно, если бы даже мистер Блэк не сделал это еще более ясным, заменив чтение письма простым пересказом его содержания, что под всем этим таилось недоверие лично ко мне. Подготовленный к этому, я не был ни раздосадован, ни удивлен. Я спросил мистера Блэка, какое впечатление произвел на него протест его друга. Он с жаром ответил, что ни малейшего. После этого я получил право выкинуть из головы мистера Бреффа, и сделал это.
Наступила пауза, и Габриэль Беттередж отошел от окна.
— Можете ли вы удостоить меня вашим вниманием, сэр? — обратился он ко мне.
— Я весь к вашим услугам, — ответил я.
Беттередж взял стул и сел у стола. Он вынул большую старинную записную книжку с карандашом такого же размера. Надев очки, он раскрыл записную книжку на пустой странице и опять обратился ко мне.
— Я прожил, — сказал Беттередж, сурово глядя на меня, — почти пятьдесят лет на службе у покойной миледи. До тех пор я был пажом на службе у старого лорда, ее отца. Мне теперь около восьмидесяти лет, — все равно, сколько именно. Считают, что я имею знание и опыт не хуже многих. Чем же это кончается? Кончается, мистер Эзра Дженнингс, фокусами над мистером Фрэнклином Блэком, которые будет производить помощник доктора посредством склянки с лауданумом, а меня, в моих преклонных летах, заставляют быть помощником фокусника!
Мистер Блэк захохотал. Я хотел заговорить, Беттередж поднял руку.
— Ни слова, мистер Дженнингс! — сказал он. — Я не желаю слышать от вас, сэр, ни единого слова. У меня есть свои правила, слава богу! Если я получу приказание сродни приказанию из Бедлама, это ничего не значит. Пока я получаю его от моего господина или госпожи, я повинуюсь. Но я могу иметь свое собственное мнение, которое, потрудитесь вспомнить, совпадает также и с мнением мистера Бреффа, знаменитого мистера Бреффа! — сказал Беттередж, возвышая голос, торжественно качая головой и глядя на меня. — Все равно, я все-таки беру назад свое мнение. Моя барышня говорит: “Сделайте это”, и я говорю: “Мисс, будет сделано”. Вот я здесь, с книжкой и с карандашом, — он очинен не так хорошо, как я мог бы пожелать, по если христиане лишаются рассудка, кто может ожидать, чтобы карандаши оставались остры? Давайте мне ваши приказания, мистер Дженнингс. Я запишу их, сэр. Я решился не отступать от них ни на волос. Я слепой агент, вот я кто. Слепой агент! — повторил Беттередж, находя необыкновенное наслаждение в этом определении, данном самому себе.
— Мне очень жаль, — начал я, — что мы с вами не соглашаемся…
— Не вмешивайте меня в это дело! — перебил Беттередж. — Речь идет не о согласии, а о повиновении. Давайте ваши приказания, сэр, давайте приказания!
— Я хочу, чтобы некоторые части дома были снова открыты, — начал я, — и меблированы точь-в-точь так, как они были в прошлом году.
Беттередж лизнул языком плохо очиненный карандаш.
— Назовите эти части, мистер Дженнингс, — сказал он надменно.
— Во-первых, холл у главной лестницы.
— Во-первых, холл, — написал Беттередж. — Невозможно меблировать его, сэр, как он был меблирован в прошлом году…
— Почему?
— Потому что в прошлом году, мистер Дженнингс, там стояло чучело кобуза. Когда господа уехали, кобуза унесли вместе с другими вещами. Когда кобуза уносили, он лопнул.
— Если так, исключим кобуза.
Беттередж записал исключение.
— “Холл должен быть меблирован, как в прошлом году. Только исключить лопнувшего кобуза”. Пожалуйста, продолжайте, мистер Дженнингс.
— Разостлать ковер на лестницах, как прежде.
— “Разостлать ковер на лестницах, как прежде”. Очень жалею, что опять должен обмануть ваши ожидания, сэр. Но и этого сделать нельзя.
— Почему же?
— Потому что человек, расстилавший ковры, умер, мистер Дженнингс, а подобного ему в искусстве расстилать ковры, обойди хоть всю Англию, не найдешь!
— Очень хорошо. Мы должны постараться найти лучшего человека во всей Англии после него.
Беттередж записал, а я продолжал делать распоряжения.
— Гостиная мисс Вериндер должна быть восстановлена совершенно в таком виде, в каком она была в прошлом году. Также и коридор, ведущий из гостиной на первую площадку. Также и второй коридор, ведущий со второй площадки в спальни хозяев. Также спальня, занимаемая в июне прошлого года мистером Фрэнклином Блэком.
Тупой карандаш Беттереджа следовал добросовестно за каждым моим словом.
— Продолжайте, сэр, — сказал он с сардонической важностью. — Мой карандаш кое-что еще не дописал.
Я ответил ему, что у меня больше нет никаких распоряжений.
— Сэр, — сказал Беттередж, — в таком случае разрешите, — я сам от себя прибавлю пункт или два.
Он раскрыл записную книжку на новой странице и еще раз лизнул неистощимый карандаш.
— Я желаю знать, — начал он, — могу я или нет умыть руки…
— Конечно, можете, — сказал мистер Блэк. — Я позвоню слуге.
— …сложить с себя ответственность, — продолжал Беттередж, с прежней невозмутимостью продолжая не замечать в комнате никого, кроме меня. — Начнем с гостиной мисс Вериндер. Когда мы снимали ковер в прошлом году, мистер Дженнингс, мы нашли огромное количество булавок. Должен я снова положить булавки?
— Конечно, нет.
Беттередж тут же записал эту уступку.
— Теперь о первом коридоре, — продолжал он. — Когда мы снимали украшения в этой части дома, мы унесли статую толстого ребенка нагишом, обозначенного в каталоге дома “Купидоном, богом любви”. В прошлом году у пего было два крыла в мясистой части плеч. Я недоглядел, и он потерял одно крыло. Должен я отвечать за крыло купидона?
Я опять сделал ему уступку, а Беттередж опять записал.
— Перейдем ко второму коридору, — продолжал он. — В прошлом году в нем не было ничего, кроме дверей, и я сознаюсь, что душа у меня спокойна только относительно этой части дома. Что касается спальни мистера Фрэнклина, то, если ей надо придать ее прежний вид, желал бы я знать, кто должен взять на себя ответственность за то, чтобы поддерживать в ней постоянный беспорядок, как бы часто ни восстанавливался порядок, — здесь панталоны, тут полотенце, французские романы там и тут, — я говорю, кто должен держать в неопрятности комнату мистера Фрэнклина, он или я?
Мистер Блэк объявил, что он возьмет на себя всю ответственность за это с величайшим удовольствием. Беттередж упорно отказывался слушать разрешение затруднения с этой стороны, прежде чем он получил мое согласие и одобрение. Я принял предложение мистера Блэка, и Беттередж сделал последнюю запись в своей книжке.
— Заходите к нам, когда хотите, мистер Дженнингс, начиная с завтрашнего дня, — сказал он, вставая. — Вы найдете меня за работой с нужными помощниками. Я почтительно благодарю вас, сэр, за то, что вы оставили без внимания чучело кобуза и купидоново крыло, также и за то, что вы сняли с меня всякую ответственность относительно булавок на ковре и беспорядка в комнате мистера Фрэнклина. Как слуга, я глубоко обязан вам. Как человек, я считаю это вашей прихотью и восстаю против вашего опыта, который считаю обманом чувств и западней. Не бойтесь, чтобы мои чувства человека помешали моему долгу слуги. Ваши распоряжения будут исполнены, сэр, будут исполнены! Если это кончится пожаром в доме, я не пошлю за пожарными, пока вы не позвоните в колокольчик и не прикажете послать!
С этим прощальным уверением он поклонился и вышел из комнаты.
— Как вы думаете, можем мы положиться на него? — спросил я.
— Безусловно, — ответил мистер Блэк. — Когда мы войдем в дом, мы увидим, что он ничего не позабыл и ничем не пренебрег.
Июня 19. Еще протест против нашего плана. На этот раз от дамы.
С утренней почтой пришло два письма на мое имя. Одно от мисс Вериндер, самым любезным образом соглашавшейся на предложенный мною план. Другое от дамы, в доме которой она живет, миссис Мерридью.
Миссис Мерридью кланяется и не претендует на понимание предмета, о котором я переписываюсь с мисс Вериндер, в его научном значении. С точки зрения общественного значения, однако, она чувствует себя вправе выразить свое мнение. Вероятно, мне неизвестно, так думает миссис Мерридью, что мисс Вериндер всего лишь девятнадцать лет. Позволить молодой девушке в такие годы присутствовать без компаньонки в доме, полном мужчин, которые будут производить медицинский опыт, есть нарушение приличия, которого миссис Мерридью допустить не может. Она чувствует, что ее долг пожертвовать своими личными удобствами и поехать с мисс Вериндер в Йоркшир. Она просит, чтоб я подумал об этом, так как мисс Вериндер не хочет руководствоваться ничьим мнением, кроме моего. Может быть, ее присутствие не так необходимо, и одно мое слово освободило бы миссис Мерридью и меня от весьма неприятной ответственности.
В переводе на простой английский язык эти вежливые слова означают, как я понимаю, что миссис Мерридью смертельно боится мнения света. К несчастью, она обратилась с ними к такому человеку, который меньше всех на свете уважает это мнение. Я не обману ожиданий мисс Вериндер, я не стану откладывать попытку примирить молодых людей, которые любят друг друга и слишком долго были разлучены. Если перевести эти простые английские выражения на язык вежливых условностей, то смысл будет такой: мистер Дженнингс имеет честь кланяться миссис Мерридью и сожалеет, что не может ничего более сделать.
Мистер Блэк чувствует себя сегодня утром по-прежнему. Мы решили не мешать Беттереджу и сегодня еще не заходить в дом. Успеем сделать наш первый осмотр и завтра.
Июня 20. Бессонница начинает сказываться на здоровье мистера Блэка. Чем скорее комнаты будут приведены в прежний вид, тем лучше.
Сегодня утром, когда мы шли с ним домой, он посоветовался со мною с некоторой нерешительностью и с нервным нетерпением по поводу письма (пересланного ему из Лондона), которое он получил от сыщика Каффа.
Сыщик пишет из Ирландии. Он сообщает, что получил (от своей экономки) визитную карточку и записку, которую мистер Блэк оставил в его доме близ Доркинга, и уведомляет, что, по всей вероятности, вернется в Англию через неделю и даже раньше. А пока он просит, чтобы мистер Блэк объяснил ему, по какому поводу он желает говорить с ним о Лунном камне. Если мистер Блэк может убедить его, что он сделал серьезную ошибку в прошлогоднем следствии, он будет считать своею обязанностью (после щедрого вознаграждения, полученного от покойной леди Вериндер) отдать себя в распоряжение этого джентльмена. Если нет, он просит позволения остаться в своем уединении, среди мирных удовольствий деревенской жизни.
Прочтя это письмо, я без малейшего колебания посоветовал мистеру Блэку сообщить сыщику Каффу обо всем, что произошло после прекращения следствия в прошлом году, и предоставить ему самому составить заключение на основании фактов.
Подумав немного, я также посоветовал пригласить сыщика Каффа присутствовать при опыте, если он успеет вернуться в Англию к тому времени. Он, во всяком случае, был бы драгоценным свидетелем и, если бы мое мнение, что алмаз спрятан в комнате мистера Блэка, оказалось неверным, совет сыщика мог бы быть очень важным для дальнейших действий, в которых я уже не мог участвовать. Это последнее соображение, по-видимому, заставило решиться мистера Блэка. Он обещал последовать моему совету.
Когда мы стали подъезжать к дому, стук молотка доказал нам, что дело подвигается.
Беттередж, надевший по этому случаю красный рыбацкий колпак и зеленый передник из бязи, встретил нас в передней. Увидев меня, он вынул записную книжку и карандаш и непременно настаивал на том, чтобы записать все, что я ему буду говорить. Куда бы мы ни смотрели, мы находили, как и предсказывал мистер Блэк, что работа подвигается так быстро и так разумно, как только можно было пожелать. Но в нижнем зале и в комнате мисс Вериндер многое еще нужно было сделать; казалось сомнительным, будет ли дом готов к концу недели.
Поздравив Беттереджа с достигнутыми успехами (он упорно записывал все каждый раз, как только я раскрывал рот, отказываясь в то же время обратить хотя бы малейшее внимание на слова мистера Блэка) и обещав прийти опять посмотреть дня через два, мы уже собирались выйти из дома через черный ход. Но прежде чем мы вышли из нижнего коридора, меня остановил Беттередж, когда я проходил мимо двери его комнаты.
— Могу ли я сказать вам слова два наедине? — спросил он таинственным шепотом.
Я, разумеется, согласился. Мистер Блэк вышел подождать меня в саду, пока я прошел с Беттереджем в его комнату. Я ожидал просьбы о каких-нибудь новых уступках вслед за чучелом кобуза и купидоновым крылом. Но к моему величайшему удивлению, Беттередж положил руку на стол и задал мне странный вопрос:
— Мистер Дженнингс, знакомы ли вы с Робинзоном Крузо?
Я ответил, что читал “Робинзона Крузо” в детстве.
— И с того времени не читали? — спросил Беттередж.
— С того времени не читал.
Он отступил на несколько шагов и посмотрел на меня с выражением сострадательного любопытства и суеверного страха.
— Он не читал “Робинзона Крузо” с детства, — сказал Беттередж, говоря сам с собой. — Посмотрим, поразит ли его “Робинзон Крузо” теперь!
Он открыл шкап, стоявший в углу, и вынул грязную, истрепанную книгу, от которой сильно запахло табаком, когда он стал перелистывать страницы.
Найдя нужное место, он попросил меня подойти к нему в угол, бормоча про себя все тем же таинственным голосом.
— Что касается этого вашего фокус-покуса с лауданумом и мистером Фрэнклином Блэком, — начал он, — пока рабочие в доме, мои обязанности слуги одолевают во мне чувства человека. Когда рабочие уходят, чувства человека одолевают во мне долг слуги. Очень хорошо. Прошлой ночью, мистер Дженнингс, в голове у меня крепко засело, что это ваше новое медицинское предприятие кончится дурно. Если бы я поддался тайному внушению, я своими руками снова унес бы мебель из комнат и на следующее утро разогнал бы рабочих.
— С удовольствием узнаю из того, что я видел наверху, — сказал я, — что вы устояли против тайного внушения.
— “Устоял” — не то слово, — ответил Беттередж. — Я боролся, сэр, с безмолвными побуждениями души моей, толкавшими меня в одну сторону, и писанными приказаниями в моей записной книжке, толкавшими в другую, пока, — с позволения сказать, — меня не бросило в холодный пот. В этом страшном душевном расстройстве и телесном расслаблении, к какому средству я обратился? К средству, сэр, которое ни разу еще мне не изменило за последние тридцать лет и даже больше — к Этой Книге!
Он ударил по книге ладонью, и при этом распространился еще более сильный запах табака.
— Что я нашел здесь, — продолжал Беттередж, — на первой же открытой мною странице? Страшное место, сэр, на странице сто семьдесят восьмой: “С этими и многими тому подобными Размышлениями, я впоследствии поставил себе за правило, что, когда бы ни нашел я эти тайные Намеки или Указания в Душе моей, внушающие мне делать или не делать какое-либо предстоящее мне Дело, идти или не идти предстоящим мне путем, я никогда не премину повиноваться тайному внушению”. Не сойти мне с места, мистер Дженнингс, это были первые слова, бросившиеся мне в глаза именно в то самое время, когда я шел наперекор тайному внушению! Вы не видите в этом ничего необыкновенного, сэр?
— Я вижу случайное стечение обстоятельств — и более ничего.
— Вы не чувствуете ни малейшего колебания, мистер Дженнингс, относительно этого вашего предприятия?
— Ни малейшего.
Беттередж пристально и молча посмотрел на меня. Он захлопнул книгу, запер ее опять в шкап чрезвычайно старательно, повернулся и опять пристально посмотрел на меня. Потом заговорил.
— Сэр, — сказал он серьезно, — многое можно извинить человеку, который с детства не читал “Робинзона Крузо”. Желаю вам всего доброго.
Он отворил дверь с низким поклоном и дал мне возможность отправиться в сад. Я встретил мистера Блэка, возвращавшегося в дом.
— Можете не рассказывать мне, что с вами случилось, — сказал он. — Беттередж пустил в ход свой последний козырь, он сделал новое пророческое открытие в “Робинзоне Крузо”. Уважили вы его любимую фантазию? Нет? Вы показали ему, что не верите в “Робинзона Крузо”? Мистер Дженнингс, вы упали во мнении Беттереджа настолько низко, насколько это возможно. Можете теперь говорить и делать, что вам угодно, — вы увидите, что он не захочет терять с вами слов.
Июня 21. Сегодня в моем дневнике достаточно будет короткой записи.
Мистер Блэк никогда еще не проводил такой плохой ночи. Я был вынужден, против своей воли, прописать ему лекарство. На людей с такой чувствительной организацией, как у него, лекарства действуют, к счастью, очень быстро. Иначе я боялся бы, что он окажется совершенно без сил, когда наступит время для опыта.
Что до меня самого, то после небольшого перерыва в болях за последние два дня у меня снова сделался сегодня утром припадок, о котором не скажу ничего, кроме того, что он заставил меня вернуться к опиуму. Закрываю эту тетрадь и отмериваю себе полный прием — пятьсот капель.
Июня 22. Наши надежды сегодня возросли. Нервное состояние мистера Блэка заметно уменьшилось. Он немного поспал прошлой ночью. Моя ночь по милости опиума была ночью человека оглушенного. Не могу сказать, что я проснулся нынешним утром; более подходящее выражение будет — я пришел в себя.
Мы подъехали к дому, посмотреть, все ли приведено в прежний вид.
Завтра, в субботу, все будет закончено. Как предсказал мистер Блэк, Беттередж не выставил больше никаких новых препятствий. С начала до конца он сохранял зловещую вежливость и молчаливость.
Мое медицинское предприятие (как его называет Беттередж) должно теперь неизбежно быть отложено до следующего понедельника. Завтра вечером работники задержатся в доме до ночи. На следующий день установленная тирания воскресного дня, одно из учреждений этой свободной страны, так распределила поезда, что невозможно пригласить кого-нибудь приехать к нам из Лондона. До понедельника нечего больше делать, как внимательно наблюдать за мистером Блэком и держать его, если возможно, в точно таком состоянии, в каком я нашел его сегодня.
Я уговорил его написать мистеру Бреффу и настоять, чтобы тот присутствовал в качестве свидетеля. Я нарочно выбрал стряпчего, потому что он сильно предубежден против нас. Если нам удастся убедить его, мы сделаем нашу победу неоспоримой.
Мистер Блэк написал также сыщику Каффу, а я послал несколько строк мисс Вериндер. С ними и со старым Беттереджем, — который представляет собой очень важное лицо в семействе, — у нас будет достаточно свидетелей, не считая миссис Мерридью, если миссис Мерридью настоит на том, чтобы принести себя в жертву мнению света.
Июня 23. Месть опиума преследовала меня прошлую ночь. Выхода нет, я должен терпеть это, пока понедельник не наступит и не пройдет.
Мистер Блэк опять не совсем здоров сегодня. Он признался мне, что в два часа утра открыл ящик, в который спрятал сигары. Ему стоило больших усилий запереть его снова. После этого он выбросил ключ из окна. Сторож принес его сегодня утром, найдя его на дне пустой цистерны. Я взял этот ключ себе до будущего вторника.
Июня 24. Мистер Блэк и я сделали продолжительную прогулку в открытой коляске. Мы оба почувствовали благотворное влияние мягкого летнего воздуха. Я обедал с ним в гостинице. К великому моему облегчению, он, расстроенный и взволнованный сегодня утром, крепко проспал два часа на диване после обеда. Теперь, если он и проведет плохо еще одну ночь, я уже не боюсь последствий.
Июня 25, понедельник. День опыта! Пять часов пополудни. Мы только что переехали в дом.
Главный и самый важный вопрос — это здоровье мистера Блэка.
Насколько я могу судить, он обещает (в физическом отношении) быть столь же восприимчивым к действию опиума сегодня, как был год тому назад. Он находится сейчас в состоянии нервной чувствительности, граничащей с нервным расстройством. Цвет лица его меняется беспрестанно; руки у него дрожат. Он вздрагивает при внезапном шуме и при чьем-нибудь неожиданном появлении.
Все это последствия бессонницы, которая, в свою очередь, происходит от нервного состояния, вызванного тем, что он внезапно бросил курить — привычку, доведенную до крайних пределов. Те же причины действуют на него теперь, как действовали в прошлом году, и последствия, по-видимому, окажутся одни и те же. Продлится ли так до окончания опыта? События ночи должны решить этот вопрос.
Пока я пишу эти строки, мистер Блэк забавляется в зале, упражняясь на бильярде в разного рода ударах, как делывал нередко, гостя здесь в июне прошлого года. Я взял с собою свой дневник, отчасти с целью заполнить чем-нибудь часы, которые, вероятно, останутся у меня незанятыми, отчасти в надежде, что может случиться что-нибудь, достойное быть отмеченным.
Обо всем ли я упомянул до сих пор? Взглянув на вчерашние заметки, вижу, что забыл написать об утренней почте. Восполню сейчас этот пробел, прежде чем пойду к мистеру Блэку.
Итак, я получил несколько строк от мисс Вериндер. Она собирается приехать с вечерним поездом, согласно моему совету. Миссис Мерридью настояла на том, чтобы ее сопровождать. В письме есть легкий намек на некоторое расстройство духа почтенной дамы, обычно находящейся в отличном настроении, почему она и нуждается во всяческом снисхождении, как того требуют ее годы и привычки. Я постараюсь в обращении с миссис Мерридью подражать выдержке Беттереджа в его обращении со мною. Он встретил нас сегодня торжественно, облаченный в свое лучшее черное платье, в накрахмаленном белом галстуке. Когда он взглядывает в мою сторону, он тотчас вспоминает, что я не перечитывал “Робинзона Крузо” с самого детства, и при всем своем почтении чувствует ко мне жалость.
Мистер Блэк тоже получил вчера ответ от своего стряпчего. Мистер Брефф принимает приглашение, однако с оговоркою. Он видит настоятельную необходимость в том, чтобы при мисс Вериндер во время, как он выражается бесцеремонно, предполагаемого спектакля находился мужчина с известною долею здравого смысла. Этим мужчиною, за неимением никого другого, согласен быть мистер Брефф. Итак, бедная мисс Вериндер будет находиться под двойным надзором. Отрадно думать, что мнение света уж наверное удовлетворится этим вполне.
О сыщике Каффе не слышно ничего. Он, без сомнения, еще в Ирландии. Мы не можем рассчитывать на него сегодня.
Сейчас пришел Беттередж звать меня к мистеру Блэку. Я должен на время отложить перо.
Семь часов. Мы опять обошли все вновь отделанные комнаты и лестницы.
Мы сделали также приятную прогулку в кустарнике, который был любимым местом мистера Блэка, когда он гостил здесь в прошлом году. Таким образом я надеюсь оживить в его уме прежние впечатления от местности и обстановки, насколько это возможно.
Сейчас садимся обедать именно в тот час, когда обедали в день рождения мисс Вериндер. Цель моя тут, разумеется, чисто медицинская: организм при приеме лауданума должен быть в том же состоянии, в каком был в прошлом году.
Спустя некоторое время после обеда я собираюсь самым естественным тоном завести разговор об алмазе и о замыслах индусов украсть его. Когда же я наведу мысли мистера Блэка на этот предмет, с моей стороны будет сделано все, что от меня зависит, до того момента, когда надо будет дать ему опиум.
Половина девятого. Только сейчас я нашел свободную минуту для одной из важнейших обязанностей, а именно — обязанности отыскать в домашней аптечке лауданум, которым воспользовался мистер Канди.
Минут десять назад я уловил время, когда Беттередж ничем не был занят, и сообщил ему об этом желании. Не возражая ни единого слова, даже без малейшего поползновения достать из кармана записную книжку, он повел меня, — уступая мне все время дорогу, — в кладовую, где хранилась домашняя аптечка.
Я нашел склянку, тщательно закупоренную пробкою, которая была сверх того еще завязана куском лайковой кожи. В склянке, почти полной, оказался, как я и предполагал, обыкновенный лауданум. Я решил предпочесть его тем двум дозам приготовленного опиума, которыми позаботился запастись на всякий случай.
Вопрос о количестве гран представлял некоторое затруднение. Я обдумал его и решил увеличить дозу.
Записки мои говорят, что мистер Канди дал всего двадцать пять гран. Это доза небольшая для последствий, какие он повлек за собою, даже при восприимчивости мистера Блэка. Я считаю весьма вероятным, что мистер Канди дал больше, чем намеревался, зная, как он любит хорошо пообедать, и принимая в соображение, что лауданум он отмерял после званого обеда. Как бы то ни было, я рискну усилить прием до сорока гран. Мистер Блэк предупрежден сейчас, что примет лауданум, а это, с точки зрения медицины, равносильно известной силе противодействия в нем, хотя и бессознательно.
Если я не ошибаюсь, потребность в большей дозе неоспорима, для того чтобы повторить последствия, вызванные в прошлом году меньшей дозой.
Десять часов. Свидетели или гости, — не знаю, как их лучше назвать, — приехали час тому назад.
В исходе девятого часа я уговорил мистера Блэка пойти со мною в его спальню, под тем предлогом, что я хотел бы, чтоб он осмотрел ее в последний раз и лично проверил, не забыто ли что-нибудь из прежней обстановки комнаты. Я заранее условился с Беттереджем о том, чтобы спальню мистеру Бреффу отвели рядом с комнатой мистера Блэка и чтобы о прибытии стряпчего я был уведомлен легким стуком в дверь. Через пять минут после того как на часах в передней пробило девять, я услышал этот стук, тотчас вышел в коридор и встретил мистера Бреффа.
Наружность моя, как всегда, произвела невыгодное впечатление. Во взгляде мистера Бреффа явно выразилось недоверие. Я знал, какое впечатление произвожу на чужих, и без колебаний сказал ему то, что находил нужным сказать, прежде чем он вошел к мистеру Блэку.
— Вы прибыли сюда, я полагаю, в обществе миссис Мерридью и мисс Вериндер? — спросил я.
— Да, — ответил мистер Брефф чрезвычайно сухо.
— Мисс Вериндер, вероятно, сообщила вам о моем желании, чтобы ее присутствие в доме, — конечно, и присутствие миссис Мерридью также, — осталось тайною для мистера Блэка, пока опыт над ним не будет произведен?
— Я знаю, что должен придержать свой язык, сэр! — вскричал мистер Брефф с нетерпением. — Имея привычку молчать о безумстве человеческого рода вообще, я тем более расположен не раскрывать рта в настоящем случае.
Удовлетворяет вас это?
Я поклонился и предоставил Беттереджу провести его в назначенную ему комнату. Уходя, Беттередж бросил на меня взгляд, говоривший яснее слов:
“Вы заполучили варвара, мистер Дженнингс, и имя этому варвару — Брефф!”
Теперь мне предстояло выдержать встречу с дамами. Я сошел с лестницы — не скрою — несколько взволнованный и направился к гостиной мисс Вериндер.
Жена садовника (ей поручено было позаботиться об удобствах дам) попалась мне навстречу в коридоре первого этажа. Эта добрая женщина оказывает мне чрезмерное почтение, которое, очевидно, имеет прямым своим источником непреодолимый ужас. Она таращит на меня глаза, дрожит и приседает, как только я с нею заговариваю. На мой вопрос, где мисс Вериндер, она вытаращила на меня глаза, задрожала и, без сомнения, присела бы, если бы сама мисс Вериндер не прервала этой церемонии, внезапно отворив дверь своей гостиной.
— Это мистер Дженнингс? — спросила она.
Не дав мне времени ответить, в нетерпении увидеть меня, она вышла в коридор. Мы встретились у стоявшей на консоли лампы, свет которой падал на нас. При первом взгляде на меня мисс Вериндер остановилась в нерешимости.
Однако она тотчас опять овладела собою, покраснела слегка и с пленительною прямотою протянула мне руку.
— Я не могу отнестись к вам, как к постороннему, мистер Дженнингс, — сказала она. — Если б вы только знали, какую радость доставили мне ваши письма!
Она взглянула на мое некрасивое морщинистое лицо с искренней благодарностью, настолько новой для меня со стороны моих ближних, что я не нашелся, что ей ответить. Я совсем не был приготовлен к ее доброте и прелести. Страдания многих лет, благодарение богу, не ожесточили моего сердца. Я был с нею неловок и робок, как юноша лет пятнадцати.
— Где он сейчас? — спросила она, высказывая откровенно преобладающее в ней чувство — горячее участие к мистеру Блэку. — Что он делает? Говорил ли обо мне? В хорошем ли он настроении? Как действует на него вид этого дома после того, что случилось в прошлом году? Когда вы ему дадите лауданум?
Нельзя ли мне поглядеть, как вы его нальете? Я так заинтересована всем этим; я так взволнована; мне нужно сказать вам десять тысяч вещей, и все они разом толпятся у меня в голове, так что я не знаю, с чего начать. Вы не удивляетесь моему интересу к нему?
— Нисколько, — ответил я. — Мне кажется, я его вполне понимаю.
Она была далека от игры в смущение. И ответила мне так, как могла бы ответить брату или отцу:
— Вы меня избавили от невыразимого страдания, вы дали мне новую жизнь.
Как могу я быть неблагодарной и скрывать что-либо от вас? Я люблю его, — сказала она просто, — любила его от начала и до конца, даже тогда, когда была к нему несправедлива в своих мыслях, даже тогда, когда говорила ему слова самые жестокие, самые суровые. Может ли это послужить мне извинением? Надеюсь, что да, — боюсь, что только это одно и является извинением для меня. Когда он завтра узнает, что я в доме, как вы думаете…
Она не договорила и очень серьезно взглянула мне в лицо.
— Завтра вам остается только повторить ему то, что вы сказали сейчас мне, — ответил я.
Лицо ее просияло; она подошла ко мне на шаг ближе и с очевидным волнением стала перебирать лепестки цветка, который я сорвал в саду и вдел в петлицу своего сюртука.
— Вы часто с ним виделись в последнее время, — спросила она, — действительно ли вы увидели в нем это?
— Действительно увидел, — ответил я. — Для меня нет ни малейшего сомнения в том, что произойдет завтра; хотел бы я иметь такую же уверенность в событиях этой ночи.
На этом месте разговор наш был прерван появлением Беттереджа с чайным прибором.
Мы вошли в гостиную вслед за дворецким. Маленькая старая леди, со вкусом одетая, сидела в уголке, целиком поглощенная какою-то изящною вышивкой. Увидя мой цыганский цвет лица и пегие волосы, она выронила работу из рук и слегка вскрикнула.
— Миссис Мерридью, это мистер Дженнингс, — сказала мисс Вериндер.
— Прошу прощения у мистера Дженнингса, — сказала почтенная дама мне, глядя, однако, на мисс Вериндер. — Поездка по железной дороге всегда расстраивает мои нервы. Я стараюсь привести их в порядок, занимаясь своей обычной работой. Не знаю, насколько эта работа уместна в настоящем, совершенно выходящем из ряда случае. Если она мешает вашим медицинским целям, то я, конечно, с удовольствием отложу ее в сторону.
Я поспешил дать разрешение на вышивание, точь-в-точь, как дал его на отсутствие лопнувшего чучела кобуза и сломанного крыла купидона. Миссис Мерридью сделала над собою усилие и из благодарности взглянула было на меня. Но нет! Она не смогла задержать на мне свой взгляд и снова обратила его на мисс Вериндер.
— С позволения мистера Дженнингса, — продолжала эта почтенная дама, — я попросила бы об одном одолжении. Мистер Дженнингс намерен произвести свой ученый опыт сегодня ночью. Когда я еще училась в пансионе, я присутствовала при подобных опытах. Они всегда кончались взрывом. Не будет ли мистер Дженнингс настолько любезен, чтобы предупредить меня заблаговременно, когда следует ожидать взрыва в настоящем случае. Я хотела бы переждать этот момент, если возможно, до того, как пойду спать.
Я попытался было уверить миссис Мерридью, что при настоящем опыте взрыва по программе не полагалось.
— Нет? — повторила почтенная дама. — Я очень благодарна мистеру Дженнингсу, — вполне понимаю, что он обманывает меня для моего же успокоения. Но я предпочитаю откровенность. Я вполне примирилась с мыслью о взрыве, но очень желала бы перенести его, если возможно, до того, как лягу в постель.
Тут отворилась дверь, и миссис Мерридью опять слегка вскрикнула. От страха перед взрывом? Нет, только от появления Беттереджа.
— Прошу извинения, мистер Дженнингс, — сказал Беттередж тоном самой изысканной учтивости, — мистер Фрэнклин желает знать, где вы. Скрывая от него по вашему приказанию присутствие в доме барышни, я сказал ему, что не знаю, где вы. Это, если вам угодно будет заметить, просто-напросто ложь.
Так как я стою одною ногою в гробу, то чем менее вы будете требовать от меня подобной лжи, тем более я буду вам обязан, когда пробьет мой час и я почувствую укоры совести.
Нельзя было терять ни минуты на размышления по поводу совести Беттереджа. Каждую секунду в комнату мог войти, отыскивая меня, мистер Блэк; поэтому я тотчас отправился к нему. Мисс Вериндер вышла со мной в коридор.
— Они, кажется, сговорились вас мучить, — сказала она мне. — Что это значит?
— Только протест со стороны общества, мисс Вериндер, хотя и в маленьком масштабе, против всего нового.
— Что же нам делать с миссис Мерридью?
— Скажите ей, что взрыв будет завтра в девять часов утра.
— Чтобы отправить ее спать?
— Да, чтобы отправить ее спать.
Мисс Вериндер вернулась в гостиную, а я поднялся наверх к мистеру Блэку.
К моему изумлению, я застал его одного. Он ходил в волнении из угла в угол, видимо раздраженный тем, что остался один.
— Где же мистер Брефф? — спросил я.
Он указал на затворенную дверь в смежную комнату, занимаемую стряпчим.
Мистер Брефф входил к нему на минуту, пытался опять возражать против наших намерений и опять потерпел полную неудачу; он ничего не добился от мистера Блэка. После чего стряпчий занялся черной кожаной сумкой, до отказа набитой деловыми бумагами.
— Серьезные дела, — заключил он, — совершенно неуместны в настоящем случае; но тем не менее они должны идти своим чередом. Мистер Блэк, быть может, простит человеку деловому его старомодные привычки. Время — деньги, а мистер Дженнингс может рассчитывать на его присутствие, как только оно ему понадобится.
С этими словами стряпчий вернулся в свою комнату и вновь занялся своей черной сумкой.
Я вспомнил миссис Мерридью с ее вышивкой и Беттереджа с его совестью.
Удивительное единообразие лежит в основе английского характера, подобно тому, как оно сказывается и в выражении лица англичанина.
— Когда вы дадите мне лауданум? — нетерпеливо спросил мистер Блэк.
— Вам надо немного подождать, — сказал я. — Я побуду до тех пор с вами.
Еще не было и десяти часов. После расспросов Беттереджа и мистера Блэка я пришел к заключению, что лауданум, данный мистером Канди, был принят не раньше одиннадцати. Итак, я решился не устраивать вторичного приема ранее этого времени.
Мы поговорили немного, но мысли наши были заняты предстоящим опытом. Разговор не клеился и скоро прекратился совсем. Мистер Блэк небрежно перелистывал книги, лежавшие на столе. Я предусмотрительно проглядел их все, когда мы вошли в комнату: “Опекун”, “Сплетник”; “Памела” Ричардсона; “Чувствительный человек” Мэкензи; “Лоренцо Медичи” Роско и “Карл Пятый” Робертсона — все вещи классические; все вещи, разумеется, неизмеримо превосходящие что бы то ни было, написанное в более поздние времена; и все вещи, с теперешней моей точки зрения, обладающие одним великим достоинством: не приковывать ничьего внимания и не волновать ничьего ума. Я предоставил мистера Блэка успокоительному влиянию классической словесности и занялся этими записями в своем дневнике.
Часы говорят мне, что скоро одиннадцать. Я опять должен закрыть эту тетрадь.
Два часа пополуночи. Опыт проделан. О результате даю сейчас подробный отчет.
В одиннадцать я позвонил Беттереджу и сказал мистеру Блэку, что ему пора наконец ложиться.
Я выглянул из окна. Ночь была теплая и дождливая, похожая на ночь двадцать первого июня прошлого года. Не веря приметам, я, однако, обрадовался отсутствию в атмосфере всякого прямого влияния на нервную систему, всякого чрезмерного накопления электричества или признаков приближающейся грозы. Беттередж подошел ко мне и таинственно сунул мне в руку бумажку. На ней было написано следующее:
“Миссис Мерридью отправилась спать после твердого моего уверения, что взрыв произойдет завтра в девять часов утра и что я не выйду из этой части дома, пока она сама не придет и не возвратит мне свободу. Она не подозревает, что главное место действия — моя собственная гостиная, иначе бы она осталась тут на всю ночь. Я одна и очень встревожена. Пожалуйста, дайте мне возможность видеть, как вы будете отмерять лауданум; мне непременно хочется как-то участвовать в этом, хотя бы в скромной роли зрительницы. Р. В.”
Я вышел из комнаты вслед за Беттереджем и приказал ему перенести ящик с аптечкою в гостиную мисс Вериндер.
Приказание, по-видимому, застало его совершенно врасплох. Он посмотрел на меня, как бы подозревая с моей стороны тайный умысел в отношении мисс Вериндер.
— Осмелюсь ли спросить, что общего между моей молодой барышней и ящиком с лекарствами? — спросил он наконец.
— Останьтесь в гостиной, и вы увидите, — был мой ответ.
Беттередж, кажется, усомнился в своей способности успешно наблюдать за мною без посторонней помощи, когда в дело вмешался ящик с лекарствами.
— Нельзя ли пригласить и мистера Бреффа присутствовать при том, что вы хотите делать? — спросил он.
— Не только можно, но и должно. Я иду просить мистера Бреффа спуститься со мною вниз.
Беттередж ушел за аптечкою, не сказав более ни слова. Я вернулся в комнату мистера Блэка и постучал в дверь к стряпчему Бреффу. Он тотчас ее открыл, держа бумаги в руке, весь поглощенный Законом и совершенно недоступный Медицине.
— Мне очень жаль, что я должен вас потревожить, — сказал я, — но я иду приготовлять дозу лауданума для мистера Блэка и вынужден просить вас присутствовать при этом и следить за тем, что я делаю.
— Ага! — заметил мистер Брефф, нехотя уделяя мне одну десятую долю своего внимания и оставив девять десятых его сосредоточенным на бумагах. — Более ничего?
— Я должен просить вас вернуться со мною сюда и присутствовать при приеме лекарства.
— Более ничего?
— Еще одно. Я вынужден обеспокоить вас просьбой перебраться в комнату мистера Блэка и выжидать в ней последствий приема.
— Очень хорошо! — сказал мистер Брефф. — Моя это комната или мистера Блэка, разница не велика; я могу сидеть над моими бумагами в любом месте.
Разве только вы, мистер Дженнингс, сочтете нужным воспротивиться этой небольшой примеси здравого смысла в вашей процедуре?
Прежде чем я успел ответить, мистер Блэк крикнул ему с постели:
— Неужели вы хотите сказать этим, что нисколько не заинтересованы нашим опытом? Мистер Брефф, у вас воображения не больше, чем у коровы!
— Корова — очень полезное животное, мистер Блэк, — ответил стряпчий. С этими словами он вышел вслед за мною из комнаты, все еще держа в руках свои бумаги.
Мы нашли мисс Вериндер бледною и встревоженною; она взволнованно ходила из угла в угол в своей гостиной. Возле стола в углу стоял Беттередж на страже у ящика с аптечкою. Мистер Брефф опустился на первый попавшийся стул и, стараясь быть полезным, немедленно опять углубился в свои бумаги.
Мисс Вериндер отвела меня в сторону и тотчас заговорила о том, что поглощало все ее мысли, — о состоянии мистера Блэка.
— Каков он теперь? — спросила она. — Не нервничает ли? Не выходит ли из терпения? Как вы думаете, удастся ли опыт? Уверены ли вы, что это ему по повредит?
— Совершенно уверен. Идемте, я сейчас буду отмеривать лауданум.
— Еще минуту! Сейчас двенадцатый час. Сколько придется ждать, прежде чем будет результат?
— Трудно сказать. Около часа, пожалуй.
— Я думаю, в комнате должно быть темно, как было в прошлом году?
— Обязательно.
— Я буду ждать в моей спальне, точь-в-точь как это было тогда. Дверь я оставлю приоткрытой. В прошлом году она тоже была немного растворена. Я буду наблюдать из-за двери гостиной, и как только она откроется, погашу свечу. Все именно так и происходило в ночь после дня моего рождения. И сейчас ведь все должно повториться точно так же, не правда ли?
— Уверены ли вы, что сможете владеть собою, мисс Вериндер?
— Для него я готова на все! — ответила она с горячностью.
Взглянув на ее лицо, я убедился, что на нее можно положиться. Я опять обратился к мистеру Бреффу.
— Мне придется попросить вас отложить на минуту в сторону ваши бумаги, — сказал я.
— О, конечно!
Он вскочил, будто я прервал его занятия в самом интересном месте, и подошел со мною к аптечке. Тут же, лишенный своего профессионального интереса, он взглянул на Беттереджа и устало зевнул.
Мисс Вериндер приблизилась ко мне с графином холодной воды, который она взяла со стола.
— Позвольте мне налить воды, — шепнула она. — Я должна приложить к этому руку!
Я отмерил сорок гран из пузырька и вылил лауданум в стаканчик.
— Наполните его на три четверти водою, — сказал я, подавая стаканчик мисс Вериндер.
Потом я приказал Беттереджу запереть ящик с лекарствами, прибавив, что больше он не понадобится. Лицо старого слуги просияло от невыразимого облегчения. Он, очевидно, подозревал меня в замысле произвести медицинский опыт и над его молодой госпожою.
Налив воду по моему указанию, мисс Вериндер уловила минуту, когда Беттередж запирал ящик, а мистер Брефф опять вернулся к своим бумагам, и украдкою поцеловала край стаканчика.
— Когда вы его подадите ему, — шепнула прелестная девушка, — подайте этой стороною!
Я вынул из кармана стеклышко, которое должно было представлять алмаз, и подал его ей, говоря:
— И к этому вы должны приложить руку. Спрячьте это стеклышко в то самое место, куда в прошлом году спрятали Лунный камень.
Она отправилась к индийскому шкапчику и положила стеклышко, игравшее роль алмаза, в ящик, в котором лежал в день ее рождения настоящий алмаз.
Мистер Брефф глядел на все это так же, как и на все остальное, — с явным неодобрением. Но драматизм этого момента нашего опыта одержал верх (к величайшему моему удовольствию) над самообладанием старика Беттереджа.
Рука его дрожала, когда он светил мисс Рэчель, и он шепнул ей с озабоченным видом:
— Уверены ли вы, мисс, что это тот самый ящик?
Я снова направился к двери с лауданумом и водою в руках. На пороге я остановился дать последнее наставление мисс Вериндер.
— Не забудьте вовремя потушить свечи, — сказал я ей.
— Я потушу их тотчас, — ответила она, — буду ждать в своей спальне только с одной свечой.
Она затворила за нами дверь гостиной. В сопровождении мистера Бреффа и Беттереджа я вернулся в комнату мистера Блэка.
Мы застали его тревожно метавшимся на постели, он спрашивал себя с раздражением, дадут ли ему наконец лауданум в эту ночь. В присутствии двух свидетелей я дал ему дозу лауданума, поправил его подушки и посоветовал ему лежать тихо и ждать.
Кровать его со светлыми занавесками поставлена была изголовьем к стене так, чтобы с обеих сторон был доступ свежему воздуху. Я опустил занавески с одной ее стороны и в той части комнаты, которую он не мог видеть, поместил мистера Бреффа и Беттереджа, которые должны были ожидать действия лауданума. В ногах кровати я опустил занавес наполовину и поставил стул для себя так, чтобы иметь возможность быть у него на глазах, или, если понадобится, скрыться от него, дать или не дать ему заговорить со мною, смотря по обстоятельствам. Узнав предварительно, что он всегда спал со светом, я поставил на столик у его изголовья свечу, но так, чтобы свет не ударял ему в глаза. Другую свечу я отдал мистеру Бреффу, свет ее смягчался опущенными у кровати занавесками. У окна были подняты фрамуги, чтобы освежать воздух. Шел тихий дождь. В доме царила тишина. На часах моих было двадцать минут двенадцатого, когда все приготовления были закопчены, и я занял свое место на стуле в ногах кровати.
Мистер Брефф вернулся к своим бумагам и, казалось, углубился в них по-прежнему. Но, взглянув на него теперь, я увидел некоторые признаки того, что юриспруденция начинает утрачивать над ним свою власть.
Захватывающий интерес положения, в котором мы находились, брал понемногу свое и оказывал влияние даже на его трезвый ум. Что касается твердых правил и достоинства в обращении Беттереджа, они в настоящем случае были им утрачены. Он забыл, что я производил “шарлатанский фокус” над мистером Фрэнклином Блэком; забыл, что я перевернул весь дом вверх дном; забыл, что я не читал “Робинзона Крузо” с тех самых пор, как был ребенком.
— Ради бога, сэр, — шепнул он мне едва слышно, — скажите, когда начнется действие?
— Не раньше полуночи, — ответил, я также шепотом. — Не разговаривайте и сидите тихо.
Беттередж снизошел до последней степени фамильярности со мною без малейшей борьбы за свое достоинство. Он ответил мне одним кивком!
Переведя глаза на мистера Блэка, я увидел, что он все так же мечется в постели, удивляясь, отчего лауданум все еще не производит никакого действия. Сказать ему, при таком его состоянии, что чем больше он будет проявлять беспокойства и нетерпения, тем дольше не наступит желанное действие лауданума, — не повело бы ни к чему. Всего лучше было постараться отвести его мысли от опиума, незаметно направив их на что-нибудь другое.
С этой целью я вовлек его в разговор, стараясь опять навести его на предмет, служивший нам темою в начале вечера, — на алмаз. Я старался обратить его мысли на ту часть истории Лунного камня, которая относилась к доставке камня из Лондона в Йоркшир, на опасность, которой подвергался мистер Блэк, забрав его из банка во Фризинголле, и на внезапное появление индусов в доме леди Вериндер в день рождения ее дочери. Упоминая об этих событиях, я нарочно сделал вид, будто неверно понял многое из того, что мистер Блэк мне рассказывал несколько часов назад. Таким образом я заставил его заговорить как раз о том, чем нам нужно было занять его мысли, конечно, не дав ему заметить, что я делаю это с намерением.
Мало-помалу он так увлекся исправлением моих неверных представлений, что перестал метаться по кровати. Он совершенно позабыл про опиум в тот важный момент, когда я по его глазам впервые увидел, что опиум начинает действовать на его мозг.
Я взглянул на часы. Было без пяти минут двенадцать. Непривычный глаз еще не заметил бы в нем никакой перемены. Но с каждою минутою наступающего утра быстрые, хотя едва уловимые, успехи влияния лауданума начинали сказываться все яснее. Восторженное опьянение опиумом заблистало в его глазах, легкий пот выступил на его лице. Через пять минут он начал говорить бессвязно — мы все еще продолжали наш разговор. Он упорно продолжал говорить об алмазе, но не заканчивал своих фраз. Потом настала минута молчания. Вдруг он сел на постели. Продолжая думать об алмазе, он заговорил опять, но не со мною, а с самим собой. Это изменение показало мне, что первый результат опыта достигнут. Возбудительное действие опиума овладело им.
Было уже двадцать три минуты первого. Следующие полчаса были решающими для нас: встанет он с постели или нет, чтобы выйти из комнаты?
Наблюдая за ним с напряженным вниманием, — в невыразимой радости, что первый результат опыта совпал и по существу, и даже почти точно по времени с тем, как я это предвидел, — я совершенно забыл двух товарищей по моему ночному бдению. Взглянув на них теперь, я увидел Закон, представленный бумагами мистера Бреффа, небрежно брошенным на пол. Сам же мистер Брефф жадно смотрел сквозь щель между неплотно задернутыми занавесями кровати. А Беттередж, забыв всякие сословные различия, заглядывал через плечо мистера Бреффа.
Заметив, что я смотрю на них, они оба отскочили, как два мальчугана, пойманные школьным учителем на место преступления. Я знаком пригласил их следовать моему примеру и тихонько скинул ботинки. Если придется идти вслед за мистером Блэком, вам необходимо сделать это без шума.
Прошло десять минут — и ничего не случилось. Вдруг он сбросил с себя одеяло. Он спустил одну ногу с кровати. Он сидел в ожидании.
— Напрасно я забрал его из банка, — пробормотал он про себя. — Там он был в безопасности.
Сердце мое сильно забилось, в висках застучало, как молотом. Сомнение насчет безопасности алмаза опять завладело его мыслями! На этом одном сосредоточивался весь успех опыта. Надежда, внезапно охватившая меня, оказалась слишком сильным потрясением для моих расстроенных нервов. Я вынужден был отвести от него глаза, иначе бы я не совладал с собою.
Наступило молчание.
Когда я позволил себе снова взглянуть на него, он уже стоял возле кровати. Зрачки его были теперь сужены; глаза блестели при свете горевшей на столике свечи в то время, когда он медленно покачивал головою из стороны в сторону. Он размышлял, он сомневался; он заговорил снова:
— Как знать? Индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме!
Он замолк и медленно прошел на другой конец комнаты, остановился, постоял немного и вернулся назад к кровати, говоря с собой:
— Он даже не заперт. Он в ее индийском шкапчике. И ящик не запирается.
Он присел на кровати.
— Кто угодно может его взять, — продолжал он.
И опять он встал и повторил свои первые слова:
— Как знать? Индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме!
Он снова был в раздумье. Я спрятался за занавесками кровати. Он окинул комнату бессознательным, блестящим взглядом. Я притаил дыхание. Снова задержка, — в действии ли лауданума, или в деятельности мозга — кто мог определить это? Все зависело от того, что он сделает дальше.
Он лег в постель.
Ужасное сомнение мелькнуло у меня. Может быть, успокоительное действие опиума начинается уже теперь? Это противоречило всем моим расчетам; но что такое расчет, когда речь идет об опиуме? Едва ли найдутся два человека на свете, на которых он действовал бы одинаково. Не было ли в организме мистера Блэка какой-либо особенности, из-за которой и действие на него лауданума тоже должно быть особенным? Неужели нас постигнет неудача в минуту окончательного успеха?
Нет, он внезапно опять встал.
— Как могу я спать с этим на душе?
Он взглянул на свечу, горевшую на столике у изголовья кровати. Через мгновенье он взял в руку подсвечник.
Я погасил вторую свечу, горевшую по другую сторону занавески, и вместе с мистером Бреффом и Беттереджем спрятался в самом дальнем углу за кроватью. Я знаком показал им, чтобы они молчали, как будто бы от этого зависела их жизнь.
Мы ждали, не видя и не слыша ничего, скрытые занавесками.
Свеча, которую он держал в руке, вдруг двинулась с места. Он прошел мимо нас быстрыми и неслышными шагами, не выпуская свечи.
Он отворил дверь и вышел из спальни. Мы последовали за ним по коридору.
Мы последовали за ним вниз по лестнице. Он ни разу не оглянулся, он ни разу не остановился.
Он отворил дверь гостиной и вошел, не затворив ее. Подобно всем дверям в доме, она была повешена на больших старинных петлях. Между дверью и косяком оставалась большая щель. Я знаком подозвал моих спутников к этой щели, чтобы он не мог заметить нас. Сам же стал тоже за дверью, по по другую ее сторону. По левую руку от меня находилось углубление в стене.
Туда я мог тотчас спрятаться, если бы он вздумал выглянуть в коридор.
Он дошел до середины комнаты, все со свечою в руке, огляделся вокруг, по ни разу не оглянулся назад.
Дверь в спальню мисс Вериндер была чуть приоткрыта. Она погасила у себя свечу. Она мужественно владела собою. Смутное очертание ее белого легкого платья — вот все, что я мог разглядеть. Никто бы не заподозрил, что в комнате живое существо. Она стояла в тени, у нее не вырвалось ни слова, она не сделала ни одного движения.
На часах было десять минут второго. В мертвом молчании я слышал тихий шум падающего дождя и шелест деревьев от легкого ночного ветерка.
Постояв с минуту в нерешимости посредине комнаты, он прошел к углу, где находился индийский шкапчик.
Он поставил свечу на шкап и стал выдвигать и задвигать один за другим ящики, пока не дошел до того, где лежало стеклышко, игравшее роль алмаза.
С минуту он смотрел на ящик, потом вынул из него правой рукой стеклышко, а левой взял со шкапчика свечу. После этого он вернулся на середину комнаты и опять остановился.
До сих пор он с точностью повторял все то, что проделал в ночь после дня рождения. Будут ли и последующие его действия точным повторением того, что он сделал в прошлом году? Выйдет ли он из комнаты? Вернется ли он, как поступил, по моему предположению, тогда, в свою спальню? Покажет ли нам, что он сделал с алмазом, когда возвратился в свою комнату?
Первое его движение было не тем, какое он сделал после первого приема лауданума. Он поставил свечу на стол и сделал несколько шагов к дальнему концу гостиной. Там стоял диван. Он тяжело оперся на его спинку левой рукою, потом выпрямился и опять возвратился на середину комнаты. Теперь я увидел его глаза. Они становились тусклы, и веки отяжелели. Блеск зрачков быстро исчезал.
Напряжение этой минуты сказалось на нервах мисс Вериндер. Она сделала несколько шагов и остановилась. Мистер Брефф и Беттередж взглянули на меня из-за двери в первый раз. Предчувствие, что ожидания будут обмануты, овладело ими так же, как и мною. Все же, пока он стоял на середине комнаты, надежда еще была. Мы ждали с огромным нетерпением, что будет дальше.
То, что произошло дальше, — решило все. Он выпустил стеклышко из рук.
Оно упало на полу у двери и осталось лежать на виду. Он не сделал никакого усилия, чтобы его поднять: он смотрел на него мутным взглядом, и вдруг голова его опустилась на грудь. Он пошатнулся, пришел опять в себя на мгновение, нетвердыми шагами направился к дивану и сел на него. Он сделал над собой последнее усилие, попробовал встать, — и снова опустился на диван. Голова его упала на подушки. Было двадцать пять минут второго. Я не успел еще спрятать часы назад в карман, как он уже спал.
Все было кончено. Теперь он находился под снотворным влиянием лауданума; опыт пришел к концу.
Я вошел в комнату и сказал мистеру Бреффу и Беттереджу, что они могут идти за мною. Теперь уже нечего было опасаться его потревожить. Мы могли свободно двигаться и говорить.
— Первое, что нужно решить, — сказал я, — это вопрос, что нам теперь с ним делать. Вероятно, он проспит часов семь или шесть по меньшей мере.
Нести его назад в спальню чересчур далеко. Будь я помоложе, я справился бы с этим один, но сейчас здоровье и силы у меня не те, что прежде, и я боюсь, что придется мне просить вашей помощи.
Они не успели ответить, как мисс Вериндер тихо позвала меня. Она стояла в дверях своей спальни с легкою шалью и стеганым одеялом в руках.
— Вы будете сидеть при нем, пока он спит? — спросила она.
— Да, я не хочу оставлять его одного, так как не совсем уверен в действии на него опиума.
Она подала мне шаль и одеяло.
— Зачем его тревожить? — шепнула она. — Постелите ему на софе. Я затворю дверь и останусь в своей комнате.
Это бесспорно было и проще, и безопасней всего. Я передал это предложение мистеру Бреффу и Беттереджу; оба его одобрили. Не прошло и пяти минут, как он уже удобно лежал на софе, укрытый шалью и одеялом. Мисс Вериндер пожелала нам доброй ночи и затворила за собою дверь. Я предложил нам троим, стоявшим посреди комнаты, сесть вокруг стола, на котором горела свеча и лежали письменные принадлежности.
— Прежде чем разойтись, — начал я, — мне нужно сказать два слова о произведенном мною опыте. Имелись в виду две цели. Во-первых, надо было доказать, что в прошлом году мистер Блэк вошел в эту комнату и взял Лунный камень, действуя бессознательно и непроизвольно под влиянием опиума. После виденного вами, вы, вероятно, теперь в этом убеждены.
Оба они без малейшего колебания ответили утвердительно.
— Вторая цель, — продолжал я, — заключалась в том, чтобы узнать, куда он дел Лунный камень, когда вышел с ним из гостиной на глазах мисс Вериндер в ночь после дня ее рождения. Достижение этой цели, конечно, зависело от того, насколько точно повторит он все свои прошлогодние действия. Этого он не сделал, и вторая цель опыта не достигнута. Не могу сказать, чтобы я не был огорчен этим, но честно скажу — я нисколько этим не удивлен. Я с самого начала говорил мистеру Блэку, что наш полный успех в этом деле зависит от точного воспроизведения физических и нравственных условий, в какие он был поставлен в прошлом году, и предупредил его, что достигнуть этого почти невозможно. Мы воспроизвели эти условия только отчасти, и опыт удался, конечно, тоже только отчасти. Быть может, я дал ему слишком большую дозу лауданума. Но, по-моему, первая из указанных много причин и есть та настоящая причина, которой мы обязаны и нашим успехом, и нашей неудачей.
Сказав это, я положил перед мистером Бреффом письменные принадлежности и спросил его, не согласится ли он изложить подробно все, чему был свидетелем, и скрепить это своею подписью. Он тотчас взялся за перо и составил отчет с привычной быстротой дельца.
— Этим я отчасти могу загладить, как некоторой компенсацией, то, что произошло между нами вечером, — сказал он, подписывая бумагу. — Прошу прощения у вас, мистер Дженнингс, за недоверие к вам. Вы оказали Фрэнклину Блэку неоценимую услугу. Говоря нашим юридическим языком, вы выиграли ваше дело.
Извинение Беттереджа было характерным для него.
— Мистер Дженнингс, — сказал он, — когда вы вновь прочтете “Робинзона Крузо”, — что я вам настоятельно советую, — вы увидите, что он никогда не отказывался признавать свои заблуждения. Прошу вас, сэр, считайте меня в настоящем случае идущим по стопам Робинзона Крузо.
С этими словами он в свою очередь подписал бумагу.
Мистер Брефф отвел меня в сторону, когда мы встали из-за стола.
— Одно слово об алмазе, — сказал он. — По-вашему, Фрэнклин Блэк спрятал Лунный камень в своей комнате. По-моему, Лунный камень находится у банкиров мистера Люкера в Лондоне. Не станем спорить, кто из нас прав.
Ограничимся вопросом: кому из нас первому удастся проверить свою теорию на практике?
— Моя проверка сегодня ночью была уже сделана и не удалась, — ответил я.
— А моя проверка, — возразил мистер Брефф, — еще только производится.
Вот уже два дня, как я поставил у банка сыщиков для наблюдения за мистером Люкером, и я не сниму их до конца этого месяца. Я знаю, что он должен выкупить алмаз лично, и рассчитываю на то, что человек, заложивший его мистеру Люкеру, заставит его забрать алмаз из банка, выкупив его. В таком случае я мог бы наложить руку на этого человека. Тут представляется возможность раскрыть тайну именно с того места, где она стала для нас сегодня непроницаемой. Согласны ли вы с этим?
Я, разумеется, согласился.
— Я возвращаюсь в Лондон с десятичасовым поездом, — продолжал стряпчий.
— Может случиться, что я услышу по возвращении о каком-нибудь новом открытии, — и чрезвычайно важно, чтобы Фрэнклин Блэк был поблизости от меня на случай какой-либо надобности. Я намерен сказать ему, как только он проснется, что ему надо ехать со мною в Лондон. После всего случившегося могу ли я рассчитывать на ваше влияние, чтобы поддержать меня в этом?
— Безусловно! — ответил я.
Мистер Брефф пожал мне руку и вышел из комнаты. Беттередж последовал за ним.
Я подошел к софе, посмотреть на мистера Блэка. Он не шевельнулся с тех пор, как я его уложил, — он лежал, погруженный в глубокий и спокойный сои.
Пока я смотрел на него, дверь спальни тихо растворилась. На пороге опять показалась мисс Вериндер в своем нарядном летнем платье.
— Окажите мне последнюю услугу, — сказала она шепотом, — позвольте мне посидеть возле него вместе с вами.
Некоторое время я колебался, имея в виду не соблюдение приличий, а ее ночной отдых. Она подошла совсем близко и взяла меня за руку.
— Я не могу спать, я даже не могу сидеть спокойно у себя в комнате, — сказала она. — О мистер Дженнингс! Если бы вы были на моем месте, подумайте только, как вам хотелось бы сидеть возле и смотреть на него.
Согласитесь! Пожалуйста!
Нужно ли говорить, что я не устоял? Конечно, нет!
Она придвинула стул к дивану у его ног. Она глядела на него в безмолвном восторге, пока от избытка счастья на глаза ее не навернулись слезы. Она вытерла их и сказала, что пойдет за работой. Работу она принесла, по не сделала ни одного стежка. Работа лежала у нее на коленях, — она же не в силах была отвести от него глаз даже на мгновенье, чтобы вдеть нитку в иголку. Я вспомнил свою молодость, вспомнил кроткие глаза, некогда обращенные с любовью на меня. Со стесненным сердцем я обратился за облегчением к своему дневнику и записал в нем то, что тут написано.
Так сидели мы молча вместе: один погруженный в свой дневник, другая поглощенная своею любовью.
Час проходил за часом, а он все лежал в глубоком сне. Наступал день и становилось все светлее и светлее, а он не выходил из своего оцепенения.
Часам к шести я почувствовал приближение своих обычных болей. Я вынужден был оставить ее на время наедине с ним, под тем предлогом, что иду наверх взять для пего еще подушку в спальне. Припадок мой длился на этот раз недолго. Вскоре я был в состоянии вернуться и показаться ей опять.
Я застал ее у его изголовья. Когда я входил, она как раз коснулась губами его лба. Я покачал головою с самым серьезным видом и указал ей на стул. Она взглянула на меня в ответ с ясною улыбкою и пленительным румянцем на лице.
— И вы сделали бы это на моем месте! — сказала она мне шепотом.
Ровно восемь часов. Он начинает шевелиться.
Мисс Вериндер стоит на коленях возле дивана. Она выбрала такое место, чтобы взгляд его, как только он откроет глаза, упал прямо на ее лицо.
Оставить их одних?
Конечно!
Одиннадцать часов. Они все уладили между собою; они все уехали в Лондон с десятичасовым поездом. Кончен мой короткий сон счастья. Я опять пробуждаюсь к действительности моей печальной и одинокой жизни.
Не решусь записать тут ласковые слова, сказанные мне, — особенно мисс Вериндер и мистером Блэком. К тому же это и бесполезно. Слова эти всегда будут вспоминаться мне в минуты одиночества и помогут перенести то, что еще предстоит мне перенести перед концом. Мистер Блэк обещал писать и сообщить, что произойдет в Лондоне. Мисс Вериндер вернется в Йоркшир осенью (к своей свадьбе, вероятно); и я должен взять отпуск и стать гостем в их доме. Боже мой! Как отрадно было сердцу, когда глаза ее, полные счастья и признательности, глядели на меня и теплое пожатие ее руки говорило мне: “Это сделали вы!”
ПЯТЫЙ РАССКАЗ, написанный Фрэнклином Блэком
Добавлю со своей стороны несколько слов, чтобы дополнить рассказ, содержащийся в дневнике Эзры Дженнингса.
О себе я могу только сказать, что проснулся утром двадцать шестого, ничего не подозревая о том, что я говорил или делал под влиянием опиума, с минуты, когда действие его овладело мною, и до того времени, когда раскрыл глаза на диване в гостиной Рэчель.
О том, что случилось, когда я проснулся, не считаю себя вправе давать подробный отчет. Скажу только, что Рэчель и я поняли друг друга прежде, чем хотя бы слово объяснения было сказано с той или другой стороны.
Но я не прочь прибавить, что нас, наверное, застала бы миссис Мерридью, если бы не присутствие духа Рэчель. Она услышала шелест платья почтенной дамы в коридоре и тотчас выбежала ей навстречу. Я слышал, как миссис Мерридью сказала: “Что случилось?”, и ответ Рэчель: “Взрыв!” Миссис Мерридью тотчас позволила взять себя за руку и увести в сад, подальше от предстоящего потрясения. Возвращаясь в дом, она встретила меня в передней и объявила, что прямо поражена огромными успехами науки с того времени, как она училась в школе.
— Взрывы, мистер Блэк, несравненно тише, чем они были прежде. Уверяю вас, я почти не слышала взрыва, произведенного мистером Дженнингсом, из сада. И запаха нет, по крайней мере сейчас, когда мы вернулись в дом! Я, право, должна извиниться перед вашим медицинским другом. Справедливость требует сказать, что он устроил это великолепно.
Итак, победив Беттереджа и мистера Бреффа, Эзра Дженнингс покорил и миссис Мерридью.
За завтраком мистер Брефф не скрыл, по какой причине он хочет, чтобы я поехал с ним в Лондон с утренним поездом. Слежка у банка и результат, который может последовать, возбудили такое непреодолимое любопытство в Рэчель, что она тотчас решила, — если миссис Мерридью не будет возражать, — ехать с нами в Лондон, чтобы получить самые свежие сведения о наших действиях.
Миссис Мерридью оказалась сговорчивой и снисходительной после истинно деликатного способа, с каким был проделан взрыв, и Беттереджу сообщили, что мы все четверо возвращаемся назад с утренним поездом. Я ожидал, что он будет просить позволения ехать с нами. Но Рэчель благоразумно поручила верному старому слуге занятие, интересное для него. Ему было поручено докончить меблировку дома, и он был слишком поглощен своей служебной ответственностью, чтобы почувствовать “сыскную лихорадку”, как он почувствовал бы ее при других обстоятельствах.
Единственное, о чем жалели мы, уезжая в Лондон, — это необходимость расстаться скорее, чем хотелось бы нам, с Эзрой Дженнингсом. Невозможно было уговорить его ехать с нами. Я мог только обещать ему писать, а Рэчель могла только настаивать, чтобы он погостил у нее, когда она вернется в Йоркшир. Мы твердо надеялись увидеться с ним через несколько месяцев, — и все же было что-то глубоко грустное для нас в том, как наш лучший и дорогой друг остался одиноко стоять на платформе, когда поезд тронулся.
Не успели мы приехать в Лондон, как к мистеру Бреффу подошел мальчик в курточке и штанах из поношенного черного сукна, привлекавший внимание необыкновенной величиною своих глаз. Они были выпуклые и так широко раскрыты, что вы испытывали беспокойство, удержатся ли они в своих орбитах. Выслушав мальчика, мистер Брефф попросил дам извинить нас, если мы не проводим их на Портлэнд-плейс. Я едва успел пообещать Рэчель вернуться и рассказать все, что случится, как мистер Брефф схватил меня за руку и торопливо потащил в кэб. Мальчик с огромными глазами сел на козлы возле извозчика, и кэб покатился по направлению к Ломбард-стрит.
— Известия из банка? — спросил я, когда мы тронулись.
— Известия о мистере Люкере, — ответил мистер Брефф. — Час назад видели, как он выехал из своего дома в Лэмбете, в кэбе, вместе с двумя людьми, в которых мои люди узнали переодетых полицейских офицеров. Если страх перед индусами заставил мистера Люкера принять меры предосторожности, то вывод довольно ясен. Он едет забирать из банка алмаз.
— А мы едем в банк посмотреть, что выйдет из этого?
— Да, или услышать, что вышло, если уже все будет кончено к этому времени. Вы обратили внимание на мальчика — того, что сидит на козлах?
— Я обратил внимание на его глаза.
Мистер Брефф засмеялся.
— У меня в конторе зовут этого бедного мальчика Гусберри.[4] Он служит у меня рассыльным, и желал бы я, чтобы на моих клерков, давших ему это прозвище, можно было положиться так же, как на пего. Гусберри один из самых хитрых мальчишек в Лондоне, мистер Блэк, несмотря на его глаза.
Было без двадцати минут пять, когда мы подъехали к банку на Ломбард-стрит, Гусберри пытливо взглянул на своего хозяина, когда отворил дверцу кэба.
— Ты тоже хочешь войти? — ласково спросил мистер Брефф. — Ступай же и не отходи от меня до дальнейших распоряжений. Он проворен, как молния, — шепнул мне мистер Брефф. — Двух слов достаточно для Гусберри там, где для другого мальчика понадобилось бы двадцать.
Мы вошли. Первая контора, с длинным прилавком, за которым сидели кассиры, была полна народа; все ожидали своей очереди получить или уплатить деньги, прежде чем банк закроется в пять часов.
Два человека из толпы подошли к мистеру Бреффу, как только он вошел.
— Ну? — спросил стряпчий. — Видели его?
— Он прошел здесь мимо нас полчаса назад, сэр, во внутреннюю контору.
— Он еще не выходил оттуда?
— Нет еще, сэр.
Мистер Брефф обернулся ко мне.
— Подождем, — сказал он.
Тщетно искал я глазами в толпе трех индусов. Их нигде не было видно.
Единственный человек с на редкость смуглым лицом был высокий мужчина в лоцманской одежде и в круглой шляпе, похожий на моряка. Неужели это один из них, переодетый моряком? Не может быть! Мужчина этот был выше всех индусов, а лицо его, там, где оно не было закрыто косматой черной бородой, было вдвое шире лица любого из них.
— Должно быть, они имеют тут своего шпиона, — сказал мистер Брефф, в свою очередь взглянув на смуглого моряка, — и может быть, он — этот самый и есть!
Прежде чем он успел произнести еще что-нибудь, его почтительно потянул за фалду сюртука мальчик с огромными глазами. Мистер Брефф посмотрел туда, куда смотрел мальчик.
— Шш! — сказал он. — Вот мистер Люкер!
Из внутренних отделений банка вышел ростовщик, а за ним два полицейских из его охраны, в штатской одежде.
— Не теряйте его из вида, — шепнул Брефф. — Если он передаст кому-нибудь алмаз, то передаст его здесь.
Не замечая никого из нас, мистер Люкер медленно пробирался к двери то в густой, то в редеющей толпе. Я ясно видел, как рука его шевельнулась, когда он прошел мимо низенького плотного человека в приличном темно-сером костюме. Человек этот слегка вздрогнул и посмотрел ему вслед. Мистер Люкер медленно пробирался сквозь толпу. В дверях полицейские стали по обе стороны от него. За всеми тремя шел теперь один из двух людей мистера Бреффа, и я более уже не видел никого из них.
Я оглянулся на стряпчего, а потом бросил многозначительный взгляд на человека в темно-сером костюме.
— Да, — шепнул мне мистер Брефф, — я тоже заметил это!
Он обернулся, отыскивая другого своего человека. Но того нигде не было видно. Он оглянулся назад, отыскивая мальчика. Но Гусберри тоже исчез.
— Черт побери! Что это значит? — сердито сказал мистер Брефф. — Оба оставили нас в то время, когда более всего нужны нам.
Пришла очередь человека в темно-сером костюме занять место у прилавка.
Он оплатил чек, получил расписку и повернулся, чтобы уйти.
— Как теперь быть? — спросил мистер Брефф. — Мы не можем унизить себя до того, чтобы идти за ним следом.
— Я могу! — ответил я. — Я не потеряю этого человека из виду и за десять тысяч фунтов!
— В таком случае, — ответил мистер Брефф, — я не потеряю из виду вас и за вдвое большую сумму. Прекрасное занятие для человека в моем положении! — пробормотал он про себя, когда мы оба вышли вслед за незнакомцем из банка. — Ради бога не говорите об этом никому! Я погибну, если об этом станет известно.
Человек в сером костюме сел в омнибус, ехавший в западную часть Лондона.
Мы сели вслед за ним. Мистер Брефф сохранил еще следы юности. Я положительно утверждаю это: когда он сел в омнибус, он покраснел.
Человек в сером костюме остановил омнибус и вышел на Оксфорд-стрит. Мы снова двинулись за ним. Он вошел в аптеку.
Мистер Брефф вздрогнул.
— Мой аптекарь, — сказал он. — Боюсь, что мы сделали ошибку!
Мы вошли в аптеку. Мистер Брефф обменялся с ее хозяином несколькими словами по секрету и с вытянутым лицом опять присоединился ко мне.
— Это делает нам большую честь, — сказал он, взяв меня за руку и выводя из аптеки. — Хоть это служит утешением!
— Что именно делает нам честь? — спросил я.
— То, мистер Блэк, что мы оба самые плохие сыщики-любители, когда-либо подвизавшиеся на этом поприще. Человек в сером костюме служит у аптекаря тридцать лет. Он был послан в банк заплатить деньги по счету его хозяина, и он знает о Лунном камне не более новорожденного младенца.
Я спросил, что теперь делать.
— Вернемся ко мне в контору, — сказал мистер Брефф, — Гусберри и другой мой человек, очевидно, преследовали кого-нибудь другого. Будем надеяться, что хоть у них-то, по крайней мере, зоркие глаза.
Когда мы доехали до конторы мистера Бреффа, второй его человек был уже там. Он ждал нас более четверти часа.
— Ну, — спросил мистер Брефф, — какие у вас новости?
— С сожалением должен сказать, сэр, я сделал ошибку. Я готов был присягнуть, что увидел, как мистер Люкер передал что-то пожилому джентльмену в светлом пальто. Пожилой джентльмен оказался, сэр, весьма почтенным торговцем железными товарами в Истчипе.
— Где Гусберри? — безропотно спросил мистер Брефф.
Человек вытаращил глаза.
— Не знаю, сэр. Я не видел его с тех пор, как вышел из банка.
Мистер Брефф отпустил его.
— Одно из двух, — сказал он мне, — или Гусберри убежал, или он следит за кем-нибудь по собственному почину. Что вы скажете о том, чтобы пообедать здесь, со мной, на случай, если мальчик вернется через час или два? У меня есть хорошее вино в погребе, и мы можем взять кусок баранины из кофейной.
Мы пообедали в конторе мистера Бреффа. Прежде чем убрали скатерть, нам было доложено, что какой-то человек хочет поговорить со стряпчим. Был ли это Гусберри? Нет, это оказался человек, посланный следить за мистером Люкером, когда тот вышел из банка.
Донесение и на этот раз не представляло ни малейшего интереса. Мистер Люкер вернулся домой и там отпустил свою охрану. Он больше не выходил. В сумерки ставни его дома были закрыты и дверь заперта на засов. Улицу перед домом и аллею позади дома тщательно охраняли. Никаких следов индусов нигде не было видно, никто не шатался около дома. Сообщив эти факты, человек пожелал узнать, не будет ли дальнейших приказаний. Мистер Брефф отпустил его на ночь.
Мы прождали мальчика еще полчаса, и прождали напрасно. Мистеру Бреффу пора было ехать в Хэмпстед, а мне вернуться к Рэчель на Портлэнд-плейс. Я оставил свою карточку у конторского сторожа, написав на ней, что буду у себя на квартире в половине одиннадцатого вечером. Эту карточку я поручил передать Гусберри, если мальчик вернется.
Есть люди, умеющие никогда не опаздывать к назначенному сроку, другие имеют свойство опаздывать. Я принадлежу к числу этих последних. Прибавьте к этому, что я провел вечер на Портлэнд-плейс, сидя на одном диване с Рэчель, в комнате длиною в сорок футов, на дальнем конце которой сидела миссис Мерридью. Удивит ли кого-нибудь, что я вернулся домой в половине первого вместо половины одиннадцатого? Если да, то у такого человека нет сердца! И как горячо надеюсь я, что мне никогда не придется встретиться с таким человеком!
Слуга мой подал мне бумажку, когда отворил мне дверь. Я прочел слова, написанные четким почерком юриста:
“С вашего позволения, сэр, мне ужасно хочется спать. Я приду опять завтра утром в десятом часу”.
Из расспросов выяснилось, что мальчик с необыкновенными глазами приходил, показал мою карточку, ждал около часа, то и дело засыпал и снова просыпался, потом написал мне несколько слов и ушел домой, с важным видом сообщив слуге, что “он никуда не годится, если не выспится ночью”.
На следующее утро в десять часов я был готов принять своего посетителя.
В половине десятого я услышал шаги за дверью.
— Войдите, Гусберри! — закричал я.
— Благодарю вас, сэр, — ответил серьезный и меланхолический голос.
Дверь отворилась. Я вскочил и очутился лицом к лицу — с сыщиком Каффом.
— Я вздумал заглянуть сюда, мистер Блэк, на случай, если вы в Лондоне, прежде чем написать вам в Йоркшир, — сказал сыщик.
Я предложил ему позавтракать. Деревенский житель просто обиделся. Он завтракал в половине седьмого, а ложился спать с курами и петухами.
— Я только вчера вечером вернулся из Ирландии, — сказал сыщик, приступая к деловой цели своего посещения с обычным своим невозмутимым видом. — И прежде чем лечь спать, прочел ваше письмо, рассказавшее мне обо всем, что случилось после того, как мое следствие по поводу алмаза прекратилось в прошлом году. Мне остается сказать только одно. Я совершенно не понял дела. Не берусь утверждать, смог ли бы другой на моем месте увидеть вещи в их настоящем свете. Но это не изменяет фактов.
Сознаюсь, что я напутал. Это была не первая путаница, мистер Блэк, в моей полицейской карьере! Только в книгах сыщики никогда не делают ошибок.
— Вы приехали как раз в такое время, когда сможете исправить свою репутацию, — сказал я.
— Извините, мистер Блэк, — возразил сыщик, — теперь, когда я вышел в отставку, я ни на грош не забочусь о своей репутации. Я покончил со своей репутацией, слава богу! Я приехал сюда, сэр, из уважения к памяти леди Вериндер, которая была так щедра ко мне. Я вернусь к своей прежней профессии, если понадоблюсь вам и если вы полагаетесь на меня, именно по этой, а не по какой другой причине. Мне не нужно от вас ни единого фартинга. Это вопрос чести для меня. Теперь скажите, мистер Блэк, в каком положении находится дело сейчас, после того как вы писали мне.
Я рассказал ему об опыте с опиумом и о том, что случилось в банке на Ломбард-стрит. Он был поражен опытом, — в его практике это было нечто совершенно новое. Особенно заинтересовался он предположениями Эзры Дженнингса насчет того, что я сделал с алмазом после того, как вышел из гостиной Рэчель.
— Я не согласен с мистером Дженнингсом, что вы спрятали Лунный камень, — сказал сыщик Кафф, — но я согласен с ним, что вы должны были отнести его к себе в комнату.
— Хорошо! А что же случилось потом? — спросил я.
— Вы лично не имеете никакого подозрения о том, что случилось, сэр?
— Решительно никакого.
— И мистер Брефф не подозревает?
— Не больше, чем я.
Сыщик Кафф встал и подошел к письменному столу. Он вернулся с запечатанным письмом. На нем стояло “секретно”, и оно было адресовано мне, а в углу была подпись сыщика.
— Я подозревал в прошлом году не то лицо, — сказал он, — может быть, и сейчас подозреваю не того. Подождите распечатывать конверт, мистер Блэк, пока не узнаете правды, а тогда сравните имя виновного с тем именем, которое я написал в этом запечатанном письме.
Я положил письмо в карман, а потом спросил его мнение о мерах, которые мы приняли в банке.
— Отличные меры, сэр, — ответил Кафф, — это именно то, что следовало сделать. Но, кроме Люкера, следовало присматривать и за другим человеком.
— Названным в письме, которое вы отдали мне?
— Да, мистер Блэк, за человеком, названным в этом письме. Теперь уже нечего делать. Я кое-что предложу вам и мистеру Бреффу, сэр, когда наступит время. А сейчас подождем и посмотрим, не скажет ли нам чего-нибудь нового мальчик.
Было около десяти часов, а Гусберри все еще не являлся. Кафф заговорил о других вещах. Он спросил о своем старом друге Беттередже и своем старом враге садовнике. Через минуту он перешел бы от них к своим любимым розам, если б слуга мой не прервал нас, доложив, что мальчик ждет внизу.
Когда Гусберри ввели в комнату, он остановился на пороге и недоверчиво уставился на человека, находившегося со мною. Я подозвал мальчика к себе.
— Ты можешь говорить при этом господине, — сказал я, — он здесь как раз для того, чтобы помочь мне, и он знает все, что случилось. Сыщик Кафф, — прибавил я, — ото мальчик из конторы мистера Бреффа.
В современном цивилизованном мире знаменитость, — какого бы она ни была рода, — это рычаг, двигающий всем. Слава знаменитого Каффа дошла даже до ушей маленького Гусберри. Бойкие глаза мальчика до того выкатились, когда я назвал прославленное имя, что я подумал: уж не выпадут ли они на ковер.
— Поди сюда, мой милый, — сказал сыщик, — и давай-ка послушаем, что ты нам расскажешь.
Внимание великого человека, героя многочисленных нашумевших в каждой лондонской конторе историй, словно околдовало мальчика. Он вытянулся перед сыщиком Каффом и заложил руки за спину, как новобранец, сдающий экзамен.
— Твое имя? — спросил сыщик, начиная допрос по всем правилам.
— Октавиус Гай, — ответил мальчик. — В конторе меня называют Гусберри из-за моих глаз.
— Октавиус Гай, иначе Гусберри, — продолжал сыщик с чрезвычайной серьезностью. — Тебя хватились вчера в банке. Где ты был?
— С вашего позволения, сэр, я следил за одним человеком.
— Кто это такой?
— Высокий мужчина, сэр, с большой черной бородой, одетый, как моряк.
— Я помню этого человека! — перебил я. — Мы с мистером Бреффом сочли его шпионом, подосланным индусами.
На сыщика Каффа, по-видимому, не произвели большого впечатления наши предположения. Он продолжал допрашивать Гусберри.
— Почему ты следил за этим моряком? — спросил он.
— С вашего позволения, сэр, мистер Брефф желал знать, не передаст ли чего-нибудь мистер Люкер кому-нибудь по выходе из банка. Я видел, как мистер Люкер передал что-то моряку с черной бородой.
— Почему ты не сказал мистеру Бреффу то, что ты увидел?
— Я не успел никому сказать об этом, сэр, моряк вышел очень быстро.
— А ты побежал за ним?
— Да, сэр.
— Гусберри, — сказал сыщик, гладя его по голове, — у тебя есть кое-что в голове — и это не хлопчатая бумага. Я очень доволен тобой до сих пор.
Мальчик покраснел от удовольствия. Сыщик Кафф продолжал:
— Ну, что же сделал моряк, когда он вышел на улицу?
— Взял кэб, сэр.
— А ты что сделал?
— Бежал сзади.
Прежде чем сыщик успел задать еще вопрос, вошел новый посетитель — главный клерк из конторы мистера Бреффа.
Чувствуя, как важно не прерывать допрос мистера Каффа, я принял клерка в соседней комнате. Он пришел с дурными вестями от своего хозяина.
Волнение и суета последних двух дней оказались не под силу мистеру Бреффу.
Он проснулся в это утро с приступом подагры и не мог выйти из своей комнаты в Хэмпстеде, а при настоящем критическом положении наших дел очень тревожился, что оставил меня без совета и помощи опытного человека.
Главный клерк получил приказание оставаться в моем распоряжении и готов был приложить все силы, чтобы заменить мистера Бреффа.
Я тотчас, чтобы успокоить старика, написал ому о приезде сыщика Каффа, прибавив, что Гусберри расспрашивают в эту минуту, и обещая уведомить мистера Бреффа, лично или письменно, о том, что может случиться днем.
Отправив клерка в Хэмпстед с моим письмом, я вернулся в комнату и увидел, что сыщик Кафф, стоя у камина, собирается позвонить в колокольчик.
— Извините меня, мистер Блэк, — сказал сыщик, — я только что хотел послать к вам слугу, сообщить, что хочу говорить с вами. У меня не осталось ни малейшего сомнения, что этот мальчик, — славный мальчик, — прибавил он, гладя Гусберри по голове, — следил именно за тем, за кем нужно. Драгоценное время было потеряно, сэр, из-за того, что вы, к несчастью, не были дома в половине одиннадцатого вчера вечером. Теперь остается только немедленно послать за кэбом.
Через пять минут сыщик Кафф и я (Гусберри сел на козлы, показывать кучеру дорогу) ехали в Сити.
— Когда-нибудь, — сказал сыщик, указывая на переднее окно кэба, — этот мальчик добьется замечательных успехов в моей бывшей профессии. Давно я не встречал такого бойкого и умного малого. Передам вам сущность того, мистер Блэк, о чем он рассказал мне, когда вас не было в комнате. Кажется, еще при вас он упомянул, что побежал вслед за кэбом?
— Да.
— Ну, сэр, кэб поехал с Ломбард-стрит к Тауэрской пристани. Моряк с черной бородой вышел из кэба и заговорил с баталером роттердамского парохода, который должен был отправиться на следующее утро. Он спросил, может ли уже сейчас переночевать на пароходе в каюте. Баталер сказал: нет.
Каюты и койки будут чистить в этот вечер, и пассажирам не позволялось занимать места до утра на пароходе.
Моряк повернулся и ушел с пристани. Идя по улице, мальчик в первый раз заметил на противоположной стороне человека, одетого ремесленником, по-видимому не терявшего из виду моряка. Моряк остановился около ресторана и вошел в него. Мальчик не знал, что ему делать, и вместе с другими мальчуганами стоял и смотрел на закуски, выставленные в окне ресторана. Он подметил, что ремесленник ждет, как ждал и он сам, по вес еще на другой стороне улицы. Через минуту медленно подъехал кэб и остановился там, где стоял ремесленник. Мальчик мог ясно разглядеть в кэбе только одного человека, высунувшегося из окна, чтобы поговорить с ремесленником. Он сообщил мне, мистер Блэк, без всяких наводящих вопросов с моей стороны, что этот человек был очень, очень смугл и похож на индуса.
Было ясно, что и на этот раз мы с мистером Бреффом ошиблись. Моряк с черной бородой явно не был шпионом индусов. Неужели алмаз находился у него?
— Через некоторое время, — продолжал сыщик, — кэб отъехал. Ремесленник перешел через улицу и вошел в ресторан. Мальчик ждал, пока его не одолели голод и усталость, а потом, в свою очередь, вошел в ресторан. У него в кармане был шиллинг; он великолепно пообедал, уверяет он, черным пудингом, пирогом с угрем и бутылкой имбирного пива. Чего только не переварит желудок мальчугана? Все, что только можно съесть!
— Что же он увидел в ресторане? — спросил я.
— Он увидел моряка, читавшего газету за одним столом, и ремесленника, читавшего газету за другим. Стемнело, прежде чем моряк встал и вышел. На улице он подозрительно осмотрелся вокруг. Мальчик (ведь это был только мальчик) был им оставлен без внимания. Ремесленник еще не выходил. Моряк шел, оглядываясь по сторонам и, видимо, еще не зная, куда ему пойти.
Ремесленник опять появился на противоположной стороне улицы. Моряк все шел, пока не дошел до Берегового переулка, ведущего в улицу Нижней Темзы.
Там он остановился перед таверной под вывеской “Колесо Фортуны” и, осмотревшись, вошел. Гусберри тоже вошел. У буфета было много народу, по большей части вполне приличного. “Колесо Фортуны” — таверна очень порядочная, мистер Блэк, знаменитая своим портером и пирогами со свининой.
Отступления сыщика раздражали меня. Он это заметил и стал строго придерживаться показаний Гусберри в дальнейшем своем рассказе:
— Моряк спросил, может ли он получить койку. Трактирщик ответил: “Нет, все заняты”. Буфетчица возразила ему, что десятый номер пуст. Послали за слугою, чтобы проводить моряка в десятый номер. Как раз перед этим Гусберри приметил ремесленника между людьми, стоявшими у буфета. Он исчез прежде, чем слуга появился на зов. Не зная, что ему делать дальше, Гусберри решил выждать и посмотреть, не случится ли еще чего-нибудь. И кое-что случилось. Хозяина позвали. Сердитые голоса послышались сверху.
Трактирщик вдруг появился, таща за шиворот ремесленника, который, к величайшему удивлению Гусберри, выказывал все признаки опьянения.
Трактирщик вытолкал его за дверь, грозя послать за полицией, если он вернется. Пока они спорили, выяснилось, что человек этот был найден в номере десятом и с упорством пьяного объявил, что он занял эту комнату.
Гусберри был так поражен внезапным опьянением еще недавно трезвого человека, что не выдержал и побежал за ним на улицу. Пока ремесленник был на виду у посетителей таверны, он шатался самым неприличным образом. Но как только он завернул за угол, к нему тотчас вернулось равновесие, и он стал таким трезвым членом общества, что лучше и желать было нечего.
Гусберри вернулся в “Колесо Фортуны” в сильном недоумении. Он опять ждал, не случится ли чего-нибудь. Ничего больше не случилось и ничего больше не было слышно о моряке.
Гусберри решил вернуться в контору. Но как только он пришел к этому заключению, на противоположной стороне улицы опять появился тот же ремесленник! Он смотрел на одно из окон гостиницы, единственное, в котором был виден свет. Свет этот как будто успокоил его. Он тотчас ушел. Мальчик вернулся в контору, получил вашу карточку, но не застал вас. Вот в таком положении теперь дело, мистер Блэк.
— Какого вы мнения об этом?
— Думаю, что дело серьезное, сэр. Судя по тому, что видел мальчик, тут действуют индусы.
— Да. А моряк — это, очевидно, тот, кому мистер Люкер передал алмаз. Не странно ли, что мистер Брефф, я и человек, нанятый мистером Бреффом, — все мы ошиблись насчет того, кто этот моряк.
— Вовсе не странно, мистер Блэк. Принимая во внимание тот риск, которому подвергается этот человек, мистер Люкер, вероятно, с умыслом, сговорившись с ним, направил ваше внимание в другую сторону.
— Как понять то, что происходило в таверне? — спросил я. — Человек, одетый ремесленником, был, разумеется, нанят индусами. Но я, так же как и Гусберри, не могу объяснить его внезапного опьянения.
— Думаю, что могу угадать, что это значит, сэр, — ответил сыщик. — Если вы хорошенько подумаете, вы поймете, что этот человек получил, должно быть, очень строгие инструкции от индусов. Они сами слишком заметны для того, чтобы лично показаться в банке или в таверне, — и они принуждены были поручить все это своему поверенному. Очень хорошо! Поверенный услышал у буфета громко названный номер той комнаты, которую моряк должен занять на ночь; в этой комнате, — если мы не ошибаемся, — должен находиться в эту ночь и алмаз. Вы можете быть уверены в том, что индусам очень важно иметь точное описание этой комнаты, знать, в какой части дома она находится, — возможно ли проникнуть в нее снаружи и тому подобное. Что должен был сделать человек, получив такое задание? Именно то, что он сделал! Он побежал наверх взглянуть на комнату, прежде чем туда приведут моряка. Его застали за осмотром, и он притворился пьяным, — простейший способ выбраться из затруднения. Вот как я разрешаю загадку. После того как он вышел из таверны, он, вероятно, отправился со своим донесением к тому месту, где его ждали индусы. А те, без сомнения, послали его назад: удостовериться, действительно ли моряк устроился в таверне на ночь. А что случилось в “Колесе Фортуны” после ухода мальчика, нам следовало бы знать еще вчера вечером. Сейчас одиннадцать часов утра. Постараемся узнать все, что только возможно.
Через четверть часа кэб остановился в Береговом переулке, и Гусберри отворил перед нами дверцу.
— Все ли в порядке? — спросил сыщик.
— Все в порядке, — ответил мальчик.
Но в ту минуту, когда мы входили в “Колесо Фортуны”, даже для моих неопытных глаз стало ясно, что в доме далеко не все в порядке.
Единственное лицо за прилавком, где стояли напитки, была растерянная служанка, которая совершенно не понимала, в чем дело. Двое посетителей, ожидавшие утренней выпивки, нетерпеливо стучали монетами по прилавку.
Буфетчица появилась из внутренних комнат, взволнованная и озабоченная. Она резко ответила на вопрос сыщика Каффа о хозяине, что тот наверху и что ему никто не смеет сейчас надоедать.
— Пойдемте-ка со мною, сэр, — сказал мне сыщик Кафф, хладнокровно поднимаясь на лестницу и делая мальчику знак следовать за нами.
Буфетчица громко крикнула хозяину, что какие-то незнакомые люди врываются в дом. На площадке нижнего этажа нам встретился трактирщик, в сильном раздражении спешивший узнать, что случилось.
— Что вы за черти? Что вам здесь надо? — спросил он.
— Придержите-ка свой язык, — спокойно сказал сыщик. — Я вам скажу, кто я: я — сыщик Кафф.
Знаменитое имя тотчас произвело свое действие. Сердитый трактирщик раскрыл дверь в гостиную и попросил у сыщика извинения.
— Дело в том, что я раздражен и расстроен, сэр, — сказал он. — Сегодня утром у нас в доме случилась неприятность. Человека моей профессии многое может вывести из себя, мистер Кафф.
— В этом нет никакого сомнения, — сказал сыщик. — Я тотчас изложу, если вы позволите, то, что привело нас сюда. Мы с этим джентльменом хотим побеспокоить вас кое-какими расспросами о дело, интересующем нас обоих.
— О каком деле, сэр? — спросил трактирщик.
— По поводу одного смуглого человека, одетого моряком, который ночевал у вас нынешней ночью.
— Боже мой! Да это именно тот человек, который перевернул вверх дном весь дом сегодня! — воскликнул трактирщик. — Знаете ли вы или этот господин что-нибудь о нем?
— Не можем сказать наверное, пока не увидим его, — ответил сыщик.
— Пока не увидите его? — повторил трактирщик. — Никому не удается увидеть его с семи часов утра. Вчера он велел разбудить его в это время. К нему пришли и нельзя было добиться ответа, нельзя отворить дверь и посмотреть, что случилось. В восемь часов попробовали опять, в девять опять. Бесполезно! Дверь по-прежнему заперта, и в комнате не слышно ни звука! Меня не было сегодня дома; я вернулся только четверть часа назад. Я сам стучался в дверь, и все было напрасно. Послали сейчас за плотником. Если вы подождете несколько минут, мы откроем дверь и посмотрим.
— Не был ли этот человек пьян вчера? — спросил сыщик.
— Он был совершенно трезв, сэр, иначе я не позволил бы ему ночевать в моем доме.
— Он заплатил за свою комнату вперед?
— Нет.
— Не мог ли он выйти из своей комнаты, минуя дверь?
— Комната эта — чердак, — сказал трактирщик, — в потолке есть люк, ведущий на крышу, а немного подальше на улице есть пустой дом, который сейчас ремонтируют. Вы думаете, сыщик, что негодяй ускользнул, не заплатив?
— Моряк, — ответил сыщик Кафф, — легко мог это сделать рано утром, прежде чем на улице появился народ. Он привык лазить, и голова у него не закружится на крыше дома.
Пока он говорил, доложили о приходе плотника. Мы все тотчас поднялись на верхний этаж. Я заметил, что сыщик был необыкновенно серьезен, серьезнее, чем обычно. Мне показалось также странным, что он велел мальчику (которому разрешил следовать за нами) ждать внизу, пока мы не вернемся.
Молоток и резец плотника справились с дверью в несколько минут. Но изнутри приставлена была мебель, как баррикада. Толкнув дверь, мы опрокинули это препятствие и вошли в комнату. Трактирщик вошел первым, сыщик — вторым, я — третьим. Остальные присутствовавшие при этом лица последовали за нами.
Все мы взглянули на постель и вздрогнули.
Моряк не выходил из комнаты: он лежал одетый на постели, лицо его было закрыто подушкой.
— Что это значит? — шепнул трактирщик, указывая на подушку.
Сыщик Кафф подошел к постели, не отвечая ничего, и сбросил подушку.
Смуглое лицо моряка было бесстрастным и неподвижным. Черные волосы и борода слегка растрепаны. Широко раскрытые тусклые глаза устремлены в потолок. Безжизненный взгляд и неподвижное выражение привели меня в ужас.
Я отвернулся и отошел к открытому окну. Все остальные вместе с сыщиком Каффом стояли у постели.
— Он в обмороке, — сказал трактирщик.
— Он умер, — возразил Кафф. — Пошлите за ближайшим доктором и за полицией.
Так и было сделано. Какие-то странные чары как будто удерживали сыщика Каффа у постели. Какое-то странное любопытство как будто заставляло всех ждать и смотреть, что будет делать сыщик.
Я опять отвернулся к окну. Через минуту я почувствовал, как меня тихо дернули за фалду, и тоненький голос прошептал:
— Посмотрите, сэр!
Гусберри вошел в комнату. Его выпуклые глаза необычайно выкатились — не от страха, а от восторга. Он тоже сделал открытие.
— Посмотрите, сэр, — повторил он, — и повел меня к столу, находившемуся в углу комнаты.
На столе стоял маленький деревянный ящичек, открытый и пустой. По одну сторону ящика лежала тонкая хлопчатая бумага, употребляемая для завертывания драгоценных вещиц. По другую сторону — разорванный лист белой бумаги с печатью на нем, частично разломанной, и надписью, которую легко можно было прочесть. Подпись была такова:
“Отдан на сохранение господам Бешу, Лайсоту и Бешу Септимусом Люкером, жительствующим на Мидлсекс-плейс, Лэмбет, маленькая деревянная коробочка, запечатанная в этом конверте и заключающая в себе вещь очень высокой стоимости. Коробочка эта должна быть возвращена господами Бешом и К? только в собственные руки мистера Люкера”.
Эти строки уничтожали всякое сомнение, по крайней мере, в одном отношении: Лунный камень находился у моряка, когда он накануне вышел из банка.
Я почувствовал, что меня опять дернули за фалду. Гусберри все не отставал от меня.
— Воровство! — шепнул мальчик с восторгом, указывая на пустой ящичек.
— Вам было велено ждать внизу, — сказал я, — ступайте вниз!
— И убийство! — прибавил Гусберри, указывая с еще большим наслаждением на человека, лежавшего на постели.
В удовольствии, какое доставляла мальчику эта ужасная сцена, было что-то столь отвратительное, что я схватил его за плечи и вытолкал из комнаты.
В ту минуту, когда я переступил порог, я услышал, как сыщик Кафф спрашивал обо мне. Он встретил меня, когда я вернулся в комнату и принудил подойти с ним к постели.
— Мистер Блэк, — сказал он, — посмотрите на лицо этого человека. Это лицо загримированное, и вот вам доказательство.
Он указал пальцем на тонкую синевато-белую полосу над смуглым лбом покойника у корней растрепанных черных волос.
— Посмотрите, что будет под этим, — сказал сыщик, вдруг крепко ухватившись рукою за черные волосы.
Мои нервы не могли вынести этого, я опять отвернулся от постели.
Первое, что я увидел на другом конце комнаты, был неугомонный Гусберри, который взобрался на стул и следил, задыхаясь от любопытства, через головы взрослых за всеми действиями сыщика.
— Он стаскивает с него парик, — шептал Гусберри, жалея, что я единственный человек в комнате, который не мог ничего видеть.
Наступило молчание, а потом крик удивления вырвался у людей, собравшихся около постели.
— Он сорвал с него бороду! — закричал Гусберри.
Снова наступило молчание. Сыщик Кафф попросил что-то. Трактирщик пошел к умывальнику и вернулся к постели с тазом, наполненным водою, и с полотенцем.
Гусберри заплясал от восторга на стуле.
— Идите сюда ко мне, сэр! Он смывает теперь краску с его лица!
Сыщик вдруг растолкал толпу, окружавшую его, и с ужасом на лице приблизился ко мне.
— Подойдите к постели, сэр! — начал он. — Или нет…
Он пристально посмотрел на меня и продолжал:
— Распечатайте раньше письмо, которое я вам дал утром.
Я распечатал письмо.
— Прочтите имя, мистер Блэк, которое там написано.
Я прочел имя, которое он написал: Годфри Эбльуайт.
— Теперь, — сказал сыщик, — пойдемте со мною и посмотрите на человека, лежащего на постели.
Я пошел с ним и посмотрел на человека, лежащего на постели, — это был Годфри Эбльуайт.
ШЕСТОЙ РАССКАЗ, написанный сыщиком Каффом
I
Доркинг, Серрей, июля 30, 1849. Фрэнклину Блэку, эсквайру. Сэр, я должен извиниться перед вами, что задержал донесение, которое обязался вам доставить. Я хотел сделать его более полным и, однако, встречал там и сям препятствия, которые можно было преодолеть только с некоторой затратой терпения и времени.
Цель, которую я поставил себе, теперь, я надеюсь, достигнута. Вы найдете на этих страницах ответы на большую часть, если не на все вопросы, относящиеся к покойному мистеру Годфри Эбльуайту, приходившие вам в голову, когда я имел честь видеть вас в последний раз.
II
Итак, прежде всего о смерти вашего кузена.
Мне кажется неоспоримо доказанным, что он был задушен (пока спал или тотчас после своего пробуждения) подушкою с его же постели; что лица, виновные в умерщвлении его, — три индуса; и что цель данного преступления состояла в том, чтобы овладеть алмазом, называемым Лунным камнем.
Факты, на основании которых выведено это заключение, установлены отчасти при осмотре комнаты в таверне, отчасти из показаний на следствии коронера.
Когда выломали дверь комнаты, нашли джентльмена мертвым, с подушкою на лице. Доктор, осматривавший его, установил смерть от удушения — то есть убийство, — оно было совершено каким-нибудь лицом или лицами, при помощи подушки, которую держали на лице жертвы, пока не наступила смерть от прилива крови к легким.
Теперь перейдем к причине преступления.
Небольшой ящичек был найден открытым и пустым на столе в этой комнате.
Мистер Люкер опознал ящик, печать и надпись. Он объявил, что в этом ящике действительно находился алмаз, называемый Лунным камнем, и что он отдал этот ящик, запечатанный таким образом, мистеру Годфри Эбльуайту (в то время переодетому) двадцать шестого июля. Вывод из всего этого тот, что причиною преступления была кража Лунного камня.
Теперь рассмотрим, каким образом было совершено преступление.
В комнате (всего лишь семи футов вышиною) был найден открытым люк в потолке, ведущий на чердак. Короткая лестница, по которой поднимались на чердак (обычно лежавшая под кроватью), была найдена приставленной к люку, так что любой человек или люди легко могли выйти из этой комнаты. В самой дверце люка обнаружено квадратное отверстие, возле болта, запиравшего люк с внутренней стороны, вырезанное, очевидно, каким-то необыкновенно острым инструментом. Таким образом, всякое лицо снаружи могло отодвинуть болт, отпереть люк и спуститься (может быть, с помощью какого-нибудь сообщника) в комнату, вышина которой, как было уже указано, только семь футов. Что какое-нибудь лицо или лица должны были войти именно таким образом, очевидно из наличия самого люка. Что касается того способа, каким оно или они получили доступ к крыше таверны, надо заметить, что соседний дом стоял пустой и ремонтировался, к его стене была приставлена длинная лестница, которую накануне оставили рабочие; вернувшись на работу утром двадцать седьмого, они нашли доску, которую привязали к лестнице, чтобы никто не пользовался ею во время их отсутствия, снятою и брошенной на песок. Из показаний ночного полисмена (который проходит по Береговому переулку только два раза в час) явствует, что было вполне возможно подняться по этой лестнице, пройти по крышам домов и опять незаметно спуститься.
Показания жителей также подтверждают, что Береговой переулок после полуночи самая тихая и уединенная из лондонских улиц. Следовательно, тут опять можно с полным правом заключить, что любой человек или люди могли подняться по лестнице и опять спуститься незамеченными, проявляя необходимую осторожность и присутствие духа.
Перейдем, наконец, к лицу или к лицам, которыми преступление было совершено.
Известно: 1) что индусы были заинтересованы в том, чтобы завладеть алмазом, во всяком случае человек, похожий на индуса, которого Октавиус Гай видел в окне кэба беседующим с ремесленником, был одним из трех индусских заговорщиков; 2) несомненно, что человек, одетый ремесленником, следил за мистером Годфри Эбльуайтом весь вечер 26-го и был обнаружен в его спальне (прежде чем мистера Эбльуайта проводили туда) при обстоятельствах, заставляющих подозревать, что он пробрался для осмотра комнаты; 3) кусочек золотой нитки был найден в спальне, и эксперты утверждают, что это индийская мануфактура и что золотая нить такого рода неизвестна в Англии; 4) утром 27-го три человека, наружность которых согласовалась с приметами трех индусов, были замечены на улице Нижней Темзы и прослежены до Тауэрской пристани; позднее их видели, когда они уезжали из Лондона на пароходе, отправлявшемся в Роттердам.
Такова фактическая, если не юридическая, улика, что убийство было совершено индусами.
Был или нет человек, одетый ремесленником, сообщником этого преступления, сказать трудно.
Следствием коронера было установлено умышленное убийство, совершенное неизвестным лицом или лицами. Семейство мистера Эбльуайта предложило награду, и были употреблены все усилия для того, чтобы найти виновных.
Человек, одетый ремесленником, бесследно скрылся. Следы индусов нашли.
Относительно надежды захватить этих последних мне остается сказать несколько слов в конце этого донесения.
А пока, написав все необходимое о смерти мистера Годфри Эбльуайта, я могу перейти к рассказу о его поступках до встречи с вами, во время встречи и после того, как вы виделись с ним в доме покойной леди Вериндер.
III
Жизнь мистера Годфри Эбльуайта имела две стороны.
С одной стороны — показной — это был джентльмен, пользовавшийся заслуженной репутацией оратора на благотворительных митингах и одаренный административными способностями, которые он отдавал в распоряжение различных благотворительных обществ, большей частью дамских. С другой стороны, — скрытой от общества, — этот джентльмен представал в совершенно другом виде: а именно, как человек, предававшийся удовольствиям, имевший виллу за городом, купленную не на свое имя, а на имя дамы, жившей на этой вилле.
При обыске на этой вилле я увидел прекрасные картины и статуи, мебель, выбранную со вкусом и чудной работы, оранжерею с редкими цветами, подобных которым нелегко найти во всем Лондоне. В результате расследований, произведенных в доме, были обнаружены бриллианты, не уступающие по своей редкости цветам; экипажи и лошади, которые (заслуженно) производили впечатление в парке среди людей, способных судить и о том, и о другом.
Все это было пока довольно обыкновенно. Загородная вилла и дама — предметы настолько обычные в лондонской жизни, что мне следовало бы просить извинения в том, что я упоминаю о них. Но не совсем обыкновенно, — насколько мне известно, — то обстоятельство, что все эти вещи не только заказывались, но и оплачивались. Следствие доказало, к моему неописуемому изумлению, что за картины, статуи, цветы, бриллианты, экипажи и лошадей не числилось долгу и шести пенсов. А вилла была куплена на имя дамы.
Я мог бы долго искать разгадку этой тайны, и искать напрасно, если бы смерть мистера Годфри Эбльуайта не заставила произвести следствие.
Следствие обнаружило следующие факты.
Мистеру Годфри Эбльуайту была поручена сумма в двадцать тысяч фунтов, как одному из опекунов некоего молодого джентльмена, который был еще несовершеннолетним в тысяча восемьсот сорок восьмом году. Опекунство кончалось, и молодой джентльмен должен был получить двадцать тысяч фунтов в день своего совершеннолетия, в феврале тысяча восемьсот пятидесятого года. А до этого дня шестьсот фунтов должны были выплачиваться ему его обеими попечителями по полугодиям — на рождество и на Иванов день. Этот доход регулярно выплачивался главным опекуном мистером Годфри Эбльуайтом.
Двадцать тысяч фунтов (с которых якобы получался этот доход), заключавшиеся в фондах, были все растрачены, до последнего фартинга, в разные периоды, еще до тысяча восемьсот сорок седьмого года. Полномочие поверенного, дававшее право банкирам продавать цепные бумаги, и различные письменные приказания, сообщавшие, на какую именно сумму продавать, были формально подписаны обоими попечителями. Но подпись второго попечителя, отставного армейского офицера, жившего в деревне, всегда подделывалась главным попечителем, — иначе сказать, мистером Годфри Эбльуайтом.
Вот чем объяснялось благородное поведение мистера Годфри относительно уплаты долгов, сделанных для дамы и для виллы, — и, как вы сейчас увидите, для многого другого.
Мы можем теперь перейти ко дню рождения мисс Вериндер в тысяча восемьсот сорок восьмом году — к двадцать первому июня.
Накануне мистер Годфри Эбльуайт приехал к отцу и попросил у пего, — как это я знаю от самого мистера Эбльуайта-старшего, — взаймы триста фунтов.
Заметьте сумму и помните в то же время, что полугодовая выплата молодому джентльмену производилась двадцать четвертого числа этого месяца, а также, что весь капитал молодого джентльмена был истрачен его попечителем еще в конце сорок седьмого года.
Мистер Эбльуайт-старший отказался дать сыну взаймы даже фартинг.
На следующий день мистер Годфри Эбльуайт поехал вместе с вами к леди Вериндер. Через несколько часов мистер Годфри, — как вы сами сказали мне, — сделал предложение мисс Вериндер. В этом, без сомнения, он видел, — если его предложение будет принято, — конец всем своим денежным затруднениям, настоящим и будущим. Но мисс Вериндер отказала ему.
Вечером в день рождения Рэчель финансовое положение мистера Годфри Эбльуайта было следующее: он должен был достать триста фунтов к двадцать четвертому числу и двадцать тысяч к февралю восемьсот пятидесятого года.
Если б он не успел достать этих сумм, он был бы погибшим человеком.
При подобных обстоятельствах что же случилось?
Вы раздражили мистера Канди, доктора, затронув его болезненную струнку — профессию врача, и он отплатил вам шуткою, дав вам дозу лауданума. Он поручил мистеру Годфри Эбльуайту дать вам эту дозу, приготовленную в маленькой склянке, — и мистер Годфри сам признался в этом при обстоятельствах, которые сейчас будут изложены вам. Мистер Годфри тем охотнее иступил в заговор, что он сам пострадал от вашего острого языка в этот вечер. Он присоединился к Беттереджу, который уговаривал вас выпить немного виски с водой, прежде чем вы ляжете спать. Он тайком палил лауданум в холодный грог. И вы выпили его.
Теперь перенесем сцену, с вашего позволения, в дом мистера Люкера в Лэмбет. И позвольте мне заметить, в виде предисловия, что мистер Брефф и я нашли способ принудить ростовщика высказаться. Мы старательно обдумали показание, которое он дал нам, и вот — оно к вашим услугам.
IV
Поздно вечером, в пятницу двадцать третьего июня сорок восьмого года, мистер Люкер был удивлен посещением мистера Годфри Эбльуайта. Он был более чем удивлен, когда мистер Годфри показал ему Лунный камень. Подобного алмаза, насколько было известно мистеру Люкеру, не было ни у одного частного лица в Европе.
Мистер Годфри Эбльуайт сделал два скромных предложения по поводу этой великолепной вещи. Во-первых, не купит ли ее мистер Люкер? Во-вторых, не согласится ли мистер Люкер, — если сам не сможет купить, — взять ее на комиссию и заплатить деньги вперед?
Мистер Люкер долго осматривал алмаз, взвешивал его и оценивал, прежде чем ответить. Его опенка, принимая во внимание пятно на камне, была тридцать тысяч фунтов.
Придя к этому выводу, мистер Люкер снова задал вопрос:
— Как вам досталось это?
Всего четыре слова, а сколько в них значения!
Мистер Годфри Эбльуайт начал какую-то историю. Мистер Люкер снова заговорил и на этот раз произнес только два слова:
— Не годится!
Мистер Годфри начал другую историю. Мистер Люкер не терял с ним более слов. Он встал и позвонил слуге, чтобы тот отворил джентльмену дверь.
Тогда мистер Годфри вынужден был сделать усилие над собой и представить дело в новом и более верном свете, — а именно:
— Влив лауданум в ваш грог, он пожелал вам спокойной ночи и пошел в свою комнату. Спальня его находилась подле вашей, и обе комнаты были смежные и сообщались дверью. Войдя к себе, мистер Годфри, как ему казалось, запер за собой эту дверь. Денежные затруднения долго не давали ему заснуть. Он сидел в халате и туфлях около часа, думая о своем положении. Когда же приготовился лечь в постель, он вдруг услышал, как вы разговариваете сами с собой у себя в комнате и, подойдя к двери, заметил, что не успел запереть ее, как полагал.
Он заглянул в вашу комнату, чтобы узнать, что такое с вами. Он увидел вас со свечой в руке выходящим из спальни; услышал, как вы сказали себе голосом, совершенно не похожим на ваш обычный голос:
— Почем я знаю? Может быть, индусы спрятались в доме.
До этого часа он просто думал, что, дав вам лауданум, участвует в невинной шутке над вами. Теперь ему вдруг пришло в голову, что лауданум произвел на вас действие, которого ни доктор, ни тем более он сам не предвидели. Опасаясь, как бы не случилось чего-нибудь, он тихонько пошел за вами — посмотреть, что вы будете делать.
Он следовал за вами до самой гостиной мисс Вериндер и видел, как вы вошли в нее; вы оставили дверь за собою открытою. Он поглядел в щель между косяком и дверью, прежде чем отважиться самому войти в комнату.
Таким образом, он не только видел, как вы вынули алмаз из шкапчика, но видел также мисс Вериндер, молча наблюдавшую за вами в открытую дверь. Он видел, что и она также заметила, что вы взяли алмаз.
Перед выходом вашим из гостиной вы несколько помедлили. Мистер Годфри воспользовался этой нерешительностью, чтобы вернуться в свою спальню, прежде чем вы выйдете в коридор и увидите его. Едва он успел вернуться, как и вы тоже вернулись. Должно быть, вы заметили его именно в то время, когда он проходил мимо смежной двери. Во всяком случае, вы позвали его странным сонным голосом.
Он подошел к вам. Вы посмотрели на него тупым и сонным взглядом. Вы сунули алмаз ему в руку. Вы сказали ему:
— Отвезите его назад, Годфри, в банк вашего отца. Там он в безопасности, а здесь нет.
Вы нетвердыми шагами отошли от него и надели халат. Вы опустились в большое кресло, стоявшее в вашей комнате. Вы сказали:
— Я не могу отвезти его в банк. Голова моя тяжела, как свинец, я не чувствую под собою ног.
Голова ваша упала на спинку кресла, вы испустили тяжелый вздох — и заснули.
Мистер Годфри Эбльуайт вернулся с алмазом в свою комнату. Он уверял, что в то время еще не пришел ни к какому решению, кроме того, что будет ждать и посмотрит, что случится утром.
Когда настало утро, ваши слова и поступки показали, что вы решительно ничего не помните из того, что говорили и делали ночью. В то же время слова и поведение мисс Вериндер показали, что она, со своей стороны, решила ничего не говорить (из сострадания к вам). Если бы мистеру Годфри Эбльуайту заблагорассудилось оставить у себя алмаз, он мог бы сделать это безнаказанно. Лунный камень спасал его от разорения. Он положил Лунный камень себе в карман.
V
Вот история, рассказанная вашим кузеном под давлением необходимости мистеру Люкеру.
Мистер Люкер поверил рассказу потому, что мистер Годфри Эбльуайт был слишком глуп для того, чтобы выдумать его. Мистер Брефф и я согласились с мистером Люкером относительно того, что на справедливость этого рассказа положиться можно вполне.
Следующий вопрос заключался в том, что делать мистеру Люкеру с Лунным камнем. Он предложил следующие условия, единственные, на которых соглашался вмешаться в это — даже с его профессиональной точки зрения — сомнительное и опасное дело.
Мистер Люкер готов был дать мистеру Годфри Эбльуайту взаймы две тысячи фунтов, с тем, чтобы Лунный камень дан был ему в залог. Если по истечении года мистер Годфри Эбльуайт уплатит три тысячи фунтов мистеру Люкеру, он получит обратно алмаз, как выкупленный залог. Если он не заплатит денег по истечении года, залог — иначе Лунный камень — перейдет в собственность мистера Люкера, который в этом последнем случае великодушно подарит мистеру Годфри все его векселя, выданные им прежде и находившиеся теперь в руках ростовщика.
Бесполезно говорить, что мистер Годфри с негодованием отверг эти чудовищные условия. Мистер Люкер вернул ему тогда алмаз и пожелал всего хорошего.
Кузен ваш направился к выходу и — вернулся обратно. Как мог он быть уверен, что разговор, происходивший между ними, останется в строгой тайне?
Мистера Люкера он не знал. Если бы мистер Годфри согласился на его условия, он сделался бы его сообщником и мог бы положиться на его молчание. Теперь же мистер Люкер будет руководствоваться только своими собственными выгодами. Если ему будут заданы нескромные вопросы, станет ли он компрометировать себя молчанием ради человека, отказавшегося иметь с ним дело?
Поняв это, мистер Годфри Эбльуайт сделал то, что делают все животные (и двуногие и прочие), когда они попадаются в ловушку. Он осмотрелся вокруг в отчаянии. Число этого дня на календаре, который стоял над камином ростовщика, бросилось ему в глаза. Было двадцать третье июня. Двадцать четвертого он должен был заплатить триста фунтов молодому джентльмену, опекуном которого он был, и никакой возможности достать эти деньги, кроме той, что мистер Люкер предлагал ему, не было. Не будь такого ничтожного препятствия, он мог бы отвезти алмаз в Амстердам и выгодно продать его, разбив на отдельные камни. Теперь же ему ничего не оставалось, как согласиться на условия мистера Люкера. Впереди у него все же был еще год, чтобы достать три тысячи фунтов, а год — время очень продолжительное.
Мистер Люкер тут же составил необходимые документы. Когда они были подписаны, он дал мистеру Годфри Эбльуайту два чека. Один от 23 июня — на триста фунтов, другой неделей позже — на остальные тысячу семьсот фунтов.
Каким образом Лунный камень отдан был на сохранение в банк, вы уже знаете.
Последующие события в жизни вашего кузена относятся опять к мисс Вериндер. Он сделал ей вторичное предложение и, после того как оно было принято, согласился, по ее просьбе, разорвать помолвку. Одну из причин, побудивших его к этому, угадал мистер Брефф. Мисс Вериндер имела право только на определенный процент с капитала матери, и, таким образом, он не мог достать необходимых ему к концу года двадцати тысяч фунтов.
Вы скажете, что он мог бы накопить три тысячи фунтов, чтобы выкупить алмаз, если б женился. Он мог бы это сделать, конечно, если б ни его жена, ни ее опекуны в попечители не противились тому, чтобы он взял вперед более половины дохода, неизвестно для чего, в первый же год женитьбы. Но даже если б он преодолел это препятствие, его ожидало другое. Дама в загородной вилле услышала бы о его женитьбе. Это была женщина гордая, мистер Блэк, из тех, с которыми шутить нельзя, — из породы женщин с нежным цветом лица и с римским носом. Она чувствовала чрезвычайное презрение к мистеру Годфри Эбльуайту. Это презрение было бы безмолвным, если бы он успел порядочно обеспечить ее. В противном случае у этого презрения нашелся бы язык.
Ограниченный процент мисс Вериндер так же мало давал ему надежды скопить это “обеспечение”, как и собрать двадцать тысяч фунтов. Он не мог жениться, — он никак не мог жениться при подобных обстоятельствах.
О том, что он искал счастья с другою девицей и что эта свадьба тоже расстроилась из-за денег, вам уже известно. Вам также известно, что он получил наследство в пять тысяч фунтов, оставленное ему вскоре одною из его многочисленных поклонниц, расположение которых этот очаровательный мужчина умел приобрести. Это наследство (как доказывали события) и было причиною его смерти.
Я узнал, что, получив свои пять тысяч фунтов, он поехал в Амстердам.
Там он сделал все необходимые распоряжения, чтобы разбить алмаз на отдельные камни. Он вернулся (переодетым) и выкупил Лунный камень в назначенный день. Переждали несколько дней (на эту предосторожность согласились обе стороны), прежде чем алмаз был взят из банка. Если б он благополучно попал с ним в Амстердам, времени у него было бы достаточно между июлем сорок девятого и февралем пятидесятого года (когда молодой джентльмен становился совершеннолетним), для того чтобы успеть разбить алмаз на куски и продать его повыгоднее отдельными камнями. Судите поэтому, какие причины имел он подвергаться риску. Или пан, или пропал, — это выражение как нельзя более подходило к нему.
Мне остается только напомнить вам, прежде чем кончу свое донесение, — что еще не потеряна возможность захватить индусов и найти Лунный камень.
Они теперь (имеются все основания предполагать) находятся на пути в Бомбей, на одном из пароходов, идущих в Восточную Индию. Пароход, если не случится аварии, не остановится ни в какой другой гавани, и бомбейские власти, уже предуведомленные письмом, посланным сухопутно, приготовятся вступить на пароход, как только он войдет в гавань.
Имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою.
Ричард Кафф (бывший агент сыскной полиции). Скотланд-Ярд, Лондон.
СЕДЬМОЙ РАССКАЗ, в форме письма от мистера Канди
Фризинголл, среда, сентябрь, 26, 1849. Любезный мистер Фрэнклин, вы догадаетесь о печальных известиях, которые я вам сообщу, увидев ваше письмо к Эзре Дженнингсу, возвращенное вам нераспечатанным в этом моем письме. Он скончался на моих руках, при восходе солнца, в прошлую среду.
Я не виноват, что не предуведомил вас о приближении его кончины. Он решительно запретил мне писать вам.
“Я обязан мистеру Фрэнклину Блэку, — сказал он, — несколькими счастливыми днями. Не расстраивайте его, мистер Канди, не расстраивайте его”.
Страдания его, вплоть до последних шести часов его жизни, страшно было видеть.
За день до смерти он попросил меня принести ему все его бумаги. Я принес их ему в постель. Там была связка чьих-то пожелтевших писем. Там была его незаконченная книга. Там было несколько тетрадей его дневника. Он открыл тетрадь, относившуюся к нынешнему году, и одну за другой вырвал из нее страницы, посвященные времени, когда вы были вместе. “Передайте это мистеру Фрэнклину Блэку, — сказал он, — может быть, со временем ему будет интересно заглянуть в них”. Все остальное, по его просьбе, я завернул в один пакет и запечатал моей собственной печатью. “Обещайте мне, — сказал он, — что вы положите это мне в гроб своею рукой, и чтоб ничья другая рука не коснулась этого”. Я обещал. И обещание свое я выполнил. Он попросил меня еще об одном: чтобы могила его была забыта. Я попытался с ним спорить, по он — в первый и в последний раз — пришел в страшное возбуждение. Я не мог вынести этого и уступил. Лишь зеленый дерн отмечает место его упокоения. Со временем могильные плиты окружат его со всех сторон. И народ, который будет жить после нас, удивится безыменной могиле.
Так он ушел от нас. Это был, я думаю, большой человек, хотя человечество никогда о нем не узнает. Он мужественно нес тяжелую долю. У него была нежнейшая душа, какую я когда-либо знал. Утратив его, я почувствовал себя очень одиноким. Возможно, что после моей болезни я уже не таков, каким был раньше. Подумываю уже отказаться от практики, уехать отсюда, испытать на себе действие заграничных ванн и вод.
Здесь говорят, что вы женитесь на мисс Вериндер в следующем месяце. Прошу вас принять мои искреннейшие поздравления.
Листки из дневника моего бедного друга ожидают вас в моем доме, запечатанные и с вашим именем на конверте. Я боюсь доверить их почте.
Примите мое искреннее уважение и добрые пожелания мисс Вериндер. Остаюсь, дорогой мистер Фрэнклин Блэк, искренно ваш
Томас Канди.
ВОСЬМОЙ РАССКАЗ, приложен Габриэлем Беттереджем
Я — то лицо (как вы, без сомнения, помните), которое открыло эти страницы, начав рассказывать историю. Я же буду и тем лицом, кто закроет их, досказав ее напоследок.
Не подумайте, что я собираюсь сообщить вам нечто об индийском алмазе. Я возненавидел этот злосчастный камень, и пусть уж кто-нибудь другой расскажет о нем все, что вы захотите узнать. Мое же намерение сообщить вам здесь о факте, о котором до сих пор никем не было упомянуто и к которому я не позволю вам отнестись неуважительно. Факт, на который я намекаю, — свадьба мисс Рэчель и мистера Фрэнклина Блэка. Это интересное событие имело место в нашем доме в Йоркшире, во вторник, октября девятого, тысяча восемьсот сорок девятого года. Я получил по этому случаю новую пару. А молодая парочка отправилась провести медовый месяц в Шотландию.
Поскольку со дня смерти моей бедной госпожи семейные торжества в нашем доме стали редкостью, я в день бракосочетания (должен признаться) хлебнул капельку лишнего.
Если вы когда-нибудь делали нечто подобное, вы меня поймете. Если не делали, вы, возможно, скажете: “Препротивный старик! С какой стати он говорит об этом?”
Итак, пропустив капельку (бог с вами! будто у вас самих нет слабости! только ваша слабость — не моя, а моя — не ваша), я прибег вслед за нею к неизменному лекарству, а мое лекарство, как вы знаете, “Робинзон Крузо”.
На каком месте открыл я эту не знающую себе соперниц книгу, в точности не скажу; но строки, под конец побежавшие перед моими глазами, я знаю в точности, — они на странице сто восемнадцатой, место, касающееся домашних дел Робинзона Крузо и его женитьбы. Вот они: “С такими мыслями я обозрел свое новое положение: я имел жену (Обратите внимание! Мистер Фрэнклин Блэк — тоже!) и новорожденного младенца. (Обратите опять внимание! Это может быть и в случае с мистером Фрэнклином!) — И тогда моя жена…” Что сделала или не сделала жена Робинзона Крузо “тогда”, я уже не чувствовал никакой охоты знать. Я подчеркнул место насчет младенца и заложил его закладкой:
“Побудь-ка ты тут, — обратился я к ней, — покуда брак мистера Фрэнклина и мисс Рэчель не станет чуть старше, а там посмотрим!”
Прошли месяцы (больше, чем я рассчитывал), а случая обратиться к закладке все не представлялось. Наступил ноябрь 1850, когда наконец мистер Фрэнклин вошел ко мне в комнату в повышенном расположении духа и сказал:
— Беттередж! У меня есть для вас новость! Что-то случится в этом доме, когда мы с вами станем на несколько месяцев старше.
— Касается ли это семейства, сэр? — спросил я.
— Это определенно касается семейства, — говорит мистер Фрэнклин.
— Имеет ли ваша добрая женушка какое-либо отношение к этому, будьте добры ответить, сэр?
— Она имеет очень большое отношение к этому, — говорит мистер Фрэнклин, начиная выказывать некоторые признаки изумления.
— Ни слова более, сэр. Да благословит вас обоих бог, счастлив слышать об этом! — отвечаю я.
Мистер Фрэнклин остановился, словно пораженный громом.
— Позвольте узнать, откуда эти сведения? — спросил он. — Я сам узнал об этом лишь пять минут назад.
Настала минута извлечь “Робинзона Крузо”! Это был случай прочесть ему семейный кусочек про младенца, отмеченный мною в день свадьбы мистера Фрэнклина! Я прочитал диковинные слова с выражением, соответствующим их значению, а потом сурово взглянул ему в лицо.
— Ну, сэр, верите вы теперь в “Робинзона Крузо”? — спросил я с торжественностью, подобающей случаю.
— Беттередж, — произнес мистер Фрэнклин столь же торжественно, — я уверовал наконец!
Мы пожали друг другу руки, и я почувствовал, что обратил его.
Сообщив об этом необыкновенном событии, я ухожу со страниц книги. Леди и джентльмены, кланяюсь и заканчиваю!
I ПОКАЗАНИЕ ПОДЧИНЕННОГО СЫЩИКА КАФФА (1849)
Двадцать седьмого июня я получил инструкции от сыщика Каффа следить за тремя людьми, подозреваемыми в убийстве, судя по описанию, индусами. Их видели на Тауэрской пристани в это утро, отправляющимися на пароход, идущий в Роттердам.
Я выехал из Лондона на пароходе, принадлежащем другой компании, который отправлялся утром в четверг, двадцать восьмого.
Прибыв в Роттердам, я успел отыскать капитана парохода, ушедшего в среду. Он сообщил мне, что индусы действительно были пассажирами на его корабле, но только до Грэйвзенда. Доехав до этого места, один из троих спросил, когда они прибудут в Кале. Узнав, что пароход идет в Роттердам, говоривший от имени всех трех выразил величайшее удивление и огорчение; оказывается, он и его друзья сделали ошибку. Они были готовы, говорил он, пожертвовать деньгами, заплаченными за проезд, если капитан парохода согласится высадить их на берег. Войдя в положение иностранцев и не имея причины удерживать их, капитан дал сигнал береговой лодке, и все трое покинули пароход.
Индусы заранее решились на этот поступок, чтобы запутать следы, и я, не теряя времени, вернулся в Англию. Я сошел с парохода в Грэйвзенде и узнал, что индусы уехали в Лондон. Оттуда я проследил, что они уехали в Плимут.
Розыски в Плимуте показали, что они отплыли сорок часов назад на индийском пароходе “Бьюли Кэстль”, направлявшемся прямо в Бомбей.
Получив это известие, сыщик Кафф дал знать бомбейским властям сухопутной почтой, чтобы полиция появилась на пароходе немедленно по прибытии его в гавань. После этого шага я уже более не имел отношения к этому делу. Я ничего не слышал об этом более с того времени.
II ПОКАЗАНИЕ КАПИТАНА
Сыщик Кафф просит меня изложить письменно некоторые обстоятельства, относящиеся к трем лицам (предполагаемым индусам), которые были пассажирами прошлым летом на пароходе “Бьюли Кэстль”, направлявшемся в Бомбей под моей командой.
Индусы присоединились к нам в Плимуте. Дорогою я не слышал никаких жалоб на их поведение. Они помещались в передней части корабля. Я мало имел случаев лично наблюдать их.
В конце путешествия мы имели несчастье выдержать штиль в течение трех суток у индийского берега. У меня нет корабельного журнала, и я не могу теперь припомнить широту и долготу. Вообще о нашем положении я могу только сказать следующее: течением нас прибило к суше, а когда опять поднялся ветер, мы достигли гавани через двадцать четыре часа.
Дисциплина на корабле, как известно всем мореплавателям, ослабевает во время продолжительного штиля. Так было и на моем корабле. Некоторые пассажиры просили спускать лодки и забавлялись греблей и купаньем, когда вечерняя прохлада позволяла им это делать. Лодки после этого следовало опять ставить на место. Однако их оставляли на воде возле корабля, — из-за жары и досады на погоду ни офицеры, ни матросы не чувствовали охоты исполнять свои обязанности, пока продолжался штиль.
На третью ночь вахтенный на палубе ничего необыкновенного по слышал и не видел. Когда настало утро, хватились самой маленькой лодки, — хватились и трех индусов.
Если эти люди украли лодку вскоре после сумерек, — в чем я не сомневаюсь, — мы были так близко к земле, что напрасно было посылать за ними в погоню, когда узнали об этом. Я не сомневаюсь, что они подплыли к берегу в эту тихую погоду (несмотря на усталость и неумение грести) еще до рассвета.
Доехав до нашей гавани, я узнал впервые, какая причина заставила моих трех пассажиров воспользоваться случаем убежать с корабля. Я дал такие же показания властям, какие дал здесь. Они сочли меня виновным в допущении ослабления дисциплины на корабле. Я выразил сожаление и им, и моим хозяевам. С того времени ничего не было слышно, сколько мне известно, о трех индусах. Мне не остается прибавить ничего более к тому, что здесь написано.
III ПОКАЗАНИЕ МИСТЕРА МЕРТУЭТА (1850) (в письме к мистеру Бреффу)
Помните ли вы, любезный сэр, полудикаря, с которым вы встретились на обеде в Лондоне осенью сорок восьмого года? Позвольте мне напомнить вам, что этого человека звали Мертуэт и что вы имели с ним продолжительный разговор после обеда. Разговор шел об индийском алмазе, называемом Лунным камнем, и о существовавшем тайном заговоре, с целью овладеть этой драгоценностью.
С тех пор я много странствовал по Центральной Азии. Оттуда я вернулся на место своих прежних приключений, в Северо-Западную Индию. Через две недели после этого я очутился в одном округе, или провинции, мало известной европейцам, называемой Каттивар.
Тут случилось со мною происшествие, которое, — каким бы невероятным это ни казалось, — имеет для вас личный интерес.
В диких областях Каттивара (а как дики они, вы поймете, когда я скажу вам, что здесь даже крестьяне пашут землю вооруженные с ног до головы) население фанатически предано старой индусской религии — древнему поклонению Браме и Вишну. Магометане, кое-где разбросанные по деревням внутри страны, боятся есть мясо каких бы то ни было животных. Магометанин, только подозреваемый в убийстве священного животного, — например, коровы, — всякий раз беспощадно умерщвляется в этих местах своими благочестивыми соседями — индусами.
В пределах Каттивара находятся два самых прославленных места паломничества индусских богомольцев, где разжигается религиозный фанатизм народа. Одно из них Дварка, место рождения бога Кришны. Другое — священный город Сомнаут, ограбленный и уничтоженный в одиннадцатом столетии магометанским завоевателем Махмудом Газни.
Очутившись во второй раз в этих романтических областях, я решился не покидать Каттивара, не заглянув еще раз в великолепную Сомнаутскую пустыню. Место, где я принял это решение, находилось, по моим расчетам, на расстоянии трех дней пешего пути от пустыни.
Не успел я пуститься в дорогу, как заприметил, что многие, собравшись по двое и по трое, путешествуют в одном направлении со мной.
Тем, кто заговаривал со мною, я выдавал себя за индуса-буддиста из отдаленной провинции, идущего на богомолье. Бесполезно говорить, что одежда моя соответствовала этому. Прибавьте, что я знаю язык так же хорошо, как свой родной, и что я довольно худощав и смугл и не так-то легко обнаружить мое европейское происхождение, — поэтому я быстро прослыл между этими людьми хотя и земляком их, но пришельцем из отдаленной части их родины.
На второй день число индусов, шедших в одном направлении со мною, достигло нескольких сот. На третий день шли уже тысячи. Все медленно направлялись к одному пункту — городу Сомнауту.
Ничтожная услуга, которую мне удалось оказать одному из моих товарищей-пилигримов на третий день пути, доставила мне знакомство с индусами высшей касты. От этих людей я узнал, что толпа стремится на большую религиозную церемонию, которая должна происходить на горе недалеко от Сомнаута. Церемония эта посвящалась богу Луны и должна была происходить ночью.
Толпа задержала нас, когда мы приблизились к месту празднества. Когда мы дошли до горы, луна уже высоко сияла на небе. Мои друзья-индусы пользовались какими-то особыми преимуществами, открывавшими им доступ к кумиру. Они милостиво позволили мне сопровождать их; дойдя до места, мы увидели, что кумир скрыт от наших глаз занавесом, протянутым между двумя великолепными деревьями. Внизу под этими деревьями выдавалась плоская скала в виде плато. Под этим плато и стал я вместе с моими друзьями-индусами.
Внизу под горою открывалось такое величавое зрелище, какого мне еще не приходилось видеть; человек дополнял собою красоту природы. Нижние склоны горы неприметно переходили в долину, где сливались три реки. С одной стороны грациозные извилины рек расстилались, то видимые, то скрытые деревьями, так далеко, как только мог видеть глаз. С другой стороны гладкий океан покоился в тишине ночи. Наполните эту прелестную сцену десятками тысяч людей в белых одеждах, расположившихся по склонам гор, в долине и по берегам извилистых рек. Осветите этих пилигримов буйным пламенем факелов, струящих свой свет на несметные толпы, вообразите на востоке полную луну, озаряющую своим кротким сиянием эту величественную картину, — и вы составите себе отдаленное понятие о зрелище, открывавшемся мне с вершины горы.
Грустная музыка каких-то струнных инструментов и флейт вернула мое внимание к закрытому занавесом кумиру.
Я повернулся и увидел на скалистом плато три человеческие фигуры. В одной из них я тотчас узнал человека, с которым говорил в Англии, когда индусы появились на террасе дома леди Вериндер. Другие два, бывшие его товарищами тогда, без сомнения, были его товарищами и здесь.
Один из индусов, возле которого я стоял, увидел, как я вздрогнул.
Шепотом он объяснил мне появление трех фигур на скале.
Это были брамины, говорил он, преступившие законы касты ради службы богу. Бог повелел, чтобы они очистились паломничеством. В эту ночь эти три человека должны были расстаться. В трех разных направлениях пойдут они пилигримами в священные места Индии. Никогда более не должны они видеть друг друга в лицо. Никогда более не должны они отдыхать от своих странствований, с самого дня разлуки и до дня смерти.
Пока он говорил мне это, грустная музыка прекратилась. Три человека распростерлись на скале перед занавесом, скрывавшим кумир. Они встали, они взглянули друг на друга, они обнялись. Потом они поодиночке спустились в толпу. Народ уступал им дорогу в мертвом молчании. Я видел, как толпа расступилась в трех разных направлениях в одну и ту же минуту. Медленно, медленно огромная масса одетых в белое людей опять сомкнулась. След вошедших в ряды их, приговоренных к скитанью, изгладился. Мы не видели их более.
Новая музыка, громкая и веселая, раздалась из-за скрытого кумира. По толпе пронесся трепет.
Занавес между деревьями был отдернут и кумир открыт.
Возвышаясь на троне, сидя на неизменной своей антилопе, с четырьмя распростертыми к четырем сторонам света руками, воспарил над вами мрачный и страшный в мистическом небесном свете бог Луны. А на лбу божества сиял желтый алмаз, который сверкнул на меня своим блеском в Англии с женского платья.
Да! По истечении восьми столетий Лунный камень снова сияет в стенах священного города, где началась его история. Как он вернулся на свою дикую родину, какими подвигами или преступлениями индусы опять овладели своей священной драгоценностью, известно скорее вам, чем мне. Вы лишились его в Англии и, — если я хоть сколько-нибудь знаю характер индусского народа, — вы лишились его навсегда.
Так годы проходят один за другим; одни и те же события обращаются в кругах Времени. Какими окажутся следующие приключения Лунного камня? Кто может сказать?
КОРОТКО ОБ УИЛКИ КОЛЛИНЗЕ
Вильям Уилки Коллинз родился 8 января 1824 года в Лондоне, в семье известного пейзажиста Вильяма Коллинза. Двенадцатилетним мальчиком он вместе с семьей на три года уехал в Италию. Книги его впоследствии отразят эти первые яркие итальянские впечатления. По возвращении в Англию и окончании средней школы, уступая воле отца, Коллинз, подобно множеству английских молодых людей, начинает заниматься “деланием денег” (to take many) на службе в крупной чайной фирме. Но торговля не привлекает его. Влюбленный в Италию по воспоминаниям детства, подогретым чтением Бульвера Литтона, он пишет первый свой рассказ и показывает его отцу. Художник, почувствовав талант в своем сыне, дает ему возможность завершить образование в Линкольн-Инне,[5] откуда Уилки Коллинз в 1851 году выходит со званием стряпчего.
Профессия юриста не одному только Уилки Коллинзу, но и множеству других английских писателей дала огромный материал для романов. В Линкольн-Инне Коллинз впервые столкнулся с особенностями английского законодательства, с курьезами его, с устаревшими формами майоратного права. При нем еще был в полной силе в действии так называемый “шотландский брак” со всеми его последствиями. Если венчанье происходило в Шотландии, то брак был недействителен в Англии; если влюбленные ехали в Шотландию, останавливались в одной гостинице и проводили ночь под одной крышей — они считались законными мужем и женой. Сколько тем для своего творчества почерпнул Коллинз из этих уродливых проявлений местного права! Тут и “двоеженство”, и насильственная связь с нелюбимым и нелюбящим человеком, и несчастная судьба детей, лишенных имени; каждую из этих коллизий Коллинз разработал в совершенстве и довел до крайней драматической остроты.
В год окончания Линкольн-Инна он встретился с Чарльзом Диккенсом, который был старше его на 12 лет.[6] Знакомство это крепнет и в 1853 году переходит в дружбу, которая становится все более и более тесной. Сначала Диккенс и Коллинз совершают совместную поездку в Булонь, Швейцарию и Италию. Потом, в 1855 и 1856 годах, оба они живут в Париже; в 1857 году, после короткой совместной поездки по северу Англии, они пишут вместе книгу “Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев”. Сохранились письма Диккенса к Коллинзу, необычайно теплые и сердечные, показывающие не только их взаимную привязанность, но и творческое содружество.
В дальнейшем их сердечная связь перешла и в родственную: младшая дочь Диккенса вышла замуж за брата Коллинза.
Встреча с Диккенсом определила жизненный путь Коллинза, как романиста. Правда, еще до нее, в 1848 году, он выпустил большой труд, — двухтомную биографию своего, только что скончавшегося, отца. За нею в 1849 году последовал исторический роман “Антонина или падение Рима”. Но только Диккенс помог ему найти себя в литературе и стать одним из своеобразнейших писателей Англии. Диккенс издает журналы, в которых Коллинз неизменно принимает участие. Ряд лучших романов Коллинза, в том числе “Женщина в белом”, появился в журнале “Круглый год” и в других журналах Диккенса. Многие вещи Коллинза были им написаны совместно с Диккенсом, начиная с пьесы “Маяк”, имевшей огромный успех; пролог к ней принадлежит перу Диккенса. Об этом говорит письмо Диккенса от 14 октября 1862 года. Узнав, что друг его плохо себя чувствует (Коллинз с самой юности был слабого здоровья и часто хворал), Диккенс с трогательной заботливостью предлагает приехать и помочь ему в работе.
Коллинз не раз принимал участие в театральных затеях Диккенса, ставил у него в доме пьесу для детей. В Париже он написал драму “Замерзшая глубина” (Frozen Deep), в постановке которой участвовал и Диккенс. Сохранилась длинная программа первого спектакля, где среди участников значится два мистера Чарльза Диккенса, отец и сын. По собственному признанию Диккенса, замысел “Повести о двух городах” зародился у него в то время, как он играл в этой пьесе. Таким образом характерная для Коллинза напряженная драматическая коллизия нашла свое отражение и в творчестве Диккенса.
Начиная с 1860 года, выходят из печати один за другим романы Уилки Коллинза. Они имеют успех не только среди широкой публики; у них появляются поклонники среди мастеров искусства, серьезные и постоянные читатели из среды ученых.
За “Женщиной в белом” (1860) — страшной историей о “незаконнорожденном” — последовали: “Без имени” (1862) — о последствиях “шотландского брака”, первый вариант этой темы; “Армэдель” (1866) — о влиянии “наследственности” и “роковой женщины” на судьбу человека; “Лунный камень” (1866); “Муж и жена” (1870) — второй вариант темы о “шотландском браке”; “Бедная мисс Финч” (1872) — об успешной операции при слепоте, считавшейся безнадежною; “Новая Магдалина” (1873) — история проступка и раскаяния “падшей женщины”, — очень сильный и смелый вызов английскому лицемерию; “Закон и жена” (1875) — повесть о женщине, выступившей на защиту несправедливо обвиненного мужа, и ряд других романов, качество которых с годами заметно снижается, а форма становится все схематичнее и безжизненней. После смерти Диккенса Уилки Коллинз все более и более обособляется от общества и замыкается в одиночестве. Умер Уилки Коллинз в Лондоне 23 сентября 1889 года.[7]
При всей популярности романов Коллинза очень мало было написано о нем самом. Кроме десятка-другого маленьких заметок в словарях, читатель находит лишь несколько страниц о его творчестве в книге Суинберна.[8] Уилки Коллинза можно назвать основоположником детективного романа в Англии.
Роман Коллинза “Лунный камень”, который мы предлагаем нашему читателю, интересен для нас не только своим захватывающим сюжетом, но и реалистическим изображением отрицательных сторон английского общественного быта, сочным юмором и острой сатирой на английское лицемерие и фарисейство, остроумной критикой ханжеской буржуазной “благотворительности”.
“Лунный камень” был знаком русскому дореволюционному читателю в двух переводах 80-х и 90-х годов. Эти старые переводы не точны, иногда содержат сознательные искажения и значительные пропуски. В основу нашего перевода взят последний из них, вышедший в качестве приложения к журналу “Северное сияние” в 90-х годах прошлого века. Он был мною сличен с английским изданием “Лунного камня” Таухнитца “Wilkie Collins “The Moonstone” in two volumes. Bernard Tauchnitz (1868)”, являющимся точною копией первого лондонского издания 1866 года. В результате пришлось его в корне переработать и восстановить около 80 пропущенных мест. Таким образом читателю предлагается уже новый перевод, с сознательно сохраненной мною от прежнего лишь некоторой старомодностью синтаксиса, соответствующей английской речи 60-х годов прошлого века.
Мариэтта Шагинян
1
Приписка Фрэнклина Блэка: “Мисс Клак может быть совершенно спокойна. В ее рукописи ничего не прибавлено, не убавлено и не изменено, так же, как и в других рукописях”.
(обратно)2
Присутственное место, куда отдают на хранение духовные завещания и где всякий, кто захочет, может за небольшую плату ознакомиться с любым из них.
(обратно)3
Примечание Фрэнклина Блэка. Бедняжка жестоко ошиблась. Я ее не видел. Собираясь погулять по аллее, я вдруг вспомнил, что тетушка, может быть, пожелает увидеть меня сразу после моего возвращения с железной дороги, и тут же повернул в дом.
(обратно)4
Крыжовник.
(обратно)5
Одна из четырех старинных лондонских корпораций юристов, дававших теоретическую и практическую подготовку своим членам для ведения судебных дел.
(обратно)6
Чарльз Диккенс родился в 1812 году и умер в 1870 году, на 19 лет раньше Уилки Коллинза.
(обратно)7
См. статью о Коллинзе в “Словаре национальных биографий”.
(обратно)8
Swinburne. Studies in Prose and Poety.
(обратно)

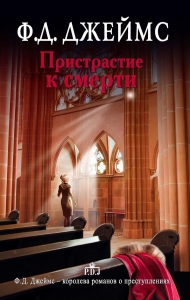


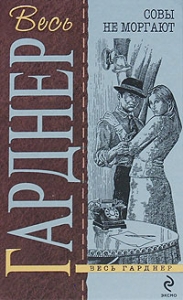

Комментарии к книге «Лунный камень», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев