Андрей Кокотюха Адвокат с Лычаковской
Отдельная благодарность Городской администрации Львова и лично Андрею Садовому — за всестороннюю поддержку и гостеприимство.
1908 год, Львов, улица Лычаковская
Как начало смеркаться, он не выдержал — попросил гостя уйти.
Точнее, не совсем гостя. Ведь русый, давно не стриженный молодой человек с быстрыми глазами, который запросто расположился в соседней комнате, пришел не с деловым или частным визитом. Он не знал курносого лично. Раньше они не встречались. Да и не имел хозяин ничего конкретно против этой персоны: на месте этого россиянина мог сидеть другой. Брюнет, блондин, рыжий, даже лысый.
Его не раздражало, что курносый курит дешевую махорку, а не приличные фабричные сигареты, сделанные в Винниках[1]. Табачная промышленность в провинции за последнее время пошла далеко вперед, газеты писали: вскоре планируется изготовление собственных сигар. Не уступят кубинским, а будут стоить дешевле. Правда, городская аристократия все равно поначалу будет платить за оригинал охотнее, чем продукт того же качества, но сделанный собственными силами…
Бог с ними, с сигаретами: такие, как парень в соседней комнате, далеки от соревнований в напыщенности. И совершенно равнодушны к тому, что и какого качества предлагает любая промышленность. Научившись курить махорку, будут смолить ее дальше, до конца жизни. Пусть хоть мир станет дыбом.
Между прочим, к тому идет.
С началом нового, двадцатого века все вокруг словно вдруг сдурело, рвануло вперед, будто стремясь любой ценой победить в необъявленных гонке. И выиграть какой-то огромный, словами не описать, главный приз. Но молодые люди с мировоззрением этого курносого поклонника крепкой вонючей махры счастливы — не чувствуют стремительных изменений вокруг. И точно не понимают, в какое время живут, в каких процессах невольно участвуют. И вообще, во что влипают.
Для таких идти по улице с револьвером в кармане — уже приключение. Которое они готовы переживать снова и снова, со дня на день. А если придется пустить заряженное оружие в дело, можно смело сказать: жизнь удалась, больше ничего не надо, погибать — так погибать.
Главное: смерть будет в бою.
Желательно — на глазах у зрителей, при большом скоплении народа.
Молодого курносого россиянина приставили к нему охранником на время, пока то, что надо передать, будет храниться в его квартире на Нижнем Лычакове[2]. Чемодан принесли утром, их было двое. Русый сопровождал главного курьера. Разумеется, тот был среди них двух старшим, и не только по возрасту. Выглядел неким колобком, все у него круглое: голова, брюшко, еще и ходил перевальцем, словно катился.
Однако сразу было видно: патлатый слушается кругленького. Совсем не возражал, слова кривого против не сказал. Не спросил ничего, когда главный велел оставаться у пана адвоката до утра, пока за саквояжем не придут. Молча кивнул, дальше показывая себя не слишком разговорчивым. Расположился в комнате, служившей спальней. Примостился в кресле. Ноги в стоптанных грязных ботинках забросил на хозяйский стул. Натянул на глаза суконный мещанский картуз и так замер, скрестив руки на груди.
Поведение охранника делало его похожим на удава. Живого змея, конечно, он не встречал. Однако читал в различных популярных журналах о путешествиях, где авторы описывали свои впечатления от увиденного в диких частях света. Удав, писалось, по большей части или спит, или охотится. Поймав добычу, пожирает ее медленно, потом так же без спешки переваривает. Все это время лежит тихо, может показаться — огромный гад спит, а значит, не следует бояться. Однако грубая змея в таком состоянии даже страшнее. Ибо горе тому, кто умышленно или случайно потревожит удавов покой. Говорят, на людей не нападает без нужды. Но подобные случаи опасны тем, что змей защищается, на уровне инстинкта чувствуя для себя угрозу. Пусть это не так, пойди объясни плоскоголовому…
Своим обманчивым спокойствием охранник в спальне напоминал ему почему-то именно ту огромную гадину. Будто спит постоянно. Ладно, пусть дремлет. Но стоит хозяину встать из-за письменного стола, пройтись по комнате или просто подвинуть стул, усаживаясь удобнее, курносый был уже тут как тут. Призраком вырастал в проеме дверей с револьвером, зажатым в сильной, привычной к оружию руке. Хозяин даже позволил себе предположить: ложку или вилку этот тип держал не так часто и привычно, как рукоятку кольта. В таких случаях успокаивал неожиданного жильца жестом. Тот кивал, совал «железку» обратно в карман широких штанов, возвращался на пост и закуривал. Провоняв очередной раз квартиру дешевой махоркой, охранник снова замирал. Будто для него выкуренная сигарета была тем же, чем для удава — очередной съеденный кролик.
Так продолжалось весь день.
Пришлось написать и вывесить на дверях уведомление — очень извиняюсь, шановне панство, сейчас приема не будет, заболел, просьба приходить через два дня. Сначала отметил завтрашнюю дату, 6 июля, и затем добавил еще сутки. Саквояж ждут давно, он и сам не собирался долго хранить посылку у себя. Но учитывал один важный нюанс: именно завтра, по стечению обстоятельств, тот, для кого чемодан передали, вызван к следователю, в полицейский департамент Центрального района. Сколько промаринуют там — один Бог ведает. Вполне вероятен вариант, что просто в кабинете арестуют. Небольшой процент, от одного до двух, однако существовал.
Так или иначе, завтра контактировать с адресатом рискованно. Лучше оставить за собой лишний день, убедиться, что все идет по плану, и уже тогда лично принести посылку. Причем встречаться с адресатом следует на нейтральной территории. Принимать у себя человека, за которым наверняка ходят полицейские шпионы в штатском, он не хотел. Зато во Львове достаточно публичных мест, где встреча кого-нибудь с кем-нибудь могла произойти случайно.
Охранник перечеркнул все расчеты.
Явной угрозы не ощущалось. Пан адвокат оказался именно тем человеком, который прямо не связан с группой, которой предназначалось содержание черного кожаного сака. Отследить контакт можно в том случае, когда знаешь, где и кого искать. Пока же он считался лицом нейтральным, чем гордился. Хотя когда предложили стать одним из звеньев цепи между Санкт-Петербургом и Львовом, не отказался.
Обещанный процент за несложные услуги мог немного улучшить состояние дел.
Ибо в последнее время пошла черная полоса.
Именно поэтому вооруженный охранник над душой выбил из колеи.
Адвокату не нравилось, когда незваные незнакомцы нарушают личное пространство и нельзя этому помочь. Его сначала раздражала, потом даже начала пугать эта привычка русого стремительно и бесшумно реагировать на каждое резкое движение, громкий выдох, неукротимое чихание. Представив, что придется с этим еще и спать, адвокат вздрогнул. Нет, повторил себе мысленно, против курносого он лично ничего не имеет. Готов смириться с досадной вонью махорки, время от времени демонстрируемым револьвером. Напрягала и вызвала сопротивление, и чем дальше, тем больше, сама ситуация, в которую его поставили против собственной воли.
Небольшие апартаменты в Нижнем Лычакове он занимал уже третий год. Тут чувствовал себя уютно и комфортно, считал пусть не своим настоящим домом, но — собственной крепостью. И вдруг дом превратился в тюремную камеру. Так он это воспринимал: надзиратель в спальне, зал — большая одноместная камера, каждый шаг под контролем, всякое действие следует согласовывать с вооруженным человеком.
Под вечер негативные чувства обострились настолько, что он решительно приоткрыл дверь в спальню. Незваный гость услышал движение и уже стоял на ногах, выставив перед собой вооруженную руку. Хозяин категоричным тоном попросил охранника покинуть помещение.
Не велел.
Просто сказал: по его мнению, так будет лучше.
Никакой опасности он не чувствует. В случае чего способен о себе позаботиться. Присутствие часового лишнее. Это свидетельствует о недоверии. А его это в значительной степени оскорбляет. Господа из Санкт-Петербурга должны понять.
Курносый не спорил. Пожал плечами, спрятал револьвер, поправил кепку и попросил пана адвоката собственноручно написать записку, адресованную человеку, который оставил охранника тут, у посылки.
Содержание следующее. Такой-то, фамилия и имя, берет всю дальнейшую ответственность на себя. Понимает возможные последствия своего решения. Необходимую охрану груза в лице такого-то до передачи адресату в лице такого-то российская сторона должным образом обеспечила. Все, дальше курносый с удовольствием и облегчением умоет руки.
Он охотно согласился — только расписка, ничего больше. Сел за стол, взял лист бумаги, даже неизвестно для чего освежил содержимое похожей на боченок чернильницы. Начал писать каллиграфическим почерком, который давно прославил его в профессиональной среде. Но русый, котором сначала не было дела, подошел, глянул через плечо, чем прогневил — адвокат терпеть не мог подобного поведения. Но возмутиться не успел: замечание охранник сделал дельное.
Адвокат по привычке начал писать на польском языке и пришел в себя, уже полностью закончив записку. Русый прав, придется переписывать. Те, для кого записка предназначалась, лица из Санкт-Петербурга, польского не знали совсем. Лучше писать на русском. Пришлось немножко напрячься, наморщить лоб, чтобы вспомнить этот язык. Будто не совсем чужую, но за время проживания во Львове достаточно забытую. Употреблять ее в повседневности не было никакой необходимости: город свободно говорил на немецком, польском, украинском, понимали идиш. Русский звучал, однако ходил в довольно ограниченных кругах.
Скомкав испорченный лист, адвокат вытащил из ящика небольшую стопку чистой бумаги. Писал, медленно вспоминая грамматику. Несколько раз употреблял неправильные слова, зачеркивал, начинал сначала. Мог бы отдать расписку в том виде, в котором получалось. Но образование, воспитание и в целом — мировоззрение не позволяли пусть и такой простой документ, который ни к чему его не обязывал, оставлять неопрятным и с ошибками. Сам себя не уважал бы после этого.
Поэтому выбрасывал испорченный лист под стол, в корзину для мусора.
И брал новый.
Охранник терпеливо ждал. Когда пан адвокат наконец справился с третьей попытки, молча взял лист, свернул вчетверо, спрятал во внутренний карман пиджака. Кивнул, повернулся и пошел себе прочь, так и не обменявшись с хозяином ни словом. Видно, сам не очень-то и хотел сидеть тут без действия. Вдруг получил лишний повод оставить пост. Как русый объяснит все своему кругленькому старшему товарищу, хозяина менее всего беспокоило. Пошел — и слава Богу.
Днем припекало, хоть летом жара тут ощущалась не так, как в Киеве. Впрочем, не погода определила выбор. Эмигрировал он, конечно, по политическим мотивам. Но российское подданство на австрийское поменял не потому, что слишком идейный.
Так проще выполнять поставленные в Петербурге задачи.
Ничего особенного не требовалось. Просто надо делать все зависящее от него для законной защиты интересов одного здешнего, близкого пану адвокату сообщества.
Его сообщество, в главном городе великой австрийской провинции, Королевстве Галиции и Лодомерии[3], несправедливо вынуждают противостоять обществу. Австрийская власть могла бы больше уважать мнение тех, кто еще недавно имел значительно больший вес в обществе. И, куда же правду деть, повлиял на развитие пусть не целой провинции, но города Львова — это наверняка.
Закрывать глаза и по-страусиному прятать голову в песок уже не получится. Глыба, сдвинутая с места далеко за восточной границей, упала так, что гром доносится даже сюда, в тихую и до недавнего времени спокойную, благополучную Галичину.
Он искренне считал: мир изменяют потрясения.
Мир же, в котором жил он сам и который не ограничивался квартирой на улице Лычаковской, рядом с самым центром Львова, трясет уже несколько лет. Он считал эти процессы мучительными, досадными, однако необходимыми. Значит, был готов посодействовать им пусть таким простым способом: получить сак из одних рук и передать в другие.
Запершись изнутри, адвокат удовлетворенно хмыкнул, для чего потряс дверь за ручку, словно проверяя на прочность. Широко приоткрыл окно в спальне, так же — в зале, устроив сквозняк.
Дневная июльская жара уже спадала, собирался дождик. Выставил руку из окна, заодно выглянув вниз и взглянув с высоты своего второго этажа на двор, куда выходили окна. Никого и ничего, тут вообще обычно было тихо. Разве днем играет нищий на шарманке. И какие-то батяры[4] с Верхнего Лычакова могли забрести в ворота, чтобы провернуть очередную хитрую сделку подальше от людских глаз.
Постоял так, вдыхая прохладный, немножко сыроватый воздух. Целый день просидел в четырех стенах, а это не шутки. Мелькнула мысль — выйти на променад, зайти в какое-то кафе в центре города. Для кофе поздно, поэтому можно выпить пива или чего-то покрепче. Встретит несколько знакомых в «Венской»[5], без чего подобная прогулка не обойдется в любом случае. И сразу выбросил эту идею из головы. Пока сак тут, не стоит оставлять дом. Все же недаром взял на себя ответственность. Избавится от ее — вот тогда погуляет. Ведь будет на что.
Мокрым капнуло на раскрытую ладонь.
Гляньте, действительно будто дождик собирается. Маленький, сыпнет и вскоре перестанет. Помахал рукой, будто так можно было ускорить природу. Упало еще несколько капель, а полноценный дождь так и не пошел. Постояв у окна еще немного, упершись о широкий подоконник, он поймал себя на мысли: давно так не стоял, не смотрел на серые стены домов напротив — больше из его окон никаких пейзажей не открывалось. Удивился, почему сейчас закат солнца делал обычный облупленный задний фасад дома загадочнее, чем всегда.
Ох и мысли же придут…
Хмыкнув снова, он отошел от окна, оставив его приоткрытым. За прошедший день не успел толком сделать ничего. Не навел порядок в бумагах, хотя запланировал это для себя. Приступать к серьезной работе под вечер, чтобы просидеть за писаниной до глубокой ночи, не хотелось.
В шкафчике прижился графин с наливкой, сладко-крепкой, из вишен, на чистом спирте. Когда вынимал, вспомнил вдруг махорку русого россиянина.
Ну… кое-что общее, оказывается, у них есть.
Молодой человек не курит фабричных сигарет, а самому ему не по вкусу алкогольные изделия от панов Бачевских[6], пусть они даже в разноцветных бутылках. Люди пьют и нахваливают, он же больше склоняется к таким вот домашним продуктам.
Махра воняет. Вишняк приятно пахнет.
Но, курва мама, адвокат, как и его незваный гость, хотели больше независимости от массового, фабричного, промышленного… буржуазного. Оба ценили особый подход, следовательно — собственную индивидуальность.
Наливку специально покупал у одной женщины в предместье. Вокруг Львова постепенно, уверенно и прочно обживались сельские украинцы. Поэтому рецептура своя, от земли. Хотелось верить — с деда-прадеда, пусть он не отождествлял себя с теми мужицкими традициями. Бог с ними, вишневка так или иначе вкусная. Пилась мягко, растекалась внутри приятно, забирала не сразу, постепенно, будто накрывала невесомым одеялом. В детстве так делала матушка, допев колыбельную, подоткнув на прощание края. С детства не боялся оставаться один в темных комнатах, почему-то чувствовал себя там более защищенным, чем при свете.
Поэтому не включал электричество. Пока солнце не зашло окончательно, взял наливку, налил немного в серебряный бокальчик, не доверху. Примостился за столом, глотнул, посмаковал.
Так просидел какое-то время. Потом поднялся, взял печенье из того же шкафа, прихватил свечу. Засветив, посидел немного, глядя на огонь и думая о своем: а было о чем. Снова угостил себя вишневкой, на этот раз налив бокальчик полнее. Сбросил тапочки, аккуратно повесил полосатый пиджак на спинку стула. Оставшись в одной жилетке, переместился на широкое кресло — туда можно было забраться с ногами. Пристроившись, сомкнул веки.
Теперь он оказался в полной тишине, если не считать тиканья часов из спальни. А он не считал. Также не раздражали звуки шарманки, чуть не ежедневно, но — через день, когда в ворота заворачивал здешний нищий, чтобы жители в очередной раз откупились мелочью. Трамвайный грохот-треньканье с улицы покоя не нарушал — еще одно преимущество того, что окна выходят во двор. Слышал не раз, как пани и панове из соседних квартир и домов сетовали на тех, кому пришло в голову прокладывать по Лычаковской трамвайную колею. Звенит, гудит, дребезжит, трясет. Жили себе спокойно и уютно, а сейчас как возле железной дороги. Хоть рельсовый муниципальный транспорт ходил по Львову уже достаточно давно[7], не все еще к нему привыкли.
Вот лишний пример, почему надо менять устойчивый, вплоть до затхлости, порядок.
Пустить по галицким — да и в целом австрийским имперским — жилам свежую кровь. Конечно, не в прямом смысле, это выражение такое.
Кровь.
Он розклепил веки. Не мог объяснить себе толком, почему именно сейчас охватили подобные настроения. Всегда помнил себя энергичным, деловым, действенным, а тут расслабился, чрезмерно расслабился. Вроде ничего особенного. Пришел в дом человек с револьвером, побыл немного — а отпустить не может.
Что-то намечается.
Что-то надвигается.
Не сейчас и не завтра.
Большое. Неудержимое. Разрушительное.
Адвокат Евгений Павлович Сойка, тридцати пяти лет, рожденный в Харьковской губернии, уже пятый год — подданный Австро-Венгерской империи, имеет вид на жительство и практику во Львове, снова налил себе вишневки.
Выпил, откусил печенья.
Уселся поудобнее в кресле.
Пробежался взглядом по комнате, освещенной лишь одиноким свечным огоньком.
Остановил его на люстре. Дешевая, хозяйская, на одну лампу. Круглая, сделанная наподобие традиционного китайского фонаря. Только абажур не красный, бледно-розовый, не раздражает глаза. Прицеплена к крепкому крюку под потолком.
Встать, включить свет…
Легонько звякнуло стекло. Видимо, дождик превратился в дождь, все-таки припустил сильнее.
Опять звякнуло. Скрипнула ставень в спальне.
Бом-м-м.
Из спальни. Ходики отбили десять вечера.
Уже совсем смеркалось. Потянуло в сон, хотя обычно в такую пору активную жизнь адвоката Сойки только начиналось. Деловые круги Львова собирались на вечеринки, полезных знакомств там всегда было достаточно. Всякий, кто старался держать руку на пульсе текущих городских дел, просто должен был посещать их. Именно сегодня планировалась премьера в Опере, она уже началась, скоро финал, поэтому…
Ничего.
Считайте, что у адвоката Сойки выходной.
Заслужил. Иммет право.
Опять легонько звякнуло стекло в спальне. Какие-то как движения. Ходит кто-то.
Кому там ходить — второй этаж.
Сквозняк гуляет.
Проветрилось уже. Надо встать и закрыть окно. Потом посидеть еще немного и укладываться спать.
Тикали часы.
И движения в спальне.
Не от сквозняка.
Глава первая Эмигрант из вагона второго класса
Июльским утром на перрон Львовского вокзала вышел молодой человек в пиджачной паре, синей, в бледно-серую полоску.
Брюки замялись в дороге, сведя на нет все старания их хозяина нагладить стрелки, как того требовала городская мода. Крой при этом казался не слишком актуальным. Да и вообще выглядело, будто владелец не заказал костюм у портного специально, как водится, а купил готовый, потому что так дешевле. После этого мастер подогнал и подшил одежду уже по фигуре, взял деньги, еще и сделав скидку. И оба остались довольны. Парень — потому что нарядился недорого и одновременно довольно прилично. А портной — потому что наконец избавился от лежалого товара, за который не заплатил предыдущий заказчик. Не понравилось, полоски не такие, а на самом деле проигрался в карты и сидит в дешевых номерах где-то на Ямской[8], ожидая, пока жалостливые родители откликнутся и пришлют деньжат. Тут, конечно, не до костюмов, поесть бы чего…
Так оно и было.
Конечно, парень, торгуясь с подольским портным, понятия не имел о его истории. Сам переживал не лучшее финансовое положение, но если бы только это горе. Одежда, в которой вышел на волю, была окровавленной и грязной. Другие нехитрые пожитки хозяин апартаментов, которые снимал молодой человек в Киеве на Подоле, не слишком церемонясь, забрал за долги. Добавив при этом ядовито: себе в убыток, но лучше уж так, чем ничего. Деньги у отца брать не хотелось. Одолжить удалось у знакомого, одного из тех немногих, кто еще не боялся с ним не только общаться — здороваться. Пообещал выслать, как только устроится на новом месте. Хватило на костюм, рубашку, галстук, круглую соломенную шляпу-канотье и билет в один конец на поезд из Киева до Львова.
Звали человека Климентием Назаровичем Кошевым. Когда представлялся, называл себя Климом, других просил именовать себя так же запросто. Не любил, как сам говорил, всяких там цирлих-манирлих, хотя профессия обязывала держать марку, расшаркиваться в присутственных местах[9].
Он был адвокатом.
Ему недавно исполнилось тридцать лет.
И его могла уже разыскивать полиция по меньшей мере всей Киевской губернии.
Хотя препятствий для выезда за границу не возникло, неизвестно, что, когда и кому придет в голову. Объявить кого-то государственным преступником и отдать приказ принять меры для розыска и ареста — раз плюнуть. Правда, в масштабах полиции и жандармерии всей необъятной Российской империи персона Кошевого выглядела слишком мелкой, чтобы разыскивать его по всей стране. По крайней мере, самому Климу хотелось, чтобы так было.
Путешествовал киевский адвокат вторым классом, заплатив за билет в желтый вагон[10] двенадцать рублей пятьдесят копеек. В его положении это были бешеные деньги. Даже хотел сэкономить, поехать третьим, за восемь шестьдесят. В последний момент передумал. И пока колебался, места разобрали — сразу несколько выкупила ортодоксальная еврейская семья. Клим опасался шума, от которого наутро голова будет гудеть. Но получилось наоборот. Дети, двое пейсатых мальчиков с разницей примерно в пару лет, и девочка помладше, сидели тихо, а когда поезд оставил позади Фастов, мама начала укладывать их спать. Мужчины, старший и младший, судя по всему — тесть и зять, разговаривали в коридоре тихо.
Из любопытства нашорошив уши, Кошевой разочарованно вздохнул: разговаривали на идиш, которого он не понимал. А хотелось знать, с какой целью путешествует эта семья. Вполне возможно, старший решал в Киеве разные хозяйственные вопросы. Впрочем, это предположение Клим сразу отверг — в таком случае мужчины не обременяли бы себя женщиной с тремя детьми. Скорее всего, семья перебиралась на Запад, потому что дела в Киеве становились для них все хуже. Большого багажа пассажиры при себе не имели, что косвенно подтвердило именно такую версию: недвижимое имущество распродали, остальной скарб отправили вслед за собой отдельным грузом.
Время от времени евреи бросали в его сторону подозрительные взгляды. Вряд ли чувствовали со стороны своего соседи опасность. Наверное, им было в его присутствии не слишком уютно.
Поэтому Кошевой решил оставить их хотя бы на немного, поднялся и прогулялся до вагона-ресторана.
Там тоже не нашел покоя.
Во-первых, не было желания и возможности тратиться на ужин. Сидеть же просто так не собирался, да и не принято. Во-вторых, его нерешительность неправильно оценила компания ровесников, когда пригласила к своей компании.
Похоже, они засели тут давно. От поднятого ими шума качался весь вагон — так, по крайней мере, Климу показалось. Кроме них, в углу за столиком пристроился интеллигентного вида господин с бородкой, в пенсне и тужурке инженера. Примостивши рядом на столе фуражку и положив на скатерть локти, он жарким шепотом убеждал в чем-то даму моложе себя вдвое. Хоть и была одета, как киевская мещанка, выглядела особою иного, высшего статуса. С инженером не говорила, больше слушала, иногда бросала в ответ несколько фраз, чем собеседника совсем не успокаивала и не радовала. Заводился все больше и, поглядывая на компанию, понижал голос, сильнее втягивая голову в плечи.
Кроме них, в ресторане сидел еще один посетитель. Толстенький лысоватый дядечка, чем-то похож на университетского доцента, хлебал чай, грыз бублики и читал газеты. Одну, уже прочитанную, или на очереди, подложил под левый локоть, прижав к поверхности столика. Кошевой скользнул взглядом, увидел часть названия, понял — «Русское слово»[11]. Другую, в которую «доцент» углубился, Клим также узнал — «Киевские губернские ведомости»[12]. Шумная троица явно мешала, потому что дядечка время от времени зыркал поверх газетного листа, супил густые брови, потом молча делал глоток чая, откусывал бублик и снова погружался в чтение. Местный официант наверняка изучил поведение «доцента» — только тот допивал стакан, как ему уже подносили следующий, забирая спустошенный.
Сперва Клим не собирался задерживаться тут. Но один из группы позвал к себе. Решил — ему просто не находилось места. Поэтому широким жестом пригласили присоединиться, поставили рюмку и громко, хором, заказали еще графин водки. Кошевой выпил и закусил поджаренной ветчиной, хоть перед отъездом подпитался дома. Но решил отныне и дальше не отказываться: поезд вез в неизвестность, когда следующий раз удастся перекусить-неизвестно.
Новые товарищи знакомились, называли себя, но Клим не задержал в памяти ни одного имени. Знал — с молодыми купчиками ему точно не по дороге. Не из-за пренебрежения, наоборот — среди его клиентов преимущественно были помещики и промышленники среднего звена. Буквально, цель их путешествия была разной. Кошевой — вынужденный эмигрант, по сути — сбежавший из родного города, чего, конечно же, не сказал, ограничившись общим «по деловым вопросам». Товарищество — на воды. Сначала в Трускавец, потому что наслушались про новый европейский курорт[13], и там уже ждут отправленные заранее их пассии. Далее — в Баден-Баден, для сравнения. Один из компании оказался сыном какого-то «спиртового короля» из-под Полтавы, киевские друзья вытащили его с собой и время от времени называли галушкой. Может, тот и обижался, но старательно делал вид, что ему нравится.
Когда троица стала допытываться, по каким таким делам новый товарищ едет во Львов и не готов ли он плюнуть на все и поехать с ними, чтобы увидеть немного мира и познакомиться, если повезет, с хорошей девицей, Клим понял — пора. Извинился, выпил на посошок, сослался на головную боль и быстренько убрался прочь. Не волновало, что о нем подумают купчики и думают ли вообще.
Кроме него, вагон-ресторан не покинул никто из тех, кто сидел там раньше.
Рано утром, когда поезд остановился в Волочиске и пассажиры на границе начали показывать паспорта для проверки, Кошевой что было сил старался держаться спокойно и уверенно. Даже заставил себя улыбнуться пограничному офицеру. Тот взглянул на него, пожал плечами, взял паспорт, полистал и вернул. Вдруг, заметив что-то краем глаза, резко повернулся к окну, не выпуская документа из рук. Взглянув туда же, Клим увидел: старший офицер-пограничник и двое жандармских унтеров в форме зажали на перроне в клещи вчерашнего инженера. Тот был без фуражки, растрепанный, размахивал руками и что-то рьяно доказывал им.
Тут в поле зрения появился, будто ожившая журнальная картинка, жандармский офицер, за ним семенил кругленький «доцент», с тростью и в круглой шляпе. Он нес фанерный чемоданчик, обтянутый штучной кожей, и бросил ношу просто под ноги инженеру. От удара замок раскрылся, изнутри высыпались какие-то стянутые шпагатом книжечки, но разглядеть Клим не успел — группа на перроне дружно сдвинулась, заслонив подозрительный багаж. Кругленький показал рукой влево, офицер подал знак. Один из унтеров заспешил в том направлении, «доцент» покатился за ним. Жандарм же начал что-то выговаривать инженеру.
Увидев, что Кошевого события заинтересовали, офицер пожал плечами, буркнув:
— Пропагандисты. На этой неделе уже третьих снимаем.
Клим решил не вступать в опасные разговоры. А офицер — не вести их дальше. Больше не сказал ничего, кроме традиционного в подобных случаях пожелания счастливой дороги. Да и то выжал из себя: подданные Его Императорского Величества, государевы слуги, никогда не отличались чрезмерной вежливостью и дружелюбием.
Клим, который ранее никогда не пересекал западной границы, пришел к выводу: им тут дано специальное указание сохранять кислые лица. Ограниченный словарный запас, вероятно, определен высочайшим велением. Их перечень может быть написан в каком-то официальной бумаге. Его закрепили гербовой печатью. Вот они и здороваются, говорят «пожалуйста», благодарят и чего-то там желают, потому что есть на то соответствующее распоряжение. Когда поезд наконец тронулся и переехал через Збруч, Кошевой настолько увлекся своей версией, что сам поверил — все так и есть.
Дождался, когда мимо окна его вагона пронесется другой, австрийский, берег реки, тогда не выдержал — оглянулся, почувствовав странную потребность послать в сторону страны, из которой выбрался, последний взгляд. Невольно всплыло лермонтовское полузапрещенное, поэтому и известное в определенных кругах — прощай, немытая Россия[14]. Но Клим сразу отбросил эти строки от себя, даже раздраженно тряхнув головой. Он не знал, действительно ли прощается. Ехал на время, пересидеть бурю, и скоро ли утихнет — понятия никакого не имел.
И еще одно — прощался не с Россией.
Родную Киевскую губернию не считал той страной, из которой более полувека назад отправился в ссылку русский поэт.
Знал: там, куда ведут железнодорожные рельсы, нынешнюю российскую провинцию называют Великой Украиной.
Таможенники с австрийской стороны оказались не то чтобы приветливее, но все равно — другими.
Черноволосый, на вид — венгерский, офицер выглядел похожим на своего российского коллегу, старшего дядю, вспотевшего и пузатого. Отдал честь, взял паспорт, сверил фото, и Кошевой совсем не удивился его реакции, когда их взгляды встретились. Однако там, где Клим мог нарваться на непонимание или грубость от государева слуги, императорский подданный просто поднял брови. Очевидно, не знал, как правильно реагировать на увиденное. Тогда принял единственно верное для себя решение: пропустил гримасу пассажира мимо внимания, вернул документы, снова козырнул и занялся другими.
Кошевой по приобретенной недавно привычке коснулся щепотью пальцев края правого глаза, словно так можно было все успокоить. В очередной раз вспомнив, как жандарма, который выпускал его, это почему-то изрядно разозлило. Решил — вчерашний арестант обнаглел совсем. Кривляется, издевается, назад захотел. Обложил матом, еще и вознамерился припечатать кулаком между глаз, но вовремя вмешался агент в штатском. Имел достаточно полномочий, чтобы даже без формы обуздать праведный жандармский гнев. Правда, потом сам не сдержался, посмеялся. Сказал — Клим облегчил работу полиции. Почему? Потому что раньше в карточке писали — особых примет нет. Отныне же она есть.
Надолго.
Если не навсегда.
Углубившись в свои мысли, Кошевой не заметил, как поезд тронулся наконец со станции Подволочиск. А через некоторое время ступил на перрон, сжимая в руке небольшой саквояж — все свое богатство на сегодняшний день. Там маленькое фото родителей, забранное в рамку под стекло и бережно замотанное в запасную сорочку, жилетка, модный галстук, пара белья, очки в тонкой оправе — тогда, когда приходилось много писать и читать, надевал, щадя глаза, карманный несессер, где держал маникюрные ножницы, щеточку для усов и другие нужные мелочи. Еще, на самом дне — несколько авантюрных романов, французских и английских. Книжечки не очень грубые, удобные для путников. Клим имел к ним тягу с детства, не оставил в юношестве, сохранил до сих пор. Кошелек и паспорт держал при себе. Документ глубоко прятал во внутреннем кармане, деньги — в кармане брюк. Как туда кто полезет, не почувствовать нельзя.
Заботиться же было о чем: катеринка, сто царских рублей, была сейчас единственным капиталом Клима Кошевого.
Постояв на месте и осмотревшись вокруг, молодой человек перебросил саквояж из правой руки в левую и уверенно прошел к выходу на привокзальную площадь. Там остановился на мостовой, взглянул на величественное, нарядное, помпезное сооружение, которым явилось его глазам вокзальное здание. Тут же вспомнил киевский, старый, деревянный, еще и обреченный приказом генерал-губернатора на снос. Контраст действительно выглядел огромным, и Клим впервые вообразил себя не просто в другом городе или другом государстве — бери больше, в другом мире.
Рассматривать здание можно было бесконечно. Поняв это, Кошевой решительно развернулся и зашагал вперед, пересекая площадь наискосок. Пройдя немалое расстояние и взглянув налево, увидел здание, частично прикрытое строительными лесами. Прищурившись, чтобы лучше видеть, Клим понял: это тут строят католический храм, причем довольно давно.
Вид храма напомнил, что люди тут исповедуют преимущественно католическую веру. Сам Кошевой к религии относился нейтрально. Родители, конечно, ходили в церковь, сам он тоже придерживался православных традиций, но при этом не имел того щемления в сердце, которое наверняка должно определять верующего человека. Он слышал и читал, что католики имеют иные отношения с церковью и верой, чем православные. Но при этом также знал и чувствовал: в провинциях Российской империи также иначе относятся к вере, чем в Великороссии.
По крайней мере, еврейские погромы проводили деятели из Киевского отделения «Союза Михаила Архангела», называя себя борцами за господство истинной веры. Зато украинские верующие в похожих акциях замечены не были. Поэтому православная вера, которую исповедовали русские, позволяла им ради ее утверждения громить еврейские улицы и кварталы, тогда как Бог, которому молились в храмах украинцы или, как чаще их называли, малороссы, на сомнительные подвиги ради веры не благословлял.
Рассуждая так, не столько намерение поменять не только место жительства, но и церковную конфессию, сколько для того, чтобы чем-то занять голову, Клим дошел до места, где останавливался трамвай. Остановка обозначалась столбом, на котором он увидел две буквы — «D» и «Н»[15]. Пока размышлял, что они означают и доедет ли отсюда туда, куда надо, появился и сам трамвай. Как только он остановился и дверь открылась, Кошевой вдруг передумал садиться. Отступил назад, дождался, пока вагон развернется на рельсах и поедет, звеня, назад.
Проводив трамвай взглядом и приняв, как ему самому показалось, важное решение, прибывший отправился на противоположную сторону площади, где толпились коляски извозчиков.
Глава вторая Другой мир
— Ехать, пане? — спросил[16] ближайший к нему.
— Поедем. Для чего же ты тут стоишь.
Теперь извозчик развернулся к Кошевому полностью, при этом едва не скользнув с козел. Клим смог разглядеть своего первого львовского знакомого получше. Невысокий, крепкий, с узким лицом, усы лихо подкручены вверх. Одет он был не так, как его киевские коллеги: светлая сорочка, жилетка, чьи пуговицы плохо сходились на животе, черные брюки в дудочку, пыльные остроносые ботинки. Указательный палец подбил вверх круглую, похожую на небольшую котелок черную шляпу с узкими круглыми полями.
— Из Великой Украины, по произношению слышу, — сказал уверенно и сразу спросил, дернув острым, заросшим вчерашней щетиной подбородком: — Чего же вы, пане?
Клим сделал вид, что не понял, снова коснулся кончиком пальца края глаза, переспросил:
— Что — «чего»?
— Вот, — любопытный извозчик повторил за Кошевым.
— Не твое дело, — ответил грубовато, совсем не боясь выглядеть невежливым в глазах извозчика. — Мы ехать будем или кривляться?
Извозчик хмыкнул, широким жестом пригласил пассажира садиться в коляску. Когда тот устроился, спросил, не спеша поворачиваться спиной:
— Куда пана везти? — И снова не сдержался: — Это же вы с киевского, так?
— Угадал, — ответил Клим сухо.
— А я, пане, не цыганка, чтобы вам тут гадать.
В голосе кучера теперь зазвучали вызывающие нотки, из чего Клим сделал вывод: львовские извозчики от киевских мало чем отличаются. Тоже не слишком обращают внимания на чины. Хотя сам он в Киеве не имел такого большого чина, чтобы перед ним ломали картузы городские «ваньки»[17]. Решил промолчать, заводиться с первым попавшимся не собирался.
Но новый знакомый не унимался:
— Знаете, шановний, сколько Захар Гнатишин тут работает? Ей-богу, еще трамваи, гром их побей, не ходили! Вот эта красота была только в задумках, — бесцеремонно ткнул в сторону вокзального здания. — Ее же у меня на глазах возводили!
— Захар Гнатишин — это ты, как я понимаю?
— Рекомендую! — Извозчик шутовато преподнес "казанка". — Так вот, шановний, я тут, на этом месте, стою столько, сколько не всякий человек в наше время проживет. Или я не знаю, когда, откуда и какие поезда приходят во Львов ежедневно? Немецкий с этим всем изучил, пассажиров привлекать. Как вы думали? Приехал человек, скажем, из Вены. Слышит знакомую речь. Конечно, пойдет ко мне пассажиром. Без этого никак, шановний. Так куда изволите ехать? По делам тут? Тогда надо в отель. Очень советую «Жорж»[18], довезу с ветерком. Моргнуть не успеете, как там будем.
— Издеваешься? А ну, как я пересяду?
— Да никуда вы не пересядете, — отмахнулся Захар. — Сейчас моя очередь везти. У нас тут такой порядок. Договорились не отбивать пассажиров друг у друга. Раньше такого не водилось за нашим братом. Как пустили трамвай, пришлось объединяться.
— Почему?
— Конкуренция, знаете такое слово? Пожилые люди, особенно женщины, этот трамвай сразу невзлюбили. Был случай, в газетах даже писали, когда одна почтенная дама повернулась к нему спиной и показала, что даже в батярской компании вслух не скажешь. А уж как здешние батяры за языком не следят, то должны знать! Но те, кто моложе, говорят — это прогресс! — Захар многозначительно поднес пальца вверх. — Поэтому трамвайщики у нас пассажиров таки отбирают. Договариваться надо — не драться, как раньше, не отпугивать клиентов. Вежливо стоять и ждать свою очередь.
— И я не могу пересесть?
Извозчик покачал головой.
— Никто вперед меня с места не двинется. Так как, до «Жоржа»? Или лучше другой отель, того же уровня, потому что в "Жорже " сейчас неуютно. Что-то там достраивают.
В животе Кошевого предательски забурчало.
— Вижу, ты тут все знаешь, — начал издалека. — На самом деле просто сейчас отель мне не нужен. Приехал в гости к давнему приятелю. Живет он на улице Лычаковской, это далеко отсюда?
— Не так уж. Думаю себе, вам, пане, Нижний Лычаков надо.
— Есть разница?
— И то большая. Нижний — то уважаемые люди живут, там сейчас много доходных домов для обеспеченных человек. Верхний — то нечто совершенно особенное. Батяр на батяре, еще и батяром погоняет. Это же надо, послал Бог соседство шановному панству.
— Ты уже не раз их вспоминаешь. Кто такие? Разбойники, бандиты, воры?
— Где там! Как встретите батяра — не говорите ему такого. Иначе враг на всю жизнь. Дебоширы, авантюристы, так у нас говорят. Ну, самое большое преступление, на которое способны, — кошелек потянуть у зеваки. Или часы золотые. Или прекрасные кожаные перчатки. С настоящими ворами и страшными головорезами, которых на Клепарове[19] полно, лычаковские батяры не дружат. Только шановному панству от того не легче. Батяр… что вам сказать, батяр он и есть батяр. Сами увидите. Так на Лычаковскую вам? Номер какой, знаете?
— Девятый. — Адрес, указанный в письме, Кошевой заучил наизусть. — Только надо перед тем еще одно дело сделать, пане Гнатишин.
— О! Раз пассажиры панькаются — это что-то важное. Говорите уже. Без криминала?
— Без, — успокоил его Клим. — В любом случае, я так думаю, что нет. Дело такое — денег не имею.
Извозчик присвистнул, снова подбил шляпу пальцем кверху.
— Тю! А чего же вы садитесь ехать, коли нечем платить? Пешком прогуляйтесь, прошу пана! Погода аж какая файная.
— Ты не совсем верно понял, — хмыкнул Кошевой. — Платить есть чем. Обижен не будешь. Хотел сказать, не имею крон. Зато сто рублей есть, катеринка, вот.
Для наглядности, в подтверждение своих слов, Клим вытащил из кармана тощее портмоне, выудил оттуда и показал свое богатство — банкноту с портретом императрицы Екатерины Второй, на которую смотрел античный воин с мечом в правой руке, преданно приложив левую руку к сердцу.
— У нас такие не ходят.
— Знаю. Крон и крейцеров здешних не раздобыл. Поменять надо. Может, отвезешь в ближайший банк? Там и рассчитаемся.
Извозчик почесал затылок.
— Если да… можно и в банк, если хотите. Однако, как по мне, вам лучше на Нижние Валы[20].
— Это куда? Далеко?
— Во Львове все недалеко. Менялы там собираются, на бульваре. «Черная биржа», знаете.
— Там стоит считать?
— Да где! Наоборот, с ними проще договориться. Не надо показывать документы. И меняют так, как лучше всего. По более выгодному курсу, чем банк дает.
— Не обмахлюют?
— Что? А — нет, со мной нет. Хотя вообще такое у нас водится. Батяров на бульваре также не бывает. От тех всего можно ожидать. Но я часто до менял пассажиров вожу, некоторых знаю. Чего там — кого: сведу вас с Юзьом, — сказав так, для чего-то добавил: — Паном Юзефом.
— Пан, не пан, Юзеф, Юзьо — все равно. Чтобы деньги поменял. Вот тогда уже на Лычаковскую поедем, под девятый номер. Годится?
— Едем уже! Скакайте в дорожку!
Кошевой послушно примостился на пассажирском месте.
Захар же, развернувшись на козлах, подхватил вожжи, поцокав губами, легонько ударил коня по упитанным и хорошо вычищенным бокам.
Заклацали подковы по брусчаткей.
Двинулись.
Все вокруг и правда производило на Клима Кошевого впечатление другого мира.
Дрожка катилась неспешно. Извозчик не спешил, потому что того не требовал пассажир. Сначала ехали вдоль трамвайной колеи, и Захар, не поворачиваясь, говоря громко, поведал: до недавнего времени вагоны тоже тянулись лошадьми. Только в прошлом году их начали переделывать на электрические, потому что городская власть захотела, чтобы было, как в Вене. Тянулось это до сих пор. Частично трамваи еще двигались конской упряжью, но чем дальше, тем чаще випрягали. Новые линии, которые прокладывались сейчас в зажиточные районы, уже с самого начала питались электрическим током. И похоже, это почтение не прекратится.
— Чему почтение? — спросил Клим, подавшись вперед, чтобы извозчик лучше слышал, и возвысил голос.
— Да не кричите вы! — отмахнулся Захар, дальше глядя перед собой, и сбоку могло сложиться впечатление — говорит сам с собой или беседует с широким и округлым конским задом. — Чего вопить на весь королевский город? Я все слышу.
— Да объясни, почему ты так трамваи не любишь. Прогресс же, — и, решив, что простой львовский извозчик в полной мере ощущает вздохи и вызовы времени, добавил: — Я, например, сторонник прогресса. Электричество…
— Да причем тут электричество? — снова отмахнулся тот. — У меня дома керосиновая лямпа. Не скажу, что мы с женой и детьми очень от того страдаем. Улицы надо освещать, что да, то верно. Фонари — правильно, по вечерам и ночам по светлым улицам людей возить выгоднее. Только же свет фонарный — он же не грохочет.
— Все равно не понимаю.
Захар вздохнул.
— Глядите, пане. Пока в трамвайные вагоны запрягали лошадей, ехала эта конструкция медленнее. Зато — тихо. Только подключили электрическую тягу, скорость увеличилась. Но ведь и стучит по мостовой — Матерь Божья! — Он перекрестился свободной рукой, тем более что сами миновали очередной храм. — Еще бывает, искры из-под колес как посыплются! Лошади живые, они поначалу боялись, дергались. У моего кумпля[21] даже понесла кобыла, с пассажирами в коляске.
— У кого?
— Товарища, — охотно объяснил извозчик. — У нас так батяры говорят — кумпель. Раз едете на Лычаковскую, наслушаетесь еще. А о происшествии с моим кумплем газета «Курьер Львовский»[22] потом писала: в коляске сидели пан инженер из Лодзи, его пани инженерова и двое деточек, девочки восьми и шести лет. Еле спасли тогда, отделались испугом, хотя и очень сильным. Пан инженер сам бы простил, женины переживания тоже не сильно заботили. Детей напугали до полусмерти, младшая дивчинка вообще упала в обморок. Словом, заплатил бы мой кумпель большой штраф. Позже говорил: думал уже, как и за сколько продаст лошадь с упряжью, больше нет где денег раздобыть. Слава Богу, нашелся пан Геник, выкрутил из передряги.
— Кто такой?
— Адвокат.
— Ану-ну! — заинтересовался Клим. — Адвокат, говоришь?
— Тоже мне — невидаль! Этого добра в нашем Львове даже многовато, как для одного города. Уже не уживутся между собой. Кто ловчее — тот имеет деньги. Дороговато, скажу я вам, дерут с простых людей. У вас так же?
— Всяко. Чем это кончилось? У твоего… этого самого… кумпеля деньги, как я понимаю, не водятся?
— Зато магистрат наш имеет грязные деньги с того трамвая! — сказав так, Захар Гнатишин распрямил спину, расправил плечи, выкатил грудь и теперь сидел на козлах с видом победителя. — Спросите, пане, к чему тут магистрат? А я вам скажу! Тот пан адвокат, который постучал в квартиру моего товарища, пришел туда сам. С газетой в руке, за то число, где описывали досадное происшествие. Еще и рисунок добавили, на нем коллега нарисован с перекошенным лицом. Смешно, только же не ему хохотать. Так вот, пан адвокат его разыскал и говорит: кобыла ваша, шановний, рванула с места и понесла, потому что перепугалась, заслышав грохот электрического трамвая. Еще и увидела, как из-под колес вырвался сноп огня. То что, скажете, кобыла в этом виновата? Или, не дай Бог, ее владелец, извозчик с многолетним опытом, которого все коллеги знают с лучшей стороны? Отнюдь! Виноват трамвай! И не человек, который им управляет, с него нечего взять, наемный работник. Ущерб пострадавшему пану инженеру нанес магистрат. В тот же день, когда начал ходатайствовать в Имперском министерстве транспорта о разрешении распрягать лошадей и переводить трамвай во Львове на электрическую тягу! Так! От президента города и надо требовать деньги за нанесенный людям ущерб!
— И вышло?
— Чего бы то ни вышло? Когда кумпель мне о том рассказал, я разозлился.
— На кого?
— На себя! В мою голову такое бы мало пришло! Потому потрясти президента города — это же святое дело, разве нет? Словом, через какое-то время приносит тот пан Геник моему коллеге свежее число той же самой газеты, "Курьер Львовский". Разворачивает и показывает. Там снова о нем написано, но уже без карикатуры. Гражданин такой-то добился, чтобы магистрат признали виновным в том, что семья пана инженера из Лодзи пережила неприятные моменты и понесла убытки. Потому что трамвай напугал кобылу, запряженную в дрожку, в которой они ехали по своим делам на именины к родственнику. Также возмещение надлежит владельцу кобылы и дрожки. Потому что тот понес не меньшие убытки. Знаете, что я еще вам скажу? Перед тем пришел к моему товарищу домой сам пан редактор "Курьера". Принес ему аж сто корон, только бы человек не слушал своего адвоката и не судился потом еще и с газетой за оскорбительный рисунок. Выиграл бы больше. Между прочим, пан адвокат, как о том узнал, очень гневался. Оказывается, таки собирался тряхнуть в суде еще и пана редактора, так хорошо дело пошло, решил не останавливаться.
Тут говорливый Захар Гнатишин поравнялся с экипажем, ехавшим той же улицей в противоположную сторону, и отвлекся, поздравив знакомого извозчика громким: "Сервус!", подняв при этом шляпу. В ответ услышал: «Честь!», и товарищи на козлах раскланялись друг с другом.
Пока длился короткий обмен любезностями, Клим заново прокрутил в голове услышанное.
За свою, пусть не такую уж большую, адвокатскую практику не мог припомнить случая, когда бы можно было действительно выиграть иск против городской власти или судиться с самим генерал-губернатором Киева. Более того — не находил ничего похожего в делах старших коллег. Кажется, ни один киевский адвокат не стал бы на такой заведомо проигрышный путь. Чего там — бери выше: в Харькове, Москве, самом Санкт-Петербурге такие процессы вряд ли возможны. Иначе газеты давно бы уже написали о подобных юридических прецедентах.
Похоже, тут, во Львове, действительно все иначе. Практиковать будет непросто. Хоть Кошевой и не надеялся, что пойдет легко, но теперь пришло окончательное понимание: сколько бы времени он в городе не задержался, долго или коротко, придется привыкать к новым правилам. Чтобы хоть заново учиться не отправили. Потому придется, как не то, мести улицы. Или хотя бы податься в извозчики. Захар как украинец может составить протекцию.
Между тем, тот повел дальше, явно взнуздав любимого конька:
— Итак, шановний пане, подобных случаев у нас хватает.
— Исков к магистрату?
— Напуганных лошадей! И если б то только лошадей! Пока не проложили колеи, город спало тихо. Пригород и сейчас не жалуется. А вот там, где живут состоятельные люди, покоя нет. Трамваи начинают ходить рано, грохочут и звенят. Зимой еще можно плотно закрыть окна, да и то не всегда помогает. А когда лето и так печет, чего за Львовом вообще-то не водится, потому что дожди для этого времени года тут нормальны… Словом, трамваи мешают спать. Панство же у нас такое, как и у вас, и кругом, — любит долго понежиться в кроватях. Для них утро поздно начинается. А тут — грохот под окнами каждый день, словно на железной дороге товарные вагоны грузят! Кому понравится? Мало кому. Особенно застройщикам и владельцам доходных домов.
— Почему?
— Потому что с недавних пор желающих жить на улицах, где ездят трамваи, поубавилось. Глупо, что центр города и места престижные. Конечно, продать можно. Квартиру сдать в аренду также несложно. Но уже не за ту цену, которую давали до трамвая. Чуть ли не в половину меньше. Что скажете на это?
Ответа у Клима не нашлось. Судить об обычаях города, в котором был всего чуть больше двух часов, он не собирался, потому что местным все равно лучше видно, поэтому даже малейший спор проиграет.
Вместо этого Клим откинулся на немного вытертую кожаную спинку сиденья и начал разглядывать, где это он едет.
Первое впечатление, полученное при осмотре вокзального сооружения, сейчас лишь усилилось и закрепилось.
Вокруг все выглядело величественным, могучим, возведенным на века. Тут незримо витал дух консерватизма. Человек молодой, Клим невольно улавливал это. Сперва пришло ощущение, будто оказался где-то в склепе, среди холодного серого камня. Но лишь на короткое время, быстро миновавшее.
Дальше почти вытеснилось другим — городское величие лишь казалось таким непробиваемым и непоколебимым. На самом же деле дрожка ехала между современными, совершенно не похожими друг на друга зданиями, которые лишь на первый взгляд выглядели мрачными и суровыми. То, что показалось Кошевому старосветским, даже напомнило о читаном в исторических книгах о средневековье, в действительности было хорошо продуманным, хорошо упорядоченным и едва не идеально организованным.
Улицы тут извивались, сходились, расходились и снова сбегались в совершенно неожиданных местах. Жилые кварталы напоминали античные лабиринты. Городские каменные дома словно сошли с некогда любимых Климом страниц рыцарских романов — не хватало разве воинов в устрашающих доспехах и прекрасных дам с букетами вдоль, на тротуарах и в окнах домов. И все это удивительным образом жило живо. С одной стороны — вроде и со знакомыми Кошевому провинциальными обычаями, но на самом деле — в своем, особом, непонятном постороннему человеку ритме. Не слишком широкие улицы только доказывали, насколько здешние жители могут быть близки друг к другу.
Никоим образом не родичи. Наоборот, вряд ли во Львове, где под две сотни тысяч народа, горожане знают друг друга, к чему Клим привык в Киеве, — можно пройтись от Бессарабской площади по Крещатику через Прорезную вверх до Софии, а оттуда — к Андреевскому спуску вниз на Подол, и за время прогулки поздороваться с кучей знакомых. Добрая половина из них попросит передать поклон папе. Другие поинтересуются делами, и это не проявление хороших манер. Люди знают о том, кто из знакомых чем занимается. Тогда как Львов, по крайней мере так казалось Климу, своим обустройством подчеркивал совсем другой уровень отношений даже между незнакомыми людьми. Пусть они и живут в одном городе, только в разных его частях.
Старый город был главным на восточной окраине великой империи.
Официально считался центром провинции.
И в то же время сам по себе периферийным не выглядел — по крайней мере в той степени, в которой Кошевой привык воспринимать губернские города империи Российской.
А значит, здешние горожане должны быть далеки от того тотального братания и родства, которые в характере настоящих провинций. И возмутить Киев легче, чем город, который замер в собственном уважении и величии. Ведь, даже приехав во Львов впервые, Кошевой почувствовал, как все вокруг не только меняется, но и готово к изменениям и развитию.
Ворчание извозчика Захара в адрес трамваев — живое тому подтверждение: изменения заметны.
А значит, к ним, притерпевшись, в конце концов привыкаешь.
Тогда как среда, замерев в себе, всячески сопротивляется любому воздействию извне или изнутри. Ведь это принесет за собой хоть какие-то неудобства.
Закрытый мир очень легко взорвать изнутри. И сбить с толку его жителей надолго, если не навсегда.
Это Клим имел несчастье ощутить на себе. И от этого попытался убежать, садясь вчера в вагон на Киевском вокзале.
Погрузившись в такие вот мысли, Кошевой перестал крутить головой. Мимо него и дальше проплывали в неторопливом ритме учреждения, лавки, салоны, конторы, кофейни, жилые дома. Если бы вышел из дрожки и пошел бы дальше сам, наверное заблудился. И чем дальше, тем меньше Клим представлял, куда именно доставляет его львовский извозчик.
Поэтому совсем неожиданностью стало, когда Захар натянул вожжи, остановив лошадь, и гаркнул:
— Приехали, пане! Очень рекомендую!
— Что?
— Нижние Валы, говорю! Слезайте!
Глава третья Добро пожаловать во Львов!
Кошевой подхватил саквояж, ступил на землю, вопросительно взглянул на своего неожиданного провожатого.
Захар также слез с козел. Жестом велел пассажиру стоять, где стоит, и неспешно двинулся по бульвару в направлении, как заметил Клим, банковского здания. Не дойдя, ступил в сторону, выделив среди пешеходов высокого человека в элегантном костюме, круглой широкополой шляпе и с легкой тростью в левой руке.
Складывалось впечатление, что он бездельничает, потому что имеет помноженное на вдохновение свободное время. Человек прохаживался по бульвару, поигрывая своей тростью, которую держал скорее для красоты, как элемент наряда — совсем не хромал, конец трости не касался булыжника. Казалось, он так играет, имитируя ловкие движения циркового артиста. Люди вокруг и их дела высокого, на первый взгляд, не занимали совсем, прогуливался будто без определенной цели. Даже не похоже, что пришел сюда на встречу — время для высокого значения не имело.
И, присмотревшись повнимательнее, Клим понял: ничегонеделание обманчиво.
На самом деле взгляд из-под полей быстро и тщательно оценивал каждого, кто появлялся на маленькой площади. А еще Кошевой заметил — появление извозчика не прошло мимо внимания мужчины с тростью. Но он умышленно повернулся к нему фалдой, поздоровавшись со знакомым, который сейчас проходил мимо, перекинулся несколькими дружескими словами. Позволил себе заметить Захара, только когда извозчик приблизился на расстояние вытянутой руки.
Состоялся короткий разговор. После того Захар, глянув через плечо, кивком подозвал Клима. Тот подошел, и извозчик отступил в сторону:
— Вот вам пан Юзьо, очень рекомендую.
Сейчас, когда новые знакомые стояли напротив, Кошевой увидел, как хорошо выглажен костюм Юзьо, но при этом воротник рубашки был расстегнут на две пуговицы, шею украшал галстук. Это должно было произвести, и наверное производило, о нем впечатление как о человеке деловом и одновременно — очень демократичном. Со мной можно без церемоний, запросто, слушаю вас внимательно: вот что говорил расстегнутый накрахмаленный воротничок.
Гнатишин хотел дальше говорить с менялой. Но тот, угадав намерения, порывисто дернул рукой перед собой, словно задергивал оконную занавеску.
— Есть ко мне дело? — Возница мотнул головой, снова открыл рот. Меняла прервал: — Тогда лучше помолчи. Видели гадулу (болтуна)? — Теперь он обращался уже к Климу. — Рот не закрывается, знаю я таких. Была когда-то хорошая мысль запретить извозчикам болтать, когда везет человека. А то так увлечется, еще через плечо смотрит. На дорогу не смотрит, сбивает живых людей. Может, сами поговорим?
Высокий глянул на Захара. Тот, видно, привык к манерам менялы, склонил голову, отступил, оставив партнеров один на один. Юзьо сосредоточился.
— Пан имеет проблему? — спросил быстро. — Надеюсь, все законно?
Ответить Кошевой не успел. Потому что Юзьо вдруг нарисовал на продолговатом лице удивление, и тогда повел себя совсем уж неожиданно.
Подался немного вперед.
Вытянул шею — и подмигнул Климу правым глазом, умышленно сжимая веко сильнее. Затем, после короткой паузы, так же старательно подмигнул левым. И уж вроде совсем на закуску, коротко клипнул обеими.
— Не кремпуйтеся[23], прошу пана. Все будет хорошо. Тут все свои, должны верить друг другу.
Клим вздохнул, по привычке коснулся правого глаза и молвил:
— Говорят, тут у вас можно деньги поменять.
— У нас не банк. Но можно, — кивнул Юзьо. — Только курс будет иной. Вас устроит?
— Другой — это какой? — поинтересовался Кошевой.
Меняла посмотрел на извозчика, и тот пожал плечами.
— Сейчас не видел.
— А что надо видеть? — не понял Клим.
— Объясняю, чтобы знали на будущее, — сказал Юзьо. — Есть такая система знаков, придумана не тут и очень хорошо работает. Курс кроны к другим деньгам определяют в Вене, там. — Он мотнул головой куда-то вверх так, будто это происходило в небесной канцелярии. — Значения довольно гибкие. Поэтому передать сведения можно телеграфом, как делают банковские учреждения. Вон, видите, возле Сберегательной кассы толпится народ? Это все жиды, ждут телеграммы. Но можно сообщать про курс иначе — по железной дороге. Практикуется в среде других деловых людей.
— Это как?
— Вчера в Вене на вагон поезда, едущего во Львов, поставили мелом цифры. Ранее договорено о системе. Остается позаботиться, чтобы поезд встретили тут вовремя. Вот так мы на Нижних Валах знаем не банковский, официальный, а настоящий курс кроны.
— Отличается?
— Не на много, — признался Юзьо. — Но если пан оперирует большими суммами, такая разница может стать существенной для вас. Измениться в вашу пользу.
— Пан оперирует суммой в сто царских рублей.
Вытащив портмоне, Клим добыл и показал меняле катеринку.
— Позвольте?
Тонкие пальцы ловко выхватили купюру. Юзьо проделал с ней быстрые и сложные для постороннего понимания манипуляции, комкая и разглядывая на свет, при этом трости не выпускал. Наконец сложил вдвое, покрутил, будто держал незначительную бумажку, не удержался — снова подмигнул.
— Для кого-то сумма незначительная. А для кого — то — целый капитал. Это уж как пан себя оценивает, — пояснил многозначительно. — Могу предложить вам обмен по курсу, который я знаю по состоянию на позавчера. За один царский рубль просили две кроны и тридцать крейцеров. Сейчас он может быть меньше, может быть больше…
— Я не мелочен, — прервал его Клим, хоть прозвучало это и не совсем вежливо. — К тому же спешу. В другой раз с удовольствием поговорим про финансовые дела. Правда, я в таких материях мало разбираюсь, но если надо для приятного знакомства…
— Для приятного знакомства болтайте себе с кобитами на Рынке[24], — меняла тоже решил отбросить лишние церемонии. — У нас деловая сделка. Поэтому двести тридцать корон. Есть.
Юзьо погрузил купюру в карман пиджака. Из другого, подхватив трость под руку, вытащил пухлое портмоне, плотно набитое купюрами разного достоинства. С одной стороны — стопка австрийских крон, с другой — отдельно положенные банкноты другого происхождения. Отсчитав Кошевому две сотенные банкноты, он сказал:
— Держите это. Сейчас поищу остальное.
Кошевой мотнул головой.
— Что-то не так?
— Все так, пане Юзьо. Мне все мелкими, будьте любезны.
Пожав плечами, меняла аккуратно положил более крупные деньги на место. Помусолил кончики пальцев, вытащил меньшие. Сказал, сколько это будет, и Клим старательно пересчитал, так же смочив пальцы слюной. Кивнул — все верно, положил деньги в кошелек, не сдержался — победно стукнул им по растопыренной ладоши.
Совсем рядом словно бичом щелкнуло:
— Вор! Вор! Ловите вора!
Кошевой вздрогнул.
Возглас раздался очень неожиданно. Похоже, его новые знакомые тоже ничего такого не ожидали.
Но уже в следующий момент между ним и Юзьо стремительной молнией пролетел беглец.
Рассмотреть его Клим не успел — на скорости его задели плечом. Закачался, вскрикнул, едва не потерял равновесие. Следующий толчок, уже в спину, оказался еще крепче. Теперь адвокат уже падал на колени, вытянул руки вперед, чтобы не запахать носом. Ладонь разжалась, кошелек вылетел, упал на брусчатку, отлетел на локоть, если не больше. Уже приземлившись на четвереньки, стараясь не обращать внимания на внезапно поднявшийся шум, Клим дернулся за кошельком, и вдруг на руку кто-то сильно наступил.
Кошевой вскрикнул не столько от боли, сколько от внезапности всего произошедшего. Не сдержался — выругался. В ответ тоже услышал брань, но не в свой адрес: проклинали беглеца, из-за которого все закрутилось. Мгновение — и Климу уже помогали подняться. Кто-то бережно отряхивал пиджак, другой сунул в руки выпущенный кошелек.
— Держите, держите, это ваш, пане!
Сжав потертую кожу, адвокат громко поблагодарил, сам не зная кого.
Положил кошелек в карман.
Выдохнул.
Будто маленькое приключение, обыденное, ничего не значащее. А все равно многовато для человека, который только что приехал в незнакомый город. Пока поправлял одежду и отряхнул немного испачканные колени брюк, вокруг все успокоилось так же быстро, как случилось. Нижние Валы возвращались к привычной жизни, и к Кошевому снова подступил Юзьо. Теперь уже не стукнул, забавляясь, выглядел озабоченным, поинтересовался, взяв за плечо:
— С паном все в порядке?
— Тю… Что это было?
— Батярские забавы, ей-богу, — меняла погрозил тростью в ту сторону, куда очевидно побежал вор, которого пытались поймать. — Такие не зарежут, это не настоящий криминал. И даже может быть неправдой ловцы вора.
— То есть?
— А вот так! — развел Юзьо руками. — Ребятам захотелось поднять бурду, людей взбаламутить. Не скажу, что это обычное дело. Порой полиция таки к кому-то из них да и приходит.
До Кошевого сразу дошло, чего ему не хватало.
— Действительно, полиция! — воскликнул он. — Никто не зовет полицию! Вора же ловят!
— О! — подхватил Юзьо. — Пан приезжий тоже заметил! Слушайте, были бы настоящие, не батярские ловцы, полиция бы уже поймала вора. Видите ли, площадь небольшая. Выходов из нее немного. Извне поймать беглеца просто, тем более, панов полицейских в этой части города не хватает.
Рядом раздался кашель — это напомнил о себе извозчик.
— Так мы едем дальше, пане?
— Долго еще?
— Да где, совсем рядом.
Прощаясь, Юзьо приложил два пальца к краю шляпы, отсалютовал.
Клим повторил его жест. Когда меняла не сдержался и снова подмигнул, не слишком удивился.
Далее обошлось уже без происшествий.
Захар остановил коня возле тротуарной бровки напротив массивных ворот, указал на номер дома, доложил:
— Прошу очень, приехали. Нижний Лычаков.
Нужный дом оказался трехэтажным, с аккуратным ухоженным фасадом. Чуть дальше возвышался на столбе фонарь, украшенный легкомысленным зеленым венчиком, что заметно разбавляя величественную атмосферу. Решив непременно прогуляться по улице сегодня, и особенно — под вечер, при фонарном свете, который наверняка сделает все вокруг загадочнее, Кошевой шагнул на тротуар.
— Сколько будет?
Не дождавшись ответа, полез за кошельком, вновь стукнул по раскрытой ладони, демонстративно поплевал на пальцы, открыл.
Денег не было.
Вообще.
Сперва Клим подумал — показалось, такого не должно произойти. Положил не туда, куда всегда, и сейчас купюры лежат в другом отделении, посмеиваясь. Дернул пальцами — пусто. Разве глубоко примостилась бумажка, сложенная в несколько раз. Клим знал, что это, но все равно вытащил. Записан львовский адрес. Тот самый, выученный им наизусть.
Растерянно поднял глаза, наткнулся на взгляд Захара Гнатишина.
— Ты же сам видел… Я клал сюда…
— Нет, — сказал извозчик. — Были, это правда. Сейчас нет.
— Куда… Видимо, выпали. Я раззява, положил не туда, — Кошевой засуетился. — Поехали, поехали. Их наверняка кто-то подобрал. Ты же там знаешь кто. Хотя бы тот Юзьо… пан Юзьо…
— Может пан Юзеф, — напомнил Захар.
— И пусть себе Юзеф — он же не заберет себе! Это ж знакомый твой!
— А ему ваши деньги и не нужны, — хмыкнул извозчик. — Это «черная биржа», на Вексклярской. А ведь пан Юзьо — не черная душа. Честный делец. Мимо его глаза ничего там не падает. Увидел бы — тут же подобрал и отдал.
— А где же…
— Забудьте.
— То есть как?
— А так. Совсем забудьте. Выглядит, что такие были воры. Среди батяров разные бывают.
Климу уже не надо было ничего объяснять. Четко воссоздал в памяти недавнюю передрягу. Вот он берет деньги у менялы, кладет в кошелек. Спрятать не успевает — за ним точно уже следят. Полезли сзади, умышленно пробежал юркий вор между ним и Юзьом, хотя мог обойти. Толчок, действия отработаны давно. Кошелек выпадает, точнее — его выбивают. Тут же на короткий миг наступают. Как только раззява оправляется, возвращают обратно. Декорация такая, будто его просто бережно подняли, чтобы действительно никто не покусился.
Имел Кошевой знакомых в криминальной полиции Киева, водил дружбу с газетчиками, адвокату без связей с прессой никак нельзя. Кое-чего наслушался. Поэтому ничем новым здешние ловкачи не удивили. Действуют в таких случаях обычно трое. Один, играя воришку, выбивал добычу. Второй прикрывает, пока третий очищает кошелек. Он же возвращает потерю владельцу. Причем ни одного разглядеть не удается никогда. Раз — и растворяются, расходятся кругами по воде.
Но от понимания схемы легче не становится.
— И что теперь? — спросил Клим.
— Тоже хотел бы знать, — в тон ему ответил извозчик.
Решение не замедлило. Оно же очевидно, ведь они…
— Мы приехали. Нам сюда, — сказал Кошевой.
— С этого мне какая польза? Бесплатно доехали. Я все понимаю, конечно, очень извиняюсь, но потратил на вас, пане, несколько часов. Мог бы заработать, вместо того сочувствую чужому горю. Предупреждаю — расписок не беру.
— Расписок?
— Долговых. Случается, погуляют паны очень хорошо, доставляешь их, пьяненьких, а они аж у ворот хватаются за сердце: денег нет. Выдирают листы из записных книжек, пишут такие вот векселя. Потом еще больше времени тратишь, чтобы долг вернуть.
— Господи, разве я прошу в долг? Мой товарищ наверняка дома! Получил письмо, отписал — будет ждать. Я поднимусь к нему, или еще лучше — пойдем вместе! Пан Сойка рассчитается, я ему все объясню.
На лице извозчика вдруг появилось новое выражение. Таким Клим его уже видел совсем недавно, когда Захар показывал ему денди-менялу пана Юзя.
— Вы сказали — пан Сойка? Или я не ошибся — тут, в этом доме, живет адвокат Евгений Сойка?
— Ты разве знаешь его?
— Лично не знакомы. Хоть нашим братом он не брезгует. Это же тот самый пан Геник! Он вытащил моего кумпля из передряги, помог отсудить у магистрата убытки!
— На Евгения Павловича это все очень похоже, — промолвил Клим.
На самом деле не знал, свойственно ли Сойке прокручивать именно такие дела. Ведь не видел его давно, с того времени, как тот уехал из Киева навсегда.
— Когда так, тем более вопрос снимается, — повел дальше Кошевой. — Доверяете пану Сойке?
— После того как он спас кумпля — ему единственному доверяю.
— Так айда!
Хлопнув возницу по плечу, Кошевой схватил саквояж и поспешил к воротам.
Навстречу, скорее почувствовав появление визитеров, чем увидев их со своего места, уже торопился дворник. Толстый, пышноусый, красная картофелина носа выглядела не частью лица, а так, словно какой-то озорник плохо пошутил, приделав ее как попало в середину лица, когда тот спал.
— Мы к пану Сойке! — воскликнул Клим, потом спохватился, поздоровался: — Доброго дня вам!
— Пан Сойка не предупреждал, — последовал важный ответ.
Дворник даже по-хозяйски упер кулаки в боки, будто собираясь прямо сейчас прогнать незваных гостей. И главное — держался, будто они действительно пытаются зайти на его частную территорию.
— То есть он дома? — переспросил Кошевой, взявшись за ворота.
— Это не имеет значения.
— Послушай, земляк, я из Киева. Давний товарищ пана Сойки! Он меня ждет!
Дворник пожал плечами. Не выглядело, что готов сменить гнев на милость.
— Пан Сойка — человек известный. Наш пан домовладелец его уважает. Значит, его слово также закон и для меня. А пан Геник мне не давал в отношении вас отдельных распоряжений.
— Тьфу ты! Он дома или его нет? — воскликнул Клим, чувствуя очередной прилив отчаяния, и тут же сам нашел ответ: — Дома, у себя! Где же ему быть!
— Откуда это вы знаете? — подозрительно поинтересовался дворник.
— Тут ничего специального знать не требуется. Если бы твоего пана Геника не было дома, ты бы, земляк, не стоял тут таким цербером. Заходите, уважаемые гости, целуйте замок, раз хочется. А так ты не знаешь, что делать. Потому что, похоже, пан Сойка велел говорить — его нет ни для кого. Или иначе глянем: он есть не для всех, и ты получил четкое указание, кого пускать, а кого — нет. Хотя вряд ли ты имеешь такое право — не пускать посетителей к постояльцам среди бела дня. Вывод какой, знаешь?
Дворник, явно не ожидая такой стремительной словесной атаки, молча покачал большой кудлатой головой.
— Заплатил за это тебе пан Сойка. Как говорят у нас цыгане, позолотил ручку. Ничего, не печалься. Я скажу пану Генику: ты делал все верно, честно и добросовестно. Может, он тебе еще подкинет несколько крейцеров.
Последнее предположение прозвучало так убедительно, что дворник уже не упирался — открыл ворота, пустил гостей к парадному. Боковым зрением Кошевой уловил его протянутую, сложенную лодочкой правую руку, красноречиво хлопнул себя по карманам. Извозчик же, который сунулся следом, на мгновение остановился, вытащил и положил в лодочку собственную монетку. Когда же двинулись, пробурчал Климу в спину:
— Так сами будете виноваты. Не платить же мне за вас кругом.
— Разберемся! — отмахнулся Кошевой, у которого почему-то стремительно улучшилось настроение.
Расположение лестницы тут было для киевского адвоката не очень привычным.
Пройдя главный ход и миновав его, Клим поднялся по ступенькам на широкую веранду с перилами, которая открывала вид на двор изнутри и вела прямо к нужным дверям. Представив, как оно — когда так, среди ночи, возвращаешься пьяным, это же шею можно легко свернуть, Клим наконец достался конечной цели.
Выдохнул.
Замолотил в двери.
Когда оттуда никто не ответил, начал стучать сильнее. От такого любой закоренелый соня должен был проснуться. За Евгением Сойкой раньше не водилось привычки валяться в постели долго, но привычкам свойственно меняться…
Тю, сколько можно спать. Даже для лентяя слишком. А пан Геник, судя из услышанного, баклуши во Львове не бил.
Очередная порция ударов снова не дала результата. Внутри никто не двигался.
Там, кажется, вообще не было живой души.
Но если бы Кошевой ошибся и Сойка вышел утром по делам, для чего тогда дворнику с бульбастым носом морочить им голову… Вот такой он вредный, решил показать тут свою власть…
— Чего бы вот долбить! Со двора вас слышно!
Нет, не похоже. Дворник уже сам поднялся на этаж, стоял на веранде и отодвигался.
— Ты же говорил — пан Геник дома! — упрекнул Кошевой.
— Он и есть дома! Мимо меня не проходил, ей-богу! Мимо меня вообще тут никто не пройдет! — вскипел бульбастый. — Предупредил меня еще вчера, вы правильно угадали, сударь! Мол, сейчас будет работать дома, никого не пускать. О каждом отдельно докладывать, и то когда будет кричать — договаривался, назначено, как вы вот тут! Отойдите!
Теперь уже дворник молотил в дверь. Клим признал — кулаки у него значительно сильнее его собственных. Грохот, предположил он, уже взбудоражил бы даже спящую красавицу из той старой сказки…
Стук затих.
— Что-то не то, — проворчал дворник, почесав свой круглый нос. — Что-то не так.
Будто мысли Клима прочитал.
— Двери-то можно открыть без жильца?
— Можно все. Владельцу только надо сказать, пану Зингеру. Но надо…
— Слушай, пан Сойка не выходил никуда! Сам же божишься! Он не старый, но старше меня на пять лет! Кто знает, мог заболеть! Сердечные приступы хватают и не очень старых мужчин, я об этом в газетах…
— Ну, с вашими газетами! — скривился дворник. — Не в газетах дело. Пан Геник как-то мне обмолвился о чем-то подобном. Спрашиваю не так давно: как, мол, ваши дела, пане Геник? То всегда говорит — хорошо, а тогда пожаловался, будто в груди ноет. Я еще посочувствовал, не без того…
Терпение Кошевого лопнуло. Он уже не обращал внимания даже на извозчика, который все это время мрачно молчал, следя за происходящим исподлобья, отчеканил:
— Беги к владельцу!
— Зачем владелец?
— Тьфу ты! Ломать дверь без его присутствия не имеем права! И доктора надо, на всякий случай.
— Зачем лекаря?
— О Господи! Болело в груди, разное может статься.
Бульбастый уже не спорил — побежал выполнять. Захар Гнатишин оперся о перила задницей и замер в ожидании расчета с таким кислым видом, что от самого этого Климу сделалось нехорошо.
Домовладелец, пузатый еврей с обильно покрытым капельками пота лицом и редкими кустиками волос на длинном черепе, прибежал очень быстро. Тараторил — не лезет в личную жизнь жильцов, принципиально не держит у себя запасных ключей, чтобы не было соблазна прийти, когда никого нет дома. Еще и начал говорить, как другие, не очень совестливые паны порой поступают иначе. Кошевой окончательно забыл об учтивости, топнул ногой, ударил носком о закрытые двери. Больше ничего объяснять не надо: толстяк распорядился нести топор.
У дверей пришлось возиться долго. Оказались крепкими сами по себе, и дворник, осмотрев все, посоветовал лучше снять с петель, чтобы не вырубать замок. Лысый дал добро, извозчик теперь уже пришел на помощь, подключился — самого проняло, стало интересно. Вдвоем, поддевая, где надо, топором, мужчины сняли петли, отодвинули дверь в сторону. Домовладелец не зашел — заскочил первым.
Клим заходил за ним, когда услышал надрывный крик, одновременно полный отчаяния и испуга.
Готовясь к худшему, забежал, оттолкнув лысого на ходу.
Увидел сначала человека внизу на полу.
Затем — темное пятно вокруг его головы.
Пистолет, накрытый ладонью.
И уже потом — задернутые шторы, закрытые окна.
— Полицию сюда, — выдавил из себя.
Сразу добавил:
— Всем оставаться тут, ждать. Не заходить внутрь. Я побуду, буду сторожить.
И лишь потом рявкнул, притопнув ногой:
— Вон отсюда! Прочь! Пошли, я сказал!
Глава четвертая Знакомство за решеткой
Когда ключ щелкнул, поворачиваясь в замке, что-то щелкнуло заодно и в голове Клима.
Все время, пока его конвоировали до полицейского участка, Кошевой не думал над тем, в какой опасной для себя истории оказался. Даже не пытался упорядочить мысли, составляя хотя бы приблизительный план дальнейших действий.
Не мог вспомнить, как называется то состояние, которое он переживает. Так напряженно вспоминал, аж голова заболела.
К отцу порой заходил приятель, профессор, которого Кошевые называли давним другом семьи. Он считался авторитетом в лечении душевных недугов. Последний раз заходил совсем недавно, только Клима выпустили из тюрьмы. Тогда в разговоре и назвал новый медицинский термин, которым описывается явление, что только начинают исследовать коллеги в Европе. Специализированные журналы уже писали: мол, у больных, особенно — эпилептиков, часто проявляется навязчивая идея, когда кажется: то, что происходит с ними теперь, уже происходило раньше. То ли в прошлой жизни, то ли во сне, то ли вообще — в другой телесной оболочке. Особый интерес это явление вызвало из-за того, что часть подобных рассказов оказывалась весьма правдивой. Вот когда ученые вспомнили все описанные случаи еще со времен, когда эпилептиков считали чуть ли не Божьими людьми. Считалось, во время приступов на них снисходят видения. Из-за этого юродивых наделяли пророческими возможностями. Еще и платили немалые деньги, чтобы присутствовать при вхождении такого человека в транс.
Теперь же, с началом нового, просвещеннейшего века за всю историю человечества, нашлись способы внимательно исследовать и такие феномены.
Конечно, сетовал профессор, дремучесть Российской империи — от корней, от сохи. В небе уже парят аэропланы, в городах появляется электрическое освещение, по разбитым дорогам ездят автомобили — а большинство людей как будто затаились. Сидят тихо, сопят яростно и ждут сигнала, после которого можно без лишних колебаний сжигать на кострах еретиков-чернокнижников. И все равно пусть со скрипом, но все новое из Европы уже начинает доходить до имперских окраин. Чего там: по губерниям даже быстрее — в Петербурге или Москве потеряется, проскочит мимо слишком пристального внимания властей, а где-то в Киеве или Одессе зацепится. Разглагольствуя так в своей любимой фрондерской манере, профессор поведал: европейские врачи уже придумали упомянутому явлению отдельное название. Именно сейчас начали дискутировать вокруг него в научных кругах. До таких городов, как Киев, доходят, конечно, лишь слабенькие отголоски. Но и этого пока достаточно.
Поэтому Клим мучился, судорожно вспоминая, с чем имеет дело. Лишь когда услышал щелчок в замке, всплыло наконец: déjà vu — вот как оно называется!
Только в отличие от слабых разумом Кошевой точно знал, что никакого déjà vu у него нет. Тюремная камера ему не приснилась. Напротив, он возвращался в нее, не прошло и двух недель. А он же уехал во Львов, откровенно говоря — сбежал, назовем вещи своими именами, чтобы избежать тюрьмы и других неприятных вещей, приготовленных для таких, как он, российскими законами.
Открылись тяжелые двери. Не дожидаясь специального приглашения, Клим переступил порог тюрьмы. Глаза уже привыкли к тусклому свету, разглядели — тут, кроме него, лишь один житель. Кошевой уже хотел поздороваться. Но незнакомец, которого он еще не успел толком разглядеть, ловко вскочил с деревянного настила, поспешил к двери, выкрикивая:
— Пан Заремба! Пан Заремба! Мне уже выходить?
Говоря, мужчина глотал букву "р". Не картавил грубо, словно железом по наждаку, но и не так мягко, будто колокольчик звенит. Просто не произносил. Природа не дала ему от рождения такой возможности. Поэтому фамилия надзирателя прозвучало как «Заемба», доказав при этом Климу: его сосед по камере в полицейском участке совсем не новичок. Знать, как зовут тюремщика, может только опытный уголовник.
— Куда спешите, пан Шацкий? — равнодушно ответил надзиратель. — С вашим делом будут разбираться еще долго. Серьезная вещь, сами же знаете.
— А вы, пан Заремба, — вы разве не знаете Йозефа Шацкого! — воскликнул тот, и в голосе звучали нескрываемые нотки отчаяния. — Шацкого знает половина Львова…
— …другую Шацкий знает сам, — завершил полицейский, и Климу стало ясно: фраза эта ему так же знакома и даже приелась. — Только что я могу сделать? Есть среди нас люди, о которых порой узнаешь такое, от чего волосы встают дыбом. Знаете, сколько такого народа проходило хотя бы через эту камеру?
— Шацкого это не касается! — разорялся тот, в пылу отодвинув Клима, как будто он был стулом или другим элементом меблировки. — Я был без потайного дна и остаюсь таким до конца своей жизни! Мне это нравится! Мне так очень комфортно жить! Моя пани Шацкая время от времени закидывает: с тобой, Йозеф, неинтересно, был бы ты у меня здоров! Ты не умеешь дарить сюрпризы! Всегда известно, что подаришь на именины, где купишь, у кого купишь, за сколько купишь и как долго торгуешься при этом! Разве я похож на того, кто вынашивает недобрые замыслы? Пан Заремба…
— Да замолчали бы вы, пане Шацкий! — рявкнул надзиратель. — Я и сам вас очень хорошо знаю! А еще лучше вас знает ротовая полость моей старшей сестры! Она мне уже не первый год доказывает — вы мошенник, а не зубной лекарь.
— Бог с вами, пан Заремба! Если бы я был мошенником, разве бы ваша старшая сестра столько лет была моей постоянной и любимой пациенткой?
Теперь уже полицейский шагнул за порог камеры. У Клима сложилось впечатление: тут происходит нечто подобное семейной сцене, и он этим двум мешает. Так и хотелось спросить вроде между прочим: "Панове, может, я бы так, пошел себе?"
Тем временем надзиратель уже навис над своим визави:
— Если бы наша семья имела другие финансовые возможности, пане Шацкий, моя сестра, так же как моя жена и мои дети, давно бы забыли дорогу к вашему кабинету! Но пока из всех зубников Львова нам по карману только вы.
— Чем же вы недовольны, пане Заремба? Придумали новую рекламацию?
— Нет, та же рекламация! — Полицейский заметно накручивал себя. — Моя сестра не успевает вылечить у вас один зуб, как через месяц уже нужно идти лечить другой! Мы стараемся ограничить количество визитов к вам хотя бы четырьмя в год. Но потом приходится заново платить за лечение тех зубов, которые вы уже один раз приводили в порядок! Вы умышленно так делаете, пане Шацкий! Вы очень, очень хитрый человек! — Заремба протянул руку, помахал пальцем перед лицом арестанта. — Имеете знания и умение, чтобы привести в порядок рот моей сестры! Не говоря уже о моей жене! И что! Вы делаете все, чтобы наша семья оставалась вашими пациентами до скончания века! А пойти к другому лекарю мы не способны! Потому что те просят за ту же процедуру значительно больше! Поэтому не говорите мне больше ничего, пане Шацкий! Я не удивлюсь, когда все, в чем вас обвиняют, таки окажется правдой.
Шацкий хотел сказать что-то в ответ. Но надзиратель не слушал — злобно зыркнул на прощание и ушел, оставив новых сокамерников наедине.
Ключ еще поворачивался снаружи, закрывая замок, а Йозеф уже дергал Кошевого за рукав:
— Нет, вы слышали? Уважаемый, вы видели где-то еще такого пещерного невежду, как этот пан из полиции? Хотел бы я знать фамилию того кабана, который надоумил его: дескать, зубы можно вылечить раз и навсегда! Такого не может позволить себе даже пан светлейший император! Уже не вспоминаю про Папу Римского, хоть наша семья и посещает синагогу, а не костел. Когда уж на то пошло — раввины тоже мучаются зубами и время от времени лечат их. Никто еще не смог вылечить все свои зубы раз и навсегда! Их у всякого человека тридцать два. Не удивительно, что, когда закрыли дыру в одном, через какое-то время может заболеть другой, совсем в противоположном углу. Поэтому я и стал зубным лекарем, а не хирургом.
Вот тебе и опытный уголовник…
— Поэтому — что? — переспросил Клим, чтобы поддержать разговор, ведь Шацкий сейчас обращался к нему и, наверное, ждал чего-то в ответ.
— Зубы, шановний, зубы! Если я удалю больному воспаленную слепую кишку, у него больше не будет аппендикса. Он поправится и никогда уже с этой болезнью ко мне не придет. Зубов же у человека тридцать два. Много работы. Кстати, хотите, открою секрет?
— Какой?
— Не страшный. Вам станет ясно, почему этот Франик Заремба ко мне секется. Из-за сестры.
— Я слышал. Он считает, что вы махлюете. Не до конца лечите ее зубы, чтобы был повод прийти еще.
Шацкий шагнул назад, теперь уже измерял Кошевого внимательным взглядом, сложил губы дудочкой, поцокал, качая при этом головой, потом молвил:
— Как вы сказали? Махлюете? Интересно, тут не часто так говорят. Вы же не местный, так? Вы приехали во Львов, чтобы вас тут арестовали и бросили за решетку в промозглый каземат. Да еще и на пару с Шацким. Так?
— Не совсем, — Клим не сдержал улыбки. — Я вообще не собирался попадать ни в полицию, ни тем более — в тюрьму. Между прочим, тут не так уж и сыро. Я видел настоящие казематы, можете поверить.
— Австрийские тюрьмы, говорят, не худшие, — легко согласился Йозеф. — Хотя… Когда речь идет о местах, где людей держат в неволе, не знаю, будет ли корректным говорить об качество пребывания за решеткой. Во Франции, во времена Луи Тринадцатого, кажется, да и не только этого Луи, дворяне могли сами за себя платить, когда оказывались в Бастилии. Были бы деньги — камера найдется.
Кошевой кивнул в сторону забранного решеткой окна.
— Там — начало двадцатого века, а не середина шестнадцатого. И не Франция.
— Прекрасно. И что?
— Сегодня у нас дворянин за решеткой — редкость.
— Вы точно не подданный Его Величества Франца-Иосифа! — воскликнул Шацкий.
— Вообще-то, вы правы. Но почему так решили?
— Видно, шановний. Шацкий видит и слышит! У нас тут суд не разбирает, благородное предстало перед ним лицо или низкого происхождения. Все зависит от того, у кого из подсудимых лучший адвокат. Но если выкрутиться не получится, то прокурор уже не скупится, требуя наказания. Подозреваю, там, откуда вы приехали, с институтами правосудия что-то не так, я прав?
Кошевой в очередной раз коснулся пальцем глаза, ответил:
— К сожалению. Только, раз доверяете здешним законам, почему боитесь? Вас же еще не судили, как я понимаю. Имею определенное представление об этих процедурах. И меня, и вас пока задержали. До выяснения, так сказать. Если вы ни в чем не виноваты, разберутся и отпустят.
— Насчет этого, шановний, у меня нет никаких сомнений! — сказал Шацкий. — Меня оскорбляет само подозрение, по которому я тут! Я же так и не объяснил, почему Франик Заремба секется. Когда его сестра в очередной раз пожаловалась, а суть ее претензий ко мне как к зубному лекарю вы слышали, я имел неосторожность посоветовать той пани вырвать себе все зубы. Навсегда. И поставить вставную челюсть. Искусственные зубы. Тоже навсегда. Разговор был в присутствии брата! Как думаете, такое прощается?
— Думаю, не всегда. — Клим снова не сдержал улыбку.
— Так вот, после того Заремба при необходимости способен поверить, что Йозеф Шацкий ночам тайно солит человеческое мясо!
— Вас аж в таком обвинили?
— Не исключено, что что-то подобное впереди, — кивнул Шацкий. — Пока размах не тот. Мне вменили подпольные аборты. Представляете? Мне! Я двадцать лет лечу зубы! У меня безупречная репутация! Сказать, что Шацкий практикует незаконное лишение женщин плодов легкомыслия, — это все равно… — Он попытался найти подходящее сравнение, не смог, зато дальше подбирал вслух: — Это хуже, чем… чем…
— Чем чтобы тебя задержали возле трупа, который ты сам обнаружил и еще и вызвал полицию, — вырвалось у Кошевого. — Годится?
Сокамерник замолчал. Какое-то время смотрел на Клима, словно услышанное стало для его понимания чем-то необъятным. А потом выпалил, будто именно этот вопрос стал для него самым важным:
— Я прошу прощения у шановного пана, но чего это вы мне все время подмигиваете правым глазом, словно девка с Академической улице? Еще раз очень извиняюсь…
Всю свою невеселую одиссею Кошевой пересказывать не собирался.
Ни Йозефу Шацкому, львовскому стоматологу, своему новому знакомому, ни кому бы то ни было другому исповедоваться тоже не думал. Уголовной полиции — подавно, не говоря уже о политической, которую история неблагонадежного киевского адвоката заинтересует наверняка. Собирался пересказать Евгению Сойке, потому что в письме всего не опишешь. Перлюстрацию и цензуру не отменил в Российской империи даже известный царский Манифест, выпущенный в бурном октябре тысяча девятьсот пятого года[25].
А год назад, после его отмены, все вернулось, еще и сторицей. Не такая тайна — быть обвиненным как приспешник деятельности запрещенных антигосударственных организаций, находиться под следствием и провести целых три недели в казематах «Косого капонира», киевской политической тюрьмы. Его же выпустили, пусть ценой невероятных усилий, приложенных отцовскими знакомыми. Еще и разрешили покинуть страну. Клим тогда не задумывался, в эмиграцию отправляется или только пересидит за границей, пока все окончательно уляжется. Освобождение, закрытие дела и выправленные без задержки документы — все это не делало Кошевого опасным и потенциальным нарушителем австрийских законов.
Тем не менее он решил не особо распространяться о своем недавнем прошлом. Хотя бы потому, что сам не дал всему однозначной оценки. Как надо было действовать: сидеть и не рыпаться, когда против университетских друзей клепали дело с явной удавкой в приговоре, — или стать одним из них, оставить только начатую практику и перейти по чужому примеру на нелегальное положение. В нем только на первый, очень беглый взгляд самая романтика с паролями, явками, переодеваниями, гримированием и частыми изменениями маски — что-то вроде опытов Арсена Люпена, героя новых французских сенсационных новелл, написанных неким мсье Лебланом[26], которые Клим с восторгом прочел недавно.
На самом же деле шарахаться от собственной тени и постепенно деградировать, превращаясь в типичного изгнанника, Кошевой не имел намерения. Проще принять волю в виде подачки от своего следователя, жандармского ротмистра с постоянно красным лицом, разорвать все налаженные отношения несколькими резкими отчаянными движениями — и уехать в неизвестность, на Запад, сев на поезд до Львова…
Даже в таком, максимально сжатом виде Кошевой решил не пересказывать Йозефу Шацком историю своего появления в городе. Ограничился объяснением: попал по стечению обстоятельств в тюрьму, где во время допроса жандармский следователь решил освежить память арестанта, позвал в кабинет двух служак, и костоломы так увлеклись, что несколько раз сильно ударили жертву головой о каменную стену. Отлили водой, хотели мутузить упрямца дальше. Вдруг пришел пан капитан, устроил разнос всем присутствующим, велел позвать врача, и после того его два дня не таскали на допросы. Придя в себя, Клим почувствовал, как с тех пор начал дергаться правый глаз.
Ему объяснили — нервный тик.
Бывает.
Когда черепом о что-то крепкое сильно стукнешься.
Врач обещал: пройдет. Когда, что для того надо делать — не сказал. И за все время, что жил теперь с тиком, привыкая к нему очень медленно, Кошевой уловил лишь одну особенность: правое веко дергается и будто подмигивает, стоило Климу хоть немного начать нервничать.
— Так ясно, все оно от нервов! — согласился Шацкий так активно, словно до него никто не мог объяснить причины. — Вам, молодой человек, надо серьезно думать о здоровье. И начинать лучше уже сейчас, потому что со временем ваш тик станет совсем неизлечимым.
— Разве еще можно вылечить?
— Если опустить вас глубоко под землю и оставить одного на долгое время. Будете вести жизнь монаха-схимника, больше нигде нельзя гарантировать покой. Но, что печальнее, даже после пещерной терапии не обещаю вам полного выздоровления. Наше время к этому не способствует, поверьте старому жиду.
— Да знаю, — кивнул Клим, тут же добавляя: — И не такой уж вы старый, пане Шацкий. Вот сколько вам лет?
Товарищ по несчастью снова уже привычно поцокал.
— Разве есть разница, когда я все равно не выгляжу на свои? Как говорит моя жена, тебе, Йозеф, лучше, когда тебя все, кто видят, считают старым и мудрым евреем. Спросите, почему.
— Почему? — послушно поинтересовался Кошевой.
— Потому, что из трех выводов верным будет только один.
— Какой?
— Тот, что Йозеф Шацкий является жидом, — новый знакомый шутовато кивнул. — Не таким старым, как кажется. Не таким мудрым, как хочется. Это слова моей жены, так. Но с Эстер Шацкой, в девичестве Боярской, дочерью мудрого и почитаемого далеко за Кракидалами[27] лавочника Исаака Боярского, я спорить не имею намерения и желания. Когда уже снова про ваше вот это, — он коснулся собственного глаза, — то лучший выход — держать себя в руках. Не брать дурного в голову. И увидите сами, пане Кошевой: пройдет. Ваше досадное око напомнит о себе разве что в пиковых случаях. И вы правильно сделали.
— Что именно?
— Нашли, куда приехать. Думали, тут есть покой? Ха! У нас во Львове тоже есть определенные потрясения. Если мир исподволь, но упорно становится дыбом, почему наш прекрасный прогрессивный город должен оставаться в стороне от бурных процессов? Но тут хоть как спокойнее, чем у вас. Придете в себя, вот вспомните мои слова.
Все время, пока они общались, Клим сидел на своих нарах, а Шацкий мерил шагами камеру от дверей до стены и, казалось, отдельные слова говорил стенам или зарешеченному окошку. Разговаривая, не всегда смотрел на собеседника, как того требовали услышанные Кошевым где-то когда-то правила. Несмотря на то что новый знакомый постоянно двигался, все равно был напротив. Поэтому Климу удалось разглядеть сокамерника.
Йозефу действительно можно было дать с равным успехом хоть сорок, хоть пятьдесят лет. Не полный, но и не худой. Пиджак с длинными полами даже в тусклом свете камеры выглядел грязноватым, еще и висел на хозяине свободно. Это производило ложное впечатление. Шацкий таки казался худощавым. Однако в процессе разговора он время от времени, увлекшись, дергал пиджак за края, пуговицы на нем были расстегнуты, показывая, что под низом светлая, наглухо, почти под горло, застегнутая рубашка с высоким воротником. Поэтому Кошевой понял: пиджак лекарю просто великоват. Скорее всего, он нарочно надевает именно такой, чтобы казаться солиднее.
При его росте ниже среднего, намерение было вполне понятным. Когда они стояли друг напротив друга, Клим заметил: разница между ними больше чем на полголовы, не в пользу сокамерника. Растрепанные, с виду неопрятные, начавшие седеть, но все же довольно бережно постриженные кудри. Ухоженнее выглядела борода, ее тоже тронуло серебром, и густой она не была. Похоже, ее чаще, чем волос, касались ножницы парикмахера. Удлиненное лицо украшали мясистые, немножко торчащие уши и прямой, широковатый, с небольшой орлиной горбинкой нос.
Словом, ничего во внешности не подсказывало, сколько лет уже прожил на свете зубной лекарь Йозеф Шацкий.
Хотя Клима старше, даже речи нет.
Еще Кошевого сперва изрядно насторожило, когда новый знакомый так, не смущаясь, не запнувшись ни на секунду, назвал себя жидом.
В доме, где родился и вырос Клим, употреблять это слово было категорически не принято. Не только потому, что среди добрых отцовских приятелей встречалось немало известных киевских евреев. Считая себя ярым либералом, он вообще ополчался на брошенное пусть невольно, без задней мысли, просто по привычке слово «жид». Если же оно звучало в его присутствии умышленно, и тот, кто говорил, понимал, что и для чего говорит, скандал не медлил. Отец не подбирал выражений, вплоть до требования нарушителя покинуть помещение, уйти прочь, и обещаний приложить все усилия, чтобы подобным черносотенцам больше не подавали руки в приличных обществах.
Один из тех, кого Назар Григорьевич Кошевой публично выставил, оказался жандармским офицером. Пришел в штатском, и все присутствующие, включая отца, знали о его кабинете в доме на Бульварно-Кудрявской[28] и мундире в шкафу. Впоследствии именно он приложил усилия, чтобы Клим не отделался легким испугом, хотя мог, а оказался в казематах киевского Шлиссельбурга. И именно с ним пришлось униженно иметь дело Назару Григорьевичу, когда тот начал хлопотать об освобождении сына…
Когда Кошевой, смущаясь и старательно подбирая слова, решил удовлетворить собственное любопытство, Шацкий воспринял это спокойно. Пояснил, что после того как восемь лет назад император помиловал несчастного Леопольда Хильстнера[29], на всей территории империи никто ничего не слышал о погромах. То есть, может, где-то они и были, даже наверное были — такова уж судьба его избранного народа. Но на поверку оказывались следствием частных недоразумений между поляками и евреями, чем действом, одобренным чуть ли не на официальном уровне и умышленно замолчанным.
Молодого Хильстнера обвинили в ритуальном убийстве христианской девушки. Погромы вспыхнули далеко отсюда, в Богемии. И то, как поспешил объяснить Шацкий, на очень короткое время. До того случая тоже добрый Бог оберегал евреев, в частности — львовских, от таких позорных действий.
Поэтому Йозеф успокоил Клима: в городе, более чем на треть заселенном иудеями, еврейские погромы устроят разве самоубийцы. Значит, не надо бояться и негативно воспринимать слова, публичное употребление которых подданными Его Величества императора Николая Второго всегда было словесной разминкой перед грубой, позорной, часто — кровавой вакханалией.
На том разговоры вокруг самоопределения по обоюдному согласию решили прекратить.
А другой начать не успели.
Нашли бы тему. Например, Шацкого изрядно волновало, что думает Кошевой о самоубийстве своего товарища. Ибо кого-кого, а пана адвоката Йозеф знал, правда, в основном по слухам. Уже вознамерился рассказать о нем много интересных историй.
Но в замке снаружи повернулся ключ.
Задержанного Клима Кошевого попросили на выход.
Глава пятая Женщина из потайной комнаты
— Что у вас с глазом?
— Тик, — второй раз за день объяснил он, решив не вдаваться перед следователем в лишние подробности, ограничился коротким: — На нервной почве.
— Такой молодой, а уже нервы.
Следователь криминальной полиции, высокий сухой поляк, чем-то похожий на сверчка, принадлежал к людям, которых трудно представить без очков.
Увидев его, Клим подумал: этот пан Ольшанский в них спит, не иначе. Без очков удлиненное лицо, украшенное жесткой щеточкой усов под острым носом, делало грозного чиновника беззащитным. Так, словно следователь стоял полностью голый в толпе и все вокруг чихать хотели на его полицейскую должность.
Переносица была такой тонкой, что перепонка очков удерживалась на нем очень плохо, постоянно скользила, и Ольшанский регулярно поправлял их указательным пальцем. Когда дужка продвигалась вниз, следователю приходилось смотреть на мир поверх очков, от чего взгляд его становился подозрительным.
По крайней мере так казалось Кошевому всякий раз.
И он напрягался: вдруг с языка невольно слетело что-то, способное навредить.
— Значит, говорите, хорошо знали пана адвоката Сойку?
— У него была практика в Киеве. Он старше… был старше меня. Не на много, на пять лет, но все равно опыта больше. Да и имя уже было, в нужных кругах его знали. Я тогда как раз закончил университет, Евгений Павлович взял меня в помощники.
— Евгений Павлович, — повторил следователь. — У нас не говорят по отцу, когда вспоминают человека, — пояснил следователь. — Русины разве время от времени так обращаются. Или москвофилы.
— Кто?
— Имеем такое сообщество. Еще узнаете… или нет. Но в целом отчество тут не распространенная практика. Объясняю, потому что как надумаете конспирироваться, имейте себе в виду.
— Для чего мне конспирироваться? — пожал плечами Кошевой. — Я уже вышел из того возраста, когда играют в шпионов.
— А книжки читаете подобные, — пан Ольшанский кивнул на саквояж Клима, который стоял на широкой лавке в углу, вскрытый и выпотрошенный. — О шпионах, между прочим, уместно вспомнили. Тут, во Львове, такие разговоры давно уже, увы, не пустые.
— Вы считаете меня шпионом? Российским?
— Если бы так было, пане Кошевой, вами бы занималась контрразведка. Просто знайте: всякий, кто пересекает Збруч, может, — следователь поднял длинный худой палец с маникюром, — повторяю, может быть российским шпионом. Сейчас международное положение… Да вы, наверное, знаете, читаете прессу. К тому же именно из Российской империи в последнее время сюда, к нам, перебираются различные подрывные элементы.
— Почему вы заговорили со мной об этом?
— Потому что вас, извиняюсь, застали на квартире пана Геника Сойки.
— Подождите. — Кошевой подался немного вперед. — Меня никто нигде не застал. Наоборот, это я застал пана Сойку, своего товарища, мертвым в закрытом помещении. Поэтому есть аж двое свидетелей, с домовладельцем — трое. Вместо того чтобы расспросить на месте, как положено, или взять объяснение в полицейском участке, меня запирают в камеру. Будто действительно подозревают в убийстве.
Следователь взглянул на Клима поверх очков.
Потом привычным жестом примостил их на носу, откинулся на высокую спинку стула.
Помолчав, встал, обошел стол и встал напротив Кошевого, скрестив руки на груди.
Теперь он смотрел на собеседника сверху, от чего тому сделалось неуютно, и Клим тоже встал, чтобы хоть так держаться с паном Ольшанским на равных.
— Я недаром заговорил о шпионах, пане Кошевой. Вас задержали не за то, что вы первым увидели тело адвоката Сойки. Вы приехали к нему из-за границы. Вы — подданный русского царя, если просто сейчас не захотите это подданство поменять. Конечно, вы не должны были знать: всякую связь пана Сойки с российскими подданными с недавних пор велено брать на отдельную заметку. Такое указание разослано по всему полицейскому управлению.
— Ничего не понимаю, — честно признался Клим.
— Покойный пан адвокат в последнее время поддерживал весьма подозрительные связи. Изучать их и проверять не входит в нашу компетенцию, — пояснил Ольшанский. — То есть, если уж быть совсем точным в определениях, политическая полиция обнаружила контакты своих здешних подопечных с паном Сойкою. За ним специально не следили. Но в поле зрения полиции он попал за свою неразборчивость в отношениях. Которая, между прочим, за ним водилась давно. Вы знали его по Киеву. Скажите, раньше он тоже имел сомнительную клиентуру?
— Мы с вами юристы, — ответил Кошевой и, увидев, как брови следователя удивленно поднялись вверх, быстро растолковал: — Я тоже адвокат, вы — следователь, оба юристы. Изучали право в разное время, в разных местах, но право есть право.
— Для чего вы, прошу пана, мне это сейчас сказали?
— Криминальная полиция имеет дело в основном не с лучшими членами общества. Может, вы бы хотели, чтобы служебный долг требовал от вас слушать поэзию или каждый вечер бывать в опере, — Клим ощутил, как медленно распаляется, глаз дернулся сильнее. — Однако вам в этот кабинет приводят тех, кто совершил преступление или что-то знает о совершенном преступлении. Итак, народ подозрительный, как ни крути, согласны?
Следователь потер переносицу, подтолкнув при этом очки.
— Интересный подход. Оригинальное толкование. Странно, вы правы. Только что хотите доказать, кроме правоты?
— Адвокаты, пане Ольшанский, в основном так же не вольны выбирать круг профессионального общения. Прокурор обвиняет. Адвокат защищает. Для нас обоих человек — либо преступник, либо просто имеет сомнительную репутацию. Пока, конечно, защита не приложила должных усилий, чтобы доказать обратное. Поэтому с точки зрения полицейского, клиентура любого адвоката всегда сомнительна. Разве не так?
— Есть резон, — кивнул тот. — С другой стороны, сказанное сейчас вами — не что иное, как типичный образец демагогии. Адвокаты владеют искусством морочить голову профессионально. Называть черное белым — это же ваш конек.
— Мой?
— Панов адвокатов. Всех вас.
— В таком случае извините, но конек полицейских следователей и прокуроров — называть белое черным. Мы отбеливаем людей, вы пытаетесь очернить. Как вот меня, скажем.
— Почему это я хочу вас очернить?
— Подозреваете бог знает в чем только через знакомство с жертвой, которая нажила себе, как я успел понять, не слишком хорошую репутацию. Между тем, мое появление совсем не подозрительно. Если пан Сойка не уничтожил мои письма к нему, можете найти их среди бумаг покойного. И прочитать, как я интересуюсь возможностью приехать во Львов, прошу поддержать на первое время. Почему я уехал из Киева — разговор отдельный. И не касается того, что произошло.
— Вы мыслите логично, пане Кошевой, — снова согласился следователь. — Однако я так же объяснил причину вашего задержания. Конечно же, вас никто не подозревает в причастности к тому, что пан Геник наложил на себя руки.
— Самоубийство?
— Предварительный вывод таков.
Ольшанский вернулся за стол, что позволило Климу снова сесть, устраиваясь поудобнее. Следователь пододвинул к себе большую картонную папку, развернул, поправил очки, вытащил из-под низу исписанный лист, откашлялся.
— Так, признаков насилия на теле нет. Выстрел в висок, с близкого расстояния. Перед тем употреблял алкоголь, на столе графин с наливкой. Видимо, принял решение, выпил для храбрости. Учитывая сомнительные связи и интерес к его персоне соответствующих органов, свести счеты с жизнью пан Сойка считал лучшим для себя выходом. Теперь остается узнать, что побудило его пустить пулю в голову. Дело закроют и передадут в политический розыск. Мне кажется, выяснение причин этого поступка — это уже их приход.
Веко дернулось сильнее.
— Вполне может быть, — согласился Кошевой. — Я человек тут новый, только утром приехал в город, раньше никогда тут не бывал. Вы наверняка больше знаете. Да и следы могут далеко увести. Только же это не самоубийство.
Дужка очков снова съехала с переносицы следователя. Следующий вопрос прозвучал очень наивно:
— А что случилось, по-вашему?
— Не по-моему. Это не предположение, пане Ольшанский. Убийство, типичное убийство в запертой комнате. Как в книгах, такое часто придумывают.
— Сейчас вы тоже придумываете, начитавшись книг?
— Ничего не придумываю. Адвоката Евгения Сойку убили. И вам придется расследовать убийство.
— Вот как! — послышалось вдруг позади него.
Прозвучало внезапно, Клим аж дернулся от неожиданности, словно кто над ухом выстрелил.
А голос за спиной продолжал:
— Убийство, говорите? С чего вы это взяли, интересно послушать.
Женщина прошла сквозь стену.
Так показалось Кошевому в первый миг, когда он повернулся на голос и увидел ее не за спиной, а с левой стороны от себя. Было еще одно обстоятельство: скрипучая дверь кабинета. Противный звук резанул Климу уши. Мелькнуло — почему не позвать мастера, чтобы смазал. Поэтому он бы наверняка услышал, если бы кто-то открывал их, входя. Но нет, женщина появилась, как будто родилась из воздуха.
Конечно, это невозможно. Так же, как проход сквозь стену, она не дух или призрак, вполне реальное существо. Из плоти, крови, еще и в невидимом, зато хорошо ощутимом облачке чрезвычайно тонкого, изысканного аромата. Незнакомка имела прекрасный вкус, и это определялось не только запахами.
Наряжена она была безупречно.
Причем Клим, не считая себя большим знатоком моды, таки обратил внимание: дама сама давала указания своему портному. Стремясь одновременно придерживаться последних модных течений и оставить за собой право на индивидуальные удобства. Модерн, который в последнее время ценили дамы, кое — где — в почтенном возрасте, требовал подчеркивать тонкость талии. Платье было черным, но не резало глаза, не делало ее обладательницу мрачной или зловещей. Наоборот, даже черный цвет может давать мягкий бархатный оттенок. А серый широкий пояс, словно разделив туловище надвое точно посередине, лишь добавлял одежде стиля, удивительным образом подчеркивая противоречивую натуру незнакомки.
Верхняя часть завершалась вырезом, достаточно большим, чтобы подчеркнуть округлость белых плеч и не прятать уж очень грудь, — и при этом не слишком смелым, чтобы давать волю наглым и бесстыдным мужским глазам. Женщина оставила им безграничный простор для фантазии. Зато нижняя часть немного спорила с модой. Юбка, вопреки ее требованиям, была раскроена и пошита так, чтобы не сдерживать, а позволять пани свободно двигаться.
Присмотревшись, Клим заметил узор — тонкая лиана вилась от края платья вверх вокруг талии, прячась там под пояском и выныривая снова, чтобы целомудренно и в то же время — вызывающе обвить лиф.
Путь лианы очерчивал мелкий бисер. Руки женщина спрятала под тонкие черные полупрозрачные перчатки, левое запястье сжимал массивный, украшенный стразами браслет. Рукой поигрывала сложенным веером, легонько постукивая им по левой ладони. Каштановые волосы скрывались под элегантной шляпкой с не слишком широкими полями, что, как невольно отметил Кошевой, обычно тоже до определенной степени сковывает, делая женщину не совсем грациозной.
Она хочет всегда чувствовать себя комфортно и добивается этого, подытожил Клим.
Увидев, как вскочил ей навстречу Ольшанский, едва не опрокинув при этом стул, понял — эта женщина зашла не случайно. А ее появление, как и сама персона, имеет для следователя огромное, пока что неразгаданное значение. Поднявшись и сам, Клим дождался, пока полицейский расшаркается и поцелует любезно протянутую руку, и за это короткое время понял: не из воздуха она и не сквозь стену появилась. Как все люди, через дверь. Их прямоугольник просматривался на стене, просто замаскирован, сливается с краской.
Значит, тут рядом обустроена тайная комната. Тот, кто сидит в ней, слышит разговор. Все вполне понятно, за исключением одного: кто же такая эта дама, если ей разрешено незаметное присутствие на допросах. А следователь криминальной полиции еще и воспринимает это за честь. Если так, то и начальник полиции знает о подобной практике, потому что без его ведома в департаменте вряд ли что-то происходит.
Стремительно выстроив всю цепочку, Кошевой сделал единственный возможный вывод: женщина, которая вмешалась в допрос, с какой-то стати имеет весьма значительное влияние по меньшей мере на полицию. И невиданные, вообще необычные для женщин права и возможности. Совсем загадка, если учесть возраст — она выглядела или ровесницей Кошевого, или — даже чуть моложе.
Больше стульев в кабинете не было. Клим взялся за спинку своего, желая предложить даме сесть, но она махнула веером, сделав отрицательный жест, прошла к скамейке, на которой стоял его развороченный саквояж, легко подвинула шмотки, примостилась, элегантно закинула ногу на ногу.
— Прошу панство садиться. — Голос оказался грудным, чуть хрипловатым. И когда мужчины вернулись на свои места, она повторила, обращаясь уже к Кошевому: — Геника Сойку убили. Почему?
— Не знаю, — вырвалось у Клима. — Это уже дело полиции, выяснить обстоятельства. Найти мотив, очертить круг подозреваемых…
— Полиция знает, как работать, — жестко прервала его женщина. — Делает все, что надо делать. Объясните, почему вы отвергаете самоубийство. Ибо я, — теперь серые глаза глянули на Ольшанского, — имею такое же мнение.
— Пани Богданович, но ведь факты! — засуетился следователь. — То есть… Нет фактов! Дверь закрыта изнутри! Окна на втором этаже, тоже прикрыты! Наливка на столе, пистолет в руке, пуля в голове! Никаких следов борьбы, пани Магда! Это же очень просто!
— Пане Ольшанский, мой покойный муж всегда предостерегал от поисков простых решений в сложных вопросах, — произнесла женщина. — Я отвергла самоубийство, потому что знала адвоката Сойку лично. Петух должен был бы снести яйцо, чтобы пан Геник покончил с собой. Однако моей женской интуиции и опыта общения с погибшим не достаточно для полиции. Кому, как не мне, это знать.
— Да, — подхватил ей в тон Ольшанский. — Кому, как не вам, пани Магда.
— У вас, пане Кошевой, наверняка есть объяснение, — загадочная дама снова перевела взгляд на Клима. — Не удивляйтесь, я видела ваш паспорт. Мало пользовались. Новенький, недавно выправили, как я понимаю.
— Это мой первый выезд за границу, — буркнул тот, дальше ляпнул совсем некстати: — Я даже в Париже не был, а туда все мои знакомые собираются, как на богомолье…
— Причем тут Париж и богомолье паломничество? — Тонкие подкрашенные брови Магды поднялись вверх. — Я была в Париже. Но не вижу в этом ничего особенного. Мы, подданные Его Величества императора, имеем возможность свободно путешествовать по Европе. Я уже думала выбраться в Новый Свет, чтобы не… — Тут она замолкла, махнула веером, будто отгоняя прочь ненужные сейчас рассуждения. — Итак, прошу, развейте мои сомнения. Раз вы говорите так уверенно, что адвокат с Лычаковской убит, значит, знаете больше полиции. Слушаем вас.
Теперь на Клима в ожидании смотрели две пары глаз.
Он откашлялся в кулак, вдруг почувствовав собственную значимость.
— Ну, если уже так… Я давно не видел Евгения… пана Сойку, мы только переписывались. Однако, как вы слышали, работал у него помощником. Изучил некоторые привычки. И не думаю, что он их поменял за годы жизни тут, в Европе, во Львове.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я имел больше времени на осмотр места происшествия, чем полиция, — пояснил Кошевой. — Пока за ней бегали, я остался в квартире стеречь ее, никого не пускать. Сам не поверил в самоубийство. Однако, говорю же, длительное время не общался с паном Сойкою тесно. Что-то могло измениться. И раз вы, пани… Богданович, верно?
— Правильно. Дальше.
— Ага, так вот: раз вы, пани Богданович, знакомы с ним настолько, чтобы также отбросить предположение про пулю в лоб, он действительно остался таким, каким был, в отношении к жизни. Конечно, голых предположений мало. Поэтому я позволил себе осмотреть квартиру, пока не подоспела полиция. Пане Ольшанский, не делайте круглых глаз — я как раз собирался сейчас изложить вам свои мысли и поделиться выводами.
— Слушаем вас, — подбодрила Магда.
— В первую очередь — в квартире были посторонние, — сказал Клим. — По меньшей мере один человек, взрослый мужчина. Не друг, но какая-то нужная особа. Важный клиент или деловой партнер.
— Откуда выводы?
Для наглядности Кошевой втянул носом воздух.
— Запахи, пани Богданович, — объяснил, окончательно поняв: сейчас отчитывается именно ей, следователь по неизвестным пока причинам ограничивается лишь пассивной функцией присутствующего слушателя. — В соседней с кабинетом комнате, которую использовал Сойка, как я понимаю, как спальню, было накурено. Табак довольно крепкий, запах стойкий, резкий и, извините, пани, зловонный. Пан Сойка такого не курил, любил ароматный, более тонкий. Начадить мог лишь посетитель, но почему запах так въелся, что продержался аж до утра? Потому что вы верно сказали, пане Ольшанский, — окно спальни закрыто, и то плотно. Еще один вывод — посетитель пробыл в квартире адвоката достаточно долго, раз успел так начадить. Не спасало окно, которое хозяин наверняка же приоткрыл. На улице, я слышал, вчера стояла такая же, необычная для Львова жара. Помещение недостаточно проветрилось, сквозняка не было, откуда взяться.
— Гость ушел, — проговорил следователь, сверившись со своими записями. — Дворник показал: у пана Сойки действительно были люди. Пришли вчера утром. Потом один вышел и не возвращался. Другой сидел до сумерек, но тоже убрался. После того пан адвокат спустился и лишний раз напомнил тому церберу с метлой, чтобы к нему никого не пускал. Не принимает. Я к тому, пани Магда, что пан Геник все равно остался сам в квартире.
— Он и закрыл за собой дверь изнутри, — согласился Клим. — Но кто закрыл окно? Сойка не мог, ну не мог сидеть в доме, пропитанным запахом гадкого табака! Сам курильщик, все ж курильщик-гурман, скажу я вам! К тому же говорим про непростого гостя.
— Почему? — Брови Магды снова поднялись вверх.
— Первого попавшегося, да еще и поклонника зловонного курева, пан Сойка не оставил бы на целый день в своей спальне. Ему там потом спать, понимаете? Под вечер уже не так пекло, дул легкий ветерок.
— Собирался дождик, даже брызнуло, — вставила Магда.
— Тем более! Скажем, в спальне сидел и курил не близкий, но нужный ему человек. Наконец он ушел. Или адвокат выставил его под каким-то предлогом, всякое может быть. Что он сделал бы в первую очередь? Проветрил комнату! — Почувствовав, как глаз сейчас дернулся довольно сильно, Кошевой немного придержал его край рукой, понимая, как забавно выглядит.
— Но створки окна закрыты, да еще и изнутри. Только я внимательно осмотрел их. Не касаясь, конечно, там должны найтись следы, пригодные для снятия пальцевых отпечатков по методу Гелтона.
— Метод Гелтона. Дактилоскопия, — кивнул Ольшанский и буркнул: — Как для обычного адвоката, вы много знаете про наши полицейские дела.
— Разве это плохо? У меня были приятели в киевской розыскной полиции. Я же некоторое время специализировался преимущественно по уголовным делам. Мне когда-то объясняли про один нехитрый кунштюк из практики квартирных воров.
— Квартирных воров?
— Именно так, пани Магда, — теперь Клим чувствовал к себе немалый искренний интерес. — Створки закрываются на крючок. Он обычно немного изогнутый. Если осторожно закрепить его в вертикальном положении, а затем извне потянуть на себя створки, сильно хлопнув в нужный момент, крючок упадет точно в паз. Вуаля, окно закрыто. — Он картинно развел руками. — Не думаю, что местные воры-домушники отличаются от киевских по подходам.
Хозяин кабинета кашлянул, напоминая о себе.
— Во Львове, Вене, Париже, Берлине или Праге, шановне панство, воры залезают в дома через окна, чтобы сделать свое дело. Они, извиняюсь, не договариваются между собой о правилах. Как-то так повелось в мире: в разных частях земного шара воры сами доходят до того, что когда двери закрыты, надо не копать под стеной, а непрошенно заходить другим, более простым способом. Ваши доводы, пане Кошевой, довольно логичны. Но! — Ольшанский многозначительно поднял вверх палец. — Сами говорите, имели коллег в криминальной полиции. Так они должны были вам объяснить: вор, чье ремесло — квартирные кражи, никогда не будет убивать человека.
— Говорите нечто, — сухо молвила Магда.
Клим развел руками.
— Что говорить? Я объяснил, почему, по моему мнению, адвоката Сойку убили. И ничего не сказал о том, что убийца и вор — одно лицо. Более того, вряд ли следует искать обычного вора. Судя по поведению пана Геника, как его тут называют, у него были тайны. Скажем, не хотел, чтобы его гостя видел тот цербер при входе. К тому же, пани и панове, я собственными глазами видел — следов борьбы не было. Сойка подпустил своего убийцу близко. А значит, не удивился, что именно этот человек пришел не через дверь, а через окно. Они могли даже договориться об этом… Убийца, сделав свое дело, ушел, я пришел. Только сделал все для того, чтобы сложилось впечатление: квартира жертвы закрыта со всех сторон, изнутри. Убийство в запертой комнате, говорю же вам. Классика жанра.
— Это лишь предположение, — буркнул Ольшанский.
— Верно. И заниматься дальше, проверяя их и устанавливая истину, — дело полиции. Извините, может показаться, я беру на себя смелость указывать вам в вашем городе и вашей стране, как надо работать…
— Видно, что адвокат, — прервал следователь. — Плетете так же густо и пышно, как покойный пан Сойка. И вся остальная ваша живая братия…
— Пане Ольшанский, — сказала Магда, вновь легонько стукнув себя по левой ладони веером, — адвокат Кошевой — свидетель, не подозреваемый. Как известно, я не очень разбираюсь в полицейской работе. Однако мой покойный муж прислушался бы к словам этого человека. Согласны?
— Никто лучше вас не знал шановного пана Густава, пани Магда, — в голосе следователя Клим услышал покорность и капитуляцию. — Честно говоря, так даже лучше.
— Как? — Магда пронзила его острым взглядом.
— Убийство.
— Лучше, что Сойку убили? — вырвалось у Кошевого.
Ольшанский покраснел, на мгновение утратил контроль, однако, быстро опомнившись, пояснил:
— Самоубийство — большой грех, пане адвокат. Тот, кто сводит счеты с жизнью по доброй воле, бросает вызов самому Творцу. А так пан Евгений Сойка — жертва ужасного преступления. Его похоронят достойно, не возникнет проблем, как это случается с самоубийцами. Полиция же будет искать, кто это сделал. И все равно… Ваших догадок пока мало, прошу пана.
Кошевой пожал плечами.
— Так принимайте еще подарки, мне не жалко. — Говоря, он смотрел на Магду, снова словно рапортуя ей: — Самоубийцы оставляют записки. Или обвиняют в своей смерти весь мир, или — прощаются, не обвиняя никого. Рядом с телом ни одного послания не найдено. Корзина для мусора пустая.
— Тот случай, когда мог не написать прощального послания, — отметил Ольшанский.
— Может быть, — легко согласился Клим. — Только же есть еще пистолет.
— Покойник держал его в руке.
Кошевой качнул головой.
— Не держал. Человек, стреляя себе в голову, не падает так, как лежал на полу Сойка. Руки раскинуты, как крылья. В разные стороны, достаточно широко. Пистолет мог выпасть. Мог остаться в руке. Но в любом случае рука непременно прижалась бы к туловищу. Хоть левая, хоть правая. — Сейчас Клим говорил, старательно подбирая слова, чтобы сказанное звучало максимально точно и не имело двойного смысла: — Я внимательно рассмотрел тело, пока ждал полицию. Пистолет положили под правую ладонь. Странно, почему полиция этого не заметила…
Глава шестая Двадцать крон и еврейское счастье
Клим вышел из полицейской управы на улицу с ощущением, будто его оправдали и выпустили на свободу.
Только настроение все равно ухудшилось по сравнению с утренним. Уже исчез эффект новизны. Развеялась эйфория от приезда не только в новый город или на новое место, а в действительно иной мир. Сейчас чувствовал себя побежденным. Представил себя в каменном мешке, из которого нет выхода. Незнакомое, но интересное за несколько часов стало чужим, враждебным. Город победил его, погрузив в свои обычаи, языковое разнообразие, предложив иные, не менее суровые законы бытия.
Ведь дело даже не в наглой смерти Евгения Сойки — единственного знакомого Климу человека, на чьи советы он собирался опираться поначалу. В письме адвокат писал, что по приезде младший коллега может пожить у него, пока не встанет на ноги. Обещал поддержку. Намекнул: помощник нужен и во Львове. Поэтому Кошевой сможет освоиться на новом месте и в новой стране, впоследствии — еще и начать, как планировалось, собственную практику.
Однако знакомства и опыт — наживное. Убийство Сойки — трагическое стечение обстоятельств, но вследствие этого Клим остался без крыши на головой. И, что самое главное, без денег, а значит — без всяких возможностей арендовать угол.
О возвращении обратно в Киев не могло быть и речи. Не арестуют сразу. Но проблемы все равно будут, и не только они. «Волчий билет» выписан, поэтому в лучшем случае придется наниматься дворником или грузчиком, в худшем — выезжать далеко в Сибирь, в ссылку, под полицейский надзор. Почему-то Кошевому казалось, что его таки отправят в холодные края: так можно гордо отчитаться об успешной борьбе с неблагонадежными элементами.
Нет, возвращение исключено. По крайней мере — в ближайшие годы.
К тому же средств даже на дешевый билет не было. Заложить в ломбарде тоже ничего не получится, несессер — чуть не единственная его ценность. Поэтому Клим не спешил уходить от полицейского здания, прохаживался по каменному тротуару и покачивал упакованным саквояжем. Ему просто некуда было идти. И никаких мыслей по этому поводу в голову не приходило.
— Молодой человек! — послышалось сзади.
Звал Шацкий. В отличие от Клима, он светился от удовольствия и в то же время выглядел озабоченным, сосредоточенным и суетливым. Когда приблизился, Кошевой заметил то, чего не разглядел в плохо освещенной камере: из ушей и ноздрей Йозефа торчали неаккуратными пучками кустики волос. А брови были густыми, что вкупе делало нового знакомого похожим на лесное создание из сказок, которое очистилось от листьев и мха, надело потрепанный городской костюм и шляпу.
— Вас выпустили, пане Шацкий?
— Еще лучше, пане Кошевой, — меня оправдали!
— Но, насколько я понимаю, вас ни в чем официально не обвиняли, чтобы эти обвинения снять.
— Перед Шацким извинились! — торжественно заявил тот, расправив плечи и выпятив колесом тощую грудь. — Я требовал, чтобы они написали на гербовой бумаге, что не имеют доказательств проведения мной подпольных абортов! Я покажу это моей Эстер. Потому что она уже знает, за что меня задержала полиция на глазах у всех Кракидалов! Сейчас это главная новость, и я подкину им всем разговоров еще на день!
— Как это?
— А так! Сейчас жиды Кракидалов, если не все жиды Львова, обсуждают низость вашего покорного слуги. Женщины жалеют мою Эстер и наших детей, у которых, оказывается, такой бессовестный отец. Теперь же те же самые евреи начнут вслух думать, кто бы это мог наклепать на Шацкого, смешивая его честное имя с наигрязнейшей в городе грязью! Куда и денется скука, это я вам говорю!
— И вам выдали бумагу?
— Попробовали бы не выдать! — Йозеф хотел вытащить спасительный документ из кармана и похвастаться, но в последний момент передумал, лишь похлопал себя ладонью по тому месту, где в пиджаке был внутренний карман. — Я, извиняюсь, знаю свои права! Можете поздравить!
Клим протянул Шацкому руку, которую тот крепко схватил, пожал и сильно тряхнул. Собрался еще что-то сказать — и замер, так и не выпуская руку. Перехватив его взгляд, Кошевой увидел Магду Богданович.
Дверь молодой женщине открыл самолично дебелый грубый усач в форменном мундире. Высокий чин, не иначе. Полицейский при входе вытянулся, взял под козырек, и Магда качнула веером в его сторону, давая понять — заметила и оценила. Тут же подоспел открытый фаэтон. Пока пани Богданович, опираясь на любезно протянутую руку спутника, садилась в коляску, из помещения вышел следователь Ольшанский, для чего-то показав полицейскому сжатый кулак. Магда уже села, усач приложился губами к затянутой перчаткой женской кисти, Ольшанский раскланялся, даже шаркнул ногой, причем получилось у него довольно изящно. Кучер дернул вожжами, фаэтон тронулся, пассажирка кивнула полицейским чиновникам на прощание.
Дождавшись, пока гостья исчезнет за ближайшим углом, грубый, с виду — старший над Ольшанским, покосился в сторону Кошевого. Со своего места Клим заметил: взгляд неприязненный. Что имел высокий полицейский начальник против него лично, молодой адвокат не понял. Между тем усач, буркнув что-то следователю, вернулся в помещение, уже не глядя на Клима.
— Пан Понятовский, — проговорил Шацкий.
— Кто это?
— Томаш Понятовский. Начальник департамента криминальной полиции, — охотно пояснил Йозеф. — Но если бы тут, прошу пана, было в этот момент другое полицейское руководство, пани Магду провожали бы так же торжественно. С ней здоровается сам президент города. А полиция считается, независимо от департамента. И что полиция, пане Кошевой! Пани Богданович целует ручку большая половина депутатов сейма!
— У нее влиятельный муж?
Ответить Шацкий не успел — к ним самим приближался следователь, ослабляя на ходу галстук. Йозеф сложил вместе указательный и средний пальцы, приложил к краю шляпы, отвесив легкий поклон.
— Мое почтение, пане Ольшанский! Как ваш второй коренной снизу?
— Оставьте нас на минутку, господин Шацкий, — процедил тот, игнорируя его слова.
Когда лекарь послушно отошел подальше, следователь встал перед Климом, заложив согнутые большие пальцы обеих рук в боковые кармашки жилетки. От этого его сухая фигура стала еще больше напоминать большого сверчка. Глядя прямо в глаза Кошевому сквозь круглые стекла очков, Ольшанский заговорил тоном, который не предусматривал разговор. Так зачитывают распоряжение, обязательное для выполнения.
— Вы очень внимательный и наблюдательный человек, пане Кошевой. Не ждите только, что криминальная полиция будет вам за это благодарна. И даже привлечет консультантом. Пани Богданович считает ваши выводы достойными внимания. Поэтому полиция будет искать убийц Сойки… если в процессе не найдется доказательств, что он таки наложил на себя руки. Но его похоронят, как положено. Хоть тут спасли репутацию своего старшего товарища. Поэтому советую вам, и не только от своего имени, а от имени руководства департамента: больше к делам полиции не приближайтесь. Вознаграждение за это и помощь — ваше лицо не будут проверять так пристально, как того заслуживают близкие знакомые пана Геника. Пусть вы не виделись много лет. Для нас этот факт ничего не означает и вас не оправдывает.
Веко сильно дернулось.
— Оправдывает? Я провинился уже тем, что знал адвоката Сойку раньше и работал с ним?
— Позвольте больше ничего не объяснять вам, пане Кошевой, — отчеканил следователь. — Иначе вы снова захотите влезть в дела, которые вас вовсе не касаются. И вот, — правая рука выудила из жилетного кармашка сложенную в несколько раз ассигнацию: — Тут двадцать корон. Вас обокрали, но вы помогли полиции. Можете считать это небольшой премией от департамента. Оставить в Львове без денег человека, который не имеет знакомых и жилья, опасно не только с точки зрения морали, а и с точки зрения закона. Вдруг приспичит заполучить копейку незаконным путем.
Высвободив левую руку, Ольшанский взял Клима за правую кисть, вложил купюру в ладонь, зажал кулак, отпустил. Только тогда отступил, взмахнул рукой.
— Желаю вам успехов, пане Кошевой. И больше не встречаться при подобных печальных обстоятельствах. Пожалуй, с такими умными нам лучше вообще сталкиваться нечасто.
Сказав так, следователь повернулся и неторопливо направился в помещение. Он еще не успел зайти в дверь, как Шацкий уже стоял рядом, дергал Клима за локоть:
— Что такое? О чем он говорил с вами?
— Похоже, адвоката Сойку не уважали в департаменте полиции, — задумчиво молвил Кошевой, разжимая кулак. — И, кажется, государственный служащий ткнул мне подачку, чтобы я убрался отсюда поскорее. Вам полицейские давали взятки, пане Шацкий?
— Не знаю, как называются деньги, которые они платят за то, чтобы Шацкий наводил порядок в их ртах, — вздохнул Йозеф. — За работу мало, как говорит моя Эстер. Хотя она убеждена, что я себя вообще невысоко ценю. Иначе давно уже завладел бы всем золотом мира. Но все же дают достаточно для того, чтобы я держался за свою клиентуру. Курица клюет по зернышку, молодой человек, и вы видите перед собой именно такую курицу… Почему мы стоим?
— Идите, — вздохнул Клим, далее сжимая купюру в пальцах. — Я вас не задерживаю.
— Я пойду, — согласился Шацкий. — А куда денете себя вы? Вспоминая вашу невеселую историю, эти двадцать корон можно считать, что упали с неба. Только этого не достаточно, чтобы продержаться долго.
— Тонкое наблюдение, — согласился Кошевой. — Вы что-то предлагаете, пане Шацкий?
— Приглашаю вас к себе в гости, раз вы все равно не имеете других идей. — Йозеф сделал широкий жест, аристократично взмахнув кистью. — Увидите, где живу. Попробуем уговорить мою Эстер накормить вас. Ибо урчание в вашем желудке я слышал, еще когда мы сидели в одной камере. И потом, вам же хочется узнать, почему перед пани Магдой Богданович так дрожат сильные города сего.
— Интригуете, — улыбнулся Клим, пряча деньги в карман. — Даже не персона пани Магды, а возможность положить что-то на зуб. Выбора у меня нет. Ведите, пане Шацкий.
Лекарь поцокал губами.
— Знаете, мы с вами за короткое время пережили много несправедливого. Нас лишили свободы, что есть совершенно недопустимо для невинного человека. Поэтому, получается, между нами должна установиться теснейшая связь. Больше доверия.
— Может быть, — сказал Кошевой осторожно. — А… вы к чему это сейчас…
— К тому, молодой человек: предлагаю отныне перестать панькаться. Можете называть меня просто Шацкий. Или — просто Йозеф. Ценю вашу русское благородство, но лучше со мной без церемоний. Согласны?
Клим молча пожал протянутую руку.
Шли пешком.
Кошевой сначала хотел говорить дальше, слишком много вопросов набралось к неожиданному проводнику и даже спасителю. Уже понял: этот еврей не такой простой человек, каким выглядит или хочет казаться. Знает достаточно много, и источники таких знаний, как чувствовал Клим, долго останутся для него загадкой. Что-то подсказывало: пока не определился сам с ближайшим будущим, придется держаться Шацкого, хочет он того или нет. Сам же Йозеф явно радовался своей миссии, из чего напрашивался странный вывод: зубному лекарю, который всем себя восхваляет, менее всего хочется лечить зубы. По крайней мере копаться каждый день в чужих ртах — не совсем то, чему Шацкий желал бы посвятить всю свою активную жизнь или хотя бы большую ее часть.
И вскоре после того как тронулись, всякое желание болтать на ходу исчезло. С самого утра Клим пережил в незнакомом, совсем чужом городе столько событий, что уже невольно считал себя его частью — до того момента, пока Йозеф не повел его за собой неширокими извилистыми улицами. Кошевой снова растерялся, хотя имел поводыря: понял — оставшись сам, никогда бы не выбрался из места, которое уже окрестил огромным каменным лабиринтом. Ощущение беспомощности множилось еще и от того, что старый город жил. По этим улицам спокойно ходили люди. Кто-то спешил по делам, кто — то — просто гулял, но все прохожие чувствовали себя свободно, словно у себя дома.
Собственно, дома они и были. Голова Клима шла кругом от того, что он тут на много кварталов, если не на целый Львов, один такой. Взрослый, с высшим образованием, грамотный — и все равно словно ребенок, выброшенный с лодки посреди пруда в глубоком месте. Хочешь выплыть — учись. Нет сил грести, есть желание тонуть — Бога ради. Здешний народ полн уважения к себе, уверен в собственных силах, еще и немножко надменный.
По крайней мере таким было первое впечатление Клима.
Если бы не страх заблудиться, оказаться в тупике среди серых каменных стен и необходимость униженно просить помощи, подобное отчаяние не проняло бы Кошевого. Тем более, что даже в казематах «Косого капонира» он чувствовал себя спокойнее: про узника знают, его судьбу так или иначе решат, а значит, сиди и покорно жди, если бежать нет никакого желания. Сейчас, находясь на свободе, Клим не до конца почувствовал себя защищенным.
Вот почему он замолчал, двигаясь в фарватере Шацкого, боясь потерять проводника и по ходу пытаясь зафиксировать название каждой улицы, каждый поворот, закрепить в памяти весь маршрут. Сосредоточившись на этом, окунувшись в познание города по самую макушку, Кошевой решил пока не отвлекать себя разговорами — нужными, полезными и интересными, но в этот момент — лишними.
Со своей стороны, Йозеф тоже не пытался поддерживать разговор. Кажущаяся беспечность на короткое время исчезла, он думал о своем, что не мешало ему прекрасно ориентироваться в улицах, улочках и переулках, которыми он вел своего гостя. Только когда вынырнули после очередного поворота на проспект, Кошевой понял: на самом деле шли они не так долго, как ему показалось. Наоборот, Шацкий вывел своего спутника на центральную часть Львова путем короче, чем обычно. Мимо них самих пробренчал по рельсам трамвайный вагон, а когда отъехал, Йозеф показал на широкий бульвар, который открылся глазам Клима.
— Прошу знакомиться, вы в сердце Львова. Гетманские Валы, так тут говорят. Я еще застал время, когда на месте бульвара текла Полтва.
— Река?
— Когда-то суда по ней плавали, — кивнул Шацкий. — А уже двадцать лет она как Стикс, под землей. Разве не ведет в царство мертвых, хотя кто знает, я ручаться за это не берусь. Местные жаловались: мухи, козявки, как выйдет из берегов — грязь с илом, брички увязали, панны с паненками пачкали платья. Поэтому и спрятали. — Он легонько постучал себя по груди. — Сам видел, на моих глазах делалось. А сейчас мой старший сын даже не представляет, что когда-то вот эти улицы были двумя берегами. Нам туда, мы почти пришли. Уже недолго.
Рука Шацкого показала в сторону величественного, не столько праздничного, сколько торжественного здания, в котором Клим безошибочно угадал театр.
— Опера, — словно прочитал его мысли Йозеф. — Закрывает собой предместье. Злые языки говорят, Оперу умышленно так возвели, чтобы хорошее бросалось в глаза, а то, что дальше, никто не видел.
— Так страшно? — попытался пошутить Кошевой, сам не понимая толком, с чего.
— За ней предместье. Живет преимущественно еврейская голытьба, хоть там самые большие и дешевые местные базары, — пояснил Шацкий без тени улыбки. — Могли бы жить более состоятельные люди. Потому что спекулируют, все купят и все продадут. Вроде при деньгах. Только все оно почему-то — не много крон, а много крейцеров. Может быть, так выглядит в Кракидалах жидовское счастье. Хотя есть места, где это счастье выглядит иначе. — Молвив так, Йозеф тут же выставил перед собой большие руки ладонями вперед, будто защищаясь, быстренько зацокав: — Только Боже упаси, чтобы кто жаловался! Имеем такую судьбу, которую заслужили. И радуемся, что Бог посылает то, что имеем, и за это можно кормить семью.
Разом оборвав тему, которая наверняка была для него не слишком приятной, Шацкий двинулся в сторону Оперного. Климу не осталось ничего, как брести за ним.
Обойдя театральное здание и зайдя ему в тыл, они почти сразу оказались в месте, где жизнь не выглядела такой спокойной и рассудительной, как за ее фасадом. Увидев перед собой бурлящий, по-базарному шумный человеческий муравейник, Кошевой на мгновение остановился.
Боязнь запутаться в лабиринте предместья сменилась еще большим страхом потеряться тут, в толпе. Потому что казалось: тут все продают все, и сейчас водоворот продавцов на базаре затянет в себя, окончательно сбив с толку. В основном — евреи, преимущественно мужчины, молодые и не очень, пейсатые, бородатые, не всегда опрятные, зато все как один шустрые, наперебой зазывали покупателей своего товара. На восточный базар — а Климу довелось побывать в Туркестане — это торговое действо не было похоже, потому что бардак все же был на порядок меньшим. И все равно увиденное напоминало непривычному к подобному зрелищу человеку единый живой организм. Который, кажется, никогда не отдыхает.
Больше всего накрыла дикая смесь языков: польский слышался так же часто, как идиш. Климу приходилось бывать в местах оседлости евреев, слышать, как они говорят между собой, и после того он хотя бы не делал ошибки, называя их язык еврейским, как его определяли в Российской империи. Расхваливая товар, отчаянно торгуясь, споря и, наконец, ударяя по рукам, договорившись о цене, люди на этом большом базаре прекрасно понимали друг друга. Даже если к языковым букетам прилагался немецкий, узнаваемый благодаря рубленым фразам, и совсем-совсем немножко — украинский…
Когда минули первые страхи потеряться в шумной толпе навсегда, Клим почувствовал — на смену постепенно приходит другое. Ему вдруг захотелось потеряться, раствориться в толпе: то, ради чего он спешно уехал, а если уже называть вещи своими именами — сбежал из Киева. Между тем Шацкий заметно оживился, потому что явно чувствовал себя в привычной среде, среди своих, в безопасности. Хотя Клим не понимал, что именно могло угрожать пожилому зубному лекарю.
Велев Кошевому держаться рядом, он нырнул в шумную толпу, здороваясь на ходу чуть ли не с каждым третьим, успевая при этом спросить одних — про дела, других — про здоровье детей, третьих — не болят ли зубы, и если болят, то советовал не откладывать, приходить к нему в кабинет немедленно. Лавируя между торгашами и покупателями с точностью лоцмана, который готов провести корабль самым сложным, коварным фарватером, Йозеф пересек площадь и свернул к ближайшей улочке. Теперь в толпе Клим уже действительно не успевал за ним, и пришлось звать, чтобы поводырь остановился. Тот терпеливо подождал, а когда Кошевой, немного запыхавшись, догнал, объяснил, кивком головы указывая направление:
— Прошу пана, смотрите и запоминайте. Заблудиться сложно. Вот, изволите видеть, синагога. Рядом — миква, жидовская баня. Если сами будете искать мой дом, спросите улицу Лазневу (Банную), тут всякий покажет. Далее, за ней, улица Ламана (Ломаная). Таково ее название, и она своим расположением этому названию полностью соответствует. Пошли.
За рыночным майданом было уже не так шумно, хоть магазины с торгашами были и тут. Причем в количестве, которое Кошевой не наблюдал в центральной, респектабельной части Львова, и примерно такую видел в Киеве на Подоле, тоже предместье, которое с недавнего времени незаметно становилось важным и неотъемлемым городским продолжением. Шацкий, шествуя Лазневою, дальше здоровался во все стороны, то едва приподнимая шляпу кверху, то просто касаясь пальцами краев. Настроение уже заметно улучшилось.
Завернув к себе на Ламану, вдруг остановился, замерев столбом. Не ожидая такого, Клим, бредя позади, налетел, толкнув поводыря в спину. Быстро оправившись, немедленно извинился. Но Йозеф вдруг потерял к своему гостю интерес, по крайней мере — на короткое время. И Кошевой раньше услышал:
— Ага, Шацкий, так ты уже таки пришел домой? — и уже потом увидел женщину, которой принадлежал голос.
Она стояла перед ними, посреди улицы, на мостовой, расставив крепкие сильные ноги, обутые в грубоватые ботинки с тупыми носами. Казалось, женщина упирается в камень, вознамерившись выдержать вражеское нашествие и при этом устоять. Роста среднего, практически один в один с накрытым Шацким, его делала немножко выше разве шляпа. Зато эта не старая еще женщина немного раздалась вширь, что вкупе с упертыми в боки руками придавало ей воинственный вид. Нижний край не новой, однако чисто выстиранной белой блузки, застегнутой под горло, прятался под широкой юбкой из шотландки. Шею украшало простенькое ожерелье, волосы цвета густой смолы были закручены узлом на голове и напоминали большую шишку.
Зная, что дальше будет, и опережая словесный водопад, Йозеф выставил вперед руки, будто заслоняясь растопыренными ладонями:
— Эстер! Молчи, Эстер! Меня оправдали и отпустили! Неужели ты думаешь, что полиция пускает людей на волю, если они в чем-то виноваты? Ты разве не знаешь, что такое императорское правосудие?
— И что это такое? — грозно спросила Эстер Шацкая.
— Это — справедливость, женщина! Это закон и порядок! И потом, сама знаешь — сейчас во Львове есть кого и за что сажать за решетку! Шлимазлы с бомбами и револьверами совсем потеряли всякий срам! Разве Шацкий должен занимать чужое место в тюрьме!
Лишь теперь Клим заметил — за встречей Шацких с интересом следит если не вся улица, то по меньшей мере — жители ближайших домов. Почувствовав часть внимания здешних евреев также и на собственной персоне, в очередной раз смутился, повел плечами, сильнее сжал ручку саквояжа — так, будто это могло помочь или от чего-то спасти.
Тем временем Эстер наступала на Йозефа.
— Возможно, я и понятия никакого не имею, что оно есть — императорское правосудие, — молвила строго. — Но в таком разе, Шацкий, ты разочаровал меня сейчас куда больше! Ибо, я вижу, ты плохо знаешь женщину, с которой прожил с Божьей помощью уже двенадцать лет! Как мне относиться к этому?
— Эстер, ну разве я тебя не знаю! Шацкого знает половина Львова…
— …другую Шацкий знает сам! — завершила Эстер слышанную уже сегодня присказку. — Но жена для тебя исключение! Ты знаешь всех, кроме собственной женщины, Шацкий!
— Господь с тобой, Эстер! Почему, ради Бога, тебе такое зашло в голову?
— Если бы ты знал меня, Шацкий, так, как я знаю тебя, ты бы понял: не успели тебя отпустить, а меня уже достигли слухи о твоем освобождении. Мазл тов! Если тебя выпустили, значит, ты не делал того, в чем тебя обвинили в клевете Лапидуса!
— Так это Лапидус!
— Мог бы догадаться! С тех пор, как он открыл в предместье собственную практику, такого конкурента, как ты, лишается уперто. Мелет своим липким языком, чтобы он у него отпал, кому попало, где угодно и что в голову взбредет! Он не знает, шлимазл, что единственный, кто способен загубить Шацкого, — это ты сам, Йозеф!
— Опять ты за свое, Эстер! Еще и при людях!
— Разве людям ничего о тебе неизвестно? Я уже двенадцать лет, с тех пор, как родился наш первенец, ищу, где ты закопал свои таланты. И ломаю себе голову, почему не хочешь выкапывать их обратно! И неужели ты не мог догадаться, что твоя Эстер узнает о твоей невиновности? Как плохо ты думаешь о своей жене, Шацкий! Вот за что сразу из полиции не поторопился домой! Тебя же не кормили в полиции? Или сейчас в тюрьмах кормят лучше, чем дома? Тогда я очень извиняюсь, муженек, — возвращайся назад, пусть тебя харчуют там!
— Но почему ты подумала, Эстер, что я не торопился домой? Наоборот, я очень спешил, чтобы порадовать тебя и всю улицу приятной новостью: Шацкий не делает подпольных абортов! И мне еще придется иметь серьезный разговор с проходимцем Лапидусом…
Эстер всплеснула руками, призывая соседей в свидетели:
— Посмотрите на него, жиды! Послушайте его! Или я не знаю, где тебя держали? Я не ведаю, сколько времени занимает пешая прогулка от управы домой? Ты должен был вернуться два часа назад, Шацкий! Где тебя носило? Ты боялся идти домой? Вот же, не уверен в себе? Или Лапидус что-то угадал, и рыло в пуху, а?
Теперь уже Йозеф оглянулся на Кошевого, ища в его лице поддержки.
— Эстер, я хорошо тебя знаю! Ты, как всегда, сначала подозреваешь и виноватишь, а уже потом спокойно слушаешь, как все есть на самом деле. Может быть, дети за время, пока не было отца, сделали тебе нервы, моя фейгале![30] Объясняю: я ждал, пока отпустят вот этого шикеця! Ему нужна помощь. Его обокрали эти мишугец[31], батяры. Ему некуда пойти, и он наверняка хочет есть. Потому что, в отличие от меня, утром не завтракал, попал в полицию прямо с вокзала.
Праведный гнев Эстер Шацкой, словно по мановению волшебной палочки, мигом сменился на милость. Лицо, такое суровое, вдруг расплылось в широкой улыбке, и Клим увидел — она моложе, чем выглядит.
— Он голодный? Вей, Йозеф, почему ты сразу с этого не начал? Так ты задержался, чтобы пригласить в гости молодого человека? Ты больший шлимазл за Лапидуса, вот что я тебе скажу! Потому что не предупредил, что в доме будут гости.
— Как же я мог, фейгале…
— Молчи, Шацкий. Ты сказал, я услышала. У нашего гостя есть имя? Ты дальше будешь звать его шикецом?[32]
Йозеф откашлялся для солидности.
— Прошу знакомиться. Эстер, лучшее из того, что есть в моем доме. Конечно, кроме детей. Молодого человека зовут Климом. Он…
— Не морочь больше людям голову, Шацкий. Приглашай, потому что кем бы он не был — не имеет права оставаться голодным, раз попал в Кракидалы.
Глава седьмая Селедка на яблочной подкладке
Никаких роскошеств в доме зубного лекаря Кошевой увидеть не надеялся.
Поэтому совсем не удивился, пройдя в квартиру на первом этаже довольно заброшенного доходного дома. Тут было бы довольно просторно, ведь размер комнат был больше, чем обычно в застройках бедных кварталов. Очевидно, зубной лекарь Шацкий таки имел приличную практику, чтобы позволить себе выбрать лучший из худших домов, потому что тут владелец все же оборудовал ватерклозет. Однако пространство было ужасно захламлено.
Более-менее в порядке Шацкий держал разве свой кабинет, чуть не наименьшую тут комнату, куда Клим успел заглянуть краем глаза: дверь хозяин прикрыл не до конца. Но Йозеф немножко подтолкнул гостя в спину, и тот решил — Шацкий не торопит его к столу, а не желает, чтобы посторонний человек совал нос в его святая святых.
В зале, куда Клим вступил, в первую очередь бросался в глаза тяжелый стол на прямых, суженных книзу ножках. Овальный и довольно широкий, рассчитанный на большое количество гостей, что явно указывало на хлебосольность хозяина. Из дверей, которые вели в соседнюю комнату, сначала выглянуло хитрое личико, а потом вышла сама девочка лет десяти, очень похожая на Эстер Шацкую, особенно — круглыми черными глазами. Невольно Клим поймал себя на мысли: если сейчас в этих глазках можно утонуть, что будет, как лет через восемь они действительно начнут сводить с ума молодых людей. Черные волосы заплетены в две косички, тонкие и плотные, каждую венчала простенькая белая лента. Моргнув, девочка молча кивнула, приветствуя гостя.
— Рива, — хозяин представил дочку, сделав рукой жест, который сам наверняка считал элегантным, театральным, но со стороны это выглядело не слишком изящно. — Это моя гордость, моя принцесса. Бог не может быть одновременно всюду, Кошевой. Поэтому он и сотворил мою Эстер.
— Вашу Естер?
— Вместе с другими женщинами, которые становятся матерями, — в тоне Шацкого звучали снисходительные нотки. — Когда-нибудь кто-то скажет так про мою Риву.
Он поцокал губами, будто подбирая еще слов. Дочь при этом скромно опустила глаза. И вдруг из тех же дверей выглянула еще одна девичья головка — и вот уже около Ривы стояла другая, еще меньшая копия Эстер. Сестренке было лет шесть, волосы свободно лежали на плечах.
— Ида. Древнейшее на свете иудейское имя, — гордо молвил Йозеф, тут же спросив с кажущейся строгостью: — Девочки, вы уже помогаете маме?
— Мама не сказала, что надо делать, — пискнула Ида, взяв при этом Риву за руку.
— Вот она больше похожа на их мать! — На девочку нацелился указательный палец отца. — Сколько раз тебе напоминать: мужчины немало бы достигли, если бы женщины меньше говорили.
— Даже если я никогда не скажу в этом доме ничего вслух, ты не сделаешь больше, чем захочешь! — дерзко тряхнула косичками Рива.
Теперь Шацкий перенацелил палец на нее.
— Прошу взглянуть, пане Кошевой! Я сам путаюсь, кто из этих двух больше походит на их мать, дал бы ей Бог здоровья! Еще не думают про то, где папа будет брать им приданое! А уже повторяют за Эстер все, что она привыкла говорить!
— Раз у нас суматоха, значит, папа дома.
Это сказал мальчик лет двенадцати, худой, горбоносый, коротко стриженный, похожий на Йозефа. Вышел из других дверей, держа под мышкой толстую потрепанную книгу. Лицо выдавало настоящий возраст, но жилетка, одетая поверх серой полотняной сорочки, все же делала его немножко старше.
— Шмулю, ты снова сидишь в отцовской спальне?! — Теперь возмущение Шацкого было настоящим. — Я тебя просил, я тебя заклинал, я водил тебя к ребе Якову, чтобы он дал наставление: мальчики в твоем возрасте не должны сидеть на отцовской постели!
— Я сидел на полу! — парировал Шмули, из чего Клим понял: отец с сыном так препираются уже достаточно давно. — Где мне почитать книжку, когда эти две герутене[33] устроили в той комнате беспорядок? Мне негде спокойно учиться!
— Поц! — пропел в ответ дружный девчачий хор.
— И как вы мне прикажете жить в этом доме? — Шацкий начертил над головами детей какой-то ритуальный круг. — Шмулю, ты не читал на полу! Ты взял книжку и спал на отцовской кровати! Таких ленивых, как ты, я не видел, сколько живу! Ты будешь мне говорить, что это не так?
Откуда-то из дверей послышался детский плач. Девочки оглянулись, Шмуль выпятил грудь с победным видом, копируя отцовский жест, а в зале появилась Эстер. Не глядя на сына, направила стрелы праведного гнева на дочерей:
— Это вас так можно оставить на вашего брата? Это вы так смотрите за Даниелем, пока я жду вашего отца?
— А она не хочет! — Выпустив руку сестры, Ида ткнула в нее пальцем.
Рива, отступив на полшага, легонько ударила меньшую по руке.
— Это она не хочет! Говорит — Дени постоянно плачет!
— Вы тоже постоянно плакали! — строго цыкнула Эстер, отмахнулась, давая понять — разговор окончен, и деловито осмотрелась: — Рива, возвращайся к Дени, ты старшая. Ида, ты мне нужна. Все равно вас с Идой сейчас нельзя оставлять в одной комнате. Шмулю, если ты хочешь читать или тебе просто некуда себя деть, иди в отцовский кабинет. Все равно ему, как я вижу, он не скоро понадобится. Шацкий, еще мой покойный папа говорил про тебя — будешь большим человеком, если захочешь работать хотя бы из любопытства, а интересоваться тем, что не касается человеческих зубов. Приглашай пана к столу.
Расставив все и всех по своим местам и оставшись весьма довольной собой, Эстер снова исчезла в направлении, где, как понимал Клим, находилась кухня. Понурив голову, за матерью засеменила Ида. Поморщившись, вернулась в комнату Рива, а Шмуль с видом, будто действительно одержал только что серьезную победу, подался в отцовский рабочий кабинет. Пока он шел, стих детский плач.
Теперь мужчины остались в зале одни.
Йозеф облегченно вздохнул.
А Кошевой понял, почему Шацкому нужен стол именно такой формы и размеров.
Они уселись, чтобы быть один напротив другого.
Лекарь вытянул и сложил перед собой длинные руки, переплетя пальцы. Клим же, мостясь на стуле, почувствовал, как тот предательски скрипнул под ним. Не сильно, не было подозрения, что сейчас развалится. И все же мебель рассохлись, и служить ей, пока хозяин не вмешается, осталось недолго. По крайней мере у Кошевого напрашивался именно такой вывод. Зато стол стоял крепко, казалось — навсегда.
— Так мы про что-то начали с вами говорить, — напомнил Йозеф.
— Хотелось бросить что-то на зубок. — Клим действительно проголодался, поэтому было не до лишних церемоний.
— Мы же сели за стол, — сказал Шацкий так, будто одного этого факта уже достаточно для насыщения.
Принимая и такую игру, Клим пожал плечами, демонстрируя смирение, откашлялся:
— Ну, и еще меня интересует Магда Богданович.
— Если бы вы знали, молодой человек, скольких благодетелей разного возраста и в статусе, намного выше, чем наш с вами, интересует эта особа.
— У меня не тот интерес, — поторопился объяснить Клим, потому что мелькнуло — Шацкий еще подумает, не дай Бог, про страсть или, чего доброго, любовь с первого взгляда. — Молодая, красивая и, несомненно, благородная пани ведет себя с полицейскими, как со своей челядью. Чисто тебе царица с придворными, если не слугами.
— Королевна, — сказал Йозеф, смачно поцокав губами. — Королева, тут вы верно угадали.
— Королева, царица, нет никакой разницы! Меня удивляет, что перед ней во фрунт вытягиваются высокие полицейские чины!
— И не только полицейские! — Шацкий расплел пальцы, отбил ими по поверхности стола легкую дробь, окликнул: — Эстер! Мы уже сидим тут с гостем неприлично долго!
Будто живым ответом в зале появилась Ида, неся на круглой тарелке сложенные в стопку желтовато-серые плоские хлебцы. Кошевой готовился, что ему в еврейском доме предложат мацу и, честно говоря, сейчас готов был ею ограничиться. Мысленно ругая себя за несдержанность, Клим подхватил один твердый прямоугольный кусок, не успела девочка поставить тарелку на стол. Жадно откусил, захрустел безвкусным и пахнувшим пресным хлебцем. Шацкий смотрел на него без капли осуждения, лишь произнес:
— С тем, что сейчас приготовит Эстер, подойдет лучше.
Жуя, Клим молча кивнул. А хозяйка тем временем внесла в руках широкую и удлиненную, похожую на челнок, тарелку. Резко запахло селедкой и еще чем-то, не совсем привычным в такой композиции. Когда Эстер поставила блюдо перед ними, Клим утратил окончательно чувство меры: подтянул тарелку поближе, разглядел.
В самом деле, это была порубленная пряная сельдь, присыпанная лучком. Серую субстанцию, в которую искусные руки хозяйки превратили соленую рыбу, равномерно и аккуратно разложили поверх чего-то зеленоватого, подобного перетертым овощам. Одни запахи сильно перебивали другие. Пока Клим гадал, Эстер объяснила:
— Имеете селедку на яблочной подкладке.
— Рыба с яблоком? — переспросил Кошевой, хотя услышал все очень хорошо.
— Мы не едим такое каждый день, — вставил Шацкий. — Это просто делается довольно быстро. Закуска, чтобы недолго ждать. Никогда не пробовали? Очень рекомендую.
— Гм… Откуда сейчас яблоки? Июль, до урожаев еще далеко…
— Женщины из близлежащих сел сохраняют определенные сорта в погребах, — пояснила Эстер. — Их не так много. Но достаточно, чтобы привезти сюда, на Краковский базар. Целыми те яблочки уже не съесть. Зато можно мелко натереть, добавить черного перца, перемешать и разложить так, чтобы слой подкладки не выглядел тонким. Можно смешать с протертой морковью, тогда красивее будет выглядеть.
— И сверху — селедка?
— Сельдь наверху, — кивнула Эстер, получая очевидное удовольствие от подобных объяснений. — Не надо перемешивать. Прошу брать, вкусно.
— А… — Клим сделал жест в сторону свободного стула.
Хозяйка покачала головой.
— Мне еще надо думать, чем поужинают дети. Потому что господин Шацкий из-за усилий господина Лапидуса имеет отказ от нескольких больных, способных заплатить за визит. — И уже уходя, бросила через плечо: — Хотя для этого нашему Шацкому не всегда нужен Лапидус. Его Бог послал.
— Почему? — не понял Кошевой.
— Кто бы еще давал ему повод бить баклуши, — эти слова прозвучали уже из кухни.
Йозеф красноречиво развел руки.
— Живем душа в душу. Более двенадцати лет. Шмуль наш второй. Первый ребенок умер на третий день, мы не успели дать ему имя. Эстер с тех пор боялась беременеть, даже плакала. Должны были не раз вдвоем ходить к раввину. И хотя дальше дети пошли нам на радость, отпечаток есть. Порой дает нервам волю.
— Я не обсуждаю чужую супружескую жизнь. Тем более — в доме этих супругов, — сдержанно ответил Клим, дальше не совсем понимая, как стоит себя тут держать.
— Я в выгоднейшем положении. Потому что имею право вспоминать собственную жену в собственном доме. Вы ешьте, Кошевой. Лучше всего делать вот так.
Взяв вилку, Шацкий подцепил кусочек сельди вместе с яблочной подкладкой, положил на мацу, откусил немало, захрустев. Беря с него пример, Клим и сам угостился. Перец добавлял кислоте яблока пикантности, так же как пряности селедочного посола.
Некоторое время мужчины утоляли первый голод.
Первым заговорил Йозеф, перед тем вытерев губы салфеткой:
— Так вот про пани Богданович. Хочу вам сказать, молодой человек, что особа эта очень таинственна. Или, иначе говоря, когда видишь ее впервые, сразу возникает желание разгадать ту самую романтическую тайну. Только вы ошибаетесь.
— Я? Почему я?
— Ладно, не вы. Не только вы, пане Кошевой. Всякий, кто видит пани Магду впервые, — и не знает того, что не дает спокойно спать многим жителям Львова. Ох, как многим! Даже президента города это касается.
— Магда такая опасная?
— Не для всех. И потом, угрозу представляет не сама пани Богданович. Она молодая вдова. Те сильные города нашего, которые считаются с Магдой и не возражают ей, когда эта особа что-то скажет или чего-то пожелает, боятся наследства, оставленного ее покойным мужем. То, прошу очень, истинная бомба. Стоит лишь поджечь фитиль. Все дрожат от мысли, что молодая вдова действительно когда-то сможет его поджечь.
— Все — это кто?
— Перечень людей огромен. Двести с лишним человек, начиная с упомянутого мною уважаемого шановного пана президента города.
Веко Клима сильно дернулось.
— Слушайте, пане Шацкий…
— Мы договорились — не панькаться.
— Ладно. Слушайте, Шацкий, я приехал утром, а такое впечатление, будто прожил тут половину жизни. Слишком много впечатлений для первого дня в незнакомом месте. И эти впечатления уже перемешались. Я устал, правда.
— Охотно верю.
— Поэтому очень вас прошу — не ходите кругами. Прямо скажите, почему Магда Богданович имеет право вот так, запросто, говорить с полицейскими. И влиять на их мнения и решения.
— Не только на полицейских…
— Господи, Шацкий!
Терпение лопнуло — Кошевой стукнул кулаком по столу.
Звякнула тарелка. Йозеф покачал головой, цокнув языком. Из кухни в зал заглянула Эстер.
— Шацкий, ты сейчас во всей своей красе! Ты доводишь своими разговорами до бешенства не только меня! Не забывай, что человек не сидит у тебя в кабинете с открытым ртом, поэтому не может тебе ничего ответить! Этот молодой человек таки имеет острый язык и характер!
— Женщина! — Ладонь Йозефа легла слева, где сердце. — Прошу тебя, женщина, — иди! Уберись, не трепли мои нервы! Мы обо всем договоримся сами!
Эстер гордо подняла голову и снова оставила мужчин одних. За это короткое время Кошевой успел устыдиться и отыграть назад. Веко дернулось еще сильнее.
— Простите. Я не должен был…
— Пустое, — легко поддакнул ему Шацкий. — Новые времена, стремительная жизнь. Нервы. Хотите коротко? Объясню вам так кратко, как могу. В кресло, о котором вспомнила моя Эстер, порой садятся такие люди, которые хотят выговориться. Но не знают кому. Поэтому скромный зубной лекарь у них вроде исповедника. Эстер не права. Когда надо, Шацкий умеет слушать, не только говорить. И вот мои уши слышат такое, чего уши небогатого скромного жида не должны были бы слышать никогда…
— Вы снова за свое.
— Наоборот, я опережаю ваше любопытство. Ведь вы непременно захотите знать, откуда я знаю про все это и даже больше.
— Я понял. Не тяните уже.
Шацкий снова сплел пальцы.
— Магда была замужем за начальником криминальной полиции паном Густавом Богдановичем. Густав Богданович был старше жены на тридцать лет. Когда женился во второй раз, через год после того как сам овдовел, по городу ходили разные слухи. Не столько объясняли решение Богдановича, сколько разбирали намерения Магды. Но отставки начальник криминальной полиции не дождался, умер от апоплексического удара. Вдова лила по нему искренние слезы. Про ее причастность к смерти не позволял себе говорить никто. Тем более, большого состояния после себя Богданович не оставил. Жил в казенном доме. Оставить его за вдовой не могли. Но она имела покровителей, поэтому достаточно хорошо устроилась и до сих пор живет на третьем этаже «Жоржа». Правда, именно сейчас там начали строительные работы, пани нашла временный приют в другом месте. Однако помещения в отеле остаются за ней. Как только все кончится, пани вдова вернется назад.
— Ближе к сути дела, Шацкий.
— Простите, тут все важно. Ну да ладно, вернемся к печальной дате. Итак, вскоре после похорон, — он, выдержав театральную паузу, повторил, — вскоре, пане Кошевой, подтвердились слухи про картотеку пана Богдановича.
— Картотеку?
— Собирал компрометирующую информацию практически на всех. От президента города, депутатов, банкиров и промышленников до прокуроров и судей. Сам-один делать это не мог. Задействовал штат агентов, которые собирали нежелательные сведения по личному распоряжению Богдановича и получали за это дополнительную плату. Они же, кстати, потом и разболтали.
— Искать не пробовали?
— Сначала агентам не поверили. Думали — цену себе набивают при новом начальстве. Но Магда вскоре после смерти мужа, где-то через полгода, дала понять: все у нее. Пан Густав завещал сберечь. Где он прячет все эти папки, что в них такого — не знает никто. Вернее, все, кто фигурируют, знают, потому что рыла, как говорится, в пуху. Еще бы кто не знал о собственных грехах! Она, как вы видели, молодая, здоровая и красивая. Проживет, слава Богу, долго. Поэтому держит в кулачке всех сильных города сего.
Кошевой поскреб затылок.
— Вон оно что выходит… Ей какая польза?
— Всякий, кому Магда скажет, готов выполнить любую ее прихоть. — Йозеф снова развел руки. — Разве не это — воплощение заветных мечтаний каждой женщины? Разве не в этом суть женского счастья? Спросите у моей Эстер, она подтвердит. А за свою жизнь госпожа Богданович спокойна: ее охраняет весь полицейский департамент. В ее смерти, тем более — скоропостижной, вообще никто не заинтересован.
— Почему?
— Потому что все будут подозревать всех. Как после этого жить в одном городе? Нет, пока Магда Богданович живет хорошо и счастливо, все кругом спокойны. Ну, а она не злоупотребляет. Разве иногда может сказать свое слово в магистрате. Повлиять на депутатов. Особенно же любит интересоваться делами полиции… — Йозеф наклонился, понизил голос: — Ходят слухи, пане Кошевой, что она в жизни даже давала начальнику криминальной полиции советы. Большинство из которых были ценными и помогали раскрывать преступления, — он снова выпрямился. — Так что, прошу пана заметить, женщина очень-очень непростая. Имеете к ней интерес, послушайте мудрого жида: держитесь подальше. Ешьте еще селедку. Вкусно же, правда?
Глава восьмая Меняешь место — меняешь счастье
В тот день Климу пришлось пережить еще одно небольшое приключение.
На фоне всего сложного и невеселого, что произошло в течение первого дня, история не стоила такого внимания. Однако для самого Кошевого и его ближайшего будущего она имела переломное и едва ли не ключевое значение.
Ведь целью переговоров, в которые активно включился Шацкий, стало изобретение Климу крыши над головой.
Двадцатка, выделенная ему от имени полицейской дирекции, обеспечивала одну или две ночи в самом дешевом отеле. Дальше надо было или искать возможность вернуться обратно в Киев, или писать отцу письма с просьбой выслать немного денег, или побираться или разгружать товарные вагоны на железнодорожной станции.
Вариант телеграфировать отцу и просить материальной помощи Клим оставил напоследок, когда другие средства потерпят фиаско. Наняться чернорабочим было в этой ситуации для молодого человека более приемлемым выходом. Отец не очень хотел, чтобы сын убегал от проблем именно в Европу, намекал на иные возможности. Например, уехать на время из Киева и открыть где-то в глубинке частную нотариальную контору. На клеймо неблагонадежного, заклеймившее Клима в столице губернии, где-нибудь в уездном городке вряд ли уж так обращали бы внимание.
Тем более, связи Назара Григорьевича Кошевого давали возможность узнать: переезд Климентия, который, как согласились стороны конфликта, наделал глупостей собственной неопытностью и склонностью к авантюрам, в провинции даже будут приветствовать. Стоит ему осесть где-то в пыльном уезде, обрекая себя на добровольную ссылку, и про «подвиги» со временем забудут. Лет пять такого вот изгнания — и можно смело возвращаться в родной Киев.
Конечно, Кошевой-младший на подобный шаг категорически не согласился. Мысля не только тактически, но и стратегически, Клим просчитал предложенную перспективу на те самые пять лет вперед. И сделал неутешительный вывод. А именно: увязнув в провинциальном болоте, он не сможет быстро адаптироваться в Киеве снова.
Так, двадцатый век, который лишь восьмой год как начался, задал стремительный темп. Пусть с опозданием, но российские губернские города развиваются таки быстрее, чем уезды, где крестьянский образ жизни и мышления не пробьешь даже пушечным ядром, выпущенным с максимально близкого расстояния. В больших городах все идет вперед. Включительно с образованием и техническими практиками. Отсидев свое в затянувшейся извечной аграрной паутиной провинции, к активной жизни Климу возвращаться будет ох как сложно. По большому счету, его будут принимать за деревенщину, который из всех сил стремится покорить город. Не смотря на то, что в этом городе он родился, вырос, получил профессиональное образование и попал из-за него в беду.
Выбирая между окрестностями Приднепровья и восточной окраиной Европы, вполне логично выбрал последнее. И как это будет выглядеть, когда уже на второй день после переезда пошлет отцу проникнутые скрытым отчаянием телеграммы: мол, обокрали, жить негде, человека, на которуго рассчитывал, убили, настроение — хоть вешайся, поэтому пришлите, папа, денег блудному сыну. Нет, уж лучше действительно улицы мести или мешки на станции таскать, чем это.
Интересно, что Шацкий словно прочел печальные мысли Климу, буквально вытащив из него подобные признания.
Особых усилий не прилагал. Кошевому надо было выговориться, Йозеф лишь подтолкнул его. А когда выслушал, время от времени качая головой и привычно цокая губами, решительно встал, в категоричной форме сказав гостю следовать за ним. Из дома вышел, ничего толком не объяснив своей Эстер, только попросил не отказывать никому, кто попросится на завтра. На что жена ответила: постоянная клиентура уже несет свои зубы к Лапидусу. И она сделает все от нее зависящее, чтобы убедить людей в криворукости основного конкурента. Напомнив попутно мужу: клиентуру вернуть обратно возможно лишь при условии, что лекарь будет дома, в своем кабинете терпеливо ждать всех, кому нужна помощь. Если же этого шлимазла никогда нет дома, таким, как Лапидус, даже не надо распускать злых сплетен, чтобы переманить больных в свои кабинеты.
Когда Шацкий привел Клима к знакомому уже дому на Лычаковской, тот удивился.
Возвращаться сюда Кошевой не видел никакой необходимости. Грозный дворник цербером заступил обоим незваным гостям вход, а на Клима вообще смотрел недобрым глазом. Ведь утром этот неведомо кто кричал на него. И он, почтенный страж ворот, которому даже не всякий пан позволит себе перечить, скорее даст крону-другую, дал слабину и побежал выполнять приказ. Встав на смерть, бульбастый вознамерился взять реванш за утреннее унижение — так, по крайней мере, понял его поведение Клим, который прекрасно знал психологию киевских дворников и вовсе не тешил себя иллюзиями, что львовские могут быть иными. Тем более, если они украинцы.
Но Шацкого сопротивление цербера не остановило. Начав скандалить и махать длинными руками перед насупленным дворниковым носом, он таки добился, чтобы тот позвал сюда пана Веслава Зингера.
Кошевого совсем не удивило, что зубной лекарь из бедных Кракидалов знал не только фамилию и имя местного домовладельца, но и лично его самого. Удивление было, когда тот вышел к ним, разнервничавшийся и потный, как утром, разве плешь уже прикрывала ермолка. Из кармашка новенькой жилетки демонстративно вынул позолоченную луковицу часов, щелкнул крышечкой и показал незваным гостям циферблат — мол, нет для них много времени. Клим не понимал, чего хочет от Зингера его проводник. Но Шацкий в тот момент меньше всего считался Кошевым, тут же взял быка за рога:
— Имею к вам серьезное и выгодное предложение, пане Зингер. Давайте пройдем в ваши апартаменты.
— Не буду я идти с вами, господин Шацкий, в свои апартаменты, — уперся домовладелец, даже попытался оттеснить Йозефа брюшком. — Серьезное и выгодное предложение можно выслушать и на улице. Я тут слышу так же хорошо, как в помещении.
Все время дворник нагло стоял рядом, отойдя от небольшой группы лишь на три шага, и не скрывал изрядного заинтересованности разговором.
— Можем и не заходить, — легко согласился Шацкий. — Но все же лучше зайти, пане Зингер.
— Чем же лучше, простите?
— Двери закрываются. Нет посторонних ушей. Разве вы действительно хотите, чтобы при нашем деловом разговоре присутствовал ваш дворник?
Поняв намек, Веслав Зингер шугнул хитреца, и бульбастый, глянув неприязненно уже на Шацкого, убрался в глубь двора.
— Теперь я вас внимательно слушаю. Только недолго, господин Шацкий.
— Очень коротко, господин Зингер. — Лекарь деловито потер свои широкие ладони. — Вы уже решили, что будете делать с квартирой, где произошло сейчас страшное бедствие?
— Полиция ее обследовала. Там остались вещи несчастного пана Геника. И если их никто не затребует, закон позволяет мне за некоторое время или взять их себе, или — продать, но наперед все равно забрать себе, — охотно пояснил домовладелец. — Есть еще разные полицейские процедуры. Но, думаю, это уже второстепенное, если не третьестепенное.
— Кто может претендовать на имущество покойника, пане Зингер? — В этом невинном вопросе Клим почувствовал едва заметный подвох.
— Насколько мне известно — никто, — спокойно ответил тот. — Пан адвокат квартировал у меня три последних года. Ничего не слышал про его семью и тех, кто мог бы стать прямыми наследниками. Знаете, ценных вещей у несчастного не так много. Одевался хорошо, обшивался у лучших портных, следил за модой. Публичная личность, должен был иметь приличный почтенный вид. И, кроме одежды и нескольких пар обуви, не знаю, что ему принадлежало. Печатная машинка разве… Видел еще у него прекрасные золотые часы, настоящий швейцарский брегет. Раньше хвастался «адриатикой», тоже неплохая швейцарская мастерская. Но менее года назад пан Геник сменил марку. И, простите, шановне панство, таки имел настоящую вещь! Жаль, что исчезла…
Клима будто что-то подтолкнуло изнутри.
— Золотые часы исчезли? Из квартиры?
— Почему вас это так взволновало, шановний? — подозрительно прищурился домовладелец.
— Пан Сойка ценил дорогие и точные часы, — пояснил Кошевой. — За то время, что мы не виделись, он привычек не поменял. Но когда все бегали за полицией, я осмотрел квартиру. Присутствовал при обыске, да вы тоже были там, пане Зингер. Часов, про которые вы упоминаете, не нашли ни в кармане покойного, ни в ящике, ни на столике у кровати в спальне.
— Пана адвоката убили и ограбили. Полиция уже поставила меня в известность. И я в ближайшее время пожертвую денег «Леви Израэль», благо, синагога на нашей улице. Не хотелось бы иметь сомнительную репутацию домовладельца, у которого жильцы накладывают на себя руки, совершая грех самоубийства.
— Вот вы сами и подошли к главному! — Шацкий снова потер ладони. — Забудьте про «брегет», его все равно нет. Костюмы и прочие мелочи вместе с чемоданами вам действительно удастся спихнуть кому-то с выгодой для себя. Пане Веслав, мы же с вами давно знакомы: без выгоды для себя вы не делаете ничего, и это очень мудро, иначе это против заповедей Божьих. Иудеям Господь наш завещал заботиться прежде всего о собственной выгоде. Только так все вокруг нас будут жить хорошо и не посягать на наш покой. Имеем выгоды — можем ими щедро делиться. Пока так есть, никто из умных людей наш народ не будет дергать, потому что чужие мы на свете этом, везде гости, пане Веслав…
— Хватит уже квохтать, господин Шацкий! — Домовладелец начал раздражаться, и Клим его прекрасно понимал: сам не далее как несколько часов назад позволил себе сорваться, когда Йозефова болтовня начала бередить самый мозг. — Что за манера у вас начинать дела издалека! Намекали на выгодное предложение, так говорите уже, я готов слушать!
Шацкий выставил перед собой руки, широко растопырив ладони:
— Но-но, пане Веслав! Я лишь подвожу вас к принятию верного решения! Вы справедливо радуетесь тому, что пан Сойка погиб насильственной смертью. При других обстоятельствах вы не могли в ближайшей перспективе выгодно сдать освободившиеся апартаменты из-за досадных обстоятельств. Кто захочет жить в доме самоубийцы? Я верно рассуждаю, пане Зингер?
— Абсолютно правильно, пане Шацкий. Так, словно всю жизнь администрировали доходные дома.
— А кто захочет жить в квартире, где произошло убийство? — выпалил Йозеф, лукаво глянув на домовладельца. — Улица Лычаковская довольно престижна для проживания. Тут селятся, гонясь за статусом, и пан Геник определенный вес имел. Только это кровавое приключение негативно повлияет на стоимость апартаментов, пане Зингер, разве не так? Заодно это скажется на репутации вашего дома в целом. Вам придется снижать арендную плату, чтобы поощрить жильцов. Это не понравится вашим шановним коллегам — они немедленно напомнят, пане Веслав: вы конкуренты, если станете сбивать цену. Ясно? Вы ее опускаете — а они же будут думать, что сбиваете! Своими действиями вы создадите эффект карточного домика, должны понимать это.
Шацкий говорил, а Зингер мрачнел после каждого его слова. Когда лекарь триумфально завершил небольшую речь, лицо домовладельца стало совсем серым. А капельки пота, которые он время от времени вытирал, покрыли его. Кошевой почувствовал — приближается кульминация.
— Чего вы хотите от меня, пане Шацкий? — голос домовладельца звучал глухо.
— Спасаю вашу прибыльное дело и репутацию, — скромно сказал Йозеф, ступил чуть в сторону, кивая на Клима. — Привел вам достойного человека, который, так сказать, сбалансирует ситуацию.
— Каким образом?
— Вы поселите пана Кошевого в бывших апартаментах пана Сойки. И пока он тут будет обживаться и становиться на ноги, вы с пониманием будете относиться к задержкам квартирной платы. Да и вообще, учитывая обсужденные нами обстоятельства, плату вы могли бы для пана адвоката Кошевого снизить. Конечно, не навсегда, а на согласованный заранее срок. Соглашайтесь, пане Зингер. Лучшего предложения по этим апартаментам вам не сделает сейчас никто.
Домовладелец помолчал, посопел. Пот вытер уже не платочком, а рукавом сорочки. Для чего-то поглядел на свои часы. Наконец буркнул:
— Мы с вами не на Краковском пане, господин Шацкий. Нечего торговаться.
— Разве я торгуюсь, пане Веслав? — искренне удивился Йозеф. — Чтобы я умел делать гешефт, рвал бы людям зубы?
— Вы занимаетесь не своим делом, — процедил Зингер.
— Так вот, не своей. Потому что с вашей договоренности с новым квартирантом, паном Кошевым, не получу-таки никакой маржи. Вы же знаете, Шацкий дает советы ценные, уместные и бесплатные. За что получает часто от своей дорогой Эстер. Так как? По рукам? Соглашайтесь, пане Зингер…
Они еще какое-то время пререкались, но скорее для порядка. Результат — Клим получил от домовладельца ключ от квартиры на втором этаже, которую еще утром занимал Евгений Сойка. С обещанием ничего из вещей покойного не трогать. И если где-то вдруг найдется золотой «брегет» с гравировкой внутри крышки или другие ценные вещи — передать находки Зингеру как возмещение убытков. Все формальности, которые узаконивают проживания Кошевого в квартире убитого Сойки, решили уладить позже.
Домовладелец даже любезно взял эти хлопоты на себя. Клим не местный, ему сложно разобраться в здешних обычаях с первого раза. Еще и Шацкий чуть ли не силой заставил пана Зингера хорошо поблагодарить обоих — помогли решить достаточно сложную проблему. Климу же объяснил его новое положение кратко и емко, одним предложением:
— Мешане мокім, мешане мазл, — тут же растолковав: — У нас так говорят: меняешь место — меняешь счастье. Верно, пане Зингер?…
…И вот теперь, когда Кошевой начал понемногу обживаться на новом месте, Йозеф взял себе за труд наведаться к нему вечером накануне похорон Сойки, чтобы сообщить время и место.
Конечно, если Клим собирается проводить товарища в последний путь. И если бы у Кошевого были другие дела, он все равно выбрался бы на похороны.
Хотя, честно говоря, кладбищ не любил — некрополи грусть навевали.
Глава девятая Откровения после похорон
До окраины, где раскинулось Лычаковское кладбище, можно было подъехать на трамвае.
Но Клим решил прогуляться пешком. Тем более, что дорогу уже изучил и знал, как добраться Лычаковской до улицы Святого Петра, где величественная арка с острыми готическими шпилями открывала путь к некрополю. За те несколько дней, что жил во Львове, Кошевой убедился: его новый приятель Йозеф Шацкий — таки вездесущий. Поэтому не удивился, когда тот накануне появился на квартире покойного Сойки лично с уведомлением, где и когда хоронят адвоката.
Проводить адвоката Сойку в последний путь пришло не так много людей, как думал увидеть Клим.
Но зацепило его даже не это. Никогда не мог подумать, что придется когда-то учитывать вероисповедание новопреставленного и учитывать церковь. Привык к тому, что в Киеве и других малороссийских губерниях покойников отпевают в православных церквях. Исключение — евреи, которые ограничивались полосами оседлости, в них хоронили по иудейским традициям. Выкрестов Кошевой во внимание не принимал, считая их такими же православными, как и сам.
Но службу по Сойке отправили в костеле.
Из чего Клим сделал единственный верный вывод: бывший киевский адвокат обратился в католическую веру. Иначе бы Сойку не отпевали в костеле Петра и Павла, принадлежавший, как пояснил Йозеф, к римско-католической конфессии. А так — похоронили, еще и на престижном поле. Впрочем, Кошевой узнал — иначе быть не могло. Выгодные места для последнего упокоения принадлежали всем, кто жил на Нижнем Лычакове.
Саму процедуру прощания не затягивали. Наоборот, держась в отдалении, стараясь ни с кем не контактировать, Кошевой заподозрил: Сойку хоронили немножко быстрее, чем положено в таких случаях. Когда приблизился, чтобы и самому проводить того, кто его не дождался, в последний путь, боковым зрением уловил на себе несколько любопытных взглядов. Не подал вида, бросил горсть земли, положил цветы и пошел к выходу с чувством выполненного долга. Но Магда Богданович, вся в черном, с прикрытым паутинкой траурной вуали лицом, все равно покинула скорбное место раньше. Перед тем успела перемолвиться несколькими словами с панами, что тоже провожали Сойку, одного еще и легонько тронула за руку.
На чужом шахматном поле среди незнакомых королей, королев, офицеров и слонов Кошевому не оставалось ничего иного, кроме как тренировать мозг гимнастикой и делать в уме различные предположения. Понимал: адвоката Сойку знали во Львове, и репутацию тут он имел неоднозначную. Что ж, киевский период жизни Евгения Павловича так же не усеян розами, были на нем свои тернистые кущи и непролазные кусты.
Тем более беспокоило и настораживало Клима небольшое количество тех, кто нашел время прийти на похороны. Сюда прилагалось другое противоречивое обстоятельство: криминальная полиция настойчиво пыталась подать смерть Сойки как самоубийство, что означало, среди прочего, невозможность отпеть грешника по церковному обряду и, само собой, упокоить на дальних полях Лычаковского или какого-то другого кладбища. Не забывал: именно его показания подтолкнули загадочную и влиятельную Магду Богданович заставить следователя дать делу ход. Все же, эта молодая женщина имела какой-то личный интерес в надлежащем расследовании.
Между ними что-то было? Еще до близкого знакомства с Шацким подобная версия имела право на жизнь. Хотя когда Клим работал у Сойки помощником, не замечал за адвокатом чрезмерного влечения к женщинам. Конечно, противоположный пол его интересовал. Кошевой знал про регулярные визиты Евгения Павловича как в дешевые бордели на Ямской, так и в частные салоны, где дамы классом выше принимали постоянных клиентов индивидуально. Однако тесных, личных, действительно любовных отношений адвокат ни с кем не поддерживал. Даже избегал их, по крайней мере такие выводы делал его молодой помощник. Нет оснований считать, что, перебравшись шесть лет назад в Европу, пан Сойка свои привычки, пристрастия и взгляды кардинально поменял.
Разве перешел в другую веру — но и тут все не слава Богу. Потому что Клим, вспоминая все свое время, проведенное рядом с Евгением Павловичем, не мог положить руку на сердце и искренне признать: Сойка действительно был при жизни верующим человеком. Наоборот, вероисповедание для него значило очень мало, а церковные праздники он не отмечал, а отбывал, словно тяжелую, ненужную, неинтересную, но все же обязательную повинность. Поэтому если Сойке — подданному Его Величества Николая Второго — было все равно, какому Богу молиться и молиться ли вообще, то, поменяв царя на императора, безразличное отношение к церковным конфессиям он не изменил.
Рассуждая так, Кошевой неспешно вышел через арку на улицу. Шацкий маячил на противоположной стороне, терпеливо ожидая его возвращения. Так же не спешила уезжать отсюда и Магда. Ее экипаж стоял немного ниже, молодая женщина расхаживала по тротуару, кого-то ожидая. Остановившись, Клим приподнял шляпу, изображая легкий поклон. Бессмысленно делать вид, что они не знакомы. В ответ Магда качнула знакомым уже веером, не обнаружив более никакого интереса. Нет, решил Кошевой, тут не любовь, даже не грешная тайная страсть. У этой аристократки, которая держит в коготках чуть ли не весь влиятельный Львов, не может быть ничего такого с мужчиной, который воспринимал женщин исключительно как проституток, дорогих или дешевых. Пани Богданович вряд ли продает себя, пусть за большие деньги — эта вдова совсем не бедствует и может иметь все, на что кинет взгляд. Похоже, и положением своим злоупотребляет не так часто.
Только…
Сойка, при всем уважении, слишком мелок для ее величия, запросов и масштабов.
Разумеется, между ними явно имели место отношения. Точно не близкие — да или деловые? К услугам вдовы начальника департамента криминальной полиции наверняка предоставляются лучшие львовские юристы. Из породы тех, с кем лучше не иметь дело, сдаваясь сразу, потому что все равно рога обломают, раньше или позже. Адвокат Сойка, при всем Клима к нему уважении, вряд ли принадлежал к людям одного с Магдой круга.
И все же молодая вдова взяла на себя хлопоты, беспокоясь о похоронах пана Геника…
Погода в этот день стояла совсем не траурная. Жара, которой отличились несколько предыдущих дней, сейчас спала. Ласковое солнышко, легкий ветерок, июль в самом разгаре. Не зная, чем занять себя теперь, но и не видя нужды дальше стоять тут, Клим дождался, пока мимо проедет коляска, поправил шляпу, ступил на мостовую, вознамерившись пересечь улицу и присоединиться к Шацкому.
— Пане Кошевой!
Кричали не так уж громко, но достаточно для того, чтобы Клим услышал и оглянулся. Позади него, у кладбищенских ворот, стояла небольшая мужская группа. Этих трех он уже заметил на кладбище, у разрытой могилы, они тоже держались отдельно от других. Клима позвал статный пан в темном костюме, круглой шляпе с чуть загнутыми вверх полями, элегантно постриженной бородкой и полосочкой усов. На рукаве траурная повязка, но вид мужчина имел совсем не скорбный.
— Вы меня? — на всякий случай переспросил Клим, хоть и понимал, как глупо это прозвучит.
— Не удивляйтесь, мы знаем вашу фамилию и кто вы.
Незнакомец отделился от своих, приблизился, протянул руку, которую Кошевой машинально пожал, почувствовав — а рука у того, что твой камень.
— Адам Вишневский, инженер, — мужчина коснулся края шляпы. — Позвольте пригласить вас на траурный обед. Мы знали покойного. Вы тоже его давний знакомый. Помянем по христианскому обычаю.
— Но я…
Веко снова предательски дернулось.
— Не волнуйтесь, — тонкие губы Вишневского обозначили улыбку. — И не горюйте. Вас рекомендовала пани Богданович, что для меня и моих коллег очень много значит. С вами стоит иметь дело, потому что пани Магда никогда ничего не говорит зря.
— А какое дело, позвольте спросить, панство хочет иметь со мной?
На противоположной стороне улицы Шацкий делал совершенно непонятные знаки, даже не смотря на то, что наверняка привлекает к себе внимание.
— Прежде всего, мы познакомимся ближе. — Вишневский убрал улыбку. — А вообще, нам есть о чем поговорить. Точнее, нам есть что сказать вам. И вы должны это выслушать, если хотите задержаться тут, во Львове, и начать какие-то дела. Да и обедать время, вы так не считаете?
Тем временем один из товарищей Вишневского уже помогал Магде сесть в экипаж — молодая женщина опиралась на его руку. Другой жестом подозвал к себе открытый фаэтон, который давненько уже стоял поодаль.
— Мы поедем в нем. Пани Богданович — за нами. Прошу, пане Кошевой. Кажется, Климентий, я правильно назвал имя?
— Лучше Клим, так короче.
— В таком случае — прошу, прошу садиться, Климентий.
Название ресторанчика на улице Армянской он не задержал в памяти.
Это сейчас не важно. С такими доходами, которые имел Кошевой, ходить по ресторанам придется не скоро. Хоть сюда, хоть куда угодно. По всему было видно, его новые знакомые ходят сюда часто — распорядитель вышел лично. Поздоровался уважительно, но без лакейства, привычного в подобных случаях в ресторациях не только Киева, но и всюду в Российской империи. Сразу провел в отдельный кабинет, где уже накрыли, хоть с виду скромно, но — прилично. Машинально посчитав приборы, Клим насчитал пять, и простой вывод пришел тут же: обед заказан заранее, за стол садится точно пятеро, а следовательно, его присутствие компания согласовала между собой с самого начала.
Вряд ли должен быть кто-то другой, однако не пришел — и решили попутно пригласить Кошевого, который во Львове всего-то лишь третий день.
Это могло означать лишь одно: скромная Климова персона солидных и, несомненно, влиятельных горожан заинтересовала. И точно не обошлось без рекомендации Магды Богданович: кроме нее, с киевским адвокатом никто еще не знаком. Осталось понять, благодарить молодой, строгую и загадочную пани за такую честь или, наоборот, она сейчас создает гостю еще больше проблем, чем он имеет теперь.
Она зашла последней. Легким движением подняла вуаль, тогда скинула шляпку, примостив ее на специальной полочке. Мужчины дождались ее, и только после того, как Магда сделала будто невинный, а на самом деле — значимый жест веером, начали рассаживаться. Инженер Вишневский, который стоял к ней ближе всего, предусмотрительно подвинул стул с невысокой изогнутой спинкой, чтобы женщина села, уселся рядом. Место, которое осталось для Клима, или случайно, или — что вероятнее — по совместному замыслу, позволяло ему сидеть якобы в главе стола, возглавляя его, и в то же время Кошевой оказался под прицелом четырех пар внимательных глаз.
— Шановне панство позволит мне начать? — ровным голосом спросила Магда и, получив в ответ молчаливое согласие, повела дальше: — Пане Адасю, прошу позаботиться об обществе.
Вишневский встал, подхватил графин с коньяком, наполнил рюмки. Его любили не все: молодая вдова и толстый лысый пан с закрученными напомаженными усами пили рябиновую наливку. Кроме напитков, на столе стояли две тарелки, на которых были бутерброды со шпондером (свиным боком) и печеночным паштетом, мелко перетертой тушеной свеклой, от которой слегка отдавало хреном, картофельные пляцки (печенья из сладкого сдобного теста). Вкусно, совсем не подходя к невеселому моменту, пахла свежая, еще дымящаяся, порезанная аккуратными ломтиками кишка. Названия этих блюд Кошевой уже успел изучить, бродя вчера по Львову и просматривая различные меню — искал, где можно с экономией перекусить.
— По христианской традиции, помянем того, кто предстал перед Всевышним, — молвил Адам.
Все встали, выпили — мимо внимания Клима не проскочило, что Магда не пригубила, а опорожнила свой стакан до дна, — после этого немного помолчали, сели, некоторое время отдавали должное блюдам. Причем Вишневский заботился о Магде на правах мужчины, который сидел по правую руку. Кошевой наконец получил возможность утолить голод, потому что эти дни недоедал, но старался, чтобы это не бросалось в глаза. Кажется, его хороший аппетит никого из присутствующих не интересовал. Ножи и вилки довольно скоро перестали бряцать, Адам промокнул салфеткой губы, откашлялся:
— Панове, имею честь теперь уже в спокойной обстановке и теснейшем обществе рекомендовать Климентия Кошевого, нашего гостя из Приднепровской Украины. Он знал покойного… гм… погибшего дольше нас и случайно стал свидетелем трагических событий.
— Участником, пане Вишневский, — отметил толстый.
— Благодарю, пане Попеляк, — кивнул инженер. — Так вот, меня вы уже знаете, пане Кошевой, пани Магду — так же. Пан Януш Попеляк — редактор нашей муниципальной газеты. Можно смело сказать, он является голосом президента города. А пан президент, в свою очередь, прислушивается к мнению пана Попеляка. Потому что издание, которое он имеет честь возглавлять, все ж собирает и показывает городским властям мнение того самого народа, который эту власть выбирает. Наконец, пан Казимеж Моравский, советник городской рады, и можете поверить мне на слово — совсем не последний человек, который принимает важные решения тут, во Львове. Все мы так или иначе знали не только вашего коллегу пана Сойку. Деятельность, в которой он был замечен в последнее время, нам так же ведома.
— Для того мы и пригласили вас! — выпалил пан Моравский, высокий брюнет в круглых очках, немного запинаясь. — Вы должны знать все! Вы должны понимать, шановний, с кем едва не связали свою жизнь тут!
Магда легонько постучала ножом по стенке бокальчика.
— Пане Казик, очень прошу вас. Мы пригласили пана Кошевого помянуть пана Геника. А не устраивать тут и сейчас судилище над погибшим. И ваш резкий тон, пане Моравский, выглядит, учитывая все, что происходит, недопустим.
— Простите, пани Магда, — быстро согласился советник, кивнув. — Тем не менее, я имею желание предостеречь нашего гостя от продолжения дела, в которое достаточно сильно втянулся Сойка. Что, кстати, и могло стоить ему жизни.
— Могло, — согласился Вишневский. — Только следствие ведет полиция. Насколько я знаю, Ольшанский — следователь с опытом. Дело под личным надзором комиссара Новака. А значит, есть надежда на достаточно скорое установление истины. Кстати, шановне панство, пан Моравский косвенно, но все же прав, когда предположил — адвоката Сойку погубило в конечном счете то, чем он занимался.
Теперь откашляться, чтобы таким образом попросить слова, пришлось уже Климу.
— Прошу прощения, но вы тут говорите между собой. По крайней мере мне так сдается. — Его никто не прервал, четыре пары глаз смотрели с интересом. И он повел дальше, каждым словом прибавляя себе уверенности: — Судя из услышанного, к Евгению Сойке ни один из вас хорошо не относится. Тем не менее, вы были на похоронах. Проводили его в последний путь. Поминаете и пригласили совсем незнакомого человека в свою уважаемую компанию. Не думаю, что наша встреча тут и при таких обстоятельствах — лишь формальность.
— Вы правы, — согласился инженер. — Благодаря вам смерть пана Геника не удалось списать на самоубийство. Что, между прочим, устроило бы и криминальную полицию, и читателей газеты пана Попеляка. Хотите ясности и откровенности? Прошу очень, у нас свободная страна, имеете на это право. Согласны, что своим быстрым освобождением из полиции обязаны вмешательству всеми нами уважаемой пани Магды?
Клим перехватил ее взгляд. Любопытства уже не видел, она следила за разговором с легким азартом, который выдавал блеск глаз.
— Я еще плохо знаю местные законы, пане Вишневский. Однако я знаю законы. Очевидно, что моей вины в гибели адвоката Сойки нет. Так вот, на волю я бы вышел рано или поздно, это лишь вопрос времени.
— Не только, — снова вмешался Моравский. — Криминальная полиция могла передать вас коллегам из секретной. Дальше за вас могла взяться даже военная контрразведка. Ведь вы — иностранец, приехали с неизвестной целью к Сойке из России…
— Я из Украины, — напомнил Кошевой. — Или, если вам так удобнее, можете употреблять термин «Малороссия», официально принятый у меня на родине. Только Россией город Киев никогда не был.
— Хватит вам, — отмахнулся Моравский. — Мы тут говорим не про геополитику, разрази ее гром! Ваша провинция в составе Российской империи. Поэтому вы, оказавшись не в тот час и не в том месте, могли рассматриваться нашими коллегами из контрразведки как российский шпион. Приехали установить тайный контакт с лицом, подозреваемым в сотрудничестве с российской агентурой. Вмешательство пани Магды от такого досадного приключения вас уберегло. Ясно ли я высказался, достаточно ли четко? Или вам уже совсем разжевать?
У Клима перехватило дыхание.
Враз почувствовал себя не просто безоружным перед вражеским нашествием — унизительно голым, совершенно беззащитным. Захотелось прикрыть срамные места, съежиться, развернуться бочком и неуклюже бежать прочь, подальше отсюда. Пусть считают каким угодно трусом, к подобной напасти Кошевой не был готов.
Адвокат Евгений Сойка — российский агент.
Не зная, как на это реагировать и нужна ли реакция вообще, Клим замолчал, не имея никакого желания говорить о чем бы там не было. Это не прошло мимо внимания собрания. Компания переглянулась. Магда качнула веером в сторону редактора Попеляка, а инженер Вишневский наполнил бокалы, но не приглашал, лишь пригубил свой. Советник взял с него пример, другие своих не трогали. Промокнув губы, инженер прокашлялся:
— Пане Кошевой, все присутствующие знают и понимают то, что вряд ли так уж интересует извозчика, дворника, официанта, лавочника, сапожника, портного, парикмахера. Так же не переживают об этом лычаковский батяр, вор из Клепарова или торговец с Краковского базара. Возможно, определенные настроения все эти и другие не упомянутые мной граждане, вплоть до последнего бродяги, таки испытывают. Однако не в полной мере понимают опасность, которая уже давно не теплится, не в зародыше, и которую следует воспринимать достаточно серьезно. Пан Моравский имеет немало хороших знакомых среди депутатов Галицкого сейма. Поэтому прекрасно знает, какие силы сейчас, после русской революции, собираются там и уверенно поднимают голову. А пан Попеляк чуть ли не в каждом номере своей газеты пишет колонку, где бьет тревогу. Однако что-то заслоняет людям глаза и закладывает уши. Пусть бы не слышали проб пана Януша — но не слышат и выстрелов!
— Выстрелов? — переспросил Клим.
Но не потому, что не расслышал. Чтобы не молчать, потому что дальше почувствовал себя голым, беспомощным, уязвимым и чужим, как никогда. Веко дергалось сильнее, чем обычно.
— Именно так! — вступил Попеляк, подавшись вперед. — Во Львове стреляют! Сегодня неделя, как огласили приговор Сичинскому, приговорили к смертной казни. Адвокат подал апелляцию, и что-то мне подсказывает: вывернуться им удастся. Между прочим, защищал убийцу, по некоторым данным, ваш коллега, Сойка…
— Стоп! — Кошевой прервал его, как бы невежливо это ни выглядело. — Подождите. О ком мы говорим? Я действительно не знаю, что происходит тут. И к каким таким сомнительным делам оказался причастным убитый Сойка. Расскажите, может, лучше буду понимать. Вот кто он такой, этот Сичинский?
— Верно, панове, — слова Магды прозвучали, как замечание. — Мы пригласили нашего гостя на разговор, чтобы он понимал, что происходит, от чего следует держаться подальше и как следует себя вести. Поэтому, пожалуйста, начните с самого начала, пане Попеляк.
— Вас никто не запугивает, — поспешно вмешался Вишневский. — Слово чести, только прошу пана не обижаться, сама по себе ваша персона не столь интересна для каждого из нас. Лишь добрая воля пани Магды, которой вы после короткой встречи в полиции стали чем-то симпатичны, свела нас всех тут вместе. Чтобы, если выйдет, уберечь от большей беды, чем вы уже имеете.
— Вы сейчас о чем?
— Вы в чужом городе. Единственный человек, которого вы тут знали, убит при загадочных обстоятельствах. Он имел не лучшую репутацию, потому что защищал бомбистов, террористов и грабителей, которые выдают свои преступления за борьбу за идеи равенства и братства и действуют во имя объединения русского народа. Пан Геник последние годы обслуживал как юрист преимущественно так называемых москвофилов. Именно их нынешнее представительство в Галицком сейме лично я, неравнодушный к политике человек, считаю достаточно критичным.
— Не только вы, — отметил со своего места Моравский. — Пане Кошевой, лично я ничего о вас не знаю. Но, поверьте мне, достаточно хорошо ориентируюсь в ситуации, которая сложилась там, у вас, в российской провинции. Киевская губерния, не сердитесь, такая же провинция во владениях царя Николая Второго, как наше Королевство Галиция и Лодомерия — восточная окраина владений императора Франца-Иосифа. Австрийская власть, то есть Вена, давно стремится, чтобы национальные беспорядки, которые имеют место тут, переместились ближе к Киеву. Пусть русины[34] колотятся лучше под носом у царя Николая. Я прекрасно знаю взгляды этой общины. Киев, как пишут, должен стать центром притяжения украинского национального движения. Напоминаю, это цитата, пане Кошевой. Поэтому лучше бы боролись за свои права где-нибудь, в том же Киеве. Это уже не цитата, исключительно мое мнение. Чтобы вы знали, — советник подался вперед, понизил голос, словно раскрывая страшную тайну, — это самое политическое движение на вашей Великой Украине поддерживают финансово различные организации отсюда.
— Какие?
— Австрийские. И даже польские. Не сильно афишируя это, конечно. Кажется, правительство пана Столыпина не так давно начало закручивать гайки различным национальным движениям и объединениям, и украинским перепадает немало, верно?
Не желая вступать в объяснения, тем более что тем самым мог невольно выдать нежелательные в этой компании собственные тайны, Клим ограничился кивком. И все же не сдержался:
— Извините, панове, дальше не понимаю, о чем идет речь. Вы, еще раз простите, перепрыгиваете с пятого на десятое.
— Так, панове, — снова вставила Магда. — Вы еще больше путаете нашего гостя. Пане Моравский, в Ратуше на заседаниях вы выступаете значительно лучше.
— Я хочу сказать, пане Кошевой, что российская власть явно, но чаще — негласно, поддерживает тут, во Львове, и в целом на значительной территории Галичины очень схожие процессы. Австрийской власти, Галицкому сейму и раде города Львова выгодно, чтобы активность русинской сознательной общины распространялась на ваших землях. Власть же российская будоражит тут тотальное московство. Знаете их лозунг — не новый, однако актуальный? Лучше утонуть в российском море, чем в польской луже!
— Даже так? И эти идеи свободно высказываются?
— Свободная страна! — картинно развел руками Моравский. — У них есть свои газеты, клубы, партии. Они объединяются вокруг православной церкви, и запретить это нельзя. Пана Сойку не хоронили на православном кладбище, потому что он перекрестился в римско-католика. Говорят, вскоре после того, как перебрался сюда. Однако, хочу вам сказать, для него и таких, как он, церковь имела в жизни наименьшее значение. Похоже, он просто собирался ассимилироваться тут, во Львове, так глубоко, как сам сможет. Тем более что принадлежность к иному, нежели его друзья-москвофилы[35], приходу формально указывало на дистанцию, которая была меж паном Геником и сторонниками русского царя-освободителя.
— И подчеркивала независимость и неангажированность самого адвоката, — добавил Вишневский. — Мол, он не имеет отношения к партиям и движениям, замешанным на русском православии.
— На самом деле эти панове с верхушкой в Русской Раде в последние годы заметно затихли, — сказал Моравский. — Деятельность не свернули. Дальше говорят про то, что русские, украинцы и галицкие русины — один единый братский народ. Разницы между ними нет, и объединит их всех царь-батюшка, — это советник сказал на ломаном русском, что прозвучало, как на слух Клима, довольно необычно и забавно. — Все было бы ничего, пане Кошевой, если бы москвофилы не стали чаще, чем нужно, говорить про Галицию как про землю, которая исторически принадлежит России.
— Почему?
— Дозвольте, панове, я объясню, потому что сам часто пишу об этом.
Сейчас инициативу перехватил Попеляк. Никто не возражал, и дальше повел уже он:
— Вы уже слышали, пане Кошевой, что москвофилы говорят про российские моря и польские лужи. Если всех, кто разделяет эти идеи, определять, как они хотят, русскими, — редактор тоже употребил ломаный русский, — то критическая их масса однажды будет означать: они на своей земле. Не так важно, что лишь часть из них действительно русские, другие — упомянутые уже галицкие русины. Они сочтут себя вправе требовать от русского царя помощи, и не только финансовой. Захотят, чтобы их освободили из-под власти Франца-Иосифа. Это возможно только вместе с территориями!
Попеляк выдержал театральную паузу, потому продолжил:
— Пане Кошевой! Тут для вменяемых граждан уже давно не секрет, что москвофилы хотят войны с Россией! Чтобы немедленно сдаться в плен, вынеся освободителям ключи от Львова и всей Галичины! Вот почему мы говорим об агентах, вспоминая пана Сойку, пусть бы покоился себе с миром.
Сказав так, редактор опорожнил свой бокал, положил в рот бутерброд. Потом поднялся, расстегнул пиджак, заложил пальцы за края жилетки и начал разгуливать, из-за нехватки места прохаживаясь вокруг стола. Остальные молчали. Кошевой потер пальцем переносицу, пожевал губами, собираясь с мыслями.
— Давайте, я подытожу, — молвил осторожно, будто ступал по болоту, боясь встать на трясину. — Евгений Сойка как адвокат оказывал услуги местным гражданам, которые причисляют себя к так называемых москвофилам. Отношение к ним, мягко говоря, не очень хорошо. Их терпят, но не любят. Вы правы: в Киеве, Полтаве или Харькове тех, кто создает национальные движения, в частности — русинские, власть не воспринимает. За это преследуют, штрафуют, арестовывают и осуждают. Тут не так, и, вероятно, это хорошо. Почему же тогда Сойка — российский агент?
Моравский щелкнул пальцами.
— Простите, никто прямо не назвал его агентом. Однако у меня достаточно связей, чтобы знать: политическая полиция с некоторых пор положила на пана Геника глаз. На то были все основания.
— Например? Я для чего спрашиваю, — тут же пояснил Клим, — вы намекнули, что через близкое когда-то знакомство с Сойкой могли приписать шпионаж и мне. Очень бы не хотелось. Должен знать, с чем могу иметь дело.
— Все верно, — кивнул советник, поправив очки. — Пан Геник защищал в судах не только лиц, так или иначе связанных с москвофилами. Однако, и вы наверняка это знаете, вообще был довольно ловким адвокатом. Добивался оправдательного приговора для таких подсудимых, которых, казалось, невозможно было уберечь от справедливого наказания. Захотите — вам пан Вишневский как-нибудь расскажет.
— Бог с ним, — буркнул Адам. — Не во мне дело.
— Конечно, не в вас, — легко согласился Моравский. — Речь идет в целом о невероятной верткости пана Геника. Известного, без преувеличения, в городе и даже за его пределами. И эта его способность браться за любое сомнительное дело и получать для своего клиента оправдание или хотя бы существенное уменьшение наказания привлекла к нему москвофилов. Потому что именно за ними стояли бомбисты и прочие нигилисты, которых полиция ловила, суды судили, а Сойка виртуозно и успешно защищал. Вся эта сволочь бежала сюда, спасаясь от преследований царского режима. Особенно это стало заметно года два назад, когда в России разразилась революция. Показательно, что австрийская власть предпочитает поддерживать их или пытается в основном не замечать. Ведь считается, что бомбисты — революционеры, чья активная деятельность ослабляет российскую власть. Значит, их надо как-то приютить. Но, пане Кошевой, русская агентура тоже это понимает! Поэтому под видом борцов с царизмом сюда, в Галицию, переправляются тайные агенты. Вы же писали и об этом, пане Попеляк?
— Их действия ослабляют монархию изнутри, — буркнул редактор, которому уже надоело кружить, и он уселся на свой стул. — Кроме того, не обязательно надо сейчас держаться москвофилов, чтобы проникнуться радикализмом, раздобыть оружие и начать стрелять в высоких должностных лиц среди бела для. Вот почему я вспомнил тут студента Сичинского. В апреле не только весь Львов — вся Галиция гудела от того, что он дерзко застрелил в собственном кабинете графа Потоцкого. И к москвофилам и их деятельности тот убийца не принадлежал. Наоборот, стрелял в наместника, протестуя против притеснений украинского населения. Зараза пришла из России, пане Кошевой, должны это признать.
— Не собираюсь спорить. Вы сказали, этого студента уже осудили?
— Единогласно, все двенадцать присяжных сказали: «Виновен». Он имел своих адвокатов, и каким-то образом там затесался Сойка. Сначала серьезно брался за дело, потом отошел. Почему — Бог его знает. Но мои приятели в суде обмолвились: будто перед тем пан Геник уговорил коллег обжаловать приговор, требуя психиатрического освидетельствования. Когда Сичинского поймали, еще тогда уговаривали сыграть сумасшедшего. Не захотел, но после приговора будто согласился.
— Вы действительно много знаете.
— На то я редактор. И сведем все вместе, пане Кошевой. Покушение на наместника — лишь маленькая частица. Хоть застрелили, как по мне, выдающегося человеке показательно: террор радикалов стал большой проблемой. Достали губернатора, что уже говорить про других?
Моравский снова поправил очки, вздохнул:
— И опасность в том, пане Кошевой, что за москвофилами — значительно большая поддержка, чем за спиной русинского студента. Они, как уже говорилось тут, вроде ослабли. И снова оживают — в виде более радикальных движений. Разница между ранешними и теперешними проходит мимо внимания посторонних, не посвященных. Но мы, неравнодушные граждане, которые осознают действительное положение дел, понимаем одно. Еще лет десять назад москвофилы, апологеты русского царя, армии не имели. Сейчас же их тайное войско — те самые бомбисты. Которые шпионят в пользу государства российского. И, судя по настроениям, которые мало кто из рядовых горожан чувствует, к чему-то активно готовятся. Впрочем, выявлять конфидентов — прямая обязанность контрразведки. Ваш пан Сойка навряд ли не понимал, с кем имеет дело и кого так исправно защищает. Вот так, его взяли на заметку. И вот вдруг к нему приехал гость, подданный русского царя и, по сути, враждебного нам государства. Кто даст гарантию, что вы, пан Кошевой, не агент?
Клим коснулся правого века.
— Панове, я не агент, — ему показалось, это прозвучало немного наивно, будто подростковые оправдания. — Все, что вы рассказали мне сейчас, для меня новость и диковинка. Я ехал сюда за спокойствием. Попал в бурное море. Нечему радоваться.
— Вот и живите себе спокойно, Климентий, — сказал Моравский. — Считайте, сегодня у вас во Львове есть коллеги. Которые желают вам только добра. Поэтому и пригласили, чтобы познакомиться, объяснить все, что можно объяснить, — советник замолчал, но лишь на мгновение. — И держитесь от этой истории, от всего, что как-то связано с Евгением Сойкою, как можно дальше. Собственно, это все, что хотелось вам сказать.
Высказался он деликатно, красиво.
Другой бы обманул.
Только не Клима Кошевого, которого полицейский в тюрьме яростно бил головой об стену.
Сейчас его предупредили, чтобы не совал нос не в свое дело.
На улицу он вышел последним.
Поминальный обед, если уже как-то называть это собрание, длился еще почти час. После инженеровых слов присутствующие за столом довольно быстро потеряли к чужаку интерес, принявшись обсуждать общие темы, общих знакомых, причем, не сговариваясь, забыли не только про убитого адвоката Сойку, но и про живого Кошевого. Тоже адвоката, однако на данный момент — человека без определенных занятий, вида на жительство и особенно — почти без копейки в кармане. Клим прекрасно понимал, что его нынешнее положение этим влиятельным горожанам известно. Однако даже не надеялся на предложение чего-то большего, чем приглашение поесть. Встать и уйти с гордо поднятой головой не счел подобающим. Поэтому вел себя так, как в данной ситуации разумнее всего было: молча сидел на своем месте, слушал разговоры, которые совершенно его не касались, и ел, выжидая до конца дня. Имея в портмоне скромный капитал, старался тратить двадцать благотворительных крон очень экономно, только на кофе и питание.
Поэтому когда Моравский, взяв эти хлопоты на себя, наконец встал, поблагодарил присутствующих и начал собираться, Клим решил дождаться, пока отдельный кабинет покинут все. Нашел для себя причину — встал у двери и прощался с каждым за руку. Магде хотел поцеловать, но женщина, угадав намерение и опережая события, сухо кивнула, накинула вуаль и позволила Вишневскому легко, без намека на интимность, взять себя под локоть. Оставшись наконец один, Кошевой — или выпитое заиграло, или собственная гордость выкинула белый флаг, — окликнул официанта и попросил, кивнув на оставленное на столе, завернуть ему с собой. Думал — нарвется сейчас на грубость или издевку, за ресторанными прислужниками иногда водится превосходство. Однако этот совсем не удивился, бровью не повел, и, немного подождав, Клим получил аккуратный сверток. Подхватив его под руку и, чтобы оставить хоть какое-то впечатление, отдав официанту все найденные в кармане крейцары, он наконец ушел.
Экипаж Магды Богданович стоял чуть выше по Армянской.
Конь гарцевал по мостовой. Извозчик играл украшенной яркой лентой плеткой. Молодая вдова сидела так, чтобы видеть выход и чтобы тот, кто ступил наружу, сразу заметил ее. Клим почувствовал, как сильно дернулось веко, а лицо запылало красным — сбоку, в шляпе, плохо выглаженном костюме и еще с упакованными остатками обеда он выглядел явно очень смешно. Это еще мягко сказано. Но вместе с тем дошло: Магда ждет его, ясно давая понять это. Ничего не оставалось: удобнее примостив пакет под левую руку, Клим правой одернул нижний край пиджака и решительно приблизился к экипажу. Пани Богданович смотрела на него сквозь сетку вуали.
— Вы же на Лычаковскую? Воспользуйтесь моей коляской. Я подвезу.
— Благодарю, пани Магда, — пальцы коснулись края шляпы. — Привык гулять, изучать город. Всякий раз хожу разным путем, запоминаю улицы. Путаюсь тут у вас, необычно.
— Еще нагуляетесь. Прошу.
Магда подвинулась, и Клим, уже не стесняясь, примостился рядом.
Лошадь двинулась.
— Мне не отказывают.
По тому, как это было сказано, Кошевой в очередной раз убедился: вдова начальника криминальной полиции действительно привыкла к особому, трепетному к себе отношению. Даже если разговаривала с человеком, который явно ниже ее статусом тут, во Львове.
— Простите, но наоборот.
— Что — наоборот?
— Никаких отказов. Наоборот, ваше приглашение для меня — честь. Однако не хотел, не чувствовал за собой права отнимать время у…
— Матерь Божья, хоть вы прекратите щебетать! — Теперь Магда не скрывала раздражения. — Мне казалось, вы проще, чем те, кто меня окружает.
— Проще?
— Другой. Так точнее будет. Наоборот, не такой простой, каким хотите выглядеть. Может быть, вы уже знаете, что я вдова опытного полицейского. Поэтому меня сложно обмануть. Особенно после того, как вы разложили все по полочкам тому дураку Ольшанскому.
— Почему это он дурак?
— Я знаю, что говорю. — Фраза прозвучала резко, как пощечина. — Называя вас проще чем остальные, имею в виду то, что вы не похожи на того, кто придерживается ненужных условностей и так называемых приличий, когда это неуместно и не нужно. Вы, пане Кошевой, вряд ли большой поклонник субординаций, дистанций и других условностей, светских и официальных. Вас не так просто обуздать, и не надо сейчас спорить с женщиной.
— Не буду. Вам лучше знать. — Клим, изображая полную покорность, склонил голову. — Спасибо, что предупредили о намерении укротить меня. Как сам понимаю, вы видите во мне дикого зверя.
— Почему — зверя?
— А кого еще требуется укрощать?
— Не будем играть словами, пане Кошевой.
— Да Боже упаси, какие там игры! Менее часа назад ваш пан инженер четко указал мне на мое место. Остальные молча согласились с ним. Теперь же вы позвали меня к себе в коляску, словно дрессированного щенка. Могли б еще сказать: «Але — гоп!»
Он начинал заводиться и чувствовал это. Но сдерживаться надоело — достаточно было самих лишь прямых обвинений в шпионаже. Магда заметила у него зубы. Что ж, надо их показать хоть немножко, чтобы не разочаровывать женщину.
Но она промолчала. Какое-то время они прислушивались к гомону городских улочек и цокоту копыт по мостовой. Магда поправила вуаль, повертела веер в затянутой тонкой перчаткой правой руке, вздохнула.
— Вы не слишком верно восприняли и оценили все, что произошло сегодня. И я не имею намерения убеждать вас в ошибочности выводов. Хотя бы потому, что вряд ли собираюсь поддерживать с вами какие-то контакты в дальнейшем. Насчет Адася… — она осеклась, поправилась, — пана инженера Вишневского, то он лицо значительно большего масштаба, чем вы можете себе представить. Промышленники его ценят, а значит, он может себе позволить постучать в дверь очень важных персон. Ему отворят, радушно примут и к мнению прислушаются. Еще он спортсмен, вдохновляет своим примером граждан, в своей газете тот же господин Попеляк не раз описывал его спортивные инициативы.
— К чему вы мне это говорите сейчас? Я уже понял, что пан Адам Вишневский — не последний человек во Львове.
— Говорю так потому, пане Кошевой, чтобы вы сделали все ж таки верные выводы. Человек такого статуса, который имеет Вишневский, никогда не опустится до того, чтобы указывать, как вы говорите, место. Конечно, бывали случаи, когда пан инженер ставил на место отдельных особ, которые не совсем верно вели себя — в его обществе, в обществе дам или при других обстоятельствах, где стоит сдерживаться. Однако сейчас он взял на себя неблагодарный труд: пригласил вас и подытожил разрозненные мнения коллег.
— Значит, именно так следует расценивать его предупреждение держаться подальше от всего, что касается убийства Сойки? Пани Магда, вы везете меня на Лычаковскую улицу — не просто к дому, где он жил, а даже в его квартиру. Я там поселился, вы наверняка это знаете. Поэтому я никак не могу держаться подальше.
Она снова повела веером.
— Пане Кошевой, вы все равно неправильно поняли суть разговора. Но это не важно. Важно, что вы узнали про вашего давнего товарища то, что, надеюсь, удержит от ненужных вам знакомств и дел. Жить в квартире, которая освободилась, пусть таким трагическим способом, мог бы кто угодно. Домовладелец, думаю, только рад, при других обстоятельствах пришлось бы терпеть убытки, скоро туда вряд ли вселился бы кто-то приличный и достойный.
— Благодарю пани за высокую оценку.
— Не паясничайте. Знаю, это такая защитная реакция. Защищаться если и требуется, то не от меня. Наоборот, я очень вам благодарна за то, как вы умыли Ольшанского. Ведь он, как уже говорилось, идиот. Вполне серьезно намеревался выдать смерть пана Геника за банальное самоубийство, чтобы быстренько свернуть дело, забыть про Сойку и умыть руки. Теперь, после ваших слов, все иначе. Дело завели, полиция работает, убийцу ищут. Найдут ли — вопрос другой.
— То есть для вас лично было важно, чтобы следователь не спустил убийство Евгения Сойки на тормозах?
— Именно так, пане Кошевой.
— Почему? Он был дорог вам?
— Смеетесь? Напротив, вы же слышали, какого мнения о нем, его обществе и деятельности солидные и шановные панове. Начав розыск, полиция будет строить различные версии. Одну вы слышали краем уха — подозрительные связи с группами, ориентированными на московство, русского царя. Так или иначе, копая в том направлении, полиция будет иметь все основания ворошить их гнезда. Хотя это могло быть и банальное ограбление.
— Вы мыслите, как полицейский, пани Магда.
— Это мой покойный муж мыслил, как полицейский. Любил думать вслух. С какого момента начал не только рассуждать в моем присутствии, ища поддержки, но и советоваться. Видите, все просто. Никакой сенсации, никакой конспирологии. Так что вы, пане Кошевой, легкий на руку.
— Даже так?
— С вашей подачи дела сдвинулись в нужном направлении. За что я лично вам очень благодарна. Есть на то свои причины. Позвольте не называть их. И, — она чуть подалась вперед, — кажется, мы приехали. Ваша Лычаковская.
Выходя из коляски, Кошевой едва не уронил свой пакет.
Глава десятая Первые Большие львовские уличные гонки
Идею найти хотя бы одного из своих обидчиков даже сам Клим оценивал скептически, не видя никакого шанса на успех.
Оправдывало его в собственных глазах лишь то, что никаких других планов на ближайшее время он не строил. Да и в отдаленной перспективе Кошевому тут, во Львове, вряд ли удалось бы поймать птицу удачи. Можно и не ловить, только бы увидеть, ухватить за хвост, выдрать несколько перьев — вот готовый талисман на счастье.
Но сидеть и совсем ничего не делать Клим не собирался.
Попробовал, не понравилось.
А воспылал жаждой мести с первого же дня. Не сразу, но все равно к этому пришел.
…Только заселился в помещение, освобожденное Сойкой при печальных обстоятельствах, Клим неожиданно для себя выспался. Хотя думал — не сможет уснуть нормально. Гнал от себя детские мысли про такой сам дух невинно убиенного, который вернется в дом и будет давать о себе знать целую ночь.
Вероятно, размышлял Кошевой от нечего делать, чтобы чем-то занять утомленный мозг, ему лично дух Евгения Павловича ничем не угрожает. При жизни они не враждовали, и, наоборот, покойный адвокат еще и будет оберегать с того света младшего ученика и товарища. Даже, как в страшных и одновременно романтических историях, которыми так зачитывался Клим, призрак, если повезет, раскроет тайну своей смерти. Просто тебе отец принца Гамлета…
Шутки шутками, но такие рассуждения странным образом умиротворили Кошевого. Вытащив из колодца памяти все свои воспоминания про когда-то читанное, он логическим, рациональным путем сделал тот вывод, который возможен только при таких вот ирреальных обстоятельствах. Кто, как не Клим, убедил полицейского следователя в том, что Сойка — не самоубийца? Потому что так бы похоронили его, как грешника, за кладбищенской оградой, и маялась бы между мирами неприкаянная, надлежащим образом не отпетая душа. Значит, похоронили его по христианской традиции. Душа отдыхает, поэтому нет причин тревожить ныне живущих — даже если живут они в квартире лютой смертью умершего, среди его вещей.
Кто знает, может, именно этот странный вывод успокоил Кошевого тогда, в первую ночь, окончательно. Чтобы закрепить ощущения, он нашел в шкафу графин с наливкой, помянул Сойку раз, потом — еще раз, наконец — в третий раз, и уже потом улегся на канапе в зале: от того, чтобы лечь на кровать в спальне, которая еще хранила тепло предшественника, все же воздержался.
Город просыпался рано и так же рано укладывалось. Домовладелец был уже на ногах, поэтому Клим попросил прислать кого-то прибраться в жилище, поменять белье и вообще обустроить помещение так, будто прежний жилец просто уехал. Господин Зингер побурчал, но не особо возражал.
Сам Кошевой пошел прогуляться в свое первое утро во Львове.
Накануне Шацкий подробно объяснил, где лучше питаться особам, переживающим временное финансовое затруднение. Требуется рано успевать в покои для завтраков — так назывались угощения, предлагаемые горожанам в большинстве уважаемых отелей. Ближайшим оказался тот самый, много раз упомянутый вчера "Жорж", где будто жила пани Магда. Несмотря на строительные работы, он принимал постояльцев, и позавтракать Клим также успел.
Кроме яичницы с ветчиной и бутербродов с маслом ему предложили порцию горилки от Бачевского. Он не отказался, хотя не привык причащаться утром. Оправдал себя тем, что выпивать в течение дня у него не станет денег. Запив завтрак кофе, выложил за все меньше короны. И решил продержаться так до пяти вечера, когда можно, опять же — по совету Шацкого, подкрепиться булочками в одной из еврейских пекарен. Именно после полудня сдоба уже не была такой свежей, поэтому пекари под конец дня снижали цены.
Когда вернулся, находчивый домовладелец руководил не только уборкой — под присмотром его сухой, как щепка, длинноносой жены паковались вещи, которые остались своеобразным наследством. Клим уже знал: вещественных доказательств, пригодных для полицейского расследования, тут не было. И если никто в ближайшее время не будет претендовать на костюмы, книги и чемоданы, домовладелец с дорогой душой заберет все себе. У пана Зингера наверняка было множество знакомых, способных скоро и безболезненно для него оформить нужные бумаги. Так что поначалу от сделки, к которой домовладельца принудил силой убеждения Йозеф Шацкий, тот не слишком пострадал, учитывая финансы.
На обустройство у Кошевого много времени не ушло. Немного подумав, поставил маленькое фото родителей на стол, за которым работал Сойка, отодвинув при этом в сторону стопку писчей бумаги. Под лампой родители будут выглядеть лучше. На книжной этажерке, которая стояла рядом, разместил свое небольшое книжное богатство, сделав в уме заметку: теперь любимые авантюрные романы придется отложить до лучших времен — денег на книги не станет. Те, что раздобудет поначалу, тратить следует не на чтиво — понадобится специальная, профессиональная литература. Решив не забивать себе голову еще и этим, Клим повесил в шкаф на вешалку чистую, пусть и не утюженную рубашку, жилетку, галстук. Несессер с туалетной утварью положил возле рукомойника.
Потом сел на стул, вдруг осознав: а все, больше нечем себя занять.
Повалялся ничком несколько часов, изучая потолок и пытаясь придать порядок рою мыслей. И тогда решил снова пойти в город.
Проголодаться успел, приближалась обеденная пора, для Львова это — ближе к пяти вечера. Поэтому Клим, руководствуясь наставлениями Шацкого, попробовал журек[36], прогулялся за булочками. Потом ноги вынесли на Нижние Валы. Сначала Кошевой не придал этому никакого значения — это же одно из немногих мест, где он бывал и которое знал. Присел на скамейку, подвел мысленно итоги. Расходы — чуть больше короны, протянуть можно недели две. Но сразу встрепенулся: почему он должен так подчиниться судьбе, признать поражение и постепенно приближаться к попрошайничеству? Тут же поймал себя на том, что невольно прощупывает взглядом толпу, выискивая хотя бы вчерашнего менялу Юзефа.
Потому что рядом наверняка будут крутиться мошенники.
Так шатание без всякой цели переросло в стойкое желание как-либо отыскать кого-то из батяров, которые обвели его вокруг пальца.
Полицейская подачка — иначе Кошевой милостиво подаренные деньги не воспринимал — только оттягивала полный крах. Планы устроиться грузчиком на вокзале или разнорабочим у какого-то лавочника, или хотя бы носильщиком из тех, которых полно возле каждого базара, выглядели уже довольно близкими. Принятие подобного решения неотвратимо приближал каждый прожитый день, и это понимание странным образом придавало Климу мужской злости. Он, мужчина, который совсем недавно защищал революционеров от смертных приговоров, за что едва не поплатился собственной свободой и, удивляясь сам себе, пережил не лучшие дни в тюремной камере, сейчас должен был умыться, смирясь с тем, что его среди бела дня на ровном месте обокрали какие-то ничтожества.
Так появилась первая цель…
Вот почему Кошевой уже третий день после похорон Сойки каждое утро старательно прихорашивался, словно шел на работу, и выходил из дома, каждый раз вежливо здороваясь с дворником. К вечеру старался не возвращаться, потому что всякий раз цербер в фартуке пропекал нового постояльца взглядом из-под лба. Всем своим видом напоминая: с Клима причитается мелкая монета за любезность, которую он проявляет, отворяя ворота. Не давать даже такой мелочи означало нажить врага у себя под носом, чего Кошевой, без того чувствуя себя на птичьих правах, не мог себе позволить. Поэтому единственный выход — как можно меньше попадать дворнику на глаза. Поскольку иначе как мимо него не зайдешь и не выйдешь, Клим решил проблему очень просто: пытался уйти утром и слоняться по Львову, пока хватало сил и не начинало рябить в глазах.
Фамилия этого цербера с Лычаковской вполне соответствовала внешности, прежде всего выразительному бульбастому носу. Звали дворника Игнат Бульбаш. Был он украинцем, и почему-то упорно не признавал в Кошевом своего. В целом производил бы впечатление неприветливого человека, если бы эта неприветливость распространялась и на других жителей. С ними же Бульбаш был на удивление любезным, и Клим, помучившись немного, решил: это он так действует на пролетариат своим присутствием. Потому что недолюбливали его и киевские дворники, даже увидев в первый и последний раз.
Вспомнив, что есть люди, на которых просто так, по неизвестным причинам лают в общем смирные собаки, Кошевой смирился с неприязнью дворника. Что дало лишний повод расставаться с мелочью всякий раз, когда Бульбаш открывал перед ним ворота, чтобы еще больше не дразнить гусей.
Хорошо, хоть ты за выход не берешь, подумал Клим, в очередной раз утром проходя мимо дворника и поздоровавшись при этом, даже отсалютовав двумя сомкнутыми пальцами. Тот в ответ повернулся спиной, демонстрируя занятость какой-то неотложной работой. Воспользовавшись тем, что Бульбаш не смотрит в его сторону, Кошевой не сдержался — плюнул. Ох и времена настали: даже дворники не воспринимают. Чего уж хотеть от таких, как Адам Вишневский или Магда Богданович…
Ступив на улицу и убедившись — хоть день сегодня не хмурый, Клим поправил шляпу и двинулся знакомым, уже привычным, не раз пройденным маршрутом.
Не на бульвар — до Вексклярской площади.
Язык до Киева доведет, есть такая присказка.
И во Львове киевского адвоката упорство и подвешенный язык не подвели. Менялы на Валах не нашел. Но несколько правильно заданных вопросов — и ему объяснили: лучше искать Юзя на Вексклярской. Охотно объяснили, куда идти. Долго не блуждал, а когда наконец вышел, первой мыслью было — обманули, воспользовавшись полным незнанием города.
Кошевой видел в своей жизни разные площади — как большие майданы, так и уютные площади. Успел пересечь несколько львовских площадей, названия в голове пока не удержались. Место же, которое открылось Климу, на первый взгляд совсем не соответствовало своему названию.
Для настоящей площади Вексклярская выглядела маловатой. Так, во всяком случае, ему показалось. Больше напоминала уютный проходной дворик, тихое место для встреч и деловых сделок в центральной, гораздо более оживленной части. Адвокат будто оказался в замкнутом пространстве, где с разных сторон надвигались серые, почему-то не слишком одинаковые каменные стены. Впечатление усиливало июльское солнце, точнее — его отсутствие. Лучи оживляли городские улицы. Ослабляли впечатление их величины и неодинаковости. Наоборот, подчеркивали нарядность, упорядоченность и продуманность городской среды. Но эту маленькую площадь солнце удивительным образом обходило. Даже откуда-то легонько потянуло чем-то промозглым, отдаленно напомнив Климу каземат.
Освобождаясь от неприятных воспоминаний, адвокат повел плечами. Действительно, с чего бы это оно… Ну, заехали туда, где привычное движение города замирает. Нечего волноваться. Тем более, первое восприятие действительно было обманчивым. Маленькая площадь жила по-своему, и горожане приходили сюда не для прогулок, потому что особо гулять тут негде. Если уж зашел сюда, не иначе имеешь большие дела.
За несколько дней Кошевого уже узнавали.
Клим до сих пор не простил себе наивности, с которой пришел сюда впервые. Конечно, как понял теперь, все это могло стать лишь досадным приключением. Если бы Сойка был жив, уже за несколько дней они бы наверняка вспоминали ее, как остроумный бытовой анекдот. Мол, вот так встречает королевский город подданных российского императора. Поэтому попытка отыскать пана Юзя и просить помощи именно у него оправдывалась отчаянием и безнадежностью положения.
Однако пане Юзю, как ни один другой завсегдатай Вексклярской, к заботам какого-то дурня был безразличен. Даже больше: сначала меняла сделал вид, что не узнал Клима, а когда решил вспомнить — забыл про наигранную любезность уличного дельца и попросил больше с глупостями к нему не приставать. Кошевой не отставал, и тогда Юзьо, кивком головы призвав отойти в сторону, объяснил, каждый раз взмахом трости останавливая попытку вставить в разговор несколько слов:
— Слушайте меня внимательно, шановний пане. Я не знаю каждого батяра во Львове. Я знаю других людей, у которых тоже нет знакомств в Верхнем Лычакове. Если вы думаете, что из-за собственной неосмотрительности пострадали от воров — прошу очень! Ищите обидчиков среди воров. Прогуляйтесь на Верхней Лычаков, ногами. Может, кто-то и согласится вам помочь. Хотя лично я имею по этому поводу огромные сомнения. И лучше бы вам попрощаться с утраченными деньгами навсегда, пан раззява. Чем мозолить глаза порядочным людям и раздражать всех глупыми вопросами. В конце концов имеете право пойти в полицию. Вас там примут и выслушают, это их работа. Однако готов биться об заклад на вашу шляпу — полицейский скажет вам то же самое.
— Вам нужна моя шляпа?
— Мне нужен покой, прошу пана.
Сказав так, меняла, как в день знакомства, подался вперед. Моргнул. А тогда с ловкостью фокусника перекинул трость из руки в руку и оставил Клима, вернувшись к своим делам.
Больше с тех пор Юзьо с ним не говорил. Со своей стороны, Кошевой к меняле уже не приближался. И на Вексклярскую и дальше ходил, как на службу, просто старался держаться от недружелюбного к нему аборигена на приличном расстоянии. Расспрашивать других о том, часто ли тут случаются подобные батярские выходки и мог бы кто-то из очевидцев знать в лицо хотя бы одного ловкача, Клим после неудачного разговора с Юзьом не решался. Вполне резонно опасаясь получить такой же, если не худший, ответ.
Поэтому он избрал тактику, которую с учетом печального опыта считал не идеальной, но лучшей для себя.
Расчет был такой.
То, что произошло с ним на Валах, случается не впервые и не в последний раз. Хулиганы и воришки облюбовали для охоты это место, потому что оно действительно достаточно выгодно. Раз появившись тут и ловко обокрав очередную жертву, непременно придут на площадь снова — с той же целью. Пусть это произойдет не завтра, не послезавтра, ведь должно пройти какое-то время. Но что-то подсказывало Кошевому: если набраться терпения, не привлекать к себе внимания и сделать из Вексклярськой место для засады, дичь вскоре снова выйдет на охотника. Тут главное — не упустить, не растеряться, действовать так, как потребуют обстоятельства.
Упрямым везет.
Кто это сказал — Клим не мог позже вспомнить. Может быть, слова принадлежат кому-то из выдающихся. И если до такого никто, кроме Кошевого, до сих пор не додумался, пусть вывод станет его личным. Потому что, как оказалось, простой и правильный.
Ведь за три дня молчаливого упорного терпения небеса его таки наградили.
Сначала привлек внимание слишком суетливый для завсегдатаев «черной биржи» человек. Хоть не отличался от других одеждой, рожденный в городе и с городом в крови Клим сразу распознал в нем провинциала, на которого вдруг свалилась куча денег. Не с благого чуда — человек заработал свой первый капитал тяжелым трудом. Но бросалось в глаза — он не умел носить костюм. Ему не подходило все — крой, фасон, цвет. Все выглядело очень дорогим и совершенно лишенным вкуса. И человеку, видимо, очень хотелось выглядеть так же, как остальные городские жители, даже изображал из себя аристократа — иначе Кошевой не мог объяснить всю эту дорогую безвкусицу, которая скорее напоминала костюм карнавальный, чем повседневный.
Двигался он быстрым перевальцем, становясь от того очень похожим на медведя. На ходу вытирал платком взопревший лоб, а когда остановился перед одним из менял, высморкался и потом провел платком еще и по затылку. О чем договаривался суетливый, Клим со своего места не слышал, но видел, как меняла показал странному клиенту на пана Юзя. Тот так же приметил примечательного провинциала, но вступать в игру не торопился: по неписаным правилам, никто не мог перебивать клиента у коллеги. Но только увидел, как человек торопится к нему, артистическим жестом перехватил трость и двинулся навстречу.
Они сошлись.
Короткий деловой разговор.
Или это Климу показалось от длительных ожиданий, или действительно его внимание уже настолько обострилось, что он уловил сигнал, — но боковое зрение зацепило двух молодчиков, на которых еще несколько минут назад не реагировал. Или, скорее всего, их тут просто не было. Иначе взгляд не миновал бы. На одном, чуть постарше, были штаны на широких помочах, полосатая сорочка с засученными рукавами, заломленный набекрень клетчатый картуз. Второй, помладше, носил белую сорочку с расстегнутым воротом, заправленную в клетчатые брюки, поверх сорочки — жилетка, брюки в тон. Свой картуз, светлый, однотонный, паренек сбил на макушку. Из-под заломленного козырька выглядывал дерзкий русый чубчик. К углу рта прилепилась, будто всегда там была, сигарета.
Кошевой уже знал, как выглядят батяры. Ибо даже попытался воспользоваться советами Юзя и прогулялся на Верхний Лычаков, но забрел недалеко, потерял в таких странствий интерес. Понятно, не будешь ходить по улице и не пристанешь к каждому с самым глупым вопросом на свете: «Очень прошу прощения шановного пана, вы не знаете, кто мог украсть мои двести тридцать крон?» Проще уже караулить тут, пусть и будешь выглядеть полным посмешищем.
Дернулось веко.
Взгляд перескочил от парочки снова к суетливому. Тот сам вынул из кармана пухлый кошелек. Послюнявив пальцы, отсчитывал Юзьовы банкноты.
Батяры уже никого и ничего вокруг не замечали, сосредоточившись на ритуальном действе менялы и его клиента.
Опять дернулось веко.
Клим в предвкушении, что сейчас начнется то, ради чего он убивал все эти дни, для чего стиснул кулаки, сделал несколько шагов вперед.
Клетчатый что-то коротко бросил Чубчику, почти в унисон с Кошевым двинулся в направлении Юзя и его приметного суетливого клиента. Чубчик же тем временем сплюнул сигарету на мостовую, попав прямо в желоб, заломил козырек своего картуза еще сильнее, при этом крепко надвинув его на голову. Он уже примерялся. Или Климу показалось, или ли тот вправду согнул ноги в коленях.
Взяв у менялы стопку крон, человек с озабоченным и в то же время — явно довольным видом, с чувством выполненного долга начал класть свои деньги в кошелек.
Юзьо тем временем утратил к человеку всякий интерес.
Повернулся, чтобы отойти в тень серого здания.
Столкнулся прямым взглядом с Кошевым — тот уже двигался ему наперерез. Что подумал в тот момент, неизвестно. Ибо Клетчатый уже подступил сзади к провинциалу, вытянул руки и сильно толкнул того в спину.
— Вор! Держите вора! — повисло над площадью.
Человек уже падал, причем очень неудачно, не так, как в свое время Клим: шлепнулся, словно мешок с мукой, неуклюже лягнув при этом ногой. Кошелек, как и следовало ждать, не удержал, опустил на землю. Клетчатый, сделав свое дело, уже сломя голову бежал через площадь, а Чубчик, и дальше крича на всю силу батярских легких, устремился за ним, поднимая больше шума, чем надо. Кошелек подхватил раньше владельца, но Кошевой уже не ждал, пока шустрые пальцы опорожнять его, — в два прыжка оказался рядом.
— Стой! — рявкнул, сбивая Чубчика с панталыку. — Вор! Вот он, вор! Держите его!
Зря он это выкрикнул — теперь люди на площади крутили головами, не понимая, сколько тут воров, где они, кого надо ловить, за кем гнаться и надо ли вообще. Батяр, поняв, что его разоблачили, швырнул горячий кошелек просто в Клима, крикнув при этом:
— Гоп! Лови!
Кошевой купился, но лишь на какую-то секунду — ловко отскочил, бросился вперед, пытаясь в последнем отчаянном рывке сократить расстояние между собой и Чубчиком. Тот — кто бы сомневался! — оказался проворнее. Крутнулся на пятках, побежал в противоположную от Клетчатого сторону.
Гнаться за двумя зайцами Клим не собирался.
Далее повел себя так, как при других обстоятельствах не поступил бы.
Метнулся к Юзьо, который застыл совсем рядом и не успел опомниться, порывисто выхватил трость из его руки. Перехватил, разом превратив ее в подобие оружия.
Замахнулся.
Подавшись вперед, швырнул трость, закрутив в воздухе.
Так они мальчишками делали на киевских окраинах. Так же играли с сельскими ровесниками, когда родители в годы его детства и отрочества перебирались летом на дачу.
Давно этого не делал, но навыки не забылись.
Закрученная трость попала в цель — ноги Чубчика зазапились.
Он явно не ожидал такого нападения. Покачнулся, удержался, не упал, но бег задержал.
Не надолго.
Но Климу хватило, чтобы снова сократить расстояние между ними.
Львовский батяр, как-никак, оказался более проворным. Кажется, вот он, протяни руку и хватай, но рука Кошевого все равно поймала только июльский воздух. Чубчик порхнул вперед еще быстрее, сначала лавируя между прохожими, которые еще не поняли, что происходит, — а потом и толкая их. Стремясь, чтобы каждый следующий превратился в охотника на пути. Климу пришлось так же отталкивать людей от себя, отчего в воздухе повисла густая смесь польской, еврейской и немецкой ругани.
— Спасите! Спасите! Убивают!
Это вопил Чубчик, на бегу показывая пальцем позади себя, и до Клима враз дошло: на него. Прохожие, чего хорошего, начнут ловить его вместе, сдадут в полицию, придется долго объяснять все. А главное: следующего шанса вычислить и поймать воров не представится так скоро. Если будет вообще.
Все стремительно промелькнуло в голове Клима. Будто в подтверждение слов наперерез уже мчался, выставив перед собой крепкие длинные руки, раскрасневшийся усатый здоровяк. Кошевому не хотелось именно сейчас, при таких обстоятельствах, вспоминать, как гимназистом боксировал и пробовал освоить навыки французской борьбы. То и другое давалось не так хорошо, спортсмена с Клима не выходило. Но ни одна наука не проходит даром.
Сам от себя не ожидал, когда остановил нежелательного противника прямым ударом в челюсть.
Здоровяк не упал, остановился, потирая ушибленное место. Пока думал, дальше гнаться ли за обидчиком, Кошевой, наддав, снова существенно сократил расстояние между собой и Чубчиком. Тот, зная город, как собственный дом, нырял во дворы, кружил по улицам, мотал Клима переходами. При других обстоятельствах Кошевой наверняка бы уже отстал. Однако вперед вели упорство, упорство и понимание — надо использовать тот самый единственный шанс.
Наконец выбежали на Корзо.
Другого пути, пожалуй, просто не было. Позже Клим понял: если бы чубатый батяр хотел запутать его другим способом, если бы действительно видел в этом неожиданном приключении реальную угрозу, а не настоящую забаву — сбросил бы погоню значительно быстрее. Запетляв иначе, нырнув во львовские дебри глубже. Зато, развлекаясь и не думая о последствиях, Чубчик перескочил трамвайные пути почти перед самым вагоном, так, чтобы отрезать себя от погони.
А тогда ловким и, похоже, привычным, наработанным движением зацепился сзади за внешний поручень, вскочив на подножку.
Держался рукой. Левой стянул картуз, махнув им ошалевшему Климу. Напоследок, чтобы совсем закрепить победу, вернул убор на место, натянул плотнее козырек, запихнул два пальца в рот, дерзко свистнул. Показалось мало — качнувшись так, насколько позволяло положение, мотнул задом.
Или Кошевому показалось — кто-то из прохожих зевак хлопал в ладоши.
Никогда думать. Только вперед.
Двигали инстинкты. Не до конца понимая, что делает и чем все может кончиться, Клим вскочил в ближайший конный экипаж, завопил:
— ГОНИ!!!
И уже когда извозчик дернул вожжи, пуская коня с места в галоп, разглядел на козлах Захара Гнатишина.
— За ним! Быстро за ним! — Слова звучали одновременно просьбой и приказом.
— Пан хочет догнать трамвай?
— Того, кто на нем висит!
— А что вам до того батяра?
— Потом поговорим, Захар! Вперед, не отставайте!
Гнатишин прикрикнул на коня.
Заскрипели рессоры. Зацокали копыта по брусчатке. Грохотал и звякал трамвай, поворачивая с Академической в сторону Лычаковской.
Чубчик даже не пытался соскочить на землю. Так же не собирался пробираться в вагон. Прекрасно понимал, что водитель трамвая видит его маневры вместе с пассажирами. Но пока остановки нет, никто не будет тормозить. Это не предусмотрено правилами, и батяр наверняка чувствовал свое преимущество. Потому что не впервые так катался.
Но он не учел одного — извозчик Захар Гнатишин успел вырастить на муниципальный электрический транспорт огромный острый зуб. Поэтому подгонял коня, которому, похоже, понравилось так гнаться наперегонки с машиной, внутри которой не одна лошадиная сила. Сперва существенно отставая от вагона, экипаж постепенно догнал трамвай. Клим уже готовился поравняться с беглецом.
— На Верхний Лычаков нацелился! — окликнул Гнатишин, не поворачиваясь. — Там спрыгнет — затеряется!
— Что делать? — Кошевой перекрикивал трамвайный грохот.
— Сидите пока! Держитесь крепко!
Коляска подпрыгивала на мостовой все сильнее. Пассажира качало, Клим вцепился в подлокотники.
Рывок.
Припустив во всю силу собственных возможностей, конь Захара поравнялся с трамваем. Даже начал медленно перегонять. Теперь уже Кошевой грозил Чубчику кулаком, совсем не глядя на то, что их гонки оказались в центре внимания, и люди на улицах шарахаются врассыпную, прижимаясь к стенам домов даже там, где ни экипаж, ни тем более — трамвайный вагон точно не заденут.
Вмиг к общему шуму добавился слаженный цокот еще нескольких подков. Из соседней улицы, которая граничила с Лычаковской внизу, враз вылетели трое всадников в полицейских костюмах. Держались ровно, старший всадник двигался немного впереди, где-то на полголовы. На скаку залезая в плотно прилегающую справа кобуру, вытащил револьвер, что-то прокричал непонятно к кому.
Тогда поднял руку вверх.
Выстрелил.
Над Лычаковской завис сплошной гул, сотканный из разнообразных звуков, которые вкупе представляли собой одну большую городскую симфонию — симфонию ужаса.
Один из полицейских-всадников дал шпоры коню, направив его через рельсы на противоположную сторону улицы. Преследователь таким образом обошел трамвай с противоположной стороны. Жестом велел Гнатишину придержать лошадь, пропуская слугу закона вперед, а то и вообще остановиться, прекратить погоню.
Клим знал, что Захар понял приказ, но не слушал, дальше удерживая свой экипаж рядом с вагоном.
Теперь он вместе с конными зажимал трамвай в кольцо.
Лязгнуло. Скрежетали тормоза.
Водитель трамвая начал останавливаться, завидев впереди предназначенную для этого остановку. Сделал это довольно резко. Хотел того, не хотел — вагон порывисто дернуло, стряхивая батяра из подножки, как грушу. На ногах Чубчик уже не удержался, упал, покатился по брусчатке, словно колобок. Натянул вожжи и Захар, а Клим выпрыгнул почти на ходу, поймав себя на совершенно ненужной сейчас мысли: шляпа чудом не слетела, пришлось искать бы потом… Широкими прыжками помчался к батяру, догнал-таки, сбил с ног.
Колени у самого подогнулись. Не удержался — сел рядом, на теплые камни мостовой. Дышал тяжело, словно загнанный охотничий пес. Чубчик в последний раз попытался дернуться, но Кошевой схватил за ногу, потянул, будто хотел сдвинуть паренька с места таким образом. Для уверенности навалился, совсем не заботясь про вид своего костюма.
Почувствовал что-то в правом кармане паренька. Тот тронул, даже проиграв, готовый защищать свое имущество.
В следующий момент их окружили всадники. Старший соскочил из седла, грохнул густым басом:
— Вы что тут устроили, пся крев! Что это за игрушки, курва мама!
— Убивают! — заскулил свое пойманный батяр.
— Смотри-ка, такого убьешь! — огрызнулся полицейский и перевел взгляд на Клима.
Теперь что-то должен был сказать он. Не придумав толком, что именно, не отдышавшись окончательно, не понимая до конца, как удалось поймать беглеца, выдохнул, чтобы не молчать:
— Гляньте, что там у него в кармане!
Полицейский тяжелой горой навис над Чубчиком.
— Выворачивай!
— Я ничего не сделал!
— Быстро выворачивай, курвий сын!
Нечего делать. Вывернул.
— И что тут можно прочитать, пане комиссар? У вас почерк как у аптекаря, я вам это уже говорил?
Томаш Понятовский еще раз пробежал глазами исписанный лист, легонько дернул себя за правый, блестящий от брильянтина ус, поглядел на того, кто принес документ.
Напротив стола директора департамента криминальной полиции Львова стоял человек лет под сорок. Его, криминального комиссара Марека Вихуру, отличал не угрожающий рост, а прежде всего цвет лица. Оно будто пылало, будучи нездорово красным и добавляя сыщику зловещести, так нужной для угрозы убийцам и насильникам. Цвет лица комиссара делал его похожим на всех без исключения мужчин, которые либо постоянно пьяны, либо в лучшем случае все время живут в состоянии ужасного похмелья. Поэтому пьяному, а тем более — хмельному под горячую руку лучше не попадать. Марека Вихуру это касалось в полной мере. Ему под руку так же лучше не лезть, на пути у него становиться опасно.
Была единственная оговорка.
Среди большинства своих коллег по службе криминальный комиссар славился почти полным безразличием к алкоголю.
Мог себе позволить на каком-то торжественном приеме в департаменте бокал-два шампанского, иногда во время неформальных товарищеских посиделок неспешно выпивал кружку светлого пива, смакуя с жареными немецкими колбасками. Вместе с тем все, кому надо, знали: комиссару Вихуре пить запретил семейный лекарь, к советам которого гроза львовских преступников прислушался. Красный цвет лица человек имел от природы, что-то случилось с сосудами, кровь постоянно приливала к лицу. Когда другие бледнели, Вихура просто становился розовым, в такие моменты выглядел значительно здоровее.
Красное лицо и неразборчивый почерк, который больше напоминал древнее зашифрованное послание, были теми чертами, которые отличали комиссара Вихуру среди других полицейских львовского департамента.
— Почему вы не дали тому панови написать объяснения лично? — бурчал Понятовский.
— Протокол опознания я должен составлять сам, пане директор. Господин Веслав Зингер лишь подтвердил подписью — с его слов записано верно. Золотой брегет, найденный в кармане того батяра, действительно принадлежал убитому адвокату Евгению Сойке.
Воздух просторного кабинета Понятовского всколыхнул едва слышный шорох. Это Магда Богданович, которая устроилась на кресле в углу, сложила веер и легонько стукнула им по раскрытой ладони. За все время, пока комиссар докладывал начальству, молодая вдова не проронила ни слова. Держалась незаметно, будто в стороне от событий. Тем не менее, присутствие в святая святых Клима Кошевого вызвала ряд вопросов, а то и раздражала полицейских чинов больше, чем персона Магды.
— Пусть писарь это перепишет, — распорядился Понятовский, вернув бумагу комиссару. — А уже потом вызовете сюда свидетеля Зингера, пусть заново подпишет. Заодно найдите еще хотя бы трех человек, способных засвидетельствовать то же самое.
— Будет сделано, пане директор, — сдержанно кивнул Вихура. — Но вы… мы все сами видели и понимаем: Зенек Новотный, тот самый батяр, которого ловили на глазах чуть не целого Львова, причастен к внезапной смерти адвоката с Лычаковской. Изначально у нас была версия об убийстве ради ограбления…
Магда снова повела веером, теперь уже привлекая к себе внимание мужчин.
— Напомню вам, пане комиссар, — с самого начала все тут договорились считать, что Сойка наложил на себя руки. Если бы полиция не задержала случайно присутствующего тут пана Кошевого, вы бы имели иную картину.
— Пани Магда, мы всегда ценили вашу неравнодушие и настойчивость, — в тоне Понятовского сдерживаемый гнев боролся с холодным уважением. — И в данный момент меня лично, так же, полагаю, как и господина Вихуру, интересует, почему ваш неожиданный протеже, пан Кошевой, с самого начала крутится под ногами у полиции. Случайностью это не назвал бы даже сам пан Богданович в свою бытность, должны согласиться.
Клим переступил с ноги на ногу, откашлявшись. Когда три пары глаз взглянули на него, молвил, старательно подражая местной манере:
— Прошу прощения, шановне панство. Вы можете относиться к моей скромной персоне, как сами хотите. Но если я уже тут, пусть случайно, как говорит пани Магда, очень прошу не обсуждать меня в моем присутствии так, будто меня тут нет. Через голову, как говорится. И потом, — он коротко кивнул в сторону Магды, — я благодарен вам за попытки защитить меня. Только я сам адвокат, осмелюсь напомнить.
— Хорошо, что напомнили, — Понятовский снова подкрутил ус, уже левый. — Если вы знаете законы и дружите с ними, вполне способны меня понять. Вы подданный другого государства. Свод законов царских и императорских наверняка разнятся. Однако все законы мира, да-да, мира, не побоюсь этого слова, совпадают в одном: посторонним нельзя вмешиваться в работу полиции, органов следствия и суда. То, что вы совершили сегодня прямо среди бела дня, все эти погони — недопустимо, пане Кошевой! И совсем не принято! Подобные действа нарушают действующий порядок! Я уже представляю себе заголовки сегодняшних городских газет! «Первые большие уличные гонки во Львове» или что-то подобное, громкое и бессмысленное — как все, о чем пишет большинство прессы! Вы стали героем дня, пане Кошевой! Вы подарили нашему спокойному уютному городу совершенно ненужную сенсацию!
Кошевой взглянул на Магду.
— Не такой уж город и тихий… Судя по некоторым последним событиям. Вот хотя бы убийцу наместника судили совсем недавно…
— Пока в Российской империи не началась та их кровавая революция, у нас было значительно тише! — Понятовский возвысил голос. — Сейчас сюда в эмиграцию выезжают разные смутьяны! У меня нет сейчас времени вступать с вами в пустые дискуссии, пане Кошевой! Ваше упорство помогла полиции выйти на след убийцы или убийц Сойки. И очень хорошо, что все свелось к батярам, а не перешло в ненужную теперь политическую плоскость! Далее делом займется тот, кому надлежит, — комиссар Вихура. А на это время, пане Кошевой, я лично буду ходатайствовать о взятии вас под домашний арест!
Снова под арест.
Это уже который раз с начала нынешнего лета.
Ничего себе, просто проклятие какое-то. Порча, как говорила покойная Климова бабушка.
— Я могу обжаловать?
— Нет. Пани Магда тоже вряд ли вступится за вас в подобной ситуации. Возможно, вас неприятно поразит услышанное. Но похожую перспективу мы уже успели сейчас обсудить именно с ней. Пришли к согласию, надо только все должным образом оформить.
Теперь Клим смотрел на Магду с укором. Заметив, молодая вдова выдержала взгляд и добавила от себя:
— Можно поспорить, пане Кошевой. Но поверьте, так лучше. Во-первых — для вас. Господин Вихура имеет опыт, мой покойный муж высоко его ценил. С его подачи пан Марек стал комиссаром. Говорю к тому, что сейчас, когда он знает, с чего начать и куда двигаться дальше, следствие займет считанные дни. Тогда арест благополучно снимут, сама буду ходатайствовать за вас. И потом обсудим спокойно все, что вас волнует в ближайшем будущем.
Итак, арест во благо.
Так тоже бывает.
Ну-ну.
Глава одиннадцатая Чем себя занять под домашним арестом
Запрет выходить из квартиры дал неожиданные преимущества.
Первое, что сделал Кошевой с вечера, когда его по полицейскому предписанию вернули домой, — без колебаний допил оставшуюся от покойного предшественника наливку. Собой Клим был доволен и признал за собой право отпраздновать свою небольшую победу на новом месте.
Давала ли ему что-то невиданная для Львова безумная погоня за трамваем в близкой или отдаленной перспективе, думать сейчас не хотел. Радовало другое: определив цель, упорно идя к ней, правильно просчитав как свои шаги, так и поведение батяров, поймал обидчика даже быстрее, чем надеялся.
О завтрашнем и последующих днях думать не хотелось. Он поймал вора, хотя это ничего не дало и похищенные деньги не вернулись. Значит, на утро ему уже нечем себя занимать. Коли так, лучший выход — расслабиться и валяться в постели столько, сколько надо.
Наливка ускорила сон, подкрепила его, а когда он открыл глаза, вставать совсем не хотелось.
Конечно, естественная нужда заставила встать, но из клозета Клим, будто так надо, вернулся обратно в кровать. Голова не болела. Наоборот, была удивительно ясной. Раскрытое окно выходило во двор, оттуда неслись звуки шарманки. Солнечной спальня не была, но сейчас Кошевому не требуется яркого света. Наоборот, так уютнее. Думалось лучше.
На размышления наталкивало именно это окно.
Через него залез поздно ночью Зенек Новотный. Сам или с кем-то вдвоем, значения не имело. В подробности следствия, понятное дело, никто не посвящал, но трясти вора стали просто среди улицы с его, Кошевого, подачи. Брегет, описанный паном Зингером, он узнал сразу, почему-то отбросив мысль о том, что в природе вполне может существовать двое одинаковых золотых часов на цепочке.
Последние сомнения отпали, когда на его возглас: «Где ты это взял?», батяр заорал: «Это не мое!»
Если бы такой опытный тип, каким выглядел молодой батяр, украл брегет или заполучил его другим, таким же криминальным, однако никоим образом не привязанным к убийству способом, прежде всего, заявил бы: купил. Или — подарили. И тут же, довольно быстро, от греха подальше, сказал, от кого, когда и за что такой щедрый дар получил.
По крайней мере такое поведение молодой адвокат Кошевой имел возможность наблюдать у киевских воришек.
Понимая, что местные батяры имеют немножко другую сущность, чем привычные уголовники, Клим все равно не видел между манерами воров слишком большой разницы. Спалившись, пытались поскорее свалить вину на другого. Воровская солидарность в подобных случаях не работала.
Но Зенека Новотного схватили на улице совершенно случайно.
Он даже не предполагал такой возможности. Иначе бы не носил так самоуверенно при себе дорогие часы. К батярам, как уже понял Клим, вопросов у окружающих не возникает. Наоборот, чем больше и чаще они шикуют на публике, тем больший авторитет имеют в своем обществе. Конечно, приходится объяснять, если станут интересоваться, откуда такая цацка. И понятно, что ответ всякий раз будет иным, чем дальше, тем более украшен новыми подробностями, каждый раз приближая хвастливый рассказ к ночным сказкам Шехерезады. Все прощается.
Но когда дерзкого батяра окружили конные полицейские, а человек, который упорно гнался за ним, ткнул часы просто в морду и рявкнул: «Где ты это взял?», Зенек сразу вспомнил где — и поспешил отречься от своего сокровища. Чем с испуга причинил себе еще больше горя. Потому что когда Клим при удобной возможности объяснил ход своих мыслей комиссару, опытный Вихура немедленно сделал нужные выводы. Крепкие тиски полицейского следствия, бульдожья хватка таких, как Ольшанский, уже вскоре вытянут из батяра, как к нему попал брегет застреленного в своей квартире адвоката Сойки.
Залезли в окно. Хотели обокрасть. Чего-то не учли, короткая схватка — и хозяина застрелили. После того быстренько обустроили все так, чтобы действо хотя бы отдаленно походило на самоубийство, забрали то, за чем пришли, и ушли так же, как пришли. Еще и закрыли за собой окно хитрым воровским способом.
Рассуждая так, Клим все же поднялся.
Оперся руками о подоконник, выглянул во двор. Ничего не увидел. Человек с шарманкой уже убрался прочь. Лишь привычная мрачная стена напротив. Вспомнил, что когда-то баловался куревом, а от Сойки не только наливка унаследована, а и дорогие сигары. Хотя после выхода из казематов «Косого капонира» к табаку не тянуло, сейчас приспичило. Как был, в кальсонах, прошелся по дому, поискал и нашел коробку. Едва не откусил сигарный кончик, но вовремя увидел специальный ножик. Отрезал, раскурил. Ждал — закашляется, ощущения подзабыты. Но ничего, легкие быстро вспомнили, от чего были отлучены некоторое время. Вернулся к окну, теперь уже присел, пуская дым наружу.
Что-то мешало принять сделанные им же самим выводы.
Чего-то не хватало.
Что-то не складывалось.
Затянувшись в четвертый раз, Кошевой понял. Пойманный им батяр меньше всего в мире напоминал хладнокровного убийцу. Вряд ли знал, как держать револьвер. Допустим, первое впечатление обманчиво, и парень с чубчиком действительно отнимает у людей жизнь так же легко, как кошельки. Но, тут же мысленно объяснил себе Клим, в таком случае убийца с опытом не носил бы при себе вещь, которая добыта убийством. Он вообще не привлекал бы к себе никакого внимания. Тем более, не промышлял примитивным, пусть ловким заработком на Вексклярской площади, и наверняка не только на ней.
Очевидно, что Зенек Новотный проник в этот дом через это самое окно, из которого Клим сейчас изучает двор.
Только он был не один.
Полиция могла додуматься до такого. Комиссар Вихура вряд ли даром ест свой хлеб.
Остается понять, кто сделал хладнокровный выстрел: пойманный батяр или его товарищ. Или, как тут говорят, кумпель.
И все равно Кошевой чувствовал — обычной кражей тут не пахло с самого начала.
Хладнокровный выстрел.
Именно так. Убийца, кем бы он не оказался, стрелял в голову. Прижал револьверное дуло ко лбу жертвы. Для этого надо не только сбить Сойку с ног. Адвокат никогда не отличался атлетическим сложением, однако совсем беспомощным так же не был. Мог дать сам отпор, просто так не давался, и убийца должен был иметь больше физической силы, чем обреченный им на смерть. Но — что очень важно! — знать пана Геника лично.
При желании Кошевой тоже мог объяснить этот свой вывод. И не себе, тут уже все ясно, дополнительных аргументов не надо. И разговор с собой ничего на самом деле не даст. Криминальную полицию меньше всего интересует чужое мнение.
Но никто не запретит Климу это мнение иметь, ибо каждый из сделанных сейчас выводов он воспринимал как очередную ступеньку, которая приближала к развязке. Или, если предположить-таки причастность задержанного батяра к убийству и рано или поздно его имя чубатый Зенек назовет, Кошевой по крайней мере сможет объяснить себе мотив убийцы.
Кража.
Очень быстро превратилась в вооруженное ограбление.
Завершилась смертельным выстрелом.
И именно он был конечной целью того или тех, кто пробрался ночью сквозь приоткрытое окно в квартиру адвоката Сойки с, ох, оказывается, какой сомнительной репутацией.
Очередная затяжка. Кошевой попытался пускать дым кольцами. Не получилось, он оставил это глупое занятие. Хорошо, что напротив стена. Ничего не отвлекает от мыслей, не отвлекает внимание.
Дернулось веко. На этот раз легонько, почти не ощутимо, даже очень обыденно.
Решительно убрав зад с подоконника, Кошевой поискал и нашел старый бархатный домашний халат бывшего хозяина. Совсем не брезговал, одевая. Пройдя в кабинет, сосредоточившись лишь на желании упорядочить свои выводы в письменном виде, чтобы не повылетали или не претерпели изменений, Клим отодвинул стул, уселся за письменным столом.
Тут, похоже, Сойка провел последние часы своей жизни.
Пододвинув ближе массивный чернильный прибор, Кошевой размял пальцы на обеих руках.
Можно сварить себе кофе. В хозяйстве пана Геника немного осталось, да и керосиновая горелка примостилась в углу, на ней — немного закопченная снизу джезва. Останавливало не желание быстрее записать ход мыслей по пунктам. Клим до сих пор крайне редко варил себе кофе. Дома обычно это делали либо мама, либо папа, либо — женщина, которая помогала на кухне. Поэтому не хотел смешивать процессы. Сначала — разложить по полочкам соображения и выводы, все равно под домашним арестом делать больше нечего. И уже потом, как награда, укрощение джезвы и огня.
Левая рука взяла верхний лист из стопки чистой бумаги.
Положив белый прямоугольник перед собой, Клим взял ручку, снял крышечку с чернильницы, обмакнул перо. Но, присмотревшись к листу, остановился.
На его поверхности слегка отражались контуры букв.
Кошевой отложил перо. Поднес лист к свету. Прищурился, вглядываясь.
Гм, тут не буквы — целая надпись. Ее можно восстановить, если действовать осторожно. Может быть, незадолго до смерти Сойка что-то писал, положив листы друг на друга, довольно сильно давил на бумагу острием пера. Вот она и отпечаталось.
Ничего написанного на столе не осталось. В ящиках — так же. Корзина для мусора была пустой, в этом Клим успел убедиться собственными глазами.
Записку — или что там писал адвокат незадолго до гибели — из квартиры забрали.
Веко дернулось уже сильнее.
Клим затаил дыхание, словно одним неосторожным словом или движением можно было сдуть что-то очень хрупкое, нежное, бережное и очень важное.
Снова положил лист перед собой. Теперь уже как величайшую в своей жизни ценность. Выдвинул ящик, вытащил оттуда то, что увидел ранее, — большую круглую лупу, с такой рисуют гениальных сыщиков на обложках любимых им бульварных книжечек. Усиленные увеличительным стеклом отпечатки просматривались уже четче.
Осторожно, букву за буквой, Кошевой начал наводить пером то, что писалось Сойкою. Из пропущенных складывал слова, потому что чем дальше, тем лучше разбирал их, заодно понимая смысл и суть написанного.
Сколько времени прошло, пока восстановил адвокатову расписку, даже не интересовался. Не хотелось есть, чувство голода заменил азарт. Только завершил, потряс листом в воздухе, высушивая чернила. Тогда осторожно, ведь действительно нашел большую ценность, сложил бумагу вчетверо. Положил сперва в карман халата. Немедленно передумал — переместил в портмоне. Все держать при себе.
И будто под финал этого медлительного, но нужного действа постучали в дверь.
В первое мгновение Клим похолодел: так чувствуют себя сорванцы, застуканные за чем-то постыдным, за что надлежит суровое наказание, включая многократное прочтение «Отче наш». Но потом прошло, Кошевой отворил уверенно.
В дверях увидел дворника Бульбаша. Рядом возвышался тучный полицейский, приставленный дирекцией для охраны арестанта.
— Чем могу помочь? — Клим сейчас был сама учтивость.
— Должен напомнить панови о запрете посещения на время отбытия ареста, — отрапортовал полицейский.
— Так меня предупреждали. Почему вы вдвоем пришли? Так нужно, чтобы вы, пане вахмистр, решили без дворника не передвигаться по вверенной ему территории?
— Часто болтаете, пане, — буркнул Бульбаш.
— Все ж таки, почему вас двое? Может, зайдете, или как? Не стойте уже в дверях.
Вахмистр и дворник переглянулись. Бульбаш протянул Климу сложенную вдвое газету — свежий номер «Дела»[37].
— Это для вас. Просили передать.
— Кто?
— Я видел этого человека тут с вами. Его называют пан Шацкий. Просился к вам лично…
— …но посещение запрещено, — завершил полицейский.
— И вы вдвоем любезно решили принести мне газету от пана Шацкого?
— Там про вас написано. С рисунком, — хмыкнул дворник и покачал головой: — Надо же, прославились.
— А это хорошо, когда в газетах о ком-то пишут, или плохо? — поинтересовался Клим.
— Ничего доброго газеты не печатают, — буркнул вахмистр. — Там еще для вас записка. Она в конверте, и я не имею распоряжения вскрывать его без вашего разрешения. Но очень прошу открыть сразу. Про переписку граждан, которых держат под домашним арестом, полиция должна знать. Пан дворник тут, чтобы подтвердил: все процедуры законны и соблюдаются мной добросовестно. Потому что потом такие грамотные паны пишут жалобы…
— Конечно, если люди не были грамотными, никто бы не жаловался на полицию, — кивнул Кошевой. — Хорошо, если такой порядок, пожалуйста.
Вместе с газетой действительно был заклеенный почтовый конверт. Бросив «Дело» на кресло, Клим демонстративно надорвал уголок. Вытряхнул сложенную вдвое четвертушку бумаги, прокашлялся, прочитал вслух:
— «Пане Кошевой! Весь город говорит о вашем смелом поступке. Хотелось поговорить с вами. Узнать интересные подробности, ибо моя Эстер не может спать. Ведь такой известный человек был у нас дома на обеде. Надеюсь, ваши невзгоды с законом пройдут. А пока не нарушайте ничего. И будьте там, где есть сейчас. Особенно — поздно вечером. Снимаю перед вами шляпу. Искренне. Преданный вам Йозеф Ш.». — Повертел записку, взглянул на свет, развел руками: — Все. Ничего тайного и запретного. Наоборот, видите ли. Предупреждают добрые люди, чтобы не нарушал и сидел дальше в четырех стенах.
— Мудро делают, — согласился вахмистр. — Иначе сидеть вам, пане Кошевой, в совсем других апартаментах.
Клим небрежным жестом спрятал записку в карман халата.
— Я могу послать кого-то за завтраком? Пусть бы состряпали в ближайшей ресторации и принесли сюда с курьером.
— Ваши деньги, пане Кошевой, и все будет в лучшем виде! — оскалился дворник.
— В таком случае, я проголодался.
Странная парочка ушла. Клим облегченно и даже очень громко выдохнул. Тогда вытащил записку Шацкого, еще раз пробежал ее глазами.
Вот же Шацкий, вот же сукин сын! Знал же, хитрец, что хоть как читать.
Из этого всего ясно одно: его просят дождаться позднего вечера и к чему-то готовиться.
Итак, кому-то позарез надо с ним увидеться.
Других выводов просто не могло быть.
Глава двенадцатая Окна и лабиринты
До темноты Клим едва дотерпел.
Еще с обеда переоделся, сначала не хотел, но потом таки решил повязать еще и галстук. В зеркале увидел делового серьезного молодого человека, проникнутого сверхважными делами, чей день расписан по часам с раннего утра до позднего вечера. Тронул щеки, нахмурил лоб и начал старательно бриться. Отвлекся этим ненадолго, ибо снова вернулись напряженное ожидание, заодно неизвестность и откуда-то — пустота.
В июле сумерки окутывали все кругом без лишней спешки. Казалось, время нарочно задерживались, чтобы дать людям еще немного теплого летнего вечера для приятных прогулок. Вечернее одеяло медленно начинало укрывать город уже после девяти вечера. Из своего приоткрытого окна Кошевой не слышал звуков улицы. Разве теленькал трамвай, и то звук отражался не так громко и обидно, как для тех, кому не повезло иметь окна с выходом на саму Лычаковскую.
В другой раз такая тишина Клима вполне бы устроила. Может быть, расположение квартиры нравилось и предыдущему арендатору. Но сейчас она напрягала и настораживала. Даже угнетала, чем-то действительно напоминая молчание тюремных дворов. Кошевому казалось — после проведенных в казематах дней он навсегда потерял комфорт от тишины и уюта. Уличный шум, свидетельство того, что жизнь вокруг бурлит и не думает останавливаться, отныне гораздо ближе.
Когда серые душные сумерки наконец перетекли в ночь, необычно темную, от того густую, хоть ножом режь, Кошевой окончательно потерял терпение. Понятия не имел, каким образом к нему планирует добраться Шацкий и про способ дать о себе знать. Что-то подсказало: надо держаться ближе к окну. К которому из них, так же долго не колебался, выбирая. Нет разницы. Во двор выходят все. Только спальня расположена дальше, в конце крыла. Поэтому и окно, соответственно, вело в глубь глухого двора. Самое удобное место для тайных встреч. Недаром же его избрали воры, ища способа проникнуть внутрь.
Раскурив сигарный окурок, Кошевой стал у оконного проема.
И фигура, и огонек были заметны издалека. Кто знает, где и кого следует искать, — непременно найдет.
Ждал, может, десять минут. Может, двадцать. Ощущение времени утратил полностью.
Но дождался.
Снизу свистнули.
Сперва тихонько, потом — громче, а тогда вообще мяукнули котом. Это так Шацкий производит, мелькнуло у Клима. Вроде не похож на любителя подобных забав. Особенно мяуканье почему-то порадовало. Приспичило подыграть, гавкнуть в ответ, хотя понимал, насколько непохоже получится. И вдруг сигналы прекратились, зато во дворе зашевелились какие-то тени.
Что происходит — Кошевой не разобрал. То есть наверняка разглядел бы, если бы имел на это больше времени.
Не дали.
Уловил едва слышимое кряхтение, дальше — легонький стук, тогда — будто кто-то шкрябнул о стену. И на край подоконника враз легли, вынырнув из ночи, чьи-то крепкие руки. Вцепились крепко, снизу подтолкнули — и вот уже кто-то незнакомый и ловкий, подтянувшись, подал тело вперед, с ловкостью циркового акробата перебросил длинные ноги внутрь. Клим попятился, пропуская ночного гостя. Разглядеть его не успел, тот вместо приветствия коротко велел, чуть шепелявя:
— Тихо. Свет уберите.
Светило в кабинете. Сходив туда и крутнув выключатель, Кошевой вернулся обратно, на ходу одернув пиджачные полы. Собрался заговорить с гостем — не успел. Тот жестом посоветовал молчать, следующим — показал на оконный проем.
— Прошу пана выходить.
— Прыгать?
— Выходить. Внизу друг. Я за вами. Тихо, иначе беда.
Клим и без него понимал, что шуметь не желательно. Беспокоило другое: как вылезти, ничего себе не повредив, когда высота между этажами не меньше чем полтора человеческих роста. Но гость не собирался давать время на размышления, потому что, видно, имел относительно него серьезные намерения. Молча потеснил к раскрытому окну, и Кошевому ничего не оставалось, как сесть на подоконник и спустить ноги наружу. Если ему тут решили подготовить побег, без его личного на то согласия, все это скорее напоминало похищение. Хотя прямой грубой силы не применяли, но Клим не имел никаких сомнений: стоит ослушаться или проявить неподобающую ловкость, и его просто выкинут во двор.
Перекрестился.
Перевернулся. Лег на живот, подвинул тело ниже, ниже, еще ниже.
Подошвы нашли какую-то опору, не слишком широкую, но вполне пригодную, чтобы переступить с ноги на ногу и безопасно разжать пальцы, выпуская край подоконника. Далее Кошевой в одном сплошном движении присел, держась руками за стену, распрямил левую ногу, вытянул, как мог далеко, нашел равновесие, оттолкнулся. Скользнул, следующей точкой опоры была уже твердая земля. Климу удалось не пошатнуться, даже не наделать шума. Ловкости ночного гостя не хватало, но своя тоже осталась, гимназическое отрочество все же было насыщено разными приключениями, не про все из которых таки должны знать родители будущего адвоката.
Перевел дыхание, почувствовав себя чуть ли не Эдмоном Дантесом в первые минуты после побега из замка Иф. Тут же слева темнота отозвалась тихим голосом Йозефа Шацкого:
— Все хорошо, пане Кошевой? Ничего не бойтесь, тут ваши друзья.
Сверху скользнул незнакомец. Теперь Клим наконец разглядел большую широкую доску, приставленную к стене и слегка наклоненную. Если привычный к подобным фокусам человек встанет на нее, руками можно достичь окна второго этажа. Крепко взяться, подтянуться — и уже внутри.
Примерно таким путем воры и убийцы и проникли в помещение.
Незнакомец, который пришел за ним, знает и умеет это делать. Еще и Шацкий с ним непонятным боком.
— Какого черта тут происходит? — так же шепотом, но пытаясь говорить строго, спросил Клим.
— Вас приглашают на разговор, пане Кошевой, — пояснил Йозеф. — Нас видели вместе. Разве вы забыли, что Шацкого знает половина Львова, а другую Шацкий знает сам? Меня попросили передать вам записку и предупредить о нашей ночной прогулке. Мое появление тут ни у кого не вызовет никакого подозрения. Потому что Шацкий — чуть ли не единственный человек во всем королевском городе, который ни у кого никогда не вызывает подозрений.
— А оставаясь в квартире, мы не могли поговорить?
— Нет, — вступил в разговор шепелявый незнакомец. — Тот, кто имеет к вам важное дело и разговор, не может зайти иначе, чем как через дверь. Ждать, пока с вас снимут арест, невозможно. Действовать надо немедленно. Завтра уже поздно.
— Действовать? — Кошевой начал закипать. — Слушайте, я не очень люблю, когда меня используют без моего согласия. Пусть посредником и выступил достойный пан Шацкий. Куда мы идем? Кто вы такой? И кто меня разыскивает? Вот три вопроса, на которые я хочу услышать ответ немедленно. Без этого шага не сделаю. Это еще молчу о главном — предмет разговора.
— Сделаете.
Шепелявый подступил совсем близко. Так, словно собирался обнять Клима.
Мгновение — в бок уперлось что-то острое. Даже, кажется, прокололо пиджак. Тихо ойкнул Шацкий.
— Мы не душегубы, пане Кошевой, — спокойно сказал незнакомец. — За жизнь свою не бойтесь. Просто у меня нет другого способа, других слов и, простите, желания объяснять, почему вы должны идти со мной.
— А…
— А вопрос придержите для того, кто вам на них ответит. Пане Шацкий, я вам очень благодарен. И не задерживаю.
Из темноты зацокало.
— Ничего не выйдет, пане Тима, — отозвался Йозеф. — Раз уж я тут с вами, то прогуляюсь и дальше. Не волнуйтесь, Шацкий умеет хранить чужие тайны.
Или шепелявый пан Тима действительно не был против, или действительно не имел времени пререкаться. Убрал от бока Клима острие, сказал:
— Смотрите, пане Шацкий. У вас дети.
— Потому и буду считаться, — послышался серьезный ответ.
— Тогда — вперед. Держитесь за мной, пане Кошевой. Сами отсюда не выйдете.
И странная троица, друг за другом, нырнула в ночь.
Выйти со двора можно было проще — лишь взять налево и миновать арку, которая вела к парадному входу.
Так ходили все здешние жители. Стоя возле окна и от нечего делать рассматривая не слишком живописную серость проходного двора, Клим уже успел изучить этот маршрут. Поэтому машинально дернулся кратчайшим путем. Но тот, кого назвали Тимою, дернул за локоть, останавливая.
— Не туда.
— Почему? — вырвалось у Кошевого, и сразу спросил: — А куда?
— Так мы выйдем к воротам, — торопливо объяснил Шацкий. — Придется пройти мимо вашего дворника. А тот шлимазл с круглым носом, скажу я вам, нас непременно увидит.
Тима же не счел себе за труд объяснить и это. Двинулся дальше, в противоположную сторону, в глубь двора. Последовав за ним, Клим и Шацкий прошли сквозь еще одну арку. Или Кошевому показалось, или она действительно оказалась немного уже, даже ниже и темнее. Выведя небольшую процессию в следующий, еще глубже расположенный дворик, Тима кивнул на светящиеся еще окна, в очередной раз напомнив этим об осторожности. Тогда ступил вправо, и компания последовала дальше, держась ближе к глухой кирпичной стене. Она стала указателем, потому что вскоре завернула, и троица погрузилась в маленький проход.
Вдруг Тима резко поднял руку, останавливая движение. По его примеру Кошевой с Шацким прижались к стене, затаили дыхание. Теперь Клим понял, в чем дело: в темноте возилась парочка. Увлеченные друг другом, любовники забыли обо всем на свете, самозабвенно целуясь. Со своего места ни один из троицы заговорщиков не мог этого видеть, но характерные страстные звуки все же слышались.
Неизвестно, как долго это все могло продолжаться. Ступив на два шага назад, Тима громко прокашлялся. Ойкнуло тонко и по-женски, пробубнил неразборчивый мужской басок, и тени задвигались. Одна, меньшая, скользнула в глубину дворика, исчезла внутри дома. Другая, большая, немного потопталась, потом развернулась и направилась прямо на троицу. Но в последний момент куда-то завернула и исчезла в небольшом лабиринте переходов.
Компания, далее прячась, двинулась вперед. Клим уже не фиксировал, сколько раз они завернули, через сколько арок и двориков проскочили неслышными призраками. Понял одно: сам никогда бы не разобрался в спрятанных от постороннего глаза львовских улочках не только ночью, но и средь бела дня. По крайней мере, они оставались для него неизведанными пока, в настоящее время. Не знал, надо ли будет в дальнейшем изучать ходы-выходы. Но на всякий случай мысленно обозначил намерение невидимой галочкой.
Они вынырнули из городского лабиринта так же внезапно, как погрузились. Только показалось, что шли долго. На самом деле путешествие по задворкам Лычаковской отняла разве четверть часа. На улицу вышли дальше от дома, где жил Кошевой. От того места, где их возле прохода терпеливо ожидала крытая коляска, дом отделяло три следующих. Обойдя его с тыла, Тима будто провел спутников тайными подземными ходами. Как только выглянули из ближайшего двора, возница на козлах шевельнулся, оживился, дернул вожжами. Конь всхрапнул и легонько ударил копытом. Кивком Тима велел Кошевому садиться первым, и Клим заскочил внутрь одним ловким движением. Шацкий оказался не слишком складным, Тима подсадил зубного лекаря, сам запрыгнул, уже когда коляска начала движение.
На улице было не так людно. Вдоль ходов горели фонари. Кошевой ориентировался на местности. Поэтому долго не гадал: они ехали в сторону Верхнего Лычакова.
Всю дорогу молчали. Только Йозеф громко сопел, что-то совсем тихо проговаривая себе под нос. Клим мог поклясться — Шацкий молится. Хоть сам Кошевой не видел в ночном происшествии никаких угроз ни для себя, ни для него. Миновав костел Святого Антония, возница чуть позже повернул коня вправо. Тут освещения уже не было, зато небо окрасила заря, и Кошевому открылся длинный ряд нарядных, очень уютных одноэтажных домиков, которые прятались за деревьями: ими улицу обсадили с обеих сторон. Тут тоже в эту пору не гуляли романтичные светские парочки, но щеголяли группы, которые хотелось обойти десятой дорогой.
Это уже были безраздельные владения батяров. Хоть и не закреплены за ними ни одним муниципальным документом.
Дальше ехали недолго. Остановившись возле ничем не примечательного снаружи домика, возница отпустил вожжи, а Тима легонько подтолкнул Кошевого — прибыли. Выйдя, Клим оглянулся. Новый знакомый позвал за собой. Когда же к ним пристроился Шацкий, его остановили.
— Что такое? — встрепенулся Йозеф. — Вы думаете, я отпущу пана Кошевого без присмотра в ваш вертеп?
— Вы хотели ехать с нами сюда, пане Шацкий, — цыкнул сквозь зубы Тима. — Но мы не договаривались, что вы будете слушать наши важные разговоры. Гуляйте тут. Боитесь — садитесь в коляску и поспите. Она довезет вас обратно.
— На Лычаковскую?
— Хоть до самых Кракидалев. — Потеряв к Йозефу интерес, Тима легонько хлопнул Клима по плечу: — Айда. Добро пожаловать «Под вошь».
Вот теперь Кошевой разглядел: перед ним не обычный домик, а небольшой ресторанчик. Свет из окон, забранных изнутри шторами, подмигивал явно не всем прохожим. Это место, куда не каждый зайдет свободно в такую пору, понял Клим. Что-то вроде батярской штаб-квартиры, не иначе.
Вывеска в глаза не бросалась. Но, проходя мимо нее, Кошевой все же успел прочитать название.
Действительно — "Под вошью".
Глава тринадцатая Тайная встреча «Под вошью»
Переступив порог, Клим погрузился в густую смесь запахов пива, шкварок, чего-то пережаренного, капусты и табачного дыма.
Ресторанчик внутри оказался не слишком большим, но и не совсем маленьким. Круглые столики стояли по обе стороны, образуя неправильный полукруг и оставляя свободным проход к стойки. Возле нее расселись на стульях почтенные, один к одному широкоспинные и широкогузные пани, напоминая птичек на проводах. Половина мест слева от входа была пуста, только за угловым столиком сидели две девицы, не иначе — местные проститутки, аборигенки. Появление новых посетителей мигом привлекло их внимание, головы повернулись синхронно. Клим так же задержал взгляд на курвах, совсем неуместно вспомнив враз, как давно ведет монашескую жизнь. Или показалось, или опытные девчонки на расстоянии почувствовали, что он давно постится, — потому что одна повернулась на стульчике, сделала едва заметный жест, подмигнула.
Хотя… в сизом дыму это могло и привидеться.
Ну их. Ветер в голове — пусть, навеял грешные мысли. А вот ветер в кошельке отрезвит. Поэтому Кошевой отвернулся, поглядел направо. Эту половину зала оккупировали небольшие компании, преимущественно мужские, обсуждая что-то за кружками пива. Лишь в дальнем углу, сдвинув несколько столиков, разместилась пестрая шумная батярская группа, разбавленная женским обществом. Когда Кошевой с Тимой зашли, они как раз разбирали свеже налитое пиво, хоть на столе замечались и водочные графины. Но только они двинулись через зал в противоположный угол, где за отдельным столиком уже сидел и ждал одинокий мужчина среднего возраста, загулявшая компания сдвинула кружки и дружно, пусть не слишком слаженно, разразилась песней:
Втем надхлдзі поліцай І забара глос, А я кулак звіям: Поліц’янта в нос![38]Недовольно зыркнув в ту сторону, Тима качнул головой. До избранного им для встречи угла дошли под сопровождение дерзкого:
Але мі сі ніч не стало, Бом я гультяй, яких мало!К столику уже спешил перевальцем пузатый усач с зализанным пробором. Тиму тут знали, но тот, опередив кельнера, сказал, как выплюнул:
— Скажите тем сумасшедшим, пане Цезарь, чтобы не орали на весь Лычаков. Потому что держат себя, как жлобы. Иначе их очень вежливо попросят устроиться в другом, не таком приятном месте.
— Слушаюсь, пане Тимо, — кивнул усач, напомнив: — Вас уже ждут.
— Вижу, пане Цезарь. Предупредите шумных и принесите нам, как всегда.
Развернувшись на каблуках, пузатый покатился к батярской группе, взял того, кто сидел с краю, сзади за плечи, что-то прошептал. Когда тот попытался оглянуться, пан Цезарь отвесил легкий подзатыльник. После этого с чувством выполненного долга двинулся обратно к стойке. Почесав затылок, батяр наклонился к товарищам, явно пересказывая просьбу. Понравилось она не всем — двое голосов, один из них — девичий, будто нарочно затянули снова уже знакомое:
Але мі сі ніч не стало, Бом я гультяй, яких мало!Ответом на этот раз стал подзатыльник посильнее. Отвалил уже тот, кто сидел рядом с дерзким мерзавцем, на которого не действовали замечания. Тот снова рыпнулся, но с головы сбили картуз, перекинули через стол, еще раз и еще, не давая владельцу его поймать. Наконец натянули, уже козырьком назад, и теперь в том углу стало тихо.
— Проходите, пане Кошевой.
Это проговорил мужчина за столом. Рука указала на место в углу. Клим прошел и уселся. С правой стороны от него тут же разместился Тима, и адвокат оказался словно в тисках. На столе горела большая толстая свечка, поэтому Кошевой мог рассмотреть, кто сидит напротив. А заодно лучше разглядеть шепелявого.
Кроме голоса, Тима ничем другим не выделялся. Высокий, жилистый, но таких по улицам ходит много. Мужчина напротив тоже не был приметным, разве густыми бровями, длиннее, чем того требовали правила приличия, волосами и клиновидной бородкой. Пожав протянутую ему через стол руку, Кошевой ощутил силу пожатия, а значит — силу и вес того, кто выбрал для знакомства подобный экзотический способ.
— Меня называют Густав Силезский, — назвался человек. — Про вас я прочитал не в сегодняшней утренней газете. Навел справки, как только вы поймали моего недоумка-племянника, а ему дали квач[39] через бесов клингер[40]. — Увидев полное непонимание в глазах Клима, сказал иначе: — Арестовали, потому что нашли при нем часы.
— Кого?
— Новотный, Зенек, — повторил Силезский терпеливо. — Мой племянник. Сегодня днем мне разрешили посетить его в тюрьме. Пока его не перевели в Бригидки[41], а держат в коцяби, в следственной тюрьме, где бывший городской арсенал. Поэтому устроить нашу встречу мне удалось. Не надо вам знать, пане Кошевой, кто я и чем занимаюсь. Достаточно знать: на определенные круги во Львове имею большое влияние. При других обстоятельствах найти меня так, запросто, вы бы не смогли. Даже если бы очень хотели и от этого зависело, без преувеличения, ваша жизнь.
— Я должен гордиться от такой чести?
— Вы зря иронизируете.
— Никакой иронии. Наоборот, хочу разобраться в здешних обычаях. Вдруг мне действительно понадобится ваша помощь, господин Силезский.
— Если она вам когда-нибудь понадобится — не позавидую.
— О! Чего это так?
— Потому что люди, и не только подобные вам, ищут меня в случаях, когда дела хуже, чем просто плохие. Но вам уже повезло. Думаю, в случае чего решите свои трудности коротким путем.
— То есть?
— Ну, меня ни разу не подвозила домой в своем экипаже пани Магда. С ее покойным мужем мы несколько раз неформально говорили на разные важные темы. Хотя, признаюсь, покойный директор Богданович очень хотел видеть меня в Бригидках, и то надолго. Пани же Магда имеет значительное влияние там, где я его только осторожно ищу. У нее больше возможностей, пане Кошевой. Но и она не в состоянии вытащить моего племянника из коцяби.
— Я так понимаю, пане Силезский, вы хотите поговорить про батяра, который обокрал меня, а раньше — адвоката Евгения Сойку.
Рядом вырос Цезарь, разговор прервался. Кельнер поставил возле каждого маленький четырехгранный стеклянный бокальчик. Затем в центре стола, точно между мужчинами, вытянулась бутылка из зеленого стекла. Рядом встала большая тарелка с жареными колбасками, которые до сих пор шкварчали, и квашеной капустой.
— Угощайтесь, пане Кошевой. Вы вряд ли ужинали в четырех стенах, — пригласил Силезский.
— Угощайтесь, — пожелал кельнер и покинул общество.
— Колбаски тут самые лучшие, — кивнул Тима, подцепил одну вилкой, положил себе на тарелку и щедро намазал горчицей.
— Забыл? — подавив гнев, Густав картинно насупил брови.
Хлопнув себя по лбу, Тима подхватил зеленую бутылку. Водка в ней была белая. Наливая, причмокивал губами, пригласил выпить, а когда мужчины выпили, выдохнул:
— Ой, отличная же "бачеровка"!
— Ежи Тима, моя правая рука, — пусть запоздало, но все же отрекомендовал Густав коллегу. — Хотите — считайте секретарем.
— Как для секретаря, пан Тима очень ловко лазит в окна. — Клим глотнул пива. — И хорошо знает здешние потайные места.
— Он вырос на улице, — пояснил Силезский. — А с улицы забрал его я. Будь иначе, Тима один раз подрезали бы где-то в таком вот потайном месте, потому что был еще тот андрусь[42]. Не разбирал, чье. Видел — тырил. Ладно, не нравится секретарь — пусть будет человек, выполняющий особые поручения.
— Вывести меня через окно и тайно привезти сюда, «Под вошь», — особое поручение? Вы льстите мне, пане Силезский. — Кошевой откусил кусок колбаски просто с вилки, хотя рядом лежал нож, прожевал, проглотил, добавил: — Я расту в собственных глазах. Меньше недели во Львове, а уже стал для многих очень важной персоной.
Густав взял бокал, глянул сквозь него на огонек свечи. Подержав так, отпил, поставил, сложил руки перед собой на столе.
— Познакомились. Хватит судачить, пане Кошевой. Но поверьте, вам тут никто и ничего не угрожает. Больше того. Зенек, который, кроме того, что батяр и украл у вас деньги, ничем не провинился. Если вы поможете мне вытащить его из-за решетки, можете в дальнейшем смело рассчитывать на мою благосклонность.
— Соглашайтесь, пане Кошевой, — вставил Ежи Тима. — Это дорогого стоит.
Клим почувствовал во рту сигарный привкус.
Захотелось курить.
Почему-то не имел никакого сомнения: стоит попросить — и сигару раздобудут, причем наилучшего сорта, не дешевую.
Боковым зрением зацепил — одна из проституток медленно встала, одернула юбку и неспешно двинулась через весь зал прямо в их сторону. Ей что-то выкрикнул один из пузанов у стойки. Но девица бровью туда не повела, двигаясь к четко определенной цели. На ходу баловалась сигаретой, крутя ее между пальцами левой руки.
Еще и левша, мелькнуло у Клима.
Далее не торопясь с ответом, отпил еще пива. Приподнял вертикально вилку с надкушенной колбаской, подержал. Подчеркнуто аккуратно положил ее на тарелку, которую плавно отодвинул от себя, и, тоже примостив руки на столе, наклонился к Густаву.
— Я сейчас не в том положении, пане Силезский, чтобы отталкивать чью-нибудь протянутую руку.
Проститутка была уже рядом, и аж теперь на нее обратили внимание другие. Силезский нахмурился. Тима скривил уголок рта. Троицу обдало дешевыми духами. Их резкий запах не перебил капустно-табачную смесь, только добавил пикантности, как специя. Причем — положена не слишком умелой и разумной хозяйкой.
Не обращая внимания ни на кого, кроме Клима, проститутка подалась вперед, коснувшись большой, на его вкус, грудью его плеча. Пальцы девицы дальше играли неприкуренной сигаретой.
— Панунцю золотой, а дай сигаретку прикурить.
Кошевому пришлось смотреть на нее через плечо. Вблизи заметил старательно припудренную сетку морщин под глазами.
— И ты такой хорошенький. — Голос у нее был низким, грудным, но все равно не звучал грубо.
Тонкие, густо накрашенные, от этого — еще вульгарные губы уже стиснули край сигареты. Понимая — надо что-то говорить, Клим, вместо ответа, машинально начал искать в карманах несуществующую спичечную коробку.
— Да иди прочь, отцепись! — вмешался Тима.
Проститутка глянула на него, как на насекомое.
— Да ой, что ты фуня строгаешь?[43] И не будь такой цваный![44] Да ты еще не знаешь, что теряешь!
— Ничего, лишь курву! Прочь, я сказал!
Пожав плечами, проститутка выпрямилась. Вынула сигарету, правой рукой провела по Климовой голове, то ли лаская, то ероша волосы. Повернувшись к стойке, сказала нарочно громко, чтобы услышали все присутствующие:
— О-о, кого я вижу! Этот симпатичный пан-то мне даст прикурить. У пана такой хороший анцуґ![45] Вероятно, в магистрате работаете? Альбо на кулее?[46] А что это вы сами сидите? Я бы могла вас развлечь.
Как только она отошла, Клим не удержался, провел взглядом. Но быстро одернул себя, снова сосредоточился на разговоре, откашлялся:
— Ну, так я не в том положении, чтобы пренебрегать предлагаемой дружбой. Однако хочу уразуметь для себя одну важную вещь — чем сам человек, подобный мне, то есть случайный, без денег и без знакомств, за исключением Йозефа Шацкого, способен помочь такому, как вы?
Проститутка тем временем уже мостилась возле стойки. Правая рука ласкала стриженый загривок одного из пузанов.
— Повторю, раз не поняли, — сказал Силезский. — Зенек Новотный — батяр. В ближайшее время из него ничего путного не выйдет. Если, конечно, эта история, в которую он влип, не добавит разума. Когда добавит, я с радостью ему помогу. Его мамочка, она же моя родная сестра, уже успела выплакать с ним все глаза. Понимаете, она вдова, муж умер от чахотки, а сын вместо помощи — батярует. Конечно, что-то приносит в дом, иногда даже нанимается на работу. Когда дрова у кого-то попилит, да не часто. Тяжкий труд не для таких, как Зенек. В основном продает краденых птичек, щенков или котов.
— Еще он мошенник, — сказал Клим.
— Не без этого.
— А теперь — убийца.
Тима слишком сильно хлопнул полупустым уже бокалом по столу.
— Никого Зеньо не убивал!
— У него были часы убитого адвоката.
— Но это не значит, что пана Геника застрелил мой племянник! — Силезский чуть возвысил голос, но сразу понизил, дальше повел ровно, хоть едва сдерживал волнение: — Просто я знаю, как работает криминальная полиция. Комиссар Вихура имеет железную хватку, но вместе с тем не любит, когда дело надо распутывать долго. Вы дали ему в руки козырь — часы убитого.
— Пардон! — встрепенулся Клим. — Я никому не давал брегет! Вы сейчас говорите, что я подбросил доказательства тому батяру, чтобы…
— Да дослушайте до конца! — раздраженно прервал Густав. — Никто вас ни в чем не обвиняет! Произошло то стечение обстоятельств, которое, надеюсь, научит моего племянника раз и навсегда держаться подальше от квартирных краж, клепаровских воров и вообще — явного, ничем не прикрытого криминала.
— Зенек был в квартире пана адвоката, — сказал Тима. — Вместе с ним туда проник Любко Цыпа, известный вор. Когда эти двое недоумка залезли туда, увидели труп на полу.
У стойки уже двое пузанов обсели проститутку. Один с третьей попытки пытался поднести огня. Другой — наливал из графина в заботливо поднесенную рюмку.
Кошевой порывисто выпрямился.
— Что?
— Вашего Сойку уже кто-то убил, когда Зенек и Цепа пробрались в квартиру, — отрезал Силезский. — Мне это рассказал испуганный племянник сегодня, во время короткого свидания. Полиции ничего не говорит, потому что Цыпы испугался больше, чем комиссара Вихуру. Тот непременно узнает, кто выдал, и своего племянника при всех своих связях я спасти не успею. За подобные вещи наказывают строго. И, честно говоря, при других обстоятельствах я бы приветствовал расправу над предателем. Попался — молчи. Да, повторюсь, не теперь.
— Почему?
— Даже если я смогу убедить Зенека рассказать все полиции и Цыпу поймают, обоих, хоть как, будут раскручивать за убийство. Разве что вора сделают виновным, а моего племянника — лишь соучастником и свидетелем, который скрыл преступление. К тому же они обокрали покойного, это правда. Зенек рассказал, искать долго не пришлось. В спальне под кроватью нашли саквояж, набитый наличными. Откуда такое богатство у пана Геника, ни один не задумался. Наоборот, собирались найти что-то такое. Ведь репутацию ваш коллега имел не лучшую. Может быть, вы об этом наслышаны. — Кошевой кивнул. — Ну, адвокаты, которые успешно вытаскивают из передряги негодяев, всегда имеют деньги. Или другие драгоценности. И не все хранят в банке. Так Цыпа объяснял моему Зенеку. И тот радостно согласился на авантюру.
Вико сильно дернулось. Кошевой коснулся его щепотью, немножко подержал.
— Разве воры не знали, что Сойка, на которого они нацелились, дома?
— Были уверены- нет.
— Это как? — удивился Клим.
— А так! — Густав тоже выпрямился, развел руками и поглядел на Тима, словно призывая его в свидетели. — Цыпа — опытный вор. Решил сначала узнать, есть ли хозяин дома. Выдал из себя посетителя, но дворник не пустил. Настоящий цербер. Заявил: нет, чего ходить. Пан адвокат отсутствует, и вообще неизвестно, когда вернется. Окно не светилось. Вот наши герои и решили переждать какой-то часик. А тогда залезли сквозь приоткрытое окно. Дальше вы знаете.
Теперь Клим совсем не обращал внимания ни на ворчание пьяниц за столиками, ни на батярские несдержанные возгласы. Даже на зажигательный хохот проститутки, которая уже обрабатывала трех завсегдатаев, а ее подруга почему-то и дальше скучала за столиком.
Сказанное паном Силезским было похоже на правду.
Кошевой не собирался признавать это вслух.
Но Сойка действительно распорядился никого к себе не пускать. Еще и заплатил Бульбашу, чтобы тот гонял случайных посетителей. Выходит, воры купились на ложь… могли купиться.
— Зенек не сказал, когда они пролезли в квартиру точно?
— Как совсем стемнело. Примерно в это время. Если раньше или позже — не намного, думаю. Это имеет для вас значение?
Клим и тут решил промолчать.
— Итак, они нашли саквояж с деньгами? А Зенек, выходит, забрал еще и часы?
— Именно так. Соблазнился. Потому что Цыпа все равно не собирался делить добычу в ближайшее время. Решил подождать. Справедливо предполагал, что про такую сумму кто-то да и знает. Начнут искать. Решат — кто украл, тот и убил. Поэтому подстраховался Цыпа.
— Как?
— Зенек говорил — тот придумал изобразить картину, будто адвокат застрелился сам. Потом еще сделал так, чтобы окно закрылось изнутри. Любко мастер на такие фокусы.
Вико снова дернулось.
— Вы хотите сказать…
— Но только повторяю слова племянника, пане Кошевой.
Нарушена первоначальная картина на месте убийства. Сбита с толку полиция. И все это — благодаря двум воришкам. Но Клим отбросил последние сомнения: кто-кто, а этот батяр точно не виноват. И не сообщник убийцы.
— Чем могу помочь? — спросил, уже настроенный на деловой разговор.
— Вы знакомы с пани Магдой. Расскажите ей то, что услышали от меня.
— И Любко, — вставил шепелявый Тима.
— Верно. Вы, а не мой племянник, укажете полиции через посредство пани Богданович место, где прячется Цыпа. Пусть возятся с ним, это же была его идея. Честно говоря, мне не очень хочется отдавать Вихуре даже его. Поэтому возможен третий выход: Цыпа возвращает деньги, полностью, до крейцера. А сам делает ноги из Львова куда подальше. Пусть его ищут как убийцу, вора или свидетеля — мне все равно. Только все это в обмен на освобождение Зенека Новотного. — Уголок губ Густава скривился в улыбке. — Его так же можно посадить под домашний арест.
Проститутка вела от стойки к угловому столику и демонстративно обиженной подруге всех трех пузанов.
Один из пьяниц приклонил голову на стол. Другой дергал павшего товарища за плечо.
Компания бездельников в противоположном углу тем временем начинала сворачиваться. Именно продолжался громкий спор, кто же будет платить за все, и Клим опасался, как бы он не вылился в драку. Прибежит полиция — а он беглец.
— Вам долго еще требуется думать, пане Кошевой? — поторопил Силезский. — Чтобы лучше думалось: сколько денег стянул у вас тот батяр?
На этот раз не сдержал улыбки Клим.
— Что такое?
— Вспомнилось сейчас. Только теперь, правда. Смотрите — вчера ваш племянник вместе с товарищем пережил приключение с трупом в квартире, из которой вышел, имея золотые часы и половину денег, уложенных, как он сказал, в саквояж. А сегодня, будто ничего не произошло, похищает мошенническим способом сто корон у приезжего. Разве не мелочность?
— Но батярам, пане Кошевой, добыча в таких забавах не важна, — ответил Тима. — Главное — сама забава.
Пока говорил, Силезский вытащил из внутреннего кармана дорогое кожаное портмоне, вынул оттуда несколько банкнот, торжественно выложил на стол перед собеседником.
— Возьмите. Тут четыре сотни. Возмещу ваши убытки. И сделайте так, чтобы несчастная мать не лила слезы из-за глупого сына.
О гордости лучше забыть. Не с его счастьем.
Стараясь держаться так достойно, как только позволяла ситуация, Кошевой взял деньги и, не считая, спрятал в собственный карман. Соглашение заключено.
— Как вы думаете, я могу встретиться с пани Магдой?
— Но у вас полицейский возле дома находится. Скажите ему — хотите видеть комиссара. Когда тот прибудет — требуйте, чтобы разговор происходил в присутствии пани Богданович. Неужели вас требуется учить?
— Мне требуется знать, откуда имею сведения про вора Цыпу и саквояж с деньгами, — пояснил Клим и тут же, не дожидаясь ответа, проговорил: — Ваш Зенек сам про это скажет. Я уже потом поучаствую. — Про лист бумаги, который был при нем, никто из присутствующих не знал, и этот козырь Кошевой задумал ввести в игру позже, когда придет на это время. — Не буду говорить сейчас, что задумал. Но будьте уверены: уже завтра до обеда Зенек Новотный выйдет из-за решетки. Вам нужно только добраться к нему снова и сообщить, где спрятаны украденные деньги. Я про это узнаю. Тогда начнется моя партия. Согласны?
Мужчины переглянулись.
— Принимается, — Густав хлопнул ладонью по столу.
— Тогда Цыпу требуется поймать уже! — сказал Тима. — Как узнал про Зенека, залег на дно. Сидит сейчас на Клепарове, у своей бини[47]. Но, говорят, в село сама уехала, родителей навестить, завезти кое-что. Продуктов оставила, Цыпа из дома носа не кажет. Трясется на деньгах.
— Чего ждет?
— Бог святой знает, пане Силезский.
— Да заодно и спросим.
Густав поднялся. Новый знакомый оказался на целую голову выше Клима.
— Поедете с нами? Или завезти обратно, тем же путем?
— После всего услышанного? Извините, панове, под домашний арест всегда успею. — Клим тоже поднялся, не удержался — откусил еще ломоть колбаски. — Поехали. Доведем эту часть дела до конца.
Где надо искать убийцу и даже кого следует искать, Кошевой этим двум докладывать не собирался.
— Там же еще Шацкий бродит, — напомнил, вставая и себе, Ежи Тима. — Его так же пришлось с собой тащить. Вы же знаете его, пане Силезский…
— Потому и позволил привлечь ко всему, потому что знаю, — Густав вздохнул. — Хуже не будет. Едем вместе…
До Клепарова добрались за каких-то полчаса.
Шацкий ничего не спрашивал. Молча съежился в углу коляски, прижатый Кошевым, и снова лишь сопел. По дороге все так же молчали, каждый наверняка думал о своем, а Климу — тому вообще было над чем сейчас ломать голову. Предвкушая пусть небольшую, но все же победу, он раз за разом прогонял в уме текст, написанный Сойкою перед смертью и воссозданный им сегодня, и под конец уже мог похвастаться — выучил наизусть. Став враз носителем ценных сведений, Клим гордился собой. И думал, какую выгоду мог бы с этого иметь, чтобы без потерь завершить досадное начало своей львовской одиссеи.
Миновав на своем пути высокий холм, коляска завернула вниз и оказалась в довольно уютной местности, которая и глубокой ночью выглядела живописно. Тут пахло какими-то цветами, все вокруг выглядело вполне мирно. Пересев тем временем к извозчику, Тима руководил, и наконец остановились возле домика, обнесенного невысоким забором. Теперь уже даже Шацкого не просили остаться, зашли во двор вместе, не таясь. Тима сначала постучал в окно, громко и сильно, аж стекла звякнули. Потом, не дождавшись, вернулся обратно, ступил на крыльцо, начал стучать в дверь.
Достаточно было стукнуть кулаком дважды, чтобы на третий раз понять — открыто.
Жестом велев всем отступить, шепелявый Ежи достал из кармана небольшой револьвер. Уже выкатился и месяц, холодная сталь блеснула в его сиянии.
— Спрячь, — выдавил Силезский.
Не слушая, Тима потянул на себя дверь.
Приоткрыл.
Зашел, оставив ее настежь приоткрытой.
А через короткое мгновение вышел. Вооруженная рука болталась вдоль тела. Даже в темноте было заметно, что он растерян.
— Что такое? — Клим и Густав, не сговариваясь, спросили хором.
Увидели, когда зашли.
В гостиной, на полу, валялся вниз в луже собственной крови человек, которого назвали Любеком Цыпой.
Все увидели — но Кошевой еще и почувствовал: запах знакомый.
Так пахло в спальне адвоката Сойки.
Махорка.
Не успела выветриться. Совсем недавно ее тут курили.
Глава четырнадцатая Гнев на милость
— Вы не просто крутитесь под ногами. Вы нарушаете закон и будете за это наказаны.
Цвет лица Марека Вихуры полностью соответствовал его состоянию. При других обстоятельствах всякий сторонний наблюдатель наверняка сказал бы: лицо комиссара пылало от возмущения и ярости. Напоминая цветом раскаленную плиту или железную заготовку, только что вынутую из кузнечного горна.
Но сейчас, спокойно глядя на разъяренного полицейского, Клим в очередной раз понял преимущество, которое имеет Вихура. Красный рот показывал его разгневанным даже тогда, когда комиссар находился в другом, часто противоположном настроении. Комиссар всегда, независимо от обстоятельств, напоминал разъяренного быка, которого никто не мог обуздать.
На этот раз возмущение Вихуры было настоящим, и, судя по налитым кровью глазам, комиссар находился за полшага до взрыва. Правда, красные глаза имели другое объяснение: Вихура недоспал. Его подняли среди ночи, да еще и в то время, когда полицейский наконец решил отоспаться. Кошевой прекрасно представлял, каково оно.
Ведь убийцу Сойки поймали.
Чем дольше батяр будет тянуть с признанием для полиции, сделанным дяде один на один, тем больше возможностей будет давать следствию для обвинения. Зенеку надо было сразу все рассказать, но парень не сделал этого, причины Климу уже известны. Профессиональный адвокат не признавал их, но вместе с тем понимал. Если бы взялся защищать Новотного, имел бы из-за его нерешительности первую серьезную проблему, которую потом довольно сложно исправить.
Поэтому каждым часом упрямого молчания батяр, если можно так сказать, еще глубже копал себе яму. И приближал победу комиссара.
— Вам бы поспать, — промолвил Кошевой, глядя Вихуре прямо в глаза.
Не ясно, что накручивало комиссара больше — убийство, о котором ему сообщили среди ночи, дерзкий побег Клима из-под домашнего ареста или этот его совсем не наигранное, настоящее спокойствие. Он стиснул кулаки.
— Вы издеваетесь? Вы… ты издеваешься надо мной, наглый щенок?
Полицейские, которые толклись возле усадьбы, при этих словах насторожились, как охотничьи собаки в предвкушении нужной команды от хозяина.
Все происходило во дворе — внутри мертвое тело и место происшествия уже час осматривала специальная бригада, поэтому всех, включая Вихуру, попросили выйти. Взглянув на полицейских, оценив опасность, которую те представляют, и согласившись сам с собой — хуже уже не будет, Кошевой вновь вернулся к комиссару.
— Нет, пан комиссар. Вам надо поспать. В таком состоянии очень трудно думать. Еще сложнее принимать правильные решения. Можно наделать глупостей, и пока этого не произошло…
— Решение, говоришь? Я уже все решил! На тебя, курварю, сейчас наденут наручники! И ты поедешь просто отсюда сразу к Бригидки!
— За что?
— Причин более чем достаточно, парень! Побег из-под стражи, отныне такой возможности у тебя не будет. Далее — менее чем за неделю ты находишь во Львове уже второй труп! Причем этого перед тем, как стал трупом, резали ножом! Кололи в живот, как ту свинью! Вырезали ремень со спины. Рот забили тряпкой, чтобы не слышать воплей! — Комиссар заводился все сильнее. — Оба раза набираешься такой наглости, что вызываешь полицию!
— Так не следовало? Полицию вызвать — не следует?
— Он еще шутит! — закричал Вихура, уже не сдерживая гнева. — Находит криминальные трупы! А потом еще и выступаешь чуть ли не главным свидетелем преступления! Надо к тебе присмотреться лучше, Кошевой! Не ясно, что ты за сам по себе, ох, не ясно! — Выпустив пар, комиссар выдохнул, дальше говорил уже спокойнее: — Про твоего кумпля, пана Геника Сойку, все понятно давно. Раньше или позже, но на него бы надели стальные бранзулети! Еще надо выяснить, для чего ты действительно приехал сюда из России!
— Киев — не Россия, — поправил Клим. — Российская империя, пане Вихура, так же не вся когда-то принадлежала русской царской династии.
— Не морочь голову! — рявкнул комиссар. — Мы с тобой не о политике сейчас! Есть у меня подозрение, что тобой заинтересуется имперско-королевская жандармерия! Так что не парься, парень! Стоит только попасть за решетку, а там уже найдут сотни причин оставить тебя с ними надолго.
Кошевой вздохнул. Хотел сказать, как хорошо понимает именно это. Зато сказал:
— Вы вовремя вспомнили про службу безопасности, пане комиссар. И уместно напомнили про свою власть надо мной, нарушителем закона. Формально — подданным соседнего государства. Еще и без вида на жительство на территории Королевства Галиции и Лодомерии. Готов признать все свои ошибки. Если закон определяет мои деяния преступными — пусть так. Я привык слушаться закона и исполнять его. Знаете, по образованию я юрист. То есть слуга закона. И буду исполнять волю его, своего хозяина. Но перед тем как арестуете меня, позвольте все объяснить.
— Что именно — «все»? Ты объяснишь мне, почему сбежал из-под ареста и как оказался среди ночи тут, на Клепарове, да еще и возле застреленного в упор известного вора Любка Цыпы? Никто не знает, где скрывается Цыпа! Никто! — Комиссар помахал пальцем перед лицом Клима. — Полиции нужно привлекать множество агентуры, чтобы найти его в случае необходимости! А некий Кошевой, который путается в названиях наших улиц, среди ночи пришел именно туда, где его застрелили! Между прочим, это наверняка сведение каких-то частных счетов. В криминале это привычное дело.
— Почему вы так решили?
— А почему я всякому должен отчитываться? — вызверился Вихура, но тут же объяснил: — Внутри все перевернуто. Точно что-то искали. Нашли, так сам думаю. А еще предполагаю, с очень большой вероятностью: Цыпа взял что-то у человека или людей, считающих себя неприкосновенными. Нарушил правила, за ним такое водилось. Вот они и вернули свое, а Любка наказали. Показательно наказали, некуда показательнее.
— Вполне с вами согласен, пане комиссар. — Клим удивлялся сам себе, как легко удавалось несмотря ни на что сохранять спокойствие. — Даже больше. Готов заключить сделку.
— Сделку? Уже что-то придумал, ловкач? Пани Богданович, кстати, тебя сейчас не спасет, не надейся!
— Я, пан комиссар, давно привык полагаться только на себя. Пани Богданович тут ни к чему. Не надо вспоминать всуе почтенную даму. Про сделку — она очень проста. Вы оставляете меня на свободе. Не выдвигаете никаких обвинений. Снимаете домашний арест. И вообще, полиция оставляет меня в покое. Можно выполнить эту часть?
— Аппетит большой, парень. Я не услышал, что взамен хочешь предложить мне ты. Какие признания, в чем? О них же идет речь, верно? Ты в чем признаешься?
Веко сильно дернулось, выдавая, сколько все ж таки усилий прилагал Клим, чтобы оставаться спокойным.
— Мне не в чем признаваться. Я назову вам имя того, кто убил вора Любка Цыпу. Этот же мужчина с высокой вероятностью раньше убил адвоката Евгения Сойку. — Палец коснулся края правого глаза. — Я отдам вам убийцу, пане комиссар. Здесь и сейчас.
Говорил громко.
Еще и не удержался — снова взглянул на полицейских. Те услышали, подошли ближе без специальной команды.
Ночь становилась все интереснее.
…Решение пришло, только Кошевой увидел труп вора.
Новым знакомым и Йозефу Шацкому не объяснял ничего. Почувствовав тот хрупкий момент, когда события можно обуздать и взять все под личный контроль, Клим немедленно начал действовать. Преимущество лежало в его портмоне, сложенное вчетверо. Его дал, сам того не зная, покойный Сойка.
И полученными знаниями Кошевой воспользовался сполна.
Силезский с Тимою должны поскорее убраться с места, где произошло убийство. Ничего тут не трогать. Шацкий, который уже не на шутку перепугался и которому ночное приключение совсем перестало нравиться, должен был быть скоро доставлен домой. И для своего же блага держать язык на привязи. Объяснения для своей Эстер должен был придумать сам, и чем невероятнее оно будет звучать, тем быстрее женщина ему поверит. Ибо, судя по всему, Шацкого сопровождают подобные случаи. Все, что угодно, кроме борделя, прошу панство, заявил тогда Йозеф, но его слушали в половину уха — сейчас Клима значительно больше интересовало, как сообщить полиции об убийстве и при этом не засветить источник. Факт личного знакомства с господином Густавом Силезским, как подозревал Кошевой, не пойдет ему на пользу в дальнейшем.
Мне надо дождаться полицию тут, самому, — сказал, не вдаваясь в подробности плана. Дальше все сложится, тем более — просили же о помощи, получите. Силезский решил не спорить, сделал так, как просили.
И чуть больше чем через час Кошевой получил первую огромную порцию гнева от комиссара Марека Вихуры…
Теперь пора наступать. Но все же Клим дождался вопроса:
— Откуда тебе… вам это знать?
И ответил:
— Фамилию своего убийцы написал сам Сойка. Я обнаружил это совершенно случайно, пане комиссар. Сидел же в квартире, под арестом. Имел некоторые мысли. Решил записать, я часто так делаю. Взял бумагу из Сойкиных запасов. И увидел вот это.
Торжественно вытащив из кармана портмоне, выудил оттуда драгоценный лист. Взяв его, Вихура сперва для чего-то понюхал бумагу. Затем развернул, сделал знак:
— Света сюда!
— Не надо, впустую.
— Почему?
— Разве вы знаете русский язык.
— Русский?
— Сойка писал расписку. Старался, давил пером. Это за ним водилось, очень заботился о каллиграфии. Слова и буквы частично выдавились на лист, который лежал снизу. Когда начал наводить чернилами те следы, чтобы прочитать, стало ясно — это русский.
— Что это значит?
— Сойка написал расписку на русском языке, — сейчас Клим говорил с Вихурою терпеливо, словно с маленьким ребенком. — Это значит, что она предназначалась для россиянина. Его зовут Игнатий Ярцев, и он должен был охранять деньги в сумме тридцать тысяч рублей. Их Сойка должен передать господину Симеону Дановичу, кто такой — не знаю. Но Евгений Павлович, или, как его тут называли, пан Геник, письменно обязался взять дальнейшую ответственность за посылку на себя. Расписка адресована тоже неизвестному мне Юрию Князеву. Из чего мы с вами, пане комиссар, делаем единственно правильный вывод: Сойка оправдывал данным документом Ярцева, который, как я понимаю, просто изводил адвоката своим присутствием. Вот почему Сойка накануне убийства так странно вел себя, отказывая всем без исключения посетителям. У него в квартире сидел вооруженный громила, который к тому же зачадил все кругом махоркой. Спросите у господина Ольшанского, следователь наверняка поведает вам мои выводы о запахах, которые не выветрились из квартиры убитого. Особенно — из спальни.
— Знаю, — отмахнулся Вихура. — Кто убил Сойку и Цыпу, вы обещали назвать имя.
— Уже назвал. Игнатий Ярцев, тот самый охранник, любитель крепкой махры. Он был тут, в усадьбе. Думаю, ждал Цыпу, когда тот вернется из гулянки. Мог застать дома. И, как на беду, любовница, в чьей постели он тут скрывался, выбралась на днях в село. Поэтому Цыпа, вдруг почувствовав свободу и не зная, куда себя деть, поступил так, как поступает большинство мужчин, — пошел на гулянку.
— А это вы откуда знаете?
— Во-первых, я все же мужчина, — легонько улыбнулся Кошевой. — Во-вторых, пока ждал полицию, не сдержался и осмотрел тело. Цыпу сначала пытали, недолго, но жестоко, вы и сами уже это увидели. Потом застрелили, пуля в голову. Так же, как убили Сойку. Но алкогольные пары после смерти не выветрились. Они окутывали Любчика, что доказывает — вор вернулся домой поздно и пьяный. Значит, гулял. Застал в доме незваного гостя. Успел отрезветь или нет — Бог Святый знает. Так или иначе, крепкий запах русской махорки задержался из-за того, что Игнатий Ярцев курил, терпеливо ожидая жертву.
— Для чего этот ваш Ярцев приперся среди ночи на Клепаров?
Кошевой напрягся, сжав внутри себя невидимую тугую пружину. Наступил ответственный и самый опасный момент — логическое объяснение своего присутствия тут. Потому что этот вопрос уже вот-вот должен был сорваться с комиссарового языка.
— Позвольте говорить коротко, но все же по порядку, господин Вихура.
— Прошу очень.
— Благодарю. Что я понял, прочитав расписку? Полную правоту тех, кто напрямую связывал моего старшего товарища Евгения Сойку с подрывной для Австро-Венгерской империи деятельностью москвофильских организаций. Вероятно, тридцать тысяч рублей, доставленных Князевым и Ярцевым, — деньги, предназначенные для финансирования какой-то политической или, скорее всего, террористической организации. Тут я делаю поправку на действительный разгул националистического терроризма в Львове в последнее время. Читаю газеты, но, главное, умею слушать. Допустим, Сойка знал: он под тайным надзором. И не сразу решил передать посылку Симеону Дановичу. Оставил деньги у себя на хранение, но при этом не собирался терпеть рядом такого, как Игнатий Ярцев. Довольно похоже на пана Сойку, скажу я вам. Ну, а Ярцев, получив неожиданную индульгенцию, решил забрать деньги себе. Договорился ли про такое с Князевым, пока не готов утверждать.
— Предположение, пане Кошевой.
— Именно так, пане Вихура. И если бы не труп вора Цыпы со следами пыток, я бы не спешил с выводами. Теперь же все сходится.
Ночь из темной медленно становилась серою.
Приближался ранний июльский рассвет. Из дома уже выносили накрытое тело покойника. Полицейские, провожая носилки взглядами, тихо переговаривались, поглядывая почему-то еще и на Клима. Стало неуютно, он повел плечами.
— Что у вас сходится, пане Кошевой?
Похоже, комиссаров гнев начинал меняться на милость.
— Игнатий Ярцев уходит от Сойки, — пояснил Клим. — Выжидает, через некоторое время возвращается. Уже тайком, сквозь приоткрытое окно. Адвокат не ожидал такого поворота событий. Но все же не дается. Короткая схватка, Ярцев прижимает его к полу, стреляет, убивает. Но деньги остаются в квартире, причем — не так надежно спрятаны, как можно предположить.
— А это вы откуда знаете?
— Потому что их нашли воры, которые залезли в помещение уже после того, как Сойку убили. Ими были Любко Цыпа и знакомый вам и мне батяр Зенек Новотный. Найдя саквояж и прихватив до кучи драгоценные золотые часы, они выбрались из квартиры, очень обрадованы и напуганы одновременно. Но надеялись: в случае чего кражу и убийство спишут на одного человека, если, конечно, обнаружат кражу. И никто из них под подозрение не попадет.
— Я не услышал, почему вы считаете именно эти события действительными, пане Кошевой.
— Ответ — там, — Клим кивнул на усадьбу. — Если бы Цыпа не потянул деньги, которые не ему предназначены, Игнату Ярцеву не было бы до него никакого дела. А то, что Любко и Зенек обчистили квартиру пана Геника той ночью, я узнал несколько часов назад. Вот почему оказался тут, на Клепарове.
— Не понимаю.
— Поясню. — Сейчас Кошевой ступал на тонкий лед. — Когда воспроизвел и прочитал записку, осенило: в квартире Сойки хранились большие деньги, после его убийства их не нашли. Потому что не искали. Не знала полиция об этом факте. Далее рассуждал так, — веко дернулось, но Клим не обратил внимания, увлекаясь: — Воры одним часами, найденным в кармане дерзкого батяра, вряд ли ограничились. Деньги наверняка так же у них. Тогда представил себе Игнатия Ярцева. Немножко, совсем немножко, пане Вихура, зная нравы таких людей, сталкиваясь с ними в Киеве и читая о них в российских газетах, понял: охранник не успокоится. Будет рыть носом львовскую брусчатку, но воров найдет и покарает, забрав деньги обратно. Вообще-то это дело чести, его и Князева.
— Вы забиваете мне баки, — комиссар снова начал раздражаться. — Почему не позвали полицию, докладываете про вашу находку только сейчас, при луне рядом с трупом?
— Накажите, — вздохнул Кошевой, всем своим видом демонстрируя безграничное и глубокое раскаяние. — Закрутило шило в жопе, как у нас говорят. Хотел сам все разведать до конца. И принести вам на подносе, в подарок. Тщеславен я, грех это, но кто не без греха… Через спесь влип в историю.
— Поподробнее, прошу пана.
— Вы же знаете, меня обокрали батяры. Я изо дня в день их искал. Заодно интересовался местами, где они чаще всего собираются. Так узнал о ресторанчике "Вошь" в Верхнем Лычакове.
— Известное место, — похоже, комиссар начал понемногу верить.
— Я там бывал раньше, несколько раз. Со мной никто не хотел особо говорить, понятно. Но теперь мне было с чем идти туда снова. Дождался ночи, выбрался через окно. Думал обратно так же возвращаться. Словом, поговорил снова с тамошними завсегдатаями-батярами. Объяснил, кто и что угрожает. Расчет, пане комиссар, наивный, но вполне вероятный: вор или воры, которые остались на воле и прячут деньги, сдадут их полиции. Подкинут записку, где укажут, кто на самом деле мог убить Сойку. Потом вступаю я, будто между прочим хвастаюсь неожиданной находкой, вот этой распиской. Дальше уже дело полицейской техники.
Вихура недовольно фыркнул:
— Ерунда. Детские игрушки.
— Может, и так, — легко признал Клим. — Даже наверняка так, пане комиссар. Заигрался, есть такое. Позвольте не называть имен тех, кто в конце концов подсказал, где искать Любка Цыпу. Согласимся — я нашел его едва остывший труп и мог убежать от неприятностей, — однако решил дождаться полиции. И так же не заставляйте меня говорить, как об убийстве на Клепарове стало известно. Слово чести — в свете того, что и почему произошло, явно не причастные к преступлению люди не имеют для вас никакого значения.
Марек Вихура помял исписанный лист кончиками пальцев. Задумчиво спрятал в карман пиджака. Потер подбородок, потом — все лицо.
— Верно вы сказали, пане Кошевой. Мне давно надо выспаться. — Пауза. — Остается понять, почему Ярцев не взял денег. А оставил, чтобы они стали добычей Зенека с Любком. Что скажете?
Проскочил. Пронесло. Пахнуло запахом подозрительности — но и все.
— Лишь предположения, очередные, — сказал Клим. — Исхожу, опять же, из своего знания характера и привычек Сойки. Он мог, подчеркиваю, — только мог начать с Ярцовым рискованную игру. Выиграть время, не отдавать сокровище сразу. Кто знает, сколько времени охранник не держал Сойку в поле зрения. Попробуем представить: поздно вечером Ярцев, словно призрак, залезает через окно и начинает трясти адвоката — деньги на бочку. А пан Геник в ответ — тихо, мол. Не такой я глупый. Взял на себя ответственность, так и несу. Нет их в квартире. Спрятал где-нибудь. Когда успел, спрашиваешь? А не твое собачье дело! Еще раз — подобное поведение, такие вот ходы вполне в стиле Евгения Павловича. В критических ситуациях блефовал, шел напролом. Часто, очень часто это ему удавалось.
— Видели, знаем, — кивнул Вихура, призывая при этом полицейских в свидетели. — А теперь, пане Кошевой, я закончу за вас. Блеф сработал наполовину, до боли знакомая история. Ярцев решил — Сойка назвал с испуга настоящее место. И решил избавиться от него тут же, на месте. Потому что все равно вынес приговор, не собирался возвращаться. Тем временем желанные деньги лежали под носом. Убийца не мог предположить такого. Когда же он ушел, через некоторое время судьба привела в зловещую квартиру двух воров, один из них еще и батяр. Они легко отыскали неожиданное для себя сокровище, убрались прочь. Причем Новотный даже не надеялся на такую добычу. Наконец, после ухода воров в дом снова вернулся убийца, уже потерепел неудачу.
— Я не заметил следов большого обыска, — вставил Клим. — Хотя Ярцев искал утраченное, не иначе.
— Он посмотрел только там, где действительно можно спрятать саквояж. Не забывайте — полицию надо было сбить со следа. Тщательный обыск мог навести на мысль — что-то искали, и это не обычное ограбление. К тому же картина преступления таки напоминала самоубийство. Ну, все это предположение. Пусть очень близкое, как по мне, к истине. Но просто так проглотить исчезновение значительной суммы российские эмиссары не имели права. И началась погоня наперегонки.
— С кем?
— С вами, пане Кошевой. Вы искали батяров, россияне — воров. Случилось так, что дилетант и специалисты двигались параллельно. Потом о вашем приключении с позавчерашними уже гонками написали в газетах. Еще и вспомнили про часы убитого адвоката. С этого момента для россиян взять верный след стало делом не только чести, но и техники. Ну, теперь и мы не будем плестись в хвосте. Долго они там еще? — Вихура, встав на цыпочки, глянул через плечо Клима на усадьбу, махнул рукой. — Вот, есть работа. Хорошо, надо ехать. Вы — со мной!
— Под арест? — Климу хотелось, чтобы это прозвучало шутливо.
— Сгодилось бы, пане Кошевой. Для порядка. Я, знаете, люблю порядок и уважаю закон… Но в этот раз вам снова повезло. Напишете подробно то, о чем рассказали мне сейчас. Приобщим записку, которая при вас, вещественным доказательством. И можете возвращаться. Похлопочу уже, снимут ограничения.
Клим переступил с ноги на ногу.
— Пане Вихура… Может…
— Говорите уже! Некогда с вами!
Он нутром чувствовал стремительное приближение финала этой драмы. Глаз дергался совсем легонько, добрый знак, уже успел изучить себя нового. Застал самое начало, очень хотелось добраться до конца.
— Я буду нужен, пане Вихура. Хотя бы как свидетель, для следствия. Домой — тогда снова за мной посылать. Лучше для всех мне пробыть в ближайшее время недалеко от вас. Под рукой, так сказать. Даже посадите в камеру, наверняка у вас еще не было туда добровольцев за все время службы.
Комиссар потер подбородок.
— В камеру, говорите? Действительно, еще никогда не видел добровольцев за решетку.
— Но в одиночную! — поспешно добавил Кошевой. — Высплюсь там заодно.
— Считаете, тюрьма — это как отель «Жорж»? Кто захотел — тот переночевал?
Але Віхура бурчав швидше для порядку, ніж справді обурювався. Бо рішення прийняв. Хоч ніч заледве почала перетікати у світанок, Клим зрозумів по виразу обличчя — вирішилося.
Но Вихура ворчал скорее для порядка, чем действительно возмущался. Потому что решение принял. Хоть ночь едва начала перетекать в рассвет, Клим понял по выражению лица — решился.
Глава пятнадцатая Махорка русская, револьвер американский
— Хорошо, шановне панство.
Кошевой готов был поспорить на что угодно — стоя в головах большого тяжелого, из цельного дуба, овального стола, начальник департамента криминальной полиции сам себе напоминал полководца. Еще и назвал совещание в своем кабинете войсковым. Хоть собрал на нее только троих, и Клим до конца не понял, за что удостоился подобной чести. Пока держался как можно дальше от других, больше помалкивал. Кроме него, Томаш Понятовский пригласил комиссара Вихуру и еще одного, худощавого, очень похожего на крысу пана, который даже не счел за труд поздороваться с Кошевым, тем более — познакомиться. Его взгляд излучал тотальное, необъятное, вселенское подозрение.
Впоследствии Клим понял, почему так: худощавый оказался Карлом Линдой, руководителем агентурной службы, в чьем подчинении — все, кто работал на полицию тайно. С доклада Линды совещание и началась. За окном белый день, перед полуднем, и агентура на этот час уже успела не только получить, но и выполнить задание.
Упомянутый в расписке Симеон Данович оказался довольно известным лицом в москвофильском сообществе Львова. Был членом «Русской народной партии»[48], внутри начались свары — сначала примкнул к радикальному крылу. Потом, публично поссорившись с одним из его лидеров, паном Марковым, вообще на короткое время отошел от партийных дел. Выступал как публицист в «Русском слове» и «Русской беседе» и не давал особых оснований всерьез интересоваться своей персоной. Но недавно, менее года назад, попал под негласный надзор полиции, войдя в руководство небольшой радикально настроенной группы. Сам не попадался, потому не особо и прятался, далее оставаясь публичным оппонентом Маркова и другого радикала из «родной» когда-то партии — Дудикевича[49]. Упрекал их за недостаточный радикализм. Вкупе с никчемной риторикой это выглядело забавно. Но вдруг имя Дановича начало упоминаться в связи с школой бомбистов — именно год назад о ней заговорили во Львове.
Нескольких «учеников» этой школы выпускали из зала суда под бурные аплодисменты москвофильского сообщества именно благодаря стараниям адвоката Евгения Сойки.
Все это Кошевому раньше успел объяснить Вихура, когда угощал добровольного «арестанта» кофе с куском штруделя — жена прислала, всегда делала так, когда комиссар находился на службе с ночи. Оказался штрудель несколько пресноватым, как на вкус Клима. Этому было объяснение: Вихуре нельзя много сладкого, а кофе он пил, щедро доливая молока. За легким завтраком переговорили, и теперь Клим понимал без дополнительных объяснений, как агентуре Линды удалось быстро установить место, где наверняка скрывается Игнатий Ярцев.
Тоже наука — достаточно лишь грамотно проследить за Дановичем, задать нужным людям несколько на первый взгляд незначительных вопросов, и все. Находится убийца за железной дорогой, почти в самом конце Богдановки[50], и пока не видит вокруг себя облаков..
Беда лишь в одном…
— Хорошо, шановне панство, — повторил Понятовский. — Хотя ничего хорошего нет на самом деле в том, что наш клиент в том доме не один. Сколько их там, пане Карл, можно точно узнать?
— Соседи видели троих, — Линда не говорил, шуршал голосом, словно осенний листопад. — Всех ли — неизвестно. Они могут прийти, пересидеть и уйти. На их место зайдет другой. И там уже пасется жандармерия, мои люди зацепили их агента.
— Справно работают, — пробасил Понятовский. — Уголовная полиция тоже не хуже, пане Вихура, сейчас вы отличнейше все провернули. Не к чему цепляться, непременно отметим, если будет во всем. Но, но, но… Скверно, панове. Очень плохо.
Перехватив взгляд Кошевого и прочитав в нем непонимание, комиссар объяснил:
— Если тайная полиция поставила там глаза и готовит свою операцию, Игнат Ярцев окажется в их департаменте. Вместе с остальными. Убийство раскрыла криминальная полиция. Но славу получит королевско-имперская жандармерия.
— Разве ради славы…
— Справедливость! — опять пророкотал Понятовский. — Мы все работаем на благо одного государства и подданные нашего государя императора! И если бы тайная полиция нашла Ярцева первой — как убийцу, не как агента чужой разведки, который перевозит деньги для финансирования агентуры от российского же министерства внутренних дел и финансов! Но там, где мы могли бы сыграть первую скрипку, даст Бог, позволят спеть вторым голосом. Для дирекции криминальной полиции, которую я имею честь возглавлять, то есть, по моему глубокому убеждению, страшный позор, панове. Вот почему, пане Кошевой, — его тело развернулся к Климу, — я допустил вас сюда. Хотя для наших дел вы такой же подданный русского царя, как Игнатий Ярцев и его товарищ, как его…
— Князев, Юрий, — напомнил комиссар.
— Вот так, они оба. И вы, чужие подданные, к здешним делам никакого отношения не имеете. Но, панове, — Понятовский выдержал небольшую паузу, — мы с вами не жандармы, а сыщики. С российскими террористическими группами дела никогда не имели. Вы же, пане Кошевой, наверняка должны знать, с чем их едят. Вдруг подбросите мыслишку, как лучше для нас получить хотя бы самого Ярцева в руки, опередив тайную полицию.
— Ага, я у вас, получается, такой себе советчик, — хмыкнул Клим.
Его совсем не привлекало сейчас признавать, что не так давно он сам был связан с революционерами. Правда, не такими — но разве кто-то готов увидеть разницу…
— Можете себя считать таковым сейчас, — разрешил Понятовский.
— Ладно. Тогда вы сами уже все придумали, — ответил Кошевой.
— То есть?
— Получить Ярцева в руки. Просто и гениально. Панове, — Клим обвел взглядом всех троих, — нашего убийцу надо как-то вывести из того дома, где все они прячутся. Тайная полиция не готова хватать их, иначе давно бы так сделала. У нас есть немного времени, совсем немного, чтобы действовать на опережение. Выманить Игната Ярцева из дома, отвести подальше и там скрутить. Пока жандармы спохватятся, вы уже прижмете его распиской Сойки, главным доказательством. И пусть потом попробуют вырвать преступника из когтей вашего департамента!
Теперь переглянулись полицейские.
— Вы хотите сказать, пане Кошевой, — это я такое придумал? — прогудел осторожно Понятовский.
— Разве я могу тут что-то придумать? — Клим выглядел, словно сама скромность.
— Ладно. Как его выманить?
— Нужен кто-то, кто хорошо знает русский язык. Говорит без акцента, иначе не поверит. Как вы думаете, панове, где так быстро можно найти нужного человека?
Спросил, лукавства не тая.
Кровь остыла за два с лишним часа. Когда уже стучал в дверь, за которой прятался боевик.
По сей день Кошевого ни разу не привлекали к полицейским операциям. Тем более, он предположить не мог, что сам, по доброй воле, пойдет на такое. Даже будет настаивать. После «Косого капонира» Клим возвел между собой и жандармами невидимую, но непробиваемую стену. Это отношение распространялось и на криминальную полицию, в целом же — на всех, кто преданно служил государству.
Что-то поменялось этой ночью.
В тот момент, когда, вместо забраться подальше от изуродованного трупа, незаметно вернуться обратно в квартиру и дальше отбывать домашний арест, Клим вдруг решил остаться на месте преступления, ожидая появления полицейских.
Впоследствии, уже обсуждая детали наскоро рожденного плана захвата Ярцева, нащупал пусть не исчерпывающий ответ, но хотя бы объяснение.
Влипая в неприятность за неприятностью уже с первых часов своего приезда во Львов, невольно попадая в поле зрения полиции, он всегда в итоге брал верх. Сначала — когда чуть ли не на пальцах убедил следователя, что Сойка не накладывал на себя рук. Потом — совершенно неожиданно сделав за агентов их работу и поймав батяра, пусть не прямо, но — определенным образом таки причастного к убийству. Наконец, судьба оставила ему лист с перебитыми буквами написанной паном Геником расписки, которая делала не только бесполезными, но и смешными все полицейские усилия в раскрытии преступления.
Возможность, а главное — намерение в очередной раз умыть полицейский департамент взяли верх над неистовым желанием завершить это приключение персонально для себя, выбросив из памяти и начав искать способы обустройства на новом месте. Ведя себя так, понимая, что директор с комиссаром, следователь, а также рядовые сыщики слушают его, потому что должны, Клим чувствовал себя победителем в этом неожиданном поединке.
Идя в логово вооруженных бомбистов, он собирался окончательно закрепить собственный успех. Даже почувствовать себя немного выше туповатых полицейских. Потому что, столкнувшись с ними ближе по роду деятельности, понял: авторы его любимых сенсационных и авантюрных романов нередко правы, описывая стражей закона и порядка именно такими.
Чего стоят хотя бы британские полицейские ищейки против одного-единственного мистера Холмса. В свое время папа не мог понять, почему Клим, взрослый уже вроде человек, еще и с юридическим образованием, собирает в домашней библиотеке книги о приключениях лондонского сыщика. Вернее, Назар Григорьевич Кошевой не имел ничего против самой литературы, которую называл бульварной и в которую прежде всего зачислял писания мистера Конан Дойла и мсье Габорио[51]. Отец не понимал, для чего сын покупает каждое новое издание приключений знаменитого детектива, выпущенное из типографии братьев Пантелеевых. Предыдущие книги Клим раздавал всем поклонникам, вербуя таким образом новых сторонников подобного чтива. А купленные — перечитывал заново, будто там писалось что-то принципиально новое.
В целом же Кошевой-старший искренне считал: история, из-за которой его сын оказался в тюрьме со всеми печальными последствиями, не что иное, как следствие увлечения таким вот низкопробным чтивом. Даже цитировал пана Чуковского, с чьей критической мыслью, несмотря на восторг от революционного левачества, считался. «Интеллигенция исчезает, пойми это! — кричал Назар Григорьевич, махая перед опущенным сыновьим носом экземпляром очередной книжки толстого журнала. — Все эти холмсы, пинкертоны с лекоками[52] — нашествие готтентотов, Климентий! Правильно говорит Корней Иванович — наводнение, пожар, падение, сплошная, извини за слово, порнография! Это же совсем лишено идеи! Не только национальной — ни одной! Хулиганство, нет никакой программы, нет стратегии развития — бей и беги!» У Клима не было сил спорить с отцом. Может, нашел бы, однако для воспитания Назар Григорьевич выбрал тогда не очень удачное время — сына только выпустили, он находился в подавленном состоянии.
И все же от любимых романов, пусть их сто раз признают бульварними, а значит — вредными различные почтенные господа, Клим Кошевой не отказался.
А этой ночью впервые ощутил себя внутри такой сенсационной истории.
Понимая — выдумки тут нет, действительность намного суровее и не всегда все заканчивается так хорошо, как выкручивают господа литераторы, он позволил авантюрному течению подхватить себя. Сначала — безумная погоня по львовским улицам, потом — тайные блуждания среди ночи мрачными двориками и переходами. Конечно, Климу хотелось продолжения. Он почувствовал себя частью чего-то очень важного, сложного и, несмотря на реальную опасность, ужасно интересного.
Однако, прежде чем постучать в дверь нужного строения дома, одноэтажного каменного дома с надстроенной мансардой, на мгновение задержал сжатую в кулак руку.
Даже теперь осознал: там, внутри, — не полицейские, которые держат себя в руках. Не уголовники, у которых есть желание поговорить. Там притаились вооруженные револьверами и, возможно, самодельными бомбами очень опасные люди. Убийца среди них — вряд лишь Игнатий Ярцев. Даже найденный труп можно воспринимать при желании неприятным, жутким, но — приключением. Мертвец безопасен, не угрожает никому и ничем. Воскресают они разве что в страшных сказках.
Ярцев будет стрелять, почувствовав хотя бы намек на опасность.
Поэтому Кошевой, задержав сжатую руку, невольно шагнул назад. Поняв: зашел слишком далеко, не готов к такому повороту. Будто еще можно развернуться и убежать. Придумать объяснения, оправдания, еще лучше — ничего не придумывать. Испугался, переоценил себя. Знаете уже, кто убийца и где он. Дальше сами, панове, очень прошу, он же не полицейский агент…
Поздно.
Зацепил краем глаза едва заметное движение в окне, за занавеской.
Заметили.
Уже ни о чем не думая, подался вперед, постучал.
Дверь отворилась не сразу и не на всю ширину. В образовавшуюся щель высунулся острый носик. На незваного гостя с интересом и одновременно с опаской смотрела молодая веснушчатая девушка со светлыми, небрежно, явно наспех забранными под платок волосами. Быстрый взгляд ощупал незнакомца в полотняных штанах, серой льняной сорочке, одетой поверх и застегнутой на одну пуговицу жилетке и картузе с острым козырьком. На Климов вкус, ни одна из этих вещей не подходила друг к другу. Но это все, что удалось на скорую руку подобрать в полицейском гардеробе. Не идти же ему в своем.
— Кого надо? — чирикнула девушка.
Прежде чем ответить, Кошевой настороженно посмотрел по сторонам, молвил:
— Игната клич.
— Добрый день, — неизвестно почему поздоровалась вдруг девушка.
— Здрасте, — кивнул Клим, старательно подражая манере подольских босяков и потягивая сквозь зубы: — Я зайду или сам выйдет?
— Кто?
— Не морочь голову, красавица. Ярцев Игнат, он тут. Зови его.
— Нет никакого Ярцева, — сказала девушка. — Вы ошиблись, у нас такие не живут.
— А какие у вас живут? — процедил Клим, тогда сделал еще шаг вперед, поставив ногу на порог между дверью и косяком. — Слушай, девка, нет у меня времени на цирлих-манирлих. Кликни мне бегом Игната Ярцева. Скажи — пан Князев кланяется через пана Дановича.
Высунувшись наружу больше, девушка тоже покрутила головой, легонько стукнула подушечками пальцев Клима в грудь:
— Тут стойте. Дальше не идите. К вам выйдут.
Исчезла внутри, запершись. Ждать долго не пришлось — дверь отворилась, на этот раз пошире. В проеме появился курносый молодчик, с русыми, давно не стриженными прядями, легким жестом откинул волосы со лба.
Среднего роста, крепкий, широкий в плечах, глаза быстрые. От пиджака тянуло знакомым уже запахом — весь прокуренный махоркой. Пальцы правой руки будто между прочим крутят пуговицу, играют. Полы расстегнуты, взгляд спокойный. Сам парень выглядел обычно, на улице такие не привлекают внимания, их не запоминают. Смотрит перед собой спокойно, в глазах не читается ничего. Смерив Клима взглядом с головы до пят и обратно, для чего-то облизал потрескавшиеся губы, прогудел:
— Ну?
— Ярцев — ты?
— Ну?
— Заело? — Кошевой снова огляделся, всем своим видом показывая чрезмерную обеспокоенность, даже не боясь сейчас переиграть. — Докажешь, что ты — Ярцев?
— Кому?
Тут Клим не подумал. Оправдывая свое поведение, втянул голову в плечи, понизил голос, сделал круглые глаза.
— Так и будем стоять? Может, пустишь внутрь? За мной могут следить.
— Кто?
Ярцев дальше стоял, словно врос в пол. Внешняя простота обманчива — в этом человеке чувствовалась немалая сила. Ощущение опасности вернулось.
— Не знаю, — зачастил Клим. — Пан Данович, когда посылал меня сюда, предупреждал — могут следить. Поэтому сначала писал записку для тебя. Потом передумал, порвал. А клочки при мне же сжег. Не дай Бог, говорит, тебя схватят и найдут такую записку. Лучше на словах перескажи.
— Что?
Со своего места Игнат не думал сходить. Левой рукой крепче уперся в дверь. Пальцы правой дальше играли пуговицей. Глядишь, оторвет…
— Ты, вижу, разговорчивый. Как с тобой бабы живут…
— Не твое собачье дело. Говори и проваливай отсюда.
— А ты еще и не вежливый…
— Халдея ресторанного найди. Они расшаркиваются. Говори, с чем пришел.
— Прямо тут?
— Я отсюда хорошо слышу. Ну?
— Не запряг! — огрызнулся Кошевой. — Тьфу, мое дело маленькое… Значит, пан Данович узнал, что полиция скоро будет тут. Заплатил мне, чтобы я пришел сюда и предупредил. Есть адрес. Там пока безопасно. Дальше поищет другую явку, понадежнее. Это все, Ярцев, — если ты Ярцев.
— А как не Ярцев?
— То перескажи Ярцеву! — Он не играл, терпение действительно прерывалась. — Только я ждать не собираюсь! Моя задача — провести, куда надо! Нет, вишь, особой радости с такой колодой байки травить!
Оглянувшись, или давая кому-то знак, или просто глядя, что там делается, курносый вышел из дома, старательно прикрыл за собой дверь. При этом руку не опускал, пальцы и дальше дергали пуговицу. Двинув вперед, оттеснил Клима, заставив попятиться.
— Ярцев, — кивнул, снова поправляя пятерней волосы. — Веди, куда надо. По дороге расскажешь.
— Ничего я не знаю! Там уже ждут, знают больше. Мое дело…
— Куда идти? — прервал Игнат.
— Давно бы так. Пройдем ногами в сторону железной дороги. Там, за колеей, уже ждет коляска. Точного адреса не знаю. То все к извозчику, наш человек. Пан Данович конспируется. Не дает всю информацию одному человеку, не доверяет.
— Правильно, — легко согласился Ярцев. — Никому доверять нельзя. Только ты, слышишь, веди. А то я блуждаю тут, где бы ни был.
— Впервые у нас во Львове?
— Впервые. Думал — сделаем все и сразу назад. Вишь, задержался. Чего стоим?
Кошевой глянул через Игнатово плечо.
— Так пойдешь? Вещей не надо?
— Какие там вещи… Все с собой. Сам подгонял. Давай, не стой. Тебя как зовут, кстати?
— Клим, — не было смысла придумывать себе имя.
— Мне какая разница… Пусть будет Клим…
— Для чего ж спрашиваешь?
— Ты же знаешь, как меня зовут. Айда, айда.
Они вышли на улицу.
Сперва двигались молча, Ярцев — чуть позади. Не успели пройти и двух сотен шагов, как Игнат дернул Кошевого за плечо, кивая в ближайший переулок.
— Туда.
— Зачем?
— Срежем. Сам же говорил — следить могут.
— Срежем? Ты же плутаешь…
— Ты — нет, как погляжу, — Ярцев снова облизал губы. — Местный, так веди. Переулками всегда можно срезать, разве нет?
Спорить было опасно. Раскрыться легко. У колеи действительно ждал переодетый извозчиком агент с коляской. Но оттуда Клим шел сюда прямой дорогой, не окольными путями. Сворачивая в переулок, прикинул мысленно — направление движения знает. Не лес, не заблудится. Пригород не выглядел слишком запутанным, разберемся.
Боковая улочка упиралась в тупик. Зато Клим заметил единственный тут поворот, двинулся туда: уж точно не ошибется. Куда-то и выйдет, главное — двигаться вперед.
Но вдруг случилось неожиданное.
Ярцев, который до сих пор ступал спокойно и размеренно, вдруг превратился в быструю сильную змею. Другого сравнения не пришло, когда Игнатий налетел на него, толкнул, потянул, атакуя, словно хищное пресмыкающееся в джунглях, — о них тоже писали в приключенческих романах. Но с каждым мгновением все, что происходило с Климом, напоминало вымышленную историю с хорошим победным концом все меньше и меньше.
Особенно — наставленное револьверное дуло.
Оружие Ярцев выхватил, отпустив наконец пуговицу и откинув резким движением правой руки полу пиджака. Она отлетела легко, и Кошевой вспомнил рассказы о пришитой к полам или вшитой в них свинчатке — так легче, достаточно одного заученного тренированного жеста, чтобы выдернуть револьвер из-за пояса.
— Кольт.
Клим думал, что сказал это про себя.
— Ага, кольт, — согласился Ярцев, перебирая пальцами и беря рукоятку поудобнее. — Американская пушка. Дыр наделает столько, что станешь ты решетом.
Игнат толкнул своего пленника за ближайшее дерево, которое стояло недалеко от угла довольно высокого каменного дома. За этим двойным прикрытием с широкой улицы их заметить трудно, разве что очень присматриваться. Веко дернулось так ощутимо, как не давало о себе знать давно. Внутри все покрылось льдом, дыхание перехватило. Хотел выдавить что-то, вместо этого из враз пересохшего горла вышло только сиплое:
— Кольт…
— Сейчас я вас познакомлю. Клим, или кто ты там… Ему без разницы. — Дуло сильно ударило Кошевого в лицо, раскроив губу, сразу потекло соленое. — Стой, слушай. Мне до задницы, можешь ответить или нет. Телепень ты! Фараоны, которые тебя натравили, — тоже бабы. Не собака ты, щенок. Цуцик, ясно?
— Я…
— Ты. — Еще один удар, теперь раскроилась левая бровь. — Я мог поверить, что тебя прислал Данович. Но Князева тут, во Львове, уже четыре дня как нет! Не надо передавать поклоны от Князева, для экстренной связи пароли придуманы. Самим Дановичем, тупая твоя голова!
Третий удар рукоятью по лбу, и Кошевой удержался, упершись спиной об угол.
— Говори, кто меня пасет! Сдохнешь быстрее! Хотя, — Ярцев оглянулся вокруг, — ты и так сдохнешь. Можешь ничего не говорить! Если ты пришел сюда, значит, уже земля горит. Ноги надо отсюда делать, ноги, как же все вы мне надоели!
Кошевой не находил слов. Не знал, не понимал, спасет ли себя, найдя силы и начав говорить.
— Сдохни, щенок легавый.
Ступив шаг назад, Ярцев поднял револьвер.
Дуло нацелено в грудь.
Большой палец взвел курок.
— МИСЬКО!
От резкого женского крика вздрогнули оба. Рука с кольтом опустилась, повисла вдоль тела. Клим почувствовал, как по лицу струится не только кровь из разбитых мест, но и предательский пот. Его трясло, сейчас он не напоминал сам себе ни одного из героев любимых романов.
— Мисько, черт бы тебя подрал!
Из-за угла вышла и двигалась прямо на них толстая растрепанная женщина с закатанными выше локтя рукавами простенькой полотняной сорочки с вышивкой. Край длинной юбки сбивал пыль. Спереди — не первой свежести фартук.
— Хлопцы, не видели тут Мисько моего? — спросила она, не прекращая движения. — Забежал сюда, холера, потому что знает — возьмут его, задницу коровью, за яйца! Бес знал, как пить! Несколько раз говорили ублюдку — не пей! Не, говорят люди — снова, Ганка, твой Мисько нализался, по всей Богдановке ховается! Думает себе, я его, курвиного сына, не найду! Видели его, хлопцы, или нет?
Ответ надо было найти. Клима дальше трясло, Ярцев незаметно пихнул револьвер в правый карман, но дальше держал за рукоятку.
— Может, вы вместе пили? — Женщина остановилась, взглянула на них подозрительно. — Может, сейчас вы его где-то тут ховаете? Да где — вы его приятели! Такие же ублюдки, чтоб вам в печенку!
— Иди, куда шла! — рявкнул Ярцев.
Нарвался.
— Ты, дупо с ушами, меня гонишь с моей улицы? Я буду ходить тут, где захочу! А ты кто такой? Кто вы оба такие? Я вас знать не знаю! Это Мисько вас сюда привел, сраные вы мухи!
— ГАННА!
Из ближайшего двора вывернул худой мужик в потертом пиджаке, запорошенных штанах, грязных ботинках и помятой шляпе. Держался он при этом не менее воинственное.
— Ага! Значит, ты тут! Я тебя, курварю, нюхом чую! Горилкой пахнет, как от деда! Бес тебя разорви от той горилки, курвий сын!
Крича, женщина так и оставалась на месте — точно напротив Клима с Ярцевым. Это давало плохонький шанс спастись, если бы Кошевой нашел сейчас в себе силы кричать. Угадав намерение, Ярцев направил в его сторону яростный взгляд. Рука медленно потянула револьвер назад.
— Чего ты вопишь на всю Богдановку, Ганна! Тебе не стыдно перед людьми?!
Худой мужик уверенно, совсем без страха попасть под горячую руку, приближался к скандальной женщине.
— А тебе, урод, не стыдно! Глядите-ка, мне должно быть! Трое детей наделал, сам как суббота — из рестораций не вылезает!
— Дети дома не голодают!
— Молись и благодари Бога, хоть дети не голодны! Ибо давно бы тебя уже закопала! Ты же не просто пьяница! Ты же еще и курвар, каких мало! Мне добрые люди все, все рассказали!
Теперь уже и мужик поравнялся с ними, жестом призвал в свидетели.
— Вы слышали? Ей люди добрые про что-то рассказали! А мне про тебя сколько! Уши уже болят слушать, какая ты на всю Богдановку первая курва!
Шум уже привлекал внимание. Двое панов, которые могли пройти мимо, уже остановились, с любопытством следили за развитием событий.
Потом неспешно начали приближаться — первые зрители бесплатного спектакля.
Один даже с того места, где стоял и дрожал Клим, очень напоминал большую крысу.
Кошевой подвинулся немного влево.
Рука убийцы угрожающе потянула револьвер. Дуло снова обнажилось.
— А-а-а-а-а!
Моргнув глазами, Кошевой со всей силы толкнул Ярцева вытянутыми руками.
Покачнувшись, тот все же удержался на ногах. Опытный боец, был готов ко всему.
Револьвер уже нацелился Климу в голову.
Закричала женщина, тоже, похоже, от испуга.
Но в тот же миг на Ярцева бросились сразу с трех сторон — тот, кого называли Миськом, бросился вперед, набычив голову, в то же время двое прохожих тоже зажимали, действуя ловко и слаженно.
Выстрелить Игнатий успел — в воздух.
Не собирался даваться в руки так легко. Следующим выстрелом остановил Мисько, тот схватился за плечо и упал. Быстро перепрыгнув через него, Игнат под сопровождение женского визга уже мчался к ближайшему повороту, снова выстрелив, на этот раз — в преследователей.
Еще два выстрела.
Кошевой ни сейчас, ни потом не взялся бы сказать, какая пуля Кароля Линды догнала, первая или вторая. Когда полицейский и остальные агентов, которые мигом набежали, окружили Ярцева, совсем забыв о Климе, он лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни. Линда взглянул на Кошевого, хотел что-то сказать, передумал, махнул рукой, которая сжимала «бульдог».
Вот так.
Доигрались.
Рядом щелкнуло несколько выстрелов, как будто хлестнул кнут. Видимо, товарищей подстреленного выкуривали из берлоги. Но стрельба очень быстро захлебнулась.
Справились, значит.
Глава шестнадцатая Персональный герой Йозефа Шацкого
— Мазл тов!
В рюмке, которую поднес Йозеф Шацкий в честь Клима Кошевого, была наливка. Правда, гость попробовал и оценил — достаточно сильная, по крепости приближается к коньяку хорошей выдержки. Еще он понял: в этом доме пить не принято, или — не заведено. Потому Эстер, ставя на стол фигурный графин из толстого стекла, выглядела недовольной. Клим успел убедиться, что лучшая половина доктора Шацкого — хозяйка гостеприимная и приветливая. Но когда речь шла про алкогольную забаву, ее лицо становилось таким, будто женщина вместо ананасной воды щедро глотнула уксуса. Даже приобретало какой-то уксусный, иначе не назовешь, цвет.
Шацкая смотрела из-под лба тем более, что Йозеф настоял, чтобы его фейгале взяла рюмку для себя и так же почтила героического гостя. Громкий арест террористического гнезда в Богдановке, во время которого один из них оказал сопротивление, едва не убил полицейского агента и был застрелен при попытке бегства, уже второй день не сходил с первых полос всех популярных львовских газет. Хоть персонально Клима нигде не упоминали, Шацкий прекрасно знал: без его нового товарища не обошлось, потому что обойтись не могло. Тот не возражал, только просил не вопить про это на весь Краковский базар. И согласился прийти на обед, чтобы рассказать подробности в узком семейном кругу. Эстер не могла скрыть природного любопытства, и, как предположил Клим, оно перевесило негативное отношение к распитию спиртного среди белого дня в собственном доме.
Между прочим, просматривая газеты и сравнивая написанное, Кошевой отметил: про происшествие вспомнили также издания, как он уже научился отличать, москвофильского направления. Сообщая про знаменитую стрельбу довольно скупо, авторы вместо этого сосредоточивались больше на громком заявлении дирекции криминальной полиции. Уже на следующее утро Львов узнал из скупого полицейского сообщения: подданный Российской империи, россиянин Игнат Ярцев, который пал от пули агента, искусного стрелка пана Л., является также убийцей известного львовского вора Любомира Р. по прозвищу Цыпа. Его он совершил накануне и собирался бежать из города, вознамерившись избежать правосудия. Но еще раньше он расправился с адвокатом Евгением Сойкою, известным своими москвофильскими взглядами. А также — методами, не всегда принятыми с точки зрения морали, которые, к сожалению, не противоречили букве закона и позволяли в большинстве случаев оправдывать преступников разного сорта.
Подобное заявление лидеры москвофильской среды расценили как попытку дискредитировать их движение, идеи и политические и мировоззренческие установки.
В свободном обществе, писали они, недостойной провокацией следует считать само намерение повесить на человека, который по происхождению является русским, все смертные грехи. Пусть тот человек, от которого москвофильская община поторопилась отмежеваться, таки принадлежал к преступному миру. Это не дает власти никакого права проводить параллели между отдельным лицом и целой группой людей, чье преступление, по убеждению властных идеологов, определяет то же происхождение. И приверженность к основополагающим идеалам объединения разрозненных русских земель в одну единую территорию. Россиянин, еще и подданный Его Величества императора российского, — значит убийца и монстр.
Если это не так, завершалась одна из пламенных публикаций, почему тогда виновников нераскрытых убийств не назначают, распределив вину путем жеребьевки между всеми, кого в последнее время похоронили не по римско-католическому, а по православному обряду. Так, убежден автор, было бы честнее.
При других обстоятельствах Кошевой не реагировал бы ни на эту, ни на другие подобные глупости. Однако вот уже не первый день его грызла изнутри мысль, которая именно сейчас, когда Шацкий поднял тост в его честь, окончательно оформилась в убеждение. Поэтому настроения хвастаться героизмом, который таковым на самом деле не назовешь, Клим совсем не чувствовал.
Шацкий или не замечал этого, или — не показывал вида.
Только сели за стол, подозвал к себе детей, велев троице выстроиться перед гостем в рядок по росту, и провозгласил пространную речь.
Суть сводилась к следующему.
К ним в гости пришел выдающийся человек, умнее всей криминальной полиции, вместе взятой. К Лапидусу такой достойный человек не придет никогда. И дети должны гордиться этим знакомством, рассказывая всем вокруг, какие почтенные люди бывают в доме Йозефа Шацкого. Пан Кошевой должен стать примером для каждого из них, даже для Даниэля, которому всего год и сейчас он спит. Но когда вырастет, тоже будет понимать — учиться и работать над собой очень важно. Каждый хорошо выученный ребенок — надежда не только родителей, чтобы они были здоровы, но и всего еврейского народа. Приобретенные знания, чтение книжек в результате очень важно, потому что обычный человек становится мудрее недалекого полицейского, вся добродетель которого — наделение властью, что он использует для посадки невинных людей за решетку и других различных притеснений.
Евреи, разошелся дальше Йозеф, во все времена, за всю историю своего народа, как бы тяжело не приходилось, держались при любой власти именно способностью противопоставить ей собственную образованность, собственную мудрость и таланты. Следовательно, власть нуждалась в евреях, потому что те всегда умели справиться.
— Понятно, Йозеф, почему ни одна власть не нуждается в тебе, — охладила мужа Эстер, тогда повернулась к Климу. — Не слушайте его, пане Кошевой. Если позволить моему Шацком глотнуть еще немного наливки, он расскажет вам про каждый день из тех сорока лет, что Моисей водил жидов по пустыне.
— Можно я пойду к Дени? — отозвалась Рива. — Мне кажется, он проснулся.
— Ты уложила брата час назад! — рявкнул Шацкий на старшую дочь. — Есть достаточно много времени послушать, что тебе говорят взрослые и мудрые люди!
— Папа, а книги пишут взрослые мудрые люди? — поинтересовался Шмуль.
— Вей, где ты видел книжку, написанную ребенком!
— В таком случае я пойду набираться мудрости от книг.
Развернувшись, полный достоинства и самоуважения Шмуль прошел в кабинет отца. Тем временем Рива быстренько убежала к младшему, хотя Кошевой с прошлого раза не заметил за девочкой яростного желания проводить время возле люльки. Ида, оставшись сама, вопросительно глянула на мать, получила легкий разрешающий кивок и посеменила за сестрой. Эстер смерила Шацкого победным взглядом, хотя Клим не понял, в чем суть ее победы.
Между тем Йозеф, которому так виртуозно заткнули рот, решительно взял графин, наполнил рюмки себе и гостю и теперь уже демонстративно, устраивая спектакль прежде всего для жены, еще раз поздравил Клима и опорожнил ее.
Пить, как это делают рабочие или не менее привычные к делу батяры, Шацкий не научился. Поперхнулся сразу, покраснел, закашлялся, и Эстер, поджав губы и сохраняя победное выражение на лице, встала, ударила мужа по спине. Пока тот переводил дыхание, не менее демонстративно убрала наливку со стола и улыбнулась Климу на всю ширину лица, не играя, вполне искренне попросила:
— Прошу есть, пане Кошевой. Не обращайте внимания на моего Шацкого. Не спал несколько ночей. А я не могу, когда рядом кто-то постоянно крутится.
— Его что-то мучило, шановна Эстер? — поинтересовался Клим, просто чтобы не молчать.
— Не знал, как просить у меня прощения за ту ночь в полиции. И мучился — не знал ничего про ваши приключения из первых уст. Моего Шацкого очень беспокоит, когда он чего-то в городе не знает.
Шацкая вспомнила про ту ночь, когда Йозеф был вместе с ним на Клепарове. Кошевой уже успел узнать — тогда зубной лекарь пошел кратчайшим путем, придумав очередную неприятность с полицией, из которой выкупил себя за грубые деньги. Потом пришлось включать умственные способности на полную мощность, объясняя своей фейгале, откуда у него появились упомянутые грубые деньги и почему она до сих пор про них ничего не знала. Как выкрутился из этой передряги, Йозеф не объяснил, а Кошевой решил не добиваться — похоже, выход найден, и на том конец. Но Шацкий таки действительно знал во Львове не всех и все, но много кого и чего. Тут Эстер, сама того не понимая, была права: такие знания Климу в свете его последних выводов очень понадобятся.
Именно поэтому не отказался от приглашения в Кракидалы, наоборот — искал подходящего случая, чтобы будто между прочим напроситься.
Сейчас Климу удалось поднять настроение Йозефа рассказом о том, как вовремя подоспели полицейские агенты, спасая его жизнь. Даже немножко приукрасил ситуацию, рассказав сценку в лицах и вспоминая при этом, как прежде, смолоду, играл в любительском театре. Выслушав эту часть, Шацкий, призывая Эстер в свидетели, подытожил:
— Пане Кошевой, признаюсь вам честно — если бы в подобной ситуации оказался я, намочил бы, извиняюсь, кальсоны.
Шацкая наморщила нос, но ничего на это не сказала.
Рассказ о возвращении Клима на Лычаковскую аж под вечер того длиннющего дня, то есть без малого за сутки с тех пор, как он оставил место домашнего ареста через окно. Кошевой физически был на глазах у полиции, его действия координировал комиссар Вихура. К тому же события закрутились так быстро, что никто из тех, от кого зависело, не подумал про замену вахмистра, который присматривал за квартирой арестанта. Сам же вахмистр, оставаясь на посту, совсем забыл про истинную цель своего там пребывания. Наоборот — радовался, что начальство про него забыло, и предпочел не напоминать о себе без надобности.
Разговорившись с дворником, вахмистр в течение дня подружился с ним. А среди ночи Бульбаш раздобыл бутылку коварной контушевки, и новоиспеченные приятели сели за карты. Дворник после того на утро поднялся для исполнения обязанностей. Вахмистр же спал до обеда, проснулся, узнал — пан Кошевой за это время не давал о себе знать и слышать, к нему также никто не приходил, успокоился и решил отыграть потерянное вчера. Уже на трезвую голову — именно на контушевку он списал свой проигрыш накануне. Поэтому увидев своего подопечного с побитым лицом, еще и в сопровождении лично комиссара Вихуры, полицейский не на шутку перепугался, имея все основания ожидать серьезного и справедливого нагоняя. Обошлось, его отпустили домой, хотя предупредили — Кошевой сбежал из-под носа, выводы непременно будут сделаны.
Ну, а про карты рассказал Климу сам Бульбаш — уже на следующий день, когда тот, проверяя свое предположение, втянул дворника в разговор. Имея вполне серьезные деньги от пана Силезского, мог себе позволить предложить небольшую премию за нужную и подробную консультацию.
И вот теперь, чувствуя — тут уже не поговоришь, Кошевой поднялся, одернул пиджак, вежливо поклонился:
— Премного благодарен, шановна Эстер, — хозяйка уже дала понять, что лучше называть ее так, чем по отцу, у них так не принято. — Позволите пригласить вашего мужа на хороший кофе куда-нибудь в город?
— Да забирайте его, пане Кошевой, — отмахнулась женщина. — Все равно эти дни от него как от зубного лекаря никакой практической пользы. Сейчас также пришлось отказать нескольким клиентам.
Шацкий почмокал вытянутыми в трубочку губами.
— Никуда они не денутся! — тоже встал, выпятив грудь. — С их состоянием путь только к Шацкому! Очень извиняюсь, Эстер, но ты совсем не разбираешься в том, как привлекать пациентов и расширять практику! Те, кому мы отказали в эти дни, пане Кошевой, хоть как придут сюда в ближайшее время. Поскольку появится их больше, чем обычно, к лекарю Шацкому будет стоять очередь. Я держу практику, пане Кошевой, преимущественно вот так — за счет того, что в мой кабинет постоянно есть очередь. Значит, есть к кому стоять, и слухи расходятся по всему городу!
Эстер, наверное слыша подобные уловки часто, не нашла слов в ответ. Поэтому Йозеф, таки сказав в этой истории последнее слово, подхватил шляпу и гордым шагом вышел прочь.
Клим в очередной раз раскланялся, поспешил за ним.
Как только вышли, Йозеф вдруг изменился в лице. Взяв двумя пальцами Кошевого за рукав, дернул, таким образом прося вернуться к себе, заговорил быстро, отрывисто, и сейчас это был совсем другой Шацкий — которого Клим не видел ни разу за все недолгое, но плодотворное время их знакомства:
— Послушайте меня. Не слушайте Эстер. Хотя — слушайте, но не обращайте внимания. Да в общем — как себе хотите. Понимаете… Она боится. Имеет перед глазами и держит в голове много дурного. Но где — печальный, даже скажу — трагичный опыт своих родственников. Еще — моих родных. И просто знакомых, не только с Кракидалов. Тех, которые сошли с праведного пути, завершая жизнь в сточных канавах неподалеку от самых мерзких, пане Кошевой, самых дешевых львовских баров. Все, вы услышали, я сказал. Пошли.
Глава семнадцатая Пан Геник, доктор Юнг и Уроборос
Этот июльский день оказался приятнее нескольких предыдущих.
Солнце не так пекло львовские камни. Хотя погода не способствовала быстрому отрезвлению, но Кошевому сейчас нравилось собственное состояние. Напротив, легкое опьянение лучше развязывало язык, мысли упорядочивались быстрее, становились на удивление ясными.
Про Шацкого такого не скажешь. Он и дальше двигался на несколько шагов впереди, громко здоровался с многочисленными знакомыми, останавливался, начинал про что-то громко говорить, чем замедлял их движение. Климу приходилось, извиняясь перед шановним панством, торопить его. Йозеф прощался, шел дальше — и так до следующей встречи.
В конце концов Кошевой избрал тактику, которую должен был бы определить сразу. Когда уже дошли до Академической, добравшись с такими-сякими препятствиями в самый центр, он, дернув Шацкого за локоть, спросил:
— Мы идем в какое-то специальное место или просто гуляем?
— Вы же приглашали на кофе! — встрепенулся Йозеф.
— А я о чем вам говорю! Шацкий, тут вокруг полно мест, где наливают кофе. Местный же вы, не я. Поэтому либо определяйтесь, либо…
— Сюда! — прервал его лекарь, решительно поворачиваясь к ближайшей к ним кофейне под вывеской "Театральная".
Клим никогда тут еще не был, как и много где, но ему было все равно. Главное сейчас — усадить беспокойного спутника куда-нибудь за столик и угостить крепким кофе. Пока разглядывал вокруг, суетливый Шацкий уже забежал внутрь. Уже подходя ко входу, услышал за спиной:
— Пане Кошевой!
Слишком стремительно, чем надлежало и соответствовало его личным наставлениям, Клим развернулся. Знакомый экипаж остановился у тротуарной бровки, изнутри подавала знак Магда Богданович. Молодая вдова не махала затянутой в светлую перчатку рукой — она жестом приглашала к себе. Так делает уверенная в себе хозяйка, зная: преданный дрессированный щенок подбежит по первому требованию, радостно махая хвостиком уже от того, что его просто заметили.
Кошевой вовсе не собирался играть подобную роль. Не имел в планах становиться чьим-то псом. Пусть даже это будет Магда.
Так думал — но ноги уже сами пересекли тротуар. Приблизившись, поздоровался, вежливо подняв шляпу. В ответ Магда протянула руку:
— Не стойте. Помогите сойти, побудьте немного кавалером.
Сдержавшись, чтобы не склонить голову во второй раз, потому что это уже будет слишком, Клим взял ее ладонь в свою руку. Женская рука, которая оказалась не такой хрупкой, фарфоровой, как он себе представлял, чуть сжала его ладонь. Лишь проявление вежливости и хороших манер — из коляски Магда могла выйти и без его помощи.
— Я увидела вас случайно, пане Кошевой. Простите, если у вас важные дела. Но уже искала случая встретиться с вами. Даже прикидывала, кто бы мог в этом посодействовать.
— Разве я такая важная и недоступная особа, пани Магда?
— О! — Она театрально закатила глаза. — В эти дни и в ближайшее время тут, во Львове, вряд ли будет особа важнее вас. Разве вдруг что-то случится и с визитом нагрянет Его Святейшество, Папа Пий Десятый. Или августейший император Франц-Иосиф, — ее губы блеснули легкой усмешкой. — Разве забыли? Я имею возможность знать все, даже больше, чем все, что происходит как в городе, так и в нашем полицейском департаменте.
Только теперь Клим обратил внимание — перед ним стояла не та Магда, которую привык видеть в предыдущие разы.
Сейчас она была женщиной в белом.
Точнее — в светлом: жакет цвета кофе, щедро разбавленного молоком, выгодно оттенял молочно-белое платье, расшитое тонкой ниткой черного бисера, придавая образу пикантности, так же как светлые, почти невесомые перчатки, облегающие руки и достигающие краями до локтей.
Шляпка оказалась необычно маленькой, скорее украшала голову, чем прикрывала, став небольшим приложением к пышной прическе. Наверное, поменять стиль Магде выпала какая-то очень важная возможность — Клим не думал, что когда-нибудь увидит ее иной, нежели в строгом, хоть и не менее элегантном темном костюме.
— Не преувеличивайте, пани Магда. Я адвокат-практик, который не подтвердил свою квалификацию, не имеет перспектив получить в ближайшее время вид на жительство и живет в квартире, где совершено убийство. Потому что так дешевле. Домовладелец знает, что не сможет найти жильцов за настоящую цену.
— Вы говорите, как сирота или бедный родственник. — Она снова улыбнулась. — Так говорят, когда просят сжалиться и пожалеть. Или вымаливают себе денежную помощь.
Конечно, со стороны все действительно так выглядит…
— Это мои реалии, пани Магда.
— Но именно вы, пане Кошевой, имея подобные реалии, сделали то, что не скоро бы удалось комиссару Вихуре. Хотя я уважаю его, уже упоминала как-то. И не он, а вы распутали клубок с убийством Сойки. Сейчас уже можно сказать — недостойным человеком был тот, на кого вы рассчитывали и с кем связывали свое будущее во Львове.
— Этого не произошло.
— На ваше счастье, пане Кошевой, на ваше счастье. Простите, если задела вас, все же вы близко знали пана Геника…
— Ничего. Я уже наслышан про его гадость. Может, он всегда таким был, просто я не разглядел за время, пока работал на него. А может — изменился под давлением определенных обстоятельств. Кто знает, уже никто этого не объяснит.
— Согласна. Вряд ли от кого мы когда-нибудь узнаем глубинные причины его поступков. Однако от пана Геника не отобрать ни того, что он был искусным адвокатом, ни не менее мастерского владения искусством наживать себе врагов. Показательно, что земную жизнь Сойки оборвал выходец именно из среды, интересы которой адвокат представлял.
— В чем вы видите показательность?
— Вы слышали про Уробороса, пане Кошевой?
— Змий, который жрет собственный хвост. Кажется, символ бесконечности сущего. Из греческой мифологии, если не ошибаюсь. При чем тут убийство Сойки, в чем символизм? Не совсем понимаю, пани Магда…
— Вы, наверное, не знакомы с новейшими теориями, — сейчас ее тон звучал поучительно. — Адась… простите, пан Вишневский познакомил меня не так давно с теориями швейцарского доктора Юнга. Слышали про такого?
— Конечно.
Ничего эта фамилия Климу не говорила.
— Он… пан Вишневский вспомнил их именно ввиду того, что Сойку убил тот, кого пан Геник поддерживал и защищал. Не персонально… как его…
— Ярцева.
— Какая разница… На защите таких вот господ, вернее — злодеев, Сойка день за днем оттачивал свое мастерство. И, имея дело со злом во всех его проявлениях, в то же время разрушал себя. Началось самоуничтожение. Вот выводы доктора Юнга по поводу новых трактовок символа Уробороса. Встав на путь, которым пошел дальше, пан Геник начал двигаться в сторону собственной внезапной смерти.
Самое воскресенье. Мимо них неспешно текла в разные стороны пестрая людская масса. Кошевому показалось — они привлекают внимание, потому что по меньшей мере мешают прогулкам. Почувствовал, что стоят среди улицы и разговаривают слишком долго. Но не шла речь про завершение: вдруг почувствовал острое желание перенести беседу в другое, поуютнее место, где не будет столько случайных пар глаз. Хотя прекрасно понимал недостижимость своих желаний — как и самой их природы.
— Ви зараз дуже гарно сказали, пані Магдо.
— Вы сейчас очень красиво сказали, пани Магда.
— О, не приписывайте мне чужих достоинств. Только цитирую.
— Пана Вишневского?
— Собственно… — она отвесила короткую паузу, — мы увлеклись разговором. Вернее — я увлеклась. На самом деле искала случая лишь еще раз поблагодарить.
— За что?
— Благодаря вам, и не спорьте, нашли того, кто убил адвоката Сойку. Между нами, пока имя этого случайного человека не раскрылось, масса моих знакомых, среди которых есть добрые друзья и покровители, боялись обсуждать это событие. Даже отводили глаза друг от друга. Как вы успели убедиться, меня окружают только достойные особы. Никто из них не хотел, чтобы остальные подозревали в убийстве именно его.
— Все равно не совсем понимаю вас, пани Магда.
— Путано? Простите, это от желания сказать много, не сказав ничего. Так случается. — Ее щеки слегка покраснели. — Чтобы стало совсем ясно, на пана Геника точилось немало зубов. Ему могли выставить счета люди, которым при других обстоятельствах не пришли бы подобные мысли в голову. Поэтому когда Сойку нашли мертвым, было облегчение. Когда не без вашего участия всплыло — это не самоубийство, начались ненужные разговоры. Выдвигались разные предположения, одно фантастичнее другого, о причастности той или иной особы к преступлению. Это только кажется, что всякий, кто искренне желал Сойке смерти за его недостойные деяния, публично оправдает убийцу, если тот окажется представителем достойной среды и добросовестным гражданином.
— Разве в таком случае нельзя… скажем так… избежать суда? В Российской империи подобное практикуется довольно часто.
— Тут, как вы успели заметить, другое отношение к законам. Суд, вероятно, вынес бы мягкий приговор — но убийцу все равно бы судили, что ставило крест на всякой дальнейшей карьере. Из-за пана Геника никому не хотелось погубить свое будущее. И вот когда убийцей оказался тот, кто на самом деле должен был им быть, Львов вздохнул спокойно, с облегчением. Негодяя Сойку настигла справедливая кара — и к этому не причастен никто из достойных граждан. Вот почему я была лично заинтересована в том, чтобы дело сначала не свернули из-за якобы самоубийства и началось следствие. А потом — в том, чтобы настоящий убийца был найден и наказан как можно скорее. Как видите, — снова улыбка, — в этом случае зло так же пожрало само себя. Тот, кто убил, от пули упал.
— Вы, пани Магда, благодарите меня от имени всего города?
— Пане Кошевой!
На возглас оглянулись они оба. Из «Театральной» уже вышел Шацкий, и Клим не удержался — хлопнул себя по лбу. Надо же, совсем забыл, куда собрался, с кем и для чего.
Хотя этот разговор выглядел в свете его выводов лишним.
Наоборот, в значительной степени подтвердил их.
— Извините, Шацкий, уже иду!
Разглядев теперь его визави, Йозеф коснулся края шляпы. Магда ответила сдержанным кивком.
— Я зарезервировал столик!
Вдруг Клим пожалел о компании Шацкого. Связался, прости, Господи…
— Сейчас иду!
На них начали обращать внимание.
— Вы меня простите, пане Кошевой! — Рука в перчатке легонько коснулась его руки. — Чтобы завершить это: среди прочих, вы доставили своими самоотверженными и решительными действиями приятное одному очень дорогому мне человеку. Поверьте, это все равно, что сделать что-то лично для меня. Можете обращаться всегда, я во многом способна посодействовать. Помочь.
Опираясь на руку, Магда Богданович снова поднялась в экипаж. Уселась, дала команду трогаться.
При других обстоятельствах Климу хотелось бы тянуть разговор так, как можно и как требовали рамки приличия. Или — задержать ее руку в своей на несколько секунд дольше, чем положено.
Но он проделал все механически.
Мысли его были вовсе не с Магдой.
Провожая экипаж взглядом, пытался понять, бывает ли так, когда случай сам расставляет все на места.
Причем ощущение, что мог бы решить задачку значительно раньше, обострилось до боли в затылке.
Дернулось веко, довольно сильно.
— Пане Кошевой!
— Иду!
Внутри кофейня сочеталась с бильярдом — столы занимали центральную часть, небольшие круглые столики располагались по краям. Людей в это время уже было достаточно много, и старания Йозефа Клим оценил в полной мере: лекарь действительно каким-то образом успел занять самое уютное место.
— Я зарезервировал его! Было довольно сложно! — твердил он, будто набивая себе цену, хотя Кошевой этого совсем не требовал, а Шацкий — точно не нуждался. — Вы же видите, место очень популярное! Тут, к вашему сведению, собираются наши местные математики!
— При чем тут математики? — пожал плечами Клим, думая о своем. — Хотя… Да, символично.
— Почему символично? В чем символ, можете объяснить?
— Сейчас тоже решим с вами задачку, Шацкий. Вы уже заказали?
— Только зарезервировал! Я же не знаю, что…
— Два кофе. Крепких. Наикрепчайших, которые могут тут сделать.
— Прошу пана, расскажите кельнеру! Или — подождите, сделаю это сам! Вы не сделаете такого заказа, который нам надо.
Только кельнер подошел и отошел, выслушав Йозефа и старательно за ним записав, Кошевой пододвинулся ближе к краю стола и примостился так, чтобы собеседник оказался совсем рядом.
— Я могу доверить вам тайну, Шацкий?
— Вы можете довериться мне полностью, пане Кошевой. Разве до сих пор не поняли?
— Даже не о тайне идет речь… Просто рассуждения… Но я более чем уверен…
Клим замолк.
Что-то внутри до последнего сдерживало сказать про свои выводы вслух.
— Не тяните, пане Кошевой! Раз уж мы при этом!
Веко дернулось.
Он машинально коснулся глаза концом указательного пальца.
— Этого никто не признает, потому что все кончилось. Я про убийство Сойки.
— Никто не признает — чего?
— Игнатий Ярцев его не убивал.
Сказал.
Легче не стало.
Глава восемнадцатая Искусство иметь врагов
Бильярдист взмок.
Стул Кошевого был развернут так, что он мог видеть бильярдный стол, расположенный в глубине просторного зала. И подробно видеть соревнования мастеров, словно купил для этого зрелища билеты. Предыдущую партию выиграл соперник, дородный усач, который касался края стола пузом, даже чуть наклоняясь над ним, не для удара. Готовясь к реваншу, предложенному молодым человеком, толстяк спокойно натирал мелом краешек кия. Совсем юный молодой человек, раздраженный явно не первым от начала игры проигрышем, еще раньше скинул парадный фрак модного покроя, оставшись в жилетке, которая не прикрывала широкие помощи, и при этом не снимая невысокого цилиндра. Сейчас сбросил и его, вытерев влажный лоб широким белым платком, затем, для надежности — сложенной лодочкой ладонью.
Шацкий откашлялся.
— Простите, а…
— Что?
— Кого же тогда убил Ярцев?
— Вора Цыпу, на Клепарове. Того самого, чей труп мы с вами нашли.
— Не надо напоминать, пане Кошевой. Но… гм… это не мы нашли. Я не видел того мертвеца, на счастье. В газетах не все писали, и то очень хорошо. Вспомнили о изуродованном перед смертью теле, далее каждый дает волю своему воображению…
— Шацкий, вы можете сейчас не толочь, как у нас говорят, воду, а перейти к нормальному деловому разговору?
— А у нас дела? — Шацкий сделал круглые глаза.
Принесли кофе.
Дождавшись, пока кельнер оставит их, Кошевой взял чашечку, сделал маленький глоток.
Действительно, крепкий и ароматный.
Почувствовав непривычную горечь, вспомнил о сахаре. Йозеф уже насыпал себе сразу три ложечки, теперь размешивая так старательно, что напиток плеснул через край на блюдце.
— Послушайте, Шацкий, — Клим поставил свою чашечку назад, отодвинул от себя. — Так сложилось, что вы не просто единственный человек во всем Львове, которому я готов довериться. Вы знаете больше, чем рядовой читатель газет. Ничего не надо объяснять вам дополнительно, специально. Еще вы ходячий источник разнообразных сплетен, только не обижайтесь.
— Я бы не назвал все, о чем мне известно, уж такими сплетнями.
Пузатый бильярдист старательно целился, готовясь разбить выложенные треугольником шары.
— Называйте как угодно. У вас так или иначе больше возможностей что-то узнать в городе, чем у меня. Согласны?
— Не буду отрицать. — Йозеф хлебнул кофе с полным достоинства видом. — Почему вы делитесь своими мыслями со мной, а не с полицией?
— Потому что в полиции есть убийца. — Сейчас Кошевой уже отбросил окончательные сомнения в своей правоте, оставалось лишний раз проговорить все, закрепляя. — Я сам отдал его комиссару в руки. Отыгрывать теперь назад, призывая начать все сначала, будет выглядеть по меньшей мере неэтично. Даже, не побоюсь этого слова, подозрительно. К тому же Игнатий Ярцев действительно убил Любчика Цыпу. Перед тем пытал, колол и резал ножом.
— Вей, не надо так подробно.
Кошевой дальше соблюдал жесткую манеру.
— Но так было, Шацкий. Буквально выковырял из него признание, где спрятаны украденные у Сойки деньги. Злополучный саквояж полиции выдали задержанные на Богдановке российские бомбисты. Есть их показания, мне потом пан Вихура немного рассказал, я же вроде причастная к делу особа. Вся компания — боевой отряд радикального, как тут говорят — москвофильского политического крыла. Деньги передали для них из Санкт-Петербурга. Поэтому, между прочим, дирекции полиции сильно нагорело из высших императорских инстанций — все же сорвали операцию, тщательно и долго планируемую здешней контрразведкой…
— Вы же вроде оттуда, пане Кошевой.
— Откуда? Из Петербурга? Я киевлянин, Шацкий. И вообще, к чему тут мое место прежнего проживания?
— Я плохо разбираюсь в политических течениях. Видимо, из-за того, что здешние жиды испытывают трудности с политическим самоопределением. Но разве господа, ориентированные на единение с большой Россией, имеют что-то с этими, с самодельными бомбами? Это же, извиняюсь, вроде революционеры. Долой царя и все такое разное. Как те, кто против царя, могут иметь дело с теми жителями нашего королевского города, которым русский царь нравится?
Клац!
Короткий восхищенный возглас — ловким ударом толстяк закатил сразу два шара, дуплетом.
— Шацкий, об этом мы можем говорить долго, подробно и отдельно. Поверьте, тут я ориентируюсь гораздо лучше вас. Пока же достаточно того, что не всякая боевая организация, которая образовалась тут под видом революционеров, которые бежали от режима, на самом деле из таких людей состоит. Главарей вербует царская охранка. Рядовых, подобных Ярцеву, используют вслепую.
— Уверены?
— Ничем другим объяснить тесную связь сторонников государя императора и боевиков не могу.
Молодой человек в жилете снова вытер лоб, скомкав платок, запихнул в карман, попросил принести ему рюмку рома. Толстяк невозмутимо мазал мелом кий.
— Подождите-подождите, пане Кошевой! Все это надо переварить. Государственные тайны, разве нет?
— Нет никаких тайн. Уже вскользь в газетах пишут, без подробностей. Я, между прочим, тоже их не знаю. Говорю вам сейчас все, услышанное от раздраженного комиссара, не больше. Конечно, никому не хочется получать по шапке. Тем более, криминальная полиция действительно залезла не в свой огород. Цепочка оборвалась, политической полиции придется начинать все с нуля. И представьте теперь, после этого: приходит опостылевший всем чужак Кошевой, еще и подданный государства, которая занимается на территории соседнего королевства подрывной деятельностью, и заявляет — ищите, панове, другого убийцу. Ярцев не годится.
Шацкий сделал еще один глоток. По глазам Клим видел — хмельные остатки еще остались. Надо потом еще кофе заказать.
— Исчерпывающе, — кивнул Йозеф. — Я не жду чего-то особенного от нашей полиции. В таком случае, кто же убил пана Геника? Знаете?
С ответом Кошевой не торопился. Сначала несколько раз повторил его про себя. И все равно ответил:
— Знаю, но не уверен до конца. Поэтому и начал об этом с вами. Поможете?
Шацкий выпрямил спину, расправил плечи, будто вырос над собой.
— Йозеф Шацкий может помочь в таком деле?
— Если бы был кто другой — попросил бы.
— Благодарю за откровенность, — зубной лекарь совсем не обиделся. — Тогда давайте с самого начала. Почему вы решили, что Игнатий Ярцев не убивал пана Сойку?
Молодому бильярдисту принесли рому. Он выпил залпом, заказал кофе, решительно сжал кий, приготовился к удару в ответ.
— Скорее всего, додуматься до такого мог только я, — начал Кошевой и дальше заговорил ровно, ибо давно мысленно готовил объяснение, которое сейчас озвучивал. — Или человек, подобный мне. Который впервые в жизни оказался не просто в новом для себя городе, а именно тут, во Львове. Живя тут уже несколько недель, гуляя каждый день, разглядывая все вокруг, я все равно плутаю. Наверное, надо тут родиться, чтобы ориентироваться безболезненно, легко, с закрытыми глазами и в темноте. Вот как вы, Шацкий. Или тот пан Тима, с которым мы с вами пробирались ночью львовскими закоулками. Возможно, допускаю — возможно, ходы-выходы можно изучить. Но я ставлю Ярцева, человека из Санкт-Петербурга, привыкшего совсем к иному расположению городских улиц, на свое место. За несколько недель тут освоиться реально. Тем более, такому, как Игнат, — профессиональному террористу. Они изучают улицы и переулки очень тщательно, поверьте мне. Когда-нибудь при случае расскажу, откуда знаю об этом. И должен напомнить то, что не секрет даже для полиции.
Шацкий одним глотком допил свой кофе.
— Что же они пропустили, пане Кошевой?
Клим приготовился объяснять долго.
То, что сложилось в голове как бы само собой, нужно было закрепить и проговорить прежде всего для себя. Сейчас он не столько делился выводами с товарищем и благодарным слушателем, сколько размышлял вслух. Говорил, словно видел перед собой зеркало, а не настороженные уши Йозефа Шацкого.
— В том-то и дело, что ничего, — начал, старательно подбирая слова. — Посланцы явились к Евгению Сойке за сутки до его убийства. Вряд ли Ярцев и его товарищ Князев, которого мой дворник Бульбаш описал старшим человеком, приехали со своей миссией и сидели во Львове несколько дней, прежде чем идти к Евгению Павловичу. Наоборот, им надо было поскорее передать деньги посреднику. Мой, — Клим горько усмехнулся, — учитель оказался средним звеном в шпионской цепочке. Предполагаю, все происходило в такой последовательности. Курьеры принесли Сойке саквояж с деньгами. Ярцев остался охранять посылку, но адвокат по каким-то причинам отправил его прочь, взяв ответственность на себя. Тут, как я думал раньше, должно было состояться тайное возвращение Игната назад в квартиру. Имеет индульгенцию от Сойки, на него вряд ли подумают, если саквояж исчезнет. Самого адвоката, как предполагалось, он уже убрал. Все было бы так — если бы Ярцев ориентировался во Львове и его двориках хотя бы немножко. Он же сам мне сказал, когда вел в свою ловушку и готовился убить: раньше тут никогда не был. Понимаете, Шацкий? Человек, который во Львове на момент убийства от силы двое суток, легко ориентируется во дворах на Лычаковской! Настолько легко, что заходит туда так ловко, чтобы остаться незамеченным для постороннего глаза. Тем более — для такого глаза, который имеет наш знакомый дворник! Мимо того, Шацкий, мышь не проскочит. А он может. При условии, что знает все тамошние закоулки. Итак, вывод таков: пробраться в квартиру, убить Сойку и уйти, оставаясь незамеченным, могла лишь человек, который прекрасно знает Лычаковскую, близлежащие улицы, да и Львов в целом.
Опять возгласы, на этот раз разочарованные — шар, посланный молодым бильярдистом, остановился на краю лузы, не захотел катиться дальше. Пузатый, не страдая от мук совести, одним ударом исправил ситуацию. Похоже, результат игры уже не интересовал его, захватил сам процесс.
— Итак, убийца — местный? И вы знаете — кто?
— Уверен на девяносто процентов. Сначала, когда Ярцев ляпнул, что никогда не был во Львове, я пропустил его слова мимо ушей. Согласитесь, не до того было. Но уже потом, когда лежал в кровати и прокручивал все заново, не мог понять, что же мучает, что цепляет и не дает покоя. Вспомнив нашу ночную поездку и невольные признания Ярцева, понял: Сойку он убить не мог. Не стал бы рисковать.
— Думаете?
— Конечно. Узнав на следующее утро из газет о том, что произошло, от своего старшего, Князева, он получил задание вернуть деньги. Или по крайней мере узнать, не завладела ли ими полиция. Действовал Ярцев через местных помощников, агентуры тут, оказывается, хватает. Саквояж в Сойкиной квартире не нашли. Иначе про это знал бы по меньшей мере дворник, не говоря уже о владельце дома, пане Зингере. Поэтому события после того, как Игнат ушел, имея при себе расписку, вероятно, развивались вот как, — Кошевой так же допил кофе. — Тот, кто поставил себе цель убить адвоката, забрался в квартиру через окно. И знал, как добраться до нужного дома двориками. С тех пор, как Сойка отправил Ярцева, никто до утра, до моего появления, про него не спрашивал.
— Никто?
— Никто — кроме какого-то батяра. Тот добивался пана адвоката. Дворник же, имея соответствующие инструкции, сказал: нет дома. Тем батяром, как позже выяснилось, был Зенек Новотный. Я расспросил Бульбаша про все подробно, воссоздал время, практически по минутам. Воры залезли туда уже после того, как Сойка был убит, это правда. Они нашли и забрали с собой саквояж, что тоже правда. Когда задержание батяра стало широко известно в городе, в том числе — из газет, Ярцев понял, у кого могут быть деньги. Наверняка привлек нужных лиц, вынюхал, где прячется Цыпа, дальше вы знаете. Но, Шацкий, деньги остались на месте!
— На месте — где?
— В квартире! — терпеливо объяснил Клим. — Когда я туда вошел, следов обыска не увидел. Значит, убийца не искал денег. Пришел, чтобы выставить господину Сойке, который владеет искусством заводить врагов, какой-то большой личный счет. И это не имеет, ну хорошо — не должно иметь никакого отношения к его не слишком достойной деятельности.
Несколькими искусными, очевидно — давно наработанными ударами пузатый бильярдист завершил партию. Молодой человек заказал себе еще рому.
— Кофе? — поинтересовался Клим.
— Какой тут кофе… Пане Кошевой, это же гениальное открытие!
— Не преувеличивайте. Стечение обстоятельств, желание разобраться. Ну, и ничегонеделание. Надо же было себя чем-то занять, чтобы не сойти с ума. Остается понять, кто же на самом деле убил Сойку. И за что. Хотя, как я уже сказал, своего старшего товарища тут познал с другой, категорически неприглядной стороны. Поэтому есть критическое количество людей, которые не просто желали ему смерти, но и могли лично воплотить собственные желания. И в этом, как не странно, не далее как полчаса назад лишний раз убедила меня пани Магда.
— Богданович? Наша шановна вдова? Она тут каким боком?
— Дала понять, во-первых, что я прав. На Сойку большой зуб вырос у многих уважаемых людей. А во-вторых, — веко дернулось, — сузила круг подозреваемых, сама того не осознавая. Раньше оно сузилось само. Только я понял это аж теперь.
— То есть?
— День похорон Евгения Сойки. Вспомните, Шацкий, народу пришло немного. Учитывая его не лучшую репутацию, большого скорбного скопления нечего было ждать. Но пришло трое, каждому из которых, а то и всем вместе, было крайне важно предостеречь меня от дальнейшего активного участия в расследовании обстоятельств убийства пана Геника. Вы видели всю компанию, Шацкий. Наверняка знаете каждого.
Йозеф наморщил лоб.
— Редактор Попеляк. Инженер Адам Вишневский. Советник городской рады пан Моравский. Еще пани Богданович…
— Никого из названных вами особ пани Магда даже близко не считает причастными к убийству. Хотя до того, как появился первый подозреваемый, невнимательный и неосторожный батяр Зенек, очень боялась, что кто-то из них, или, повторюсь, все вместе, смогут раньше или позже попасть в список подозреваемых. Каждый для нее по-своему дорогой. В определенные моменты мужчины перестают быть для таких, как она, лишь опекунами. Скажите теперь, Шацкий, вы точно готовы мне помочь?
Он еще не успел договорить, как Йозеф закивал:
— Готов! Готов, пане Кошевой! Это опасно для моей жизни?
— А если опасно?
Он и тут долго не думал.
— Все равно готов. Знаете, почему? Иногда это интереснее, чем заглядывать в чужие рты, ковыряться там и драть дырявые зубы.
Весомый аргумент, без возражений. Клим через стол протянул Шацкому руку ладонью вверх.
— Договорились. Тогда назначаем свидание.
Брошенные на бархат бильярдного стола банкноты рассыпались веером. Молодой игрок ушел, не возвращаясь. Про фрак забыл, подхватил только цилиндр. Кто-то из зрителей поспешил за ним, отдавая забытую часть одежды.
Заговорщики склонились через стол друг к другу, чуть не упираясь лбами.
Клим Кошевой выложил Йозефу Шацкому свой план.
Очень простой.
Риск был разве в том, что никто из названных лиц не клюнет, не придет на свидание, не раскроет себя.
Но он пришел.
Глава девятнадцатая Ночью с голыми руками
Высокий мужчина не умышленно надел на себя черное, чтобы слиться с душной июльской тьмой.
Он просто любил одеваться в неяркое и однотонное. Чувствовал себя уверенно только в таком. Правда, до недавнего времени имел довольно пестрый гардероб. Были в нем костюмы, пошитые из ткани разных цветов, от голубого до оттенка густо сдобренного молоком кофе. Но в свете трагических событий, которые в одночасье изменили не только его взгляды, но и отношение к жизни, высокий мужчина в порыве не свойственного ему раньше альтруизма отнес костюмы в ближайший приют для бедных. Впоследствии на Рынке имел счастье видеть нищих в некогда своей одежде, поняв, каким смешным, даже нелепым может сделать человека и целый мир эта нарочитая пестрота. Она же не всем подходит. И наглые старики, напоминая элегантные чучела, красноречиво подтверждали его вывод.
По крайней мере ему самому.
А в прошлый раз, когда высокий мужчина решился впервые, оказалось: темная одежда еще и маскирует. Не надо специально ломать голову, подбирая нужный для рискованного дела наряд. Оставайся собой, везде и всегда. Одевай то, в чем ходишь всегда. Лишнего внимания не привлечешь. И не надо тратить лишнего времени или, того хуже, носить необходимые вещи с собой. В тот вечер откланялся Магде раньше, сославшись на важные дела, и у нее хотя бы на секунду не зародилось подозрения. Предполагая, что криминальная полиция таки возьмется за дело серьезнее, чем рассчитывал, и круг подозреваемых станет таким широким, каким, положа руку на сердце, должен бы быть, высокий мужчина даже тут имел преимущество. Ведь Магда без задней мысли, не зародив даже капли подозрения в своем сердце, четко скажет — да, тот, кто интересует шановне панство, в названный вечер был у нее. Когда ушел? Извиняюсь, шановне панство, это не ваше дело.
Идя сейчас среди ночи по знакомому уже адресу, мужчина в темной одежде не договорился сам с собой про конечную цель. С чем он вернется? Предложит этому киевскому выскочке деньги? Нет, лучше протянуть руку помощи, устроить ближайшее будущее тут, во Львове. Магда должна оценить такой жест, тем более что так же считает себя косвенно виновной перед Кошевым. Однако он, похоже, из принципиальных романтиков. Если не договорится, придется идти на крайние меры. Тем более, теперь киевский адвокат-беглец, герой газетных публикаций, определенным образом причастен к разоблачению опасных бомбистов. Вот эти самые революционеры, вернее — их товарищи, и свели с ним счеты.
Именно такая трактовка событий устроит криминальную полицию.
Особенно если на этом вроде между прочим будет настаивать Магда. Высокий мужчина после недавней серьезной и такой желанной для обоих интимной беседы имел все основания считать, что становится одним из немногих, если быть совсем точным — тем единственным, с кем гордая и неприступная пани Богданович будет считаться и чье мнение уважать.
Если не получится убедить Кошевого и договориться по-хорошему, будет, как с Сойкою. Тогда выставил счет за прошлое. Сейчас же заботится про свое будущее.
С Магдой Богданович.
Вскоре она будет носить другую фамилию.
А Кошевой…
Про него забудут.
Не так скоро, но все же недолго будут помнить.
С такими мыслями высокий мужчина добрался до Рынка, там отпустил извозчика и далее до начала Лычаковской прогулялся пешком. В прошлый раз действовал так же. Вокруг бурлила ночная жизнь, следовательно, друг на друга тут не оглядывались. Добравшись до места, мужчина завернул к ближайшей подворотне, чтобы, как в тот раз, пройти дворами. Прекрасно ориентируясь в этих маленьких лабиринтах, он наконец вышел, куда требовалось. Отыскал взглядом нужное окно.
Уже не светилось.
Не слишком поздно, но вряд ли Кошевой имеет привычку бездельничать. Когда человеку нечем занять себя, он начинает или много и часто есть, или раньше укладывается спать. С надеждой на новый день, который должен стать лучше предыдущего. С Сойкою получилось сложнее, тот работал, в кабинете горел свет. Но пригодились закрытые двери спальни. Адвокат, погруженный в работу, не прислушивался к посторонним звукам. Очень удивился, увидев незваного темного гостя. Но не испугался — и именно это тогда разозлило больше всего. Смотрел на пришельца, как на что-то интересное, абсолютно новое, способное разбавить противную повседневность.
Переговоров с паном Геником не планировалось. Ударил сразу, понимая в глубине души: стоит позволить втянуть себя в разговор — и намерения постепенно притупятся, побледнеют, угаснут. Атаковал, чтобы не допустить такого поворота. Уже потом, когда выстрелил, сдали нервы — все же никогда до этого людей не убивал, пусть адвокат с Лычаковской и большая дрянь. Поэтому и оставил все, как есть, бросил оружие у мертвого тела. Выбравшись, обратно так же двинулся дворами. Вспомнил — надо же хоть немножко декорировать место убийства, хоть как-то сбить полицию со следа. Вспомнил, как не сразу решился вернуться. Когда же наконец вернулся — поверил в Бога и существование высших сил, как никогда раньше. Потому что увидел, как туда же, в окно, ловко карабкаются воровские фигуры.
До их мастерства ему далеко. Но все же определенные навыки есть.
Использовал их и теперь. Ничего не сковывало движения.
Короткий разбег.
Одним большим движением — нога на краю большой широкой доски, что так и притулилась к стене, вторая согнута, упирается, рывок — и вот уже подлетел, руки стиснули подоконник. Напряжение мускулов, приподнятое туловище, тело переброшено внутрь. Сейчас высокий не боялся разбудить спящего. Все равно собирался будить, чтобы начать серьезный разговор и дать умнику избежать собственной смерти. К тому же хотелось узнать, как именно Кошевой додумался, что его подтолкнуло. Вряд ли дальше кого убивать — но научиться осторожности в целом и учесть ошибки всегда полезно.
Ступив к краю кровати, где, накрытый одеялом по самую макушку, размеренно сопел обреченный, мужчина в темном все же не торопился начинать. Замер, переплетя пальцы, спрятанные под тонкими кожаными перчатками, одетыми по дороге, уже во дворах. Постояв немного так, расплел пальцы…
— Вы так, с голыми руками?
Голос послышался сзади, внезапно, заставив мужчину вздрогнуть. Видимо, от неожиданности он немного оцепенел, развернувшись не сразу и не понимая, с ним будут разговаривать или ударят тяжелым по голове.
— У вас револьвер в кармане или вы меня задушить голыми руками пришли?
Зажегся свет.
Это мужчине так показалось после ночной темноты.
На самом же деле засветился лишь ночник, перенесенный в угол и пристроенный на скамейку, поставленную возле дверей спальни специально для этого. Хватало, чтобы ночной гость видел Клима, который стоял там же, в углу, а Кошевой видел его.
Шелохнулась одеяло. Сдвинулась вниз.
Из-под него высунулась растрепанная голова Йозефа Шацкого. Был напуган и любопытен одновременно. Даже сел на кровати, хоть натянул одеяло, будто это могло в случае чего защитить.
— Дальше так и будете стоять? Хотите, чтобы я говорил с вашей спиной?
Мужчина неспешно развернулся, но все еще молчал.
— Слушайте, вы можете сейчас выйти, как зашли. Того, что вы вообще клюнули на мое намерение рассказать все пани Магде и пришли сюда, мне вполне достаточно. Можете не объяснять своей цели, — Клим пытался говорить спокойно, хоть сам понимал: получается не очень хорошо, возбуждение чувствовалось. — А можете попробовать меня убить. Нас тут вроде двое… Извините, Шацкий, я вас не считаю серьезным бойцом. Наш гость сильнее физически. Пожалуй, начну после нынешней ночи брать уроки борьбы и возобновлю боксирование. Но все равно не позволю убить себя. Значит, будет драка. Шум, крики. Вот когда будет выход пана Шацкого. Он способен поднять такой шум, что сбежится половина Лычаковской, по меньшей мере. Домовладелец вызовет полицию. Можете бежать, как зашли, через окно. Но мы с Шацким не будем объяснять полицейским, что подрались между собой.
— Зубы заговариваете? — наконец выдавил из себя мужчина в темном.
— Совсем нет. Рисую ваши перспективы. Если вы оценили их реалистично и передумали меня убивать, давайте просто поговорим. Выясним отношения, которые совсем недавно сложились между нами.
— Про что нам говорить, пане Кошевой?
Клим отделился от стены, сделал несколько шагов вперед, стал напротив ночного гостя.
— Хотя бы вот про что. Мне не жалко Евгения Павловича Сойку. Не по-христиански, я должен был бы быть милосерднее, чутче. Он в свое время дал мне службу и кое-чему научил. Сойка, или, как я уже привык его называть на местный манер, пан Геник, таки был виртуозным адвокатом. Единственное — знания, умения и бурную энергию он с какого-то чуда, по непонятным мне причинам отправил в разрушительное русло. Он цинично вытаскивал со скамьи подсудимых негодяев. И в последнее время слово «негодяй» начало приравниваться принятому во Львове определению «москвофил».
— Не только во Львове, — поправил мужчина в темном. — Во всем королевстве. Как и за его пределами в сторону западной границы.
— Это не важно. Негодяев много, и их не всегда угадывают по наличию тех или иных взглядов. Я знал людей, чья низость вообще не основывалась ни на каких убеждениях. Но в нашем случае все совпало. Словом, я убежден — у вас были веские основания лишить Сойку жизни… — Кошевой вдруг захлебнулся собственными словами, прокашлялся, быстро исправился: — Веские для вас. Вы хотели его убить, искали оправдания своему поступку и, как видим, нашли. Однако… ни у кого нет права отбирать жизнь ни у одного человека. Решать это должен суд человеческий, которому ваш покорный слуга имеет множество оснований не доверять полностью. Мне ближе суд Божий. Согласен, ждать долго, можно не дождаться. Но это намного лучше, чем когда кто-то представляет себя Богом. Я не оправдываю вас. И не буду требовать, чтобы вы после нашей беседы добровольно сдались полиции.
— Требования бесполезны при любых обстоятельствах, пане Кошевой.
— Понимаю, понимаю. Так же, как ваше нежелание огласки. Допустим, все повернется так, что сдавать вас комиссару Вихуре доведется мне. Но вас помилуют. Мне так кажется. Или — получите мягкое наказание. Итого, судебный процесс не нужен прежде всего вам. Такая публичность не для вас. Вы будете отпущенным на волю убийцей, как не поверни. И если окончательно передумали меня душить, удовлетворите любопытство, мое и пана Шацкого. Хочу знать — за что. Потому как — уже приблизительно себе представляю.
Последующие секунды тишины нарушало лишь тиканье массивных часов, пристроенных у противоположной стены. Еще посапывал Шацкий, со всей силы сдерживая желание вмешаться в разговор.
— Если вам не с кем и о чем поговорить на ночь — отчего же, объясню все, — сказал наконец мужчина в темном. — Но перед тем все же хотел бы послушать вас, пане Кошевой. У вас вопрос — «за что». Мой вопрос — «как». Ведь вы ждали именно меня, разве нет?
— Вас, — ответил Клим. — Задачка лишь кажется сложной. У меня получилось разгрызть ее поскорее, потому что я тут чужой. Меньше знаю о ваших связях между собой. Поэтому ни к кому не имею специальных сентиментов и предубеждений. Когда вычислил, что российский революционер не мог убить Сойку, сразу же возникло: «А кто?» Знаете, где подсказали ответ, сами про то не догадываясь? В криминальной полиции!
— Даже так?
— Конечно. Еще не застрелили Ярцева, мы сидим в кабинете комиссара, ждем, пока призовут на тайное совещание. Вихура между прочим заправил: очень хорошо, говорит, пане Кошевой, что убийца есть и он не из наших. Потому что, говорит, пан советник Моравский пожаловался: мол, чего хорошего, на него подумают. Языки никому не укоротишь, люди падки до сенсаций. Глядишь — всплывет на поверхность, как он, пан Казимеж, год назад проиграл процесс стараниями пана Геника. Какой-то поклонник царя-батюшки хотел иметь помещение под свою редакцию в центре города. Советник, видишь ли, приложил усилия, чтобы отказали. Голос его был решающим. А тот обделенный нашел, как судиться с Моравским. И не просто выиграл — пан Казимеж еще и оплатил ему судебные расходы. Советник оплатил собственное поражение, понимаете? Это же какая кривда, над ним в ратуше до сих пор смеются при случае. А он же в сейм собрался, куда с таким багажом?!
— Вы решили, пане Кошевой, что из-за этого убивают?
— Нет. Так решили вы.
— Я? Лично?
— Вы. Трое. Казимеж Моравский, Адам Вишневский, Януш Попеляк. Или кто-то один из вас. Тот, кто действительно почувствовал опасность для себя, когда начнут копать в таких направлениях. Ища, кому выгодно. А о существовании таких страхов, напомню, сказал сам комиссар. Почему вы пришли на кладбище проводить Сойку втроем?
— Там были другие.
— Немного. И они старались не смотреть друг другу в глаза. Словно пришли не попрощаться с добрым товарищем, а убедиться — его таки закопали в землю. Тех, кого тут зовут москвофилами, я не беру. Их так же не явилось много. Но им смерть Сойки совсем не нужна. Наоборот, адвокат был их, так мы говорим, юридическим, законным, оружием. Извините за каламбур.
— Все в порядке. Значит, вы сделали выводы только из количества людей на кладбище?
— Я бы и их не сделал. Если бы никто, кроме вашей маленькой компании, малоизвестным незнакомцем не заинтересовался. А пригласить меня на подобный разговор вы надумали раньше. Поминальный обед — отличный повод. Выходит, все вместе или кто-то один прекрасно осознавал опасность. Беседа со мной — страховка и одновременно прямое предупреждение: не лезь не в свое. Вспомните, я тогда это заметил. Потому поделился мыслями с пани Магдой. Она же наверняка пересказала вам. Близкому человеку. Знаете, я вот сейчас подумал… Вы же успокоились тогда, разве нет? Решили — киевский пришелец понял свое место и решил ни во что не влезать. Дай Боже, обломает тут зубы, без жилья, денег и ангажементов, соберет манатки да и уедет прочь. Назад, на Восток. Или вперед, на Запад. Был же такой момент, согласитесь?
— Вы остались.
— Потому что на тот момент действительно не имел, куда ехать. Теперь не хочу. И вернемся к вам — всем троим. Повод свести счеты с Сойкою имел каждый. Януш Попеляк позволил себе с открытым забралом пойти на радикальное крыло упомянутых уже москвофилов. Они переждали, а затем нанесли ответный удар. Вероятно, кого-то подкупили. Деньги на это идут из Петербурга непрерывным потоком, как видим. Иначе не объяснишь, почему Сойке как представителю истца не просто удалось добиться от пана редактора публичных извинений, а еще и взыскать в судебном порядке значительные убытки. Я как бы между прочим разговорился с паном Зингером, здешним домовладельцем. Он поведал про заложенное Пепеляком частное недвижимое имущество. Это не очень разглашается, но ту битву редактор проиграл. За это убивают, как вы думаете?
— Убивают в наше время и не за такое.
— Очень хорошо это знаю. Пепеляк, возможно, искренне, хоть и не по-христиански, радовался, когда Сойка получил по заслугам. Однако не он воздал. Знаете, почему? Пан редактор не залезет в окно второго этажа. Потому что невысокий и толстенький. Отверг его сразу, вас осталось двое. Моравский, как уже упомянуто, получил усилиями адвоката Сойки увесистую пощечину. Поражение вышло не столько материальным, сколько моральным. Для определенной категории тщеславных людей это значительно больнее. Вы согласны?
— С чем именно?
— С тем, что Казимеж Моравский все же не убивал адвоката Сойку. Не потому, что равнодушен к спорту и, в отличие от вас, не такой тренированный. Вам тут и сейчас нужно доказать вашу вину, пане Вишневский, или признаетесь сами?
Глава двадцатая Очень дорогой человек
Тикали часы.
Глаза Шацкого светились уже непомерным, ничем не сдерживаемым интересом. Остатки испуга окончательно исчезли, и теперь Йозеф, устроившись поудобнее на кровати, даже не думая слезать с нее, напоминал зрителя, который занял лучшее место в партере.
Инженер Адам Вишневский, такой же, как во время первой их встречи — статный пан в темном костюме, круглой шляпе с чуть загнутыми вверх полями, элегантно подстриженной бородкой и полоской усов, — неспешно начал стягивать черную тонкую перчатку с правой руки.
— Мы не перед судом, пане Кошевой. Сами сказали — никто никому не судья, кроме Господа Бога. Тем более, мы не перед Божьим судом. И вы не прокурор.
— Верно, пане Адам. Я адвокат. Хоть в данном случае не знаю, кого представляю и кого защищаю.
— То есть я могу не признавать тут, при свидетелях, своей вины?
— Вполне. Однако я, так уж случилось, живу в этой квартире. Следовательно, тут какая-никакая, но моя маленькая крепость. Крыша над головой. Место, где я могу чувствовать себя в безопасности. Вы пришли сюда втайне, без приглашения. Залезли через окно. Раз уж я… мы с товарищем вас разоблачили, хотел бы услышать от вас про намерения. Для чего вы пришли сюда в такое время и таким способом? Когда намерения добрые, уважаемые люди не лазят друг к другу среди ночи в окна.
Сняв правую перчатку, Адам начал стягивать левую. Какое-то время даже отвел от Клима взгляд, погрузившись в процесс. Кошевой ждал терпеливо. Наконец справившись, Вишневский аккуратно сложил перчатки, бережно засунул в карман брюк. Сказал, словно завершив крайне важную работу:
— Не поверите, Климентий.
— Почему же? Попробую.
— Хотел сначала поговорить.
— Все ж таки — сначала? А потом?
— Определился бы по результатам разговора. Мне принесли с посыльным письмо. Аккуратный почерк, несколько коротких предложений. Подписался какой-то доброжелатель, которого я не знаю, но который хочет мне добра. Тот предупреждает: адвокат Кошевой, знакомый мне, узнал о моей причастности к тому, что произошло с Сойкою. И готов поделиться соображениями с пани Магдой Богданович. Я решил повредить вас. Чего бы то ни стоило.
— Вы так сразу поверили анонимной записке?
— Климентий, вы же сами назначили себе цену! Погоня за батяром через весь город, а он лишь похож на того, кто вас обокрал. Настойчивый поиск его сообщника с последующим обнаружением второго трупа. Наконец, вы не производите впечатление физически сильного человека, однако авантюрный склад перевесил — и вы поперлись в преступное гнездо. По доброй воле.
— Все это Магда вам пересказала? Не отвечайте. Она, больше некому. Между вами очень доверительные отношения. Иначе не может быть, если кавалер обсуждает с дамой учение профессора Юнга, а та, далека от подобного, увлеченно слушает и пересказывает другим. У дирекции полиции нет секретов от вдовы Богданович, поэтому она с интересом выслушала подробности всех событий при моем скромном участии.
— Не прибедняйтесь.
— Да ну, я действительно никогда не хотел стать героем. Так иногда складывается: думаешь, как защитить себя, а выходит — чуть не мир спасаешь.
— Вот тут преувеличение.
— Пусть так. Речь все равно не про меня, пане Адам. Вы прочитали анонимное письма, составили условия задачки и решили: кто бы вас не предупредил — я на такое способен. То есть узнал такое, про что не стоит говорить пани Магде. Поэтому вы тут.
— Поэтому я тут, — кивнул Вишневский, взглянул на присутствующего Шацкого и повторил: — Поэтому я тут.
Клим перевел дыхание, готовясь сказать едва ли не самую важную для обоих вещь:
— Магда знает, что у вас есть веская причина убить адвоката Сойку. Вы не один такой, поэтому она вас не подозревала никоим образом. Но сразу заинтересовалась тем случаем. Вдова полицейского немедленно просчитала: всегда ищут, кому выгодно. И решила ненавязчиво взять ход следствия под свой негласный контроль. В полицейском департаменте Львова этому давно не удивляются, поэтому подозрений не возникнет никаких. Далее, пане Адам, только мои предположения. Надеюсь, позволите?
— Прошу очень.
Дернулось веко, но сейчас не так сильно.
— В общем следователю хватало и версии самоубийства, — повел дальше Кошевой, постепенно увлекаясь. — Если бы пани Богданович не присутствовала негласно при нашем со следователем Ольшанским разговоре, не услышала бы моих убийственных, — уголок губ скривила короткая улыбка, — доводов в пользу, если так можно сказать, умышленного убийства. Вот почему Магда вышла на сцену. Тоже расчет — пусть все случится под ее контролем и влиянием. После чего, так себе предполагаю, без задних мыслей пересказала все вам.
— Я вас недооценил.
— А то бы что? А, пане Адасю? Хорошо, не сбивайте, потому что запутаюсь.
— Вас запутаешь…
— Спасибо, — Клим шутливо поклонился. — Итак, пересказала. Вероятно, идея деликатно и в то же время строго предупредить меня, чтобы не крутился под ногами, принадлежала не ей, а вам. И Магда ее охотно поддержала. Потому что на то время ни полиция, ни пани Богданович, ни я не знали про украденные деньги. Скажу больше — никому в голову не приходило, что именно могли украсть душегубы. Про пропавший брегет я узнал случайно. Ну, а потом события стремительно побежали, с убийцей и мотивом наконец определились. Всех все устраивает. Все всем довольны. Магда вздохнула с облегчением. Ведь даже эфемерные подозрения в ваш адрес, не ее, полицейских, этим самым отпадают. И тут — новые, рожденные в голове какого-то Кошевого. Вы суда не боитесь, пане Вишневский.
— Он мне не нужен. Судиться никому не интересно, тем более — по такому поводу, как убийство продажного поганца Сойки.
— Это уже отдельный разговор. Я о другом, поважнее. Суд вы бы пережили, пане Адам. Или по крайней мере общение со следователем, допрос, оправдание. Но вы больше, чем подозрения, следствия, ареста, суда и приговора, боитесь потерять Магду. Она — человек, дорогой для вас не меньше, чем вы для нее. Поэтому, пане Адаме, она опасалась, что вас, пусть в далекой перспективе, могут заподозрить. Если все подтвердится, Магда готова понять вас… — Клим вновь выдержал короткую паузу, глядя Вишневскому прямо в глаза. — Готова понять, пане Адам. Только…
— Что?
— Не готова простить. Для нее, вдовы полицейского, слуги закона, которого уважали даже матерые уголовники, дальше поддерживать теплые отношения с убийцей не будет возможным. Поэтому вы тут. Если бы вы не пришли — я признал бы ошибку, поражение и навсегда выбросил убийство Сойки из головы. Ему все равно, найдут его настоящего убийцу или нет. Я ничего не собирался открывать пани Магде. Мне вообще нужно думать про свое будущее, а не про Сойку, по которому тут никто из порядочных людей не унывает. Вы не знали моих истинных намерений. Пришли по мою душу. Решили взять еще один грех. Передумали?
Адам Вишневский в очередной раз взглянул на Шацкого. Смерив его равнодушным взглядом, неторопливо повернулся, ступил к окну. Сжал кулаки, уперся ими о край подоконника.
— Спасибо. Но почему не передумали убивать Сойку?
Ночной гость замер, глядя перед собой, будто пытался разглядеть что-то в темноте ночи. Не поворачиваясь, молвил:
— У меня была младшая сестра, Ядвига. То есть, — замялся на мгновение, — она есть. Только считайте, что нет. Сейчас лечится на Кульпаркове[53]. Время от времени я забираю Ядзю оттуда, снимаю усадьбу за городом и женщину, которая заботится о ней. Потом, когда состояние ухудшается, снова возвращаю под надзор врачей. Надежда была у всех. Но в конце июня мне сказали: улучшений ждать не стоит. Чтобы удержать хотя бы то, что имеем, Ядзю следует держать в полной изоляции от мужчин. Она не должна их даже видеть. Иначе — приступ, снова интенсивное лечение.
— Это имеет отношение…
— Имеет!
Вишневский порывисто повернулся к Клима. Кулаки не разжимал. Крик вышел резким, Шацкий невольно дернулся.
— Имеет! Прошлой осенью Ядвига решила прогуляться Стрыйским парком. Она любила октябрь, в эту пору всегда сочиняла стихи. Не ахти, но все же годилось для чтения в салонах. На нее напали двое, в сумерках. Вывезли далеко в пригород, поиздевались, и поверьте: произошел редкий случай, когда физическое насилие, телесное надругательство выглядит меньшим злом и, соответственно, меньшим горем. Вряд ли надо объяснять, что Магда приняла активное участие в ускорении розыска тех подонков. Ими оказались молодые члены «Русской народной партии». Именно тогда тех двух торжественно приняли в ряды. Каждому лично пожал руку их вождь, пан Марков. Моя сестра просто попала на глаза, когда оба думали, как бы еще отметить торжественный день, чтобы запомнился на всю жизнь.
— Дайте угадаю. Их защищал Евгений Сойка, верно?
— Защищал и защитил. Цинично воспользовался состоянием Ядвиги. Она узнала обидчиков. И потом так же болезненно реагировала на других предъявленных ей мужчин. В том числе — на самого Сойку. Тут пан Геник постарался, представил во всей красе! А москвофильские газетки начали писать про политические преследования инакомыслящих, провокациях власти, даже устроили шествие с хоругвями. Железных доказательств полиция не смогла собрать, слишком торопились. Единственного, кроме несчастной Ядзи, свидетеля легко купили. И еще — их выпустили вскоре после громкого убийства графа Потоцкого. Нашу власть гораздо больше страшит развитие вашего, русинского протестного движения, чем деяния «Русской народной партии» и подобных организаций. Знаете, почему?
— Нет.
— Потому что москвофилы не просто считаются управляемыми и к ним не относятся слишком серьезно. Наша власть играет на противоречиях, которые давно обострились между этими силами. Поэтому охотнее потрафят пророссийским сообществам — лишь бы те дополнительно давили на желающих найти и построить эту вашу Великую Украину. Видите, политический момент вмешался, без него никак. Только от этого не легче. Не принимаю ни одну из упомянутых сторон, однако пострадал именно я. То, что сделали с моей сестрой, случилось и со мной. Вот такая история. Больше мне нечего вам сказать.
Тикали часы.
Но теперь казалось — будто громче. Каждый звук звоном отражался в ушах.
— Мне так же, — глухо сказал Кошевой.
— Простите?
— Нечего вам на это сказать так же, пане Адам. Кроме того, что уже сказал. Объяснить свой поступок вы смогли себе. Честно говоря, мне тоже. Присутствующий тут отец четырех детей Йозеф Шацкий тоже проживет спокойно с такими знаниями. Даже суд отнесся бы снисходительно. Хотя вы проникли в квартиру Сойки ночью скрытно, что само по себе свидетельствует о преступном намерении. Умышленное убийство. Непростое душевное состояние учтется, но все равно — умышленное, заранее продуманное убийство. Магда не примет это.
— Знаю. Поэтому и пришел.
— Закрыть мне рот?
— Говорю же…
— Нет, не надо! — Кошевой повысил голос. — Не надо искать оправданий! Вы намеревались убить меня! Так же как адвоката Сойку, который после только что услышанного умер для меня окончательно! Но вы приравняли его со мной! Так случается, пане Вишневский! Так всегда случается: сначала убиваешь кого-то в порыве, совершая месть, а потом выбираешь следующую жертву, чтобы скрыть предыдущее преступление! Вот и вся моя вина перед вами! Хотите, чтобы я простил того, кто точил на меня нож или отливал пулю? Мне надоело жить оглядываясь, пане Вишневский! Я не для того сюда приехал! Знаете, я ждал, что вы придете через дверь. Вот Шацкий, он свидетель — действительно на это надеялся! Постучите, зайдете, будете гостем. Мы сядем за стол в кабинете. И вы, извините за каламбур, выложите передо мной на стол все карты. Поверьте, при таких условиях разговор наш был бы иным! Но сейчас…
Вишневский разжал кулаки.
— Я сделал предложение Магде, — сказал глухо.
Запал исчез внезапно. Клим не понимал, откуда и почему вдруг почувствовал внутри опустошенность, а снаружи — неуютную прохладу.
— То есть?
— Вы же не дитя малое, Климентий! Неужели надо объяснять, что означает, когда мужчина признается женщине! Я давно к этому шел! Вы же видели ее, видели! На первый взгляд неприступная крепость, подступы к которой залиты льдом. Но мне удалось лед растопить! Знали бы вы, ох, если бы вы знали, чего мне это все стоило!
— Догадываюсь…
— Молчите! Он догадывается! Даже ни капли не догадываетесь, мальчишка!
— Я видел Магду несколько дней назад, — Клим пытался сохранять спокойствие. — Она действительно выглядела иначе. Вся светилась. Сказала «да»?
— Не сказала «нет». На таком этапе это тоже достижение.
Наконец Кошевой овладел себя.
— Тем более.
— Что — тем более?
— Вы сейчас объяснили, почему собирались убить меня. Я — угроза вашему будущему с Магдой.
— Не преувеличивайте своего значения.
— Отнюдь. Пока такой, как я, знает вашу тайну, покоя вы не ощущаете, пане Адам. Всякий, кого хотят убить, имеет право на защиту. Согласны?
— Вполне. Проще всего — опередить того, кто хочет убить тебя. Вы собираетесь лишить меня жизни, пане Кошевой? И сейчас прочитали своеобразный приговор?
Клим вздохнул.
— Я не судья. Тем более — не палач, мы с вами об этом говорили. Вы сами должны решить, как действовать дальше.
— Предлагаете застрелиться, повеситься или выпить кофе с ядом?
— Нет, — сказал Кошевой, удивляясь, как быстро пришло нужное решение. — Боже упаси. Не хочется брать на себя даже такой грех. Вы же уважаете пани Магду Богданович?
— Для чего это? Вопрос лишен смысла и здравого ума.
— Все же прошу ответить. Пан Шацкий тоже должен услышать.
— Ладно, если вы еще не поняли. Магда… пани Магда очень дорогой для меня человек.
— Спасибо за искренность. Вы согласны, что она не заслуживает знать о вашем преступлении? Это преступление, пане Вишневский, чем бы не был мотивировано. Итак?
— Ну, если хотите… Конечно, пани Магда не должна этого знать.
— Потому что не сможет принять убийцу?
— Так. Потому что не готова принять убийцу.
— То есть не заслуживает жизни с убийцей?
— Конечно.
Кошевой несколько раз хлопнул в ладоши, призывая Шацкого в свидетели:
— Все присутствующие тут услышали. Магда Богданович не заслуживает того, чтобы связать свою дальнейшую судьбу именно с вами, пане Адам Вишневский. Вы только что сами назвали единственный приемлемый для всех выход из довольно деликатной ситуации. Грехи надо искупать.
Инженер замер. В первый миг не понял, что произошло. Потому встрепенулся, тряхнул головой, словно прогоняя дурной сон. Клим же и дальше хлопал в ладоши, пытаясь при этом не хлопать слишком сильно.
— Вы… вы хотите…
— Я ничего не хочу. Сегодня спас свою жизнь и дальше намерен освоиться в Львове. Как получится — не знаю. И лучше начинать все с чистого листа, не озираясь при этом. Вы можете гарантировать мне ненападение. Но все равно вашего веса в здешнем обществе хватит, чтобы со временем, рано или поздно, вытереть об меня ноги. Если вы уважаете пани Магду так, как только что признали, у вас хватит силы и ума принять именно то решение, которое нужно. В таком случае вам тоже придется когда-нибудь начать с этой женщиной все с чистого листа — при условии, что она сама захочет вернуть ваши отношения. Ваш разрыв, пане Вишневский, — гарантия моей безопасности. Разве вы захотите когда-нибудь поквитаться со мной, как с Сойкой, окончательно поставив нас на один уровень. Но или сначала, или потом придется что-то решать со свидетелем, паном Шацким. Неужели вы, тот, кто фактически потерял родную сестру, способен когда-нибудь отнять отца четырех детей? Итак, итог следующий. Или вы обрекаете пани Магду на не достойную ее жизнь с убийцей — или мы с вами даем друг другу гарантии ненападения. К тому же таким образом вы, возможно, потеряете, несомненно, дорогого человека. Тем не менее, простите за чрезмерную патетику, сохраните себя.
— То есть?
— Никого больше не убьете, пане Адам. Для человека вашей организации это очень важно.
Вот теперь Клим иссяк и замолчал, ожидая ответа.
Как и предполагалось, Вишневский молчал. Несколько раз сжал и разжал кулаки. В очередной раз взглянул на Шацкого, потом — на Кошевого, снова на Йозефа.
— Я должен подумать, — молвил наконец.
— Вы вольны принять любое решение. Оно не для меня. Решайте для себя, пане Адам. Определяйтесь. Мне не о чем дальше с вами говорить. Разве сами подскажете тему.
Вместо ответа инженер Адам Вишневский решительно шагнул ему навстречу.
Но вдруг остановился.
Так же решительно развернулся.
Не говоря ни слова, подошел к раскрытому окну. Сел на подоконник, развернулся, перевернулся на живот.
Мгновение — и скользнул вниз.
Приземлился почти неслышно. Не сдержавшись, Клим подбежал, выглянул в ночь. Никого не увидел, ночной визитер призраком растворился в темноте.
Кхекнули.
Повернувшись, Кошевой утомленно вздохнул, кивнул лекарю:
— Справились. Я думал, будет хуже. Что скажете, Шацкий? Молчали все время, так на вас не похоже…
С кровати доносилось знакомое чмоканье губами.
— Жаль, нельзя рассказать моей Эстер про ваш гений, пане Кошевой.
— Нам с вами будет что ей рассказать, — успокоил его Клим. — Хотя бы о том, как я пригласил вас к себе и вы так перебрали наливки, что пришлось оставить гостя тут. Вы сами предложили такую легенду, потому что лучше знаете свою жену.
— Придется вносить коррективы, — в голосе Шацкого звучала грусть.
— Вы про что?
— Ради сохранения наших общих тайн, пане Кошевой, придется пойти на еще большую жертву.
— На какую?
— Вей, на еще больший позор. — Йозеф совсем по-детски шмыгнул носом, чего с самого начала знакомства Клим за ним не замечал. — Когда тот черный великан залез в окно и стал прямо надо мной, сделалось очень страшно. Я напустил в кальсоны. Такое объяснить сложно даже моей фейгале.
Кошевой понимал — нельзя так себя вести.
Понимал — и все равно не сдержался.
Захохотал, как бы там не обижался на него потом Шацкий.
1908 год, Львов, улица Лычаковская
Они встретились впервые за две недели.
Клим не искал встречи. Хотя была бы возможность — не избегал бы ее. Но слишком в разных кругах вращались они с Магдой Богданович, чтобы пересечься не случайно. Тем более, в эти дни Кошевому, честно говоря, было не до того.
Едва ли не ежедневно приходилось бывать в полицейском департаменте — Ольшанский должен был исписывать кипы бумаги про завершение следственных действий. Клим по убийству Евгения Сойки проходил одним из основных свидетелей, поэтому понятно, почему именно его показания были такими важными. Заодно согласился не выдвигать обвинения против Зенека Новотного. А поскольку хохлатый батяр после убийства Любчика Цыпы начал чирикать так, что не остановишь, Ольшанского вполне удовлетворило его признание: вор заставил пойти с собой чуть ли не силой, угрожал, шантажировал, а потом ткнул золотые часы как долю, велев не болтать языком. Кто там и как дальше подключился, из каких состояний оплатили дорогого адвоката — это уже Клима не интересовало.
Новотного вскоре выпустили, и за соучастие в краже батяр вряд ли будет строго наказан. Тем более что фигурируют в этом деле значительно важнее особы.
Шацкий после их ночного приключения так же исчез надолго. Клим думал проведать лекаря, поразмышлял, немного сложил, прикинул — и решил воздержаться. Перед тем Йозеф не раз и не два давал своей Эстер повод для взбучки и сейчас наверняка занят своим прямым делом — лечением зубов. Баклуши следует отрабатывать, и, положа руку на сердце, Кошевой с таким подходом соглашался. Поэтому одиночество и однообразие, которые заменили внезапно безумный водоворот событий, принял как должное.
Следует передохнуть и наконец собраться с мыслями. Потому что следователь рано или поздно оставит в покое, и придется браться за поиски возможностей зарабатывать на жизнь. Полученные от загадочного и могущественного Густава Силезского деньги не вечны, все равно закончатся.
Рассуждая так, Клим вышел однажды после обеда из кофейни Добровольского. Полюбил именно ее, ибо там даже несмотря на частый недостаток места почти всегда царила тишина, туда сходились со всего городского центра читать свежие газеты, а обсуждать новости выходили на свежий воздух, перемещаясь на Гетманские валы. Порой он тоже приобщался к уличным дебатам, правда — в основном заинтересованным слушателем. Прогуляться решил и сейчас, когда услышал знакомое, хоть давно забытое:
— Господин Кошевой!
Магда воскликнула на ходу, высунув голову из экипажа. Он как раз проезжал мимо Клима, и она дала вознице знак остановиться. Конечно, к нему выходить не собиралась. Поэтому Кошевой неспешно, демонстрируя в полной мере достоинство, двинулся за коляской, остановился, поднял шляпу, здороваясь:
— Пани Магда! Годы вас не видел!
— Не такие уж и годы.
Сейчас на ней снова было платье сдержанных цветов — темно-синее, с зеленым вышивкой, а шляпка впервые на его памяти совсем ничего не подчеркивала, не оттеняла, ни на чем не настаивала. Плохо разбираясь в женских привычках и манерах, Кошевой не готов сказать, может ли быть, что дама не надела шляпки, а просто нацепила — для видимости. Совсем не заботясь, модная она, сезонная, подходит к выбранной одежде и идет ли вообще. Магда выглядела не очень внимательной, и сложилось впечатление — мысли молодой вдовы Богданович где-то далеко, а Кошевого позвала из вежливости, увидев знакомую фигуру на тротуаре.
— Вы домой? Могу вас подвезти.
— Благодарю, пани Магда, — он снова приподнял шляпу. — Пройдусь, не стоит вам менять ради нашей случайной встречи своих планов.
— У меня пока нет никаких планов. По крайней мере таких, которые нельзя было бы поменять или отсрочить на лишних полчаса. Садитесь. Тем более, у меня к вам есть разговор.
Пожав плечами, Клим легко заскочил в коляску.
Его обдало тонким ароматом духов. Магда отодвинулась на противоположный край узорчатого бархатного сиденья. Или заметила, как он не очень прилично втянул ноздрями надушенный воздух, сразу решила очертить дистанцию.
Коляска двинулась.
— Давно хотела спросить, откуда вы так хорошо знаете польский.
— Если вас все время интересовало только это — прошу очень. Старший брат моей мамы, мой дядя, был женат на обедневшей польской аристократке. Потом он преждевременно умер, тетя Тереза переехала к нам. Меня воспитывала полька, поэтому ничего удивительного.
— Понятно.
Какое-то время ехали молча.
— Как в целом продвигаются дела? — спросила Магда, хотя особой заинтересованности своей персоной Кошевой не почувствовал.
— Смотря, про какие идет речь. Сейчас много разного. Но решение их никоим образом не повлияет на мое будущее тут, во Львове.
— И каким же вы его видите?
— Со времени нашего последнего разговора ничего принципиально не поменялось. Я юрист, адвокат. Надеялся найти службу по специальности, сделав ставку на поддержку пана Сойки. Пресловутого, оказывается. Теперь, я узнавал, требуется получить вид на жительство. Далее — подтвердить квалификацию, едва не заново учиться. Все это время, время и время, которое в ближайшей перспективе вряд ли обогатит. Поэтому придется затянуть пояс и перебиваться, как говорят в Киеве, с хлеба на квас.
— Вижу, настроены решительно.
— Иначе нельзя.
— Готовы ко всему. Странно, живете в большом городе, а воспринимаете себя в нем так, будто на необитаемом острове.
— О, вы преувеличиваете, пани Магда. Хотя спорить не буду, вы достаточно наблюдательная женщина. Ничего, все изменится. Я приму, меня примут.
— Радуюсь вашему настроению, пане Кошевой. Вы позволите немножко помочь вам? Мне почему-то после последних событий, о которых мы говорили, хочется принять участие в вашей судьбе. Чтобы не думали, что вокруг все чужие и все неприветливое.
— В мыслях не предполагал подобного. И не в моей ситуации крутить носом, показывая гонор. Поэтому буду благодарен.
Копыта размеренно цокали по мостовой.
— Пане Кошевой, давайте договоримся раз и навсегда…
— Давайте! О чем?
Магда наморщила носика. Теперь Клим заметил в ее руке неизменный веер, которым женщина машинально и без особого любопытства поигрывала.
— Ну, прежде всего о том, что я не очень люблю, когда прерывают.
— Простите.
— Во-вторых, раздражает, когда постоянно извиняются и благодарят, еще и расшаркиваются при этом. Словесно или иным способом, без разницы. Вы ничего не должны мне, я ничего не должна вам. Даже если бы так когда-нибудь сложилось, все равно заискивать и стелиться ковром передо мной не стоит. Я успела составить о вас достаточно высокое мнение, пане Кошевой. И пусть ноги целуют те, кто иным способом не годен склонить к себе других. Не говорю только про себя, но себя имею тут в виду. Согласны?
Веер качнулся влево. Кошевой молча кивнул, ожидая, что после такого Магда протянет руку, чтобы крепко пожать. Так делают, скрепляя сделку. Вместо этого она просто переложила веер из руки в руку.
— Благодарю за понимание. Дальше. Помните пана Казика? Простите, Казимежа Моравского? Вы встречались тогда, на Армянском…
— А, да-да. — Клим усердно воссоздал мыслительный процесс. — Кажется, советник городской рады?
Магда кивнула.
— Выпал случай тут недавно. Почему-то вспомнили о вас, и пан Моравский согласился посодействовать с видом на жительство. Как это происходит, не совсем имею понятие. Вы найдите время, зайдите в ратушу, там отыщите его. Примет вас с радостью, подскажет, как лучше действовать. При необходимости составит сопроводительную записку. С нами еще тогда был редактор Попеляк.
— Кругленький мужчина?
— Он. Попробуйте встретиться. Пан Януш обвешан знакомствами, словно старая кокетка кораллами. Среди бусин наверняка найдется одна или несколько, подходящих вам. Речь идет о практикующих адвокатах или нотариусов, к которым по рекомендации можно обратиться за практическими советами. Попеляк не откажет вам.
— Вас сейчас сам Бог послал.
— Оставьте Господа в покое. — Магда отмахнулась веером, помолчала. — Скажите, вы вспоминаете инженера Вишневского?
Клим напрягся, надеясь — женщина этого не заметит.
— Пан Адась, если не ошибаюсь?
— Адам, — сухо поправила Магда. — Странная и досадная история. Он уехал из Львова. Сказал — на какое-то время. Но, думаю, надолго. Если не навсегда.
— Вы скучаете из-за этого?
— Не из-за него, — Магда поправилась слишком быстро, хоть Климу могло это лишь показаться. — Конечно, мне не будет хватать одного хорошего друга. Но дело не только в нем. Вынужден перебраться дальше от Львова, в Трускавец. Городок сейчас, говорят, активно развивается, там обустраивают курорт и все, что должно быть вокруг. Пан Вишневский должен заниматься младшей сестрой. Несчастная Ядзя, ей лишь двадцать три…
— Заболела?
— Там другое. Горе не мое, хоть задело в свое время меня довольно впрямую. Помогала пану инженеру, чем и как могла. Собственно, он нуждался прежде всего в моральной поддержке, материальную сторону перенимал мало… Но сейчас девушке стало совсем плохо. Врачи говорят — процесс неотвратимый. Спасти может разве что полный покой. Лучше Трускавца пан инженер ничего не нашел. Не может допустить, чтобы за Ядзей ухаживал чужой, нанятый человек, а он отстранится и будет платить деньги. Благородно с его стороны. Хотя, повторюсь, мне будет его не хватать.
По привычке коснувшись века, Кошевой спросил, глядя мимо собеседницы:
— Чем она болеет?
— Нервы, — коротко ответила Магда. — Времена сейчас непростые, новый век слишком уж бурно начался. Даст Бог, со временем успокоится. Ну, вот и ваша Лычаковская.
Действительно, за разговором не заметил, как экипаж добрался до места.
— Вы запретили благодарить, но позвольте нарушить запрет, — улыбнулся Клим и встал, собираясь выходить.
— Сядьте.
Это прозвучало резко, как настоящий приказ.
Клим покорился. Теперь Магда уже не играла веером, положила перед собой на колени.
— У меня есть определенные возможности.
— У вас большие возможности во Львове, пани Магда.
— Не безграничны. Но кое-что могу. Например, организовать, чтобы на вашу особу сделали запрос по соответствующим инстанциям.
— Вы узнали обо мне что-то страшное или неприличное?
— Кошевой Климентий, сын известного в Киеве юриста. Учился в университете Святого Владимира. В начале июня этого года был арестован охранным отделением по подозрению в антигосударственной деятельности. Причина — защищал организаторов нелегальной типографии, где незаконным способом тиражировалась запрещена литература. В частности, книги и газеты, которые пропагандируют национальное движение и призывают к борьбе с притеснениями украинцев по национальному признаку.
В горле стало совсем сухо.
— Это была учебная литература. Книги и газеты просветительского характера.
— А еще в типографии хранились печатные шрифты и огнестрельное оружие.
— Револьвер и две самодельные бомбы ребятам подбросил провокатор.
Марта пропустила его слова мимо себя.
— Вы неделю провели в заключении. Стараниями отца вас выпустили под обязательство в четко определенный срок покинуть Киев. Как я понимаю, вы, пане Кошевой, решили вообще покинуть территорию Российской империи. Стать эмигрантом, не так ли?
— Не политическим. Пока хочется держаться подальше от политики. Любой.
— Видите ли, не стоит зарекаться, особенно — в наше время. Мне тоже не нравится политика. Но сейчас она таки имеет какое-то значение для каждого из нас.
— Посмотрим. Для чего вы мне сейчас решили рассказать про меня?
— Без задней мысли, пане Климентий Кошевой.
— Клим.
— Магда.
— Так для чего вы рассказали мне про меня, Магда?
— Потому что вы ничего не рассказывали мне о себе, Клим. Думаю, как-нибудь расскажете. Вряд ли эта наша встреча — последняя.
Кошевой вышел.
Стал на тротуар, проводил взглядом экипаж, двинулся Лычаковской вверх.
И потом долго ломал себе голову, что это было: демонстрация силы, наступление или не очень скрытые намеки.
Все знаю, весь ты у меня на ладони.
Но никому ничего не скажу.
Или — ты весь мой…
И все лишь начинается.
Киев,
август-сентябрь 2014 г.
Литература:
1. Генрих Ян Пауль. Lemberg — Lwov — Львов. Роковой город. — К.: Изд-во Жупанского, 2010.
2. Козицкий Андрей, Белостоцкий Степан. Криминальний мир старого Львова. — Львов, Афиша, 2001.
3. Лемко Илько. Львов и европейскость. — Львов, Априори, 2013.
4. Яворский Франтишек. Львов давний и вчерашний. — Львов, Центр Европы, 2014.
Примечания
1
Упоминается государственная Винникская табачная фабрика, основанная в конце XIX века в городе Винники, одном из пригородов Львова. Фабрика стала основным промышленным предприятием города, которое давало рабочие места и способствовало развитию и развитию Винников.
(обратно)2
Часть улицы Лычаковской (первое название Глинянская), которая с 1789 г. стала главной артерией Лычаковского предместья. В 1894 г. на ней была проложена линия электрического трамвая. Нижний Лычаков и Верхний Лычаков условно разделяет костел Святого Антония.
(обратно)3
Королевство Галиции и Володомерии (Лодомерии) — коронный край, составная часть Габсбургской монархии, Австрийской империи и Австро-Венгрии в 1772–1918 годах. Объединяло исконные украинские земли (историческую Галичину), которые стали называть Восточной Галичиной, и земли Малопольши (Западная Галичина).
(обратно)4
Батяры — представители львовской городской субкультуры, которая существовала с середины ХІХ до середины ХХ века. Название «батяр», вероятно, произошло от венгерского «betyar», что означает лицо, которое имеет странные взгляды и делает непредсказуемые поступки, авантюриста, повесу. Зародились на Лычакове и Погулянке, в парке «Погулянка». Объединялись вокруг "садочков" — пабов при местных пивоварнях. Сначала батяры были хулиганами, повесами и карманными ворами. Впоследствии они перестали воровать и дебоширить. Зато всячески начали высмеивать «старую утку» Австро-Венгерскую империю.
(обратно)5
«Венская кофейня» — одна из старейших кофеен Львова, основанная Карлом Гартманом. В начале ХХ века была излюбленным местом встречи представителей городских деловых кругов, в том числе — дельцов «черного рынка».
(обратно)6
Фирма Бачевских, основанная в 1782 году близь Львова, считается древнейшей ликеро-водочной фабрикой Польши. Алкогольная продукция, изготовленная по их технологии, была гораздо нежнее и прозрачнее, чем большинство других марок. Это создало большую популярность компании не только в Львове, но и в других частях Австрийской империи. Компания получила от Царского двора право на престижную марку "Имперский Орел". Впоследствии императорский двор также предоставил компании право титуловаться K. и. K. Hoflieferant, то есть "поставщик царского и королевского двора".
(обратно)7
Регулярное движение второго в Украине и четвертого в Австро-Венгрии электрического трамвая было открыто в Львове 31 мая 1894 года.
(обратно)8
Ямская — улица в Киеве, проходит мимо Байкового кладбища, тогда — городской окраины. В описанный период была известна как киевская «улица красных фонарей». Описана в повести А. Куприна "Яма".
(обратно)9
Государственные учреждения в Российской империи буквального соответствия на украинском языке не имеют. К ним относятся не только кабинеты чиновников, но и приемные, канцелярии и т. п.
(обратно)10
Пассажирские поезда Российской империи имели вагоны трех классов, которые отличались по цветам. Синий соответствовал I классу, желтый — II классу, зеленый — III классу. Почтовый вагон имел коричневый цвет.
(обратно)11
«Русское слово» — дешевая ежедневная газета Российской империи, издавалась с 1895-го по 1918 год.
(обратно)12
«Киевские губернские ведомости» — официальная правительственная газета Киевской губернии (Российская империя). Издавалась на русском языке. Существовала с 1837-го по 1917 год, с 1866-го выходила с периодичностью три раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам.
(обратно)13
Строительство бальнеологического курорта в Трускавце, городе в 100 км от Львова, началось в 1836 г. С 1895 г. курорт активно развивается, модернизируется, становится известным и модным.
(обратно)14
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ» — стихотворение российского поэта Михаила Лермонтова (1814–1841), датированное 1840 или 1841 г. Написано им во время второй и последней, как оказалось, ссылки на Кавказ. Было неофициально запрещено для публикации. Также есть предположение, что авторство Лермонтову приписывают русофобы.
(обратно)15
Маршруты львовского трамвая обозначались двумя латинскими буквами — первыми буквами названий конечных остановок по-польски. В частности, D — главный вокзал (пол. Dworzec glówny), Н — проспект Свободы (остановка называлась «улица Гетманская» — тогдашее название проспекта Свободы; пол. Нetmanska).
(обратно)16
Внимание! Здесь и далее в романе герои одинаково свободно общаются на польском, немецком, украинском языках, а также используют русский и идиш. Эпизодическое употребление любых других языков будет приводиться в отдельном переводе.
(обратно)17
«Ванька» — бытовое название уличных извозчиков в Российской империи.
(обратно)18
«Жорж» — отель во Львове, яркий пример архитектуры фешенебельных отелей XIX — начала XX века. Один из старейших отелей города. Со дня основания неоднократно реконструировался.
(обратно)19
Клепаров — район Львова, в описанные времена рабочий пригород. В состав города вошел в 1931 году. Был известен деревьями черех — гибридом вишен и черешен.
(обратно)20
Нижние Валы — центральная улица Львова, они же — Гетманские Валы, нынешнее название — проспект Свободы.
(обратно)21
Кумпель — старольвовское слово, которое означает «товарищ», «коллега», в немецком оригинале — «шахтер».
(обратно)22
"Курьер Львовский" (Kurjer Lwowski) — ежедневная польская газета, которая издавалась во Львове с 1883-го по 1935 год. Длительное время в ее редакции работал украинский писатель, классик украинской литературы Иван Франко (1856–1916).
(обратно)23
Кремпуватися (диал.) — стесняться.
(обратно)24
Рыночная площадь, центральная площадь Львова, исторический центр города.
(обратно)25
Высочайший Манифест 17 октября 1905 года, подписанный русским царем Николаем II на волне революционных протестов. Расширял права и свободы граждан Российской империи. Был фактически отменен 3 июля 1907 года, когда Николай II объявил досрочный роспуск Государственной думы и введение изменений в избирательной системе.
(обратно)26
Французский писатель и журналист Морис Леблан (1864–1941), известный своими произведениями о полицейских и их приключениях. Среди прочих, создал образ джентльмена — грабителя Арсена Люпена.
(обратно)27
Кракидали — район Львова, в то время — одна из окрестностей, которая начиналась сразу за Краковским базаром. Был местом компактного проживания евреев. Район считался одним из самых бедных в городе.
(обратно)28
…на Бульварно-Кудрявской… — улица в Киеве, теперь носит имя одного из активных большевистских деятелей Вацлава Воровского. До 1917 года там располагалась штаб-квартира Киевского охранного отделения, политической полиции Российской империи.
(обратно)29
Упоминается дело против еврея Леопольда Хильстнера, обвиненного в совершении ритуальных убийств. В марте 1899 года в Богемии (нынешняя Чехия) была убита чешская девушка-католичка Агнешка Грузова. По подозрению арестовали 23-летнего бродягу-еврея Хильстнера. Во время следствия он свою вину не признал. Зато всплыли факты, которые позволили обвинить Хильстнера в еще одном убийстве, совершенном годом ранее. Процесс длился в течение 1899–1900 гг., сопровождался еврейскими погромами в Богемии. Хильстнера признали виновным. Смертную казнь заменили пожизненным заключением, в 1918 году он был помилован.
(обратно)30
Фейгале (идиш) — маленькая птичка, ласточка.
(обратно)31
Мишугец (идиш) — ненормальный, сумасшедший.
(обратно)32
Шикец (идиш) — молодой человек, юноша.
(обратно)33
Герутене (идиш) — растяпа.
(обратно)34
Русины — украинское население Буковины, Галичины и Закарпатской Украины. В конце XIX — начале XX века. термин рутены (лат. Rutheni, Ruteni) — латинизированное форма названия украинцев и белорусов, а также этнических групп украинцев в Австро-Венгерской империи. Использовался в Австро-Венгерской империи как этноним украинцев и их подгрупп или близко родственных народов.
(обратно)35
Москвофилы — языково-литературная и общественно-политическое течение среди украинского населения Галичины, Буковины и Закарпатья в 1819 — 1930-х гг. Отстаивало национально-культурное, а позже — государственно-политическое единство с русским народом и Россией.
(обратно)36
Журек — традиционное польское блюдо, кислый густой суп с добавлением муки и яйиц, имеет много разновидностей. Еще называют «суп вчерашнего дня» и считают хорошим средством от похмелья.
(обратно)37
«Дело» — первая, самая старая и на протяжении многих лет единственная украинская ежедневная (с 1888 г.) газета в Галичине. Выходила с 1880-го по 1939 год.
(обратно)38
Использована настоящая батярская уличная песня. Источник: Чорновол Игорь. Рецензия на: Urszula Jakubowska. Mit lwowskiego batiara. Warszawa: Instytut BadaД Literackich, 1998 // Украинский гуманитарный обзор. — Киев, 2002. — Вып. 7. — С. 254–265.
(обратно)39
Квач (жарг.) — арест.
(обратно)40
Клингер (жарг.) — часы.
(обратно)41
Бригидки (пол. Brygidki) — старейшая действующая тюрьма во Львове. Расположена на улице Городоцкой, 24, в здании, перестроенном из старинного римско-католического монастыря женского ордена Святой Бригиды.
(обратно)42
Андрусь
(обратно)43
…шо ты фуня строгаешь? (разг.) — Показываешь гонор.
(обратно)44
…не будь такой цваный! (разг.) — Высокомерный.
(обратно)45
Анцуг (диал.) — костюм.
(обратно)46
Альбо на колее? (разг.) — На железнодорожном пути? Работа на колее (железной дороге) считалась престижной не только в Австро-Венгерской империи.
(обратно)47
Біня — любовница (?).
(обратно)48
"Русская народная партия" — первая сугубо политическая организация галицких москвофилов, создана в 1900 г. по инициативе Русской Рады. Имела поддержку со стороны наместника и польских партий, в частности — при выборах в парламент и сейм, против растущего украинского (русинского) народного движения.
В партии оказались сразу два направления: старо- и новокурсники (старорусины и русофилы), что в 1909 г. довели ее до окончательного раскола на две группы — умеренную и радикальную.
(обратно)49
Дудикевича. — Дудикевич Владимир Феофилович (1861–1922), юрист, адвокат, политический деятель Галичины, идеолог москвофильства, тяготел к радикальному течению; Марков Дмитрий Андреевич (1864–1938) — общественный деятель, публицист, один из идеологов москвофильства в Галичине, единомышленник и соратник Дудикевича. После начала Первой мировой войны был обвинен в государственной измене.
(обратно)50
…в самом конце Богдановки… — местность во Львове, в упомянутое время — пригород. Основана на месте имения армянской семьи Богдановичей. В 1861 году, когда прокладывали первую в Украине железную дорогу «Львов — Перемышль», часть Богдановки заняли колеи, место проживания железнодорожников, которые традиционно считались самыми богатыми представителями львовского рабочего класса.
(обратно)51
Габорио Эмиль (1832–1873) — французский писатель, один из основателей детективного жанра. Повлиял на Роберта Л. Стивенсона, Уилки Коллинза, Артура Конан Дойла, а также — Эдгара Р. Уоллеса, «отца» произведений про гигантскую обезьяну Кинг-Конга.
(обратно)52
Мсье или господин Лекок (Monsieur Lecoq) — герой цикла детективных произведений Габорио, полицейский.
(обратно)53
…лечится на Кульпаркове. — Местность во Львове, чаще всего упоминается в связи с расположенной там психиатрической больницей. Построена в 1875 г. определением Галицкого краевого сейма. В больницу направлялись больные со всего коронного края. Врачебная помощь душевнобольным в этот период ограничивалась главным образом функцией удержания.
(обратно)
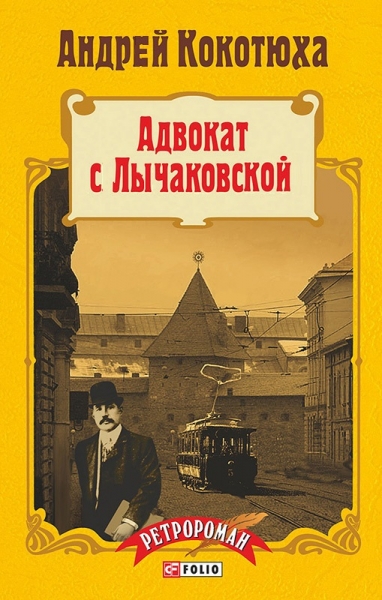






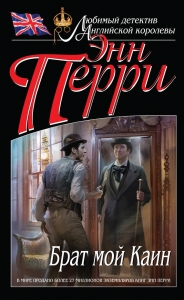
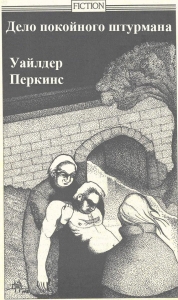
Комментарии к книге «Адвокат с Лычаковской», Андрей Анатольевич Кокотюха
Всего 0 комментариев