Тимур Максютов Атака мертвецов
…Тигр убивает ради еды, а хорёк – для забавы;
но даже вонючий зверёк не губит себе подобных.
Человек убивает во имя денег или от скуки.
Раньше – глядя врагу в глаза; теперь же хитроумные
огненные стрелы и горшки, извергающие ядовитый дым, —
вот его гнусное оружие, недостойное воина…
Бхогта-лама. Багровый свиток, или Беседы под виселицейЧасть первая Пчелиный царь
Глава первая Имя
30 декабря 1880 г., крепость Геок-Тепе, Ахал-Текинский оазис
– Что может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов российская земля рождать. И инженеров тоже, – улыбнулся поручик, – приветствую господина пионера. Рыть будете?
– Каждому – своё. Кому героически штурмовать текинскую твердыню, а кому – копать. Всенепременно будем. Проводите?
– Как и должно гостеприимному хозяину. Добро пожаловать в Третью Закаспийскую роту.
Инженер-подпоручик Ярилов кивнул и пошёл вслед за ротным командиром.
– Припозднились вы, стемнеет скоро.
– Так все редуты обходим. Присматриваем место для минной галереи. Вот только к вечеру до вас добрался, – ответил Ярилов.
Пехотный поручик обернулся к гостю и хотел что-то сказать, но не успел: наступил на ведро, оставленное в траншее. Загремела жесть, а следом – брань:
– Фельдфебель! Что за бардак? Ты бы ещё самовар сюда приволок.
– Виноват, ваше благородие, сей секунд исправим, – начал оправдываться седоусый вояка.
Ярилов пошёл дальше. Разглядел ступеньки в стенке редута, поднялся.
Вот она, Геок-Тепе, твердыня непокорных текинцев. Стены из кирпича-сырца, высушенного на солнце. Непрочность стен компенсируется их чудовищной толщиной; снарядами не взять, от лёгкой артиллерии толку мало, а тяжёлые осадные орудия как тащить через пустыню? Потому генерал Скобелев, начальник экспедиции, не особо рассчитывает на канониров и распорядился делать подкоп, закладывать мину, подрывать цитадель из-под земли.
Инженер достал блокнот, начал делать пометки карандашом. Вспышку заметил лишь краем глаза и не успел придать значения.
Будто невидимое чудовище ударило тяжёлой лапой по голове: фуражку сорвало, забросило невесть куда; в глазах сверкнули искры, как от бенгальского огня…
…от бенгальских огней хотелось зажмуриться. Вокруг рождественской ёлки танцевали какие-то странные люди в полосатых халатах и лохматых папахах, размахивая саблями.
– Тащите его сюда. Фельдшера бегом.
Жена улыбнулась и протянула ребёнка: поцелуй, мол. Ярилов осторожно принял внезапно тяжёлый свёрток, заглянул: вместо головы – двухфунтовая граната и фитиль горит…
– Крови-то нет, считай. Повезло, по касательной.
Хлопки по щекам.
– Иван Андреевич!
Инженер открыл глаза: над ним склонились тёмные силуэты, тонкой струйкой лилась вода из фляги на лицо. Спросил:
– Где? Почему граната?
– Очнулся, слава богу, – выдохнул поручик, – и никакая не граната. Пулей слегка оцарапало. Что же вы, друг мой, на бруствер полезли, да ещё в белой фуражке?
Ярилов сел: тут же всё поплыло перед глазами. Схватился за стенку траншеи.
– Тихо, тихо. Фельдшер скоро придёт, носилки готовы. Отнесём вас в лазарет.
– Нет. Не надо в лазарет. Уже всё прошло.
Не хватало ещё в самом начале осады оказаться вне дела! Иван собрался с силами, поднялся, опираясь на чьё-то плечо. Сказал:
– Странно, я выстрела не слышал.
– Так свою пулю и не услышишь, – пояснил поручик, – коли свистнула – значит, мимо.
– Метко стреляют, черти. Сколько тут? Саженей двести?
– Сто восемьдесят до крепостной стены. Туркмены – отличные стрелки. Да ещё ружья у них наши имеются, трофейные. Новейшие, системы Бердана. Моё упущение, не успел вас предупредить, – сказал ротный.
– Сам виноват, впредь буду осторожнее.
– Иван Андреевич, уверены, что врача не нужно?
– Абсолютно. Мне бы зарисовать, что увидел.
– Пойдёмте в блиндаж, там светильник имеется.
Достал перочинный нож, очинил грифель. Точными движениями начал набрасывать по памяти план текинского укрепления, ставить размеры.
Откинув полог, просунул голову усатый фельдфебель:
– Ваше благородие, велите подать чай? Самовар вскипел.
– Давай.
Ротный поставил ободранные кружки, жестяную коробку из-под ландрина. Пригласил:
– Угощайтесь, Иван Андреевич. Небогато, по-походному. Халва из Чекишляра. Не «Жорж Борман», разумеется, но есть можно.
Инженер-подпоручик долго грел руки горячей кружкой. Пехотинец заметил:
– По ночам холодно. Печек не хватает, нижние чины мёрзнут. Скорей бы уж штурм.
– За Михаилом Дмитриевичем дело не станет. Думаю, пять дней, от силы – семь, и пойдём на приступ.
– Да уж, с генералом нам повезло, – согласился поручик, – пора бы эту болячку текинскую выковырять. Но лихой народ, скажу вам. Постоянно вылазки. Вчера-то слышали?
– Про второй редут? Да, полсотни погибших. И горную пушку утащили.
– И полковое знамя, – кивнул поручик, – позор неслыханный. Скобелев собирал офицеров. Обещал пока не докладывать в Петербург, дать возможность исправиться, в штурме вернуть знамя, смыть конфузию. А то ведь расформируют полк. Из-за каких-то дикарей.
Поручик вздохнул. Поднялся, накинул шинель.
– Пойду проверю посты. А вы, Иван Андреевич, оставайтесь-ка у нас. С рассветом закончите рекогносцировку, чего вам туда-сюда мотаться? Вот и кровать походная в вашем распоряжении.
– А сами как?
– Всё равно спать не буду. Не дай бог, текинцы напасть решатся, надо быть начеку. Так что располагайтесь.
Ярилову вдруг страшно не захотелось брести через холодную пустыню добрых пять вёрст до штаба. Голова всё ещё кружилась, а натруженные за день ноги гудели. В блиндаже уютно, потрескивает в углу железная печурка…
Кивнул. Разулся, расстегнул и стащил портупею. Мундир снимать не стал: улёгся поверх солдатского одеяла, накрылся шинелью.
Лёг – в голове сразу закружилась метель. Всё же туркменская пуля навредила. Видимо, лёгкая контузия. Прикрыл глаза; вновь увидел рождественскую ёлку с вифлеемской звездой наверху. Завтра Новый год. В Петербурге снег – чистый, белый. Как там Машенька? Срок уже родить, а писем не было давно: почта отстала, не поспевает за стремительным генералом Скобелевым и его отрядом. Везли корреспонденцию на лихих тройках по заснеженным приволжским степям, потом погрузили рогожные опечатанные мешки на шхуну в Астрахани, если лёд ещё не встал. И плыли по свинцовым волнам Каспия до Красноводска, а там перенесли в вагоны новенькой Закаспийской железной дороги. После нагрузили верблюдов и отправили сквозь мёртвую зимнюю пустыню…
Вот он шагает, трудяга диких пространств, переставляя мягкие копыта, оставляя в песке круглые следы. Сморгнул огромными глазами, замер, услышав далёкий вой. Всхрапнул испуганно.
Неужто волки? Вой всё ближе, всё громче. Верблюд раскрыл пасть, обнажил жёлтые пеньки стёртых жёсткой колючкой зубов и проревел:
– Вставай, вашбродь! Текинцы напали!
* * *
Портупею накинуть не успел, как и надеть сапоги. Выскочил босиком, в одной руке сабля с намотанной на ножны портупеей, в другой – тяжёлый «Смит-Вессон».
Вокруг, в темноте, шла драка: скрежетало железо, редко вспыхивали выстрелы. Тяжёлое дыхание, вскрики, всхлипы и – нескончаемый вой:
– Аллах акбар!
Глаза ещё не привыкли, растерялся: где свои, где туркмены – не ясно. Разглядел белую папаху, разрядил револьвер в упор: текинец завизжал, рухнул под ноги. Отскочил и наступил на мягкое: присел на корточки, потрогал рукой – мокрое, горячее.
Хлопнула, рассыпалась искрами осветительная ракета: запрыгали тени, превращая картину драки в нечто невозможное, дикое, бредовое.
Пригляделся: под ногами лежал ротный, поручик Яновский, с жутко вывернутой шеей, от лица осталась половина.
Распрямился и едва успел отбить ножнами удар: здоровенный туркмен вновь занёс кривой клинок. Время растянулось, как стекающая со свечи восковая капля: вытянул руку, дёрнул за спусковой крючок – осечка! Нащупал эфес, рванул саблю – но она застряла, не поддавалась – мешали ремни портупеи…
Оскаленная рожа текинца вдруг качнулась вбок: на бритую голову обрушилась толстая палка.
– Не зевай, вашбродь!
Артиллерист вновь размахнулся банником, добавил уже по лежащему.
Ярилов отбросил предавший револьвер, выдернул наконец-то саблю. Прохрипел:
– Спасибо, голубчик.
– Рад стараться, – хмыкнул бомбардир и побежал к батарее, вздымая своё грозное оружие.
Ярилов отмахивался сколько мог: всё вокруг заполнили воющие тёмные силуэты, лишь сверкали вражьи клинки. Отступая, упёрся спиной в траверс. Рубанул – попал, закричали. Но отшатнуться не успел: ударили чем-то по голове, навалились сверху, зверски стянули руки за спиной так, что затрещали суставы.
Подняли, потащили: Ярилов, крепко взятый под локти, едва перебирал босыми ногами.
Туркмены заполнили редут: резали раненых, собирали трофеи.
Остатки Третьей Закаспийской, отстреливаясь, отходили ко второй линии осадных укреплений.
* * *
Всю ночь – скрючившись на промёрзшей земле, с мешком на голове. Разбитые ноги саднило, связанные руки затекли, страшно мучила жажда; Ярилов впадал в бредовое забытьё, из которого его выдирал то крик верблюда, то пинок охранника. Эти удары не были особо болезненными, но унижали и, главное, были совершенно неожиданными. В полной темноте оставалось, сжавшись, ждать очередного.
Сколько прошло времени – неизвестно. Разбудил крик муэдзина, потом – тихий разноголосый гул молящихся: казалось, будто далёкая морская волна ползёт с шипением на песок и откатывается, обессилев.
Подняли на ноги, содрали мешок. Инженер-подпоручик, щурясь от яркого солнца, не сразу разглядел высокого старика с неряшливой бородой, закрывающей грудь: на нём был такой же драный халат, как на остальных текинцах, но зато украшенный золотыми бляхами кожаный пояс с богатым кинжалом в драгоценных ножнах. Толпящиеся вокруг туркмены кричали, толкали инженера, хохотали, скаля зубы – ослепительно-белые на фоне сожжённых солнцем лиц.
Вытолкнули вперёд черноглазого в лохмотьях, с железным обручем на шее. Раб сказал:
– Я – толмач. Спрашивают, как тебя зовут, кто ты.
Ярилов молчал, мучительно вспоминая, как надлежит вести себя в случае пленения аборигенами. Переводчик заметил тихо:
– Лучше говорить. Зарежут.
– Ярилов, инженер-подпоручик при штабе генерала Скобелева.
Толмач перевёл: туркмены загудели, обсуждая. Высокий старик прикрикнул: все сразу замолчали, склонив головы. Ткнул корявым пальцем в погон Ярилова, прохрипел гортанно. Переводчик сказал:
– Сердар Тыкма спрашивает: ты что, старший над землекопами и лесорубами? Почему топор и лопата?
– Эмблема Инженерного корпуса.
Старик выслушал, пожал плечами. Проговорил что-то. Тут же толпа зашевелилась, раздалась: к сердару подвели другого. Когда с головы пленного сняли мешок, Ярилов узнал пушкаря, спасшего его в ночном бою.
Лицо артиллериста было всё в синяках и запекшейся крови, одну руку он неловко придерживал второй: видать, отбивался отчаянно. Ярилов даже почувствовал некий стыд за то, что сам при пленении пострадал гораздо меньше.
На вопросы солдат ответил не сразу: кривился, сплёвывал бурым. Текинцы дали под рёбра. Тогда представился:
– Агафон Никитин, бомбардир шестой батареи.
Туркмены загудели радостно, ухмыляясь. Раб пояснил:
– Очень хорошо, мы давно хотели пленить топчи, пушкаря. У нас орудия ваши, захваченные. Сейчас тебя отведут, будешь из них по русским стрелять.
Агафон усмехнулся. Сказал:
– Перетолмачь, коли сумеешь.
И разразился такой бранью, что Ярилов начал краснеть, хотя сам любил иногда ввернуть солёное словечко.
– …а басурманскую маму твою чтобы ишак полюбил в самый казённик, – завершил тираду бомбардир. Соорудил дулю и ткнул в лицо сердара.
Старик, не дожидаясь перевода, завизжал. Выхватил кинжал и рубанул: кисть артиллериста упала в пыль, так и не разогнув кукиш; хлынула кровь. Никитин заревел, бросился на туркменского полководца, но ударить не успел: на него навалились, принялись топтать, резать…
Раб дёрнул замершего Ярилова за рукав:
– Пошли, пошли.
* * *
Стараясь не слышать хрип умирающего и вой убийц, инженер оглядывал внутренность крепости: кибитки, низкие глинобитные строения, костры; всё в жуткой тесноте, грязи и беспорядке. Очень много женщин и детей; мальчишки, увидев русского офицера, сразу набежали, закричали обидное; норовили пнуть, плюнуть, бросить куском кизяка в лицо. Раб отгонял их, но безуспешно: так и шли в сопровождении кривляющейся и вопящей свиты. Текинцы в ветхих халатах, в лохматых папахах, смотрели зло, сквозь зубы шипели проклятья. Ружей мало, одно на пятерых, и те – древние дульнозарядные мушкеты с маленькими, непривычно изогнутыми прикладами; пороховая полка на таких – совсем близко от лица, только и гляди, чтобы нос не обжечь при выстреле. Лишь изредка можно было увидеть современную трофейную винтовку.
Текинцы, не желая покоряться Белому Царю, выстроили эту крепость из глины и спрятались за её стенами в надежде отбиться, как это уже удалось им полтора года назад, когда неуспешная экспедиция генерала Ломакина едва не кончилась полной катастрофой. И сгрудилось на небольшом пространстве их очень много: десятки тысяч, наверное.
А над глиняной стеной, вдали, синел хребет Копетдага: будто разлеглось древнее огромное пресмыкающееся, погрузившееся в тысячелетний сон…
Подошли к яме, накрытой ржавой железной решёткой. Одноглазый туркмен с лицом, изуродованным сабельным ударом, оттолкнул раба-переводчика. Грубо схватил Ярилова, вытащил кривой нож.
Инженер понял: «Всё. Отмучился». Поглядел в бледное зимнее небо, зашептал:
– Отче наш, иже еси на небесех…
Тюремщик задрал связанные затёкшие руки; полоснул клинком, разрезая верёвки. Оттащил заскрипевшую решётку. Пнул Ярилова: инженер не успел сгруппироваться, полетел в наполненную нестерпимой вонью темноту, неловко размахивая непослушными конечностями. Рухнул, ударился коленями, застонал.
– Эй, полегче, дитя Востока! – крикнул кто-то совсем рядом.
Склонился над инженером:
– Живы? Ну, уже хорошо. Добро пожаловать в наши нумера. Позвольте представиться: Жилин, инспектор Министерства путей сообщения.
Ярилов сел, опершись спиной на обмазанную глиной стену. Разглядел в полутьме худое, заросшее неряшливой бородой лицо, разодранный мундир путейца.
Яма была едва в сажень с четвертью диаметром, до верха – не меньше двух, не допрыгнуть. Грязные стены, дырявый кувшин; вместо постели – сгнившая солома. И жуткий смрад. Поморщился:
– Атмосфера тут…
– Да, амбре – лошадь свалит. Но ничего, привыкнете. Ватерклозетов, как вы понимаете, не предусмотрено. Всё под себя, под себя. Впрочем, особо и нечем: кормят здесь весьма нерегулярно. Словом, не «Англетер», – констатировал чиновник, – располагайтесь. Места теперь достаточно, а то в сентябре нас тут было восемь человек, не повернуться. Кого, как меня, под Чекишляром поймали, а некоторых под Самурским укреплением.
– А куда все делись? – спросил Ярилов, озираясь.
– Обыкновенное дело. Преставились, конечно. Многие ранеными были, а хирургов у наших отельеров не предусмотрено. Антонов огонь – и готово. Лежали тут, по трое суток текинцы покойников не забирали. Жарища, вонища, мухи.
Ярилов зажмурился, едва сдерживая позывы рвоты. Пробормотал:
– Вы так радостно об этом рассказываете.
– А как же, – захихикал Жилин, – сам жив – вот и рад. Тут, знаете ли, пессимистам и ворчунам не место. Некоторые возмущались, требовали переговоров об освобождении, на стены лезли в буквальном смысле. А у нашего циклопа разговор короткий: фузею свою зарядит – да в башку. Все вокруг в мозгах и крови, а бунтовщик лежит без головы, молча. Так что не советую. Я вот четыре месяца здесь и дождался-таки вашего прихода. Теперь штурм скоро, не так ли?
– Так, – кивнул инженер.
Подумал: действительно, чем чёрт не шутит. Может, и удастся выжить. Ведь держат текинцы зачем-то пленных в живых: возможно, для обмена или выкупа. Умирать никак нельзя: в Петербурге Маша на сносях…
Додумать не успел. Наверху закричали мальчишки, начали швырять всякую дрянь: камешки, куски засохшего дерьма; Ярилов едва успел прикрыть голову от внезапной бомбардировки. Потом забурчал низким голосом тюремщик: видимо, отгонял нахалят.
Один камень угодил в груду соломы; она внезапно зашевелилась, показалось грязное лицо с безумными глазами, едва видными сквозь длинные спутанные волосы. Незнакомец заревел низко, утробно, словно зверь. Погрозил кулаком в небеса – и вновь закопался в гнильё.
Ярилов отшатнулся:
– Нас тут трое? Кто это?
– Скорее, два с половиной. Робинзон не в счёт. Давно лишился рассудка, бедолага. И человеческой речью разучился владеть. Мычит только.
– Робинзон?
– Ну, так его старожилы прозвали, которые до меня попали в зиндан. А он тут очень давно, по всей видимости. И вместо одежды – лохмотья, вроде казачий чекмень, да точно принадлежность не определишь. Вы его не трогайте – он и не опасен. Пить хотите?
– Весьма.
Жилин протянул кувшин:
– Там на донышке ещё есть, хватит на глоток.
Вода отдавала ржавчиной и пахла лошадиной мочой; Ярилов не выдержал, согнулся пополам. Рвало мучительно, плечи тряслись.
– Что же вы, друг мой, – увещевал путеец, – держите себя в руках. Человек – животное простое и не к такому приспособится.
* * *
На следующий день начался обстрел: грохотали батареи, разрывалась над крепостью шрапнель. Ярилов слушал, и не было прекраснее музыки. Пояснял гражданскому Жилину:
– Это лёгкая полевая пушка, восемьдесят семь миллиметров. Гранатами садит по стене. А вот, слышите, стрекот?
– Да, – кивал чиновник, – словно швейная машинка тарахтит.
– Картечница Фаррингтона. По четыреста выстрелов даёт в минуту.
– Это же какое разорение, такую прорву патронов жечь, – качал головой Жилин, – впрочем, лишь бы на пользу. А это что за вой?
– Ракеты. Со станков пускают. Славно, славно! Взялись за дело.
Обстрел сопровождался неясными криками: текинцам негде укрываться от шрапнели, и потери в набитой битком крепости были страшными. Один раз случился инцидент: наверху вдруг завопили, завизжали на разные лады женские голоса. К решётке припала туркменка, крича проклятия; в руках её был свёрток из лохмотьев. Неожиданно на лицо Ярилова упала тёплая капля. Вытер, поглядел на ладонь: кровь. Из свёртка выпала детская ручка: крохотная, безжизненная, она болталась в такт судорожным движениям женщины. Одноглазый тюремщик оттащил несчастную от решётки. Но крик обезумевшей матери ещё долго бился в голове инженера, выворачивал душу…
* * *
Утро всегда начиналось одинаково: рассвет предварял призыв муэдзина, сигнал к первому намазу. Но двенадцатое января 1881 года пришло иначе.
Грохнуло так, что спящий на сгнившей лежанке Ярилов подлетел на добрый аршин; заложило уши. Всё заволокло пылью: невозможно было разглядеть вытянутую руку; и тут же загремела артиллерия, затрещали ружейные залпы.
Оглохший Жилин кашлял от набившейся в рот пыли, хватал Ярилова за мундир и кричал:
– Умоляю, голубчик, скажите: это штурм? Штурм?
– Подорвали камуфлет. Теперь всё, – ответил инженер и бессильно опустился на колени, закрестился.
Перекрывая вопли туркмен, накатывало, как грозовой фронт, рвущееся из тысяч глоток «ура».
Жилин плакал. Робинзон сел на соломе и вертел головой во все стороны, не понимая.
Стены зиндана странно посветлели. Ярилов пригляделся и понял: от сотрясения многолетние наслоения грязи отвалились, обнажив первозданную глину, а на ней – неясные узоры. Присмотрелся, потрогал пальцами…
– Жилин, глядите-ка! Здесь, похоже, надпись. На русском.
Чиновник, продолжая откашливаться, подполз. Прочёл:
– Ав… Это что? Ага, «глаголь». Значит, «август».
Ярилов стёр рукавом остатки грязи. Получилось:
Августа тридцатого дня, 1879 года от Р. Х. Попал в текинский плен. Хорунжий 2-й казачьей сотни Николай И…
Надпись не была закончена: буква «И» обрывалась кривой царапиной, будто соскользнула рука.
– Это же надо! Полтора года назад, считай, – прокричал Жилин (он всё ещё не отошёл от глухоты), – видать, давно помер, горемыка. А мы живы!
Ярилов ничего не ответил: смотрел на Робинзона. Тот прислушивался: наверху вдруг добавились новые звуки к грохоту пушек и частому треску выстрелов. Звон и скрежет…
– Врукопашную пошли! – догадался инженер. – Внутри уже, в крепость прорвались.
Ярилов вскочил и, не помня себя, завопил:
– Сюда! Сюда, ребята. Мы внизу, в яме!
Жилин тоже был рядом, приплясывал, кричал:
– Тут мы! Выручайте, братцы!
Робинзон смотрел на соседей испуганно, сверкал безумными зрачками.
Заскрипела решётка; Ярилов радостно вскрикнул и осёкся: на него бешено глядел единственный глаз циклопа-тюремщика.
– Урыс собака!
На дно ямы упало чугунное яблоко. Двухфунтовая граната. Фитиль весело трещал и плевался искрами, будто новогодняя бенгальская свеча.
Ярилов бездумно смотрел на подмигивающий огонёк и считал про себя…
Три. Родитель учил: только три вещи нужны мужчине. Вера. Честь. Долг.
Два. Вдвоём на лодочке, солнце играет блёстками на глади пруда. Маша, смеясь, стягивает перчатку, зачерпывает ладошкой тёплую воду и брызгает Ивану в лицо.
Один. Родится мальчишка и останется один, без отца…
Робинзон вдруг вскочил. Прокричал:
– Казак журбы не мае!
И упал на бомбу, накрыл.
Глухо грохнуло, подбросило тело. Плеснуло в лицо Ярилову горячей кровью.
Не его кровью.
* * *
– А худющий-то какой!
– Я же не на водах изволил отдыхать, а в зиндане. Тринадцать суток.
– Ничего, откормим. Слава богу, жив. Теперь бы перехватить почту…
– Не понял.
– Как бы это… После того как отбили Третий редут, много убитых нашли. Некоторых изуродовали до неузнаваемости. Вот, одного за вас приняли. Отправили уже рапорт: так, мол, и так, инженер-подпоручик Ярилов погиб смертью храбрых при осаде Геок-Тепе.
– Это вы поторопились.
– Так примета! Счастливая! Теперь сто лет проживёте, Иван Андреевич!
– Мне и половины хватит.
– Да, поздравляем с новорождённым. Ещё пятого декабря ваша супруга разрешилась мальчиком, письмо дошло. Не обессудьте, что вскрыли: думали, что вы того. Ну, понятно.
– Здорова ли?
– Всё в порядке! И роженица, и сынок. Пишут, что назвали Андреем по уговору.
– Да. Этот – Андрей, в честь моего отца. А следующего назову Николаем.
– Смешно. Человека ещё нет, а имя – есть.
Глава вторая Братец
Откровение первое
Июль 1896 г., окрестности Петербурга
Историю о том, почему меня назвали так, а не иначе, я слышал от папеньки много раз. Старший братец даже смеялся:
– Ну, началась песнь Боянова о полку Скобелеве! Растечёмся мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы. Вновь ироическая былина о закаспийском походе и подвиге безымянного казака, оказавшегося, быть может, Николаем.
Не желая обидеть отца, братец говорил это за глаза. Хотя был он известный циник и даже гордился своим критическим отношением ко многим вещам, казавшимся мне священными и не поддающимся насмешкам. Трудно сказать, каким образом в нём воспиталась эта показная бравада, вечная поза утомлённого жизнью нигилиста. В кадетском корпусе, а позже – в училище, он был белой вороной: товарищи сторонились его, офицеры-воспитатели наказывали при любой возможности (которые он щедро предоставлял), преподаватели занижали отметки. Но братцу всё было нипочём.
Я любил Андрея и прощал ему «цуканье» и насмешки, хотя он нередко пользовался своей силой и старшинством, чтобы поиздеваться надо мною. Помню случай, произошедший в наше пребывание на даче под Петербургом. Мне было лет шесть, а ему – шестнадцать; он был отпущен в увольнение из летнего лагеря Первого кадетского корпуса под Петергофом. Тогда я застал его тайком курящим.
– Не вздумай наябедничать тётке, лопоухий, – сказал брат, – а не то продам тебя цыганам.
Я неимоверно испугался. Всем известно, что цыгане крадут детей, в первую очередь непослушных и отказывающихся кушать кашу: запихивают сорванцов в грязный мешок из-под картошки и уносят. Дальнейшая судьба похищенных наверняка не известна: их то ли скармливают ручным медведям, то ли режут на кожаные полоски и шьют из получившегося материала сапоги…
Так мне говорила наша прислуга Ульяна – малограмотная толстуха с вечно красными руками и рябым лицом, и её слова я запомнил твёрдо.
– Фискальство – занятие позорное и наказуемое, лопоухий, – заявил брат, – будешь молчать, никому не скажешь?
Я лишь кивнул, не в силах от ужаса произнести и слово. Забрался под куст бузины у забора (там было моё тайное убежище от неприятностей), сел на корточки и дрожал.
Тогда под Речицей, нашим дачным посёлком, стоял табор; по улицам часто ходили цыганки – шумные, чернявые, сверкающие и гремящие серьгами и монистами. Приставали к дачницам, гадали по картам и по руке, суля всяческие казённые дома и червовых королей. Вот этих дочерей воли я и услышал издалека: они шли, поднимая пыль многочисленными юбками, и громко ругались.
Разумеется, я решил, что они явились за мной.
Я завопил так, что услыхали и позавидовали пароходы в Ораниенбауме. Продрался сквозь кусты и побежал к дому; на крыльцо уже выскочила наша тётка. Она была в домашнем шлафроке, стареньком и заштопанном, волосы – в папильотках, смоченных сладким чаем; при иных обстоятельствах тётя Шура не решилась бы выйти из дома в таком виде никогда. Сзади, за узкой тёткиной спиной, размахивала толстыми руками Ульяна.
Тётушка, волнуясь, наклонилась ко мне:
– Что?! Что случилось, Коленька? Кто напугал моего маленького?
Обычно она называла меня Николаем, а то и вообще «сударем» («Подите сюда, сударь! Кто прыгал с крыши сарая и потоптал клубнику, не вы ли?»). Но я ревел так самозабвенно, что даже обычная тёткина холодность треснула, словно лёд в апреле.
– Андрей не курил! Совсем не курил! Ни капельки, вот ни папиросочки, – голосил я, – только не продавайте меня цыганам, тётенька! Любименькая, миленькая моя, не продавайте!
– Так, – произнесла тётушка своим ординарным, надтреснутым голосом. Вся нежность и тревога испарились из него бесследно.
Распрямилась, стала такой, как всегда – длинной, тощей и непреклонной, как розга. Повернулась к братцу и сказала:
– Пройдёмте-ка в гостиную, милостивый государь. У нас есть что обсудить.
Ульяна тем временем обняла меня и запричитала:
– Ну что ты, родненький, никому тебя не отдадим, никаким цыганам.
Я вжался в её передник, пахнущий прокисшим молоком и печным дымом, и плакал всё тише; она гладила меня по голове огромной, жёсткой ладонью, приговаривая:
– Ускачите, страхи, на хромой собаке, через поле, через луг – нам бояться недосуг. Чёрная ворона, будь здорова, далёко лети, Николеньку защити.
От этой белиберды стало почему-то спокойно: я перестал рыдать. Продолжая быть несколько растерянным, не заметив, выпил кружку желтоватого жирного молока без обычного понукания, заел вчерашним калачом и отправился играть за дом – там были свалены кучей солдатики, моё главное богатство. С годами набор оловянных воинов понёс существенные потери: у офицера отломалась шпага, а гренадеры утратили штыки, да и число их стало значительно меньше прежнего. Краска давно облупилась, не позволяя определить полковую принадлежность по цвету мундира, но мне это было и не надо: с младенчества я имел весьма развитое воображение, и офицер легко становился то наполеоновским маршалом, то диадохом Александра Македонского, а трубящий на полном скаку сигнальщик превращался из дикого гунна в латного всадника Ганнибала и даже в его слона.
Я расставил своих воинов в извилистую цепочку и скомандовал шёпотом:
– Тсс! Здесь полно краснокожих, так что идите тихо. Проверьте же амуницию, чтобы не звякнуть случайно лядункой о котелок, и ступайте след в след…
– Играем, значит, лопоухий?
Андрей стоял передо мной и покачивался с каблука на носок, сияя голенищами. Обычно на даче он переодевался в цивильное платье, но сегодня ещё не успел. В голосе его было нечто угрожающее, так что я сжался, готовый дать стрекача в любую секунду.
– Ну, чего нахохлился? Не хлюзди, Оцеола, вождь сименолов. Ты ведь – молодец. Не сдал брата, и слова про табак не сказал, не так ли?
Я посмотрел недоверчиво: но Андрей был серьёзен, не издевался. Только под бледной кожей щёк ходили желваки.
– Братик, но я же вправду не сказал…
– И молодец, – прервал меня старший, – за такую верность слову надлежит тебя наградить. Хочешь «монтекристо»?
Малокалиберное ружьё было несбыточной мечтой. Мы часто бегали в магазин Графа на станции: там продавалась всякая всячина для дачников, от пузатых начищенных самоваров до граммофонов. Ружьё висело на стене, и я мог любоваться им часами: гладкое ложе прекрасного орехового дерева, изящный завиток курка, таинственно блестящий чернёный ствол – что может быть прекрасней? Хозяин лавки, немец, если пребывал в добром настроении, давал подержать «монтекристо» на минутку. Я испытывал истинное наслаждение, знакомое всякому мальчишке от пяти до восьмидесяти лет, взявшему доброе оружие; удержать в руках и оценить великолепную прикладистость и баланс я пока что не мог по малолетству, поэтому укладывал ружьё на прилавок и прицеливался в жестяные коробки с чаем, трепеща от прикосновения прохладного приклада к щеке. Заглядывал в сосущую бездну дульного среза и восхищённо цокал, подражая взрослым.
А патрончики! Небольшие, блестящие, они были прекраснее всех драгоценностей мира!
Стоило ружьё сумасшедших денег, но даже если бы с неба вдруг просыпался на меня золотой дождь, то тётка Александра Яковлевна никогда не…
– Конечно, хочу «монтекристо», – сказал я, проглотив слюну, – но ведь тётушка…
– Ничего, я договорюсь с тётей Шурой, – прервал меня брат, поселяя в сердце трепетание надежды, – однако стоит оно недёшево.
– Двенадцать рублей! – произнёс я с почти религиозным восхищением.
– Точно, – кивнул Андрей, – потому надо эти деньги заработать.
Я задумался. Конечно, можно попробовать собирать в лесу землянику и продавать по пятачку за берестяной туесок, но конкуренция чересчур велика: все деревенские девки промышляли продажей ягоды дачникам.
Я уже тогда был способен к арифметике и попробовал посчитать в уме, деля дюжину рублей на пять копеек, но быстро запутался. В голове лишь возникли невообразимые горы пахучей земляники, заслоняющие от меня вожделенную винтовку…
Брат оглянулся по сторонам и сказал таинственным шёпотом:
– Так и быть, научу тебя. Но никому ни слова. Умеешь ли ты хранить тайну?
– Конечно.
– Поклянись!
– Слово индейца!
– Сойдёт, – хмыкнул Андрей, – слушай внимательно. Надо просто поймать пчелиного царя, он как раз стоит пятнадцать рублей. Хватит на ружьё, патроны, да ещё на карусели и мороженое останется.
– И на крючки? – восторженно спросил я.
– На две дюжины лучших крючков, леску и грузила.
– Здоровско! А как поймать этого царя?
– Пойдём.
Брат взял меня за руку. Делал он это настолько редко, что я уже готов был сказать: «Андрюша, не надо мне никакого ружья и крючков, только держи меня за руку!» Но я нашёл в себе силы промолчать.
Мы шли через огород, за которым ухаживала хозяйка дачи; одуряюще пахло помидорами и смородиновым листом; уютно гудели трудяги-шмели, а я шёл, чувствуя жёсткую ладонь любимого брата на своих пальцах…
– Вот, видишь. Это ульи, в них пчёлы живут.
Я настороженно посмотрел на деревянные колоды, расставленные на соседнем участке. Подходить к ним категорически запрещалось: об этом меня предупредили ещё в мае, когда мы заехали на дачу.
– Там есть такая щель, называется «леток». Как дверь для пчёл, они через неё вылезают по своим делам. Держи.
Брат протянул мне прут орешника, очищенный от коры.
– Я тебе уже всё приготовил. Это специальный прут, приманчивый. Царь как его увидит – сразу выползет. Только надо будет ещё песенку спеть.
– Какую?
– Слушай:
Вот пришёл я за царём, А потом и за ружьём, Жура, жура, жура мой, Журавушка молодой. Краснопузый, вылезай, Николаю помогай, Жура, жура, жура мой, Журавушка молодой.Брат повторил дважды; слова запомнить было легко, а мелодию я и так знал: слышал «Журавушку» раньше, когда её пели кадеты, только слова там были совсем другие – лихие, весёлые и даже неприличные.
– А как я признаю этого царя?
– Так в песне же поётся: у него брюшко красное. Он обычной пчелы больше втрое, а на головке – маленькая корона.
– Золотая?
– Золотая, золотая, – нетерпеливо сказал брат, озираясь, – иди уже.
– А мне как его нести-то, прямо в ладошках? – спросил я и передёрнул плечами.
Надо сказать, что я не то чтобы боялся всяких пауков и прочих многоножек, но в руки брать брезговал.
Андрей вытащил из кармана шаровар кусок газеты, скрутил фунтик.
– На!
– А не улетит?
– Не улетит. У него крыльев нет.
– А не уползёт?
– Да не уползёт! Будешь песню петь – он и заснёт. Давай уже живее, пока не пришёл кто.
В штакетнике была надломанная планка: брат выбил её и пропихнул меня в образовавшуюся щель. Торопливо напутствовал:
– Только никому не рассказывай. Помни: ты слово давал. Это наша тайна, понимаешь? Как дождёшься царя, принесёшь на пристань. Я тебя там ждать буду с покупателем.
– А меня пчёлы не покусают?
– Ни за что. Прута испугаются, – сказал брат и исчез за кустами.
Я медленно шёл к колоде. Гудение в воздухе становилось всё более грозным, будто приближалась некая беда. Пчёл было много: они безостановочно сновали, неся сладкую добычу в дом и вылетая за новой порцией. Некоторые уже начинали проявлять ко мне внимание.
Одна села на плечо и стала по нему ползать. Я тихо сказал:
– Пчёлка, не кусай меня. Я того. Царя вашего сейчас заберу. Мы погуляем и вернёмся.
Мне было не по себе: кажется, полосатая мне не поверила. Но обратной дороги не было.
Я зажмурился и сунул прут в леток. Дрожащим голосом затянул:
Вот пришёл я за царём, А потом и за ружьём, Жура, жура, жура мой…Щёку вдруг пронзила боль: я вскрикнул и начал орудовать прутом сильнее.
Дальше я помню плохо. Меня атаковали со всех направлений: так двадцать лет спустя вертлявые британские истребители будут набрасываться над Ла-Маншем на огромные германские цеппелины.
Иногда в очередном странном сне те события мешаются в моей голове с более поздними; я оказываюсь не на соседской пасеке, а на распаханном снарядами поле; ряды картофельной ботвы превращаются в колья, увитые ржавой колючей проволокой; в воронках гниёт вода, пропитанная кровью, грохочут австрийские «шварцлозе», и гудят не милые мохнатые труженицы – свинцовые пули летят в меня, стремясь не ужалить и умереть, а пробить, разорвать, убить…
Кажется, я бежал через огород и кричал что-то: то ли «тётушка!», то ли «рота, примкнуть штыки!»; потом я лежал на прохладных досках веранды, рыжий санитар раздирал на мне окровавленный китель и причитал голосом Ульяны:
– Как же тебя так угораздило, касатик? Весь в укусах, миленький. Вот и жар у него.
Я плавал в забытьи: мелькали сжатые куриной гузкой губы озабоченной тётушки, потом – бородка клинышком врача, отдыхающего с семьёй в Речице, на Кривой улице.
Когда увидел бледное лицо брата, подмигнул ему заплывшим глазом и не сказал ни слова.
Мы ведь договорились с ним, что это только наш секрет.
* * *
Два года спустя
Догорали мосты над Доном.
Последние головешки падали в синюю воду и шипели, пыхая прощальным дымком.
Утренний туман долго не рассеивался, укутывал выстроенные войска – словно не хотел, чтобы начинался этот день. Луга эти уже заливало весной, но им предстояло вновь напиться влагой, теперь в сентябре. И не талой водой, но кровью человеческой…
А кони в нетерпении побьют Копытами кровавый иван-чай. Томительность последних тех минут Продлить попросим Бога невзначай…Злое солнце прогнало туман и чётко обозначило цели. Заревели рога, зарокотали огромные барабаны, подвешенные парами на боках равнодушных верблюдов. Словно гигантские котлы, в которых кипело смертельное варево рокового дня.
На Сторожевой полк князя Оболенского обрушился стальной дождь татарских стрел; и не было укрытия ни конному, ни пешему, и побледнело светило, перечёркнутое чёрными бесчисленными древками.
Передовой тумен под командой Теляка врезался в ряды коломенцев; железо билось о железо, высекая искры, кричали кони и хрипели люди, но неудержима была сила Мамаева; московского князя Дмитрия Ивановича бояре чуть не насильно увели в последний момент, когда от полка оставались лишь кровавые ошмётки…
А потом была жестокая сеча в центре: Большой полк прогибался под сумасшедшим натиском, но не рвался; и бросались в отчаянную контратаку владимирцы и суздальцы Глеба Брянского. Кони плакали от ужаса, не желая ступать по человечьим телам, но всадники были неумолимы, до крови разрывая лошадиные бока шпорами.
Мамай, предчувствуя близкую победу, бросил в бой главный резерв – итальянскую пехоту. Союзники из крымских колоний Генуи двинулись несокрушимой стеной, закованной в стальные кирасы, грозя смертельными жалами гвизарм и алебард; с фланга заходил свежий тумен, готовый поддержать удар генуэзцев и обрушиться на едва держащийся полк Левой руки. Жутко оскаленные морды монгольских коней, похожие на пасти хищников, роняли пену – страшно становилось. Наступил решающий момент, и…
…и заскрипела дверь: будто небо разорвалось от горизонта до зенита. Гигантский рыжий зверь рухнул на боевые построения: одной лапой смёл затаившийся до поры Засадный полк, потом прыгнул прямо в монгольский центр и уничтожил всю генуэзскую пехоту…
– Лопоухий, забери кота, он нам мешает, – сказал братец.
Рыжик мявкнул и скрылся за сундуком, в котором Ульяна хранила пододеяльники и скатерти. По полу раскатились латные итальянские бойцы, превратившись в шахматные фигуры. Деревянные бельевые прищепки продолжали скалить морды, так похожие на конские.
И лишь оловянный офицер без шпаги задумчиво смотрел на разорённое поле битвы, поле Куликово; так, наверное, и сам Дмитрий, будущий Донской, глядел вдаль, думал о судьбах Руси.
Я вздохнул. Собрал шахматы в деревянную коробку. Пересчитал: не хватало чёрного ферзя. Долго искал его и нашёл наконец за тем же сундуком, где прятался кот.
– Что же ты, Рыжик, не предупредил, что самого Мамая в плен взял? – спросил я. – И что ты за наших?
Кот взглянул на меня сердито: не до глупостей, мол. Вскочил на подоконник распахнутого окна и отправился в сад пугать невинных пташек.
Я продолжил наводить порядок. Вернул монгольскую конницу в родные стойбища: прицепил бельевые прищепки к верёвке и повесил её на гвоздь у двери.
На веранде зазвучала гитара: первокурсник Митя запел романс. Голос у него, пожалуй, даже красивый и в ноты попадает, но слова совершенно дурацкие: какие-то розы, слёзы, шали да ямщики.
Я тихонько отворил дверь и прошмыгнул к старому колченогому креслу; оно пустовало, так как гостей в него не сажали: вдруг ножки подломятся и случится конфуз.
Андрей всё равно разглядел меня и показал кулак; остальная компания не заметила, увлечённая пением.
– Браво, браво, – запищали две девицы и захлопали, отложив бумажные китайские веера, – спойте нам ещё!
Студент Митя кокетничал:
– Ну что вы, милые барышни, сегодня я не в голосе. А давайте нашего хозяина послушаем? Андрэ весьма славно исполняет на стихи Дениса Давыдова.
– Просим, просим, – заверещали милые барышни и вновь зааплодировали.
Мне кажется, они готовы были хлопать ладошками по любому поводу – словно безмозглые бабочки крылышками.
Братец поморщился и сказал:
– Дмитрий, мне не нравится, когда к моим акустическим экзерсисам применяют эпитет «весьма славно». Он представляется мне излишне слащавым, не находите?
Митя покраснел и парировал:
– Конечно, такое определение вряд ли к лицу нашему, пардон, солдафону.
– Что? Мальчик надел студенческую фуражку и вообразил себя мужем?
– Да! Да, я – студент и горжусь этим. По крайней мере моя жизнь будет наполнена общественным смыслом, полезным людям. А не плац-парадами.
– Сдаётся мне, что вы пытаетесь меня оскорбить, сударь? Впрочем, какой из вас сударь. Так, штафирка.
– Что?!
Митя вскочил; гитара соскользнула с колен и ударилась о доски веранды, испуганно зазвенев.
– Да как… Да вы…
Андрей усмехнулся:
– О, наш мальчик, кажется, чем-то поперхнулся. Стукните кто-нибудь его по спине, желательно несильно. А то переломится ещё, бедный Пьеро.
Молчавший до сих пор Платон, третьекурсник университета (широкий, крепкий, серьёзный), вмешался:
– Господа, не будем портить вечер. Тем более в присутствии дам. Как говорят в английском кулачном бою, «брейк»!
Митя вернулся на место, пыхтя; красные пятна на его щеках постепенно розовели. Андрей смотрел в сторону, улыбался и жевал травинку.
– Лучше поговорим о другом. Андрей, вы уже выбрали дальнейшую карьеру? В артиллеристы, в инженеры?
– Ни к чему, – хмыкнул братец, – от наук у меня болит голова. Я назначен в Павловское училище, стану пехотным офицером.
Митя раскрыл было рот, готовя колкость, но Платон ткнул его кулаком под рёбра: студент сразу стух. Платон сказал:
– Странно, я думал, вы пойдёте по стопам папеньки…
– Ага, и торчать на инженерных работах месяцами. Мы фактически не видим отца: то он латает старую крепость в Свеаборге, то что-то строит на острове Эзель. Это меня не привлекает.
– А что же вас привлекает, господин будущий юнкер? – не выдержал всё же Митя. – Муштровать несчастных вчерашних крестьян? «Левой-правой»?
– Что вы, господин студент, – холодно улыбнулся братец, – наши крестьяне настолько несчастны и безграмотны, что не различают, где лево, где право. Им привязываются по такому случаю пучки сена и соломы к ногам. Методика старая, но верная.
– Не смейте так о нашем народе!
– Несомненно. Забитый, ленивый и бестолковый. И ваши социалистические идеи, господин студент, ему до лампочки.
– А пойдёмте на речку! – вмешалась одна из барышень, стремясь погасить пожар в зародыше. – Говорят, там можно взять лодочку напрокат? Всего двугривенный за час.
– Пятиалтынный, – вмешался я, – по случаю буднего дня.
– О! А что это за милый мальчик? – вопросила барышня. Обе подружки подскочили ко мне и стали проявлять преувеличенный интерес (видимо, пытаясь отвлечь компанию от острых разговоров): тискать, щипать за рубаху и трепать за щёки.
Стыдно признаться: мне было приятно это внимание. От девиц вкусно пахло, и вообще они были какие-то нездешние. Воздушные в своих белых перчатках и летних шляпках, словно сказочные эльфы с кружевными зонтиками вместо полупрозрачных крылышек.
– Где изволите учиться, молодой человек?
От их близости, восхитительного шуршания одежд и аромата я едва не падал в обморок, но нашёл силы ответить:
– Буду поступать в кадетский корпус на будущий год, – ответил я, – нынче мне рано, мал ещё.
– Не может быть! – воскликнула одна барышня. – Я бы дала вам не менее десяти лет!
– Несомненно! – подхватила вторая. – Вы выглядите старше. Сразу видно: умны гораздо более, чем положено по возрасту. Вот скажите: сколько будет трижды три?
– Это для малышни, – ответил я гордо, – а я могу и теорему Пифагора доказать очень даже просто.
Барышни закатили глаза и застонали, будто встретили самого Фёдора Шаляпина.
– Вундеркинд! – кричала одна.
– Восхитительно! – вторила другая.
Так они и пошли к пристани, продолжая восторгаться. Меня они, впрочем, с собой не взяли.
А я улыбался до самого вечера, как дурак. Хотя прекрасно понимал, что они врали.
Глава третья Калека
Май 1899 г., г. Санкт-Петербург
Новое Адмиралтейство грохотало паровыми молотами, чадило кузницами и материлось хриплым басом десятников; империя строила новый броненосный флот для нужд Дальнего Востока, и не было конца этим трудам.
Работы по корпусу бронепалубного крейсера «Аврора», последнего из серии «богинь отечественного разлива», задерживались: то опаздывало с поставкой механизмов «Общество франко-русских заводов», то срывал график перегруженный заказами Ижорский завод, а до обуховских шестидюймовок ещё и очередь не дошла…
Но силуэт нового корабля уже обретал грозные очертания, и глазницы якорных клюзов всматривались в туман века нового, века двадцатого: что нас там ждёт?
А на противоположном берегу Невы, куда перевозили публику бойкие зелёные пароходики, шумел Васильевский остров: звонили в колокола кондукторы конки и карабкались по винтовой лесенке на империал – собрать мелочь с трёхкопеечных пассажиров.
Грохотал барабан на плацу Павловского училища, юнкера в погонах с жёлтым кантом тянули носок и мечтали поскорее уже в летние лагеря под Красное Село, где муштры не в пример меньше, а нежные дачницы ждут партнёров для мазурки, падекатра и вальса в жарком от любовного волнения курзале.
Черноголовые чайки с криками садились прямо в радужные нефтяные пятна, качались на замусоренной воде гавани и косили круглые глаза на тесные ряды двухмачтовых чухонских лайб.
У Сельдяного буяна возчик, кряхтя, сбросил тяжеленную бочку с подводы: она скатилась с раската, врезалась в камень, треснула и хлынула серебром рыбьих тел. Набежали торговки с корзинами, выбирая селёдочку потолще. Ругались, толкаясь жирными боками; ловко сновали голые по локоть, перемазанные пахучим соком руки.
– Кудыть, кудыть хватаешь! У солдатика свово хватать будешь, коли нащупаешь. Моё это.
– С чего твоё-то, паскудница, тебя тут не стояло.
Набивали корзины, поднимались к возчику взвешивать и расплачиваться.
Под шумок сутулый блондин протолкался среди баб, схватил с земли раздавленную селёдку, сунул за пазуху и поковылял в сторонку, пока не прихватили.
Сутулый долго блуждал среди штабелей громоздящихся до неба брёвен. Наконец отыскал: на груде старой щепы спал напарник, прикрытый драной рогожей. Растолкал, говоря с мягким акцентом:
– Фставай, Фётор, полтень уше.
Фёдор сбросил рогожу, сел. Поскрёб воспалённое лицо, вытащил из грязной бородёнки насекомое, казнил ногтями. Проворчал:
– Нет от тебя покою, чухна. Принёс?
Блондин радостно закивал. Вытащил из-за пазухи сочащуюся бурыми потёками селёдку, окончательно перемазав одёжку. Брезентовая куртка грузчика-«крючника» хранила остатки памяти о былой роскоши: на нитке болталась последняя медная пуговица, а бархатная оторочка нагрудных карманов истёрлась и свисала неряшливой бахромой.
– Это чего? – вылупился Фёдор.
– Рыпка, – пояснил эстонец, – фкусная.
– Ыыы, – завыл напарник, – снимай портки.
– Сачем? – осторожно спросил блондин и на всякий случай отступил назад.
– Затем. В дупло себе свою «рыпку» засунешь. Мне опохмелиться надо, понятно? Я думал, ты уже казёнки раздобыл, к полудню-то. Что, совсем ни копья?
– Нет, – застенчиво улыбнулся эстонец, – откута? Я к татарам ещё не ходил.
– А есть чего нести?
– Вот.
Блондин поковырял стружку, вытащил грязный мешок. Ослабил верёвку, стягивающую горловину, вытащил сверкнувший красными боками тяжёлый шарик.
Напарник пощупал, взвесил. Довольно сказал:
– Это дело. Медный. Где взял?
– Ну, там.
– Где «там»?
– На Марсовом. Отломал от столбика, пока горотовой отвернулся. Он свистеть, а я пежаль.
– Кто ты? – поразился Фёдор. – Что ещё за «пежаль»?
– Ношками пежаль. Быстро-быстро.
– Тьфу ты, нерусь. Бежал то есть? Это всё? Тут копеек на двадцать, маловато. Не хватит на «красную головку»-то.
Чухонец вновь улыбнулся и достал ещё одну штуковину: тяжёлую, блестящую резьбой по тулову.
Напарник наклонился. Потрогал, пощупал, даже понюхал. Ошарашенно спросил:
– Это что?
– Не снаю. Военные матрозеры баржу разгружали, уронили. В ящичке теревянном. Я схватил, пежаль. Ящичек выбросил, а это принёс.
– Прибор какой-то. Может, астролябия?
Чухонец уважительно посмотрел на напарника. Кивнул:
– Та, наверное.
– Ладно, пошли.
Старьёвщика нашли, где обычно: в подвале доходного дома на Седьмой линии.
Постучались, зашли. Переминались скромно у стеночки, пока татарин шумно дохлёбывал чай из блюдца.
– Слышь, князь, – простонал Фёдор, – взял бы хабар, а то мутит меня, сил нет.
– Што за люди, – рассердился старьёвщик, – щаю не дают попить. Всё ходят, ходят, беспокоят. Показывай.
Бросил краденый медный шар на весы, поиграл гирьками.
– Гривенник.
– Чего так мало?! Дай хоть пятиалтынный!
– Двенадцать копеек, и всё.
Можно было, наверное, поторговаться, но взмокший от жажды, подрагивающий Фёдор сорвался:
– Ах ты, тварь косоглазая, рожа басурманская! Грабишь народ православный.
– Всё, – сказал старьёвщик, – закрываемся. Выходи, выходи.
Всунул шарик обратно в широкие ладони чухонца и принялся выталкивать приятелей на улицу.
– Куда «закрываемся»? Будний день сегодня, четверг!
– Щетверг, пятница – тебе какая разница? Иди отсюда, пока я околотощного не позвал.
Татарин вынул из кармана дворницкий свисток и сделал вид, что собирается подавать сигнал.
Да, день определённо не задался.
* * *
– Что это на меня накатило, – стонал Фёдор, – надо было соглашаться с татарвой. Хотя бы «мерзавчика» купить.
Чухонец сочувственно молчал.
Приятели убежали недалеко: спрятались в чахлых кустах, поблизости от входа в подвал. Мало ли: вдруг хозяин передумает?
Но старьёвщик запер дверь на огромный висячий замок и ушёл куда-то, шаркая калошами.
– Что же делать-то?
Страдалец оглядел двор доходного дома и увидел мальчика на лавочке, читающего книгу.
– Во, чистенький, в матроске. Богатенький. Может, купит астролябию?
Подошёл, покачиваясь. Сказал:
– Здорово живёте, господин хороший.
Мальчик лет девяти встал со скамейки, снял бескозырку, вежливо кивнул:
– Здравствуйте. Чем могу служить?
– Ишь ты, – восхитился страждущий, – вот я, положим, Фёдор. А ты кто, барчук? Чего тут делаешь?
– Николай Ярилов, к вашим услугам. Готовлюсь к вступительным экзаменам в кадетский корпус.
И продемонстрировал обложку учебника арифметики.
– Умна-а-й, – из последних сил продолжал очаровывать Фёдор, – генералом станешь, попомни моё слово. Купишь астролябию?
– У вас есть астролябия? – обрадовался мальчик. Но тут же расстроился: – Наверное, дорогой инструмент. Я вряд ли располагаю необходимой суммой.
– Полтинник, – торопливо сказал Фёдор, – ладно, сорок копеек.
– Сколько? – не поверил Коля. И попросил: – Покажите, пожалуйста.
– Эй, чухна! Ну ты где, замёрз, что ли? Шибко беги сюда и покажи господину кадету прибор.
Эстонец вытащил из мешка и положил на скамейку похищенное у военных моряков. Три головы склонились над штуковиной странной формы.
– Это, разумеется, не астролябия, – уверенно сказал Коля.
– Тю, много ты понимаешь. А что тогда? Тут меди одной фунта на три. Бери, пока дают. Хорошая игрушка. Смотри! Тяжёлая, прочная.
Фёдор схватил предмет и с размаху бросил на гранитный столбик, врытый посреди двора; но дрожащие руки подвели, и штуковина зарылась в мягкую землю.
– Подождите, – наморщил лоб мальчик, – где-то я видел подобное. У папы в книгах?
– Крепкая! Ни в жисть не разобьётся. Играй – не хочу, – пробормотал Фёдор и вновь воздел над головой добычу, прицеливаясь в гранитную пирамидку.
У Коли Ярилова с внезапной, пугающей чёткостью всплыла картина из отцовской служебной книги: «донный взрыватель к девятидюймовой чугунной бомбе»: цилиндр с резьбой и конусообразная нашлёпка…
Сказать он ничего не успел.
Белая вспышка ударила в глаза, нестерпимо горячая волна обожгла, ударила, опрокинула…
Ещё долго эхо взрыва билось о каменные стены, пытаясь найти выход из тесного двора.
* * *
Сентябрь 1899 г., Санкт-Петербург
Осень первыми золотыми листьями падала на бульвары столицы; перелётные птицы всё чаще поглядывали в остывающее небо, планируя маршрут на юг, а в противоположном направлении потянулись в Санкт-Петербург войска, возвращающиеся из летних лагерей по железной дороге.
У Царскосельского вокзала строились кадеты: ротные офицеры рычали на мальчишек в белых гимнастических рубахах, прозванных для краткости «гимнастёрками».
Начальнику училища подали экипаж: застонали рессоры, принимая семипудовую тяжесть. Пожилой генерал, кряхтя, разместился, заняв чуть ли не всю ширину сиденья. Махнул снятой с руки белой перчаткой; капельдинер понял и подал знак – тут же загрохотал невпопад кадетский оркестр, завыла медь помятых труб, забухал огромный барабан – едва ли не больший по размеру, чем лупящий в кожаный бок упитанный кадет.
Впереди – знамённый расчёт из лучших фрунтовиков выпускного класса; орлиные головы трепыхались на ветру, дразнились узкими языками. Старшие шагали браво, высекая подковками сапог искры из мостовой, выпятив колесом грудь; публика замирала на тротуарах от восхищения, размахивала приветственно зонтиками; стреляли глазками гимназистки и утирали платочками слёзы умиления матроны.
Бухал барабан, грохотали сапоги, стучали сердца. Последними шли, едва поспевая, младшие; семенили невпопад, неспособные шагать так же широко, как их взрослые товарищи. Были они ростом равны лежащим на плечах тяжёлым винтовкам, а шеи их торчали из шинельных скаток, словно тонкие ветки из вороньих гнёзд. Отстающих взводные командиры хватали за воротники и подтаскивали к строю, как сука подтаскивает за шиворот щенят, укладывая в корзину.
Директор гимназии поморщился: рёв оркестра с улицы мешал разговору. Подошёл к окну, закрыл створку, повернул бронзовую ручку.
– Так на чём мы остановились, милостивый государь?
Инженер-капитан содрал перчатки, бросил в фуражку, лежащую на столе. Сказал:
– На этом несчастном случае со взрывателем. Мой младший сын теперь калека. Передвигается лишь с помощью костылей. Врачи обещают улучшение: возможно, со временем костыли удастся заменить на трость.
Директор потеребил холёными пальцами золотую цепочку, но вынимать часы не решился, чтобы гость не принял этот жест за невежливый намёк.
– Ну-с, я прослежу, чтобы классный наставник провёл беседу с гимназистами. Поверьте, у нас прекрасные дети, они не будут дразнить вашего сына. И он вполне сможет пройти курс обучения. За исключением, конечно, гимнастики, военного строя, фехтования. Но эти предметы предназначены для гармоничного развития и не являются основными, так что не извольте беспокоиться. Вот сможет ли он без посторонней помощи ходить по лестницам? У нас, знаете ли, младшие классы на третьем этаже. Смею спросить: почему вы не желаете обучать сына на дому? Насколько я могу судить, жалованье вам позволяет нанимать домашних учителей. А после он сдаст экзамены экстерном. Многие так делают…
– Дело не в преодолении лестниц, – сказал офицер, – а в ином преодолении. Видите ли, я вдовец. Мать Николая умерла родами. Его родами. Сам я по делам службы вечно отсутствую, вынужден жить на казённой квартире в Кронштадте, но и там бываю редко. Коля находится на попечении Александры Яковлевны, сестры моей покойной жены. Старший брат его заканчивает Павловское пехотное училище. Словом, дома ему одиноко. Сын и сейчас, после несчастного случая, часто замыкается в себе: он мечтал о военной карьере, теперь недоступной. Думается, что среди сверстников ему будет лучше, общение отвлечёт от печальных раздумий.
– Пожалуй, вы правы, – директор кивнул, – новейшие педагогические учения высоко ценят общество сверстников в развитии индивидуума. Что же, вступительный экзамен Николай выдержал успешно, никаких препятствий для его обучения нет. Я постараюсь особо следить за ним, накажу надзирателю и учителям.
Директор достал белоснежный платок, деликатно высморкался. Спросил:
– А что, его мечта была столь серьёзна? Детские надежды часто меняются, и я не стал бы…
– Серьёзна, поверьте мне, – перебил инженер-капитан.
– Ну да, разумеется, – согласился директор. И поморщился: за окном сфальшивил тромбон.
Последняя кадетская рота скрылась за углом, вернулись на свои ветки успокоившиеся вороны. Публика разошлась по гражданским делам.
Мальчик, опирающийся на костыли, продолжал смотреть вслед исчезнувшему строю.
* * *
Откровение второе
Весна 1900 г., Санкт-Петербург
Самыми трудными были лестницы.
Вы даже не представляете, сколько их. Можно подумать, что кто-то, зло ухмыляясь, сначала соорудил невообразимое количество лестниц и только после выстроил вокруг них город.
Сияющие мрамором и рассыпающиеся истёртым плитняком, скрипучие деревянные и гулкие чугунные. Закрученная кругами ада лесенка на империал конки была вообще пыткой непреодолимой: приходилось ехать внизу, среди пожилых чиновников и жалостливо качающих головой мастеровых.
Вот эта жалость была хуже любого неудобства и невыносимой боли во всём теле, устающем к вечеру безмерно.
Лестницы и ступени, ступени и лестницы. Я наизусть выучил дорогу: три этажа вниз из квартиры; каждую неровность панели и каждую щербину поребрика; вечно скользкое от петербургской мороси крыльцо гимназии; четыре ступени вниз, в шинельную, и потом столько же обратно. И шесть пролётов по семнадцать ступеней в каждом, чтобы подняться в наш класс.
Я постоянно опаздывал, не поспевая за резвыми однокашниками, и часто коридорный паркет скрипел под моими костылями в полной тишине, когда занятия уже начались; это нервировало преподавателей.
Меня опять жалели: учителя терпеливо ждали, когда я усядусь, пристроив костыли у стены (они имели обыкновение падать с жутким грохотом в самый неподходящий момент); товарищи проявляли заботу, предлагая поднести ранец или помочь вскарабкаться на очередной пролёт. Думаю, не все они были искренни в своём сочувствии – скорее, исполняли указание классного наставника. Я остро чувствовал эту (быть может, придуманную мной) фальшь и ненавидел их всех: и изображающих сопереживание гимназистов, и накрахмаленного наставника, и лестницы, и костыли…
И себя. Больше всего я ненавидел себя.
И ещё. Мне страшно, до судорог, хотелось врезать костылём кому-нибудь прямо в эту лживую гримасу соболезнования. Всё равно кому.
За одним исключением.
Серафим Купчинов, Купец, дразнил меня и издевался вполне искренне. Зайдя за спину, следовал за мной по коридору, копируя мои неловкие движения – к радости хихикающих поклонников его огромных кулаков. Купец сидел в первом классе третий год, не в силах одолеть премудрости учёбы; говорят, сам директор упрашивал отца перевести своего обалдуя в учебное заведение попроще. Но папенька Купца доставал толстую пачку ассигнаций и вносил очередное пожертвование в кассу гимназии; и директор, вздыхая, покорялся року.
Надо ли говорить, что Купец был на три головы выше любого из нас; на верхней губе его пробивались вполне заметные усы, пропахшие махоркой; а несчастная «детская» парта скрипела под мощным телом, грозя развалиться. Купца побаивались даже пятиклассники.
Купец презирал меня неприкрыто, дразнил «калекой», «убогим» и «каликой отхожим». Произнося последнее, он жутко хохотал: ему казалось весьма остроумным упоминание «отхожего места».
Так вот, психика моя была настолько измучена, искажена, перекручена, словно жилы на левой покалеченной ноге, что я даже испытывал некую симпатию к Серафиму. Было нечто общее в нас: урод физический и урод умственный. Мы дополняли друг друга, как газовая гангрена дополняет смердящую шрапнельную рану.
Это случилось в один из мартовских дней; снег на заднем дворе гимназии таял, превращаясь в отвратительную бурую кашу; было промозгло и сыро. Я сидел на деревянном чурбаке и смотрел в свинцовое небо, когда рядом запыхтел Купец.
– Привет, контуженый. Хочешь, Кронштадт покажу?
Я отшатнулся и начал нащупывать костыли. Один раз, в самом начале учёбы, я наивно согласился: в Кронштадте служил папенька, по которому я сильно скучал. О, как я был глуп! Купец тогда схватил меня, сдавил широченными ладонями голову, размазывая уши, и приподнял под хохот публики.
– Ну, чего молчишь? Видишь Кронштадт или повыше надо?
Не в силах произнести и слово, я лишь мычал, а слёзы унижения и боли обильно орошали щёки.
И вот теперь Купец вновь предлагал мне эту пытку, забыв, видимо, что я знаю, в чём она состоит. Как я уже упоминал, сын хозяина десятка лавок не отличался остротой ума и крепостью памяти.
– Благодарю, – прошептал я, понимая, что убежать мне не удастся, – нынче уже видел.
– Ну, нет так нет, – неожиданно согласился Купец.
Легко подкатил неподъёмный обрубок, уселся и спросил:
– А ты чего гимнастику прогуливаешь?
– Так я же…
– Тьфу ты, точно. Забыл. Извини.
– Не за что.
Я вдруг осознал, что Серафим впервые на моей памяти извинился: не то что передо мной, а вообще.
– А я вот прячусь. Батя кучера прислал с запиской, чтобы с уроков отпустили. А я знаю, зачем. Пороть меня хочет. Я в лавке четверть керосина спёр да продал, а он и заметил, видать.
И Купец достал помятую папиросу, что было признаком временного богатства: насколько я мог судить, состоятельный отец карманными деньгами сыночка не баловал, и Серафим обычно использовал самокрутки. Это вызывало презрение старшеклассников: те из них, что баловались табакокурением, никогда не опускались до плебейской махорки.
– Огонь есть? Чёрт, да откуда у тебя.
– Есть.
Я, торопясь, расстегивал ранец – замерзшие пальцы никак не справлялись с ремешком. Наконец достал и протянул коробок.
– Пожалуйста, пользуйся, Куп… То есть Серафим.
Купчинов тряхнул коробок, удивлённо посмотрел на меня. Прикурил, затянулся и сказал:
– Спасибо, выручил. А Серафимом меня не называй, дурацкое имя. Спички тебе зачем, ты же не потребляешь?
– Мало ли. Для опытов всяких.
– Вот умный ты, калека. То есть… это, извини. Коля. Книжки читаешь. А я не могу – глаза болят. Опять экзамен провалю, не переведут меня. Батя вожжами взгреет. Знаешь, как больно? В прошлый раз драл, так я три дня в сеннике валялся, отходил.
И Купец вздохнул. Не как вечный мой ужас и тиран, а как обыкновенный человек – горько.
– Почему же не выдержишь экзамен? – осторожно спросил я, боясь спугнуть эту проклюнувшуюся в нём человечность.
– Да не понимаю я. Учителя только злятся, орут. А когда орут – я тупею. Слов не могу разобрать, обидно становится. Отец говорит, что я даже в помощники приказчика не гожусь, разве только в поломои. Вот дроби эти дурацкие: почему одна вторая больше, чем одна третья? Три-то всяко больше, чем два. Ерунда какая-то.
Я поднял две примерно одинаковых щепки. Одну переломил пополам, вторую – на три части. И показал.
– Ух ты, – поразился Купец, – а ведь верно!
Потом мы вместе ломали щепки на четыре, пять и даже шесть частей. Потом я достал тетрадку по арифметике, и мы разобрали домашнюю задачу.
Потом зазвенел звонок. Купец сказал:
– Здоровско. Главное, всё понятно объясняешь. Три года эту муть учу, и без толку, а ты за четверть часа… Спасибо. Пошли, что ли, провожу тебя. Сейчас география, а я-то домой пойду.
– Так бить же будут?
– Да ладно. Потерплю уж. Батя-то отходчивый.
Мы обошли здание гимназии; одноклассники выскочили на перемену и дрались у крыльца снежками. Увидев нас вместе, притихли.
– Слушайте сюда. Коля Ярилов – мой друг, ясно? Если кто хоть пальцем…
И Купец помахал здоровенной колотухой.
– Всем понятно? Ну ладно, Коля, бывай. Пошёл я.
Он протянул огромную ладонь и осторожно пожал мои пальцы.
* * *
Гимнастику и военный строй у нас преподавал отставной поручик Лещинский; он же вёл платный кружок фехтования, а иногда подменял и преподавателя танцев. Это был крепко сбитый, ловкий мужчина, всегда безупречный в одежде; старшеклассники, многозначительно ухмыляясь, сплетничали по поводу его успеха у женщин. Мне это казалось странным: Лещинский был неимоверно стар, глубоко за сорок.
Прозвище у него было Пан. Не знаю, чего в этом было больше: польского происхождения или намёка на козлоногого весельчака из древнегреческих мифов.
Когда класс отправился на очередное гимнастическое занятие, я привычно поковылял на улицу, собираясь почитать найденный в домашней библиотеке учебник по гальванике для минных кондукторов: подобная литература нравилась мне гораздо больше однообразных историй о сыщике Нате Пинкертоне.
– А вы куда, молодой человек?
Передо мной стоял Пан: ладный, плечистый, в безупречной визитке и модном галстуке. Офицерскую осанку портило лишь задранное выше левое плечо. Его бритый череп сиял на весеннем солнце, а нафабренные усы топорщились стрелами Амура, смертельными для женских сердец.
– Так я же…
– Что? Не хотите ли вы сказать, сударь, что отлынивать от занятий физической культурой – достойное предприятие? А ну-ка, пойдёмте.
И он повёл меня по коридору. Не понимая, что Лещинский задумал, я на всякий случай шёл нарочито медленно, с трудом переставляя костыли, вздыхая и страдальчески постанывая.
Когда мы вошли в гимнастический зал, Купец прикрикнул на товарищей:
– А ну, тихо. Стройся!
Купчинов был неизменным старостой класса на всех занятиях у Лещинского, как самый физически развитой; и эти уроки были, пожалуй, единственными в гимназическом курсе, которые мой новый друг обожал.
– Смирно! – гаркнул Купец. – Равнение направо.
Класс, построенный в две шеренги, вытянулся, пялясь якобы на преподавателя, но на самом деле на меня.
– Вольно, – сказал Пан, – занимайтесь по плану. Сперва разминка.
Купец, очень гордый собой, вышел перед строем и стал демонстрировать упражнения, которые остальные пытались за ним повторять. Меня же Лещинский повёл к шведской стенке.
– Вот вы, Ярилов, считаете себя калекой, – сказал он тихо, – крест на себе поставили. Оно, разумеется, удобнее. Все вокруг виноваты, а с меня какой спрос? Так, конечно, думаете. Ну, что сопите? Так?
Я молчал, несколько растерянный.
– Жалко себя, да?
Я пожал плечами.
– Отставить! – вдруг гаркнул Пан. Да так громко, что даже Купец запнулся, отдавая команду «гимнастическую стойку принять».
Лещинский расстегнул пуговицу и сбросил визитку на мат (мелькнула атласная дорогая подкладка). Снял шёлковый жилет. Содрал хрустящую крахмалом сорочку.
– Смотри.
Я глядел на изуродованное глубоким шрамом левое плечо; криво сросшаяся ключица; перекрученные, словно в невыразимой муке, мускулы руки – мне эта картина почему-то напомнила о статуе Лаокоона.
Позади, в двадцати шагах, замер класс.
– Тебя взрывом контузило?
Я кивнул.
– А это, братец, ятаган. Под Плевной. Отбивали мы турецкую вылазку…
Он говорил ещё что-то, а я не слышал. Я видел это: хрипящие кони, воющие всадники, сверкающие клинки.
Полурота подпоручика Лещинского ночью заняла развалины редута, выбив турок молодецкой штыковой атакой; но на рассвете противник бросился возвращать утраченное. Обвалившиеся от артиллерийского огня земляные стены не стали препятствием для трёх сотен конных, как и не стали препятствием для них беспорядочные залпы из винтовок Крнка. Барабан револьвера быстро опустел, а сабля застряла в боку хрипящего турецкого жеребца; Лещинский поднял брошенное ружьё и успел подставить ложе под сабельный удар, но от второго уклониться не смог.
Тогда их спасла лихая атака казаков, возглавляемая самим Скобелевым, Белым Генералом.
Из ружей соорудили носилки, на которых вынесли подпоручика из боя.
– Хирурги хотели мне руку оттяпать, да сам Пирогов Николай Иванович в это дело вмешался, не дал. Спасибо ему, конечно. Из кусочков меня сшил, считай, – тихо говорил Пан, – уволили потом со службы вчистую.
Гимназисты стояли, замерев. Слушали.
– Тоже себя жалел, Ярилов. А как иначе? Уехал в имение к маменьке, а она каждый день меня увидит – и в слёзы. Горькую пил. А потом одна соседка, дочь уездного предводителя дворянства… А, неважно. Словом, стал заниматься гимнастикой, на основе системы Мюллера разработал упражнения, гири-двухпудовки себе выписал. Знаешь, как трудно было? До кровавых мозолей. Не поверишь, Ярилов, рыдал. От боли и отчаяния. Только плач этот для мужчины – не стыдный.
Я смотрел на этого подтянутого, сильного, статного и действительно не верил.
– А ну, бросай костыли! – закричал вдруг Пан. – Бросай! И иди ко мне. Купчинов! Помоги.
Подскочил Купец, забрал костыли. Прошептал:
– Давай, Коля. Ты сможешь.
Я стоял, зажмурив глаза. Было страшно.
Почти падая, судорожно шагнул правой – меня сразу занесло, но Купец придержал, не дал рухнуть.
Так я и ковылял, выбрасывая вперёд правую ногу и подволакивая левую, беспрерывно теряя равновесие. Пять шагов до шведской стенки я шёл, наверное, четверть часа. Схватился за деревянные перекладины дрожащими руками. Мокрый, измученный, неверящий.
– Ну вот, – сказал Пан, – а ты боялся.
И завернул похабные стишки про попову дочку, солдата и сеновал.
Напряжение лопнуло; все захохотали, и первым – я.
А по щекам тёк обильный пот. И слёзы.
* * *
В мае я уже ходил с тростью. Пан Лещинский занимался со мной дважды в неделю после уроков. И ещё давал задания для самостоятельных упражнений.
В тот день я добрался до гимназии и остановился у крыльца передохнуть. Ко мне подошёл дородный бородатый дядя в пиджаке и сияющих хромовых сапогах; толстенная золотая цепь, висящая на брюхе, выдержала бы адмиралтейский якорь.
– Вы, стало быть, и будете Николай Ярилов? – спросил дядя и снял картуз. Волосы его были густо смазаны маслом и зачёсаны на пробор, холёная борода закрывала половину груди.
Я поклонился:
– Да, я. С кем имею честь?
– Купчиновы мы. Отец Серафима, обалдуя. У меня к вам, господин хороший, предложение. Не займётесь ли арифметикой и прочими науками с моим сыном? А то если он и теперь экзамены не выдержит, я не знаю, чего с ним сделаю. До смертоубийства дойдёт, вот те крест.
Купчинов-старший сложил щепотью пальцы-сардельки и перекрестился.
– Так мы с Ку… с Серафимом и так занимаемся. Он весьма подтянулся.
– Ну, так я предлагаю у нас на дому. Чтобы, значить, наверняка. Нижайше просим. Вас-то он слушает, не то что родителя своего.
И дядя неловко поклонился.
Я несколько растерялся. Этот дядя был ровесником отца, если не старше, и его вежливость, даже заискивание, передо мной, девятилетним, выглядели дико.
Купчинов понял мою растерянность неверно и быстро заговорил:
– Не подумайте, я заплачу. Вот сколько положено, столько и заплачу. Чай, расценки знаем, со всем нашим согласием.
Я лишь покраснел и кивнул. Купчина протянул лапищу, осторожно пожал мои пальцы и забормотал:
– Вот спасибо, сударь, вот обрадовали. А не то, вправду, прибью этого байстрюка, не посмотрю, что наследник и родная кровь.
По тёплому времени в шинельную мне идти не пришлось, и я довольно бодро поднялся по лестнице, держа трость наперевес. У дверей класса меня ждал взволнованный Купец:
– Ну, как? Договорились с батей?
– Да, – ответил я и спохватился: – Нехорошо, я растерялся, надо было от платы-то отказаться. Ты же мой друг и товарищ, а кто с товарищей берёт деньги за помощь?
– Не вздумай, – показал мне кулак Купец, – деньги завсегда пригодятся. Мне отдашь, если сам не знаешь, куда девать.
Вместо первого урока нас неожиданно отправили в актовый зал. Классы выстроились по старшинству: мы оказались у самых дверей. Преподаватель закона божьего, отец Тихон, торопливо поправляя подризник, сообщил о страшной беде: китайские бунтовщики бьют смертным боем по всей Маньчжурии русских и принявших православие китайцев; жгут школы и храмы. Настоятель местной церкви отец Сергий едва спасся через реку Амур бегством и сообщил о преступлениях.
– Обрушится на головы гонителей церкви православной и рабов её гнев божий! – провозгласил отец Тихон. И добавил: – Ждёт их кара небесная, а уж кару земную наши армия и флот обеспечат, не сомневаюсь.
И затянул молитву во славу русского оружия.
Купец дёрнул меня за рукав и прошептал:
– Здоровско! Война будет.
Я молчал.
Волновался за брата. Он получил назначение в Сибирскую стрелковую дивизию и вскоре отправлялся к месту службы.
Глава четвёртая Боксёры
Июль 1900 г., река Амур
– Правее бакена держи, балбес! Не видишь, сносит, рыбья требуха.
Капитан едва сдержался, чтобы не помянуть матушку бестолкового рулевого: дверь рубки по жаркой погоде была открыта, снизу доносились разговоры публики. А там были и дамы: вот так выскажешься от души – и случится конфуз.
Пароходик «Михаил» бодро вспарывал тёмные амурские волны, натужно дымя единственной трубой; оживлённые пассажиры толпились на палубе, ожидая скорого прибытия в конечный пункт путешествия – город Благовещенск.
Коммерсант в модном котелке и английском клетчатом пиджаке, поднявшийся на борт на последней стоянке, воскликнул:
– Надо же! Из самого Петербурга. Недавно выпущены из училища?
– Только что. Подпоручик Ярилов Андрей Иванович, честь имею.
– Значит, опоздали.
– В каком смысле? – нахмурился офицер.
– Так ваших в городе нет. Как началась буза у китайцев – все войска-то из Благовещенска ушли в Харбин. Третьего дня. Погрузились на пароходы и баржи да и отправились. Оркестр, молебен – всё честь по чести. Остались инвалиды да казачки из окрестных деревень.
Подпоручик нахмурился, просунул пальцы под новенький ремень портупеи. Буркнул:
– Не успел, получается.
– Ну ничего, на ваш век службы хватит. Зато станете центром внимания благовещенского общества. Видите, дамы уже глазками постреливают, хи-хи. Изволите быть холостым?
– Глупости какие.
– Не скажите. Офицер в наших тмутараканях – не только защитник, но и любимец общества. И завидный жених, хи-хи.
Ярилову стало неловко; не знал, как и избавиться от назойливого купчика. Однако новый знакомец не отставал. Теперь он принялся излагать свои взгляды на политику, претендуя на глубокомысленность:
– Вот увидите, нахлебаемся мы ещё с этими азиатами. Ну, торговать – это я понимаю, сам недавно мануфактуру удачно продал в Сахаляне. И железная дорога через Харбин к Порт-Артуру весьма кстати, нашему брату-коммерсанту в помощь. Но зачем в их жизнь лезть? Идея про Желтороссию в составе империи, прости господи, бессмысленна: китайцы крестятся исключительно ради подарков от священника, а потом возвращаются в свою деревню и молятся идолам. Дикий народ!
– Позвольте возразить! Народ древней культуры, богатой истории. Хотя, конечно, своеобразный и нам, европейцам, малопонятный.
– Вот именно! Экое вы верное определение сказали, Андрей Иванович: малопонятный. Я на том берегу часто бываю, и партнёры у меня среди китайцев имеются. Кланяется, улыбается, а у самого – булыжник под халатом спрятан. Они, вы не поверите, нас варварами считают, всех без исключения. И это при их нищете и отсталости! Бунтовщики эти, тайные общества повсюду. Репетируют, значит, как будут кулаками насмерть забивать всех европейцев. Голыми кулаками, представьте! Потому их и прозвали на английский манер «боксёрами». Ну, не дикость ли?
Пароход теперь шёл недалеко от китайского берега, саженях в ста. Коммерсант махнул рукой:
– Вот полюбуйтесь: эта грязная груда глиняных домишек, именуемых фанзами, называется городом Айгуном.
– А это что? Похоже на укрепления.
– Да какие там укрепления, – беспечно махнул руками собеседник, – развалины. И пушки медные, позапрошлого века. Не поверите, я год тому у их мандарина три штуки купил, перепродал на лом. Не государство, а смех один…
Подпоручик молчал. Наблюдал с удивлением: за невысоким валом появились десятки штыков. Похоже, китайские солдаты занимали позиции. Учения?
Внезапно сверкнуло огнём, вспухло облако дыма.
– Бамм!
По волнам запрыгал тёмный мячик, отсчитывая «блинчики», словно запущенный детской рукой плоский камень.
Ярилов не поверил глазам: неужто ядро?
И тут же невысокий вал китайского укрепления засверкал вспышками.
– Что это?
– Салютуют, видимо, – неуверенно сказал коммерсант, – приветствуют нас.
Подпоручик присел, прячась за бортом.
– Какой, к дьяволу, салют? Я же видел – ядром шарахнули, черти средневековые.
Торговец не ответил. Ярилов оглянулся: его новый знакомый лежал под корабельной надстройкой, переборка забрызгана красным.
Раздался женский визг; звонко рубили металл пули; публика кричала, в панике метаясь по пароходу.
– Всем лечь! – заорал Ярилов. Побежал, толкая растерянных цивильных:
– Ничком! На палубу и не шевелиться.
Люди послушно падали, прикрывая головы руками. Подпоручик взбежал по трапу, вломился в рубку – в этот же миг лопнуло стекло, ударило в щеку. Андрей увидел, как падает навзничь рулевой; капитан ловко перехватил штурвал, закричал в медную трубу:
– Машинное! Полный вперёд. Живее, рыбья требуха.
И круто рванул штурвал, направляя к русскому берегу; пароход зарылся носом в волну и накренился так резко, что Ярилов еле удержался на ногах. Капитан глянул:
– У вас кровь.
– Стеклом, пустяки. Оружие есть?
– Как не быть. Вон рундук.
Андрей рванулся к железному ящику. Откинул крышку, вытащил древний карабин Бердана.
– Это всё?
– А вы чего ждали, рыбья требуха? Двенадцатидюймовку с броненосца?
Ярилов выскочил на мостик. Китайцы продолжали палить, пули рвали щепу из бортов и надстроек. Гражданские на четвереньках пробирались к распахнутому люку трюма, падали в темноту на угловатые ящики; но несколько тел остались на палубе. Бросилась в глаза молодая девушка: лежала, глядя в небо, раскинув руки, словно подбитая охотником птица – крылья; летнее платье неприлично задралось, обнажив стройные ножки в прюнелевых ботиках.
Ярилов встал на колено. Загнал патрон, повернул рукоятку затвора. Выстрелил – сразу стало легче.
Лупили колёса на полном ходу, рвали амурскую воду – но казалось, что «Михаил» замер, едва удаляясь от рыгающего огнём правого берега. Пушкари у китайцев были никудышные, палили мимо, зато залпы стрелков каждый раз накрывали беззащитный пароход.
Подпоручик разглядел, как из прибрежных кустов появились солдаты. Потащили к воде длинный челнок. Уселись, достали короткие вёсла.
– Капитан! Похоже, нас берут на абордаж. Нельзя ли прибавить?
– И так на пределе. Котёл старый, как бы не рванул.
Густо дымила труба «Михаила»; берег заволокло пороховым туманом, да и берданка в руках Ярилова исправно выбрасывала дымные струи.
– Есть! – азартно крикнул Андрей, когда сидящий на носу челнока китайский командир перестал размахивать руками и рухнул в воду.
Низкий рёв пароходного гудка заставил вздрогнуть; капитан закричал:
– Ай молодцы на «Селенге»! На помощь идут.
Вверх по течению, вспарывая воду белыми бурунами, спешил пароход под русским флагом.
Китайцы кричали. Размахивая вёслами, разворачивались к своему берегу, а Ярилов продолжал всаживать в тёмный силуэт челнока пулю за пулей.
Хладнокровно, словно на стрельбище.
* * *
– Наглость неописуемая. Обстрелять гражданский пароход! Совсем хунхузы распоясались.
Военный губернатор Амурской области Грибский вцепился в пышную, расчёсанную надвое белую бороду, нахмурился. Покачал головой – в такт звякнули многочисленные ордена.
Подпоручик Ярилов стоял навытяжку: пот стекал по щекам, но вытереть не решался – несколько робел перед генерал-лейтенантом.
Константин Николаевич неожиданно подмигнул – и мгновенно утратил грозный вид, став похожим на Дедушку Мороза.
– А ведь вы не растерялись, голубчик! Говорят, палили по китайцам отменно, даже заставили их десант вернуться.
– Никак нет, ваше превосходительство, – с заминкой ответил Андрей, – это они «Селенги» испугались, вовремя пришла подмога.
– Да ладно, не скромничайте.
Генерал вновь подмигнул: это было больше похоже на тик.
– Бравые у нас офицеры! А, Батаревич?
Полицмейстер гаркнул:
– Так точно, Константин Николаевич! Орёл!
– А всё почему? Потому как выпускник Павловского училища. Мы, павлоны, самые бравые из пехотных!
Генерал прищурился, будто вспоминая что-то приятное. И неожиданно запел приятным баритоном:
Как надутые гандоны, Ходят в отпуск все павлоны, Жура, жура, жура мой, Журавушка молодой…Дальше слова были и вовсе неприличные; полицмейстер хихикал, казачий сотник одобрительно крякал, а Ярилов густо краснел.
Генерал допел. Довольно улыбнулся и пригласил:
– Садитесь, господа. Юность вспомнить славно, но дела наши насущные таковы, что не до смеха. Будем считать состав присутствующих штабом обороны Благовещенска, раз уж мы с вами представляем натурально всё, что осталось от военного гарнизона. Вы, подпоручик, тоже оставайтесь.
Полицмейстер доложил: среди многочисленных китайцев и маньчжуров, населяющих город и окрестности, осведомителей у него мало, и сплошь ненадёжные – живут гости из Поднебесной закрыто, своим мирком. Но по косвенным признакам ясно: беспокоятся. Некоторые купцы распродали товар за бесценок, закрыли лавки и убрались на правый берег. Боятся погромов; а теперь, после обстрела наших пароходов, ясно, что боятся не зря. В Благовещенске глухое недовольство пришельцами, некоторые горячие головы ведут разговоры о расправе…
– Пресекать! – строго сказал генерал. – Пресекать подобные разговоры немедленно. А болтунов – в холодную, дабы остыли. Я обещал китайцам строгое соблюдение порядка, безопасность жизни и имущества – и я своё обещание выполню.
Пожилой штабс-капитан доложил: весь гарнизон – полурота, да и то больше нестроевые. Батарея же в порядке, к отпору готова, хотя зарядов мало – едва по три десятка на орудие. Контрбатарейная борьба в таких обстоятельствах вряд ли возможна…
Сотник пробурчал:
– Оно, конечно, время опасное. Да только не у нас, а в Харбине или где подальше. Разве же эти нехристи через Амур сунутся? Побоятся. Можно, конечно, казачков в город вызвать из станиц, да больно время горячее – все в поле, не разгибаясь. Сенокос опять же. А стрелять им через реку не из чего: известно, что за пушки у косоглазых. У моей жинки квашня для теста – и та поопаснее будет.
Все заулыбались, кроме полицмейстера. Батаревич кашлянул и сказал:
– Тут такое дело, Константин Николаевич. Донесли мне, будто к Айгуну большой отряд бунтовщиков прибыл, тысячи две. Оно бы ладно, но орудия у них имеются новейшие, немецкие. Системы Круппа.
– Брешут, – хмыкнул сотник.
– Хотя, – тут же поправился полицмейстер, – может, просто слухи.
Генерал задумчиво расчёсывал бороду пальцами. Пожевал пышный ус и сказал:
– Ну что же. Суетиться ни в коем случае не будем, не к лицу. Однако прошу быть начеку. В готовности по первому зову, так сказать. Все свободны.
* * *
Батаревич догнал Ярилова уже на улице.
– Где изволили остановиться, Андрей Иванович?
– В гостинице со скромным названием «Версаль».
– Да уж, – осклабился полицейский, – нравы у нас в провинции простые. Если трактир – так непременно «Яр», а коли нумера с клопами – так «Англетер» либо «Версаль». Не заели вас насекомые?
– Не заметил. Спал, знаете ли, как убитый после этой катавасии.
Ярилов вспомнил погибших на пароходе: коммерсанта в клетчатом пиджаке, девушку на палубе… Поморщился.
– Не желаете ли прогуляться? У нас прелестная набережная. Не Английская, конечно, но местным обществом весьма ценится.
– Отчего же не прогуляться?
Вышли на берег Амура, освещённый закатным небом; Ярилов отметил про себя, что все друг с другом знакомы: раскланиваются, останавливаются для разговоров. Дамы щеголяют бумажными китайскими зонтиками и нарядами прошлого десятилетия, хотя попадаются среди девушек премиленькие; молодые люди – в основном чиновники в фуражках и коммерсанты в котелках – посматривали на подпоручика с плохо скрываемой завистью.
Публика нарочито старалась не замечать противоположный берег, ставший вдруг враждебным и опасным.
Батаревич встретил какого-то брюхатого с супругой, рассыпался в любезностях (видно, какой-то местный туз). Привлёк и Андрея:
– А вот и, так сказать, наш Муций Сцевола и князь Пожарский в одном лице, храбро вступивший в схватку с неприятелем…
Ярилов поморщился и хотел уже оборвать поток лести, когда китайская сторона вдруг сверкнула вспышками, плюнула дымками.
Вспухли белые облака орудийных выстрелов, и завизжали снаряды над Амуром; Ярилов закричал:
– Обстрел!
Но крик его заглушила лопнувшая над набережной шрапнель; зло завизжала смертоносная начинка.
Люди с криками бросились прятаться в переулках; пули на излёте чиркали по мостовой.
Разбитая двуколка валялась на боку, задрав к небу обломок оглобли, как сломанную кость.
Запутавшись в постромках, хрипела умирающая лошадь.
* * *
– Кто тут начальник боевого участка будет?
Андрей заложил пальцем блокнот.
– Подпоручик Ярилов, честь имею. С чем пожаловали?
– Вы уж, господин подпоручик, будьте свидетелем, что не мародёрствуем, а ради дела.
Ярилов поглядел на мужчину в охотничьем картузе и щегольских ботинках с крагами, с ружьём на плече. Сзади толпился ещё десяток таких же: одетых то ли на охоту, то ли на спортивное состязание.
– О чём вы, сударь?
– Оружейный магазин Николаева я велел распотрошить. Хозяин-то испугался. Семью посадил на пролётку – и за Зею сбежал. Мы бы обязательно ружья купили, так у кого? Вот и сбили замок. Всё, что пригодно в дело, забрали. Но вы не беспокойтесь: опись я составил. Вот, гляньте: винчестеры – три штуки, ружей тульских охотничьих – восемь. Патроны, порох. Револьвер дамский…
– Это вам к полицмейстеру, – перебил Ярилов, – моё дело – оборона. Изволите ко мне в отряд?
Обладатель картуза оглянулся на свою компанию. Кивнул:
– Ну что, братики-сударики? К подпоручику запишемся?
– Конечно, – загудели товарищи, – лучше уж к офицеру, коли так, и участок от дома недалеко.
Второй день шло формирование отрядов ополчения для обороны города. Губернатор разбил берег на шесть участков, Ярилова назначил начальником третьего, самого ответственного: тут и до вражеского берега рукой подать, и до центра города. Если уж решаться, то лучше китайцам места для переправы и не придумать.
Рыли неглубокие ложементы. Ярилов записывал охотников в блокнот: фамилия, гражданское состояние, оружие. Распределял по десяткам, назначал часы дежурства. Кто-то бежал из города, а кто-то, наоборот, приходил волонтёром, готовым к бою. Таёжники, золотодобытчики, контрабандисты-спиртоносы – народ тёртый, опытный. Вооружены пёстро: у кого «пибоди», у кого берданка. «Крынки» (винтовки системы Крнка), «иголки» (игольчатые ружья Дрейзе) и даже древние пищали: с такими, наверное, казаки Ерофея Павловича Хабарова первыми брали эти далёкие от столицы места.
Китайцы изредка постреливали, но теперь набережная была пуста, а дома вдоль неё покинуты, так что обходилось без жертв. Пушки палили нечасто: экономили снаряды.
А вечером вызвал генерал-лейтенант Грибский:
– Не пристало нам с ужасом ждать нападения, не в русском духе такое. Готовим вылазку на китайский берег. Самых лучших бойцов из гарнизонной команды, казаков и добровольцев. Всего – сто пятьдесят человек. Вас я решил назначить помощником командира отряда охотников. Переправу начать в три часа, перед рассветом. С богом.
* * *
Ночь помогать не хотела.
Ни облака; небо густо усыпано звёздами, и рогатый месяц будто указывал: вот они, храбрецы. Предусмотрительно обёрнутые тряпками вёсла не плескали, но толку, если десяток лодок на серебряной глади реки – как ножи на белоснежной скатерти.
Пожилой поручик, командир отряда, тихо ругался. Всматривался в тёмный берег до рези в глазах; уже начинали мерещиться огоньки – то ли деревни, то ли факелов неприятельских патрулей. И сквозь плеск воды чудилась перекличка часовых на чужом языке.
Заскрипел наконец песок. Выбрались, разобрались неровной цепью, начали подниматься по глинистому косогору. Сердце Ярилова бухало громче, чем сапоги ополченцев; казалось, что ещё шаг – и прямо в грудь, на звук, вонзится железо китайской пики или разорвёт ночь огненная вспышка.
– Левее надо, ваше благородие, – шептал казак-проводник поручику, – там кусты, оно вернее.
– Да заблудимся мы в твоих кустах, – шипел офицер, – до света не выберемся. Где тут дорога?
– Так они и караулят на дороге-то.
– Где они караулят? Дрыхнут небось, косоглазые. Самое сонное время перед рассветом.
– Как скажете, вам виднее, – буркнул казак.
По дороге шли нестройной толпой, и тихо не выходило: то звякнет крючок об антабку, то чертыхнётся ополченец, неловко налетевший в темноте на товарища.
Ярилов догнал поручика:
– Надо бы дозор выслать. Идём наугад, так и до беды недалеко.
– Ещё один выискался. Учёный? По первому разряду небось училище закончил?
– Не дали первый разряд. Не сошёлся во взглядах… Неважно.
– Вольнодумец, что ли? К нам в наказание сослан?
Ярилов промолчал.
– Я так тебе скажу, подпоручик: тут у нас не мостовые Петербурга. Тут жизнь другая, дикая. Нюхом надо, чутьём. Вот как зверь таёжный. Я здесь двадцать лет: после срочной унтер-офицером, потом экзамен на чин. Я, может, ваших Драгомирова и Клаузевица не читал, но нутром…
Поручик не договорил: справа полыхнул залп, и тут же раздался вой, от которого сердце забыло ударить.
Ихэтуани палили почти в упор, но бестолково: то ли не умели, то ли не надеялись на оружие длинноносых варваров. Это и спасло. Первый шок прошёл; казаки и ополченцы опускались на колено, отвечали скупыми выстрелами на звук. Сереющее предрассветное небо осветило толпу, валившую вниз по склону на русскую колонну; сверкало железо – боксёры размахивали копьями, мечами, какими-то невообразимо древними устройствами убийства, которым европейцы забыли дать названия.
И стоял непрерывный вой, забивающий уши; звучали страшные проклятия и магические заклинания. По идее нападающих, они должны были защитить от пуль и лишить врага воли, но для русских грозные слова на чужом языке слились в докучный шум.
Трупы обильно усеяли склон, но натиск не иссяк; вот первые ряды боксёров врубились в колонну. Ихэтуаней встретили в штыки и шашки; дрались неистово, с хеканьем и матом, круша головы невысоких китайцев прикладами. Ярилов давно разрядил барабан револьвера; шашку выбил вопящий боксёр, и едва удалось уклониться от длинного наконечника, но противник промазал и вонзил пику в землю – хрустнуло хлипкое бамбуковое древко. Ярилов ударил китайца рукояткой пустого револьвера в лицо – только зубы затрещали.
Шашку было уже не найти – затоптали пыхтящие бойцы. Андрей нащупал под ногами ремень и поднял чью-то берданку; перехватил за ствол и пошёл махать, словно дубиной.
– Вашбродь! – тронули сзади за плечо.
Ярилов прыгнул, развернулся, готовясь врезать.
– Вашбродь, свои. Поручик зовёт.
Начальник вылазочной партии лежал в грязи, под голову подложена котомка. Вспоротый живот прикрыт чьей-то шинелью. Прохрипел:
– Ярилов, уводи людей. Не вышло у меня, так и скажи генералу: мол, не справился поручик…
Закашлялся: горячие брызги полетели в глаза Андрею.
Подпоручик вытер лицо рукавом. Распрямился, одёрнул китель, пальцами пробежал по ремню. Как на занятиях по строевой в училище, дал голосу баса и внушительности:
– Отря-а-ад! Слушай мою команду!
Отходили, отстреливаясь. Китайцы преследовали вяло; пару раз нарвались на дружный залп и отстали.
Убитых и раненых несли на шинелях. Поручик умер уже в лодке.
Ярилов опустил ладонь в холодную воду Амура. Зачерпнул и плеснул в разгорячённое лицо.
* * *
Август 1900 г., Санкт-Петербург
– Да вы не беспокойтесь, я уж тут, в уголочке.
Разрумянившаяся Ульяна всплеснула руками:
– Ну что вы такое говорите! Прошу: в гостиную пройдёмте. Кто же добрых людей на куфне-то принимает?
В гостиной всё было завалено мешками и узлами; мебель – в неснятых парусиновых чехлах, всюду пыль и кавардак. С дачи мы вернулись поздно, разобрать вещи не успели.
Гость кокетничал:
– Чай, не дворяне. Нам, Ульяна Тимофеевна, в барских хоромах непривычно, не велика птица.
Я глядел восхищённо, будто глотая глазами картинку: загорелое лицо с пышными усами цвета половы, три лычки на погонах (значит, старший унтер-офицер), лохматая папаха на коленях. Обшитая галуном стойка воротника. Вместо солдатского сидора – пижонистый фанерный чемодан. А на груди – настоящий орден, Георгий!
Я не понимал, отчего у нашей прислуги в ушах «воскресные» серёжки; не замечал, как она краснеет, бросая несмелые взгляды на красавца-унтера.
– Николенька, шёл бы ты погулять, чего тебе в чаду куфонном сидеть? Тётушка Александра Яковлевна нескоро вернётся. Тогда и обедать будем.
– Ульяна, ну подожди. Мне же интересно.
Гость подкрутил усы, подмигнул:
– Да, дело было горячее. Как десятого, сталбыть, июля прибежали пароходы с войсками из Хабаровска, так его превосходительство велел вновь Амур хворсировать…
– Чего делать? – не поняла Ульяна.
– Хворсировать – это, барышня, всё равно что речку переплывать, да только по-военному, со стрельбой и, сталбыть, прочими опасностями.
– Надо же, – всплеснула пухлыми руками женщина, – я-то думала, что «форс» – совсем другое слово навроде пижонства. Глупая я.
– Вы, сударыня, отнюдь не глупая, а весьма справная женщина.
– Скажете тоже, – зарделась Ульяна, – девица я.
– Так вот, – продолжал гость, – в этот раз, говорю, всё было честь по чести, правильно, со всей дислокацией. Не то что давеча, когда нас косоглазые в засаду заманили, а евойное благородие Андрей Иванович геройство проявили и хладнокровие. Спасли, сталбыть, отряд, вывели к берегу. Да всё равно ведь конфуз! Ну и говорю: десятого июля как закрутилось! Артиллерия через реку палит, пароходы наши ревут, китайцы стреляют – грохот, шум, суета! Ну, переправились и пошли. И Сахалян взяли, и Айгун. Китайцев побили страсть, тысячи. Ну, и натурально евойное благородие господин подпоручик Ярилов опять геройствовал и нами командовал со всей строгостью, сталбыть. Цельную роту в атаку вёл, вот так-то. Ну, и ранили его, конечно.
– Ох! – побледнела Ульяна и рухнула на стул.
– Да не переживайте, – спохватился унтер, – легко ранили, вот как пчёлка жалит. Рукав малость посекло, когда на штурм редута пошли, а желтомазые картечью зачали палить. Ну, мы их к пушечным колёсам и прикололи, чтобы не баловали больше.
У меня при этих словах тоже сжало сердце. Но больше, чем страх, охватила гордость за брата.
– Я китайцев-то видала, и не раз. Косы у них, что у девиц, смешно. Но так-то люди вроде тихие.
– Это они, сударыня, тут тихие, потому как воли им не дают. А там они – чистые башибузуки. Солдата от хунхуза не отличишь, прости господи.
– От кого?
– Хунхузами у них разбойники. А самые злые – это бунтовщики, которых боксёрами прозвали. Наделали себе тайных обществ, нам жандармский ротмистр рассказывал. Как его? Во, я даже записал, чтобы не забыть.
Гость вытащил бумажку, сдул крошки махорки, развернул. Прочёл, шевеля губами:
– «Иминьхуэй». И ещё, «дадаохуэй».
– Да что вы такое говорите в приличном доме! – вскрикнула Ульяна.
– Вы плохого не подумайте, это их названия такие, на китайском языке. Китайцы – они завсегда на своём говорят, дикари. Мол, за справедливость они. А на деле – сицилисты, хуже наших бомбистов и жидов. Так о чём я? Да, сталбыть, награждён евойное благородие Андрей Иванович орденом Святой Анны. Третьей степени, конечно.
Унтер при этом не удержался: скосил глаза на свой новенький, сияющий крест.
– Мы-то знаем, что брата наградили, – нетерпеливо сказал я, – в газетах же публиковали. А вас за что?
– А меня, сталбыть, за участие в трёх штыковых атаках и взятие в плен вражеского командира. Вот отправили в столицу, чтобы, значит, орден-то вручить по всей полагающейся форме.
– Так вы скоро обратно? – спросила Ульяна.
– По случаю окончания срока уволен с действительной службы. А обратно не поеду, нет. Я, сталбыть, теперь буду место приискивать здесь. Уж больно мне Питер понравился: благородно, чисто.
– В швейцары пойдёте или по торговой какой части?
– Да ну. В швейцары старые идут, а я ещё о-го-го.
– Да, вы мужчина видный, – согласилась Ульяна.
– А по торговой части нам, кавалерам георгиевским, не к лицу. В приказчики никак нельзя. В полицию пойду. Чин мне положен – городовой старшего оклада, а там и в помощники околоточного недолго.
– Теперь столичным жителем станете.
– Да уж. Жизнь новая у меня зачинается. Разберусь, как что, да и женюсь. А что? Барышни очень даже тут красивые, как я погляжу.
И подмигнул Ульяне, которая щеками уже напоминала свёклу.
Я вдруг понял, что лишний здесь. Поднялся:
– Спасибо вам за рассказ, Федот Селиванович. Я пойду. Прощайте.
– Погодите, барин, – спохватился унтер, – вам же брат посылку передать изволили и письмо. Заболтался, чуть не забыл.
Гость расстегнул ремни чемодана, достал свёрток из синего шёлка, перетянутый кожаным шнурком.
– Вот.
– Благодарю вас.
Я прижал драгоценный свёрток к груди. Андрей не забыл меня! Даже подарок прислал с оказией. Глаза мои вдруг увлажнились, и я поспешил выскочить из кухни, чтобы не оконфузиться при незнакомце.
Дверь распахнулась, ворвался папа – в мундире, сияющий погонами. Скупо клюнул меня губами в макушку. Не поздоровавшись, порывисто спросил:
– Где? Где посыльный от Андрея?
– Там, – я махнул рукой, – на кухне.
Отодвинул меня, пошагал по коридору.
Завизжал стул, гость браво начал:
– Ваше высокоблагородие, старший унтер-офицер второй роты восточносибирского…
– Вольно, голубчик. Что Андрей Иванович?
Дальше я не слушал.
Взял трость, довольно ловко спустился по лестнице. На улице шумела листва, воробьи купались в луже. Кричал дворник-татарин на мальчишек:
– У, шайтан, куда забор полез? Вот я околотощному скажу.
Всё как обычно. Будто этот мир и не знает, что мой брат стал героем.
Я оглянулся: дворник скрылся в своей берлоге.
Отодвинул скрипнувшую доску, забрался под голубятню. Здесь был полумрак, голубиные пёрышки везде, терпко пахло птичьим помётом. Сел на шершавую доску, положил подарок Андрея в пятно солнечного света.
Потрогал дрожащими пальцами гладкий шёлк и принялся раздирать тугой узел.
Там оказался небольшой немецкий бинокль, шестикратный, обтянутый чудесно пахнущей чернёной кожей, почти не поцарапанной; медные окуляры чуть тронула зелень, а вместо кожаного ремешка был витой шёлковый шнурок. В свёртке, кроме бинокля, оказалась записка. Как ни был подарок прекрасен, первым делом я развернул листок. Ничего особенного: несколько строк, пожелание успешной сдачи испытаний по окончании первого класса и объяснение, что «цейс» – это трофей, взятый с боем у боксёрского начальника; а принадлежал ранее, видимо, какому-то несчастному немецкому коммивояжёру, судьба которого незавидна – китайцы расправляются с европейцами жестоко…
У меня навернулись нечаянные слёзы: брат впервые написал мне письмо и общался уважительно, без цукания.
Я навсегда запомнил этот день: чириканье воробьёв, клубящиеся в солнечном луче пылинки, кислый запах голубятни. И осознание, что Андрей помнит обо мне. И, быть может, даже скучает.
Глава пятая Январская гроза
Июль 1902 г., Ревель, Балтийское море
Древний провинциальный Ревель четвёртый день пребывал в непривычной суматохе.
Сырые булыжники его мостовых помнили подковы рыцарских коней и каблуки шведских пикинёров; грохот окованных колёс купеческих подвод, развозящих по лавкам товары со всего мира, и качающуюся походку бывалых морских волков…
Но подобного не было никогда: по случаю манёвров Балтийского флота императоры двух великих держав договорились о встрече на ревельском рейде.
Город прихорошился, украсил себя разноцветными флагами, достал из старинных сундуков нарядные одежды; публика вышла из обычного полусонного состояния и в болезненном возбуждении то встречала на рейде красавцы-броненосцы с жёлтыми трубами, то толпилась на узких улочках замка Тоомпеа, который соизволил посетить самодержец всероссийский. Молчаливые готические гордецы, вонзившие в серое небо шпили, одетые в позеленевшую медную чешую, с изумлением слушали радостный колокольный звон православного «Александра Невского». Русский собор напыщенно раздувал золочёные щёки куполов, едва не лопаясь от восхищения: Николай Второй и здесь побывал, отстоял службу.
В кабаках моряки из Учебно-артиллерийского отряда Балтфлота братались с зееманами с германских крейсеров; на улицах обменивались скупыми приветствиями мичманы и корветтен-капитаны, неуловимо похожие поджатыми губами, надменными стёклами моноклей и золотым шитьём обшлагов.
Каждый вечер гражданский пароход бросал якорь недалеко от чёрных бортов грозных латников моря; на палубе хор исполнял для экипажей песни – от разухабистых русских до строгих вагнеровских арий; но особенно хорошо получались, конечно, эстонские народные.
Ветреным утром 26 июля взволнованная публика толпилась на набережной, возле недавно открытого монумента в память о пропавшем без вести броненосце «Русалка».
Бронзовая девушка, раскинув крылья, печально глядела туда, откуда не вернулся из последнего похода боевой корабль, и осеняла крестом серую балтийскую воду, ставшую могилой для моряков. Ни один из них не спасся; тем и особенна морская судьба, отсюда проистекает знаменитое братство: и побеждает, и погибает весь экипаж, и это уравнивает всех – от капитана до последнего кочегара…
– Глядите! – восторгалась молоденькая барышня в воздушном платье с персиковым треном. – Пароходики!
Стоявший рядом худенький гимназист в очках вздрогнул. Не удержался:
– Извините, сударыня, но это не «пароходики», а боевые корабли. Вон, например, «Ретвизан»…
– Как вы сказали? Тревизан?
– «Ретвизан» означает «Справедливость» по-шведски. Так назывался парусный линейный корабль, который наши доблестные моряки более ста лет назад захватили в сражении и подняли на нём андреевский флаг. А его наследник – великолепный эскадренный броненосец, построенный для нашего флота в североамериканских штатах. Водоизмещение – более двенадцати тысяч тонн, прекрасное бронирование, скорость хода – восемнадцать узлов…
– Что вы говорите! – восхитилась девушка. – Надо же, узлов.
– Узел – это мера скорости, равная…
– А много ли там народу поселилось? – перебила прелестница.
Гимназист растерялся. Снял и протёр очки. Ответил:
– Ну, это же не дом. Моряки на корабле служат. Точно не знаю, но смею предположить, что экипаж составляет не менее семисот человек.
– Ого! Не в каждом селе столько проживает. А там, скажите, и немецкие пароходики имеются?
– Разумеется! Ведь нынче вы присутствуете при историческом событии – встрече двух эскадр, двух императоров – нашего Николая Александровича и германского Вильгельма. Вон там, видите? Под чёрно-белым штандартом? Это яхта «Гогенцоллерн», на ней кайзер и прибыл. А там их крейсера: «Принц Генрих», «Ниобе»…
– Какой вы умный! И очки вам идут, придают солидности. Как вас зовут?
– Простите великодушно, я забыл представиться, – заалел гимназист, – Николай Ярилов, из Санкт-Петербурга. Мой отец, инженер-капитан, нынче в командировке в Ревеле, вот я и приехал на каникулы погостить.
– Так вы из столицы! Вот откуда всё знаете. Нам, провинциалам, многое недоступно, а вы там близки к самым верхам! Ах, Петербург, – девушка мечтательно закатила глаза, – дворцы, театры, балы! Электрические фонари, рысаки, автомобили. Магазины! Ах.
Ярилов растерянно молчал.
– Так вы, должно быть, знаете, о чём нынче говорят меж собой наши правители? В газетах писали, что сегодня – прощальный завтрак, который имеет место быть на императорской яхте.
Коля не нашёлся что сказать. Зато вмешался стоящий рядом желчный господин:
– Ясно, про что говорят. Мир делят, хищники. Вильгельм нашему в уши дует: не лезь, мол, в Европу, Россия – страна азиатская, вот и возись там в Маньчжурии, а в наш калашный ряд со свиным русским рылом не суйся. А мы, тевтоны, нация цивилизованная, потому в Европе править будем. Сколько народных денежек уже в эти броненосцы вбухано, тьфу! И ладно бы родные берега защищали – нет, гонят за десятки тысяч вёрст, на край земли, в китайские моря да в японские. Про Порт-Артур слыхали? Крепость там строят и порт. Так разворуют же всё, ясное дело! Против кого крепость-то? Против макак косоглазых?
Коле очень хотелось заткнуть уши, но это было бы невежливо. Поэтому он потихоньку отошёл в сторону, поскрипывая тростью. Оглянулся и увидел: девушка глядит на него сочувственно, с жалостью. Калека, мол. И очкарик.
Сделал вид, что ему не до сантиментов; приложил ладонь ко лбу, вглядываясь в колонны могучих боевых кораблей. Шептал про себя:
– Броненосец «Победа», за ним «Император Александр Второй». А там что за крейсер? «Минин»?
Внезапно на кораблях вспухли ватные шарики белых дымков, донёсся грохот салютных пушек: белая красавица «Гогенцоллерн» грациозно скользила на запад, за ней в кильватер вытягивались остальные германцы. На мачте заполоскались сигнальные флаги.
Коля схватил цейсовский бинокль – подарок брата, поднёс к глазам. Разобрал:
«Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана».
Подивился: какой же Вильгельм адмирал? Целый кайзер. И кому адресовано обращение «адмирал Тихого океана»?
Налетел ветер, внезапно холодный в тёплый июльский день. Коля натянул поглубже гимназическую фуражку и пошёл к извозчикам, терпеливо дожидающимся пассажиров: до города прилично, пешком идти охотников не было.
Бронзовая Русалка грустно смотрела на русские броненосцы.
Словно прощалась.
* * *
Январь 1904 г., Санкт-Петербург
Снег под светом электрических фонарей сиял алмазными грудами. Роскошные экипажи, запряжённые рысаками, подлетали один за другим к театральному подъезду, высаживая публику.
Город жил рождественскими праздниками; шумели балы, давались премьеры, шелестели страусиные перья и сверкали бриллианты красавиц высшего света; в цветастых, как юбка цыганки, шатрах устраивались представления для публики попроще.
Каникулы. Купец соблазнил меня на поход в синематографический электротеатр на поздний сеанс, что было чревато: гимназические правила строго-настрого запрещали посещение увеселительных мероприятий после семи часов вечера. Я, если честно, робел, но набрался храбрости и согласился.
Наша авантюра едва не закончилась печально. Весёлая толпа ломилась в синематограф, Купец поскользнулся и с размаху таранил спину высокого господина в бобровой шубе. Пострадавший обернулся – и у меня застрял в глотке морозный воздух.
– Так. Ярилов и Купцов. Четвёртый класс. Печальное обстоятельство. Пренебрегаем, нарушаем и хамски толкаемся, ну-ну.
Мы стояли навытяжку перед гимназическим надзирателем по прозвищу Рыба Вяленая, мужчиной строгим, желчным, вечно страдающим желудочным расстройством. В иных обстоятельствах мы бы издалека разглядели шинель чиновника Министерства просвещения и успели смыться; но сегодня Рыба по случаю праздника облачился в бобровую шубу поверх сюртука и тем самым ввёл нас в заблуждение. Заманил в засаду, как монголы русских князей в битве при Калке.
В голове пусто, лишь корчили жуткие рожи страшные слова «кондуит», «неудовлетворительное поведение» и «отчисление».
– Котик, ну ты где? Опаздываем.
Какое счастье! Какое счастье, что у Вяленых Рыб имеются очаровательные спутницы. Надзиратель растянул пергаментную кожу в карикатуре улыбки:
– Сейчас, дорогая. Лишь завершу приятную беседу с молодыми людьми.
Повернулся к нам:
– А ну, растворились немедленно, словно тень отца Хамлета. Будем считать, что я столкнулся с привидениями.
Мы бежали по Невскому сквозь толпу радостных студентов и хохочущих румяных курсисток аж до театрального подъезда. Остановились отдышаться. Купец тут же достал папиросу.
– Везёт как утопленникам, – прохрипел приятель.
– Убери табак, Сера. Ещё кого-нибудь сейчас встретим. Классного наставника или самого директора.
– Да ну, не может быть. – Купец затянулся и закашлялся. – Тьфу, даже курево не в то горло. Несчастливый день.
– Вот и я говорю. Давай по домам.
Купец грустно сказал:
– Эх, жизнь гимназиста трудна, неказиста. Ни развлечься, ни покурить, всё по струнке. Без мундира из дома не выйти. Словно солдатня в армии.
Он грустно смотрел на радостную публику в богатых мехах и роскошных шинелях. Беспрерывно крякая гудком, подкатил изысканный автомобиль; выскочил лощёный адъютант, открыл дверцу. Вышел подтянутый генерал, в аксельбанте, с аккуратной бородкой…
Ого! Это же сам Куропаткин, военный министр. Генерал подал руку своей даме, сверкающей бриллиантами и палантином из соболей, и продолжил разговор:
– Я ему говорю: позвольте, Вячеслав Константинович, но такая политика неминуемо приведёт к войне с Японией. Однако мы к войне не готовы, флот не достроен, Сибирь бедна войсками, Великая магистраль не справляется с воинскими перевозками.
– А он что?
– А Плеве, представляешь, заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Удивительная беспечность! Но что, если начнётся маленькая, а вырастет в большую?
– Милый, отвлекись от дел, сегодня премьера…
Они вошли в вестибюль, и я не знаю, чем завершился разговор.
Но я вспоминал эту беседу весь январь. Когда закончились каникулы и начались занятия – тоже. Мне казалось, что от безобидного вообще-то рассказа военного министра веяло какой-то могильной жутью. Словно и вправду в тот вечер по Петербургу бродили привидения.
Не знаю, почему мне так казалось.
* * *
26 января 1904 г., рейд Порт-Артура, Жёлтое море
Совещание на борту флагманского броненосца «Петропавловск» затянулось допоздна.
– Обстановка непростая, господа, – говорил вице-адмирал Старк, – и требует от нас выдержки и бдительности. Японцы, конечно, не решатся на открытый бой. Но могут попытаться запереть нас в гавани Порт-Артура. Потому считаю верным оставить эскадру на внешнем рейде, дабы отразить возможную попытку затопить пароходы на фарватере.
– И всё же, Оскар Викторович, – сказал кто-то из офицеров, – может, убрать корабли первого ранга во внутренний бассейн? Оставить пару дозорных крейсеров, вывесить противоминные сети. Вся эскадра – словно на сквозняке. Как бы не надуло.
– А если надо будет срочно устроить демонстрацию для охлаждения горячих японских голов? Выводить корабли вновь через узкий проход, дождавшись прилива? Нет уж. Лучше мы будем готовы к началу похода в любой миг. Всё, всё, господа офицеры. Все свободны.
Выходя из адмиральского салона, начальник штаба Витгефт разъяснял кому-то:
– Ну что вы, друг мой. Никогда макаки не решатся напасть первыми, духу у них не хватит.
Ночь непроглядна, только прожектор Электрического утёса узким скальпелем щупает небо – будто пытается взрезать низкие тучи.
Ветер дул порывами, срывал верхушки тяжёлых волн, швырял горсти брызг в лицо. Где-то тут, в темноте, бродят дозором «Расторопный» и «Бесстрашный». Но божественный дух Ямато уберёг от нежеланной встречи: миноносцы флота микадо неслись сквозь тьму, чтобы атаковать беспечных русских.
На какой-то миг командир отряда Асай Сейдзиро растерялся: как искать цели в этой чернильнице? Но противник сам оказал любезность. На броненосце «Ретвизан» и крейсере «Паллада» включили мощные боевые прожекторы, будто приглашая: сюда, вот они мы. Так беспечная жертва ночного убийцы освещает лицо фонарём, и удар стилетом становится неотразимым…
– Ближе, – приказал Сейдзиро, – как можно ближе, чтобы наверняка.
Мину пустили в упор – с одного кабельтова. Промахнуться со ста восьмидесяти метров по стодвадцатиметровому корпусу было невозможно.
В 23.33 вахтенный офицер «Ретвизана» разглядел пороховую вспышку минного аппарата, тут же луч прожектора зацепил хищное тело миноносца.
– Противник по левому борту!
Загрохотали орудия: поздно – торпеда разорвала ночную тьму огненной хризантемой, ударив в нос; броненосец вздрогнул, начал крениться на левый борт. Погас прожектор, и комендоры палили во все стороны, наугад, не видя целей…
«Цесаревич» получил торпеду в корму и остался без рулевого управления; пылала «Паллада», поражённая под мидель, матросы тушили шахту элеватора, батарею, офицерские каюты и падали, задыхаясь от едкого дыма, на затоптанную палубу.
Дежурный по крепости телефонировал в морской штаб:
– Что там у вас за шум, полуночники?
– А, ночные учения, – беспечно отвечали моряки, – практические стрельбы. За себя переживайте.
Ночь грохотала, сверкала вспышками, металась растерянными электрическими лучами. Давно ушли японские миноносцы, зачехлив минные аппараты, словно спрятав самурайские мечи в лакированных ножнах; а русская эскадра продолжала палить, принимая за цели бугристые спины волн чужого моря. Свистели боцманские дудки, метались вестовые; вахтенные офицеры мучительно всматривались во тьму; и бился ветер в стекло рубки…
…Я проснулся внезапно, сел на постели. По потолку спальни метались тени, словно длинные хищные пальцы, заканчивающиеся стилетами ночных убийц: качался фонарь, подсвечивая голые ветви тополя во дворе.
Ветер бился в стекло, выл испуганно, будто силился что-то сказать, предупредить о чём-то – но не мог выговорить слово.
– У-у-у. Во-о-у.
Я понял.
Это было слово «война».
* * *
27 января 1904 г., порт Чемульпо, Корея
– Итак, «Кореец» вернулся, атакованный японскими миноносцами. Блокада Чемульпо полная. Превосходство японской эскадры подавляющее: шесть крейсеров и отряд миноносцев. Не хотелось бы предаваться отчаянию, но исход сражения…
Командир «Варяга» споткнулся, замолчал. Продолжил не сразу:
– По старой флотской традиции, господа, первое слово – самому младшему по званию и годам службы. Алексей Михайлович, прошу вас.
Мичман вскочил, волнуясь. Огладил тужурку. Прочистил горло.
– Господа, я подумал…
Командир подождал. Улыбнулся ободряюще:
– Ну что же вы, граф? Продолжайте. Подумать иногда даже штафиркам не возбраняется, а уж вам и сам бог велел.
– Всеволод Фёдорович, надобно принимать бой. Я полагаю, необходимо идти на прорыв, пытаться уйти в Порт-Артур. А если суждено погибнуть, так не спустив флага.
Сел, краснея.
Офицеры поднимались один за другим, говорили о том же.
Командир помолчал. Перекрестился.
– Ну что же, так тому и быть. Офицеров по механической части прошу сделать всё возможное, чтобы обеспечить полный ход хотя бы в девятнадцать узлов. Поговорите с кочегарами, с машинной командой. От всех господ офицеров и экипажа жду, что исполните свой долг до конца. Выход назначаю в одиннадцать часов. С богом.
В ушах ещё гремели оркестры английского и французского стационеров, провожавшие крейсер на безнадёжную схватку.
Море было спокойным и безмятежным; ластилось к «Варягу», поглаживая борта зелёными лапами. Фок-мачта царапала синеву, словно пытаясь оставить последний автограф.
Мичман Нирод приник к визиру. Нащупал хищный силуэт японского флагмана. Прокричал:
– Дистанция сорок пять кабельтовых!
Это было в 11 часов 45 минут.
В 11.48 в верхний мостик угодил восьмидюймовый снаряд с «Асамы».
После боя моряки обнаружили оторванную руку мичмана, сжимающую стеклянный осколок – видимо, от оптической трубы.
Всё, что осталось от дальномерного офицера.
* * *
27 января 1904 г., Санкт-Петербург
После молебна во славу русского воинства классный наставник сказал:
– Занятий сегодня не будет, господа. День-то какой, а? День гнева и народного единения во имя гордости российской!
Понизил голос, подмигнул доверительно:
– Учащимся гимназий запрещено участвовать в уличных манифестациях, но ныне – случай особый. От имени администрации заявляю: сегодня – можно. Не наказание ждёт вас, но одобрение.
Невский проспект был забит, уличное движение остановлено. Над толпой мелькали государственные флаги, рукописные плакаты; городовые отдавали честь нам, «сизарям»-гимназистам, студентам, прочей публике.
Какой-то господин, сняв шапку, затянул «Боже царя храни!» – и его не встретили насмешками – наоборот, поддержали.
На мосту через Мойку подхватили армейского поручика, принялись качать:
– Слава русским офицерам!
– Покажите азиатским варварам, что такое Русь великая, Русь святая!
– Урра!
Офицер взлетал в воздух, одной рукой вцепившись в фуражку, другой придерживая болтающиеся ножны. И растерянно косился на низкие перила моста: не перелететь бы на лёд.
Стайка разрумянившихся курсисток выискивала в толпе кадетов, юнкеров, офицеров – и дарила им вручную раскрашенные бумажные цветы. Самая бойкая, светловолосая и сероглазая, награждала ещё и поцелуем в щёку.
Я загляделся на блондинку. Она сияла, словно маленькое солнце посреди сумрачной питерской зимы; улыбка её обнажала влажные ровные зубы, а лёгкие локоны выбивались из-под меховой шапочки в прелестном беспорядке.
Красавица заметила мой восхищённый взгляд. Подмигнула:
– Не смущайтесь, господин гимназист. Поступайте в вольноопределяющиеся, и тогда, может быть, я поцелую и вас.
Я молчал, растерянный.
– Вы так мило краснеете, ха-ха-ха! – рассмеялась незнакомка.
– Олюшка! Оля Корф, ну что же ты застряла, побежали дальше, – позвали подружки.
И она исчезла, оставив меня с бьющимся напрасно сердцем.
Пьяненький купчик поймал мальчишку-газетчика, сунул ему смятую ассигнацию, схватил пачку «Ведомостей» с царским манифестом и принялся расшвыривать: газетные листы испуганными голубями порхали над студенческими и гимназическими фуражками, над картузами рабочих и женскими шапочками; их ловили мозолистые лапищи мастеровых и нежные пальцы в тонких перчатках.
На фонарный столб забрался молодой человек с диким взором, в жёлтом банте, лохматый – явно поэт. Жандарм не пытался остановить безобразие – наоборот, аккуратно придерживал пиита за штанину с растрепанными штрипками и одобрительно улыбался.
Сочинитель бросал строчки, словно гранаты:
Русский штык пусть узнают макаки, Мы пропишем им мир в Нагасаки, Отомстим косоглазцам упрямым, Из голов водрузив Фудзияму…Публика подхватывала кровожадные слова, перепевала на все лады.
Серафим кричал мне в ухо:
– Эх, малы мы ещё, жаль. Так бы я добровольцем япошек бить.
– И я с тобой.
Купец покосился на мою трость, но сказал про другое:
– Ты-то счастливец, у тебя брат – герой! Всех победит, вернётся в орденах. Ура!
– Уррра! – подхватил я, а следом за нами – сотни глоток.
Боевой клич, доставшийся нам в наследство от монгольских полчищ, нёсся над улицами и площадями имперской столицы.
Испуганные голуби носились, не смея приземлиться – будто растерянные души погибших.
* * *
Февраль 1904 г., Санкт-Петербург
На перемене, как всегда, сгрудились вокруг одноклассника, отец которого работал в типографии и имел доступ к свежайшим новостям.
Разглядывали иллюстрированное приложение, пахнущее краской: весь разворот занимали довоенные ещё фотографии кораблей эскадры Тихого океана, запертых ныне в Порт-Артуре.
Это были дни моего триумфа. Я так и не смог ни с кем сблизиться за четыре года гимназической жизни, не считая Купца, конечно. Наша дружба выглядела странно, но теперь я понимаю: два изгоя, два калеки (если считать тугой ум Серафима за уродство), мы поддерживали друг друга во враждебном мире, и это выглядело симбиозом меж двумя увечными.
Меня сторонились, считая слишком заумным; увлечения сверстников были либо скучны, либо недоступны. Благодаря стараниям преподавателя гимнастики Пана я сумел избавиться от костылей, но в лапту или футбол, разумеется, играть не мог. С другой стороны, мне было хорошо одному, в собственном мире, стенами которого были книги; игра в орлянку или чтение книжонок о Нике Картере и прочих «королях сыщиков» казались мне варварскими занятиями.
Но теперь я считался главным знатоком военного дела: ведь отец мой, инженер-капитан, служил по морскому ведомству, а родной брат был уже поручиком, кавалером двух орденов, командиром роты восточносибирских стрелков; кроме того, я многое знал из той области, в которой не только мои бестолковые одноклассники, но и люди постарше смыслили мало. У меня, например, был доступ к библиотеке Морского собрания Кронштадта; читал я быстро, буквально глотая страницы, и обладал чудесной памятью.
– Эскадренные броненосцы «Полтава», «Петропавловск» и «Севастополь» – систершипы, – пояснял я, тыча в фотографии.
Кто-то перевёл и рассмеялся:
– «Сёстры-корабли»! Что-то ты путаешь, Ярило: как они могут быть сёстрами? Они что – девки?
– Так называются однотипные корабли; у англичан корабль – «она», женского рода. То, что однотипные – хорошо: им удобно в бою выступать вместе, так как скорость, вооружение, все боевые возможности схожи, и адмиралу не надо задумываться, что какой-то вдруг отстанет от эскадры или окажется слабее товарищей, тем самым подведя остальных.
– Точно! Это как Купца в футбольную команду брать: неуклюж, неловок, по мячу ни за что не попадёт.
Все рассмеялись; Серафим ухмыльнулся и показал остряку тяжеленный кулак:
– Я и без вашего дурацкого пузыря разберусь, кому башку проломить.
Потом я рассказывал о новейших двенадцатидюймовках; о броне гарвеевской и крупповской; о дальномерах, радиотелеграфе, минах самодвижущихся и обыкновенных…
– Постой, – перебили меня, – не сходится. Ты говорил, что эскадренный броненосец – это главный корабль на войне, самый сильный. Вот как латный рыцарь на коне среди всякой пешей мелюзги, так?
– Не совсем, но ладно. Да, сила флота в первую голову зависит от числа броненосцев, верно.
– Как так получается: ты сам говорил, что у японцев всего шесть таких, а у нас – семь, больше. А уж наши моряки всяко сильнее хлипких япошек, которые даже снаряд-то поднять не смогут. А получается, наши сидят в этом самом Порт-Артуре, как мыши под веником, попрятавшись. Чего им не выйти в море да не побить макак сразу? И на саму Японию напасть. Почему такое?
Все загалдели наперебой:
– Заманивают! Чтобы не спугнуть. Не то разбегутся, как тараканы, лови их потом по всему Тихому океану.
– Болтун у нас умнее любого флотоводца! Чего в гимназистах прозябаешь, давно бы над флотом начальствовал, ха-ха-ха!
– Косоглазым британцы и американцы помогают, вот они и наглеют. А наши выжидают, чтобы не злить.
Я молчал. Приятели неожиданно задели струну, которая во мне самом звенела напряжённо с той самой январской ночи. Война шла второй месяц, а успехов не видно; эскадра действительно трусливо сидела в гавани, если верить газетным сообщениям.
– Так чего молчишь, Ярило?
Все смотрели на меня: кто недоверчиво, кто насмешливо; лишь Купец – с надеждой, что я сейчас всё разъясню, и станет ясно, как с арифметической задачкой на дроби.
– Думаю, дело в адмирале, – сказал я осторожно, – вот доедет до Порт-Артура Степан Осипович, и дело переменится.
– Точно! Макаров им задаст жару! Перетопит желторожих, как котят.
Но тут раздался звонок; ребята потянулись в класс, обсуждая перспективы нашей эскадры и споря, сколько продержатся японцы – неделю или месяц.
Я ковылял последним, и хорошо: никто не видел моего нахмуренного лица.
Мне самому хотелось верить, что вице-адмирал Макаров, автор первой минной атаки в русской истории, храбрец и умница, сможет разбить флот микадо.
Но что-то глодало внутри: то ли скупые рассказы отца о нашей вечной неготовности, о бестолковости и неразберихе, царящих в осаждённой крепости. То ли мучившее меня волнение за брата Андрея, которое не покидало с января.
Я вздохнул и вошёл в класс.
* * *
31 марта 1904 г., Порт-Артур
Весь месяц на кораблях Тихоокеанской эскадры царило радостное возбуждение; ушли в прошлое тяжкие мысли и уныние, связанные с катастрофой внезапного японского нападения. Степан Осипович живо наладил разведку и наблюдение: теперь ни одно движение японцев не оставалось без внимания и ответного действия. Пять раз адмирал выводил корабли в Жёлтое море, не только давая отпор противнику: ещё важнее было сколотить эскадру накрепко, приучить её к совместным действиям, поднять дух экипажей.
Все попытки адмирала Хэйхатиро Того затопить на фарватере пароходы-брандеры и тем запереть эскадру в гавани жёстко пресекались; круглосуточно шёл ремонт повреждённых в январском ночном бою кораблей. Макаров привёз с собой из Санкт-Петербурга лучших инженеров и мастеровых, несколько вагонов ценнейших запасных частей и инструментов: теперь каждый день приближал восстановление мощи русской эскадры. Известия об этом (Порт-Артур был наводнён японскими шпионами из числа китайского населения и корейцев), а также о подготовке на Балтике новой эскадры в помощь силам Дальнего Востока повергали японский штаб в уныние и сдерживали переброску войск морем в Корею.
Победа над Россией уже не казалась быстрой и легкодостижимой.
Та ночь началась со странных, даже непостижимых событий.
Вечером по указанию Степана Осиповича летучий отряд отправился в поиск к острову Эллиот на разведку; в непроглядной тьме заблудились и отстали от своих миноносцы «Страшный» и «Смелый». Пользоваться световыми сигналами было строжайше запрещено, дабы не обнаружить себя; маленькие корабли плутали в одиночестве, пытаясь найти своих.
Наконец капитан «Страшного» в кромешной тьме разглядел тёмные силуэты и редкие искры из низких труб. Миноносцы! Свои. С облегчением выдохнул, велел рулевому пристроиться в кильватер.
Когда начало светать, с мателота запросили позывные. «Страшный» ответил короткими высверками аппарата Ратьера – и в следующий миг над Жёлтым морем заверещали сигналы тревоги; вспышки выстрелов опередили рассвет.
Это были не свои. Это были японские истребители, которые прикрывали тайную ночную операцию по минированию выхода из порт-артурской бухты.
Расстрелянный в упор русский миноносец тонул, когда на помощь ему бросился дежурный крейсер «Баян»; эскадра поднимала пары и снималась с якорей.
«Баян» отогнал японских стервятников бешеным огнём и поспешил к месту гибели товарища; среди обломков удалось выловить только пятерых матросов, чудом уцелевших в яростной схватке. Шестому бросили конец; он лежал на обломке решётчатого люка на спине; живот его был рассечён осколком, внутренности вывалились.
– Держись, голубчик! – кричали с «Баяна». – Хватай конец, вытянем.
Матрос попытался нащупать канат, но бессильная рука соскользнула. Прохрипел:
– Не могу, братцы. Помирать буду.
Откинулся на решётке; угасающий взгляд упёрся в чужое небо.
Вахтенный офицер собирался скомандовать спуск шлюпки, но не успел: вода недалеко от борта вдруг вспучилась, закипела и породила высокий фонтан от падения тяжёлого восьмидюймового снаряда.
К месту гибели «Страшного» спешили четыре японских крейсера: открыв беглый огонь, понеслись на перехват, стремясь отрезать русский корабль от входа в порт.
«Баян» отходил, резко меняя галсы, сбивая тем самым вражеских наводчиков и отвечая из кормовой башни. Одновременно прикрывал корпусом второй заблудившийся ночью миноносец – «Смелый»; так в драке более сильный прикрывает от ударов слабого товарища.
Макаров, верный своему порывистому нраву, не стал дожидаться готовности всей эскадры. Счёт шёл на минуты: адмирал без проверки и траления фарватера повёл на выручку «Баяна» импровизированный отряд из двух броненосцев и четырёх крейсеров.
Японцы, словно мазурики, испугавшиеся грозного городового, порскнули в разные стороны. Небо испачкали густые дымы: это адмирал Того вёл свой флот на выручку крейсеров.
Степан Осипович обрадовался: наконец-то настоящее дело, наконец-то ему удастся навязать осторожничающим японцам сражение! Включив в боевую колонну подоспевшие броненосцы «Победа» и «Пересвет», адмирал велел изменить курс и идти на решительное сближение с противником.
Но японцы не спешили сокращать дистанцию, словно заманивали.
Палуба флагманского «Петропавловска» дрожала то ли от злого возбуждения, то ли от напряжённой работы машин; комендоры вглядывались в дымку, ища силуэты вражеских кораблей и с нетерпением ожидая данных от дальномерщиков; грохотали цепи, поднимающие в огромные башни грозные двадцатипудовые снаряды.
«Петропавловск» дал несколько залпов; но расстояние было слишком велико.
С «Баяна» сообщили: японская эскадра в полном составе. Шесть броненосцев, шесть броненосных крейсеров, бронепалубные крейсера и миноносцы без счёта. Подавляющее преимущество – за адмиралом Того.
Степан Осипович скрепя сердце распорядился возвращаться.
У кормовой башни главного калибра, широко расставив ноги, стоял именитый художник Верещагин в наброшенной на плечи бобровой шубе: утро выдалось прохладным, а ветер – пронзительным. Знаменитый баталист точными росчерками карандаша набрасывал силуэты вражеской эскадры, расплывающиеся в утренней дымке.
– Василий Васильевич, жарко будет, – сказал мичман.
– Так шубу сниму.
– Да не в этом смысле. Возможен обстрел, осколки. Опасно. Может, пройдёте в боевую рубку? За бронёй-то спокойнее.
– Там видно плохо, щели смотровые больно узки. А мне обзор нужен.
Мичман собирался возразить, но не успел.
Броненосец вздрогнул всем могучим телом: оглушительно загрохотало, столб чёрного дыма вырвался из развороченного носа. Оранжевое пламя разорвало бронированную палубу, словно лист бумаги из блокнота художника; и почти сразу рвануло по центру корпуса, разворотив паровые котлы. Корабль с резким креном на правый борт погружался в воду носом; на задранной в небо корме продолжали вращаться огромные бронзовые винты, словно махали на прощание ошарашенным сигнальщикам кораблей эскадры.
Рванул кормовой погреб боезапаса, и страшную картину гибели флагмана заволокло непроницаемой жёлто-бурой стеной.
Когда облако дыма и пара рассеялось, на поверхности остались лишь обломки и редкие чёрные мячики – головы уцелевших.
«Петропавловск» исчез через две минуты после взрыва – и тут же взорвалась «Победа». С сильным креном поковыляла в гавань.
Комендоры русской эскадры яростно расстреливали безвинные волны Корейского залива: кто-то сказал, что на броненосцы напали японские субмарины.
Шлюпки спасли едва восемьдесят человек, погибло почти семьсот. Тела вице-адмирала Макарова и художника Верещагина найдены не были.
Коварный план адмирала Того сработал: ему удалось заманить русские броненосцы на выставленное ночью минное поле. Но он искренне расстроился, когда узнал, КТО погиб на «Петропавловске».
– Это был единственный достойный противник среди русских флотоводцев.
Горе обрушилось на Тихоокеанскую эскадру, Порт-Артур, всю империю.
В Санкт-Петербурге не было траурной демонстрации в честь адмирала, дабы «не нагнетать в обществе панических настроений». Зато демонстрация в память Макарова прошла в японской столице. Но мы об этом акте самурайского благородства не знали.
Багровый Купец на заднем дворе гимназии курил вторую папиросу подряд и хрипел севшим голосом:
– Гады, макаки. Ненавижу. Всё сделаю, но за Степана Осиповича отомщу.
Флот России будто съёжился от удара. И долго не мог оправиться.
А может, и вовсе не смог.
Глава шестая Отомстить за Макарова
Апрель 1904 г., граница Кореи и Китая
С рокового для крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» боя под Чемульпо началась операция по переброске армии генерала Куроки в Страну утренней свежести.
Резко возросшая активность Тихоокеанской эскадры под командованием Макарова испугала японцев: им мерещился прорыв русских кораблей к портам Кореи, избиение транспортов, набитых под завязку японской пехотой…
Но с гибелью адмирала опасность исчезла; портартурцы и носа не казали из своей прочно запертой мышеловки.
Японская армия неумолимо ползла на север, сопровождаемая тысячами носильщиков-корейцев и сотнями джонок, перевозивших продовольствие и фураж; узкие прибрежные тропы, размываемые дождями, то и дело задерживали продвижение. Выглядело всё так, будто самураи сами не особо рвались встретиться с русской армией, опасаясь последствий…
– Наша позиция на пограничной реке Ялу сильна неимоверна, – рассуждал штабс-капитан, – и вполне может остановить японское продвижение до тех пор, пока из России не прибудут необходимые подкрепления. Да только ведь и эту испортим…
Поручик Ярилов не расслышал последних слов: подвода пошла на подъём, заорал возница, нахлёстывая уставших лошадёнок. Андрей ловко соскочил – и чуть не растянулся: набухшая водой земля предательски скользила.
Схватился за дощатый борт, прикрикнул на обоз– ных:
– Ну, чего заробели? Помогай, братцы.
Затащили повозку совместными усилиями. Ярилов вновь забрался на телегу, дрожащими от пережитого напряжения руками достал портсигар.
Штабс-капитан, так и не поднявшийся с сена, недовольно заметил:
– Зря вы так, друг мой. Не дело офицеру совместно с «крупой» телеги таскать. Этак недалеко и до панибратства, до потери уважения.
Ярилов прикурил, укрываясь от ветра. Выбросил спичку. Сказал:
– Не стоит держать наших солдат за недоразвитых дурачков. Всё они верно понимают. И уважают за дела, а не за одни лишь погоны. Вам бы разок в бой с ними сходить, из солдатского котла похлебать недельку – вот отношения и наладятся.
– Чтобы я, потомок остзейских баронов, – фыркнул собеседник. И продолжил:
– Так о чём я? Да, флот наш, как всегда, опозорился. Сидят, спрятавшись за береговыми укреплениями, пока япошки всю Корею заполонили. А ведь сколько денег на них потрачено, сколько сил! Один броненосец стоит больше, чем полное оснащение целой дивизии. Вот вы про пулемёты слыхали, поручик?
– Даже видел на стрельбах, – кивнул Ярилов, – величайшее изобретение. Ленту в двести пятьдесят патронов за полминуты выпускает.
– Именно! Представляете, сколько пользы от такого оружия при обороне позиций? Вот даже нынешних, куда мы с вами направляемся? Так я открою вам секретные сведения, – штабс-капитан оглянулся и понизил голос, – во всей Маньчжурской армии пулемётов всего восемь штук. Вы не ослышались: не восемьсот и не восемьдесят – восемь! А на каждом броненосце их по шесть. Без дела ржавеют. Вот вам и пример несправедливого отношения к армии. Флотские только топиться красиво умеют да в кают-компаниях икру из хрусталя жрать. А нам, армейским, как обычно, выручать. В грязи по уши и без всяких кают-компаний.
– Надоело, – сказал Ярилов, – не вижу смысла в этих едких враках. Флотские, армейские – какая разница? Враг общий, Отечество одно на всех. Честь имею.
Андрей выскочил из телеги и быстро пошагал в голову колонны, не обращая внимания на крики скучающего штабс-капитана.
* * *
Из письма поручика А. И. Ярилова, май 1904 г.
«…необычайная, дикая красота. Уже за Волгой начинается безлюдье, лишь изредка мелькнёт деревенька или башкирец со своим табуном; но за Уралом открываются настоящие просторы. Зелёная стена тайги; горы, дремлющие в своём тысячелетнем сне; необычайный синий океан Байкала, который можно пить взглядом вечность. Небывалая чистота разливается в сердце, гордость за свой народ, сумевший присоединить эти красоты и богатства – и горечь, что сделано столь мало, не освоено и толики. Говорят, что от Екатеринбурга до Тихого океана населения едва миллион, причём каждый пятый – военный либо казачьего сословия; по сути, мы будто имеем в составе государства совершенно необжитую планету наподобие Луны. Люди здесь особенные, отличны их речь и уклад жизни; они даже называют земли к западу от Уральского хребта Россией, а свои – Сибирью, словно это – различные страны.
Так ведь и верно: различные.
Казаки забайкальские, или «гураны» – пожалуй, на треть бурятской крови; смуглые, узкоглазые, редкобородые, но считают себя русскими по языку и вере. Упрямцы в бою; и упрямство это, как и особенная мужественность, происходят от тяжести и суровости их жизни, когда зима занимает две трети года, страшные морозы и бедные почвы не позволяют растить в нужном количестве жито; добывают они себе пропитание скотоводством, рыбалкой и охотой, не сильно отличаясь в этом от местных полудиких племён.
Двадцать две сотни казаков генерала Мищенко проникли через корейскую границу, дабы сдерживать японский натиск, пока будет обустраиваться позиция на реке Ялу; да только без толку. После нескольких малозначительных стычек казаки отошли, а выигранное ими время было потрачено впустую.
Мне больно говорить об этом, братец; наверное, мои слова вымарает военная цензура, но я скажу: бездарность, благодушие и лень – вот наши военачальники в Маньчжурии. Я был поражён, прибыв в расположение своей новой роты: за три недели не сделано ничего, вместо защищённой позиции – какие-то дурацкие брустверы из веток, засыпанных землёй, не прикрывающие стрелков и до пояса. Когда я возмутился, почему не роются окопы полного профиля и траншеи рокадного сообщения между позициями для скрытной переброски войск – меня подняли на смех! Командир полка посоветовал мне поменьше думать и тут же пригласил на вечерний банчок.
Всюду царили высокомерие и беззаботность; мне пришлось слышать, как один надутый полковник из штаба генерала Засулича всерьёз рассуждал о природной неполноценности японцев: мол, их хилые солдатики не способны даже справиться с нормальной винтовкой вроде нашей мосинской, и потому их «арисака» имеет меньший калибр, вес и длину. Полковник разошёлся не на шутку (чему в немалой степени способствовали полграфина шустовского коньяку) и в красках описал, как наши чудо-богатыри будут насаживать на штык по полдюжине «макак».
Что же я? Написал рапорт самому Куропаткину, возмущался, требовал заняться подготовкой обороны? Ничего подобного. Я лишь подтянул солдат, постарался ближе познакомиться с офицерами и унтерами, но больше времени тратил на карты и пустые разговоры.
Стыдно ли мне? Да, стыдно – но теперь-то поздно. И ведь всегда найдётся себе оправдание: что я мог, обычный ротный командир, да к тому же новичок в этом полку?
Запомни, братец: что бы ни случилось в твоей жизни – всегда настаивай на своей правоте, скандаль, кричи. Тогда тебе не видать карьеры, но хотя бы совесть будет меньше грызть. Быть может.
Командование размазало имеющиеся войска тонкой линией на протяжении ста вёрст фронта; передовые отряды охотников при первых выстрелах отошли; мы с необъяснимой беспечностью наблюдали, как хлынувшие японские войска занимали острова на реке Ялу и её рукавах; как они готовили понтонные переправы и скапливались в местах будущего наступления. А ведь они были с наших правобережных высот как на ладони; не понадобились даже столь обожаемые тобой аэростаты, о которых здесь и не слыхали.
Когда началась переправа, наша артиллерия молчала. Лодки были уже вытащены на берег, и лишь тогда пушкари спохватились, но успели сделать едва три залпа: японцы накрыли наши батареи, расположенные открыто, при том сами оставаясь невидимыми. Да, «макаки» в совершенстве освоили огонь с закрытых позиций в отличие от наших артиллеристов!
Удар был страшен; японцы и так превосходили наши силы втрое, а в месте прорыва на наш батальон пришлось девять японских. Они лезли и лезли, не считаясь с потерями; я сразу велел беречь патроны, паля залпами и только по команде. С высоты горного хребта мы расстреливали их, как зайцев, как мишени на полигоне; и что же? Будто река порождала нескончаемые толпища, словно из лягушечьей икры лезут головастики – маленькие, чёрные, злые.
Их пехота, не выдержав огня, залегла шагов на триста ниже, я уже перевёл облегчённо дыхание – и напрасно. Нас накрыла артиллерия.
Бомбардировка – это страшно. Я почти сразу был оглушён, засыпан землёй. Меня откопали, да толку мало. Взрывные волны швыряли людей, разбрасывали наши хлипкие укрепления; не слыша ушами, я воспринимал удары всем туловищем; я дрожал, как сваренный Ульяной студень на блюде. Солдаты тащили меня прочь, ноги не слушались; меня рвало на китель чем-то невыразимо противным, нутряным.
Прошла минута или час – не знаю. От моей роты осталась едва половина; я командовал и, как говорят, делал это толково – но я совершенно этого не помню! Тело моё действовало самостоятельно, словно глиняный болван Голем, в то время как меня самого там не было…
Гвардейская дивизия японцев прорвалась в тыл; кругом царила растерянность, близкая к панике; никто не понимал, что происходит, а главное – что надо делать. К нам дважды пробивались курьеры из штаба – с совершенно противоречивыми приказами, только усугубившими неразбериху.
Моей роте велели прикрыть отход батареи, нас возглавил какой-то штабной и привёл прямо на прорвавшихся японцев. Драка была страшная; слух вернулся ко мне – но лучше бы не возвращался; скрежет стали, самурайские вопли, русский предсмертный мат… Мы дважды встречали их в штыки, но третьего раза не выдержали – бросили запряжки и побежали.
Да, друг мой. Твой брат оставил и пушки, и раненых товарищей; я вывел три десятка закопчённых, окровавленных солдат, и на всю роту оставалось едва полсотни патронов. А два батальона нашего полка так и не вышли из окружения, исчезли целиком.
Когда ты прочтёшь в газетах про наш героический отпор превосходящим силам противника – не верь. Их могло быть вдвое больше – при ином командовании мы бы до сих пор обороняли Тюренчен, а японцы топтались на корейской границе. Теперь же они прорвались и идут к Ляояну и Порт-Артуру.
Это разгром. Это позор. Отмоемся ли?..»
* * *
Май 1904 г., Санкт-Петербург
То занятие с Паном, преподавателем гимнастики Лещинским, было последним перед каникулами; поэтому он не жалел меня, гоняя нещадно.
– Давай-давай. Терпите, юноша. Чтобы запомнили хорошенько все упражнения и не забывали повторять летом; иначе в сентябре, когда я устрою испытание, вам придётся трудненько.
Мне некогда было отвечать: пот заливал водопадом глаза, сорочка вся вымокла, а натруженная нога гудела.
– Ещё круг по залу, и приступим к сладкому.
Я вздохнул и поковылял: Пан заставлял меня как можно больше ходить без трости, с каждым разом увеличивая нагрузку. В первый раз я пытался прыгать на здоровой ноге на пару вершков, подволакивая больную. Было страшно наступить на левую; меня качало, никак не удавалось поймать равновесие. Я падал, в душе надеясь на снисхождение; но Пан хладнокровно стоял рядом и цедил сквозь зубы:
– Встать, юноша! Не грех упасть от удара судьбы, но мужчина тем и отличается от слизняка, что встаёт после любых затрещин. Нет ног – на руках. Отшибло руки – на зубах. Встаёт и делает своё дело. Ну?!
Мне было больно, мне было страшно, слёзы текли пополам с потом – но я вставал, охая… Пять месяцев назад я едва одолевал десять саженей по длинной стороне гимнастического зала, и этот поход был потруднее анабасиса Александра Македонского сквозь враждебные горы Малой Азии; сейчас я три раза обходил зал.
– Отлично. Теперь приседания.
Подавив вздох, я направился к шведской стенке, чтобы уцепиться рукой для помощи.
– Раз. Два. Три, – отсчитывал Лещинский. Так, наверное, отсчитывал удары бичом римский экзекутор, когда готовил Иисуса к пути по Виа Долороза.
– Стоп! Неплохо. Куда, голубчик? Мы ещё не закончили. А теперь – без руки. Убрать руку со стенки, я сказал!
Это было жестоко. Я зажмурился, собрался с духом – рванулся вверх; что-то затрещало, боль проткнула раскалённым прутом от колена до самой макушки. Начал валиться на бок: преподаватель подхватил меня под локоть и помог подняться.
– Ну, молодец. Почти сам. А вот теперь – по-настоящему. Приседай. Давай-давай, не бойся.
Собравшись с духом, начал подниматься; внутри меня всё сжалось, ожидая вспышки – и она поразила, разорвала сознание…
Я шлёпнулся на задницу и заплакал.
Пан стоял рядом и постукивал меня согнутым пальцем по макушке, будто посылал сигналы азбукой Морзе:
– Запомните, юноша: всё даётся только через преодоление. Через боль. Через слёзы. А сами собой только прыщи вскакивают. Ну? Собрался и сделал!
Я не знаю, как это вышло, но я встал.
Лещинский дал мне отдышаться. Сказал:
– Неплохо. Вот это упражнение – ежедневно. Есть кому помочь?
Я вспомнил будущее население дачи: тётю Шуру и кухарку Ульяну. Александра Яковлевна, конечно, брезгливо подожмёт сухие губы и скажет что-нибудь про глупости, свойственные современной молодёжи. А Ульяна, несомненно, согласится поучаствовать. Будет стоять рядом, вздыхать, утирать слёзы и ныть: «Что же ты, касатик, так себя мучаешь? Бедненький мой, сиротинушка».
– Нет, – сказал я, – помогать решительно некому.
Я надеялся, что Пан отменит упражнение по такому случаю, но не тут-то было:
– Тогда у забора или у стены. Словом, чтобы было за что схватиться наподобие шведской стенки. Но только в крайнем случае! Филонить не удастся, я осенью сразу увижу.
Последним пунктом было любимое, так называемое сладкое: Пан обучал меня фехтованию с использованием трости по французской системе.
В самом начале наших занятий я посетовал, что в моей трости не спрятан стальной клинок: такие продавались в оружейных магазинах. Лещинский на это сказал:
– Я надеюсь когда-нибудь заняться с тобой настоящим фехтованием. Но для этого тебе придётся потрудиться и хорошенько освоить передвижение без подставки.
Надо ли говорить, что такая вера в моё будущее окрыляла?
Потом Лещинский сказал:
– Настоящий боец умеет употребить в дело всё, от карандаша до подстаканника. В турецкую войну стоял наш батальон в деревушке болгарской в резерве. Тихо, бои далеко – благодать! Да только башибузуки, турецкая иррегулярная кавалерия, шлялись везде небольшими ватагами. В основном грабежами промышляли, на бой-то открытый не шли – не воины, а так, мазурики. Так вот, был у меня рядовой один по фамилии Кобчик – беда, а не солдат. Бестолковый. Всё у него не так – то фурункул на шее, то флягу потеряет. А тут выдали ему новые сапоги. Неразношенные, конечно, – так он ноги враз стёр. Вот и ходил босиком, а сапоги в руках. Как начальника увидит – бросается обуваться, а уж потом честь отдаёт. Ну, надо бы наказать, конечно, да смех такой разбирал, что махнёшь рукой – чёрт с ним, с балбесом. Однажды попёрся Кобчик на речку за деревней, кашевар его за водой послал. Ни ружья, конечно, ни тесака – только ведро да сапоги через плечо. А там – башибузуки в засаде. Накинулись, хотели его в плен по-тихому утащить – тут наш Кобчик в орла превратился! Орёт и сапогами от ятаганов отмахивается, да ловко – никак с ним не справятся. Наши, пока на выручку бежали, чуть животики от хохота не надорвали. Под конец так каблуком их сердара в лоб припечатал, что тот клинок выронил. Турки подмогу увидали, на конь да бежать. И этот витязь нежданный ведром натурально одного из седла выбил! Пленил врага в честной схватке. Я его хвалить, а он чуть не плачет:
– Мне, вашбродь, ироды эти все сапоги ятаганами порезали! Не ношенная ведь совсем обувка, в чём ходить теперь?
За героизм его к медали представили. А сапоги я велел фельдфебелю новые выдать, конечно. Вот такие дела.
Я удивился этой истории волшебного преображения:
– А как он потом? Из бестолкового настоящим героем стал?
– Может, и стал бы, – вздохнул Пан, – да только под Плевной его ещё до боя убило. Шрапнелью.
Теперь, занимаясь с тростью, отрабатывая резкие удары в уязвимые места, я каждый раз вспоминал байку про Кобчика и его странную судьбу.
Занятия давно кончились, лишь в классах сидели штрафники, оставленные после уроков; в коридорах – пусто. Я спустился в шинельную, надел калоши, вышел на улицу – и нос носом столкнулся с городовым в сопровождении старшего Купчинова.
Отец Серафима повёл себя странно, заорал на всю улицу:
– Вот он, сообщник! Хватайте его.
И начал подпрыгивать, колыхая брюхом и норовя меня ухватить.
Городовой строго спросил:
– Изволите учиться в этой гимназии? Кто вы есть?
– Да, в четвёртом классе. Николай Ярилов. А что произошло?
– Да что говорить, вяжите его – да в холодную! – вопил Купчинов. От него попахивало вином.
– Извольте не шуметь и не мешать разбирательству, – прикрикнул городовой, заставив Серафимова отца примолкнуть, и повернулся ко мне: – Купчинов-младший на занятиях сегодня был?
– Нет. Я вот собирался зайти как раз к нему, узнать – вдруг приболел?
– Да что вы его слушаете, одна шайка-лейка. Сообщник! Обыскать его надо, а как же. Семьдесят целковых у родного отца, эх! Пригрел на груди гадюку поганую. И этот туда же! Вот от них, очкастых, вся муть в державе!
Купчинов исхитрился, выбросил гигантский кулак – я едва успел отшатнуться, но очки он с моего носа сбил. Всё вокруг расплылось, а в следующий миг здоровенный дядька навалился на меня, обхватил толстыми сосичными пальцами горло и принялся душить.
Дальше было как во сне: я резко присел, высвобождаясь от захвата, и ударил концом трости прямо под брюхо, целясь в ширинку полосатых штанов.
Купчинов охнул. Выпустил меня, прислонился к стене. Лицо его побагровело, будто готовясь лопнуть подобно помидору, на который с размаху уселись, – и брызнуло. Слава богу, не кровью, а лишь слезами.
Городовой посмотрел на меня с интересом и произнёс:
– Ловко.
А сзади по плечу похлопал Пан (когда он вышел из гимназии? Я не видел) и произнёс:
– Ну что же, занятия не прошли впустую.
– Разбойник, – просипел Купчинов, обретая вновь дар речи, – да я засужу. Куда сына моего подбил, а?
– Вы крепко подумайте, прежде чем в суд подавать. А то ведь свидетели найдутся, как вы в пьяном виде дебоширили и на ребёнка кидались, – сказал Пан и спросил городового:
– Что случилось-то?
– Да вот, сын у него пропал, Серафим Купчинов. В субботу ещё, то есть третий день как. А с ним исчезли семьдесят рублей. Расследуем, значит. Имеется заявление отца, – чин кивнул на багрового папашу, – а также записка. Про некоего Степана.
– Атаман иховый, не иначе, – подал голос безутешный отец, – шайка целая.
– Позвольте взглянуть?
Я развернул поданный городовым листок. Почерк Серы узнал сразу. «За Степана Осиповича! Не ищите меня».
– Ясно.
Полицейский кашлянул и осторожно осведомился:
– И что же вам ясно, молодой человек?
– Действительно, – подхватил Пан, – не томите, Ярилов!
– Мстить он отправился. Японцам. За адмирала Макарова Степана Осиповича. Давно грозился.
– Так где же его искать? – ахнул папаша.
– Не знаю. До Порт-Артура добраться не успел, наверное, но в том направлении.
– Это же надо, – восхитился городовой, – вот какие нынче пошли юноши! Охваченные, значит, патриотическим порывом. А вам, папаша, стыдно должно быть: родного сына за шаромыжника почитаете, а он на войну рвётся! Герой! Драть его, конечно, надо всенепременно за принесённое волнение, но герой!
Сера забрался в воинский эшелон, спрятался в вагоне с лошадьми. Ссадили его в Нижнем, приняв поначалу за шпиона и передав жандармам; так что появился он только через две недели – похудевший, пропахший конским навозом и страшно довольный приключением.
Папаша настолько был поражён, что даже не выдрал.
* * *
Лето 1904 г., окрестности Санкт-Петербурга
Цвела сирень, в её пьяных ароматных кустах слышались поцелуи и хихиканье. Дачная молодёжь дружными ватагами то каталась на лодочках, то ехала узкоколейкой на танцы в соседний посёлок; гостивший у нас Серафим-Сера пользовался у девиц небывалым успехом, чему способствовали усы, владение гитарой и несколько романсов, которые Купец исполнял густым баритоном, исторгавшим трепет из нежных сердец. Немалую прибавку его популярности давали байки про путешествие на войну; Сера с каждым разом расцвечивал историю новыми подробностями, и теперь выходило, что ехал он не зарывшись в сено в лошадином вагоне, а в офицерском пульмане, где его принимали за храброго вольноопределяющегося. Появлялись на свет всё новые варианты изложения: теперь его снимали с эшелона не в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге, Омске, Иркутске – словом, всё дальше в глубинах Сибири; и в деле принимал участие уже не пьяный папаша, а то ли сибирский генерал-губернатор, то ли некий великий князь, лично уломавший Купца вернуться к престарелому отцу, пребывавшему при смерти.
Думаю, через пару недель он доберётся в своих фантазиях до Порт-Артура и расскажет, как самолично сражался против микадо.
Восторженная публика внимала этим вракам, открыв от изумления рты. Мне Купец строго наказал:
– Ты уж, Ярило, не проболтайся, что мы только в пятый класс перешли. Все думают, что я восьмиклассник. А я тебе за это… с Лерой познакомлю, вот!
Кудрявая белокожая Валерия, дочь начальника пристани, была вожделенной Дульсинеей для всех местных донкихотов; я же был равнодушен к её пышным прелестям. Смешно вспомнить: в то лето я решил дать обет безбрачия и все силы свои обратить на укрепление мощи Отечества: изобрести новый военный механизм или некий способ войны, который обеспечит России господство на суше, море и даже в небесах.
Я чертил в блокноте какие-то фантастические силуэты снаряжённых самозарядными орудиями и стопудовыми бомбами воздушных кораблей, легко справляющихся с непокорным ветром благодаря керосиновым двигателям и гигантским пропеллерам; сочинял подводные крейсера, подобные жюль-верновскому «Наутилусу»; но особо мне нравились боевые марсианские треножники фантазёра Уэллса, о которых я читал по-английски в романе The War of the Worlds.
В моих дурацких мечтах всё это было вполне реальным снаряжением, применение коего позволяло поставить япошек на место и спасти честь русских армии и флота.
Поэтому мне было не до развлечений и быстротекущих, подобных легкомысленным одуванчикам, романов, которыми увлекались все мои ровесники и ровесницы. Я считал себя выше этой дурацкой суеты, этих игр в «почтальона» и в фанты со смелыми заданиями («а этот фант пусть по-французски признается в любви Наталье, хи-хи-хи». Тьфу!), писем на «языке цветов» и воздыханий в пьяном сиреневом дурмане.
Лишь иногда всплывала в памяти нечаянная встреча на январской манифестации: сероглазая блондинка, смеющаяся, озорная, вся искрящаяся, как снежинка. Звали её Ольгой, и фамилия была короткая, внезапная, как выстрел: то ли Форт, то ли Дорф. Но я гнал эти мечтания как неуместные. Какие могут быть поцелуи, когда идёт война? И не «маленькая победоносная», а трудная, требующая напряжения всех сил империи.
Я вставал с рассветом, выпивал кружку молока утренней дойки, заедал куском свежайшего хлеба и приступал к занятиям согласно заданию Пана: ходил без палки, приседал у забора; потом повторял упражнения рукопашного боя с применением трости. Купец в это время отсыпался после ночных похождений и не разделял моего энтузиазма, считая его блажью; ну и бог с ним.
После я спешил на станцию встречать первый поезд; с почтмейстером я сдружился, и он снабжал меня свежайшими газетами, вынимая из запечатанных пачек.
Я с нетерпением проглатывал военные телеграммы; но за пафосным словоблудием и потоком малозначительных известий научился видеть истину. Увы, всё было плохо. Японцы неторопливо наступали, оттесняя Маньчжурскую армию; железнодорожное сообщение с Порт-Артуром было перерезано, и это означало осаду; Тихоокеанская эскадра сидела в гавани и не высовывала носу.
Но я верил, что всё образуется со временем: спешно готовится эскадра на помощь тихоокеанцам; новые войска перебрасываются в Маньчжурию по Великой магистрали и накапливаются для решительного удара. В первом предприятии участвовал отец, обучая будущих квартирмейстеров гальваническому и минному делу; второе непосредственно касалось брата Андрея, состоявшего в армии генерала Куропаткина.
Эта война была семейным делом Яриловых; лишь я пока что не участвовал в ней непосредственно, что меня терзало и мучило. Оставалось лишь мечтать…
В то утро я, как всегда, повстречался с почтмейстером и, забрав добычу, собирался уходить, когда меня окликнули:
– Николай! Откуда здесь?
На платформе стоял папа: уставший, глаза воспалены бессонницей.
– Я ведь не сообщал о приезде. Почему же ты встречаешь меня?
Я растерялся и не знал, что сказать.
– Конечно, я рад, – сказал отец, – но ты зря утруждал ногу. Или ты на извозчике?
– Пешком, папа. Тут через лес недалеко, две версты.
– Значит, в обратный путь возьмём коляску.
Я не возражал; вскоре уже мы ехали по тенистой аллее, чмокали копыта по влажной после ночного дождя дороге, и обтянутая синим сукном спина кучера качалась перед глазами.
– Я решил повидаться перед отъездом, – сказал папа, – откомандирован в Либаву по приказу Зиновия Петровича. Вторая Тихоокеанская эскадра будет собираться там, и минно-гальванические классы направили меня для организации занятий. Андрей пишет?
– Редко. Последнее письмо было в июне.
– Не обижайся на него, война – штука, требующая всех сил и времени.
Я и не думал обижаться; просто я очень скучал по этим письмам, ставшим вдруг настоящим откровением. Андрей неожиданно поменял отношение ко мне, стал гораздо ближе – при том, что географически отдалился неимоверно, на добрых восемь тысяч вёрст.
– Да, всех сил, – задумчиво сказал папа, – дело идёт со скрипом: то гонят, то вдруг замирают. До сих пор не решили, когда выходить эскадре: Рожественский настаивает, чтобы как можно скорее, даже в августе, но наши паркетные адмиралы… Эх. Пополнение очень слабое. Нагнали запасников и новобранцев: первые всё позабыли и весьма скучают по семьям, вторые растеряны, испуганы, никогда не видели моря и боятся его.
– Разве не усиливают эскадру за счёт экипажей, которые остаются на Балтике?
– Переводят некоторых, да. Но лучше бы этого не делали. Командиры остающихся кораблей направляют к нам всякую шваль: штрафников, пьяниц, дебоширов, социалистических агитаторов, рассматривая формирование новой эскадры не как дело чести всего флота, а как личную лазейку избавиться от балласта. Это очень плохо. Бьюсь со слушателями курсов, занимаюсь с каждым – и вижу: глаза пустые, никому дела нет ни до этой войны, ни до интересов Отечества. Увы, мы не можем использовать боевые корабли Черноморского флота: турки, разумеется, не пропустят их через Босфор; если бы даже удалось уговорить османов, то англичане вмешались бы непременно. Но если нельзя взять корабли, то никто не может запретить взять черноморские экипажи для усиления Второй Тихоокеанской эскадры. Там отличные моряки – обученные, сплочённые и умелые. Я даже написал о том рапорт, но толку: ответа не получил. Отправляем, по сути, неготовую эскадру, как бы не вышло беды.
Я молчал, поражённый. Отец редко бывал откровенен, почти что никогда; обычно сдержан и даже скрытен. Видимо, дело и вправду обстояло печально, раз он разразился такой тирадой…
Отец взял меня за руку и сказал:
– Прости, я мало вижусь и разговариваю с тобой. Понимаю, что юноше твоего возраста наверняка нужно иное от отца. Я виновен, признаю.
Я проглотил внезапный комок и ответил:
– Ну что вы, папа. Я всё понимаю: служба, долг, теперь вот в Либаву…
– Не в этом дело, – резко перебил отец, – я мог бы писать тебе письма или вообще подать в отставку, чтобы быть рядом всегда. Не в этом дело.
Папу будто снедало нечто невысказанное; лицо его исказилось, словно от боли. Он замолчал, и больше мы не проронили ни слова до самой дачи и после, до вечера, когда он отправился на станцию – не считать же пустые реплики за обеденным столом серьёзным разговором.
Когда кондуктор дал третий свисток, отец внезапно обнял меня – это было так неожиданно, что я не сразу осознал прощальные слова.
– Прости. И береги себя. Андрей и ты – всё, что у меня осталось.
* * *
Фантазия первая
Лето 1904 г., Порт-Артур
«Настал роковой день, когда армия барона Ноги заняла северную часть Ляодунского полуострова и замкнула полукольцо окружения: началась осада Порт-Артура. Японская артиллерия приступила к обстрелу периметра обороны; но наибольшая опасность грозила русским кораблям, запертым в тесной гавани: стоящие на якорях, они были лишены манёвра для уклонения от бомбардировки.
Нарастающий вой снаряда; взрыв, грязный фонтан воды, перемешанной с придонным илом, – едва не угодило в наш броненосец! Могучие властелины морей совершенно беззащитны перед скрытым за горным хребтом неприятелем; японские наблюдатели с занятых высот видят гавань и направляют стрельбу, а наши отвечать не могут – бессильны грозные орудия, когда невозможно корректировать огонь.
Но чу! Что это за белоснежный шар поднимается над русскими позициями? Словно небесное облако скрывалось в наших окопах и теперь решило вернуться в свои владения.
Это аэростат! Неизвестный храбрец приехал из Петербурга, смог проникнуть сквозь японские кордоны и научил защитников Порт-Артура, как им справиться с врагом.
Строгий контр-адмирал Витгефт, временно исполняющий должность вместо погибшего Степана Осиповича Макарова, едва сдержался, чтобы не зааплодировать, когда ему доложили о готовности к полёту.
– Кто этот смельчак и умник, что придумал использовать аэростат?
К Витгефту подвели скромного молодого человека в гимназической форме.
– Николай Ярилов, ваше превосходительство, – представился юноша.
– Благодарю вас, юноша, вы оказали неоценимую услугу Порт-Артуру. Ура!
– Уррра! – подхватили матросы эскадры и солдаты армейских полков.
– Так отправляйте воздушный шар! Пусть на нём поднимется офицер-корректировщик, разведает позиции японских батарей и телефонирует нам из поднебесья, а уж мои комендоры не подведут! – приказал адмирал и велел корабельным артиллеристам приготовиться к перекидной стрельбе по невидимым целям.
Но вот беда! Как только бравый морской офицер забирается в корзину, она трещит и начинает опускаться на землю.
Аэростат не может подняться в небо: его конструкция позволяет принять не более трёх пудов веса, а в офицере – все пять пудов.
Что же делать? Где найти храбреца столь же умелого, сколь и лёгкого?
– Я готов, ваше превосходительство, – выступает вперёд гимназист.
– Ваша решительность делает вам честь, – восхищается контр-адмирал, – но как вы разглядите врага? На вас очки.
– Пустяки, зато у меня есть великолепный бинокль, подаренный братом. Кстати, поручик Андрей Ярилов служит ротным командиром у Куропаткина.
– Я немедленно распоряжусь, чтобы вашего брата перевели в Порт-Артур и назначили командиром батальона. Но это после, а сейчас имеется вопрос: сумеете ли вы верно корректировать огонь? Ведь такое дело требует недюжинных знаний.
– Несомненно, ваше превосходительство, – скромно говорит петербуржец, – ведь я хорошо разбираюсь в топографии, владею компасом в совершенстве, умею читать карты и верно определять координаты.
– А не испугаетесь? Японцы наверняка попытаются сбить шар.
Гимназист лишь усмехается, красивый и стройный.
Лезет в корзину и даёт команду:
– Аэростат поднять!
– Есть поднять!
Вращается лебёдка, травящая канат; сияющий аэростат устремляется в небо. Вот он уже на высоте, позволяющей наблюдение; диктует по телефону координаты целей.
Самураи, увидав шар, злобно визжат и размахивают мечами. Противник пытается сбить смельчака; гремят винтовочные залпы, расцветают шрапнельные разрывы, словно бутоны смерти; вся корзина изрешечена пулями и осколками, но важные сведения продолжают телефонироваться беспрерывно.
Грохочет главный калибр наших броненосцев; огромные двенадцати– и десятидюймовые снаряды летят высоко над горными хребтами Квантунского полуострова и обрушиваются прямо на японские батареи.
– Браво! – кричат храброму гимназисту.
Играют духовые оркестры, корабли эскадры поднимают на гафели приветственные сигналы в честь Николая Ярилова. Контр-адмирал Витгефт снимает со своего мундира орден и прикалывает к груди гимназиста…»
– Здоровско! – говорит Купец. – Роскошно травишь. А что за орден Витгефт отдал?
– Да какая разница? У него разных полно.
– Ты бы всё-таки уточнил, – говорит Купец, – а то наверняка и японские ордена имеются, он же вместе с косоглазыми против боксёров воевал. А зачем тебе японский орден?
– И то верно. Молодец, Сера.
– Слушай, а ты про меня забыл? Почему один на аэростате? Мы же вместе там, в Порт-Артуре.
– Так не поднимет шар больше трёх пудов.
– Точно, эх.
– Не переживай, сейчас про тебя будет.
«Судовые мастерские на полуострове Тигровом, филиал Невского завода, ранее строили миноносцы, но с началом осады Порт-Артура подвоз нужных деталей был прекращён; теперь здесь производили заказы для ремонта повреждённых кораблей Тихоокеанской эскадры, и большая часть оборудования простаивала.
Инженер-путеец Налётов добился разрешения использовать мастерские для изготовления невиданного корабля – подводной лодки «Портартурец», предназначенной изменить ход несчастно складывающейся войны.
Однако работы шли трудно: дело совершенно новое, совета испросить не у кого. Кроме того, японцы начали обстрел гавани: риску подвергались и корабли эскадры, и рабочие мастерских. Михаил Петрович велел остановить работы и тоскливо ждал перемен.
Но после героического подвига Николая Ярилова обстрел прекратился – теперь японцам надолго отбита охота вредить морякам. Налётов возобновил строительство. Необычное судно, представлявшее собой закрытый цилиндр с конусами в оконечностях, было вчерне готово, и наступило время проверки на герметичность.
– Майна! – скомандовал Михаил Петрович, и портовый кран начал аккуратно опускать на палубу «Портартурца» чугунные чушки. Наконец вес был достигнут и корабль погрузился в воду.
Выждав час, Налётов велел снять груз с палубы; теперь корабль должен был всплыть, но этого не произошло.
– Что же делать? – растерялся изобретатель. – Ведь подводная лодка так нужна для победы над японским флотом.
– Позвольте вам помочь?
На берегу стояли два гимназиста, красивые и стройные. Первый был известный вам Николай Ярилов: худощавый, в очках, с благородным профилем умного лица. Вторым – его верный спутник, силач и любимец женщин Серафим Купчинов.
– О, это будет очень благородно с вашей стороны, – обрадовался Налётов, – наслышан о ваших способностях. А то даже не знаю, что произошло и что предпринять.
– Что произошло – легко понять, – заявил Ярилов, поправив очки, – вам не удалось обеспечить необходимую герметичность, вода проникла в лодку и затопила её.
– А что же делать? Дабы обнаружить течь, нужны водолазы, но они все заняты на ремонте пострадавших от мин и снарядов кораблей, – огорчился изобретатель.
– Какова здесь глубина? Шесть саженей? Ерунда, – заявил богатырь Купчинов, – я донырну.
Разделся, играя шарами мышц, и прыгнул.
Инженеры и рабочие замерли. Прошла минута; минула вторая.
– Погиб, – выдохнул огорчённый изобретатель, – запомним же день и час великого подвига…»
– Э-э, – возмутился Купец, – ты чего это, Ярило? Так не договаривались. Только началась история – и на тебе, утонул! Я получше твоего ныряю.
– Не спеши, Сера, слушай дальше.
«Рабочие сняли промасленные картузы; Налётов украдкой вытер слезу. И в этот миг вода разверзлась, на поверхность выскочила, словно мяч, голова Купчинова.
– Готово, – произнёс Серафим, отфыркиваясь, – течь обнаружена и заделана. Теперь надо насосами откачать воду, заместить её воздухом – и лодка всплывёт!
– Пять с половиной минут под водой, – хладнокровно зафиксировал по хронометру Николай, – это рекорд Санкт-Петербурга.
– Ура! – закричали рабочие, а присутствовавшие при подвиге господа флотские офицеры вынули из ножен кортики и отсалютовали храбрецу.
Когда корабль подняли, Ярилов сделал немало дельных предложений по конструкции: по устройству балластных цистерн и насосов, по размещению вооружения. Николай также предложил изменить способ выставления мин:
– Выпускать мины через отверстие в днище лодки, «под себя», опасно – можно подорваться на собственном оружии.
– Что же делать? – озадачился Налётов.
– Надобно прорезать люк в кормовой части и выбрасывать мины так, чтобы не задеть части корпуса, винты и рули.
– Великолепно! – восхитился изобретатель. – Какое простое и остроумное решение! Вы гений, Николай Иванович.
– Всего лишь привык размышлять аналитически, – скромно заметил гимназист, – какие ещё у нас есть проблемы?
– Нет двигателей, – вздохнул Налётов, – я писал рапорт контр-адмиралу Витгефту с просьбой передать два керосиновых мотора с катеров, но он отказал.
– Мне не откажет, – улыбнулся Ярилов и в сопровождении могучего спутника отправился в штаб эскадры.
Вскоре вопрос был решён; подводная лодка успешно прошла все испытания и была готова к первому боевому походу.
– Мне нужен экипаж, – объявил изобретатель, – моторист у нас имеется, но требуются ещё два человека – командир лодки и его помощник. Дело непростое: нет опыта в подводном плавании. Корабль, погруженный в глубины океана, подвергается чудовищным опасностям: там темнота, холод, огромное давление, заставляющее прочную сталь жалобно скрипеть от перегрузок. Запас воздуха ограничен; и если что-то пойдёт не так, то никто не спасёт: ведь особенность подводного корабля такова, что он действует скрытно для противника, но и свои не смогут подать своевременной помощи, не зная, где искать «Портартурца»; да и сигнал бедствия передать нет никакой возможности. Словом, опасность смертельная. Есть ли добровольцы?
Доблестные морские офицеры, опытные кондукторы и матросы прятали глаза: они, несомненно, были храбрецами, но никто не имел опыта подводного плавания, и это не то что пугало, но неимоверно смущало.
– У вас есть экипаж, Михаил Петрович, – раздался невозмутимый голос, – я и мой друг готовы пожертвовать жизнью, если понадобится. Нам всё нипочём.
И вперёд выступил Николай Ярилов, сопровождаемый неразлучным товарищем Серафимом Купчиновым.
– Но хватит ли у вас знаний и способностей? – вскричали удивлённо присутствующие.
– Несомненно. Я досконально изучил литературу, относящуюся к подводным опытам – всю, какая имеется в Морском собрании Кронштадта. Кроме того, я разбираюсь в трюмном хозяйстве, могу вести корабль по назначенному курсу, хорошо знаю мины якорные и самодвижущиеся. А мой друг силён и смел, решителен и невозмутим перед лицом опасности, в чём вы все имели возможность убедиться.
Налётов и военные моряки закивали, соглашаясь; но тут вмешался сам контр-адмирал Витгефт.
– Ваши достоинства несомненны, молодые люди, но боевым кораблём может командовать только морской офицер.
– Что же делать? – расстроились присутствующие, переглядываясь. – Адмирал прав: негоже поручать гражданским сугубо военно-морское дело. Положение безвыходное.
– Отчего же? Выход есть, – сказал временно исполняющий должность командующего эскадрой, и его суровое лицо осветилось вдруг лукавой улыбкой. – Властью, данной мне наместником, и учитывая спешность военного времени, я ходатайствовал перед государем-императором о присвоении Николаю Ярилову и Серафиму Купчинову званий мичманов и получил именной указ его величества. Поздравляю, господа!
Тут же появились золотые погоны и кортики; все окружили смутившихся друзей и принялись поздравлять.
– Ваше превосходительство! Господа! Благодарим вас за оказанное доверие и всё сделаем, чтобы не посрамить чести офицера и гордости Андреевского флага!
Вскоре подводная лодка «Портартурец» отправилась в поход; на всех кораблях эскадры моряки выстроились шпалерами и сопровождали героев громовым «Ура!». Экипажу приходилось нелегко: пока лодка шла в надводном положении, волны легко перекатывались через небольшой корпус, захлёстывали низкую рубку. Трещали керосиновые двигатели, распространяя нестерпимую вонь выхлопных газов и делая воздух ещё более спёртым.
Но вот вышли на боевой курс; мичман Ярилов велел задраить верхний люк и скомандовал погружение. Загудели насосы, закачивая в балластные цистерны забортную воду. Керосиновые двигатели заглушили, перешли на электрические аккумуляторы; скорость сильно упала, но такова была цена за скрытность.
Внутри тесного корпуса было не повернуться, и широкоплечий Купчинов постоянно натыкался на детали механизмов, тихо чертыхаясь. Николай вёл лодку по курсу, точными движениями поворачивая штурвал. Магнитный компас внутри железного корпуса врал безбожно, но Ярилов умело взял пеленг на вершины Золотой горы и Электрического утёса, так что с ориентацией всё было в порядке.
– Вот и место, – сказал капитан «Портартурца», – здесь пролегает маршрут японской эскадры. Приступить к сбросу мин.
Первые две мины благополучно выставлены через шлюз; но третья застряла, наполовину торча из корпуса!
– Плохо, – констатировал Николай, – скоро сахар предохранителя растворится в морской воде, гальваноударная мина встанет на боевой взвод. И тогда нечаянный поворот руля сомнёт колпак взрывателя, вызовет взрыв и погубит нас всех. Давайте прощаться, друзья. Мне было лестно служить с вами в одном экипаже.
Но могучий старший помощник Купчинов не растерялся: ухватил за железную цепь привода и дёрнул её изо всех сил: мина выскочила из шлюза и встала на своё место в минной позиции.
– Отлично! Теперь нам остаётся ждать врага.
А вот и они! Дымит японская эскадра, закрывая солнце чёрным облаком; кильватерной колонной идут грозные броненосцы: «Асахи», «Фудзи» и «Сикисима». Вот они, главные латники современной морской войны – отлично вооружённые, прекрасно бронированные, дающие ход в восемнадцать узлов и больше. Гордость британских инженеров, лучшее детище их верфей и арсеналов.
Расплываются в дымке хищные силуэты летучего отряда: это броненосные крейсера Камимуры, стремительные, оснащённые скорострельными орудиями в шесть и восемь дюймов, готовые неожиданно напасть, словно лёгкая кавалерия.
Но где же флагманский корабль, эскадренный броненосец «Микаса»? Хитрый адмирал Того, будто предчувствуя подвох, крадётся сзади, предоставив остальным кораблям своей эскадры испытать опасность.
И вот сильнейший грохот сотрясает море, за ним второй и третий. Тонут все три японских броненосца; растерянные самураи визжат и грозят небу кулаками, проклиная языческую богиню Аматэрасу за то, что отвернулась от них. Да и вправду, солнце зашло за тучу, чтобы не видеть ужасной картины: вода кипит от лопающихся паровых котлов; рокочут глухие взрывы детонирующего боезапаса. Море, заполненное головами тонущих, похоже на бульон с фрикадельками.
Эх, жаль, что «Микаса» избежал этой участи!
Флагман Хэйхатиро Того приближается медленно к месту гибели соратников; во все свои раскосые глаза глядят сигнальщики на его мостике, дежурят у орудий комендоры, готовые открыть огонь в любой миг.
– Что же, братцы, – говорит капитан «Портартурца», – мы не можем упустить главного врага.
– Верно, – соглашается старший помощник, – но чем его, гадину, брать? Неужто на абордаж пойдём?
– Это было бы славно, но совершенно бессмысленно. Используем самодвижущиеся мины Шварцкопфа, которые установлены у нас на корпусе.
– Точно! – хлопает себя по лбу Купец… э-э-э, мичман Купчинов. – Однако для этого придётся обозначить себя.
– Смертельно опасно, – вступает в разговор моторист, – но я готов погибнуть вместе с такими доблестными офицерами.
И вот подводная лодка приближается к громаде броненосца; бурун от перископа выдаёт её с головой, и японские комендоры принимаются палить из всех стволов. Первая мина срывается с крепления, несётся к чёрному гигантскому борту, оставляя цепочку воздушных пузырей…
Ну! Ещё минута, ещё двадцать секунд! Мимо…
– Эх, – бьёт громадным кулаком по стальной переборке Купчинов и оставляет в ней вмятину, – чуток не хватило.
– Надо всплывать, – говорит капитан, – у нас осталась одна мина, однако механизм её запуска повреждён – видимо, японским осколком. Починим и дадим залп.
Маленький корабль храбрецов всплывает; неба не видно из-за вздымающихся стеной разрывов. Жуткую песнь поют осколки; стучат пулемёты с мостиков броненосца, пули колотят свинцовым горохом в корпус лодки.
– Не поминай лихом. – Серафим жмёт руку Николаю, срывает мундир и остаётся в одной рубахе. Зажав зубами кортик, ползёт по скользкой палубе к минному аппарату.
Вот он, застрявший в механизме осколок! Мичман Купчинов протягивает правую руку, но в тот же миг вражеская пуля выбивает из кулака и швыряет в воду кортик. Серафим вздрагивает, но не произносит и звука. Держась окровавленной правой за трос, дотягивается левой – и последним усилием голыми пальцами вырывает иззубренный кусок стали.
– Есть! – докладывает старший помощник.
– Добро, – отвечает капитан. Высунувшись из рубки, прицеливается и жмёт на рычаг спуска.
Мина срывается с крепления и несётся в борт «Микасы». Это называется «на пистолетный выстрел» – в упор!
Чудовищный взрыв разрывает корпус японского флагмана пополам; но за мгновение до этого залп корабельной артиллерии накрывает наконец «Портартурца».
Когда опадает кипящая вода и рассеивается дым, на волнующейся поверхности Жёлтого моря не остаётся от крохотной подлодки и обломка…
* * *
– Господа, извольте обнажить головы в честь героически погибших мичманов Николая Ярилова и Серафима Купчинова!
Грохочут залпы прощальных салютов; по всей империи приспущены флаги. Адмиральский катер стопорит ход на месте гибели и оставляет на воде два… нет, три венка: ещё ведь безымянный моторист.
На берегу вытирает скупые слёзы тётя Шура, надевшая траур; рыдает взахлёб Ульяна:
– Касатик, на кого ты нас покинул!
Прекрасная блондинка промокает кружевным платочком серые лучистые глаза. Про неё шепчут: «Это знаменитая Ольга Дорф-Форт, безнадёжно влюблённая в Ярилова».
Отец Купчинова рвёт на груди бархатный жилет:
– Эх! Не ценил я тебя, Серафим! Порол на конюшне, денег не давал. Зря!
Поражённые героизмом юных русских офицеров японцы немедленно сдались и прислали на траурную церемонию делегацию адмиралов и генералов; они, рыдая от осознания вины в гибели двух петербуржцев, вручают родственникам два ордена Хризантемы, каждый с чайное блюдце, и совершают массовый обряд сэппуку, вываливая сизые внутренности на причал…
Но что это! Кто эти двое, бредущие по песку? Головы их обвязаны бурыми от крови бинтами; мундиры обгорели и свисают лохмотьями.
Это мичманы Ярилов и Купчинов, красивые и стройные! Они чудом спаслись и смогли доплыть до берега, превозмогая боль многочисленных ран и грозную морскую стихию.
– Ваше превосходительство! Ваше приказание исполнено, вражеский флот во главе с флагманом уничтожен.
Занавес».
* * *
– Здоровско.
Купец, волнуясь, разломал в трясущихся пальцах папиросу и достал другую.
– Мне аж не по себе, когда про папашу. Прямо дрожь взяла, так жалко себя стало. А ты выкрутился! Ишь ты, «занавес». А что за красотка Фортдорф?
– Да неважно. Художественный образ.
– Ну-ну, образ. Эх, здорово было бы, Ярило, если так, да? И Отечеству победа, и мы – героями. Ловко ты придумал с подводной лодкой.
– Так не я. Лодку вправду Налётов строит, в «Ниве» писали.
– Всё равно. Одним махом – и все их броненосцы на дно!
– Согласен.
* * *
На следующий день вышли газеты: 28 июля 1904 года Тихоокеанская эскадра пыталась прорваться во Владивосток и приняла бой в Жёлтом море. Всё закончилось плохо: наши, не добившись результата, повернули назад, в Порт-Артур. Несколько кораблей разбрелись по нейтральным портам и там интернировались до конца войны.
Позднее мы узнали: нашим морякам не хватило совсем немного, крохотного усилия, чтобы переломить ход сражения и, быть может, всей войны: эскадренные броненосцы «Микаса» и «Асахи» были сильно повреждены и лишились возможности стрелять главным калибром, остальные корабли также получили чувствительные удары; у японцев практически закончились снаряды, и адмирал Того собирался отдать приказ о прекращении сражения.
Но в этот переломный миг был убит осколком контр-адмирал Витгефт. Он с самого начала не верил в успех прорыва и отказался уходить в боевую рубку, под защиту брони. Сказал:
– Всё равно где помирать.
Эскадру повёл командир флагманского корабля «Цесаревич», но вскоре был тяжело ранен. Началась неразбериха, броненосцы сбились в кучу, крейсера разбежались кто куда.
Нам не хватило совсем чуть-чуть. Но на войне «чуть-чуть» – это безумно много.
Часть вторая Бомба для девочек
Глава седьмая На сопках Маньчжурии
Август 1904 г., окрестности Петербурга
Лето было особенным.
Детство кончилось, унеслось, как пушинки созревшего одуванчика – навсегда и безвозвратно.
Для ровесников игру в рюхи заменили футбол, танцы и участие в добровольной пожарной дружине; Купца туда взяли за силу и рост, многие думали, что он уже студент, – выглядел Сера значительно старше своих семнадцати. Я избегал общества, но если раньше мне были просто скучны развлечения дачной молодёжи, то теперь палка и очки стали вдруг поводом для стеснения; однако друг Серафим боролся с этим и постоянно привлекал меня в компанию. Я старался выглядеть независимо, инстинктивно копируя брата Андрея: изображал циника и философа, далёкого от суеты – но в душе страдал от своей неполноценности и тайно мечтал о внимании девиц и уважении ровесников. Последнее легко достигалось, как только разговор заходил о войне: я наизусть сыпал номерами полков, фамилиями командиров и боевыми характеристиками кораблей; знал назубок военные карты и мог объяснить любой манёвр что наших, что вражеских войск.
С девицами поначалу было труднее, но моя независимая поза и знание стихов сделали своё дело; завывая, я читал Блока и Бальмонта, а дачные красотки закатывали глазки и шептали «шарман, манифик». Хотя не осознавали и толики вложенных в строки смыслов и образов; впрочем, и я тогда мало что понимал, но нагонял таинственности.
Так вот, одним из развлечений были самодеятельные концерты, на которых читались стихи, разыгрывались сценки из водевилей и драматических пьес; у меня вдруг обнаружился некий актёрский дар, да и на фортепиано я баловался (старания тётушки Шуры не прошли зря). Выступления эти давались ради сборов в пользу пожарной команды: деньги предназначались для покупки оснащения огнеборцев и строительства депо. Хотя главным для молодёжи, конечно, были танцы после концерта; доски снятой в аренду риги натирались воском, и по ним скользили пары, вспыхивали и гасли внезапные романы; эти драматические сцены актёры-самоучки играли гораздо лучше, чем часом ранее в любительском спектакле.
Я, конечно, не танцевал. Садился на стуле, отставляя в сторону трость и опираясь на неё (подобную позу я подсмотрел на картине восемнадцатого века, изображающей какого-то французского маршала), и придавал лицу выражение скепсиса и отрешения глубокомысленного мудреца. Неизменно кто-нибудь из барышень, а то и парочка подружек подсаживались ко мне и щебетали о ерунде; я устало кивал и улыбался как бы через силу.
Господи, каким я был идиотом!
Меня кооптировали в пожарную команду механиком: я взялся приводить в порядок списанную ручную помпу, помещённую на повозке. Когда я представил нашему брандмейстеру, отставному флотскому кондуктору, список необходимых для ремонта деталей, он застонал:
– Андрей Иванович, голубчик, наш бюджет не выдержит этаких трат. Для парада будет достаточно, чтобы механизм сиял, как у кота… Словом, был начищен – этого вполне будет достаточно публике.
– А если пожар? Сиянием будем тушить?
– Тьфу на вас, какой ещё пожар, не дай бог! Если уж и случится, то потушим, используя вёдра, как всегда. Парад – он для души, понимать надо. Все и увидят, что их пожертвования нами не пропиты, а потрачены в дело.
Долго репетировали и готовились; местные крестьяне предоставили лучшие упряжки, почистили и причесали гривы лошадок. В назначенный день мы собрали пожарный поезд, гвоздём которого стала повозка с моей помпой. Насос сиял начищенной медью; Купец дудел в рожок, издавая чудовищные звуки, напоминающие о бессмертном творении Рабле; мне выдали каску, чрезмерно большую и с утраченными внутренними кожаными прокладками – она постоянно спадала и била меня тяжёлым козырьком по носу. За нами скакали две линейки с лестницами и баграми; по бортам сидели развесёлые дружинники, часть которых выделена была в духовой оркестр. Играли какой-то варварский марш; с таким, должно быть, османы штурмовали Вену.
Публика пищала от восхищения: в нас швыряли букетами полевых цветов, а в небо – шляпками. В какой-то миг я разглядел вдруг золотые локоны, и сердце моё забилось: неужели она?
Вгляделся: нет, не она. Нос пуговкой и глупенькая мордашка.
Пожарный обоз проскакал хромой рысью, потом развернулся, цепляясь оглоблями, и встал. Мы соскочили с повозок, построились неровной шеренгой, грозно топорщась снаряжением: кто с багром, кто с топором. Купец продолжал дудеть в рожок: его щипали, толкали под локоть и умоляли прекратить. Каска моя в очередной раз обрушилась на нос и сбила очки; я шарил в пыли, ища свои вторые глаза и криком умоляя соседей по строю случайно не раздавить их.
Приглашённый для парада дряхлый старичок, отставной адмирал-марсофлотец эпохи Крымской войны, что-то проскрипел про славную молодёжь и прекрасное патриотическое начинание; потом вспомнил своё былое и сказал:
– Полвека назад русские армия и флот уже показали пример доблестной обороны Севастополя; ныне дети и внуки тех героев защищают порт-артурскую твердыню и стяжают новые лавры. Ура!
– Уррра! – подхватили дачники и крестьяне, а оркестр грянул новомодный вальс «Амурские волны». Его написал капельмейстер полка восточносибирских стрелков – значит, однополчанин моего брата…
…Когда всплывает тот душный августовский вечер, я вспоминаю слова иного вальса, который будет сочинён годом позднее:
Пусть гаолян вам навевает сны, Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны…И тогда я улыбаюсь пустяку, ерунде: нашей юности, хохочущей, беззаботной и тревожной одновременно.
И тоскую о непоправимом.
* * *
27 сентября 1904 г., Санкт-Петербург
– Не дело, дружище. Выглядишь, словно сопляк-первоклашка, это им положено за спиной таскать.
Купец отобрал у меня ранец и с мясом вырвал ремни.
– И как теперь носить? – растерялся я.
– Носи под мышкой. А лучше портфель.
Сам Купец щеголял потёртым родственником саквояжа, с которым ходят акушеры; но смеяться над ним самоубийц не находилось.
Теперь у нас было пять уроков каждый день; половина пути осталась позади, мы нынче – старшеклассники.
Я отказался от занятий греческим. Меня гораздо больше привлекали естественные науки, но гимназический курс отводил на математику и физику едва пятую часть учебных часов, а отдельного урока химии, столь мне полюбившейся, вообще не было. Я уже всерьёз подумывал о переводе в реальное или коммерческое училище, где не тратилось время на мёртвые языки и прочую бесполезную ерунду; меня не манила карьера чиновника в чернильных пятнах на мундирчике, хотелось настоящих знаний. Новый век сверкал автомобильными фарами, ревел корабельными турбинами и прицеливался в небо хрупкими крыльями первых аэропланов; он требовал владения формулами и законами науки, а не зубрёжки латинских спряжений.
На большой перемене, наскоро выпив чаю, я сбежал на задний двор и достал из покалеченного ранца письмо от Андрея. Почтальон принёс его утром, но возможности прочесть в спокойной обстановке до сих пор не было.
* * *
Из письма поручика А. И. Ярилова, сентябрь 1904 г.
«…настаивал, но я наотрез отказался отправляться в госпиталь. От майской контузии я давно оправился, а ранение под Ляояном было обыкновенной царапиной.
От последнего дела осталось тошнотворное послевкусие, как от протухших щей в заштатном трактире: оборону мы держали вполне надёжно, а наши артиллеристы и пулемётчики набрались наконец опыта и действовали успешно. Но штаб не решился ответить на японский удар нашим ударом; наоборот, велел отступать на тыловую позицию в семи верстах от города. Мы брели по дороге, превратившейся в болото; дождь и туман скрыли отход, и японцев настиг сюрприз в виде внезапно опустевшей оборонительной линии.
Теперь мы ждали, что Куропаткин скомандует наконец наступление; но ждали напрасно.
Вновь какая-то сонная растерянность, пассивность; мы вяло отбивались от фронтальных атак. Японцы в чёрных мундирах, жёлтых ремнях, фуражках с жёлтыми околышами лезли и лезли, словно трудолюбивые, но бескрылые пчёлы – чтобы ужалить и умереть. А тем временем неутомимый шельмец Куроки обошёл нас с фланга, продрался по раскисшей равнине – и внезапно оказался всего в десяти верстах от станции.
Думаю, что у японцев самих не осталось ни сил, ни припасов для последнего рывка; но штабным бздунам в истерике уже привиделась перерезанная, словно горло самурайским мечом, железная дорога в нашем тылу, а вместе с тем – отрезанная и окружённая армия; вновь велели отступать. Отошли мы в полном порядке, да толку: Ляоян теперь потерян, и Порт-Артур стало ещё труднее избавить от японской осады.
Впрочем, война – не парад на Марсовом; война – это тяжёлая работа, марши под нескончаемым дождём по колено в грязи, кашель простуженных солдат в сырых землянках. И своенравная фортуна, которая пока что повернулась к нам отнюдь не лицом.
Теперь готовимся к наступлению. Наконец-то. Надеюсь, что грядущее сражение в долине Шахэ станет переломным, мы разобьём врага и дойдём до Порт-Артура.
Сейчас наш батальон остановился на ночёвку; квартирьер подобрал мне лучшую фанзу. Видел бы ты, братец, эту глинобитную будку, больше похожую на склеп! Пол земляной; китайцы спят вповалку на грязной соломе. Живут они очень бедно и голодно; я вообще не понимаю, зачем нашим стратегам эта Маньчжурия. Можно подумать, что у нас нет своей нищеты, что где-нибудь в Минской губернии или в ста верстах от Рязани прозябание лучше. Но вместо того, чтобы накормить свой народ, мы предпочитаем гробить его в гаоляновых полях совершенно чужой страны.
Однако долг офицера – сражаться, а не обсуждать приказы. Размышлять вслух в армии не дозволяется; если только тихонько и про себя, дабы старшие начальники не расслышали, упаси господи, скрип извилин и не позавидовали.
Вот сейчас, поужинав едва тёплым чаем и сухарями, я пишу это письмо, а цикады за грязной глиняной стенкой любезно заглушают скрип пера…
…не хотел об этом. Думал, что никогда не решусь; но невысказанность терзает меня, а в бой надо идти с чистым сердцем, пустым желудком и лёгкой головой.
Я очень виноват перед тобой; всё твоё детство я мстил тебе, вредил всеми возможными способами. А ты, чистая душа, прощал всё и тянулся ко мне; ты и вправду любил. А я – ненавидел.
Ты спросишь: за что. Что же, я отвечу искренне. Мама ушла, когда мне едва исполнилось десять лет. Мы были очень дружны и ласковы друг к другу. Мне жутко не хватает её до сих пор. И главным виновником её смерти я считал тебя: ведь она умерла родами. Твоими родами, братец.
Это была несусветная глупость – обвинять тебя, младенца; но я и сам был тогда младенцем, в смысле умственном. Теперь я это понимаю, а тогда мучил тебя и себя.
Я лишился материнского тепла; я достоин сочувствия.
Но ты, не имевший материнского тепла НИКОГДА, достоин сочувствия стократно. Уж по крайней мере со стороны единственного родного брата.
Я осознал это совсем недавно, когда покинул Петербург и отправился в далёкие края; что же, лучше поздно, чем никогда.
Прости меня, братец. Когда я вернусь с этой проклятой войны, мы обязательно сядем рядышком, обнимемся. Я расскажу тебе о маме: её тёплых руках, её золотых локонах; её серых глазах, всё понимающих. Вспомню колыбельные песни и сказки, которых тебе не досталось.
И мы, быть можем, поплачем о ней.
Как родные братья.
Вместе…»
* * *
Весь остаток дня прошёл, как в тумане: я не слышал преподавателей и схлопотал «плохо» по любимой географии; отвечал невпопад на вопросы Купца, вызывая его изумление…
Спешил домой, желая одного: уединиться в своей комнате с пером и чернильницей, написать ответ Андрею. О том, чтобы он не винил себя, я нисколько не обижен; о том, что есть такая детская игрушка – пирамидка. У неё основание с крепким штырём, на который нанизаны кольца разного размера и цвета; но стоит выдернуть основание – и кольца раскатятся в разные стороны, лишённые объединяющего начала. Мама была таким основанием для нашей семьи; с её смертью мы все – папа, я, Андрей – раскатились кто куда. Но время идёт, и нам пора собираться вместе, вновь соединяться – если не мамой, то хотя бы памятью о ней.
Ещё я обязательно напишу, как люблю Андрея, как скучаю и волнуюсь за него… Или не надо? Нужны ли ему, испытывающему судьбу на войне, эти сопли? Может, лучше написать что-нибудь бодрое и весёлое, чтобы он шёл в бой с улыбкой?
Дверь открыла Ульяна; в полутьме прихожей показалось, что лицо её распухло. Прислуга не сказала ни слова и исчезла в кухне; кажется, оттуда донеслось что-то вроде сдавленного стона.
Я прошёл в гостиную: за столом сидела тётя Шура. Глаза её были необычайно сухи; так бывают сухими глаза у человека, который уже не в силах плакать. В руках она мяла какой-то листок.
– Сядь, Николай, – сказала она бесцветным голосом, – сядь и выслушай меня.
Я притулился на кончике стула и разглядел наконец бумагу в её руках.
Это был бланк казённой телеграммы.
В груди моей что-то сжалось, будто ожидая удара. Что-то уязвимое и горячее, словно лишённая крыльев птица.
Это было сердце.
До сих пор я не знал, где оно находится.
* * *
24 сентября 1904 г., Маньчжурия
Наступление длилось третий день: сибирские стрелки Восточного отряда уверенно карабкались по горным отрогам, стремясь достичь перевала Тумынлин и рассечь японские позиции.
Неуёмный генерал Ренненкампф, так и не залечивший раздробленное пулей колено, не покидал седла и вёл казачью дивизию по долине реки Шахэ, сбивая вражеские заслоны лихими наскоками; сибирские стрелки теперь стремились сделать свою часть работы и поддержать доблестных забайкальцев.
Японцы сдавали рубежи один за другим; но чем выше были горы, тем ожесточённее бои; противник получал подкрепления, в то время как осторожный генерал Куропаткин не спешил наращивать удар, держа добрую половину войск в резерве.
Отстала, застряла на узких горных тропах полевая артиллерия, а вьючной было мало; планов вражеских укреплений не было вовсе. Отправленная в разведку казачья полусотня нарвалась на замаскированную позицию и отступила в беспорядке, понеся потери; бородач в лохматой папахе растерянно водил грязным ногтем по карте и бормотал:
– От туточки, вроде.
– Что значит «вроде», подъесаул?! Извольте точнее, вы же разведка.
– Ось так. Здеся, ваше высокородие.
– Сколько их?
– Рота. Мабуть, батальон, кто же разберёт. Они как зачали палить…
Подполковник сплюнул:
– Ну, станичники, в бога душу мать. Иди с глаз моих. Где четвёртая?
– Подходят.
Запыхавшийся поручик вскинул ладонь к выгоревшему околышу:
– Ваше высокоблагородие, четвёртая рота…
– Вольно, поручик, не до реверансов. Андрей Иванович, дело как раз по вам, нужен офицер хладнокровный и опытный. Вот, гляньте сюда. Оседлали япошки тропу и палят беспрерывно, весь полк держат. Надо бы сбить.
– Сколько их?
– Одному японскому богу ведомо. Рота или больше. Но пулемёт у них имеется, вот здесь. Я пятую роту выведу сюда, чтобы отвлечь огнём, а вы попытайтесь по склону.
Поручик поглядел. Задрал фуражку на затылок, почесал лоб:
– Крутенько.
– Да уж, не по набережной фланировать.
– Артиллерия будет?
– Откуда? Одна горная пушка, а снарядов три штуки, – вздохнул подполковник.
– Ну, хоть что-то. Пуганёте?
– Распоряжусь. Когда сможете начать?
– Так, тут шагов пятьсот. Потом заросли. Отдышаться, перекреститься. Через полчаса смогу.
– С богом, Андрей Иванович. На вас одна надежда.
Поручик подозвал фельдфебеля:
– Так, дружок, повзводно – вон к тому кривому дереву. Там низинка, где будем накапливаться. Командуй.
Раскрыл перочинный ножик. Нагнулся, срезал прутик и пошагал за ротой, нахлёстывая по голенищу.
Командир пятой поглядел вслед, хмыкнул:
– Сразу видать павлона. Будто со стеком по Невскому. Пижонит.
– Бросьте, штабс-капитан. Ярилов – отличный офицер, не раз в бою доказал.
– Да я любя. А когда ему уже «георгия» вручите?
– Не знаю, застряло представление, с июня ещё.
– Чёртовы штабные, зажимают нашего брата-строевика.
– Не без этого. Извольте к своей роте, штабс-капитан, вам выдвигаться через десять минут.
Ярилов тем временем собрал отделённых и взводных. Говорил, как всегда: негромко, но доходчиво:
– Идти цепью, интервал между стрелками – три шага, между взводами – двадцать. В кучу не сбиваться, у них пулемёт. Без команды не стрелять, не ложиться, не трусить, не помирать!
– Гы-гы.
– Кто там ржёт? Калинин, ты? Я вот тебе поржу. Ещё раз прозеваешь сигнал, как под Ляояном, я тебе уши шомполом прочищу.
– Виноват, ваше благородие.
– Идти тихо. Пока кустами – нас не засекут, если не топать, как жеребец перед случкой. А там – одним рывком, сто шагов всего. На бегу не стрелять, не отвлекаться: доберёмся до окопов – и в штыки. Сигнал – пушечный выстрел. Вопросы есть?
– А если они палить начнут?
– Ты, Краснов, дурак невозможный. Конечно, начнут стрелять, тут же война, а не сеновал с девкой. Только в тебя не попадут.
– Отчего же, ваше благородие?
– Потому что ты, Краснов, пустое место.
Заржали, и Краснов – пуще всех. Повеселели.
– Всё, братцы, начали. Не первый наш бой и не последний, справимся. Чья рота ловкая да тёртая?
– Четвёртая! – хором.
– С богом!
Подождал, пока командиры разойдутся по подразделениям. Махнул рукой: пошли.
Продирались сквозь заросли; на крутом склоне подошвы скользили, приходилось хвататься за колючие ветки кустарника. Обдирали ладони, матерились вполголоса.
Ярилов глянул на часы: рота опаздывала. Зашипел:
– Передать по цепи: шире шаг. Шибче, ребятки, время выходит.
Рота пыхтела, звякала амуницией; шуршали сорвавшиеся камешки. Будто огромное животное неохотно ползло по склону вверх, мучаясь сомнениями.
Андрей усмехнулся. Прошептал:
Тихо, тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи Вверх, до самых высот!Успели. Поручик в последний раз взглянул на часы. Выбросил разлохмаченный прутик. Скомандовал:
– Примкнуть штыки.
Зазвенело железо, защёлкали фиксаторы. Словно ключик вставили в замок.
– Бамм!
Лопнуло ватное облачко шрапнели. Тут же затрещали залпы пятой роты.
Японцы принялись отвечать: склон вдруг рассекла по горизонтали линия вспышек, неприятно ударили по ушам выстрелы. Ярилов поморщился: совсем близко. Выдернул шашку, поднял над головой, махнул: пошли.
От кустов до ближнего окопа – едва сотня шагов, но вверх по склону особо не побежишь. Карабкались, скребя сапогами, отталкиваясь прикладами; штыки качались вразнобой. Полминуты, минута. Увидели!
Японцы завопили, начали палить в упор; пули высекали искры из камней и кровяные фонтанчики из тел, но четвёртую было уже не остановить.
– Ырра! – исторгла сотня задыхающихся, захлёбывающихся глоток. Переваливались через невысокий бруствер, сыпались в мелкую траншею. Дрались яростно, били на выдохе; штыки скрежетали о штыки, приклады скребли тесные окопные стенки; падали, сцепившись, на дно, и там, в пыли и мате, выдавливали глаза, душили окровавленными пальцами, грызли вражеские лица зубами…
Закончилось всё в три минуты, от силы – в пять. Уцелевшие карабкались по склону, им стреляли вслед – мало кто ушёл.
Андрей вытер шашку об узкую спину лежащего на бруствере японца, долго не мог засунуть в ножны: сталь сопротивлялась, будто не напилась, будто хотела ещё…
А может, просто дрожали руки.
Подозвал:
– Калинин, дай нашим сигнал.
Унтер кивнул. Нагнулся над трупом в распахнувшемся мундире, подцепил исподнее лезвием, порезав нечаянно и кожу; потемневшая мёртвая кровь сочилась нехотя, едва-едва. Оторвал полоску ткани, нацепил на штык, принялся размахивать: мол, взяли траншею.
И тут очнулся пулемёт.
Выше, шагах в пятидесяти. Бил в упор; Калинин взмахнул своей тряпкой, будто прощаясь, и рухнул ничком. Пули рвали всех без разбору: мёртвые вздрагивали, словно живые, а живые становились мёртвыми.
Андрея ударило в плечо: ещё повезло, едва успел упасть на четвереньки и в таком неприглядном виде доковылять до изгиба траншеи, прячась от огня.
– Вот чёртова тарахтелка, – бормотал Краснов, – стрекочет и стрекочет, будто у него там патронный завод. Ваше благородие, кровь у вас. Эй, санитара сюда, ротный ранен!
Ярилов поморщился: правая рука не слушалась, рукав кителя побурел, напитался горячим.
– Засранцы. Погон оторвался.
– Это хорошо, это славная примета, – торопился Краснов, – значить, повышение вам выйдет, ваше благородие. Штабс-капитан будете, четыре звёздочки, больше ни у кого нету, хе-хе. Да где там санитар ползёт, а? Жопой в траншее застрял? Вот выйдем из боя – я ему, толстомясому, порцию-то урежу.
– Плюнь ты на санитара, Краснов. Пулемёт сбить требуется. Пока он цел – ни нам головы не поднять, ни полку двинуться.
– Ага. Оно конечно. Чем сбить-то? Пальца не высунуть, так шпарит, зараза. Что моя зазноба в Уссурийске: сыпет – не заткнуть.
– Ручная бомба у кого? У Потапа?
– Точно!
Унтер крикнул:
– Передайте по цепи: Потапа сюда.
Здоровенный стрелок пробрался, ругаясь:
– Чёртовы макаки, справный окоп вырыть не могут. Узко, едва пролез.
– Слушай, Потап, – поручик поморщился, тронув плечо, – бомбочка всего одна, так что уж постарайся. Подползёшь шагов на двадцать – только тогда, чтобы наверняка. И помни: должна головой воткнуться, боком не сработает.
– Дык учили, – развёл широченные ладони здоровяк, – система Лишина, хыкрыстеристики и недостатки. Помним.
– Давай.
Потап отдал винтовку унтеру. Подумал, снял скатку и бандольер с подсумками. Объяснил:
– Ловчее кидать будет, не помешает амуниция.
Надел колпак на гранату, повернул до щелчка, ухватился за деревянную рукоять, перевалился через бруствер.
Полз неторопливо, как белый медведь к полынье. Пулемёт ожил, когда оставалось шагов тридцать.
– Чёрт, – выругался Краснов, – чуток не успел.
Потап вздрогнул от ударившей пули. Пыхтя, встал на колени. Потом – во весь рост.
Пулемёт вдруг осёкся, будто испугался. А может, кончилась лента.
Потап размахнулся, как в деревенской драке – широко, со вкусом. Граната полетела по крутой дуге, угодила в щит – жёлтая вспышка ударила в глаза, бабахнуло; завизжали осколки, вырезая пулемётный расчёт.
Потап так и остался лежать, скалясь в мёртвой улыбке.
* * *
– Идут. Много, что твоя саранча.
– Краснов, передай по цепи: целик нуль, стрелять по команде.
Ярилова перевязали, но чувствовал себя скверно: кровопотеря велика. Подозвал ординарца:
– Дуй к подполковнику.
– Ваше благородие, а записка?
– Не видишь – писалка вся вышла. Без руки я, бестолочь. На словах скажи: японцев до тысячи штыков, не удержим позицию, нужна подмога. Давай, живо.
– Так точно, вашбродь.
Андрей смотрел, как ординарец бежит вниз по склону зигзагами, словно заяц от гончих. Проводил взглядом до зарослей и отвернулся.
Не видел, как ординарца настигла шальная пуля, сбила с ног: кувыркнулся и замер.
Густые цепи накатывались, словно волны в Канагаве: тёмно-синие мундиры, мелькающие белой пеной гетры; жёлтые околыши, будто солнечные зайчики на гребнях. Убитые оставались бесформенными кучками, но вал катил вниз – неудержимо, как цунами.
Залп, залп, ещё залп; прореженная цепь уплотнялась, заполняла промежутки: так вода мгновенно затягивает воронки взрывов.
Рота уже не слышала приказов, распалась на отдельные куски – где ещё стреляли, а где уже встречали в штыки достигших траншеи японцев…
Ярилов неловко вырвал левой рукой наган из кобуры. В глазах всё плыло. На бруствере вздыбилась тень. Выстрелил: тёмно-синий силуэт исчез, на его месте выросли три.
Слева и справа хрипела и выла рукопашная: хруст, скрежет, крик. Поручик несколько раз щёлкнул курком вхолостую: опустел барабан. Неловко пытался выдернуть шашку левой рукой.
Не успел.
Японцы навалились, каждый норовил дотянуться штыком, услышать треск рёбер русского офицера – чтобы заглушить ужас, забыть жуть этой смертельной атаки.
Перед глазами бежал по солнечному огороду, отмахиваясь от пчёл, шестилетний Николенька и кричал:
– Братик, Андрюша, как же так?
* * *
– Как же так?
Я комкал бланк телеграммы, и казённые слова расплывались, распадались на буквы; буквы норовили уползти, скрыться в дымке моих слёз.
Как же так, братик? Мы едва обрели друг друга; мы шли к этому долгих четырнадцать лет; и вот, когда до нашего объятия осталось мгновение – ты не дошёл.
Остался там, в чужом окопе, в чужой земле; чужая сталь разорвала твоё сердце, полное любви.
Подмога не пришла. Я не успел, брат; я никогда не прощу себе.
Никогда.
Глава восьмая Форт Брюса
29 сентября 1904 г., Финский залив
Пароход отошёл от пристани на Восьмой линии; назывался он «Заря», будто в насмешку: в то утро зари не было, и днём не было солнца – один вязкий туман; болезненный, как отхаркивание чахоточного.
Утром меня встретил у входа в гимназию надзиратель. Было плевать, хотя где-то на донышке по привычке всколыхнулся страх: просто так Рыба Вяленая не стал бы опускаться до какого-то пятиклассника. Не иначе, мы с Купцом чего-то натворили, сами того не зная.
Рыба снял пенсне, принялся протирать его клетчатым носовым платком; без стёкол он вдруг перестал быть грозным и желчным, щурился на меня как-то беззащитно и… По-человечески, что ли. Ещё он покашливал, словно простудился.
– Кхе. Значит так, Ярилов. Директор гимназии, весь преподавательский состав. И я, разумеется. Словом, сочувствуем твоему горю. Потерять брата… Да. Приняли решение освободить тебя от занятий на три дня. Чтобы, значит. Кхе.
От отвернулся и принялся сморкаться в тот же платок.
Кажется, он плакал.
Я подождал, но продолжения не было. Развернулся и пошёл.
Вслед донеслось:
– А вы куда, Белов, не поздоровавшись? Что это у вас над губой, гуталин? Ах, усы-ы! Что вы говорите! У вас пять минут, и чтобы никаких усов, иначе я возьму в кабинете естествознания щипцы и вырву ваши каплеуловители по одному волоску. Без разговоров! Марш!
Волшебство кончилось: Рыба вновь превратился в грозного гимназического надзирателя.
Я не стал заходить домой, а сразу отправился на пристань; билет на пароход до Кронштадта стоил шестьдесят копеек, немало, но деньги у меня были – заплаканная тётя Шура выдала три рубля с полтиной, чтобы заплатить за чай до конца года.
Отец неделю как вернулся в Кронштадт из Либавы, где заканчивалась подготовка Второй Тихоокеанской эскадры к отплытию; он собирался приехать в Петербург на днях, но я больше не мог ждать. Я обязательно должен был повидать папу, показать ему последнее письмо, написанное ещё живым Андреем. Сказать, что теперь я всё знаю, всё понимаю: и горе брата, и причину его, отцовского, стремления уехать подальше, куда угодно – на Аландские острова, в Гапсаль, в Гельсингфорс… Лишь бы не быть в доме, где умирала его жена и моя мама; лишь бы пореже видеть меня, невольного виновника нашей семейной трагедии.
Пассажиров по осеннему времени и плохой погоде было мало, и те все набились в салон на носу; на палубе остались я и двое чиновников Морского ведомства. Они разговаривали вполголоса, и я слышал иногда сквозь грохот корабельной машины казённые обрывки: «циркуляр министерства, оклад жалованья, превышение бюджета».
Я бездумно смотрел в бурун винта за кормой: кипящая белая дорожка рвалась на отдельные пузыри и напоминала Млечный путь, который исчезал в тумане неизвестности и опустошения.
Так прошла половина дороги; я здорово продрог, но не хотел в душный салон; морведовцы тоже не уходили, продолжая бесконечный и скучный, как урок латыни, разговор. Внезапно пароход заревел басом надрывно, будто заблудившийся в тумане слон; испуганно зазвенела рында, и тут же дискантом ответил свисток – совсем недалеко, саженях в двадцати, показался маленький колёсный пароход, идущий встречным курсом. Мы едва на столкнулись; чиновники возмущённо замахали руками:
– Это «Микроб»!
– Точно, из Чумного форта. Куда в такой туман? Ещё чуть – и катастрофы не миновать.
– Может, случилось что? Очередной медик помер от опытов?
Про Чумной форт ходили мрачные слухи: там изучали заразные болезни, страшные эпидемии, что было связано с огромным риском, и смерти персонала не были редкостью; посещение его было строго запрещено, деятельность окутана тайной; сообщение с Большой Землёй – только посредством принадлежащего лаборатории пароходика, того самого «Микроба».
Я невольно прислушивался к разговору, надеясь узнать что-либо новое, но чиновники пересказывали друг другу всем известные слухи. Я заскучал, и вдруг…
Капитан «Зари» по причине непогоды или иной изменил обычному маршруту – мы забрались значительно севернее. Вдруг сквозь туман вылез мрачный силуэт: будто замок некоего злобного морского разбойника или храм хтонического древнего божества. Всё ближе и ближе, всё чётче выступал из марева – и наконец сбросил туманный плащ и предстал перед изумлённым взором.
Сложенное из гигантских гранитных блоков основание, выше – серая стена из камней, будто вытесанных титанами; бойницы – как пустые глазницы колоссального черепа многоглазого морского чудовища. И всё это было покрыто чем-то осклизлым, зелёным, невыносимо противным, будто соплями и рвотой пополам.
Словно некий монстр покинул преисподнюю, выстроил здесь себе гнездо и только ждал подходящего момента, чтобы вырваться из каменного заточения и пожрать солнце, воздух, весь наш мир…
Мне стало не по себе.
Атмосферу нагнетала чудовищная вонь гниющих водорослей или ещё чего-то; даже морведовцы притихли и как по команде вытащили белые носовые платки размером с небольшой флаг – будто капитулировали.
– Неужто форт Брюса? – прогнусавил один, уткнувшись в платок.
– Точно, он, – ответил второй.
Я, признаться, был поражён; не подозревал, что есть такой. Да ещё и названный в честь одного из самых загадочных сподвижников Петра Первого.
Давно уже исчез за кормой форт, показался остров Котлин, сверкнул внезапный солнечный луч на куполе Кронштадтского морского собора; а в памяти всё не исчезал мрачный образ чудовищного сооружения.
* * *
Дверь казённой квартиры открыл незнакомый матрос в заляпанном кухонном переднике поверх формы.
– А где Лобов? – назвал я фамилию папиного вестового.
– Нету таких, – хмуро ответил незнакомец, – тебе чего?
– Я приехал к отцу, инженер-капитану Ярилову.
– И таких нет. Здеся капитан второго ранга Зинченко проживают.
Я растерялся. Как так? Неужели перепутал этаж или парадную? Но нет: обои те же, и медный персидский кувшин в углу… Это квартира отца.
– Прекратите шутки, мне не до них, – сказал я строго, – или надо обратиться к Семёну Семёновичу?
– К кому? Путаешь, паренёк.
– К помощнику коменданта Кронштадта, мы с ним дружны. Вот окажетесь на гауптвахте, друг мой, сразу память вернётся.
Матрос будто сдулся и начал нервно теребить грязный передник:
– Да что вы, барин, зачем так? Мы вчерась въехали, а до нас жил какой-то инженер, да. Вот и послание я на почту собирался отнесть, они просили, да не успевши.
Я забрал письмо; оно было адресовано не мне, тётке. Но это не остановило меня: нервно надорвал конверт, пробежал сухие строки с распоряжениями по хозяйству и пояснениями о переводе денег. Не сразу увидел ещё один листок, подписанный «Николаю».
Всего восемь строчек.
«…поступить по-иному. Андрея нет; смерть его требует отмщения. Это ненормально, когда на войне погибает сын, в то время как отец отсиживается в тылу; первыми должны умирать родители, а не дети. Я добился, прикомандирован к флагманскому минному офицеру. Срочно выезжаю в Либаву, эскадра выходит на днях. Не извиняюсь перед тобой, Николай: уверен, ты прекрасно меня поймёшь и не осудишь. Обещаю писать с дороги.
Будь мужчиной.
Инж. – кап. Ярилов И. А., сентября 28-го числа».
– Ну, барин, всё теперь хорошо? – осторожно поинтересовался матрос.
– Нет. Всё очень плохо, – ответил я и вышел из чужой квартиры.
И здесь – не успел.
* * *
До обратного рейса было ещё два часа; чтобы как-то отвлечься от снедающих меня печальных мыслей и убить время, я зашёл в гости к бывшему папиному сослуживцу, проживавшему в том же доме, но в соседнем парадном.
Олег Михайлович Тарарыкин год уже как вышел в отставку, но остался в казённой квартире Морведа. Жил он бобылём; может, поэтому был со мной столь ласков и внимателен, видя во мне сына, которого сам не имел.
Во время редких поездок в Кронштадт я обязательно с ним встречался, болтал о всякой всячине; и даже о таком, что никогда не решился бы рассказать вечно хмурому и занятому отцу.
Олег Михайлович был страстным поклонником науки вообще и химии в частности; в квартире его имелась великолепно оснащённая лаборатория, на которую отставник тратил значительную часть своей пенсии – как и на книги, заполонившие всё свободное пространство его захламлённой «берлоги», как он называл своё пристанище. Он и сам был похож на медведя: большой, лохматый, добродушный; ничего от офицера – ни осанки, ни строгости в речи и поступках.
Именно Тарарыкин приучил меня к «littérature fantastique», познакомив с Жюлем Верном и британцем Уэллсом; он же внушил мне любовь к химии и снабдил учебниками по этой чудесной науке за авторством Рамзая и Григорьева.
– Друг мой, придёт время – и человечество осознает все безграничные возможности химии! Пища, одежда, каучук для велосипедных шин, лекарства – всё это можно производить искусственно, а не добывать трудом безграмотного и забитого земледельца!
Его седые, давно не стриженные космы развевались, глаза горели – он будто вещал с университетской кафедры или даже с амвона, становясь похожим на библейского пророка: воспламеняющего, неимоверно убеди– тельного.
– Мир станет прекрасным; голодные будут накормлены, больные – излечены. Войны прекратятся, ибо человечеству станет нечего делить; наступит Золотой век – но не выдуманный религиозными невеждами, а истинный, настоящий! Мы превратим нашу планету в цветущий сад и рванёмся в космические выси, к иным мирам ради преодоления и познания, ради науки!
Я не смог удержать скептицизма (видимо, становился всё больше похожим на братца, нигилиста и ехидны) и невинно спросил:
– Насчёт войн. Как высокое человеколюбивое предназначение науки соотносится с тем, что бездымный порох изобрёл химик Поль Вьель, и это позволило существенно поднять количество выпускаемых во врага пуль, а значит, и число погибших? Динамит, нитроглицерин, мелинит и прочие вещества для смертоубийства – откуда бы они взялись, если не стремительное развитие химии? Скорострельные пушки и броня не появились бы без современного понимания строения вещества.
Сказал – и пожалел: Олегу Михайловичу будто подрубили крылья. Он весь скуксился, опустил плечи и стал не вдохновлённым пророком, а пенсионером в старой блузе, прожжённой кислотой и прочими едкими веществами во время многочисленных опытов.
Тихо промолвил:
– Увы, так было всегда. Топором можно нарубить хворост для костра, вытесать мачту для корабля или конёк для крыши дома, в котором воцарятся любовь и мир – и топором же можно проломить голову ближнему своему ради корысти, как о том поведал сочинитель Достоевский. Инструмент не имеет воли и права выбора – ими обладает только человек. И только человеку решать, на что тратить свои усилия: на созидание или на разрушение.
Впрочем, – улыбнулся Тарарыкин, – всё это мечты, а жизнь требует иного. Я ведь и сам потрудился в научно-технической лаборатории морского ведомства, созданной трудами самого Менделеева. Мне посчастливилось работать с ним вместе на Шлиссельбургском заводе, и мы с Дмитрием Ивановичем занимались отнюдь не мечтаниями, а вполне боевым делом – пироколлодийным порохом.
Потом мы говорили о Русском физико-химическом обществе: Олег Михайлович пообещал мне исхлопотать пропуск на лекции, которые читали только студентам и приват-доцентам высших учебных заведений.
– Думаю, мне не откажут. Тем более что приглашают с циклом выступлений.
– О, так вы будете читать в Петербурге? – обрадовался я.
– Пожалуй, я соглашусь.
Олег Михайлович тепло проводил меня, одарив напоследок брошюрой французской Академии наук и свежим номером «Журнала РФХО».
Заняв место на пароходе, я тут же раскрыл брошюру и с головой погрузился в трудный французский текст о «блуждающих атомах и их излучениях».
И на время забыл и о страшной потере, и о страшном форте Брюса. Даже не помню, проходил ли наш обратный маршрут мимо этой цитадели ужаса.
* * *
Декабрь 1904 г., Санкт-Петербург
– Николай, у нас будут жильцы. Сдадим комнату… Дальнюю комнату, у кухни.
Тётя Шура не решилась сказать «комнату Андрея».
Помещение пустовало давно: с тех пор как братец стал кадетом, добрых четырнадцать лет назад, когда я едва родился. Там и не осталось почти ничего в память о нём: только кровать да книжная полка; но книжки все я давно утащил к себе и прочёл по нескольку раз. Комнату использовали как кладовую, стаскивали туда всякую рухлядь: поломанную мебель, мои детские игрушки, подшивки журналов. Словом, всё, что надо бы выбросить, да жалко. У тёти Шуры были наклонности персонажа «Мёртвых душ» Плюшкина: она терзалась всякий раз, когда какая-нибудь вещица приходила в негодность, и выдумывала любые поводы, чтобы не отдать её дворнику или хотя бы продать старьёвщику-татарину. Древние, изношенные одежды она обещала распускать на пряжу; но руки не доходили, и по всему дому летала моль, чуть не лопающаяся от переедания. Старые газеты, мятые исчирканные бумажки, мои тетрадки за первый класс якобы предназначались на растопку и громоздились вдоль стены неопрятными грудами; если бы мы топили печь круглый год, то и тогда не смогли бы уменьшить эти пирамиды сколь-нибудь заметно.
Да что там говорить: на наших горючих запасах какой-нибудь океанский лайнер вполне мог сплавать в североамериканские Соединённые Штаты и обратно, взяв при этом «Голубую ленту Атлантики» за скорость.
Это была комната памяти, «дворец Мавзола». И новость о том, что в ней будет теперь жить кто-то чужой, неприятно поразила меня, уколола – но лишь на миг. В конце концов, память об Андрее всегда будет со мной, несмотря ни на что; память – в сердце, а не в стенах.
– Я и не против, тётушка.
– А я не спрашиваю твоего мнения, Николай. Всего лишь ставлю в известность, – поджала губы Александра Яковлевна. Она сильно постарела за эти месяцы и стала ещё более желчной, готовой в любую минуту к скандалу по поводу пригоревшей каши или ненадетых калош. Или совсем без повода.
– Пока что я решаю, что надобно делать в этом доме. Тем более что твой отец сам предложил пустить жильцов. Держать шесть комнат для меня, тебя и Ульяны накладно, надобно следить за расходами.
– Вот и славно, – согласился я; разговор меня утомлял, и я опаздывал на занятия.
– Я не спрашиваю, славно ли это. Я говорю, что если тебе надо что-нибудь забрать из комнаты Ан… из дальней комнаты, то изволь этим озаботиться, так как после обеда придёт дворник и вынесет всё лишнее.
– Мне ничего там не надо.
Я шагал довольно быстро и даже запыхался; лишь на первом уроке я вспомнил, что не спросил тётушку о том, кто эти новые жильцы. Впрочем, мне было всё равно.
* * *
На большой перемене разговор о Порт-Артурской осаде быстро увял: к этой войне отношение теперь было совсем не таким, что десять месяцев назад. Никто не кричал, что мы в две недели победим «макак»; никто не восхищался доблестью армии и флота после череды обидных поражений; все на разные лады ругали Стесселя, покойного Витгефта и прочих военачальников – тех самых, которых превозносили совсем недавно. В начале года хвалили решимость Куропаткина, покинувшего высокий пост военного министра ради командования Маньчжурской армией; теперь всяко поносили, называя трусом и ретроградом.
Упомянули гору Высокую, где наши войска мужественно отбивали атаки превосходящих сил целые две недели, да не удержались. Меня спросили:
– Яр, и что теперь?
– Очень плохо.
Я тростью начертил на грязном снегу заднего двора:
– Вот гора, вот сам Порт-Артур и нынешний рубеж обороны.
– Так они считай, что в городе!
– Именно так. Высокая – это господствующая высота; отныне от японских взоров ничего не укроется. Они могут своей осадной артиллерией поразить любую нашу батарею, любой редут. Что уже и делают, наверное. А главное: корабли эскадры теперь абсолютно беззащитны. Перетопят по одному, конец эскадре.
Все разом заговорили: про обречённость осаждённых и скорую капитуляцию; про невозможность подать помощь и припасы. Ходили слухи, что наши госпитали лишены лекарств, а гарнизон страдает от тифа и цинги. Резюме подвёл Купец:
– Просрали крепость, как Севастополь в своё время. А флот только и умеет, что красиво топиться.
Кто-то робко возразил насчёт стойкости и храбрости солдат и матросов; его оборвали:
– На тысячу храбрецов у нас всегда найдётся трусливый генерал-предатель, который всё изгадит.
Надо сказать, что чувство неверия в действующую власть охватило всё общество; об этом говорили в дешёвых трактирах и банкетных кабинетах дорогих ресторанов, в коридорах университетов и заводских цехах. Ругали всех начальников напропалую, от квартального надзирателя до губернаторов и министров; так недалеко было и до самого самодержца.
Вот и сейчас разговор перекинулся на какой-то «Союз освобождения», гражданские свободы и организацию Гапона; но я не слушал – меня совсем не интересовала политика.
Купца тоже. Мы пошли к парадному входу, и Серафим сказал:
– Вечером на каток? Говорят, на Мойке этой зимой хорошо: электрический свет, и недорого. Барышни румяные, шарман!
Купец плотоядно улыбнулся. Свою славу сердцееда он всячески берёг и преумножал.
– Куда мне коньки? Я же не Николай Панин, едва ковыляю. Разве на оленях покататься: говорят, самоеды уже свои чумы поставили на Неве.
– Ну и ничего, поковыляешь по краешку катка. Пан говорил, что тебе коньки полезны. А к дикарям в другой раз сходим.
– Нет, я сегодня не могу. Лекция, Физико-химическому обществу предоставили аудиторию в университете.
– Зануда ты, Ярилов. Так и помрёшь, облившись какой-нибудь кислотой, а жизнь-то мимо пройдёт!
Я лишь улыбнулся: окончить путь во время научного опыта казалось мне вполне достойным финалом.
* * *
– Это всё, что я хотел рассказать вам о перспективах химической обработки нефти. Есть ли у аудитории вопросы?
Тарарыкин вытер раскрасневшееся лицо платком: в зале было битком, сидели даже на ступенях в боковых проходах. Читал он великолепно: интересно, с живыми примерами и весёлыми отступлениями; приходили студенты разных факультетов, в том числе гуманитарных, и не только университетские.
– А когда вы нам расскажете про современные взрывчатые средства? Про шимозу и мелинит, например?
Олег Михайлович вздрогнул. Тщательно сложил платок и спрятал в карман жакета. Провёл пятерней по вздыбленным седым волосам.
– Видите ли, эти темы мне строго, э-э, не рекомендованы. Они слишком специальны и не предназначены для неподготовленных, э-э, слушателей.
– Понятно, – насмешливо сказала девица, – боятся, как бы мы бомб не понаделали.
Я вздрогнул: звук голоса показался мне знакомым.
Оглянулся: кажется, мелькнули золотые локоны, но в набитой аудитории не разобрать.
– Закроем эту тему, – попросил Тарарыкин, – если нет вопросов, то я никого не задерживаю. Николай, будьте любезны, подойдите ко мне.
Зал наполнился шумом, выходящая публика толпилась у дверей.
Я был при Тарарыкине кем-то вроде ассистента: носил лабораторное оборудование и плакаты, забирал ключи от аудитории, помогал при «наглядных опытах» – самой интересной части лекций. Дымящиеся, искрящие, меняющие цвет вещества в колбах особенно привлекали тех слушателей, которым мало преподавали естественные науки; они прозвали Тарарыкина за глаза «алхимиком».
– Дружок, – сказал Олег Михайлович, – мне нужна ваша помощь. Я ведь не все вещи перевёз в Петербург, всё не выкрою времени. А завтра у меня важный доклад. И никак без этих книг.
Тарарыкин подал мне список на листке.
– Вы же хорошо знакомы с моей библиотекой, должны разыскать. Мне никак не успеть: сегодня вечером встреча по поводу выступлений в обществе естествоиспытателей. Опять будут звать в штатные преподаватели.
– Так и соглашались бы, Олег Михайлович.
Отставник жил в последние месяцы весьма насыщенной жизнью – читал лекции, публиковал статьи и даже, кажется, консультировал в Министерстве внутренних дел; потому снял небольшую квартиру на Васильевском, недалеко от моего жилья.
– Поглядим, друг мой. А вас я прошу съездить в Кронштадт и привезти книги непременно сегодня!
Я растерялся: по зимнему времени до острова добраться было непросто. Из Ораниенбаума по льду залива ходили санные экипажи на несколько пассажиров; но туда надо было ещё доехать по железной дороге. Путь в один конец занял бы часов шесть, и вернуться я никак не успевал.
Однако Тарарыкин упредил мои сомнения:
– Вот ключи и десять рублей, – он протянул две «синенькие», – возьмите лихача. Этого должно хватить.
– Разумеется, хватит и даже останется, если торговаться.
– А вы не торгуйтесь. Дело весьма срочное.
Я кивнул и поспешил вон. День был морозный, дул сильный ветер; я закутался в башлык, оберегая уши, и пошёл настолько быстро, насколько позволяла покалеченная нога.
* * *
Признаться, я заробел, когда добрался до гавани: мне никогда раньше не приходилось нанимать лихача. Они считали себя (и не без основания) элитой, презрительно относились к обычным извозчикам, называя тех «ваньками». Вот и сейчас, по холодному времени, «ваньки» теснились у жаровни, в которой пылал огонь, а лихачи прятались от мороза в трактире и пили там чай, поглядывая в окно на богатые сани и рысаков под попонами; на облучке сидел только один из них – тот, чья была очередь.
Возле тройки топтались две девичьи фигуры в одинаковых серых пальто с недорогими котиковыми воротниками; но одна была широкая, похожая на квашню, в старушечьих кожаных калошах, а вот вторая – необычайно изящная, в ботиках. Красавица постукивала каблучками друг о друга, явно замёрзнув; её необъятная спутница басом упрашивала возницу:
– Голубчик, смилуйтесь над бедными курсистками. Два рубля, больше просто нет.
– Вы, барышня, изволите насмехаться, федосьины волосья? Шесть рублей, и то из жалости к вашей юности и мёрзлому состоянию. Вы гляньте, какой экипаж! А кони? Иховы благородия морские офицеры меньше червонца и не платят. Роскошный выезд, федосьины волосья.
Лихач и вправду выглядел знатно: бобровая шапка, тонкого сукна поддёвка, утеплённая куницей; украшенный серебром пояс. Новая повозка на металлических полозьях, медвежья полсть, кожаный верх; а кони! Три гнедых красавца не могли спокойно стоять – рыли копытами снег, трясли ухоженными гривами, будто приглашали прокатиться.
– Ну я прошу вас! Хотите, поцелую?
– Тьфу ты, прости господи. – Лихач сплюнул и перекрестился: – Четыре с полтиной, так и быть, федосьины волосья. И без глупостев, я мужчина женатый.
– Так вправду всего два рубля имеется. А хотите, моя товарка вас поцелует? Да, Олюшка?
Подружка сказала сердито:
– Дарья, прекрати. Ну что за глупости, в самом деле, унижение какое.
Толстуха упёрла руки в бока и обрушилась:
– Да если не твоя блажь, то давно ехали бы обычном манером, от Ораниенбаума. «Пойдём на лекцию, Тарарыкин, Тарарыкин». Ну и вот. Если сегодня не попадём в Кронштадт – беда. Что же нам делать теперь?
– Барышни, поищите попутчика, – смилостивился возница, – три места у меня, считай.
– Да где же мы найдём?
– Да хотя бы энтот молодой человек.
Дарья поглядела на меня, растянула безгубый рот в карикатуре на улыбку и стала вылитая жаба.
Её спутница обернулась…
Я замер. Это была та самая Ольга, что снилась мне с января: серые глаза, золотые локоны. Она зябко передёрнула плечами, глубже засунула руки в муфту и улыбнулась, обнажив на миг жемчужные зубы.
– Господин гимназист, вы тоже в Кронштадт?
Дарья пробурчала:
– Да зачем ему, такие мальчишки на конке прицепом ездят.
Я пропустил грубость (но не забыл) и шагнул к лихачу:
– Голубчик, туда и обратно, Екатерининская улица в Кронштадте. Плачу червонец. Ну, и барышень довезём.
Лихач повеселел:
– Во, другое дело, федосьины волосья. Со всем нашим удовольствием, барин!
Я поклонился:
– Сударыни, позвольте представиться: Николай Ярилов.
– Дарья Развозова, – буркнула толстуха.
Сероглазая вновь улыбнулась, сдёрнула перчатку:
– Ольга Корф.
Я осторожно взял её тонкую, замёрзшую руку и попытался поцеловать – она отдёрнула и сердито сказала:
– А вот этого не надо, я вам не архиерей.
И пожала: узкая ладошка оказалась неожиданно сильной.
Я подсадил сначала толстуху, потом обошёл экипаж и помог Ольге: расчёт был на то, что она сядет посередине, а я – рядом с ней. В этот раз она не ругалась, а опёрлась на мою руку и даже сказала «спасибо».
Этот день явно складывался удачно.
* * *
Колючий ветер в лицо покусывал, возбуждая; неслись мимо ледяные поля, как во сне; снег розовел, словно клюквенное мороженое – закат уже был близок; пристяжные отворачивали красивые головы в стороны: они отпечатывались на фоне неба, словно вырезанные из чёрной бумаги уличным мастером силуэтов.
Звенели колокольчики на дуге; звенел колокольчиком серебряный смех Ольги – я был сегодня в ударе, то читая на память Брюсова, то в лицах изображая педагогический совет гимназии…
Они хохотали; рассказывали о своей учёбе и о хозяйке квартиры, которая извела придирками; но ничего, они нашли уже другое жильё и на днях переедут.
Оказалось, что девушки – «бестужевки»; здание курсов было на Десятой линии, я часто ходил мимо, обычно в компании Купца. Приятель перешучивался через ограду с гуляющими на переменах курсистками, нередко довольно рискованно и даже скабрёзно; я хохотал, как умалишённый, поддерживая Серу в этом дурацком развлечении. Сейчас мне было стыдно: а вдруг Дарья и Ольга видели это и теперь припомнят мою глупость, примут за хама и дурака?
Стараясь спрятать смущение, во время этого путешествия я много говорил и о вещах серьёзных: о войне и экономике, истории и литературе. Дарья пыхтела и что-то ляпала невпопад; зато замечания Ольги были отточены, словно итальянский стилет; и поражали, как стилет, когда она тонко язвила по поводу многочисленных провалов в моих знаниях.
Но всё это ерунда: главное – она была совсем рядом, и смеялась звонко, и пахла особенно (наверное, лавандовой водой, но я не специалист в женских ароматах). А её бедро… Оно жгло нестерпимо, жарко; я не понимаю, как чувствовал это сквозь груду зимней одежды, которая была на нас обоих – и тем не менее…
Она вдруг наклонилась, заглядывая через меня на правую сторону саней:
– А там что за строение? Совсем рядом.
Лихач обернулся и сказал:
– Так это шатёр для путников. Как раз половину проехали. Лошадкам передохнуть, седокам чаем согреться.
– Вы угостите нас чаем, Николай? Никола-ай! Заснули?
Она рассмеялась и вернулась на своё место.
Когда она рассматривала стоянку, то, наклонившись, задела меня грудью – едва; её ароматные волосы коснулись щеки.
Ещё немного – и моё сердце остановилось бы навсегда от наслаждения.
– Конечно, – просипел я севшим голосом, – угощу.
* * *
Народу в шатре было совсем немного; лёд застелен затоптанными коврами, на щитах стояли жаровни для обогрева – в них моргали, умирая, красные угольки. Трактирщик в белом переднике поверх тулупа налил нам дымящегося чаю из сияющего двухвёдерного гиганта; я увидел груду сдобы, накрытой полотенцем, и спросил:
– Барышни, не желаете ли сайку или булочку с маком?
– Не стоит, мы совсем не голодны, – поспешно сказала Дарья, жадно вдыхая тёплый запах.
– Не слушайте её, она всегда есть хочет, – рассмеялась Ольга, – да и я не откажусь. Мы вас сильно разорили своими прихотями?
– Нисколько, – самоотверженно сказал я, пытаясь на ощупь пересчитать медяки в кармане; ассигнации, выданные Тарарыкиным, я доставать не решался, так как они были предназначены лихачу.
Девицы пили чай и хохотали; я едва отхлебнул – мне не терпелось вернуться в повозку, чтобы вновь ощущать её горячее бедро, её запах…
Возница ругался с коллегами, размахивая руками. Когда выходили из шатра – остановил меня:
– Такие дела, господин гимназист: на наезженной-то дороге вдруг полынья случилась, цельный экипаж туда ухнул. Двое потонуло. Я уж при барышнях не стал говорить, они существа впечатлительные, федосьины волосья. Ещё плакать будут.
Я подумал, что Ольга вряд ли бы испугалась – не в её характере. Но вслух сказал:
– Да, голубчик, всё верно. И что теперь?
– Полиция там, затор – словом, задержка. Но наши уже севернее путь пробили, так что совсем немного крюка дадим, не сомневайтесь. Опоздаем на четверть часа, от силы пол, не больше.
Я был готов его расцеловать: на целых пятнадцать минут дольше продлится это счастье – быть рядом с ней!
Но в повозке меня ждало страшное разочарование: Ольга села слева, а в середину взгромоздилась Дарья – на том дурацком основании, что ей сбоку поддувает.
Она постоянно ворочалась, цепляя меня жирным плечом; и пахло от неё какой-то ерундой: аптекой пополам со слежавшимся барахлом из сундука моей тётушки.
Разговор погас, как фитилёк без масла; лишь иногда вспыхивал. Вдобавок Дарья задремала, пуская пузыри и присвистывая.
Ничто дольше в моей жизни не длилось, чем эти томительные минуты…
Ольга вдруг спросила:
– А сколько вам лет, Николай?
Я замер. Ей, выходило, было не меньше семнадцати; признаваться, что мне нет ещё пятнадцати, совершенно не хотелось.
– Шестнадцать.
Мне стало жутко стыдно; не то, чтобы я никогда не врал, но не очень любил это дело; а сейчас ложь вообще казалась мне святотатством.
Не знаю, чем бы кончилась эта неловкость, но Ольга неожиданно вскрикнула:
– Ой, что это?
Я глянул.
На нас надвигался тот самый форт, что глубоко поразил меня во время осеннего путешествия на пароходе; теперь его стены были покрыты изморозью и сияли в вечерних лучах, будто орошённые кровью.
– Брюсов форт, – проявил я осведомлённость, – не пугайтесь, просто он выглядит…
– Выглядит прекрасно, – сказала Ольга, – очень красиво. Загадочно и романтично. Словно там сидит грустный Влад Цепеш и никак не дождётся дружков-вампиров, чтобы устроить попойку.
Она рассмеялась: и зубы её в закатном свете были не ослепительно-белыми, а розоватыми.
Словно испачканными в крови.
Глава девятая Ольга
20 декабря 1904 г., Санкт-Петербург.
Фантазия вторая
«…Гремел оркестр на перроне Николаевского вокзала; шпалерами стояли гвардейские полки и кричали «ура». В публике оживление:
– Что случилось?
– Как, вы ещё не знаете? Доблестные мичманы Ярилов и Купцов отправляются выручать Порт-Артур на поезде собственной конструкции! Теперь япошкам точно крышка!
Николай и Серафим стояли рядом, красивые и стройные, принимая восторги народа с достоинством античных героев. Вдруг из толпы прилетел букетик цветов, упал под ноги; Ярилов нагнулся, поднял. Прочёл надушенную лавандовой водой записку, вложенную в букет; ни одна черта не дрогнула на мужественном лице.
– От неё? – понимающе спросил друг.
– Да, – ответил Николай, – обещает ждать хоть вечность и умоляет об ответной любви. Но всё это пустяки: нас ждёт дело.
Оркестр грянул прощальный вальс:
Этот поезд идёт на Восток, С моих губ уже стёк Поцелуй-лепесток; Петербург от тумана промок И теперь он надолго далёк…Последний звонок; сдвоенный локомотив выпустил белые клубы пара, скрывая сцену прощания; поезд тронулся, набирая ход.
Ярилов стоял у узкой бойницы, прикрытой стальными жалюзи, и смотрел, как несутся мимо голые зимние деревья и снежные просторы; вот проехали Волгу, вот уже граница Азии и Европы.
За вагонным стеклом танцевал Работяга-Урал, Величавый Байкал; Я приеду, столичный вокзал! Главных слов я ещё не сказал…Позади притихшая под снегом тайга, вырезанные на синем небе чёрные горные хребты; рельсы, проложенные прямо по льду Байкала. Вот уже даурские степи; преодолён Хинганский хребет. Здравствуй, Маньчжурия!
Блиндированный поезд секретного проекта: два бронепаровоза (чтобы шибче тащить состав); бронеплощадки, вооружённые пушками и пулемётами; за узкими броневыми щелями – зоркие стрелки, отобранные из лучших по всей армии. Вот особый вагон (о нём речь позже); а вот бронированный салон начальников поезда – героических мичманов…»
– Слушай, а чего мы всё мичманы? Мы ими уже были, когда топили адмирала Того. Неужто не заслужили повышения?
– И то правда. Пора бы уж лейтенантами быть.
«…в салоне лейтенантов Ярилова и Купцова – отдельные купе, ванная и душ с горячей водой, буфет. Библиотека и зал электрического синематографа; и вообще всё на электричестве, ярко сияют лампы. Аппарат Бодо и телефонный коммутатор связывают поезд со всем миром; и даже искровой радиотелеграф, чтобы получать сообщения в пути, а не только на станциях.
Но вот Харбин; на перроне встречает толпа в сияющих эполетах и аксельбантах.
К нашим героям в купе всовывает голову зверского вида калмык из личного конвоя:
– Хозяин, там дарга просится. Впускать?
– Что за дарга?
– Важный. Рябчиков или ещё какой птица.
– Зови.
В купе входит главнокомандующий, генерал от инфантерии Куропаткин. Грозно вращает глазами и топорщит усы:
– Молодые люди, почему здесь? Кто отдавал приказ?
– Приказ нами получен от того, кому все мы присягнули в верности и готовности погибнуть в любую секунду.
– Так не годится – через голову. Я попрошу…
– Нет, это я вас попрошу, ваше высокопревосходительство, – обрывает мич… лейтенант Ярилов, – вам была предоставлена возможность привести наши войска к победе – и что же? Ляоян сдан, наступление на Шахэ закончено неудачей. Что теперь – сдадите Мукден? Почему до сих пор не выручен Порт-Артур?
Генерал растерян:
– Не вышло у меня, господа героические лейтенанты. Не сумел. Виноват.
– Зато у нас выйдет! Потому прошу немедленно распорядиться относительно топлива для блиндированного состава и не препятствовать движению.
Генерал вытягивается в струнку:
– Немедленно будет исполнено! Какие ещё пожелания?
– Вслед за нами немедленно отправляйте эшелон с отборным батальоном восточносибирских стрелков – для приёма пленных и трофеев. И вообще пусть все войска принимаются наступать! Хватит уже бездельничать и топтаться на месте!
Куропаткин, прослезившись, обнимает храбрых лейтенантов, красивых и стройных. Крестит их со словами:
– С богом, ребятки!
Вся Маньчжурская армия с воодушевлением кричит «ура!» и спешно готовится к атаке.
Получив необходимые запасы воды и угля, бронированный поезд мчится к линии фронта. Выскакивает какой-то казак, машет:
– Куда, едрит твою налево! Там япошки шпалы на путя навалили, все их пушки нацелены на вас! Погибнете ни за грош, федосьины волосья!
– Спасибо за предупреждение, дружок, но битва – наша стихия. Машинисту – полный вперёд!
Бронепаровозы дуэтом дают гудок и несутся навстречу засаде супостатов.
Палят японские орудия, градом стучат пули по броне; но вот в дело вступают бронеплощадки. Разворачиваются башни, трёхдюймовые пушки прямой наводкой громят неприятельские батареи; стрекочут русские пулемёты, вышивая кровавую строчку на вражеском саване.
Грохот, вспышки выстрелов; дым затягивает поле боя, милосердно скрывая тысячи японских трупов. Вот поезд на полном ходу врезается в баррикаду из шпал и – бабах! – разносит её к чертям собачьим, только щепки разлетаются.
Летит блиндированный поезд, паля на ходу; одна за другой проносятся станции и сдаются без сопротивления. Но с передней площадки докладывают:
– Путь разрушен!
Коварные враги разобрали рельсы, сбросили их под насыпь. Каждый вершок земли пристрелян: если выберется кто чинить – будет тут же убит. Японцы хихикают, потирают маленькие жёлтые ладошки и кричат:
– Рюсики, сдавайся!
– Русские не сдаются, – отвечают лейтенанты.
Из особого вагона выдвигается огромная механическая рука – ею ловко управляет Серафим Купцов – и поднимает разбросанные рельсы, укладывая их на место. Путь восстановлен! Японцы растеряны: пули не страшны металлической руке, их план провалился!
Главный самурай распарывает себе живот, а остальные разбегаются. Путь на Порт-Артур открыт!
Поезд прибывает к вокзалу осаждённого города. Тут же из вагонов принимаются выносить лекарства, бинты, медицинские инструменты; привезённые хирурги приступают к лечению больных и раненых героев; и, быть может, спасают умирающего генерала Кондратенко, любимца портартурцев…
Следом выгружают снаряды и патроны: их немедленно разносят по батареям и траншеям. А ещё гаубицы, миномёты, ружья-пулемёты Мадсена…»
– Погоди! У нас там сколько вагонов-то? Куда всё влезло?
– Мда. Погорячился я, пожалуй. Ладно, гаубицы вычёркиваю.
«…подходит генерал. Голова его забинтована, кровь сочится сквозь повязки и капает на перрон.
– Благодарю за службу, лейтенанты!
– Рады стараться, ваше превосходительство!
– Вы молодцы, теперь оборона укреплена. Но главная беда осталась: японские батареи гигантских одиннадцатидюймовых мортир громят наши укрепления и последние корабли эскадры. Пока с ними не справимся – Порт-Артур в опасности!
– Теперь это не беда, ваше превосходительство, – улыбается Ярилов, – уничтожим мортиры.
– Но как же! – вскрикивает удивлённый генерал.
– А вот так.
Лейтенанты проходят в особый секретный вагон и включают оборудование. Раскрывается бронированная крыша, и над ней всплывает дирижабль. Водород для него хранился в металлических баках; под длинным, похожим на колбасу, баллоном дирижабля подвешена металлическая гондола.
Лейтенанты прощаются с товарищами, отдают честь – и вот уже воздушный корабль взмывает в синеву! Тарахтят газолиновые двигатели, вращая пропеллеры; командир небесного судна Николай Ярилов твёрдой рукой направляет его туда, где разглядел с помощью бинокля, подаренного братом Андреем…»
– Ты чего шмыгаешь, Яр? Плачешь, что ли?
– Нет, это я простыл. Насморк, вот и глаза слезятся.
– Тогда дальше давай.
– Даю дальше.
«…направляет туда, где разглядел японские осадные батареи. Дирижабль зависает над огромными мортирами. Японцы тут же открывают пальбу, но пули лишь высекают из гондолы искры, не в силах пробить металл. Могучий Серафим Купчинов играючи поднимает двухпудовые бомбы и сбрасывает их вниз одну за другой. Свист, грохот разрывов: победа! Японские батареи подавлены…»
– Что, и всё?
– Всё. Дальше пока не придумал.
– Ну, должны в наступление пойти портартурцы. Кирдык этому генералу Ноги и его армии!
– Да, ещё с тыла наши подойдут из-под Мукдена.
– Точно! До конца занятий сочинишь? А то перемена кончается.
– Сера, на уроках я привык заниматься уроками, а не фантазии писать.
– Зануда. Зубрила ты.
После уроков мы неторопливо одевались в шинельной, лениво переговариваясь над головами шнырявших всюду первоклашек. Подумать только, совсем недавно и мы были такими – маленькими, вопящими, смеющимися без повода, с вечно протёртыми коленками и перемазанными в чернилах физиономиями…
Сторож громко сказал вдруг:
– Господа гимназисты! Прошу внимания. Роковое известие.
Мы замолчали. Первоклашки, осознав важность момента, тоже притихли.
– Господа! В вечерней газете… Распоряжением генерал-адъютанта Стесселя Порт-Артур сдан. Капитуляция.
* * *
Я брёл домой по коричневой снежной жиже; мимо проносились экипажи, покрикивали извозчики, хохотали дамы; горели сотнями свечей украшенные к Рождеству витрины.
Город готовился к празднику, покупал подарки, смеялся и влюблялся – будто не произошло страшного позора; будто никто и не помнил о десятках тысяч уже погибших в этой бесславной войне…
Когда мой брат шёл в свой последний бой, он мечтал прорваться в осаждённый город, избавить соотечественников от блокады – и что же? Порт-Артур капитулировал; значит, и смерть Андрея бессмысленна.
Теперь мой отец плывёт на флагманском броненосце «Князь Суворов». Эскадра вице-адмирала Рожественского достигла точки рандеву у загадочного острова Мадагаскар, ждёт остальные отряды; они должны были разбить японский флот, чтобы прорваться в Порт-Артур, – и что теперь? Для чего они вышли в трудный, далёкий, беспримерный поход?
Ради чего всё?
Как люди могут веселиться, когда их страна проигрывает войну каким-то япошкам? Это же невиданный позор! Неужели наше могущество, наши воля и единство ненастоящие?
И кто в этом виноват?
Я тянул момент возвращения из гимназии до последнего; скажу честно – мне не хотелось домой, к зарёванной Ульяне и мрачной тётке Шуре. В пустую, тихую квартиру, где говорят полушёпотом, а на стене гостиной – фотографический портрет Андрея. Ещё счастливого и полного надежд, уже подпоручика: снимок сделан сразу после выпуска.
Теперь на этом портрете – косая чёрная полоска, перечеркнувшая всё: его так бурно начавшуюся карьеру (представлен к первому ордену спустя всего два месяца после выпуска!), его судьбу и саму жизнь, нашу с ним едва начавшуюся настоящую дружбу…
Я медленно поднимался по лестнице, когда услышал скрип отпираемого замка и отрывок разговора:
– …наступающим Рождеством, сталбыть! И жениха хорошего.
– Ой, ну прямо в жар вогнали, Федот Селиванович, какие уж женихи. Чай, не молоденькая.
– Зря вы так, Ульяна Тимофеевна. Сталбыть, в самом соку женчина, весьма вы мне приятны.
Потом хихиканье, шёпот и чмокание. Неужто целуются?
Я замер, не смея подниматься дальше, дабы не быть свидетелем чужого конфуза.
– Ой, всё!
Грохнула дверь. Застучали подковы сапог: сверху спускался тот самый посыльный от Андрея, бывший унтер восточносибирских стрелков, а теперь – городовой высшего оклада, три серебряные гомбочки поверх оранжевого шнура. Шашка-«селёдка», револьвер на красном «снурке» – красавец!
– Здравствуй, Федот.
Он прищурился, разглядывая, вскинул ладонь к шапке:
– Здравия желаю, Николай Иванович! Не сразу признал. Вот, обхожу участок, сталбыть, опрашиваю обывателей.
– О чём?
– Дык праздники скоро, бдительность насчёт печей и прочего. Ливоцинеров, опять же, развелось.
– Молодец, Федот, бдительность – она нужна.
– Вот! Завсегда к месту, бдим. Ну, с нашим вам приветом.
Дверь открыла Ульяна – в нарядной кофте, подчёркивающей выдающуюся во всех отношениях грудь; была она румяна, и глаза блестели – но теперь не от слёз. Я вдруг подумал, что жизнь продолжается и ничто не в силах остановить этот поток, никакое горе.
– Николенька! Что же так долго? А у нас гости. Вернее, новые жильцы, но Александра Яковлевна велела их чаем напоить в честь знакомства. Проходи же скорее.
Мне вдруг очень захотелось горячего чаю с булкой, и я не стал отказываться, ссылаясь на домашнее задание. Снял калоши, повесил шинель. Из столовой донёсся девичий смех; я вздрогнул – мне он показался знакомым. Зачем-то заглянул в зеркало, провёл рукой по волосам; снял, протёр платком и вновь водрузил очки. Огладил гимнастёрку и вошёл в столовую.
– А вот и наш младший вернулся из гимназии, – сказала тётя Шура, – знакомьтесь, барышни, это…
– Николай! Знаем, знаем этого благородного молодого человека!
За столом Дарья Развозова. И, конечно, Ольга Корф.
Я сглотнул комок. Сердце заколотилось, как пулемёт Максима.
* * *
Толпа на Невском: хохот, улыбки, поздравления с Рождеством от незнакомых людей, праздничная сутолока.
– Пойдём на Бриллиантовую?
– Куда? – удивился я.
Ольга рассмеялась:
– Не обращайте внимания, это мадмуазель Развозова так Большую Морскую называет. Мечтает поглазеть на богатые витрины с украшениями и французскими туалетами. Мещанка ты, Дашка.
Дарья надула толстые щёки и пробурчала:
– Конечно, некоторым жизнь даёт, так они отказываются. А некоторые, может, наоборот, мечтают хоть денёк пожить по-человечески.
– С чего ты взяла, что там живут по-человечески? Одно враньё. Ложь и деньги, деньги…
– Погодите, – сказал я, отчаянно не понимая, – вы о чём?
Ольга взяла меня под руку и сказала:
– Да ерунда, глупости всякие. Пройдёмся вдоль Мойки?
Я готов был пройтись хоть по берегу Стикса, хоть по лезвию Тянь-Шанского хребта – лишь бы с ней рядом. Слышать смех, вдыхать аромат. Но, конечно, не сказал это вслух – просто пошёл, куда она захотела, бережно прижимая к боку её локоть.
Кирпичная труба на рыбной барже дымила; густой и сложный запах – копчёностей, дыма, рыбьей требухи и сырости. Я постарался быстрее пройти мимо, но Ольга, наоборот, втянула тонкими ноздрями – и попросила:
– Давайте заглянем? Обожаю всё рыбное. Я, наверное, русалкой родилась, а меня – силком на берег.
И засмеялась.
Внутри садка было шумно, влажно; народ толпился у чанов с живым серебром, выбирая себе лакомства на праздники.
– Икра! – вскрикнула Ольга и рванулась к окорёнкам с черными мелкими жемчужинами.
Я вздрогнул: на икру мой бюджет рассчитан не был; но девушка обворожительно улыбнулась дядьке в кожаном перемазанном фартуке поверх тулупа:
– Можно ли попробовать?
– Конечно, барышня, – обрадовался дядька, – вот, извольте, паюсная, севрюжья.
Отломил булку, зачерпнул ложкой, помазал, протянул.
Ольга ела, прикрыв глаза – будто прислушивалась. Кивнула:
– Хороша. А ещё?
Потом была белужья зернистая, потом осетровый пробой; Ольга хвалила, кивала, говорила что-то про «ядристость», посол и зрелость; дядька крякал и с удовольствием с ней спорил.
– Спасибо, уважаемый, – сказала наконец; подхватила меня под локоть и повела прочь от прилавка.
– Так это. Брать-то будете?
– Поглядим. Походим, попробуем, – ответила девушка через плечо, и мы растворились в толпе покупателей.
– Всегда она так, – пропыхтела Дарья, – добрый фунт слопает – пробует, мол. И всё бесплатно. Хитрованка.
Ольга рассмеялась; а мне одновременно стало и неловко, и смешно от такой лисьей хитрости.
Выбрались из садка по обледенелым сходням; Оленька притворно вскрикивала, скользя ботиками, и хваталась за меня; её бледные щёки разрумянились, глаза сияли.
Потом мы катались с невысокой горки, поставленной прямо на невском льду; потом дошли до стойбища самоедов. Полудикие дети заполярной природы щеголяли в вышитых бисером кухлянках; невысокие, с телёнка, олени мягкими губами брали с ладоней подсоленный хлеб, купленный у их хозяев за копейку.
– Прокатимся? – спросил я, глядя на украшенные цветными тряпочками нарты и доставая полтинник.
– Да, непременно! – воскликнула Дарья.
– Вам не стыдно? – рассердилась Ольга. – Посмотрите на этих несчастных животных: у них разбиты ноги, вытерта шерсть постромками. И такие грустные глаза! Вам развлечение, а им – тяжкий труд. Ещё и каюр будет лупить тяжёлым шестом по спине, чтобы шибче бежали. Нет, нет, ни за что!
И пошла к берегу.
Всё-таки она – удивительная. Настроение её прыгало, как стрелка барометра где-нибудь на мысе Доброй Надежды; и угадать направление очередного прыжка не было никакой возможности.
Из кабака вывалились двое: рабочие, судя по подбитым ватой пиджакам и сапогам гармошкой. Были они сильно пьяны. Один харкнул на снег, поправил картуз и сказал, глядя на моих спутниц:
– Ишь ты, гладкие какие девки. Такую за жопу и…
Я вспыхнул мгновенно. Подскочил, поймал его тростью под коленку и опрокинул на снег; второй попытался кинуться на меня – я лишь отступил на полшага, пропустил мимо себя неуклюжую тушу и придал дополнительного ускорения, врезав по затылку.
Фабричные поднялись и вновь попёрли; были они здоровенные, красные, злые, но я защищал честь девушек и был необычайно спокоен и расчётлив: встретил одного ударом наконечника в солнечное сплетение – тот охнул и упал на колени; второму врезал ладонью по уху – он завизжал, уронил картуз и схватился за голову.
– Немедленно извинитесь перед дамами.
Первый, всё еще сидя в снегу, грязно заругался, но товарищ заткнул ему рот ладонью и прохрипел:
– Виноваты, барин, сглупили-с. Не повторится.
– Извинения приняты, господа. С Рождеством.
Я повернулся и пошёл к курсисткам; и только сейчас почувствовал, как бешено колотится пульс, не хватает воздуха, а руки дрожат.
– Какой вы! – сказала Дарья, восхищённо глядя на меня.
– Какой вы, Николай, бессердечный, – резко продолжила Ольга, – они – несчастные люди. Приехали из деревни, бросив свои семьи; хозяин держит их в грязном бараке, больше похожем на хлев, по двадцать человек на пяти квадратных саженях. Друг у друга на головах, клопы, вши; работа по двенадцать часов, тяжёлая и опасная, в чаду и жаре литейного цеха, или наоборот – на морозе; мизерную плату отбирает мастер, штрафуя за всякий пустяк. На свои копейки напились в честь праздника – и на тебе! Схлопотали палкой.
– Но как же! Они ведь оскорбили вашу честь своими грязными намёками.
– Ничего страшного, мы бы не переломились. Зато лишний раз не проявили бы своё барство, своё сословное презрение.
– То есть надо было звать городового?
Корф молча оглядела меня сверху донизу, будто ледяной водой окатила. Сказала презрительно:
– Неужто вы способны ябедничать полиции? Не ожидала от вас, Николай.
– Да я никогда, – растерялся я, – наоборот, решил всё сам, как и должно с хамами, оскорбившими честь…
– Прекратите про честь! Пролетарии – как дети; не они виноваты, что ведут себя так. Условия их жизни, отсутствие культурного воспитания – не их вина, а наша! Мы должны обеспечить им достойную жизнь, сражаться за их права, которые они по темноте своей даже не осознают!
Признаться, я растерялся от такого напора; обвинения были несправедливы, – но я не знал, как им возражать. Прозвучали бы они из иных уст – я бы, возможно, нашёл аргументы, но ведь это была Ольга…
– Хорошо, – сказал я примирительно, – в следующий раз я обязательно уточню, пора уже вас защищать от убийцы с ножом или поинтересоваться прежде, сколько классов церковно-приходской школы он окончил.
Дарья фыркнула; Ольга же сказала ледяным тоном:
– Не смешно, Николай. Извольте вернуться к этим несчастным и извиниться за то, что их ударили.
Настала пора вскипеть мне:
– Извиняться перед пьяным быдлом за то, что поставил их на заслуженное место? Никогда!
– Не смейте называть их быдлом!
– А кто они? Быдло и есть.
– Вы вновь произнесли это слово! Ещё раз – и мы поссоримся навсегда.
Я медленно остывал – как остывает орудийный ствол после выстрела. Кивнул:
– Хорошо, я обещаю больше никогда его не говорить. Но и извиняться…
– Не перед кем, – встряла Дарья, – убежали ваши мастеровые.
Я проводил девушек до Третьей линии – у них там были какие-то посиделки с однокашницами; за весь путь мы не проронили больше ни слова.
Всё праздничное настроение куда-то испарилось.
На всенощную я не пошёл, сославшись на плохое самочувствие; тётушка и не настаивала.
Зашёл в свою комнату. Лёг не раздеваясь. Ветви тополя деликатно скребли в оконное стекло, будто пытаясь утешить меня.
* * *
3 января 1905 г., Санкт-Петербург
Спал я плохо: мучила мысль, что мы поссорились навсегда; что никогда больше не случится совместная прогулка, её лёгкие шаги рядом, её смех, сияющие глаза и случайно выбившийся из-под шапочки локон на моей щеке…
Так прошла неделя; совершенно незаметно минул Новый год. Я уходил из дома пораньше, чтобы не встретиться с ней ненароком в коридоре. Бродил по праздничному городу в ледяной тоске. Или запирался в своей комнате, стараясь отвлечься чем угодно – решал математические задачи, писал заданное на каникулы латинское сочинение.
В тот день я сидел в папином кабинете и читал. Меня удивил деликатный стук: ни тётя Шура, ни Ульяна не стали бы спрашивать разрешения.
– Войдите.
Это была Ольга. Как ни в чём не бывало села рядом, болтала что-то про весёлую вечеринку с граммофоном, шарадами и фантами.
– Жаль, что вас не было с нами, Николай.
Меня вдруг объяла ревность: она танцевала с кем-то, смеялась; её тонкие пальцы лежали на чужом плече. Думать так было глупо – и это ещё больше злило меня.
– Я не танцую. Пустая трата времени.
– Верно, – неожиданно легко согласилась она, – гораздо интереснее хороший разговор о важном и волнующем.
– О мистических романах мадам Крыжановской? – ядовито поинтересовался я.
– Это дурно, Николай.
Ольга рассердилась – и сделалась премиленькой.
– Дурно, что вы так думаете обо мне. В нашем ханжеском обществе принято считать женщин существами второсортными, неспособными на серьёзные мысли. Вы не видите в нас равных, подсмеиваетесь; вы давно определили, что наша единственная судьба – это детская, пяльцы и дурацкие слезливые романы про несчастную любовь, принцесс и храбрых рыцарей. А времена изменились! И вам, мужчине вроде неглупому, придётся с этим смириться.
Я промолчал, удивлённый натиском. Но больше ошарашенный её словами про меня. Надо же, я – не сопляк-пятиклашка, а мужчина!
– Ладно, не будем ссориться. Что теперь читаете?
– Вряд ли вас заинтересует. Учебник для флотских минёров. Сейчас – главу о взрывателях.
– Ударных или гальванических? – живо спросила она. – Согласитесь, что использование растворения сахара в морской воде для предохранителя было остроумным решением.
Надо ли говорить, что я был поражён?
Потом она болтала про нитроглицерин и динамит, про гремучую ртуть и возможность собрать бомбу или зажигательный снаряд из подручных материалов, приобретённых в аптеке и москательной лавке; я только хлопал глазами.
– Дадите почитать?
На обложке был номер и штамп «Для внутреннего пользования»; но я ответил:
– Конечно, если обещаете, что не станете выносить её из дома.
– Да-да. Скажите, Николай, а завтра у вас будет свободное время? Я предполагаю совершить опасное путешествие, и лучше спутника, чем вы, мне не найти. До сих пор не забуду, как вы легко разобрались с теми двумя громилами. Я, кажется, не поблагодарила вас? Но это легко исправить.
Она приблизилась и поцеловала меня в щёку.
– Ну так что?
– А?
Я был словно контуженый и не понимал, что она хочет.
– Проснитесь же, – рассмеялась Ольга, – вы сопроводите меня в логово дракона?
– Да. Да, разумеется.
Я даже не спросил, куда мы пойдём.
* * *
В маленький зал набилось добрые две сотни; было душно, жарко; капли пота на красных лицах, капли влаги на ободранных стенах. Густо пахло махоркой, сырым луком, дёгтем от смазных сапог; публика была одета просто, в короткие пальто, пиджаки поверх косовороток – но встречались и недорогие тройки с серебряными цепочками часов.
На входе стояли мрачные пролетарии и отсекали чужаков, однако Ольга ловко спряталась за чьими-то широченными плечами, схватила меня узкой ладошкой и прошептала:
– Давайте же, мой рыцарь, смелее! – Так мы и проскочили.
На нас косились, но пока вопросов не задавали. Ораторы сменялись, говорили горячо, однако косноязычно; я не понимал сути, да и не пытался вникать. Что-то про жадных фабрикантов и обнаглевших в своём произволе мастеров; о несправедливом увольнении четверых рабочих деревообделочного цеха Путиловского завода и необходимости проявить солидарность; ещё какие-то громкие и пафосные слова, лишённые для меня малейшего смысла.
Ольга прижалась и зашептала, почти касаясь влажными губами моей щеки:
– Здесь Василеостровский отдел Собрания фабрично-заводских рабочих, а всего их по городу одиннадцать. Очень сильная организация, многолюдная, но неправильная; вождём у них поп Гапон, а какой от попа толк?
– Да, – выдавил я.
– Вам неинтересно.
– Очень интересно. Продолжайте, прошу вас.
Я был готов выслушать от неё хоть полный текст таблиц Брадиса; совершенно неважно, что она говорила: меня трясло от этой близости губ, от аромата, побеждающего вонь чеснока и ворвани.
– Составим петицию и передадим государю-императору, – говорил очередной выступающий, – дабы узнал о нуждах народных из наших уст. Вокруг царя-батюшки засела жадная свора министров и генералов; не доносится до монаршего уха наш стон. Узнает он всю правду. И пожалеет свой народ православный!
Вылез какой-то плешивый; неистово крестясь, закричал:
– С нами бог! Пойдёмте же! Всем миром, с жёнами, с детьми. Если надо, умрём за правду, за царя-помазанника. Себя убьём. Прямо там, на площади, перед дворцом: пусть видит, как мы верим в него и любим!
Его призывы встретили с какой-то религиозной экзальтацией: некоторые принялись кричать, плакать; другие просто зааплодировали. Я принял это за долгожданный знак окончания и оглянулся в поисках лучшего пути к выходу.
– Это неправда! – зазвенел серебряный голос. – Царь Николай – главарь капиталистической шайки, сам первый кровопийца. Японская война произошла из-за его жадности, из-за лесной концессии в Корее; и что теперь? Солдатская кровь проливается зря, и здесь…
Я был ошарашен не меньше окружающих; все замерли и слушали речь, выкрикиваемую Ольгой.
– …не просить, а требовать! Не кланяться, а настаивать! Не мирное шествие, а революция!
Её схватили и потащили вон; кто-то заголосил:
– Провокация! Выгнать её, стерву.
Я пробился сквозь возбуждённую толпу, отодрал чью-то крепкую руку от её локтя – меня тут же взяли в оборот, зажали и поволокли; но обходились гораздо менее деликатно – кто-то лупил чугунным кулаком меж лопаток и вопил:
– Тилигенция! От вас вся дурь, ироды, цареубийцы, бомбисты!
Ольга изловчилась, вырвала руку, достала из-за обреза пальто сверток и швырнула его вверх: по всему залу разлетелись серые листки. Прокричала:
– Читайте наши прокламации! Там вся правда.
Пролетарии завыли; меня смачно ударили в скулу, я едва успел поймать и спрятать слетевшие очки; в глазах потемнело, тычки по рёбрам воспринимались словно сквозь вату.
Вытащили на улицу; Ольгу толкнули, она уселась в сугроб. Плешивый здоровяк, потерявший в свалке картуз, склонился над ней и заорал, брызжа слюной:
– Кто подослал, сучка? Отвечай! Не то я…
В меня будто вселился дух тигра или ещё какого хищника, как в восточных сказках; я вырвался из рук конвоиров, подскочил к лысому и врезал кулаком в висок: он хрюкнул и уселся рядом с Ольгой.
На меня накинулись, со всех сторон летели тумаки; какое-то время я отмахивался тростью и уклонялся от ударов, но их было слишком много.
«Убьют», – подумал я обречённо. Стало вдруг всё равно: меня угнетала не мысль о том, что умру вот так глупо и никчемно, забитый сапогами пролетариев, а что не смог защитить Ольгу.
– Бабах!
Выстрел хлестнул по ушам; где-то серой тенью мелькнула мысль, что это полиция.
– Бабах!
Меня отпустили. Я поднялся на ноги, опираясь на стену и пошатываясь; вытащил и с третьей попытки дрожащими руками водрузил на нос очки.
Рабочие замерли, уставившись на Ольгу, которая сжимала в ладони изящный дамский «бульдог».
– Вы, дамочка, успокойтесь, – сказал плешивый примирительно, – отдайте лучше игрушку, а то попадёте в кого.
И сделал шаг.
– Стоять, мазурики!
Даже я вздрогнул: голос её сделался стальным, а не серебряным.
– Я с двадцати шагов в бутылку попадаю, и тебе кумпол разнесу, не сомневайся. Руки подняли и тихонько назад, в свою вонючую берлогу. На этот раз разойдёмся миром. Хотя я бы с удовольствием в ваших пустых горшках дырок понаделала: глядишь, ветром что-нибудь умное занесёт. Поймёте наконец, кто вам враг, а кто союзник в классовой борьбе.
Пролетарии, тихо ворча, исчезли; я глядел на неё восхищённо. Шапочка её упала на снег, серые глаза сверкали, золотые волосы разметались – так, верно, выглядела Девственница под стенами Орлеана, ведя в бой французских шевалье.
Она подошла и спросила нежно:
– Сильно помяли? Идти сможете? Вы бились, как настоящий рыцарь против стада драконов.
Рассмеялась:
– Не знаю, ходят ли стадами драконы, но наш пролетариат – пока да, увы.
Я молчал; она наклонилась, подняла трость, подала мне. Тронула пальцем скулу (меня будто пронзило электрическим током):
– Будет синяк. Ну ничего, я вам примочку сделаю, я умею. Заканчивала краткий медицинский курс.
Дома было пусто; Ульяна ушла на рынок, тётя Шура – к знакомым. Ольга заставила меня снять гимнастёрку и нижнюю рубашку:
– Я должна вас осмотреть, вдруг поломаны рёбра. Да не тряситесь так: считайте, что я врач. Не бойтесь, больно не сделаю.
Я дрожал совсем не потому, что боялся боли. Её пальцы…
Лучше бы мне сломали рёбра: тогда, быть может, осмотр длился дольше.
* * *
По городу бродили странные слухи и странные люди; я тоже повёл себя странно и впервые купил газету «Полушка», пользующуюся популярностью у городских низов, но ничего полезного и разъяснительного не обнаружил. Мне катастрофически не хватало знаний о происходящем – повторюсь, что политикой никогда не интересовался, а всякие выступления считал блажью недоучек-студентов, болтунов-либералов и прочих бездельников. Спросить было не у кого: папа был далеко, Пан уехал на каникулы в имение какой-то барыни (так по крайней мере трепались в гимназии), от Серы толку никакого. А Андрей… Брат никогда больше не поможет мне.
На разные лады пересказывалась жуткая история, произошедшая на водосвятие: во время салюта одна из пушек Петропавловки вдруг оказалась заряжена не холостым, а боевым зарядом и направлена прямо на царскую палатку; снаряд пробил в сооружении преогромную сквозную дыру, но в палатке, по счастливой случайности, никого не оказалось. Говорят, что самодержец после этого казуса спешно уехал с семьёй в Царское Село.
Я подходил на улице к кучкам громко разговаривающих, вслушивался в их жаркие слова: говорили о том, что бастуют уже все заводы и фабрики; сто пятьдесят тысяч мастеровых бросили работу и ходят по соседским предприятиям, заставляя всех оставлять рабочие места. Постоянно поминали Гапона: кто-то называл его новым пророком, кто-то – дурящим головы мастеровым сказками о добром царе.
В кафе на Петроградской стороне случайно угодил на диспут. Две стороны; одни социалисты убеждали других социалистов (убей бог, так и не запомнил разницы между ними), что те не правы и надобно действовать по-другому; потом вмешались третьи социалисты – кажется, «меньшаки» или нечто подобное – и стали обвинять первых двух; это был сплошной крик, никто никого не слушал, цитировали неизвестные мне книги, язвили в адрес неизвестных мне людей – словом, я выдержал едва четверть часа и сбежал. Голова гудела от упоминаний Каутского, кажется, и ещё какого-то Карла с еврейской фамилией; словом, я понял, что ни черта не понимаю; но тем не менее набрался необходимых мне мыслей.
Шёл домой так быстро, как только мог: надобно было сохранить запал злости и недоумения, чтобы решиться. Постучал в дверь комнаты жильцов, дождался разрешения и вошёл.
Они обе сидели за книгами; на Дарью я не смотрел – видел лишь Ольгу. В домашнем уютном платье, волосы заплетены в косу; лампа освещала её золотую голову, кружево воротника было паутиной, в которой я запутался безнадёжно, как сизый мотылёк.
Я едва отогнал совершенно неожиданное, дурацкое чувство – мне вдруг захотелось стать нашим домашним котом Пухом и лежать сейчас на её коленях, чувствовать ласкающие пальцы в шерсти и мурлыкать.
– Ольга! Мне нужно немедленно с вами переговорить. Дарья, не могли бы вы нас оставить?
Развозова фыркнула:
– Ох уж эти страдания, розы-морозы, флирт за три копейки…
И начала подниматься.
– Какой ещё флирт?! – возмутился я, а уши мои запылали, как сигнальные костры финикийцев на прибрежных холмах.
У Корф блеснули холодно глаза – словно вынутая из ножен сталь.
– Сиди, Дарья. А вам, Николай, должно быть стыдно: выгонять девушку из комнаты. Кавалеру не к лицу.
– Но у меня к вам серьёзный разговор…
– А у меня к вам – нет. Сиди, Дарья, сказала же! Говорите. От лучшей подруги секретов не имею.
– Ну, как хотите. Ольга, я переживаю за вас и не могу молчать. Вы запутались, вас обманули; вся эта революция – дикая блажь, глупость, провокация врагов державы. Да, устройство нашего государства несовершенно, но это не повод…
– Очень любопытно, – перебила меня Ольга, – наш гимназист созрел для политики, ишь ты. Свежие ветры пробивают даже толстые монархические лбы. Не подумав, не прочитав и книжки, не научившись ничему, и смеет обзывать великое дело борьбы «блажью и глупостью». Да кто вы такой, чтобы так рассуждать?
– Я? Я – человек, которому небезразлична судьба его страны. Но ещё более небезразлична ваша судьба: вы занялись опасным делом, которое может повредить. Вас используют преступники, авантюристы, как уличный кукольник – Петрушку… Да! Как куклу.
– Как куклу, значит? Пустую, глупую, несамостоятельную? Прекрасно! Погляди, Дарья…
– Я выйду, пожалуй.
– Сиди! Погляди, во что превращаются рыцари, когда вспоминают, что жандарм – это тоже рыцарь, только на правильной службе.
– Я попрошу! – вскричал я. Надо ли говорить, насколько непочётно прозвище «жандарм» в офицерской среде; а ведь мой отец и брат – офицеры. Ольга знала, как ударить стилетом в щель между пластинами доспеха.
– Нет, это я попрошу. Не смейте! Во-первых, не смейте называть моих товарищей авантюристами и преступниками. Во-вторых, не смейте указывать мне, как поступать – у вас ещё молоко не обсохло для этого. Я даже родному папеньке не позволяю… В-третьих, не смейте вламываться в мою… в нашу комнату без приглашения! И подходить ко мне не смейте! Бегите в полицейский участок, сообщите о политически неблагонадёжной Ольге Корф.
Я с трудом сдержался: обвинение в филёрстве – последнее дело, за такое в гимназии сразу кидались в драку.
– Ольга, я умоляю вас. Оставьте авантюры: они опасны. Намедни мы отбились от пролетариев, а если бы не сумели? Весь город только и говорит о манифестации в воскресенье; а если войска начнут стрелять?
– Ах, так вы боитесь стрельбы? Штанишки обмочили? Да вы, оказывается, никакой не рыцарь. Трус вы. Сопляк. Мальчишка. Вон!
Я вышел и хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка, а с коридорной полки упала и вдребезги разлетелась фарфоровая голубка. Ульяна на кухне ойкнула и спросила:
– Господи, что там разбилось?
Это разбилась моя едва оперившаяся любовь.
Глава десятая Кровавое воскресенье
9 января 1905 г., Санкт-Петербург
Накануне вечером Ульяна позвала меня в гостиную: там уже сидела тётушка. Вид у нашей прислуги был необычный: праздничная цветастая кофта и новые золотые серёжки, щёки пылали натуральным румянцем.
– Вы мне семья, Александра Яковлевна, – сказала Ульяна, – ведь уж пятнадцать лет. Девушкой к вам приехала, совсем что ребятёнком. Ничего в городе не понимала, водопровода пугалась, смешно вспомнить. А вы меня приняли ласково, всему научили, терпели глупость мою деревенскую. А Николенька – словно дитё мне родное; ведь с младенчества на моих руках, как сиротой стал…
Ульяна всхлипнула и трубно высморкалась в платок, им же промокнула глаза.
Тётка удивлённо поджала губы и взглянула на меня; но я лишь пожал плечами. Разговор и вправду был странным, однако меня снедала мысль совсем о другом – о свежей ссоре с Ольгой.
Тётушка хмыкнула:
– Ты чего это, дружок? Уходить от нас собралась? Будто прощаешься.
– Оно ведь так и есть, Александра Яковлевна. Ухожу.
– И куда это, интересно?
– Взамуж.
Тут даже я остолбенел и на миг забыл о своих бедах.
– А всё ли в порядке с тобой, голубушка? Вот и щёки горят. Может, отдохнёшь, полежишь? Я и доктора приглашу.
Ульяна взмахнула платком и рассмеялась:
– Да не думайте, что жар у меня либо лихоманка ум отшибла. Мне Федот Селиванович предложение сделали. Вот оно как бывает: не стал девушку какую молодую искать, хотя жених завидный. Меня в жёны позвал. Я, говорит, Ульяна Тимофеевна, от ваших прелестев сам не свой. Мне, говорит, никого не надобно, хучь прынцессу персидскую – откажусь, вот крест! Такой в вас влюблённый.
Ульяна опять зарделась и спряталась в платок – только глаза сияли.
– Они уж и домик присмотрели за Нарвской заставой, их туда переводят с повышением. Так что вот. Невеста я теперь, самой смешно.
Тётушка встала, её сухие глаза заблестели. Подошла, обняла:
– Я очень рада за тебя, девочка моя. Вот ведь как. Обрела счастье. Дождалась. Не то что…
Тётушка махнула рукой; а меня ожгла внезапная мысль: я никогда не задумывался, почему она так и осталась одинокой. В молодости была красавицей – я видел фотографическую карточку.
– Приданое тебе приготовим…
– Ну что вы, Александра Яковлевна! С чего?
– С того, что ты член семьи. Что же, за пятнадцать беспорочных лет приданого не выслужила? Когда свадьба?
– Что? А, после Пасхи. Федот Селиванович рапорт написали, у них там строго. Служба. Вот и сейчас: уж неделю как не спит толком, не ест – всё служит; в городе-то неспокойно, всё нигилисты эти. Мутят народ.
Я опять помрачнел; и даже дурацкая мысль мелькнула – посоветоваться с Федотом насчёт Ольги, как её уберечь от беды.
Да. Посоветоваться. С полуграмотным городовым, бляхой номер два ноля. До чего я дошёл!
* * *
В ночь на воскресенье я спал плохо: здоровенные пролетарии в алых рубахах выскакивали из бойниц ужасного форта Брюса и гонялись за мной с дубинами; где-то кричала, звала на помощь Ольга; но члены мои вдруг будто погрузились в вату – я рвался, пытался бежать на крик, но не мог сдвинуться и на дюйм, впустую колотя пятками. Вселенский ужас холодом сковал меня, отнял ноги, заморозил желудок и начал уже подбираться к сердцу…
Проснулся: зябко, за окном тьма, одеяло валяется на полу. И тут грохнула входная дверь; я вскочил, наспех подхватил одеяло и высунулся в коридор.
Ульяна в чепце и ночной рубашке, подсвечивая керосиновой лампой, запирала замки.
– Что случилось?
Прислуга вздрогнула, перекрестилась:
– Свят-свят. Что за дом, одни полуночники. Спи уж, Николенька.
– Почему ты здесь?
– Да жиличка наша, Ольга, поднялась до света, дела у неё какие-то. Спрашивается: что за дела у девицы в воскресенье в такую рань?
Вернулся к себе. Укутался в одеяло, но колотило всё равно. Оделся, стараясь не шуметь; вышел в коридор. Дом наполняли ночные звуки: скрипела, словно жалуясь на ревматизм, старая мебель; постанывали плашки паркета. Тётушка деликатно посвистывала в своей спальне; самозабвенно храпела в каморке при кухне Ульяна. Я отпер отцовский кабинет: завизжала дверная петля. Замер; Ульяна пробормотала:
– А деревянного масла – на пятиалтынный.
И захрапела дальше.
Света я не зажигал. На ощупь вынул солидные тома Брокгауза. Достал увесистую коробку, поставил на стол. Долго возился гвоздиком; наконец замок поддался. В свете уличного фонаря блеснула грозная сталь. Потрогал латунную табличку на рукояти: сейчас было не разглядеть, но я и так наизусть знал слова: «Лучшему стрелку Каспийской флотилии инженер-поручику И. А. Ярилову. Май 1886».
Револьвер системы Галана был сложной и капризной машиной, зато убойной, оснащённой пулями калибром в полдюйма. Я дёрнул раму вниз – барабан отъехал вперёд. Потрогал донца патронов: все шесть на месте. Приладил тяжёлый револьвер под шинелью и принялся натягивать калоши.
* * *
Город набит войсками; на поддержку лейб-гвардейских полков спешно были вызваны части из Ревеля, Петергофа и Пскова. Пылали костры; у всех мостов составлены в козлы винтовки; топтали и пачкали навозом снег кони казацкие, уланские, конногвардейские…
Я прошёл к зданию на Четвёртой линии, где накануне отбивался от рабочих и Ольга стреляла в воздух из дамского «бульдога»: там толпились празднично одетые пролетарии с жёнами и даже детьми. Поначалу чувствовал себя робко: боялся, что меня узнают давешние соперники и начнут выспрашивать о цели прихода; а то, не дай бог, признают за полицейского провокатора, прогонят или даже побьют; но всё обошлось. Здесь были прилично одетые господа – они что-то разъясняли фабричным; мелькали в толпе студенческие тужурки и чёрные шинели слушателей Горного института, так что я был не один из «чистой публики».
Я протискивался, заходил во двор, искал – но не находил Ольгу. Тем временем атмосфера накалялась: заговорили о том, что на Шлиссельбургском тракте атаманцы порубили шашками делегацию; что у Нарвских ворот стреляли в мирно шествующих с царскими портретами и то ли убили, то ли сильно ранили самого Григория Гапона; последнее известие было встречено с горячим возмущением.
– Братцы, да что же это делается!
– Народ православный! Идёмте же на Дворцовую, поведаем царю-батюшке о произволе слуг его.
Все разом всколыхнулись, тронулись; активисты проникли в небольшую церквушку неподалёку, содрали со стен иконы, вынесли хоругви и поместили их во главе клубящейся колонны. Растрёпанный поп выскочил на крыльцо:
– Что же вы творите, ироды? Церковь грабить?
– Не ругайся, батюшка, а лучше благослови.
Поп перекрестил толпу, пробормотал слова молитвы; рабочие рвали шапки, кланялись; священник тоже кланялся, холодный ветер трепал седые его волосы и бил в покрасневшие глаза.
Затянули «Отче наш» нестройным хором и тронулись; мальчишки свистели, лаяли собаки; одинокий городовой высунулся из подворотни и тут же исчез.
Меня вдруг охватило странное возбуждение: умом я понимал, что нахожусь среди совершенно чужих, непонятных мне людей, а сердце радовалось и ощущало некую дикую, природную силу окружающей толпы, и я совершенно искренне подпевал:
Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам!На меня покосился шедший рядом молодой человек в фуражке Политехнического института и буркнул:
– Ну, сизарь, не надрывайся. Царя он славит, позор.
Я осёкся. Студент был похож на врубелевского Демона: черноглазый, плечистый, с длинными волнистыми волосами и горбатым носом. Я невпопад подумал, что такой типаж должен нравиться женщинам – и разозлился на себя за неуместные мысли. Неожиданно спросил:
– Вы не знаете, где Ольга Корф? Не могу найти её с утра.
Брюнет вздрогнул и сказал:
– Тебе зачем? Какая ещё Ольга? Не слышал про такую.
Отстранился и исчез в толпе; я озадаченно посмотрел вслед. Не знаю, каким шестым чувством я угадал, но политехник явно был одним из «товарищей» Ольги – тех, кого она защищала с таким жаром.
Гнев, ревность, беспокойство одновременно ударили мне в голову: я выбрался на тротуар и остановился, опираясь на трость и пережидая приступ.
Мимо шли и шли люди: их было, пожалуй, не меньше пяти тысяч. Я выдохнул и двинулся следом.
У Академии художеств шествие остановилось, упершись в заставу.
Это была сотня лейб-гвардии Казачьего полка; всадники сидели в сёдлах нарочито расслабленно, даже небрежно; нарядно сияли красные воротники и жёлтые эполеты, красно-жёлтые чепраки – словно нездешние цветы на сером петербургском фоне.
– Ну? – крикнул есаул на танцующем гнедом жеребце. – Бунтовать? Живо по домам, а не то плетьми накормлю.
Толпа вздохнула и качнулась вперёд – будто огромный медведь, прущий на собачью свору. Есаул выкрикнул команду: казаки рванули коней, врезались, хлеща нагайками; люди закричали, завыли, прикрывая головы, но неумолимо двигались вперёд – и вот уже станичники потерялись, возвышаясь над людским морем отдельными глыбами…
Я тоже закричал что-то бессмысленное и побежал; совсем близко мелькнули оскаленная лошадиная пасть, змеёй извивающаяся нагайка и злое бородатое лицо. Я сжался, ожидая удара; но всадник развернулся вдруг и поскакал прочь; улица расчистилась, и перед нами выросла шеренга стрелков. Офицер вопил, раззявив рот; загудел сигнальный рожок, солдаты взяли ружья на изготовку; я с весёлым ужасом понял, что сейчас будут стрелять.
Рабочие в первых шеренгах раздирали на груди пиджаки:
– Ну, стреляй в братьев православных!
– Что, с японцами не справиться? На своих кидаемся?
Колыхались на ветру хоругви; бледнели бельмами лица солдат над направленными в нас стволами; визжала какая-то женщина – высоко, на одной ноте, словно рожала.
Солдаты вдруг вернули ружья в положение «к ноге»; толпа заулюлюкала, завопила радостно, качнулась вперёд; пехота расступилась – и в образовавшиеся проходы рванула лава лейб-казаков.
В этот раз вместо нагаек в небо взметнулись шашки – и рухнули на наши головы атакующими птицами; прямо на моих глазах лопнул череп пожилого пролетария – и брызнул жёлто-красным, в цвет казачьих чепраков…
Мы бежали по улице; люди спотыкались и падали – я помогал кому-то подняться, а сзади, в затылок, в упор хрипели кони, свистела убивающая сталь и цокали подковы – как цимбалы войска сатаны…
Всё завертелось; я уже не понимал, как оказался среди строивших баррикаду на Четвёртой линии и тащил поваленный телеграфный столб вместе со всеми. Показавшийся знакомым рабочий содрал картуз, обнажив плешь, вытер потное лицо и крикнул мне весело:
– Привет, гимназист! Где подруга твоя? Сейчас бы нам её револьверчик сгодился.
Потом я быстро шёл к оружейной мастерской Шаффа – громить; видел, как били городового – кулаками в лицо, словно месили кровавое тесто. Отобрали шашку и кричали:
– Где револьвер?
– Не велели брать… околоточный надзиратель не велел.
– Чтобы нам не достался? Ах ты, держиморда! – И вновь звуки, будто взбивают тесто.
В мастерской не оказалось ружей: только клинки; люди разбирали их, обматывали железо тряпками, чтобы сделать рукоять.
Потом мы сидели за баррикадой из брёвен, бочек, ещё какой-то хлипкой дряни, обмотанной для крепости сорванными телеграфными проводами. Плешивый поглядел в небо, перекрестился и сплюнул:
– Плохой знак, месиво будет.
Я поднял глаза: кроваво-красное солнце, едва пробиваясь сквозь морозную дымку, вдруг распалось на три части; дрожало и кривилось тремя болезненными гримасами. Выглядело жутко; я вспомнил слово «гало», но не стал ничего говорить вслух: по линии уже маршировала рота. Грозно сверкали примкнутые штыки, грохотали сапоги; страх вдруг ухнул ледяным комком в желудок.
Офицер скомандовал «стой!» шагах в пятидесяти от баррикады, а сам пошёл к нам. Высокий, подтянутый, безупречный поручик Финляндского полка остановился и сказал:
– Господа! Побузили, и хватит. Прошу прекратить беспорядки и разойтись по домам, иначе я буду вынужден приказать стрелять.
Голос его, спокойный и уверенный, был страшнее крика; люди начали смущённо озираться, ища решимости в соседях по импровизированному укреплению и не находя. Кто-то высказал вслух то, что не осмелились другие:
– Куда нам с палками против ружей-то…
На баррикаду вскарабкался один из вождей и заговорил про солидарность и невозможность стрелять в соотечественников; офицер слушал, скептически улыбаясь – я тоже почувствовал неуверенность в этой речи. Ещё немного – и народ бы, скуля побитой собакой, разбрёлся прочь. Но тут на противоположной стороне улицы, в темной арке, я рассмотрел девичий силуэт – и сердце моё забилось.
Я принялся выбираться к ней; дурацкий гвоздь разбитого ящика зацепился за шинель. На ощупь отдирал полу, глядя на девушку; потому, наверное, увидел то, что не видел никто.
Ольга вынула из муфты «бульдог» и навела на офицера. Плевком вылетел жёлтый огонёк; сухой звук выстрела был едва слышен.
Она не попала; тут же закричал поручик:
– Первый взвод, пли!
Ударил залп; пули рвали нашу баррикаду на щепки; плешивый знакомец схватился за грудь и молча повалился вперёд; ударил второй – немедленно послышались грохот сапог и тяжёлое дыхание атакующей роты.
Я отодрал наконец шинель и рванулся к арке, где уже исчез силуэт; рядом кричали, стонали, падали люди; оратора на баррикаде подняли на штыки – он жутко визжал и извивался; а я всё нёсся по тёмным, грязным, вонючим переходам – и её серое пальто мелькало где-то впереди.
Выскочил на Средний; мимо бежали люди, вопя беспрестанно. По проспекту неслись казаки; стоя на стременах, рубили в спины; я на миг растерялся. И услышал её крик:
– Не смейте! Сатрап, ищейка!
Городовой прижал девушку лицом к стене; Ольга извивалась, пытаясь вырваться, уронила муфту – из неё выпал «бульдог».
– Ага, сталбыть, ещё и оружная!
Городовой огрел по затылку; Ольга охнула и сползла на тротуар.
Добежал, махнул тростью, но неудачно – городовой ловко обернулся, отбил вторую попытку появившейся в его руке шашкой и врезал мне кулаком в грудь.
Задохнулся; в глазах потемнело, отступил на шаг и не сразу расслышал:
– Николай Иванович, да вы-то как здесь?
Федот Селиванович, городовой старшего оклада и жених нашей Ульяны, стоял передо мной, опустив шашку и удивлённо распахнув рот.
Я сунул руку за пазуху. С трудом взвёл тугой курок, вытащил и направил на Федота тяжелый «галан».
– Ах ты хунхуз!
Он принялся поднимать шашку; я зажмурил глаза и нажал на крючок. Грохнуло; жёлтая вспышка проникла сквозь веки.
Дальше я помню плохо. Ольга подхватила меня и потащила в подворотню; я едва ковылял – ноги не слушались, трость я обронил. Откуда-то взялся давешний врубелевский персонаж; поднял трость, схватил меня под другой локоть, помогая Ольге.
– А ты, гимназист, герой, оказывается, – усмехался он, – извини, сразу не понял. Посчитал за провокатора.
– Ммм, – промычал я невразумительно.
– Николай, вы ранены? – спросила она тревожно.
Прислонила меня к грязно-жёлтой стене очередного колодца, нежными пальцами расстегнула крючки шинели, ощупала грудь.
– Хватит его гладить, Корф.
– Ладно, не ревнуй. Познакомьтесь: это Михаил Барский, мой товарищ по борьбе.
Брюнет содрал фуражку и глумливо поклонился:
– Он самый. Ты меня обижаешь, Олюшка: неужто всего лишь по борьбе?
– Фат. А это – Николай Ярилов, племянник квартирной хозяйки. Доблестный рыцарь и мой перманентный спаситель.
Я смотрел в небо: вместо гало там сияла радуга. Зимняя радуга, редчайшее атмосферное явление.
Когда я добрался домой, уже стемнело. Тётка всхлипывала:
– Николенька, ну как так можно? В городе ужас, беспорядки, стрельба, я так волновалась. Где ты был?
– В лаборатории у Тарарыкина, – соврал я, – ждал, пока успокоится всё.
– И верно сделал, молодец. А у нас-то беда невозможная. Жениха нашего, Федота Селивановича, убили. Выстрелили прямо в сердце. Господи, такой хороший человек был. Ульяна сама не своя, я доктора вызывала. Опий дал, теперь спит. Вот, не успела в невестах побыть, а уже вдова.
Всё-таки убил.
Я добрёл до кровати и упал ничком.
* * *
Скрипнула дверь. Ольга вошла неслышно; на ней была только сорочка. Юркнула под одеяло, прижалась горячими губами, грудью, всем телом – я задохнулся, кровь понеслась бешеным потоком по жилам, сметая страх, боль, разум…
Я пил её губы – и никак не мог напиться; сердце замерло, воздух застрял в лёгких и раскалился, разрывая грудь; Ольга вдруг громко застонала и уронила на моё лицо золотую волну волос…
Я проснулся от этого крика; ходики на стене стучали размеренным пульсом, тополиные ветки гладили оконное стекло сухими пальцами. Низ живота был покрыт липким и горячим… Стыд-то какой!
Прокрался на кухню, набрал в таз воды. Застирал простынь и кальсоны.
Луна насмешливо пялилась в окно.
* * *
11 января 1905 г., Санкт-Петербург
Револьвер я почистил, коробку упрятал в прежний тайник – но одного патрона в гнезде барабана недоставало; я не знал, где искать замену. Не знал, что скажу отцу по его возвращении. Но гнал эту мысль – как и воспоминание о тугом курке и грохоте выстрела…
Дома воцарился бардак; Ульяна не вставала, бессмысленно глядела в потолок и молчала. Тётушка оказалась никудышной хозяйкой: всё у неё пригорало или получалось недоваренным; в конце концов она отчаялась и выдала мне деньги на обеды в столовой. Жиличкам полагался бесплатный кипяток, Ульяна прежде трижды в день заводила самовар; но теперь им приходилось справляться самим.
Я помогал: щепал лучину. Мы сидели на кухне, вполголоса переговаривались о пустяках; Дарья не знала о наших приключениях в воскресенье, которое газеты назвали Кровавым. Это было чудесно: у меня и Ольги теперь была общая Тайна. Мы переглядывались и произносили слова, понятные лишь нам; Дарья не замечала этого.
Ольга вставала за чашками, протискивалась мимо меня. Я говорил:
– Сейчас подвинусь.
– Ничего, – смеялась она, – проскочу. Чай, не полицейская застава.
И прижималась горячим бедром; ради такого я готов был пристрелить всех городовых империи.
Был назначен траурный митинг в Политехническом: в тот момент, когда на Васильевском мы ждали за баррикадой, их студента убили на Дворцовой. Пришли не только слушатели, но и преподаватели; там я встретил и Тарарыкина: он был расстроен.
– Очень плохо, когда молодые, талантливые люди погибают вот так, от рук своего же правительства. Получается, что мы губим собственное будущее.
Сейчас химик был похож на печального павиана: серебряная щетина, глаза слезятся, красный нос свешивается на губы. Тем не менее он мне попенял:
– Однако это не повод оставлять занятия! Жду от вас реферат про ароматические смолы. Ведь будущее – это прежде всего наука, а не манифестации.
Сходка не состоялась: первого же оратора прервали жандармы и заставили нас разойтись. Мы брели через Невку; на льду серыми кляксами валялись перепачканные прокламации об учреждении Петербургского генерал-губернаторства и назначении на должность бывшего московского обер-полицмейстера Трёпова. Барский сказал:
– Ничего, и на него бомба найдётся. Либо револьверная пуля от смельчака; так, гимназист?
Я поёжился. Я вдруг понял: убийства Сипягина и Плеве, других министров и губернаторов – да самого царя Александра Николаевича! – происходили не сами по себе. Их совершали не исчадия ада, внезапно появившиеся в облаках серы, с рогами и копытами. Нет! Вот такие, как Михаил и Ольга – студенты, курсистки, абсолютно обычные молодые люди в какой-то миг становились подобны демонам, сверхсуществам. Отказывались от человеческого закона и закона божиего, от морали, сбрасывали их – как сбрасывает старую шкуру змея. И оказывались… Кем? Нелюдью? Жестокими убийцами? Выдающимися героями, которых прославят пришедшие после нас, назовут их именами улицы и проспекты новых городов, пароходы, воздушные корабли? В последние дни нервы мои расшатались, и эйфория сменялась унынием и чувством стыда; стоило увидеть белые пустые глаза Ульяны, как совесть набрасывалась на меня голодной собакой.
А ведь я сам сделал шаг к тому, чтобы стать нелюдью. Крепкий, уверенный шаг; откуда взялась во мне решимость для убийства? Дело только в моих чувствах к Ольге, заполняющих всё, или я был таким всегда, до встречи с ней? Таким – страшным для самого себя, для окружающих людей, для Бога и мироздания?
Мы петляли по переулкам Петроградской стороны, потом поднялись на ощупь по неосвещённой чёрной лестнице; Барский постучал условным стуком.
– Кто?
– Послушники Исаака.
– Сколько?
– Два и новый.
Дверь распахнулась едва, чтобы протиснуться; ловкие руки в темноте мгновенно ощупали меня. Потом мы сидели в тёмной комнате; горела только одна лампа с зелёным абажуром, и я даже не понимал, сколько там было человек – дюжина или больше.
Разговор зашёл о событиях в воскресенье; в речах ощущалось торжество.
– Товарищи, Гапон, сам того не желая, прекрасно справился с задачей: теперь разорвана порочная связь пролетариата и самодержавия. В рабочих обретём мы необходимую толщу народной поддержки.
Они говорили, перебивали друг друга: Ольга лишь изредка вставляла реплики. Я быстро заскучал, не понимая сути спора, и начал думать о своём: мне вдруг представился летний пруд на нашей даче, скрип уключин и Ольга напротив – в лёгком сарафане, загорелая и смеющаяся.
– Необходимо учиться! Изучать историю уличных боёв, и здесь нам в помощь богатый опыт Парижской коммуны!
– У французов была Национальная гвардия, вооружённая и организованная. А у нас? Боевики хороши для актов устрашения, но для военных действий их недостаточно. Обращаться за помощью в центр – значит, расписаться в бессилии нашей местной организации. Нужны новые идеи, товарищи; но где их взять, если среди нас нет профессиональных военных? Да хотя бы служивших в армии. Что говорить: просто нет мало-мальски знающих современное военное дело.
Ольга качнулась вперёд и возразила:
– Почему же? Есть такой. Сын и брат офицера, весьма осведомлённый. Товарищ ещё молод, но уже проявил себя в деле. Все вы слышали о случае на Васильевском: здесь тот самый стрелок.
Я не сразу понял, кто имеется в виду; но Ольга прошептала на ухо:
– Вот твой Тулон, мой юный Бонапарт.
Неожиданно поцеловала в щёку и подтолкнула; растерянный, я вдруг оказался у самой лампы. Из темноты на меня смотрели незнакомцы; я чувствовал, что они чего-то ждут.
– Ну же? Что вы имеете сказать?
Возможно, дело бы окончилось конфузом, но моя щека всё ещё помнила бархат её губ; я выступил неожиданно для себя самого:
– Во-первых, без хорошего оружия бой невозможен. В городской тесноте револьверы имеют ценность, но весьма малую. Нужны ружья.
– То есть первым делом – захват охотничьих магазинов? – деловито спросили из темноты.
– Нет. Надобны карабины, винтовки. Армейского образца. А вот как их добыть – вопрос. Значит, нужны сторонники в войсках. А пока что можно нападать на часовых: только в Петербурге – десятки полков, а значит, сотни караульных постов. Там, на складе, быть может, никому не нужная дрянь вроде валенок или старой конской сбруи, зато у часового – винтовка и подсумок с патронами. Нередко солдат – забитый, неграмотный, робеющий; он сам уже боится, встав на пост. И, насколько я знаю, у старослужащих принято запугивать таких, рассказывать о всяких страхах – для них это развлечение, а первогодок собственной тени пугается. Думаю, что можно отобрать у такого винтовку даже без применения особого насилия.
– Неплохо, неплохо. Кроме того, предпринимаются меры по закупке оружия… Впрочем, не будем обременять молодого человека излишними знаниями.
«Не доверяют», – понял я. Но обидеться не успел.
– А что по бою на баррикадах? Вы ведь имеете опыт.
Я не стал рассказывать, что весь мой опыт боя на баррикаде заключён в побеге за силуэтом Ольги в подворотню. Вместо этого сказал:
– Расположение баррикад должно быть намечено заранее, с учетом возможного обхода противником – лучше ими огораживать некий квартал, создавая район, приспособленный для круговой обороны. Да, и хорошо бы учитывать наличие материала: например, дровяные склады или запасы камня для мостовых, чтобы строить более прочные укрепления. Впрочем, против артиллерии любые баррикады бессильны. Далее: нужны небольшие летучие команды для внезапных нападений на скапливающиеся перед укреплениями войска. Из подворотен, окон квартир. С крыш. Такие маленькие отряды должны скрытно проникать в тыл и производить панику. В городских условиях войскам неуютно, это ведь не в поле; тесно – любой выстрел в цель. Обзор плохой. Надо смелее привлекать молодёжь: из гимназистов, реалистов, учеников коммерческих и технических училищ, из подмастерьев. К ним внимания от полиции меньше. Солдаты поголовно – чужаки, а мы в Петербурге родились, выросли, знаем каждый закоулок.
Я замолчал; молчали и слушатели. Мне показалось, что сейчас надо мной начнут смеяться; однако тишину вдруг нарушили аплодисменты. Все заговорили разом:
– Толково!
– Ольга, ты молодец, такой перл разыскала.
– Молодой человек дело говорит. Надо юных в наши ряды: лет с четырнадцати, а то и двенадцати. Связниками, посыльными, разведчиками.
Воодушевлённый, я решил закрепить успех:
– Летучие отряды хорошо бы, кроме револьверов, снабдить бомбами. С крыш швырять – милое дело; а для скученных в тесноте улиц войск – смертельная опасность.
Разговор смолк; я успел подумать, что сморозил глупость, когда произнесли:
– Эх, бомбы. Вот с ними закавыка. Трудное дело и опасное.
– В Тифлисе на прошлой неделе лаборатория взорвалась, погибли товарищи.
– Бомбисты-химики наперечёт. А химикаты доставать? Хороший снаряд изготовить непросто.
– Подождите, – перебил я, – если так трудно с бомбами – можно придумать простые зажигательные гранаты. Тут ведь главное – напугать. Хотя и гореть – дело малоприятное.
– Интересная идея. Но кто воплощать будет?
И тут я, совсем потеряв голову, сказал:
– Могу и я. С химией дружу, к хорошей лаборатории доступ имею.
И опять сорвал восхищённые возгласы.
– Юлий Цезарь революции! На все руки.
– Надо немедленно привлечь к работе. Сообщить Толстому…
– Стоп, товарищи! Никаких имён, я же предупреждал.
Разговор разом смолк; я опять почувствовал себя чужаком.
– Ну что же, Николай, мы вам очень благодарны. За любопытные идеи, за готовность помочь святому делу освобождения. Вас проводят.
Меня вывели на улицу; Ольга и Михаил остались там, в тайной квартире.
Было немного обидно; но всё покрывал один миг: когда я выходил из тёмной комнаты, Ольга поймала меня за руку и торопливо поцеловала. На этот раз – в губы. Почти неощутимо, мельком; это было божественно.
Поцеловала и шепнула:
– Не подвёл меня, молодец.
Я брёл домой, идиотски улыбаясь.
* * *
Из письма инженер-капитана Ивана Ярилова;
остров Мадагаскар, стоянка
Второй Тихоокеанской эскадры, январь 1905 г.
«…и пальмовые ветви вместо еловых. Вот такое смешное Рождество. Нижние чины задумали переодеть одного кондуктора, обладателя густых седых усов; причём изготовили для него хвост наподобие рыбьего, трезубец из пушечного банника и картонную корону. Получилось нечто среднее между нашим Дедом Морозом и Нептуном; но вмешался корабельный священник, обозвал матросов язычниками и ходатайствовал перед командиром о запрете; батюшка наш – из новичков во флоте и не знает, что такие развлечения на флоте даже поощряются. А по мне так – пусть себе развлекаются. Уж всяко лучше, чем по кубрикам запрещённые брошюрки читать.
Провели учебные стрельбы по щитам; результаты печальные. Опытных наводчиков считай, что нет; да и откуда им взяться с нашей дурацкой жёсткой экономией? Меткости в классе не научишь, это навык сугубо практический; а практических снарядов выделяется мало. Словом, надо стрелять и стрелять; причём на большие дистанции. Зиновий Петрович затребовал из Петербурга запас учебных снарядов, но когда они ещё прибудут? И почему нельзя было раньше озаботиться? Полгода готовили эскадру, а вышло, как у дурной хозяйки, как у нас всегда: то забыли, это потеряли, того не предусмотрели.
Но особо беспокоит личный состав: среди нижних чинов немало таких, что разложены социалистической пропагандой. О чём они там болтают на нижних палубах – неведомо: плохо налажено противодействие таким разговорам. Офицеры считают ниже своего достоинства интересоваться, а боцманы как бы меж двух огней: хоть и начальники, но сами вышли из матросов. Это меня сильно беспокоит; и вообще дух на эскадре низко упал; если честно, он изначально был невысок. Скептицизм поселился и в офицерских кают-компаниях, и в матросских кубриках; кажется, никто не верит в успех нашего похода. Никто, даже сам адмирал Рожественский!
Одна надежда: на нас полагается огромная империя; вот ради неё и надобно сражаться. Надеюсь, что эту веру, преданность престолу, отечеству, церкви православной эскадра ощутит в нужный момент. За нами – Великая Россия и её верный самодержцу народ, не так ли?..»
У меня расплывались строчки перед глазами. Бедный, наивный папа; до них ещё не дошли сведения ни о всеобщей стачке, ни о страшном дне Кровавого воскресенья, в который погибли то ли три сотни, то ли пять тысяч человек (слухи ходили самые разные).
И я, его сын – среди бунтовщиков считаюсь чуть ли не героем. Господи, какой позор… Что подумает папа, если узнает? Что сказал бы Андрей? При всём своём нигилизме и склонности к насмешке он никогда не позволял себе сомневаться в основах государства, а уж о поощрении революционеров и речи не могло быть. Если бы он оказался девятого января во главе той роты на Четвёртой линии – несомненно, скомандовал бы атаку.
Это ужасно.
* * *
Я читал в папином кабинете. Спрятал письмо обратно в конверт, когда услышал шум в коридоре. Пошёл к двери и столкнулся нос к носу с Ольгой.
Она была возбуждена, румянец пылал на её щеках; сняла шапочку: неубранные волосы рассыпались по плечам.
– Вы один?
Я кивнул; она толкнула меня в грудь, заставив вернуться в кабинет; обернулась и повернула ключ. Подошла совсем близко, взглянула снизу – у меня всё поплыло; расстегнула и сбросила пальто под ноги. Прижалась ко мне двумя прелестными бугорками; от неё пахло морозом, лавандой и вином.
– Мои товарищи в восхищении: вы были прекрасны, мой рыцарь. И, кажется, я опять забыла поблагодарить за спасение; вот такая невоспитанная девочка.
Она рассмеялась; затем внезапно положила ладони на мои плечи, потянулась и поцеловала в губы – жарко, долго, до остановки дыхания.
Я будто сам выпил залпом бокал, целуя её; голова кружилась, сердце выламывало рёбра. Она неожиданно вцепилась сильными пальцами в мою ягодицу, прижалась низом: я ощутил горячее биение ТАМ, понял вдруг, что сейчас произойдёт, и…
И я страшно оконфузился. Она, наверное, не поняла, что произошло: я успел оттопырить зад, чтобы она не почувствовала.
– Ну, что же ты, мой шевалье?
– Не сейчас, – прохрипел я, – не могу так. Тётка за стенкой.
Она разочарованно отстранилась. Посмотрела на меня, усмехнулась и сказала:
– Жаль. А вот я люблю неожиданности. Такая я внезапная. И опасность разоблачения меня только возбуждает. Трудно со мной, да?
– С тобой. С тобой. Прекрасно. Ты. Лучшая. На свете.
Я не в силах был говорить длинные фразы – у меня не хватало дыхания. На моих брюках расплывалось мокрое пятно, я чувствовал это и страшно боялся, что она увидит…
– Что же, будем считать твои слова не просто комплиментом, а признанием.
Она улыбнулась и потянулась ко мне; я неловко повернулся, чтобы избежать прикосновения низом живота – и уронил том «Британники» со стола; грохнуло, как от взрыва.
Мы оба вздрогнули, и тут послышался голос тётушки:
– Николай! Что ты опять разбил?
Ольга захихикала в кулачок. Подняла с пола пальто и шапку, повернула ключ – и выскользнула.
Исчезла неслышно и стремительно, словно русалка в морской волне.
* * *
– Обтрухался, значит, – рассмеялся Серафим, – это тебе не экзамен по математике, досрочный ответ не поощряется.
Мне и так было мучительно стыдно признаваться, а тут он с насмешкой. Друг, называется! Я уже хотел обернуться и уйти, но Купец положил мне лапищу на плечо:
– Ладно, чего ты, не куксись. Обычное дело, коли необстрелянный. Со многими поначалу бывает. Да вот даже со мной.
– С тобой?!
– Ну да. Была у нас горничная. Эх, огонь-девка! А мне тринадцать. Ну, она всё хихикала, намекала – то бедром заденет, то ещё как. Затащила меня в кладовку; пока со штанами разобрался, потом в юбках запутался. Не донёс, словом. В первый раз – оно и есть в первый.
Возможно, Сера врал, чтобы поддержать меня, но я поверил. Спросил:
– И что же теперь делать?
– Боевой опыт приобретать. Есть тут одно заведение. Только недёшево, если по-хорошему. Червонец найдёшь?
– Зачем?
– Затем, – расхохотался Купец, – на учебные курсы для девственников. И за меня заплатить, как за репетитора.
– Поищу, – вздохнул я.
* * *
– Берём двухдюймовую водопроводную трубу, режем на отрезки по пять дюймов. Такой легко в карман спрятать, места мало занимает. Потом на токарном станке делаем четыре кольцевых прореза через дюйм, глубиной два миллиметра – минута работы. Хорошо бы три-четыре продольные канавки, но это уже на фрезерном, и долго. Можно и без них.
– На токарном и фрезерном?
– Ну да. У вас же есть свои люди в механических цехах?
– Положим, да. А зачем такое?
– Очень просто: при взрыве будет рвать в первую очередь по этим проточкам, получится веер осколков. Энергия пойдёт не на разрыв корпуса, а на придание осколкам смертоносной скорости. Отличное поражающее действие. А иначе пробки выбьет, и всё.
– Какие пробки?
– Оба конца трубы заклёпываем. С одной стороны сверлим отверстие на четверть дюйма, забиваем смесь чёрного пороха с бертолетовой солью. Порох – в любом охотничьем магазине на вес. Соль я достану. И взрыватель.
Я вытащил из кармана и показал незнакомцу:
– Обыкновенный бикфордов шнур. На том конце, что вставляется внутрь гранаты, я битумную оплётку снял и шнур пропитал нитрином. Чтобы вспыхнул весь заряд одновременно: сила взрыва зависит не от общего количества взрывчатого вещества, а от того, сколько его сработает. Порох обычно сгорает не полностью, разлетается без пользы. А так коэффициент полезного действия будет близок к идеальному. Намного лучше, чем у бомбы-«македонки».
– Любопытно. Даже остроумно.
Молчавшая до сих пор Ольга положила ладонь на мою руку и сказала с гордостью:
– Николай – вообще умница.
– Вполне может быть, – рассеянно сказал дядька.
Имени он своего не назвал; но я уже привык, что «товарищи» помешаны на конспирации и всяческих тайнах.
– А это что?
– Обычная шведская спичка, обработанная моим составом. Теперь загорается на любом ветру, в дождь, да хоть под водой. Ниткой примотана к тому концу бикфордова шнура, что выпущен наружу, и защищена промасленной бумагой. Приводится в действие просто: отгибаем или отрываем бумагу, чиркаем о любую шероховатую поверхность – хоть стенку, хоть подошву. И бросаем. Взрыв – через три секунды.
Дядька пожевал губами. Кивнул:
– На мой дилетантский взгляд, очень неплохо в теории. Просто, надёжно, составные части нетрудно достать легальными способами. Надобно сделать опытную партию и испытать.
– Несомненно, – согласился я, – с вас отрезки трубы, у меня знакомых мастеровых нет. И хорошо бы бикфордов шнур. Ну, ещё порох купить, нужны несколько человек. Если брать понемногу – подозрений не вызовет. Нитрин я изготовлю. Сборка первой партии – моя забота.
– Есть где заниматься? Чтобы без огласки?
– Да.
– Тогда приступайте.
Дядька достал бумажник, вынул две «красненькие»:
– Это вам на текущие расходы.
Очень кстати. Будет чем заплатить за «учебные курсы», о которых Купец говорил.
* * *
– Видал?
Фотографическая карточка помята, края истрёпаны. Такие называются «порнографическими»: откровенны до тошноты. Видимо, пряталась по внутренним карманам и заветным местам, и вся захватана пальцами, перемазанными в… Тьфу!
– Зачем ты мне эту дрянь суёшь, Сера?
Серафим удивился:
– Чего это «дрянь»? Огонь-девка! А титьки какие – глянь! Вот упал бы в них и облизывал, что твоё эскимо.
– Спасибо. Обойдусь.
– Ты чего, стесняешься? Покраснел весь, как первоклашка.
Купец расхохотался.
– У-у-у, как всё запущено, друг мой. Тебя надо срочно просвещать, а то так и помрёшь целомудренным, отравившись кислотой в своей лаболатории.
– ЛабоРатории, Сера, – поморщился я, – сколько раз поправлять?
– Ладно, – махнул Купец, – беда невелика – буковку перепутать. Не то что пятнадцатилетний девственник, позорище.
– Хватит. Ещё одно подобное замечание…
– Ладно, ладно, – спохватился Купец, – чего ты? Шутейно же говорю, по-приятельски. А карточку я просто так показал. Для, скажем, возбуждения интереса. Всё равно там «камелия» изображена. Не по нашим доходам. Генералам да князьям всяким, фабрикантам. По двести рублей за ночь! На такую мелюзгу, как мы, и не взглянет.
Я честно снабдил друга десятирублёвым билетом – одним из двух, что мне дал дядька-революционер. Про второй червонец скрыл: предвкушал поход по букинистам недалеко от Сенной.
– Для начала – настроение поднять.
Купец щёлкнул замком неимоверно раздутого саквояжа, звякнул стеклом.
Вино я пробовал. Один раз даже выдул бокал шампанского – помню это смешное состояние лёгкого головокружения, когда весёлые пузырьки теснятся в груди, поднимаются вверх и щекочут мозг. Но сейчас…
– Сера! Это что ещё?
– Водка. «Белая головка», хорошая.
– Тьфу. Как какой грузчик с пристани.
– Не кривись. Давай-давай. Считай, что лекарство.
Обожгло гортань; желудок скорчился в ужасе. Меня мгновенно развезло с непривычки; Сера вёл подворотнями, я беспрестанно спотыкался и хихикал.
Потом была ободранная гостиная: пыльные нестираные шторы, затоптанный ковёр; стеклянный красный абажур с отбитым краем – его свет неприятно окрашивал лица в кровавые тона. Будто все вокруг ожидали близкого апоплексического удара.
– О, какие гости! Серафим Никанорович, давненько не заглядывали.
Дама низкая и широкая; на усталом лице плывёт тушь. Душно. Она целует Серу в щёку, жеманно хихикает.
– А я не один. Вот товарища привёл.
– И верно поступили. Заведение солидное, все барышни с билетами. Дважды в неделю всенепременный осмотр у полицейского доктора, а как же.
Дама приближается. Смотрит на меня в упор: я вижу плохо запудренные усики над ярко раскрашенным ртом. Мне плохо.
– Ой, какой милый юноша! Цветок.
– Вот и будем цветочек срывать, – хохочет Сера и шепчет что-то мадам на ухо.
– Где тут у вас уборная? – спрашиваю я.
– Тю, не вовремя, – говорит Купец, – давай, давай. Вверх по лестнице. Нумер три. Там тебя ждёт настоящая сказка.
– Несомненно, – подхватывает мадам, – Диана – наша гордость. Бывшая балерина Императорского театра. Умела и деликатна; то, что и надо, чтобы превратить юношу в мужчину.
В комнате полумрак; опять пыльные шторы, скрипучий дощатый пол. Ободранный жестяной таз, полуслепое зеркало – и доминантой широченная кровать с никелированными шариками.
– Неужели вправду изволили танцевать в балете?
– А як же! И спивала, и плясала.
У Дианы – невыносимый южнорусский говор. И зовут её наверняка какой-нибудь Глафирой или Аксиньей.
– Який красавчик! Ну, хосподин химназёр, раздевайтеся…
От неё пахнет потом. Жёсткие чёрные волосы, запудренные морщины, расплывающиеся под сорочкой груди с огромными, с черносливину, сосками. Какие-то ленточки, рюшечки, кружевные накидки на многочисленных подушках.
Мне плохо.
Она умело развязывает шнурок на подштанниках, решительно сдирает их, припадает к моему паху.
Я словно разделяюсь надвое. Одна моя часть разбухает кровью, опрокидывает её на кровать и наваливается; хватает стонущие потные складки, хрипит, пускает слюни и раскачивает задницей, вбиваясь всё глубже в мокрое, горячее, податливое.
Будто пытаясь кого-то убить.
Другой я смотрю на эту вакханалию со стороны, на потную свою спину, на безостановочные поршни ягодиц. За пыльными шторами в немытом окне появляется на миг силуэт: золотые волосы, серые глаза. Брезгливая усмешка.
– Хватит! – шепчу я-второй себе-первому.
Но первый не слышит.
Ещё. Ещё. Загнать, вбить, уничтожить.
– Ох, хорячий, что твой жеребчик. Дай передохну.
Диана сталкивает меня. Просит:
– Водички принеси, будь ласка. Упарилась я.
Пьёт: рука её дрожит, мелкие зубки стучат о край стакана. Капли проливаются, текут по грудям, по складкам живота, исчезают в жёсткой поросли, сквозь которую просвечивает розовое, влажное, влекущее.
Я вырываю стакан, роняю на пол – он разбивается.
Наваливаюсь; женщина пищит и привычно разбрасывает ляжки.
Ещё. Ещё.
Воняет, как в раздевалке гимнастического зала. Она хрюкает и стонет.
Ещё…
Меня разрывает, корчит, взрывает изнутри; мозг испуганно бежит из черепной коробки.
– Ох, и силён, красавчик. Давно такого у меня не было.
Она нащупывает на тумбочке портсигар, вытаскивает тонкую пахитоску. Ждёт, глядя на меня.
Спохватываюсь: хватаю коробок, трясущимися пальцами ломаю спичку, вторую. Третья загорается: женщина прикуривает, затягивается, закатывает глаза. Выпускает дым через ноздри.
Я едва успеваю отвернуться и блюю на пол.
– Ой, что такое? Вам плохо?
Я вытираю рот тыльной стороной ладони. Смотрю в пыльное окно: там пусто, темно, никаких силуэтов.
– Нет. Мне – хорошо.
* * *
Январь 1905 г., Маньчжурия
Русская армия в Маньчжурии разбухла неимоверно; расплодились без числа штабы, тыловые управления и складские хозяйства. В ресторанах Харбина, на безопасном удалении от боёв, молодые люди в модных костюмах, сияя маслеными глазами, угощали войсковых интендантов икоркой, шустовским коньяком, привезёнными из столицы певичками и толстыми пачками ассигнаций.
Фронт же замер в ожидании плохих новостей: армия барона Ноги, доблестно завершившая осаду Порт-Артура, перебрасывалась на север, к мукденским позициям. На станциях Квантуна скопились тысячи тонн боеприпасов, артиллерии, продовольствия; в огромных палаточных лагерях японские солдаты ожидали отправки на север по железной дороге.
Куропаткин утонул под валом противоречивых бумаг из Санкт-Петербурга: каждый царедворец считал своим долгом указать, как надлежит действовать войскам; многие, ссылаясь на мнение самодержца, пеняли генералу за пассивность.
В таких обстоятельствах инициатива генерал-адъютанта Мищенко стала спасением: опытный кавалерийский военачальник предложил дерзкий рейд с целью разрушения мостов и путей, создания паники и растерянности в японских тылах; срыва или хотя бы задержки переброски вражеских войск из-под покорившегося Порт-Артура.
Конница вышла тремя колоннами накануне Нового года; семьдесят сотен и эскадронов – все, способные держаться в седле, были собраны в отряде Мищенко. Кубанцы и терцы, казаки донские и забайкальские; приморские драгуны, конные сотни пограничной стражи… Верховые из охотничьих команд восточносибирских стрелков, колотя в бока невысоких лошадок мягкими ичигами, унеслись вперёд разведывать путь.
Огромный обоз в полторы тысячи мулов, нагруженных припасами, плёлся едва; застревали в грязи батареи конной артиллерии, из-за чего вместо лихой скачки выходило топтание шагом – едва ли не медленнее пехоты. На крутых берегах реки Ляохэ то и дело вспыхивали костры: китайские шпионы сигналили японцам о русском рейде; о внезапности не было и речи.
Казачьи разъезды рыскали по округе; добычей их были отдельные фуражирные команды да десяток-другой повозок. По мере приближения к Инкоу то и дело вспыхивали стычки: японцы издалека обстреливали кавалеристов и, получив отпор, немедленно скрывались в сопках; казаки ругались, мечтая о настоящем, горячем деле – но враг избегал прямого столкновения.
Добрались наконец до цели набега: редкие огни Инкоу замаячили впереди. Разведчики донесли о свежих траншеях: нападения ждали, и атаковать в конном строю было бы самоубийством. Выбрали пятнадцать сотен, едва пятую часть наличных сил; наскоро довели задачу: атаковать в пешем строю, проникнуть в город, сжечь всё – и уходить.
Станичники, выслушав приказ, заворчали: пешком воевать казак не любит, да и не обучен. Но делать нечего: оставили лошадей коноводам и, бурча, побрели в ночь, цепляясь шашками за кусты.
Вечером 30 декабря конная артиллерия заняла позиции на высотах и открыла огонь: снарядов не жалели, паля по тёмному городу. Вот вспыхнуло зарево в одном месте; загорелись, весело швыряя искры в ночное небо, дровяные шпалеры; рванул снарядный склад; и спустя полчаса полыхало по всему горизонту.
Стало светло; пожары осветили густые цепи казаков, и японцы открыли яростный огонь – как днём на стрельбище. Наших, наоборот, пламя слепило, прятало вспышки выстрелов из «арисак» в оранжевом бушующем мареве; казаки кричали, накатывали бестолково – и отступали, оставляя раненых и убитых. Метались в темноте ординарцы, передавая противоречивые приказы; сотни действовали невпопад, не дожидаясь соседей, – и вновь отползали назад, под прикрытие кустов…
Мищенко в отчаянии велел резерву приготовиться к атаке, но теперь в конном строю, чтобы преодолеть мёртвое, насквозь простреливаемое пространство одним махом и обрушить шашки на японские головы. Эскадроны и сотни уже выстроились, ожидая сигнала; кони, чувствуя близкую атаку, ржали, рыли землю копытами; позвякивала сбруя, всадники проверяли, легко ли выходят клинки из ножен, поудобнее перехватывали пики.
– Ваше высокопревосходительство! Разведчики вернулись: японцы рядом, пять батальонов. Отходить надобно.
Генерал выругался. Скомандовал отбой.
Несмелый рассвет осветил оставленные батареями позиции; остро пахли сгоревшим порохом латунные гильзы. Японцы подобрали две сотни вражеских трупов и захоронили с почестями; а склады Инкоу горели ещё неделю…
* * *
– Тьфу ты. Тоска какая-то, а не фантазия. Получается, без толку этот налёт? А, Ярило? А мы с тобой где?
– А мы с тобой здесь, Сера. В Петербурге. Неохота мне больше фантазировать. Я что ни придумаю – а наши всё проигрывают и проигрывают.
– Значит, конец фильме?
Купец поскучнел. Сплюнул, достал папиросу. Покатал, разминая.
– Больше никаких подвигов? Так и помрём в гимназистах от скуки?
Стало его жалко, и я соврал:
– Ну, придумаю что-нибудь. Попозже.
Глава одиннадцатая Взрывник
Февраль 1905 г., Санкт-Петербург
Лицо в жутких ожогах, левый глаз затянут розовой плёнкой наполовину и беспрерывно слезится. Протянул «клешню» без среднего и безымянного пальцев:
– Химик.
– Я, наверное, тоже, – сказал я.
– Вы не поняли, молодой человек. Химик – не увлечение и не специальность, это моё партийное прозвище.
– Весьма почётное, между прочим, – встрял Барский.
– Очень приятно, – сказал я, пожимая клешню, – а я Нико…
– А он – Гимназист, – поспешно перебила Ольга и посмотрела сердито.
Никак не привыкну, что отныне я не Николай Ярилов, а Гимназист. Если честно, поведение Ольги и её «товарищей» кажется мне иногда ребячеством, игрой в казаки-разбойники. Но я предпочитаю молчать на этот счёт.
– Я участвовал в испытаниях ваших, м-м-м, осколочных гранат. Весьма неплохо.
– Благодарю вас.
– Не перебивайте. – Химик достал платок, тщательно промокнул глаз. – Неплохо, остроумно, но совсем не то, что нужно. Уличные бои – примитив, лишь способ привлечь на нашу сторону народную массу, растревожить. Смерти близких как нельзя лучше разозлят пролетариев. Но главное наше предназначение – террор. Нужны бомбы. Компактные и мощные, способные разнести на щепки яхту или двухэтажный особняк. Чтобы ни один министр, ни один великий князь, да сам Николашка не чувствовали себя в безопасности. А игры в баррикады оставьте девочкам.
– Это лишь ваше мнение, – встряла Ольга.
Химик кривится и перхает. Я беспокоюсь, что ему плохо: гримаса его ужасна. Но, оказывается, он так смеётся; сожжённое химическим ожогом лицо не в состоянии улыбаться по-человечески.
– Кхе-кхе. Я – человек дела, мне ваши теоретические споры под винцо скучны. Набьётесь по квартирам, занавески на окнах, лампы притушены – и треплетесь часами, не жалея драгоценного времени. А я и мои люди не разговаривают – действуют.
Ольга раздула тонкие ноздри – верный признак обиды. Но промолчала.
– Итак, молодой человек. Я готов взяться за ваше обучение, берусь за два месяца подготовить. Школа, разумеется, не в столице. Предупреждаю: дело опасное. До экзамена доживает один из трёх.
– Отчисляете? – не понял я.
Химик опять заперхал, вытер изуродованной кистью сочащийся глаз.
– Комик. Юморист. Макс Линдер. Хотите, чтобы я похлопал? Так нечем хлопать: пальцы оторваны, ошибся со взрывателем. Повторяю: наше дело – опасное. В Тифлисе недавно взорвалась лаборатория, дом завалило, два соседних сгорели. От трёх спецов и дюжины боевиков из охраны – один пепел. Понятно? Мы динамит делаем – вот этими руками. Нитроглицерин. Колбу уронил – смерть. За азотной кислотой не уследил – шкуру прожжёт до костей к чертям собачьим. Ясно?
– Ясно. Видите, я с тростью? Я уже взрывался.
Химик бросает на меня быстрый взгляд – будто приценивается. Продолжает:
– Ну и выводы?
– Мне надо подумать.
– Струсил, – Химик брезгливо скривился, – время зря теряю.
– Нет. Вы сказали – два месяца. Мне не уехать вот так, внезапно. Я же в гимназии. Тётка, опять же.
– Какая тётка? Какая гимназия? Революция, старый мир надо взорвать к чертям и забыть. Тьфу ты. Детский сад.
Химик ушёл не прощаясь.
Я боялся поднять глаза, но Ольга положила лёгкую ладонь мне на плечо и утешила:
– Не обращай внимания, Химик – человек сложный и нервный. Неудивительно: он, наверное, уже сто раз умирал.
– Может, и к лучшему, – сказал Барский, – теперь попросим у Центра самостоятельности в деле изготовления бомб. Зачем нам Химик? У нас свой есть. Так, Гимназист?
Он рассмеялся и протянул мне кружку с пивом. Было горько, но я выпил до дна.
* * *
Серые февральские дни мелькали, как фонари станций из окна скорого поезда; событий хватало. Встречи на тайных квартирах (и опять пустые, хоть и горячие, споры, в которые я не вникал); сходки студентов; сопровождение Ольги при вылазках на заводы. Там она раздавала прокламации и брошюры, иногда выступала, хотя не считалась в «организации» главным оратором – хватало других. Всего за два неполных месяца пролетарии сильно изменились: не слышно было историй про «царя-батюшку», чаще звучали слова «Николашка» и «Кровавый». Теперь нас не били – наоборот, выслушивали с хмурой сосредоточенностью. Стачки шли одна за другой, словно волны, подмывающие основы утёса-государства; поражение наших под Мукденом было воспринято уже не со скорбью и обидой, а с каким-то злорадством: кажется, никто теперь не верил в царских генералов. Неудачная война надоела; она затянулась, словно бесконечный скучный урок латыни, и хотелось скорее окончания – любого.
Дважды вместе с Купцом посещал заведение «мадам», но без энтузиазма. Я освоил несложную механику плотской «любви» – но это не сделало меня мастером любви настоящей: я так же робел, и все мои «навыки» исчезали, стоило услышать запах лаванды.
Диана и её товарки были столь же далеки от моего сероглазого идеала, как снежная баба с ведром на голове далека от Венеры Милосской. Впрочем, и Ольга относилась ко мне, как к «товарищу» – по-доброму, но без малейшего намёка на близость. Может, она и не помнила того случая в папином кабинете? Всё-таки была пьяна…
Тарарыкин, классный наставник и Пан ругали меня по очереди: из-за бурной деятельности ячейки я стал пропускать занятия. Меня часто привлекали как курьера; я отправлялся на другой конец города, пряча плотные конверты за пазухой или таща тяжёлые свёртки с неизвестным содержимым. Это было скучно, но я терпел ради похвалы Ольги.
В тот день хмурый дядька, который когда-то одобрил мои опыты с гранатами, встретил меня в условном месте и сказал:
– В другой раз ваше испытание, молодой человек, продлилось бы дольше, обычно мы присматриваемся к новичку не менее года. Но время не ждёт, да и ваша отвага в деле с убийством полицейского многое решила.
Я поморщился: мне хотелось забыть обстоятельства смерти жениха Ульяны, но, увы, это было невозможно. Собеседник не заметил моей гримасы и продолжил:
– Так что отныне курьерскими обязанностями будут заниматься другие, а вас, Барского и Корф мы выделяем в специальную группу. Будем готовить серьёзное дело.
– Какое же?
– Отвыкайте задавать вопросы, не то в вас заподозрят полицейского агента. Когда придёт час – всё узнаете. От вас требуется другое: нужна бомба. Мощная, но относительно лёгкая, не более пятнадцати фунтов и заданных размеров.
– Пятнадцать фунтов – это немало, – удивился я.
– Так и цель… Представьте, что нужно подорвать железнодорожный пульман. Так, чтобы он был уничтожен наверняка, а у тех, кто внутри, не было и малейшего шанса выжить. Ни одного. Чтобы всех в кровь, в мясо, кишки на проводах.
Говоря это, дядька преобразился: ноздри его раздулись, лицо побагровело. Так выглядит запойный пьяница при виде непочатой бутылки.
Мне стало не по себе. Я вдруг захотел отказаться от всего, скрыться, вернуться в свою прежнюю жизнь – где не убивают женихов своей няньки и не взрывают вагоны, набитые живыми и, возможно, невинными людьми.
Но я смолчал.
– Идите к Барскому. Он состоит в яхт-клубе, имеет доступ к буеру. Поедете по льду и заберёте гостинец. Вам может пригодиться, даже наверняка.
– Я не понял. Буер, гостинец? По льду?
– Барский всё знает, – разозлился дядька, – извольте исполнять. Вы, кажется, имеете понятие о военной службе; партия – та же армия. Даже гвардия, отборный полк человечества. Так что делайте, а ворох дурацких вопросов оставьте при себе. Гостинец заберёте в форте Брюса. Всё.
Дядька исчез; я побрёл на Петроградскую сторону, в квартиру Барского. Форт Брюса! Действительно, роковое место: опять он. Мрачный замок вампиров.
Ехать совершенно не хотелось. Но потом я вспомнил: буер! Стремительная яхта на коньках для зимних гонок. Вот это славно. Я ещё никогда не катался. Взял трость наперевес и побежал.
* * *
Стучал долго и безрезультатно. Толкнул дверь – распахнулась. В прихожей темно; как всегда у Барского – бардак, какие-то вонючие шубы на полу. Где-то, в глубине квартиры, бродил смех. Я пошёл на звук – и споткнулся: пустая бутылка покатилась, дребезжа и будто хихикая надо мной.
В коридор вывалился Барский, запахивая халат.
– О, Гимназист. Что, пора ехать?
Я не успел ответить – из комнаты вдруг донёсся весёлый, чуть пьяный девичий голос:
– Кто там, Мишель?
– Твой протеже. Нам пора. Выпьешь вина, Ярилов?
Будто потолок обрушился на меня: я стоял с глупым видом. Неужели…
Ольга выпорхнула из комнаты; на ней была лишь простыня на манер римской тоги. Золотые волосы рассыпались по плечам. Она стояла совсем рядом – румяная, горячая. И не только от вина.
– Николенька! А что, уже полдень? Барский, задержались мы с тобой.
Ничуть не смущаясь, Ольга улыбнулась мне и кивнула:
– Сейчас он оденется. Проходи.
Я развернулся и пошёл прочь.
– Что это он? – спросил Барский.
– Не знаю. Смутили мальчика, ха-ха-ха.
– Жди на улице, сейчас извозчика…
* * *
Я никуда не ушёл. Дождался Михаила на улице. У меня будто взорвалась внутри ледяная бомба, всего заморозила. Мы ехали на пролетке до яхт-клуба на Малой Невке; Барский хохотал и что-то рассказывал про испугавшегося городового, которого ночью разоружили студенты:
– А он такой: разрешите идти. Отдал честь и пошёл. Представляешь?
Я молчал. Если честно, в тот момент я пожалел, что не взял с собой отцовского револьвера. Убить его. После её. Потом – себя.
В другой раз я бы восхитился: буер и вправду был великолепен. Голландской работы, он уже своим видом, стремительным узким телом кричал о вольном ветре и сумасшедшей скорости. Три стальных лезвия, белое крыло паруса…
Барский усадил меня. Сказал:
– Держись крепко вот за эту дугу и ногами упрись. Не то вылетишь, синяков набьёшь – как я тебя Ольге сдам? Она с тобой, как наседка, носится.
И расхохотался.
Как наседка. А я – желторотый, бестолковый, хромой и очкастый цыплёнок. Бывают очковые змеи. А вот цыплята?
День был прекрасным: солнце слепило глаза, дробясь на ледяном поле залива; буер летел в бакштаг, как стремительная птица, скользя чёрной тенью по белизне…
Барский умело направлял полёт, на виражах повисая всем телом надо льдом; пел при этом что-то разухабистое. Чёрные кудри его трепетали на ветру, хищный нос победно таранил воздух – чистый демон.
Вот появился и быстро стал расти тёмный силуэт форта – мы домчались, наверное, за полчаса, даже не успели замёрзнуть. Барский заложил вираж, гася скорость и уходя из-под ветра; буер лихо затормозил, выбросив из-под коньков брызги ледяной крошки – будто чемпион Панин-Коломенкин.
– Пошли, Гимназист.
Заиндевевшие стены форта нависали надо мной; чёрные бойницы пялились неодобрительно, будто примеряясь – куда ловчее выстрелить. Но мы не пошли внутрь: я не сразу разглядел деревянную будку, из которой поднимался лёгкий дымок. Внутри было тесно, едва квадратная сажень. Грубо сколоченный стол, нары, кособокая печь; хозяин прикрикнул:
– Дверь запирай, чтоб тебя! Выстудите мне всё.
Был он в тулупе поверх грязной тельняшки, небрит и мрачен. На столе в круглых ожогах – жестяной закопчённый чайник с верёвочной ручкой и мятая кружка.
– Показывай, – сказал Барский.
– Сперва деньги.
Михаил хмыкнул. Достал ассигнацию в пятьдесят рублей, бросил на стол:
– Вот тебе Николай Первый. А сейчас какой? Правильно. Последний, больше не предвидится.
– Мне твоя агитация без надобности. Себе оставь, – проворчал хозяин и принялся рассматривать купюру на свет.
– Ну? – нетерпеливо сказал Барский.
– Не нукай, не запрягал.
Пыхтя, выволок из-под лежанки ящик. Разворошил грязное тряпьё; обнажился блеснувший сталью бок.
– Глянь, Гимназист, – сказал Барский.
Ещё не понимая, склонился над ящиком. Чуть не вскрикнул:
– Это же шестидюймовый! К системе Канэ. Фугасный.
– Он и есть, – кивнул хозяин, – у нас без обману.
– А трубка где? Ну, взрыватель?
– Может, тебе ещё и пушку? Что смог, то и спёр.
Я не верил своим глазам. Но Барский поторопил:
– Если всё в порядке – забираем.
Ящик выволокли вдвоём. Весил он прилично – больше трёх пудов. Прощаясь, я решился и спросил:
– А что в этом форте?
Сторож скривился:
– Чёрт его знает. Ворота заперты да опечатаны. С чего бы я в этой будке мёрз? Там небось получше кубрики имеются.
Понизил голос:
– Но по ночам будто бродит кто, наружу просится, стонет. Я вот всякого навидался, две кругосветки, десять кампаний. Боцманмата выслужил. Тонул, от малярии загибался, на Чукотке от белого медведя убегал. А такого страха, как тут… Ладно. Езжайте уже.
Я шёл к буеру, боясь оглянуться: казалось, форт щурится бойницами в спину и бормочет: «Ничего, вернёшься».
* * *
– Мне вообще плевать, взорвёшься ты или нет. Но сам Толстый попросил проконсультировать. Ваша ячейка всё форсит, тужится. Доиграетесь, что лопнете, да с брызгами и фейерверком.
Химик скривился и заперхал, словно подавившись; но я помнил о его особенном смехе, так что не бросился колотить по спине.
– Ну, как там тебя. Гимназист. Рассказывай, как решил провалить дело, а я посмеюсь.
Вёл он себя хамски, но заслужил это право: Ольга уже шепнула мне, что министра Плеве взорвали бомбой, изготовленной Химиком. Так что я собрался, глянул на Ольгу (она улыбнулась) и, ободрённый, принялся говорить:
– У нас одиннадцать фунтов тринитрофенола. Ну, мелинита.
– Ого! И откуда, смею спросить? Неужто сами изготовили?
– Нет. Имеется фугасный шестидюймовый снаряд. Выплавить из снаряда…
– Пара пустяков, – перебил Химик, – температура плавления – сто двадцать, с этим и школьник справится. Впрочем, ты и есть школьник, хе-хе. А дальше?
– Дальше – нужен взрыватель. Сказали, чтобы с задержкой на тридцать минут. Думаю сделать кислотный. Подобрать толщину фольги: кислота разъест фольгу за определённое время, попадёт на бертолетову соль…
– Классика. Соглашусь. Но не особо точно.
– Я надеюсь попасть в плюс-минус пять минут.
– Надежды юношей питают; они взрываются – летают. Детонатор?
– Думаю, фульминат ртути.
– Ага, – Химик закатил глаза и причмокнул, будто знаток тонких вин при упоминании любимого сорта, – гремучая ртуть – это славно. Главное – не уронить раньше времени. А ингредиенты?
– Есть запас нитрата ртути. А уж спирт и азотную кислоту…
– Достать несложно, – кивнул Химик.
Ольга посмотрела на меня довольно: кажется, экзамен я держал успешно.
– Но! – поднял Химик сохранившийся указательный палец. – Всё это ерунда. Одиннадцати фунтов мелинита не хватит для гарантированного уничтожения вагона усиленной конструкции с бронированными переборками.
– С бронированными?!
– А вы что, не знаете цель акции? Впрочем, куда вам, салагам.
Я растерялся. Промямлил:
– Я пробовал посчитать…
– Это, друг мой, не посчитать. Это чувствовать надо. Афедроном. Задницей в шрамах. – Специалист опять заперхал. – Тут только опыт. Так вот, я говорю: удваивайте заряд.
– Но как? Меня ограничили пятнадцатью фунтами. Заряд, взрыватель, оболочка. Резерва нет.
– Ваши проблемы. Когда не справитесь – а вы не справитесь – зовите меня. Так и быть, снабжу вас собственным динамитом «Экстра». Слыхали про такой? Но только если меня сам Толстый попросит.
Уходя, Химик неожиданно пожал мне руку и сказал:
– Очень неплохо. Если не погибнете в ближайшие три месяца – из вас может выйти толк, юноша. Успехов.
Он пренебрёг протянутой Барским рукой и, насвистывая арию Мефистофеля, вышел из кафе.
– Ты молодец. Заметил: Химик начал называть тебя на «вы». – Ольга наклонилась и чмокнула меня в щёку.
– Хватит его облизывать, – буркнул Михаил, – мы потерпели фиаско. Идти на поклон к Толстому, просить помощи – значит, поставить крест на самостоятельности группы. Расписаться в неспособности.
– Амбиции, Барин? – усмехнулась Ольга.
– Они самые, Валькирия.
– Ничего. У нас есть Гимназист, а у него – светлая голова. Что-нибудь придумает. А я его за это поцелую. Так, Николенька?
Она улыбнулась; я, разумеется, расплылся в ответной улыбке.
– Обязательно, – сказал я.
У меня совсем нет самолюбия. Вертит мной, как течная сучка хвостом.
* * *
Стол был накрыт посреди летнего сада; яблони роняли белые лепестки прямо на крахмальную скатерть, покрывая, словно тёплыми снежинками, фарфор и серебро. Сиял медью самовар, пахло мёдом и свежей сдобой; гудели шмели, и смеялись девочки. Они сидели вокруг стола: нарядные, причёсанные, в бантиках и кружевах, и пускали мыльные пузыри: радужные шарики поднимались к небу неторопливо, словно боевые аэростаты.
Отдельно, в тени, на кресле – красивая женщина с высокой причёской. Она держала на руках спящего грудного младенца; улыбнулась мне и сказала с лёгким немецким акцентом:
– Девочки! Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия! Встречайте молодого человека.
Подбежали, окружили меня, защебетали:
– Ники! А мы вас заждались.
– Смешно, вы тёзка папеньки.
– Принесли торт? Чудесно! Давайте же скорее, чай стынет.
Коробка с тортом оказалась неимоверно тяжёлой; я с трудом поднял её и водрузил на стол. Очередной мыльный пузырь достиг моего носа и лопнул, что вызвало радостный хохот и аплодисменты:
– Браво! Салют в честь гостя.
Я достал и раскрыл перочинный нож; он оказался вымазанным чем-то бурым, похожим за засохшую кровь. Разрезал верёвку. Поднял и отбросил картонную крышку: в нос ударило зловоние. Женщина взвизгнула и выронила из рук младенца; череп его хрустнул, разбившись о камень. Рыдающие от ужаса девочки разбегались, прятались под яблонями.
Вместо торта в коробке оказалась отрезанная голова брата Андрея: в страшных трупных пятнах, кровавых потёках. Сытые мухи лениво жужжали над глазницами.
Я отступил на шаг и закричал; мыльные пузыри начали взрываться, словно бомбы, от крика моего…
* * *
…проснулся от собственного крика. Сел на кровати. В коридоре что-то упало; распахнулась дверь, и показалась тётка в ночной рубашке:
– Николай, что случилась?
Сердце колотилось. Я ответил невпопад:
– Вот оно что. Пузыри.
* * *
– Понимаешь? Пузыри.
– Нет.
– Смотри: сила взрыва зависит и от площади поверхности взрывчатки, и от её плотности. Если разрезать мелинит на куски – вырастет площадь, но упадёт плотность, получится рыхлая куча. То есть никакого толку, только хуже сделаешь.
Ольга нахмурилась:
– То есть Химик прав? Ты не можешь усилить заряд?
– Подожди. Если создать внутри взрывчатки множество микроскопических полостей, то площадь реагирующего вещества многократно увеличится, а плотность упадёт, но незначительно. Просто надобно сделать эти пузырьки внутри. Вот как в шампанском.
Ольга рассмеялась:
– Ты предлагаешь разлить мелинит по бутылкам и ждать, пока забродит?
– Нет. Я хочу нагреть взрывчатку, расплавить её до жидкого состояния и насытить мелкими пузырьками воздуха.
– Ага.
Ольга прикусила розовый ноготь; она так всегда делала, когда задумывалась. Быть может, мать ругала её за эту дурную привычку, но мне нравилось.
Мне вообще всё в ней нравилось – до дрожи.
– Ага. То есть, например, взять полую тростинку, сунуть в это варево и дуть?
– Молодец! Суть верна. Только не тростинку, а шланг с наконечником, в котором проделать маленькие отверстия. И нужно что-то вроде кузнечных мехов, но меньшего размера. Большой шприц? Гуттаперчевая грелка?
– Или клизма, раз уж про медицину, – рассмеялась она.
Я подумал ещё и сказал:
– Нет, это всё не годится. Клизму сдавил – и надо вытаскивать из расплава, чтобы вновь набрать воздух. А процесс должен быть неостановим. Несколько десятков циклов. Кузнечные мехи подошли бы, будь они меньше раз в десять. Да и где их взять?
Ольга вышла из кабинета. Наверное, ей стало скучно.
Я чертил что-то на листке: мне всегда помогают думать рисунки. Нарисовал множество маленьких кружков, обвёл их овалом. Снизу пририсовал ствол: получилась яблоня. Вздрогнул: вспомнил ужасный сон, отрезанную голову брата, хрустнувший о булыжник череп младенца…
Хлопнула дверь: вернулась Ольга.
– Подойдёт? Дарья пыталась научиться, изводила меня жуткими звуками. Да быстро охладела, слава разуму.
В руках у неё была небольшая гармоника-концертино: на таких играют клоуны в цирке. Я хотел было возмутиться неуместностью шутки, но вдруг понял:
– Точно! Те же мехи, только объём маленький. Проделать отверстие, вставить резиновый шланг… Ты умница!
– Почти как ты. Мы – неплохая пара, не так ли?
Гнусный у меня характер. Я не удержался и ляпнул:
– Однако с Барским у тебя выходит лучше.
Я ждал чего угодно: пощёчины, грубого слова – или, наоборот, презрительного молчания.
Она рассмеялась:
– Дурачок. Какой же ты дурачок.
Подошла, села на колени. Обхватила моё лицо ладонями, заглянула в глаза, ослепила сиянием. Потом прикрыла свои серые звёзды – и поцеловала.
Глубоко и долго.
Мы словно одновременно сошли с ума: торопясь, рвали крючки и пуговицы, стаскивали полурасстёгнутую одежду через голову, расставаясь на миг – и вновь впиваясь губами в губы.
– Закрой дверь, – прошептала она.
Я повернул ключ; когда вернулся – она сидела на краю стола, отстёгивая чулки от пояса.
Старый дубовый отцовский стол стонал от недоумения, жаловался и ритмично скрипел; падали на пол, кружа в медленном вальсе, бумажные листки; подпрыгнула и перевернулась чернильница, чёрная волна добежала до края, замерла на секунду – и полилась на паркет каплями, как метрономом, отмеряя секунды:
– Кап. Кап. Кап.
Ресницы её вздрагивали; я целовал глаза, лицо, шею, ямку ключицы; она дышала всё быстрее, всё глубже и чаще – как птица, летящая в небо и приближающаяся к зениту; вонзилась ногтями в мои ягодицы, направляя их, подбадривая, словно возница взбесившихся коней; замерла вдруг на миг – и затрепетала, вдавившись лицом в мою грудь, пряча крик – и проникая им в мою кровь, в моё сердце…
Я дождался – и не мог больше терпеть и мгновения; откинулся назад, вцепился зубами в тыльную сторону своей ладони, затыкая рёв; другой рукой продолжая сжимать её бедро – до синяков.
Она открыла глаза; выгнулась, потянулась, словно кошка. Сказала:
– Наконец-то. Я уже и не мечтала, что сподобишься.
И рассмеялась.
* * *
Весна 1905 г., Россия
Весна.
Над всей огромной империей, от весёлых кафешантанов Варшавы до пристаней Владивостока, воцарилась она, тёплая ото сна рыжая девчонка. Пробивалась новорождённой зеленью травы, трещала ломающимся льдом, оплывала грязным умирающим снегом, истекающим прозрачной кровью. Приятель её – бесшабашный ветер – разносил запах просыпающейся земли, будил зёрнышки озимых, дразнился кумачовыми языками митингов.
Империя кипела, выкрикивала лозунги, созывала конференции и собрания; стачки угрюмо расшатывали хребет страны, примораживали к рельсам забытых полустанков войсковые эшелоны; сонно ворочалась солдатня, пропахшая дёгтем и махоркой – и уже начинала просыпаться, недовольно галдя.
Я закончил бомбу, насыщенную пузырьками, словно бокал смертельно опасного шампанского; Ольга отважно помогала мне, хотя я и предупредил о риске. Она лишь смеялась:
– Что есть опасность, когда жизнь слишком коротка? Каждая секунда должна быть как последняя; а взорваться вместе с тобой и лететь горящими искрами к звёздам, словно фейерверк – чем плохо? По крайней мере шумно и ярко.
– Да уж, шум я гарантирую. Такой, что по всей линии стёкла вышибет.
– Вот видишь! Лучше так, чем дряхлой сорокалетней бабкой от старости.
Один раз я и вправду испугался. Когда экспериментировал с замедлителем, переборщил с бертолетовой солью, и вспышка получилась знатная: мне посекло мелкими осколками руки, но главное – рядом стояла колба с гремучей ртутью… Нам повезло.
Ольга не сразу поняла, что могло случиться; но потом увидела моё лицо и догадалась. Близость смерти странно подействовала на неё: она возбудилась неимоверно, и та краткая, но яркая сцена любви до сих пор теребит мои сны…
Это произошло там, где я делал бомбу – в домашней лаборатории Тарарыкина. Он давно не появлялся: уехал читать лекции в Казань. А до этого Олег Михайлович три недели жил в Москве: Министерство внутренних дел привлекло его к расследованию какого-то дела, связанного с боевиками, как специалиста по взрывным устройствам; узнав об этом, я почувствовал даже некий холодок в груди. Странное, мистическое совпадение: он уехал разбираться с бомбами и дал мне возможность распоряжаться оборудованием, чтобы я… изготовил бомбу.
Мы с Ольгой тщательно исследовали холодную захламлённую берлогу, начав с дивана в гостиной и закончив кухонным столом; не тронули лишь холостяцкую постель хозяина.
Думаю, эта квартира поныне помнит наши крики и шалости – быть может, в её жизни больше не случилось подобного приключения.
Наверное, Барский обо всём догадывался: он стал со мной язвителен и холоден; доходило до скандалов.
В марте мы с ним отправились на лыжах через дикий лес к финляндской границе за тайным грузом для партии; в городе уже всё растаяло, но здесь зима ещё была в своём праве. Михаил тропил лыжню; несмотря на глубокий рыхлый снег и двухпудовый мешок за спиной, он шёл размашисто, легко, красиво; широкие плечи его всё удалялись – я не поспевал, хотя тащил вдвое меньше и двигался по уже проторённому пути. Мне не хватало дыхания, жутко болела покалеченная нога; вдобавок запотели очки, задержаться и протереть их не было времени: я боялся, что, остановившись на миг, не смогу вновь заставить себя двигаться.
Михаил злился: мы опаздывали к месту рандеву, где нас ждала подвода, и покрикивал на меня. Помню, был особо трудный «тягун» – затяжной подъём; я еле забрался на вершину и едва не врезался в надменно застывшего Барина; руки и ноги мои тряслись, лёгкие хрипели, как покалеченная в деревенской драке гармошка.
– Давай, Гимназист. Пошевеливайся. Это тебе не украдкой с чужими бабами махаться.
Он развернулся и пошёл широким тренированным шагом; я был настолько уставшим, что не сразу понял смысл его слов. Потом до меня дошло: я рванул следом, но догнал его лишь у станции. Там нас встречали, и объясняться при чужаках было глупо; а позднее – глупо вдвойне.
В тот мартовский день Барский предупредил:
– Центр распорядился начать операцию. Сам Толстый дал добро; теперь опозориться мы не имеем права, иначе свои же… ладно. Словом, или грудь в крестах, или голова в кустах. Поздравляю, друзья.
Ольга зааплодировала и поцеловала Барина; я помрачнел и буркнул:
– Что я должен делать, если операция началась?
– Ты – ничего. Разве что молиться, чтобы бомба сработала как надо. Испытаний-то мы не проводили.
– Разумеется. Как испытывать устройство, если оно всего одно?
– То есть ты не уверен в своей работе? – прищурился Михаил. – Лучше скажи это сейчас: мы откажемся. Это будет страшный позор, но лучше так, чем напрасная гибель. Не твоя: на тебя мне плевать. Товарищей.
– А я тебе уже не товарищ?
– Пока не знаю. Появились, э-э-э, некоторые сомнения в твоей порядочности.
– Какие же? – вспыхнул я. – Говори.
– Мальчики, прекратите.
– А ты не встревай. Это наше дело, мужское. Хотя какой из него мужчина? Сопляк. Цыплёнок.
Я готов был броситься в драку немедленно, несмотря на явную разницу в силе и весе; но тут появился наш Председатель, мрачный дядя, и стало не до петушиных боёв.
– С сегодняшнего дня и до конца операции ваша группа на боевом положении. Ходить только с оружием. Барин, ты свой браунинг ещё не потерял?
– Как можно?
– Валькирия?
– Вы же знаете, у меня «бульдог».
– Значит, осталось оснастить Гимназиста. С этим туго сейчас, оружия мало.
– Мальчику достаточно рогатки, – хмыкнул Барский, – так он в очках, справится ли?
Михаил четыре месяца назад лично видел, как я справляюсь. Едва сдерживаясь, я сказал:
– У меня есть револьвер. Отцовский, морской «галан».
– Действительно, как я мог забыть, – кивнул Председатель, – через два часа всем быть на явке у Царскосельского вокзала. Сидеть в квартире тихо, как мыши. Чтобы никуда, даже к окнам не подходить. Заряд уже там, помещён в музыкальный ящик.
– Куда? – удивился я.
– Куда надо. Увидишь. На месте всё объясню. После приведу исполнителя, проинструктируешь его, как приводить бомбу в боевое положение и запускать взрыватель.
– А когда это произойдёт?
– Слишком много вопросов, – разозлился Председатель, – ваше дело – сидеть и ждать. Всё.
* * *
Я шёл домой и думал, как объяснить тёте Шуре, что буду отсутствовать несколько дней; причём даже неизвестно – сколько.
А если я вовсе не вернусь?
Словом, настроение было никудышным, да ещё стычка с Барином терзала нервы: я понимал, что в конце концов нам придётся объясниться, но как и зачем это сделать – не представлял.
Из нашего парадного навстречу мне вышла тощая богомолка, вся в чёрном: такие ходили по городу, выпрашивали милостыню. Она вдруг шагнула ко мне; я поморщился, готовясь отказать. Куда смотрит дворник, почему пустил?
– Николенька…
Я вздрогнул. Это была Ульяна. В последнее время я почти не видел её, занятый бурными делами и появляясь только к ночи; да и она, закончив хлопоты по дому, пряталась в своей каморке, увешанной образками и лампадками.
Очень похудевшая, постаревшая, согнувшаяся. Где наша круглолицая, хихикающая по любому поводу и краснеющая без повода Ульяна? Бледный, с острыми скулами, лик. И огромные глаза, смотрящие будто мимо тебя. Как на иконах.
– Николенька, славно, что встретила. Вот и попрощаемся. Ухожу я.
– Куда?
– В мир. Богу молиться, Богу служить. Коли повезёт – может, и в невесты возьмёт.
Я молчал, растерянный.
– Письмо оставила Александре Яковлевне, на стол положила, она-то сама у подруги. Оно и к лучшему: легче на бумаге-то, чем в глаза. Уж написала, как могла, неграмотные мы. Дали мне любовь, да не уберегла; сгинул он, соколик мой, Федот Селиванович, на царёвой службе сгинул. Горе моё, что море-акиян, всё затопило – вот и пойду, расплещу по лесам да полям, по тропам паломническим да часовенкам деревянным. Прощай, Николенька.
Она приблизилась, посмотрела в лицо. Перекрестила:
– Не себя береги – душу свою. Она-то одна даётся, на другую не сменишь. Вот и надо блюсти: не продырявить, не продать, не испачкать. Уж постарайся, Николенька. Всевышний – он добрый, всё простит; но за тебя твою душу не спасёт. Только сам, Николенька. Только сам.
Она шла по линии, под брызнувшими юной зеленью деревьями; уходила в птичий щебет, в далёкие медвяные поля, в холод монастырского камня.
Я смотрел ей вслед, обмирая от всплывающего из глубины чувства чудовищной вины. И ощущения, что за спиной приплясывает кто-то, нетерпеливо перебирая копытцами и предвкушая новые поводы.
В отцовском кабинете я достал коробку, вынул револьвер. Отжав рычаг, сдвинул вперёд барабан. Пять жёлтых, самодовольно сияющих патронов – и шестое отверстие. Пустое, чёрное.
Бездонное, как пропасть.
* * *
– Оно самое. Устройство музыкальное. Смотри, Гимназист.
Теперь я понял, почему бомбу пришлось изготавливать в строго заданных габаритах. Ящик старинный, из дограммофонной эры; металлический барабан вынут – вместо него вставлялся цилиндр заряда.
Снаружи – богатая отделка: черепаха, слоновая кость, чёрное дерево. Картинка: гаммельнский крысолов, почему-то в очках, играет на дудочке, а на заднем плане цепочкой идут обречённые дети.
– Громко сыграет. Так, что весь мир услышит, – подмигнул Председатель и возбуждённо потёр ладошки.
– Флейтист на Гимназиста нашего похож, – хмыкнул Барский, – такой же тощий, очкастый и никчёмный.
Я вспыхнул, но ответить не успел – меня опередил Председатель:
– Что похож – и верно: Николая работа – главная. А если всё сложится, то и имя его прогремит литаврами, а не дудочкой пропищит.
Я подошёл ближе, погладил гладкую полированную поверхность. Красивая вещь и безумно дорогая. Где же я видел такой ящик?
Обнаружил латунную табличку с инвентарным номером и аббревиатурой ЦСДУ.
– Ну, ждите. Приведу человека, который гостинец заберёт и куда надо пристроит. А вам напоминаю: сидеть тихо. Из квартиры не выходить, свет не зажигать. Я вас снаружи запру.
– Ну, не годится, – возразил Михаил, – а не дай бог, пожар? Гореть тут заживо?
– И будете гореть, причём молча. Я ведь не шучу. Дело-то серьёзнейшее. Всероссийского значения, а то и мирового. Так что не высовываться. Тебя, Барский, особо касается: ты у нас любитель приключений, так чтобы – ни-ни.
Председатель ушёл; проскрежетал ключ в замке, истаяли шаги на лестнице.
В присутствии Барского Ольга вела себя отчуждённо, и намёком не показывая нашу с ней связь; это меня злило и расстраивало, но приходилось принимать правила неведомой игры.
– Интересно, кому принадлежит эта игрушка, – задумчиво сказала она.
– Какая разница? Из газет узнаем, – беззаботно заметил Барский. И расхохотался:
– Если доживём, ха-ха-ха.
– Думаешь, полиция?
– Или свои же. Дабы скрыть следы. Толстый и Председатель на конспирации помешаны.
– Да ну, ерунда, – нахмурилась Ольга, – язык у тебя без костей, Миша.
– Когда-то это тебе даже нравилось, – фамильярно подмигнул Барский.
Ольга вдруг покраснела (я не понял, почему) и сказала:
– Пойдёмте осмотрим наше пристанище.
Квартира была захламлена и давно не убиралась; везде пыль и затоптанный паркет, одна комната была сплошь выстелена матрасами, в другой у стены выстроены шпалерами пустые бутылки, как войска перед парадом.
На стене висел вверх ногами огромный конный портрет Николая Первого: весь изрезанный, облитый какой-то гадостью, во лбу – пулевое отверстие.
– Вот, – заметил Барский, – наши предшественники, братья по революционной борьбе, развлекались как могли. А мы должны сидеть здесь на сухую. Сбегаю я за винцом, пожалуй.
Барский долго ковырялся в замке перочинным ножом и наконец с торжествующим рёвом открыл.
– Председатель узнает – будет тебе на орехи.
– Не узнает, если вы не скажете. Я быстро.
Я пытался воспользоваться тем, что мы остались наедине, но Ольга отстранилась и сказала холодно:
– Не надо, Коля. Не сейчас.
– Что? Боишься, Барский приревнует? – разозлился я.
Она поглядела презрительно и промолчала. Ушла в глубину квартиры.
Я стоял, как дурак, в широченном коридоре, и рассматривал хамские стишки, накорябанные на обоях карандашом:
Царь махался с балериной, Стёр хозяйство до корней, И теперь ему заменой Пара жеребцов – князей.Ниже – похабная иллюстрация: центром композиции выступала Матильда Кшесинская, одетая весьма небрежно, а участниками – великие князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович. В стороне был изображён завидующий Николай.
Барский вернулся вскоре, таща громыхающую корзину.
– Пошли, Гимназист, поможешь сервировать наш скромный обед.
В гостиной я очистил огромный стол от засохших объедков и тряпок, пропахших ружейным маслом, расставил разнокалиберные стаканы; Барский выстроил батарею бутылок, достал свежий калач, буженину и консервы.
Мы и вправду проголодались: ели жадно, запивая вином.
– Ну что, успели? – подмигнул Барский, разлив коньяк. – Ты, Гимназист, оплошал, что ли? Валькирия что-то грустная и молчаливая, а не как обычно после.
– Что ты имеешь в виду? – недоумённо спросил я.
– То самое. Ты дурачка-то не строй. Оля у нас – рыбка известная, любой возможностью пользуется. На все стороны махается.
– Рыбка?
– Ну да. Есть такая рыбка – стерлядь. Наполовину «стерва», наполовину – бл…
Он не договорил: я швырнул стаканом и попал в лицо. Брызнула кровь; Барский от неожиданности рухнул вместе со стулом. Лежал и хохотал:
– Это же надо! Вот она, теория «стакана воды» в действии! Мой молочный братец меня же – в морду.
Я полез через стол; ножка подломилась, бутылки и снедь посыпались на пол, а следом ссыпался я.
– Стреляться! Немедленно!
– О-о-о, я не могу. Сейчас лопну от смеха.
– Прекратите! Оба!
– Чудо биологической науки! Наш цыплёнок закобелел! Кто же та сучка, что получит медаль и…
Я наконец добрался до Барского и воткнул ему ствол в висок.
– Ещё одно слово…
– И что? Слово! Слово! Ещё слово.
Ольга махнула залпом коньяк и расхохоталась:
– Полюбуйтесь! Лучшая боевая группа Петербурга. Взрывник тычет револьвером в стрелка, и это накануне великого дела.
Меня трясло, но это была дрожь перед схваткой. Я сказал спокойно:
– Мы сейчас идём в коридор. Дуэль. С восьми шагов. Первый выстрел – твой. Или ты соглашаешься, или я стреляю сейчас.
– Ты вниз-то глянь, – хмыкнул Барин.
Я скосил взгляд: в мой живот упирался браунинг.
– Это тебе не древняя мясорубка, приделанная к стволу: это автоматический пистолет. Я бы тебя давно продырявил восемь раз, сопляк.
Я не потерял самообладания: во мне слишком много было холодного бешенства:
– И тем не менее. Ты встаёшь, и мы идём в коридор.
– Ой, как я забыл: наш цыплёнок-то – дворянских кровей. Честь, эполеты, крепостные девки по сеновалам – вот это всё.
Я ударил рукояткой «галана» в висок и вырвал браунинг; конечно, рисковал, но было всё равно.
Барский обмяк. Я поднялся над его телом. Он вскоре очнётся; я заставлю его стреляться. Надо поставить точку.
– Хватит, – сказала Ольга, – хватит. Достаточно. Отдай мне револьвер, и никаких дуэлей, хорошо?
– Нет. Он либо извинится перед тобой, либо умрёт. Я не позволю, чтобы оскорбляли женщину, которую… Которую я…
Слова вдруг застряли.
Она подошла, прижалась ко мне, посмотрела снизу:
– Которую – что?
Я вдохнул поглубже. Иногда сказать труднее, чем выстрелить. Она подождала. И спросила совсем о другом:
– А что ты испытывал, когда убил того городового? Ну, жениха вашей прислуги? Что?
Её ноздри трепетали, щёки горели – наверное, от коньяка; она впилась в мои губы; всё закружилось, стало ерундой – валяющийся на полу с окровавленным лицом Барин; занудный Председатель и вся эта дурацкая революция; готовая к убийству бомба в музыкальном ящике с буквами ЦСДУ…
– Бах!
Я вздрогнул. Оттолкнул Ольгу и рванулся к окну. Через двор бежали двое: один в мундире дворцового ведомства, а второй…
– Бах!
Из подворотни вылетела струйка дыма: тот, что в мундире, неловко споткнулся и упал ничком. Второй остановился, выхватил револьвер и выстрелил два раза подряд; это был Председатель.
Двор-колодец грохотал, многократно отражая хлопки выстрелов; Председатель уже лежал, вместо головы у него был кровавый комок, а через двор бежали люди в цивильном и в жандармских мундирах. Я бросился к Барину; положил «галан» на пол и принялся хлестать по щекам.
– Михаил! Там стрельба, Председателя убили…
Он очнулся:
– Хватит меня лупить, что за дурная привычка. Мой пистолет. Ну!
Протянул браунинг: Барский рванулся прочь из гостиной. Я хотел поднять с пола револьвер: его там не было.
Что за ерунда? Я заглянул под комод, расшвырял вскрытые банки и раскатившиеся бутылки – нет.
Бросился следом за Барским (Ольга исчезла), выскочил – и в этот миг рухнула входная дверь; коридор мгновенно наводнили люди. С кухни раздавались крики Ольги и шум – значит, чёрная лестница тоже перекрыта…
Барский стоял, подняв браунинг; я вскрикнул:
– Стреляй!
Но он бросил пистолет и поднял руки; в следующий миг меня скрутили, согнули пополам и потащили; я видел лишь скомканную ковровую дорожку, потом ступени лестницы; наконец, подножку экипажа. Меня втолкнули в полицейскую карету с крохотным зарешеченным окном, с боков сжали два мрачных жандарма.
– На каком основании… – начал я.
Тот, что сидел справа, ткнул меня в нос основанием ладони в перчатке: несильно, расчётливо, профессионально; боль пробила меня всего, от копчика до макушки.
– Заткнись, бомбист.
За стенкой кареты гремел начальственный бас:
– Немедленно рапорт генерал-губернатору. И копию его высокопревосходительству генерал-адъютанту Фредериксу. Мол, пресекли покушение на высочайших особ.
Фредерикс. Министр Императорского двора. А ЦСДУ – это Царскосельское дворцовое управление.
Я вспомнил, где видел музыкальный ящик, начинённый теперь взрывчаткой. В витрине салона на Среднем: выставка про жизнь монаршей семьи, фотографическая карточка «Великие княжны слушают детские песенки». И четыре девочки вокруг ящика: нарядные, чистые, весёлые.
Я поднял загремевшие железом руки. Спрятал лицо в ладонях и застонал.
Глава двенадцатая Арестант
Плохо помню те дни.
Серые стены, закапанный чернилами стол, первый допрос на Гороховой, в Охранном отделении.
– В ваших интересах рассказать всё, – вкрадчиво говорил следователь, – тогда есть возможность замены вечной каторги на меньший срок, лет десять.
Я молчал. Я будто оказался внутри того самого форта Брюса: толстая каменная кладка в сырых потёках и крохотные амбразуры, через которые снаружи доносился лишь невнятный гул. Спустя много лет я испытал подобное: так чувствует себя крепко контуженный взрывом снаряда. Между тобой и остальным миром словно вырастает толстый ватный кокон; ты остаёшься наедине со своей нестерпимой болью, которая накатывает волнами, а ритм задаёт спотыкающееся сердце. Кокон можно, наверное, разорвать; но зачем?
Кроме того, при задержании мне разбили очки; вокруг мельтешили пятна, которые плавали по своему усмотрению, иногда вдруг становясь отчётливыми: так я разглядел костистый, абсолютно лысый череп допрашивающего.
Чиновник злился, беспрестанно протирал пенсне, швырял слова, которые, верно, должны были погрузить меня в ужас: «покушение на жизнь высочайших особ», «террористическая боевая организация» и прочие – длинные, нескладные, картонные; слова соединялись в хоровод, больше похожий на похоронную процессию, толпились вокруг меня и плевались; мне было всё равно.
Потом я оказался в камере; там были люди со следами ручных кандалов на запястьях, плохо выбритые и худые; они тоже задавали вопросы, но я снова молчал.
– Немой он, что ли?
– Да подсадной, не иначе. Слышишь, филерок, на охранку стараешься? А? Не боишься, что придушим ночью?
– Да погоди ты. Может, ему повредили чего при задержании. Видишь, весь подбородок в крови. А ведь практически ребёнок! Сатрапы, палачи, ублюдки…
– Стойте! Это же Гимназист, точно. Из группы Председателя. Говорят, знатный взрывник, да и пара городовых за ним…
– Т-с-с! Тихо. И у стен уши.
От меня отстали, зато проявили уважение: проводили и усадили на койку, дали напиться: вода была кислой и воняла ржавчиной, но я пил жадно; руки начали трястись, и я пролил половину на гимнастёрку.
Меня вновь водили на допрос; я вновь молчал. Снова и снова. Переводили из камеры в камеру; но и там встречали уважительно и не расспрашивали. Прошла неделя или больше: дни и ночи слились в одно бесцветное марево. Я лежал на койке, отвернувшись к стене; фоном шли негромкие разговоры сокамерников; я инстинктивно запоминал о правилах, уложениях и законах, но это происходило само собой, против моей воли.
Один раз передали крохотный клочок бумаги; буквы были микроскопическими, но я всё равно узнал почерк. «Держись, рыцарь, и не признавай француза».
Я не сразу понял, что «француз» – это револьвер Галана. Тот, из которого я застрелил городового. Оружие, таинственно исчезнувшее в день ареста.
Я спрашивал себя: что отвечу отцу – офицеру, давшему присягу на верность Престолу? Как объясню тёте Шуре, что её Николенька – государственный преступник, едва не убивший детей?
Как так вышло, что я оказался в этом здании, стены которого были пропитаны злобой, смертью, мучением – и тех, кого убили, и тех, кто убил? Где-то на донышке скреблась уродливой крысой мысль, что во всём виновата Ольга; я гнал её, как недостойную мужчины.
Регулярно оказывался в забытье, в сером киселе; ко мне приходила Ольга, гладила щёку; но стоило протянуть руку – исчезала. Вновь гудели шмели под яблоней, стыл чай в фарфоровых чашках; вновь я водружал на стол тяжёлую коробку из-под торта с ужасным содержимым, и маленькие девочки разбегались в ужасе.
Однажды за столом оказались отец и брат. Папа снял фуражку с белым верхом, вытер лоб и пожаловался:
– Страшное пекло, дружок. Индийский океан – это не Маркизова лужа в октябре. И бесконечные угольные авралы; всё это плавание – одна тяжёлая погрузка в пылище и жаре. Ну ничего, скоро соединимся с отрядом адмирала Небогатова и будем прорываться во Владивосток, к своим. Как твои дела? Как увлечение химией? Весьма полезное занятие.
Я молчал, не зная, с чего начать.
– Вы у него, ваше высокоблагородие, за револьвер спросите.
За столом появился вдруг Федот Селиванович; вид его был ужасен: глаза полуприкрыты, на щеках – трупные пятна…
Нет, он не за столом – на столе. Городовой лежал, раздетый догола; связанные, чтобы не распадаться, запястья лежали на груди, держа тонкую свечку и прикрывая ужасный шрам: скальпель судебно-медицинского вскрытия распорол Федота от горла до паха. Синие губы его шевелились, из плохо зашитого горла вылетали зловонные брызги вместе со словами:
– Спросите, Иван Андреевич. Куды из барабана пуля подевалась? А вот куды.
Федот сел, выплюнул на ладонь и протянул тяжёлый бурый комок:
– Вот она, пуля-то. В грудях моих, сердце разорвала. И как так? В меня хунхузы палили, черти басурманские, и то не справились, а барчук бахнул раз – и всё. А ведь мы с Андреем Ивановичем, братом его, однополчане. В одном бою кровушку проливали, за Расею, за царя-батюшку. Так ведь, вашбродь?
Молчащий Андрей кивнул; от этого движения голова его вдруг съехала с шеи, грохнулась на стол так, что подскочили чашки…
– Ярилов! К следователю.
Я брёл по коридору, шатаясь; бредовый сон долго не отпускал, терзал, бил в нос зловонием гниющей головы брата. А может быть, это была обыкновенная тюремная вонь.
* * *
– Думаешь, раз несовершеннолетний – так избежишь наказания? А вот и нет! Найдём управу. Кто у вас старший? Молчишь? Ну и молчи: и так знаем. «Председатель», он же Китаев Владислав Сергеевич. Убит при задержании. Так? Отвечай, подонок! Какова роль Барского? А ты кто: курьер? Ты принёс бомбу? Кто её тебе передал, где? Рассказывай, щенок!
Трусливый во мне воспрял: я вдруг понял, что ничего они не знают толком, только пыжатся. Сказал:
– Извольте обращаться ко мне на «вы». Что за хамство?
Следователь растерялся: не ждал, что я заговорю. Принялся протирать пенсне.
– И когда вы предъявите мне обвинение? У меня экзамены в гимназии скоро, а мой арест незаконен.
– К-как?! Ты… вы находились в помещении, когда произошло задержание террористов.
– Я оказался там случайно. Ошибся дверью. С каких это пор зайти в квартиру означает совершить преступление?
Чиновник яростно тёр пенсне кусочком замши: так недолго было протереть в стекле дыру. Водрузил на нос и заорал:
– Ах ты упрямец! В «холодную» захотел? На хлеб и воду?
– Не имеете права: я, как вы справедливо заметили, несовершеннолетний. И прекратите орать: я дворянин, а не ваша кухарка. Извольте либо немедленно предъявить обвинение, либо извиниться и отпустить меня.
Следователь заложил руки за спину и принялся расхаживать передо мной; я сидел на табурете и разглядывал его, как некое насекомое, мечущееся в стеклянной банке, от стенки к стенке. Вдруг понял, что ватный кокон исчез; что будто кончилось воздействие яда на мой организм. Усмехнулся:
– Вам Охранное отделение особые суммы выделяет?
Чиновник остановился. Растерянно спросил:
– На что?
– На подошвы. Ходите туда-сюда, вёрст по десять в день, казённую обувь стаптываете.
Он очнулся, заорал:
– Прекратить тут! Вам известна особа по имени Ольга Корф?
– Вряд ли. Хотя… Да, у нас жиличка с похожим именем. Надобно уточнить у тётушки, Александры Яковлевны, она селила.
– Проверим. Когда и при каких обстоятельствах познакомились с Михаилом Барским?
– Не знаю такого.
– Но как же! В момент задержания вы были вместе.
– Я уже говорил: там полная квартира народу была. Полицейские, жандармы, какие-то в штатском. Они не представлялись, кто из них Барков или как там.
– Хорошо. Отлично. Вот сейчас и проверим.
Следователь распахнул дверь, подозвал урядника, что-то сказал.
Я сидел на табурете и рассматривал потёки на потолке: они были похожи на карту Африки, которую таранила в борт Гренландия.
Привели Барского. Следователь торжественно объявил:
– Очная ставка!
Как ни странно, я был рад видеть Михаила; хоть совсем недавно чуть не пристрелил его (или он – меня?), но за неделю это было первое знакомое лицо.
– Знаете сего человека?
Барин усмехнулся:
– С чего вдруг? Буду я ещё всякого сопляка-гимназиста знать.
– Ага! Вот и прокол! Признали, что гимназист.
– Ну, я же не полный идиот. На молодом человеке соответствующая форма.
Чиновник растерянно поскрёб переносицу. Повернулся ко мне:
– А ты?
Я молчал.
– Ну?
– Соблаговолите изъясняться вежливо. Я уже говорил, чтобы обращались на «вы», и более повторять не намерен.
Барский расхохотался.
– Соблюдать порядок во время следственного действия! – заорал чиновник. И повторил: – Вы, Николай Ярилов, знакомы с этим человеком?
– Не имею чести. Да и желания.
– То есть вы оказались в одном помещении совершенно случайно?
Меня опередил Барский:
– Да там столько народу было, не протолкнуться. Филера, городовые, курсистки. Верно, несчастный мальчик к подошве случайно прилип, вот его и занесли в квартиру.
Показалось, что Михаил что-то подсказывает мне; чиновник закричал:
– Прекратите! Извольте лишь отвечать на вопросы, никаких реплик.
Потом мы расписались в протоколе; Барина увели.
– Хам какой-то, что за тип? – беспечно спросил я.
– Боевик. При задержании был вооружён, но сопротивления не оказал, – рассеянно сказал следователь. И спохватился:
– Прекратите спрашивать! Вы с ума сошли? Здесь я задаю вопросы.
Когда я вошёл в камеру, товарищи по заключению удивились:
– Улыбается. Отпустило, видать.
Одного я так и не понял: кто же навёл жандармов на конспиративную квартиру? И куда пропал «галан»?
* * *
14 мая 1905 г., Цусимский пролив
Горизонт светлел; последние звёзды прощались с эскадрой и гасли, исчезали в набирающей силу синеве.
Розовый сменился кроваво-красным; и, наконец, восток выстрелил в небо багровым разрывом солнца.
Вторая Тихоокеанская тащилась девятиузловым ходом, словно обоз беженцев; позади – двести двадцать дней небывалого в истории похода, двадцать тысяч миль Атлантики, Индийского и Тихого океанов. Бесконечные погрузки топлива, слой угля на палубах в человеческий рост; обросшие ракушками днища, изношенные в походе машины, перегруженные до предела корабли – так, что броневой пояс уходил под воду; нестерпимая жара и духота – и смерти, смерти, смерти: от тропических болезней, от невыносимой тяжести работы, от тоски по невообразимо далёкой теперь Родине.
Три дня назад на борту броненосца «Ослябя» умер младший флагман, адмирал Фёлькерзам; тело его, обмотанное парусиной, тайком унесли и спрятали на нижней палубе. Эскадра не узнала о внезапной смерти: и так поводов для уныния хватало.
– Зиновий Петрович, будут распоряжения разведочному и крейсерскому отрядам?
Адмирал Рожественский посмотрел на карабкающийся в зенит красный шар – такой же, что на японском флаге. Буркнул:
– Зачем? Отправьте крейсера на охрану транспортов. Я и так знаю: Того ждёт меня в Цусимском проливе. Битва неизбежна и произойдёт сегодня.
Вице-адмирал не стал выделять четыре сильнейших броненосца в ударный отряд, способный в одиночку пободаться на равных со всем японским флотом: для этого нужны были лишь свобода действия и возможность разогнаться до штатных семнадцати узлов; лучшие, самые современные корабли российского флота плелись вместе со всеми: плавучими мастерскими и госпитальными судами; древними развалинами, собранными со всей Балтики, и маленькими броненосцами береговой обороны, внезапно оказавшимися посреди океана вместо привычного мелководья Финского залива. Так не готовятся к решающей схватке – так отступает разбитая армия; лучшие бойцы бредут среди беженцев, держась за борта телег, заваленных барахлом, и переругиваются с маркитантками; горячие боевые кони трусят со скоростью полудохлых кляч, запряжённых в скрипучие повозки. Будто сражение не впереди, а в прошлом – и уже проиграно.
Почему?
А зачем?
Прикомандированный к штабу инженер-капитан в фуражке с белым верхом спросил флагманского минёра:
– Командующий распорядился насчёт плана сражения?
– Какое там. План один: курс норд-ост, Владивосток. Прорываться, а не бить японцев – вот наша задача. У вас дети есть?
– Два сына. То есть уже один. – Лицо инженера на миг посерело, – Николай, гимназист.
– Неважно. Видели, как мальчишки играют в «разрывушки»? Разбиваются на две ватаги; одна сцепляется локтями в линию, а вторая бежит во весь дух и пытается ту цепочку разорвать; а потом разбегаются кто куда. Каждый за себя. Смотрите! Вот и гости.
В утренней дымке появился серый силуэт японского разведчика. Из радиорубки доложили:
– Засечены японские переговоры по радиотелеграфу. Видимо, соглядатай докладывает наш курс, скорость и состав сил. Прикажете забить вражеские сигналы искрой, ваше высокопревосходительство?
– Зачем?
Рожественский тоскливо посмотрел на норд: там, за зелёными валами Японского моря, белым лебедем парил далёкий Владивосток; в нос флагманского броненосца «Суворов» била зыбь, бегущая с севера – будто призыв с Родины. Повторил:
– Зачем? Смысла нет. Нет смысла.
Через час во мгле различались уже девять силуэтов; ищейки адмирала Того окружили эскадру, следя за каждым её шагом, пересчитывая вымпелы и фиксируя положение кораблей в походном ордере. Русские даже не пытались отогнать назойливых наблюдателей.
Шли часы; неуклонно сближались две силы, два флота, две армии; одна – изнурённая долгим походом, усталая, равнодушная. На фоне моря отчётливо были видны окрашенные в чёрный траур корпуса; жёлтые трубы протыкали небо, словно рога быка, плетущегося на бойню.
И вторая, в серых одеждах бортов, не различимых в туманном мареве; скользящая стремительными тенями, будто волчья стая, загоняющая добычу.
Сын нищего самурая Хэйхатиро Того, лучший адмирал Микадо, приказал поднять сигнал: «Судьба империи зависит от исхода этой битвы. Пусть каждый приложит все силы».
Рожественский, сын полкового врача, велел поднять «единицу» («Стрелять по головному»).
В 13.49 прогремел первый выстрел сражения: начала пристрелку левая носовая шестидюймовая башня «Суворова».
И завертелось.
Чумазые кочегары, задыхаясь, швыряли уголь в адские пасти топок; гигантские шатуны паровых машин качались, всё наращивая темп; грохотали цепи подъёмников, поднимая из потайного брюха снарядных погребов двадцатипудовые стальные туши.
Слезились от ветра глаза дальномерных офицеров; напрягая зрение до кровоизлияния в сетчатку, они сводили половинки силуэтов в целое и корректировали дистанцию. Наводчики, впившись лицами в наглазники прицелов, нервными рывками дёргали хоботы стволов, ищущих добычу.
– Выстрел!
Грохот рвёт перепонки, десятиметровое пламя ослепляет; многотонное тело пушки в ужасе от сотворённого отскакивает назад, едва удерживаемое противооткатниками; распахивается поршневой затвор, сияя рёбрами нарезки, в башню врываются клубы порохового зловония, отравляют мозг, вводят в полубредовое состояние берсерка; после двух залпов человек превращается в безмозглый автомат, рефлекторно дёргающий рычаги и ревущий от напряжения тяжкой работы.
– Выстрел!
Гигантский снаряд с гудением разрывает воздух, делая по семьсот метров в секунду; он забирается всё выше по траектории, словно решившись улететь на Луну, но земные дела тянут его вниз; позади сорок кабельтовых лихого полёта, перед тупой безглазой мордой стремительно вырастает силуэт жертвы – и вот уже палуба с размаху бьётся в баллистический наконечник. Нервный японский взрыватель, реагирующий на любой толчок, немедленно срабатывает; три пуда шимозы превращают ближнюю Вселенную в ад, ввергают её в тот, изначальный огонь; мгновенно загорается всё, что может гореть – и вспыхивает то, что гореть не может; ударная волна корёжит бимсы, гнёт шпангоуты и рвёт стальные переборки, как картонные; расшвыривает смятые никчемными комками человеческие тела. Веер раскалённых осколков крушит всё на своём пути, перебивая трубопроводы и артерии…
Адмирал Того в парадном мундире стоит на штурманском мостике, открытый всем ветрам и вражеским осколкам. За первые пятнадцать минут боя во флагманский броненосец «Микаса» попадают девятнадцать русских снарядов, одного за другим уносят раненых офицеров его штаба, но на самом Хэйхатиро – ни царапины.
Когда Муцухито, потомок богини солнца Аматэрасу, спросил о главном достоинстве адмирала, ему ответили:
– Ваше величество, он необыкновенно везучий.
Четыре японских броненосца ведут совместный огонь; каждую минуту шестнадцать двенадцатидюймовок извергают очередной залп, снаряды ложатся в эллипс – «поле смерти». Флагманский артиллерист Того умело накрывает «полем» броненосец «Суворов»: спустя несколько минут русский флагман пылает, как сарай с сеном; жуткий взрыв сотрясает корпус и выводит из строя кормовую башню главного калибра. Рухнула труба, перебита мачта; пробираясь сквозь огонь, кашляя от удушающего дыма, матросы аварийных команд немедленно находят и устраняют повреждения; их тут же вызывают на тушение пожара в новом месте – они бегут по палубе, скользкой от окровавленных внутренностей – и погибают под роем осколков.
Зиновий Петрович и его штаб в боевой рубке, под защитой толстой брони; тесно – не повернуться.
– Перебиты осколками сигнальные фалы! Все до одного.
Теперь не отдать флажного сигнала. Через двадцать минут после начала боя русская эскадра остаётся без управления.
«Суворов» затягивает дымом; пылает, кажется, даже сталь. Старший помощник перекрикивает грохот залпов:
– Иван Андреевич, посмотрите, что там с кормовой башней. Не отвечают. Извините ради бога, что вас прошу, но вестовых всех выбило.
Ярилов выбирается из рубки; толстую дверь за ним задраивают, скрипит кремальера. Мокрый от крови трап на верхний мостик завален кусками тел: сигнальщики пытались подняться, чтобы восстановить связь с эскадрой, и попали под разрыв.
По нижнему коридору не пройти: дым сплошной и зловещие проблески огня. Ярилов то идёт по верхней палубе, то опускается на главную: везде – очаги пожаров, завалы стреляных гильз, развороченное железо и кислая вонь разорвавшейся шимозы. До башни так и не добирается: навстречу несут раненого артиллерийского офицера; он придерживает руками распоротый живот и хрипит:
– Осколком, вся требуха на палубу. Еле собрал и обратно сложил. Весь расчёт, до одного. Кого сразу не убило, тот в башне сгорел. Сорвало с основания, стрелять не может.
Лазарет забит, кают-компания превращена в перевязочную. Судовой батюшка закатывает рукава рясы и принимается помогать санитарам.
Ярилов пробирается обратно в рубку. Остаток фок-мачты торчит, как обломанная кость. Из амбразур, иллюминаторов, люков ревёт пламя, рвётся длинными языками – приходится искать обходной путь, терять время.
Это и спасает: в 14.32 рой осколков проникает в узкую броневую щель и убивает почти всех офицеров штаба. Адмирала выносят без сознания: тяжёлое ранение в голову. Штуртросы оборвало – «Суворов», лишившийся управления, выкатывается из строя и кружит, словно обезумевший от боли.
Русские продолжают свой крестный путь; отбиваясь, туша пожары и теряя людей, корабли упрямо идут курсом двадцать три градуса, на Владивосток. Думая, что если «Суворов» Рожественского вышел из боя, то теперь их ведёт Фёлькерзам.
Адмирал, который умер три дня назад.
Эскадра без адмирала, словно гигант с отрубленной головой, продолжает шагать, шатаясь от ударов и отмахиваясь вслепую.
Второй флагман, океанский красавец с высоким и беззащитным бортом «Ослябя», плохо предназначен для эскадренного боя: его стихия – рейдерство, вольный поиск на страх британским торговцам. Огненный шквал японских залпов превращает его из пижона в калеку; гибнут один за другим старшие офицеры, какое-то время на мостике распоряжается барон Фёдор Косинский, флаг-офицер адмиральского штаба. Но финал неизбежен: броненосец «Ослябя», устав кружить и набрав тысячи тонн воды через развороченный японскими снарядами нос, переворачивается и тонет вместе с телом контр-адмирала Фёлькерзама.
Бешеный, невиданный темп стрельбы даётся нелегко: снарядные погребы опустошаются, высосанные до дна; обессиленные японские комендоры валятся на палубу, желтея лицами среди жёлтых латунных гильз. Того разворачивает главные силы поворотом «все вдруг»: теперь стреляет другой борт, и сумасшедшая скорострельность восстанавливается. Новые сотни снарядов рвут содрогающиеся тела русских кораблей, слабеющие с каждой минутой, с каждым новым попаданием.
«Суворов» без руля, управляясь только машинами, рыская наугад, вдруг оказывается между русской и японской колоннами; над головой в обе стороны летят навстречу друг другу снаряды, кипит бой, и на пылающую развалину никто не обращает внимания. Адмирал Камимура в конце концов решает добить умирающего.
Броненосные крейсеры, подойдя к безоружному, палят в упор, выпускают торпеды – но корабль, названный именем великого полководца, упрямится. Вдруг оживает последняя уцелевшая пушка в кормовом каземате: трёхдюймовые русские снаряды, по здравом размышлении, не могут навредить, но пугают Камимуру. Решив не связываться, японцы уходят: сам сдохнет, ну его.
В шестом часу наши миноносцы сняли раненого адмирала Рожественского с борта обречённого корабля. Адмирал выживет, сдастся в плен японцам. Вернётся домой, потребует суда над собой и будет оправдан. Он проживёт ещё четыре года после Цусимы.
А на «Суворове» продолжалась битва, но теперь уже не за жизнь, а за честь. Отлично сработанный корабль не хотел умирать; вздрагивая от новых взрывов снарядов и торпед, периодически теряя управление (словно тяжелораненый – сознание), он бродил по полю битвы, вызывая удивление у врага и восхищение – у боевых товарищей…
Ярилов-старший командовал тушением пожаров, сбросив обгоревший мундир и оставшись в одной сорочке.
Или это он организовал переноску раненых на нижние палубы, под защиту брони – оттуда было не выбраться в случае чего, но зато не долетали осколки. И разорвал сорочку на полоски, когда кончились бинты.
Быть может, именно он стрелял из последнего кормового орудия, отгоняя очередную атаку японских миноносцев.
Этого не знает никто.
Потому что 14 мая 1905 года в 18.00 эскадренный броненосец «Князь Суворов» затонул вместе со всем экипажем. Не спасся никто. Никто из моряков флагмана Второй Тихоокеанской эскадры так и не узнал, чем закончилось Цусимское сражение.
Наверное, к лучшему.
* * *
Май 1905 г., Санкт-Петербург
– Арестованный Николай Ярилов доставлен.
Я жмурюсь: в кабинете следователя широкое окно, а не пыльное бельмо камеры. Приглядываюсь близоруко: рядом с чиновником сидит некто лохматый, большой. Это же…
– То есть бомбу изготовили не наши, – продолжает разговор следователь, – привозная, значит. Спасибо, Олег Михайлович.
Да. Это Тарарыкин. Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к нему; Олег Михайлович бросает на меня быстрый взгляд и отвечает:
– Смею предположить, что работа Химика. Того самого, легендарного. Качественная работа, остроумные технические находки.
Я чувствую что-то вроде ревности. Ага, надутый Химик.
– Что же, я с чистым сердцем… Впрочем, завершим наш разговор позднее. Николай, добрый день.
Ничего себе! «Сатрап и палач» желает мне доброго дня.
– Это Тарарыкин Олег Михайлович, известный учёный и постоянный консультант Министерства внутренних дел в вопросах… э-э-э, неважно. Впрочем, вы знакомы.
– Да, я имел честь служить с его батюшкой, Иваном Андреевичем. Великолепный был офицер и талантливый инженер.
Я не понимаю: почему «был»?
– Господин Тарарыкин поручился за вас, Ярилов, – объясняет следователь, – дело ещё не закрыто – бумаги, формальности. Но я отпущу вас сейчас, если вы обещаете явиться по первому зову. Вы свободны.
Я молчу. Я не понимаю ничего.
– Ну-с? – торопит следователь. – Обещаете?
– Что? Да, разумеется. Даю слово.
– Вот и прекрасно. – Чиновник подмигивает и смеётся: – Слово дворянина – это, знаете ли. Да. Остались ещё какие-то святые вещи, слава богу. Впрочем, я сразу сомневался в вашей причастности к этой дурной компании бунтовщиков и инородцев. От лица ведомства приношу официальные извинения за задержание. Сами понимаете: время такое. Бдить – смысл существования Охранного отделения.
Я рефлекторно киваю его словам, хотя не понимаю их сути. Спрашиваю осторожно:
– Так что? Я могу идти?
– Разумеется. Сейчас поставлю подпись столоначальника на сопроводительный лист. Олег Михайлович вас выведет.
Чиновник уходит.
Тарарыкин поднимается. Смотрит на меня странно, будто с какой-то болью. Вдруг распахивает руки, обнимает, гладит по голове. Шепчет:
– Что же ты, Николенька? Эх, мальчик мой бестолковый. Запутался ты. Хорошо, что Иван не успел узнать про твой арест, он бы очень переживал.
Я утыкаюсь в черное сукно мундира офицера Морведа. Такое знакомое.
От Тарарыкина пахнет хорошим табаком, как от папы.
Слёзы текут сами собой.
* * *
Из тюремной камеры не видно неба; смена времён года, погода, даже день и ночь – это всё там, снаружи. На свободе.
Свобода. Воробьи переругиваются из-за хлебной корки; в пролетающих по Гороховой ландо смеются женщины. Мальчишка-газетчик кричит:
– Бой в Цусимском проливе! Последние телеграммы, новые подробности!
Я морщусь: это пролив между Кореей и Японией, кажется. Чёртова война никак не закончится.
Мы сидим в кондитерской, я пожираю третий эклер.
– Очень соскучился по сладкому. Кормят там, конечно, ужасно; среди нас был один повар, рассказывал, как готовятся всякие вкусности. Это называлось «голодные сказки».
Тарарыкин смотрит на меня. Не перебивает, но явно что-то хочет сказать. А меня несёт:
– А ещё один из Казани, смешной. Джадид. Отказывался по-русски говорить, пока все узники не признают, что никакого татарского ига не было. А я его спрашиваю: голубчик, а как насчёт…
– Николай, твой отец погиб.
Я смотрю на Тарарыкина. Беру с тарелки эклер.
– Что?
– Твой отец и мой друг, Иван Андреевич Ярилов, погиб в бою. «Суворов» потоплен японцами, не спасся никто.
Я сжимаю пирожное. Крем брызгает между пальцами, течёт и капает.
Невесть откуда взявшаяся кошка начинает слизывать сливочные капли с пола.
Язык у неё розовый.
* * *
Дома пусто.
Тётя Шура в больнице: нервная горячка. Завтра надо будет навестить. Везде пыль, хлам, какие-то обрывки газет на полу. Я толкаю дверь в комнату жиличек: застеленные кровати, пустой гардероб. Книжная полка, где у Ольги вразнобой стояли учебники и поэтические альманахи – голая. Я нагнулся и поднял с грязного пола листок: «Протокол обызка». Буква «з» зачёркнута, листок смят.
Значит, всё-таки приходили. Я не имею понятия, как помочь Ольге, где искать товарищей: все, кого я знал из ячейки, либо убиты, либо в застенках.
На стене в гостиной – портрет Андрея с траурной лентой. Я сажусь за стол. Закрываю глаза и слышу звон посуды.
– Николенька, не вертись!
– Тётя Шура, передайте, пожалуйста, соль.
– Иван Андреевич, ты же просоленный морской волк, обеспечь сына солью, я загляну на кухню. Ульяна, куда запропастилась? Подавай жаркое!
Я улыбаюсь. А ведь и мама когда-то сидела за этим столом. Иногда мне кажется, что я помню её голос; хотя современная наука точно не знает, слышит ли младенец в материнском чреве.
Я иду в папин кабинет. Долгу ищу; вот она – последняя фотографическая карточка, присланная из Либавы. Отец в парадном мундире, при всех орденах.
Потом несмело открываю дверь в комнату тёти Шуры: она ужасно не любит, когда кто-нибудь там бывает, но я не скажу ей. В комоде множество ящичков, выдвигаю по одному, вздрагивая от скрипа. Беру чёрную муаровую ленту, отрезаю аршин.
Возвращаюсь в гостиную и начинаю прилаживать ленту к папиной фотокарточке.
Рядом с портретом Андрея на стене как раз есть пустое место.
* * *
Гимназический надзиратель Рыба Вяленая сердит:
– Серафим, ну сколько же можно испытывать моё ангельское терпение?
Купец сопит и морщится. Блеет:
– Я же стараюсь…
– Да. Несомненно. Вы стараетесь успеть загнать в гроб как можно большее число преподавателей, в чём и состоит ваше истинное предназначение. Учитель французского жалуется, что целое племя полинезийских дикарей обучить быстрее и легче, чем одну вашу персону. Говорят, что дикари едят людей. Милые, безобидные создания! Всего лишь едят! Вы поступаете с людьми гораздо хуже. Как можно было на латинском диктанте сделать тринадцать ошибок?
– Ы-ы-ы, – обессиленно мычит Купец.
– Да если бы вы просто расставили латинские буквы в произвольном порядке, и то ошибок было бы меньше.
– Ыть.
– Скажите откровенно: вы планируете завершить гимназический курс? Когда-нибудь? Хотя бы в двадцатом веке? Ну, я не слышу.
– Да. Да, я обязательно.
– Почему бы вам не взять пример с вашего приятеля Ярилова? Хотя Николай постоянно исчезает на неделю или две и отделывается совершенно фантастическими отговорками, – то его по ошибке арестовывают, то похищают тамплиеры – я ни капли не сомневаюсь, что он, несомненно, гимназию закончит. Причём с золотой медалью. А вы, если и закончите, то со спутниками Марса.
– Кх… Как? С чем?
– Со Страхом и Ужасом, невежда.
Я улыбаюсь. Наверное, впервые за последнюю неделю.
Глава тринадцатая Беглец
– У меня к вам серьёзный разговор, Николай.
Тарарыкин, как всегда, похож на медведя – но в этот раз растерянного. Будто вылез весной из берлоги, а вокруг вместо родного среднерусского леса – аравийская пустыня.
– Я, м-м-м. Я не хотел поднимать разговор сразу после вашего, э-э-э, освобождения. Понимал, что ваше горе… Наше. Наше горе делает любые иные темы неуместными. Но я обязан. Уж простите меня, голубчик.
– Разумеется, Олег Михайлович. Вы столько для меня… Слушаю вас.
Он смотрит сквозь стёкла. Качает головой. Кладёт передо мной листок.
Я всматриваюсь. Чувствую, как начинают пылать уши и щёки. Это принципиальная схема моего взрывного устройства, нарисованная уверенной рукой Тарарыкина.
– Пригласили, естественно, меня. Как специалиста. Видимо, к лучшему, что именно меня.
Он встаёт и начинает ходить по лаборатории. Обгрызенные кисти халата качаются, бьют по коленям.
– Эксперт легко отличит руку Леонардо от руки Микеланджело, даже если на картине нет подписи. Я сразу понял, что видел подобную работу. Этот стиль. Даже то, как обёрнут фольгой взрыватель. Мне достаточно было проверить запасы в лаборатории. Вы тщательно всё убрали. Но даже то, в каком порядке расставлены реторты, запасы каких именно реактивов уменьшились… А потом я обнаружил это.
Раздался неожиданный звук: Тарарыкин вытащил из шкафа и хлопнул на стол гармонику-концертино; она жалобно взвизгнула.
– И это.
Да. Этот костяной мундштук я нашёл в завалах на рабочем столе Олега Михайловича. И аккуратно просверлил в нём отверстия заданного диаметра и в точно рассчитанном количестве.
– Как вы понимаете, друг мой, связать эти элементы с особенностями предъявленной мне в Охранном отделении взрывчатки было нетрудно. У вас светлая голова. Идея микроскопических полостей с целью радикального повышения мощности заряда великолепна. Но зачем?!
Олег Михайлович вонзился пальцами в седую шевелюру.
– Зачем использовать такой талант в таких ужасных целях? Да, я сам весьма критически отношусь к нынешним правителям в частности и к самодержавию в целом. Но убивать детей?!
Я молчал. Мне хотелось исчезнуть, раствориться, как в концентрате кислоты.
– Бомбу должны были поместить в царском вагоне, в детском купе. Несомненно, погибли бы все. Вы постарались, мой талантливый друг. Чёрт бы вас побрал.
– Я не знал, что дети…
– Молчите! Что вы не знали? Что боевики революционеров практикуют теракты? Что бомбы убивают людей, в том числе совершенно невинных? Это немыслимо, немыслимо!
Тарарыкин вновь вскочил и зашагал; пояс халата хлестал по ножкам стола, как тигриный хвост – по прутьям решётки.
– Вам, Николай, надо немедленно уехать из города. Так будет правильно. Ни к чему внимание полиции. Я уже списался: в Ревеле вас примут. Закончите курс тамошней гимназии; провинция, конечно, но уж не до жиру. Вы умеете самостоятельно изучать материал. И через три года вернётесь, поступите в университет. К тому моменту всё уляжется.
– Но как так? Уехать? Я не могу.
– Не только можете, но и должны. Александра Яковлевна со мной согласна. Как можно быстрее. Я не столько опасаюсь полиции, сколько этих ваших, с позволения сказать, товарищей. Это же банда головорезов и мошенников, а не революционеры! Я внимательно изучил материалы, любезно предоставленные следователем. У Охранного отделения был тайный осведомитель в составе вашей ячейки или как там. С кем вы связались? Председатель этот, пристреленный агентами. Недоучка, изгнан из университета за неуспеваемость. Подозревается в организации взрыва парохода на Каме. Пятнадцать убитых, из них четыре женщины и ребёнок. Ещё Михаил Барский. Вообще скользкий тип. Проходил свидетелем по дюжине дел – и ни одной судимости. Сейчас, наверное, получит срок по совокупности – и то невеликий, мало улик, или как там это называется у служителей Фемиды. Тень Толстого за всеми событиями. Вы хоть слыхали про Толстого? Евно Азеф, страшный человек, тридцать терактов на его совести. В крови по макушку. Говорят, собственноручно расстреливал ваших коллег при малейшем подозрении на предательство или при отказе продолжать революционную деятельность. И остальные под стать. Неудачники, маргиналы, общественные отбросы. Что там делать вам, сыну и брату офицеров? Дворянину? Причём ведь дворянство у вас – не столбовое. Выслуженное. Яриловы – это соль России; вам её охранять от врагов и вам же её улучшать, переделывать, перестраивать. Эх.
Олег Михайлович махнул рукой и продолжил:
– Одна шваль. Даже эта бунтарка – суфражистка, неблагодарная дочь несчастного отца. Сколько он сделал для страны – и вот, вся репутация суке под хвост.
– Вы про кого? – спросил я, холодея.
– Про Александра Корфа. Вы же знаете, несомненно.
Разумеется, я знал Корфа, талантливого горного инженера, придумавшего оригинальный способ обогащения полиметаллических руд. Теперь – горнозаводчика, миллионщика, владельца уральских шахт и заводов. А я всё думал: откуда мне знакома фамилия.
– Такой отец! А дочь? Клейма негде ставить. В тринадцать лет сбежала с каким-то сумасшедшим купцом. Шаталась по всей Европе, пока несчастный любовник все деньги на революцию не отдал. Мерзкая особа, совершенно аморальная.
Мне было невыносимо это слушать; я стиснул голову ладонями.
– При задержании оказала сопротивление; её обезоружить успели – так располосовала столовой вилкой лицо вахмистру. Ещё обошлось: при ней было два револьвера. Как какой-то мексиканский бандит, а не петербургская барышня. Убийца. Пристрелила городового в то январское воскресенье.
– Что?!
– Я сам поразился, когда прочёл. Хрупкая, казалось бы, девица. Хотя – какая там «девица», конечно, кхм. Говорю же: была вооружена аж двумя револьверами, один из них – «галан». Редкая модель, калибр неходовой. А у убитого полицейского пулю при вскрытии обнаружили. Ну, она под давлением улик призналась во всём. Похитила в вашем доме оружие: там ведь наградная табличка с фамилией вашего отца. Вот так. Мне стало не по себе: несколько месяцев у вас квартировала отъявленная и циничная преступница. Ужасно.
Олег Михайлович замолчал наконец. Сел напротив; я опустил глаза, чтобы не встретиться с его взглядом – полным боли и сочувствия.
Знал бы он, кого жалеет.
Ольга унесла «галан», чтобы лишить меня возможности совершить очередное убийство – пристрелить Барского. Ольга взяла вину на себя, чтобы спасти меня. Она – нежная, с тонкими пальцами – будет гнить в казематах Петропавловки заживо, год за годом. Или – на каторге. Если вообще её повесят.
Вместо меня!
– Никуда я не поеду, Олег Михайлович.
* * *
Июнь 1905 г., Санкт-Петербург
Переходные испытания я сдал досрочно: гимназическая администрация вошла в положение. Однокашники перешёптывались за спиной, преподаватели прятали глаза и пытались скорее закончить экзамен, чтобы от меня избавиться. Не знаю, чего в этом больше: сочувствия моим потерям или страха перед невнятными слухами о моём «невольном» участии в несостоявшемся покушении.
Дом мой пуст. Два портрета на стене гостиной, забытые дешёвые образки в каморке Ульяны и запах валерьянки в тёткиной комнате (врачи отправили её в Кисловодск). Я теперь даже не круглый сирота – я сирота в квадрате. Идиотская шутка, не правда ли?
Сидел безвылазно в гулкой квартире и читал. Тарарыкин снабжал меня книгами и записями, в том числе своими статьями в «Вестник физико-химического общества» для правки. Думаю, он просто пытался занять меня, загрузить голову, чтобы в ней не оставалось места для демонов.
В тот день в дверь постучали. Громко и требовательно; ясно, что это не дворник и не молочница. Так стучат люди, считающие себя вправе: например, квартальные надзиратели.
Но это были не из полиции. На пороге стоял человек в кепи с длинным козырьком, скрывающим лицо, по уши закутанный в кашне – и это при жаркой июньской погоде.
– Ну, Гимназист, так и будем торчать на виду, чтобы соглядатай какой-нибудь срисовал?
Человек приподнял козырёк, пальцем зацепил и стащил до рта кашне. Прикрытый белёсой плёнкой глаз, уродливые шрамы. Химик.
– Извините. Проходите, разумеется. Просто не ожидал.
Химик по-хозяйски прошагал в папин кабинет. Уселся на отцовском кресле. Взял журнал со стола.
– О, «Nature»! Изволите читать по-английски? Научные статьи?
– Не только. И по-немецки, и по-французски.
– Да вы настоящий вундеркинд. Повезло нам с вами, дружок.
Я промолчал.
– Впрочем, я имею в виду не Толстого и эсеровскую братию, скопище полоумных истериков. Чему вы удивляетесь? Да, мне плевать на их лозунги, вся эта чушь для полуграмотных масс, «земля – крестьянам, заводы – рабочим». Зачем пролетарию завод? Разворовать? Выпить спирт из испарителей, раскурочить и продать медную оплётку? Ему нужны хлеб, пиджак с ватными плечами и возможность потратить копейки на идиотские развлечения типа синематографа или цирка; его удел – воплощать в металл идеи истинных людей, учёных. А понять даже тысячной доли научной мудрости пролетарий не в состоянии, да это ему и не нужно. Уэллса читали, «The Time Machine»? Разумеется, читали. Так вот, морлоки – это топливо революции, истинная цель которой – торжество Разума и слуг его. К которым я отношу очень немногих людей, но вы – достойный кандидат.
– Тогда зачем вам это? Тайные лаборатории, которые взрываются, преследование полиции? Опасность тюрьмы?
– Тюрьма – ерунда, мой друг. Невозможно лишить свободы человека думающего, как невозможно надеть кандалы на ветер или лунный свет. Заключение даже полезно: очищает от бытовой шелухи, ничто не отвлекает от размышлений. Да и среди политических заключённых встречаются алмазы, гранящиеся в бриллианты; нечасто, увы, но думающие люди – вообще редкость. Тюрьма полезна. Даже жаль, что вас так рано выпустили. Неизвестно, когда представится следующая возможность.
Я подавился и закашлялся; Химик встал и похлопал меня по спине своей клешнёй без двух пальцев, продолжая вещать:
– Да, жаль. Валькирия – девица взбалмошная, взяла вину на себя. Но это и к лучшему: сядете в иной раз, а сейчас вы нужнее на свободе. Вам, кстати, огромный привет от товарища Арсения из Московской губернии. Слыхали про такого? Михаил Фрунзе, немногим вас старше. Тоже отличился в Кровавое воскресенье, даже ранение получил. А теперь организовал в Иваново-Вознесенске и Шуе рабочие боевые отряды, ведёт бои с войсками и полицией. Очень ему понравились гранаты вашей системы, освоили производство – считай, промышленное. Знаете, как их пролетарии обозвали? «Гимназистками», в честь вашей партийной клички. Цените! В вашем возрасте – и уже в истории навсегда. Весьма эффективное оружие, прекрасно показало себя в уличных боях.
Я едва сдержал стон. Прикрыл глаза и увидел: сгрудившиеся перед баррикадами солдаты, раненный в руку офицер придерживает окровавленный локоть и кричит:
– Примкнуть штыки!
С крыш, из подворотен, из окон подвалов летят, кувыркаются небольшие металлические цилиндры с насечкой и взрываются! Вспышки, смертельный визг осколков; падают искалеченные, стонущие офицеры и солдаты…
Русские офицеры и солдаты.
Химик не заметил моего состояния и продолжал вещать:
– Есть идея разворошить гнездо, и вы подходите как никто лучше; к зачаткам навыков учёного у вас вдобавок имеются редкие в нашей среде знания военного дела. Да и знакомцы в Кронштадте, видимо, остались? Слушайте внимательно: от Балтийского флота благодаря усилиям наших японских друзей остались одни ошмётки, но вскоре вступит в строй новейший броненосец «Слава», который опоздал к Цусиме. Он в одиночку способен натворить дел: представляете себе грозный силуэт напротив Зимнего дворца, громящий главным калибром оплот царизма? Мы пытаемся сейчас проникнуть в экипаж, разложить его; ловим матросиков на улицах в увольнении, впихиваем брошюрки. Правда, чаще наши агитаторы получают в морду.
Химик заперхал, как больная ворона; я вздрогнул: успел уже забыть этот чудовищный эрзац человеческого смеха.
– Да, единственный случай, когда я пожалел, что Валькирии нет с нами: у неё моряки взяли бы и брошюрки, и листовки – да комок ядовитых змей протащили бы на корабль под бушлатами. Она умела вызывать шевеление в душах и в штанах – будь то княжеские шёлковые панталоны или крестьянские вонючие портки.
Если бы в книжном шкафу за спиной Химика коробка была не пуста, то я бы нашёл, в кого разрядить второе гнездо барабана. Но я молчал, сжав кулаки и не перебивая.
– Впрочем, листовки – это ерунда, трата времени. Матросов надо поднять на восстание, а для этого нужны жертвы; ничто так не возбуждает низкокачественный человеческий материал, как запах и вид крови – это древнее, изначальное. Наши предки-полуобезьяны охотились редко и большими массами – а как ещё, если ни когтей, ни клыков, а мяска свежего хочется?
– Да вы гуманист, – не удержался я.
– Есть немного. – Каркание, имитирующее человеческий смех. – Слушайте дальше. Экипаж должно ввести в неистовство. Например, подбросить отраву на кухню.
– На камбуз, – автоматически поправил я.
– Без разницы. Не перебивайте! Яд, а к нему в компанию – кусок гнилого мяса. Знаете, великолепный шок для визуальных рецепторов: черви вылезают из кулеша, все кричат от омерзения, швыряют ложки, вскакивают – и тут один падает на палубу, синеет, бьётся в агонии; хлещет пена, затем рвота – готов. Тут же падает второй, третий… В нужный момент наш агент обвиняет в случившемся офицеров, матросы бросаются рвать и топтать командиров, те отстреливаются, количество трупов растёт и переваливает наконец качественную планку; а дальше – дело техники. Вылупляется преславное вооружённое восстание. Чудесная картина!
Химик закатил глаза и потёр ладони.
– Я тут на досуге рассматривал разные дополнения. Вариант со взрывом отбросил: что, если он повредит броненосец, который нам нужен боеспособным? Но придумал другое: на корабле же есть система вентиляции, не так ли? Что, если запустить через неё ядовитое летучее вещество? Разлить синильную кислоту, включить вентиляторы. Но для этого нужно досконально знать особенности внутрикорабельного устройства, а я полный профан в этом деле. В отличие от вас, друг мой.
Химик многозначительно посмотрел на меня; наверное, я должен был восхититься его готовностью к самоуничижению и возвышению меня. Оценить, так сказать. Но я лишь невнятно булькнул.
– Ладно, дела, – заторопился вдруг Химик, явно разочарованный, – вы подумайте обо всём, обмозгуйте варианты.
Он встал и пошёл к двери. Я собрал остатки воли и спросил:
– А если я откажусь?
Химик остановился. Повернулся ко мне: о, какое пламя полыхнуло из единственного глаза! И птичья плёнка на второй глазнице, кажется, раскалилась.
– Очень не рекомендую. Вы уже увязли целиком. Только макушка наружу, и то, чтобы крюк вбить. Кстати, некоторые наши товарищи удивлены: как так вышло, что охранка обнаружила тайную квартиру в самый решающий момент? Отчего вдруг вся боевая ячейка исчезла; члены её либо убиты, либо надолго в заключении, и только один Гимназист на свободе? Мне немалых трудов стоило уговорить Толстого не устраивать вам допрос с пристрастием. Расследование в наших рядах обычно заканчивается одним и тем же исходом, весьма банальным. Не советую экспериментировать с моим доверием. Подумайте об этом. Меня не ищите – сам вас найду.
Он помолчал и добавил с нажимом:
– Найду. Где угодно.
Я проводил его до двери; лучше всего моё состояние описывало слово «грогги» – положение боксёра, когда сознание уже отключилось, а ноги ещё почему-то передвигаются.
– Да, чуть не забыл.
Химик достал из пиджачного кармана смятый конверт без надписей:
– Вам от Валькирии, из тюрьмы. Оцените мою деликатность: конверт я не вскрывал, хотя был обязан. До встречи. Надеюсь, скорой.
Мне очень хотелось вслух пожелать его надеждам не сбыться. Но я сдержался.
* * *
Лето 1905 г.
Фантазия последняя
Уныние воцарилось над огромной империей; прекрасные варшавянки в знак траура закрыли личики чёрными вуалями; ревельская Русалка напрасно всматривается в свинцовый туман – они не вернутся. Сгинули грозные броненосцы и стремительные крейсеры; бравые усатые кондукторы и великолепные флотские офицеры обрели могилы далеко от Родины, и зелёные волны Великого океана им теперь надгробием.
Торжествуют сыны Азии, их жёлтые лица щерятся ухмылками: повержен северный гигант, навечно опозорен на полях Мукдена и в водах Цусимы; белые кости прячутся в зарослях гаоляна, и маньчжурские вороны, разбухшие от русской мертвечины, едва ковыляют, не в силах взлететь.
Рыдают прелестные дамы Владивостока: их белый город на сопках японцы требуют отдать себе, как и Сахалин, и всё Приморье…
В Царскосельском дворце – вздохи и всхлипы.
– Мы не в силах более сопротивляться, ваше величество. Казна пуста, страна бунтует; волнения настигли армию и флот. Надобно согласиться на требования микадо, отдать наши земли и выплатить гигантскую контрибуцию.
Монарх тяжко вздыхает и крестится. Его царственная супруга вопрошает с лёгким акцентом:
– Неужели не найдётся во всей России храбрецов, способных защитить отечество от позора?
Слова эти – лишь риторический стон; но внезапно раздаётся ответ:
– Отчего же? Мы готовы добиться почётного мира.
Лейтенанты Николай Ярилов и Серафим Купчинов предстают перед восхищёнными царедворцами, красивые и стройные.
– Что вам нужно для этого? – восклицает самодержец. – Просите что угодно: чины, ордена, деньги. Может, желаете ложу на все концерты Императорского балета? Насладитесь моими танцовщицами.
– Балерины? – необычайно оживляется Купчинов, но друг перебивает его:
– Ваше величество, нам нужно лишь немедленное исполнение моих заказов казёнными заводами и право использовать в своих целях любой корабль вашего флота и любой полк вашей армии.
Монарх немедленно требует бумагу и пишет собственноручно: «Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский…
Милые великие княжны улыбаются, подмигивают красавцам-лейтенантам.
…князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский…
Царь размахивает рукой, дует на уставшие пальцы.
…государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли…
Министр двора Фредерикс спит стоя; от его храпа вздрагивают часовые из лейб-конвоя.
…подателям сего лейтенантам Ярилову и Купчинову».
Все радуются, аплодируют; военный министр салютует шпагой, а морской вопрошает:
– Может, пора их повысить до капитанов второго ранга, ваше величество?
– Ну уж нет, переписывать я не стану. Вот вернутся с победой, привезут России почётный мир – тогда.
* * *
Рыщут хищники Камимуры, вынюхивают; да что теперь: Японское море целиком принадлежит японцам. Где русский флот? Сгинул, погиб в боях или интернирован в нейтральных портах. Лишь во Владивостоке осталась горстка наших кораблей: истерзанные снарядами, с пробитыми коварными минами днищами, пострадавшие в навигационных авариях, залечивают теперь раны.
Днём и ночью трудятся рабочие заводов Владивостока, им помогают мастеровые из столицы: заделывают полученные в мае пробоины от взрыва мины, готовят корабль для исполнения тайной миссии. Броненосный крейсер «Громобой», красавец-гигант длиной в полторы сотни метров, предназначенный для океанских рейдов, лишился грот-мачты и всех кормовых надстроек. Вместо этого возведён секретный ангар, вход в который строго охраняется, и построен огромный дощатый помост шириной в пятнадцать саженей и длиной от четвёртой трубы до кормового флагштока.
Командир корабля спрашивает:
– И всё же, господа лейтенанты, какова будет цель? Мне-то можно сказать.
– Всё узнаете в своё время, – непреклонны лейтенанты.
Японские шпионы, притворяющиеся китайскими кули и корейскими разносчиками, шныряют по набережным Владивостока; следят из подвалов и забираются на чердаки с фотографическими аппаратами, но так и не могут выведать тайну крейсера. Утром вновь бегут на свои посты и разочарованно кричат:
– Нас обманури! Яриров обхитрир!
Да! Красавца-крейсера нет у причальной стенки: ночью, не зажигая огней, он на самом малом ходу, как на цыпочках, вышел из бухты Золотой Рог. Прикрывшись туманом, словно волшебной фатой, проскочил незамеченным вражескую сторожевую завесу и вырвался на простор Японского моря.
– Курс – зюйд-ост! Наша конечная цель – столица микадо, – открывает наконец секрет лейтенант Ярилов.
– Но как же, – растерян капитан, – столицу охраняет весь японский флот! Броненосцы, крейсеры, истребители и миноносцы! Вы, конечно, известны своей доблестью, мой экипаж готов сражаться до последнего снаряда, но нам не справиться со всей эскадрой Того! Да и Токио находится на обратной стороне острова Хонсю, и, следуя этим курсом, мы лишь упрёмся в скалистые утёсы Японии…
– Исполняйте приказ, – холодно говорит Ярилов.
Он подносит к глазам небольшой цейсовский бинокль и говорит:
– Ваша задача, господин капитан первого ранга, привести «Громобой» как возможно ближе к вражескому берегу незамеченным.
Но словно судьба-злодейка слышит эти слова – а, быть может, сам древний японский бог Фудзин вновь распахнул свой кожаный мешок и выпустил все ветра на волю. Сдёрнута маскировочная пелена тумана, и тут же появляются два японских дозорных крейсера.
– Свистать всех наверх! – командует капитан. – Примем же бой и погибнем с честью, но не посрамим Андреевского флага.
– Наша цель – не погибнуть, а исполнить предначертанное, – возражает Николай и вызывает радиста: – Приказываю забить сигналы вражеского радиотелеграфа сильной искрой, дабы разведчики противника не сообщили, что обнаружили нас.
– Но как мы будем сражаться? – уныло вопрошает капитан. – У них артиллерия вдвое превосходит нашу по числу и намного – по дальности эффективной стрельбы.
– Значит, мы должны сблизиться на удобную нам дистанцию, а до этого – избежать вражеских попаданий.
– Но как?!
– Прикажите увеличить ход до самого полного и подать из погребов особые «яриловские» снаряды, остальное предоставьте мне.
Азиаты ошеломлены: их радиотелеграфные станции не в силах передать сообщение об обнаружении «Громобоя», преодолеть помехи: самураи будто лишились голоса. Но растерянность длится недолго: два японских броненосных крейсера бросаются в бой очертя голову, рассчитывая на лёгкую победу.
– Дистанция пятьдесят пять кабельтовых! – кричит дальномерщик.
Тут же борта японских кораблей озаряются вспышками, и Ярилов немедленно командует:
– Право на борт!
Рулевой торопливо перекладывает штурвал; «Громобой» на полном ходу поворачивает, кренится – падают на палубу не ожидавшие маневра матросы.
– Японские снаряды летят до нас шестнадцать секунд, – поясняет Николай, – за это время «Громобой» пройдёт целый кабельтов и снаряды упадут в стороне.
Так и есть: гигантские фонтаны вздымаются в небо далеко за кормой.
– Лево руля!
Русский крейсер идёт зигзагами, не позволяя противнику пристреляться; и вот уже достигнута нужная дистанция до врага.
– Заряжай!
– Беда, вашбродь, – докладывает запыхавшийся вестовой, – подъёмник заело, разорви его акула! Не можем поднять снаряды к орудию.
Но что это? Могучий спутник Ярилова, лейтенант Купчинов, сняв щегольской мундир и играя мускулами, легко тащит на плече огромный шестипудовый снаряд для восьмидюймового орудия.
– Принимай! – хрипит он, сваливает страшную тяжесть на лоток и спускается по трапу за следующим.
Комендоры готовы к стрельбе; выстрел!
Русский снаряд, начинённый мелинитом особой мощности, устремляется к цели. Увы, недолёт: гигантский гейзер вырастает саженях в десяти от вражеского борта.
Но что это?!
Вражеский крейсер, избегнувший прямого попадания, вдруг начинает крениться. Всё просто: чувствительный взрыватель срабатывает даже при ударе снаряда о воду, а гигантская сила мелинита, изготовленного по секретной методе лейтенанта Ярилова, вызывает небывалой мощи гидроудар. Разрывает корпус, ломает шпангоуты и срывает с оснований паровые машины…
Японец тонет; второй крейсер разворачивается и удирает в ужасе. Но вслед ему летит ещё один снаряд и взрывается за кормой; чудовищный подводный взрыв отрывает винты, корёжит руль и лишает врага и хода, и управления.
Бессильно болтается на океанской зыби изуродованный корабль; второй уже пошёл на дно, и вода покрыта чёрными головами тонущих, как гороховый суп – хлебными сухариками.
На мостик выходит герой Цусимы адмирал Камимура; он в парадном мундире, расстёгнутом на животе, чтобы ловчее совершить сэппуку.
– Погодите, Хиконодзё! – кричит в рупор лейтенант Ярилов. – Вы храбро сражались и исполнили свой долг до конца: так в чём же ваша вина?
– Никогда самурай из княжества Сацума не склонял головы перед врагом, – гордо отвечает адмирал, – я не могу видеть, как флаг с восходящим солнцем будет спущен, а корабль захвачен.
– Я не требую спустить флаг. Спасайте ваших погибающих товарищей и затем вызывайте буксир, который доставит корабль в японский порт. Лишь дайте слово, что в ближайшие три часа не сообщите о месте встречи с нами и нашем курсе.
– Слово самурая, – растерянно отвечает Камимура, – но как же…
– И ещё одна просьба, – перебивает Ярилов, – сообщите его величеству императору Японии о том, что произошло. И что это – жест доброй воли со стороны русских.
Камимура гладит рукоять танто, шепчет: «Не в этот раз, друг» – и прячет клинок в ножны. Отдаёт честь.
Офицеры на мостике «Громобоя» вскидывают ладони в ответном приветствии. Капитан удивлён:
– Зачем? Они не жалели нас, когда громили в Корейском проливе год назад, когда топили крейсер «Рюрик».
– Кто-то должен первым остановить кровопролитие и поступить наконец благородно – как и должно в отношениях между двумя великими нациями. Русская дворянская честь и японский кодекс Бусидо учат этому.
Крейсер несётся прочь от места схватки; на горизонте появляется рваная гряда Кисо – словно хребет спящего дракона.
* * *
– Что же, время. Возвращайте «Громобой» во Владивосток и ждите известий, а мы исполним свой долг. Прощайте, господин капитан, не поминайте лихом.
– Но как?! До Токио отсюда – не меньше ста тридцати миль. И как вы – всего лишь вдвоём! – собираетесь справиться с бесчисленным врагом?
– Нам не впервой. Прощайте.
Доблестный экипаж «Громобоя» выстраивается на шканцах и кричит «ура!»; духовой оркестр играет «Амурские волны».
Серебрятся волны, серебрятся волны, Славой русскою горды…Судовой священник вытирает покрасневшие глаза и благословляет храбрецов. Лейтенанты, красивые и стройные, бросают последний взгляд на провожающих и скрываются в двери запретного ангара.
Распахиваются ворота; и вот появляется небывалый аппарат. Сверкают широкие плоскости из перкали, покрытой лаком; гудят, словно струны, многочисленные проволочные растяжки; будто Георгиевские кресты, сияют четырёхлопастные пропеллеры, установленные в прорезях крыльев.
– Да это же летательный аппарат контр-адмирала Можайского! – восклицает офицер «Громобоя».
– Однако существенно переделанный, – замечает кто-то из знатоков, – и двигатели не паровые, а новейшие, внутреннего сгорания.
И точно: моторы принимаются трещать, распространяя синий дымок с ароматом бензина. Всё быстрее вращаются пропеллеры, аппарат дрожит от нетерпения, словно горячий рысак перед забегом. На борту воздушного корабля написано название: «Поручик Андрей Ярилов».
В корпусе наподобие лодки появляется фигура аэронавта: это Ярилов. На нём кожаный шлем и очки в половину лица; он машет рукой в меховой перчатке. Механик кивает и убирает тормоза-колодки из-под четырёхколёсного шасси; самолёт прыгает вперёд и катится по дощатому помосту, расположенному под наклоном. Прытко набирает скорость и наконец срывается с кормового среза. Зрители охают: тяжело нагруженный аппарат (под корпусом подвешен большой ящик) едва не зарывается в воду, но в последнюю секунду задирает нос и, натужно гудя, постепенно набирает высоту. Вот уже сажень над водой, две, пять; аэроплан облетает крейсер, покачивает крыльями на прощание и направляется к японскому берегу.
– Ура! Браво! Слава храбрецам-лейтенантам, покорителям неба!
Аэронавты не слышат; они уже далеко, и путь их опасен и труден.
* * *
– Высота?
Николай едва перекрикивает тарахтение моторов; Серафим понимающе кивает, склоняется над прибором и отвечает:
– Тысяча двести метров по анероиду.
Позади самая трудная часть пути – горный хребет Кисо. Внизу – долина Канто; медленно проплывают зеркала рисовых чеков; крестьяне, услышав рёв в небе, задирают головы в широкополых шляпах и, падая на колени, принимаются истово молиться.
– Ямато-но ороти вернулся! – кричат они в ужасе.
– За дракона принимают, – кивает Ярилов, – оно и хорошо. Пока полиция спохватится, пока телеграфируют в столицу – мы уж доберёмся.
Эх, разве можно говорить вслух о своих надеждах, когда совершаешь невозможное? Пара журавлей появляется со стороны солнца и бросается на самолёт.
Что это, почему? Может, они обезумели от страха, встретив невиданного грохочущего гиганта? Или отважные птицы защищали своё гнездо? Возможно, их направил небесный создатель этой земли, сам Идзанаки?
Птицы врезаются в пропеллер; горячие брызги бьют в лица аэронавтов. Аппарат кренится, воет; бешено летит навстречу земля…
В последний момент пилоту удаётся выровнять аэроплан; посадка очень жёсткая, трещит и отрывается правая плоскость, зацепившаяся за дерево; словно гитарные струны, с визгом рвутся стальные расчалки. Шасси принимает первый удар – аппарат подпрыгивает, пролетает ещё десяток саженей, вновь бьётся о землю; с треском ломаются стойки колёс; самолёт встаёт на нос, на миг замирает, словно обелиск самому себе – и с ужасным грохотом опрокидывается на спину.
Из перебитого бензопровода капает на раскалённый картер мотора…
* * *
– Они там все отравились рыбой фугу?! – вопит начальник департамента полиции Токио. Снимает европейскую фуражку, швыряет в неё перчатки. – Или перепились саке? Какой ещё дракон? Передайте суперинтенданту префектуры моё неудовольствие.
Клерк кланяется и бормочет:
– Это уже третье сообщение за четыре часа из самых разных городов. Возможно, господин сочтёт необходимым отправить конный отряд для расследования на месте?
– Делайте что хотите, – кричит начальник, – только отстаньте. Я опаздываю на представление кабуки.
Клерк соединяет ладони: словно гигантская бабочка складывает крылья и садится на его чахлую грудь. Сгибается в поклоне и пятится вон.
Начальник высовывается из окна и кричит рикше:
– К подъезду, сын обезьяны!
* * *
– Держись, друг.
Богатырь Серафим Купчинов хрипит от натуги – и сбрасывает обломок крыла, освобождает товарища. Сильно пахнет газолином, натекла уже целая лужа.
– Как себя чувствуешь? Дышать не больно, рёбра целы?
Николай выбирается, пытается встать – его швыряет, друг едва успевает подхватить.
– Яр, отдышись, приди в себя.
– Некогда. Времени нет. Что там груз? Цел?
Купчинов могучими руками отрывает доски, высвобождает содержимое ящика. Это новейший блиндированный автомобиль конструкции Ярилова.
Купчинов хватает заводную рукоятку (в его кулачище она выглядит хрупкой проволочкой), вставляет в гнездо магнето, крутит. Мотор взрывается весёлым треском: работает!
Друзья забираются через стальную дверь: внутри тесно, Купчинов раздирает плечо о выступ брони и тихо ругается. Ярилов вглядывается в узкую смотровую щель, включает передачу и гонит машину по извилистой дороге; пыльный хвост тянется позади, словно тело сухопутного дракона; сверкают фары, будто хищные глаза. Японцы бросают повозки, запряжённые быками, и разбегаются по придорожным кустам; но вот впереди вырастает конный отряд. Ошарашенные всадники бросаются врассыпную; кричит офицер, призывая кавалеристов – и вот уже гремят винтовочные залпы. Пули грохочут об автомобильную броню – и плющатся о неё не в силах пробить; какой-то отчаянный смельчак бросается наперерез, рубит саблей шину. Но боевая машина оснащена не пневматическими баллонами, уязвимыми для пуль и железа; шины изготовлены целиком из литой резины.
Летят вёрсты; и вот уже он – огромный город из игрушечных домиков, будто склеенный из бамбуковых палочек и картона. Ярилов уступает место водителя товарищу. Всматривается в узкие щели, водит пальцем по карте. Ругается:
– Чёрт ногу сломит. Гигантская деревня, а не столица. Как тут к дворцу прорваться?
– Да уж, не петербургские проспекты.
– Заблудились, похоже. А спросить дорогу не у кого.
– Отчего же? – возражает Купец.
Останавливает автомобиль. Высокого плечистого красавца немедленно окружают мило щебечущие женщины – маленькие, изящные, в расшитых цветами кимоно; прелестные, словно фарфоровые куколки. Серафим галантно кланяется:
– Барышни, лейтенант русского флота Купчинов, честь имею. Как тут проехать ко дворцу Муцухито, чтобы он был здоров?
Забирается обратно в автомобиль, за ним – две красавицы.
– Девочки дорогу покажут, поехали.
– Как ты с ними общаешься? – поражён Ярилов. – Ты же японского языка не знаешь.
– Ерунда, – ухмыляется Купчинов, – чтобы я – да с девицами не договорился?
Гейши кивают высокими причёсками с торчащими из них палочками и хихикают.
Летит блиндированный автомобиль, петляя по узким улочкам, сбивая полицейские заслоны, расшибая наскоро сооружённые баррикады; вот он – дворец!
Императорская гвардия выстраивается стальной стеной, выкатывает пушки; Купчинов хватает ружьё-пулемёт Мадсена, просовывает в амбразуру.
– Первую очередь – поверх голов! – просит Ярилов.
– Как скажешь.
Грохочет пулемёт, звонко щёлкают о броню гильзы; бледнеют гвардейцы, роняют винтовки, встают покорно на колени.
Блиндированный автомобиль сносит ворота; проносится через первый двор, второй – равнодушным взглядом провожают его гранитные черепахи, высовывают в изумлении языки каменные львы, похожие на собак, и собаки, похожие на драконов.
Стража и министры в ужасе разбегаются; лейтенанты проходят в главный зал; на троне их ждёт побледневший монарх в европейском мундире.
– Вы желаете меня убить? – спрашивает он, сглотнув слюну.
Ярилов снимает фуражку и кланяется; толкает под локоть товарища – Купчинов делает то же самое.
– Нет, ваше величество. Мы здесь с другой целью. Теперь вы лично убедились в могуществе России – нас лишь двое, но мы смогли прорваться в ваш дворец. Однако сейчас время доказать не только силу, но и благородство моего Отечества: лично вам мы не причинили вреда, хотя и могли, ибо прибыли ради заключения почётного мира между нашими великими державами.
– Что же я должен сделать, храбрецы?
– Откажитесь от требования контрибуции. Наша страна богата, но тут уж – дело принципа; не в наших правилах платить дань, мы давно прекратили эту практику, уничтожив Золотую Орду.
– Это всё?
– Нет. Владивосток – русский город, Приморье и Сахалин – русские провинции, политые кровью и потом наших предков. Свою землю мы не отдадим. Забирайте Порт-Артур и Ляодун – китайского нам не жалко.
– Остроумно, – усмехается успокоенный микадо, – этак вы мне и весь Индокитай отдадите, и Голландскую Ост-Индию?
– Забирайте, – кивает Ярилов.
– Я подумаю.
– Чего думать-то? – хмуро спрашивает Купчинов и сжимает до хруста гигантские кулаки.
– Вы не поняли, – косится император на колотухи Серафима, – это я про Индокитай сказал, что подумаю. А с вашими условиями я согласен. Полностью.
– Отлично. Подпишем бумаги, – говорит Ярилов и достаёт пачку листов с текстом договора.
* * *
Посреди Токийского залива – белый красавец «Громобой». Ему салютуют недавние враги – японские броненосцы и крейсеры; «Громобой» прибыл, чтобы забрать героев – лейтенан… то есть капитанов второго ранга Купчинова и Ярилова, кавалеров ордена Хризантемы и личных друзей микадо.
На причале рыдают японские гейши: их десятки, они прощально машут веерами Купчинову, размазывая тушь и белила на зарёванных кукольных личиках.
– Страдают, болезные, – говорит Купчинов и машет в ответ.
– А ты сам? Скучать будешь? – спрашивает Ярилов.
– Гы, чего скучать-то?
Серафим оглядывается и шепчет приятелю на ухо:
– Я пяток в чемоданах на борт пронёс. Они же маленькие. Сейчас уже в каюте обживаются, бумажные ширмы мастерят.
В зените щурится солнце и одобрительно кивает.
* * *
Друг мой, Серафим.
Надеюсь, тебе понравится. Конечно, это всё вымысел, сказка. Фантазия. Возможно, получилось коряво, не хватило лихости и веселья; увы, я уже не могу витать так, как умел всего полтора года назад.
Ты спросишь, почему?
Мы уже не те мальчишки, друг мой. Я – точно. Слишком многое произошло за время с января 1904 года; с того зимнего вечера, когда мы с тобой встретили военного министра Куропаткина. Когда впервые услышали о войне с Японией – невозможной. И неизбежной.
Я потерял брата, отца, любимую – да ты и сам знаешь.
Самое страшное, что я потерял самого себя; теперь мне предстоит себя найти.
Мне будет не хватать тебя, друг мой Сера. Твоего крепкого плеча рядом, твоего табачного запаха, наших разговоров.
Не ищи меня.
Когда-нибудь мы встретимся, вспомним нашу юность, посмеёмся вместе. И помолчим над могилами, в которых – наши мечты.
Когда-нибудь – обязательно.
Прощай.
Николай Ярилов, 24 июля 1905 года.
* * *
Август 1905 г., Балтийское море
– А ну, шевелись, доходяги!
Солнце едва поднялось над городом, сладко потянулось, глянуло вниз сквозь просвет в серых тучах, а там вовсю кипит работа. Катали разгоняются с тяжело гружёнными тачками, взлетают по прогибающимся доскам на борт. Высыпают груз в трюм – и назад, за новой порцией, волоча пустую грохочущую тачку за собой.
Снуют носаки со стопками досок на плечах; крючники, кряхтя от немыслимой тяжести, волокут на горбу по два пятипудовых мешка с солью за раз. Шныряют скободёры с бегающими глазами: только отвернётся шкипарь – тут же подскакивают, выдирают железные гвозди и скобы из бортов, и дёру.
У Четырнадцатой линии – чистая публика. Ни ругани, ни скрипа тачек – духовой оркестр, нарядные дамы, бравые городовые пучат глаза и расправляют усы в треть аршина. Здесь швартуются пароходы на Ревель, Либаву и Ригу; сегодня – черёд почтово-пассажирского «Зевса».
Провожающие кричат, машут котелками и зонтиками; носильщик тащил гору дамского багажа – споткнулся, не удержал: упала шляпная коробка, соскочила крышка. Ветер тут же подхватил парижскую шляпку, будто мальчишка-хулиган, покатил по мокрым доскам под глумливый хохот зевак, распугивая воробьёв.
Капитан, сияя золочёными пуговицами, прокричал в медный рупор:
– Отдать швартовы!
Замолотил винт, взбаламутив грязную воду; тяжко пыхтя, похожий на бегемота крутобокий пароход отвалил от причала, пополз вниз по течению.
На верхней палубе – пассажиры первого класса: знакомятся, флиртуют, обсуждают последние новости. Пижон в английском клетчатом пиджаке, в жёлтых крагах трясёт свежим номером «Речи»:
– Ай да молодец Витте! Прижал всё-таки япошек. Подписал в американском Портсмуте мир.
Пассажиры живо интересуются:
– Ну, как там? Велика ли контрибуция?
– Что с Сахалином?
– Подождите, – умоляет пожилая дама с исплаканным лицом, – подождите. Так пленных теперь отпустят? У меня сынок мичман. В отряде адмирала Небогатова, сдались они в Цусиму. Отпустят?
Пижон читает вслух: про отказ японцев от требования контрибуции и претензий на Владивосток и Приморье.
У борта опирается на трость гимназист. Его бледное лицо словно искажено мукой – совсем не по годам. Молодой человек прислушивается к пижону, неожиданно улыбается чему-то своему.
Пароход выходит из невского устья; вот уже невысокая волна Финского залива бьёт в нос, пытается раскачать громадину, но быстро теряет интерес. За кормой – конвой из чаек; сверкает белыми тушками, словно кавалергарды – колетами.
Публике быстро надоедает бросать чайкам хлеб. Накрапывает, дует. Пассажиры расходятся – кто по каютам, кто в буфет. Остаётся лишь тощая фигура гимназиста.
Юноша достаёт из-за пазухи мятый конверт, вынимает протёртый на сгибах листок. Отворачиваясь от ветра, прикрывая от брызг, перечитывает – в который раз! – письмо. Затем тщательно рвёт его на полоски и выбрасывает за борт; белую стайку подхватывает ветер и несёт над водой; глупая чайка ловит один, взлетает торжествующе, но быстро понимает обман. С разочарованным криком выплёвывает несъедобную бумажку.
Ветер тоже теряет интерес к новой игрушке: обрывки падают и некоторое время качаются на серых волнах. Быстро расплываются чернила, и вот уже не разобрать написанное – как не разобрать далёкий шёпот в ночи. «…будут говорить, но ты не верь: я ведь не верю в твоё предательство…», «…слаще, мальчик мой…», «…надцать лет – это неимоверно много: я превращусь в старуху, а ты войдёшь в самый мужской сок…».
Что это? О чём? Зачем?
Гимназист достаёт бинокль, смотрит на расплывающийся в мокрой дымке отпечаток города на низком небе – словно эстамп, попавший под дождь.
На мгновение в поле зрения попадает форт Брюса: его осклизлые стены текут влагой, чёрные амбразуры хмуро глядят вслед пароходу. Форт криво ухмыляется аркой широких ворот: вернёшься, никуда не денешься.
Юноша вздрагивает. Отворачивается и спускается по трапу, в тёплое корабельное нутро.
Самая упрямая чайка долго летит за кормой, кричит – но её призыв никому не слышен.
Часть третья Форт Брюса
Глава четырнадцатая Атака мертвецов
Крепость Осовец. Июль 1915 г.
Телега скрипела нещадно.
Поручик поморщился и хлопнул возницу по спине:
– Слышь, пшек, ты бы хоть колёса смазал. А то германец нас за десять вёрст услышит и артиллерией накроет просто из милосердия.
Крестьянин пробормотал что-то неуважительное, помянул Ченстоховскую Божью Матерь и ожёг лошадёнку кнутом. Несчастная кляча вздрогнула и прибавила шагу.
Полевая дорога вывернулась из чащи и зазмеилась лугом. Жаркое июльское солнце вскарабкалось в зенит; лежащий на спине Ярилов разглядел чёрный крестик, застрявший на голубом полотнище: орёл или ещё какой небесный хищник.
Поручик ухмыльнулся и продолжил беседу:
– Так вот, любезный Николай Иванович, никакому вашему литератору двадцать лет назад и в дурном сне не могло померещиться, до каких высот дойдёт стремление человечества самоуничтожиться. Все эти аэропланы, бронеавтомобили, цеппелины! Мортиры размером с Исаакиевский собор! Огромные умственные и технические усилия потрачены не на раскрытие тайн мироздания, не на то, чтобы накормить голодных и излечить больных. Нет! Только самоистребление. Мог ли подобное описать ваш Жюль Верн?
Новоиспеченный прапорщик Коля Ярилов возразил:
– Сочинителям свойственно воображать хорошее скорее, нежели дурное. По крайней мере фантастическим писателям. Потому тот же Жюль Верн сообщал о космических путешествиях, а не об ужасах будущих войн…
– Ха! Из пушки на Луну, как же! Приехали бы вы сюда, голубчик, четырьмя месяцами раньше, в марте пятнадцатого! Просвещённые немцы изволили нам такую бомбардировку устроить из всех калибров – от дыма и пыли пальцев на руке было не рассмотреть. Земля ходуном ходила. Есть у них такая «фрау Берта», так она не очкастых профессоров на Луну запускает, а чудовищные снаряды в шестьдесят пудов – на наши бедные головы. И эти летучие корабли, аэростаты и прочие средства завоевания воздушного океана для чего теперь используются? Только для нашей погибели. Все выдуманные писаками сюжеты обратились человечеству во вред. Воплотились в нашу реальность, но совсем с другой, ужасающей стороны.
– Ну почему же? Не все. Вот, например, английский сочинитель писал о нашествии марсиан на Землю.
– Ну-ну. Это вы Уэллса имеете в виду? Я вам так скажу, дорогой прапорщик военного времени: никакие инопланетные захватчики не способны принести человечеству столько горя, сколько мы сами, потомки Каина…
– Смотрите-ка! – воскликнул Ярилов и поднялся с соломы, которой была выстлана телега. – Разглядел кого-то! Сейчас нападёт.
– Вы про что?
– Да вот же, в небе! Орёл. А может, и ястреб. Спускается.
Сквозь скрип тележных колёс пробился какой-то посторонний звук – непонятное зудение.
– Ах ты ж бога в душу! Это же аэроплан, германский! Бегом, прапорщик, прячьтесь.
Поручик необычайно ловко спрыгнул и порскнул в высокую траву. Ярилов бросился следом, неуклюже споткнулся и с размаху упал: ноздри сразу забил сладкий запах полевых цветов. Перед носом качалась на травинке беззаботная божья коровка.
Зудение нарастало, становилось рёвом; будто гигантский трубач раздувал щёки – всё громче, всё страшнее. И наконец загрохотала барабанной дробью пулемётная очередь…
* * *
– Приват-доцент? Позвольте, вы же должны быть освобождены от службы.
– Ваше превосходительство, я доброволец, – сказал Коля и покраснел: показалось, что это признание прозвучало выспренне.
– Ну что же, это прекрасно, – генерал-майор Бржозовский кивнул седым клинышком бородки, собрав в улыбке добрые морщины у глаз, – славно, когда наша молодёжь не пытается спрятаться в тылу, а в трудное для отчизны время… Гхм. Впрочем, вы, судя по всему, не нуждаетесь в громких словах. Крепость Осовец уже десять месяцев являет собой пример стойкости и мужества, два тяжелейших германских штурма нам удалось отбить. Я рад, что офицерский состав гарнизона пополнился вами, Николай Иванович. Нам такие специалисты, не побоюсь сказать, позарез нужны. Крепость начинал строить сам Тотлебен, так где ещё начинающему военному инженеру снискать почестей и новых звёзд?
Коля украдкой скосил взгляд на непривычные ещё серебристые погоны с единственной звёздочкой и эмблемой из перекрещённых сапёрных топоров. Видел бы папа – обрадовался.
– Я слышал, что вас по дороге от станции обстрелял германский аэроплан?
– Так точно, – сказал Коля, и пережитый страх вновь сдавил желудок, – но без последствий.
– Да, небо тут, к сожалению, не наше. Чужое. Они имеют превосходство в авиации. Как, впрочем, и во многом другом. Что же, будем считать этот неприятный казус вашим крещением. Поступайте в распоряжение командира сапёрной роты.
* * *
Канцелярия сапёров располагалась тут же, в Центральном форте. Ротный ординарец, татарин в выгоревшей гимнастёрке, помог отнести чемодан в выделенную для проживания каморку.
Ярилов оглядел потёки на сырых стенах. Узкая походная койка, колченогий стул, ржавый таз под жестяным умывальником – не «Англетер», конечно. Под потолком едва светилось окошко в ладонь. Выложенный из кирпичей низкий свод давил.
– Склеп, – пробормотал Коля. И тут же утешил себя: – Зато снарядом не пробьёшь. Наверное.
Дверь заскрипела, без стука просунул голову давешний татарин:
– Ходи к капитану. Зовёт.
Ярилов снял очки и начал их протирать чистой тряпочкой, как всегда делал в минуты раздражения. Заметил:
– Голубчик, я ведь всё-таки офицер. Будь добр, обращайся по уставу.
Татарин хмыкнул, кивнул голой башкой:
– Ходи, твоя благородия.
Плохо выбритый капитан, пуча красные глаза, ткнул карандашом в карту:
– Вот, извольте получить первое задание, прапорщик. Следуйте в расположение тринадцатой роты Землянского полка. Необходимо оценить состояние инженерных сооружений на передовой позиции и наметить план фортификационных работ. Ожидается германское наступление. Давно надо было сделать, да дел невпроворот. Сам вторые сутки на ногах. Распишитесь в журнале приказаний, и с богом. Осторожнее, там германец того. Постреливает.
Ярилов, заполняя строчки в потрёпанной тетради, про себя отметил: 23 июля 1915 года. Подумать только, завтра у него день рождения!
А он и забыл.
* * *
Не спалось.
Коптилка из снарядной гильзы лениво дразнилась жёлтым языком пламени, играла замысловатыми тенями на стенах блиндажа.
Ярилов положил карандаш, разминая усталые пальцы. Нечаянно смахнул с самодельного стола жестяную кружку и замер, кляня себя за неловкость.
Ротный перестал храпеть. Пробормотал:
– Перебежками! Живо, по одному с правого фланга, сукины дети…
Повернулся на жёстком топчане и выдал новую руладу храпа с переливами и бульканиями.
Николай осторожно встал со скрипучего табурета. На цыпочках пробрался к сколоченному из шершавых досок шкафу, начал на ощупь искать коробку с чаем. Пальцы неожиданно коснулись гладкого.
Вытащил тонкую книгу на свет. Удивлённо прочёл: Николай Гумилёв, «Чужое небо». Издание Аполлона, двенадцатый год. Надо же, этот бравый командир пехотной роты читает стихи в розовых обложках!
Улыбаясь, выбрался из блиндажа. Небо начинало светлеть, розовея по краю: без четверти четыре часа утра.
Вспомнилось: белая пена черёмухи, белые кружева. Он читает гумилёвского «жирафа» в берлинском кафе, а немка напротив уткнула длинный нос в пивную кружку и хихикает.
Ярилов вздрогнул и поправил очки.
Западный ветер набирал силу, дул всё злее. Странная тёмно-зелёная волна ползла по земле, кралась к русским позициям. Резкий запах хлора ударил в ноздри, перехватил дыхание, впился в глаза.
Часовой закричал отчаянно:
– Газы! Немец газом травит… – и закашлялся.
Жгло кожу, каждый вдох драл горло, разрывал внутренности. Ярилов сполз на дно траншеи. Зажмурив глаза изо всех сил, щупал глинистые стенки – искал обратную дорогу в убежище.
– Рота, в ружьё!
Подпоручик, матерясь, выскочил из блиндажа. Наступил сапогом на спину Коли, вдавил в грязь.
Ярилов прополз внутрь, уткнулся в холодный дощатый пол. В обложенную смрадной ватой голову бились выстрелы, грохот разрывов, жуткие вопли умирающих…
Коля свернулся зародышем. Плакал, ощупывая чужое, сочащееся болью лицо.
Перестали метаться образы перед глазами: залитый солнцем цветочный луг, деловитое пчелиное жужжание, кружка тёплого молока.
Остались только страх и боль.
– …кто из офицеров?
Ярилова трясли за плечо.
– Вашбродь, вы живы? Роту в атаку некому вести. Да поднимайся ты, прапорщик! Отрава – она понизу ползёт.
Николай встал, цепляясь за стену. На фоне светлого пятна, обозначавшего вход в блиндаж, качались какие-то тени. Слёзы уже не текли – кончились. Схватил жестяной чайник, вылил на голову.
Нащупал кобуру с наганом – не потерял, слава богу.
– Пошли.
Мимо скукожившихся трупов, мимо обмотавших грязными тряпками сожжённые лица живых.
Или – уже мёртвых?
Выбрался на бруствер. Перекрестился. Изрезанное хлором горло отказывалось слушаться. Собрался, прохрипел чужим голосом:
– Рота, слушай мою команду! Примкнуть штыки. С богом, в атаку…
И пошёл, пошатываясь, в сторону густых цепей германского ландвера.
Сзади брело его адское воинство, мыча что-то неразборчивое вместо бравого «ура», качая шприцами трёхгранных штыков, дрожа лохмотьями сползающей лоскутами кожи, чернея бывшими лицами с потёками бывших глаз.
Тевтонские ряды рыгали частыми вспышками выстрелов. Пули взвизгивали от ужаса, разглядев, в КОГО им предстоит попасть…
Потом он лежал на спине, и над ним качалось небо, сочащееся зеленоватым гноем.
Отравленное.
Чужое.
* * *
Август 1915 г. Госпиталь
Это как артиллерийская канонада. То накатывает, то становится тише. Но не умолкает никогда.
Начинает сосед у окна. Торопливо, будто захлёбывающаяся в спешке трёхдюймовка:
– Кха-кха-кха-кха.
Следом – пехотный поручик. Глубоко, солидно, басом – словно гаубичная батарея:
– Гах. Гах. Гах.
Я держусь до последнего – и зря. Меня разрывает, словно заложенным под крепостную стену камуфлетом, выворачивает; глаза, кажется, готовы оторваться и вылететь из глазниц, разбиться о стену:
– А-хха!
Мы все отравлены хлором. Наши слизистые истерзаны, прожжены; наши слюна, пот, слёзы соединялись с молекулами газа и превращались в соляную кислоту; она разъедала всё – лёгкие, глаза, кожу.
Нам повезло. Те, кому не повезло, остались там, в Осовце – в жутких судорогах, в собственном дерьме, посиневшие от удушья.
Когда ландверный батальон бежал, не выдержав наших штыков, выжившие опускались бессильно на землю. На почерневшую, умершую от хлора траву. Листья на деревьях свернулись и пожелтели: они погибли, не пережив досрочную осень в июле.
Подоспевшие санитары, причитая от ужаса, перевязывали нас; кто-то пересчитывал на ощупь оставшиеся в подсумках патроны дрожащими пальцами, кто-то доставал кисет и пытался курить, но быстро тушил самокрутку – сожжённые ноздри и языки не чувствовали запаха и вкуса, какой смысл?
Мы думали, что самое страшное позади – и падали вдруг, бились в конвульсиях, задыхаясь: начинался отёк лёгких. Распёртые рты, как у рыб на берегу; лопающиеся в муке глаза: воздуха! Хотя бы глоток, хотя бы молекулу…
Я очнулся здесь, в госпитале. Ранен в руку, но это пустяки – навылет, просто порвало кожу. С отравлением сложнее. Врач слушает мои хрипы дважды в день; откладывает стетоскоп, морщится и бормочет что-то про эмфизему.
Я не знаю, почему выжил. Наверное, что-то не успел доделать; а быть может, кто-то там, наверху, решил, что такой исход будет слишком простым для меня, и готовит сейчас что-нибудь совершенно фантастическое, какое-нибудь особенное мучение.
– Кха-кха-кха!
Словно шутихи взрываются над Петербургом, то есть теперь – Петроградом. Праздник. Салют. Ура, война! Какое счастье.
Ведь всего лишь год назад разбитые витрины немецких магазинов, гранитные обломки с крыши германского посольства на Исаакиевской площади. Счастливые толпы, нарядные манифестации, курсистки с букетиками, восторженные взгляды, сияние золотых погон.
– Гах. Гах. Гах.
Бухает барабан, раздувают щёки оркестры; геликон сияет на солнце, пыжится и тужится, издаёт слоновий рёв. Или это ревёт немецкий пятнадцатисантиметровый снаряд?
– Гах. Гах. Гах.
Поручик садится на постели; его плечи пляшут, будто хотят оторваться от позвоночника и улететь к чёрту; кровавые ошмётки лёгких разлетаются по всей палате.
Я боюсь заснуть. Мне кажется, стоит забыться – и я захлебнусь в собственной крови. Встаю, бреду в коридор. Прислоняюсь лбом: отличное окно, правильное. Холодное стекло пьёт мой жар. Луна заливает всё жёлтым светом, словно изрыгает хлор.
– Вашбродь! Вам плохо?
Это санитар. Я пытаюсь ответить, но вместо этого разражаюсь кашлем. Тело словно хочет вывернуться изнутри; так хирург выворачивает резиновую перчатку.
Санитар бормочет:
– Господи, мучаются-то как.
Я машу рукой: отстань. Отхаркиваю в застиранный платок. Рубиновые брызги на жёлтом фоне: словно темляк ордена Святой Анны, жёлто-красная «клюква».
Я получил первую награду, прослужив даже меньше, чем отличившийся в деле с китайскими боксёрами брат Андрей. Он, наверное, смотрит на меня с небес и ухмыляется: «Молодец, лопоухий».
Вновь упираюсь лбом в оконный переплёт, сплю стоя. Если лечь – задохнусь.
Сосед у окна умирает под утро.
* * *
Сентябрь 1915 г., Псковский вокзал
– Так сколько ждать? Четыре часа уже стоим. Весь ваш хвалёный график к чертям собачьим.
– Не могу знать, ваше высокоблагородие. Воинский пропускаем.
Железнодорожник разводит руками, улыбается и морщится одновременно: всячески выказывает сочувствие и невозможность помочь. Глаза его воспалены бессонницей, неряшливая седая щетина мокнет под мелким дождём.
Ротмистр злится. Стучит палкой по доскам перрона и изрыгает слова, в приличном обществе не принятые.
Я смотрю на кавалериста и испытываю что-то вроде ностальгии. Год назад я вынужден был отказаться от трости, вечной моей подруги с гимназических времён, и теперь мне её не хватает. Но по-другому было нельзя: иначе я не прошёл бы врачебную комиссию. Какая армия с «третьей ногой»?
У ротмистра впалые жёлтые щёки, болезненная бледность. Он узнаёт меня, как узнают друг друга в тысячной толпе поэты или кокаинисты: свой.
– Из выздоравливающих, прапорщик?
– Так точно.
– Бросьте, мы же не на плацу. Я из Киевского госпиталя. Вот, перевели в нестроевые, седла мне теперь не видать.
Хлопает себя палкой по высокому сапогу. Улыбается одним ртом; глаза по-прежнему злые.
– Буду юнкеров гонять в Николаевском училище. Меня под Перемышлем, осколком бедро к чёрту разворотило, едва не ампутировали. Я им орал, что если отрежут – приведу свой эскадрон и порублю в капусту всех вместе с клистирами. А вас?
– Осовец. Газы и так, по мелочи. Рука навылет.
Ротмистр смотрит уважительно. Вздыхает:
– Наслышан. Оставили Осовец-то.
Ушло, отгремело копытами, отстрадало лето пятнадцатого года. Лето, истерзанное шрапнельными разрывами, исцарапанное колючей проволокой, провонявшее карболкой госпиталей.
Лето дикой нехватки всего: снарядов, резервов, мозгов. Недостатка везучести, быстроты и верности полководческих решений. Лето беспрерывной череды поражений. В жаркой пыли и жирной грязи, под обстрелами и внезапными прорывами германской конницы мы отступали и отступали. Оставили Польшу, Галицию, Брест, Ковно…
Кавалерист уходит в свой вагон. Наш поезд загнали на запасной путь. Пропускаем воинские: платформы с зачехлёнными трёхдюймовками; «столыпины», из которых торчат грустные лошадиные морды и не менее грустные солдатские лица. До Петрограда – едва двести пятьдесят вёрст; но теперь неясно, сколько времени уйдёт на их преодоление.
По перрону бредёт солдатик с огромным медным чайником, солнце тускло щурится в мятом боку; онуча на левой ноге размоталась и тащится по высыхающим лужам. Станция забита людьми – уставшими, растерянными, слоняющимися.
Я иду в буфет. Есть не хочется, но надо как-то убить время. Там, на юге, германцы прорвали фронт под Свенцянами; саксонские уланы шляются в окрестностях Минска и уже перерезали шоссе на Смоленск. Командование бросает войска, чтобы заткнуть дыру; и одному богу известно, сколько на это понадобится эшелонов, тысяч пудов мяса и крови.
Нервная толпа цивильных у двери; городовой устало отбивается:
– Распоряжение начальника станции: только для господ офицеров. Извольте в город, тут полверсты, и ресторан. А при вокзале – исключительно для офицеров.
Низенький толстяк в котелке визжит:
– Это возмутительно! Что ещё за неравенство? Я имею такое же право.
– Право имеете, а как же, – соглашается полицейский, – а вот пройти – нет.
Мальчик в форме реального училища теребит женщину за рукав пальто:
– Никак, да? Хотя бы булочку.
– Потерпи, милый. Наверное, пойдём искать этот ресторан.
Она снимает с головы мальчика фуражку, гладит по лёгким светлым волосам, беспомощно оглядывается.
У неё тонкое, бледное, очень усталое лицо. Чёрные волнистые волосы и зелёный жакет под распахнутым лёгким пальто.
– Ваше благородие! Проходите, – кивает мне городовой, – господа, господа, пропустите офицера.
Я беру даму под локоть, подмигиваю реалисту:
– Проголодался, Игорёк?
– Я не Иго… – Он понимает, улыбается хитро и подмигивает в ответ.
– Дама и мальчик со мной, – говорю я.
Городовой собирается было возразить. Я не жду: отодвигаю его с прохода и пропускаю женщину.
В буфете битком. Накурено, звенят бокалы. За столами – все рода войск, гул и выкрики:
– За харьковских улан, господа! До дна!
Замороченный половой в замызганном переднике вздыхает:
– Там, в углу, маленький столик на двоих. Но ребёнку можем приставить стул.
– Я не ребёнок! Я второклассник.
– Разумеется, сударь. Оговорился, извините.
– Проводите даму, голубчик, – говорю половому, – а я как-нибудь.
Брюнетка, кажется, собирается возразить, но тут радостный вопль:
– Коля! Добился своего, чертяка, всё-таки служишь. Откуда здесь?
Через зал ко мне идёт пехотный поручик: рука на перевязи, солдатский «Георгий» на груди.
Это Александр Ярилов, мой дальний родственник.
* * *
Сашка – из «красных Яриловых»; у них в роду рыжие – не редкость. Наши деды – двоюродные братья; вместе сражались в Севастополе в Крымскую войну. Мы ровесники, должны были поступать в один год; как я завидовал его кадетской форме!
Саша тащит меня к столу, заставленному графинами с коньяком; компания тут явно давно.
– Позвольте представить, господа. Николай, и тоже Ярилов.
Артиллерист-капитан смотрит на меня, прищурившись. Бормочет:
– Не похож. Ты вон вымахал, как верста коломенская, и рыжий. А этот тощий, чернявый и в очках. Не похож. Да ещё прапорщик, штафирка.
У меня вспыхивают уши и сжимаются кулаки. Саша смеётся, подталкивает меня к свободному стулу:
– Не обращай внимания, он тут вторые сутки, уже все запасы шустовского опустошил. Рассказывай, братец.
Я вздрагиваю. «Братцем» меня называл только Андрей. Рыжий наливает полстакана из графина, приглашает:
– Давай, кузен мой. Сколько не виделись? Года четыре?
– Пять. С десятого.
Я задерживаю дыхание и пью до дна.
* * *
В десятом году, в конце лета, я вернулся из Берлина. Два года в тамошнем университете после побега из Ревеля. Тарарыкин исхлопотал мне перевод в Петербургский университет; тогда казалось, что всё успокоилось, «товарищи» ушли в глубокое подполье, а страшный Химик пропал вслед за Толстым-Азефом. Охранка про меня забыла; словом, ничто не угрожало мирным научным занятиям.
Я был тогда «европейцем», щеголял котелком по последней моде и нарочитым немецким акцентом. Щёлкал пальцами, якобы вспоминая:
– Как это будет по-русски?
Дурак, одним словом. Но на девиц производило впечатление. Впрочем, по сравнению с натуральным красавцем, весельчаком и свежеиспеченным подпоручиком Александром Яриловым я, конечно, проигрывал два корпуса, если не полкруга.
Рыжий только выпустился в полк, уезжал в Виленский военный округ. Погуляли мы знатно: он получил подъёмные, а я пенсию за отца. Рестораны, лихачи, какие-то девки…
А теперь сидели, обнявшись, в замызганном привокзальном буфете, два фронтовика – раненые, награждённые, рвущиеся обратно в свои полки; Саша кивал на перевязь и смеялся:
– Говорю: отпускайте меня, контузия прошла, а перелом – ерунда, само срастётся. Но эскулап – ни в какую. Я плюнул, сестричку подговорил, она мундир и сапоги мне вынесла. Вот, еду. Мои там без меня не справятся. Уже до Минска добежали. А ты?
– Предписание в Главный штаб, – нехотя сказал я, – будут, наверное, в тыл пихать, как травленого. Ну уж дудки. Сбегу, как ты.
Мы – братья не только по крови, но и по судьбе.
Выслушав мою куцую историю про Осовец, Саша вспомнил вдруг самый зачин войны, Восточную Пруссию в августе четырнадцатого.
– А начиналось всё славно, братец. Делали мы по тридцать вёрст в сутки…
* * *
Август 1914 г., Восточная Пруссия.
Воспоминания Александра Ярилова
Делали по тридцать вёрст в сутки; грохотали по брусчатке подковки сапог и орудийные колёса, обитые железом; дремали в сёдлах донские казаки, кивая пиками; днём грело стареющее солнце августа, ночью до костей пробирало прусской болотной сыростью.
Там, за спиной, на востоке сонно ворочалась просыпающаяся Россия, словно медведь в берлоге перед весенней побудкой; неспешно шла мобилизация, и все дороги империи были забиты воинскими эшелонами и обозами.
Мы выступили раньше плана на две недели – не подготовившись до конца, не укомплектовав роты и эскадроны. Но слишком уж умоляли французы: боши остроумным манёвром обошли пограничные укрепления, стремительно проскочили Бельгию и громили лягушатников почём зря, почувствовав запах близкой победы – до Парижа оставалось всего ничего.
Генерал-адъютант Ренненкампф, герой японской войны и экспедиции против китайских боксёров, лихой кавалерист и умница, полтора года готовил войска Виленского округа к этому походу. Как мы ворчали на бесконечные учения, марши, стрельбы! И вот теперь в деле пришлось осознать мудрое суворовское «тяжело в учении, легко в бою».
Первая армия обходила Мазурские болота с севера, Вторая генерала от кавалерии Самсонова – с юга; нам предстояло встретиться, сомкнув стальные жвала окружения на тушке Восьмой германской армии. Смысл всей операции был в обеспечении северного фланга главного удара этой войны; после того как мы обезвредим Восточную Пруссию, с Варшавского выступа началось бы сокрушительное наступление на Берлин. И эта война не успела бы стать Мировой: всё закончилось бы до Рождества парадом победителей в Берлине и полным умиротворением Германии.
Это осознание, что именно мы сделали первый выстрел, первый решительный шаг к скорой победе, отрастило нам крылья; даже нижние чины подтянулись и не сетовали на тяжесть стремительного похода, на стёртые ноги и оттягивающую плечи амуницию.
Под Гумбинненом собирались стать на дневку, подтянуть отставшие обозы и артиллерию, сделать передышку после трёхсуточного непрерывного марша; но у немцев были иные планы на этот день.
Рассветными петухами заорали немецкие пушки; смертоносный огонь обрушился на нас. Это была первая моя бомбардировка; и она, как первая женщина, запомнилась навсегда…
Ты с младенчества привыкаешь к небу: оно бывает синим июльским или свинцовым ноябрьским; оно может восхитить тебя россыпью бриллиантов на чёрном бархате и выслушать стихи, когда в твоей руке – лёгкая девичья; оно может раскиснуть вдруг петербургской моросью или высыпать ворох неспешных снежинок; но никогда раньше не падало оно на тебя гробовой крышкой, стальной лавиной осколков, не визжало шрапнелью, не опрокидывалось адским пламенем.
Небо рухнуло.
Взрыв! Тебя накрывает, разрывает на молекулы, на мельчайшие составляющие: селезёнка, обломок ребра, обрывок воспоминаний, мечта о небе и страх перед пауками – всё это взлетает, падает, перемешивается с землёй; и вот ты вновь слеплен из глины, как в шестой день творения.
Взрыв!
Окровавленным комком ползёшь по родовым путям, распирая, раздвигая, разрывая родную мать – она вопит, выворачивается наружу, как извергающая лаву планета, и акушер ждёт тебя у выхода, поднимает облитыми резиной руками и констатирует:
– Мальчик!
Взрыв! Свет бьёт в глаза, заставляя корчиться палочки и колбочки; твои нейроны вопят от ужаса, страдают от звуков, чувств и мыслей: за что?! Ведь было так спокойно эти миллиарды лет и вёрст, так торжественно и величаво – но нет, творец вырывает тебя из своего тела и швыряет в страдание и дерьмо.
Взрыв.
Вот ты кадет, и урок не выучен; ты вжимаешься в парту, умоляя: только не меня, не меня.
Взрыв!
Ты – бабочка, у тебя белые крылья и смутные воспоминания о сладком, ватном сне внутри кокона, где сквозь мягкие стенки сочится свет; взмахнула – и к солнцу, но там – чёрная стремительная тень; это смерть твоя, стриж в пижонском черном фраке, и остро вырезанные фалды разрезают небо на две части – до и после.
Взрыв! Каждые десять секунд, по-немецки въедливо, методично, последовательно. Фугасные бомбы калибром десять с половиной сантиметров – какая точность! Какая трогательная аккуратность и вызывающая оторопь строгость: с половиной! Это вам не грубые англосаксонские дюймы; половинка сантиметра имеет значение, вроде бы пустяк – но это дополнительный фунт тротила; может, именно его хватило, чтобы ты воспарил в зенит горсткой кисло воняющих, обожжённых, ошпаренных атомов.
Земля, не ожидавшая предательства неба, трясётся от ужаса, как студень из свиных ушей; она ходит волнами, словно взбесившееся, твёрдое ещё миг назад море; она лопается пузырями воронок-гнойников, засыпает с головой живых и вышвыривает наружу средневековые гробы…
Солдаты утащили меня в каменный фольварк на окраине Бракупенена, ничтожного восточнопрусского городишки; там я очнулся, когда на меня вылили половину фляжки.
– Вашбродь! Чего делать-то?
Оказывается, я успел вытащить из кобуры наган, и теперь он болтался на шнурке, как камешек на шее собравшегося утопиться – веса его не хватило, и я выплыл.
Я поднялся, опираясь на чьё-то плечо, выглянул в окно: усадьба стояла на краю разваленного, дымящегося кладбища; германская артиллерия, будто взбесившийся дантист, вырвала все кресты, как зубы, и расшвыряла по округе. В рассветной больной дымке показались строгие цепи; прусские шишаки царапали туман, и тускло блестели штыки, мечтавшие о наших кишках.
Взводы перемешались и потерялись: второй был почти весь, от первого – одно отделение, а четвёртый исчез, будто и не было; зато к нам прибилась дюжина соседей из Уральского пехотного полка. Наскоро и наугад переформировав роту, я отправил два взвода к низкой кладбищенской ограде – германцы сложили её крепко, из булыжников.
– Стрелять только по команде! – кричал я. – Патроны беречь. Не высовываться.
Правый фланг мне категорически не нравился – туда я отправил уральцев под командой своего проверенного унтера; остальных распихал по многочисленным каменным сараям. Теперь я понимаю: попавший под обстрел инстинктивно хочет спрятаться за стенкой, внутри любого помещения – они дают обманчивое ощущение защиты.
Нижние чины повеселели; пригнувшись, разбегались по указанным позициям. Наш солдат таков: ему бы патронов и чёткой команды, остальное сделает сам – в окружении, в ужасе и смерти исполнит свою работу спокойно и уверенно.
Я подпустил германцев на полторы сотни шагов и лишь тогда велел стрелять; чёткая цепь, словно выписанная аккуратным штабным писарем строчка, вздрогнула, теряя буквы, исчезая и ломаясь. Немцы постреляли немного и отползли в кусты; я использовал передышку, чтобы отправить посыльного в тыл, разыскать нашего батальонного командира или штаб полка – паренёк этот так и не вернулся, пропал.
Германцы подтащили пулемёт; свинцовый горох бессильно разбивался об ограду и стены фольварка и мало что им дал, но гренадеры вновь поползли со свойственным пруссакам тараканьим упрямством; мы вновь отбились, потом ещё раз, и ещё…
Каждый раз серая цепочка в затянутых тканью фельд– грау шишаках останавливалась всё ближе к ограде и наконец бросилась в штыковую; хруст, мат и скрежет накрыли окраину тихого германского городка. Я подоспел с резервным взводом в последний момент, быстро опустошил наган и намахался шашкой; получил прикладом в позвоночник и долго отлёживался, пока над головой вопили, убивая друг друга.
Прошло два часа или три; подсумки опустели. Я сидел на мокрой земле, опершись спиной на каменную стенку, и, ругаясь, занимался необычайно нудным делом: по одной выталкивал стреляные гильзы из барабана. Зарядил последние пять патронов, оставив два гнезда пустыми. И тут началось: эти пришли из тыла, со стороны городка – то есть моя рота билась в полном окружении. Это открытие не обрадовало меня; бой развалился на отдельные очаги, и я командовал только теми, кто был рядом.
Нас набилось полтора десятка в конюшне; здесь было прохладно, восхитительно пахло конским навозом и сеном. Раненые расползлись по денникам, их перевязывал невесть откуда прибившийся санитар, умоляя:
– От так от, потерпи, родной.
Родные не слушали – стонали и плакали в бреду.
Санитар перевязал и меня – оказывается, гренадер успел царапнуть мне плечо штыком.
Я смотрел в крохотное, с почтовую открытку, окошко под потолком; небо вдруг стало не серым, а голубым – но это была не среднерусская синева, а холодный лёд тевтонских глаз; у ворот я уложил пяток лучших стрелков, строго наказав стрелять наверняка. Но пруссаки и не думали переть напролом: они просто подожгли конюшню. Ты не представляешь, друг, как много всего может гореть в каменной конюшне!
Без всякой команды мы сползлись у ворот – здесь хотя бы можно было дышать. В сплошном дыму мутным багрянцем светились пятна огня; оттуда доносились вопли сгорающих заживо тяжелораненых.
Я оглядел своё красноглазое, кашляющее, окровавленное воинство и сказал:
– Мы – не кровяная колбаса, чтобы германец нас живьём жарил. Пойдём и умрём, братцы. С богом.
Снаружи трещали залпы, грохотали разрывы – наш похоронный марш, чудесная музыка вместо пения валькирий.
Мы бросились, готовые разить и умирать, но пруссаки уже бежали – дивизия вернулась, чтобы отбить этот паршивый городок с кашляющим названием.
По улочке шагали наши стрелки – с полными подсумками, с румяными лицами. Прекрасные, как ангелы.
Я бессильно опустился на землю и подумал, что война начинается неплохо.
Я поспешил.
* * *
Сентябрь 1915 г., поезд Псков – Петроград
Мы не успели договорить: кондуктор зашёл в буфет и прокричал отправление моего поезда. Но я и так знал, чем закончилось наступление в Восточной Пруссии: в спешке переброшенные из Франции два германских корпуса и кавалерийская дивизия; наши восемьдесят тысяч убитых, раненых, пленных. И застрелившийся в лесу под Виленбергом генерал Самсонов.
Зато Париж – французский; союзники до сих пор восхищаются «чудом на Марне». Это чудо сотворили не гений генерала Жоффра и не парижские таксисты, а безымянные рязанские парни и рыжий подпоручик Сашка Ярилов. Но кому до этого дело?
Хромой ротмистр оказался моим соседом по купе; разговор сам собой зашёл о войне, но не о выматывающих маршах и кислом сидении в траншеях по колено в болотной воде; нет лучших знатоков стратегии, чем окопники, и мы говорили о мировой политике.
– Я легко могу предсказать исход войны, и для этого не нужно умение девицы Ленорман, – горячился ротмистр.
– Дайте угадаю. Вы теперь – матёрый спиритуалист?
– Отнюдь, – расхохотался попутчик, – совсем иной принцип, обойдёмся без столоверчения. Смотрите, Николай: если британцы участвуют в войне на нашей стороне – победим наверняка, вспомните хотя бы финал Бонапарта. А если наоборот – то позор Крыма или Цусимы. Можно вспомнить и турецкую кампанию семьдесят восьмого года: стоило британцам погрозить пальчиком – и вся наша победа исчезла, как рассветный туман, или как там пишут в стишках обожаемые вами акмеисты. Ни проливов, ни Константинополя, а братушки-болгары гадят нам при первой возможности. Как говорил мой эскадронный вахмистр, «не накормишь – не насрут». Вот увидите: болгары ещё влезут в эту войну, но вовсе не на нашей стороне.
– То есть вы хотите сказать, что главная цель англичан теперь – спасти Россию?
– По крайней мере, они честно попытались пробиться через Дарданеллы, чтобы облегчить нам снабжение. Потери на Галлиполи колоссальны, перспективы туманны – и всё же их Черчилль поступил, как полагается верному союзнику.
– Это так, но не могу согласиться с утверждением о бескорыстности британцев, – сказал я, – островитяне не имеют постоянных союзников, а лишь постоянные интересы. И эта война на их совести: испугались конкуренции германцев в борьбе за вселенский престол, вот и результат. Теперь весь мир в кровавой каше, а выгоду получит Лондон. Я считаю, что нет большей глупости, чем замена союза с Германией на Антанту. Пруссаки всегда нам помогали и поддерживали, вспомните хотя бы японскую войну.
– Ну-ну, всегда, – рассмеялся ротмистр, – жаль, дорога не идёт вдоль Чудского озера – я бы вам показал местечко, где тевтонцы до крови целовались в дёсны с русскими.
– Я про последние сто лет. С тем же Наполеоном мы справились во многом благодаря Блюхеру.
– Просто вы – германофил.
Я нахмурился.
– Я жил два года в Германии. Нам есть в чём брать пример с немцев. Их выдающаяся наука, литература, музыка заслуживают восхищения. Я был германофилом, несомненно. Но сполна получил плату за эту любовь: в Осовецкой крепости мне выдали её. Щедрой порцией хлора.
Ротмистр извинился. И молчал до самого Петрограда.
Мы попрощались холодно; он подхватил баулы и похромал искать извозчика; я посмотрел ему вслед и увидел вдруг брюнетку в зелёном жакете с белоголовым мальчиком. Сделал шаг, но тут же толпа подхватила, закружила и поглотила их.
Жаль; я ведь даже не представился и не узнал, как её зовут.
Глава пятнадцатая Другая война
Сентябрь 1915 г., Петроград
– Поздравляю вас подпоручиком. И уже подписано представление к ордену Святого Георгия четвёртой степени.
Я растерялся, если честно. Забормотал совсем не по уставу:
– Благодарю вас, милостивый государь…
Полковник усмехнулся в усы. Конечно, выпускник юнкерского училища браво щёлкнул бы каблуками и проорал совсем другое, а не цивильное «благодарю вас». Впрочем, хозяин кабинета не стал усугублять моей растерянности.
– Садитесь, Николай Иванович. Не буду тратить слов относительно вашего героизма: мы с вами офицеры и оба понимаем, что вы лишь исполнили свой долг, как и надлежит представителю служилого рода Яриловых.
– Да, несомненно.
– Я имел счастье знать вашего батюшку, царство ему небесное. Итак, зачем вас вызвали в Петроград. Вы знаете об Ипатьеве?
– Владимире Николаевиче? Академике?
– И полковнике русской армии.
– Несомненно. Выдающийся учёный! Читал курс термохимии в университете. Но лично мы не знакомы.
– Зато вы знакомы с Олегом Михайловичем Тарарыкиным, он рекомендовал кооптировать вас в состав вновь создаваемого Химического комитета при Главном артиллерийском управлении. Возглавит его, скорее всего, профессор Ипатьев. А вас мы планируем командировать туда.
– Я не совсем… Это что, служба в тылу?
– Да. Вы были на фронте и сами могли убедиться: мы катастрофически проигрываем во всём, что касается снабжения войск современными средствами войны. У нас остро не хватает обыкновенной взрывчатки, артиллерийского пороха и прочих продуктов промышленности. А теперь добавились боевые газы… Нужны средства противогазовой защиты, нужны методы обнаружения применения такового оружия противником, наставление для обучения войск. Нужен, в конце концов, русский боевой газ! Учёных-химиков катастрофически не хватает – вы и сами знаете, сколь малое количество ваших коллег достигло хотя бы уровня приват-доцентов. А уж о химиках, имеющих реальный боевой опыт, и говорить не приходится. Тем более – такой опыт, как у вас. На собственной шкуре, если этот вульгаризм вас не оскорбит. Пейте чай, Николай Иванович. Остынет.
Я автоматически протянул руку, взял стакан со светлой от дольки лимона жидкостью. Погладил горячую ручку серебряного подстаканника.
Полковник продолжал: о чрезвычайных мерах по развитию новейшего производства толуола из бакинской нефти, по переработке донецкого угля в интересах армии… Наконец я решился перебить:
– Господин полковник, всё это чрезвычайно важно, но мне сейчас не до науки, и моё место на фронте. Какая наука, когда ежесекундно гибнут люди в окопах, когда мои сослуживцы рискуют жизнью, исполняя долг? Ведь я теперь не приват-доцент…
– Вот именно! – Голос мгновенно набрал силу, словно полковник стоял перед строем. – Не приват-доцент, а подпоручик. Я разве спрашиваю вашего мнения? Я отдаю приказ.
Я вскочил, едва не опрокинув чай, и вытянулся во фрунт.
– Виноват.
– Садитесь, Николай Иванович. Вы – офицер и будете служить там, где укажет старший командир. Прикажут – дерьмо будете черпать при холерном бараке.
Полковник отвернулся к окну, чтобы не видеть моих раскалённых ушей. И тихо сказал:
– Вы думаете, мне тут уютно, в Петрограде-то? Я Шахэ и Мукден прошёл, дважды ранен. Готов на фронт хоть батальонным, да хоть ротным командиром – однако ходу моим рапортам не дают. Потому что… Потому что. Ясно?
– Так точно, господин полковник.
– Отпуск вам трое суток. Предписание получите у адъютанта.
Я вышел; полковник так и стоял у окна и смотрел, как ползут по стеклу капли дождя – медленно, словно солдаты по мокрому полю.
* * *
В вестибюле стоял штабной поручик: лощёный, сияющий шитьём погон, в новенькой портупее. Хлестал себя по бедру лайковыми перчатками и вещал:
– Извольте немедленно покинуть помещение! Вам отказано, так чего же ещё? Мешаете деятельности военного учреждения в военное время, сударыня.
Я видел лишь женский силуэт на фоне застеклённых дверей; дама умоляла:
– Но мальчик – сын погибшего на фронте, он имеет право на помощь. Я ведь прошу не за себя – за сироту. Куда его теперь, в приют?
Я вздрогнул: её голос показался мне знакомым. Поручик тем временем продолжал орать:
– Да хоть в канаву, это не наша забота. Где документы? Нет? Вот и идите отсюда. Ведомство не обязано заботиться о всяких, с позволения сказать, бастардах.
– Что?!
– Не вопите, дамочка. Мальчик незаконный? Выблядок, прости госпо…
Он не договорил: женщина хлестнула поручика по щеке так, что фуражка слетела. Штабной завизжал:
– Ах ты, шалава подзаборная, да я сейчас…
И принялся хватать даму за руки.
Я не помню, как оказался вмиг рядом: рванул хама за ремни портупеи, подтянул и, глядя прямо в белые глаза, просипел:
– Немедленно извинитесь, поручик. Или не успеете пожалеть.
Наверное, я был страшен – в выгоревшем мундире, с ввалившимися после госпиталя щеками, подживающими корками химических ожогов на физиономии.
Штабной испугался. Забормотал:
– Виноват, сударыня, приношу искренние извинения. Нервы-с, вторые сутки на дежурстве…
Когда мы выходили, я услышал шипение за спиной:
– Ну его, связываться с контуженым…
Ухмыльнулся, но возвращаться не стал.
* * *
– Сударь, а я вас узнал, – заявил белоголовый, – вы нас в Пскове провели в буфет.
– Так и есть, молодой человек. Позвольте представиться: прапор… то есть подпоручик Ярилов, Николай Иванович.
– Ой! И я Николай! Хотя вы тогда меня Игорем назвали, но я же понял, что это военная хитрость…
Тёзка и Дарья Степановна приехали из Екатеринослава; мальчик, как я понял, остался без отца, и их положение было отчаянным.
– Из нумеров погонят сегодня, – сказала Дарья, – и так уже должны. А теперь даже на обратную дорогу денег нет. Вы извините, я вообще-то не кисейная барышня, но и вправду устала. Сил нет. Нет сил…
Она вдруг заплакала – уткнувшись в платок, беззвучно, только плечи тряслись.
Я, сам от себя не ожидая, положил руки на эти несчастные, дрожащие, узкие плечи и сказал:
– Вот что, милая Дарья Степановна, плакать немедленно прекращаем. Я рядом – значит, все беды позади. Сейчас поедем на Васильевский, в нашу квартиру, и тётка будет рада.
Я чуть не добавил «наверное». Тётя Шура стала совсем невыносимой и ворчливой старухой; но я старался не думать об этом.
– Поедем? Неужто на извозчике?! – закричал Коля-маленький.
– На нём, дружок.
Дарья премило шмыгнула покрасневшим носиком и улыбнулась:
– Он с самого Екатеринослава мечтает проехаться по Петрограду на извозчике.
– Вот и славно. Мечты для того и нужны, чтобы сбываться.
* * *
Как ни странно, тётя Шура приняла неожиданных гостей ласково; погнала кухарку в лавку за вкусностями, а Дарье показала дальнюю комнату:
– Жилец-то мой, студент, бросил учёбу – и в вольноопределяющиеся, на фронт. А другого я и не успела приискать; теперь понимаю, что к лучшему.
Тётка доверительно понизила голос:
– Скучно мне тут одной, голубушка. Раньше квартира-то полна жизни была, а теперь… Десять лет уже, как Николай в разъездах, вот только жильцами и спасалась. Всё молодёжь: студенты да курсистки; а что ещё нам, старикам, надо? Лишь бы смех да юная жизнь рядом – оно и бабушке веселее.
– Ну что вы, Александра Яковлевна, вы чудесно выглядите.
– Ой, смущаешь меня.
– Нет, и вправду. Вот только какая беда: стыдно сказать, плохо сейчас со средствами. Надеюсь на деньги от дальнего родственника отца Коленьки, да не знаю, когда. И бумаги в военном министерстве уж больно медленно…
– Не переживай, поживёшь так пока. Да и столоваться будете у меня. А то такая скука – одной за обед-то садиться.
– Даже не знаю, как благодарить. Вы не подумайте, я не бездельница, медицинские курсы окончила. Поступлю в госпиталь.
– А и не надо благодарить. Все мы люди, помогать должны друг другу.
В гостиную вбежал мальчик – глаза горят:
– Даша! Там настоящий кинжал на стене.
– Да, настоящий, персидский пешкабз, – подтвердил я, – трофей; его мой отец из Закаспийского похода привёз.
– А вот маму Дашей ты зря называешь, мальчик, – назидательно сказала тётка.
– Так он племянник, – пояснила гостья, – его мать приходилась мне родной сестрой. От чахотки год назад. Эх.
Дарья вновь достала платок.
– Простите, я не плакса, что-то сегодня напало на меня. Устала.
Тётя Шура пересела поближе, гладила по спине и плечам, шептала:
– Всё, милая, всё. Сейчас ванну горячую соорудим, потом в кроватку. А за вещами вашими Николай съездит.
Тикали настенные часы, краснели солнечные квадраты на паркете, а мальчик Коля листал толстенную «Encyclopédie militaire», едва удерживая её на коленях.
* * *
Когда-то война была уделом избранных: сын шевалье детство проводил в занятиях с мечом, а сын кочевника с трёх лет осваивал искусство верховой езды, вцепившись ручонками в шерсть барана.
На полном скаку рыцари влетели в облако порохового дыма – и исчезли; но не исчезло рыцарство как таковое; на поле боя находилось место благородству и милосердию к побеждённым; шитые золотом мундиры сияли, делая войну похожей на бал, на игру взрослых мужчин, на ристалище, в котором состязались в храбрости и воинском умении.
Но время шло; и вот уже треск митральез, визг шрапнели и сумасшедшая скорострельность магазинных винтовок уравняли смельчака и труса, умелого вояку и сопливого новобранца. Последние бравые фрунтовики, блестящие выпускники элитных училищ, украшение плац-парадов и столичных проспектов погибли в первые месяцы Мировой войны; исчезла кадровая армия, на смену гвардейским офицерам пришли «прапорщики военного времени», для которых ремесло выживания затмило высокое искусство битвы.
«Позиционный тупик» вырезал пулемётными очередями лучшие силы европейских наций; на колючей проволоке повисли сизые внутренности наследников гордых династий; слава их сгнила в воронках – травленная газами, просечённая стальной лавиной осколков, вбитая в дно загаженных траншей воем первых авиационных бомб…
Цеппелины по ночам громили Лондон, не деля обречённых на солдат и гражданских, и пожилые британские леди с пледами в шотландскую клетку на плечах и томиком Диккенса под мышкой на ощупь спускались в подвалы – если успевали до этих подвалов добраться.
Германские субмарины топили всех подряд, включая пассажирские и госпитальные пароходы; военнопленные в концлагерях хлебали похлёбку из полусгнившей брюквы; ампутированные конечности громоздились у медицинских палаток жуткими штабелями.
Рокотали моторы бронеавтомобилей и аэропланов; ревели чудовищные «чемоданы» австрийских мортир немыслимого калибра; тихо шипел хлор, вытекающий из расставленных вдоль фронта баллонов.
Нации пытались как-то преодолеть ставшую несокрушимой оборонительную линию – и унавоживали предполье миллионами молодых жизней.
Война стала другой. Сделалась бойней.
Но самое страшное заключалось в том, что бойня эта была организована благодаря прогрессу. Благодаря столь любимой мной науке, которую теперь впору было не превозносить, а проклинать.
* * *
Гениальный Фриц Габер, мой преподаватель в Берлинском университете, сделал всё, чтобы снабдить германскую армию эффективными боевыми газами; теперь была очередь за нами, русскими химиками.
Я три месяца мотался в поездах: новый завод в Иваново-Вознесенске, лаборатории в Казани и Перми; участвовал в испытаниях адсорбирующей газовой маски, прилично надышался аммиака и получил ожог роговицы.
Пошёл продукт: жидкий хлор, фосген, хлорпикрин, цианиды…
Первые снаряды, начинённые русским боевым газом, мы испытывали на полигоне под Москвой. На отмеренном расстоянии от точки взрыва вбили колья, привязали к ним овец, собак и лошадей. Спрятались в блиндаже; я смотрел в бинокль – тот самый, подаренный немыслимо давно братом Андреем – на печальных животных, обречённых на заклание.
Чёрная, с жёлтым брюхом, сука словно чувствовала: рвалась, дёргала верёвку, затягивая на шее, и скулила беспрерывно; этот плач носился над заснеженным полем, рвал уши и нервы, был невыносим. Полковник буркнул:
– Сколько можно? Давайте уже, невозможно терпеть.
Унтер кивнул, завизжал рукояткой взрывной машинки. Надавил на рычаг; глухо бухнуло, над полигоном расплылось зеленоватое облако.
Полковник смотрел на хронометр; потом махнул:
– Пора.
Облачились в маски и прорезиненные накидки; дышать было трудно, хрип гудел в гофрированной трубке, словно в хоботе простуженного слона; стёкла сразу запотели на морозе. Мне и без того пришлось тяжко: очки не помещались под маской, так что шёл я почти наугад, поминутно спотыкаясь.
Прикомандированные ветеринары фиксировали поражения и смерти; животные погибли не все, многие бились в конвульсиях, стонали совсем по-человечески.
Я присел возле тела собаки: она вдруг очнулась и стала тыкаться в мою руку, размазывая вытекшую из пасти пену по перчатке. Я содрал мокрую резину, принялся гладить и утешать:
– Потерпи, моя хорошая. Потерпи.
Подошедший ветеринар глухо пробурчал в маску:
– Николай Иванович, вы чего это? Обречена. Мучается только.
Я встал. Выковырял из-под балахона наган. Навёл ствол.
Она смотрела на меня, будто ждала. Будто просила.
Я не выдержал взгляда. Зажмурился и выстрелил.
Позёмка мела; люди в нелепых балахонах, похожие на чумных докторов Средневековья, бродили среди страдающих зверей. И стреляли, стреляли…
* * *
Рождество 1915 г., Петроград
Тарарыкин закончил читать. Сложил исписанные листы обратно в толстую папку, аккуратно завязал тесёмки. Снял очки, потёр красную переносицу. Всунул лапищи в седые волосы, торчащие разлохмаченным кустом.
– Любопытно. Очень любопытно. Безумная идея и в то же время… Впрочем, всё гениальное поначалу кажется безумным.
– Олег Михайлович, что же тут гениального? Опытам хирургов по анестезии несколько десятилетий, и…
– А вы не перебивайте, Николай. Замысел выдаёт – ну хорошо, не гениальность, но талант – несомненно. И говорит о вашем человеколюбии, сравнимом, пожалуй, с таковым у великих гуманистов века восемнадцатого. Забытом теперь, а жаль. Чаю?
– Не откажусь.
Я вытянул ноги и откинулся на спинку кресла. Утром прибыл из Москвы, восемь часов в Комитете, сейчас у Тарарыкина – день получился очень длинным. Хотелось уже домой, отоспаться.
Олег Михайлович поставил на стол поднос: чашки, сахарница и молочник, заварной чайник – всё было разнокалиберным, остатки совершенно разных сервизов. И два стеклянных сосуда – мензурка на четверть литра и роскошный хрустальный бокал, презрительно бросавший блики на захламлённый, заваленный рукописями, книгами, геологическими образцами и деталями неизвестных механизмов стол. Этот бокал сиял неуместно, словно принц Уэльский среди бродяг под Лондонским мостом.
Тарарыкин пробормотал:
– Где-то ведь был…
И принялся копаться в шкафу, перекладывая обломки доисторических костей и чашки Петри с разноцветным осадком неизвестного происхождения.
Достал наконец бутылку. Вытер рукавом халата пыль. Налил, бокал придвинул мне.
– Настоящий, французский. Довоенный.
– Вы же не пьёте.
– По восемьдесят миллилитров можно. За ваш успех. Как там у Беранже?
Господа! Если к правде святой Мир дороги найти не умеет — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой!– Может, так и назвать ваш прожект? «Золотой сон»?
– Слишком претенциозно. И вообще пить за сырую идею – моветон. И плохая примета.
– Хорошо, тогда выпьем за Рождество. Я, скорее, агностик, но праздник и вправду чудесный. Прозит!
Точно! Сегодня ведь Рождество. Я глотнул великолепного коньяку; кровь сразу заспешила, забурлила горячей струёй. Предложил:
– А если назвать «Кот Баюн»? Или «Гребень Финиста»?
Тарарыкин улыбнулся:
– Весьма неплохо. Патриотично, так сказать: корни, почва, брюква и лапти.
Я расхохотался. Допил коньяк, подставил бокал для новой порции и спросил:
– За что вы так не любите славянофилов?
– Я их обожаю, как и всех милых, но не отягощённых интеллектом зверьков, подобных котятам. Если уж брать сказки, то мне больше нравится такое название темы, как «Веретено». Как в «Спящей красавице» Шарля нашего Перро, реверанс союзникам.
– А вы ведь ярый западник, любезный Олег Михайлович.
– Отнюдь. Просто Россия – это часть Европы, хотим мы этого или нет. Думаю, будет разумным представить начальству несколько вариантов названия на выбор.
– Не рано ли? Очень сырой материал. Всё на бегу, в гостиничных номерах, в поездах, наспех. Стройки, проекты, оборудование – голова кругом. Подрядчики, масленые рожи, так и норовят приписать или подсунуть негодные материалы.
– И тем более вы – молодец, что не забываете науку в этой круговерти. Когда вы ухитряетесь? Вы спите вообще?
– Урывками. И на совещаниях, ха-ха.
Тарарыкин усмехнулся.
– Наслышан, как вы в Перми чуть купца первой гильдии не пристрелили во время совещания. Кстати, ваш доклад про блиндированные машины для преодоления насыщенной обороны дошёл до Ставки. Скажу по секрету: доложен на самый, – Тарарыкин ткнул пальцем в потолок, – самый-самый, просто невообразимый верх. И был высочайше одобрен к рассмотрению.
– Славно. Ну что же, спасибо вам, Олег Михайлович, за поддержку и гостеприимство, мне пора. И да, я настаиваю: вы должны быть соавтором. Привести «Веретено» в порядок, проверить формулы и расчёты, получить рецензии медиков и физиологов мне одному не под силу.
– Добро, как говорят на флоте. Заметьте: вы всё-таки согласились на «Веретено»! Это хитроумная взятка?
– Скорее, дань уважения. Хотя, как говорят любезные моему сердцу и нагану подрядчики: «Не подмажешь – не поедешь».
* * *
На улице мело; я топтался в прихожей, разматывая башлык. Когда повернулся – тётя Шура вдруг прижалась к шинели в мельчайших капельках тающих снежинок, замерла. Прошептала:
– Так соскучилась по тебе, мальчик мой.
Я с удивлением подумал: какая она стала маленькая, мне едва по грудь. Смотрел сверху на розовую кожу, просвечивающую сквозь поредевшую седину; тётка теперь была похожа на воробьёныша, крохотного птенца – уязвимого, дрожащего. Хотелось спрятать в ладоши, отогреть дыханием…
– Метёт знатно, а в Казани вообще сугробы в человеческий рост. Там, в чемодане, гостинцы, – бормотал я всё подряд, чтобы маскировать смущение от внезапного прилива нежности.
– Коля! Мой тёзка приехал! – кричал белоголовый, тыкался в бок, теребил темляк шашки, пытался обнять.
Дарья стояла, опершись на косяк, кутаясь в лёгкую паутинку-шаль. Глаза её лучились. Склонился поцеловать узкую руку, распрямился – взгляды встретились, и замерло дыхание – одновременно у нас обоих.
В доме пахло чем-то невообразимо радостным, но забытым. Я не сразу понял: ёлочная хвоя и ваниль.
Аромат детства.
* * *
Толком и не помнил, чем набил чемодан: в Казани до поезда у меня было только полчаса, хватал всё подряд. На столе оплывал в хрустальной вазе янтарный, невообразимо вкусный чак-чак; тётка сразу накинула пухлый оренбургский платок; Дарья, смеясь, примеряла тюбетейку, украшенную жемчугом. Я помог Коле-маленькому собрать железную дорогу и завёл ключом тугую пружину паровоза.
Морозы стояли знатные: растопил голландку в гостиной. Трещали дрова, к запаху Рождества добавился горьковатый дымок.
Я смотрел на повизгивающего от восхищения Колю, на стремительно катящийся паровозик и думал, что колёсные бронеавтомобили бесперспективны для преодоления вражеской обороны. Многочисленные воронки, ряды колючей проволоки, широкие траншеи – все эти препятствия требовали иного подхода, иного принципа. Автомобилю нужна дорога: а где её взять на поле боя? Разве только возить с собой…
Да! Возить с собой и подстилать под колёса. Гибкие рельсы, на шарнирах. Я схватил рождественскую открытку, карандаш и принялся чертить на оборотной стороне. Нарисовал кружки-колёса, обвёл их замкнутой линией. Гусеница, как на тракторе Холта из североамериканских штатов! Вот что нужно современной боевой машине. Что-то я такое читал про испытания на русско-балтийском заводе в Риге…
– А вы ведь думаете совсем о другом, не о празднике, – сказала Дарья.
Она гладила тонкими пальцами узкий бокал с шампанским – и это движение показалось мне вдруг волнующим, даже неприличным. Уши мои начали накаляться; я кашлянул, отложил открытку с наброском. В конце концов, это невежливо: дама скучает, пока я рисую всякую дребедень. И принялся болтать о ерунде, принятой в салонах; но Дарья не заинтересовалась последними новостями об увлечении спиритизмом, зато проявила удивительную глубину знаний современной поэзии. Мы жарко спорили о Бурлюке и Маяковском; тётушка тем временем пожелала спокойной ночи и, зевая, ушла.
Коле наскучила дорога; мальчик устроил в чашке мыльный раствор и выдувал пузыри: они дрожали радужными боками и словно просились к стеклянным братьям, на ёлку.
Один опустился на стол и лежал на нём, пока его товарищи медленно падали на пол, будто лишившиеся сил боевые аэростаты, и лопались, оставляя мокрые пятнышки на паркете.
Лежал на столе. Так и в природе мыльный пузырь не опустится на землю, если встретит плотное препятствие – более плотное, чем атмосферный воздух. То есть, например, если противник применит хлор, стелющийся по земле, газ можно обнаружить с помощью генератора крупных, в аршин диаметром, мыльных пузырей: они будут издалека видны наблюдателям и заранее покажут присутствие отравляющего вещества.
Чёрт, а ведь это идея! Я вновь схватил открытку – но на ней уже не оставалось места.
– Возьмите, – сказала Дарья и положила передо мной чистый альбомный лист, – возьмите, я же вижу: вы не здесь, вас переполняют идеи.
Я схватил бумагу и начал набрасывать принципиальную схему: компрессор для производства сжатого воздуха, резервуар с мыльной суспензией. Нужно подобрать состав, чтобы пузыри надувались большими и обладали прочными стенками, долго не лопались…
Очнулся я, наверное, через час: Коленьки не было, а Дарья сидела напротив и смотрела на меня, положив подбородок на ладонь. В её фигуре было что-то такое. Уютное и нежное.
– Ради бога, извините меня. Я веду себя совершенно дико.
– Ну что вы, продолжайте. Мне очень нравится смотреть, как вы думаете, Николай. Увлекательное зрелище, будто присутствуешь при рождении тайны.
– Всё, хватит на сегодня.
Я достал из буфета новые бокалы, открыл бутылку кагора. Погасил электрический свет; теперь гостиную освещали только крохотные плевочки свечек и сполохи, проникающие сквозь круглые щели печной дверцы.
Вино играло в стекле красными отсветами: словно в крови начинался пожар – пока ещё несмелый, юный и застенчивый.
Не помню, как она оказалась в моих объятиях. А вот вкус вина на губах – помню. До сих пор.
И её слова:
– Если сможешь – не спеши. Мне немного страшно. Ты – первый мой.
В окне вдруг мелькнул размытый силуэт: золотые волосы, серые глаза.
А может, просто луна сверкнула сквозь ветви тополя.
Глава шестнадцатая Боевые лохани
Январь 1916 г., Петроград
– Скажу прямо: я был поражён. Нет, не оригинальностью идеи, а вот этим вашим… Не знаю, как и сказать. Толстовством, вот! Которое абсолютно не к лицу боевому офицеру. Тем более фронтовику, самому испытавшему весь ужас германской бесчеловечности.
Уши мои пылали. Генерал Ипатьев, заложив руки за спину, по своей привычке ходил по кабинету; я сопровождал его маятниковое движение от подоконника к карте фронтов на стене и обратно, как зрители лаун-тенниса сопровождают движение мяча от одного игрока к другому.
– Идёт война, которой не было в истории. Война на выживание нашей цивилизации, нашей страны. И в ней нет места слюнтяйству!
– Позвольте, ваше превосходительство, – решился я наконец, – но кто-то должен сделать первый шаг к милосердию. Если нам нужны вражеские позиции, а не мучения людей, то проект «Веретено»…
– Никакого «Веретена», зачем? Проект «Кот Баюн» не будет осуществлён, пока я возглавляю русскую боевую химию! Нам не до экспериментов, подпоручик. Пятнадцатый год проигран Россией вчистую, ещё полгода таких неудач – и страна рухнет! Нам немедленно нужно делать то, что доступно: газовые снаряды для трёхдюймовок. А не заниматься пустыми мечтаниями!
– Виноват. Если вы, Владимир Николаевич, называете мои идеи пустыми и вредными, то я считаю обязательным немедленно подать рапорт об отправке меня на фронт. В любом качестве.
Ипатьев остановился. Посмотрел на меня, огладил аккуратный клинышек бородки, усмехнулся:
– Ишь ты, кипит, что твой самовар. И уши, словно медные, сверкают. Николай Иванович, я ценю вас более других сотрудников комитета. И даже, пожалуй, люблю. Журю вас по-отечески: вы распыляетесь, друг мой. Понятно, что вам многое дано; но так многое и спросится. Кроме того, я зол. Но не на вас, а на вышестоящее начальство: нам придётся расстаться.
– И рапорт не понадобится? – не понял я.
– Нет. Вас отзывают в распоряжение Особого комитета при Генеральном штабе. Ваш доклад относительно прорыва обороны с применением блиндированных экипажей воспринят очень серьёзно. И мне жаль расставаться с вами, разлюбезный Николай Иванович. Уж простите, что ворчал на вас; но исключительно ради вашей же пользы.
Он протянул руку; я вскочил, чтобы пожать.
– Докажите там, что русские химики – люди во всех смыслах уникальные. Ведь так и есть, не правда ли? А когда закончите миссию – возвращайтесь. Помните: я всегда найду для вас должность в своём ведомстве. Удачи!
* * *
Первый меч вызвал к жизни первый щит; на войне всегда так: средства нападения состязаются со средствами защиты. Каменные замки исчезли с развитием артиллерии, но на смену им пришли лучше приспособленные к орудийной пальбе земляные укрепления. Полвека назад корабельная броня одолела на время мощь пушек – и моряки срочно принялись оснащать боевые корабли таранами, будто вернулись времена древнегреческих триер.
Нынешняя неуязвимость зарывшихся в землю, защищённых бетоном позиций, насыщенных пулемётами, прикрытых бесчисленными рядами колючей проволоки, превратила войну в бессмысленное истребление; оборона победила наступление. Всемерное развитие артиллерии, боевые газы – это всё полумеры; всегда найдётся неразрушенное пулемётное гнездо, которое остановит атаку пехоты.
Нужно подвижное средство, защищённое бронёй от пуль и способное преодолевать бездорожье поля боя, прорывая при этом инженерные заграждения и уничтожая огневые точки врага.
Я подробно изучил материалы по «Вездеходу» – машине, изготовленной на русско-балтийском заводе. Поехал в Ригу, познакомился с изобретателем. Пороховщиков был изнурён борьбой с военным ведомством: с него требовали отчёта в потраченных десятках тысяч рублей; он поносил ретроградов и превозносил своё изобретение, но мне достаточно было взглянуть на машину, и всё стало ясно.
«Вездеход» никуда не годился: его единственная, расположенная под корпусом, широкая прорезиненная гусеница была не способна рвать «колючку», а малая длина машины не позволяла преодолевать окопы. Всё остальное уже не имело значения: я вполуха слушал рассказы об улучшении управляемости и новых проточках на барабанах, снижавших вероятность соскакивания гусеницы; о достигнутой скорости в сорок вёрст за час. Совершенно фантастическая идея пирамиды из трёх пулемётных башен, расположенных одна над другой, рассмешила меня: пулемётчикам пришлось бы драться между собой за возможность стрелять.
Словом, это была пустышка.
Ничего не дало и подробное изучение проекта «Бронеход» кораблестроителя Василия Дмитриевича Менделеева. Здесь я испытал нечто вроде неловкости: ведь автор был не кем иным, как сыном обожаемого мной великого химика. Но увы: аппарат весом в сто семьдесят тонн не способен был служить даже «подвижным фортом», не говоря уже об использовании его для активного наступления: он бы просто провалился в любой грунт, кроме забетонированной на аршин в глубину площадки.
Ходили смутные слухи о некоем «Мастодонте» капитана Лебеденко – секретной гигантской повозке с колёсами в трёхэтажный дом. Якобы эта машина была построена в лесах под Дмитровом, но застряла при первом же испытании, едва проехав десяток саженей, и её дальнейшая судьба неизвестна, хотя проект поддержал сам государь.
Архив Управления был завален проектами и чертежами, выполненными на кульмане и на листочках в клеточку; написанных технически безупречно или, наоборот, безграмотно, с жуткими орфографическими ошибками. Я с азартом бросился в это море – и зря, чуть не утонул. Вскоре моя несчастная голова раскалывалась от бесконечного числа «Улучшенных черепах» размером с цирк-шапито, вооружённых не хуже доброго крейсера; от «портсигаров» – небольших бронекоробок размером с чемодан на колёсах: в них, по замыслу автора, должны были вползать бойцы и двигаться к вражеским окопам, отталкиваясь ногами. Абсолютно мертворождённые идеи.
Полгода усилий впустую. Я оказался в том же «позиционном тупике», что и вся воюющая Европа. Решения не находилось; было от чего удариться в разочарование и хандру.
Только чудо заставляло меня продолжать трудиться и думать; отбрасывая один вариант, тут же приниматься за другой.
У этого чуда были зелёные глаза и чёрные волосы. А звали его Дашенька.
Наши встречи урывками, её нежные письма – всё это было прекрасно. Лишь одно омрачало наш роман: я несколько раз в самый неподходящий момент называл её другим именем.
Да! Я называл мою любимую Ольгой. Словно какая-то отрава поразила меня глубоко и надолго.
Быть может, навсегда.
* * *
Сентябрь 1916 г., Западный фронт, деревня Флер, Франция
Не было покоя: беспрерывно дрожала от канонады земля; небо кипело жаркими схватками «ньюпоров» и «альбатросов»; по раскисшим дорогам брела пехота, едва выдирая из луж ботинки с налипшими фунтами грязи.
Сгоревшие дотла леса с торчащими чёрными костяками бывших деревьев; зловоние из заваленных неубранными трупами воронок; разбитые повозки и опрокинутые автомобили в придорожных канавах; печальные колонны пленных – расхристанных, закопчённых, с белыми от ужаса глазами.
Третий месяц идёт наступление союзников на Сомме, едва удаётся выгрызать у немцев по сотне метров в день – и это не глядя на беспрерывный обстрел тысячами орудий, на ярость атак и дикую резню в окопах, когда в дело идут первобытные, самодельные кастеты, кинжалы, утыканные гвоздями дубинки. За взятой с таким трудом траншеей оказывается другая, третья – и так бесконечно; кажется, что весь Европейский континент исчерчен, как ладонь крестьянина, линиями – только не судьбы и жизни, а окопами. Линиями смерти.
Валлийский фузилёр долго мял документ, шмыгал простуженно и косился на гостей.
– Что не так?
– Это. Я по-французски не читаю.
– Чего тогда строишь умный вид, будто тебя только что сделали президентом Академии наук?
– Но-но! А вот хамить не надо. Особая зона, могу и выстрелить. А вы мне не начальники.
Французский майор принялся ругаться с неподражаемым марсельским акцентом; я понял, что пора вмешаться.
– Позовите офицера, рядовой. Будьте так добры.
Валлиец опять шмыгнул так, что чуть веснушки с носа не спрыгнули, и принялся накручивать ручку телефонного аппарата.
* * *
Майор попрощался и уехал; британский полковник изобразил улыбку, выдвинув нижнюю челюсть, словно ящик комода.
– Добро пожаловать на борт. К русским у нас гораздо лучше отношение, чем к лягушатникам; надоели они за два года войны хуже, чем навоз скотнику.
По-русски, видимо, это звучало как «хуже горькой редьки».
– Слышали: ваш генерал Брусилов творит чудеса в Галиции. Успешное наступление, трофеи и пленные. Теперь наше дело – поддержать порыв России здесь, во Франции.
Слышал ли я? В успехе Юго-Западного фронта есть частичка и моего труда: впервые успешно применён нашей армией боевой газ. Но я молчу об этом, горжусь про себя.
– У вас на погонах три звёздочки. Могу называть вас капитаном?
– Скорее, лейтенантом. В нашей армии моё звание звучит как «инженер-поручик».
– Как?! Про «инжинир» я понял, но «порришик»? Мне в жизнь это не выговорить.
Поручика мне присвоили перед командировкой якобы для солидности. Понадобились двухмесячная переписка и долгие хлопоты наших атташе в Англии и Франции, потом – в штабе самого Дугласа Хейга, командующего Британскими Экспедиционными силами. Но это всё позади, и теперь я здесь – чтобы стать участником первой в истории человечества атаки бронированных машин.
– Пойдёмте, пока совсем не стемнело. Я устрою вас в экипаж…
Дальше он произнёс слово, которое меня удивило.
– Как вы сказали, господин полковник? «Tank»?
– Именно так числятся наши девочки в документах ради секретности. Они вам понравятся, уверяю. В смысле – девочки, а не документы.
Я поразился: «танк» в переводе на русский означает «лохань», «бак», отсюда «танкер» – судно для перевозки жидкости. «Девочки» – конечно, дань морскому происхождению «танков»: занимался ими Комитет сухопутных кораблей британского Адмиралтейства, созданный по инициативе неугомонного Черчилля. А корабль – это «она» по-английски.
Когда я их увидел, то понял, откуда название: тщательно замаскированные ветками, громадные, высокие, они походили на сараи.
Ну или на цистерны с водой.
* * *
– Личное оружие, разумеется, при себе?
Я похлопал по кобуре с наганом.
– Значит, будешь девятым членом экипажа. Пойдём покажу место.
Второй лейтенант (по-нашему – подпоручик), командир сухопутного броненосца, провёл меня на корму, к откидному сиденью.
– Смотри, вот твои амбразуры. Если фрицы подберутся сзади – пали по ним из револьвера. Осторожнее: радиатор. Не обожгись. Всё ясно?
– Спасибо.
– Всегда пожалуйста, – усмехнулся британец, – и это. Главное – не паникуй, понятно? Что бы ни случилось. Танк – он для настоящих храбрецов. А то не посмотрю, что союзник и офицер – враз схлопочешь по башке.
Мне даже стало любопытно: что же у них такое страшное здесь творится?
Я понял это, когда с рассветом началась и отгрохотала короткая артиллерийская подготовка. Командир прокричал:
– Заводи! Давайте, парни, покажем фрицам хэллоуин!
Завизжало магнето, и мощный стосильный двигатель взорвался, заревел. Располагался он прямо по центру машины, не прикрытый кожухом – и нещадно грохотал, вонял газойлем и брызгал кипящим маслом. Выхлопные газы выводились в трубу на крыше, но соединения разболтались от дикой вибрации – и синий удушливый дымок заполнил всё внутреннее пространство.
Заскрипела коробка передач, провоцируя зубную боль; клацнули шестерни, попав в зацепление; наша цистерна вздрогнула всем железным телом, задрожала и прыгнула вперёд на пару футов; меня отбросило и ударило затылком о стальной лист – в глазах заскакали огненные шарики.
Лишённая амортизаторов коробка лязгала, тряслась, со стоном воспринимая, казалось, каждый камешек, попавший под гусеницы – и вместе с танком тряслись мы, будто в пляске святого Витта.
– Поворот влево! – орал лейтенант.
Половина экипажа бросалась исполнять приказ: механик налегал всем телом на штурвал, похожий на корабельный, его помощники прилипали к бортовым коробкам передач и дёргали рычаги; вздрагивая, наш левиафан неохотно поворачивал, кренясь и всхлипывая. Лейтенант смотрел в лобовую щель и заключал:
– Хватит!
И вся операция выполнялась в обратном порядке – вновь трещали рычаги и ложился на штурвал механик, будто вокруг бушевал океан, и свинцовые волны норовили перевернуть наш кораблик…
Мотор раскалил удушливую атмосферу; температура достигла, наверное, градусов шестидесяти по Реомюру; пот лил водопадом. Представьте себе русскую баню, натопленную до безобразия. Так вот, в русской бане хотя бы не швыряют на каменку машинное масло полными ковшами.
Я всё-таки забыл о предупреждении, при очередном повороте нечаянно схватился за решётку радиатора и едва не заорал; долго размахивал обожжённой ладонью и дул на пальцы. Меня тошнило: началась настоящая морская болезнь.
В детстве я запихивал пойманных жуков в спичечный коробок и тряс им; теперь я понимаю, что испытывали несчастные жуки. Только им в коробок не подсыпали угли из печки.
Под крышей раскачивалась клетка; когда я пригляделся, то увидел в ней голубей. Испуганные птицы перебирали лапками, вскидывали крылья в тщетных попытках удержать равновесие. Галлюцинация была столь явной, что я испугался и больше не смотрел в ту сторону.
Но это были ещё цветочки. Наша машина приблизилась к вражеским окопам на дальность действительного огня: поочерёдно загрохотали шестифунтовые пушки, установленные в бортовых спонсонах; звякали, катаясь по полу, снарядные гильзы, а на них водопадом сыпались гильзы от колотящихся в припадке ярости пулемётов. К синеватому туману выхлопа прибавился жёлтый пороховой дым – и коктейль стал совсем невыносим: меня вырвало прямо на выданную британцами кожанку.
Кажется, я на миг потерял сознание. В ушах появился новый звук – будто сердце стучало в уши, захлёбываясь; я не сразу понял, что это – дробь пуль, бьющих в нашу броню. Мне стало неуютно: а вдруг броневая скорлупа не выдержит, треснет, пропустит смертельный ливень?
Пули разбивались о сталь и брызгали в щели расплавленными каплями свинца: я понял это, когда вскрикнул от ожога – в щёку будто вонзилась раскалённая игла. Наводчик правой пушки заорал следом за мной, перекричав неумолчный рёв двигателя и нескончаемый степ, что выбивали пули по броне.
Брызги попали ему в глаза; танкист извивался в узком проходе между мотором и орудийным спонсоном, непрерывно вопя. Заряжающий глянул на меня и зло крикнул:
– Чего расселся? Иди сюда, будешь заряжать.
И уставился в смотровую щель прицела, ни на миг не сомневаясь – а ведь его могла постигнуть страшная участь ослепшего товарища.
Я протиснулся, боясь наступить на затихшего раненого; быстро разобрался и приспособился забрасывать жёлтые тела снарядов в голодный зев зарядной каморы.
Выстрел! Казённик коротко отпрыгивает назад, но возвращается, влекомый накатником; затвор клацает, извергая стреляную гильзу, воняющую сгоревшим порохом; я уже наготове, с вытащенным из боеукладки снарядом – швыряю его в чёрное отверстие, досылаю кулаком – звякнув, захлопывается затвор. Наводчик бьёт по спусковому рычагу – и всё начинается сначала.
Танк вдруг начал задирать нос, будто ему наскучило ползти по земле, и он решил улететь в небо; я едва удержался на ногах. Это длилось вечность, мы всё карабкались в гору, и вдруг – ух! – нос полетел вниз; танк жалобно застонал всей своей железной требухой, грохнувшись с размаху о землю.
Я подлетел вверх и вновь ударился макушкой, на этот раз о крышу, и сильно пожалел, что не напялил на голову английскую каску-«тазик».
Машина остановилась. Наводчик оторвался от прицела и толкнул меня:
– Что закаменел, будто тролль от солнечного света? Хватай пулемёт, вон амбразура. Мы взяли траншею.
Щёлкнул фиксаторами, вынул ручной «гочкис» из гнезда, просунул в щель. Я впервые с начала атаки увидел, что творится снаружи; но времени осматриваться не было: передо мной вражеская траншея, по которой убегали германцы, вопя от страха.
– Дайте фрицам под хвост! – орал лейтенант.
И мы дали.
Минуты не прошло: в поле прицела остались лишь наваленные мешками трупы.
Танк двинулся вновь; впереди нас ждали вторая и третья линия обороны. Снова грохотало орудие; снова я швырял снаряды, кормя голодный чёрный рот. Я будто превратился в автомат, в Голема, в бездумного и бездушного глиняного болвана. Выстрел. Рёв. Вонь. Жара. Крики разбегающихся в ужасе германцев, беспрерывные толчки и раскачивания стальной коробки; и мы внутри – сваренные заживо, полураздавленные, задохнувшиеся жуки…
Потом я лежал на спине и смотрел, как карабкается в зенит раскалённый шар; прошло всего пять часов, ещё не наступил полдень – а казалось, что этот бой длился бесконечно, всю жизнь.
Наводчику забинтовали глаза; он на ощупь свернул пробку фляги и жадно пил. Мимо шли валлийцы-фузилёры и кричали нам:
– Ну вы дали, парни! Теперь фрицы будут бежать до самого Берлина и помечать путь жидким.
Я рассмеялся. Лейтенант вздрогнул:
– Ты чего, русский? Не вздумай свихнуться: полковник мне не простит, я должен вернуть тебя по описи, с кишками и мозгами в наличии.
– Представляешь, меня настолько замутило, что пригрезилась клетка с голубями внутри танка.
– Чёрт! – хлопнул себя по лбу командир. – Джонни, вытащи-ка наших мальчиков-курьеров, пусть тоже подышат.
Птицы сидели, нахохлившись, спрятав клювы в грудных перьях; лейтенант объяснял:
– Они для связи, почтовые. На тот случай, если вздумается послать полковнику поздравление к Рождеству. Только вряд ли они вспомнят дорогу домой после этого всего.
Я вновь откинулся на спину. И вдохнул глубоко, до головокружения.
Этот воздух, пропитанный дымом и смертью, казался мне самым вкусным на свете.
Танк поскрипывал, вздыхал остывающим радиатором, словно натрудившееся животное после тяжёлой работы.
Глава семнадцатая Снова форт
Июль 1917 г., пароходная линия Стокгольм – Або, Ботнический залив
Мотало нещадно: скрипел стальной корпус, кренясь и стеная. Меня почему-то уложили в боеукладку, словно я был снарядом, и пристегнули фиксаторами.
– Лежи, русский, ты наш последний резерв.
У самого лица была расположена смотровая щель: я выглянул и вновь увидел из окна мансарды тихую улочку Ревеля в июне 1908 года. Морской пеной брызгала белая сирень, качали пальмовыми силуэтами листья каштанов, а напротив, у булочной, стоял человек в кепи, замотанный в кашне по брови. Он поднял глаза, вернее, единственный глаз – второй был затянут розовой плёнкой. «Это Химик. Нашёл всё-таки» – понял я, и ужас приморозил меня к подоконнику.
Химик оглянулся по сторонам и начал переходить улочку. Я бросился, чтобы сбежать куда угодно – а лучше всего в Берлин, в тамошний университет; но фиксаторы держали меня в ячейке боеукладки. Чертыхаясь, ногтями подцепил язычок, и выпал на стальной пол. Экипаж почему-то перешёл на французский:
– Feu! – вопили танкисты. – Горим!
Я понял: это не атака на Сомме в шестнадцатом, это неудачное наступление в апреле семнадцатого, «Бойня Нивеля».
Германцы окружили машину, стреляли в щели, лупили прикладами в броню; коробка гудела, будто я оказался внутри церковного колокола, стал его языком – меня било о стенки. Пламя подступало всё ближе; я решился, приоткрыл лючок, швырнул гранату; выждал три секунды, рванул рычаг бронированной двери – и вывалился наружу. Упал и сильно ударился; земля вдруг накренилась, и я покатился…
И я покатился по накренившейся палубе, упав перед этим с койки.
Крохотная каюта, слепая лампочка под потолком. Я на борту шведского каботажного пароходика, и мы идём в Або. Я сам выбрал этот маршрут: мне он показался самым коротким. До Архангельска надо было ждать пароход, потом по железной дороге до Петрограда – долго. А из нейтральной Швеции в нашу Финляндию всего сутки даже на таком корыте, хотя и очень опасно: залив набит минами, как филипповская булочка – изюмом; надеюсь, немецкие эсминцы не позарятся на столь ничтожную добычу, а на всякий случай у меня датский паспорт, и капитан щедро оплачен.
Я выкарабкался на верхнюю палубу; Ботнический залив бушевал, бугрился огромными валами, но шведская скорлупка отважно карабкалась на волну – чтобы ухнуть вниз, как с горки.
Смешно: на борту июль, а сойду на берег – будет конец июня. Россия отстаёт даже в календаре. Меня не было дома год, но возвращаюсь я совсем в другую страну. Республику, а не Империю.
В феврале семнадцатого я испытал что-то вроде ревности: на родине бушевала революция, а я, по щёки в машинном масле, копался в кишках французских и английских танков. Союзники отказывались продавать нам образцы с формулировкой «самим не хватает»; только и оставалось мечтать, что в России удастся самостоятельно наладить производство «колесниц Апокалипсиса», как их прозвали перепуганные германские пехотинцы.
Восток светлел: над моей родиной вставало солнце.
* * *
Июль 1917 г., Петроград
– Наступление провалилось. Абсолютно. Два месяца подготовки, все ресурсы страны – псу под хвост.
Человек в полувоенном френче прикрыл глаза ладонью и замолчал. Он совсем не походил сейчас на «тигра революции» и «друга человечества», как о нём писали русские газеты ещё в марте. Теперь – глава правительства, военный и морской министр. Гигантская власть, кажется, не радовала его.
Я сидел прямой, будто шомпол вогнали в позвоночник: мне было не по себе. Вот уж чего не ожидал, так это вызова к самому Керенскому. Даже не «с корабля на бал», а «с корабля к престолу».
– Что вы об этом думаете, э-э-э… – он украдкой взглянул на раскрытый блокнот, – Николай Иванович, да.
– О чём, господин министр-председатель?
– О причинах поражения.
Странно: в его подчинении сотни генералов, весь Генеральный штаб, а вопрос он задаёт инженер-поручику, да ещё только что прибывшему в Россию.
– Не могу знать.
– Прекратите это, – поморщился Керенский, – не изображайте из себя фельдфебеля-барбоса с двадцатилетней выслугой. Вы – учёный, человек новой эпохи. Именно такие, как вы, приведут российский корабль в бухту свободы и прогресса. Не разочаровывайте меня. Я же не зря пригласил вас на личную беседу; или вы думаете, что в нынешних обстоятельствах главе правительства нечем заняться?
Что же, хочет откровенности – она будет.
– Александр Фёдорович, насколько я могу судить, наступление провалилось из-за неимоверного падения дисциплины. Солдаты просто не захотели умирать; а ведь умирать – это главное предназначение военного.
– Да. Да, так и есть, – задумчиво сказал собеседник.
– Более того, – смелел я, – в этом ваша вина – главная. Солдатские советы, выбирающие себе командиров, – это, извините, бред. Вы всё сделали, чтобы разрушить прежнюю армию, но ничего – чтобы создать новую.
– Это не так! – вскричал Керенский. – Вам не понять. Я надеялся, я верил. Верил в наших людей! Весь расчёт – на сознательность, а не на палку капрала, которой солдат должен бояться больше неприятеля, или как там формулировал германский Фридрих. Революция дала народу свободу – так кто, если не сам народ, защитит революцию с оружием в руках?! А они! Пулемётный полк восстал, матросы в Кронштадте… Неблагодарные!
Мне вдруг стало жалко его, уставшего человека с болезненным лицом. На миг показалось, что он такой и есть – не расчётливый политик, а наивный мечтатель.
– Впрочем, – он вяло махнул рукой, – я уже подписал указ о восстановлении смертной казни на фронте. И сменил главнокомандующего; надеюсь, такой решительный человек, как Корнилов, сможет добиться… Ладно. Давайте о наших делах.
Я вскочил, расстегнул портфель.
– Сидите, – поморщился Керенский, – что вы там достаёте?
– План освоения производства танков в России. Мне удалось достать технологические карты, а чертежи добыла наша разведка. Самый простой и доступный вариант – скопировать французский танк «Рено», внеся некоторые улучшения, придуманные мною: например, сочетание пушки и пулемёта в башне. Для этого есть все возможности, нужны лишь средства и время, не больше года, и первые образцы…
– Времени нет, – перебил Керенский, – тем более года. Я вызвал вас не за этим. А вот зачем.
Он убрал газету: под ней оказалась стопка набитых папок, и верхней – знакомая, зелёная, с надписью моей рукой на обложке.
– Вот что мне нужно. – Министр-председатель хлопнул ладонью по стопке. – «Кот Баюн». Хорошо, что мои помощники раскопали его в архивах. Тупым царским чиновникам было не понять всех перспектив, в том числе моральных, применения принципиально нового оружия. Поэтому я и вытащил вас от союзников. Надеюсь, парижские кокотки переживут эту утрату?
Ага, кокотки. И шансоньетки. Париж я видел в основном из окна госпиталя на Монмартре, где меня чинили после апрельской катастрофы.
Я начал злиться.
– Итак, давайте в двух словах: что есть «Кот Баюн»?
– Не уверен, что смогу в двух словах. Но если совсем коротко: человек представляет собой электрохимическую машину. Сигналы, передаваемые по нервам, родственны телеграфным. И на эти сигналы, на скорость их прохождения и точность передачи можно влиять с помощью химических веществ. Примеры перед глазами: алкоголь, кокаин, гашиш и тому подобное. Конечно, наука пока делает первые шаги в нейрофизиологии; катастрофически не хватает данных, но гипотезы выдвигать это не мешает. Есть разрозненные сведения об экспериментах германских биологов; есть отброшенные академиком Павловым данные – они показались ему излишними, а мне – в самый раз…
– Лаконичнее.
– Хорошо. Только вывод: я считаю возможным создание боевого газа, который не убьёт противника, а лишь временно, на десяток часов, погрузит его в бессознательное состояние. В результате наступающие войска без боя займут вражеские позиции и пленят поражённых таковым газом. Победа будет достигнута без пролития крови. Это перевернёт всё представление о войне.
– Вот! Именно это нам нужно. Я немедленно создам правительственную комиссию под своим председательством. Секретную, разумеется. Любые средства будут в вашем распоряжении.
Керенский схватил карандаш, посмотрел на меня:
– Ну?
– Виноват, – растерялся я, – что «ну»?
– Диктуйте, Ярилов. Что нужно в первую очередь.
Я не ожидал такого натиска. Начал бормотать что-то про специальную лабораторию, оборудование для экспериментов, материалы. И люди ведь нужны!
– Олег Михайлович Тарарыкин, – записывал Керенский, – пяток приват-доцентов хватит? Так, специальное распоряжение московскому и казанскому заводам. Эти ваши «метилпиперидил» я даже записывать не буду – отдельным списком представите реактивы и материалы. Это хоть что?
– Продукты органической химии. Лучший специалист по ней – генерал-лейтенант Ипатьев.
– Значит, будет работать на вас генерал Ипатьев.
У меня кругом шла голова. Не верилось в происходящее.
– Что-то ещё? Может, есть личные просьбы? Деньги, звание, квартира?
– Спасибо, Александр Фёдорович, не до них. У меня один вопрос: кто теперь будет являться моим непосредственным воинским начальником?
– Зачем вам? – хмыкнул Керенский. – Это дело не военных, учитывая его государственную важность, а правительственное. Считайте, что я – ваш начальник.
Я замялся:
– У меня рапорт по личной надобности. Нужно разрешение на женитьбу.
– Чью?
– Мою, разумеется. Младшему офицеру требуется одобрение полкового командира либо другого начальника.
– Пережитки царского прошлого, – хмыкнул Керенский, – пора уже забыть о них, капитан.
– Поручик.
– Капитан. Или вы будете возражать военному министру? Я бы и полковника дал, но мой секретарь сказал, что это будет вам во вред, вызовет ненужные слухи. Может, месяца через три. Давайте свой рапорт.
Керенский читал, улыбаясь:
– Так-так. Горенко Дарья Степановна, уроженка Екатеринослава, из мещан… Вы ретроград, Ярилов! Забудьте про сословия, нет их, всё. Берите, пользуйтесь.
Я забрал бумагу: по диагонали стояло размашистое «Разрешаю».
И подпись: Керенский, министр-председатель Временного правительства России.
* * *
Август 1917 г., Петроград
Я проснулся от её взгляда: она лежала, упёршись локтем в подушку и положив щёку на ладонь.
Форточка была приоткрыта, надувалась пузырём штора; доносились ранние звуки: воробьиное заседание, шуршание метлы дворника-татарина и его ругань. Ещё прохладно перед жарким днём; но Даша была тёплой ото сна, такой манкой и уютной, что я, конечно, обнял её и поцеловал. Долго-долго.
Потом спохватился:
– Надо подниматься, тётка вот-вот проснётся. Будет неловко.
– Чего мне стесняться? Я – твоя невеста, скоро жена.
– Всё равно надо. День у меня трудный: принимать оборудование на станции, потом везти на пристань. Хорошо бы сегодня уже приступить к установке.
Дашенька вздохнула:
– Опять долго не увидимся. Всё-таки можно поселиться у тебя?
– Нет. Нестроение, грязь, пыль, грубая солдатня. И, потом, это просто опасно. Секретная химическая лаборатория – не место для прелестной барышни, даже если она невеста начальника.
Этот день вымотал меня: подвод не прислали, пришлось торговаться с ломовиками, потом на Васильевском обоз остановил какой-то патруль, с подозрением проверявший ящики с английскими надписями, и никакие упоминания решения правительства и важности груза на них не действовали.
Наконец, капитан встретил меня у трапа:
– Николай Иванович, всё в порядке, готовы к отправлению.
«Бунтарь», бывшая «Цесаревна», не избежавшая новейшей моды на переименования, трудолюбиво пыхтел, перемалывая винтом бурую воду; вышли, наконец, в залив, и пароход принял широкой грудью мелкую волну, принялся подрагивать.
Солдаты запасного батальона Измайловского полка курили на корме, прячась от ветра; я встал на носу, вдохнул сырой балтийский воздух – настоящий бальзам для протравленных лёгких. Прочь из раскалённого города; впереди – работа, столь увлекательная, что под ложечкой засосало.
И всё же я вздрогнул, когда из дымки показались мрачные стены форта Брюса.
Никак не мог привыкнуть, что по странной прихоти кривой судьбы именно этот «объект № 9» был избран местом моей тайной лаборатории. А может, судьба вовсе ни при чём, просто форт давно пустует, от города – всего час неспешного плавания, а секретность и изоляция гарантированы.
* * *
– Результаты нестабильны. Вариант «Аз»: испытуемая группа мышей, семнадцать из тридцати. Собаки – четыре из пяти. Низкая двигательная активность, тремор конечностей, время – от двух часов до четырёх. Вариант «Буки»: тупиковый. Реакция, обратная ожидаемой: возбуждение, при этом потеря ориентации в пространстве. И агрессивность: собак еле растащили. Вариант «Добро»…
Я слушал доклад молоденького приват-доцента и морщился. Идём на ощупь, наугад. Меняем состав, концентрацию – и полная каша в результатах.
Тарарыкин тихо сказал:
– Всё это ерунда без натурных испытаний. На фронте не мыши будут в окопах.
– Олег Михайлович, как вы себе это представляете? – взорвался я. – Если только личный состав лаборатории травить, включая нас с вами. Конвой точно не согласится, у измайловцев вообще – проблемы с дисциплиной, а ведь они считаются чуть ли не лучшими. Сами знаете, что творится в частях гарнизона.
– И тем не менее. Нужны человеки, друг мой, самые что ни на есть homo sapiens. Без статистики по реакции людей адекватные выводы не сделать.
– Ладно, я подумаю.
Вышел во внутренний двор. Его расчистка только началась и шла медленно; и вообще, форт оказался захламлённым ужасно, мы отвоёвывали помещения постепенно, вынося какие-то сгнившие деревяшки, ящики, набитые трухой неизвестного происхождения, и прочую дрянь.
Спросил унтер-офицера:
– А где поручик ваш? Не вижу с утра.
– Сняли его за хамство и неуважение. Ить, вздумал кулаком грозить солдату! Решением батальонного комитета. А нового ротного не избрали ещё. Чего морщитесь, господин капитан? Ливорюция, чай, девки пляшут и поют. Не старый прижим.
Я промолчал и собрался уходить. Этот унтер был ещё вменяемым, фронтовик как-никак. Ворчал, но приказы исполнял.
– Погодьте. Вам весточку передали. Товарищи.
– Какие ещё «товарищи»?
– Самые что ни на есть проверенные, девки пляшут и поют.
Он протянул мятый конверт. Я разглядел летящий почерк – и замер.
Прошлое выстрелило картечью в упор – и разорвало в клочья.
* * *
«…ни на минуту, все эти двенадцать лет. Сырой камень Петропавловки, потом каторга. Ты не представляешь, родной, как это было трудно; и знаешь, что удержало меня, не дало соскользнуть в пропасть безумия или покончить с собой? Ты, мой Николенька. Воспоминания о наших сумасшедших ночах, о тебе – таком чистом, таком настоящем. Если бы я верила в их дурацкого бога, я бы молилась и благодарила за то, что бородатый старичок свёл нас, переплёл наши судьбы, как переплетаются артерии, давая жизнь, кровь и смысл.
Впрочем, совсем скоро я расскажу всё сама. Ещё несколько недель – и смогу быть в Петрограде. Обнять и поцеловать тебя нежно, мой мальчик, мой рыцарь. Теперь, конечно, ты уже вошедший в сок мужчина. О, как я ревновала тебя! Вонзала ногти в ладони, до крови прикусывала губы – те самые, которые лобзали тебя. И сейчас ревную, в это самый миг. Я уже совсем не та юная девица; признаешь ли? Полюбишь ли вновь?
Не хочу думать об этом.
Пока же о деле: наш с тобой общий знакомый, который катал тебя на буере, нуждается в помощи. Его необходимо устроить сотрудником в твою лабораторию – это избавит от опасностей, ожидающих в городе. Ты и сам наслышан о событиях начала июля; многие из наших товарищей вынуждены скрываться.
Уверена: ты не позволишь ревности или ещё какой глупости помешать тебе. Ты ведь – мой рыцарь; а рыцарям свойственно благородство. И умение отдавать долги. Не так ли, любимый мой?
Твоя О. К. – трепещущая от ожидания скорой встречи».
Закончил читать. Дрожащими пальцами сложил листок, с трудом упрятал обратно в конверт.
Иногда кажется, что прошлого нет – оно истаяло рассветными звёздами, утонуло в осенних лужах, засохло кровью на бинтах. Но происходит поворот спирали – и прошлое обрушивается на тебя; всплывает призрачным клипером, парусами которого – влажные от любви простыни; и былая страсть, долго выжидавшая в засаде, набрасывается оголодавшим хищником; и совесть грызёт невыносимо.
Двенадцать лет тюрьмы и каторги. Из-за меня. Я трусливо бежал, а она взяла на себя все мои вины; какой я рыцарь? Дезертир, бросивший не полк – любимую; предавший не сослуживцев – себя.
Двенадцать зим. Бедная девочка. Твою нежную кожу иссушили сибирские ветра, твои вишнёвые губы потрескались от морозов; золото твоих волос обесценилось серебряными нитями.
Я поднёс измятый конверт к лицу. Он вонял солдатской махоркой и паровозным чадом; но я уловил тончайший след.
Это был аромат лаванды.
* * *
– Ах, какой сюрприз! Ждала тебя только в субботу. Ты ведь голоден? Прислуга ушла, но я сейчас сама…
– Подожди. Подожди, Дарья.
– Фу-у, ты же знаешь, что не люблю. Скажи: «Да-а-шенька». И проходи скорее, что же ты встал? Милый мой…
Потянулась поцеловать – я отстранился. Достал пакет, следом – тяжёлый узелок. Протянул.
– Какой-то вы сегодня странный, господин инженер-капитан. Что это?
– Деньги, керенки. И золотые червонцы. Здесь много, тебе и мальчику хватит доехать до Екатеринослава и останется на жизнь. После пришлю ещё. Поезжай сегодня же.
Она замерла. Вновь приблизилась – я положил руку на хрупкое плечо, не подпуская. Губы её задрожали, глаза заблестели предвкушением слёз.
– Я не понимаю. Что случилось, Коленька?
– Не смогу объяснить. Нам нельзя быть вместе. Прощай.
Она вдруг упала на колени. Обняла меня, глядя снизу; потекли слёзы:
– Милый, нет. Не-е-ет.
Оттолкнул. С трудом выдрал ноги, пачкая её белое платье сапогами. Повернулся и вывалился из квартиры.
Бежал вниз по лестнице, по гулким ступеням.
Там, за спиной, в прихожей, лежала на полу женщина – и выла утробно, словно волчица, потерявшая щенят.
* * *
Сентябрь 1917 г., форт Брюса
«Бунтарь», пыхтя, старательно пришвартовался; загремели сходни. Первым сошёл мой помощник по хозяйственной части, Михаил Барский. Врубелевский демон за эти годы потускнел, обрезал кудри; лицо его заострилось и стало похожим в профиль на топор.
Мефистофель, а не падший ангел.
– Всё привёз?
– Не извольте беспокоиться, господин начальник, – ухмыльнулся Барин и дурашливо отдал честь, поднеся ладонь к пижонской шляпе, – вы же меня знаете: аппендикс через анус вырву.
Я поморщился: манеры его стали лишь вульгарнее. Тюрьма никого не делает лучше. Зато солдаты нашей охраны относились к Барскому с обожанием, в рот заглядывали.
– Так, братишки, навались. Ящики на первый этаж, а баллоны – в лабораторию.
Михаил встал рядом, достал папиросу, постучал по крышке золочёного портсигара. Тихо сказал:
– В городе бардак и истерика. Ждали Дикую дивизию, да только Керенский обделался, сдал Корнилова с потрохами. Я говорил, что он слизняк.
– Что же так уничижительно о товарище по революции? Керенский тоже эсер.
Барский поморщился:
– Сколько раз говорить: партия давно раскололась. Мы теперь с большевиками вместе. Вот где сила! Дисциплина железная, что у римских легионеров. И вожди настоящие. Лев Троцкий – и вправду лев, когти революции. А Старик, то бишь Ульянов – голова. Будет дело, и скоро.
– Не особо хотелось, если откровенно.
– Ты же сам видишь: Керенский ни на что способен, истеричка. Всё чаще на визг исходит. Говорят, это из-за болезни, всё-таки удаление почки – процедура очень болезненная и с последствиями. Но нам-то что? Чем хуже, тем лучше. Власть валяется в грязи, и победит тот, кто первым не побрезгует нагнуться за ней: так мы готовы. Возвращайся в ряды, Гимназист.
Я набрал воздуха и посчитал про себя до семи. Сказал:
– Сколько раз повторять: я не Гимназист, а инженер-капитан Ярилов. Для тебя, по старой дружбе – Николай Иванович.
– Во, уши пламенеют, что твои жар-птицы! Ну, чего ты, Гимна… Николай Иванович? Нас же не слышит никто. Кстати, Керенский всё-таки подписал. А кривлялся, как монашка в борделе. Пленные мадьяры, целую сотню голов выделили. Так что будут вам натурные испытания, господа кровожадные учёные.
Я помрачнел. Всё-таки отвертеться не удастся.
– Пойду, обрадую Тарарыкина. Он кукситься не будет, настоящий слуга науки, не то что ты, господин инженер-чистоплюй.
– Я вот не понимаю, Барский, если правительство получит новое оружие – тебе какая радость? Большевики против войны до победного конца, если я ничего не путаю.
– Слабая у вас теоретическая подготовка, товарищ, – ухмыльнулся Михаил, – считай, что никакая. Войну империалистическую мы хотим превратить в войну гражданскую, против отечественных мироедов. А Россию взнуздаем, оседлаем – там и мировая революция грянет. И очень этот газ пригодится. Даже наши солдатики в этом больше понимают, господин начальник проекта «Кот Баюн».
– Кстати, Барский, прекращал бы ты свою агитацию. Думаешь, я не знаю, о чём ты там с измайловцами по вечерам в кубрике треплешься?
– Ай-яй-яй! Филёрство, значит, практикуем? Не к лицу офицеру и бывшему дворянину.
– Почему вдруг бывшему?
– Очнись, Ярилов! Отменили вас. Выдавили, как феодальные прыщи на честном зерцале юного коммунистического человечества.
– Правильно Ольга про тебя говорила: фат.
– Тьфу, чуть не забыл. Письмецо вам, господин начальник.
– Где?! Давай скорее, – затрясся я.
– Ой, никак порозовели! Словно гимназист-девственник, честное слово.
– Барский, ты доиграешься.
– И чего? Из папиного револьвера пристрелишь? Да на, бери. На словах просили передать: ещё недели три, и приедет. Потерпи уж пока. Зажми в кулачок, что ли.
Я понял, что ещё миг – и сорвусь, не смогу сдержаться. Разряжу ему в харю весь барабан.
Развернулся и пошагал в лабораторию.
* * *
Октябрь 1917 г., форт Брюса
– Я не понимаю, Николай Иванович, зачем тянуть с натурными испытаниями. Уже месяц откладываем.
Тарарыкин снял очки и принялся протирать абсолютно чистые стёкла – как делал всегда, если нервничал.
– Олег Михайлович, абсолютно сырые данные. Мы ведь даже не определились, какой вариант состава по воздействию ближе к истребованному – «Аз» или «Добро».
– А давайте монетку, орёл – «Аз», решка – «Добро», – вмешался Барский, – потом скажем глубокомысленно «Alea iacta est» и, уподобившись Цезарю, перейдём наконец Рубикон.
– Михаил, не вмешивайтесь в научный процесс, – процедил я, – извольте заниматься хозяйственной частью.
– А в предложении господина Барского есть разумное зерно, – задумчиво сказал Тарарыкин, – нельзя далее уподобляться Буриданову ослу. Надо сделать выбор в конце концов.
– Именно! Не то нас сожрут вместо того сена, – обрадовался поддержке Барин, – мадьяры уже месяц зря паёк едят. Что же я, напрасно из Александры Фёдоровны разрешение выковыривал?
– Барский, прошу вас уважительнее относиться к главе правительства, – сказал я, – и не повторять глупости за уличными мальчишками. Сделаем так: подготовим камеру форта, проведём эксперимент на ограниченном числе подопытных. По результатам окончательно определимся и только тогда проведём массовые испытания в полевых условиях. Барский, завтра «Бунтарём» доставите пятерых пленных из лагеря. Подберите хорошо понимающих по-русски.
– Это зачем? – удивился Михаил.
– Затем, чтобы после опыта провести опрос и создать отчётливую картину, что именно они переживали. Могли бы и сами догадаться, всё же политехник.
– Недоучившийся, господин начальник, – оскалился Барский, – помешали, знаете ли, обстоятельства. Товарищ один подвёл.
– Встать, – тихо сказал я.
– Что?
– Встать, – повысил я голос.
Дождался, пока он поднимется.
– Соблаговолите запомнить, господин помощник по хозяйственной части: если вас пригласили на совещание, это не значит, что можно вести себя, словно в борделе. Вы изволите быть вольнонаёмным сотрудником военной организации, вот и потрудитесь соблюдать дисциплину. Все свободны.
* * *
Камеру я проверил сам: все щели тщательно законопачены, амбразура застеклена, как и окошко в плотно закрываемой двери. Провели электрический свет.
Военнопленные явно боялись; я спокойно объяснил, что их жизни ничего не угрожает, а после окончания опыта они получат отличный ужин и по полбутылки вина.
Мадьяры повеселели – лагерная баланда им наскучила. Расселись на табуретах.
– С богом, – сказал Олег Михайлович и кивнул унтеру. – Давайте, голубчик.
Измайловец пробормотал:
– С почином, значит, девки пляшут и поют.
Натянул газовую маску, вошёл в камеру. Открыл вентиль баллона: газ зашипел и синим дымком принялся стелиться по каменному полу.
Унтер вышел, задраил дверь.
Я стоял у окошка и фиксировал:
– Кашляют. Все пятеро.
– Десять минут, – говорил Тарарыкин.
Глухой стук – подопытные медленно сползали на пол, роняя табуреты.
– Слюнотечение. Неконтролируемые движения.
– Восемнадцать минут.
– Потеря сознания.
Синий туман давно растворился, исчез. Мы выждали час. Надели маски и вошли.
– Пульс пятьдесят пять. У этого – пятьдесят восемь. Вдох пять секунд, выдох шесть, замедленное дыхание, – глухо говорил фельдшер.
– Отлично, – не выдержал Тарарыкин, – спят. И живы все пятеро.
Я чуть не сплюнул в маску: нельзя же так! И тут же выругал себя за суеверие. Взяли пробы воздуха: «Кот Баюн» разложился полностью.
По расчётам, они должны были спать часов восемь-десять. Я подал знак: выходим. Отдраили дверь. Выходя последним, я обернулся:
– Не может быть!
Пожилой мадьяр сел на полу. Прохрипел:
– Ki vagy te? Pokol?
Я содрал маску:
– Что? Говорите по-русски.
Мадьяр молчал. Барский сказал:
– Он, кажется, спросил: «Кто ты? Чёрт?» Испугался газовой маски.
Остальные пленные тоже просыпались, оглядывались по сторонам. Тарарыкин простонал:
– Всего семьдесят восемь минут. Не годится. Хоть головой о стенку бейся.
Пожилой мадьяр поднялся, неуверенно доковылял до стены.
И принялся биться о неё головой.
Каюсь: мы просто растерялись. Спустя мгновение все пятеро лупили лбами о камень. И успели залиться кровью, прежде чем мы навалились, стащили их на пол, пытаясь удержать.
– Унтер, верёвки неси, – кричал я.
Подо мной извивался тщедушный мадьяр; сила в нём вдруг проснулась нечеловеческая – он выгнулся дугой, сбросил меня и пополз к стенке неумолимо, как британский танк. Добрался и занялся любимым делом – саморазбиванием черепа.
Прибежали солдаты на крики; мы катались по полу, боролись, но и втроём не могли удержать одного. Вся камера была забрызгана, кровь стекала по нашей одежде; этот кошмар длился, пока унтер не заорал:
– Да прекратите вы, придурки!
И тут же, как по команде, они прекратили. Лежали, вытянувшись по струнке, глядя залитыми юшкой глазами в потолок, и не шевелились.
Мы вставали, пыхтя. Вытирали чужую кровь. Барский сказал:
– Какой-то сумасшедший дом. Поздравляю, господа: мы создали идеальное средство для массового суицида.
Пожилой мадьяр внимательно посмотрел на Михаила и пробормотал:
– Mit mondott? Сьто сказал?
Унтер выдохнул:
– Живой, слава богу, девки пляшут и поют.
И тогда начался второй акт сумасшествия.
Мадьяры, разбрасывая нас, поднимались и принимались кривляться, дрыгая ногами и руками; я вдруг с ужасом осознал, что они пародируют движения чардаша. Пожилой тонким голосом пищал какие-то рифмованные строчки; остальные подвывали.
Остановить их смог, как и в прошлый раз, только окрик унтера:
– А ну, замерли, сучьи дети! Не плясать, не петь без команды!
Когда мы выбрались, наконец, на воздух, ко мне подбежал начальник караула:
– Господин инженер-капитан, за вами катер. Срочно вызывают в Зимний.
* * *
25 октября 1917 г., Петроград
Катер шибко бежал по глади залива; командир, молоденький мичман с дурацкими шевронами вместо погон (ещё один выверт революции) едва перекрикивал рёв мотора:
– В городе буча! Военно-революционный комитет объявил ультиматум. Кексгольмцы окружили Мариинский. Отрубили электричество и телефон в Зимнем, и телеграф захвачен бунтовщиками, вызваны казаки…
Он осёкся, глядя мне за спину; я обернулся и тоже увидел: от Кронштадта шли кильватерной колонной корабли. Я различил минные заградители, а позади дымил старый броненосец – кажется, «Заря свободы», бывший «Император Александр Второй». Дело предпринимало скверный оборот; мы молчали до самого города.
У Николаевского моста пришвартована «Аврора»: на мосту шла какая-то возня, кого-то били, по набережной стайкой бежали юнкера – вслед им раздалось несколько выстрелов. Кажется, стреляли и по нам: во всяком случае, я явно слышал свист пули, но мичман лишь крикнул боцману прибавить ходу.
Я увидел на набережной какие-то подозрительные кучки вооружённых людей; наклонился к командиру катера и прокричал:
– Давай дальше, к Владимирскому дворцу.
Пришвартовались; мичман ёжился, явно чувствуя себя неуютно. Я вошёл в Зимний со стороны госпиталя: у дверей стояли юнкера Михайловского артиллерийского училища. Они не отдали честь и не спросили пропуск – только безучастно проводили взглядом.
Я долго бродил по коридорам, натыкаясь на закрытые двери и патрули ударниц из женского батальона смерти. Наконец нашёл приёмную. Секретарь посмотрел на меня недоумённо:
– Чем обязаны?
– Инженер-капитан Ярилов, вызван главой правительства.
– А, «Кот Баюн»! Ожидайте, там совещание.
– Давно?
– Вторые сутки, – печально улыбнулся секретарь. Глаза у него были воспалённые.
Я сел на изящный стул орехового дерева и подумал, что будь я большевиком – мог бы с парой бомб и двумя браунингами совершить государственный переворот прямо сейчас: меня ни разу не задержали, не обыскали, не спросили документы. Бардак был настолько вопиющим, что уже не раздражал, а смешил.
Хлопнула дверь: из кабинета вылетел Керенский и шагнул ко мне. Я впервые увидел его плохо выбритым.
– Ну? Что ваш «Кот»? Был ли опыт?
– Был, час назад.
– И? Результаты?
Я замялся – и тут он завизжал:
– Что вы молчите, Ярилов?! Три месяца! Я жду три месяца, а вы тут строите глазки, как барышня на первом свидании. Отвечайте!
– Господин председатель правительства, опыт был. Результат неожиданный.
– Что значит «неожиданный»? Они заснули? Надолго? Каков запас газа?
– Запас – восемь баллонов, но мы быстро доведём до ста. Только подопытные потеряли сознание всего на час с четвертью, зато есть уникальный эффект…
– Что?! Вон! Вон отсюда. Кругом предательство. Надо было перестрелять всех офицеров, всех до одного, ещё в феврале…
Он орал ещё что-то, брызжа слюной, – но я уже шагал прочь, бледный от злости. Уже скрываясь за поворотом, услышал вслед:
– У вас есть револьвер, Ярилов? Застрелитесь!
«Вот уж дудки», – подумал я. Больше мыслей у меня не было: пустота.
Выбрался из Зимнего; юнкера исчезли. Пошёл по набережной: у катера стояла кучка солдат с красными бантами и вразнобой орала на мичмана:
– Почему тут?
– Есть мандат от Смольного?
– Шпионишь, гад, высматриваешь!
Раздался треск: из переулка выбрался броневик. Остановился и принялся принюхиваться пулемётными стволами.
– В чём дело, господа? – поинтересовался я.
– А-а-а! – завизжал низенький солдат. – Золотопогонник! Дайте, братцы, я его штыком пырну.
Я отступил на шаг и положил руку на кобуру. Дело принимало скверный оборот.
– Погоди. – Бородатый с Георгиевским крестом придержал низенького за плечо. Прищурился и спросил:
– Ярилов, Николай Иванович? Вы?
– Да. Мы знакомы?
– По Осовцу, господин капитан.
Он отдал честь (что стало редкостью) и сказал своим спутникам:
– Пошли, братцы. Я его знаю. Геройский, скажу вам, офицер, все бы такими были. Тоже газами травленный.
Мичман дрожал; я успокаивающе похлопал его по спине:
– Давайте обратно, в форт Брюса.
На этот раз Николаевский мост мы минули без приключений; я велел держаться как можно севернее, чтобы избегнуть встречи с большевистскими минзагами. По мере приближения к форту становилось всё тревожнее: вот его чёрный силуэт появился на фоне закатного неба, стал расти; уже различались мрачные пасти амбразур.
Что-то было не так: я не сразу понял, что у форта нет нашего парохода, «Бунтаря». Было непривычно пусто – ни силуэта часового на стене, ни снующих обычно у пакгауза фигурок измайловцев.
– Давай быстрее.
Боцман кивнул и подвинул рукоятку газа; мотор взревел. Вот уже виден причал, два лежащих на нём тела; амбразура, ставшая застеклённым окном моего кабинета, казалась огромной: вокруг неё расплывалось чёрное пятно, и курился дымок.
Руки начали дрожать, сердце бухало в рёбра; оставалось полсотни саженей, когда вдруг ударил пулемёт, поставленный у причала за баррикадой из мешков с песком.
Мичману сбило фуражку, он повалился на меня – и прикрыл, наверное, от смерти. Пока я укладывал его на узкую палубу, пули вырывали щепу из бортов, крушили стекло рубки; мотор всхлипнул и замолк, резко запахло газолином; катер катил по инерции.
Не размышляя, я выхватил наган, расставил ноги и принялся палить по силуэту за пулемётом; но злой язычок пламени дрожал, и пули били в катер, превращая в решето.
Боцман охнул, сломался пополам; я ухватил рукоятку штурвала левой, удерживая на курсе, правой продолжая палить.
Катер врезался в причал, задрав от толчка корму; я полетел вперёд и впечатался в разбитую рубку, порезав щёку стеклом.
Кораблик скользнул скулой и начал отходить от причала – я едва успел прыгнуть, упал на настил. Лежал, уткнувшись носом в черные мокрые доски, на которые стекала кровь из пореза – и это меня спасло: когда рванул газолин – огненная волна пролетела над головой, лишь слегка опалив спину и макушку.
Катер полыхал так, что больно было смотреть; я содрал шинель и погасил затлевшую ткань, топча сапогами. Весело трещал огонь, пожирая обречённое судёнышко; но в этот звук вмешивался другой – равномерные щелчки, будто кто-то печатал на ундервуде одну и ту же букву.
Я склонился над телом: это был наш приват-доцент, весьма толковый молодой человек; затылок его был разбит, костяные обломки торчали из бурого месива. Вторым был капитан «Бунтаря» – его закололи штыками.
Щелканье заевшей клавиши начинало раздражать; я огляделся и нашёл источник надоевшего звука. За пулемётом стоял на коленях унтер-измайловец и нажимал гашетку; лента давно кончилась и свисала из приёмника размотавшейся онучёй, а он всё давил и бормотал:
– Стрелять. Убить всех. Убить.
Глаза его были абсолютно безумными. Я кричал ему в ухо, тряс за плечо. Наконец, оторвал от рукояток и дал затрещину: он лишь мотнул головой и вернулся к «максиму», нажимать на мёртвую гашетку.
Я пошагал к воротам в форт. Ещё издалека увидел: будто куча тряпья и седые волосы, шевелящиеся на ветру. Тарарыкин выпал из окна горевшего кабинета; пульс прощупывался едва, на подбородке засохла кровь изо рта и ноздрей.
Я попытался сделать искусственное дыхание – и услышал жуткий треск сломанных рёбер, ладонь будто провалилась. Он застонал, открыл глаза.
– Николай… Жив, хорошо. Барский собрал солдат, взял баллоны. Видимо, применил – они стали как… как… О-ох.
Он закашлялся: глаза мои залепил кровавый сгусток. Заспешил:
– Эффект «Баюна» в том, что отравленные становятся абсолютно внушаемы. Они на «Бунтаре» отправились свергать. Керенского. Меня заперли в кабинете, дураки – я сжёг все мате… материалы исследований. Пришёл Барский. Злился. Я в окно.
Я склонился ниже – он говорил всё тише, путался.
– Это. Страшно. Надо остановить. Прости, Коля. Прости.
– За что, Олег Михайлович?
– Я скрывал от тебя. Делал копии всех отчётов. Они дома. У меня. Под бутылью с царской водкой, ты же. Помнишь. Где.
Он закашлялся вновь; бился, потом затих. Я долго сидел на мокром причале, держал тяжёлую голову на коленях, гладил по седым волосам, слипшимся от крови в ковыльные метёлки.
Стемнело. Я столкнул лодку в воду, вставил вёсла в уключины. Грёб неловко – ладони сразу принялись гореть. Между лодкой и фортом будто натягивался резиновый жгут: чем дальше я отплывал, тем медленнее он уменьшался, словно не хотел отпускать живым, тянул обратно.
И ещё долго разносились над притихшей водой щелчки гашетки и бормотание:
– Убить всех. Убить.
* * *
26 октября 1917 г. Петроград
Город опустел, притаился в запертых квартирах; лишь солдатня моталась по улицам, орала пьяный бред. Разгромленные витрины магазинов, разбитые винные бочки, вонь сивухи и бестолковые выстрелы – будто перекличка.
Я предусмотрительно выбросил офицерскую фуражку и шинель, сорвал с кителя погоны. Снял с мертвецки пьяного матроса бушлат, засунул в карман наган. Нашёл осколок зеркальной витрины, посмотрелся. Вид у меня был аутентичный: грязные сапоги, разлохмаченные волосы, разодранная щека, треснувшее стекло очков и сумасшедшие глаза. Так что революционные патрули, чуть трезвее товарищей, не обращали на меня внимания.
У парадной торчал пролетарий, опирающийся на винтовку, как селянин – на вилы.
– К Барскому.
– Валяй, – зевнул пролетарий, – третий етаж.
– Знаю.
– Вот и шкандыбай, коли знаешь.
Дверь в квартиру была распахнута, на пороге валялся смертельно бледный, светящийся в полутьме юноша, почти подросток; я склонился, хлопнул его по щеке – он заворчал сердито. Взглянул на свою ладонь: она была перемазана белым порошком. Из квартиры доносились пьяные вопли и надрывался заевший граммофон: игла подпрыгивала и без конца возвращалась на то же место:
…полюбил её паж… …полюбил её паж… …полюбил её паж…Я заглядывал в комнаты – там орали, валялись в лужах собственной рвоты и мочи, праздновали победу. Толкнул дверь спальни: на кровати полулежал, опершись на спинку, Барский – с голой грудью, с папиросой в зубах; ночной столик был уставлен полупустыми бутылками, в которых плавали окурки. У него на плече покоилась голова какой-то лярвы; бесстыжее мраморное бедро лежало поверх смятой простыни.
– О, какие гости! Молодец, Ярилов, что пришёл. Ты – паренёк гнусный, но умный. Понимаешь, с кем надо и куда…
– Зачем ты это сделал? – спросил я, едва сдерживая ярость.
– Что именно? Я за последние дни много чего успел сделать, ха-ха.
– Тарарыкина – зачем? Капитана «Бунтаря»? Мальчишка, приват-доцент, чем тебе помешал?
– Под ногами болтался. Не гунди, Ярилов. Давай выпьем. Праздник какой! Петроград наш. Считай, без боя, сами сдались, слизняки. А там и Россия будет… Эй, просыпайся. Смотри, кто пришёл.
Лярва вздрогнула, подняла стриженую голову. Протянула прокуренно:
– О-о-о, Николенька! Рада. Давай присоединяйся. Ложись рядышком. Может получиться забавно, хи– хи-хи.
Меня пробило насквозь, от паха до затылка. Этот голос…
– Ты?! Откуда? Когда приехала, сегодня?
Барский захохотал:
– Дурак ты, Гимназист. Она тут с июля. Тебе не показывалась, чтобы на крючке водить. Славно ведь вышло, а? «Кот Баюн» наш, хотя и без него всё получилось в лучшем виде.
Я вытащил револьвер, навёл ему в лоб.
– Давай, – равнодушно сказал Барский, – кишка у тебя тонка, Гимназист. Это тебе не на войне. Ты вот попробуй так: молочного брата, товарища юности, беззащитного.
Нажал на спуск: сухо щёлкнуло. Осечка.
Щёлкал, пока барабан не сделал два круга. Барский хохотал, словно умалишённый; Ольга улыбалась, сияя жемчужинами вишнёвого рта.
Улыбалась так знакомо. Так невозможно.
Выронил наган. Я выпустил весь барабан в свихнувшегося пулемётчика и забыл перезарядить.
Развернулся.
В спину колотили захлёбывающийся хохот Барского и её крик:
– Куда же ты, Николенька? Не уходи!
Выходя из квартиры, я пнул невинного кокаиниста и пробормотал:
– К чёрту.
* * *
28 октября 1917 г., станция Дно
Скрипел фонарь, гоняя жёлтый круг по мокрым доскам.
Ветер трепал пришпиленный к столбу листок, изумлённо щупал странные слова: «Декрет о мире. Декрет о земле…»
На пустом по ночному времени перроне дремал дежурный, кутаясь в шинель.
– Сударь, когда ближайший на юг?
Железнодорожник вздрогнул, огляделся. Худощавый в чёрном бушлате сверкнул очками; небрит, на щеке подсыхающая корка, но лицо – умное, светлое. Такие с кистенём не бродят, не грабят бедных служащих.
– Да вот в шесть пятнадцать, на Киев.
– Подсадите? – и протянул жёлтый кругляш червонца.
– Чего же не услужить доброму человеку? – закивал дежурный. – Вам до Киева ехать?
– Дальше. Пересадка в Киеве, думаю.
– В Одессу?
– Нет. В Екатеринослав.
Худощавый поёжился, спрятал длинные кисти в рукава. Подумал, что в шесть часов с четвертью она уже встанет, накинет поверх ночной рубашки домашний шлафрок. Растопит сложенную с вечера печь, поставит медный чайник на плиту и примется будить белоголового мальчика, которому в реальное училище, на занятия.
– Из Москвы? – спросил скучающий дежурный.
– Из Петрограда.
– Понятно. Бежите?
– Бегу.
– Оно ясно. Сейчас многие из России побегут, эпохи-то какие наступают.
Худощавый промолчал.
Подумал: «Из России – можно. А от России – нет».
Восток начал сереть – болезненно, неохотно.
И тут же долетел свисток паровоза – пока ещё несмело, издалека.
Тимур Максютов © Октябрь 2017 – Март 2018 г.





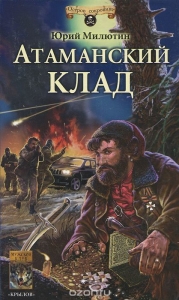
Комментарии к книге «Атака мертвецов», Тимур Ясавеевич Максютов
Всего 0 комментариев