Наталья Александрова Черное Рождество
Памяти генералов А. И. Деникина и Я. А. Слащева, поручиков Сергея Мамонтова и Павла Макарова, сестры милосердия Софьи Федорченко и многих других известных и безымянных участников и свидетелей описываемых событий, без чьих бесценных воспоминаний эта книга не могла бы появиться
Часть первая Севастополь
Поезд, и без того еле тащившийся, испустил тоскливый протяжный гудок и встал. Бородатый казак, дремавший у двери купе, открыл глаза и потянулся за прислоненным к стене карабином.
Бледная девушка в беличьей шубке и каракулевой шапочке прижалась лицом к стеклу, но за окном ничего не было видно, кроме глухой непроглядной ночи. Девушка поправила выбившуюся из-под шапочки пепельную прядь и обернулась:
— Анна Павловна, что это? Кажется, там стреляют!
Анна Павловна, унылая дама средних лет, нервно передернула плечами и сказала низким простуженным голосом:
— Не знаю, ваше высочество. Генерал клялся, что на этой дороге спокойно, но кому сейчас можно верить! О Боже, кажется, я сойду с ума! Степан, посмотри, что там происходит. — Дама повернулась к казаку, но не успел он подняться, она передумала и воскликнула: — Нет-нет, не уходи! Не оставляй нас одних! Если ты уйдешь, я сойду с ума!
Девушка чуть заметно поморщилась и произнесла усталым голосом:
— Анна Павловна, голубушка, если вы так упорно желаете сойти с ума, подождите хотя бы до Ливадии, а там, будьте любезны, сходите. А то, если вы сделаете это в дороге, ко всем нашим неприятностям…
Закончить фразу ей не удалось. Дверь купе откатилась, и на пороге возникла одна из тех страшных личностей, которых в неисчислимом множестве произвела на свет Гражданская война. Небритый человек с рассеченным косым шрамом опухшим лицом, украшенным к тому же сифилитическим провалом на месте носа, облаченный в перепоясанную пулеметной лентой барскую шубу, разодранную и простреленную во многих местах, оглядел купе и гнусаво протянул:
— И-и-их! Буржуйская лавочка! Сразу видать — белая кость, твою так и разэтак! Едут втроем, как графья. А ну, выкладай вещички, икспро… прияцию делать будем!
Бородатый казак, неожиданно взревев, бросился на бандита с кинжалом, но безносый урод чуть повернулся к нему, сквозь шубу страшно шарахнуло огнем, оглушительно грохнуло, и казак с огромной клокочущей дырой в груди рухнул прямо на колени истошно завизжавшей Анны Павловны.
Безносый вытащил из-за пазухи свое чудовищное оружие — обрубок винтовки с отпиленным стволом и прикладом — и осклабился:
— И-и-их! Так и разэтак! Ты что, шкура, думаешь, Махрюту возьмешь за рубль за двадцать? Ша! А ты чего визжишь, кляча? — уставился он на заходившуюся криком Анну Павловну. — Думаешь, Махрюта до твоего крику сильно интересуется? Ша! Сказано тебе — выкладай вещички!
Бандит пыхнул на старую деву дикими горящими глазами, как выползающий из туннеля паровоз, и так страшно клацнул зубами, что Анна Павловна мгновенно замолчала и уставилась на Махрюту, как дрожащий кролик на приподнявшуюся для броска ядовитую змею.
— Ну и чего ж ты так смотришь, кляча белая? — прогнусил Махрюта, стаскивая на пол купе, как мучной куль, мертвого казака и протягивая к своей жертве грязную волосатую лапу. — Или я тебе непонятно сказал? Может, ты только по-хранцузски понимаешь? Сказано же — вещи выкладай! Или я об них должен свои трудовые руки пачкать!
Анна Павловна только тряслась и пыталась что-то сказать, но язык ей не повиновался.
— Ох, и утомила ты меня! — Махрюта снова клацнул зубами и неожиданно ударил несчастную кулаком в висок. Голова Анны Павловны откинулась в сторону и застыла под недопустимым углом к туловищу, как у сломанной куклы.
Девушка у окна тихо ахнула и вжалась в стенку. Бандит повернулся к ней и осклабился:
— Ты, мамзеля, не боись! Я тебя не забижу! Ты Махрюту по-хорошему полюбишь, и Махрюта тебя не тронет…
По коридору протопали быстрые шаги многих ног. В дверь купе заглянула какая-то зверообразная физиономия, бросила неожиданно высоким голосом:
— Махрюта, кончай здесь, казаки валят!
— Чичас, — отмахнулся Махрюта и снова повернулся к девушке: — Видишь, мамзеля, спешить надо, а то не успеем мы с тобой.
— Лучше убей, — твердо произнесла девушка, бледнея больше прежнего.
— Это запросто, — произнес Махрюта, хватаясь за воротник беличьей шубки, — это мы завсегда с нашим удовольствием, только сперва ты меня полюбишь…
С этими словами он рванул шубку. Девушка пыталась защищаться, но силы были явно неравны. Махрюта разорвал воротник скромного темно-зеленого платья… и вдруг увидел спрятанный под платьем на груди своей жертвы мешочек из мягкой синей замши. Мысли бандита мгновенно изменили свое направление.
— И-и-их! Вот оно что! Золотишко от Махрюты припрятать хотела, так твою и разэтак!
Он разорвал шнурок, на котором висел мешочек, и потянул завязки. Изнутри полилось такое сверкание, что бандит, кажется, даже посветлел лицом.
— И-и-их! — произнес он умиротворенно. — Вот ведь так твою…
Закончить он не успел. Неподалеку шарахнуло несколько выстрелов, по коридору прогрохотали сапоги, от двери полыхнуло, и вслед за выстрелом на пороге возник человек в белом полушубке с погонами.
Махрюта немного подумал и рухнул на пол мертвым, отбросив в сторону руку с синим мешочком.
— Прапорщик Макаров! — представился человек в полушубке, разглядев бледную пассажирку. — Вы не пострадали?
— Слава Богу! — Девушка опустилась на сиденье, и ее забила крупная дрожь. — Слава Богу! Он убил Степана и Анну Павловну, а меня он хотел… он хотел… Слава Богу, что вы успели, прапорщик! Кто это был — бандиты? Зеленые?
— Бандиты, — равнодушно ответил прапорщик. Его взгляд был прикован к синему замшевому мешочку. Прапорщик наклонился, поднял мешочек и заглянул в него. — Это ваше? — спросил он, подняв на девушку печальный взгляд маленьких, близко посаженных глаз.
— Да, а что? — В голосе девушки снова прозвучал испуг: взгляд прапорщика ей очень не понравился.
— Да нет, ничего… — Макаров быстро, воровато выглянул в коридор, затем торопливым, стеснительным движением поднял пистолет и выстрелил в бледную пассажирку.
Глава первая
Серое небо, серое море, штурмовыми отрядами свинцовых волн накатывающееся на мол, серый город Новороссийск, цементный завод, огромный порт. Город сер от пропитавшего все вокруг цемента, сер от тысяч солдатских шинелей.
Здесь, в Новороссийске, в марте двадцатого закончилось отступление Добровольческой армии.
Победоносная летом и ранней осенью девятнадцатого года, занявшая Курск, Орел, едва не дошедшая до Москвы, утратившая в бесконечном отступлении по зимним степям, по непролазной кубанской грязи тысячи солдат и офицеров, тысячи лошадей, сотни орудий, утратившая боевой дух и веру в победу, потерявшая надежду армия пришла в страшный город Новороссийск, чтобы погрузиться на корабли и переправиться в Крым, удерживаемый против десятикратно превосходящих сил противника Крымским корпусом генерала Слащева. Остальная Россия была потеряна навсегда.
Когда же армия пришла в Новороссийск, оказалось, что для ее эвакуации ровным счетом ничего не подготовлено. Казалось, что эвакуацией никто не руководит. Огромные склады деникинской армии, заполненные полученным от союзников английским обмундированием и медикаментами, французским провиантом, а также боеприпасами, стояли невывезенные, в то время как армия была раздета, необута, голодна, страдала от отсутствия патронов и снарядов. Теперь, когда стало ясно, что вывезти склады уже не удастся, их подожгли, чтобы не оставлять красным. Огромный столб пламени поднимался к небу, дым сносило норд-остом в море. Мародеры прорывались через охранение, перелезали бетонную стену и вытаскивали из огня что попадалось под руку.
Дюжина пароходов стояла возле пристани, набитая до отказа беженцами, служащими тыловых учреждений и интендантств. Пристани были заполнены тысячами людей, пытавшихся пробиться на пароходы. Чуть дальше в Новороссийской бухте стоял военный флот западных держав — несколько крупных английских судов, одно французское, одно итальянское и даже одно американское. Этот флот мог бы взять на борт всю армию, но он лишь присутствовал как зритель, только под конец суда приняли, чтобы соблюсти приличия и вместе с тем не испачкать палубы, около шестисот человек.
Лазареты были переполнены ранеными и больными, у которых не было совершенно никаких шансов на спасение.
Регулярные войска сохранили еще дисциплину и боеспособность, казаки же растеряли свои части, многие побросали по дороге оружие и были совершенно деморализованы.
Пароходы вполне могли сделать несколько рейсов, выгружая беженцев в Керчи и возвращаясь обратно, но вместо этого они несколько дней неподвижно стояли у пристаней, перегруженные народом, ожидая приказов невесть от кого.
Сохранивший строй и порядок Первый армейский корпус генерала Кутепова[1] разместили фронтом на окружавших город возвышенностях.
Борис Ордынцев смотрел с высоты на серый город, на свинцово-серую бухту, на приткнувшиеся у причалов переполненные беженцами пароходы, на военные корабли «союзников», красующиеся на рейде во всем высокомерии своей чистоты и силы, еще больше подчеркивая азиатское безобразие обреченного города, обреченной армии; смотрел на горящие ангары складов, на полосу сизо-черного дыма, ползущего на бухту, и вспоминал.
Он припомнил лето девятнадцатого года, когда он приехал в Крым в поисках сестры — приехал вчерашним студентом, утратившим, конечно, довоенную розовую наивность на кровавых и огненных дорогах Гражданской войны, но еще сохранившим штатскую интеллигентскую мягкость и нерешительность.[2] Попав в водоворот событий, Борис необычайно изменился. Опасные приключения среди греческих контрабандистов и турецких шпионов, в Крыму и в Батуме, перековали его, сделали человеком действия. И больше всего повлияла на судьбу Бориса встреча с таинственным полковником Горецким, прежним его преподавателем на юридическом факультете Петербургского университета, теперь выполняющим специальные поручения Военного отдела Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР.[3]
После благополучного завершения событий в Батуме и Феодосии Борис вступил в Добровольческую армию в чине поручика, с тем чтобы состоять при полковнике Горецком офицером для особых поручений. Полковник убедил его, что таким образом Борис принесет большую пользу, чем просто сидя в окопах, к тому же больше возможностей было искать сестру, сгинувшую в водовороте Гражданской войны. Горецкий полушутя утверждал, что взять Бориса на службу его подвигла потрясающая везучесть бывшего студента. Не имея, казалось, на первый взгляд никаких особенных талантов, Борис умел выходить живым из любых, самых отчаянных передряг.
Пришлось, однако, скинуть чистенький мундир штабного офицера и пойти в конный рейд против Махно.[4] Этого требовало дело. Борис выдержал и это испытание, хотя побывал в плену у красных и у махновцев. Сестра Варя отыскалась чудом, и полковник Горецкий помог ей уехать в Константинополь, потому что молодой девушке не место было среди солдат и казаков.
Борис снова оглядел серое равнодушное море. Эти волны бегут безостановочно вдаль, как бежали белые от Орла до Новороссийска, они бегут, верно, до самого Константинополя, и, может быть, Варя смотрит сейчас на это же море с берега бухты Золотой Рог… Борис страшно тосковал по ней, но еще оставался Крым — последний кусок России, не отданный большевикам, а значит, не время еще плыть в Константинополь. Долг и честь требуют от каждого честного русского человека до последней возможности защищать Родину…
— Что, Борис, глядишь? — окликнул его старый друг Петр Алымов. — Ничего хорошего не высмотришь.
Борис встревожился, услышав его голос, — такое в нем было отчаяние. Петька Алымов — друг детства, почти брат, с чьей конно-горной артиллерийской батареей он отступал всю зиму по непролазной кубанской грязи, через Дон и дальше. Петька Алымов — второй человек после Вари, для кого Борис не думая пожертвовал бы всем. Он вспомнил, как вытаскивали орудия из топи, как вставали они с Петром ночью, чтобы накормить лошадей, потому что измученные солдаты на ночлеге просто валились на пол и засыпали не раздеваясь.
Батарея пришла в Новороссийск почти в полном составе, орудия были вполне боеспособны, а солдаты относительно здоровы, хоть и отощали и обносились. И вот оказалось, что все их усилия были напрасны. Нечего было и думать вывезти лошадей, не говоря уже об орудиях.
— Все, точка, — мрачно пробормотал Алымов. — Дошли до моря, и никто нас здесь не ждет.
— У меня такое чувство, что эвакуацией никто не руководит, — осторожно начал Борис. — Красные не сегодня-завтра будут в городе, и что с нами будет?
Ответом ему было тяжелое молчание. Борис уныло думал, что, кажется, его хваленому везению пришел конец. Действительно, его ангел-хранитель хорошо потрудился за последние два года. Он не дал Борису умереть от тифа, он помог спастись от расстрела красных, Бориса не убило в бою, его не зарезали бандиты в украинских степях, но здесь, в Новороссийске, слишком самонадеянно было бы сидеть и ждать, когда ангел-хранитель придет на помощь, следовало позаботиться о себе самому.
— Однако надо бы сходить в порт, узнать подробнее, — нерешительно проговорил Борис.
Алымов согласился. Верный Ахилл встретил Бориса голодным ржанием. Борис погладил жеребца по крупу и отвел глаза. Он боялся, что конь прочитает в его глазах о неизбежном расставании.
Вблизи порт производил еще худшее впечатление. Ничего они не выяснили, не нашли никого, кто бы смог им объяснить, откуда возьмется транспорт для эвакуации армии. Обратно ехали молча вдоль высокой бетонной стены, где находились горящие ангары. Какие-то люди перелезали в удобном месте через стену, держа свертки с обмундированием. У Алымова презрительно задергалась щека. Борис хотел было послать Ахилла вперед, чтобы не видеть окружающего безобразия, но тут вдруг буквально на него свалился с забора невысокого роста плотненький такой солдатик. В руках у солдатика было три пары отличных офицерских сапог. Приземлившись неудачно на бок, солдатик охнул, поудобнее перехватил свою ношу и завертел по сторонам круглой головой. Краем глаза уловив знакомое движение, Борис придержал жеребца, а солдатик уже поднимался с места, радостно вопя:
— Ваше благородие, Борис Андреич! Да как же я рад!
В ту же минуту Борис соскочил с лошади, не менее радостно приговаривая:
— Саенко, дорогой! А я-то как рад тебя видеть!
Перед ним стоял бессменный ординарец и денщик полковника Горецкого Саенко, который в прошлом не раз выручал Бориса из беды.
— Ты, Саенко, как здесь? А где же Аркадий Петрович?
— Тут мы, тут, — Саенко понизил голос, — на французском миноносце. «Сюркуф» называется. Вон он в стороне на рейде стоит.
— Что же полковник Горецкий там делает? — Алымов неприятно усмехнулся. — В одиночку спасается?
— Дела у него там. — Саенко отвернулся.
— Все дела и дела, — вздохнул Борис. — Понаделали делов, что всю армию профукали. Это же черт знает что творится!
— Истинно так, — опять зашептал Саенко, оглядываясь, — такое делается, что не приведи Господи… Тыловики первые на пароходы сели, да еще и с барахлом своим. А солдатики… — Он погладил Ахилла по светлой гриве: — Эх ты, коник золотой, как же ты теперь будешь…
Ахилл, будто поняв человеческую речь, встревоженно повел ушами и покосился на Саенко коричневым глазом. У Бориса кольнуло сердце: решать, что делать с Ахиллом, придется в самое ближайшее время.
— Что скажу, — продолжал Саенко вполголоса, — если хотите выбраться, то на союзников не рассчитывайте. Аркадий Петрович чуть в ногах не валялся — просил хоть сколько военных на борт взять. Англичане, сволочи, сразу отказали, а французский капитан ни мычит ни телится, но мы его добьем. Есть одна идея, я как раз по этому делу в город и пришел…
— Вижу я, по какому ты делу. — Борис указал на сапоги, что Саенко прижимал к груди.
— А чего ж? — не смутился тот. — Не пропадать же добру. А вот, кстати, Борис Андреич, возьмите, впору они вам будут.
Борис посмотрел на отличные сапоги и на свои растоптанные солдатские бахилы и согласился.
— Что, Саенко, безнадежное это дело — на пароход сесть? — спросил Алымов. — Что ж, так здесь и ждать красных?
— Никак нет, — теперь Саенко и вовсе понизил голос, — завтра прибудет судно, «Аю-Даг» называется. С последнего пирса грузится будет. Это последний ваш шанс, а уж если никак не выйдет — тогда до «Сюркуфа» как-нибудь добирайтесь вдвоем, полковника Горецкого спросите.
— Ты что же это мне предлагаешь? — разъярился Алымов. — Да как же я могу своих солдат бросить? — Он схватил Саенко за гимнастерку и начал трясти.
— Остынь, Петр! — Борис оторвал его руки. — Не время сейчас…
— Эх, ваше благородие! — огорченно произнес Саенко, отряхиваясь. — За что вы на меня-то зло таите? Я, что ли, виноват, что все прахом пошло?
— Иди уж с Богом, — вздохнул Борис, — авось еще свидимся…
В утренний час трактир был пуст и темен. Не было еще никого из обычных его посетителей, тех странных и подозрительных личностей, которые и в годы «сухого закона» изыскивают себе вожделенную рюмку, и в годы Гражданской войны не думают ни о чем, кроме заветного пьяного отупения.
По стенам трактира висели портреты никому не ведомых генералов и монархов, намалеванные твердой решительной рукой прохожего живописца, да зеркала, украшенные паутиной и пауком, спускающимся на грязную салфетку.
Еще вчера на видном месте среди сказочных и баснословных генералов висел большой олеографический портрет Антона Ивановича Деникина, но сегодня, ввиду неудачных обстоятельств на фронте, содержатель заведения почел за лучшее Деникина убрать до лучших дней и подумывал, не поступить ли так же с остальными портретами — хотя и неизвестные, а все ж таки генералы…
Сам содержатель внушительной громадой возвышался за стойкой своего заведения, что было не совсем обыкновенно: в такой ранний час вряд ли он мог ожидать больших барышей. И правда, только один тщедушный субъект, одетый в какую-то рваную хламиду, не похожую ни на какой предмет одежды, надеваемой обыкновенным человеком, успел уже нализаться до полного бесчувствия и спал за одним из дощатых столов, изредка вздрагивая во сне и испуская тоненький жалобный стон, какой издают иногда сквозь сон небольшие собаки.
Видно было, что хозяин заведения кого-то поджидает — он все к чему-то прислушивался, да нет-нет и взглядывал в маленькое, сильно закопченное и запачканное оконце.
Наконец ожидание его увенчалось успехом: в окошко кто-то чуть слышно постучал костяшками пальцев определенным, условным и заговорщицким, стуком.
Хозяин поспешно бросился к двери и впустил в трактир невысокого, но крепкого и широкоплечего человека в белом перепоясанном полушубке и лихо заломленной каракулевой кубанской папахе.
— Ну что? — спросил гость, оглядываясь. — Ждет ли?
— Сейчас кликну, — отвечал хозяин, поворачиваясь к внутренним помещениям.
— А это еще что за личность? — подозрительно взглянул гость на спящего пьянчужку.
— Дак, изволите видеть, пьянь подзаборная, — любезно рекомендовал хозяин своего неказистого клиента.
— Ты… это… выкинь его от греха.
— Не извольте беспокоиться. — Хозяин осклабился, прихватил спящего забулдыгу одной рукой за шкирку, как кошка хватает своих слепых детенышей, подволок его без видимого усилия к двери и безжалостно выкинул в подтаявший мартовский снег. После этого он снова повернулся к внутренним покоям и довольно громко окликнул: — Ваше благородие! К вам прибыли-с!
Откинулась занавеска, закрывавшая вход в заднюю комнату трактира, и на свет вышел высокий человек, до глаз закутанный в черную, косматого меха, бурку, незаметно переходящую в такую же косматую черную папаху. Единственное, что можно было разглядеть в полутьме заведения, были его яркие выразительные глаза.
— Ну что, привезли? — спросил этот новый персонаж у гостя в полушубке. — Какие там новости?
— Товарищ Макар очень торопит. Теперича скорей надо мятеж поднимать, пока вся эта белая сволочь в Крыму не обжилась да не закрепилась.
— Это да, это да… — отмахнулся человек в бурке как от чего-то не важного. — Ты говори, привез ли от Макара что обещал?
— А как же ж… Вот, от товарища Макара гостинец. — Гость показал объемистый и тяжелый по виду замшевый кошель. — А где оружие?
— Сейчас-сейчас, будет тебе оружие. — Человек в бурке протянул руку к замшевому мешочку.
— Э нет, — гость попятился и волшебным невидимым движением создал в своей руке черный вороненый «маузер», — чтой-то мне, товарищ, твои ухватки не нравятся. Покажи-ка ты мне сперва оружие, а потом уж за кошель хватайся.
— Ничего-ничего, — закивал человек в бурке, осторожно наступая на гостя и вместе с тем делая глазами какие-то знаки стоящему позади гостя хозяину трактира.
Гость отпрыгнул и развернулся, переводя «маузер» в сторону второго противника, но трактирщик уже, бешено вращая глазами, опускал на него огромный мясницкий топор. Несчастный не успел ни выстрелить, ни увернуться, только немного отстранился, и широкое лезвие топора, скользнув по каракулю папахи, глубоко рассекло плечо, едва не начисто отрубив правую руку.
— Ах ты, профитроля… — приговорил трактирщик, снова поднимая топор, — врешь, не уйдешь, куда ж ты без руки…
Кровь из разрубленного плеча пульсирующим потоком хлынула на белый полушубок. Раненый закачался, глаза его затянуло смертной поволокой, но трактирщик, не останавливаясь на полпути, снова опустил топор, с отвратительным треском раздвоив череп, и радостно примолвил:
— Ух, пустим кровушку на волюшку!..
Безжизненное тело мешком грянулось на грязный пол трактира.
Трактирщик оглянулся на человека в бурке и с суетливой озабоченностью в голосе сказал:
— Сейчас. Приберем тут маленько… а то кровь, грязь, мало ли кто зайдет…
Он притащил рогожу, закатал в нее труп, подтер краем этой же рогожи кровавые сгустки с пола. Подхватив ужасный сверток, взвалил его как пушинку на плечо и пошел к выходу.
— Давай помогу тебе. — Человек в бурке шагнул следом. — Куда ты его понесешь? Не увидит ли кто?
— Да здесь об эту пору никого не бывает, — усмехнулся трактирщик, — да и то подумают — мало ли что несу?
Вдвоем вышли они из трактира. На улице и впрямь не было ни души — узкая грязная улочка заканчивалась возле трактира и далее переходила в почти непроходимую тропку между двумя возвышенностями, скорее напоминающую глухой овраг. Трактирщик легко шагал этой тропой, как перышко неся свою страшную ношу, человек в бурке едва поспевал следом.
Неподалеку от трактира тропа вывела их к широкому ручью с большой черной полыньей. Трактирщик размахнулся и сбросил сверток в быструю ледяную воду.
— Тут тебе самое и место, — проговорил он с кривой разбойничьей ухмылкой.
— И тебе, — лаконично добавил человек в бурке, выстрелив в затылок своему дюжему спутнику.
Трактирщик изумленно обернулся к убийце, хотел ему что-то сказать, но пуля снесла ему всю нижнюю челюсть и превратила лицо в кровавое месиво. Выпустив фонтан темной густой крови, трактирщик тяжело покачнулся, рухнув в полынью вслед за своей не остывшей еще жертвой.
Человек в бурке спрятал «наган» за пазуху. Вдруг внимание его привлек какой-то новый звук. Повернувшись, он увидел, что из-за края горки, возвышающейся над тропой, выглядывал человек. «Наган» снова оказался в руке… но никого уже не было видно, и убийца засомневался даже, не померещилось ли ему лицо над краем оврага.
На следующее утро дивизион, в который входила конно-горная батарея, пошел в сторону порта. Ехали как могли быстро, не глядя по сторонам, обгоняя повозки с беженцами и пеших людей. Дорога проходила мимо лазарета. Раненые офицеры на костылях стояли на пороге и умоляли взять их с собой. Борис сжал зубы и отвернулся. Куда они могли взять беспомощных людей, если сами не знали, попадут ли на судно.
— Не эвакуировать раненых! Пусть тот, кто это сделал, вечно горит в аду! — прошипел Алымов сквозь стиснутые зубы.
Борис только выругался, кипя от бессильной злобы. Показалась пристань. Молча прошли к последнему пирсу. Они опоздали. Судно «Аю-Даг» пришло ночью, его уже успели загрузить людьми. На палубе было черно от народа, громоздились узлы, баулы, какие-то ящики.
Командир дивизиона полковник Никифоров спешился и скомандовал:
— Распрягай! Лошадей оставляем здесь. Орудия испортить!
Молча сняли с орудий прицелы и замки, прицелы разбили, замки выбросили в море, чтобы красные не могли воспользоваться брошенными пушками.
— Расседлайте и разнуздайте! Кто может — пристрелите. Но седла возьмите с собой, они нам пригодятся.
Этот приказ артиллеристы выполнили с сердечной мукой. Ездовые, вчерашние крестьяне, со слезами на глазах прощались с упряжными лошадьми. Борис обнял за шею игреневого Ахилла, тот скосил выразительный карий глаз и горестно заржал. Борис расседлал его и подвел к калитке заброшенного сада. Там пробивалась зеленая травка и был бассейн с водой.
— Оставайся, дружище, отдохни от походов! Уж тебе-то красные ничего не сделают!
Ахилл упирался и не хотел оставаться, Борис обнял его за шею и поцеловал в теплую морду, чувствуя, что слезы набегают на глаза. Он терял верного товарища, который не раз выносил его из боя, спасая жизнь.
С седлами на плечах прошли по пристани к пароходу. На сходнях стоял матрос с ружьем, а возле две подводы, заполненные ранеными. Лошадь первой подводы держала под уздцы высокая женщина в белой косынке с красным крестом и накинутом коротком полушубке.
— Вы должны взять раненых, — монотонно повторяла сестра, — их нельзя оставлять красным на верную смерть.
— Отойди! — крикнул матрос и вскинул винтовку.
Капитан корабля взял в руки рупор и крикнул в сторону берега:
— Я больше не могу никого взять! Нет места!
— Господа артиллеристы! — повернулась к ним сестра, и Борис понял, отчего у нее такой монотонный голос — она еле держалась на ногах от переутомления. — Господа, сделайте что-нибудь! Нельзя же бросить здесь, на пристани, беспомощных раненых!
Полковник Никифоров сложил руки рупором и крикнул капитану парохода голосом, которым перекрывал в бою артиллерийскую канонаду:
— У меня шестьдесят артиллеристов и десять раненых! Вы их всех возьмете, даже если места нет!
— Невозможно! Судно перевернется!
— Вы нас возьмете! — повторил полковник решительно. — Если мест нет, сейчас они появятся. Штабс-капитан Алымов!
Алымов снял со спины свой карабин и шагнул в сторону. Тотчас артиллеристы его батареи подняли свои карабины и встали вокруг Алымова. Вместе они представляли внушительную силу.
— Даю три минуты на размышление! Потом будем стрелять! — с холодной яростью выкрикнул Никифоров. — У вас на пароходе всякая тыловая сволочь, из-за которой мы проиграли войну, вы их увозите, а солдат, которые проливали свою кровь, оставляете на верную смерть!
Прошла минута, и капитан прокричал:
— Людей возьмем, только без багажа. И подождите немного. — Он направил рупор в сторону палубы и рявкнул: — Всем выбросить багаж в море! Передавать осторожно, а то перевернемся! И никакой паники!
Поднялся крик, ошалевшие штатские цеплялись за свои пожитки, не понимая, что могут потерять жизнь. Капитан, которому все надоело, крикнул, что в нарушителей приказа будет стрелять.
Вот завизжал кто-то в пенсне истерично, крича, что не имеют права отбирать вещи. Растрепанная дама с безумными глазами вцепилась матросу в лицо, тот охнул. Толпа волной качнулась в сторону, пароход накренился, тот, в пенсне, вдруг выхватил револьвер, крича уже вовсе что-то несуразное… Но грянул выстрел — это капитан выполнил свою угрозу. Штатский в пенсне кулем рухнул на палубу. Толпа застыла в молчании.
— Я же предупреждал — без паники! — рыкнул капитан.
Молча протиснулись сквозь толпу два матроса и выбросили труп в море. Затем процесс выбрасывания узлов и чемоданов пошел как по маслу. Люди на палубе передвигались в общем трансе.
— Выбросить седла, но оставить карабины! — распорядился на пирсе Никифоров. — Сначала передаем раненых!
Беспомощных людей переносили по сходням и передавали на руки матросам, а потом они плыли над палубой, поддерживаемые толпой. Борис прикоснулся к руке медсестры и заглянул в бездонные от усталости глаза, обведенные черными кругами.
— Позвольте, я помогу вам перебраться на пароход.
— Нет-нет, — встрепенулась она. — Я должна вернуться! Там остались еще люди! Мое место рядом с ними!
Борис переглянулся с Алымовым. Они поняли друг друга без слов: погрузка будет идти долго, за это время они успеют обернуться еще раз до лазарета и обратно. Борис подхватил на руки медсестру и понес ее по сходням.
— Мы съездим туда сами и вернемся, — прошептал он, прижимая к груди легкое, почти невесомое тело, — я вам обещаю…
В стороне Туапсе застрекотал внезапно пулемет.
— Красные! Отрезали дорогу по суше! — пронеслось по толпе.
— Мы успеем! — выдохнул Борис и передал сестру в руки матросу с парохода.
На бегу обернувшись, он заметил, как она сотворила в воздухе крест. Алымов уже сидел на подводе. Борис хлестнул лошадей и погнал их обратно к лазарету.
Глава вторая
Еще издали увидев здание лазарета, Борис понял, что они возвратились напрасно: лазарет был пуст. Никого не было на крыльце, никто не выглядывал в окна. Видимо, какая-то войсковая часть сжалилась над ранеными и взяла их с собой. Подъехав ближе и убедившись, что никого не осталось, Борис развернул лошадей и погнал их обратно к порту, чтобы не прозевать отправку.
Не успела телега отъехать от лазарета, как по улице хлестнула пулеметная очередь. Борис привстал и крикнул, подгоняя лошадей, но пулемет шпарил не переставая. Одна из лошадей упала в оглоблях, телега остановилась. Борис с Алымовым скатились на землю и побежали зигзагами, пригибаясь к земле и оглядываясь в поисках укрытия.
Завернув за угол, они столкнулись с большой группой безоружных казаков.
— Драпай, драпай, ваши благородия! — истошно закричал один из донцов. — Красные валят!
Борис поднял карабин, но окружавшие казаки заслоняли от него цель, не давали развернуться, а с верхнего конца улицы катились галопом под горку кавалеристы в буденовках.
— Ходу, ходу! — кричал Алымов, но плотная толпа казаков, растерянно топчась на месте, гасила всякое движение, офицеры увязли в ней, как в болоте, да бежать уже было и некуда — с одной стороны катила красная конница, а с другой — хлестал уже не один пулемет.
Красные наехали на толпу, тесня казаков конями. Борис передернул затвор карабина, но соседний казак уставился на него огромными от ужаса желтыми глазами и вырвал из рук оружие, рявкнув:
— С ума сошел, золотопогонник! Тут тебя и кончат!
— Можно подумать, тебя пожалеют! — огрызнулся Борис.
— А что они мне сделают? Мы люди простые, — ответил казак и испуганно перекрестился.
Толпа становилась все больше — красные сгоняли в одну кучу не успевших погрузиться на корабли.
Борис нашел Алымова и пробился к нему.
Красные, тесня конями и охаживая крайних плетьми, погнали все это человеческое стадо вниз, к морю. Скоро, приподнявшись на цыпочки и взглянув над головами соседей, Борис увидел бухту и спешно уходящие от берега последние пароходы. У самой пристани красные артиллеристы снимали с передков и устанавливали в боевое положение трехдюймовое орудие. Возле горизонта виднелись силуэты торопливо удирающих английских крейсеров.
Борис злобно сплюнул.
— Сволочи союзнички! — проговорил Алымов, перехватив его взгляд.
Красные, подогнав толпу пленных к краю дебаркадера, спешились, поставили пулемет, направили его на толпу и занялись какими-то непонятными приготовлениями. Спустя несколько минут смысл их действий стал ясен, и над толпой поднялся глухой стон ужаса.
— Что же они делают? — пробормотал сосед Бориса, тот самый казак с белыми от страха глазами.
— В море топить будут, — прошептал Алымов одними губами, — патронов им на нас жалко. Вот попали-то мы, Борис. А все ты, захотел перед сестрицей себя героем показать!
— Что-то я вас, штабс-капитан, не узнаю, — угрюмо ответил Борис. — Нечего причитать — снявши голову, по волосам не плачут.
Сбоку дебаркадера притулилась старая проржавевшая баржа. С ней-то и были связаны приготовления красных. Распоряжался красноармейцами командир в папахе с красной лентой и ладно пригнанном кожушке, отороченном мерлушкой.
— Завальнюк! — крикнул он зычно.
И тотчас явился на зов сутулый детина с мотком веревки. Он деловито размотал веревку, оглянулся на толпу, прикинул что-то, причем работа мысли явственно отразилась в его глазах, затем взял принесенный с веревкой топор, примерился и начал рубить веревку на равные куски.
— Однако коротко будет, — озабоченно произнес маленький белобрысый красноармеец, суетясь вокруг.
— Не будет, — Завальнюк прервал свою работу и оглянулся на безмолвную толпу, — а ты не мешай, отойди от света-то, не засти…
И от такого будничного его разговора толпа пленных пришла в еще больший ужас, потому что поверила в реальность происходящего.
— Вона что, — выдохнул дюжий казак справа от Бориса, — вона как дураков учат. — И, перехватив недоуменный взгляд Алымова, пояснил: — Давеча агитатор к нам приходил от красных, листовки принес. А в них сказано, что, мол, братья-казаки, бросайте оружие, выходите сдаваться, ничего, мол, вам не будет, отпустят домой, — он покопался в кармане, — нет, потерял я ее где-то, листовку эту. А сегодня чуем — дело плохо, мы и поперли как бараны сдаваться, оружие бросили. А они, значит, вон что задумали… Чуяло мое сердце, что наврут, уж больно подлый агитатор был… чернявенький, глазки бегают. Его бы за ноги да головой об стенку… А наши дурни уши развесили: войне конец! Амнистия будет! Вот и дождались…
Красноармейцы принесли откуда-то две широкие доски и положили их в качестве сходней с пристани на баржу. Четверо встали по бокам сходней: двое на барже, двое на пристани. Завальнюк закончил свое дело, и командир закричал зычно:
— Выходи по двое, казаки!
Бах! — раздался выстрел в центре толпы. Красноармейцы мгновенно вскинули винтовки. Бах! — еще выстрел. Но никто из красных не пострадал.
— Что еще? — крикнул командир.
— Офицеров двое застрелилось, — крикнул из толпы пленных угодливый голос.
— Туда им и дорога, — облегченно вздохнул командир.
— У тебя «наган» есть? — прошептал Алымов.
— Нет, — так же шепотом ответил Борис. — И карабин потерял.
— А у меня ни одного патрона, — вздохнул Алымов. — Даже застрелиться не могу. Так и бросят нас в воду, как баранов связанных.
Между тем красноармейцы штыками отогнали от толпы двоих казаков. Один пробовал сопротивляться, его угостили прикладом в зубы. Завальнюк и еще один ловко связали их за локти спина к спине, а маленький и белобрысый суетился рядом, разглядывая сапоги — вечную проблему бойца на войне. Сапоги у казаков были сношенные, и белобрысый огорченно поцокал языком.
Дальше дело у красных пошло на лад. Под пулеметом толпа застыла обреченно, хотя все понимали, что впереди тоже смерть, еще более мучительная, в ледяной воде. Завальнюк с напарником споро вязали пленников, как будто делали обычную крестьянскую работу. Пытавшихся сопротивляться белобрысый, стоявший наготове, тут же бил прикладом по голове, так что человек оседал сразу, теряя сознание на время. В толпе стоял глухой стон, пару раз начиналось какое-то движение, но тут же командир кричал: «Костя, давай!» — и пулеметчик пускал очередь — короткую, потому что берег патроны. Раненые и убитые падали на землю, Борис не сомневался, что их потом тоже подберут и бросят в море.
Маленький белобрысый красноармеец хозяйственным оком высматривал целые сапоги и заставлял смертников разуваться. Вот пришла очередь того самого казака, что вырвал у Бориса карабин и кричал, что им, простым людям, ничего не будет. Он совершенно помешался от страха, ноги его подгибались, он полз на коленях и все порывался целовать солдатские ботинки, крича:
— Ребятушки, родненькие, пощадите! У меня детки малые дома остались… Ребятушки, милые, спасите!..
— Дерьмо! — процедил Алымов и сплюнул сквозь зубы.
Казака вязали, он выл по-звериному. Связанных попарно тащили по сходням на баржу, и вот, очевидно, решив, что от большого количества народа баржа может пойти ко дну, начали топить. Толпе пленных было плохо видно, что происходило с другой стороны баржи, но крики и плеск объясняли все.
Дюжий казак рядом с Борисом перекрестился и забормотал молитву.
— Вот что, Петька, — решительно зашептал Борис, — мне в такой компании помирать не охота.
— У нас есть выбор? — холодно отозвался Алымов.
— Закрой-ка меня, чтоб никто не видел.
Он незаметно вытащил из-за пояса нож — единственное оставшееся оружие — и разрезал новые, только вчера презентованные Саенко сапоги так, что портянки торчали наружу. Потом он сунул нож за голенище.
— Что ты задумал, Борис?
— Испытаем судьбу еще раз, — шепнул Борис и обнял друга, — а если не выйдет, то прощай, Петр!
— Вместе туда попадем, — грустно улыбнулся Алымов.
На пристани раздался вдруг шум, кашлянье мотора, и появился автомобиль, из которого вышли несколько человек, и среди них — очень знакомая Борису фигура в кожанке и фуражке. Человек был высок и очень худ, держался несколько скованно, но Борис не веря своим глазам узнал в нем своего знакомца Сергея Черкиза — начальника особого отдела ЧК. Познакомились они, если можно так выразиться, на допросе, когда Борис по глупости или по невезению попался красным. Допрос окончился отправкой Бориса в депо — место, откуда каждую ночь возили на расстрел. И если бы не верный Саенко… лежать бы Борису в Ольховой Балке чуть присыпанному землей среди таких же, как он. Борис вспомнил, как долго и увлеченно говорил Черкиз о революции. Борис вначале сомневался в его искренности, но потом понял, что этот человек болен и под свою болезнь, в которой переплелись его природный садизм и невротическая восторженность, он подвел красивое коммунистическое обоснование.[5]
— Ничему не удивляйся, держись со мной рядом, — шепнул Борис Алымову и вдруг заорал: — Сергей! Эй, Серега, Черкиз!
Его голос далеко раздавался на пристани. Черкиз услышал, и если оставались еще у него сомнения, то фамилия Черкиз, выкрикнутая Борисом, их развеяла. Борис увидел, как Черкиз обернулся, дернув головой, как поморщился болезненно.
— Серега, Черкиз! — надрывался Борис, проталкиваясь к краю поредевшей уже толпы, туда, где красноармейцы хватали по двое и вязали обреченных на смерть.
Их глаза встретились, и Борис с совершенно неуместным в его положении злорадством заметил, как Черкиз побледнел и во взгляде его мелькнуло сначала узнавание, а потом ненависть.
— Товарищ Черкиз, — надрывался Борис, — ты что, не узнал меня, что ли? — И торопливо объяснял соседям, так чтобы слышали красноармейцы: — Друг детства мой, вместе в реальном учились.
Черкиз подошел к нему так быстро, что даже споткнулся и чуть не упал.
— Здоров, Серж! — дурашливо улыбнулся Борис и сделал движение, как будто хотел обнять. — Ты живой, а я-то думал, что на том свете ты. Выжил, значит… Ну и я тоже выжил…
Черкиз смотрел на него белыми от ненависти глазами, правая рука его шарила в кобуре, и Борис подумал обеспокоенно, не перегнул ли он палку, а то как бы этот псих не пристрелил его прямо на месте. Но Алымов шагнул из толпы и встал вплотную к Борису, глядя на Черкиза со спокойным презрением. Так стояли они трое, глядя друг другу в глаза, и толпа замерла вокруг в ожидании.
Черкиз, мертвенно-бледный, тряхнул наконец головой и оторвал руку от кобуры.
— Выжил, говоришь, — процедил он. — Ну это мы сейчас поправим! — И крикнул, повернувшись к красноармейцам: — Чего встали? Продолжайте!
Тут же Бориса с Алымовым схватили и потащили к Завальнюку с его веревками. Черкиз подошел к ним и внимательно наблюдал за операцией.
— Принципиальный какой товарищ Черкиз, — приговаривал белобрысый красноармеец, крутясь вокруг Бориса, — а ты, ваше благородие, небось думал, что он друга детства пощадит? Как бы не так, потому как ты есть классовый враг и тебя надо беспощадно истреблять, вот как.
— Пошел ты! — спокойно произнес Алымов.
Они с Борисом сцепились локтями и напрягли мускулы до боли, надеясь, что потом, когда они расслабятся, веревки не затянутся так сильно.
— Ты чего натужился-то? — заворчал было Завальнюк, но Черкиз крикнул ему срывающимся от бешенства голосом:
— Не разговаривать! Давай быстрей вяжи! Рассусоливают тут, как бабы…
Завальнюк обиженно засопел, но ничего не ответил. Борис с радостью почувствовал, что завязал он веревку всего на один узел, не перекидывая дополнительной петли. Тем легче будет перерезать веревку…
— Прощай, товарищ Черкиз, — произнес он, глядя в ненавидящие глаза, — может, еще встретимся…
Черкиз равнодушно отвернулся и пошел в сторону черного автомобиля, а Борис с Алымовым, подгоняемые ударами прикладов, поковыляли на баржу. Там творился ад.
Красноармейцы сталкивали беспомощных людей в черную ледяную воду, море кипело от барахтающихся тел. Слышались крики, стоны, ругательства, многие поминали Господа, но он, должно быть, в этот момент отвернулся и не слышал, как его молили о помощи.
— Значит, так, Петр, — вполголоса говорил Борис, — прыгаем сами ногами вперед. Под водой разворачиваемся и не выныривая плывем влево, только влево, в сторону от всех. А то заденут в воде и утопят. Ты посмотри, что делается, — просто не море, а суп какой-то, кишит от людей.
— Мало мы эту красную сволочь били, — скрипнул зубами Алымов, — ох, мало…
— Не трать силы понапрасну, — спокойно посоветовал Борис, — даст Бог, выберемся, еще поборемся. Когда вынырнем, будем плыть, переворачиваясь по очереди. Грести, естественно, только ногами. Я первый внизу, потому что плаваю лучше. Медленно считай до десяти. На счет десять переворачиваемся — больше без воздуха не выдержать. А теперь запомни: нож в левом сапоге, в левом… Ты должен вытащить его, когда будешь наверху — так тебе не нужно будет думать о дыхании. Если не получится с первого раза — переворачиваемся и все начинаем заново.
— И как ты думаешь, сколько мы продержимся в такой холодной воде? — вздохнул Алымов.
— Ничего, все ж таки не Ледовитый океан, — неуверенно подбодрил Борис.
— Шевелись, контра! — орал красноармеец, размахивая винтовкой. — Все на корм рыбам пойдете!
Воздух, казалось, раскалился от проклятий и стонов.
— Пора, Петр, — сказал Борис, когда их прижало к борту, — а то еще прикладом по голове звезданут.
— Господи, спаси и сохрани! — скороговоркой пробормотал Алымов.
Они перевалились через низкий борт, одновременно вдохнули воздух и прыгнули. Сердце у Бориса зашлось в первый момент, когда тело погрузилось в воду.
«Не захлебнуться! — приказал он себе. — Не открывать рот».
Спиной он чувствовал тесно прижатую спину Алымова. Вот прошла инерция от погружения, Борис сделал движение перевернуться и обрадовался, когда Алымов поддержал его. Стало быть, с Петькой пока все в порядке, если можно употребить это выражение применительно к их положению. Он открыл глаза и увидел под водой темную громаду баржи. Шевеля ногами, стараясь не делать резких движений, чтобы не выпал нож, Борис поплыл в сторону от баржи, начав отсчет. Он почувствовал, что Алымов уловил его ритм и старался двигать ногами так же. Они двигались как сиамские близнецы, сросшиеся спинами.
Все дальше баржа, впереди спокойная темная толща воды. Выбрасываемые смертники остались в стороне. На счет «восемь» Борис развернулся, чтобы всплыть на поверхность. Неяркое мартовское солнце резануло по глазам. Несколько секунд они удержались в воде вертикально, и за это время Борис сумел оглядеться.
Баржа была близко, но вряд ли кто-то заметил их головы в такой кутерьме. Борис наметил направление и нырнул под воду. Распластавшись так, чтобы тело было абсолютно горизонтально, он медленно двигал ногами, не забывая считать. Вот он подтянул левую ногу и почувствовал, как Алымов наугад шарит по сапогу. Толчок, который послал их сросшиеся тела вперед, затем снова шарящая рука. Опять неудача. На счет «десять» Борис перевернулся и с облегчением глотнул сырого воздуха. Дальше он плыл вперед, делая сильные движения ногами.
«Долго мы так не продержимся в холодной воде, вон уже руки коченеют без движения», — мелькнуло в голове.
Он перевернулся на счет «семь», чтобы не тратить времени, потому что Алымов под водой был страшно тяжел и тянул ко дну. И опять левую ногу Борис поджал как можно ближе к телу. Он почувствовал, как Петр запустил руку в сапог, как ухватил нож и потащил его, царапая ногу. Но боли в морской воде он не ощутил, а только безумный проблеск надежды. Очевидно, веревка ослабла в воде, иначе Алымову было бы никак не изогнуться, чтобы разрезать ее. Они опять развернулись вертикально и начали погружаться в воду. Петр все пилил и пилил ножом веревку, и Борис подумал, что если он не справится или выронит нож, то им уже не выплыть на поверхность. Да и не к чему, потому что скоро начнет сводить руки от холода, а потом и ноги. Веревка поддавалась медленно, Борис боялся дернуть, чтобы не помешать Алымову. И хоть перед глазами ходили красные круги и легкие, казалось, разрываются, он приказывал себе не терять контроля и не делать резких движений. Иначе тело, движимое инстинктом самосохранения, устремится наверх, и они захлебнутся. Еще секунда… другая… Борис чувствовал, что жизнь уходит из него вместе с воздухом из легких. Уже манила снизу черная мгла, и поднималось из нее что-то страшное и холодное, гораздо холоднее морской воды. И когда Борис понял, что это смерть надвигается на него, подобно страшному черному облаку, и что сейчас сердце его разорвется, веревка поддалась. Не веря собственным ощущениям, он устремился вверх. Петр вынырнул рядом, отплевываясь. Борис сунул непослушными руками нож за пояс и показал на песчаную косу:
— Ее мы должны обогнуть, там берег дикий, туда и поплывем. Быстрее, Петька!
Если бы пришлось проплыть такое расстояние летом в теплой воде без одежды, Борис бы только порадовался. Плавать он умел хорошо еще с детства, море любил. Но сейчас… в холодной воде, в одежде, обессиленному… однако выбора у них не было. Рассекая плечами волны, Борис устремился к косе. Внезапно вода впереди вскипела фонтанчиками: как видно, какой-нибудь ушлый красноармеец, рассеянно наблюдая за делом рук своих, окинул взглядом море и заметил две головы вдалеке. Не сговариваясь, Борис с Алымовым нырнули и дальше плыли под водой, высовывая голову, только чтобы глотнуть воздуха.
Красные не случайно выбрали этот дебаркадер — он был старый, находился у самого края пирса, и баржа была заброшена. Красные нашли ей такое страшное применение. Но офицерам это было на руку — свобода и жизнь были за песчаной косой.
Вот пули перестали догонять их — очевидно, тому, кто стрелял, стало все равно. Чувствуя, как холод пробирается в самую середину тела, до каждой клеточки, Борис торопил Алымова:
— Быстрее, Петька, быстрее!
Он знал, что Алымов тоже неплохой пловец, но сейчас, принимая во внимание ледяную воду и так далее… Алымов начал отставать, Борис замедлил темп, видя страдание на его лице.
— Нога… — прохрипел Петр, — нога проклятая, судорога…
Так и есть! Нога, раненная еще в семнадцатом, не раз подводила. Естественно, от переохлаждения она первая должна была отказать.
— Держись за меня, только не барахтайся, — предупредил Борис.
— Оставь меня, Борька, я не доплыву… — Алымов терял силы на глазах.
Они успели обогнуть косу, начинался прилив, что было им на руку: волны принесут к берегу. Борис видел каменистый, но отлогий берег. Не тратя времени на напрасные пререкания, он ухватил Петра за плечо, гребя одной рукой. Тот потерял сознание.
Напрягая последние силы, Борис греб к берегу, одновременно следя за тем, чтобы лицо Алымова было все время над водой. До каменистого пляжа оставалось метров сто, но силы были уже на исходе. Борис почувствовал, что еще минута — и он потеряет сознание… Горизонт начало затягивать туманной обморочной пленкой, ноги сделали последний бессильный рывок и ушли под воду… и коснулись каменистого дна. Борис встал на ноги и перевел дыхание. Он доплыл! Доплыл! И дотащил Петра…
Он шел к берегу по грудь в воде, спотыкаясь на скользком неровном дне, но это был уже берег, они не утонут. Вода была ему уже по пояс… по колени… Легкие прибойные валы догоняли его и играючи били под колени, стараясь повалить, а он был так слаб, что действительно чуть не падал. И Петра стало тащить тяжелее. Наконец он вытащил его на берег, оттащил от воды и рухнул рядом. Окоченевшее тело отказывалось служить, слабое мартовское солнце почти не согревало. Надо было что-то делать — двигаться или развести костер, но сил не было ни на что.
Переведя дух, Борис приподнялся на ноги и огляделся. Берег дальше довольно круто уходил вверх, осыпаясь. Дорога к пристани проходила поверху, но никаких звуков не было слышно — либо слишком далеко, либо у Бориса заложило уши. Самое разумное было пройти по берегу и поискать какое-нибудь укрытие — пещерку, чтобы развести там костер. Еще в походе Петр раздобыл где-то металлическую коробочку, где хранил спички. Борис надеялся, что с ними ничего не случилось, в противном случае следовало осознать, что Господь Бог отвернулся от них навсегда, потому что, мокрые, на холодном ветру они продержатся недолго. Он посмотрел на друга, лежащего без сознания на песке, и понял, что тащить его в неизвестность нет сил. Борис решил сам обследовать окрестности, а потом вернуться за Петром. Сапоги были рваные, так что вся вода вылилась из них. Борис на себе кое-как выжал воду из одежды и, пошатываясь, направился к близлежащим зарослям непонятных кустов. Пройдя несколько шагов, он заставил себя вернуться и подтащить Алымова ближе к кустам — так одиноко лежащая фигура меньше бросалась в глаза, если бы кто-то сверху вздумал разглядывать берег.
Глава третья
Красная конница пролетела в Новороссийск подобно смерчу, сметая все на своем пути. Буденновцы рубили нещадно белую сволочь, тем некуда было отступать — дальше только море. Победа была полной и окончательной, бойцам Буденного никто не оказывал особенного сопротивления.
Следом за конницей подходили к Новороссийску пешие части. Были они нестройны, шли отдельными отрядами, в общей неразберихе многие бойцы отставали от своих и брели в сторону города самостоятельно, делая это не без задней мысли: в обстановке общей анархии они норовили пограбить мирное население либо же прихватить имущество отставших белых.
По дороге, что проходила верхом вдоль берега моря, шли двое красноармейцев: немолодой, прихрамывающий дядька, а с ним — вертлявый, щуплый парень, похожий на подростка. На дороге, обычно оживленной, сейчас было пусто.
— Жрать охота, дядя Силантий! — нарушил парень затянувшееся молчание.
— Иди уж! — угрюмо прикрикнул Силантий. — Из-за твоей жратвы от своих отстали.
Это была чистая правда. Еще утром командир послал их со Степкой за патронами. И вот когда они ехали на повозке, сидя поверх ящиков, Степка, вместо того чтобы погонять лошадь, дабы успеть к своим, пустился шарить по близстоящим у дороги домам в надежде найти чем поживиться и наткнулся на беляков. Что уж они там делали — хоронились до темноты либо спарывали погоны, а только шарахнули из избы залпом, убили лошадь да самого Силантия задели в ногу. Поганец же Степка не пострадал, только потерял винтовку, когда бежали от того места.
Рана у Силантия была легкой, кость не задета, но все равно идти было трудно, к тому же он с горечью думал, как будет рассказывать командиру, что потерял патроны, и что тот скажет ему в ответ.
Степка шел налегке и вертел головой по сторонам.
— Эх, я бы сейчас молока… целую крынку выпил! — вздохнул он. — С калачом…
— Что тебе все неймется, — заворчал Силантий, — что ты все егозишь… Сказано — идти в город, значит, нужно идти не задерживаясь. Если бы не ты, уже давно у своих были бы да еще патроны доставили.
— Да зачем они теперь, патроны эти? — беспечно махнул рукой Степка. — Когда мы город без боя, считай, взяли.
— Мы! — хмыкнул Силантий. — Горазд ты за других говорить.
Он видел Степку в бою и знал, что тот был трусоват и норовил спрятаться за спины товарищей. Степка подошел к самому обрыву и загляделся вниз.
— Дядя Силантий! — закричал он вдруг, не обращая внимания на ворчание своего напарника. — А ведь там кто-то лежит.
— Ну и что, что лежит? — откликнулся Силантий. — Мало ли покойников вокруг…
— А ведь это офицер, золотопогонник, — пробормотал Степка.
— Море на берег выбросило, — согласился Силантий.
Степка уже спускался вниз на четвереньках. Силантий знал, что Степка был жадный и вечно шарил по карманам у трупов в надежде найти чем поживиться.
— Я тебя ждать не буду! — разозлился Силантий и поковылял по дороге.
Степка подошел к мертвому офицеру и ногой перевернул его на спину. Человек застонал.
— Дак он живой? — вслух удивился Степка.
Он быстро обшарил карманы беспамятного человека, но нашел там только металлическую коробочку со спичками, да на шее висел на золотой цепочке нательный крестик. Когда он дернул цепочку, офицер застонал сильнее и что-то пробормотал.
— А у меня и винтовки нет, чтобы тебя прикончить! — расстроился Степка. — Дядя Силантий! — крикнул он, но никто не отозвался, потому что Силантий хоть и слышал, так как не успел уйти далеко, но сильно разозлился на Степку.
Степка сделал шаг в сторону в надежде найти какой-нибудь камень, чтобы не оставлять в живых классового врага, и тут из кустов бесшумно выскочил кто-то страшный, обхватил Степку сзади и приставил нож к горлу.
— Зови товарища, — прошептал он Степке в ухо.
И поскольку обалдевший от страха Степка не сумел выдавить из себя ни звука, тот легонько царапнул его ножом по горлу.
Борис не успел уйти далеко и услышал голоса. Он подкрался тихо, прячась за кустами, и успел вовремя, пока Алымову не причинили вреда. Он не колебался, руки сами схватили маленького вертлявого красноармейца, похожего на подростка, и приставили нож к его горлу. На дороге никого не было, следовало срочно разобраться с этими двумя и уносить ноги, до того как подойдет еще кто-то.
— Зови! — прорычал он, чувствуя, как нож процарапал кожу на горле.
Очевидно, Степка тоже это почувствовал, потому что заорал не своим голосом:
— Силантий!
— Чего тебе? — хмуро отозвался тот, возвращаясь. — Поднимайся быстрее, я ждать не буду.
— Не могу, ногу камнем придавило, — прохрипел Степка, понукаемый Борисом, — помоги, дядя Силантий!
Силантий плюнул, обругал Степку по матушке, но, потоптавшись немного на месте, все же стал осторожно спускаться — не бросать же поганца одного. В кустах слышалась возня — это Борис связывал Степку его же собственным ремнем.
— Степка, ты где? — крикнул Силантий, настороженно оглядываясь.
— Тута я, — прозвучал Степкин голос из кустов, — нога застряла.
— Что б она у тебя, паразита, и совсем отсохла, — в сердцах высказался Силантий.
Он сделал несколько шагов к кустам и тут же упал, потому что Борис с размаху опустил ему на голову обломок киля старой шлюпки, который он подобрал на берегу. В последний момент Борис сдержал удар, так что череп у Силантия не треснул, просто его здорово оглушило. Степка ползком отодвигался от Бориса, глядя на него с ужасом и тихо поскуливая.
— Не для того я его из моря спас, чтобы ты, гнида, ему камнем голову размозжил, — произнес Борис.
— Ваше благоро-о-дие! — завыл Степка.
— Заткнись! — оборвал Борис.
Он вытащил ремень у пожилого и связал Степке ноги. Затем перекинул петлю ремня через ствол непонятного куста и туго прикрутил к нему руки.
— Тебя как звать-то? — неожиданно спросил он, брезгливо глядя в бегающие глазки, в которых появилась надежда: если бы хотели убить, не стали бы связывать.
— Степа! — икнул Степка.
— Вот что, Степан, я тебе рот заткну, чтобы ты не орал, — сказал Борис, нашарив в кармане мокрый носовой платок. — Когда кляп изо рта выплюнешь, то кричи, может, кто тебя развяжет. Либо же этот, — он кивнул на Силантия, — очухается, я его не сильно ударил.
Он туго скатал платок и засунул Степке в рот, потом отвернулся и выбросил в море винтовку Силантия, потому что собирался нести бесчувственного Алымова и на винтовку не было уже сил.
Он примерился и хотел взвалить друга на спину, как вдруг сверху послышались голоса — по дороге шел пеший отряд красноармейцев. Он беспокойно перевел глаза на связанного Степку и увидел, что тот уже почти выплюнул скомканный платок. Борис находился от него в десяти шагах, Степка знал, что огнестрельного оружия у него не было, а свои — вот они, наверху. Борис видел, как злорадно выкатил на него глаза Степка, как раскрыл рот, чтобы крикнуть:
— Тов…
Но в это самое время нож, брошенный Борисом, вонзился в его горло. Степка изумленно уставился на Бориса, не в силах осознать, что же случилось.
— Сам виноват, — тихо, почти про себя произнес Борис. — Не понимаете вы по-хорошему.
Отряд прошел, ничего не заметив. Борис подхватил Алымова и, не оглянувшись, пошел в другую сторону от проклятого города.
Дорога забирала вверх, а Борис шел вдоль берега, так что сверху его не могли видеть. Через полчаса такого продвижения Борис почувствовал, что силы покидают его — Алымов так и не пришел в сознание и был очень тяжел. Борис опустил его на каменистую землю и сел, чувствуя, что глаза закрываются. Наступила апатия.
— Нет, господин офицер, — раздался вдруг прямо над головой сухой и резкий голос, — спать вам сейчас нельзя. Не для того вы тащили на себе своего товарища, чтобы он умер на берегу.
Борис поднял тяжелые веки и увидел высокого худого старика с густой седовато-рыжей бородой, в странном длинном балахоне, заляпанном краской.
— Кто вы такой? — враждебно спросил Борис.
— Представления отложим на потом, — ответил старик, — а сейчас можете еще немного его пронести? Тут неподалеку есть весьма удобная пещера.
Действительно, пещера была близко. Борис осторожно положил Алымова на сухие водоросли в углу.
— Быстро собирайте плавник! — командовал старик. — Если в самое ближайшее время вы не согреетесь, то будет плохо.
Они вдвоем быстро собрали целую кучу выброшенных морем досок, палок, разнообразных обломков. Только сейчас Борис почувствовал, насколько он промерз в ледяной воде. Холод сковал все тело, по нему пробегала волна судорог, и зубы стучали.
Старик ловко, с одной спички, разжег костер и велел Борису раздеться догола и сесть возле огня. Сам он раздел бесчувственного Алымова и уложил его рядом с костром на своем балахоне, оставшись голым до пояса. Торс его был мускулистый, от всего тела веяло силой. Старик достал из кармана штанов фляжку и протянул Борису:
— Пейте!
Когда Борис припал к фляжке, обжигающая жидкость пронзила молнией пищевод и ударила в желудок. Борис задохнулся на мгновение, закашлялся, но почувствовал, что оживает.
— Греческая водка! — усмехнулся старик. — Раньше не пробовали?
— Пробовал, — усмехнулся в ответ Борис и вспомнил свое путешествие в Батум с греческими контрабандистами полгода назад.
Старик посмотрел на него одобрительно и произнес:
— Ну, за вас я теперь спокоен. Займемся вашим другом.
Они растирали Алымову руки и ноги, наконец тот застонал и открыл глаза. Старик поднес к его губам фляжку. Алымов закашлялся и подскочил как ужаленный.
— Где мы? — Глаза его остановились на Борисе.
— На суше, — пожал тот плечами, — на этом свете…
— Это хорошо, что вы очнулись, — заговорил старик, — выпейте еще.
Он деловито наблюдал, как Алымов сделал два глотка, потом отобрал фляжку, убрал ее и наконец представился:
— Аристархов, Аполлон Андреевич.
— Не может быть! — Борис вспомнил это имя, довоенные вернисажи, скандальные истории… — Тот самый? — спросил он с интересом.
— Что значит — тот самый? — обиженно переспросил старик.
— Художник, скульптор…
— Ну допустим…
— Ордынцев, Борис Андреевич, а это Петр Алымов.
— Что ж, господа офицеры, — Аристархов встал и махнул рукой куда-то к скалам, — разрешите пригласить вас в мое скромное жилище.
Алымов был еще очень слаб, и Борис поддерживал его, когда они поднимались узенькой тропой наверх. Жилище Аристархова действительно было очень скромным, старик не рисовался. Это была маленькая глиняная хижина, крытая соломой, с двумя крошечными окошками. Внутри, однако, было тепло, и когда хозяин поставил самовар, хижина показалась Борису и вовсе прекрасной.
Под потолком были развешаны пучки сухих трав, наполнявших жилище живыми пряными запахами.
— А где же? — Борис обвел комнату взглядом в поисках мольберта и прочих профессиональных атрибутов. — Ведь вы художник?
— Мастерская у меня с другой стороны, — ответил старик, — а вообще я предпочитаю работать под открытым небом. Разумеется, когда позволяет погода.
Алымов окончательно пришел в себя после того, как художник напоил своих гостей горячим чаем, в который были добавлены душистые травы и щедрая порция адского напитка из фляги. Борис тоже отогрелся и отдохнул. Одежда просохла, чувствовал он себя комфортно, но где-то в глубине сердца застыла та самая холодная мгла, что надвигалась на него со дна моря, когда они плыли с Алымовым, связанные. Казалось, это черное облако сумело отобрать у него частицу жизни навсегда. Но некогда было прислушиваться к себе, ведь они еще не спаслись окончательно.
Неожиданно дверь хижины отворилась, и на пороге появилась свежая, как заря, девушка в простом крестьянском платье. Увидев незнакомых людей, она смутилась и отступила к дверям.
— Ой, Поля, ты не один… — Голос ее был чист, как горный ручей.
— Ничего, Лизанька, — успокоил ее старик, — эти люди отогреются и уйдут. Ты что-то хотела?
— Вот, Поленька, я ложку серебряную принесла, сделай мне браслетку с тем синим камушком!
— Сделаю, родная. Обожди маленько.
— Я попозже зайду. — Она метнулась к двери, встретив жесткий взгляд Бориса.
— Постой, постой, девочка! — резво поднялся Аристархов. — Не бойся, посиди здесь.
— А камушки дашь посмотреть?
— Иди сюда. — Он усадил ее в уголок и высыпал из лукошка блестящие разноцветные камушки.
Она по-детски захлопала в ладоши и засмеялась.
— Так и живете? — неприятно усмехнувшись, спросил Алымов. — Там, в городе, настоящая бойня, кровь, смерть, а у вас здесь рай, искусство, девушки красивые ходят…
— Оставьте девушку в покое! — резко проговорил старик и добавил тише: — Вы что, не поняли, что она блаженная? Они с матерью живут тут недалеко… после того как их выгнали из имения.
— Знакомое дело, — процедил Борис, — простите, мы не поняли. Разучились, знаете ли, за последнее время в девушках разбираться.
Они помолчали.
— Однако, — начал Борис, — вы не боитесь отпускать ее одну? Времена сейчас страшные…
— У кого поднимется рука обидеть блаженную? — высокопарно начал Аристархов, но Борис перебил его, вскочив на ноги:
— Господин художник, очнитесь! Перестаньте витать в эмпиреях! На дворе двадцатый год! Посадите ее под замок, хотя бы на то время, пока шляются здесь всякие красно-зеленые. Она слишком красива…
— Я понял, — пробормотал Аристархов.
— Вряд ли, — пожал плечами Борис, — но я вам советую быть более осторожным.
— Что вы собираетесь делать дальше? — спросил Аристархов.
— Спасаться, — вздохнул Борис, — нам нужна лодка.
— Вряд ли на лодке вы доберетесь до Керчи, — возразил старый художник.
— Но пеший путь на Туапсе был отрезан красными еще рано утром. — Борис вспомнил слова Саенко, чтобы они с Алымовым пробирались на французский миноносец «Сюркуф», и повторил: — Нам очень нужна лодка.
— Когда стемнеет, я провожу вас на берег и укажу рыбачью лодку, — пообещал Аристархов, — это все, что я могу для вас сделать.
— Вы уже и так много сделали — спасли нам жизнь, дали отогреться…
Аристархов махнул рукой и отошел к Лизаньке.
Миноносец «Сюркуф» стоял на рейде в прямой видимости берега, поэтому его командир капитан Жиро очень нервничал. Остальные корабли союзников ушли в Крым, но таинственный пассажир «Сюркуфа» просил еще немного подождать. Жиро не стал бы так рисковать, но этот русский полковник привез ему несколько ящиков прекрасного массандровского вина, и француз, знаток и любитель хороших вин, не устоял и обещал подождать еще немного.
Русский полковник стоял на мостике и осматривал в бинокль береговую линию. К счастью, берег в этом месте был довольно пустынен, красных не было, и Жиро решил дать этому ненормальному полковнику еще два-три часа.
Когда отведенное время было уже на исходе и капитан Жиро собрался отдавать якоря и выйти в море, русский полковник, словно прочитав его мысли, сказал:
— Господин капитан, вы получите ящик прекрасного крымского шампанского, если подождете еще час!
Жиро заколебался. Еще один час в этих опасных водах… в конце концов, он уже сделал для полковника все, что мог, — погрузил на борт сто человек побежденной белой армии. В праведном негодовании у капитана из головы совершенно вылетела такая интересная подробность, что за каждого из сотни пассажиров полковник заплатил ему ящиком вина — не такого замечательного, как то, массандровское, но все же отличного. Ящики были кое-как распиханы по всему кораблю, капитан собирался везти их на родину, во Францию, и совершить там совсем неплохую сделку.
Нет, капитан Жиро решил больше не ждать. Но с другой стороны, шампанское…
Он махнул рукой.
— Это мой долг офицера и союзника. Но только один час.
— Благодарю вас, капитан. — Русский полковник поклонился и снова поднес к глазам бинокль.
Но и этот час миновал, не принеся никаких новостей. Жиро пожал плечами и отдал команду:
— С якоря сниматься!
И в этот момент русский полковник закричал:
— Шлюпка! Справа по борту шлюпка!
Жиро поморщился — опять начинается суматоха, ему очень не хотелось принимать на борт еще нескольких человек — грязных, оборванных, перепачканных кровью, дурно пахнущих мужчин… И так уже привели сверкающий чистотой корабль в совершенно неприличный вид! Но союзнический долг… но прекрасное крымское вино…
Капитан приказал спустить трап и принять на борт русских.
Два офицера с трудом вскарабкались по трапу. Матросы помогли им подняться на борт. Худшие опасения капитана Жиро оправдались. Эти подозрительные господа явно уже несколько месяцев не принимали ванны. Они были небриты, грязны, когда-то аккуратные английские френчи изодраны в лохмотья и покрыты пятнами засохшей крови. О том, что это офицеры, напоминали выцветшие погоны, болтавшиеся на плечах.
— Борис Андреич, голубчик! — совершенно не по-военному воскликнул Горецкий. — И вы, Алымов… — Голос его дрогнул.
Он сделал шаг к ним, собираясь раскрыть объятия, но Борис перехватил презрительный взгляд капитана, относившийся, надо полагать, к их внешнему виду, потом посмотрел на самого Горецкого — в аккуратно пригнанном мундире, пахнущий хорошим одеколоном и табаком, полковник вызвал у него прилив раздражения, почти злобы.
— Здравия желаю, господин полковник! — отрывисто сказал он и отметил, что Горецкий остановил руки, поднятые для объятий.
— Рад вас видеть живыми, господа, — молвил Горецкий, — пройдите, вас накормят и дадут умыться.
«Что это со мной? — думал Борис, уходя. — Нужно радоваться, ведь мы спасены. Французы доставят нас в Керчь, мы вышли живыми из этого ада… Все это так, но сколько людей остались там навсегда… И кто в этом виноват?»
То самое черное облако сидело в нем и не давало радоваться жизни. Очевидно, Борис стал другим человеком.
Внизу налетел на них Саенко:
— Ваше благородие, Борис Андреич, родненький!
Из глаз его покатились две слезы и повисли на усах.
— Здорово, Пантелей Григорьевич! — обрадовался Борис. — Уж без тебя-то нигде не обойтись!
Они обнялись и расцеловались по русскому обычаю.
— Пойдемте скорее, я все укажу, — зашептал Саенко, — а то тут повар жадный такой — норовит питания положить самую крошечку, да и жидкая похлебка-то. Так я уж хлебца припас и колбаски… А солдатики, что наверху, на палубе, да по кубрикам распиханы, — те и вовсе голодные, разве что матросы чего дадут Христа ради… Эх и подлый же народ французы!
— Значит, взяли все же на борт наших? — уточнил Борис. — Тогда ты зря их ругаешь.
— Ох, знали бы вы, чего это Аркадию Петровичу стоило, — вздохнул Саенко. — Уж так он просил капитана этого, Жиро его зовут, уж так умолял. Нет, стоит на своем проклятый французишко — не было приказа, и все тут! А был у него приказ только насчет его сковородия. — Саенко страшно уважал полковника Горецкого и титуловал его, как полагалось, — его высокородием, но произносил титул своей обычной скороговоркой, так что получалось «ваше сковородие». — Значит, был у него приказ Аркадия Петровича взять на борт и доставить в Керчь, потому как оченно важные документы имеем при себе. — Саенко понизил голос до совершенного уже шепота.
— Да уж мы знаем, какой твой полковник важная и секретная птица! — усмехнулся Алымов.
Саенко оскорбленно поджал губы, потом махнул рукой и продолжил:
— Тогда Аркадий Петрович и говорит капитану этому, что возьмите, мол, людей за вино.
— Что-что? — переспросил Борис.
— А вот то, что вчера послал меня он на берег, когда я вас-то встретил. И пошел я прямо в имение одно, где погреба отличные еще до войны были. А там вина хорошие. И погрузили мы все это на подводы и привезли сюда. Так он, капитан-то, за каждый ящик по человеку согласился провезти. Сто ящиков распихал кое-как по миноносцу своему — это ж не торговое судно, не приспособлено груз перевозить, — распихал сто ящиков и взял сто человек без багажа. У-у, морда французская!
— Вот как, значит, жизнь человеческую за ящик вина купили. Эх, союзнички! А все остальные капитаны, значит, непьющие…
— Выходит, так, — угрюмо согласился Саенко.
Они пришли в крошечную каюту, кое-как умылись, переоделись в чистое белье, которое Саенко вытащил из своих закромов. Френчи задубели от морской воды, поэтому Саенко выскочил куда-то и вскоре вернулся. Через десять минут в каюту просунулась голова французского матроса в шапочке с красным помпоном. Голова обвела глазами каюту и, увидев Саенко, подмигнула черным глазом. Саенко выскочил в коридор и принес две матросские робы, поношенные, но чистые.
— Саенко, ты на что же робы эти сменял? — смеясь, спросил Борис.
— Известно на что, на вино, — насупился Саенко, — простому человеку тоже выпить хочется.
Поели жидкой французской похлебки и хлеба с салом, что принес запасливый Саенко. Алымов выпил чаю, вытер испарину на лбу и прилег на койку.
— Что-то нехорошо мне, надо спать, может, силы восстановятся. А ты, Борис, нож потерял, что ли?
— Да выронил где-то, пока тебя нес, — равнодушно ответил Борис.
Через минуту Петр задышал глубоко и ровно, Борис тоже пытался заснуть, но черное облако все давило и давило на сердце. Он заснул, как провалился в бездонную пропасть. Пробуждение было безрадостным. Саенко тряс его за плечо, приговаривая тихонько:
— Ваше благородие, Борис Андреич, проснитесь!
— Что? — Борис рывком сел на узкой койке. — Чего тебе? Вроде до Керчи еще далеко?
— Ваше благородие, ступайте к полковнику, — сказал Саенко с какой-то неуверенно-смущенной интонацией.
— Он зовет, что ли? — рассердился Борис. — Вот еще незадача, поспать не даст.
— Да не зовет, — с досадой ответил Саенко, — а только пошли бы вы с ним поговорили.
— Неохота мне с ним разговаривать, — честно признался Борис, — много чего ему есть сказать, да только все неприятное, как бы он на меня не обиделся.
— Зря вы так, ваше благородие, — укорял Саенко. — Он три часа на мостике простоял, все вас высматривал, и капитану, Жиро этому, утробе ненасытной, ящик шампанского дал, чтобы он вас дождался.
— Вот как? — Борис поднял брови. — Простых людей за вино, а меня, значит, за шампанское?
— Уж какое было. А только если б не он, вас бы тут не было, — твердо произнес Саенко. — Загляните к нему.
— Ладно, — поднялся Борис, — все равно разбудил.
Они прошли коридорами, поднимались по лесенкам, пролезали в какие-то люки, после чего Саенко постучал в дверь каюты и крикнул:
— Аркадий Петрович, можно к вам?
Ответ был неразборчив. Борис распахнул дверь и сделал шаг вперед. Аркадий Петрович Горецкий расположился за столом в расстегнутом френче. Пенсне его не сидело аккуратно на носу, как обычно, и даже не болталось на шнурочке, оно валялось на столе между стаканом и бутылками, которых было достаточное количество. Борис шагнул ближе и остановился изумленный. Полковник Горецкий был вульгарно и безнадежно пьян.
Осознав присутствие в каюте посторонних, полковник поднял голову и посмотрел на Бориса. Взгляд был не то чтобы мутный и не бессмысленный, но что-то было в нем не то, какая-то странная расслабленность. До этого Борис видел полковника в двух ипостасях: либо интеллигентным профессором, говорящим мягким голосом, будто читающим лекцию с кафедры университета, либо же грозным полковником, чьи черты приобретали чеканность императорских профилей на старых римских монетах. Теперь же перед Борисом сидел раздавленный судьбой немолодой усталый человек.
— А-а, Борис Андреич, — слабо улыбнулся Горецкий. — Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. — Он усмехнулся одними губами. — Саенко, принеси стаканы чистые!
— С чего это вы празднуете, с какой-такой радости? — неприязненно заметил Борис.
Он видел и нездоровую бледность, и отечные мешки под глазами, понимал, что Горецкий не только устал, но и болен, но частица черного облака, сидевшая в сердце с того момента, когда он начал тонуть, заморозила в нем все человеческие чувства: жалость, сострадание, радость от неожиданного спасения. Где-то глубоко-глубоко осталась в сердце любовь к сестре Варе, но сестра была так далеко…
— А с чего вы решили, что я праздную? — сделал вид, что удивился, Аркадий Петрович. — Я дегустирую. Мы с капитаном Жиро, видите ли, обменялись бутылками…
— Слышал уже, — невежливо вставил Борис.
— Вот это, — полковник указал на бутылку, — бургундское, «Шамбертен». Про него Дюма, видите ли, писал, что д’Артаньян закусывал его ветчиной. Ни черта Дюма в винах не разбирался! Специально для этого вина создали пате де фуа-гра с трюфелями…
— И где же у вас этот паштет? — издевательски спросил Борис.
Ему все надоело, хотелось поскорее убраться из этой душной каюты и уйти спать, потому что тело болело после давешних мытарств. Он отвернулся от укоризненного взгляда Саенко, принесшего чистые стаканы.
— Присоединяйтесь, Борис Андреевич, — радушно пригласил Горецкий.
— Я не желаю с вами пить! — процедил Борис и повернулся, намереваясь уйти, потом помедлил и присел в стороне от стола. — Я, разумеется, благодарен вам за спасение, за то, что вы уговорили капитана подождать несколько часов, но как быть с теми, кто остался там?
— Им уже ничем не поможешь. — Полковник устало откинулся на спинку стула.
— А раньше? — крикнул Борис так громко, что Саенко заглянул в дверь каюты.
— Все погибло. — Горецкий опустил голову.
Борис совершенно автоматически отметил, что седины у него в волосах ощутимо прибавилось.
— Произошла катастрофа всего Белого движения, — монотонно проговорил Горецкий. — Мы потеряли громадную, плодородную и густо населенную территорию, а также, вероятно, две трети нашей армии. В Новороссийске погибли результаты двухгодичной славной борьбы.
— Я всегда знал, что вы обладаете выдающимися аналитическими способностями, — ядовито проговорил Борис. — Готовите докладную командующему? Уж больно гладко выражаетесь!
Горецкий, не отвечая, налил в стаканы красного вина.
— Говорите, армия погибла? — раскаляясь, кричал Борис. — А если конкретно посчитать, сколько офицеров, оставленных в лазаретах, застрелилось? Сколько было расстреляно красными, а сколько — утоплено в бухте? Никогда наша армия не переживала такой катастрофы в боях с красными, говорите? Да ведь Новороссийск сдали без боя, и эту самую катастрофу устроили Белой армии знаете кто? Такие, как вы!
— Что? — вскинулся было Горецкий, но тут же бессильно опустил голову на грудь.
— Не делайте вид, что мертвецки пьяны, — угрюмо пробормотал Борис, — я все равно не поверю.
— Катастрофу армии устроил свой же собственный Генеральный штаб, — заговорил Горецкий хрипло.
— Вот именно, а вы — представитель этого самого штаба. Все время, что я служил у вас, мы все куда-то ездили, что-то передавали, о чем-то договаривались… И вот результат! Вы — представитель военного управления при Особом совещании. И что, черт побери, думал ваш шеф, генерал Лукомский?
— Эти генералы, они думали только о своих амбициях, — слабо защищался Горецкий.
— Все можно простить — нерешительность, плохой расчет. Деникин, да и остальные не представляли себе, когда учились в академиях, что будут когда-нибудь воевать против русских же. Но никогда, слышите — никогда армия не простит генералам Новороссийска. Бросить лазареты с ранеными! Допустить, что казаки оказались почти все в плену! Конечно, они сами метались, митинговали, и вообще кубанские казаки ненадежны, но куда же ваше-то ведомство смотрело! А где вы собираетесь брать лошадей для новых сражений, если они все остались в Новороссийске? А орудия, пулеметы?
— Деникин недолго останется на посту главнокомандующего…
— Однако теперь они, те, кто виноват в этом преступлении, эвакуировались на союзнических кораблях, а простые офицеры лежат на дне Новороссийской бухты.
— А как же вы спаслись? — неуверенно спросил Горецкий и заглянул Борису в глаза.
Тот отвернулся, не ответив, но в глазах его Горецкий сумел прочитать такое, что охота расспрашивать у него пропала.
— Ну и что я теперь, по-вашему, должен делать? — вздохнул Горецкий. — Застрелиться? Не могу, голубчик, — ответил он сам себе совсем не по-военному, — бумаги важные со мной, должен доставить по назначению…
— Куда направляется «Сюркуф»? — отрывисто спросил Борис.
— В Севастополь, но солдат высадим в Керчи.
— Нас с Алымовым тоже высадите в Керчи. Там мы найдем своих, из дивизиона, часть пойдет на формирование, потом я буду воевать на фронте до конца, потому что теперь не верю в победу Белой армии, с такими-то командирами… За помин души… — Борис залпом выпил вино и поставил стакан на столик, потом встал и сказал уже у двери: — Прощайте, полковник! Вряд ли мы увидимся скоро. — Он сделал шаг в коридор, но вернулся и закончил нелюбезно, глядя сзади на поникшие плечи Горецкого: — Прошу извинить за резкость. Разумеется, вы лично не можете отвечать за весь генералитет.
Полковник Горецкий не обернулся.
Глава четвертая
В декабре девятнадцатого года Вооруженные силы Юга России отступали под натиском Красной армии двумя огромными колоннами. Восточная группа во главе со Ставкой Деникина в составе Добровольческой армии, донских, кубанских и терских казаков отступала на Кавказ. В декабре генерал Май-Маевский был отстранен от должности командующего Добровольческой армией и ненадолго заменен Врангелем,[6] а затем Кутеповым. Западная группа белых войск включала отряды главноначальствующих Новороссийской области генерала Шиллинга и Киевской области генерала Драгомирова.[7] Западная группа отступала в Новороссию, прикрывая Николаев и Одессу.
Командование рассчитывало остановить натиск красных на Дону восточной группой и на Буге — западной, с тем чтобы оттуда перейти в наступление.
Находящийся посредине этих двух оперативных направлений Крым был, таким образом, приговорен к сдаче и не рассматривался как стратегически важная территория, поэтому для его защиты был выделен один только третий армейский корпус генерала Слащева. Численности Красной и Белой армий были к этому времени примерно равны — около пятидесяти тысяч каждая, но Белая армия была измотана боями и утратила энергию наступления.
Корпус Слащева состоял всего из двух тысяч двухсот штыков и тысячи трехсот шашек при тридцати двух орудиях.
Несмотря на то что почти все силы белых группировались на флангах, массы отдельных людей, дезертиров, штатских беженцев, интендантств, хозяйственных частей потекли в Крым. Вся эта толпа беглецов буквально запрудила полуостров, грабя местное население. В частях Добровольческой армии по три — пять месяцев не получали содержание, и голодные солдаты сбивались в шайки, чтобы изыскать себе средства существования. Каждый стремился побольше награбить и сесть на какой-нибудь пароход. Начальники гарнизонов способны были только на панические телеграммы, где им было справиться с наступившей разрухой и царящей в Крыму анархией. Вся эта масса неорганизованных людей нисколько не усилила корпус Слащева, а, наоборот, только осложнила его положение дезорганизацией тыла. Единственное полезное, что пришло в Крым с этой убегающей массой, были шесть испорченных бронепоездов и девять английских танков.
Пятого января 1920 года в Севастополь прибыл генерал Слащев. Немедленно по прибытии он собрал у коменданта Севастопольской крепости всех начальствующих лиц. Среди явившихся были начальник обороны Крыма инженерный генерал Субботин, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ненюков, начальник гарнизона Симферополя генерал Лебедевич-Драевский, наштафлота[8] капитан первого ранга Бубнов, начальник дорог инженер Соловьев и другие.
Тридцатипятилетний генерал, с бледным лицом и горящими глазами кокаиниста, Слащев не оставил камня на камне от подготовленного Субботиным плана обороны полуострова.
— Я осмотрел перешейки. На Перекопском валу и Сальковском перешейке вырыто несколько окопов и натянута проволока — и это все. Такие укрепления не удержишь под перекрестным артиллерийским огнем. И где, позвольте вас спросить, будут жить на перешейке войска? Ведь, кажется, время сейчас зимнее? Или вы не заметили?
— Придется в окопах, — обиженно ответил генерал Субботин.
— Ну далеко вы на своих укреплениях уедете! — желчно воскликнул Слащев. — Вероятно, дальше Черного моря…
Он обвел присутствующих взглядом. Под его горящими бледным огнем глазами крымские начальники поежились, как на ледяном ветру.
— Я поклялся удержать Крым, — сказал Слащев полным сдержанной ярости голосом, — и я его удержу. Это для меня дело чести. Фронт — моя забота, но для непоколебимого фронта мне нужен надежный тыл. Во-первых, для снабжения войск необходима железная дорога на Перекоп. Она должна быть выстроена за один месяц. Этого требуют нужды фронта, а тот, кто не понимает нужд фронта, возьмет винтовку и пойдет изучать их в окопах рядовым.
При этих словах и обыкновенно резкий голос Слащева достиг звучания скрежещущего на морозе металла.
— Второе, что мне нужно, — покончить с анархией и разрухой в тылу, покончить с шайками грабителей, наводнивших Крым, покончить с царящей в тылу вакханалией, со спекуляцией, охватившей все слои общества. Колебаний быть не может. Я должен обеспечить порядок в тылу любой ценой, не останавливаясь ни перед чем. — Слащев сделал паузу и полез было за чем-то в нагрудный карман френча, но одумался и продолжил: — Необходимо: во-первых, расчистить тыл от банд, и прежде всего от негодных начальников гарнизонов, в особенности потому что «рыба с головы воняет». Во-вторых, удовлетворить насущные нужды рабочих и крестьян, чтобы лишить их причин для бунтов. В-третьих, раздавить в зародыше все выступления против защиты Крыма. Средства для этого — удаление негодных начальников гарнизонов, от увольнения до смертной казни, создание отрядов для ловли дезертиров, уменьшение реквизиций и повинностей у крестьян.
В борьбе не может быть полумер! Если бороться, то бороться до конца, до предела — или бросить борьбу: мягкотелость, соглашательство, ни рыба — ни мясо, ни белый — ни красный — это слабоволие и общественная слякоть.
Слащев закончил выступление и снова обвел взглядом участников совещания. Зрачки его сузились в булавочную головку, и оттого взгляд стал особенно страшен. Присутствующие угрюмо молчали. Пауза затягивалась. Наконец поднялся со своего места адмирал Ненюков, комфлота, подчиненный одному только Деникину, и решительно произнес:
— Я, безусловно, верю вам, господин генерал. Отдаю флот в ваши руки. Все, что вы мне прикажете, исполню.
Энергия и беспощадность Слащева сделали свое дело. Уже через месяц заработала железнодорожная ветка, обеспечивающая снабжение перекопских позиций. Инженера Соловьева, который заявил, что сделать эту работу в такой короткий срок невозможно, Слащев отстранил и назначил на его место энергичного и знающего путейского инженера Измайловского. Сняли запасные пути Евпаторийской ветки, и к февралю дорога пропустила первые составы. Поезда шли очень медленно, но это избавило Слащева от необходимости обременять крестьян подводной повинностью, вызывая их недовольство.
Суровые меры помогли навести относительный порядок в тылу, во всяком случае, никаких открытых беспорядков и саботажа не было.
Саму оборону крымских перешейков Слащев организовал следующим образом: в окопах он оставил маленькое охранение, часто сменявшееся, а основные силы корпуса разместил в теплых домах в деревнях неподалеку от перешейков. При подходе красных охранение должно было, не принимая бой, быстро отступить, дав тем самым сигнал основным частям.
Красные почти сутки должны были дебушировать[9] по перешейкам под мощным артиллерийским огнем и, замерзшие и усталые, попасть под контратаку свежих слащевских частей.
К 21 января красные закончили блокирование перешейков. Назревал первый бой. В случае победы красных он означал окончательный захват ими Крыма, в случае победы белых — имел бы для них колоссальное моральное значение.
Никто в ставке не верил, что Слащев удержит Крым своими ничтожными силами, никто в тылу не верил в это — все сидели на чемоданах и искали любой возможности попасть на пароход. Да и в настроении войск произошла перемена. За время службы под командой Слащева эти части ни разу не потерпели поражения и шли за своим командиром куда угодно, но сейчас под влиянием общего развала Белой армии, под влиянием дезертиров и беглецов из армии Врангеля солдаты усомнились в успехе и возможности удержать Крым. Частая смена генералов лишила войска веры в командование, внушила опасения, что их бросят на милость победителя, а какова эта милость, все уже хорошо знали.
Стремясь поддержать моральный дух своих солдат, Слащев издал приказ, в котором заявил: «Вступил в командование войсками, занимающими Крым. Объявляю всем, что, пока я командую войском, из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести».
Слащев жаждал боя. Только его удачный исход мог дать ему полную власть над положением, власть над войсками, возможность бороться с разлагающимся тылом и возникшими в тылу красно-зелеными и прочими бандами.
Победа должна была оздоровить общественное настроение всего военного и гражданского Крыма.
Наконец на рассвете 23 января красные начали наступление на Перекоп. Выставленное на перешейке охранение — Славянский полк численностью всего сто штыков, как и предполагалось, бежал. Красные заняли вал и тянулись в перешеек. Двигаясь за Славянским полком на юг, они заняли Армянск и направились к Юшуню.
Слащев уверился в победе: красные играли по его сценарию.
Стемнело. Красным пришлось ночевать в открытом поле при двадцатиградусном морозе.
* * *
— У аппарата Деникин.
— У аппарата Слащев.
— Яков Александрович, по сведениям от англичан, Перекоп взят красными. Что вы думаете делать дальше в связи с поставленной вам задачей?
— Антон Иванович, красными взят не только Перекоп, но и Армянск. Защиту Крыма я считаю делом своей чести. Завтра враг будет наказан.
В тылу началась паника. В портовых городах пытающиеся уехать люди штурмовали пароходы. О сдаче Перекопа и Армянска было сообщено в газетах. Губернатор Татищев засыпал штаб телеграфными запросами о состоянии дел.
На рассвете 24 января красные вышли с перекопского перешейка и тут же попали под фланговый огонь с Юшуньской позиции. 34-я дивизия Слащева перешла в контратаку, в то же время оставленный красными в тылу Виленский полк ударил по ним с севера, следом пошла в атаку Донская конная бригада Морозова — тысяча шашек мощной лавой разлилась по перешейку, двигаясь к югу.
В полдень Слащев продиктовал донесение Деникину: «Наступление красных ликвидировано, отход противника превратился в беспорядочное бегство, захваченные орудия поступили на вооружение артиллерии корпуса».
Охранение белых заняло прежнее положение. Остальные части разошлись по квартирам. Развитие наступления было запрещено ставкой.
Этот бой, небольшой по продолжительности, по занятому им пространству и по численности участвовавших в нем войск, сыграл огромную роль в Гражданской войне: он продлил ее еще на целый год, доказав правильность избранной Слащевым тактики, вернув войскам уверенность в своих силах и веру в своего командира, послужив основой удержания белыми Крыма и создав плацдарм для эвакуации остатков Добровольческой армии из Новороссийска и для создания из разбитых, разрозненных деникинских частей Русской армии генерала Врангеля.
Вечером 24 января Слащев в своем салон-вагоне диктовал приказы на следующий день. В самый разгар работы явился адъютант генерала сотник Фрост, очень исполнительный, но недалекий офицер, и доложил, что губернатор Татищев настоятельно просит сообщить о положении на фронте. Озабоченный ситуацией губернатор звонил в течение дня каждые пять минут. Разумеется, штаб корпуса давно уже сообщил ему о победе, но Татищев хотел получить известие лично от командующего. Слащев, и всегда крайне желчный и раздражительный, взорвался: он занят делом, в его руках оборона Крыма, а ему досаждают по пустякам штатские паникеры — и резко ответил адъютанту:
— Что ж, ты сам сказать ему не мог? Так передай, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов!
Фрост, по всегдашней своей исполнительности, передал все слово в слово. Телеграфная лента же по случайности попалась в руки репортерам, и началось! На Слащева посыпались жалобы и выговоры, дошло даже до Деникина, но фраза эта сделалась в Крыму ходячей.
В Керчи французы высадили всех своих временных пассажиров, кроме полковника Горецкого. Видно было, что союзникам не терпелось избавиться от этих «russe terribles». Капитан Жиро с презрительным выражением на холеном лице наблюдал за их высадкой и распорядился немедленно произвести на корабле генеральную уборку. Впрочем, вытерев с палубы следы грязных сапог, французские матросы не смогли убрать с миноносца неуловимое ощущение тоски, подавленности, отчаяния, оставленное на «Сюркуфе» солдатами разбитой и преданной деникинской армии.
Керчь кипела и бурлила. Улицы и набережные были полны озлобленными изверившимися добровольцами. Казаков попадалось мало — значительная часть донцов, не подчинившись приказу Деникина, ушла не в Новороссийск, а в Грузию, где правительство меньшевиков многих из них вскоре выдало красным, а некоторые кубанцы разбежались по своим домам.
Госпиталя и лазареты ломились от раненых, легких уже давно не брали, и они слонялись по городу в толпе однополчан. Вся эта голодная, почти неуправляемая масса, оборванная, почти безоружная, мало напоминала победоносную Добровольческую армию минувшей осени, едва не дошедшую до Москвы в героическом сентябрьском наступлении.
Проталкиваясь сквозь толпу на одной из приморских улиц, Борис увидел знакомое лицо.
— Осоргин! — окликнул он высокого бледного офицера в простреленной кавалерийской шинели.
— А, господин поручик! — Осоргин улыбнулся обычной своей кривой улыбкой, напоминающей волчий оскал. — Не рассчитывал здесь вас встретить! Думал, вы с вашим таинственным покровителем давно уже в Константинополе, а то и в Париже!
— Зря вы так, поручик! Я такой же солдат, как вы, и прошел всю эту кошмарную дорогу от Ценска до Новороссийска. Да и полковник, которого вы помянули, тоже здесь, в Крыму. Я только сейчас приплыл на «Сюркуфе»…
— А, так вас союзнички с комфортом доставили! А нас везли на «Святополке», как овец, друг к другу вплотную, не повернуться, не переступить. Человек сознание теряет, а упасть некуда — так и стоит со всех сторон сжатый… Может, и мертвые стоя плыли… Хорошо хоть перед посадкой не ели, не пили, а то ведь по нужде не выйдешь, почти двое суток терпеть пришлось!
— Мне кажется, об этой эвакуации наши отцы-командиры вовсе не подумали, — вставил Борис, вполне разделявший в данном случае знаменитую осоргинскую злобу. — Транспорты в Новороссийске не были готовы, а что и были — так стояли и ждали неизвестно чего…
— И вообще удивляюсь, как мы доплыли! — продолжал Осоргин. — На полпути попали под шальной огонь красного орудия, люди на палубе шарахнулись, и наша посудина чуть не перевернулась. Хорошо, капитан, решительный человек, так рявкнул на людей, что сразу панику прекратил. А снаряды красных все равно не долетали, чересчур далеко было.
— Значит, флотские командиры не виноваты в провале эвакуации. Все зло в высшем командовании, в генералах. Они в ответе за всех погибших, за всех оставленных на убой.
Осоргин посмотрел на Бориса заинтересованно, новыми глазами и, подойдя к нему ближе, вполголоса сказал:
— Я вижу, вы стали мыслить так же как я. Честно говоря, прежде я вам не доверял… Но впрочем… — И словно бросаясь в ледяную воду, он заговорил: — Есть человек, капитан Орлов. Он объединяет вокруг себя офицеров, которые больше не в состоянии терпеть генеральский произвол, бездарность, эгоизм. Он хочет создать новую армию, освобожденную от высокопоставленных предателей, которые думают только о себе, о своей шкуре, о своих богатствах, предавая подчиненных. Сейчас он в Симферополе, создал там отряд, контролирует положение в городе. Я собираюсь к нему. Едем со мной!
В это время к разговаривающим подошел Алымов. Борис повторил для него слова Осоргина, они переглянулись, и Петр сказал:
— Ну что ж, поглядим, что за птица этот Орлов.
В Симферополе царили относительный порядок и болезненное лихорадочное возбуждение. Молодые офицеры на каждом углу ругали Деникина и говорили о том, как славно будет воевать без предателей-генералов. Только два имени произносились с уважением: капитана Орлова, признанного лидера младшего офицерства, и генерала Слащева — победителя в перекопском бою, защитника Крыма, которого все признавали человеком чести и бессребреником. Капитан Орлов заявлял своим сторонникам, что Слащев — его единомышленник и что он, Орлов, действует с одобрения Слащева.
Прибыв в Симферополь, Борис и его спутники узнали, что Орлов совместно с членом императорской семьи князем Романовским, герцогом Лейхтенбергским, взяли власть в городе в свои руки и арестовали военного коменданта, губернатора и находившихся в Симферополе генералов. Арест был произведен именем Слащева.
В тот же день из Джанкоя пришла телеграмма:
«НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ АРЕСТОВАННЫХ. ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ПРИКАЗА ВЗЫЩУ ЛИЧНО. ОТРЯДУ ОРЛОВА ПОСТРОИТЬСЯ ВОЗЛЕ ВОКЗАЛА ДЛЯ СМОТРА. ВЫЕЗЖАЮ В СИМФЕРОПОЛЬ.
СЛАЩЕВ».* * *
Грязно-зеленый броневагон медленно вылез из-за беспорядочного скопления товарных составов. Ряды орловцев заволновались.
— Не посмеют по своим стрелять! — выкрикнул кто-то в глубине строя.
Показался весь бронепоезд — короткий, без орудийных платформ. Тяжело лязгнув, он остановился, распахнулась блиндированная дверь, на перрон выпрыгнул солдат, откинул лестницу, и по ней быстрым шагом спустился высокий бледный человек с выпуклым лбом, ярко-красными губами и пылающим взглядом, в длинной шинели с золотыми генеральскими погонами. Широким тяжелым шагом, обметая ноги полами шинели, он устремился к взволнованным рядам добровольцев. Следом за ним едва поспевал молодой ординарец с нежным и одновременно жестоким лицом. Деревянная коробка «маузера» болталась на боку ординарца и била его при каждом шаге. Борис почему-то не мог отвести взгляда от этой коробки.
Генерал, стремительно прошагав на середину перрона, оказался против самого центра орловского отряда и яростным, обжигающим горло голосом заговорил:
— Солдаты! Сейчас, когда на крымских перешейках решается судьба России, когда третий корпус бьется там с огромной силой красных, когда дорог каждый штык, каждая шашка, каждый патрон, — сейчас вы находите возможным поднимать мятеж, отрывая меня с фронта, где я необходим, отрывая с того же фронта силы…
Внезапно генерал увидел в строю перед собой знакомое лицо. Выхватив узнанного человека взглядом, как железной рукой, он скомандовал:
— Прапорщик Унгерн! Выйти из строя!
Рыжий коренастый прапорщик, сильно хромая, но стараясь печатать шаг, вышел и остановился перед генералом.
— Прапорщик! Вы были со мной в Кубанском походе, были со мной в первом крымском десанте. Вы когда-нибудь видели, чтобы Слащев прятался от пуль?
— Никак нет! — чистым и радостным голосом выкрикнул Унгерн.
— Вы когда-нибудь видели, чтобы Слащев бросал своих солдат? Видели, чтобы Слащев отделял себя от армии, занимался интригами и мародерством, когда его солдаты проливали кровь?
— Никак нет! — ответил прапорщик еще громче и еще певучее, чем прежде.
— Так почему же сегодня вы с теми, кто не исполняет моих приказов?
Борис почувствовал, что у него на глазах творится черная магия. Слова Слащева не имели почти никакого смысла, но их интонация, горячий голос, которым они произносились, и само лицо молодого генерала так действовали на солдат и офицеров, что им невозможно было не верить. Ордынцев понял, что сейчас сам он готов делать все, что прикажет ему Слащев. То же самое выразил прапорщик Унгерн:
— Я всегда буду с вами, господин генерал! Нас возмутило предательское поведение старших начальников, ужас отступления и эвакуации…
— Вы солдаты, а не гимназистки! — прогремел Слащев, обращаясь уже ко всему орловскому отряду. — Солдат не может копить обиды! Он защищает Родину, исполняет долг и подчиняется командиру! Крым — последняя пядь русской земли, которую мы защищаем! Если вы верите мне, если вы верны присяге, идите на фронт, на Перекоп! Орлова передайте мне, я отдам его под суд, а сами — на фронт!
В рядах орловцев произошло замешательство, и раздался чей-то растерянный голос:
— Господин генерал, Орлов сбежал!
— Вы видите, какого человека хотели поставить над собой? — Слащев говорил, обращаясь к каждому в отряде. Голос его стал мягче и доверительнее, и от этого еще увеличился его магнетизм. — Орлов — неудачник, не подвинувшийся за время войны выше капитана, но с самомнением и самолюбием наполеоновским. Я понимаю ваши чувства. Вас предавали многократно, но вы солдаты, и вы должны быть выше этого. Еще раз повторяю: никому из вас не будет предъявлено каких-то обвинений, вы были обмануты Орловым и его присными. Вернитесь в строй, исполняйте долг, защищайте Россию!
Красивый ординарец за спиной Орлова первым молодо и звонко закричал: «Ура!» — и весь отряд подхватил за ним.
Слащев оглядел строй, подозвал к себе старших офицеров, отдал распоряжение и вернулся в вагон. Его ждали на фронте.
Глава пятая
В Севастополе, на Корабельной стороне, на улице Николаевской в маленьком беленом домике с тремя окнами, выходящими на улицу, собиралось совещание подпольного комитета. Хозяин дома, одноногий сапожник Парфенюк, являлся одновременно участником подполья, считался надежным человеком и пользовался безграничным доверием товарищей. На нынешней явочной квартире собирались впервые. Раньше заседания проходили на Екатерининской в доме у вдовы околоточного Авдотьи Саламатиной. Домишко ее стоял в глубине сада, к тому же одна калитка выходила на Екатерининскую, а другая — в небольшой безымянный переулок, откуда без труда можно было проскочить на совершенно другую улицу, Варваринскую. И хотя сама вдова в силу своего положения бывшей жены околоточного доверия у комитета не вызывала, дом ее располагался очень удобно, так что подпольщики пользовались бы этим местом для встреч и дальше, если бы не случилось досадной неприятности, а именно: в доме напротив по той же Екатерининской улице открылся бордель. Теперь поздним утром скучающие девицы в неглиже выглядывали из окон и задевали прохожих, а также пялились на окна напротив, и, разумеется, от их нахальных глаз не ускользнул бы тот факт, что в домике вдовы собираются раза два в неделю посетители, преимущественно нестарые мужчины. Девицы могли бы заподозрить конкуренцию. А вечером на Екатерининской творился и вовсе форменный кошмар: подъезжали экипажи, слышались крики пьяных офицеров, визг девиц и хлопки шампанского. Словом, тихая Екатерининская улица совершенно перестала подходить для опасного дела, и пришлось срочно менять квартиру, чему вдова Саламатина безмерно огорчилась. Решили перебраться к Парфенюку, который в целях конспирации отправил жену в деревню.
Верхушка членов большевистского подполья состояла из девяти человек. Необходимо было иметь нечетное число членов, так как решения принимались голосованием.
Собирались поодиночке, петляя и оглядываясь по сторонам, чтобы не привести «хвоста». В качестве пароля сапожник выставил в одном из окон горшок жениной пышно цветущей герани. Если герань спокойно розовела на мягком мартовском солнышке — значит, все в порядке и можно заходить.
Пятеро членов комитета были в сборе, дожидались четверых, в том числе председателя товарища Макара. Хозяин на кухне разжигал самовар, хозяйственный Семен Крюков — рабочий из портовых доков, который занимался в основном агитацией, — вынимал из буфета чашки и колол сахар на мелкие кусочки. Двое, что заведовали подпольной типографией — Гольдблат и Якобсон, — держались в сторонке. Гольдблат рассматривал фотографии на стенке в одной общей рамке, а Гришка Якобсон — молодой кудрявый парень в черной сатиновой косоворотке, — скорчившись на стуле, читал книжку. Последний присутствующий в комнате — бывший унтер-офицер Иван Салов, он считался руководителем разведывательной работы среди военных — скучал у окна, изредка посматривая на улицу сквозь щелочку в занавеске.
— Что-то скучно мне! — Салов встал и потянулся с хрустом. — Ты бы, хозяин, водочки, что ли, на стол поставил, а то с ума сойти можно, дожидаючись.
Сапожник буркнул из кухни что-то неодобрительное и неразборчивое. Остальные никак не отреагировали на слова Салова, только Гриша Якобсон оторвался от книжки и подумал про себя, что таким, как Салов, сумасшествие не грозит, им сходить не с чего. Но вслух ничего не сказал.
Раздались легкие шаги, кто-то потоптался в сенях, и в комнату вошла, разматывая платок, Антонина Шульгина — товарищ Тоня, как звали ее в подполье. Она держала связь с другими организациями, с Ялтой и Симферополем.
— Здравствуйте всем! — весело проговорила она, блестя голубыми глазами.
Салов оживился, взгляд его подернулся масленой поволокой, он подскочил было к девушке, намереваясь помочь ей снять пальто, но глаза ее при виде Салова мигом потемнели не то от гнева, не то от какого-то нехорошего воспоминания, она твердо отвела его руку и отошла к столу, бросив мимолетный взгляд в осколок зеркальца на комоде, который, как и пышно цветущая герань, говорил о том, что в маленьком домике на Николаевской улице в недалеком прошлом жила женщина, и следы ее пребывания еще не успели исчезнуть. В зеркальце отразились два синих Тониных глаза, чуть вздернутый нос и пухлые розовые губы на чистом лице. Чтобы мужчины не подумали, что она легкомысленная кокетка, Тоня поскорее нахмурила брови и отошла от комода.
Хлопнула дверь так, что домик содрогнулся, и, едва протиснувшись под низкую притолоку, вошел мужчина, обветренное красно-бурое лицо которого и старый бушлат говорили о том, что человек этот имеет отношение к морю.
— Кого ждем? — гаркнул он.
— Товарища Макара и этого, нового… — Салов поморщился, — как его… которого прислали…
— Борщевский, — назвала Тоня, — Антон Борщевский.
— Что за птица? — пробасил матрос.
— Прислали неделю назад из Симферополя для подпольной работы, — объяснила Тоня. — Ты, товарищ Кипяченко, на прошлом заседании не был, вот и не видел его. Мандат у него от Крымского подпольного комитета, от самого товарища Мокроусова.
— Фу-ты ну-ты! — фыркнул матрос, но заметил, как неодобрительно посмотрел на него пожилой Семен Крюков, рабочий из доков, и замолчал.
Оставшиеся двое подошли одновременно. Пока товарищ Макар неторопливо снимал в сенях свой белый полушубок, Антон Борщевский, достаточно молодой человек, смуглый, с черными длинными волосами, вбежал в комнату и не здороваясь напустился на хозяина:
— Вы что — с ума сошли?
— А что? — оторопел тот.
— Что вы сделали с окнами?
— Выставил опознавательный знак в виде цветка, как вы говорили на прошлом заседании.
— А занавески, зачем вы задернули занавески?
— Как зачем? Чтобы не было видно, чем мы занимаемся!
Борщевский сел на стул и сложил руки на груди.
— А вы, простите, по профессии — сапожник?
— Так точно, — отвечал Парфенюк, хоть ему и очень не нравился издевательский тон Борщевского.
— Так, стало быть, об эту пору, то есть днем, вы должны работать, то есть сапоги тачать?
— Оно конечно, — не мог не согласиться Парфенюк.
— А как, простите, вы можете работать, если все окна наглухо завешены?
— Ну, мил человек, — лениво протянул Салов, — что ты к нему пристал? Ну, может, он сегодня не работает, может, он в запое…
— А что тогда делаем здесь мы — вся компания? — рассердился Борщевский. — Стало быть, вот как это выглядит со стороны: в домик сапожника поодиночке собираются люди и что-то делают там при задернутых средь бела дня занавесках. Да тут не то что филер из контрразведки, тут самая глупая соседская баба сообразит, что дело нечисто!
В это время в комнате появился руководитель севастопольского подполья товарищ Макар. Росту он был невысокого, но плечи достаточно широкие, и это вкупе с неторопливыми движениями и негромким разговором производило впечатление какой-то скрытой силы. Чувствовалось, что человек этот твердо знает, чего хочет, но вот чего он на самом деле хотел, знал только он один, и никого в свои тайные мысли товарищ Макар посвящать не собирался. Он спокойно разглядывал горячившегося и разговаривавшего на повышенных тонах Борщевского, и в маленьких, близко посаженных глазках его стояло непонятное выражение.
— Товарищи! — воскликнул Борщевский. — По-моему, вы недооцениваете всю важность подпольной работы. Осторожнее надо быть и аккуратнее, соблюдать конспирацию. Не нужно недооценивать контрразведку, там работают отнюдь не дураки!
— Ты к чему это клонишь? — вдруг зарокотал матрос. — В контрразведке, говоришь, не дураки, а мы, значит, дураки?
— А вы, собственно, кто, товарищ? — оглянулся Борщевский. — По-моему, мы раньше не встречались…
— Не встречались, — протянул матрос, разглядывая его в упор. — А жаль. И я, значит, буду Федор Кипяченко.
— Товарищ Кипяченко у нас руководит всей подрывной работой, — вставила Тоня, и от ее свежего звонкого голоса разошлись облака тревоги и неприязни, что начинали сгущаться в комнате. Борщевский протянул матросу руку, и тот пожал ее, чуть помедлив.
— Правильно говорит товарищ Борщевский, — донеслось с порога неторопливое, — аккуратнее нужно к работе относиться. Враг, товарищи, не дремлет. А сейчас раз все в сборе, то закрой, товарищ Парфенюк, двери и занавески отдерни. Пусть все знают, что нам скрывать нечего.
Когда все расселись и отхлебнули чаю, председатель комитета обвел присутствующих внимательным взглядом маленьких, близко посаженных глаз и начал негромко:
— Положение, товарищи, в городе очень тревожное. Работа комитета проводится успешно. Наши воззвания к войскам и населению печатаются часто и расклеиваются аккуратно на видных местах. Рабочие, товарищи, должны знать правду о положении на фронте, о наступлении красных. Вот, товарищ Гольдблат, — он достал из кармана и протянул руководителю типографии свернутый лист бумаги, — это последняя оперативная сводка белых о положении на фронтах. В ней сообщается, товарищи, о том, что на сторону красных переходят целые дивизии Колчака, о взятии его в плен. Как всегда, товарищ Гольдблат, сделай, пожалуйста, специальное добавление к сводке от нашего подпольного комитета, где разъясняется вся бесцельность дальнейшей борьбы с красными.
— Сделаю, — кивнул Гольдблат.
— Дальше, Семен Ильич, как у тебя в доках, какие настроения у рабочих?
— По-разному, — хрипло ответил Крюков, — но работаем, агитируем, на морском заводе есть толковые люди… Но надо бы оратора какого поголосистее, а то в прошлый раз прислали какого-то жидковатого.
— Вот Антонину возьми, у нее голос звонкий, — предложил Салов.
— Нет уж, — отмахнулся Крюков, — ты, дочка, не обижайся, но в порту тебе делать нечего, там народ уж больно охальный… Вот в рабочем клубе, что на Базарной, тебе можно, там люди посолиднее, будут слушать…
— Давайте, я пойду! — предложил Борщевский. — А то, я вижу, хромает у вас агитационная работа.
— Это можно, — согласился Крюков, оглянувшись на председателя.
— Теперь, товарищи, о главном, — продолжил Макар, — о подготовке к вооруженному восстанию. Обстановка сейчас для этого сложилась самая подходящая. Белые озабочены обстановкой на фронте, гарнизон в городе немногочисленный и состоит в большинстве из мобилизованных и пленных красных, среди них есть у нас проверенные товарищи и много сочувствующих. Салов, как у тебя дела? Формируешь проверенную группу, которая будет потом ядром гарнизона?
— Нормально все, — откликнулся Салов.
— А ты, товарищ Кипяченко, был на дредноуте «Воля», говорил с матросами о восстании?
Матрос всю предыдущую неделю посвятил общению с моряками, для этой цели он прочно обосновался в портовом кабаке. Приходили туда и матросики с «Воли», Кипяченко пил с ними и заводил беседы. В ходе этих бесед выяснилось, что на флоте очень много недовольных, потому что от водки языки у матросов развязывались и море становилось по колено.
— Теперь плохие новости, — продолжал товарищ Макар. — Наш человек, с которым мы посылали бриллианты в Новороссийск для того, чтобы нам достали оружие, пропал. То есть известно, что он прибыл на место, но вот что с ним произошло дальше — никто не знает. Я, товарищи, далек от мысли, что он оказался предателем и скрылся с камнями. Думаю, что он попался в руки контрразведки. Так или иначе, но мы остались без оружия, а без оружия, сами понимаете, ни о каком вооруженном восстании не может быть и речи. И тогда мы переходим к запасному варианту нашего плана.
— А я давно говорил, — поднялся со своего места Салов, — есть у меня верный человек, может помочь.
— Кто такой? — оживился Борщевский.
Он даже подался вперед и не заметил, как блеснули недовольством маленькие глазки товарища Макара. Впрочем, он быстро опустил их, так что перехватить его взгляд успела только Антонина, потому что смотрела на него не отрываясь.
Салов неодобрительно покосился на Борщевского и продолжал:
— Сотрудник артшколы, прапорщик Василий Губарь. Имеет возможность раздобыть документы, по которым нам выдадут на артиллерийском складе оружие и боеприпасы. Сам он из поповского сословия, но нашему делу сочувствует. Проводил я с ним беседу и в принципе предварительную договоренность имею. — Для придания веса своим словам Салов употреблял солидные обороты речи.
— А как вы с ним познакомились? — расспрашивал настырный Борщевский.
— Как-как, — помрачнел Салов, — известно как. Барышня одна меня с ним познакомила…
— Что за барышня, как зовут? — не отставал Борщевский.
— Слушай, может, тебе еще и адресочек дать барышни этой? — рассвирепел Салов. — Барышню Лелей зовут, и, между прочим, человек она мне не посторонний, жена вроде. А этот, Василий, — ее брат двоюродный.
— А раньше вы с ним не встречались? — продолжал Борщевский, ничуть не смущаясь. — Все же это как-то… ну, настораживает, что ли… Значит, как только вы упомянули при жене, что хотелось бы найти человека, который имеет связь с артиллерийскими складами, у нее сразу же обнаруживается сочувствующий нашему делу двоюродный брат, который готов помочь… Я правильно излагаю?
— Ну и что здесь такого странного? — вступил матрос Кипяченко. — В городе много сочувствующих коммунистам.
— Тут еще вот какой вопрос, — смущенно как-то заговорил Салов. — Помочь-то он поможет, но вот следует ему за это заплатить… «Колокольчиками» возьмет. Три тысячи рублей.
— Какой же это сочувствующий, ежели он за помощь денег просит? — недовольно высказался рабочий Семен Крюков.
Но Борщевский, услышав про деньги, совершенно успокоился и перестал задавать провокационные вопросы Салову. Зато товарищ Макар, до этого молчаливо куривший, пошевелился и откашлялся, чем привлек к себе общее внимание.
— Положение, товарищи, очень серьезное. Оружие нам нужно как воздух. И при таком раскладе мы не можем отмахнуться от предложения товарища Салова. А что деньги для этого нужны, то и в Крымском крайкоме это понимают. Не зря они посылали нам деньги вместе с документами. — Он сделал паузу и в наступившей тишине посмотрел на Антона Борщевского.
Тот беспокойно задвигался, привстал было с места, но сел, твердо глядя в глаза Макару.
— Товарищ Борщевский, повтори вот тут для ранее отсутствовавших, как случилось, что деньги, которые тебе дал крайком, пропали.
— Повторяю еще раз, — вздохнул Борщевский. — Мы выехали из Екатеринослава. Там сейчас Крымский краевой партийный комитет размещается…
— А ты сам-то, товарищ, давно в партии состоишь? — подозрительным голосом поинтересовался товарищ Макар.
— Я, товарищи, раньше состоял в партии левых эсеров, но убедился, что их соглашательская политика отдаляет скорейшую победу пролетариата над капиталом, поэтому порвал с эсеровской партией. Так что я с восемнадцатого года в партии большевиков.
— Понятно, — протянул матрос.
— Значит, выехали мы из Екатеринослава. Я и еще двое товарищей — Голубев и Слободяник. Красноармейцы довезли нас до перешейка, дальше мы должны были пробираться пешком через линию фронта. Бумаги были у Голубева, деньги у Слободяника. Я запомнил наизусть адреса явочных квартир в Симферополе, Севастополе и Ялте, а также инструкции для подпольного комитета.
Мы долго шли ночью, разрезали колючую проволоку, после по тому, что осветительные ракеты стали рваться позади нас, мы поняли, что фронт остался позади. Чтобы не привлекать внимания в прифронтовой полосе, мы трое решили разделиться и встретиться в Симферополе, потому что документы, которыми нас снабдили в Екатеринославе, в прифронтовой полосе были недействительны. Однако когда я с большим трудом добрался до Симферополя, то никаких следов своих товарищей там не нашел. Явочная квартира, чей адрес мне дали в Екатеринославе, показалась мне ненадежной — слишком людно было вокруг, толклись какие-то подозрительные личности. По дороге туда у меня проверили документы и даже обыскали, но ничего не нашли.
— А как же мандат за подписью товарища Мокроусова? — поинтересовался матрос.
Борщевский расстегнул пиджак и вытащил откуда-то из подкладки маленькую прямоугольную тряпочку, на которой неразборчиво, но, несомненно, типографским способом было напечатано, что предъявитель сего является представителем Крымского краевого комитета партии, обладает всеми полномочиями и так далее, а внизу стояла подпись тов. Мокроусова.
— Она была зашита в подкладку и не шуршала при обыске. Далее я отправился на вторую, запасную, квартиру, там нашел товарищей, предупредил их, но поздно, потому что первую явочную квартиру в тот же день разгромили.
— Угу, — проговорил товарищ Макар, и непонятно было, одобряет он все услышанное или осуждает. — Стало быть, товарищи, деньги для того, чтобы достать оружие, придется добывать самим.
— Разберемся! — крякнул матрос.
— Пора расходиться, товарищи, скоро комендантский час.
Все задвигали стульями, поднимаясь.
— Товарищ Тоня, я тебя провожу! — подскочил Салов к Антонине.
— Я с дядей Семеном пойду, — отшатнулась она и ожгла его взглядом синих глаз.
— А я, товарищи, — обратился Борщевский к типографским, — хотел бы взглянуть, как у вас дело обстоит в типографии. Вы не против?
Гольдблат молча пожал плечами, что означало согласие.
Оставшись втроем, потому что сапожник немедленно удалился на кухню, Макар, матрос и Салов сели в кружок за стол и долго беседовали вполголоса, сдвинувшись голова к голове.
— Значит, как договорились, завтра и сделаем, — подвел итоги Макар.
— Что-то мне этот Борщевский не нравится, нет у меня к нему доверия, — пожаловался Кипяченко.
— Много спрашивает, во все суется, — с готовностью согласился Салов.
Товарищ Макар разговора на эту тему не поддержал, но в глазах его снова возникло какое-то непонятное выражение. Товарищ Макар твердо знал, чего он хочет, но в некоторые свои планы он никого не посвящал.
Тоня с Семеном Крюковым шли молча. Семен глядел себе под ноги и думал о чем-то важном, потому что иногда вздыхал тяжело. К вечеру подморозило, растаявшие днем от южного мартовского солнца лужи затянуло ледком, Тоня поскользнулась и засмеялась, уцепившись за куртку Крюкова. Он посмотрел на нее ласково и взял под руку.
— Давай уж пойдем с тобой, как буржуи, под ручку, а то лоб расшибешь.
Они пошли не торопясь, вдыхая свежий холодный воздух.
— Что это ты, дочка, как я примечаю, от Ивана Салова шарахаешься? — спокойно спросил Крюков.
— Так… — отвернулась Тоня.
— Ну, раз это дело личное, то я вмешиваться не буду, — смутился Крюков.
— Да нет у меня с ним никаких личных дел! — вспыхнула Тоня. — Просто… нехороший он человек, вот что! Смотрит всегда так нагло, рукам волю норовит дать…
— Эка беда, что смотрит! — рассмеялся Семен. — Ты вон у нас какая раскрасавица уродилась, отчего ж на тебя мужику и не поглядеть! А Салов — мужчина молодой, в самом соку…
— Да, а раз подкараулил меня, а сам пьяный был. Да как давай приставать! Все в полюбовницы к себе звал. Я, конечно, за себя постоять могу, да только противно очень, не по-товарищески… Он сегодня вон Борщевскому сказал, что Леля — это жена его, а мне тогда про Лельку эту такого наговорил. И шалава-то она подзаборная, и бросит-то он ее сразу же, если я соглашусь… Нешто можно такое про жену-то говорить?
— Да уж, — вздохнул Семен. — Ну ты не думай о нем.
— Да я разве думаю, когда вокруг такое творится! — воскликнула Тоня. — Ты представь, дядя Семен, вот скоро победим мы белых, и начнется такая жизнь сказочная! Кругом все свои, не нужно никого бояться. И приедут к нам товарищи из Москвы, расскажут, как там у них, что делается, и научат, как дальше жить.
— А ты как дальше жить хочешь? — улыбаясь, спросил Крюков.
— Я, дядя Семен, учиться хочу. Чтобы все-все знать, чтобы со мной умному человеку говорить интересно было. А то простым-то людям я про революцию объяснить могу, вот как сама понимаю, а если посложнее что… Вот товарищ Макар хорошо говорит — заслушаешься! И он вообще замечательный, товарищ Макар! Настоящий большевик! Он когда говорит — у меня прямо слезы на глазах, и вообще он — самый настоящий герой! Про таких нужно песни складывать!
В голосе девушки послышался неприкрытый восторг, Семен посмотрел на нее внимательнее, увидел, как сияют ее глаза, и все понял. Он улыбнулся грустно и крепче подхватил ее под руку.
Глава шестая
На Корниловской набережной, недалеко от хорошо известного здания морской контрразведки, находилась бойкая, весьма людная кофейня, прозванная в городе «Петлюра». Эта кофейня служила штабом и местом дислокации для многочисленной своры городских спекулянтов, которую горожане окрестили «Дикой дивизией». Дикая эта дивизия состояла из элегантных и подвижных константинопольских греков, медлительных и одутловатых левантинских турок, живых одесских евреев с печальными выпуклыми глазами, задумчивых армян. Впрочем, и славянских лиц попадалось здесь немало. Часто можно было увидеть хорошо пошитые английские френчи армейских интендантов.
В этой кофейне устанавливали курсы валют и цены на сахар, здесь можно было купить вагон медикаментов и пароход английского обмундирования. К этой необычной бирже прислушивались банки и серьезные иностранные фирмы. На вопрос, каков сегодня курс английского фунта или турецкой лиры, всякий знающий обыватель мог ответить: «У „Петлюры“ установили столько-то и столько-то».
В низком и просторном грязноватом зале кофейни, единственным украшением которого служила пыльная пальма в деревянной кадке, было всегда шумно и многолюдно. Грязные столы без скатертей, залитые кофе и засыпанные крошками, служили для посетителей, кроме основного назначения, конторками. Здесь раскладывали часто документы на партию самого экзотического товара, подписывали иногда миллионные контракты. Электричество едва ли не каждый день отключали, и тогда этот зал, скудно освещенный чадящими свечами и керосиновыми лампами, становился похож на бандитский притон или на освещенную скудным светом пещеру, где шайка разбойников пирует и делит богатую добычу. Собственно, такое представление было недалеко от истины: банда спекулянтов в «Петлюре» делила барыши, торгуя продовольствием, обмундированием и медикаментами, от недостатка которых страдали солдаты на Чонгаре и под Перекопом. «Дикая дивизия» неимоверно боялась большевиков, но по странной иронии судьбы делала все для их победы, ослабляя и разваливая тыл Белой армии.
Прохор Селиванов вышел из кофейни «Петлюра» в превосходном настроении. Сегодняшний день выдался у него на редкость удачным. Через давнего знакомого, харьковского сахарозаводчика Синько, ему удалось договориться с очень нужным человеком, интендантским полковником, ведающим фуражировкой кавалерии, и продать ему тысячу пудов перепревшей пшеницы по замечательно высокой цене. Конечно, пришлось подмазать полковника, выплатить ему «откат», да и Синько взял знатный куш за услуги, но в таких вопросах Прохор никогда не скупился: не подмажешь — не поедешь.
В кофейне Прохор выпил немного, обмыл сделку по православному обычаю, но напиваться не стал: при нем были деньги, и очень большие, и он не чувствовал себя спокойно, пока не спрятал их в сейф.
Махнув рукой извозчику, Прохор вскарабкался в пролетку и буркнул:
— В гостиницу «Кист»!
— Слушаюсь, ваше степенство! — Коренастый извозчик обернулся на секунду, окинул седока быстрым взглядом маленьких, близко посаженных глаз и взмахнул вожжами.
Прохор откинулся на сиденье и предался приятным размышлениям. Война, конечно, гадость, но для делового человека открываются огромные перспективы. Армии нужно много, очень много. Кроме оружия и боеприпасов, с которыми лучше не связываться, нужен фураж для коней и продукты для солдат, строительные материалы для укреплений, обмундирование, медикаменты… да всего не перечтешь! И за все это армейские интенданты платят чистоганом, а на качество товара смотрят сквозь пальцы, особенно если как следует подмазать… Здесь за год можно миллионщиком стать, а потом в Константинополь, а еще лучше — в Париж…
Оторвавшись от таких приятных мыслей, Прохор огляделся. Места были незнакомые.
— Эй, любезный, — окликнул он извозчика, — куда это ты меня завез? Я же тебе велел в «Кист»!
— Не извольте беспокоиться. — Извозчик повернулся к седоку с нехорошей улыбкой, одновременно придерживая лошадь. Тут же в пролетку вскочили с двух сторон двое людей в масках.
«Налетчики!» — в ужасе подумал Прохор и полез за пояс, где у него холодной тяжестью приютился вороненый «наган».
— Не надо, барин, — с просительной интонацией сказал высокий плечистый налетчик и железной рукой ухватил Прохора, отбив всякие мысли о «нагане». Второй громила уже ловко обшаривал его одежду.
«Черт, черт! — мысленно ругал себя Прохор. — Не надо было обмывать сделку, скорее в гостиницу надо было ехать, деньги в сейф убрать. Все ведь теперь отберут!»
Налетчик действительно моментально нащупал потайной пояс, набитый деньгами, распорол рубашку Прохора и вытянул пояс наружу.
— Товарищ Макар! — радостно воскликнул он, показывая пояс извозчику. — Тут такие деньжищи!
«Так это красные! Товарищи! — понял Прохор. — Совсем плохо дело, эти живым не оставят. И извозчик ихний».
Словно прочитав его мысли, извозчик укоризненно сказал:
— Что ж ты, дура, сделал? Зачем меня по имени назвал? Теперь надо этого бурдюка кончать!
— Да я ж не по имени, а только по кличке, — оправдывался налетчик, — да и все одно его лучше прикончить, так оно спокойнее будет.
Прохор сомлел от страха.
— Товарищи, дорогие! — забормотал он безо всякой надежды на успех. — Не убивайте, деньги все возьмите, я не в претензии, только не убивайте! Я сам сочувствующий! Лично с одним комиссаром знаком, товарищем Кацем. Не убивайте, Христом-Богом молю!
— Ну что вы там тянете! — недовольно сказал извозчик. — Время дорого!
Высокий молчаливый налетчик коротко взмахнул широким кривым ножом. Голова Прохора Селиванова откинулась на спинку сиденья. Горло, перерезанное от уха до уха, выплеснуло широкую струю крови на белоснежную манишку.
«Извозчик» спрыгнул с козел и вместе с двумя своими соучастниками скрылся за углом.
Иван Салов свернул с улицы в маленький переулок, который заканчивался тупичком, пробежал, стараясь не топать сапогами, до самого края, перемахнул через забор и стукнул легонько в темное оконце одноэтажного неказистого домика. Долго не слышно было в доме никакого движения, наконец, когда потерявший терпение Салов стукнул громче, оконце отворилось, и показалась растрепанная женская голова.
— Это ты, что ли? — полушепотом спросила женщина. — Что ночью-то ходишь, патрулям попадешь…
— Не бойся, Леля! — выдохнул Салов, приближая свое лицо к ней и вдыхая сладкий запах женского тела, распаренного в теплой постели. — Открой лучше дверь…
Она отшатнулась, почувствовав в хорошо знакомом мужчине что-то новое, необъяснимое. Потом накинула шаль и босиком пробежала в сени, чтобы отпереть дверь. Он вошел — сильный, большой — и сразу же схватил ее жадно за плечи, прижался к лицу.
— Подожди, не шуми, хозяйку разбудишь! — отбивалась Леля.
Они тихонько прошли на ее половину — две крошечные комнатки, заставленные мебелью, и там Салов, скинув шинель, впился в Лелины губы жадным поцелуем.
— Пусти, мне больно! — Она оттолкнула его и запахнула шаль на пышной груди.
Босым ногам стало холодно на полу, она вздрогнула и присела на узкий продавленный диван. Салов же продолжал оживленно двигаться по крошечным комнаткам, ему не сиделось на месте. И хоть мартовские ночи были холодны, а он пришел без шапки, в распахнутой шинели, Леля ощутила, как от него исходят жаркие волны возбуждения. Пахло от него ночью, табаком, крепким мужским потом и еще чем-то сладковатым и непонятным.
— Водки дай! — требовательно произнес он, наконец остановившись.
— Ты еще ночью ко мне ходить будешь, чтобы водку трескать? — возмутилась Леля. — А ну… — Она замахнулась, но Салов перехватил ее руку.
— Все, Леля, дело сделано, — проговорил он непонятные слова, — вот, смотри. — Он бросил на стол толстую пачку денег.
— Это мне? — растерялась Леля. — Откуда у тебя столько?
— Много будешь знать — скоро состаришься! — захохотал он, и у Лели язык не повернулся напомнить ему про злобную хозяйку.
Она вскочила с дивана, накинула шелковый халат, на ощупь кое-как пригладила гребнем рыжие кудри. Потом выставила на стол графинчик водки и немудреную закуску. Салов налил полстакана и выпил одним махом, не закусывая. Потом прислушался к себе и налил еще на два пальца водки, после чего подцепил на вилку кусок колбасы и посмотрел на Лелю маслеными глазами. Под его взглядом она потрогала деньги, пытаясь определить, сколько же там всего.
— Куда? — Он накрыл ее руку своей, и опять пахнуло чем-то незнакомым и сладковатым. — Не все тут твое. Полторы тысячи нужно Ваське Губарю отдать, как договаривались. На революционное дело! — серьезно и строго сказал он. — А остальные полторы — наши. Куплю тебе завтра ту браслетку, что показывала на той неделе. Носи, мне не жалко.
Одним движением он посадил Лелю на колени. Совсем близко она увидела его веселые, с сумасшедшинкой глаза. Он потянул на себя поясок халата.
— Подожди! — Леля вырвалась и прикрутила фитиль керосиновой лампы, затем в темноте, натыкаясь на мебель, нашла постель. Салов уже ждал ее там, требовательный и горячий.
Леля проснулась рано. В тесной постели было неудобно спать вдвоем. Салов раскинулся на спине и храпел. Она неприязненно покосилась на него и спустила ноги с кровати. Деньги валялись на столе — три тысячи. Леля собрала их и спрятала в укромное место, потом вздохнула и стала собираться — у нее было неотложное дело. Она умылась, припудрила веснушки, расчесала перед зеркалом рыжие волосы и заколола их гладко, потом надела поверх темного узкого платья теплый суконный жакет, отороченный мехом, и маленькую шляпку с вуалью. Собираясь уходить, она бросила последний взгляд на спящего и тут вздрогнула. Его рука, высунувшаяся из-под одеяла, была выпачкана чем-то коричнево-красным. Она подошла ближе, потом вдруг метнулась к стулу, где валялась шинель, — так и есть, на рукаве Леля увидела ржавые пятна.
«Это кровь! — поняла Леля. — У него руки в крови. В чужой крови. Ясно, откуда у него деньги: вчера они убили человека. Очевидно, какого-нибудь богатого коммерсанта. Понятно теперь, чем от него пахло — кровью и смертью…»
И когда до Лели дошло, что этими самыми руками, которым вчера ночью он убивал человека, Салов прикасался к ее телу, ей стало дурно. Со стоном она прислонилась к двери. Салов проснулся, сел на кровати и вытащил из-под подушки пистолет.
— Что, что случилось?
В одно мгновение она поняла, что весь вчерашний кураж у него прошел, что он вспомнил про ночное убийство и теперь жутко боится, что его найдут.
— Успокойся, ничего не случилось, — холодно сказала она, — спи, еще рано.
— А ты куда это собралась? — подозрительно спросил он.
— Хочу Василия пораньше дома застать, пока он на работу не ушел. Он ведь тебе нужен? Или ты вчера просто так трепался про важное революционное дело?
— Ну иди, договорись с ним о встрече. — Салов зевнул и отвернулся к стене.
Леля выскользнула из дома и почти бегом побежала по улице, сжав зубы.
«Убийца! — стучало у нее в голове. — Я живу с убийцей».
Перед глазами стояла его короткопалая ладонь, выпачканная коричневой засохшей кровью. По сторонам Леля не смотрела и не оглядывалась, иначе заметила бы кравшегося за ней Салова.
После ее поспешного ухода Салов вскочил с кровати, посмотрел в окошко, прикрывшись занавеской, и, заметив, что Леля вышла за ворота, мигом оделся — сказалась военная выучка. Он поискал глазами деньги, понял, что эта сука успела их спрятать, выругался нехорошо, сунул в карман пистолет и выбежал за калитку как раз в то время, когда женская фигура в шляпке с вуалью повернула на Елизаветинскую. Салов бросился бежать по переулку, потому что испугался, что Леля на Елизаветинской возьмет извозчика, и тогда поминай ее как звали. Почему он следит за своей сожительницей, он и сам бы не мог объяснить, просто ему очень не понравился ее взгляд сегодня утром. В Лелином взгляде был страх, а также отвращение.
«С чего это она завелась с утра пораньше?» — недоумевал Салов, прибавляя ходу. Кроме этого, Антон Борщевский позавчера на заседании подпольного комитета сумел заронить в его голову некоторые подозрения. Действительно, Леля всегда интересовалась его, Салова, делами и сумела-таки, стерва, выведать, что он работает в подполье.
Справедливости ради следует заметить, что Леле не понадобилось приложить к этому много сил, потому что Иван Салов, когда выпьет, был болтлив и хвастлив, а Леля — женщина наблюдательная. Умело наводя его на нужные разговоры, сопоставляя все факты, она выведала у него про подполье. Но все, больше ничего лишнего себе Салов не позволял — никаких имен и расположения явочных квартир. Про товарища Макара ни слова, а то бабий язык — что помело, метет и метет… Но Салов все же проболтался про то, что нужны знакомые на артиллерийских складах, и уже во время следующей встречи Леля рассказала ему про своего двоюродного брата, который может помочь, потому что служит в артшколе. Брат этот Салову не то чтобы понравился — не девка, чтобы нравиться, но больно уже велик был соблазн — достать оружие, а то товарищ Макар стал посматривать на Ивана косо, потому что агитацией среди солдат севастопольского гарнизона Салов почти не занимался — у него плохо это получалось. Василий Губарь запросил недорого — всего полторы тысячи, так что, получив после ограбления коммерсанта от товарища Макара три тысячи «колокольчиков», половину Салов спокойно мог положить в свой карман. Навар был неплох, но рисковать Салов не хотел, поэтому решил проверить Лельку.
Леля шла по Елизаветинской, теперь не торопясь. Вот обогнал ее извозчик, но Леля его не остановила. Это было странно, потому что Василий, по ее же собственным словам, жил далеко и пешком к нему было шагать и шагать. Леля миновала аптеку, потом магазин модной дамской одежды мадам Жакоб, причем даже ни на минуту не задержалась у витрины, затем свернула в проезд между домами, а когда Салов высунул голову из-за угла, то заметил, что Леля стоит на крыльце длинного одноэтажного дома и нетерпеливо стучит в дверь. Дверь отворилась, но того, кто впустил Лелю, Салову увидеть не удалось.
Леля вошла в дом. Вход шел в квартиру, расположенную в торце длинного дома отдельно от хозяев. Человек, впустивший ее, шел следом, чуть не наступая Леле на пятки. Был он хмурый, сутулый, смотрел исподлобья.
— Ну? — нетерпеливо спросил он и уставился на Лелю строго.
— Они согласны, — заторопилась Леля, — он принес деньги и просил сообщить Василию, что согласен с ним встретиться…
— Ты к Василию не ходи, он и так узнает, — деловито велел Лелин собеседник. — Что еще?
Леля села на стул, потому что ноги ее не держали.
— Они вчера убили кого-то, потому что денег у него слишком много… и кровь.
— Вот как? — поднял брови хмурый мужчина. — Это мы выясним, но в данный момент нас это не особенно интересует.
— А что вас интересует? — крикнула Леля.
— Ты знаешь, — последовал ответ. — Нас интересует красное подполье — пароли, явки.
— Но я больше ничего не знаю, он мне больше ничего не рассказывает. И… я его боюсь, он ведь убийца. Если он что-то заподозрит, то он и меня может убить. — Тут Леля запнулась, посмотрела на своего собеседника и сообразила, что ее судьба его совершенно не интересует. — Вы сами можете за ним проследить! — вскричала она в отчаянии. — А меня оставьте в покое, я боюсь!
— Так, — проговорил ее собеседник тихо и зловеще, — так, значит. А не хочешь ли ты, Сапожникова Елена, она же Коломиец Клавдия, она же Защекина Зинаида, прямиком отсюда отправиться в полицию? И там припомнят тебе и купца Ерофеева, которого ты опоила и обобрала в Феодосии в гостинице «Савой», и ювелира Соловейчика, который до сих пор засыпает полицию жалобами, и зубного врача Резника…
— Этот тоже жалуется? — угрюмо пробормотала Леля. — У него-то и взяла всего ничего — один бумажник…
— За тобой еще много чего числится… Ух как они в полиции обрадуются твоему появлению!
— Какая разница — в полиции быть или в контрразведке? — устало сказала Леля.
— Э, не скажи, девочка. Мы на такие вещи, как мелкие кражи и мошенничество, не обращаем внимания, лишь бы ты хорошо работала.
— Вы и на убийства внимания не обращаете, — огрызнулась Леля.
— Пока да, но когда возьмем голубчиков — все им припомним. А следить за твоим Саловым в открытую мы сейчас не можем — он заметит, начнет паниковать… А нам нужно, чтобы всех повязать одним махом. Так что иди, Леля, и все примечай. Вот возьми. — Он протянул ей деньги.
— Да не нужно мне! — отмахнулась Леля. — Вы лучше меня скорее от него избавьте, от убийцы.
— Ты дурочку-то не валяй! — повысил голос хмурый ее собеседник. — Дают деньги, так бери. Тоже мне нашлась бессребреница!
Салов, дожидаясь на улице, украдкой оглядываясь, обошел дом. Дверь, куда вошла Лелька, находилась с торца. Было в доме еще одно крыльцо, куда как раз вышла простоволосая баба и выбивала перину. Баба подозрительно зыркнула на Салова, но ничего не сказала. Салов отвернулся, прикрыв лицо воротником шинели. Посмотрев еще немного на окна, он сделал вывод, что Лелька вошла в квартиру, отдельную от остального дома.
«Бегает, шалава, к хахалю! — понял Салов. — На мои деньги живет и к хахалю бегает. Ну, голову оторву стерве!»
Он отошел подальше и спрятался в кустах. Дверь открылась, Лелька вышла из дома, и опять он не смог разглядеть, кто там с ней был. Воровато оглядываясь, Лелька засеменила в сторону своего дома. Салов хотел было броситься за ней и отлупить тут же, на улице, но вовремя одумался. Ему совершенно не нужен публичный скандал, еще в кутузку загремишь, а после вчерашней ночи это весьма нежелательно. Кроме того, Лелька идет домой и никуда не денется, а вот поглядеть на ее хахаля Салову очень даже охота. На кого же она его, Салова, променяла?
Минут через десять дверь снова открылась, и на улицу вышел самый заурядный мужик — хмурый и сутулый. Мужик запер двери и не оглядываясь пошел в сторону Елизаветинской улицы. Салов мог бы в два прыжка догнать его и надавать плюх, но что-то его остановило. Уж слишком заурядным выглядел этот тип, а Леля, как бы там ни было, женщина видная, привлекательная. Слишком деловито он шел, и была Леля у него недолго, за такое короткое время в постели ничего толком и не успеть, а уж он-то, Салов, знает, какова эта стерва в постели — так улестит, что ночи мало, не оторваться…
Нет, что-то подсказывало Салову, что дело тут не любовное. Он встрепенулся и широкими шагами поспешил за сутулым хмырем. Тот вышел уже на Елизаветинскую и крикнул извозчика. Тотчас подкатил ванька, сутулый нырнул в пролетку, и остался бы Салов в растерянности и при пиковом интересе, если бы не услышал, как сутулый крикнул лихачу, что ехать надобно на Макарьевскую. Салов потуже подпоясал шинель и бросился бегом дворами и пустырями на Макарьевскую, благо напрямик было недалеко. Он успел увидеть отъезжающего ваньку уже без седока, а вдалеке шагал сутулый собственной персоной. Салов перевел дух и пошел за ним. Сутулый свернул в переулок, прошагал по нему бодро и вышел на Корниловскую набережную. Салов замедлил шаг, его одолевали нехорошие предчувствия, а сутулый, у которого, кстати, прошла почти вся сутулость, и от этого стал он как будто выше ростом, уже скорым и уверенным шагом входил в дом номер семнадцать по Корниловской набережной. У Салова похолодело внизу живота и задрожали колени, потому что всему городу было известно, что в доме под этим номером находилась морская контрразведка.
* * *
Тем же утром Тоня Шульгина, замотавшись платком по самые брови, шла, запыхавшись, по Батумской улице, направляясь не к кому иному, как домой к самому товарищу Макару. Посещение это было незапланированное, товарищ Макар никогда ее к себе домой не приглашал, в целях конспирации, конечно, как считала Тоня. Адрес его Тоня узнала совершенно случайно от дяди Семена Крюкова, но держала его в глубине своей памяти на самый крайний, как говорил дядя Семен, случай. Сегодня как раз и наступил такой случай, когда Тоне нужно срочно поговорить с товарищем Макаром без свидетелей.
Вот и нужный дом за номером тридцать семь. С замирающим сердцем Тоня открыла калитку. Грозно залаяла собака, бряцая цепью. Тоня испуганно остановилась у калитки, боясь сделать шаг. Пес полаял немного и затих. Он улегся возле своей будки, недружелюбно посматривая на Тоню.
— Хозяева, дома ли? — несмело позвала она, окидывая взглядом двор. У сарайчика лежал на колоде забытый топор, на заборе сохла какая-то одежда. Все было так просто и буднично, как у всех. Необыкновенный, героический товарищ Макар жил совершенно как все.
Пес отреагировал на Тонин голос утробным ворчанием, и тогда только вышла на крыльцо жена товарища Макара. Тоня видела ее пару раз в рабочем клубе, что на Базарной улице. Жена товарища Макара Тоне не нравилась, она считала, что у председателя подпольного комитета, члена партии большевиков должна быть не такая жена. Но мысли эти Тоня отгоняла даже от себя самой и, разумеется, ни с кем не обсуждала. Они с женой товарища Макара никогда не говорили — та смотрела на Тоню неприветливо, можно сказать, злобно.
— Чего тебе? — и на этот раз весьма нелюбезно спросила хозяйка.
— К товарищу Макару, — потупившись, прошептала Тоня.
Она сделала так в целях конспирации, чтобы не услышали соседи, а в общем, скрывать ей было нечего и виноватой перед женой Макара она себя совершенно не чувствовала.
— На заседаниях своих не наговорились? — прошипела хозяйка, не двинувшись с места.
С Тоней мало кто разговаривал грубо. Увидев открытый взгляд ее синих глаз и приветливую улыбку, самые задиристые ребята на канатной фабрике, где раньше работала Тоня, тушевались и не позволяли себе лишнего. Но и постоять за себя Тоня умела.
— Хозяин дома? — громко крикнула она.
— Ну дома. А ты чего с утра пораньше? — Глаза женщины смотрели так же неприветливо, но тон она сбавила.
— Раз пришла, значит, нужно, — твердо ответила Тоня, — сами знаете, что по делу.
— Кто там у тебя, Анна? — на крыльцо, позевывая, вышел товарищ Макар.
Рубашка была мятая и расстегнута, видно, накинул наспех, когда вставал. Сквозь вырез рубашки виднелась голая грудь, поросшая рыжеватыми волосами. Против воли Тоня покраснела и потупила глаза.
— К тебе, — буркнула Анна и удалилась в дом.
— Здравствуй, Антонина! — сухо кивнул он. — Случилось что?
— Случилось. — Тоня проглотила ком обиды, образовавшийся от нелюбезного приема.
Он оглянулся на дом и махнул в сторону сарайчика:
— Там поговорим, без свидетелей.
Тоня согласна была разговаривать с ним наедине в любом месте. Он был такой домашний в этой своей расстегнутой рубашке, такой… родной. Она сама испугалась своих мыслей, поэтому отвела глаза и заговорила быстро:
— Сегодня ночью Мишка пришел.
— Какой Мишка?
— Мишка Полищук из Симферополя. У них весь подпольный комитет разгромили, всех взяли по квартирам, а также склад оружия и типографию. И еще две явочные квартиры. Его в последний момент соседка спрятала. Он у нее в подполе до ночи просидел, а потом решил к нам податься. Два дня добирался.
— Разгромили, говоришь? — медленно проговорил товарищ Макар. — А когда это было-то?
— Так четыре дня назад.
— А когда этот к нам прибыл, Борщевский?
— С неделю, наверное, будет, — задумалась Тоня.
Товарищ Макар что-то подсчитывал в уме. Антонина смотрела на него испуганно, прочитав в его глазах что-то сильно ее ужаснувшее.
— Вот что, Тоня, — мягко сказал он и взял ее за руку, — ты про это никому не говори. Мишку куда определила?
— У тетки моей. — В голосе девушки послышался всхлип.
— Вот пусть там и сидит пока, в город не высовывается. И ты молчи до поры до времени? Даешь слово?
Она молча кивнула.
— А сейчас иди домой, живи, как будто ничего не случилось. А с этим делом я разберусь, не беспокойся. Молодец, что пришла, умница…
Тоня летела домой как на крыльях. Он ей доверяет! Он похвалил, назвал умницей!
Глава седьмая
Олимпиада Самсоновна тяжело вздохнула и начала сначала:
— Племянник у меня по интендантской части. Когда он у Анфиски своей ночует, так пускай она об нем и беспокоится, но когда он дома сидит, так оченно привередлив, ежели что не так — гневается. А у меня через ихнюю стукотню бланманже ни в какую не поднимается. И вообще сна ни в одном глазу, а когда не спамши, так сами понимаете — в организме через то ослабление и болезни…
Пристав Семикуров застонал:
— Ох, Зюкина, у меня сейчас от твоей болтовни в организме не то что ослабление, а натуральная падучая случится! Что ты мне с утра про свое бланманже надоедаешь?
— Я не какая-нибудь там! — истерически взвизгнула Олимпиада Самсоновна. — Я вдова железнодорожного кондуктора! У меня племянник Василий по интендантской части! А через ихний грохот не только бланманже, а и булочки заварные опустились! А племяннику моему только свежее подавай! Он мне говорит: я, мол, по интен-дантской части служу и хочу, тетенька, чтобы дома все было по первому разряду, как в самых хороших домах, а у вас вместо бланманже какой-то кисель овсяный! Это он про мое бланманже! А чем же я-то виновата, когда у них цельными сутками стукотня и грохот!
Пристав ударил кулаком по столу:
— Госпожа Зюкина! Чего тебе от меня надо? У меня куча дел! У меня драка греков с татарами на рыбном рынке! У меня убийство коммерсанта Селиванова на шее висит нераскрытое! У меня печник Хряпин угрожает зарубить топором мещанина Тудысюдыева на почве ревности, а тут ты со своим бланманже! Ну чего, чего ты от меня хочешь?
— Так я же вам битый час повторяю: почитай каженный день у них беспрестанно грохочет и грохочет, так что ни сна, ни отдыха. Опять же булочки заварные, бланманже и воздушный пирог а-ля буше…
— Замолчи, Зюкина! Я тебя сейчас арестую за неуважение к властям!
— Это вы меня арестовать собираетесь? Когда у меня племянник Васенька очень важный начальник по интендантской части? Да он до самого главного генерала дойдет! За что вы, интересно знать, меня арестовывать собираетесь?
— За бланманже! Сил моих больше нет про твое бланманже слушать! Ну скажи на милость, Зюкина, — в голосе Семикурова уже зазвучали сдерживаемые рыдания, — чего ты от меня хочешь?
— Чтобы вы ихний грохот прекратили, — наконец сформулировала железнодорожная вдовица свои требования к власти.
— Да кто ж такие они-то? Можешь ты сказать?
— Соседи у меня, очень из себя подозрительные, в подвале и днем и ночью чем-то грохочут, а у меня от ихнего грохота полная бессонница и мысли начинаются. А главное дело, что бланманже…
— Только не начинай про бланманже! — заорал Семикуров. — Идем к твоим соседям!
Он встал, дрожа мелкой нервной дрожью, прицепил к поясу шашку и, оставив за себя унтер-офицера Михеева, отправился следом за железнодорожной вдовой.
Гриша Якобсон приподнял занавеску и выглянул на улицу. Через дорогу к их дому важно шествовал дородный пристав, придерживая болтающуюся на боку шашку. Сбоку за ним семенила какая-то невразумительная мелкобуржуазная тетка, пытавшаяся, по-видимому, объяснить что-то полицейскому, но тот только досадливо отмахивался от нее, как от назойливо жужжащей крупной осенней мухи.
— Яков Моисеевич, товарищ Гольдблат, — похолодев от нехорошего предчувствия, позвал Гриша своего старшего коллегу по подпольной типографии, — Яков Моисеевич, погляди, никак до нас полиция.
Гольдблат подошел к окну, поправил круглые очки в железной оправе, неоднократно чиненные при помощи обыкновенной проволоки, откашлялся и сказал:
— Ну что ж, товарищ Якобсон, подпольщик всегда должен быть готов к опасности. Одно, Гриша, хорошо: успели напечатать весь тираж воззвания. Одно плохо: станок у нас хоть и небольшой, но тяжелый, вдвоем нам с тобой его не унести. Значит, быстро собираем все листовки и уходим через подвальное окошко.
Пристав Семикуров уже подходил к дверям.
— Ну, Зюкина, — недовольно сказал он настырной вдове, — не слышу никакого грохота. Что ты меня попусту от работы оторвала?
— Василий, племянник мой, который по интендантской части, с большими начальниками запросто…
— Зюкина, только без бланманже! Ладно, посмотрю, чем они там грохотали. — И пристав уверенной рукой постучал в дверь.
На стук никто не ответил, хотя внутри дома слышалось какое-то движение, пару раз приподнялась занавеска. Пристав постучал гораздо решительнее. Ему самому сделалось любопытно, что за люди живут в этом доме и почему они не открывают дверь полицейскому.
Он снова постучал и зычным голосом крикнул:
— Откройте, полиция!
Когда и эти решительные меры не привели к желаемому результату, пристав достал свой знаменитый удивительно переливчатый свисток и засвистел так, что с соседской крыши посыпалась черепица, а у железнодорожной вдовы Олимпиады Самсоновны Зюкиной заложило правое ухо.
Когда на свист сбежались значительные полицейские и вспомогательные силы, выломали дверь и обследовали подозрительное жилище, сотрудников подпольной типографии уже и след простыл.
Однако найденный типографский станок, печатные формы и пробные оттиски листовок, брошенные за ненадобностью, однозначно говорили о криминальном характере творившихся здесь дел. Железнодорожная вдова мало что поняла, но пришла к выводу, что соседи ее больше беспокоить не будут и ничто не угрожает в дальнейшем ее заварным булочкам, бланманже и воздушному пирогу а-ля буше. Пристав Семикуров, почувствовав политический запашок обнаруженного вертепа, вдовицу поскорее отправил восвояси. Правда, и самого Семикурова очень скоро отправили заниматься обычными делами вроде битвы греков с татарами подъехавшие чины из военной контрразведки.
Семикуров тяжело вздохнул, подумал, что, как всегда, работа достается одним, а лавры другим, и отправился увещевать печника Хряпина.
Двумя часами позднее в маленьком портовом трактире бывшие сотрудники прекратившей свое существование подпольной типографии разговаривали с товарищем Макаром.
— Одно, товарищ Макар, хорошо, — убежденно говорил вожаку подпольного комитета Яков Моисеевич Гольдблат, — хорошо, что успели отпечатать воззвания и спасли весь тираж. — Старый печатник скосил глаза на стоящий под столом объемистый саквояж вроде тех, с какими ходят дипломированные акушерки. — Одно плохо — лишились мы типографии, а без типографии комитет как без рук.
— Не иначе как Борщевский типографию провалил, — убежденным голосом резюмировал товарищ Макар.
— Что вы, товарищ Макар! — горячо вступился за Борщевского Гриша Якобсон. — Борщевский — проверенный товарищ. Он нам много дельного посоветовал, когда в типографию заходил. У него от самого Мокроусова мандат…
— Этот мандат он мог в контрразведке получить, — жестко ответил Макар, — настоящего Борщевского убили, а этому провокатору мандат отдали.
— Не может быть! — горячился Гриша. — Это ведь он для нас текст воззвания составил, такой текст замечательный, что прямо за душу берет! Сразу чувствуется, что пламенный революционер!
— Дай-ка сюда!
Председатель подпольного комитета разложил на коленях листовку и пробежал глазами.
«Солдаты Белой армии!
За что вы воюете? За буржуазию и их приспешников, генералов, которые набили чемоданы и одним глазом смотрят на Керчь, другим — на Перекоп, часто оглядываясь на Константинополь? За контрразведчиков, продажных людишек, расшаркивающихся по-холопски перед генералами, выдавая истинных борцов освобождения трудящихся. Они смакуют последние события дня, но мы им скажем: „Напрасно, господа, преждевременное ликование. На месте одного замученного встанут десятки, сотни борцов, и час расплаты приближается!“
Мы обращаемся к вам и надеемся, товарищи солдаты и офицеры, что наш призыв не останется пустым звуком. Вы все как один по первому нашему сигналу должны выступить с оружием в руках на улицу и действовать по указанию подпольного комитета.
Не дайте уйти буржуазии и их приспешникам, генералам! Недалек тот день, когда над Севастополем будет развиваться красное знамя! Покидайте ряды белых! Идите к нам! Мы гарантируем вам жизнь, а мерзавцам пощады быть не может!
Да здравствуют рабочие и крестьяне!
Да здравствует Третий интернационал!
Да здравствует всемирная революция!»
— Доверчив ты, товарищ Якобсон, — холодно возразил Макар, — это у тебя от молодости и недостаточной пролетарской сознательности. Вот пройдешь царскую каторгу и белогвардейские застенки, тогда совершенно по-другому будешь людей оценивать.
Сам товарищ Макар в белогвардейских застенках тоже не бывал, не говоря уж о царской каторге, но любил красиво выразиться и производил этим на товарищей сильное впечатление. Во всяком случае, Гриша ему больше не возражал.
— Поглядите, что получается, — продолжал товарищ Макар гнуть свою линию, — денег этот Борщевский не донес, а объясняет это как-то сомнительно. В Симферополе побывал — и вот вам: сегодня узнаю, что симферопольская ячейка разгромлена.
— Как так?
— Утром Антонина сообщила, а к ней человек прибыл из Симферополя. К вам в типографию Борщевский наведался — и в результате типография раскрыта, а вам пришлось бежать… Нет, товарищи, с этим Борщевским дело явно нечисто.
— Что же нам теперь делать? — спросил Яков Моисеевич, глядя на товарища Макара поверх круглых очков в пролетарской металлической оправе.
— Самое первое — меняем конспиративную квартиру, поскольку Борщевский ее знает. Второе — вы и хозяин конспиративной квартиры переходите на нелегальное положение. Для начала спрячем вас в доках, а там видно будет. У сапожника родственники в деревне есть?
— Вроде да, — с сомнением проговорил Гриша, — со стороны жены…
— Ну вот пусть к жене в деревню и едет. А что делать с самим Борщевским — это мы с товарищами еще подумаем…
— А что с воззванием, куда его деть?
— Дадим ребятам, пусть расклеят. Воззвание хорошее, не пропадать же добру…
Иван Салов сам не помнил, как ноги вынесли его с проклятой Корниловской набережной от здания морской контрразведки. Очухался он в трактире, где спросил водки и мясного пирога. После выпитых трех рюмок ушла из живота противная дрожь, липкий страх забрался куда-то внутрь. «Что делать? — стучало в мозгу. — Как выкрутиться?» Лелька продала его контрразведке со всеми потрохами, это ясно. У, стерва рыжая! Исчезнуть? Но куда податься? Документы у него достаточно надежные, но совсем нет денег.
Он вспомнил, что Лелька спрятала давешние три тысячи, и чуть не застонал в голос.
Возможен еще один вариант: сейчас немедля идти к товарищу Макару и рассказать ему обо всем. Товарищ Макар примет срочные меры, они все перейдут на нелегальное положение… придется скрываться. Но какое отношение будет к нему со стороны товарищей? Прежнего доверия не будет, это точно. Ведь это он погубил все дело, да еще и деньги пропали… И потом неизвестно, что там Лелька наболтала в контрразведке, возможно, за ним уже следят. То есть очень даже может быть. Он поднял голову и дико огляделся по сторонам. Вон там, в углу, сидит какой-то малахольный тип и читает газету «Юг». Наверняка тот самый, соглядатай. Эх, пропала жизнь!
Да, следует признать, что товарищ Макар за его болтовню по головке не погладит, не зря он на каждом заседании твердит, что надо быть осторожнее и что враг не дремлет. Да еще этот Борщевский со своей конспирацией!
Салов представил, как Борщевский будет плясать на его косточках, а товарищ Макар только посмотрит маленьким глазками, а что подумает — никому не скажет. Это-то хуже всего!
Подскочил половой и склонился вопросительно:
— Еще изволите водочки?
— Поди прочь! — очнулся Салов от тревожных мыслей. — Не до водки тут.
Действительно, следовало хорошенько поразмыслить на трезвую голову. Думать, однако, Иван Салов не очень любил, да у него и неважно это получалось, поэтому, просидев в трактире еще час, он решил все же идти к Лельке на квартиру и поговорить с ней серьезно. Припугнуть, отлупить хорошенько и забрать деньги. Идти нужно открыто, пусть те, из контрразведки, думают, что он ни о чем не подозревает. А уж когда в кармане будут лежать три тысячи, то можно и в бега податься, с деньгами-то оно надежнее…
Его сожительница была дома, вешала во дворе выстиранное белье. Салов распахнул настежь калитку и остановился на пороге. Леля кинула на него взгляд украдкой и вдруг сообразила, что он все знает. Он не сказал ей об этом ни слова, но интуиция кричала ей, что сейчас он будет ее убивать. Заорать, выскочить на улицу? Не успеть, он стоит у калитки.
— Ты где был? — Она постаралась, чтобы голос звучал как можно спокойнее.
Он не ответил, но одним прыжком оказался вдруг рядом с ней, грубо схватил за руку и потащил в дом. Леля испугалась: хозяйка ушла на базар, в доме никого, он зарежет ее, как курицу…
В комнате он схватил ее за плечи и тряхнул так, что клацнули зубы.
— Сука, — выдохнул он, — какая же ты сука…
Совсем близко она видела его выпученные глаза, в которых разглядела бешеный гнев и еще страх — жуткий страх. Он боится, поняла Леля. И от страха может ее убить, потому что скоро станет совершенно неуправляем.
Она не делала никаких попыток к сопротивлению, но посмотрела на него как могла твердо.
— Я тебя убью, убью, — повторял он как в трансе.
Он сжал руками ее шею, но вдруг вспомнил про деньги.
— Где деньги? — заорал он и наотмашь ударил ее по лицу.
— А ты знаешь, что как только ты выйдешь отсюда, тебя тотчас же схватят и отвезут в контрразведку? — с трудом выговорила она разбитыми губами. — И что там все знают про твою работу в подпольном комитете, а за это полагается расстрел?
— Врешь! Я еще ничего не сделал! — заорал он срывающимся голосом.
— Да? А получение оружия по фальшивым документам? А убийство купца Селиванова? — Она показала ему развернутую газету, где сообщалось, что нынче ночью неизвестные преступники зарезали и ограбили коммерсанта Прохора Селиванова.
Ты пришел ко мне ночью прямо после убийства, — продолжала Леля, — а утром хозяйка шинельку-то твою окровавленную тоже видела, — соврала она. — А также сам ведь говорил, что в вашем подполье ты вроде начальника по военной части. А за все по совокупности уже повешение полагается! Значит, убьешь сейчас меня, а как только выйдешь из этого дома — так, считай, что сделал первый шаг на эшафот.
— Ты… — Он грязно выругался и отпрянул от нее.
Леля отошла подальше. Щека болела, но она поняла, что Салов боится ее больше, чем она его.
— И не надейся, что твои товарищи из комитета поверят тебе и спасут, — продолжала он, чтобы закрепить достигнутые результаты. — Имей в виду, что вся ваша организация давно уже на крючке у контрразведки, и, кроме тебя, в комитете есть люди, которые тоже работают на контрразведку. Так что как только ты сообщишь подполью о том, что оказался предателем, ты сразу же подпишешь себе смертный приговор — контрразведка тебе этого не простит, да и товарищи тоже.
— Но что же делать? — растерянно спросил он, потому что только сейчас до него дошло, что Лелька кругом права.
— Раз уж все равно никуда не деться, то для тебя всего благоразумнее будет работать на них, — заключила Леля. — Арест вашего комитета — это всего лишь вопрос времени, а я уж замолвлю за тебя словечко потом.
— Ты… ты меня под это подвела, — бормотал он.
— Сам виноват! Не нужно было болтать! — крикнула она. — Тебя еще раньше заподозрили, а уж потом меня к тебе приставили!
— В гарнизонах народ ненадежный — кто-то продал, — охнул Салов и схватился за голову.
«Идиотом не надо быть!» — хотела присовокупить Леля, но промолчала.
— Что теперь делать?
— Ничего не делать, идешь вечером на встречу с Василием Губарем и передаешь ему полторы тысячи, чтобы он достал тебе документы, по которым можно получить оружие на складе. А там получишь через меня дальнейшие указания.
Он сел за стол и уронил голову на руки. Леля посмотрела с презрением на его небритый затылок и, намочив полотенце, приложила к своей разбитой щеке.
На берегу моря в унылом, безрадостном месте неподалеку от доков, там, где каменистая коса усеяна гниющими водорослями и различной выброшенной волнами дрянью, где обыкновенно из живых существ можно увидеть только неразборчивых чаек, собирающих свой малопривлекательный улов, встретились в предрассветных сумерках четыре человека.
Один из них был прибывший в Крым со специальной миссией из Екатеринослава Борщевский, трое других — местные подпольщики: товарищ Макар, Салов и матрос Защипа, известный в Севастополе под псевдонимом Кипяченко.
— Что за причина для такой срочной встречи? — раздраженно спросил у товарища Макара Борщевский.
— Типографию разгромили, — мрачно ответил Макар.
— Плохо, очень плохо, — Борщевский тоже помрачнел, — ведь говорил я вам: плохо у вас с конспирацией, из рук вон! А почему мы сегодня в таком странном месте встречаемся, а не на конспиративной квартире?
— Место это очень хорошее, — последовал ответ, — подходящее во всех отношениях. А конспиративную квартиру я считаю проваленной.
— Почему? — недоуменно спросил Борщевский. — Что, Гольдблат с Якобсоном попали в контрразведку?
— Нет, товарищи, к счастью, сбежали и тираж воззвания унесли. Но не в этом дело. Я лично считаю, что среди нас находится провокатор.
— И кого же ты, товарищ, подозреваешь?
— Тебя, Борщевский. — Товарищ Макар встал на безопасном расстоянии от Борщевского, засунув правую руку в карман и глядя исподлобья недобрым решительным взглядом. Тем временем Салов зашел Борщевскому за спину, а матрос встал чуть сбоку и вытащил из-за пазухи свой грозный «маузер».
— Товарищи, вы, наверное, с ума сошли! — воскликнул Борщевский в прежнем раздражении. — Я ведь к вам от самого товарища Мокроусова пришел, фронт преодолел с большой опасностью. Вы мандат мой видели. С какого перепугу вы меня за провокатора держите?
— Насчет мандата это ты нам сам расскажи: или тебе его в контрразведке дали, у настоящего Борщевского отняв, или тебе и вправду этот мандат в Екатеринославе выдали, а ты к белым переметнулся и предал всемирный пролетариат.
— Ты, товарищ Макар, говори да не заговаривайся. — В голосе Борщевского прозвучала скрытая угроза. — Насчет того, кто пролетариат предал, мы еще разберемся. Какие у тебя основания меня в предательстве обвинять?
— Основания самые простые, — товарищ Макар повысил голос, но обращался скорее к Борщевскому, а не к своим людям, — как ты появился, так у нас провалы пошли…
— Провалы у вас от того, — перебил его обвиняемый, — что конспирация ни к черту не годится. Типография чуть ли не открыто работает, грохот на всю улицу… Еще удивляюсь, как ее раньше не разгромили.
— Конечно, все теперь у тебя будут виноваты, один только ты… херувим святой. — Не найдя ничего лучшего, товарищ Макар прибег к церковному лексикону и сам остался этим очень недоволен.
— Товарищи! — повысил голос Борщевский, обращаясь к Кипяченко и Салову, при этом он несолидно крутил головой, опасаясь повернуться спиной к Макару. — Товарищи! Что же это у вас творится! Вы видите, что имеет место искажение линии. Я к вам прибыл как представитель партии, имея на руках все необходимые полномочия, а встречаю здесь в лице товарища Макара полное недоверие и грубые угрозы, вплоть до поповских выпадов вроде херувима! Это что же, товарищи, получается! Это уже просто больше чем оппортунизм!
Произнося эти слова, Борщевский пытался одновременно передвинуться так, чтобы за спиной у него не было Салова, но это ему не удалось: Салов к его словам совершенно не прислушивался, в душе у него было ликование — не он один предатель, а вот же, нашелся паскуда! Поэтому он только следил за маневрами и осторожно отступал, сохраняя свое стратегически важное положение.
Матрос, напротив, внимательно слушал хорошо знакомые по годам революционной борьбы слова, получая от их звучания видимое удовольствие и испытывая прилив пролетарского энтузиазма, на что и рассчитывал Борщевский.
— Ты, товарищ Макар, послушай, — с сомнением проговорил матрос, — товарищ хорошо говорит, чувствуется, что наш человек. Может, мы что-то недодумали? Может, дать ему возможность показать себя в деле?
Руководитель севастопольского подполья, почувствовав, что ситуация незаметно выходит из-под контроля, зло покосился на матроса и сказал:
— Ты, Кипяченко, хоть и проверенный товарищ, но очень легко поддаешься на мелкобуржуазную пропаганду. Ты вспомни, он же сам признавался, что состоял в левых эсерах! А это ведь самая что ни на есть мелкобуржуазная партия. Не дай ему зубы заговорить. Ты вспомни, что после его появления у нас провал за провалом. — И, не давая Борщевскому времени снова прибегнуть к своему красноречию, товарищ Макар крикнул: — Давай, Салов, вали! Как договаривались!
Салов, равнодушный к ораторскому мастерству приезжего товарища, кинулся сзади на Борщевского и накинул ему на шею заготовленную заранее удавку из рояльной струны. Тонкая струна врезалась в горло, прочертив мгновенно по коже ровную алую линию. Борщевский схватился руками за шею, стараясь ослабить страшную железную петлю. Он пытался схватить Салова за руки, но это никак ему не удавалось. Макар же тем временем, вытащив из кармана небольшой ладный «браунинг», суетливо переступал перед Борщевским, испуганно и вместе с тем злорадно следя за его попытками вырваться, и приговаривал:
— Так его, Салов, так его, оппортуниста! Так его, провокатора! Учить он нас будет конспирации! Учить будет подпольной работе! Так его, дави гада, Ваня!
Матрос Кипяченко, растерянно переводя взгляд то на злобно суетливого Макара, то на Борщевского, из последних сил бьющегося в сильных руках душителя, порывался что-то сказать или сделать, но не мог принять решения. Много повидавший жестокости и крови, сам не раз лишавший жизни классового врага, матрос впервые оказался в таком положении, что не знал, кому больше доверять, на чью сторону стать: товарищ Макар — его непосредственный руководитель, председатель подпольного комитета, а Борщевский — человек из центра, представитель партийного руководства… Так и не приняв никакого решения, матрос махнул рукой и отвернулся.
Салов все туже затягивал стальную удавку. Глаза Борщевского страшно выпучились и налились кровью. Широко раскрыв рот, он пытался крикнуть, но перетянутое струной горло способно было издавать только нечленораздельный хрип. Из-под струны текла кровь, заливая его грудь. Наконец в горле хрустнуло, и товарищ Борщевский обмяк и рухнул на каменистый берег, окончательно завершив свою бурную революционную биографию.
Глава восьмая
После неудачи орловского выступления сам капитан Орлов собрал партизанский отряд и ушел в крымские леса. Поручик Осоргин ушел вместе с ним. Большая часть участников его движения направилась на фронт к перешейкам.
Значительная масса добровольцев прибыла в Крым без оружия. Боеприпасов не было вовсе, так что перед отправкой на фронт Борису Ордынцеву и нескольким другим офицерам было приказано получить оружие и патроны для отряда на артиллерийском складе в Севастополе.
Оставив у ворот склада подводу с охраной, Борис отправился с документами к складскому начальству.
Пройдя по длинному коридору, опоясывающему ангар, он подошел к застекленной будке конторщика. Внутри помещение было ярко освещено, поэтому Борис хорошо видел, что там происходит, сам же оставался почти невидим. Дежуривший по складу интендантский офицер просматривал документы высокого широкоплечего моряка. Что-то в этом моряке показалось Ордынцеву знакомым. Подойдя поближе и приглядевшись, Борис оторопел: это был матрос Защипа, красный, едва не расстрелявший его, Бориса, минувшей осенью. Одетый в форму морского офицера, Защипа получал на складе оружие. Сомнений быть не могло: Борис отлично запомнил этого человека. Он был не простой красный боец, а комиссар и начальник, убежденный расстрельщик. Такой человек, если бы попал в плен к белым, был бы неминуемо расстрелян. Здесь явно был какой-то красный заговор.
Что делать? Арестовать Защипу? Но у него наверняка здесь сообщники, их тоже нельзя упустить. И вообще нужно распутать весь этот клубок.
Борис решил следить за матросом и постараться установить, с кем он связан. Затаившись за штабелем из ящиков, он дождался, пока интендант проверил документы Защипы. Видимо, оружие и патроны для моряка должны были подготовить к следующему разу, потому что Защипа, оставив интенданту часть бумаг, пошел со склада прочь. Борис, хоронясь за ящиками и перебегая от одного штабеля к другому, двинулся следом.
Матрос вышел за ворота, и Борис, немного обождав, прошел за ним. Места в районе складов были безлюдные, поэтому Ордынцеву пришлось следовать за моряком на очень большом расстоянии, чтобы остаться незамеченным, тем более что Защипа часто оглядывался, проверяя, нет ли слежки.
Дойдя до более оживленных улиц, Борис едва не потерял матроса в толпе и в конце концов нашел его снова только благодаря высокому росту и заметной морской форме. Защипа долго ходил по городу, передвижения его казались бесцельными. Наконец он свернул в неприметный проулок и юркнул в щель между досками высокого забора. Борис, недолго поколебавшись, хотел было последовать за ним, но вдруг сильная рука обхватила его сзади и зажала рот.
— Тише, ваше благородие, не надо шуметь, — раздался над самым ухом низкий гнусавый голос.
Руководствуясь скорее инстинктом, чем соображениями разума, Борис резко присел, вывернувшись из обхвативших его сильных рук, и что было силы пнул ногой назад. Видимо, он попал своему неизвестному противнику по щиколотке, потому что тот запрыгал на одной ноге, тихо ругаясь. Он бы, конечно, ругался громко и вообще вопил бы благим матом, но, очевидно, конспиративные соображения въелись ему уже в самую кровь и оказались решающими даже в такой мучительный момент.
Борис, воспользовавшись временной нетрудоспособностью своего противника, окончательно высвободился и повернулся к нему лицом, приняв боевую стойку для английского спортивного бокса. Только теперь он разглядел нападающего. Это был крепкий плотный мужичок торгово-мещанского вида и такой заурядной внешности, по которой человек хоть сколько-нибудь наблюдательный за версту опознает филера. Мужичок все еще ругался, но уже приходил в боевую готовность, а сбоку ему на подмогу бежал еще один, удивительно на него похожий, только несколько помладше.
— Вы что — братья? — с интересом спросил Борис подбегающего, и пока тот собирался ему что-то ответить, провел весьма успешный хук левой.
«Младший брат» отлетел в сторону, но на ногах удержался и, судя по злобно загоревшимся маленьким глазкам, тоже пришел в боевую готовность.
Борис переводил взгляд с одного филера на другого. Они медленно приближались, один сильно хромал, другой неплохо освещал проулок появившимся у него под глазом стараниями Бориса фонарем. В сложившихся обстоятельствах Борис, если бы была такая возможность, предпочел ретироваться, однако возможности не было.
В этот критический момент рядом с Борисом раздался удивительно знакомый голос:
— Эй, земляки, вы не это ли ищете?
Скосив глаза, Ордынцев увидел невесть откуда появившегося Саенко, ординарца полковника Горецкого.
— Чего? — нелюбезно переспросил «старший брат», тут же для ясности присовокупив: — В хлеву земляков поищи!
— А вот это не вы обронили? — с прежней доброжелательностью повторил Саенко, указывая на что-то под ногами филера и даже наклоняясь, чтобы эту вещь подобрать.
Филер невольно опустил глаза, и в то же мгновение хитрый хохол ухватил его за штанину и сильно дернул кверху, так что «старший брат», взмахнув ногами и перекувырнувшись, удивительно красивым образом полетел в пыльные лопухи. Саенко же, нисколько не задумываясь и не теряя времени на обсуждение достигнутых успехов, ухватил «младшего брата» за рукав, слегка наклонился, взвалил его себе на спину, как куль с мукой, и, ловко перевернув, забросил на другой конец проулка. После он обернулся к Борису и сказал:
— Ну, ваше благородие, теперича драпаем: они, когда подымутся, очень сердитые будут. А с тобой Аркадий Петрович как раз поговорить хотел.
Аркадий Петрович Горецкий поднялся навстречу Борису из-за письменного стола. В пенсне лицо его казалось мягким и интеллигентным — таким Ордынцев помнил его на университетской кафедре. После новороссийской эвакуации отношения их стали натянутыми, но в глубине души Борис все-таки рад был его увидеть.
— Борис Андреевич, голубчик! Рад видеть вас в добром здравии. — Горецкий будто прочитал его мысли. — Однако как случилось, что вы столкнулись с агентами контрразведки при исполнении ими обязанностей?
— Я встретил на артиллерийском складе старого знакомого, — объяснил Борис, — матроса-большевика Защипу. Осенью, когда во время рейда я попал в плен к красным, этот морячок едва не расстрелял меня. Представьте же мое удивление, когда вижу, как этот орел в форме мичмана собирается получать на нашем складе оружие. Выходит, мы уже сами большевиков вооружаем? Ну, само собой, я решил за ним проследить. Дальнейшее вам, по-видимому, известно.
— Да, Саенко рассказал. — Горецкий усмехнулся. — Не беспокойтесь, за бравым моряком следят. Так, говорите, его фамилия Защипа? В здешнем подпольном комитете его знают как Кипяченко. Ну, у господ большевиков клички и псевдонимы весьма в ходу — все эти Ленины, Троцкие, Каменевы… За вашим моряком следят, — повторил Горецкий, снимая пенсне, при этом лицо его приобрело чеканную твердость черт, и из глубоко штатского человека Аркадий Петрович сделался боевым офицером, — то, что он собирается получить оружие на складе, заставит его задействовать все свои связи, и мы, аккуратно проведя операцию, сможем снова арестовать весь подпольный комитет…
— Снова? — прервал его Борис вопросом.
— Да, снова, — кивнул Горецкий, — мы уже арестовывали предыдущий состав комитета. Кое-кто казнен, кое-кто сидит в тюрьме, а господа большевики сколотили новую организацию…
— У них, как у Змея Горыныча, новые головы вырастают на месте отрубленной! — ужаснулся Борис. — Мы никогда не сможем с ними сладить!
— Не преувеличивайте, — поморщился Горецкий, — мы арестуем и этот комитет, и следующий… У Змея Горыныча все силы и все время будут уходить только на отращивание голов, и он не сможет причинить никакого зла. Они только и делают, что создают новые комитеты, а к тому времени как соберутся поднять мятеж — мы их снова арестовываем.
— Прежде, помнится, вы решали более значительные задачи, — не удержался Борис от колкости.
— Сейчас от русской земли остался только этот клочок — Крым, и защита его стала для всех нас делом чести и долга. — Голос Горецкого зазвенел, казалось, что он говорит перед целой армией, и Борис невольно проникся его чувством, как незадолго до того подпал под магию личности генерала Слащева. Полковник продолжал: — Для защиты Крыма положение в тылу играет огромную роль, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить возникновения пятой колонны.
— Воля ваша, господин полковник, занимайтесь своей тайной войной, а я всеми этими играми сыт по горло. Пойду с отрядом на фронт, там все проще и честнее: враг — вот он, впереди, по ту сторону перешейков, вокруг — свои, никаких предателей, никаких провокаторов… Надоело!
— Что ж… — Горецкий снова надел пенсне, и лицо сделалось мягким и задумчивым, — не могу вас неволить, голубчик. Честно признаться, очень хотелось бы, чтобы мы с вами, как прежде, работали вместе — помнится, это у нас неплохо получалось, но что уж тут поделаешь… Одно только обидно — вы прежде сталкивались с этим матросом Кипяченко… или как его там зовут, Защипа? Ну не важно. Ваше прежнее знакомство очень могло быть полезно. Морячок много может знать, а судя по тому, что мне о нем известно, он крепкий орешек, разговорить его будет непросто… тут бы вы пришлись очень кстати. Психология, знаете ли, тонкая наука. Вся держится на таких нюансах…
Борис дал себе слово Горецкого не слушать и на его предложения не соглашаться, но тут он вспомнил депо, полное арестованных, ожидающих расстрела, и Защипу, по-хозяйски распоряжающегося жизнью и смертью «буржуазного элемента»… Ему захотелось посмотреть этому палачу в глаза. А может быть, полковник Горецкий просто-напросто обладал свойством магнетического воздействия на Бориса и спорить с ним было бесполезно? Так или иначе, Ордынцев, сам удивляясь своим словам, сказал:
— Ладно, Аркадий Петрович, постараюсь помочь вам с Защипой. Но он ведь еще на свободе?
— Это вопрос одного-двух дней, — Горецкий явно повеселел, — подождите немного, голубчик. С командованием я договорюсь, отправитесь на фронт чуть позже, если не измените своих намерений, а пока поработаем вместе.
Последнее заседание большевистского подпольного комитета проходило на окраинной Михайловской улице в доме Тониной тетки, расположенном очень удачно: с одной стороны к дому примыкал пустырь, образовавшийся на месте сгоревшего в прошлом году соседского дома, а с другой — улица и вовсе заканчивалась, теткин дом был последний. И хоть были сумерки, но на открытом месте можно было наблюдать за всеми подходами к дому.
Заседание было очень ответственное, поэтому, учитывая тревожную ситуацию и историю с предателем Борщевским, решили выставить часового — того самого Мишку Полещука, который прибыл из разгромленной симферопольской организации. Заседание было расширенное, за столом сидело человек пятнадцать — присутствовали представители от воинских частей, а также моряки с дредноута «Воля» и других судов, кроме крейсера «Кагула», который, пришвартованный к Графской пристани, выполнял роль застенка контрразведки.
Заседание открыл товарищ Макар, который пришел, как всегда, последним:
— Итак, товарищи, настал решительный момент. Обстановка для вооруженного выступления сложилась сейчас самая подходящая. Солдаты гарнизона — в основном бывшие пленные красные, с ними велась достаточно долгая и продуктивная агитационная работа.
— Мы ручаемся, что большая часть поддержит вооруженное выступление, а остальные присоединятся к успеху! — выскочил представитель гарнизона.
Товарищ Макар остановился, посмотрел на него очень спокойно, помолчал немного, давая понять человеку, что он совершил ошибку, когда прервал председателя, но поскольку тот сел на место, не осознав свой промах, товарищ Макар продолжал:
— В первую очередь, товарищи, следует захватить штаб Врангеля и особый батальон при штабе крепости, потому что там, как утверждает товарищ Салов, — он бросил взгляд на Салова, сидевшего в уголке и выглядевшего сегодня необычайно тихим, даже пришибленным, — как заверил нас товарищ Салов, там есть какая-то часть состава, распропагандированная коммунистами, но много еще и прихвостней белых. Так что батальон следует обезвредить в первую очередь.
Далее, рабочие порта и надежные войска, состоящие в ведении комитета, — тут снова высунулся было тот самый шустрый представитель гарнизона, но товарищ Макар продолжал говорить не останавливаясь, так что тот сел на место, приоткрыв рот, но так и не сказал ни слова, — должны занять почту-телеграф, все госучреждения, железнодорожный вокзал, морской завод в порту. Теперь с вами, товарищи, — он повернулся к морякам, — можете ли вы ручаться, что обезоружите офицеров и займете дредноут «Воля» и еще три судна, стоящие на рейде?
— Ручаемся, — вразнобой ответили матросы.
— Необходимо также выделить людей для охраны города. Этим займутся рабочие из доков.
— Только оружия у нас почти нет, — встал представитель морского завода.
— Вот об этом доложит нам товарищ Кипяченко.
Матрос встал во весь свой огромный рост и зычно начал:
— С оружием, товарищи, полный порядок. Спасибо товарищу Салову, — все оглянулись на бывшего унтера, но он упорно смотрел в пол, — спасибо Ивану за то, что нашел нужного человека. Оружие, товарищи, будет! Завтра получаю на артиллерийском складе пять пулеметов, сто пятьдесят винтовок, а также патронов достаточное количество. И еще гранаты и динамит… Организуем с Семеном подводы, получат солдаты из гарнизона, чтобы не заподозрили на складе. Потом везем оружие в порт.
— Это очень хорошо, товарищ Кипяченко, что тебе удалось достать динамит.
— Я свое дело знаю, — согласился матрос. — Если я руководитель подрывной секции, то, знамо дело, мне без динамита никак не обойтись. Чем, интересно, я бы стал железнодорожный Камышловский мост подрывать, если бы динамита не достал?
— Остается еще один вопрос, тоже из главных. Следует захватить начальника обороны Крыма генерала Субботина, а также адмирала Ненюкова. На это есть у нас свой отдельный план, который знают те товарищи, которые будут его выполнять. Там главное — внезапность.
Товарищ Макар оглядел собравшихся. Люди, конечно, надежные, но все же незачем раскрывать все карты на расширенном заседании. Мало кто из подпольного комитета знал, что родной брат товарища Макара служил адъютантом опального генерала Май-Маевского. Именно от генерала через братишку и получал товарищ Макар самые последние сводки с фронта.
— Итак, час, товарищи, пробил. Партия нас призывает отдать все силы, а может быть, даже и жизнь за великое дело борьбы…
В это мгновение под окном раздался глухой вскрик.
— Что это такое? — вскочил с места матрос Кипяченко.
— Что еще? — поморщился товарищ Макар, недовольный, что его прервали. — Что ты нервничаешь, товарищ Кипяченко?
— Там крикнул кто-то, боюсь, не часового ли нашего сняли.
— Тебе, наверное, показалось, — отмахнулся председатель.
Но в сенях затопали сапоги, и в окне появилась голова юнкера.
— Именем закона вы… — крикнул юнкер, но Кипяченко выстрелил в него из «маузера».
Дверь затрещала под ударами.
Товарищ Макар торопливо собрал со стола все бумаги, протоколы заседаний комитета и зажег их. Дверь рухнула, и в комнату ворвались юнкера под командой полного, круглолицего штабс-капитана.
— Военная контрразведка! — крикнул офицер. — Вы все арестованы!
— Ша! — ответил ему Кипяченко и начал палить из «маузера».
Юнкера, отступив к дверям, ответили дружным огнем. В небольшой комнатке началось форменное столпотворение. Ничего не было видно, потому что товарищ Макар, собирая бумаги, уронил лампу, и теперь комната освещалась только колеблющимся пламенем горевших на столе бумаг.
Все произошло слишком быстро, люди метались в замкнутом пространстве, оглушенные, ошарашенные, задыхающиеся. Подпольщики пытались отстреливаться.
Штабс-капитан, раненный Кипяченко в плечо, прислонился к притолоке и навел «наган» на товарища Макара, тщательно прицелившись. Но прежде чем грянул выстрел, Тоня Шульгина бросилась вперед и закрыла председателя своим телом. Она успела это сделать, потому что с самого начала заседания смотрела только на него одного, и когда ворвались контрразведчики, не отрывала от него взгляда. Пуля из «нагана» попала ей ниже ключицы, на светлом платье расплылось багровое пятно. Девушка охнула и сползла на пол. Воспользовавшись заминкой, товарищ Макар выбросился в окно, упав прямо на убитого Кипяченко юнкера, вскочил и бросился зигзагами по улице. Кипяченко отступил к окну, прикрывая отход председателя, и раз за разом садил из «маузера» по юнкерам. В комнате творился форменный ад. Двое подпольщиков лежали на полу раненные или убитые. Семен Крюков зажимал руками раненую голову. Он был весь в крови. Наборщик Гольдблат потерял в этаком содоме очки и стоял абсолютно беспомощный, глядя перед собой близорукими глазами. Салов сидел в углу на корточках с поднятыми руками, трясся мелкой дрожью и бесконечно повторял:
— Я сдаюсь, я сдаюсь, я без оружия! Не убивайте, я сдаюсь, я сдаюсь!
Кипяченко расстрелял всю обойму и боком нырнул в окно, как мальчишки ныряют в мельничную запруду. Двое юнкеров стреляли ему вслед, а еще несколько человек выбежали на улицу и бросились за ним вдогонку. Матрос, не раз уже раненный, медленно отходил, сильно хромая и оставляя за собой густой кровавый след.
— Врешь, — бормотал он на ходу, — не возьмешь… Не родилась еще та сволочь, что возьмет Защипу…
Юнкера догнали его и попытались скрутить, но Кипяченко отстегнул от пояса гранату-«лимонку» и выдернул чеку. Юнкера, захваченные врасплох, в ужасе отшатнулись от матроса, но убежать далеко у них уже не было времени.
Кипяченко стоял, высокий и грозный, сжимая гранату в огромной руке с вытатуированной на запястье саблей, разрубающей мерзкую буржуазную гидру. Он смотрел на своих врагов с выражением окончательного и последнего торжества. Казалось, время остановилось, так долго тянулась эта последняя секунда. Наконец раздался страшный грохот, полыхнул огонь, поднялось облако пыли и дыма…
Когда это облако рассеялось, на месте матроса и окружавших его юнкеров остались только какие-то отвратительные багровые клочья.
Штабс-капитан, наблюдавший эту сцену через окно, перекрестился и произнес вполголоса:
— Варвары!
Затем он, морщась от боли и придерживая рукой раненое плечо, повернулся к находящимся в комнате.
Оставшиеся в живых подпольщики стояли возле стены с поднятыми руками, юнкера держали их под прицелом. Тела Тони и двух других убитых в перестрелке убрали. Один только Салов сидел по-прежнему на корточках, мелко трясясь и повторяя как заведенный:
— Не убивайте! Я сдаюсь! Я сдаюсь!
Всех выгнали на улицу, подталкивая прикладами, и повели через весь город в контрразведку. На пороге Семен Крюков споткнулся и упал. Гольдблат, который чудом отыскал свои очки, хоть и без одного стекла, склонился над ним и покачал головой. Дядя Семен был мертв. Они пошли медленно — жалкая кучка растерянных, никак не ожидавших предательства людей. Раненых поддерживали. Гриша Якобсон, несмотря на ранение в ногу, шел сам. Их сопровождал обозленный, сильно поредевший отряд юнкеров.
Штабс-капитан, придерживающий раненое плечо, уехал на извозчике, всю дорогу ругаясь неприлично. Он был зол на себя за то, что подставился под пулю, зол на главного большевика, который сумел сбежать, зол на Кипяченко, который положил столько его людей, а самое главное — он был зол на начальство, которое, как всегда, вело себя глупо и бездарно и вместо нормальных офицеров и солдат распорядилось послать на операцию необстрелянных мальчишек-юнкеров, из-за чего и произошел такой пассаж.
Ивана Салова втолкнули в большую, почти пустую комнату. Посредине ее за темным письменным столом сидел круглолицый штабс-капитан, знакомый Салову по аресту подпольного комитета. Сбоку от офицера пристроился рыжий веснушчатый писарь. Возле окна стоял спиной к вошедшему еще один человек в защитном френче с погонами полковника. Человек у окна не повернулся, чтобы взглянуть на арестованного, и это вызвало почему-то у Салова непонятную обиду и вместе с тем болезненное любопытство: что это за полковник, чего он хочет, что делает здесь?
— Садитесь, Салов. — Штабс-капитан указал Ивану на табуретку.
Салов послушно сел и уставился на контрразведчика. Парализовавший Ивана во время ареста страх прошел, и он решил для себя держаться твердо и ничего не говорить врагам, чего бы это ни стоило, а хорошенько послушать, что ему скажут.
— Итак, Салов Иван Степанович, из крестьян Липецкого уезда Тамбовской губернии, — прочитал штабс-капитан по бумаге, которая лежала перед ним на столе, — унтер-офицер семьдесят четвертого пехотного полка, дезертировал… В восемнадцатом году мобилизован в Добровольческую армию, опять дезертировал… Член севастопольского подпольного комитета, ответственный за пропаганду среди солдат гарнизона… Все правильно, я нигде не ошибся? — Штабс-капитан поднял взгляд на Салова.
Иван ничего ему не ответил, придав своему лицу выражение непреклонности и революционного героизма.
— Не хотите мне отвечать? — доброжелательно, с легкой улыбкой на губах проговорил штабс-капитан. — Это просто замечательно! Вы, господин Салов, решили твердо держаться на допросе, ни слова не говорить этой белогвардейской сволочи, то есть нам с вами, господин полковник, — контрразведчик повернулся к человеку у окна, как бы призывая его в свидетели саловского героизма, — только ведь, Иван Степанович, поздно вы решили твердость проявлять! Вы ведь, дорогой мой, прекрасно знаете, что именно из-за вас арестован подпольный комитет.
— Ложь! — истерично выкрикнул Салов, забыв, что собирался твердо молчать, не поддаваясь ни на какие провокации контрразведчика.
— Отчего же? Вовсе это не ложь, — спокойно ответил штабс-капитан, — и вы это отлично знаете. Леля, сердечная ваша привязанность, она ведь давно на нас работает, и вы это знали, Иван Степанович. А ведь вы не рассказали об этом своим товарищам-подпольщикам! Если бы не вы с Лелей, разве узнали бы мы о вашем заседании? Все, все нам стало известно именно через вас! Вы рассказывали Леле, Леля рассказывала мне, так что, дражайший Иван Степанович, я считаю вас самым лучшим нашим агентом! Подумывал даже о том, чтобы выплатить вам наградные за успешно проведенную операцию, да потом решил — а к чему? Вы и так славно на нас работаете, можно сказать, на чистом энтузиазме. Зачем же зря казенные деньги расходовать?
Штабс-капитан добродушно рассмеялся. Салов тоскливо оглядел комнату. Схватить бы что-нибудь тяжелое, ударить по этой круглой ненавистной смеющейся физиономии… А потом оттолкнуть полковника от окна, броситься в стекло… как товарищ Макар… так ведь решетки на окнах, и нет ничего подходящего, чтобы контрразведчика огреть, да и в руках такая отвратительная слабость… А самое главное — этот гад говорит правду. Сам он во всем виноват, протрепался Лельке, а когда понял, что зазноба его давно продалась белым, побоялся рассказать об этом товарищам… Кто же он после этого? Последняя гнида, предатель…
Вспомнил Иван Борщевского, присланного к ним из Екатеринослава, вспомнил, как задушил его по приказу товарища Макара, якобы за предательство, а был ли тот предателем? Салов в этом сомневался, да не очень-то и задумывался. Председатель комитета приказал, он и убрал чужака… А ведь оттого и убрал его охотно, что знал уже про то, что Лелька его продала, и предпочел чужой виной, пусть и выдуманной, заслонить свою собственную…
— Так что, Салов, — прервал штабс-капитан его невеселые размышления, — вы, конечно, можете изображать твердость и непреклонность, но вам от этого не будет совершенно никакой пользы. Мы постараемся, чтобы ваши товарищи — как арестованные, так и оставшиеся на свободе — узнали, чем они обязаны вам с Лелей. И тогда… ох, не завидую я вам, Иван Степанович!
Салов решил сменить тактику.
— Господин штабс-капитан, — начал он, смелея от собственной наглости, — что-то я вас не совсем понимаю. Я работал, старался, вы же сами только что изволили выразиться, что из-за моей такой большой помощи и взяли большевистский комитет. И вот теперь, извиняюсь, такое отношение…
— Что-что? — удивился штабс-капитан, и Салов заметил, что даже полковник у окна пошевелился.
— Я мог предупредить товарищей, но не сделал этого, потому что понял, как мы все не правы. — Салов кинулся как в холодную воду.
— Ах вот как? — подал голос полковник.
Салов увидел пенсне, болтающееся на шнурке, жесткий взгляд и лицо, будто вычеканенное на старой монете.
— К тому же я согласился работать на контрразведку с условием, что меня отпустят на свободу. Ваша операция так или иначе, но завершилась, так что отпустите меня восвояси.
— Кто же это тебе сказал, что тебя отпустят? — тихо и даже как-то ласково произнес полковник.
— Леля, — растерялся Салов, — она обещала.
— Леля? — захохотал даже штабс-капитан, а полковник только поморщился. — Ты думаешь, Леля у нас здесь главная? Мало что она тебе обещала!
— А что со мной теперь будет? — затрепетал Салов.
— Подпольщиков будет судить военно-полевой суд, через неделю их отправят в Джанкой в тамошнюю контрразведку, — сухо сказал полковник. — А ты, гнида, пойдешь в камеру «наседкой», больше ни на что ты не годен, — добавил он уже гораздо выразительнее. — Посидишь с недельку, выяснишь, куда мог ваш главный большевик Макаров Владимир Васильевич, он же товарищ Макар, деться. И какие у него могут быть дальнейшие планы. Ну а дальше посмотрим.
Штабс-капитан крикнул солдата, Салова увели, офицер тоже вышел по своему делу. Оставшись один, полковник надел пенсне и сел за стол, подперев голову руками. Он долго думал, потом тяжело вздохнул и произнес вслух:
— Но если они, вот такие, побеждают нас, следовательно, мы еще хуже?
Глава девятая
В сумерках руководитель разгромленного подпольного комитета товарищ Макар появился в переулке возле знаменитой севастопольской гостиницы «Кист». Стараясь не привлекать к себе внимания, он наблюдал за входом в гостиницу. Внимательно изучив витрину кондитерского магазина, афишную тумбу и прочитав по два раза расклеенные на стене приказы губернатора и военного коменданта, товарищ Макар увидел наконец того, кто был ему нужен. Скрипя ремнями, сверкая золотом погон, из гостиницы вышел элегантный молодой офицер.
Товарищ Макар торопливо пошел ему навстречу. Поравнявшись с офицером, он быстро прошептал:
— В десять у служебного входа «Ливадии».
Ресторан «Ливадия» — большой, шикарный. Но вход для персонала находится совсем с другой стороны, из темного переулка. Дома рядом были все сплошь с закрытыми ставнями, людей в переулке не было, мелькала иногда смутная тень и пропадала в темноте южной ночи. Изредка доносился гул возбужденных голосов и музыка из ресторана.
В назначенное время возле служебного входа ресторана «Ливадия» появился тот же щеголеватый поручик. Воровато оглядываясь, он прошел мимо двери. Дверь приоткрылась, и показавшаяся рука втащила офицера внутрь.
Товарищ Макар приложил палец к губам и прошептал:
— Тише, Павлик! Здесь есть один сочувствующий, он постоит на стреме, мы можем поговорить.
— Ты с ума сошел, — прошипел поручик. — Что у тебя стряслось?
— Не кипятись, Павлик. Дела паршивые: комитет провалился, половина убита, половина арестована.
— А ты что будешь делать?
— Я чудом убежал, придется переходить на нелегалку. Я думаю уйти в горы к зеленым, буду создавать партизанскую армию, оно вернее: в городе народ ненадежный, предатель на предателе. Я к тебе для того пришел, чтобы ты знал: могут тебя начать обо мне расспрашивать, ты должен быть к этому готов. А может, тебе лучше вместе со мной, в горы?
— В горы всегда успеется. Пока я могу доставать военные сводки, надо за мое место держаться. Ты, однако, зря к гостинице пришел. Нас могли там увидеть с тобой.
— Я тебя должен был предупредить. Как ты будешь на мой счет оправдываться? Брось ты все, рванем в горы к партизанам! Черт с ними, со сводками!
— Еще у меня одна мысль есть. Хорошо бы теракт провести. Убрать генерала Слащева — больно, сволочь, удачливый… Считай, на нем одном перешейки держатся.
— Сложно будет, я людей растерял. Но мысль хорошая, обдумать надо. Что будешь про меня генералу своему говорить?
— Ладно, оправдаюсь как-нибудь. Май-Маевский очень мне доверяет, я смогу в чем угодно его убедить.
— Ну смотри, Павлик, как знаешь. Мне пора уходить, нужно еще до квартиры добраться, где ночевать буду.
— Надежная квартира? — забеспокоился брат. — Не могут тебя там ждать друзья из контрразведки?
— Не волнуйся, про эту квартиру никто не знает, даже тебе не скажу, — усмехнулся товарищ Макар. — Завтра выберусь из города, найду зеленых, возле Балаклавы, я знаю, отряд базируется, потом вернусь. Связь будем держать по резервному варианту.
С этими словами товарищ Макар пожал щеголеватому поручику руку, выскользнул за дверь и растворился в быстро сгущающихся сумерках.
На следующее утро генерал-лейтенант Май-Маевский, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, кавалер ордена Британской империи, кавалер целого ряда других орденов, английский лорд, сидел на веранде гостиницы «Кист» и читал Диккенса. В недавнем прошлом победоносный военачальник, командующий Добровольческой армией, после поражения под Орлом он был отстранен Деникиным от командования и жил в Севастополе, вдалеке от театра военных действий, больно переживая свою вынужденную бездеятельность.
Рядом с ним стоял, ожидая приказа, его адъютант Павел Макаров.
— Павел Васильевич, присядьте. — Генерал указал адъютанту на легкий плетеный стул. — Наливайте коньяк.
— Простите, Владимир Зенонович, я так рано не пью.
— А я пью, — горько усмехнулся генерал, подливая себе из довоенной шустовской бутылки. — Павел Васильевич, вы ведь по-английски не читаете?
— Нет, Владимир Зенонович, не было возможности научиться.
— Жаль, жаль. Я иногда думаю, что из всей мировой литературы только и стоит читать Диккенса… Но ведь вы, по-моему, вообще к чтению не слишком склонны?
— Да, Владимир Зенонович, так сложилась жизнь, столько было разных насущных забот, что было не до чтения. Я думаю, это мне простительно: сколько уж лет я на фронте, родительское имение разграблено…
— Да, ведь вы мне, помнится, рассказывали, что у вас имение есть под Рязанью и что отец ваш служил начальником Сызрань-Вяземских железных дорог…
— Так точно, ваше превосходительство. Жаль, что не была взята Рязань, вы лично убедились бы в этом. — Голос Макарова зазвучал несколько напряженно, вопросы генерала показались ему подозрительными.
— Да-да, я помню. А скажите мне, любезный Павел Васильевич, какая разница между эсерами и большевиками?
— Никогда не интересовался этим, ваше превосходительство. Думаю, что вам лучше спросить об этом у господ из контрразведки.
— Вот именно. Мы это у них спросим. А вот как вы можете не знать разницы между партиями, если ваш брат состоит в партии большевиков?
Макаров вскочил, побледнев, и воскликнул:
— Никак нет, ваше превосходительство! Мой брат никогда не был коммунистом!
— «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту же ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня», — задумчиво процитировал Май-Маевский.
— Простите, ваше превосходительство, что вы сказали?
— Не важно, Павел Васильевич. — Генерал поставил стакан и посмотрел на своего адъютанта тяжелым мрачным взглядом. — Вы не могли не знать, что ваш брат, известный под кличкой товарищ Макар, был председателем подпольной организации большевиков, которая готовила в Крыму вооруженное восстание.
Макаров нервно облизнул губы и огляделся по сторонам. Тут же на веранде появилась группа офицеров с револьверами в руках, отрезав поручику все пути к бегству. Один из офицеров подошел к Макарову и сказал:
— Поручик Макаров, вы арестованы.
— Ну что ж, Борис Андреич, голубчик, — полковник Горецкий зажег свою трубку, — боюсь, что не смогу обратиться к вашей помощи в этом деле, потому что, как вы верно знаете, матрос Защипа, он же Федор Кипяченко, при аресте оказал сопротивление и погиб, подорвав себя и трех юнкеров гранатой. Вот такие они, наши классовые враги…
— Не все, — неприятно усмехнувшись, сказал Борис, — уж поверьте мне на слово, я их лучше знаю, потому что больше видел.
— Тем не менее они победят, — грустно вымолвил Горецкий, — и от этого никуда не деться. Их победа — это только вопрос времени. Россия станет полностью красной, а мы… про нас просто забудут. Кто-то из нас эмигрирует, кто-то останется и погибнет здесь. Большевики истребят нас потихоньку, всех… а потом скажут — не было никакого дворянского сословия.
— Простите меня, Аркадий Петрович, — Борис поднялся с места, — если я вам больше не нужен, то могу я идти? Штабс-капитана Алымова хочу поискать, как-то мы с ним разминулись… — И добавил не без сарказма: — Раз уж так получилось, что на сегодняшний день все враги Белой армии в городе Севастополе оказались арестованными или убитыми.
Горецкий подскочил на стуле.
— Как вы сказали — все враги? Да знаете ли вы, поручик, кто на сегодняшний день самый главный враг Белой армии? Не на фронте, разумеется, а здесь, в тылу? Не подпольные комитеты большевиков и не забастовки рабочих, а спекуляция! Да-да, именно спе-ку-ля-ци-я! — выкрикнул он, сверкая глазами.
— Кто же не знает спекулянтов? — пожал плечами Борис. — Я вторую неделю в Севастополе, видел их предостаточно, да и в любом городе они есть. В кофейне «Петлюра» был, видел, что там творится.
— Вы видели только внешнюю сторону, — возбужденно заговорил Горецкий, — самое страшное — это последствия, к которым приводит спекуляция: разложение тыла, нарушение снабжения армии всем необходимым, всем, что с армейских складов попадает не к воюющим частям, а к спекулянтам и контрабандистам. Кроме того, спекуляция приводит к недовольству гражданского населения, что тоже косвенно вредит обороноспособности Крыма. Мало того что спекулируют все эти греки, евреи, турки, нет — спекулируют военные, от солдата до генерала включительно, спекулируют герои, участники «ледяного похода», увешанные наградами. Спекулирует весь город: телефонные барышни и инженеры, дамы, занимающиеся благотворительностью, и портовые рабочие, гимназисты и полицейские, а также старики, дети и инвалиды.
— Да, тут такой простой метод, как подложить хороший заряд динамита и взорвать кофейню «Петлюра» со всеми его обитателями, оказывается совершенно недейственным, — заметил Борис.
— А куда девать иностранных матросов? — вздохнул Горецкий. — Они продают фунты и франки, а сами скупают у армян ковры и золото. В городе не хватает жилья, потому что спекулянты подняли цены на комнаты и квартиры. Даже мальчишки спекулируют газетами!
— Аркадий Петрович, — мягко заметил Борис, вставая, — я полностью с вами согласен насчет того, что со спекуляцией нужно решительно кончать, но здесь я вам не помощник. Так что разрешите откланяться…
Горецкий тоже встал с места и со вздохом протянул руку, и в это время на улице послышался шум подъехавшего автомобиля. Внизу захлопали двери, в здании поднялась суматоха. Борис выглянул в окно, но увидел только у входа запыленный черный автомобиль.
Тем временем по коридору прогрохотали шаги нескольких людей. Дверь распахнулась, и в комнату широкими шагами, обметая ноги полами развевающейся кавалерийской шинели, ворвался генерал Слащев.
Борис видел его второй раз, но теперь оказался гораздо ближе и лучше смог рассмотреть знаменитого защитника Крыма. Его поразило лицо генерала, эта неестественно белая длинная алебастровая маска с припухшим ярко-красным ртом, ртом вампира, ожившего мертвеца. Мутные серо-зеленые глаза смотрели на окружающих с бесконечной злой горечью.
«Ведь он молод, — подумал Борис, — ему только тридцать пять лет. Что же сделало его таким? Ведь это не лицо живого человека, это лицо выгоревшего изнутри ходячего трупа. Что так выжгло его? Непомерное честолюбие, наполеоновские амбиции, соединившиеся с подозрительностью и манией преследования, бессонные ночи или просто кокаин?»
Рядом с генералом стоял тот же красивый молодой ординарец, которого Борис заметил еще на вокзале в Симферополе. Лицо ординарца при всей его нежной красоте было прихвачено морозом порочной жестокости и бледно, как у Слащева.
Слащев оглядел находящихся в комнате и, выделив Горецкого как главного, заговорил голосом достаточно тихим, но звенящим от плохо сдерживаемой злобы:
— Что же, господа контрразведчики, у вас нет других дел, как только пытаться скомпрометировать единственного генерала, который еще думает о том, чтобы удержать фронт, а не исключительно о собственном обогащении или об интригах? Вам мало всех прежних доносов, теперь вы хотите объявить меня мародером?
— Позвольте, ваше превосходительство, я не знаю, о чем вы говорите! — попробовал остановить генерала Горецкий.
— Ах вы не знаете? — Голос Слащева повысился, наполнил собой комнату, запросился наружу. — Вы не знаете! Да все вы заодно, все вы одним миром мазаны!
— Подожди, Яков, — вмешался молодой ординарец неожиданно высоким певучим голосом, — может быть, полковник и вправду ни при чем?
— Оставь, Лида! — отмахнулся Слащев. — Все они одна шайка!
— Прошу вас, господин генерал, — воспользовался Горецкий паузой, — прошу вас, объясните, в чем дело.
— В чем дело? — издевательски повторил Слащев. — Дело в вашем замечательном коллеге Шарове. Мало того что его, штатского чиновника, прислали в Крым заведовать контрразведкой и что эта контрразведка не подчиняется ни моему начштаба, ни мне. Мало того что ему поручили секретную слежку за мной, так этот мерзавец пытался взвалить на меня обвинение в уголовном преступлении, в мародерстве!
Горецкий слушал генерала внимательно, не прерывая, и это, видимо, успокаивающе подействовало на Слащева. Он понизил голос и продолжил гораздо спокойнее:
— Несколько дней назад Шаров пришел в штаб и предложил купить у него кольцо — очень дорогое прекрасное кольцо по баснословно дешевой цене, но и такой суммы ни у кого в штабе не нашлось. Тогда Шаров еще сбавил цену — видно было, что он обязательно хочет продать это кольцо. Мне это показалось очень подозрительным — точно он краденое продает. Так я об этом и сказал в штабе. По счастью, кольцо так никто и не купил. А сегодня я узнал, что кольцо это принадлежало казненному полковнику Протопопову. Одна родственница Протопопова узнала это кольцо.
— Кольцо того самого полковника Протопопова, которого…
— …которого я приказал повесить за прямое неподчинение, за неисполнение моего приказа, — твердо сказал Слащев.
— Хм, интересная история, — задумчиво пробормотал полковник. — И вы утверждаете, что весь эпизод с кольцом Шаров выдумал нарочно, чтобы насолить вам?
Генерал почувствовал сарказм в голосе Горецкого и мгновенно остервенился. Яростью полыхнули его глаза, а лицо стало еще бледнее.
— Полковник! — гаркнул он так, что казалось, стекла в кабинете сейчас треснут. — Попрошу вас не забываться! Вы разговариваете со старшим по чину!
— Я помню, что вы выше меня по чину, — спокойно ответил Горецкий. — Дело в том, что хоть вы и находитесь в контрразведке, но обращаетесь не по адресу. — Борис отметил про себя, что Аркадий Петрович произнес эти слова мягко, стараясь сгладить резкость. — Я не контрразведчик, я представитель Военного управления при штабе армии Врангеля.
— И чем же вы тут занимаетесь? — вскричал Слащев.
— Вообще-то я не обязан отчитываться, но вам расскажу, — мягким, штатским голосом ответил Горецкий.
Пенсне сидело на носу, и перед генералом Слащевым стоял интеллигентный профессор Аркадий Петрович Горецкий.
— Так вот, миссия моя сложная. Кроме всяческих конфиденциальных поручений, я некоторым образом помогаю контрразведке. Вот недавно — может, вам докладывали? — мы арестовали в Севастополе большевистский подпольный комитет.
— Знаю, — пробормотал Слащев.
Голос его стал тише, и сам он как-то поспокойнее, очевидно, мягкая речь полковника Горецкого подействовала на него благотворно.
— Как раз сейчас до вашего прихода мы с моим коллегой, — Горецкий указал на Бориса, причем генерал Слащев даже не обернулся, но зато Борис поймал на себе заинтересованный взгляд его ординарца, которого генерал называл Лидой, — говорили о том, что главным врагом Белого движения, который причиняет ему едва ли не больше вреда, чем красные, является спекуляция.
— Вот как? — вскинул брови генерал.
— Не могу не признать, — продолжал Горецкий «профессорским» голосом, — что среди сотрудников севастопольской контрразведки ростки спекуляции расцвели пышным цветом, и среди них особенно выделяется имя упомянутого вами Шарова. Так что мы с вами, господин генерал, весьма солидарны во мнении насчет этого господина.
— Если бы они оставили меня в покое и не следили за мной — начальником обороны Крыма, — то я бы не стал связываться с этими мерзавцами, — сказал Слащев. — Пускай обделывают свои грязные делишки за моей спиной, прикрываясь заботой о фронте и тыле, — мне все равно…
— Вы не правы, господин генерал! — повысил голос Горецкий. — Да знаете ли вы, что устраивали эти подонки несколько месяцев назад? Пока фронт голодал и замерзал где-нибудь под Орлом, в вагонах вместо снарядов, одежды и продовольствия для армии везли мануфактуру, парфюмерию, шелковые чулки и перчатки. Пользуясь неслыханными полномочиями, выправив какие угодно документы — ведь сотрудникам контрразведки это не составляет труда, — эти мерзавцы прицепляли к поезду один какой-нибудь вагон с военным грузом или просто распоряжались поставить в вагон ящик со шрапнелью, благодаря чему поезд получал статус военного и пропускался беспрепятственно! А потом жгли склады в Новороссийске! Это в то время, когда солдаты и офицеры отступали чуть ли не босые!
Горецкий увидел злой взгляд Бориса и остановился неожиданно, как будто споткнулся.
— Если вы, господин генерал, не примете срочные и жесткие меры, то здесь, в Крыму, начнется та же вакханалия.
— Разумеется, мне докладывали о безобразиях, что творятся в тылу. Тут я разберусь быстро. Меры нужны жесткие и решительные. По-моему, я доказал уже всем, что слово мое твердо и что если уж издал приказ, то сам его выполняю строго.
— Не хочу вам противоречить, господин генерал, но думаю, что одних административных мер в борьбе со спекуляцией недостаточно, — осторожно заметил Горецкий.
Борис опять поймал на себе внимательный взгляд Лиды. То есть так называть ее он мог только в мыслях. Кто она такая? Любовница генерала Слащева, и, судя по тому, как спокойно и смело остановила она его замечанием, она не просто случайная подружка, а человек близкий и влиятельный. Борис переступил с ноги на ногу, его раздражал этот пристальный оценивающий взгляд. Как будто вещь в магазине выбирает! Скорей не в магазине, поправил он себя, потому что там надо платить, нет, чувствовалось, что эта женщина не привыкла получать ни в чем отказа и всегда брала то, что ей нравится. Но за каким чертом ей понадобился он, Борис?
Генерал Слащев наклонил голову, пробормотал слова не то извинения, не то прощания и вышел. Его ординарец торопливо шагнул за ним. Борис специально отвернулся, чтобы не встречаться с Лидой глазами.
На следующий день с утра пораньше в казарму, где ночевал Борис, явился Саенко.
— Здравия желаю, ваше благородие, давно не видались! — бодро приветствовал он Бориса не по уставу.
— Здорово, Саенко, никак опять Аркадий Петрович по мою душу?
— Все верно, и велено явиться вам тотчас же к нему на квартиру, — ответил довольный Саенко.
— Отчего ж на квартиру, а не в контрразведку?
Саенко хитро моргнул и прошептал, наклонившись:
— С утра вызывали к самому, — он закатил глаза к небу, — к генералу Слащеву. А как вернулся Аркадий Петрович, так сразу мне кричит, чтобы я немедля бежал к вам: мол, дело важное…
— Ох, опять, значит, полковник Горецкий интригует, — вздохнул Борис. — Зачем я ему нужен?
— Чтобы тебя, дурака, от смерти спасти! — рассердился Саенко, и Борис нисколько не обиделся за такие его вольные речи, потому что они с Саенко съели вместе не один пуд соли, Саенко не раз спасал ему жизнь. — Что ты, ваше благородие, все на фронт рвешься? — продолжал Саенко. — Все одно рано или поздно все кончится.
— Я за спины товарищей прятаться не буду! — вспыхнул Борис. — Не желаю со всякой тыловой сволочью тут оставаться! Я не про полковника говорю, — опомнился он, — и не про тебя…
— Россию не удержали, так неужто Крым один долго удержим? — продолжал Саенко, будто не слыша.
— Это ты верно говоришь, — опомнился Борис, — сам знаю, что надеяться нам особенно не на что. Ладно, идем к полковнику!
Полковник Горецкий ждал их у самовара.
— Был сейчас у Слащева, — начал он после приветствий, — вот, Борис Андреич, ознакомьтесь…
Приказ
22 марта 1920 года. Ст. Джанкой № 4383
На фронте льется кровь борцов за Русь Святую, а в тылу происходит вакханалия. Лица же офицерского звания пьяными скандалами позорят имя добровольцев; в особенности отличаются чины дезертировавших с фронта частей. Все это подрывает веру в спасение Родины и наш престиж.
Спекуляция охватила все слои общества. Забывшие свою честь, видимо, забыли и то, что наступил серьезный момент и накатился девятый вал. Борьба идет на жизнь и на смерть России.
Для поддержки фронта мне необходимо оздоровление тыла. Все граждане, не потерявшие совесть и не забывшие своего долга, должны мне в этом помогать, а остальным заявляю, что не остановлюсь перед крайними мерами, так как бессознательность и своекорыстие жителей меня не остановят.
Сейчас приказываю:
1. Распоряжением всех комендантов крепостей, начальников гарнизонов, комендантов городов и начальников уездов опечатать винные склады и магазины и беспощадно карать появившихся в пьяном виде военнослужащих и гражданских лиц. Спекулянтов, а также производящих пьяный дебош немедленно препровождать под конвоем на ст. Джанкой для разбора их дела военно-полевым судом, находящимся непосредственно при мне и приговор которого буду утверждать лично.
2. На всей территории Крыма запрещаю азартную карточную игру. Содержателей подобных притонов буду карать не штрафами, а по приговору военно-полевого суда в Джанкое как пособников большевизма.
3. Повторно разъясняю, что мне приказано удержать Крым, и я это выполню во что бы то ни стало, а мешающим этому из-за своих корыстных целей говорю заранее: упомянутая бессознательность и преступный эгоизм к добру не приведут. Пока берегитесь, а не послушаетесь — не упрекайте за преждевременную смерть.
Генерал Слащев.— Как вам нравится такой документ? — усмехаясь, спросил Горецкий.
— Да уж, просто не приказ, а какой-то романтический опус, — удивлялся Борис. — Слог у защитника Крыма… не слишком пламенный?
— Может, и так, однако слово у него не расходится с делом. Я пытался объяснить генералу, что если он повесит десяток-другой спекулянтов, вряд ли это сильно поможет делу, но он плохо меня слушал. Однако мы заключили с ним небольшое соглашение. Я разработаю операцию, с помощью которой генерал сможет избавиться от Шарова.
— Каким же образом?
— Шаров — злостный спекулянт, он пользуется преимуществами своей службы в контрразведке и наживается ужасно. Если втянуть его в какую-нибудь спекуляцию, а потом эта история получит огласку, то Шаров будет скомпрометирован, и тогда его деятельностью наконец заинтересуется начальство.
— Ну а я-то тут при чем? — довольно невежливо прервал Горецкого Борис.
— Вот как раз вы и поступаете на время в мое полное распоряжение! — спокойным тоном ответил Горецкий. И, видя, что Борис вскочил с негодованием, пресек его возражения: — Вы можете мне не верить, но это совершенно не моя инициатива. Пожелание выразил сам генерал — он сказал, что раз вы все равно в курсе дела, то, чтобы исключить утечку информации, вас нужно привлечь к операции.
— Чертова баба! — в сердцах высказался Борис. — Это она ему нашептала!
— Да уж, думаю, без нее не обошлось, — рассмеялся полковник. — Внешность у вас, Борис Андреич, весьма располагающая, не может дамский пол остаться равнодушным. Этакий сероглазый красавец!
— Вам весело, — вздохнул Борис, — не хватало мне еще с генералом из-за нее поссориться…
— За это не беспокойтесь, — уверил его Горецкий, — эта генеральская Лида, она же ординарец Нечволодов, разумеется, дама с капризами, но очень предана Слащеву. А что иногда просит его приблизить красивых мужчин, так это, как теперь говорят, из интересу… Так что подчиняйтесь приказу, голубчик, все равно у вас пока никакого назначения нету.
Борис только рукой махнул и отвернулся.
— Самоварчик подживить? — всунулась в дверь круглая голова Саенко.
Глава десятая
В душный прокуренный зал кофейни «Петлюра» вошел стройный молодой офицер с выразительными серыми глазами. Поверх английской шинели он завернулся в башлык, чтобы спрятать свои погоны, но эта неуклюжая маскировка у завсегдатаев кофейни вызвала только ухмылку.
Молодой офицер не привлек внимания официантов. Ему пришлось самостоятельно отыскивать свободный столик в большом, плохо освещенном помещении, и когда он его нашел, служители проносились мимо, не обращая на него внимания: он не был спекулянтом, значит, нельзя было рассчитывать на щедрые чаевые. Конечно, некоторые офицеры и здесь пользовались уважением, но только офицеры интендантские, которых сразу узнавали по идеально пригнанной форме, откормленному виду и такому же, как у других посетителей, спекулянтскому блеску глаз. Новый же гость хоть и был одет в ладную английскую шинель, худобой, обветренным лицом и характерной походкой кавалериста сразу заявлял о себе как о фронтовике, а фронтовиков у «Петлюры» побаивались и не уважали.
Наконец офицер буквально за полу поймал официанта. Рослый детина с бегающими сальными глазками неохотно склонился в полупоклоне и проблеял:
— Чего изволите, ваше благородие?
Офицер положил на стол хрустящую купюру с Царь-колоколом. Официант смахнул ее в карман небрежным жестом пресыщенного лорда, но тем не менее взгляд его потеплел и внимание обострилось.
— Любезный, — проговорил офицер, — принеси мне кофе… и еще… — Взгляд его стал неуверенно-ищущим, будто он хочет о чем-то спросить, но не решается.
Стараясь помочь неопытному клиенту, официант склонился ниже и негромким задушевным голосом спросил:
— Ваше благородие желают познакомиться с барышней? Есть очень обходительные… Рады будут соответствовать фронтовику… А может быть, с дамой? Имеются дамы из высшего света, некоторые даже титулованные…
— Нет-нет, любезный… — постарался офицер прервать услужливого официанта, но это было не просто, последовало продолжение:
— Может быть, ваше благородие интересуется девочками? Есть совсем юные, молоко, как говорится на губах, в куклы играют, а при этом…
Офицер брезгливо поморщился и остановил служителя более решительно:
— Да за кого ты меня принимаешь?! Я офицер!
— Мне ли офицеров не знать! — Официант, похоже, обиделся. — Многие офицеры ко мне обращались, и все остались довольны… Может быть, желаете мальчика?
— Да прекрати ты, похабник! — Офицер всерьез разозлился. — Мне вовсе не это нужно.
— А что же-с?
— Мне надобно, чтобы ты познакомил меня с кем-нибудь из деловых и денежных людей. У меня имеется для них очень интересное предложение.
— Ах вот-с… Это мы с нашим удовольствием-с! Я просто подумал, что ваше благородие с фронта, а не по интендантству-с…
— Это, любезный, до тебя совершенно не касается. Ты меня только с нужным человеком познакомь.
Официант замер с выражением самым выжидающим и задумчивым. Офицер несколько мгновений смотрел на него непонимающим взглядом, наконец опомнился и положил на стол еще одну купюру, которая тут же испарилась, а расторопный служитель низко поклонился и куда-то убежал.
Молодой офицер задумчиво посмотрел ему вслед, размышляя, увидит ли его еще когда-нибудь в этой жизни или можно без сожалений проститься со своими деньгами, но в это время к его столу, сильно хромая, подошел пожилой лысоватый господин, внушительный живот которого был затянут плотным, не очень свежим кремовым жилетом. Этот жилет, большой крючковатый нос и прикрытые тяжелыми веками темные глаза делали господина похожим на старую задумчивую черепаху.
— У вас до меня имелось какое-то дело? — печальным голосом спросил «черепаховый господин», без приглашения усевшись за стол рядом с офицером и аккуратно разместив свой живот.
Молодой офицер посмотрел на своего соседа с некоторым подозрением и спросил:
— С кем имею честь?
— Капернаумов, — ответил «черепаховый» лаконично.
— Простите? — переспросил офицер.
— Капернаумов, — повторил толстяк несколько обиженно, — или вы никогда не слышали эту фамилию?
— Признаюсь, не приходилось.
— Я вас умоляю! — Капернаумов поднял темные глаза к небу в печальном изумлении, а затем прикрыл их тяжелыми веками. — Эту фамилию знает каждая ставрида в море! Если вам надо-таки чего-нибудь купить или продать — вы ищете Капернаумова. Если вам надо-таки чего-нибудь достать или устроить — вы тоже ищете Капернаумова. Если вам надо крестить ребенка или, не дай Бог, похоронить тещу — вы все равно ищете Капернаумова. Так какое же у вас до меня дело?
Офицер нервно оглянулся по сторонам и, наклонившись к своему странному соседу, почти прошептал:
— У меня… вернее, у нас есть несколько вагонов спирта и водки.
— Чего вы так шепчете? — спросил Капернаумов, удивленно уставившись на собеседника. — Мы с вами что, уже в контрразведке? Здесь, у «Петлюры», слава Богу, еще не такое слыхали. Ну имеете вы несколько вагонов кое-чего, так что — из-за этого уже нужно изображать секретного агента? Я вас умоляю! Даже если вы эти вагоны где-нибудь украли, ну кому до этого есть какое-нибудь дело!
— Я не крал этих вагонов! — негромко, но зло прервал Капернаумова офицер. — Я служу на бронепоезде, и мы, отступая через Украину, натолкнулись на эти вагоны. Они стояли на путях, мы их подцепили к своему бронепоезду. Пока отступали — никому не было до них дела, а теперь мы стоим на позиции, и нам некуда деться с этими вагонами. А мы, офицеры бронепоезда… — молодой человек замялся, как бы не решаясь продолжить, пока Капернаумов не поощрил его заинтересованным покашливанием, — мы, офицеры, переговорили между собой… понимаете, господин Капернаумов, раньше или позже нам, вероятно, придется эвакуироваться, а за границей деньги будут очень нужны…
Капернаумов опустил тяжелые веки и хмыкнул:
— Гм… Можно подумать, есть такое место, где они не нужны!
— Поэтому меня командировали на поиски человека, который мог бы купить у нас эти вагоны.
— Ну что ж… — Капернаумов откинулся на спинку стула, едва не сломав ее, и с вековой печалью произнес: — Ну что ж, вы нашли такого человека. Он перед вами. Вы рады?
Не обратив внимания на сарказм в голосе собеседника, офицер снова заговорил:
— Но вы понимаете, господин Капернаумов, вам придется как-то переправить спирт из прифронтовой полосы сюда, к порту… или в другое место, которое вам нужно. А грузы сейчас очень тщательно проверяют… Вы ведь знаете, этот приказ Слащева… Именно спиртное преследуют больше всего.
— Не беспокойтесь, молодой человек, — коммерсант чуть передвинулся, при этом его необъятный живот закачался, как трясина под ногами неосторожного путника, — не беспокойтесь, Капернаумову случалось перевозить и не такое, как-то раз мне пришлось везти английский, извиняюсь за выражение, танк под видом конской упряжи. И вы думаете, кому-нибудь это не понравилось? У Капернаумова нужные люди на нужных местах, и все остаются довольны.
— Но я опасаюсь, как бы нашими вагонами не заинтересовалась контрразведка.
— Вы еще очень молоды, — грустно произнес Капернаумов, снова опустив свои тяжелые, как у Вия, веки, — не беспокойтесь, ваша молодость пройдет, это ненадолго. Если вы опасаетесь контрразведки — так это зря. Можно подумать, что контрразведка не хочет кушать. Так вы будете-таки удивлены: она тоже хочет кушать. Вам нужно, чтобы контрразведка сделалась слепая, глухая и немая? Обратитесь к Капернаумову. Вы уже сделали одну очень умную вещь в своей молодой жизни: вы встретились со мной.
— Что ж, если вы так уверены в своих возможностях… — протянул офицер с некоторым сомнением в голосе, — тогда нам с вами нужно обсудить только один вопрос: цену.
— Ну вот, — Капернаумов оживился, поднял веки и придвинулся к своему соседу, — теперь я слышу действительно интересный разговор. Цена — это то, о чем на самом деле стоит поговорить…
Неподалеку от Армянска, рядом с расположением основных сил Крымского корпуса, оборонявших Перекопский и Чонгарский перешейки, глубокой ночью по временной железной дороге, проложенной инженером Измайловским, шел бронепоезд с прицепленными к нему спереди опечатанными товарными вагонами. Дорога не позволяла делать более десяти верст в час, но бронепоезд шел и того медленнее.
Отойдя верст на десять от последних светящихся окон Армянска и убедившись, что поблизости нет ни постов, ни кавалерийских разъездов, машинист совсем застопорил состав. Стоявший на подножке головного вагона офицер подал кому-то условный сигнал фонарем. Из темноты посигналили в ответ, и навстречу бронепоезду медленно выдвинулся задним ходом маневровый паровоз. С паровоза спустились три человека в коротких бекешах. Они подошли к офицеру и поздоровались. Офицер сорвал пломбу с первого вагона и прошел внутрь со своими спутниками. Вагон был доверху заполнен аккуратными ящиками довоенной казенной водки.[10] Один из людей в бекешах вытащил бутылку, сковырнул пробку складным ножом, слегка пригубил, одобрительно кивнул. Точно так же вместе с офицером осмотрели остальные товарные вагоны. Убедившись, что все они нагружены водкой и спиртом, человек в бекеше вынул из-за пазухи объемистый пакет и протянул его офицеру:
— Можете не считать, ваше благородие. Это от господина Капернаумова, а он ни разу еще не обсчитался.
— Нет уж, — ответил офицер, — вы проверили груз, я проверю деньги.
Он развернул пакет и долго считал новенькие банкноты. Закончив подсчет, подал знак двум стоявшим неподалеку солдатам.
Солдаты отцепили товарные вагоны от бронепоезда. Машинист бронепоезда медленно сдал назад, маневровый паровоз осторожно приблизился к вагонам с драгоценным грузом. Лязгнула сцепка. Вагоны присоединили к локомотиву, посланники господина Капернаумова вернулись на паровоз, и состав медленно уплыл в темноту.
В тот же самый час в военную контрразведку в Юшуне поступило сообщение от одного из надежных осведомителей о том, что по временной военной железной дороге неизвестные лица перевозят запрещенный груз. Начальник контрразведки штабс-капитан Севрюгин почувствовал, что может выслужиться перед начальством. С десятком казаков он поскакал к железной дороге. Увидев медленно ползущий состав, Севрюгин приказал машинисту остановиться и направился к вагонам, намереваясь проверить их содержимое. Рядом с ним тут же появилась темная личность в короткой аккуратной бекеше. Безостановочно бегая глазками, личность зашептала на ухо штабс-капитану. В этом шепоте прозвучали очень заманчивые предложения в самой разной валюте, но Севрюгин, сознание которого еще не полностью пропиталось тыловыми представлениями и системой ценностей кофейни «Петлюра» и которому страшно хотелось дослужиться до полковника, выпучил глаза и заорал:
— Что?! Взятку?! Мне?! Офицеру?! Да я тебя, крыса тыловая, в Сиваше утоплю!
Такая перспектива «бекешу» не обрадовала, и последовал еще один шепот на ухо контрразведчику. Теперь упор делался не на материальное вознаграждение, а на то, что начальство оного контрразведчика все знает и вполне одобряет происходящее. Штабс-капитан, который к этому моменту уже очень разозлился, а очередное повышение за усердие и бдительность казалось ему свершившимся фактом, «бекеше» не поверил и снова заорал:
— Что?! Да ты еще и клевещешь на честных людей?!
Возбужденный контрразведчик не заметил, что в самом начале их увлекательного разговора еще один человек в бекеше, удивительно похожий на первого, сбежал с поезда и припустил в сторону ближайшей станции.
Штабс-капитан Севрюгин метал громы и молнии, коммерсант в бекеше, сообразив, что общего языка им не найти, начал просто-напросто тянуть время, неожиданно разучившись говорить по-русски и пытаясь объяснить контрразведчику законность своих прав на смеси греческого, турецкого и грузинского языков. При этом эмоциональность его речи резко возросла. Он бил себя в грудь, топал ногами, указывал пальцем на небо, видимо, призывая Создателя в свидетели своей бесконечной честности. В конце концов у Севрюгина голова пошла кругом, и в это время со стороны Юшуня затарахтел автомобильный мотор. Штабс-капитан, который созрел уже для того, чтобы опечатать вагоны и арестовать «бекешу», оглянулся на подъезжающую машину и увидел в ней своего глубоко ненавистного начальника — штатского чиновника Шарова, присланного из ставки для руководства Крымской контрразведкой.
— Что здесь происходит, господин Севрюгин? — осведомился вновь прибывший.
— Недозволенный груз, — лаконично и недовольно пробурчал штабс-капитан, — подозрительные лица перевозят по военной дороге.
— С чего вы это взяли? — прикрикнул на него Шаров. — Груз специальный, военного назначения. Вы, как сотрудник контрразведки, должны понимать важность перевозок по этой дороге и не чинить им препятствия. Вы видели на документе господина Полупапия мою подпись?
— Никак нет! — мрачно возразил Севрюгин.
— Господин Полупапия, покажите документ. — Шаров благожелательно махнул рукой личности в бекеше, и тут же у того в руке чудесным образом возникла замечательная бумага, усеянная печатями и подписями, как мундир эфиопского посла орденами и медалями.
— Господин… Полупопия ничего этого мне не показывал, — по-прежнему мрачно промолвил Севрюгин, явно отступая и сникая перед мощью орденоносного документа и авторитетом своего прямого, хотя и штатского начальника.
— Ну, теперь он вам все показал, — миролюбиво резюмировал Шаров, давая тем самым понять, что разговор закончен.
Штабс-капитан окончательно сник и вскочил на свою лошадь, собираясь возвращаться в Юшунь. Но в это время теперь уже со стороны Армянска донесся шум подъезжающего мотора. Все участники переговоров повернулись на этот звук и увидели в облаке пыли хорошо знакомый большинству крымчан черный автомобиль командующего Крымским корпусом генерала Слащева.
«Мать честная! — подумал штабс-капитан Севрюгин. — Что же это творится? Что же за день такой сегодня? Здесь, в этой дыре, штабные автомобили разъезжают, как в центре Севастополя! Сперва Шаров, теперь Слащев… Что же здесь такое происходит у меня под носом?»
Черная машина остановилась, дверца распахнулась, и Слащев выскочил в своей долгополой шинели как черт из табакерки.
— Штабс-капитан, доложите, что происходит? — обратился генерал к Севрюгину, делая вид, что не видит Шарова.
Севрюгин, растерянно моргая, переводил взгляд с одного начальника на другого, мучительно прикидывая, как бы не сесть в галошу. Наконец, руководствуясь интуицией, а еще больше неприязнью к Шарову, он отрапортовал:
— Ваше превосходительство, получены сведения о перевозке недозволенного груза!
— Груз проверили? — коротко и зло осведомился Слащев.
— Никак нет! — Севрюгин почувствовал, что повышение по службе все еще возможно и, удерживая на месте норовистую лошадь, продолжил: — Сопровождающий груз господин Полупо… Полупа… сопровождающий груз господин предъявил документ с печатью военной контрразведки, удостоверяющий, что этот груз военный, специальный.
— Где документ? — Лицо Слащева, как всегда в моменты сильного гнева, больше обычного побледнело.
Севрюгин мигнул на личность в бекеше, и Слащев выхватил у того бумагу.
— Так… — протянул он, ознакомившись с документом, — военный, значит, груз… Интересно, как это я могу не знать о каком-то военном грузе? Видимо, меня плохо информируют. Штабс-капитан, вскройте вагоны!
Глаза Севрюгина загорелись злобной радостью: кажется, он сумеет подгадить ненавистному штафирке. Он спрыгнул с лошади, махнул казакам и направился к вагонам.
Шаров молча наблюдал за происходящим. Полупапия заламывал руки и закатывал глаза. Слащев медленно подошел к открытым вагонам, заложив руки за спину. Увидев их содержимое, он повернулся к Шарову. Неестественно красный рот на его бледном лице скривился в саркастическую улыбку.
— Так вот он, ваш военный груз? Интересно, как же вы намеревались применять его в боевых действиях? Спаивать красных? Тогда почему же состав идет не на север, а на юг?
— Я не знал, ваше превосходительство, — проблеял Шаров.
— Однако подпись на документе ваша. — Слащев ткнул ему под нос бумагу.
— Меня… меня ввели в заблуждение.
— Интересно, за какую сумму? — Слащев спрятал бумагу за пазуху и закончил: — Жаль, вы мне все еще не подчинены и я не могу своей волей отдать вас под суд. Но в ставку я о вашем поступке сообщу. Штабс-капитан, вагоны опечатать и реквизировать!
Товарищ Макар чувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя загнанная дичь. За каждым углом ему мерещилась засада, на улице он постоянно ощущал спиной чей-то взгляд, и огромных усилий стоило ему не оглядываться. Он постоянно петлял по городу, стараясь сбить со следа воображаемых преследователей. В каждом человеке, с которым ему приходилось иметь дело, товарищ Макар видел предателя и провокатора. Впрочем, товарищ Макар уже не был товарищем Макаром. Теперь он стал Жоржем Лапидусом, коммерсантом и биржевиком. Изменилась также его внешность: рыжеватые волосы он выкрасил в черный цвет, причесывал их гладко, причем парикмахер по его просьбе выстриг косые поганенькие височки. Товарищ Макар отпустил короткие усики, которые тоже подкрасил. Одевался он тоже в соответствии со специфической модой мелких спекулянтов с Корниловской набережной — обязательные полосатые брюки и визитка, а также белая сорочка сомнительной свежести. Мало кто мог узнать теперь в нем председателя разгромленного подпольного комитета. Но легче на душе от такой метаморфозы ему не стало.
Особенно трудно было с ночлегом. Каждый вечер он шел к кому-нибудь из сочувствующих и не мог заснуть, ожидая ночного ареста. Дважды в одном месте он никогда не ночевал, потому что к утру окончательно убеждался, что хозяин — провокатор и не привел ночью контрразведку только потому, что хотел усыпить бдительность, а на следующую ночь уж обязательно приведет. Такая жизнь совершенно измучила подпольщика. Он стал бледен как тень и вздрагивал от каждого подозрительного шороха.
Очередным вечером новоявленный Жорж Лапидус пришел к старику Корнеичу, сторожу при складе мануфактуры. Корнеич был из сочувствующих — добродушный инвалид, в далеком прошлом — солдат. Сторожка его была невелика, но аккуратно прибрана, Корнеич напоил подпольщика хорошим чаем с баранками, и у Макара в кои-то веки потеплело на душе, он почувствовал себя в безопасности. Старик был по-настоящему надежен. Жоржа Лапидуса клонило в сон.
— Сейчас вот туточки на топчане вам постелю, — сказал Корнеич, заметив усталый вид гостя.
Старик вышел из комнаты, и вдруг в ту же дверь вкатился сытый, плотный, невысокого роста господин апоплексического сложения. Товарищ Макар, мгновенно сбросив дремоту, схватился за пистолет, но толстяк уже держал его под прицелом «браунинга».
— Не дергайтесь, господин Макаров, и не волнуйтесь, я не сделаю вам ничего плохого, во всяком случае пока.
— Кто вы такой? — злобно спросил подпольщик, краем глаза пытаясь рассмотреть, не стоит ли еще кто-нибудь у двери.
— Моя фамилия Шаров.
— Шаров? Контрразведчик? Ну, сволочь старик! Предатель холерный!
— Повторяю: не бойтесь и не хватайтесь за оружие. Я здесь один. Если бы я собирался вас арестовать, здесь уже был бы как минимум взвод солдат. И не держите зла на старика. Если бы на вас так нажали, как я нажал на него, вы бы тоже предали бы кого угодно, от родной матери до родной партии. А когда я расскажу вам, чего я от вас хочу, мы с вами вообще станем лучшими друзьями.
— Сомневаюсь! — зло бросил товарищ Макар, но все же с некоторой долей любопытства спросил: — И чего же?
— Я хочу, чтобы вы убили генерала Слащева.
— О! — изумился товарищ Макар. — Белые сволочи грызутся между собой?
— Это должно вас радовать…
— Я чувствую здесь какой-то подвох.
— Не беспокойтесь, — Шаров придвинул себе колченогий табурет и сел, — здесь нет никакого подвоха. Слащев мне мешает, а больше вам знать ни к чему. Если вы согласитесь сделать это, я помогу вам всем, чем удастся. Я дам вам деньги, сообщу всю информацию, которой владею.
— Однако вы прекрасно можете это сделать и без меня. В городе хватает темных личностей, готовых за деньги убить кого угодно, — с сомнением проговорил товарищ Макар.
— Вы правы, господин Макаров, — контрразведчик, все еще не опуская «браунинга», левой рукой достал портсигар, неловко выщелкнул из него папиросу и закурил, — я мог бы сделать это без вас. Но мне нужно, чтобы это убийство приписали большевикам, а из своего долгого опыта я вынес убеждение, что самый лучший способ списать убийство на большевиков — это уговорить большевиков на самом деле его совершить.
Шаров ушел, а товарищ Макар, внимая его совету, остался ночевать у Корнеича. Старик держался совершенно спокойно, ничуть не смущаясь тем, что сдал подпольщика контрразведчику. Товарищ Макар тоже решил не поднимать в разговоре эту тему. Особенно они и не разговаривали, потому что Корнеич постелил своему гостю на топчане и ушел, задув лампу, к себе.
Товарищ Макар долго лежал в темноте без сна и раздумывал, что сулит ему неожиданная встреча с Шаровым. И получалось так, что, кроме выгоды, ничего она ему не сулит. Шарову зачем-то нужно убить генерала Слащева. Но ведь и у самого товарища Макара, вернее, у его брата Павла возникала такая идея. Ни для кого не секрет, что генерал Слащев является самой главной фигурой в обороне Крыма. И если устранить его сейчас, то все тщательно им возводящееся здание обороны рассыплется как карточный домик. То есть это не наверняка, но с большой долей вероятности. Стало быть, самый прямой смысл сейчас ему, бывшему председателю подпольного большевистского комитета, пойти на сотрудничество с контрразведкой. Тем более что об этом никто не узнает. Кто свидетель его разговора с Шаровым? Только старик Корнеич. Но старик и так уже не жилец, потому что не родился еще на свете такой человек, который предаст его, Владимира Макарова, и проживет после этого больше суток. И недаром на такую опасную встречу с ним Шаров пришел сам, без сопровождающих, ему тоже не нужны свидетели. Если дело выгорит, то после убийства Слащева можно припугнуть Шарова оглаской, и он организует побег брату Павлу из крепости. Тогда, может, пока оставить старика Корнеича в живых? Пригодится как свидетель…
Значит, в ближайшее время ему нужно собрать хоть небольшую, но надежную группу людей. Товарищ Макар поморщился в темноте. Где их взять, надежных-то? Поймали вон весь комитет, как куропаток в мешок! И кто же все-таки предал? Получается, что вовсе это не Антон Борщевский. Да, по правде сказать, он, товарищ Макар, имел тогда большие сомнения в том, что предатель — Борщевский. Уж перед собой-то хитрить не стоит. Борщевский говорил правильные вещи — что распустились, не соблюдают конспирацию, что в контрразведке сидят отнюдь не дураки, а наши пентюхи прутся прямо на конспиративную квартиру и в голове у них не сверкнет по сторонам оглянуться. То же и с типографией — стучат и стучат средь бела дня, вот кто-то из соседей и проявил нездоровый интерес, сообщил в полицию…
А возможно, дело все-таки в Борщевском. Не случайно ведь, что в Симферополе тоже провалы. Хотя там небось такие же пентюхи в комитете собрались. Но не понравился товарищу Макару Антон Борщевский, с первого взгляда не понравился. Слишком высовывается, много на себе берет. Всех поучает, рвется руководить. А руководитель в подполье может быть только один, иначе люди запутаются кого слушать. И разговаривать с людьми нужно неторопливо, веско, чтобы каждое слово доходило. Можно и повторить одно и то же, лучше усвоится. Народ, он, конечно, малограмотный, поэтому нечего перед ним много распространяться, а нужно главное втолковывать. А Борщевский этот все суетился, много слов мудреных говорил, простому человеку и не понять. Одно слово — бывший эсер, ненадежный товарищ, правильно с ним поступили. Революция все спишет… Тем более что он, Макар, сам не убивал. Да дело и не в этом, потому что потом, когда большевики займут Крым, с победителей никто не спросит. Сейчас главное — победить. И выжить… А это уж как повезет, но и дураком не надо быть. Вот ему, товарищу Макару, привалила раз удача — в поезде совершенно случайно добыл он бриллианты. Это еще когда по заданию партии служил у белых прапорщиком. Владелица бриллиантов оказалась великой княжной, что инкогнито пробиралась в Крым. Не дрогнула у него рука, потому что очень нужны были деньги на покупку оружия. Но дальше удача покинула его, потому что вроде бы и передал он бриллианты с верным человеком, а пропали они начисто, как не было.
И пришлось искать новые пути и добывать оружие в Севастополе. Очень он не хотел этого делать, потому что ненадежно. Контрразведка так и шарит возле складов артиллерийских, знает, что подпольщики и партизаны без оружия существовать не могут. Выйдут на связь, найдут человека, кто сможет им с оружием посодействовать, — и бери их тепленькими… Так и вышло с их комитетом. Несомненно, из-за оружия они погорели. Тогда, значит, предатель — Салов? Возможно, но не обязательно, его могли использовать втемную.
Начнем сначала. Всего было в комитете девять человек. Представители рабочих и воинских частей не в счет, они не знали адреса явочной квартиры, их привел туда сопровождающий. К последнему заседанию в комитете осталось семеро, потому что Борщевского ликвидировали, а сапожника Парфенюка отправили от греха подальше в деревню. Из семерых убежать смог только он один, после посылал мальчишку к своему дому, тот узнал, что жену его забрали в контрразведку, правда, выпустили через сутки, ничего не добившись. А потом выдали родственникам тела убитых: Семена Крюкова, Кипяченко и Антонины. А в тюрьме сидят двое наборщиков и Салов, ждут отправки в Джанкой и военно-полевого суда. А также представители гарнизонов и рабочих, кто уцелел.
Стало быть, предатель — кто-то из тех троих, кто в живых остался. Ну да, это в данный момент не так важно, нужно набирать новых людей. Раз уж судьба спасла его на этот раз, то следует срочно организовывать не комитет, а подпольную группу для содействия убийству Слащева.
Но где взять преданных людей? Он пошевелился в темноте на неудобном жестком топчане. Вовсе не судьба спасла его от смерти и от тюрьмы в этот раз, а Тоня. Вот как преданна была девчонка, жизни своей не пожалела. Такие-то самые верные. В голове идеалы, вера в светлое будущее, и сами они не поймут, кого любят — героя-большевика или человека. Он умеет с такими девчонками обращаться. Главное — держать их на расстоянии, слова говорить правильные, чтобы слушала и все на свете забывала. Тогда у нее преданность великая. Упаси Бог только в постель такую уложить. Как бабой станет, так сразу у нее идеалы революционные из головы выветрятся, начнет ластиться да уют создавать. Хотя с Антониной трудно ему было сдержаться. Как посмотрит глазищами своими синими, аж дрожь пробирала. Не зря Анна, жена, так в прошлый раз на нее остервенилась.
Эх, к Анне бы сейчас! В баньку да на мягкую постель… Вот кто человек надежный. Ничего от нее контрразведка не добилась, ни словом мужу не повредила. Кремень баба!
По сложившейся уже привычке товарищ Макар встал до рассвета. Он почти не спал этой ночью, но лихорадочное возбуждение, владевшее им, заменяло кофе и наркотики. Он был бодр и готов действовать.
Осторожно приоткрыв дверь в закуток, где спал Корнеич, подпольщик взглянул на старика. Сторож устроился на сундуке, покрыв его полушубком и грудой строго тряпья. Выставив к потолку кадык и приоткрыв рот, Корнеич спал, время от времени коротко всхрапывая. Редкие гнилые зубы делали спящего особенно отвратительным. Словно почувствовав на себе взгляд, старик пробормотал что-то невнятное, чмокнул мокрыми губами и закрыл рот. В горле у него противно булькнуло.
Товарищ Макар с ненавистью посмотрел на Корнеича. Предатель! Привел к себе контрразведчика и нисколько не чувствует своей вины, спит как убитый! Не лучше ли завершить это сходство? Пусть его сон станет еще крепче, станет вечным. То, что он предал Макара, не так уж и важно, наверное, каждый сломался бы у них в контрразведке, но вот то, что старик видел их с Шаровым встречу, — это непростительно. Люди болтливы, люди ужасно болтливы. Старик расскажет кому-нибудь из знакомых, и по городу пойдут слухи, что товарищ Макар встречается с контрразведчиками, значит, он работает на контрразведку, он провокатор… Это страшно, это несмываемый позор. Хуже того — если эти слухи дойдут до партизан, это будет означать смертный приговор для подпольщика… Нет, этого нельзя допустить. И потом, старик так отвратителен… этот его кадык, гнилые зубы, храп…
Словно подслушав мысли товарища Макара, Корнеич снова пошевелился и открыл рот. Подпольщик не вынес этого зрелища. Он схватил бритву и полоснул старика по горлу. Тело дернулось, Корнеич попытался приподняться, закричать. Глаза его открылись, но были совершенно бессмысленны. Темная поволока сна быстро сменялась белесой пленкой смерти. Широкий разрез на горле открылся, как второй рот, — огромный, от уха до уха, отвратительно смеющийся рот балаганного паяца. Кровь хлынула из разреза, забила из него ритмичными толчками… и очень быстро иссякла: сердце остановилось и не гнало больше кровь по сосудам.
Последняя судорога пробежала по телу старика, и он вытянулся на сундуке. Как будто снова заснул. Если не смотреть на страшную рану, лицо его могло показаться спокойным.
Товарищ Макар оглянулся: ему показалось, что кто-то смотрит в затылок, но это был всего лишь темный лик Николая-угодника на старой иконе. Злобно сплюнув, подпольщик последний раз покосился на мертвого старика, быстро собрал свои немногочисленные вещи и вышел из сторожки. Никто не видел его ни вечером, когда он пришел сюда, ни сейчас, когда он уходил. Только Шаров, контрразведчик… но он не в счет, он сам не заинтересован в свидетелях.
Товарищ Макар быстро шагал по пустырю. Светало.
Глава одиннадцатая
После разговора с Шаровым на душе у товарища Макара стало спокойнее, он стал меньше бояться, смекнув, что пока он Шарову нужен и тот сумеет его прикрыть от сотрудников контрразведки. Что будет дальше — товарищ Макар догадывался. Если убийство генерала Слащева удастся, то Шаров постарается как можно скорее избавиться от товарища Макара, он будет нежелательным свидетелем. На этот случай подпольщик разработает свой собственный план спасения. А вот если убийство Слащева не удастся, то неприятности ожидают обоих. Значит, нужно сделать так, чтобы оно удалось.
Он не спеша прогулялся по городу, позавтракал в маленькой, рано открывающейся кофейне на Елизаветинской улице, затем пешком отправился в самый дальний конец города в местечко, называемое Зеленой Горкой. Собственно, это был уже не город, а пригород, до гор отсюда было рукой подать, а от моря, то есть от набережных, от порта, комендатуры и крепости, далековато.
В маленьком домике на Зеленой Горке находился главный пункт связи с красно-зелеными партизанами, как называли они себя сами, или с лесными бандитами, какими считало их правительство Деникина. Хозяином домика был Василий Цыганков — георгиевский кавалер, инвалид Германской войны, в бою под Барановичами он потерял руку. Человек он был тем не менее достаточно бодрый, но умел прикинуться немощным, чтобы не заподозрили. Жил он в маленьком домике с женой и сыном-подростком, кормился огородом. Власти к нему не цеплялись. Партизаны наведывались к нему довольно часто. Пароль был «Зеленая ветка», отзыв — «Бонапарт».
Товарищ Макар шел к дому не опасаясь, потому что проверял наличие слежки много раз и ничего не заметил. Назавтра Шаров обещал снабдить его отличными документами, так что со слежкой вообще проблем не будет. Он стукнул два раза в окошко.
— Чего стучишь? — раздался голос откуда-то сверху.
Товарищ Макар поднял глаза. С чердака, из слухового оконца, смотрел на него хмурый подросток, очень похожий на хозяина дома.
— Зеленая ветка, — усмехнувшись, сказал товарищ Макар.
— Бонапарт! — важно ответил мальчишка. — Проходи.
На крыльцо вышел хозяин.
— Гость косяком пошел! — хохотнул он.
— Оттуда люди? — догадался Макар.
— Откуда же еще? — Хозяин пожал плечами.
В горнице за столом, уставленным всевозможной едой, сидели двое. Один — высокий, это было видно даже когда он сидел, с огромными руками и ногами. Лицо его тоже как будто было вырублено топором, причем не слишком умелым мастером. О плотницких работах напоминал и цвет лица — коричнево-бурый, цвет потемневшей на солнце деревяшки. Второй был моложе, поуже в плечах и значительно меньше ростом. Но глаза его смотрели хитро из-под нависших надбровных дуг. Товарищ Макар сразу определил, что в этой группе старший — этот, маленького роста, а второй, хоть и дожил до сивой бороды, но все равно ходит у всякого в подчинении по причине своей беспросветной тупости.
— Здорово, гости дорогие! — без улыбки приветствовал их товарищ Макар.
— Мы-то гости, а вот ты кто такой будешь? — немедленно ответил маленький.
— Это товарищ из подпольного комитета, — вступился хозяин.
Маленький недоверчиво окинул взглядом визитку, в которую был одет вновь пришедший, белую, хоть и несвежую сорочку и нахмурился. Особенное недоверие внушали ему косо подстриженные прилизанные височки.
— Будем знакомы? — открыто улыбнулся товарищ Макар и протянул руку, которую первым пожал великан, причем подпольщик едва удержался, чтобы не вскрикнуть, до того сильно было пожатие.
Следом и маленький партизан протянул руку, и тут уж пришел его черед морщиться, потому что товарища Макара тоже Бог силой не обидел. Вошла хозяйка, неся огромную сковородку с жаренной на сале картошкой. Ломти сала аппетитно скворчали, но лицо у хозяйки было каменным. Он шваркнула сковородку прямо на непокрытый стол и вышла, брезгливо сморщившись. Товарищ Макар очень ее понимал: в горнице, до этого чисто выметенной, с веселенькими ситцевыми занавесочками на окнах, стоял теперь стойкий дух прелых портянок, нестираного белья и немытого мужского тела. А ведь, судя по всему, гости собирались еще здесь ночевать.
Хозяин переглянулся с товарищем Макаром и вынес из сеней бутылку с самогоном. Гости оживились и потянули носом воздух. Через полчаса все были довольны и счастливы, никакой неловкости за столом не просматривалось.
— Ну что, ребята, — поощрительно заговорил хозяин, — порасскажите-ка нам про свое партизанское житье-бытье.
— Ну что, — охотно начал маленький, которого звали Левка, — вот недавно экспроприацию провели с атаманом, с Сергеем нашим.
Товарищ Макар отметил про себя, что командира партизан бойцы назвали атаманом, а не командиром и не товарищем Сергеем, но вслух ничего не сказал до поры.
— В имении одном, возле деревни Ай-Тодор. Там помещик живет, Айвазян. Так мы, значит, нарядились белыми офицерами, а двоих — вот его, — он ткнул пальцем в длинного, — и еще там одного — нарядили голодранцами и идем себе.
— Это Серега придумал, — подхватил великан и заулыбался. — Он мне еще по дороге по уху съездил, чтобы уж по-взаправдешнему все было.
— Значит, идем через деревню, хотели пристава тамошнего расстрелять, да только татары его отстояли, говорят, человек невредный. Приходим в экономию, в имение то есть, показываем на тех двоих и говорим, что, мол, поймали тут по соседству. И что они, мол, показали на допросе, что здесь, в имении, помогают партизанам деньгами и продовольствием и что самый главный партизан Сергей Захарченко у них просто свой человек. Ну, помещик, ясное дело, от страха бледнеет, жена его без памяти на пол грохается, а Серега и говорит мне, что, мол, проводите, господин поручик, обыск. Я поручиком нарядился, а он — штабс-капитаном.
«Как же они по запаху-то не поняли, что это партизаны, а не белые?» — подумал товарищ Макар.
— Короче, провели мы обыск и нашли там у них прокламации, которые сами же и положили. Значит, все деньги и ценности забрали, а еще продукты и шубы енотовые да лисьи.
— Шуб мы к зиме набрали на каждую спину две-три, — подхватил великан. — А толк-то какой? В землянке костер, жарко, шуба коптится-вялится. У меня веселая лисья шуба до того черна стала — все за козла считали.
Товарищ Макар только хмыкнул в ответ.
— Ты погоди про шубы, — горячился маленький, — мы еще в почтовом отделении сколько денег взяли.
«Однако, — переглянулся с хозяином товарищ Макар, — и где же эти деньги?»
Хозяин скользнул в сени, Макар вышел за ним.
— Балует Сережа, — тихо проговорил хозяин, — денег с этими прислал всего ничего, пишет, что отряд голодает и оружия нету. А по их рассказам выходит — хорошо они помещиков и почту пощипали…
— Ты передай им, что подпольный комитет остро нуждается в деньгах, — строго сказал товарищ Макар. — Пускай еще там расстараются.
— Однако уже очень грабежи участились, — с сомнением покачал головой Цыганков, — как бы власти большой отряд на борьбу с ними не послали.
— Чем больше солдат пошлют туда, тем меньше на фронте останется, — твердо произнес товарищ Макар. — И ты мне тут контрреволюционную агитацию не разводи о том, что грабить нехорошо. Не может быть места мещанской морали там, где дело идет о развитии революционного движения.
Они вошли в горницу. Партизаны прикончили бутыль самогона и предались воспоминаниям.
— Вот хорошее сало, — говорил длинный, жуя, — я сало оченно даже уважаю. Я ведь с Серегой-то давно знаком. Тут как-то подходит праздник наш, атамана Сережи именины. И стал я гулять по окрестностям потихонечку, подарок Серене высматривать. Насмотрел в одном хозяйстве богатом свинью. Вот гляжу я на эту свинью и все гадаю: лопоуха, и рыло короткое, будет на вкус как пасха свяченая. Ну нравится мне свинья эта, как невеста. Да в то время и не доели мы своей порции месяца за четыре, как скелеты ходим. И гуляет эта моя невеста ровно барыня замужняя — вольно и без присмотру. Однако хозяин у нее есть, а я под кустиком зеленею.
Но Сереню Захарченко я сильно уважаю, так что решил дружков утешить, лег у самого свиного закутка в густую крапиву, в сумерки тихонько подкопался, дощечки отвел — она ничего, сопит. У меня с собой берестянка с медом. Я берестянку свинье, свинья в берестянку рылом. Я берестянку на себя, свинья — за берестянкой. Я — в лес, за мной берестянка, за ней свинья, невеста моя! В лесу навалился я на нее, замотал ей морду с медом вместе, в мешок — и за плечи и поволок! Ох, и были у Сереженьки нашего именины хороши!
— Свинья — это хорошо, — совершенно уже пьяным голосом гнусавил маленький Левка. — Но нехорошо все время про еду думать. Вот я, например, франтить люблю. Не в стыд это никому, революции, я считаю, не помеха. Я особенно насчет галифе разборчив. Вот на мне хорошие синие галифе, а в мешке еще есть бархатные, зеленые. Из хорошей занавески баба одна мне их пошила…
Товарищ Макар отступил в сени.
— Пойду я, эти теперь скоро спать завалятся. Утром, как проспятся, передай, чтобы денег Сергей больше присылал. Если там драгоценности какие — тоже можно. Насчет оружия пока неясно, нужно новые связи искать.
— А чего приходил-то? — полюбопытствовал хозяин.
— Думал, может, кого из зеленых пока временно в городе оставить, люди нужны. Да неудачная это мысль, от них такой дух идет, что любой поймет, откуда этакие взялись. Одичали там, в лесу, сами как медведи стали…
Смеркалось. Он шел, привычно поглядывая по сторонам. Пока все было спокойно. Завтра у него встреча с Шаровым, он должен рассказать ему, что удалось выяснить по предварительным прикидкам. Но пока ему нечем порадовать контрразведчика. Людей — надежных или ненадежных — у него нет. В части гарнизона сейчас лучше не соваться — там небось контрразведка все хорошо почистила. Начинать утомительную агитацию среди портовых рабочих? Рано или поздно это сделать придется, но сейчас требуются экстренные меры, на агитацию нет времени.
Эх, хорошо Сереже Захарченко там, в горах! Нападут на почтовое отделение либо же возьмут кассу железной дороги. Или в имение какое-нибудь наведаются. А там хозяин со страха сам все деньги и вещи соберет да еще подводы с лошадьми даст, чтобы все это довезти. Хотя и то не все гладко проходит. Рассказывали же мужики спьяна, что сунулись было в одно место, двадцать четыре вооруженных человека, а в имении старый морской капитан в отставке, жена его да внук пятнадцати лет. Те, в доме, забаррикадировались мебелью, окна ставнями закрыли. Партизаны туда-сюда, пальнули из ружей, да дом-то каменный, что ему сделается. Старик еще сверху, с удобной позиции, двоих подстрелил, глаз-то у него верный, привык в море далеко смотреть. Так и ушли Сережины люди ни с чем, побоялись долгой осады, дом-то от города близко. Надо, надо ему, Макару, к партизанам на вольное житье перебираться, а то здесь опасно. Но… брат Павел сидит в крепости, и хочется, очень хочется устранить самого Слащева.
К тому моменту как товарищ Макар дошел до центра города, у него созрел предварительный план. Он вышел на Макарьевскую, обогнул большой каменный дом с дубовыми дверьми и через некоторое время стучал в дверь флигеля. Во флигеле уже несколько лет занимала квартиру вдова инспектора реальных училищ Мария Павловна Корабельникова с дочерью Надей. Это была конспиративная квартира, о которой никто не знал, кроме товарища Макара. Он держал этот адрес в уме на самый крайний случай и ночевал здесь со дня ареста подпольного комитета всего один раз. Квартира была очень удобна — во-первых, вход был в стороне, во флигеле, во-вторых, первый этаж, то есть можно было выскочить в окно, а в-третьих, вдова после смерти мужа начала прихварывать и жила очень уединенно. С ее дочерью Надей товарищ Макар познакомился совершенно случайно в рабочем клубе на Базарной, где она с подругами пыталась обучать народ грамоте. Товарищ Макар пригляделся к девочке, правильно определил, что возиться с рабочими ей совершенно не хочется, но ее заставляет то самое пресловутое чувство вины, которое почему-то начала испытывать интеллигенция с середины XIX века. Он подошел и заговорил с ней. Вообще в рабочем клубе среди всякого разного народа товарищ Макар держался в тени, говорил скупо, с трибуны не выступал, больше присматривался. Смотрел, кто как слушает, всерьез ли воспринимает большевистские речи, либо же пришел из чистого любопытства, а кто и просто побазарить, перед людьми выставиться. Если со стороны наблюдать, очень много про людей понять можно. Так он и высмотрел среди подруг Надю Корабельникову. Слушала девушка ораторов серьезно, внимательно, не морщилась, когда некоторые отпускали крепкие словечки. Глаза серые, ясные, коса по гимназической еще привычке через плечо перекинута. Один раз только товарищ Макар видел, как она брезгливо сморщилась, — это когда товарищ из портовых прервал выступление на полуслове и высморкался прямо на пол. А подсевшего к ней пьяненького подмастерья с канатной фабрики ожгла взглядом гневно и сказала что-то строгое, отчего тот оторопел и ушел. Тут-то и решился товарищ Макар с девушкой познакомиться. Разговорились, в первый раз он ее до дома провожать не стал, а потом, когда еще раз увиделись, вызнал тайком про то, что живет вдвоем с матерью, да и адрес выяснил. Про себя ей ничего не рассказывал, она и сама, должно быть, догадалась, что человек он непростой. И стал помаленьку девчонку приручать. То поручение какое-нибудь несложное придумает — отнести, принести, письмо отправить… То прокламации даст переписать либо же пачку газет спрятать на время. Держал девчонку в стороне от подполья, чтобы нигде не примелькалась и не узнала чего важного, хотя понял уже, что девушка хоть и молода, но не болтлива и не легкомысленна, серьезное дело доверить можно. Никто из комитета Надю не знал, товарищ Макар берег ее дом на самый крайний случай. Надина мать была недовольна их знакомством, но Надя держала ее в ежовых рукавицах, так что вдова и пикнуть не могла. Жили они скромно, но кое-какие денежки у вдовы водились, да и место было где ночевать — отвели в прошлый раз отдельную большую комнату.
Он постучал три раза, как было условлено, и тотчас же дверь распахнулась. Надя стояла на пороге — запыхавшись, глаза ее сияли.
— Товарищ Макар! — В самый последний момент она приглушила голос.
— Тише, девочка, тише.
Он огляделся и проскользнул в дом. Было тепло, пахло сушеными яблоками и воском.
«Пол натирали!» — сообразил он.
— Проходите прямо ко мне, — заторопилась Надя.
— Надежда! — У двери в столовую стояла худая женщина в черном платье с увядшим, исплаканным лицом. — Я, кажется, сто раз тебе говорила, что неприлично принимать мужчину в своей комнате. Для этого есть гостиная.
— Ах, вечно ты, мама! — вспыхнула Надя.
— Добрый вечер, Мария Павловна! — поклонился бывший председатель подпольного комитета. — Здоровьичко как?
— Вашими молитвами, — сухо произнесла она.
Под ее немигающим взглядом они прошли к Наде и закрыли дверь.
— Вы голодны? — спохватилась она. — Скажу Мавре, чтобы чаю…
— Потом, — нетерпеливо отмахнулся он. — Вот что, Надя, — сказал он, сев на стул и глядя в ее тревожно-счастливые глаза, — настал самый решительный момент. Пришло серьезное время. Теперь начнется настоящее дело. Обращаюсь к тебе как к товарищу и спрошу с партийной прямотой: ты мне веришь?
— Верю ли я вам? — задохнулась Надя. — Больше чем себе самой! И пойду за вами, куда только скажете!
— Не куда я скажу, а куда партия пошлет, — механически поправил он, сообразив тотчас, что для нее это одно и то же, что партию для нее представляет сейчас только он. — Не побоишься решительного дела? — на всякий случай спросил он. — Речь идет о террористическом акте, это не у маминой юбки сидеть. Кстати, что это она такая суровая?
— Она… — Надя помедлила немного, — она прочитала в газетах про то, что арестовали подпольный комитет и что несколько человек убито… а самый главный подпольщик сбежал…
— Она догадывается? — вскочил с места товарищ Макар.
— Нет-нет, — заторопилась Надя, — вы не беспокойтесь, я ей ничего не говорила. Просто слухи какие-то.
— Ладно, — успокоился он, — теперь вот что. Во-первых, я не имею никакого отношения к подпольному комитету. И зовут меня нынче не товарищ Макар, а Лапидус, коммерсант Жорж Лапидус. Так и называй меня, а про то имя забудь. Дальше. Есть у тебя знакомые — надежные люди, которых можно было бы привлечь в боевую группу? Подумай, Надя, подумай хорошенько, от этого зависит успешный исход дела.
— Даже и не знаю, — растерялась Надя. — Никого из знакомых я как-то не рассматривала с такой стороны…
— Дело идет о жизни и смерти, — он понемногу терял терпение, — ты ведь говорила, что в твоей среде много сочувствующих нашему делу?
И по тому, как она вздрогнула и напряглась, понял, что допустил бестактность: ведь она думала, что они вместе, а он дал понять, что считает ее чужой, из другого мира. Он протянул руку и погладил хрупкое девичье плечо:
— Не смущайся, скажи как есть. Если нет никого — я в другом месте найду.
— Я потому и колеблюсь, что не хочу вас подводить! — воскликнула Надя. — Ведь надежные люди нужны!
«Вообще-то она права, — думал товарищ Макар, или товарищ Жорж, каковым он теперь стал, — но по всему выходит, что никаких надежных людей она мне не приведет, как бы ни старалась, так что придется переходить ко второму варианту плана».
Надя очнулась от раздумий и решительно тряхнула головой.
— Ручаться могу только за одного, — сказала она твердо.
— Кто такой?
— Бывший гимназист Веня… Вениамин Букин. Познакомились в прошлом году на рождественском балу.
— Он что — сочувствующий?
— Да, конечно. Но главное — он все для меня сделает и никогда не предаст.
— Он что — влюблен в тебя? — догадался Жорж.
— Говорит, что любит больше жизни, — усмехнулась она.
— Ну что ж, — медленно проговорил он, — если ты так уверена, то приводи его сюда вечером, будет разговор.
Веня Букин оказался веснушчатым прыщавым гимназистом в круглых металлических очках. Он неотрывно глядел на Надю, так что даже не заметил, как она, в свою очередь, смотрит на товарища Жоржа, и не успел приревновать.
— Вот что, товарищи, — привычно неторопливо начал товарищ Жорж, — задача предстоит нам очень ответственная. Помните: то, что я вам сейчас скажу, не должно выйти за пределы этой комнаты. — Он отметил, что они прониклись серьезностью момента, смотрят на него расширенными глазами и огорошил: — Мы должны устранить генерала Слащева.
— Как — устранить? — заикающимся голосом выговорил Веня после непродолжительного молчания.
— Устранить, то есть ликвидировать, — жестко пояснил товарищ Жорж.
— Убить? Убить генерала Слащева? — затрепетал Веня.
Товарищ Жорж чертыхнулся про себя, думая, что мальчишка ударится сейчас в истерику, так что придется бить его по щекам, отпаивать валерьянкой. А что потом, после того как Веня успокоится и впадет в депрессию? Можно ли его выпускать? Не побежит ли он от страха в контрразведку, позабыв про любимую девушку? Очень даже может быть, иные жен-детей забывали, матерей предавали, в истории примеров множество… А если не дать мальчишке уйти, подстеречь где-нибудь по дороге и стукнуть по голове, чтобы потом свалить все на грабителей, то как отнесется к этому Надя? Черт дернул его связаться с этими младенцами! Но… нет людей и нет иного выхода.
— Мне стыдно за вас, Букин! — вдруг накинулась на Веню Надя. — Вы — цивилизованный человек, и вы еще смеете сомневаться в правильности принятого решения? Выход в данной ситуации может быть только один: именно устранить генерала Слащева, этого тирана, палача и мучителя рабочих! Вы читали его приказы? Он обещает вешать людей!
— И он это делает, — поддакнул со своего места товарищ Жорж.
— Я согласен, что Слащев — палач, — промямлил Веня, — но убить…
— Не убить, а устранить! Смести с лица земли, как поганую нечисть! — воскликнула Надя.
Товарищ Жорж отвернулся, скрывая довольную улыбку: ай да барышня! Он ее недооценивал. Ишь как сумела дело повернуть! И убедит, пожалуй, гимназистика-то прыщавенького, вон как глазки горят и голосок дрожит. Такая не дрогнет, с револьвером на полк солдат пойдет. Фанатичка… И он, Макар, молодец, сумел разглядеть в обыкновенной с виду барышне такое.
— Товарищ Надя все правильно говорит, — вступил он в разговор. — И ты, товарищ Букин, не должен сомневаться. Наше дело правое, народ нам за это великое спасибо скажет.
— Ты с нами? — перебила его Надя, обращаясь к Букину. — Сейчас, сию минуту, глядя мне в глаза, скажи: ты с нами? Потому что если сомневаешься, то уходи, уходи сию минуту, и больше ты меня никогда не увидишь!
«Ну-ну, — усмехнулся мысленно товарищ Жорж, — тоже придумала — уходить. Так я его и отпустил, чтобы он все дело нам запорол».
Но как видно, Надя хорошо знала своего воздыхателя, потому что Веня взглянул в ее серые горящие глаза и глухо произнес:
— Я с вами, навсегда.
— Вот и ладно, — бодро сказал товарищ Жорж, — это была предварительная беседа, а сама операция будет еще не так скоро. — И отметил загоревшееся в глазах гимназиста облегчение. — А сейчас мы пойдем.
— Как, разве вы не останетесь? — встрепенулась Надя.
— Не нужно мать лишний раз тревожить, — мягко отговорился Жорж, — я уж найду где переночевать.
Они вышли вместе с Веней, но товарищ Жорж сразу же, бросив слова прощания, нырнул в переулок. Он не остался ночевать в доме у Нади вовсе не потому, что беспокоился о здоровье ее матери, просто у него было на сегодня еще одно неотложное дело. Он кликнул извозчика и поехал на окраину, к городскому кладбищу. Не доезжая нескольких кварталов, пока извозчик не начал беспокоиться, потому что у кладбища ночью было небезопасно, товарищ Жорж отпустил пролетку и, подняв воротник пальто, зашагал в сторону погоста. Там, в заброшенной сторожке, прятался после ареста еще один оставшийся на свободе член большевистского подполья — симферопольский мастеровой Мишка Полещук.
На последнем том злосчастном заседании подпольного комитета он не присутствовал — стоял на часах. И вот когда подобрались юнкера незаметно, Мишка успел-таки в последний момент крикнуть, но было поздно — дом окружили, а самого Мишку стукнули хорошенько по голове. Но видно, не добили, потому что в последующей суматохе он умудрился очухаться и заползти в кусты. А оттуда уже опять-таки ползком, пользуясь всеобщей неразберихой, добрался до тропинки и убежал. Потом через одну знакомую бабенку он сообщил жене находящегося в бегах товарища Макара, где находится. А когда мальчишка, что посылал товарищ Макар за новостями, рассказал ему про Мишку, Макар велел Мишке от своей зазнобы немедленно съезжать и переселяться в сторожку. Днем Мишка спал в сторожке, а ночью от скуки болтался по кладбищу. Покойников он не боялся.
Товарищ Жорж подходил уже к сторожке, как вдруг сзади схватили его за шею две холодные руки.
— У-у-у! — раздалось в тишине.
— Не балуй, — спокойно сказал подпольщик и разнял Мишкины руки. — Не в игрушки играем.
Они вошли в сторожку. Прежний сторож умер в прошлом году, нового не могли найти — все боялись не покойников, а того, что творилось на кладбище, — приходили какие-то люди, в склепах, по слухам, хранилось краденое, а ограбленных иногда зарывали в старых могилах. После сторожа осталась в домике кое-какая утварь, а также стол и два корявых табурета. Спал Мишка на полу, в углу было навалено прошлогоднее сено.
Зажгли коптилку, и от ее неверного света стало еще жутче.
— Вот что, Михаил, — начал товарищ Жорж по возможности твердым голосом, — настал для тебя решающий момент. Партия дает тебе возможность оправдаться.
— Да я… — вскинул было голову Мишка.
— Ты погоди, — неторопливо, но веско прервал его товарищ Жорж, — ты сначала меня послушай. Значит, был ты членом симферопольской организации. Каким бойцом был — хорошим либо плохим, — мы не знаем, потому что никакого ты не привез оттуда документа, ни письмеца маленького.
— До писем ли было… — завелся Мишка, но умолк.
— Верно, организацию внезапно разгромили, но это только с твоих слов. И ты один только от ареста и от смерти спасся.
— Меня соседка спрятала, — угрюмо пробормотал Мишка.
— Допустим, повезло тебе в тот раз, — нехотя согласился товарищ Жорж. — И прибежал ты сюда, никто тебя без документов по дороге не перехватил. Поверили мы тебе, оставили у себя. Доверили важнейшее дело — охранять заседание подпольного комитета! А ты юнкеров вплотную подпустил, так что всех товарищей повязали, как… — Товарищ Жорж поискал подходящее, но необидное сравнение, но не нашел и махнул рукой. — И что же получается? — продолжил он. — Всех арестовали, а ты один опять сумел спастись.
Мишка поднял голову и уже открыл было рот, чтобы напомнить о том, что председатель подпольного комитета тоже сумел спастись, но посмотрел в его маленькие, близко посаженные глаза и раздумал возражать.
— И что же получается? — резюмировал товарищ Жорж. — Либо ты предатель, контрреволюционный элемент и сам привел контрразведку…
— Да ты что! — вскочил Мишка на ноги, но увидел, что на него смотрит вороненое дуло «нагана». Ноги у него подкосились, в горле пересохло, и он плюхнулся обратно на табуретку.
— Либо ты трус, Миша, — невозмутимо продолжал товарищ Жорж, — и первым делом думаешь не о товарищах, а как бы свою шкуру спасти. А партия, Миша, такого не прощает. Трусость, Миша, сродни предательству.
— Товарищи! — От волнения Мишке казалось, что вместо одного товарища Жоржа здесь в сторожке находится множество председателей подпольных комитетов. — Да я… как лучше хотел. Когда очухался в кустах — дай, думаю, попробую смыться, авось пригожусь еще большевикам. А какой смысл мне было сдаваться? И товарищам помочь бы не сумел.
Товарищ Жорж мысленно с ним согласился. И сам он в том же случае поступил абсолютно так же — сбежал, не думая о товарищах, потому что им все равно не смог бы помочь. Но одно дело — его жизнь, жизнь руководителя подполья, она нужна партии, и совершенно другое дело — жизнь какого-то мастерового мальчишки с сомнительной, прямо скажем, репутацией.
— Ладно, Михаил, я тебе верю, — заговорил он. — И партия дает тебе возможность оправдаться.
— А что делать-то нужно? — встрепенулся Мишка.
— После узнаешь, а пока будь начеку. Отсюда ни ногой, я завтра приду, все расскажу и с товарищами познакомлю. А сейчас давай-ка укладываться, я здесь заночую.
Товарищ Жорж заснул мгновенно, но проснулся от шорохов.
— Кто там? — вскрикнул он.
— Кто их знает, — лениво со сна ответил Мишка. — Может, покойники, может, лихие люди добычу делят. Они сюда не сунутся, у них свои места есть.
Товарищ Жорж долго ворочался, перебирая в мыслях предстоящую операцию, и в конце концов пришел к выводу, что все рассчитал правильно. На этих молокососов было бы глупо полагаться, для убийства Слащева требуется профессионал. Он его раздобудет, были бы деньги. А деньги будут, Шаров обещал. И бывший председатель подпольного комитета облегченно заснул.
Глава двенадцатая
Товарищ Макар не без труда нашел по описанию нужный ему дом. Собственно, домом эту хибару назвать было трудно — криво повисшая на одной петле дверь, покачиваясь, кое-как прикрывала вход в покосившуюся мазанку с одним маленьким незастекленным оконцем. Товарищ Макар, а ныне Жорж Лапидус с опаской открыл дверь, и тут же откуда-то сверху послышался тихий свистящий шепот, похожий на змеиное шипение:
— С-стоять! Руки за голову! Два шага вперед!
Жорж Лапидус сделал два шага вперед по земляному полу мазанки. Периферийным зрением он заметил, или, скорее, почувствовал, как что-то гибкое и подвижное отлепилось от потолка и плавно скользнуло вниз. Потом сильные, неприятно холодные руки ощупали все его тело и обыскали. Он передернулся, и тотчас раздался тот же свистящий шепот:
— Не дергайс-ся, пас-скуда!
— Ты, однако, не слишком, — проговорил товарищ Жорж, пытаясь показать, что он не испуган, но севший и охрипший голос только выдал его страх.
— Тсс, — прошипело сзади, и узкое ледяное лезвие слегка прикоснулось к шее, — ну ладно, чис-ст! — И холодные руки выпустили товарища Жоржа.
Он сделал еще шаг вперед и повернулся. Перед ним стоял худощавый узкоплечий человек невысокого роста, с маленькими, аккуратно подстриженными усиками на бледном лице. Узкие губы были, кажется, слегка подкрашены, но самыми заметными в этом лице были глаза — холодные, бесцветные, невыразительные, они вселяли такой ужас, что у видавшего виды подпольщика выступили на лбу капли холодного пота. Он понял, почему этот маленький человек получил кличку Гадюка.
Одет был бандит с кричащей одесской элегантностью: узкие полосатые брюки, лаковые штиблеты с гетрами, желтый короткий пиджак. Черные волосы набриолинены и уложены так гладко, что в прическу можно было смотреться как в зеркало.
— Ну что, гос-сподин хороший, что нужно?
— Господин… — начал Жорж, справившись с голосом, но его тут же прервали:
— Гадюка. Называй меня Гадюка. Мне это нравится.
— Господин… Гадюка, — послушно повторил Жорж, — нам нужно… устранить одного человека…
Раздалось короткое шипение, кажется, у Гадюки это означало смех.
— И это мне говорит большевик! — прошипел бандит, отсмеявшись. — Устранить одного человека! Да вы их устраняете тысячами. Неужели одного — сложнее?
— Это не простой человек, — с некоторой долей обиды ответил товарищ Жорж.
— Понятно, что не прос-стой, прос-стые никому не интересны. Кто же это?
— Генерал Слащев, — ответил Жорж и оглянулся — не подслушивает ли кто.
— С-слащ-щев? — прошипел Гадюка удивленно и заинтересованно. — Да, этот вам, может, и не по зубам…
— А вам? — спросил Макар.
Ему в глубине души сильно захотелось, чтобы этот лощеный бандит испугался и отказался — тем самым он показал бы свою слабость, а товарищ Жорж ощутил бы коротенькое торжество, отомстил бы в некотором роде за свой пережитый страх, — но Гадюка прошипел:
— С-сделаю… Только с-стоить будет дорого, оч-чень дорого…
— О деньгах договоримся, — ответил Жорж Лапидус, может быть, слишком поспешно. — Далее: вам понадобятся помощники… Людей у меня сейчас мало, но все же…
Гадюка презрительно скривился и прошипел:
— Никаких помощ-щников. Я работаю один… Хотя в случае С-слащева нужна будет отвлекающ-щая операция. Я возьму пятьдесят тысяч. Половина — вперед. Принес-сешь сюда завтра в это же время. Вс-се. Уходи.
Жорж Лапидус поспешно — может быть, слишком поспешно — выскочил из мазанки и торопливо пошел по дороге к городу. Еще очень долго ему казалось, что прямо в спину, как два пулеметных ствола, смотрят холодные невыразительные глаза наемного убийцы.
Веня с Надей ждали товарища Жоржа в городском саду. Он издали разглядывал молодую пару. Надя выглядела спокойной, влюбленный Веня пользовался случаем оказаться с ней наедине и говорил о чем-то горячо, дергая ее за рукав и по-собачьи заглядывая в глаза. Жорж присмотрелся к нему внимательнее: не пытается ли Веня отговорить Надю от опасного предприятия? Но нет, похоже, разговор мальчишка ведет исключительно о любви.
Их взволнованный разговор не вызывает никаких подозрений — просто влюбленный гимназист выясняет отношения с предметом своей страсти. Девушка очень хорошенькая — разрумянилась на свежем воздухе, глаза блестят из-под надвинутой на лоб шляпки.
Надя почувствовала чужой взгляд, повернулась и встретилась глазами с Жоржем. Глаза ее засияли, она вся затрепетала, но погасила порыв, мягко отвела Венину руку и поднялась со скамейки. Ее поведение товарищу Жоржу понравилось: умница, умеет сдерживаться, и Букина раньше времени не хочет разочаровывать, держит на близком расстоянии.
Он подошел, бросил сухо:
— Ступайте за мной!
И повел их пешком на новую конспиративную квартиру, которую снял накануне совершенно открыто у спекулянта за бешеные деньги. Мишка Полещук, предупрежденный им утром, уже ждал во дворе.
Все вошли в дом, разделись и сели за непокрытый стол, только Мишка возился, растапливая печку.
— Ну, товарищи, — начал Жорж, зорко оглядывая всю группу, — пришло время. Акцию назначили на завтра.
— Кто назначил? — встрепенулся Букин.
— Сам генерал Слащев назначил, — ответил Жорж. — Завтра рано утром он приезжает из Джанкоя, чтобы проводить на фронт новый полк, сформированный из разбитых красными частей. Речь свою он будет произносить прямо на Вокзальной площади. А затем полк погрузят в эшелон — и на фронт. И Слащев уедет сразу же. Так что самое удобное место для его… устранения — это Вокзальная площадь.
Жорж достал из кармана листок бумаги и карандаш. Все склонились над столом.
— Вот это Вокзальная площадь, — рисовал Жорж, — тут здание самого вокзала, вот тут — перрон, где будут выстроены солдаты. Генерала подвезут, очевидно, вот сюда, — он отметил место крестиком. — С ним будет свита — адъютанты там, ординарцы. Но на трибуне будет стоять он один, он всегда так делает. Так что видно его будет очень хорошо. В оцеплении будут казаки, а вот тут отведут место для зрителей.
Товарищ Жорж отложил карандаш и обвел всех троих испытующим взглядом.
— Вот теперь перехожу к самому важному. Значит, ты, Надя, и Веня должны замешаться в толпу зрителей и постараться попасть как можно ближе к трибуне. Естественно, вплотную к генералу вас не подпустит оцепление, но вы должны стоять в первом ряду. Ты, Михаил, — он повернулся к Полещуку, — будешь проводить отвлекающий маневр. Ровно без пятнадцати девять ты должен бросить в сторону трибуны гранату. Причем сделать это надо с как можно большей паникой, пускай дамы визжат, дети плачут и все такое… Сможешь?
— Смогу, — глухо ответил Мишка, — с гранатой уж как-нибудь знаком.
— Очень хорошо, — кивнул Жорж. — Далее, как только он бросит гранату и охрана отвлечется на него, ты, Надя, достаешь «браунинг» и стреляешь в генерала Слащева. А ты, Вениамин, должен выстрелами отгонять от нее охрану. Потом бросаете оружие и бежите вот сюда, — он опять склонился над листком, — где буду ждать вас я в автомобиле. Всем все ясно? — Он опять обвел всех троих пристальным взглядом.
Они молчали.
— Что, Букин, глаза отводишь? — усмехнулся Жорж. — Хочешь спросить, почему вы будете рисковать, стреляя, а я спокойно сидеть в автомобиле?
— Мне стыдно за вас, Букин! — тотчас накинулась на Веню Надя.
— Отвечу, — продолжал Жорж, как бы не слыша. — Потому что, кроме меня, никто не умеет управлять автомобилем. Вы ведь этого не можете?
— Не могу, — тихо прошептал Веня и опустил глаза.
— Еще раз посмотрите на план и хорошенько запомните. Теперь все. — Жорж поднес к листку горящую спичку и выбросил его в пепельницу. — Значит, до завтрашнего утра остаемся здесь, никто никуда не выйдет. Еда кое-какая тут есть. Михаил, поставь самовар!
За чаепитием, которое проходило в растерянном молчании, товарищ Жорж исподтишка наблюдал за своей «боевой группой».
Сейчас они находятся в смятении, ничего не соображают. Кажется, он сумел убедить их, что операция может закончиться успешно. Хотя любому мало-мальски опытному человеку ясно, что это чистой воды подставка. Во-первых, оцепление из казаков будет достаточно серьезное. И расстояние до толпы зрителей получится порядочное. Тут и хороший стрелок запросто промахнуться может. А девчонка неопытная, да еще из «браунинга»… И дадут ли ей еще этот «браунинг» вытащить? А уж на гимназиста и рассчитывать нечего — мигом перетрусит. Надя об этом и не думает — готова отдать жизнь. А вот Мишка смотрит подозрительно, чувствует, подлец, что неладно дело. Но он, Жорж, правильно сделал, что поручил ему гранату бросить. Мишка небось надеется, что стоять он будет в стороне, пока до него казаки в толпе доберутся, да еще на Надины выстрелы отвлекутся, то он под шумок успеет удрать, как уже не раз было. Поэтому и молчит, паскуда, хоть и знает, что ни в какого генерала Слащева барышня эта чистенькая попасть не сможет.
— Часы у всех есть? — нарушил затянувшееся молчание товарищ Жорж.
— У меня нет, — вскинулся Мишка.
— Вот, держи. — Жорж протянул ему золотые карманные часы фирмы «Павел Буре».
Мишка восхищенно ахнул и вытер руки о полу косоворотки. Крышка часов открылась с мелодичным звоном. Изнутри на крышке было выгравировано: «Господину Селиванову от компаньонов».
Это были часы того самого Прохора Селиванова, которого убили и ограбили, чтобы достать денег для покупки оружия. Но Мишка Полещук был неграмотный, поэтому закрыл крышку и убрал часы в карман, чтобы вдоволь полюбоваться ими в более укромном месте.
* * *
Жорж разбудил свою группу рано утром.
Надя поднялась мгновенно, кажется, она и не спала этой ночью. Лицо ее горело лихорадочным румянцем, глаза сияли. Девушка, должно быть, представляла себя новой Жанной д’Арк или по крайней мере Шарлоттой Конде. Кроме того, чрезвычайно вдохновляло ее и присутствие опытного подпольщика, пламенного революционера. Надя слушала его вчера целый вечер, ей казалось, что говорил он только для нее одной. И сейчас сердце ее начинало усиленно биться, когда она останавливала на нем свой горящий взгляд.
Остальные участники группы не испытывали такого подъема.
Веня Букин был удивительно бледен. Он явно трусил, но не мог показать этого в присутствии Нади, на которую то и дело бросал влюбленные взгляды. Полещук что-то ворчал себе под нос, он не выспался и оттого особенно подозревал всех в каком-то подвохе.
— Как же мы к нему подберемся? — спросил он товарища Жоржа, когда все собрались и готовились уже выйти из дома. — Как мы к нему подберемся, когда вокруг него всегда солдаты?
— Не переживай, Михаил, — успокоил его Жорж, прокручивая барабан «нагана», — твоя задача — бросить гранату, чтобы отвлечь внимание от товарищей. Больше ни о чем не думай.
Он распахнул ворота и выкатил из сарая автомобиль, который угнал накануне от гостиницы «Кист». Автомобиль принадлежал знаменитому спекулянту Ставракису, который вчера сильно гулял в ресторане гостиницы и пропажу своего механического экипажа скорее всего попросту не осознал, а вставал обычно так поздно, что к его пробуждению все должно было так или иначе завершиться.
Надя проверила свой «браунинг», спрятала его в муфту и села на заднее сиденье автомобиля. Веня сразу устроился рядом с ней. Он был по-прежнему очень бледен, руки дрожали, он то и дело поправлял круглые металлические очки и проверял револьвер во внутреннем кармане шинели.
Мишка, недовольно ворча, сел на переднее сиденье рядом с водительским местом. Товарищ Жорж несколько раз провернул ручку стартера. Мотор заработал, и автомобиль поехал к центру города.
Не доезжая до Вокзальной площади, товарищ Жорж остановил машину.
— Сверим часы, — сказал он, внимательно оглядев всех своими близко посаженными глазами, — все помнят план операции? Я буду рядом, если у вас что-то сорвется, я подстрахую. Сразу после выстрелов и взрыва бегом сюда. Мотор не глушу, ждать будем не больше пяти минут.
Как было условлено, Полещук пошел вперед, Надя взяла Букина под руку, и молодые люди неторопливым шагом тронулись следом.
Дождавшись, когда все трое скрылись за углом, товарищ Жорж развернул автомобиль и поехал прочь. На одной из тихих окраинных улиц он бросил машину и проулками, чтобы не нарваться на посты или патрули, пошел из города. После убийства Слащева сделать это было бы гораздо труднее.
Полк, сформированный из скопившихся в Севастополе остатков разбитых частей, выстроился на перроне перед погрузкой в эшелон. На Вокзальную площадь выехала рысью конная сотня конвоя штаба Крымского корпуса — конвоя штакор-3 на военном жаргоне. Спешившись, казаки конвоя растянулись редкой цепью, оттеснив толпу зевак, пришедших посмотреть на знаменитого Слащева.
Раздался рев автомобильного мотора, и на площадь выехала черная машина командующего. Выехав на свободное от людей пространство, автомобиль остановился. Дверцы распахнулись. Слащев быстрым шагом направился к колонне отбывающих на фронт. Он шел через площадь — высокий, в длинной шинели, обметающей ноги при ходьбе, за ним еле поспевали казаки охраны и небольшая свита — дежурный адъютант, неизменный «ординарец Нечволодов» — боевая подруга генерала Лида, трое сопровождающих командующего офицеров. Среди них был и Борис Ордынцев, временно откомандированный в личное распоряжение Слащева.
Генерал влез на невысокую, наспех сколоченную трибуну.
— Здорово, братья! — загремел над площадью его громовой голос.
— Здравия желаем, ваше…дительство! — мощно прокатился по колонне ответный крик полка.
Стая галок сорвалась от этого крика с церковной колокольни и закружилась в блекло-голубом мартовском небе.
— Сегодня на таком маленьком участке Русской земли, как Крым, решается судьба нашей великой святой Родины — России. В ваши руки, братья, в руки таких, как вы, русских солдат отдано ее будущее! От вас, от вашего мужества зависит, быть или не быть Родине нашей!..
Привычные эти, затертые сотнями ораторов слова в устах Слащева звучали необыкновенно убедительно и ярко — так, как будто генерал произносит их в первый раз, как будто они только сейчас вырвались из самого его сердца. Борис почувствовал снова необыкновенный магнетизм этого человека. Но он не дал себе увлечься: его очень беспокоило недоброе предчувствие. Все окружение Слащева знало, что жизнь генерала в опасности, что большевистское подполье давно планирует покушение на него, но именно сегодня Борис особенно остро ощущал в воздухе опасность. Он внимательно оглядел площадь, толпу зевак за цепью конвоя. Перевел взгляд на колонну отъезжающих на фронт частей. Позади ровного строя солдат и офицеров стоял приготовленный для них воинский эшелон, локомотив был под парами. За этим эшелоном по следующему пути начал двигаться товарный состав.
— Какой дурак отправил сейчас товарный, — недовольно проговорил вполголоса стоявший рядом с Ордынцевым полковник штаба корпуса Минаев. — Приказано же было — никакого движения до отправки воинского эшелона.
Борис не обратил внимания на его слова: он увидел, что в рядах зрителей происходит что-то странное. Бледная высокая девушка с косой, с лихорадочным румянцем на щеках, расталкивая окружающих, пробивалась в первый ряд. Рядом с ней сосредоточенно проталкивался прыщавый гимназист в круглых металлических очках. Казалось бы, в этом не было ничего необычного, но Борису очень не понравилось лицо гимназиста. Если на остальных лицах в толпе было или простое любопытство, или восторженный патриотический энтузиазм, то на лице гимназиста были страх и растерянность. Лицо его подруги тоже резко выделялось из общего ряда, но на нем Борис увидел выражение чувств еще более опасных — фанатической решимости и нервной, истерической ненависти.
Борис шагнул к адъютанту Слащева штабс-капитану Сиверсу, чтобы сказать ему о своих подозрениях, но в это время события на площади закрутились с невероятной быстротой. Совсем в другой стороне, куда Борис не смотрел, отвлеченный гимназистом и его подругой, в толпе зрителей раздался вдруг истерический женский визг:
— Бомба! У него бомба!
Толпа тут же пришла в движение, отхлынув от невысокого мастерового в лихо заломленном картузе, который размахивал гранатой, с молодецкой удалью оглядываясь по сторонам. Казаки оцепления бросились к нему, мастеровой наконец швырнул свою гранату в сторону окружавшей Слащева группы. Граната упала на брусчатку площади, не пролетев и половины расстояния от оцепления до свиты генерала, покатилась по камням. По площади прокатился крик ужаса, сотни глаз были прикованы к катящейся гранате, но взрыва не происходило.
— Осечка, — спокойным голосом проговорил полковник Минаев, — взрыватель не сработал.
Спокойный голос Минаева как будто разбудил Бориса. Он отвел взгляд от неразорвавшейся гранаты и посмотрел в сторону двоих настороживших его молодых людей. Как раз в это мгновение девушка вытащила из муфты руку с зажатым в ней «браунингом». Борис закричал ближайшим к ней казакам конвоя:
— Держите, держите ее! У нее пистолет! — и бросился к Слащеву, чтобы оттолкнуть его из-под огня.
Казаки не сразу поняли, о ком он говорит — они были отвлечены событиями в другом конце площади, — и девица успела сделать два выстрела. Впрочем, с такого расстояния из «браунинга» трудно было в кого-нибудь попасть, тем более что при первых признаках опасности свита окружила Слащева.
После первых выстрелов казаки кинулись к террористке, но она, не сделав попытки убежать, стреляла еще и еще, хотя от волнения держала «браунинг» слишком высоко, и пули уходили в белый свет. Вот казак, не добежав, прыгнул и со всего размаху толкнул девушку. Она упала на каменную мостовую как подкошенная и осталась недвижима. Ее спутник-гимназист сначала стоял рядом, не делая попытки стрелять, хоть и держал в руках револьвер, а затем еще до падения девушки вдруг бросился бежать, но не в толпу, а в сторону стоявших на перроне солдат. Казаки и офицеры свиты Слащева боялись стрелять, чтобы не задеть стоявших в колонне солдат, а те, в свою очередь, боялись попасть в них.
Гимназист несся на солдат, петляя, как заяц, и обезумев от ужаса.
— Стой! Стой! — кричали ему со всех сторон.
Но он, размахивая револьвером, все бежал огромными скачками. Ближайший солдат выставил штык, надеясь этим остановить ненормального. Казаки уже почти догоняли, и тут гимназист не то запутался в полах шинели, не то споткнулся на неровной мостовой, но он внезапно пролетел вперед прямо на выставленный штык. Толпа ахнула, глядя на острый конец штыка, высунувшийся из его спины.
Подоспели казаки, подхватили безжизненное тело. Солдат крякнул и вытащил штык. Крови почти не было.
Когда подошли к девушке, то обнаружили, что она мертва. Падая, она сильно ударилась о выступающий булыжник мостовой. И хоть коса должна была смягчить удар, этого не случилось.
Все произошло буквально за несколько минут, и казаки, бросившиеся ловить мастерового, который кинул гранату, отвлеклись ненадолго. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы Мишка Полещук ввинтился в толпу. Он скинул на ходу картуз и, расталкивая ошалевших, растерянных людей, рванулся в тот переулок, где должен был ждать их Жорж в автомобиле. Но на условленном месте никого не было. Мишка остановился резко, как будто налетел на невидимую преграду, затем потоптался немного на месте и заглянул за угол. Но автомобиля не было и там. Боясь поверить в очевидное, Мишка достал из кармана часы и открыл крышку. Стрелки утверждали, что он не только не опоздал, но и пришел на пять минут раньше. Словно пелена спала с его глаз. Он понял, почему Жорж на такое опасное дело послал барышню, которая и стрелять-то толком не умеет. Все было подстроено, а ими тремя Жорж решил пожертвовать с самого начала.
— Сволочь… — прошипел сквозь стиснутые зубы Мишка и хотел было бежать, но тут схватили его с двух сторон крепкие мужики в штатском, у которых на лбу было написано, что они из контрразведки.
«Конец!» — понял Мишка.
— Слава Богу, обошлось, — проговорил Минаев, во все время покушения сохранявший полное спокойствие. Свита Слащева, постепенно успокаиваясь, возвращалась на прежние места. Отъезжающий полк восстанавливал строй, сбившийся в минуту суматохи.
Борис перевел дыхание и огляделся. Что-то было не так. Что-то беспокоило его, как засевшая заноза. Тела девушки и гимназиста унесли казаки конвоя. Казалось бы, опасность миновала, но ощущение надвигающейся беды по-прежнему чувствовалось в воздухе, как электричество перед грозой. Слишком глупым, слишком несерьезным было это покушение. Слишком отдавало оно дилетантством, фарсом… Казалось, оно только отвлекает внимание… От чего?
Борис осматривал площадь, толпу зевак, выстроившиеся войска, воинский эшелон на путях… Что сказал Минаев за минуту до покушения? Что-то об этом эшелоне… А, кажется, он сказал приблизительно следующее: «Какой дурак отправил товарный состав, ведь было приказано не занимать пути до отправки воинского эшелона».
Товарный состав на втором пути, притормозивший было, теперь, постепенно набирая ход, двигался позади воинского эшелона, при этом его вагоны один за другим медленно проплывали в просвете, образованном низкой орудийной платформой, оказываясь при этом совсем близко от Слащева и его окружения.
Вероятно, это было озарение, сказалось обостренное чувство опасности, но, так или иначе, Борис, снимая с плеча кавалерийский карабин, перебежал ближе к путям, одновременно крикнув охране:
— Уведите генерала!
Казаки охраны недоуменно оглянулись на странного поручика: покушение уже предотвращено, террористы убиты, чего еще ему нужно? Только «ординарец Нечволодов», верная Лида, перехватив тревожный взгляд Бориса, бросилась к Слащеву и, прикрывая его собой, потащила в сторону.
Борис поднял карабин и тревожно следил за проплывающими в проеме товарными вагонами. Окружающие Слащева офицеры недоуменно за ним наблюдали. Минаев, покачав головой, высказался достаточно громко:
— Поручик желает выслужиться… Не в меру шустр.
Прошли еще два товарных вагона, скорость их постепенно увеличивалась. Слащев, опомнившись, недовольно выговаривал Лиде и пытался оттолкнуть ее и вернуться на свое место, чтобы закончить так неудачно начавшуюся речь, но Лида вцепилась в него мертвой хваткой, и никакая сила не могла оторвать ее от генерала.
Кто-то из офицеров уже шагнул к Ордынцеву, собираясь вернуть его на место, чтобы не мешал выступлению, но в этот момент очередной товарный вагон появился в проеме над артиллерийской платформой, и почти в ту же секунду над площадью загремели выстрелы. На крыше вагона лежал почти невидимый снизу стрелок, который успел дважды выстрелить в Слащева. Первая пуля попала в плечо Лиде, она, падая, толкнула генерала на землю и закрыла его своим телом. Вторая пуля процарапала ей корявую борозду на руке, не причинив большого вреда. Третий раз убийца выстрелить не успел, потому что Борис открыл по нему огонь. Раз за разом стреляя по крыше из карабина, он из-за неудобной позиции не мог попасть в снайпера, но заставил его отползти от края и прекратить стрельбу по Слащеву. Казаки охраны наконец поняли, откуда исходит опасность. Они тоже начали стрелять по вагону, а один вытащил гранату и забросил ее на крышу. Прогремел взрыв, но в этот момент вагон, где находился снайпер, уплыл за теплушку воинского эшелона, и результаты взрыва не удалось разглядеть.
Кто-то из офицеров бросился в здание вокзала, чтобы распорядиться остановить товарняк и задержать злоумышленника, живого или мертвого.
Слащев, донельзя обескураженный, раздосадованный глупым положением, в котором оказался, поднялся на ноги и подхватил раненую Лиду. Она была в сознании и счастливо улыбалась: ей удалось, уже не в первый раз, спасти любимого человека. К Лиде уже спешила сестра милосердия, чтобы оказать первую помощь.
Борис подошел поближе и случайно встретился с Лидой взглядом. В ее глазах он прочел искреннюю благодарность.
«Хоть мне эта дама и не нравится, генералу Слащеву она сильно предана», — подумал Борис и улыбнулся Лиде, как старой знакомой. Подошли санитары с носилками. Сестра настойчиво уговаривала Лиду лечь, видя ее бледность. Слащев махнул рукой и двинулся через площадь к машине.
— По ваго-онам! — раздалась команда.
Полк отправлялся на фронт, так и не получив полноценного напутствия от генерала Слащева. Инцидент можно было считать исчерпанным.
Офицеры свиты смотрели на Бориса удивленно и даже с некоторым подозрением. Его предчувствие казалось им сверхъестественным. Откровенно говоря, Борис и сам никак не мог его объяснить.
Приказ № 004247
Предлагаю прибыть к вечеру 21 марта в Севастополь на заседание Военного совета под председательством генерала от кавалерии Драгомирова для избрания преемника Главнокомандующего ВСЮР. Состав совета: командиры Добровольческого и Крымского корпусов, их начальники дивизий, из числа командиров бригад и полков — половина. От Крымского корпуса по боевой обстановке норма может быть уменьшена. Коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальник морского управления, четыре старших строевых начальника флота. Из Донского корпуса — генералы Сидорин и Келчевский и шесть лиц из состава генералов и командиров полка. Из штаба Главкома — начальник штаба и дежурный генерал, начальник военного управления. Генералы Врангель, Улагай, Богаевский, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков.
Феодосия, 20 марта 1920 года. Деникин.— Благодарю вас, господа, за то, что вы собрались сегодня, чтобы принять очень трудное и очень важное для России решение. — Генерал Драгомиров обвел взглядом комнату, полную высших военных начальников. — Антон Иванович возложил на меня нелегкую миссию: я должен провести сегодняшний совет, на котором мы должны выбрать нового вождя. Вождя, который возглавит все здоровые силы русского общества и русской армии.
Со своего места вскочил генерал Кутепов и громким истеричным голосом выкрикнул:
— На этом посту не может быть другого вождя, кроме Антона Ивановича Деникина! Генералу Деникину — ура!
Выкрикнув эту фразу, Кутепов обвел глазами высокий совет, наблюдая за реакцией окружающих. Большинство присутствующих угрюмо молчали, только Витковский неуверенно поддержал его:
— Деникину — ура!
Нависла тяжелая пауза, которую прервал Слащев, поднявшись во весь рост и мрачно проговорив, обращаясь к Драгомирову:
— Абрам Михайлович, я, как человек военный, не мог не подчиниться приказу и не явиться сюда. Не понимаю, почему нужно благодарить генералов за то, что они выполняют приказ.
Лицо Слащева, и обычно бледное, сейчас казалось просто мертвой мраморной маской. На нем жили только глубокие темные глаза и неприятно красный рот. Обведя взглядом присутствующих, Слащев продолжил:
— Честно говоря, я не понимаю, как можно выбирать главнокомандующего. Любой командир в армии назначается. Выборы — это любимое развлечение красного сброда. В семнадцатом году мы с вами уже насмотрелись на выборы командиров. Ни к чему, кроме развала армии, это привести не может. Что у нас здесь, совдеп, что ли? Генеральский совдеп! Ничего, кроме насмешек и презрения, это вызвать не может. Если главнокомандующий считает, что не имеет более морального права оставаться на своем посту, он должен назначить себе преемника. Назначить своим приказом! И я, как офицер, приказу подчинюсь беспрекословно. А так — развели демократию… это уже не армия. И уж если угодно устраивать выборы, так извольте ввести равное представительство. А то я вижу здесь, что Донской корпус представляет шесть человек, Добровольческий — тридцать, а Крымский корпус за то, что он обороняет Крым, — только три человека.
Драгомиров приподнялся, набычившись, и сказал:
— Я попрошу Антона Ивановича приравнять крымских представителей к остальным…
— Это не нужно. Крымский корпус в выборах участвовать не будет, у меня на фронте трудная обстановка. Я явился сюда, исполнив приказ, сказал все, что мог, и дольше оставаться здесь не буду. На рассвете у меня бой.
Генерал Слащев вышел из комнаты и резко захлопнул за собой дверь.
— Ну что ж, Борис Андреич, разрешите поздравить вас с удачным разрешением дела. — Полковник Горецкий откупорил бутылку вина и налил в бокалы искрящийся напиток.
— Право, не знаю, стоит ли за это пить, — нахмурился Борис. — Предотвратили очередное покушение на Слащева, но что мешает им сделать это снова? Кстати, вам удалось выяснить, кто такие «они»?
— Да, достаточно подробно. Как вы знаете, из участников покушения удалось живым взять только одного. Это рабочий из Симферополя Михаил Полещук.
Молодой человек очень зол на своего руководителя, так как понял, что его и двух других просто подставили, отправили на смерть. Поэтому на допросе не пришлось применять к нему никаких сильнодействующих мер, он все рассказал сам. Правда, после того, как я объяснил ему, что, учитывая его чистосердечное признание, военно-полевой суд в Джанкое может оставить ему жизнь.
— Вы уверены, что это будет именно так? Все же покушение на самого Слащева…
— А что? Он лично ни в кого не стрелял, а бросил гранату, причем без намерения кого-то убить или ранить, а только для отвлечения внимания. Граната вообще не могла причинить никому вреда, потому что не разорвалась. Все это я изложил господину, ах, простите, товарищу Полещуку, и он любезно согласился ответить на мои вопросы. И я выяснил очень любопытные вещи. — Аркадий Петрович отпил из бокала. — Так вот, операция была организована чрезвычайно грамотно. Некий Жорж Лапидус, о котором Полещук не без некоторого колебания признался, что он и есть бывший председатель подпольного комитета товарищ Макар, он же Макаров Владимир Васильевич, набрал группу из совершенно неподготовленных молодых людей и поручил им покушение на генерала. Если бы случился в группе хоть один сообразительный малый, он бы понял мигом, что дело нечисто. Но как я уже говорил, молодые люди были совершенно неопытны, к тому же слепо доверяли товарищу Жоржу, как они его называли. То есть доверяла девушка, Надя Корабельникова. Объясните мне, Борис Андреич, что такого эти восторженные барышни находят в большевиках? Ведь на смерть пошла ради него! А девчонке-то всего восемнадцать лет было, ваша сестра Варвара Андреевна всего на два года ее постарше…
— На что это вы намекаете? — мгновенно ощетинился Борис.
Он не рассказывал полковнику Горецкому, что, когда нашел Варю в прошлом году на Украине, она была замужем за видным большевиком, начальником Особого отдела ЧК Сергеем Черкизом. Вернее, просто жила с ним, потому что институт брака красные отменили. Но там все было совершенно по-другому, и когда Варю поставили перед выбором — муж или брат, она не колеблясь выбрала Бориса и спасла ему жизнь.
Борис не рассказывал Горецкому подробности, знал их только Саенко, но Борис был уверен, что он тоже Аркадию Петровичу ничего не говорил. Но полковник Горецкий мог узнать все одному ему ведомыми способами, недаром ходили про него слухи, что он знает очень много.
— Голубчик, — Горецкий поправил пенсне на носу, — да ни на что я не намекаю! Просто вы, как человек молодой, с барышнями лучше знакомы. А у меня никак в голове не укладывается, чтобы девушка из приличной семьи на такое пошла!
— Полно, Аркадий Петрович! В истории примеров множество, и не только в русской…
— Нет, тут другое, — задумчиво проговорил Горецкий. — Этот Полещук очень, знаете, наблюдательным оказался. Так он рассказал, как барышня на главного большевика смотрела. Как на Господа Бога! Ах, они же неверующие… Ну все равно, вы меня поняли. А когда арест комитета произошел, то вы же знаете, что этому товарищу Макару тоже девушка бежать помогла. Телом своим его от пули закрыла!
— Ну и ну!
— Вы знаете, — оживился Горецкий, — меня начинает очень интересовать этот человек. С психологической точки зрения. Так я, с вашего разрешения, продолжу. Значит, этот Полещук кое-что понял, но поскольку с остальными членами группы познакомился только на последнем совещании накануне покушения, то разговаривать с ними об этом не стал, тем более они были ему чужды, так как он, я уже говорил, парень простой, из мастеровых, а тут сидит такая барышня чистенькая, из благородных… Он решил спасаться самостоятельно. Бросил гранату в сторону специально и дал деру в то место, где должен был ждать их товарищ Жорж. И пришел раньше намеченного срока, а того и след простыл, вот так-то.
— Мерзавец! — не сдержался Борис.
— Отъявленный, — согласился полковник, — но рассчитал все очень верно. После неудачного покушения конвой и свита расслабились, и если бы вам, голубчик, не бросилась в глаза некоторая нарочитость покушения, то мы бы сегодня хоронили генерала Слащева. Вот тебе и свита, вот тебе и конвой.
— Расслабились, не ожидали, — проворчал Борис. — А позиция у того, на крыше вагона, была очень удобная, запросто мог генерала подстрелить. Его не нашли?
— Ушел, — коротко вздохнул полковник. — Но по некоторым признакам удалось установить, что это был профессионал.
— То есть военный?
— Не думаю, — невозмутимо ответил Горецкий. — Как вы знаете, у большевиков специалистов-то мало, профессиональные военные есть, конечно, но откуда им здесь, в подпольном комитете, взяться? Я считаю, что работал тут уголовник — профессиональный убийца. Есть среди них мастера. Своего они взять никак не могли, потому что тогда бы товарищи кое-что пронюхали. А так все погибли, концы в воду. Уголовник теперь затаится, а товарищ Макар уже небось в горах, у зеленых. Хотел я всю эту историю в газетах осветить, чтобы рабочие и обыватели знали, какими методами большевики действуют, но все равно толку не будет. А только подпольщики рассвирепеют и приговорят Полещука к смерти, скажут, что он предатель, раз все рассказал.
— Вот и конец истории, — резюмировал Борис.
— Да, один только вопрос меня беспокоит. Если на это дело подрядили уголовника, да еще такого классного специалиста, то должны были заплатить ему немалые деньги. Шутка ли, самого генерала Слащева убить! Так вот мне очень интересно: откуда у подпольного комитета большие деньги?
— Держат связь с зелеными, оттуда поступают деньги от грабежей.
— Может быть, — неохотно согласился Горецкий, — но интуиция мне подсказывает, что дело не только в этом. Но я надеюсь, что мы еще встретимся с неуловимым товарищем Макаром.
Они помолчали.
— А я вас, Аркадий Петрович, не успел поздравить со сменой главнокомандующего, — вспомнил Борис.
— Да уж, свершилось, — кивнул Горецкий.
— По-моему, вы должны быть довольны, — осторожно начал Борис, — вы ведь еще раньше считали, что барон Врангель на посту главнокомандующего более уместен.
— Ах, Борис Андреич, что бы я ни считал, что бы мы все ни думали, Деникину никак нельзя было оставаться на этом посту! Армия озлоблена и винит его в разгроме и потерях.
— А разве это не так? — прищурился Борис.
— Возможно. — Полковник махнул рукой и отвернулся. — А Врангель очень популярен, он много делает для своей популярности. Разумеется, амбиций и у него предостаточно, но все же с ним связывают некоторые надежды. Вы слышали, что накануне назначения Врангель подтвердил сказанные им раньше слова, что если он будет главнокомандующим, то даже в случае неудачи на фронте он обеспечит спасение и устройство в будущем чинов своей армии?
— Слышал. Это, я думаю, сослужило ему хорошую службу, потому что в памяти солдат и офицеров еще свежа кошмарная новороссийская эвакуация, при которой Деникин бросил всю армию на произвол судьбы.
— Да, Деникин после этого совершенно пал духом, он страшно казнит себя…
— Раньше надо было думать! — резко произнес Борис.
Полковник Горецкий посмотрел на него с грустью и отвернулся.
— Да, я помню Антона Ивановича как честного и энергичного человека, а теперь получается, что он предал доверившихся ему людей, бросил их в Новороссийске и бросил теперь, когда англичане увезли его в Константинополь. В людях погибла вера в правильность идеи, за которую боролись.
— Уж это точно. Теперь, испытав на собственной шкуре кошмар эвакуации, каждый думает только о собственном благополучии: улизнуть за границу, когда все кончится, и прихватить хоть немного денег, чтобы не умереть там с голоду в первое время.
— Не пытайтесь, голубчик, уверить меня, что вы тоже такой! — воскликнул Горецкий.
— Я не граблю население, но иллюзий и надежд у меня не осталось, — спокойно ответил Борис.
— Невеселый разговор у нас с вами получается, — вздохнул полковник. — Вы теперь на фронт?
— Да, получил назначение. Жаль, что не вместе с Алымовым. Кстати, что вы знаете о мирных переговорах с красными?
— Немного, но думаю, что надежды на заключение мира платонические. Красные на это не пойдут. Им не нужен под боком такой источник опасности. Сейчас они концентрируют войска возле перешейков. Переговоры о мире ведутся тайно, потому что в армии наблюдается разложение, много перебежчиков. Думаю, что это ничем не кончится.
— А что думают по этому поводу ваши друзья-англичане?
Как будто какой-то злой бес подталкивал Бориса, он нарочно говорил полковнику неприятные вещи.
— Англичане думают только о благополучии собственной страны, помогать нам считают нецелесообразным и пытаются договориться с большевиками насчет концессий. Но уж поверьте осведомленному человеку, Борис Андреич, они с большевиками ни о чем не договорятся. Они там, в Европе, не представляют, что такое большевики. Они уверены, что сумеют обуздать Советскую Россию экономическими методами. Дескать, разруха, голод, нужно принимать меры, а тут как раз и подворачиваются капиталисты, которые предлагают взаимовыгодное сотрудничество. Так я вам скажу, что большевики скорее заморят всю Россию голодом и утопят в крови голодные бунты, чем пойдут на компромисс. По этой же причине они не допустят заключения мира с Врангелем. А сколько продлится наше существование в Крыму — я вам сказать не могу.
— Что ж, — Борис поднялся, — я не прощаюсь навсегда, потому что Крым маленький, еще увидимся.
Он протянул руку, Горецкий пожал ее крепко, не сделав попытки обняться.
В сенях Саенко сунул Борису вещевой мешок:
— Тут еды немножко и белье чистое. Знаю, как на фронте кормят, — шепнул он.
— Спасибо, Пантелей, — растрогался Борис.
— Зря под пули не лезь, ваше благородие, — строго велел Саенко. — Живым тебе надо к сестре вернуться.
— Ладно уж, не каркай. Присматривай тут за полковником-то. Какой-то он смурной стал, все вздыхает.
Саенко расцеловался с Борисом крест-накрест, пощекотав усами.
Часть вторая Арабатская стрелка
Глава первая
В западной части Азовского моря вдоль берегов Крыма тянется узкая и длинная песчаная коса. Эта коса образована песком, намытым за долгие века морскими волнами. Шириной она от ста до двухсот саженей, длиной — более ста верст. На юге коса смыкается с Крымом, и в этом месте стоит средневековая татарская крепость Арабат. По этой крепости и сама песчаная коса называется Арабатской стрелкой. Узкая коса эта всего на сажень поднимается над уровнем моря. По одну ее сторону плещутся волны Азовского моря, по другую — лежат недвижные воды Сиваша, гнилого моря. Мелкий, едва по грудь человеку, очень соленый, Сиваш почти не проходим, потому что дно его илисто и топко, затянет и человека, и лошадь. Северная часть стрелки расширяется, там расположилась татарская деревушка. Еще дальше к северу косу пересекает протока, промоина. Здесь и располагался фронт. По ту сторону протоки — красные. Там, к северу, город Геническ. По южную сторону — боевое охранение белых. Численность его невелика, но роль очень важна. Если красные форсируют протоку, выйдут на песчаную косу — дальше им прямая дорога в Крым. Чтобы этого не случилось, северную оконечность стрелки обороняют конно-горная батарея и небольшой отряд пехоты.
Фронт на стрелке был стабильный, с обеих сторон протоки вырыты глубокие окопы, которые занимали пехотинцы. Орудия стояли на постоянной позиции, орудийные запряжки, то есть лошади, стояли в деревне в конюшнях.
Арабатская стрелка как песчаная пустыня посреди моря. Как и в настоящей пустыне, здесь часты миражи: то появляется на горизонте пальмовая роща, то караван верблюдов, то сказочный дворец. Как и в настоящей пустыне, на стрелке плохо с водой: колодцы есть, но вода в них соленая. Свежие люди и даже лошади пьют ее неохотно, с отвращением, а местные жители привыкли.
Борис Ордынцев приехал на Арабатскую стрелку на смену заболевшему артиллеристу. У основания косы он спрыгнул с подводы, которая везла на позицию снаряды, чтобы осмотреть развалины Арабатской крепости. Мощные каменные стены помнили славные времена могущества крымских ханов, державших в страхе Южную Россию и доходивших войной до Москвы. Сейчас от крепости, как и от самого ханства, остались только руины.
Борис взобрался на полуразрушенную башню, окинул взглядом уходящую в море косу. Узкая полоса земли быстро терялась из виду, сливаясь с водой. Борис несколько раз пытался проследить ее, но каждый раз ему мешали слепящие солнечные блики на воде.
Вдруг прямо за спиной у него раздался странный шум, глухой недовольный окрик. Ордынцев испуганно оглянулся, схватившись за пистолет… и тут же расхохотался: позади него в каменной нише проснулся обеспокоенный филин и теперь недовольно переступал, крутил круглой кошачьей головой и сварливо покрикивал:
— Ух-гух-гух!
— Сиди, дружище, не буду тебе мешать. Теперь ты здесь хозяин, преемник Девлет-Гиреев. Только и подданные тебе под стать: мыши да гадюки.
Борис последний раз взглянул на поросшие цепким кустарником руины и спустился к дороге. Пока он осматривал крепость, подвода, с которой он ехал, ушла вперед, и пришлось ее догонять. Дорога шла вдоль Сиваша по прекрасному твердому грунту, получившемуся от смеси песка с солью. Подводы ехали, как по самому лучшему паркету.
— В сторону только не ходи, ваше благородие, — предупредил Бориса солдат-подводчик, — влево свернешь — засосет, вправо свернешь — утопнешь.
Такая перспектива Борису не понравилась, и он от греха подсел на подводу. Ровная однообразная дорога, мерный скрип телеги убаюкали его, и он сидя задремал. Проснулся Борис уже в темноте. Подводы остановились, солдаты распрягали лошадей.
— Где мы? Приехали, что ли?
— Приехали, ваше благородие, — подводчик смотрел на Ордынцева, усмехаясь, — а ты так всю дорогу-то и проспал.
Борис спрыгнул с телеги, все тело затекло от неудобного положения, во рту было сухо и горчило от соленой арабатской воды.
— Мы уж ехали-ехали, — говорил солдат, возясь с упряжью, — только бы до деревни доехать, на косе не ночевать — а то уж так там нехорошо! И воды нету, и видится всякое, будто чудища какие из моря вылезают. Слава Богу, дорога хорошая, добрались…
Борис огляделся. Коса в этом месте расширялась, и под яркими крымскими звездами раскинулась небольшая татарская деревушка. Аккуратные домики светились в темноте белыми стенами, один из них выделялся размером и опоясывающей его галереей. Около подвод суетились незнакомые солдаты, выгружая снаряды, провиант, ящики с патронами.
От дома с галереей подошел невысокий круглолицый офицер с петлицами артиллериста, представился:
— Капитан Колзаков, Николай Иванович. Вы, господин поручик, на смену Николаеву прибыли? Вы артиллерист?
— Ордынцев Борис Андреевич, — представился Борис ответно, — я не кадровый, несколько месяцев только в армии, но прошел от Орла с конно-горной батареей, кое-чему научился, надеюсь быть вам полезным.
— Ну, слава Богу, прислали человека. У нас здесь в общем-то тихо, но красные постреливают, и мы отвечаем. Пехотинцы, те даже почти не стреляют — бесполезно, только занимают окопы.
— Зачем же тогда прислали патроны?
— Ну, патроны лишними не будут. Потом неизвестно, как дальше боевые действия обернутся. Красных у Геническа много, всякого можно ожидать. А вот снарядам я очень рад, мои почти подошли к концу.
Колзаков повел Ордынцева за собой к дому.
Большая низкая горница устлана была узорчатыми коврами, по стенам развешена ярко начищенная медная посуда. На Бориса повеяло устойчивым довоенным уютом.
Навстречу вошедшим поднялся высокий черноволосый офицер с лихо закрученными усами.
— Поручик! — воскликнул он с наигранной веселостью. — Какая радость увидеть в этой дыре порядочного человека! Позвольте представиться — Вацлав Стасский, одного с вами чина. Прежде в Армавирском гусарском полку служил, теперь вот в пехоту угораздило.
Борис заметил, что Колзаков со Стасским старались друг на друга не смотреть, между ними чувствовалось напряжение, в любую минуту готовое разразиться грозой.
— Вы будете жить с нами, в этом доме, — продолжал Стасский, — больше негде. Остальные хуже и грязнее, там живут солдаты. Здешний хозяин, Муса, переселился с женой в пристройку, дом в нашем распоряжении, приходится соседствовать. — Поручик бросил на Колзакова презрительный и злой взгляд.
Борис представился новому знакомцу.
— Где прежде служили? — осведомился Стасский.
— Нигде, до всех этих беспорядков учился в Петрограде на юриста, потом помотало по всей России, а с прошлой осени в Добровольческой армии.
— Ну что ж, хоть и из штатских, — резюмировал бывший гусар, — а все ж таки не из мужиков. — Он бросил на Колзакова выразительный взгляд. — Порядочный человек, он всегда порядочным остается.
Колзаков скривился, но ничего не ответил.
Борису отвели небольшую чистую комнату. Он не хотел спать — выспался за день на телеге — и вышел на улицу.
Облокотившись на низенький глинобитный забор, он стоял и смотрел вдаль. Азовское море лежало впереди, темное и спокойное. Звезды мерцали в небе, да слева, где темнел высокий берег, занятый красными, виднелись неясные далекие огоньки.
Рядом послышались шаги. Борис обернулся. К нему подошел Стасский, вынул портсигар, предложил Ордынцеву папиросу. Закурили.
— Не спится? — осведомился бывший гусар.
— Да, в дороге спал, и место новое…
— Паршивое место. — Стасский помолчал, стряхнул пепел. Красная искорка прочертила темноту, погасла на песке. — Паршивое, хуже не бывает. Заняться нечем, одно название, что фронт. Женщин нет, в карты перекинуться не с кем, поговорить — и то не с кем. Только и остается что скверный татарский самогон.
— А с капитаном вы не в ладах? — осторожно осведомился Борис.
— С капитаном?! — вскинулся Стасский. — Да какой он капитан? Из солдат выслужился! Пораспустили мужичье, от этого все революции. Я бы этих кухаркиных детей выше унтера ни за что не пускал, а приходится с ним в одном доме жить, за одним столом сидеть!
Борис почувствовал себя неловко. Он торопливо докурил папиросу, откланялся и пошел спать.
Полковник Горецкий приехал в Ялту, чтобы допросить пленных казаков, вернувшихся от зеленых.
Казаки эти во главе со своим есаулом Осадчим три недели назад ушли к партизанам, захватив только винтовки и немного патронов. Пулеметы они взять не смогли, но по приказанию есаула испортили замки. По рассказам казаков, в лесу наблюдалась полная анархия, каждый партизанский отряд действовал сам по себе и подчинялся исключительно собственным командирам, которые звались атаманами. Словом, по представлениям обозленных и голодных казаков, красно-зеленые были самыми обычными бандитами, грабили имения и экономии исключительно для того, чтобы добыть еду и одежду, а с белыми старались особенно не сталкиваться, потому что были плохо вооружены и не больно-то разбирались в военном деле.
Без продуктов и средств отряд казаков голодал девять дней, безуспешно пытаясь связаться с каким-либо партизанским руководством. Поднялся ропот, и отряд почти в полном составе за исключением самого есаула и четверых его единомышленников явился в Ялту сдаваться. Есаул Осадчий тоже бы вернулся, если бы не боялся, что за переманивание отряда к партизанам его расстреляют. По-видимому, если и было среди партизан какое-то революционное начальство, оно не доверяло казакам.
Полковник Горецкий внимательно выслушал казаков, поговорил еще кое-с кем из ялтинской контрразведки и отбыл в Севастополь.
В город приехали поздно ночью. Полковник в центре отпустил машину и направился не к себе домой, а совсем в другую сторону.
На пустыре, уже поросшем по весеннему времени травой, покрывшей кучи битого кирпича, обгорелые бревна и всякую дрянь, притулилось несколько дровяных сараев. От крайнего отделилась невысокая коренастая фигура и приблизилась к подходившему полковнику. Горецкий узнал Саенко.
— Ну что?
— Тут он, — зашептал Саенко, — поел, да воды я ему два ведра принес, чтобы хоть как-нибудь грязь смыть.
— Посторожи, Саенко, пока мы с ним побеседуем. — И полковник скрылся в сарае.
— Уж как-нибудь и сам бы сообразил! — не по уставу прошептал ему вслед Саенко.
Человек вскинул голову на скрип открываемой двери, и полковник увидел лицо, до самых глаз заросшее неопрятной бородой.
— Ну и вид у вас! — поразился Горецкий.
— А вы что думали — у нас там парикмахерская под каждым кустом? — недовольно ответил человек из леса. — Да и так, знаете ли, надежнее, никто случайно не узнает.
Человек был одним из агентов, которых полковник Горецкий по устоявшейся привычке рассовывал по разным местам, как заядлый курильщик рассовывает по всяким укромным местам папиросы — на случай экстренной нужды. В этот раз агент пришел от партизан, потому что Горецкий, да и командование были в последнее время обеспокоены усиливающимся партизанским движением. Кроме того, у Горецкого был еще свой собственный интерес — он хотел подробнее узнать что-нибудь о товарище Макаре. По последним сведениям, тот ушел к зеленым, дальше след его терялся.
— Рассказывайте все, что знаете, пока я не буду задавать вопросы, — сказал Горецкий.
— О, у нас в лесах и горах большие перемены! — усмехнулся его собеседник. — Некоторые мелкие отряды объединились. Например, наш, под командованием Сергея Захарченко, слился с тавельским отрядом, им командовал некий Бабахан.
— Знаю такого, — кивнул Горецкий.
— Товарищ Бабахан имеет связь с областным крымским комитетом партии, с самим товарищем Мокроусовым. Связь эта хоть и нерегулярная, но имеется, и осуществление ее держится в большой тайне. Областной комитет партии решил, что в городах временно невозможно вести продуктивную подпольную работу, потому что народ ненадежен…
— А скорее всего потому что врангелевская контрразведка все же как-то делает свое дело, — вставил Горецкий.
— Возможно. Был трудный бой с дроздовцами, после чего и решили полностью реорганизовать отряды и объединяться. Товарищ Бабахан сообщил, что его назначили зампредревкома Крыма…
— Ему поверили? — удивился Горецкий.
— Не все, но кое-кто. Теперь он активно принялся за организацию повстанческих отрядов и в воззваниях к населению объявил леса Крыма на военном положении. — Бородатый протянул Горецкому пачку листовок: — Вот самые последние. Их немного, потому что все печатают на экспроприированной пишущей машинке.
— Вам известны их дальнейшие планы?
— Собирать под свои повстанческие флаги как можно больше людей, и последняя мобилизация Врангеля очень этому способствует — люди уходят в леса.
— Не появился ли в отряде некий товарищ Макар, или товарищ Жорж?
— Да, я встретил товарища Макара в отряде у Сергея Захарченко. За достаточно короткое время он сумел привлечь на свою сторону много членов отряда. После боя с дроздовцами в отряде возникли разногласия: одна часть, подученная, как я понимаю, товарищем Макаром, наиболее сознательная по его собственному выражению, желала продолжать революционную работу, другая же, с бандитским уклоном, открыто предлагала заниматься грабежами и налетами. Во главе этой группы стоял атаман Сергей Захарченко. В отряде привыкли все решать общим собранием, а также выбирать атаманов. Поэтому после бурных обсуждений отряд разделился на две неравные части: одна, большая, удалилась с Захарченко в неизвестном направлении. Другая, где остался и я, под предводительством товарища Макара пошла на соединение с отрядом Бабахана, потому что в таком маленьком составе в лесу существовать нельзя — разобьют белые, да и местные жители смогут отпор дать.
— Какое у вас осталось впечатление от этого человека, от Макара? — заинтересованно спросил Горецкий.
— Мне показалось, нет, я уверен, что для него было очень неприятно то, что за ним пошла меньшая часть отряда. Мне кажется, он рассчитывал, что сумеет увлечь за собой многих, если не всех. Его надежды не оправдались. В глубине души, я думаю, он был очень недоволен, что пришлось идти на соединение с отрядом Бабахана.
— Да, судя по тому, что я знаю об этом человеке, он привык быть лидером, не любит никому непосредственно подчиняться.
— С Бабаханом ему не справиться. У него в отряде другой настрой, к тому же, как я говорил, он держит связь с крымским обкомом партии.
— Что ж, ваши сведения весьма ценны. Ваша работа продолжается, подробные инструкции вами получены уже давно. А теперь от меня будет личная просьба: обратить особенное внимание на все передвижения и вообще род деятельности этого самого товарища Макара. Насколько я знаю этого человека, он не станет довольствоваться ролью подчиненного при Бабахане. Возможно, он не уживется в лесах и появится в Севастополе либо в другом городе. Тогда я должен об этом узнать в первую очередь.
Каждый день около пяти часов на высотах у Геническа появлялся бронепоезд красных с хорошей шестидюймовой пушкой. Он выходил на одну и ту же позицию и посылал по расположению белых несколько снарядов. Его положение было очень удобным: он был выше орудий Колзакова и слишком далеко для хорошей прицельной стрельбы. Лучшая дистанция — три-четыре версты, а бронепоезд останавливался в восьми верстах, на пределе дальности колзаковских трехдюймовок. Стрельба на предельной дальности неточна и портит накатник орудия, поэтому артиллеристы очень ее не любят, так что белые часто на стрельбу бронепоезда вообще не отвечали, хотя это их и очень раздражало.
Солдаты-пехотинцы сказали как-то Борису, что перед их окопами есть большая яма. Ночью Борис осмотрел ее и поговорил с Колзаковым. Они тихонько привезли в яму орудие, запряжку отправили назад в деревню и затаились рядом с пушкой.
Весь день пришлось изнывать в этом укрытии от жары и безделья, даже встать во весь рост нельзя — красные были близко и раскрыли бы хитрость. Наконец, как обычно около пяти часов, когда солнце не слепило уже орудийную обслугу, бронепоезд вышел на свою обычную позицию. Подпустив его как можно ближе, артиллеристы открыли огонь гранатами. Одновременно второе орудие начало стрелять издалека, с прежней дистанции. Хитрость удалась, и бронепоезд спешно отступил, отстреливаясь. Ночью орудие увезли из укрытия, и вовремя это сделали: на следующий день бронепоезд влепил в эту яму больше десятка снарядов. Видимо, красные все-таки обнаружили укрытие артиллеристов, но к этому времени яма была пуста. Эта хитрость сделала свое дело: бронепоезд реже стал выходить на высоты и держался в дальнейшем гораздо осторожнее.
Колзаков со Стасским постоянно грызлись. Точнее, Стасский по любому поводу и вовсе без повода задевал капитана. Например, во время обеда он мог неожиданно уставиться на него в удивлении и воскликнуть:
— Как, господин капитан! Да вы, оказывается, умеете пользоваться вилкой? Нет, я определенно потрясен!
Колзаков не умел ему достойно ответить и только свирепел и скрипел зубами. Борис не пытался остановить гусара, это не привело бы ни к чему кроме хамства.
Товарищ Макар чувствовал себя весьма неважно в лесу. Начать с того, что здесь он не был признанным руководителем, председателем подпольного комитета. Никто не смотрел на него с уважением, граничащим с почитанием, никто не слушал его, внимательно ловя каждое слово. Откровенно говоря, эти заросшие, полуголодные, плохо одетые и отвратительно пахнущие люди вообще никого не слушали. Они привыкли решать все вопросы общим голосованием, и на собраниях побеждал самый горластый, то есть именно он и становился у них командиром. На свежий взгляд товарища Макара, все отряды страдали обычными партизанскими недугами: выборным началом, самовольными налетами, отсутствием дисциплины, отчетности и азартными играми.
Правда, после того как товарищ Бабахан объединил вокруг себя несколько мелких отрядов и даже переименовал эти бывшие банды в Повстанческий советский полк, он пытался наладить кое-какую дисциплину и даже издал несколько приказов о строгих наказаниях, вплоть до смертной казни за различные проступки и преступления.
Но во-первых, от благих намерений до дела, как известно, не один шаг, а во-вторых, лично товарищу Макару от всех изменений не было никакой выгоды. Хоть он и привел к Бабахану почти три десятка бойцов, его не назначили даже командиром взвода, потому что он не знал специфики партизанской борьбы и не умел вести бой в полевых условиях. Для рядовых партизан он был городским чужаком, а кое-кто из руководства смотрел на него косо, потому что из всех членов севастопольского подпольного комитета сумел спастись только он один. Результаты его деятельности оказались мизерными: рабочие в порту слушали теперь только своего председателя профсоюза, который оказался самой настоящей контрой — пытался договориться с правительством Врангеля мирным путем. Гарнизон крепости, состоящий из пленных красных, расформировали, провели чистку, кое-кого расстреляли, нечего было и думать начинать там агитационную работу. Кроме того, покушение на генерала Слащева с треском провалилось. Хорошо еще, что вся группа погибла и не просочилось никакой компрометирующей товарища Макара информации.
Одним словом, товарищ Макар чувствовал себя в лесу очень неуютно. Это усугублялось тяжелейшими бытовыми условиями. На длительных стоянках партизаны жили в шалашах. Питались преимущественно хлебом и мясом. Хлеб пекли в печи, которую оборудовали в какой-нибудь небольшой пещере, а тесто замешивали в деревянных корытах. Но длительные стоянки бывали редко, потому что белые, обеспокоенные ростом повстанческого движения, стали очень часто тревожить партизан. Партизаны в лесу были как дома, знали местность как свои пять пальцев, поэтому им удавалось отступать без видимых потерь, но нечего было и думать таскать за собой корыта для теста или котлы. Так что большей частью люди спали просто на голой земле у костров и жарили мясо какого-нибудь убитого бычка, не заботясь, отобран он у бедного крестьянина или у помещика.
Разумеется, ради торжества революционного движения товарищ Макар был готов терпеть любые лишения, но его сильно угнетала грязь, вши и отсутствие бани хотя бы раз в неделю. Еще он опасался, как бы от непрожаренного мяса и непропеченного теста у него не началось несварение желудка. Неудержимо хотелось мыться, спать на простынях и есть нормальную пищу. Но о возвращении в Севастополь нечего было и думать. После покушения на Слащева контрразведка развила бешеную деятельность. Явочную квартиру Василия Цыганкова на Зеленой Горке разгромили, самого Цыганкова ранили при аресте и посадили в крепость. Народ в городе был ненадежен, а жену товарища Макара несколько раз вызывали в контрразведку.
Ночи стали теплее, южная весна вступила в свои права. Товарищ Макар научился ложиться с подветренной стороны от остальных, чтобы не страдать от запаха. Глядя на звезды, он размышлял о своей дальнейшей судьбе. Быть рядовым и незаметным ему совершенно не улыбалось, он хотел руководить.
Реквизировали где только можно пишущие машинки и организовали в Повстанческом советском полку идеологический отдел. В один прекрасный день пришел из Симферополя связной и принес пять пар постолов, немного сахарину и воззвание Врангеля, обращенное к партизанам:
«Братья красно-зеленые! Протяните нам руки, и мы с радостью пожмем их. Все преступления, совершенные вами, прощаются. Своей преданностью перед родиной вы искупите их на фронте, где льется кровь лучших сынов отечества».
Товарищ Макар несколько часов просидел в задумчивости с карандашом в руках. Плоды его творчества отпечатали в сотне экземпляров, похитив из окрестностей Симферополя еще три пишущие машинки (одну — вместе с барышней), и разбросали по ближайшим деревням:
«Сумасшедший стратег Врангель! Воображаем ваше самочувствие, когда вам доносят об отрядах красно-зеленых, которые заставляют вас смотреть на недоступные горы Крыма. Никогда вы туда не попадете! И никогда мы не пожмем ваши подлые грязные руки, которые обагрены кровью рабочих и крестьян!»
«Жаль, что гнусную авантюру Врангеля не понимают солдаты и рядовое офицерство, втянутые в нее обманом. Мы их заблаговременно призывали покинуть ряды белых и прийти к зеленым; мы-то их действительно примем как братьев и гарантируем жизнь и будущее. Близится час расплаты! Идет на вас Красная армия!»
«Красно-зеленые не дают покоя белой собаке Врангелю. Но бороться с нами очень трудно. Вы можете вырубить все леса, но гор вы все равно уничтожить не сможете; вы можете пустить на нас газы, но от них погибнет население и ваша же свора; вы можете бросить на нас двести тысяч войск, но сколько же их у вас всего на фронте?»
«Товарищи солдаты и офицеры! Мы обращаемся к вам с последним призывом: покидайте ряды белых, идите в леса! Вы найдете там нас. Не дайте уйти приспешникам белых, которые за вашими спинами грузят чемоданы.
Близится час расплаты!»
Бойцам очень понравились воззвания. Несколько дней товарищ Макар ходил героем. Но воззвания хоть и читались внимательно, особого результата не давали. Пришли в отряд несколько бойцов из разгромленного белыми отряда, базировавшегося возле Ялты. Они сообщили, что против повстанцев брошены самые верные части белых. Борьба с ними не может быть успешной из-за малочисленности партизанских отрядов и отсутствия оружия.
Товарищ Макар надолго задумался. Вот если бы ему удалось достать для партизан оружие. Да не десяток винтовок, а много, да еще патроны и пулеметы. Вот тогда бы он сумел выдвинуться… Но оружия взять негде. На артиллерийские склады в Севастополе нечего и соваться — опасно.
Эх, были бы деньги! У спекулянтов за большие деньги можно что угодно достать. Вагон винтовок привезут куда надо, пулеметы, хоть танк английский! Но танк партизанам в горах без надобности…
Пока он предавался бесплодным размышлениям, его вызвали к командиру Повстанческого советского полка товарищу Бабахану. Как видно, сочиненные Макаром воззвания сыграли свою роль, и товарищ Бабахан почувствовал к нему сильное доверие.
— Вот что, товарищ Макар, — начал Бабахан, не тратя времени даром, — партия решила оказать тебе огромное доверие.
«Правильно начинает, — одобрил про себя Макар, — сразу о деле».
— Положение у партизан, сам знаешь, очень серьезное, — продолжал Бабахан. — Люди голодают, не хватает оружия, одежды и продовольствия. Кроме того, тебе, как человеку идеологически грамотному, должно быть понятно, что, пока мы не наладим в полку партийную и воинскую дисциплину, мы не сможем успешно бороться с белыми.
«Так-так, — сообразил товарищ Макар, — упаднические настроения, не верит в партизанскую борьбу… Очень интересно!»
На лице его, однако, ничего не отразилось, он продолжал внимательно слушать, глядя в лицо товарищу Бабахану.
— Вот поэтому я решил послать тебя к нашим через линию фронта, — твердо продолжал Бабахан. — Человек ты по-партийному смелый, решительный, в трудной ситуации не растеряешься. Опять же грамотный, сумеешь объяснить там ситуацию нашу. Писем никаких давать тебе не хочу — найдут еще… А на словах передай, что больше оружия необходимы нам люди — настоящие бойцы и командиры, которые разбираются в военной науке. Это очень важно, потому что если партизан сейчас крепкой дисциплиной не повязать, то все отряды превратятся в банды и уйдут в горы и станут только грабежами заниматься, вот как Серега Захарченко. Сам знаешь, как начнется разбой, так потом людей ни в какие оглобли не ввести.
— Понимаю, — осторожно кивнул Макар.
— Вот ты это все там, в штабе фронта, и передай. Писем я писать не буду, а документ тебе за своей подписью дам, чтобы наши поверили. Фронт переходить будешь возле Геническа.
— Что в даль такую переть? — недовольно вскинулся Макар.
— Там безопаснее. Перешейки очень охраняют, и у Перекопа, и на Чонгаре. Значит, вот тут, — Бабахан развернул самодельную карту, — у домика соляного сторожа в узком месте переправитесь через Сиваш — с тобой двое татар пойдут, Ибрагимов и Чапчакчи, надежные товарищи, опытные и местность знают. Значит, проводят они тебя потом до деревни Ак-Тыкыр, у Чапчакчи там родственники. Там пересидите день, а ночью — через промоину к Геническу, авось белые не подстрелят…
— Добро! — решительно тряхнул головой Макар, сообразив, что ему подвалила удача. — Все сделаю.
Он подумал, что Бабахан — человек конченый, потому что товарищ Макар, если, конечно, доберется до красных, уже не преминет рассказать о его упаднических настроениях и неверии в партизанскую борьбу. Припомнит он Бабахану его косые взгляды! И тогда посмотрим, кто где окажется…
— Вот и ладно, — усмехнулся Бабахан, — иди уж, да будь осторожнее, это тебе не воззвания на машинке отстукивать…
Макар молниеносно отвернулся, чтобы Бабахан не смог прочитать на его лице что-то такое, что ему очень не понравилось бы.
Глава вторая
Через неделю по прибытии Бориса на стрелку разразилась внезапно жестокая буря. Спокойное обыкновенно Азовское море превратилось в адский котел. Волны бушевали, едва не захлестывая всю косу, ветер злобно раскачивал огромный старый орех, раскинувший свои ветви над домом Мусы, грозил сломать вековое дерево.
Находиться на позиции было невозможно и бесполезно. Стасский купил у татар отвратительный мутный самогон, офицеры сидели в горнице и пили, морщась и отплевываясь. Вдруг в дверь дома застучали.
— Ваши благородия! — крикнул солдат из-за двери. — Тут до вас моряки!
— Что за черт! В такую бурю, — лениво пошевелился Стасский.
На пороге стояли три фигуры, закутанные в плащи. Пахнуло водорослями и йодом. Одна фигура шагнула вперед, снимая плащ:
— Здравствуйте, господа! Позвольте представиться: капитан третьего ранга Орест Николаевич Сильверсван. Это мой помощник и пассажирка. Нашу канонерку выбросило на косу, да так крепко сели, что, верно, и не сойдем. Так что просим приюта хотя бы на ночь.
Вошедший был крепок, высок, но когда он снял капитанскую фуражку, все увидели, что волосы его седые. Но двигался он хоть и неторопливо, но легко, из чего Борис заключил, что капитан далеко не старик и что седина его явилась следствием каких-либо сильных переживаний. Второго моряка офицеры не сразу разглядели, потому что, услышав, что на канонерке была пассажирка, смотрели только на женщину.
Она откинула мокрый капюшон дождевика, и Борис вздрогнул. Лицо женщины показалось ему незнакомым, но этот жест, когда она качнула головой, стряхивая с волос мелкие капли дождя, напомнил ему что-то. Она рассеянно оглядела комнату, скользнула взглядом по лицам мужчин и отвернулась было, как вдруг задержала глаза на Борисе и удивленно спросила:
— Вы?
— Вы? — тотчас спросил Борис в ответ, потому что узнал эту женщину. Это она, та самая медсестра, которая привезла две подводы раненых к последнему пароходу из Новороссийска. Это ее Борис нес по сходням, и по ее просьбе они с Алымовым отправились тогда за оставшимися ранеными, попали в плен и чуть не погибли.
Третий из прибывших оказался лейтенантом флота, он был среднего роста, достаточно молод, темноволос, с небольшой аккуратной бородкой. Он молча кивнул всем, не называя себя.
Моряки сняли мокрые плащи и отдали солдату. Женщина тряхнула головой и огляделась машинально в поисках зеркала, но не нашла его и подошла к Борису.
— Вы живы? — спросила она, обрадованно глядя ему в глаза.
— Как видите, — скупо улыбнулся Борис.
— А ваш друг?
— Тогда он выжил, — ответил Борис, чтобы не сглазить, потому что не видел Алымова несколько недель и кто его знает, что могло случиться.
— Позвольте, господа, представить вам Юлию Львовну Апраксину. Надеюсь, вы не откажетесь дать приют даме и нам, грешным, заодно? — весело проговорил капитан Сильверсван.
— Ордынцев, Борис Андреевич, — Борис поклонился и под насмешливым взглядом лейтенанта чуть не щелкнул каблуками, — очень рад.
— Я тоже рада, очень рада, что вы живы! — Она протянула ему руку.
Борис прикоснулся к тонкой кисти с длинными пальцами, но не поцеловал. Юлия Львовна улыбнулась ему одними глазами. Чувствовалось, что улыбка не часто посещает это лицо, основным выражением которого была скорбная серьезность.
— Пароход был последним, — тихо продолжала она, — никто больше не мог спастись. Я молилась за вас.
«Должно быть, только ее молитвы и помогли», — подумал Борис, вспомнив полную отчаяния толпу смертников на старом дебаркадере и черное облако, наплывавшее из глубины моря и обволакивающее сердце.
Она была очень высока ростом, для того чтобы смотреть Борису в глаза, ей нужно было только чуть-чуть поднять голову. Сегодня в ее взгляде не было той бесконечной усталости, как в тот раз, на пристани в Новороссийске. Глаза не казались бездонными, а просто спокойными. Борис видел, что она искренне ему рада. Но вспоминать об их встрече ему не хотелось, потому что снова сдавило сердце холодом и он вспомнил, как погружался в темную воду… Очевидно, в его глазах умная женщина прочла что-то, потому что мягко отняла свою руку и не стала ни о чем спрашивать.
Тут Бориса буквально оттеснил в сторону неподдельно обрадованный Стасский.
— О, да мы ведь встречались, — суетился Стасский. — Юлия Львовна, помните меня?
Ноздри его раздувались, глаза горели, и от всей фигуры веяло горячим желанием охмурить, увлечь, завоевать, завладеть женщиной, причем как можно скорее. А также всем было понятно, что никаких особенных чувств именно к этой женщине он не испытывает, а просто подвалило счастье — на уединенной, осточертевшей всем Арабатской стрелке совершенно случайно появилась женщина, да не простая деревенская баба, а дама из общества, красавица и аристократка. Чувствовалось, что своего счастья Стасский упускать не намерен и будет даже, если придет такая нужда, за него бороться.
«Неужели и у меня в глазах такое же паскудное выражение?» — подумал Борис, и ему стало противно.
Так случилось, что только он, стоявший рядом, мог видеть лицо Юлии Львовны. Лицо ее при виде Стасского мгновенно изменилось. До этого бледное, сейчас оно стало совершенно серо-белым и напоминало алебастр. Черты затвердели, губы были плотно сжаты. Борис изумленно заглянул ей в глаза, но ничего, абсолютно ничего не увидел, глаза ее были пусты и прозрачны, как черное венецианское стекло.
— Юлия Львовна, что с вами? — тихонько проговорил Борис.
— Что? — Она очнулась. — Простите… Возможно, господин поручик, мы с вами встречались… Господа! — обратилась она к обществу. — Вы извините меня, но не позволите ли отдохнуть и обсушиться?
— Покорнейше просим, не побрезгуйте нашим гостеприимством, — тотчас откликнулся Колзаков. — Я укажу, где можно разместиться, и солдата пришлю, ежели вода понадобится или еще чего… А также с хозяйкой поговорите, она по-русски немного понимает…
Дверь за дамой закрылась, и Стасский перевел взгляд на моряков.
— Я поручик Стасский, Вацлав Казимирович, — представился бывший гусар. — Командую здесь взводом пехотинцев.
— Ах вот оно что… — процедил капитан канонерки и посмотрел на Стасского пристально.
— А я, простите, не расслышал фамилии, — с виду простодушно обратился к нему Стасский, — как вы сказали — Зильбершван?
— Сильверсван, — отчеканил моряк, — капитан третьего ранга Орест Николаевич Сильверсван, что в переводе со шведского означает «Серебряный лебедь».
— Прошу извинить. — Стасский покаянно наклонил голову, но Борис, изучив его за без малого две недели пребывания на косе, понял, что Стасский ерничает. Именно такое выражение лица бывало у него, когда он издевался над Колзаковым.
«Что за характер! — неодобрительно подумал Борис. — Когда-нибудь он нарвется на большие неприятности».
Он не знал, как быстро исполнится его пророчество.
Колзаков провел Юлию Львовну по галерее, опоясывающей дом, и крикнул в глубину дома, подзывая хозяйку.
— Вот тут у них есть комнатка небольшая, на первом этаже, насколько я знаю, она не занята, так вы бы могли там разместиться. Сейчас хозяйка придет, без труда с ней договоритесь. И от нас в стороне, а то ведь, бывает, шумим, отдохнуть не дадим.
— Благодарю вас, господин капитан, за заботу.
Ободренный ее приветливым тоном, Колзаков помолчал, собираясь с мыслями, потоптался немного на месте и задал вопрос:
— Госпожа…
— Зовите меня Юлией Львовной, не надо никаких господ! — разрешила она.
— Юлия Львовна… что-то мне лицо ваше знакомо, — неуверенно начал он. — Мы никогда не встречались?
Она взглянула на него удивленно — с чего это вздумалось такому на вид скромному капитану задавать ей такие вопросы? Обычный прием недалеких мужчин, которые стараются привлечь внимание дамы и завязать разговор. Начинается перечисление мест, где могли встретиться, поиск общих знакомых… Она внимательно посмотрела на капитана. Нет, похоже, этот не из таких — смотрит честными светлыми глазами и забавно насупил брови, пытаясь вспомнить, где он мог ее видеть.
— Нет, голубчик, — мягко сказала она, — у меня память на лица очень хорошая. Сколько раненых через мои руки прошло, если хоть раз человека увижу, никогда его лицо не забуду. Имя не вспомню, а в лицо обязательно узнаю. Так что вам точно скажу: никогда мы с вами не встречались, ни при каких обстоятельствах.
— Прошу простить. — Капитан покраснел и отвел глаза.
Пришла хозяйка Фатима, закутанная по мусульманскому обычаю, только блестели глаза из-под кисеи. Капитан наказал ей во всем угождать госпоже, еще раз поклонился Юлии Львовне и удалился в задумчивости. У него тоже была очень хорошая память на лица, и он совершенно точно знал, что это лицо с твердо очерченными скулами, с выразительными темными глазами он уже видел однажды.
Без Юлии Львовны в компании стало значительно скучнее. Вернувшийся Колзаков налил морякам по стакану самогона:
— Вам нужно согреться, взбодриться, а ничего лучшего у нас нет.
Лейтенант наконец-то представился Ткачевым Владимиром, лихо опрокинул стакан и только крякнул. Сильверсван тоже выпил, но поморщился и сказал:
— Как это вы пьете такую гадость? Надо будет вернуться к нашему судну. Там осталось несколько ящиков очень хорошего вина.
Время шло, самогон понемногу убывал. Буря тем временем стихала. Колзаков, по наблюдению Бориса, вел себя немного странно. Он хмурился, потирал лоб, иногда вдруг вставал из-за стола и начинал ходить по комнате, что-то бормоча. Стасский смотрел на него с еще большим презрением, чем обычно, и пытался пару раз кинуть оскорбительную реплику, но Колзаков никак не реагировал, даже отмахнулся невежливо, как от назойливой мухи. Борис видел, что Колзаков делает все абсолютно искренне, что он действительно озабочен более важным делом, чем ежедневные нудные перепалки со Стасским. Стасский наконец тоже это понял и оставил Колзакова в покое, ему стало неинтересно. Зато капитан Сильверсван внимательно прислушивался к его выпадам и все больше мрачнел. Бородатый лейтенант смирно сидел в углу и дремал, правда, один раз Борис перехватил его совершенно несонный взгляд. Сам Борис после встречи с Юлией Львовной невольно вспомнил все случившееся в Новороссийской бухте и отвернулся к окну, не боясь показаться невежливым. После Новороссийска он вообще перестал чего-либо бояться. И желаний у него осталось очень мало, он стал холоден и равнодушен.
Невеселая получилась у господ офицеров компания. Наконец Колзаков, пришедший от самогона или от усиленных воспоминаний в крайне возбужденное состояние, переглянулся с Борисом и спросил у капитана:
— Господин Сильверсван, у вас на канонерке снаряды остались?
— Снарядов достаточно, да пушки у нас допотопные.
— Ну, это ничего. Буря кончилась, дождь стих, вода уйдет в песок, и скоро станет сухо. Теперь пятый час, а около пяти к нам обыкновенно наведываются гости — бронепоезд красных. Давайте, господа, дадим красным морской бой!
Сильверсван заколебался. Тогда Колзаков для поднятия настроения налил ему еще самогона и пошел к берегу. Моряки шли за ним без энтузиазма.
Увидев их корабль, Ордынцев понял причину такого настроения. Канонеркой это судно можно было назвать только с большой натяжкой. Это была небольшая самоходная баржа, на палубе которой установили две пушки «времен Очакова и покорения Крыма». Таких старых орудий Борису еще никогда не случалось видеть. Даже у Колзакова немного убавился энтузиазм.
Моряки показали Колзакову с Ордынцевым особенности своих орудий, и в это время на северном берегу появился бронепоезд. Сразу же начался обстрел канонерки. Снаряды падали близко от корабля, поднимая фонтаны воды и песка, но точных попаданий не было. Канонерка в ответ молчала: старые сорокатрехлинейные пушки на большом расстоянии не смогли бы вести прицельный огонь. На бронепоезде, видимо, решили, что орудия канонерки испорчены, и захотели подойти ближе, чтобы окончательно ее уничтожить. Колзаков расставил по местам номера орудийных расчетов. Он дал поезду подойти на дистанцию прицельного огня и махнул рукой. По его сигналу обе пушки открыли огонь и стреляли непрерывно, пока не кончились боеприпасы. Бронепоезд тоже стрелял в ответ, но у красных, по-видимому, не было хорошего офицера-артиллериста, и точных попаданий по канонерке не случилось. Дуэль тянулась несколько мучительно долгих минут, потом бронепоезд задымился и ушел к Геническу. Наверное, он был сильно поврежден, во всяком случае, больше уже не показывался.
Когда бой закончился, офицеры осмотрели корабль и окружающий участок берега. Весь песок был вспахан, палуба усеяна осколками, но никто из людей, как это ни удивительно, не пострадал. Борта канонерки были пробиты в нескольких местах. Сильверсван поежился:
— Впервые пришлось вести бой корабля с бронепоездом. Если бы канонерка была на плаву, а не на мели, она бы точно потонула.
— Хорошо еще то, — добавил Колзаков, — что у вашего корабля очень тонкие борта. Снаряды бронепоезда пробивали их насквозь и взрывались в песке, не детонируя от удара о борт.
К большой радости офицеров, после боя не пострадали даже ящики с вином. Это было прекрасное вино из царского удельного имения Абрау-Дюрсо. Солдаты-артиллеристы взяли ящики и потащили их к дому Мусы. Колзаков, провожая ящики восхищенным взглядом, сказал:
— Да, господа, это вам не татарский самогон! Отчего бы нам сегодня не устроить с вами небольшой праздник — отпраздновать нашу встречу и успешный бой… Как-никак обошлись без всяких потерь, а красным всыпали по первое число.
Борис понял Колзакова: после долгих унылых дней на песчаной косе, заполненных бесплодными перестрелками, ссорами с поручиком Стасским и отвратительным тошнотворным самогоном, появление на косе новых людей, среди которых была красивая молодая женщина, само по себе было уже праздником. Сам он был на Арабатской стрелке всего вторую неделю, и то прошедшее здесь время казалось ему бесконечным из-за однообразия этих дней, просоленных горькими испарениями Сиваша.
* * *
Они переоделись и умылись соленой водой, потому что пропахли пороховой гарью и орудийной смазкой. Юлия Львовна не появлялась. Колзаков бурно занимался приготовлениями к вечернему ужину, препирался с хозяином, отправил солдата в деревню за продуктами. В самый разгар, пробегая по двору, Колзаков вдруг остановился и застыл на месте.
— Вот оно что! Как же это я забыл-то!
Он обежал дом, увидел закрытое ставнями окошко комнатки, где поселили Юлию Львовну, потоптался неуверенно под окном, бросился было в дом, чтобы постучать в дверь, но укротил себя, оглянулся и тут заметил высокую женскую фигуру, что стояла под орехом. С этого места открывался вид на море. Юлия Львовна курила и смотрела вдаль невидящими глазами. Колзаков отмахнулся от солдата, обратившегося за решением какого-то мелкого хозяйственного дела, пригладил волосы и решительно зашагал к ореху. В глазах у него застыло упрямое выражение.
Незадолго перед этим выходившая Юлия Львовна столкнулась с Борисом во дворе.
— Говорят, что вас можно поздравить? — с улыбкой обратилась она к нему. — Задали перцу красным?
Он смотрел на нее совершенно спокойно. Женщина его круга, умница и красавица, явно предпочитала его общество всем остальным. Борис видел, что он ей нравится. То есть, возможно, она чувствовала себя виноватой из-за Новороссийска и обрадовалась, что он жив, потому что считала, что они с Алымовым погибли, но, так или иначе, она явно выделяла его из всех. Борис прислушался к себе. С некоторых пор его не посещали даже мысли о женщинах. Причем он был уверен, что физически остался совершенно нормален, просто ему стало все неинтересно. Это со времени Новороссийска. Проклятый город! Проклятая эвакуация! Черное облако выпустило его из глубины, но забрало себе часть его души. Он никого не хотел любить, а просто пользоваться удобным случаем ему было противно. Не такая это была женщина, чтобы можно было провести с ней некоторое время и выбросить из головы. Она бы никогда этого не позволила.
А возможно, сказал себе Борис, он все усложняет. Может, она выбрала его, чтобы он своим присутствием отвадил таких назойливых поклонников, как Стасский. Кстати, что-то его не видно…
— Юлия Львовна, — тотчас откуда-то выскочил Стасский, как чертик из табакерки, — Юлия Львовна, дорогая, по этому случаю нас посетила свежая мысль! Позвольте нам устроить сегодня торжественный праздничный ужин. И вы будете его украшением!
Она слушала его спокойно, но Борис, наблюдая за ней отстраненно, заметил, как чуть дрогнули губы, стараясь удержать недовольную усмешку, и глаза чуть сощурились. Определенно, дама не любила Стасского, причем это чувство было настолько сильным, что не могло быть вызвано назойливостью бывшего гусарского поручика, его настойчивыми ухаживаниями. Корни этого чувства лежали гораздо глубже. Они встречались раньше… Чем он успел вызвать ее неприязнь?
Борис все смотрел на нее, как на портрет. Все вокруг говорили, что она красива, но только сейчас он заметил, что это так и есть. Но красота ее была особого свойства — очень строгая, какая-то суровая. Такие женщины привыкли повелевать. Черты лица ее были безупречны, никакой самый строгий ценитель не нашел бы в них ни малейшего изъяна. Но от худобы и перенесенных лишений они казались суше и строже.
Услышав от Стасского о задуманном празднике, Юлия Львовна ничем не показала своего отношения, только легкая тень пробежала по ее лицу. Однако она ничего не возразила, сухо кивнула Стасскому, более приветливо Борису и ушла.
Борис проводил глазами ее стройную высокую фигуру и, отвернувшись, встретил злобный взгляд Стасского.
— Послушайте, Ордынцев! — проговорил тот тихо, так чтобы не услышала Юлия Львовна, которая не успела отойти далеко. — Давайте договоримся: вы не будете мне мешать. — И, видя, что Борис насмешливо вскинул брови, рассвирепел: — Я прошу одного: не путайтесь под ногами. Мы с этой дамой… гм… были знакомы еще раньше…
— И поэтому вы полагаете, что у вас есть передо мной преимущество? — холодно осведомился Борис, Стасский начинал его раздражать. — И кстати, с чего вы взяли, что будете иметь у нее успех? Насколько я мог заметить, она не очень-то к вам благоволит. Так что прошлое ваше знакомство ничего не решает.
— Если бы не появились тут вы… — с ненавистью процедил Стасский. — Вы все время рядом с ней так и рыщете!
Это было заведомой ложью, так что Борис рассердился.
— Послушайте, Стасский! — вполголоса заговорил он. — Я не сторож вам и ей не нянька! Не собираюсь оберегать ее от ваших ухаживаний. Хоть я и мало знаком с Юлией Львовной, но убежден: эта женщина сама сумеет за себя постоять. А также отвадить нежелательных поклонников. Так что совершенно вам незачем смотреть на меня зверем. — Борис оглянулся и добавил не без сарказма: — Тем более что в данный момент дама увлечена беседой не со мной, а с Колзаковым.
Действительно, судя по жестам двоих возле ореха, их беседа была достаточно бурной.
— Черт! — вгляделся Стасский. — Этого еще не хватало! Этот смазной сапог, этот пень стоеросовый! Да как он смеет! А знаете что, Ордынцев! — Стасский повернулся к Борису, глаза его азартно блестели. — Давайте заключим с вами пари! Кто быстрее добьется благосклонности очаровательной Юлии Львовны! Ставлю свой портсигар против… против того, что вы научите меня бросать нож!
В свободное время Борис, чтобы разогнать скуку, бросал нож в прикрепленную к стене сарая старую телячью шкуру, которая скоро превратилась в лохмотья. Этому научил Бориса прошлым летом греческий мальчишка-контрабандист, когда они плыли из Батума в Феодосию. Умение это в жизни очень Борису пригодилось. Он достиг в нем большого совершенства, и Стасский очень этим заинтересовался.
— Подите к черту с вашим пари! — Борис рассердился не на шутку.
— Ах так! — Голос Стасского сорвался на фальцет. — Скажите, как мы благородны! Может, устроим по поводу прекрасной дамы дуэль?
Прежде чем он успел продолжить, Борис схватил его за обе кисти и сжал их. Стасский попробовал вырваться, но Борис держал крепко.
— А теперь слушайте очень внимательно, господин поручик. Если я не защищаю капитана Колзакова, когда вы подло нападаете на него с насмешками, это не потому, что я поддерживаю вас. Просто я считаю, что Колзаков — здоровый, крепкий мужчина, офицер, он воевал еще в Германскую, так что способен постоять за себя сам. Иное дело — Юлия Львовна. Но с некоторых пор я взял себе за правило не делать того, о чем меня не просят. Вот если она обратится ко мне с просьбой — тогда я с удовольствием померяюсь с вами силами. Потому что, откровенно говоря, вы мне порядком надоели.
Они так увлеклись разговором, что не заметили подбежавшего Колзакова.
— Господа, господа! — удивленно воскликнул он. — Что это вы делаете?
Борис отпустил кисти Стасского и отступил на шаг. Стасский усмехнулся, поймал взглядом Колзакова и проговорил с плохо скрытым сарказмом:
— Поздравляю, господин Колзаков! Наслышан о вашей сегодняшней победе! Как говорил Наполеон, в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл, так что у вас еще все впереди.
Не дав Колзакову времени на достойный ответ, он злобно оглядел Бориса и ушел скорым шагом проверять посты своих пехотинцев.
— Ох, до чего же он утомил меня! — пожаловался Колзаков.
— Сами виноваты, — не утерпел Борис, — не можете себя правильно поставить. И что он к вам прицепился?
— Они, видишь ли, дворяне, белая кость, а я солдатский сын, до капитана вот дослужился, — вздохнул Колзаков. — Он понять никак не может, почему я не у красных. А я объяснить не умею. Хотя что тут объяснять, ежели присягал я государю-императору? Привык воевать, куда пошлют. Но ведь как пружину ни дави, а ведь когда-нибудь да лопнет!
— Очень может быть, — согласился Борис.
— Я, знаете ли, не силен в разговорах-то, — расстроенно продолжал Колзаков, — вот и сегодня не в добрый час с Юлией Львовной беседу начал.
Борис оглянулся на женскую фигуру возле ореха. Юлия Львовна стояла, повернувшись спиной, и спина эта была пряма, но такой неестественной скованностью веяло от всей фигуры, что Борис изумленно оглянулся на Колзакова:
— Что вы ей сказали, Николай Иванович?
— Ох, язык мой! — простонал Колзаков. — Давеча говорю ей, что лицо ее мне знакомо. «Нет, — отвечает, — ошиблись вы, господин капитан, не знаю я вас». А у меня все в голове, что видел я ее раньше. Сегодня после боя как осенило меня, вспомнил, что видел, но не ее саму, а фотографический ее портрет.
— И где же это было? — полюбопытствовал Борис.
— А было это в Галиции в одна тысяча девятьсот шестнадцатом году. Сидели мы в плену у немцев. Там-то я и познакомился с поручиком Богуславским. И видел у него фотографию его невесты Юлии Львовны Апраксиной. Рассказал я все это Юлии Львовне и очень пожалел.
— Отчего ж пожалели?
— Не умею я с дамами разговаривать, вот и вышло нехорошо. Так что вы уж сейчас ее не тревожьте, авось к вечеру успокоится.
Борис пожал плечами, потому что ему начало все это надоедать, и пошел следом за Стасским, чтобы убедить того хотя бы сегодня взять себя в руки и не портить никому настроение своими бесконечными придирками. Он не смог сразу найти Стасского, наконец через несколько минут увидел его во дворе рядом с лейтенантом Ткачевым. Они разговаривали вполголоса, причем у Бориса и тут сложилось впечатление, что они весьма недовольны друг другом. Стасский подступал к лейтенанту внешне вроде бы мягко, но с оглядкой, а тот отвечал резко, отрывисто, как будто рубил словами воздух. Увидев Ордынцева, оба замолчали и ушли в дом. Борис только вздохнул. Вацлав Стасский обладал просто удивительной способностью ссориться с людьми. С лейтенантом он только сегодня познакомился, и вот, пожалуйста… Оба обменивались не предвещающими ничего хорошего взглядами. Борис мысленно махнул рукой и пошел следом за ними.
Минутой позже туда вошли Колзаков, Сильверсван и Юлия Львовна. Она была спокойна, хоть и бледна, губы плотно сжаты, но глаза горели странным темным огнем. Одета она была все в то же темно-серое суконное платье, что было на ней по приезде, только накинула на плечи белый кисейный шарф, который, надо полагать, одолжила у хозяйки.
Пришла жена Мусы, тихая татарка, закутанная до глаз в кисею, принесла свежего хлеба, лепешек, сушеного винограда.
— Извините, господа, — повернулся к гостям Колзаков, — к сожалению, у нас только два приличных бокала. Самогон можно было пить из кружек, а такое хорошее вино как-то совестно.
— Боже! — с наигранным восхищением в голосе воскликнул Стасский. — Как шагнуло просвещение в нашем народе! Какая тонкость чувств! Глядишь, лет через десять действительно мужик Белинского да Гоголя с базара понесет!
Колзаков, как обычно, не нашел что ответить. Если бы не было с ними дамы, он, возможно, ответил бы грубостью, но сейчас только побагровел и надулся. Гости растерянно переглянулись. Борис Ордынцев повернулся к Стасскому и сказал ему вполголоса:
— Вацлав, найдите себе другой объект для насмешек. Николай Иванович только из боя, он устал и не дал вам никакого повода для упражнений в остроумии.
— О чем вы, Борис? — Стасский сделал круглые глаза. — Я и не думал ни над кем насмехаться, мое восхищение совершенно искренне.
— Господа! — мягким красивым баритоном прервал перепалку Сильверсван. — Не хочу показаться высокопарным, но все же я думаю, что сейчас не время ссориться между собой. У нас сейчас один враг, и враг такой страшный, что мы должны забыть любые разногласия и объединиться перед лицом красной опасности…
— Да-да! — с деланной горячностью повернулся к моряку Стасский. — Все мы должны объединиться перед лицом этой, как вы правильно выразились, опасности — офицеры и интеллигенты, купечество и крестьяне, дворяне и… аптекари… Как вы правы, господин Зильбершван!
— Сильверсван, — холодно поправил моряк.
— Господа, господа! — Лейтенант Ткачев повысил голос и обвел взглядом присутствующих.
Колзаков в это время взял в руки бутылку вина, ловко вывернул ножом плотную грушевидную пробку.
— Господа, я хочу предложить вам тост… дело в том, что в этом году мне не пришлось отпраздновать Рождество. В это время в самом разгаре была эвакуация из Новороссийска… Форменный ад творился! Да, впрочем, что я вам рассказываю, ведь вы, наверное, сами хлебнули этого варева…
— Еще бы! — коротко подтвердил Борис.
Он вспомнил старый дебаркадер, барахтающихся в ледяной воде попарно связанных людей, танцующие по воде рикошеты пуль, поднимающуюся со дна моря темную мглу… Ему не хотелось об этом ни говорить, ни думать, поэтому он ограничился короткой утвердительной репликой.
— Так вот, господа! — продолжил Ткачев, пока Колзаков наливал вино в два бокала. — Я предлагаю вам… это может показаться странным и даже глупым, но я предлагаю сегодня отпраздновать Рождество. Конечно, по календарю выходит вовсе не своевременно, но я никогда прежде не пропускал этого праздника, не говоря уж про мирное время, когда в сочельник собиралась вся семья… — голос лейтенанта задрожал, глаза затуманились, но он собрался с силами и продолжил: — но даже в годы войны мы праздновали этот день… даже в декабре восемнадцатого года в промерзшей станице… И только в этот раз не удалось. Так давайте, господа, плюнем на календарь и отпразднуем Рождество сейчас — у нас есть крыша над головой, мы только что одержали победу, хоть и небольшую, с нами прекрасная дама, — лейтенант поклонился Юлии Львовне, и она в ответ улыбнулась одними губами, — у нас есть хорошее вино…
— Эка вы загнули! — рассмеялся Стасский. — Скоро Пасха, а тут Рождество надумали праздновать!
— А лейтенант прав, — заговорил неожиданно Колзаков, — пусть на дворе апрель, пусть не время для Рождественской звезды, а мы, господа, отпразднуем… Белое Рождество. Я верю, что Крым — это не последний клочок России, который мы обороняем, а плацдарм, с которого начнется наше победное наступление. И следующее Рождество мы отпразднуем в Москве. Так давайте встретим сегодня наше Белое Рождество!
— Славно сказано! — воскликнул Ткачев.
Он подал один из бокалов Юлии Львовне, второй поднял, поднес к губам, отпил из него и шагнул к Стасскому.
— Поручик! — сказал он взволнованным голосом. — Я хочу выпить с вами из одного бокала в знак примирения, в знак того, что все наши разногласия забыты. Все, что было между нами, — ерунда, в сущности.
Стасский засмеялся злым дребезжащим смешком и произнес, склонив голову набок:
— Не люблю пить с кем-нибудь из одного бокала, но с вами, лейтенант, выпью… Потому что вы отпили первым. Учитывая события в Новороссийске, так оно как-то спокойнее. — Он отхлебнул глоток вина, поставил бокал на стол, но придерживал его рукой и сказал: — Забавные вы люди! Пытаетесь склеить то, что сами же и разбили вдребезги…
— Что вы имеете в виду? — осторожно спросил Борис, ожидая от Стасского очередной колкости.
— Все ведь вы… ну почти все, — Стасский бросил взгляд на Колзакова, который стоял, держа наготове бутылку, чтобы налить остальным, — представители замечательной русской интеллигенции. А чем наша бесценная интеллигенция занималась многие уже десятилетия? Поносила власть, ругательски ругала царя и правительство, рукоплескала любым революционерам, тираноборцам, так сказать… Бросит такой доморощенный Брут бомбу, оторвет ноги ни в чем не повинному человеку, который всего-то и пытался исполнять свой долг, — так вы, господа интеллигенты, бомбисту этому рукоплещете, объявляете его борцом за свободу…
Во время этой фальшиво-страстной речи Колзаков продолжал стоять с бутылкой наготове, а Борис и Сильверсван ждали, что Стасский допьет вино и отдаст бокал, но тот и не думал этого делать. Он замолчал на минуту, на лице его появилось несвойственное ему растерянное выражение, он словно с удивлением прислушивался к самому себе, но затем стряхнул оцепенение и продолжил с прежним желчным возбуждением, расхаживая по комнате и размахивая рукой, в которой не было бокала:
— Жизнь вам, что ли, казалась пресной? Душно было, хотелось бури, грозы? Вот и накликали на свою голову революцию… Пиеску я одну смотрел в восемнадцатом году, не помню уже, кто автор. Очень там хорошо про господ либералов сказано: «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои мехом подбитые шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы. Но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены».
Борис, да и остальные поняли, что Стасский нарочно занимает время разговорами и бесцельным хождением по комнате, чтобы их позлить, и что праздничного вечера не получится. Юлия Львовна пила вино маленькими глотками, глядя на Стасского, и на лице ее Борис не заметил даже привычного чуть брезгливого выражения, с которым она смотрела на бывшего гусара раньше. Она была спокойна, только в глазах горел смущавший Бориса темный недобрый огонь. Он пожирал владелицу глаз изнутри и не мог вырваться.
Стасский снова внезапно замолчал, прислушиваясь к себе. На лбу у него выступили мелкие бисеринки пота. Он чуть заметно скривился и продолжил:
— Впрочем, господа, это все так, лирика, житейские наблюдения и домашняя философия. Гораздо любопытнее, господа, то, что мы с вами сейчас сидим, разговариваем, пьем хорошее вино, а между тем один из нас…
Поручик не закончил своей фразы. Он резко побледнел, вскочил во весь рост, схватился рукой за горло, будто пытаясь распустить несуществующий туго завязанный галстук — и тут же, сдавленно захрипев, рухнул на пол.
Юлия Львовна ахнула. Все присутствующие повскакали со своих мест. Сильверсван в два огромных шага подошел к Стасскому, опустился на колено, прижал ухо к его груди. Все замерли, и в наступившей тишине стало слышно, как царапается в оконное стекло ветка старого ореха, словно вековое дерево просится в дом, в тепло.
Сильверсван поднял посеревшее лицо и громко сказал:
— Господа, кажется, он мертв!
Юлия Львовна поспешно приблизилась, присела по другую сторону от тела, взяла безвольно обвисшую руку, поискала пульс. Затем достала маленькое зеркальце и поднесла его к мертвенно-бледным губам Стасского. Зеркальце не замутилось.
— Да, господа, — подтвердила она, — поручик Стасский мертв.
— Вы уверены? — почему-то шепотом спросил Борис.
— Да, конечно. За последнее время я видела множество покойников, к тому же обладаю некоторыми медицинскими познаниями. Он умер, и, судя по внезапности наступления смерти и синим губам, это разрыв сердца.
— Не может быть! — растерянно вскрикнул Колзаков. — Он был таким здоровым человеком.
«Удивительно, — подумал Борис, — кажется всегда, кто бы ни умер, найдется человек, который скажет такую фразу».
Впрочем, он тут же устыдился этой мысли.
Глава третья
Борис долго не мог заснуть. Не то чтобы на него сильно повлияла смерть Стасского, нет, за последние годы он видел достаточно смертей, но все случилось так неожиданно…
В комнате было душно, к тому же Колзаков во сне всхрапывал через неравные промежутки времени, и Борис каждый раз вздрагивал. Он вспомнил, как странно Стасский заваливался на бок, перед тем как упасть, какими синими были его губы, и поежился. Отвратительная смерть! И отчего это у здорового молодого мужчины может быть разрыв сердца? С одной стороны, смерть Стасского была внезапна, а с другой — Борис сам не далее как сегодня днем подумал, что Стасский как будто специально нарывается на неприятности и что долго такое состояние продолжаться не может. Вот как все разрешилось… Борис готов был поклясться, что никто из присутствующих сегодня вечером при смерти Стасского не пожалел о нем нисколько. Неприятный был человек. Так что нечего о нем думать, надо спать.
Но сон не шел. Тогда Борис решил выйти прогуляться.
На дворе было тихо и свежо, так что Борис поеживался в незастегнутом френче. Он закурил папиросу и обошел дом, стремясь укрыться от ветра. Окно маленькой комнатки, где расположилась Юлия Львовна, было открыто. Борис видел в темноте только огонек папиросы и понял, что Юлия Львовна тоже не спит. Он остановился было в раздумье, но она уже услышала шаги и окликнула его:
— Не спится?
Голос ее в темноте звучал удивительно и таинственно. Он помедлил долю секунды и шагнул к смутно видимой фигуре в обрамлении оконной рамы, зная, что теперь уже от нее не уйдет.
— Как ни глупо это звучит, но мне захотелось посмотреть на звезды, — усмехнулась Юлия Львовна.
«На самом деле она ждала меня», — подумал Борис и удивился своему спокойствию.
Она как будто прочитала его мысли, потому что выбросила папиросу и сказала сердито:
— Вообще-то звезды здесь совершенно ни при чем!
Борис присел на низкий подоконник. Юлия Львовна положила руку ему на плечо. Они помолчали некоторое время, привыкая к близости друг друга, потом Борис, не чувствуя ни малейшей неловкости, перекинул ноги внутрь и очутился в комнате. Юлия Львовна затворила окно и зажгла стоявшую на столе керосиновую лампу.
— Вы хотите меня о чем-то спросить, Борис Андреич? — Голос ее был абсолютно спокоен.
Он схватил горящую лампу и поднес к ее лицу. В глазах ее не было больше того темного огня, так недобро светившегося во время сегодняшнего вечера. В глазах ее был призыв и еще что-то, чему он затруднился дать название.
— Зачем? — пробормотал он. — Зачем все это здесь, после случившегося…
— Я объясню потом, — шепнула она, — и ты все поймешь.
Руки его задрожали, губы пересохли. Он держал в объятиях стройное легкое тело, тонкие руки ее лежали у него на плечах. Она приникла к его губам, и он забыл про все на свете.
Но черный холод, заползший в его душу в проклятой Новороссийской бухте, не хотел уступать.
«Можно жить и так, — шептал в ухо Борису противный голос. — Никого не любить и спать с женщинами, когда представится случай. Они все одинаковы, какая разница? И эта сегодня, она сама захотела, сама тебя позвала, так почему не воспользоваться случаем? Ты здоров и крепок, плоть требует свое, а что ты не испытываешь к ней никаких чувств, так, может, ей это и не нужно?»
Усилием воли Борис вырвался из обволакивающего плена.
— Я так не могу, — бормотал он.
— Я знаю, — она ничуть не обиделась, — я все понимаю и помогу тебе.
И снова тонкие руки обняли его сильно-сильно, и губы ее шептали что-то неразборчиво. Борис почувствовал, что снова опускается ко дну моря, и ледяная вода сдавила тело, и черное облако поднимается ему навстречу из глубины. Но что-то сильное и теплое поддержало его, потянуло вверх и заставило отступить черное облако. И в этот раз оно не успело заползти Борису в сердце.
— Ты колдунья, — шептал он в забытьи. Не отвечая, она улыбалась в темноте.
Когда Борис очнулся, то с удивлением заметил, что рассветает. Он погладил отрастающие волосы Юлии, которые ложились на щеку и затылок темными завитками.
— Тиф?
— Ну да, полгода назад, сейчас волосы уже отросли. Ты проснулся?
— Я не спал, а грезил, — улыбнулся он.
— Я хотела тебе объяснить…
— Зачем, я все понял…
— Нет, послушай. За эти годы передо мной проходило множество людей, в основном раненых и умирающих. Когда видишь смерть постоянно, перестаешь воспринимать ее со страхом. Даже приходит какое-то равнодушие. Но я научилась видеть смерть заранее, то есть могу определить, умрет человек вскоре или нет.
— Что ты такое говоришь? — Борис приподнялся на локте и заглянул ей в глаза: — Ты не шутишь?
— Не бойся, послушай меня. Речь не идет о тяжелораненых, умирающих, тут всякая медсестра с уверенностью сможет сказать, доживет этот человек до утра или нет. И редко кто ошибается. Я же имею в виду совсем другое. Что-то такое в глазах, в том, как человек ходит, поворачивает голову и говорит. В общем, этого я объяснить не могу, но точно скажу тебе, что вижу некую отметину, которую смерть ставит на свою будущую жертву. Не обязательно это случится на следующий день или через неделю, но…
— Но ведь все люди когда-нибудь умрут! — Бориса пугал этот разговор.
— Не нужно, не нужно ничего бояться, — прошептала Юлия, касаясь волосами его щеки, — ты не умрешь, будешь жить долго и…
— И счастливо? — усмехнулся Борис.
— Про счастье не знаю, но на войне с тобой ничего не случится. Ты умрешь нескоро, своей смертью. Верь мне, я знаю, я чувствую…
— Я верю, — с удивлением протянул Борис. Он прислушался к себе и понял, что черное облако больше не сжимает его сердце. За окном, приветствуя восход солнца, пели птицы. Рядом с ним была прекрасная женщина. Борис понял, что вновь возродился к жизни.
— Ты добрая волшебница? — смеясь спросил он. — Фея из сказки?
— Нет, — она улыбнулась, и лицо ее чудно похорошело, — я — обычная женщина, но я должна была сделать это для тебя.
— Но почему именно для меня? — против воли спросил он.
Тень пробежала по лицу Юлии, улыбка ушла, глаза смотрели строго и отчужденно.
— Больше не нужно вопросов. Прошу тебя: запомни эту ночь.
— Запомню, — согласился Борис, понимая, что продолжения ночи не будет.
На следующее утро по просьбе Колзакова пришли две татарки из деревни и обрядили покойного в чистое. Православного священника не найти было за сто верст вокруг, так что отпевать Стасского было некому. К тому же возникли еще разногласия по поводу предположения Сильверсвана, что Стасский, поскольку имел польскую фамилию, мог быть не православным, а католиком. Никто наверное ничего не знал, Стасский никогда про свое вероисповедание не говорил, и даже креста на нем не было. Колзаков заказал татарам сколотить гроб, и решили, что каждый прочитает над покойником какие помнит молитвы, а пока положили усопшего на стол в самой большой комнате хозяйского дома. Борис, выйдя за каким-то делом из дома, увидел в дальнем конце деревни подъезжающую арбу. Татарин-возчик остановился и заговорил с кем-то из местных, а с арбы соскочили и пошли пешком два человека. Сначала Борис увидел, что это офицер и солдат, потом ему показались знакомы их фигуры и походка, и наконец он понял, что к нему приближаются Аркадий Петрович Горецкий и его верный Санчо Панса — Саенко.
Борис, удивленный и обрадованный, пошел им навстречу.
— Ваше благородие! — издали крикнул Саенко. — Здоров ли?
— Вот так встреча, Пантелей Григорьевич, — усмехнулся Борис.
Он поздоровался с Горецким и повел вновь прибывших к дому, расспрашивая о причинах приезда. Впрочем, Горецкий в обычной своей загадочной манере ответил ему крайне уклончиво, а Саенко сел на своего любимого конька:
— Ох, и подлый же народ эти татары! Возчик-то содрал три шкуры, а вез так, что все бока отбил. И такое-то подлое место стрелка эта! Воды и то не попить, соль одна да горечь. Как этот татарин пьет — это только одно удивление. Такой воды и лошади в рот не возьмут. А его татарские коники, видно, привыкши — пьют да помалкивают. А ночевали-то как плохо у сторожа соляного…
Войдя в горницу, Горецкий удивленно воззрился на мертвого поручика. Саенко перекрестился.
— Батюшки! Что ж это? Упокойник у вас? Осколком, что ли, его убило?
— Нет, — Борис помрачнел, — как ни странно, поручик Стасский скоропостижно скончался вчера вечером. Должно быть, разрыв сердца.
— Что вы говорите? — удивленно взглянул на Бориса Горецкий. — Мне казалось, что уже несколько лет я сталкиваюсь только с насильственной смертью. Резаные, колотые или огнестрельные раны — вот и все разнообразие, а сердца, кажется, у всех выздоровели.
Аркадий Петрович подошел к столу, на котором лежал покойник, и наклонился над телом. Он внимательно осмотрел лицо Стасского, присвистнул и осторожно расстегнул воротник мундира.
Борис удивленно следил за действиями полковника. Горецкий внимательно оглядел шею трупа, затем обследовал его запястья. Наконец он поднял на Ордынцева крайне озабоченный взгляд и сказал негромко:
— Этот человек не умер естественной смертью. Как большинство людей в наше время, он был убит.
В дверях раздался приглушенный вскрик. Борис обернулся и увидел на пороге Юлию Львовну.
— Как — убит? — испуганно проговорила она. — Почему вы знаете? Кто вы?
— Полковник Горецкий Аркадий Петрович, — представил Борис своего бывшего шефа. — А это Юлия Львовна Апраксина.
— Весьма рад знакомству, сударыня, — поклонился Горецкий, — хотя обстоятельства не слишком благоприятны… А насчет того, почему я знаю, что этот человек убит, — вот, извольте взглянуть. — Полковник показал на шею трупа, Юлия Львовна, несколько побледнев, тем не менее приблизилась и взглянула — работа сестры милосердия лишила ее брезгливости и страха перед внешними проявлениями смерти. — Вы видите, — Горецкий показывал золотым карандашиком, как будто иллюстрировал лекцию студентам-медикам, — кожа имеет характерный серовато-голубой оттенок, но особенно важны эти мелкие красные точки на шее и на запястьях. Это точечные кровоизлияния. Кроме того, клиническая картина дополнена мелкими кровоизлияниями в глазу, — Горецкий приподнял веко, — и меньшей, чем обычно, выраженностью трупного окоченения. Судьбе было угодно распорядиться так, что мне приходилось уже видеть аналогичные трупы. Видите ли, в мирной жизни я был юристом — Борис Андреевич подтвердит вам, я читал ему в университете курс уголовного права, — но я и практиковал, был товарищем прокурора. Среди прочих дел в девятьсот двенадцатом году мне пришлось участвовать в процессе по обвинению молодого золотопромышленника Зотова в убийстве отца и жены. Отца он убил из-за наследства, а жену, как это принято в определенных кругах, из-за кафешантанной певички. Так вот, оба трупа имели те особенности, на которые я только что обратил ваше внимание. Как выяснилось, Зотов, сибиряк по происхождению и по месту его основных промышленных интересов, много общался с дикими народами Сибири и у тунгусского шамана позаимствовал священный яд, малыми дозами которого шаман вводил себя в исступление при своих камланиях. Несколько большая доза того же вещества, родственного яду кураре, которым смазывают свои стрелы американские индейцы, отправила родственников Зотова на тот свет.
— Вы уверены, что в нашем случае применен тот же яд? — спросил Борис.
— Вы уверены, что это яд, а не естественная смерть? — почти одновременно спросила Юлия Львовна.
— Конечно, у меня нет настоящей лаборатории, нет возможности произвести точный анализ, — Горецкий выпрямился, поправил пенсне, еще усилив свое сходство с университетским профессором, — но признаки, на которые я обратил ваше внимание, весьма характерны. Во всяком случае, они не наблюдаются у умерших от сердечного приступа. Но для того чтобы еще больше увериться в моем диагнозе, я произведу небольшой эксперимент доступными мне средствами. — Аркадий Петрович повернулся к своему верному ординарцу, молча наблюдавшему за уверенными действиями патрона, и попросил: — Саенко, голубчик, не в службу, а в дружбу, принеси мой саквояж.
— Видано ли дело! — буркнул себе под нос Саенко. — С дороги не умывшись, не поевши, опыты над покойником устраивать…
Однако вышел и вскоре вернулся с вещами полковника, которые наконец привез медлительный татарин. Открыв саквояж, Горецкий вынул оттуда мензурку, пузырек со спиртом и несколько пакетиков с порошками. Поставив мензурку на край стола, он влил в нее немного спирта и подсыпал содержимое трех пакетиков. Подняв глаза на Бориса и Юлию Львовну, которые наблюдали за ним как зачарованные, Аркадий Петрович сказал:
— Я не буду утомлять вас химическими подробностями своего эксперимента, скажу только, что полученный мной состав не изменит своего цвета, вступив в реакцию с обычной трупной тканью. Однако в том случае, если трупная ткань содержит алкалоиды, близкие стрихнину, к каким относятся яд кураре и священный яд тунгусских шаманов, мой состав изменит цвет на красновато-бурый.
С этими словами Горецкий слегка отогнул металлическим шпателем губу трупа и капнул на ее слизистую поверхность бесцветную жидкость из мензурки. Двое зрителей затаили дыхание. Капля жидкости на губе мертвеца запузырилась, будто вскипела, и отчетливо окрасилась в красно-бурый цвет.
— Что и требовалось доказать, — профессорским тоном произнес Аркадий Петрович, выпрямляясь и поправляя пенсне.
Юлия Львовна перевела дыхание и вполголоса проговорила, обращаясь к полковнику:
— Вы утверждаете, что покойного Стасского отравили этим самым ядом?
— Я уверен почти на сто процентов.
— И яд, насколько я знаю, действует на организм человека очень быстро? — настойчиво спрашивала она.
— Да, от пяти до пятнадцати минут, это зависит от индивидуальных особенностей организма.
— Очень интересно, — встрепенулся Борис, — вчера вечером мы все находились вместе примерно полчаса до смерти Стасского, и все видели, что он ел и пил, вернее, кажется, он только пил вино…
— Но ведь это значит… это значит, что его убил один из тех, кто находился вчера в этой комнате… один из нас! — воскликнула Юлия Львовна.
В глазах ее Борис заметил не испуг, а сильное удивление.
В дверях появились капитан Сильверсван и лейтенант Ткачев.
— Что с вами, Юлия Львовна? — спросил капитан. — Вы словно привидение увидели! Впрочем, это неудивительно, когда в доме покойник.
— В доме не просто покойник, — сдавленным, но, в общем, спокойным голосом произнесла Юлия Львовна, — полковник Горецкий утверждает, что Стасский убит… отравлен, и, следовательно, один из нас — убийца.
Увидев стоящего возле стола Горецкого, моряки представились ему. Полковник сообщил им о своих наблюдениях и о результате химического эксперимента.
— Скажите, господин полковник, — с ноткой сарказма в голосе поинтересовался Ткачев, — а вы всегда возите с собой портативную химическую лабораторию, или, направляясь к нам, вы ожидали найти здесь удобный повод для проявления своих специфических талантов?
Нисколько не смутившись, Горецкий ответил:
— У каждого человека могут быть свои собственные интересы, то, что его занимает. Англичане называют это «хобби». Я, например, знаю одного боевого генерала, очень смелого и достойного человека, который постоянно возит с собой альбом редких марок и разглядывает их в свободное время. А сам я, видите ли, увлекаюсь криминалистикой…
— Любите, значит, в свободное время расследовать преступления? — с прежним сарказмом вставил Ткачев. — Долгими зимними вечерами…
— Лейтенант, что вы, право, — прервал его Борис, — смею вас уверить, это большая удача — то, что господин полковник оказался здесь. Аркадий Петрович поможет нам разобраться в этом ужасном происшествии, иначе мы будем подозревать друг друга и вздрагивать от каждого шороха…
— Да, господин полковник, — вступил в разговор Сильверсван, — если бы убийство произошло на корабле, обязанность произвести расследование легла бы по закону на меня, как на капитана, но сейчас мы на суше, и вы — старший по званию. Кроме того, вы юрист, так что вам и карты в руки. Но… — капитан Сильверсван оглядел присутствующих, — мы все, конечно, очень доверяем познаниям полковника Горецкого. И все же как-то не верится, что вчера в этом доме произошло убийство, да еще таким изощренным способом. Отравить офицера ядом! Это когда все вокруг буквально обвешаны оружием! Ну, допустим, все же вы правы. Но не разумней было бы похоронить поручика Стасского как можно скорее, потому что день обещает быть жарким, прошу прощения, сударыня, за неприятные подробности. — Сильверсван повернулся к Юлии Львовне, но она устало махнула рукой — не извиняйтесь, мол, капитан, я в лазаретах и не такое видела. — Похоронить поручика и начать заниматься своими непосредственными делами, — продолжал Сильверсван, — которых у всех нас отыщется множество, как, впрочем, и у полковника.
— Господин капитан, — медленно проговорил Борис, — вы что же, против расследования, вам есть что скрывать?
Сильверсван поморщился чуть заметно и ответил:
— Мое личное мнение не будет играть особой роли, если каждый из нас выскажется, хочет он этого расследования или нет. Если все согласятся, я присоединюсь к большинству. Так каково ваше мнение, господа?
Ответом ему было тягостное молчание.
— Не хочу показаться неблагодарным, — начал Ткачев, — но, как совершенно справедливо заметил капитан Сильверсван, у каждого из нас есть свои собственные дела. Однако мне почему-то кажется, что расследование не займет слишком много времени. Полковник распорядится быстро. Покойный Стасский умел наживать себе врагов.
— Именно поэтому будет трудно разобраться, кто же виноват, — вставил Борис. — Я, господа, доверяю полковнику Горецкому, я знаю его давно и считаю, что на свежий взгляд легче разобраться в происшедшем. А дел у нас особенно никаких и нет. Мы с Колзаковым свободны до пяти часов, пока красные не начнут обычного артиллерийского обстрела, а ваша канонерка окончательно повреждена после вчерашнего, так что вам бы нужно уезжать отсюда по суше, но на день можете задержаться. Юлия Львовна, вы поддерживаете мою просьбу о расследовании?
— Ну разумеется, — рассеянно ответила она, ни на кого не глядя и думая о чем-то своем.
Борис даже обиделся немного, потому что после прошлой ночи Юлия не проявляла никак своего отношения к нему, держалась подчеркнуто равнодушно. Разумеется, он не требует, чтобы она при всех бросалась к нему на шею, но хоть теплый взгляд бросить украдкой она может?
— Стало быть, все уладилось, — оживился Ткачев, — просим, полковник, задавайте свои вопросы.
— Хорошо. — Горецкий обвел взглядом окружающих и снял пенсне. Лицо его при этом сделалось суровым и решительным. — Как я понимаю, сейчас здесь присутствуют все участники вчерашней неудавшейся вечеринки за исключением капитана Колзакова.
— А это как раз очень странно, потому что именно Колзаков вызывает наибольшие подозрения! — воскликнул Ткачев. — Вы, господин полковник, поймите меня правильно, у меня лично Николай Иванович не вызывает никаких отрицательных эмоций, но факты… факты говорят сами за себя.
— Вот как? — Горецкий поднял брови. — Изложите же факты, лейтенант.
— Не могу сказать, что делаю это с удовольствием, но пусть присутствующие меня поправят, если я ошибаюсь. Колзаков с покойным поручиком находились в постоянной вражде. Это заметили мы все, как только здесь появились. Поручик Ордынцев находится здесь дольше нас, он подтвердит.
Борис кивнул без особого желания.
— Далее, вчера вечером праздничный ужин, если можно так выразиться, не успел как следует начаться. То есть мы еще ничего не успели съесть, а только пили вино.
— Не все, — вставили хором Борис и капитан Сильверсван.
— Стало быть, яд был в вине, а Колзаков открывал бутылку.
— Но если бы он наливал вино из отравленной бутылки, то пострадали бы в первую очередь мы с вами! — живо прервала Ткачева Юлия Львовна. — Мне он налил первой, а потом вам. Но мы с вами живы, стало быть, в бутылке вино не было отравлено.
— А вот вы, господин лейтенант, пили с ним из одного бокала.
— Вот именно, но я жив.
— А он мертв, — угрожающе проговорил Борис, — после того как вы передали ему остаток вина.
— Что вы этим хотите сказать? — Ткачев вскочил на ноги, уронив табурет. — Я выпил то, что налил мне Колзаков, выпил быстро в отличие от Стасского и передал бокал ему. Я действительно хотел с ним, да и со всеми встретить мирно это так называемое Белое Рождество. — Он криво усмехнулся.
— А мы вообще не пили вина и не прикасались к бокалу! — воскликнул Сильверсван. — Мы смотрели и слушали ерничанье Стасского и ждали, пока он отдаст нам пустой бокал…
— Мда-а, тогда я попрошу, господа, чтобы каждый из вас по очереди уделил мне некоторое время, — сухо произнес полковник Горецкий. — Вы расскажете мне обо всех событиях вчерашнего дня. Могут быть важны любые детали, самые незначительные, поэтому я и хочу беседовать с каждым из вас отдельно, чтобы сложить затем полную картину происшедшего из отдельных фрагментов. Кстати, где же капитан Колзаков?
Именно в этот момент дверь распахнулась, и Колзаков возник на пороге.
— Легок на помине! — воскликнул Ткачев.
Реплику его никто не поддержал: по лицу Колзакова все поняли, что произошло еще что-то.
— В чем дело, господин капитан? — спросил Горецкий, прервав затянувшуюся паузу.
— Кто-то убил Мусу, нашего хозяина, — ответил Колзаков.
— Боже мой! — Юлия Львовна прижала пальцы к вискам. — Полковник прав, среди нас убийца!
— Где убитый? — деловито спросил Аркадий Петрович Колзакова.
— Возле забора, почти перед самой калиткой.
Горецкий быстрым шагом направился на улицу, все остальные устремились следом.
Выйдя за калитку, Колзаков свернул вправо и подошел к росшим почти возле самого забора густым пыльным кустам жимолости.
Из травы выглядывал мягкий татарский сапог. Горецкий наклонился. Муса лежал в траве ничком, беспомощно подставив небу бритый затылок в мягких складках. Горецкий прикоснулся пальцами к его шее, затем осторожно перевернул на спину. Трава под телом была темная от крови, ватный кафтан Мусы на груди пропитан красным. Оглядев рану, Горецкий вернул тело в прежнее положение, выпрямился и повернулся к своим спутникам:
— Господа, я прошу вас не приближаться к трупу. Убийца мог оставить здесь следы.
Затем он внимательно оглядел кусты, развел ветки руками, наклонился. Разглядев что-то на земле, он достал из кармана небольшой конверт и пинцет, поднял с земли несколько окурков и спрятал их в конверт.
Затем он отошел от места преступления к калитке, осмотрелся и обратился к Колзакову:
— Николай Иванович, скажите, как вы нашли тело? Ведь отсюда, от калитки, его не видно.
— Я уронил кольцо, — ответил Колзаков, — оно откатилось в сторону, я наклонился и… и увидел…
— Кольцо? Какое кольцо? Позвольте полюбопытствовать!
Колзаков протянул полковнику правую руку, на среднем пальце было простое золотое кольцо. Горецкий осторожно взял его двумя пальцами, кольцо очень легко соскользнуло.
— Это память, — смущенно пояснил Колзаков, — мне подарила его одна женщина… Кольцо немного великовато и часто соскальзывает, но я ношу его постоянно…
Борис совершенно машинально представил себе, что сказал бы покойный Стасский в ответ на замечание Колзакова о том, что кольцо подарила ему женщина. Каких злых насмешек наслушался бы несчастный капитан!
Горецкий осторожно надел кольцо обратно на палец Колзакова, при этом немного задержал руку капитана. Затем он обвел взглядом своих спутников и сказал:
— Что ж, господа, думаю, что теперь даже самые скептические из вас уверились, что дело серьезное. Если в случае с поручиком Стасским вы могли позволить себе сомнения, то уж теперь-то никто не сможет отрицать, что ваш хозяин Муса умер насильственной смертью. Такие совпадения настораживают.
Все подавленно молчали.
На пороге дома появилась в это время закутанная до глаз женская фигура. Колзаков шагнул к ней и проговорил срывающимся голосом:
— Фатима-ханум, я должен сообщить вам горестную весть: кто-то зарезал Мусу, вашего мужа.
Несчастная женщина, оттолкнув капитана, бросилась к распростертому на земле телу. Она обняла мертвого мужа и разразилась рыданиями, сквозь которые прорывались татарские и русские слова:
— Ай… Не ходила воевать… Красная, зеленая, белая… В лес не ходила… Ай… все равно убила…
Горецкий осторожно, стараясь не производить никакого шума, пошел к дому, и остальные последовали за ним. Полковник разместился в комнате Бориса. В доме творился форменный кавардак: слышались крики и плач женщин, пришли из деревни старики и уселись во дворе, переговариваясь по-своему. Колзаков, расстроенный, с опущенными плечами, расставил солдат у калитки, чтобы отгоняли любопытных и пропускали во двор только родственников. Еще одного солдата он поставил на то место, где нашел Мусу. К тому времени тело уже унесли в дом. В комнате, где ночевал Борис, было относительно тихо. Саенко, понимая, что хозяйке теперь не до них, притащил с кухни большой медный чайник и сухие лепешки. Сахар был у него привезен с собой.
После скудного завтрака под непрерывное ворчание Саенко полковник посмотрел на Бориса с ожиданием:
— Вижу, что теряетесь в догадках, Борис Андреич, зачем я сюда приехал, но об этом после. А сейчас поговорим об убийствах.
— Меня больше поразило убийство Мусы, чем Стасского, — честно признался Борис. — Поручик, как вы уже неоднократно слышали, был неприятным человеком, а кому помешал безобидный татарин? Или он видел убийцу?
— Боюсь, что разочарую вас, но скажу, что, по моему мнению, эти два убийства никак не связаны. Даже больше: возьму на себя смелость утверждать, что среди тех, кто был вчера на вечеринке, нет убийцы Мусы.
— Вы хотите сказать, что никто из нас не мог этого сделать?
— Теоретически мог, но вот если руководствоваться логикой…
— Это радует, — негромко произнес Борис, — но не поясните ли вы свои слова? Сначала вы постарались убедить всех, что среди нас убийца поручика Стасского, чью смерть мы считали естественной, теперь же, когда несчастный Муса, безусловно, убит, снимаете с нас подозрения…
— Дело в том, Борис Андреевич, что Муса убит несколько минут назад, его кровь еще не успела свернуться. Все, кроме капитана Колзакова, находились в это время в комнате, на глазах друг у друга, то есть имеют, выражаясь юридическим языком, алиби. Господин же Колзаков не курит.
Аркадий Петрович замолчал, как будто сказал достаточно и дальнейших объяснений не требуется. Борис, однако, недоуменно на него посмотрел и спросил:
— И что с того, что капитан Колзаков не курит?
— В том, что он не курит, я убедился, взглянув на его руки, на них нет характерных для курильщика желтоватых отметин. А если он не курит, то он и не убивал… — Горецкий выдержал эффектную паузу и продолжил: — В кустах, возле места смерти нашего несчастного хозяина, я нашел следы длительного пребывания неизвестного человека. Он прятался в зарослях, по-видимому, наблюдая за домом, и курил. Окурки я подобрал, вы это видели. Окурки достаточно свежие, человек выкурил последнюю папиросу десять минут назад. Я думаю, что события развивались следующим образом: некто неизвестный скрывался в этих кустах. Муса случайно заметил его, подошел и был убит как нежелательный свидетель.
— Благодарю за ваши разъяснения, — произнес Борис несколько обиженным тоном, — так, стало быть, появляется в деле неизвестный? Не слишком ли много накладок — два убийства, два убийцы? Откуда взялось такое количество злодеев?
— Я думаю, это случайное совпадение, хоть и не верю в случайности, — признался Горецкий. — Но расскажу вам еще про одно совпадение, из-за чего, собственно, мы с Саенко оказались здесь, в этой Богом забытой местности. Дня через два после вашего отъезда я разговаривал со своим человеком, который находится у партизан. Он сообщил мне, что небезызвестный товарищ Макар находится в их отряде. Как вы помните, меня очень интересовал этот человек, и я просил своего агента особенно за ним присматривать. И вот третьего дня агент, придя на встречу, сообщил мне, что товарищ Макар по поручению командира повстанческого полка уехал в сопровождении двух татар, и совершенно случайно моему человеку удалось подслушать, куда именно. Они направились сюда, в эту деревню Ак-Тыкыр. Очевидно, для того, чтобы перейти через промоину к красным.
— Так усилим посты, чтобы они не прошли! — вскочил Борис. — Колзакову надо сказать, он теперь вместо Стасского…
— Это само собой… Но мне кажется, что убийство Мусы — их рук дело. Что-то они тут вынюхивали возле дома, какой-то у Макара есть дополнительный интерес. И мне хочется узнать, в чем он заключается. А насчет убийства Стасского, это совсем другой случай. Тут уж, простите, всех нужно подозревать, и вас тоже, Борис Андреич…
— Не извиняйтесь, я ваши принципы знаю, — угрюмо проговорил Борис. — Никому на слово не верите. Только с чего вы взяли, что каждый мог его отравить? Мы с капитаном Сильверсваном вообще вина не пили.
— Вот расскажите-ка мне подробно про вчерашний вечер, а там уж будем разбираться, кто виноват.
Аркадий Петрович положил перед собой несколько листов бумаги, на которых сделал предварительные записи, и начал беседу:
— Все вошли в комнату одновременно?
— Да, вроде бы, — неуверенно проговорил Борис. — Вино уже было там, а еду принесла Фатима чуть позже. Все вдруг заговорили торжественно, предлагали тост. Колзаков открыл бутылку и налил даме первой. Затем налил во второй бокал, который взял Ткачев.
— Почему именно он?
— Так получилось, он оказался ближе всех и взял бокал, потому что говорил тост, что-то про Рождество. А потом он подошел к Стасскому и сказал, что хочет с ним выпить из одного бокала, чтобы помириться, раз уж мы встречаем Рождество.
— Вы точно видели, что Ткачев пил из бокала?
— Это все видели, — ответил Борис. — Стасский на порыв Ткачева что-то ответил, засмеялся этак противно, но бокал взял и отпил глоток.
— Вы ясно видели его лицо, оно никак не изменилось? — настойчиво спросил Горецкий. — Не было на нем удивления, не морщился он?
— Знаете, — проговорил Борис, — у него на лице редко бывало приятное выражение. Так что в тот раз совершенно было непонятно, то ли ему вино не понравилось, то ли просто собирается очередную гадость сказать и настроение всем испортить. Мы, кстати, второе подумали.
— Так, а с чего это Ткачев мириться со Стасским задумал, они разве ссорились?
— Да, я как раз видел буквально перед вечеринкой, как они во дворе резко разговаривали. О чем — не слышал, но видно было, что разговор серьезный…
— А вы за Ткачевым внимательно наблюдали, не мог он в бокал что-то положить?
— Нет, — твердо ответил Борис, — он весь на виду был, тост произносил, все его слушали. Сказал, отпил половину и отдал Стасскому, а сам вообще отошел в сторону и в угол сел. А Стасский начал турусы на колесах разводить. Нарочно много говорил, чтобы мы злились и ждали. Из-за стола вставал, руками размахивал. Колзаков стоит с бутылкой наготове, а он мимо него ходит…
— Скажите, Борис Андреевич, вот вы слушали Стасского, смотрели на него, можете вы утверждать с уверенностью, что ни на секунду не отвели взгляда от его бокала с вином?
— Не могу, — честно ответил Борис. — Комната большая, мы все сидели в разных местах…
Борис вспомнил, что в течение вечера он все поглядывал на Юлию.
— Небось на даму больше смотрели, — вздохнул Горецкий.
— На нее мне было смотреть гораздо приятнее! — запальчиво ответил Борис.
Глава четвертая
Вторым полковник пригласил капитана Сильверсвана.
— Орест Николаевич, вы с лейтенантом Ткачевым появились здесь недавно. Каково ваше впечатление, какие отношения сложились у здешних офицеров между собой?
— Господин полковник, покойный поручик Стасский отличался отвратительным характером… Конечно, о мертвых или хорошо или ничего… но в нашем случае, поскольку все обстоятельства дела крайне важны, мы не можем руководствоваться этой поговоркой.
— Конечно, — поощрительно кивнул Горецкий, — продолжайте.
— Я заметил, что поручик преследовал капитана Колзакова, непрерывно задевал его, намекая на низкое происхождение. Капитан не отвечал ему, но мне показалось, что он едва сдерживается, что терпение его уже на пределе.
— Вот как? А скажите, Орест Николаевич, что делал Колзаков во время самой вечеринки?
— Если можно так ее назвать… Колзаков открыл бутылку вина и наполнил два бокала. Один из бокалов он дал Юлии Львовне, второй взял со стола лейтенант Ткачев.
Горецкий сделал на своих листах какие-то пометки и кивнул Сильверсвану:
— Продолжайте, прошу вас. Что было дальше? Выпила ли вино Юлия Львовна?
— Кажется, да, хотя я не вполне уверен, а вот Ткачев точно выпил половину бокала, а вторую половину предложил Стасскому.
— Это не показалось вам необычным?
— Да, пожалуй. Но Ткачев сказал, кажется, что-то вроде: «Я хочу с вами помириться и выпить из одного бокала…»
— Значит, у них тоже была ссора?
— Я не удивлюсь, если была: поручик, по-моему, перессорился со всеми. Но сам я их ссоры не видел.
— И что же, Стасский согласился выпить с лейтенантом?
— Да, согласился, хотя что-то при этом сказал…
— Вы не помните, что именно?
— Нет, не помню, какую-то колкость, как обычно.
— Хорошо, уточним это позже. Скажите, вы действительно уверены, что Ткачев пил из этого бокала? Не могло случиться так, что он только сделал вид, что пьет?
— Нет, ни в коем случае. Я стоял рядом с ним, ближе, чем сейчас к вам, и хорошо видел, как он пил… быстро, в один глоток он выпил половину бокала и передал его поручику.
«Пока все сходится, — думал полковник, — два человека совершенно одинаково описывают вчерашние события».
— И что же поручик? Он допил оставшееся вино?
— Да, но он пил его очень медленно, понемногу, маленькими глотками, и при этом говорил, говорил…
— О чем же?
— Он обвинял русскую интеллигенцию в том, что она, потворствуя революционерам, сама накликала на свою голову большевиков… Но мне показалось, что эта речь была рассчитана только на то, чтобы, как обычно, испортить всем настроение. Кроме того, что он фактически обвинил всех присутствующих в потворстве большевизму — и уверяю вас, совершенно безосновательно, — он не отдавал бокал и явно получал удовольствие от того, что пьет хорошее вино, не давая остальным такой возможности…
Несколько раз на протяжении своей речи поручик останавливался; видимо, яд начал действовать, и он почувствовал дурноту. Однако он допил вино до конца и только после этого упал…
Сильверсван вспомнил это тягостное мгновение, и его лицо чуть заметно скривилось.
— А что случилось с его бокалом?
Капитан задумался, наконец после значительной паузы он неуверенно сказал:
— Кажется, падая, он выронил бокал… знаете, тут началась такая суматоха, что я не обратил на это внимание.
— Хорошо, Орест Николаевич, я благодарю вас за помощь. Но мы говорили только о Стасском. Вы не заметили, как вели себя остальные?
— Лейтенант Ткачев во время речи Стасского сидел в дальнем углу, Юлия Львовна в этот вечер вообще мало говорила, она никак не реагировала, даже когда Стасский в процессе своей речи подходил к ней близко. А поручик Ордынцев все поглядывал на нее, — улыбнулся Сильверсван.
— Молодость… — понимающе кивнул полковник Горецкий.
Вездесущий Саенко уже успел разузнать, что Борис прошлой ночью в своей комнате отсутствовал. Его любовные похождения полковника Горецкого ничуть не интересовали, но в данном случае расследовалось убийство, так что полковник должен был знать диспозицию.
— И еще последнее, — спросил Горецкий, — вы с лейтенантом Ткачевым давно служите на одной канонерке?
— Да, уже около года.
— И за это время он не покидал надолго корабль?
— Нет, только во время эвакуации из Новороссийска был откомандирован ненадолго в распоряжение коменданта города.
— Благодарю вас, господин капитан, вы можете идти.
— Да, господин полковник, — проговорил вдруг Сильверсван задумчиво, — когда мы пришли сюда, в этот дом… я имею в виду, когда мы впервые здесь появились…
— Да? — переспросил Горецкий, видя, что Сильверсван не решается продолжать.
— Знаете… я не уверен… возможно, мне это только показалось…
— Все-таки расскажите мне, — поощрил моряка Горецкий, — каждая мелочь может оказаться важной.
— Да нет, — Сильверсван, по-видимому, принял решение, — нет, наверное, это мне только показалось.
Полковник еще раз поблагодарил Сильверсвана и отпустил его. Затем он сделал еще несколько записей в своих листах и попросил дежурившего за дверью Саенко пригласить капитана Колзакова.
Капитан вошел и встал чуть ли не по стойке «смирно».
— Присядьте, Николай Иванович. Я хочу, чтобы вы постарались вспомнить, с кем у покойного Стасского были ссоры.
— Так ведь со всеми! — проговорил капитан с обреченностью в голосе. — А со мной так каждую минуту! Покойник, не тем будь помянут, такой был вредный человек — спасу нет!
— Из-за чего вы с ним ссорились?
— Да вообще-то я неправильно сказал… Не мы с ним ссорились, а он меня допекал постоянно. Видите ли, я из простых. Родитель мой покойный солдатом был…
— Я не вижу в этом ничего зазорного, — дружелюбно проговорил Горецкий, — напротив, это говорит о ваших способностях и храбрости. Бывший главнокомандующий генерал Алексеев, основатель Добровольческого движения, тоже был сыном солдата. Этим можно только гордиться.
— Да вот… — Колзаков явно чувствовал себя не в своей тарелке, — а я как-то не умею ответить… он меня все шпынял, все допекал… а теперь могут подумать, будто это я его… за это… Ну не убивал я его! — выкрикнул капитан неожиданно высоким голосом.
— Не волнуйтесь, Николай Иванович, никто вас и не обвиняет… Лучше вспомните, с кем еще у поручика были контры?
Колзаков задумался, наконец неуверенно и неохотно сказал:
— С Борисом Андреичем они вчера схлестнулись, с поручиком Ордынцевым.
— Когда? — уточнил Горецкий с интересом.
— Да почти перед самой этой вечеринкой несчастной. Я через двор шел, а они стоят друг против друга… кажется, вот сейчас подерутся. Борис Андреич даже за руки его схватил, покойника то есть… в смысле поручика Стасского. — Колзаков окончательно сбился и смущенно замолчал.
— Хорошо-хорошо, — ободрил Горецкий капитана, — не волнуйтесь.
— Так ведь получается, будто я на Бориса Андреича наговариваю… чтобы от себя подозрения отвести…
— Не волнуйтесь, я вовсе так не думаю. Просто очень важно восстановить вчерашние события во всех деталях, и ничего нельзя упустить из виду.
Горецкий снял пенсне и помассировал пальцами переносицу. Лицо его отвердело. Он продолжил:
— Скажите, господин капитан, когда здесь появились новые люди — морские офицеры и Юлия Львовна Апраксина, — присутствовали вы в этот момент?
— Да, присутствовал, — коротко подтвердил Колзаков.
— Не было ли при этом… не было ли каких-то слов или взглядов… не было ли впечатления, что кто-то из них уже знаком с покойным Стасским?
Колзаков задумался. Наконец по-прежнему неуверенно он проговорил:
— Тогда-то я как-то не обратил внимания, не думал ни о чем таком, а теперь мне кажется, что Юлия Львовна и Стасский были уже знакомы.
— Вам так показалось по каким-то их взглядам, или они выразились определенно?
— Ну, вы понимаете, Стасский — он такой был… ни одной юбки не пропустит и для знакомства вполне мог сказать: «Мы с вами, кажется, встречались…» Ну, вы понимаете, как у таких господ заведено…
— А что Юлия Львовна ответила?
— Не могу вспомнить… — Колзаков потер лоб, будто это могло освежить его память, — помню, что она ему нелюбезно ответила. Я тогда подумал: отшила барышня наглеца, и правильно, серьезная барышня, себя понимает. А так вроде сейчас припоминаю, что они и правда раньше были знакомы, но она на поручика за что-то очень была сердита. Да, вот еще что, — Колзаков смущенно откашлялся, — видно было, что весь этот разговор вызывает у него неловкость. Поговорите, ваше высокородие, с капитаном Сильверсваном, что-то у них с покойником тоже было… Поручик все как-то его имя переделывал, а капитан, похоже, сердился. Так мне показалось, что не просто так это было.
— Переделывал? Как переделывал? — переспросил Аркадий Петрович.
— Да как-то этак… Зильбер… Зильбершван, что ли… Да вы спросите его самого, Ореста Николаевича.
— Спрошу, обязательно спрошу. — Горецкий поблагодарил Колзакова за помощь и попросил Саенко снова пригласить к нему Бориса Ордынцева.
— Простите, Борис Андреевич, за беспокойство, но я хотел бы выяснить у вас еще один момент. Скажите, голубчик, что это за ссора случилась между вами и покойным Стасским незадолго до роковой вечеринки?
— А-а, вам уже сообщили об этом. Я же говорил, что вы рассматриваете меня как подозреваемого.
— Да перестаньте ребячиться. Лучше расскажите, что между вами произошло.
— Что ж, слушайте, — вздохнул Борис. — Покойный Стасский, между нами, был… как бы выразиться помягче… скажем, циник. Ну и позволил себе совершенно недостойное высказывание по адресу Юлии Львовны.
— Я так и думал, — ввернул Горецкий.
— Точнее, не высказывание. Он предложил мне гнусное пари. Ну, естественно, я вспылил… Но это не значит, что я отравил его!
— Конечно, голубчик, конечно, — постарался успокоить Бориса полковник, — отравление не в вашем стиле. Кроме того, оно совершенно не подходит к этому случаю. За оскорбление дамы можно стреляться, драться, но не отравить… Давайте-ка лучше мы с вами просмотрим мои записи. Может быть, вы вспомните что-нибудь существенное, что мне пока еще неизвестно.
Но ничего особенно существенного полковнику от Бориса добиться не удалось, кроме точного пересказа вчерашней его ссоры со Стасским, из чего Горецкий сделал правильный вывод, что Юлия Львовна со Стасским были знакомы раньше и что знакомство это Юлия Львовна вспоминает с неудовольствием и продолжать не стремится.
Горецкий внимательно посмотрел на Бориса и понял, что больше тот про Юлию Львовну ему ничего не расскажет. Полковника очень заинтересовала эта женщина. Было в ней что-то необычное. Но беседу с ней он решил оставить на закуску, а пока попросил позвать к нему лейтенанта Ткачева.
Лейтенант был спокоен, приветлив, смотрел чуть насмешливо, но, возможно, это просто было свойством характера. Он слово в слово повторил все события, случившиеся на вечеринке, его рассказ ни в чем не противоречил рассказам остальных офицеров. Во время беседы он иногда задумчиво пощипывал бородку.
— Какое у вас впечатление сложилось от поручика Стасского? — задал Горецкий традиционный вопрос. — Вы ведь увидели его здесь, на стрелке, впервые?
— Да, конечно, — согласился Ткачев. — И вот что я вам скажу: совершенно не представляю, за что его могли убить. Это был скверный, испорченный мальчишка, но за это не убивают…
— Однако, — поднял брови полковник, — мальчишке было не так уж мало лет…
— Естественно! Но поведение его я бы охарактеризовал именно так! Он обожал делать людям гадости, а в детстве, очевидно, мучил кошек и отрывал мухам крылышки.
— Даже если предположить, что ваше мнение о нем верно, некоторые люди очень болезненно реагируют на насмешки. К тому же эти, как вы говорите, гадости могли быть не так безобидны.
— Не знаю, — Ткачев пожал плечами, — он издевался над этим затюканным капитаном Колзаковым, но вы ведь еще раньше заявили, что капитан отравить Стасского не мог, иначе отравленное вино пили бы мы с Юлией Львовной.
— Как знать, — протянул Горецкий, — теперь у меня есть предположения, что незаметно всыпать в бокал Стасского яд в принципе мог каждый из присутствовавших на вечеринке.
— Ах вот как, — протянул Ткачев.
— Не поясните ли мне, что за ссора случилась у вас со Стасским накануне вечеринки? — невинно начал Горецкий.
— Ссора? — удивился Ткачев. — Не припоминаю никакой ссоры. Была небольшая размолвка, он, как обычно, пытался приставать с насмешками. Но я ведь не Колзаков, я не стал обижаться и ответил поручику в его же духе. На том мы и разошлись.
— А не связана ли была ваша ссора с этой дамой, Юлией Львовной?
— С чего вы взяли? — спросил Ткачев.
— Ну, вы человек молодой… а тут… единственная дама в такой глуши, да еще красавица.
— Да, оба поручика налетали из-за нее друг на друга, как два петушка! — рассмеялся Ткачев. — Кстати, Стасский был очень на него зол, на Ордынцева. Болтал, что тот мешает ему, стоит на пути к успеху. Я, каюсь, поддразнил его немножко, сказал, что Юлия Львовна явно обходит его стороной, несмотря на якобы близкое их знакомство в прошлом. Стасский страшно разъярился и понес уже и вовсе околесицу — был не то чтобы пьян, но рассержен и возбужден. Единственное, что мне удалось понять, — это то, что знакомство его с Юлией Львовной было недолгим и заключалось оно в том, что он передал ей письмо от жениха с фронта. Это было давно, в шестнадцатом году, и с тех пор он больше Юлию Львовну не видел.
— Мда-а, видно, здорово успел он тогда надоесть даме, если до сих пор она вспоминает об этом знакомстве с неудовольствием.
Про себя полковник Горецкий подумал, что, судя по рассказу Бориса, Юлия Львовна вспоминала о знакомстве со Стасским прямо-таки с ужасом, если лицо ее при виде поручика стало безжизненной маской. Потом он вспомнил, что во время ссоры Бориса и Стасского они наблюдали очень оживленную беседу Юлии Львовны с Колзаковым. Придется опять допрашивать Колзакова. Что же это делается, как расследование коснется дамы, так из них приходится информацию клещами вытаскивать. Тоже еще рыцари!
— Так вот, я с Юлией Львовной здесь почти не общался, а во время плавания ее капитан Сильверсван опекал, с ним она вела длинные беседы, — усмехнулся Ткачев.
Горецкий понял, что разговор с Юлией Львовной обещает быть интересным. Но пока придется опять допрашивать Колзакова, а заодно и Ордынцева пригласить, чтобы он подтвердил все сказанное.
Колзаков, вызванный Саенко, не стал отпираться и живо рассказал, как он долго мучился, вспоминая, где мог видеть Юлию Львовну, как вспомнил и рассказал ей про плен и про то, как погиб ее жених поручик Богуславский.
— Подробнее, пожалуйста, Николай Иванович. — Горецкий закурил трубку и сел поудобнее.
Колзаков оглянулся на Бориса и начал:
— В плен я попал летом шестнадцатого года в Галиции. Сначала из лагеря бежать пытался два раза, потом в тюрьме сидел. А после уже к осени вдруг нас всех собрали, погрузили в теплушки и поехали мы, штрафные, в такое место, называлось оно Гиблое Болото. Место голое, серое, бараки стоят, колючей проволокой огороженные, и дом для охраны. А комендант и другое начальство в деревне жили, в двух верстах оттуда. Потому что климат был в этом месте гнилой, какие-то испарения от болота поднимались, для здоровья вредно. А пленные — ну что ж, австрияки нас за людей не считали.
Колзаков помолчал, глядя впереди себя невидящими глазами, потемневшими от нехороших воспоминаний.
— Кормили отвратительно, воду пить давали сырую… Ох, и переболели мы все! Чем только можно: и лихорадкой, и чирьями, и лишаем каким-то от грязи. Животом мучились все поголовно… Вот только тифом почему-то никто не заразился — видно, не водились в том гиблом месте тифозные вши. Я не слишком подробно рассказываю? — спохватился Колзаков и смущенно улыбнулся.
— Продолжайте, Николай Иванович, очень интересно, — благожелательно проговорил Горецкий.
«Интересно ему, — с неожиданной злобой подумал Борис. — Интересно слушать, как люди в плену заживо гнили. Как ту, царскую, войну не сумели правильно вести, так и эту полностью проиграли. Эх, собрать бы всех генералов-подлецов, да и посадить в такое Гиблое Болото, может, там бы они поумнели!»
— Ну, — продолжал Колзаков, — по-разному там люди проявлялись. Жизнь тяжелая, лишения, опять же общий настрой. Вначале-то ждали, что разобьют проклятых австрияков, наши наступали. А потом, когда наступление провалилось, поняли, что ждать нечего, тут народ стал духом падать. Там, знаете, сразу видно: как перестал офицер мыться-бриться, на нарах целый день лежит, в потолок смотрит, так жди, что либо на товарищей бросится, либо вообще в отхожем месте повесится.
— Бывало и такое? — поднял брови Горецкий.
— За все время три случая было, — вздохнул Колзаков. — Конечно, там собрали всех штрафных, то есть народ-то отчаянный, кто несколько раз из плена бежать пытался. Но характеры-то у людей разные: один — у всех на виду герой, а когда живет в такой гадости, то не выдерживает.
— А вы как же выжили, Николай Иванович? — спросил Горецкий с неподдельным интересом.
— Да как, — смущенно улыбнулся тот, — воды там давали сколько нужно — то есть самому можно было из колодца черпать. Она ржавая была, мутная, но мыться можно. Вот я каждое утро обливался, бельишко почаще стирал. Потом взял тряпочку чистую, в нее ложку-чашку заворачивал, а когда ел, то на стол подстилал, чтобы не на грязное…
Борис прислушался с недоумением: человека спрашивают, как он сумел выжить в том кошмарном аду, где боевые офицеры вешались от безысходности в отхожем месте, а он рассказывает о какой-то тряпочке и стираном бельишке… Горецкий слушал очень серьезно, и в глазах его, прячущихся за пенсне, Борис не смог увидеть ни пренебрежения, ни насмешки.
— Там и познакомился с поручиком Богуславским, — вспоминал Колзаков, — на нарах рядом лежали. Рассказал он мне про невесту, портрет ее показал. Запомнил я ее по фотографии — уж очень женщина красивая. Хороший был человек, смелый — рассказывал, как три раза из плена бегал. Сидел в крепости, в одиночке, потом его к нам, в Гиблое Болото, перевели. В плен попал он по нелепой случайности — не в бою. Он, видите ли, очень хотел с невестой, с Юлией Львовной, повидаться, а она работала сестрой милосердия в лазарете где-то под Киевом. И вот он, Богуславский-то, передал ей письмо с одним поручиком, что будет ждать ее в такие-то числа в местечке одном, вот забыл, как оно называлось. Перед отправкой на фронт хотел с ней повидаться. Ждал-ждал, а она не приехала. Он эшелон свой пропустил, выпросил разрешение догнать потом… В общем, так он ее и не повидал, а когда ехал за своими на поезде, то австрияки прорвались, дорогу подорвали. Они, несколько офицеров, пошли пешком через лес и попали прямо австриякам в плен.
Борис с полковником Горецким переглянулись. Поручик, который взялся передать письмо, — это, несомненно, Стасский. Тогда Юлия Львовна с ним и познакомилась. Но… письмо, судя по всему, он передал, так почему же она не поехала проститься с женихом?
— Несколько недель такая наша, с позволения сказать, жизнь продолжалась, — снова заговорил Колзаков. — А потом подходит как-то ко мне один полковник, — Колзаков оглянулся на Горецкого, — и начал так обиняком разговор о побеге. Сказал, что они — целая группа у них образовалась — долго ко мне присматривались и что меня поручик Богуславский очень рекомендовал. Я согласился, конечно, с ними бежать — иного выхода не было. Они в углу за нарами разобрали пол и рыли потихоньку подкоп, а на день ставили доски на место. Поручик Богуславский смелый был, но молодой, горячий… все торопил полковника. А я стал замечать, что неспокойно как-то вокруг. Мы в секрете держали наши планы — боялись, что кто-то предаст, бывали случаи… Люди, как я говорил, по-разному лишения переносят. В общем, решились мы, и однажды ночью, когда был сильный дождь, все семеро пролезли под стеной барака и потихоньку пробрались через двор. На проволоку бросили шинели и перебрались. А после слышим — шум, топот, тревога. Не то кто-то нас предал, сообщил австриякам, не то сами они спохватились. Мы все врассыпную — и бежать. Уж не знаю, кто еще ушел, а только на рассвете мы с поручиком на берегу реки оказались. И тут-то нас и нагнали солдаты с собаками. Один выход — реку переплыть, чтобы от собак отвязаться. А на дворе ноябрь месяц, вода холодная, да мы еще уставшие и в одежде. Как я доплыл — не могу вспомнить. А Богуславского подстрелили, а может быть, сердце не выдержало в холодной воде или плавал он плохо, но только стреляли австрияки, стреляли, а потом перестали, под воду он ушел. Так и погиб… царствие небесное. — Колзаков перекрестился и надолго замолчал.
— И вы, стало быть, там, под орехом, все это в подробностях Юлии Львовне пересказали?
— Я? — встрепенулся Колзаков. — Что вы! Я — нет… Но все же пришлось кое-что вспомнить… Она хорошо держалась, сказала, что надежды жениха живым найти у нее давно уже не осталось. Ну я и сказал ей твердо, что погиб он, что я сам видел. Да и про то, как в плену жили… кое-что, коротко.
«Вот почему тогда, после разговора, у нее было такое страшное лицо», — понял Борис.
— Идите, голубчик Николай Иванович, спасибо вам за рассказ, — мягко проговорил Горецкий.
«Получив письмо, она не могла не приехать, — стучало у Бориса в мозгу, — и опоздать не могла, она бы прилетела птицей… Но раз она не приехала, значит, получила письмо слишком поздно, когда уже незачем было ехать. Стасский по лени или по вредности характера вполне мог нарочно передать письмо позднее. Несомненно, она сохранила о нем самые плохие воспоминания. А вчера, после рассказа Колзакова, она узнала, что жених ее погиб в плену из-за того, что слишком долго ждал ее и отстал от своих… То есть погиб он, в сущности, из-за Стасского…»
Борис вспомнил, как вчера весь вечер глаза Юлии Львовны горели странным темным огнем, как она молчала весь вечер и только смотрела на Стасского так странно…
«Она вполне могла его отравить! — внезапно понял Борис. — Вполне могла отравить, чтобы отомстить за смерть любимого человека. Господи! И ее порыв потом, ночью, что ни говори, а она вела себя странно… Хотела меня спасти… О любви в ту ночь не сказала ни слова… Но, — тотчас устыдился Борис, — она действительно вернула меня к жизни, а что того подонка нет на свете, так туда ему и дорога. Но все же хладнокровно всыпать яд в стакан человеку и спокойно смотреть, как он умирает… — это просто Шекспир какой-то!»
— Борис Андреевич, — внимательно глядя на него, спросил Горецкий, — вы ничего не хотите мне сказать?
— Нет! — закричал Борис, вставая и опрокидывая стул. — Не ждите от меня никаких рассказов! — И добавил, не в силах сдержаться: — Вам нравится мучить людей? Для этого вы затеяли все это дурацкое расследование, чтобы изучать поведение личности в экстремальных условиях? Я видел, с каким интересом вы расспрашивали Колзакова! Вы просто смаковали подробности!..
— Поручик!!! — гаркнул полковник Горецкий. — Вы забываетесь! Немедленно прекратите истерику!
Пенсне его соскочило с носа и болталось на шнурке. Снова профиль его был чеканен, а взгляд пронзителен.
— Пойдите и приведите себя в порядок, — строго сказал полковник, — водой холодной облейтесь, что ли…
— Слушаюсь! — Борис крутанулся на каблуках и вышел.
Сразу за дверью он столкнулся с Юлией Львовной, сопровождаемой Саенко. Она стояла напротив, выпрямившись, высоко подняв голову, и от этого казалась еще выше ростом. Она заглянула Борису в глаза. Определенно, эта женщина умела читать в человеческих душах, во всяком случае, с Борисом это у нее получалось. Она поняла все, что Борис думает о ней, и вздохнула. Глаза ее чуть сощурились, возле губ выступили две презрительные морщинки. Борис посторонился, и она, молча отведя взгляд, прошла мимо.
— Может, перекусить чего, ваше благородие? — сердобольно предложил Саенко.
Борис молча мотнул головой.
— Все говорят и говорят, — бурчал Саенко, идя следом, — цельный день сплошные разговоры разговаривают. А покойник лежит и, между прочим, всем мешает. Нет бы, как люди, закопать скорей по-христиански с Богом, да и поминки устроить. Так нужно людей морочить, и покойника томить. Чай не вобла, чтобы на жаре вялиться! Вот татаре, так за своего Мусу сразу взялись. Фатима не бегает да не ищет — кто да за что? Потому как у ней первое дело — мужа как положено проводить… Нет, я так скажу, хоть и подлый народ татаре, а про покойников лучше нашего понимают…
Глава пятая
Юлия Львовна села на предложенный полковником Горецким стул и закурила. Он украдкой посматривал на нее из-под пенсне. Красивая женщина, даже сейчас, здесь, в простом сером платье, с коротко остриженными волосами, без всяких этих женских безделушек, видна ее благородная породистая красота. Но также проницательна и умна. Сочетание красоты и ума вообще редко встречается в женщине, а эта еще обладает сильной волей и здравым рассудком. Не боится смерти, раз видела ее столько раз, работая медсестрой. Опять же могла достать где-нибудь яд…
— Скажите, полковник, вам очень хочется, чтобы это сделала я? — прервала затянувшееся молчание Юлия Львовна.
— Что? — От неожиданности Горецкий не нашелся что ответить.
— Вам очень хочется доказать, что поручика Стасского отравила я? — повторила она свой вопрос и продолжила: — Красивая женщина — убийца, месть… в общем, леди Макбет в деревне Ак-Тыкыр.
— Действительно, вы похожи на шекспировских героинь, — согласился полковник, — в этой бедной обстановке вы выглядите как опальная королева.
— Вы, господин Горецкий, — романтик, — протянула она, улыбаясь.
— Вы удивлены? — рассмеялся полковник, но сообразил, что она нарочно уводит разговор в сторону, и собрался с мыслями. — Сударыня, давайте оставим разговор о моих желаниях. Я беседую со всеми, вот дошла очередь и до вас. Вы уж простите, но господин Колзаков рассказал мне о последнем вашем разговоре. Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего жениха.
— Это было давно.
Она отвернулась, помолчала немного и снова подняла глаза на Горецкого.
— Итак, вы выяснили, что у меня был мотив для убийства Стасского. Ведь если бы он передал мне письмо вовремя, возможно, Борис не попал бы в плен и не погиб.
— Борис? — переспросил полковник.
— Ну да, мой жених, поручик Борис Юрьевич Богуславский. Стало быть, по-вашему, я узнала от Колзакова про это и сразу же вечером насыпала в бокал Стасского яду.
— Теоретически это мог сделать любой, и вы в том числе, — поддакнул Горецкий.
— Возможно, — согласилась Юлия Львовна, — но я этого не делала. Не скрою, я ненавидела и презирала Стасского еще со времени нашего с ним знакомства. Он привез мне письмо от жениха и тут же принялся грубо за мной ухаживать… Я не знала тогда, что он нарочно задержался в дороге, чтобы было поздно мне ехать к Борису… И если бы ценой его смерти я могла Бориса спасти, я задушила бы Стасского собственными руками. Но… Бориса давно нет на свете, больше трех лет. Какой вы сказали мотив — месть?
— Возможно, — неуверенно пробормотал Горецкий.
— Полковник, я фаталистка. Я считаю, что смерть и так собрала с нас обильную жатву. Мой долг — помогать жизни, а не отнимать ее. И если человек заслуживает смерти, то рано или поздно она его найдет.
— Ну, если так рассуждать, то все мы когда-нибудь умрем, — возразил Горецкий.
— Вы не так уж скоро. — Юлия Львовна улыбнулась: — Поручик Ордынцев рассказывал вам, что я умею угадывать смерть?
— Нет, — в полном изумлении ответил Горецкий.
— Вот как? Ну ладно. Вы, Аркадий Петрович, живете рассудком, и даже романтизм ваш какой-то книжный. Профессорский академизм слишком сильно в вас развит. Люди интересуют вас, как биолога интересуют какие-нибудь насекомые.
Горецкий нахмурился, вспомнив, что точно такие слова прокричал ему недавно Ордынцев в этой же комнате.
— Хм, сударыня, давайте перейдем ближе к делу. Допустим, я верю вам, что вы не убивали Стасского. Кто в таком случае это сделал? Я не говорю: мог сделать, я спрашиваю: кто сделал? Вы сидели весь вечер и наблюдали за мужчинами, вы ничего не заметили?
— Я заметила, что все присутствующие терпеть не могли Стасского, но это неудивительно, он вел себя так, что у каждого вызывал только ненависть и раздражение.
— У вас и Колзакова понятно почему, Ордынцев поругался с ним из-за вас, а почему Стасского недолюбливали моряки?
— Он все время приставал к капитану Сильверсвану, коверкал его фамилию, называл Зидьбершваном. Не понимаю почему, но это страшно выводило Ореста Николаевича из себя. Он, разумеется, человек воспитанный, морской офицер — выдержанный и галантный, но я замечала, что ему стоит больших трудов удержаться от резкого ответа.
— Какое он вообще произвел на вас впечатление?
— Самое хорошее, — не колеблясь ответила Юлия Львовна. — Он из чистой любезности взял меня на канонерку и во время плавания всячески меня опекал, но делал это ненавязчиво и тактично. Мы много разговаривали, он рассказывал мне о детстве. Он родом из Вильно…
— Как вы сказали? — встрепенулся полковник Горецкий. — Из Вильно?
— Ну да, а что?
— Ах, вот теперь я вспомнил… Вильно, аптекарь Зильбершван… Но это было давно, почти тридцать лет назад… А вы знаете, что покойный Стасский тоже был родом из Вильно? Там много поляков.
— Не знала. — Юлия Львовна рассеянно смотрела в окно и вдруг заметила во дворе Бориса Ордынцева.
Он понуро бродил, обходя попадавшихся на дороге татар, которые собирались на похороны Мусы. Почувствовав ее взгляд, он поднял голову и посмотрел на нее жалко и беспомощно. Она поняла, что он подозревает ее в убийстве Стасского, что волнуется за нее, что хотел бы ей помочь, но не представляет, как это можно сделать. Еще она поняла, что он ничего не рассказывал полковнику Горецкому о прошедшей ночи, а если старый лис сам о чем-нибудь догадался, то пусть и остается со своими догадками, от Бориса и от нее он ничего больше не добьется. То, что произошло прошлой ночью, касается только их двоих, и нечего несносному полковнику совать нос в чужие дела. Борис вздохнул и отвернулся. Светлые волосы, этот поворот головы… Сердце сдавила привычная тоска.
— Господин полковник, вы удовлетворены моим рассказом, — подчеркнуто сухо спросила она, — могу я быть свободной?
— Да, конечно, но вы не рассказали мне, что вы думаете по поводу лейтенанта Ткачева?
— Я мало общалась с ним во время пути. А потом уже здесь видела, что они со Стасским тоже на ножах. Стасский умел и любил говорить людям отвратительные вещи. Так и с Ткачевым: когда он после тоста подошел к Стасскому и просил выпить с ним из одного бокала в знак примирения и того, что все их разногласия забыты, Стасский усмехнулся так неприятно и сказал, что побоялся бы пить с ним из одного бокала, но раз Ткачев уже отпил, то он тоже отважится. Странно, он как будто предчувствовал, что его отравят… — удивленно произнесла Юлия Львовна.
— Вы точно помните, что он так сказал? — заинтересовался Горецкий. — Вы хорошо слышали?
— Ну да, я сидела с бокалом, а Стасский все вертелся возле меня, и когда лейтенант подошел, они оказались рядом. И Стасский ответил на предложение выпить… сейчас я вспомню точно… ах да: «Не люблю пить с кем-нибудь из одного бокала, но с вами, лейтенант, выпью… Потому что вы отпили первым. Учитывая события в Новороссийске, так оно как-то спокойнее».
— Вот как? — Брови полковника Горецкого сегодня так часто поднимались вверх, что изрядно устали. — Благодарю вас, сударыня, у вас отличная память.
Полковник взял ее тонкую руку и почтительно поцеловал. Рука не дрожала и не была холодной — если Юлия Львовна и беспокоилась, то хорошо умела держать себя в руках. Горецкий выпрямился и встретил ее насмешливый взгляд — она прекрасно поняла, зачем он поцеловал ей руку. Усилием воли он сдержался, чтобы не покраснеть. Нелегко иметь дело с такой незаурядной дамой. А может, он стареет?
После беседы с Юлией Львовной в разговоре с Сильверсваном Горецкий не стал ходить вокруг да около.
— Вы, господин капитан, будете слушать, а я буду рассказывать. И поправьте меня, если я ошибусь. В одна тысяча восемьсот восемьдесят девятом году в городе Вильно случилась такая история. Некий аптекарь по фамилии Зильбершван вступил в сожительство с женой одного торговца антиквариатом. Купец был богат и стар, а жена у него была молода и легкомысленна. Она вскружила голову аптекарю с самой очевидной целью — получить от него яд, чтобы отравить старого и постылого мужа. У самой же у нее был на примете молодой красивый офицер, который готов был скрасить существование богатой и нестарой вдовы. Дамочка к тому же была недурна собой. Но как я уже говорил, легкомыслие ее доходило до глупости. Влюбленный аптекарь же, как свойственно людям его профессии, головы до конца не потерял и заподозрил неладное. Он проследил за своей дамой сердца и вычислил ее поклонника-офицера, после чего, движимый праведным негодованием, решил отомстить.
Он уверил жену антиквара, что яд, который она получила, действует быстро и не отставляет следов в организме, сам же подсунул ей обыкновенный мышьяк. Смерть от мышьяка никогда не наступает сразу, несчастный антиквар долго мучился, так что доктора успели сообразить, что дело нечисто. После вскрытия выяснилось, что покойный съел с супом огромное количество мышьяка. Было очень громкое дело, не сходившее со страниц газет целый месяц. Дошло и до столицы. Вдову приехал защищать сам Плевако — кстати, именно от него я и знаю все подробности этой истории, то, чего не было в газетах.
Рыдающая привлекательная вдовушка, которой очень шел траур, сумела разжалобить присяжных, и, представьте себе, ей дали меньший срок, чем аптекарю Зильбершвану! А юный поручик оказался вообще ни при чем, он даже не знал, что мужа собираются отравить!
Горецкий заметил, что капитан сжал кулаки и сверкает глазами.
— Орест Николаевич, правильно ли я изложил эту незабываемую историю?
— Правильно, — глухо ответил капитан. — Эта отвратительная история преследует меня всю жизнь.
— Кем вам приходился аптекарь Зильбершван?
— Двоюродным дядей, черт бы его побрал! — воскликнул капитан. — Не такое уж близкое родство… Просто уже давно наша ветвь пишется как Сильверсваны. А Стасский был тоже из Вильно, он, разумеется, всю историю знал. Так и ждал я, что он начнет взахлеб рассказывать, да еще при Юлии Львовне!
— И решили Стасского устранить? — невинно задал вопрос Горецкий.
— Ах, оставьте! — Капитан закричал, как кричал он, должно быть, в шторм на своей канонерке. — Я его терпеть не мог, это верно, но не боялся. Ну рассказал бы он, посмеялся бы надо мной еще раз, а что еще он мне сделать мог? Да стал бы я из-за такого мелкого мерзавца грех на душу брать! А что вам сразу не рассказал, то виноват, струсил. Думаю — аптекарь, яд — сразу меня и заподозрят.
— Ну что ж, Орест Николаевич, я все понял, спасибо вам за разъяснение, — вздохнул Горецкий, — вы свободны.
Похороны устроили под вечер. Два солдата вырыли могилу неподалеку от татарского кладбища, положили тело в самодельный дощатый гроб и забили крышку. Капитан Сильверсван прочел молитву и сказал несколько слов о том, что все мы смертны и что нельзя об этом забывать. Помолчали немного, всем было неловко.
— Давайте, ребятушки! — махнул Колзаков солдатам с лопатами.
Земля гулко стучала о крышку гроба. После солдаты поставили грубо сколоченный крест и ушли. Полковник Горецкий в похоронах участия не принимал, Саенко тоже куда-то запропастился. Юлия Львовна держалась в сторонке и старалась не встречаться с Борисом глазами.
Горецкий провел это время, сидя в полутемной комнате, куря и размышляя. Наконец он решился, собрал в стопочку листки с записями и вышел в большую комнату, как раз когда унылая компания вернулась с похорон.
— Господа! — обратился Аркадий Петрович к вошедшим. — Я знаю, что эта история вам порядком надоела. Мне тоже есть чем заняться. Но я прошу вас посвятить расследованию еще один вечер. Дело в том, что я нахожусь в тупике. Я долго беседовал со всеми вами, выслушал всех и пришел к выводу, что отравить Стасского в принципе мог каждый из вас. Мотив, во всяком случае, был у каждого, Стасский всем был неприятен. Теоретически у каждого была возможность всыпать яд в вино Стасскому, потому что он с бокалом в руке кружил по комнате, даже ставил его на стол и находился иногда вне поля зрения. Итак, я призываю вас мобилизоваться и помочь мне устроить следственный эксперимент.
— Что еще такое? — недовольно заговорил Ткачев.
— Мы воссоздадим обстановку вчерашнего ужина, каждый припомнит, где он находился, что делал и говорил. И возможно, тогда я смогу понять, кто же из вас говорит неправду, кто отравил Стасского… Вы согласны, господа? Обещаю, что, если эксперимент не удастся, я оставлю вас в покое.
— С трудом верится, — пробурчал Борис.
— Я согласна, — неожиданно произнесла Юлия Львовна, внимательно глядя на Горецкого.
Он поспешно отвернулся.
— Я тоже согласен, — поспешил Сильверсван.
— А я — как все, — улыбнулся Колзаков.
Остальные только кивнули. Горецкий подозвал невесть откуда появившегося Саенко и стал тихо с ним совещаться.
— Нет нигде… трудно искать… татар в деревню понаехало на похороны Мусы… всех не проверишь… — донеслось до Бориса бормотание Саенко.
Он отошел в сторону, потому что ему надоели интриги. Украдкой он поглядывал на Юлию Львовну и все думал: она или не она? И если не она, то кто же?
— Итак, — начал Горецкий, — первыми в комнату пришли покойный Стасский и лейтенант. Как я уже говорил, роль Стасского буду играть я. Господин лейтенант, где вы стояли? Примерно здесь? — Горецкий встал рядом с Ткачевым и окликнул Бориса: — Борис Андреич, когда вы вошли, что вы наблюдали?
Ордынцев вошел в комнату, окинул ее взглядом.
— Стасский стоял чуть левее… так, правильно. А господин лейтенант — вполоборота к нему. Когда я вошел, они разошлись. Да, примерно так.
Полковник и лейтенант изобразили мимическую сцену и остановились в разных концах горницы.
— Так, вы стояли там же, где сейчас? — уточнил Горецкий и сделал пометку на своем листе. — Теперь вошли Колзаков, Сильверсван и Юлия Львовна. Прошу, входите!
Все трое вошли друг за другом. На открытом лице Колзакова читалась неловкость от того, что он занят таким глупым, несерьезным делом.
Горецкий сверился со своими записями и громко сказал:
— Фатима-ханум, прошу!
Фатима, как обычно закутанная до глаз, вошла в горницу, внесла, как в роковой вечер, хлеб и изюм. Сама ее поза, наклон плеч, кроме традиционной покорности, выражали скорбь и недавно перенесенное горе. Она поставила тарелки и вышла. Колзаков, вспомнив свою прежнюю реплику, повернулся к гостям и произнес:
— «Извините, господа, у нас только два… теперь уже только один приличный бокал. Для самогона и кружки подойдут, а хорошее вино из них пить не годится».
Горецкий заглянул в свои записи и сказал:
— Сейчас Стасский сделал очередной свой выпад… Борис Андреевич его одернул…
— Да, я сказал: «Найдите себе другой объект для насмешек». Стасский сделал вид, что ни над кем не насмехался…
— Потом подошел черед реплики Ореста Николаевича. — Горецкий снова справился со своими записями, затем подошел к Ткачеву и, взяв его за плечо, осторожно повернул: — По-моему, Владимир Антонович, вы стояли немного не так.
Ткачев удивленно взглянул на него, пожал плечами, но подчинился.
— Орест Николаевич, ваша реплика!
Сильверсван, наморщив лоб, постарался припомнить свои слова.
— «Господа, сейчас не время ссориться. Наш долг забыть разногласия и объединиться перед лицом красной опасности…» После моих слов Стасский снова сказал колкость…
— Да, и затем капитан Колзаков открыл бутылку и разлил вино в бокалы. Я попрошу вас, господин капитан, сделать все так же, как и в тот вечер, только вино налить для Юлии Львовны в кружку — простите меня, сударыня, второго бокала нет, а для нашего эксперимента особенно важен тот бокал, из которого пил Стасский.
Юлия Львовна согласно кивнула. Колзаков открыл бутылку и разлил вино.
— Теперь, господин лейтенант, вы должны начать свое прочувствованное выступление, — обратился Горецкий к Ткачеву, — если вы не вспомните его дословно — не страшно, но постарайтесь двигаться примерно так, как в тот вечер… А вы, господа, поправляйте его, если что-то будет не так.
— «Господа, — неуверенно, без прежнего воодушевления начал Ткачев, — в этом году мне не удалось отпраздновать Рождество. На самый праздник пришлась эвакуация из Новороссийска, это было так страшно… Впрочем, вы все это знаете».
— Еще бы, — подтвердил Борис.
— «Так вот, — продолжил Ткачев, и голос его постепенно окреп и набрал почти такую же температуру, как в роковой вечер, — я предлагаю вам сегодня отпразновать Рождество. Конечно, это несвоевременно, совершенно не соответствует календарю, но прежде я никогда не пропускал этот праздник. В мирное время вся семья собиралась вокруг елки… В этом был такой уют, покой, такое счастье… Так давайте отпразнуем Рождество сегодня вопреки календарю! У нас есть хорошее вино, с нами прекрасная дама». — Ткачев, как и в первый раз, поклонился Юлии Львовне, но она не ответила ему улыбкой.
Лицо ее было напряженно и печально. Горецкий заглянул в свой конспект и сказал чуть театральным голосом:
— «Скоро Пасха, а вы Рождество собрались праздновать». — С этими словами он подал знак Колзакову, и капитан произнес заученно, как старательный гимназист:
— «Лейтенант прав, пусть на дворе весна и сейчас не время по календарю, но мы с вами отпразнуем Белое Рождество… Крым — это плацдарм, с которого начнется наше наступление».
Колзаков замолчал. В его голосе не было убежденности, которая звучала в прошлый раз, в нем была обреченность и тоскливое равнодушие.
— «Рождество-то у нас получилось черным», — мрачно заметил Сильверсван.
— «Славно сказано!» — произнес свою реплику Ткачев, и непонятно было, имеет ли он в виду слова Колзакова или Сильверсвана. В голосе его звучала легкая ирония. Он подал кружку с вином Юлии Львовне, а бокал поднял и поднес к губам.
— Что это?! — воскликнул вдруг Горецкий, шагнув к лейтенанту и в изумлении указывая на бокал в его руке.
Ткачев от неожиданности отшатнулся, рука с бокалом дернулась… Все находившиеся в комнате взглянули туда, куда указывал Горецкий, — на бокал с вином в руке Ткачева.
— Что это?! — воскликнула Юлия Львовна вслед за полковником.
На глазах у всех происходило чудо: светло-золотистое вино в бокале покраснело, как кровь…
— Это суд Божий, — в наступившей тишине проговорил Сильверсван, — Господь указал нам убийцу, как это бывало в средние века.
Лейтенант Ткачев поднял руку с бокалом и как зачарованный уставился на рубиновую жидкость. Глаза его расширились от ужаса.
— Что… что это?! — тихо проговорил он, повторив тот же бессмысленный вопрос.
— Это кровь Стасского! — прорычал полковник Горецкий, нависнув над Ткачевым суровым львиным ликом римского полководца и буравя его гипнотическим яростным взглядом. — Это кровь убитого вами человека! Я знаю, как вы его убили, скажите за что!
— Он… он видел меня и Назаренко, — пробормотал Ткачев в полубессознательном состоянии.
Потом он, видимо, сбросив парализовавшее его наваждение, швырнул в лицо полковнику бокал с кровавым вином и, злобно выкрикнув: «А-а, старый фокусник!» — кинулся к окну. Борис потянулся за револьвером, но не успел прицелиться: слишком неожиданной и ошеломляющей была вся сцена. Остальные стояли как громом пораженные, наблюдая, как Ткачев выбил плечом стекло и нырнул в окно, как ныряют в ледяную зимнюю реку. Горецкий же как будто и не пытался его остановить — он спокойно стоял, глядя вслед беглецу.
В следующий момент за окном раздался хриплый крик и выстрел. На этот раз Горецкий чертыхнулся и бросился к дверям. Вслед за ним все участники драматического эксперимента выбежали на улицу.
Там они увидели следующую картину.
Под окном, кряхтя и держась за голову, сидел Саенко, повторяя с выражением обреченным и виноватым:
— Убег! Убег, стервец! Убег, подлая его душа!
— Как же ты его проворонил?! — выкрикнул в сердцах Горецкий.
— Ох, ваше сковородие, татарка меня по голове оглоушила, мудрено, что не убила! Ох, и подлый же народ…
— Хватит причитать! Потом расскажешь, что за татарка… Куда он побежал-то?
— Да вот. — Саенко махнул рукой.
Борис бросился в указанном направлении, следом за ним припустил Колзаков. Сильверсван и Горецкий несколько отстали. Не пробежав и ста метров, Борис увидел женскую фигуру, склонившуюся над распростертым на земле телом и, похоже, обшаривающую его. Увидев, а скорее, услышав подбегающих людей, женщина поднялась и бросилась бежать. В этой женщине, одетой как все татарки и закутанной кисеей до глаз, было что-то странное — она была слишком широкоплечей, коренастой, и татарское платье сидело на ней неловко.
— Стой! Стой! — закричал Борис, вытаскивая револьвер. — Стой! Стрелять буду!
Женщина убегала, не обращая внимания на окрики. Рядом хлестнули друг за другом два револьверных выстрела. Беглянка споткнулась и упала. Борис оглянулся и увидел Колзакова с револьвером в руке.
— Убежала бы, — извиняющимся тоном пояснил капитан.
Борис махнул рукой и остановился, не зная, к кому спешить первым — к таинственной татарке или к тому телу, которое она обшаривала. Остановившись на втором варианте — татарка была если не убита, то тяжело ранена и убежать не могла, — Борис вернулся назад. Возле лежащего на земле человека уже стояли Горецкий и Сильверсван. Как и следовало ожидать, на земле лежал лейтенант Ткачев. Был он, по-видимому, тяжело ранен, хриплое и неровное дыхание еще вздымало его залитую кровью грудь. Горецкий встал на колени, расстегнул китель и осмотрел страшную ножевую рану. Ткачев застонал, глаза его закатились, он судорожно дернулся и затих.
— Мертв, — констатировал полковник. — Зарезан. Думаю, он убит из-за этого. — Горецкий осторожно вытащил из-за пазухи лейтенанта увесистый замшевый мешочек, залитый кровью.
— Что это? — удивленно спросил Сильверсван.
Горецкий развязал шнурочки и высыпал на ладонь горсть сверкающих, переливающихся, разбрасывающих искры живого многоцветного огня камушков.
— Бриллианты, — невозмутимо сообщил Аркадий Петрович, — они и были причиной всех убийств.
— А кто же эта женщина? — Борис развернулся и быстро зашагал ко второму телу, лежавшему неподалеку.
Женщина стонала и пыталась уползти в кусты.
— Я не уверен, что это женщина, — сказал Горецкий, нагоняя Бориса, — вы обратили внимание, как она бежала? Женщины так не бегают, они привыкли носить длинное платье и бегут мелкими шажками, а эта… этот человек все время спотыкался, видно было, что платье ему мешает.
Действительно, наклонившись к лежащему человеку и сдернув кисею с лица, Борис увидел короткие усики и маленькие, близко посаженные глаза.
— Старый знакомый! — произнес Горецкий. — Рад видеть вас в таком беспомощном состоянии, товарищ Макар!
Человек в женском платье облизал пересохшие губы и тихо проговорил:
— Я умираю. Дайте пить…
— Нет, вы пока не умираете, — равнодушным голосом произнес Горецкий и показал раненому окровавленный мешочек, — а если вы хотите пить — расскажите мне все, что вы знаете про эти бриллианты и про лейтенанта Ткачева.
— Все равно… я умру… эти бриллианты послали с верным человеком в Новороссийск… чтобы купить оружие… — Товарищ Макар замолчал, дыхание его стало редким и прерывистым.
Горецкий снял с пояса фляжку, поднес к губам раненого. Тот немного отдышался, прикрыл глаза и продолжил:
— Наш человек исчез… Потом передали, что он убит… Он должен был связаться в Новороссийске с лейтенантом… Я подумал, что лейтенант и убил его… Я видел Ткачева один раз, здесь увидел снова… Бриллианты у него… — Раненый замолчал, видимо, потеряв сознание.
Горецкий выпрямился и сказал Борису:
— Борис Андреевич, голубчик, отнесите его с капитаном в дом, он еще придет в себя, раны не такие опасные.
— Я целил в плечо, — вставил Колзаков.
— Думаю, что и попали в плечо, — согласился Горецкий, — если бы в сердце, то он бы уже умер.
Раненого отнесли в дом, где ожидала уже Юлия Львовна. Мельком взглянула она на залитое кровью татарское платье, выбрала себе в помощники Сильверсвана и Колзакова, а Борису указала на дверь, чтобы не болтался под ногами. Борис вернулся к тому месту, где лежал труп Ткачева. Саенко с двумя солдатами уже смастерили носилки из двух оглобель и старого одеяла. Борис помог нести тяжелое тело. Покойника положили под навес во дворе и прикрыли одеялом.
Вышла Юлия Львовна и объявила, что рана неопасная, но болезненная, к тому же раненый потерял много крови. Она обработала рану и сделала перевязку, а больше ничем помочь не сможет.
— Достаточно, Юлия Львовна, с него вполне достаточно вашей заботы, — успокоил ее Горецкий. — Откровенно говоря, он и того не стоит, но меня этот человек интересует уже давно, поэтому хотелось бы с ним побеседовать в спокойной обстановке.
— Вряд ли сейчас это возможно, — нахмурилась Юлия Львовна, — он очень слаб.
— А вот я думаю, что все не так плохо и он нарочно притворяется слабым, чтобы его оставили в покое, — весело возразил Горецкий. — Но только ради вас я дам ему одно чудодейственное средство, оно и мертвого на ноги поставит!
И полковник налил больному чудного английского бренди, он возил бутылку с собой еще со времен бытности своей в Феодосии, где тесно общался с представителем английского министра Черчилля, прибывшим в Крым для тайных переговоров.
Бренди помогло, раненый слегка оживился, и полковник Горецкий провел у него полчаса, задавая вопросы и аккуратно записывая его ответы.
Глава шестая
И снова все собрались в горнице. На Горецкого смотрели с ожиданием. Поняв, что пауза затянулась и полковник не спешит с объяснениями, Юлия Львовна сказала:
— Господин полковник, надеюсь, мне как даме вы простите нескромную просьбу объяснить все, чему мы стали свидетелями. Все эти чудеса и разоблачения, вино, превращающееся в кровь…
— Конечно, Юлия Львовна… конечно, господа! Я понимаю, что происшедшая сцена показалась вам загадочной. Дело в том, что завершившаяся сегодня история началась три месяца назад в Новороссийске. Тогда огромные склады деникинской армии спешно уничтожались, чтобы хранившееся там оружие и боеприпасы не достались красным. Убитый сегодня лейтенант Ткачев должен был с группой морских минеров уничтожить один из оружейных складов, но он был связан с дельцом черного рынка, который предложил Ткачеву перед уничтожением склада продать часть оружия некоему загадочному господину. Господин этот был эмиссаром крымского подпольного комитета, которому поручили обменять мешочек бриллиантов на оружие для партизан. Ткачев встретился с большевистским посланцем, но решил, что гораздо проще не вывозить со склада оружие, а просто убить курьера и присвоить бриллианты. Может быть, он просто не устоял перед минутным соблазном, увидев, что курьер прибыл один, без охраны, — как до того не устоял перед возможностью продать оружие врагам. Так или иначе, лейтенант убил большевика и рассчитывал сбежать с камушками за границу. Моряку это сделать может быть проще… Да сейчас очень многие думают только о том, что эмиграция неизбежна и нужно обеспечить себе существование за границей.
Короче, Ткачев убил Назаренко, курьера подпольного комитета, но оказалось, что у этого преступления был свидетель — поручик Стасский. Конечно, мы сейчас можем только гадать, что произошло между ними в роковой вечер. Вы, Борис Андреевич, видели объяснение Стасского и Ткачева. Можно предположить, что Стасский шантажировал лейтенанта и требовал свою долю. Лейтенант решил иначе. Шантажистам редко платят: чаще их убивают, чтобы прекратить вымогательство раз и навсегда. Вечеринка была удачным случаем для сведения счетов.
— Да, когда я наблюдал их разговор, мне показалось, что разногласия между ними очень серьезны, чтобы произойти от обычной насмешки. Стасский подступал к Ткачеву с опасением, он держался осторожно, только теперь я понял, чего он боялся… Но откуда же Ткачев взял яд? — спросил Борис.
— Он родом из Сибири, видимо, там и раздобыл шаманское снадобье. Во всяком случае, я нашел пакетик с ядом в мешочке с бриллиантами. Оставался вопрос: как подсыпать яд, чтобы не вызвать подозрений у самого Стасского и обеспечить себе алиби после его смерти? Вы помните, что сказал Стасский, принимая бокал из рук лейтенанта? «Не люблю пить с кем-нибудь из одного бокала, но с вами, лейтенант, выпью. Потому что вы отпили первым».
В этом-то и заключалась идея Ткачева: то, что он выпил первым из бокала, убедило Стасского, что вино не отравлено и одновременно внушило всем окружающим уверенность в невиновности лейтенанта — еще бы, он пил из того же бокала, что и убитый!
— Как же тогда он отравил его? — не удержался от вопроса Сильверсван. — Получается, что в бокале яда не было?
— Яда не было в бокале, когда из него пил Ткачев. Когда же бокал попал в руки Стасскому, яд в нем уже был.
— Не может быть! — Сильверсван оглядел окружающих, как бы призывая их в свидетели. — Все происходило у нас на глазах, лейтенант не сумел бы подсыпать яд незаметно.
— Тем не менее он сумел это сделать! — Горецкий поднял палец с видом фокусника, объясняющего зрителям секрет ловкого трюка. — Лейтенант заранее посыпал ядом свою бороду, осторожно отпил вино из бокала и затем, как бы нечаянно коснувшись краем бокала бороды, стряхнул в вино смертоносный порошок. Таким образом, попав в руки Стасского, вино было отравлено, а никто этого не заметил.
— А-а! — воскликнула Юлия Львовна. — Так вот секрет превращения вина в кровь!
Горецкий взглянул на нее с восхищением: эта женщина постоянно поражала его своей догадливостью.
— Извините, господа! — вступил в разговор Колзаков. — Вы все уже разобрались, а я не понял. Допустим, Ткачев насыпал яд на бороду и отравил поручика… но как во время вашего эксперимента белое вино стало красным? Я ничего не понимаю.
Горецкий, которому явно доставляло удовольствие объяснение своего хитрого следственного эксперимента, улыбнулся несколько снисходительно и продолжил:
— Я заподозрил лейтенанта почти сразу. Дело в том, что сам Ткачев утверждал, что не был прежде знаком с поручиком, тогда как многое говорило об обратном. Ссора, которую наблюдал Борис Андреевич, судя по его описанию, была не мелкой стычкой из-за какой-то ерунды, а серьезным разговором знакомых людей, у которых между собой давний и значительный конфликт. Но это не главное. Юлия Львовна единственная хорошо расслышала и запомнила реплику Стасского, произнесенную им перед тем, как выпить вино: «Выпью потому что вы отпили первым. Учитывая события в Новороссийске, так оно будет как-то спокойнее». Эта фраза очень многое мне сказала. Кроме того, что Стасский боялся Ткачева, и, как выяснилось, не зря — они сталкивались прежде, и сталкивались в Новороссийске. А от господина капитана третьего ранга, — Горецкий взглянул на Сильверсвана, — я знал, что три месяца назад, во время эвакуации из Новороссийска, Ткачев был откомандирован с корабля в распоряжение коменданта города, занимавшегося уничтожением армейских складов. Почему же Ткачев так упорно отрицал свое прежнее знакомство со Стасским?
У меня не было возможности получить дополнительную информацию. Единственный шанс — заставить заговорить самого Ткачева. Как это сделать? Я должен был поразить его, подействовать на его воображение, заставить его самого признаться в убийстве. Я долго думал о том, как яд попал в вино. Сравнивал все показания, понял, что лейтенант не мог на глазах у всех отравить вино… и тут мне пришел в голову этот трюк с бородой. Может быть, это интуиция, — Горецкий скромно потупился и не заметил, как Юлия Львовна при этом закусила губы, сдерживая улыбку, — может быть, случайная догадка. Но как выяснилось, я попал в точку. Готовя эксперимент, я не был еще полностью уверен в правильности своей теории. Вы видели, что у меня с собой саквояж с некоторыми химическими реактивами. Среди них есть, конечно, вещества-индикаторы, изменяющие свой цвет в зависимости от реакции среды, в которую они попали. Вино имеет кислотную реакцию, и я взял порошок, окрашивающий кислоту в красный цвет. Может быть, вы заметили, что во время эксперимента я дотрагивался до лейтенанта, поворачивал его как куклу. При этом я незаметно просыпал немного порошка на его бороду.
— Но как это порошок попал в бокал? — спросил заинтересованно Борис. — Ведь первый раз Ткачев, по вашим словам, специально стряхнул яд с бороды в вино, причем только после того, как отпил из бокала?
— Вспомните, — продолжил Горецкий, кивнув, — когда лейтенант поднес бокал к губам, я нарочно громко закричал: «Что это?» — и шагнул к нему… Я сделал все, чтобы заставить его отшатнуться, вздрогнуть, потерять равновесие именно в тот момент, когда бокал был возле его бороды. При этом он невольно прикоснулся к бороде краем бокала и стряхнул реактив. Произошла химическая реакция, вино покраснело, все увидели это — я недаром привлек ваше внимание к бокалу, — и сам Ткачев тоже увидел, как краснеет вино у него в бокале… Да тут еще господин Сильверсван очень удачно ввернул что-то насчет Божьего суда… Понятно, что Ткачев потерял самообладание, и, нажав на него в этот момент, я вынудил его признаться в убийстве…
— Но он тут же сбежал, — вставил Колзаков.
— Я ожидал этого, — Горецкий кивнул, — и посадил под окном Саенко, который должен был поймать лейтенанта. Единственное, чего я не ожидал, — это появления в самый неподходящий момент на сцене моего севастопольского знакомца товарища Макара, который чуть не испортил все дело, оглушив Саенко.
— А он-то как здесь оказался? — поинтересовался Сильверсван.
— Господина большевика партизаны отправили с поручением к своим. Он перебрался на стрелку через Сиваш и должен был перейти фронт на этом участке, чтобы попасть в Геническ к красным. Сначала он прятался в середине стрелки у соляного сторожа, потом здесь, в этой деревне, его прятали у татар. Осматривая местность и выбирая путь перехода фронта, товарищ Макар случайно увидел Ткачева. Эта встреча была роковой. Макаров давно подозревал, что лейтенант три месяца назад убил и ограбил большевистского курьера Назаренко, отправленного в Новороссийск за оружием, и что бриллианты могут быть у него. Спрятавшись в кустах, Макаров следил за домом, и тут, на свое несчастье, его увидел Муса. Татарин мог зашуметь, привлечь к незнакомцу наше внимание, поэтому Макаров, ни на минуту не задумавшись, убил его. После этого, опасаясь, что его узнают, он переоделся в женское платье и продолжил слежку. Дальнейшее вы знаете: Макаров оглушил Саенко, который караулил под окном, напал на Ткачева, когда тот пытался убежать от нас после своего признания в убийстве. Большевик смертельно ранил лейтенанта, но не успел найти бриллианты, потому что мы с вами его спугнули. А потом погоня и остановившие его выстрелы капитана Колзакова… Вот, собственно, и вся история.
Глубокой ночью дом угомонился. Колзаков похрапывал в темноте с чувством выполненного долга. Борис лежал на кровати не раздеваясь, он и не собирался ложиться. Стихли последние шорохи, ни одна дверь больше не скрипела.
Борис встал, нашарил в темноте ботинки и вышел, крадучись, из комнаты. На дворе было тихо, даже орех стоял недвижим, ни одна ветка не шелохнулась. Борис осторожно обогнул дом.
«Господи, сделай так, чтобы она оставила окно открытым!» — мысленно взмолился он.
Он нажал на раму, она легко поддалась. Он шепотом позвал Юлию. Никто ему не ответил, хотя он чувствовал присутствие в комнате человека. Совершенно бесшумно Борис перекинул ноги через подоконник и в полной темноте двинулся по комнате к тому месту, где стояла кровать.
— Прости меня! — шепнул он в темноту и протянул руку.
Юлия лежала на спине и плакала беззвучно, без рыданий и всхлипываний. Он приподнял легкое, почти невесомое тело, губами пытался вытереть слезы.
— Прости меня, прости… — все повторял он.
Она ничего ему не отвечала, только вздыхала. И тогда он понял, что плачет она совсем не из-за него. Слезы по-прежнему текли у нее по щекам не останавливаясь. Острое чувство жалости кольнуло Бориса в сердце. Он обнял Юлию и прижал к груди.
— Не плачь, ну не плачь, — шепотом повторял он. — Все прошло, все закончилось, ты забудешь его, забудешь… Человек не может горевать вечно. Ты оживешь, тебя будут любить…
Она вдруг застонала и обняла его крепко-крепко.
— Люби меня, люби! Я не могу больше так жить!
Она шептала ему что-то в жару и страсти, он отвечал, бродя пересохшими губами по ее телу. Никто из них не слышал слов другого, но чувствовал их всей кожей…
На следующий день уезжали все, кроме Бориса и Колзакова. Полковник Горецкий выполнил все, что было намечено, то есть арестовал бывшего председателя большевистского подпольного комитета Макарова, и между делом еще успел расследовать убийство поручика Стасского. Раненый Макаров наутро чувствовал себя бодрее, и полковник распорядился погрузить его на подводу. Его товарищей — двух татар — так и не нашли, те сумели удрать либо же прятались где-то у родственников.
Канонерка Сильверсвана была полностью разбита, нечего было и думать ее чинить. Поэтому капитан ехал вместе с Горецким в Севастополь за новым назначением. Немногочисленные матросы пока оставались на стрелке под командованием Колзакова.
Юлия Львовна тоже ехала в Севастополь. Борис оставил ее на рассвете спящую, и с тех пор они не сказали друг другу ни слова. Юлия Львовна была занята — сначала ухаживала за раненым Макаровым, потом долго разговаривала с хозяйкой.
К крыльцу подогнали две подводы, на одной сидел тот самый равнодушный медлительный татарин, что третьего дня привез полковника Горецкого с Саенко. Положили на подводу немногочисленные вещи. Юлия Львовна первая подошла попрощаться.
— Прощайте, Борис Андреевич, — спокойно негромким голосом проговорила она.
Борис изумленно поднял на нее глаза. Это все, что она способна ему сказать, — холодное «прощайте»? Глаза ее смотрели на него приветливо, но отчужденно.
«Как ты можешь так со мной после того, что было вчера? — спрашивал его взгляд. — Или ты хочешь заставить меня думать, что ничего не было?»
«Было, — отвечал ее взгляд, — было, но все кончилось».
— Прощайте, — пробормотал Борис и взял ее руку, чтобы поцеловать, но перехватил недовольный взгляд Горецкого, страшно разозлился и отпустил руку Юлии Львовны.
— Прощайте, Николай Иванович, голубчик. — Юлия Львовна перекрестила Колзакова.
— Дай вам Бог счастья, — растрогался Колзаков.
Она заторопилась к подводе.
— Всего доброго, Борис Андреевич, — сказал Горецкий, рассеянно наблюдая за Юлией Львовной, которая легко оперлась на руку Сильверсвана и села на подводу. — Еще встретимся, Крым тесный…
Борис кивнул Саенко и отвернулся. Татарин крикнул лошадям по-своему, и подводы тронулись.
— Что, Николай Иванович, самогону у вас не осталось? — неожиданно для себя спросил Борис.
— Да бросьте вы, поручик, — нахмурился Колзаков, — воевать надо, и так нас здесь мало.
— Скучно, — пожаловался Борис.
— Ничего, недельки через две сменят нас, в другое место воевать поедем. Спору нет, веселее, когда тут с нами Юлия Львовна жила, да ведь непорядок это.
— Непорядок, — вздохнул Борис, — в голове у меня непорядок от этой женщины. Вот скажите, Колзаков, какой он был, этот поручик Богуславский, если такая женщина его столько лет забыть не может?
— Да как сказать, — смутился Колзаков, — вы уж не обижайтесь, а только поручик-то сильно на вас похож был. Высокий, волосы светлые… глаза опять же похожи, походка…
«Вот тебе и раз! — пронеслось в голове у Бориса. — Выдумала что-то про смерть, говорила, что хочет меня спасти, а оказывается, я просто похож… И вчера ночью она любила не меня, а память свою…»
— Эх, Николай Иваныч! — Борис хлопнул Колзакова по плечу. — Пойдем, что ли, по красным постреляем, авось мне полегчает.
— И то дело! — откликнулся Колзаков. — Скоро пять часов, перестрелка начнется. А то выдумал — средь бела дня самогон пить…
Во второй половине апреля наступила теплая погода, которая дала возможность красным подвезти новые части и сконцентрировать войска на Чонгаре. Генерал Слащев, по-прежнему отвечавший за оборону крымских перешейков, почувствовал исходящую от Чонгара угрозу и решил предупредить красных, атаковав их прежде, чем они соберут на Чонгаре мощный кулак, занять Чонгарский полуостров и создать буфер между северной Таврией и Крымом. Такая операция должна была иметь и политическое значение: в это время шли мирные переговоры союзников с красными, и французы дали Врангелю понять, что необходимо показать силу Русской армии,[11] и тогда красные пойдут на уступки.
Руководствуясь всеми этими соображениями, Слащев принял решение атаковать красных на Чонгаре.
У южного основания Чонгарского полуострова Сиваш был покрыт огромной, почти двухверстной, гатью. На берегу Сиваша по распоряжению Слащева еще зимой были выстроены небольшие железнодорожные ветки — тупики, чтобы бронепоезда белых могли маневрировать, а не стоять друг другу в затылок. На эти ветки Слащев подогнал четыре бронепоезда, один из которых имел дальнобойные восьмидюймовые морские орудия, тем самым он обеспечил за собой превосходство в артиллерии. Больших сил Слащев не мог сосредоточить — на Перекопе тоже было неспокойно. Он выдвинул на позиции бригаду 13-й дивизии — пятьсот штыков, батальон юнкеров — сто двадцать штыков и 8-й кавалерийский полк — бывший конвой штаба корпуса, около трехсот шашек. Впрочем, количество сил почти не играло роли из-за рельефа местности, потому что войска негде было развернуть.
Брошенная вперед бригада 13-й дивизии безуспешно пыталась занять гать, красные со своей стороны тоже пытались на нее проникнуть. После обоюдных неудачных атак гать и расположенный посреди нее железнодорожный мост остались нейтральными, и цепи противников залегли с двух сторон по берегу Сиваша. Тяжелые дальнобойные орудия бронепоезда белых держали бронепоезда красных в отдалении, но этим исход боя не решался.
Время уже клонилось к вечеру, когда артиллерийский огонь красных неожиданно усилился: видимо, они получили подкрепление. Огонь сосредоточился по легким бронепоездам белых, даже в штабном поезде Слащева вылетели стекла. Цепи 13-й дивизии тоже подверглись сильному обстрелу. Слащев приказал бронепоездам перенести огонь на пехоту красных и послал своего адъютанта Сиверса и «ординарца Нечволодова» — свою верную Лиду — к цепям с приказом атаковать, двигаться на гать, поскольку нет ничего хуже, чем лежать неподвижно под мощным артиллерийским огнем, и только атака пехоты могла кардинально переменить течение боя.
Однако уже через десять минут генерал получил донесение, что Сиверс убит, «ординарец Нечволодов» ранен, а цепи 13-й дивизии, не выдержав огня красных, подаются назад, очищая позиции. С севера к гати спускалась пехота красных.
Положение было критическим: неудача могла деморализовать 13-ю дивизию, которая в значительной части состояла из пленных красноармейцев той самой 46-й стрелковой дивизии, которая сейчас с севера форсировала гать. Отбросив белых от перешейка, красные могли ворваться в Крым.
В резерве у Слащева оставались только юнкера и 8-й кавалерийский полк.
Слащев решил прибегнуть к последнему средству, к тому средству, которое неоднократно выручало его прежде: личному примеру.
Борис Ордынцев находился в резерве Слащева во главе одного из взводов юнкеров. Он увидел, как перед батальоном появилась хорошо знакомая фигура генерала — бледное лицо, горящие глаза, длинная кавалерийская шинель, обметающая ноги при ходьбе…
— Юнкера! — загремел голос Слащева, перекрывая гул канонады и вливая в сердца солдат ни с чем не сравнимую энергию беспредельной храбрости и презрения к смерти. — В колонну по отделениям… Стройсь! Оркестр… «Прощание славянки»! Батальон… Ма-арш!
Юнкера, четко печатая шаг, двинулись к Сивашу. Военные музыканты шли рядом, выводя с трагическим надрывом мелодию марша. Борис шагал впереди своего взвода, полной грудью вдыхая воздух весны, воздух боя, воздух славы. Горестные и бравурные звуки оркестра поднимались к небу, и безнадежная, обреченная судьба шагала впереди в образе непобедимого, бесстрашного молодого генерала, неврастеника и кокаиниста. Такой атаке нельзя было противостоять. Артиллерия красных стала стрелять беспорядочно, ни один снаряд не попадал в цель, многие шрапнели давали камуфлет, то есть взрывались в земле. Ружейный огонь красных тоже стал беспорядочным, пули летели через головы, несмотря на большое расстояние до цепей. Батальон вошел на гать. Красные начали отступать — сначала отдельные люди, потом вся цепь. Артиллерия смолкла — видимо, началось бегство. Сзади раздалось нестройное «ура!» — бригада 13-й дивизии густой толпой сбегала на гать вслед за ровной колонной юнкеров.
Борис чувствовал необычайный подъем, родственный опьянению. Какая-то часть его сознания понимала, что один-единственный пулемет или одно орудие красных могли бы остановить сейчас атаку, смести марширующих юнкеров, если бы этот пулемет, это орудие были в решительных, недрогнувших руках людей, не поддавшихся панике, но в то же время он понимал, что этого не будет, что красные ошеломлены, сломлены и атаку Слащева никто не остановит.
Не сбиваясь с шага, батальон, не потеряв ни одного человека, поднялся на северный берег Сиваша. Горестные и победоносные звуки марша плыли над Чонгарским полуостровом. Шла весна двадцатого года.
Примечания
1
Кутепов, Александр Павлович (1882–1930) — белогвардейский генерал от инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн, полковник. В Добровольческой армии начал с командира роты. После взятия белогвардейцами Новороссийска — черноморский генерал-губернатор. В 1919 году командовал Первым армейским корпусом, затем Первой армией Врангеля. С ноября 1920 года в эмиграции.
(обратно)2
См. роман «Батумский связной».
(обратно)3
Вооруженные силы Юга России.
(обратно)4
См. роман «Волчья сотня».
(обратно)5
См. роман «Волчья сотня».
(обратно)6
Врангель, Петр Николаевич (1878–1928) — барон, один из главных руководителей Белого движения на юге России, генерал-лейтенант (1918). Участник русско-японской и Первой мировой войн, командир кавалерийского корпуса в чине генерал-майора. В Добрармии командовал конной дивизией и конным корпусом, с января 1919 года — Кавказской добровольческой армией. В декабре 1919 года — командующий Добровольческой армией. Отстранен Деникиным от должности и выслан за границу. С апреля 1920 года — преемник Деникина на посту Главкома ВСЮР. После поражения в северной Таврии и Крыму со значительной частью армии ушел за границу.
(обратно)7
Драгомиров, Абрам Михайлович (1868–1956) — генерал-лейтенант, председатель деникинского правительства — Особого совещания при главнокомандующем.
(обратно)8
Начальник штаба флота.
(обратно)9
Дебушировать — преодолевать войсками ввиду неприятеля теснины, ущелья и т. п. с целью выхода на более широкое место, где можно развернуть войска.
(обратно)10
В России с 1914 года действовал «сухой закон». Производство водки тогда было запрещено, существовавшие запасы законсервированы на секретных складах.
(обратно)11
Русская армия — сформирована весной 1920 года в Крыму из остатков Вооруженных сил Юга России.
(обратно)


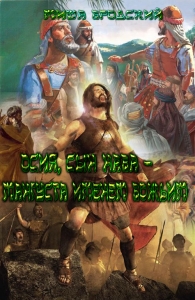

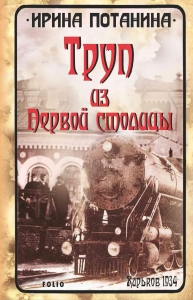

Комментарии к книге «Черное Рождество», Наталья Николаевна Александрова
Всего 0 комментариев