Ирина Лобусова Королевы Привоза
© И. И. Лобусова, 2017,
© Издательство «Фолио», марка серии, 2015
* * *
Глава 1
Парочка на берегу моря. Богатая жертва Маньки Льняной. Расправа с сообщником. Обыск – кукла Машутки. Казнь Маньки
ОДЕССА, 1876 год
Небо к вечеру почти полностью закрыли тучи, однако луну все же было видно – ее затянула какая-то сероватая темная пленка, сквозь которую пробивались красные отблески. То, что луна была окрашена в красный цвет, отмечали в первую очередь рыбаки, готовящие снасти к ночной ловле. Красноватые отблески тонули в спокойной воде. Это действительно было как-то странно: живущие на море знали, что в начале осени почти не бывает серьезных штормов, так что этот красный свет оставлял какое-то тревожное ощущение от лунной дорожки. Когда же облака затягивали луну полностью, лунная дорожка тоже исчезала, и только красноватая дымка, похожая на разноцветную пыльцу, утопала в спокойных волнах.
Берег моря был пуст. Редкие парочки, в поздний час рискнувшие здесь прогуляться, переместились ближе к городу, где было не так пустынно и темно. Тем более, что за следующим поворотом пляжа, ведущим к Карантинной гавани, находилась целая полоса прибрежных ресторанов и кабачков. Открытые до рассвета, эти заведения привлекали клиентов вывешенными у входа яркими лампами. И развлекались там не только моряки, но и любители экзотики, которые в виде ночных прогулок вдоль моря в любой час ночи рисковали там отдохнуть.
Море было безмолвным. Казалось, полный штиль накрыл темные воды плотным, не пропускающим звуки покрывалом, под которым тревожно, застыв в ожидании, до поры до времени таится неизведанная, великая мощь. У темной морской воды ночью было страшно. Бесприютные глубины мрака вырастали в темноте, тающей за горизонтом. Особенно сейчас, когда луну на небе затянули плотные облака.
Но все это совершенно не испугало парочку, вдруг появившуюся в самом пустынном месте пляжа из темноты. Даже в такой мгле выделялись белокурые, светлые волосы женщины и белая шаль, наброшенная на ее плечи. Смеясь и пританцовывая, она тянула за собой спутника. Ее длинные волосы развевались по ветру, а шаль, соскальзывая с обнаженных плеч, открывала белоснежную матовость кожи и соблазнительную полную грудь, с трудом помещавшуюся в глубоком декольте вечернего платья.
Сейчас, ночью, на берегу моря, женщина казалась русалкой, только что восставшей из пенной морской воды. Сходство было еще и в том, что, совершенно не боясь темнеющей бездны, она решительно тащила за собой спутника.
Спутник же ее, солидный господин средних лет внушительной комплекции, в сюртуке из дорогого сукна, с золотым пенсне, с трудом поспевал за своей наядой.
– Манечка, погоди… Передохнем немного, – в голосе солидного господина послышалась мольба, хотя он изо всех сил пытался ее скрыть.
– Нет, мой дорогой, чего ждать? Вот уже совсем скоро… На этих волнах… Я хочу слиться с тобой в вечности… – Приспустив в очередной раз шаль с плеча, белокурая красавица маняще повела грудью и бедром, извиваясь при этом всем телом.
Внезапно тусклый красноватый свет луны пробился из-под облаков и отчетливо осветил лицо женщины. Ах как она была хороша! В самом расцвете молодости (не старше 20 лет), она была такой запоминающейся, прекрасной, что казалось – тонкие черты лица ее изваяны самым талантливым в мире скульптором, и такую красоту не способна произвести на свет обыкновенная живая женщина. Ее темно-голубые глаза поражали томностью, а в изгибе полных губ таилось нечто настолько чувственное, что ни один мужчина не мог не понять этого сигнала первобытной страстности, древней, как сам мир. Длинные белокурые волосы придавали ей вид невинности и еще больше подчеркивали ее молодость. Она была прекрасна – как картина, созданная художником, но в то же время в этой красоте чувствовалась, пульсировала настоящая жизнь, а под кожей угадывался фонтан страстной, жаркой, южной крови, так сумасшедше действующий на мужчин, не живущих на южных морских берегах.
Правда, общее впечатление немного портило дешевое вульгарное платье, сразу показывающее, что обладательница его не относится ни к высшим, ни даже к состоятельным слоям общества. Но какой мужчина стал бы смотреть на платье при виде такой чувственной красоты? Платье было просто помехой, и солидный господин не видел его, не отрывая глаз от обнаженной кожи плеч и от глубокого декольте.
– Мы почти пришли, – красавица решительно потянула его за собой, а затем вдруг запела, отчаянно фальшивя: – Это мой каприз, всего лишь маленький каприз, любовь моя…
Солидным господином был купец из Пскова Петр Евдохин, приехавший в Одессу по коммерческой надобности. Это был первый его визит сюда, и бурлящий город в буквальном смысле слова свел его с ума. Позабыв про дела (кстати сказать, с успехом состоявшиеся на Одесской бирже: он заключил такие выгодные сделки, что результат превзошел все его ожидания), купец пустился во все тяжкие, открыв для себя соблазнительный мир одесских ресторанов, кафе-шантанов и публичных домов.
Позабыв про солидный статус семейного человека и отца шестерых детей, Евдохин принялся сорить деньгами в компании одесских кокоток, благо денег он заработал столько, что хватило бы и на Одессу, и на Псков.
Но, несмотря на такую развязность, купец все-таки свел в Одессе серьезные знакомства среди солидных людей. Он посещал приемы, светские балы и жертвовал деньги на благотворительность в компании официальных отцов города, которые всячески привечали любого богача, приехавшего в Одессу заниматься коммерцией, а значит, оставлять в городе свой капитал.
И вот однажды, находясь в модном ресторане в Сретенском переулке, купец был поражен в самое сердце молоденькой красоткой с длинными белокурыми волосами, которой одновременно удавалось выглядеть похожей и на распутную кокотку, и на непорочную гимназистку. Евдохин потерял голову. Девушка сказала, что ее зовут Марусей, и не отставала от купца ни на шаг, показывая ножки и немилосердно строя ему глазки.
Стремясь произвести впечатление на юную диву, купец повез ее на авто в самый дорогой ресторан на Дерибасовской. Каких только деликатесов не потребовала подгулявшая парочка! Самое дорогое шампанское лилось рекой. Каждый раз, когда из бутылки выстреливала пробка, девушка хлопала в ладоши и заливалась счастливым смехом.
Одесская красавица сказала приезжему купцу правду – но не всю. Ее действительно звали Марусей – Марией Лежнич, но в Одессе она была известна под кличкой Манька Льняная: так ее прозвали за цвет и мягкость волос. Она была отчаянной девицей с богатым криминальным прошлым, которое никак не отражалось на ее миловидном личике.
Когда купец расплачивался в ресторане, он вытащил толстую пачку денег. У Маньки округлились глаза. И вместо того, чтобы повести Евдохина к себе или же пойти в гостиницу к нему, она потащила его к морю – кататься на лодке. Купец был совсем не против, как раз наоборот: это показалось ему невероятно романтичным, и он беспрекословно последовал за своей дамой, которая отлично ориентировалась во мраке одесских пляжей.
Они остановились у самой кромки воды в сплошной темноте.
– Где же лодочник, душа моя? – удивился Евдохин, – ничего ведь не видно!
– А вот погоди! – Засунув два пальца в рот, Манька залихватски свистнула и пояснила: – Здеся часто за лодки катаются.
В тот же самый момент справа с зажженной керосиновой лампой к ним подошел молодой коренастый парень.
– Это Ванька Дюжий, лучший лодочник в городе, он нас покатает, – улыбнулась Манька. – Да ты не боись, вперед иди. Я за тобой.
Подчиняясь своей красавице, Евдохин решительно шагнул в темноту. Манька же, приотстав, бросила лодочнику какую-то, с точки зрения купца, невероятно странную и бессмысленную фразу:
– Гусь под завязку, шмарать за дно.
Но ответного кивка лодочника купец не увидел, так как уперся прямо в борт лодки, привязанной к деревянному колышку.
Манька первой легко прыгнула в нее. Евдохин и лодочник последовали за ней, и очень скоро стал отчетливо слышен тихий плеск весел по спокойной воде – лодка все дальше и дальше удалялась от берега. Лодочник зачем-то потушил лампу, и все трое снова оказались в сплошной темноте. Купцу это сразу не понравилось. Он заерзал на своем месте.
– Не далеко ли плывем, душа моя? Может, вернемся, пойдем в гостиницу?
В этот момент из-за туч показалась луна. В руке Ваньки что-то блеснуло. Купец не успел ничего понять. Быстро, отточенным жестом лодочник ударил его ножом в горло, и тот, хрипя в предсмертной агонии, повалился вниз, на дно лодки.
– Нож, адиёт… – поморщилась Манька, – много крови…
– Не боись, к утру отмою, – лаконично сказал Ванька и стал помогать ей шарить в карманах сюртука и штанов.
– Во гусь! Таки да, под завязку, – присвистнул он, раскладывая на скамейке толстые пачки денег, – такого за нас еще не было! Сколько же ты мне-то отвалишь? – взглянул он на Маньку.
– Не бойся, отвалю, – сухо ответила она, – отправь его на корм рыбам.
Лодочник достал из-под скамейки камень, обвязанный веревкой с одного конца, другой же привязал к ногам покойника. Затем столкнул труп за борт лодки, и от купца из Пскова Петра Евдохина очень скоро осталось лишь несколько кругов на темной воде, которые, к тому же, исчезли слишком быстро.
Ванька уверенно греб к берегу, не обращая никакого внимания на Маньку, которая, сидя на скамейке и обхватив руками колени, зло сверлила глазами его спину. Когда причалили, она, обогнув его, выпрыгнула первой.
– Лодку-то привяжи и мыть начинай, – скомандовала, – рассвет скоро.
Наклонившись над столбиком, лодочник принялся привязывать лодку веревкой. В этот самый момент Манька из-за отворота платья выхватила длинную шпильку и с силой вонзила ее в основание его шеи. Захлебнувшись кровью, Ванька упал лицом вниз. Манька быстро ударила его в горло еще два раза и перекинула труп в лодку. Кровь лодочника перемешалась с уже находившейся там кровью, образовав лужу, и было непонятно, где чья. Затем Манька собрала все деньги, снова воткнула шпильку в платье, предварительно вытерев ее о песок, и быстро пошла прочь. Она отлично ориентировалась в темноте и хорошо знала дорогу.
Ее задержали в притоне в Книжном переулке возле Привоза, где, упившись шампанским, она танцевала на столе канкан. Никто из посетителей притона так и не понял, как это произошло. Узкое, тесное помещение вдруг заполнили жандармы, они подхватили под руки Маньку, и так, под руки, стащили со стола. Она даже не успела одернуть юбки своего нового платья, обшитого настоящими французскими кружевами. Все произошло так быстро, что, ставя на место перевернутые жандармами стулья и столики, девицы заведения во главе с толстой хозяйкой и ее хахалем-вышибалой еще долго недоуменно переглядывались, пытаясь понять, что, собственно, случилось. И для чего потребовалось такое количество жандармов, чтобы задержать одну Маньку, которая и раньше была известна в городе своими разгульными делами.
Но уже на следующий день стало известно, что тревогу о пропавшем купце Петре Евдохине поднял лично городской голова, ожидавший того на важном благотворительном вечере. Когда же стало известно, что купец не явился в гостиницу ночевать, были подняты по тревоге все жандармы.
Следы его исчезновения нашлись сразу: многие видели Евдохина в ресторане на Дерибасовской в компании всем известной Маньки, которая не раз уже попадала в полицию – впрочем, за дела более мелкие, чем исчезновение заезжего богача. «Бедная Манька, но ничего, выпутается», – пожимали плечами товарки, любившие свою развеселую подругу, сорившую деньгами направо и налево после очередного удачного дела.
Толстый околоточный надзиратель местного участка с трудом, пыхтя, поднимался по лестнице дешевых меблированных комнат в районе Привоза в компании нескольких жандармов, судебного следователя, полицейского следователя по особо важным делам и подобранных по дороге понятых. Следом за ними, в опасливом отдалении, плелась Паучиха – злобная, высохшая, как мумия, остроглазая старушонка, хозяйка меблированных комнат, являвшихся на самом деле дешевой ночлежкой для заезжего люда и местных блатарей. Было даже странно, что Манька Льняная, загребающая неплохие деньги, жила в таком месте.
Но полицейский, знавший ее привычки, уже объяснил судейскому, что, во-первых, Манька была страшной транжирой, не умела копить деньги и жила по принципу: заработала – спустила на ветер. А во-вторых, она содержала любовников-котов, на которых тратила все свои сбережения. Последним ее котом был здоровенный воротила с бывшего Старого рынка, а ныне Привоза, Михайло Токарчук – вышибала, задира, драчун, промышляющий налетами, но вылетевший из нескольких местных банд за дурной характер.
Сейчас он находился в Тюремном замке на Люстдорфской дороге, в камере-одиночке, где ждал суда по делу о разбойном нападении. С двумя подельниками Токарчук напал на почтовую карету, перевозящую почтовые деньги, и при этом проломил голову почтальону, от чего тот скончался на месте. Дело было доказано, и убийцу ждал суровый приговор. Очевидно, Манька и грабанула купца для того, чтобы достать денег либо на взятку за смягчение приговора, либо для устройства побега.
Поднимались по лестнице долго, так как халупа Маньки находилась на последнем, четвертом этаже. Перепуганные страшной процессией, растревоженные обитатели ночлежки прятались за своими дверями, как тараканы, не смея высунуть носа наружу.
В комнате у Маньки был страшный беспорядок. Ветер шевелил грязные занавески на распахнутом настежь окне, загоняя в комнату холод. Постель была не прибрана, на столе валялись объедки и возвышалась гора грязной посуды. На полу валялись пустые бутылки из-под водки и шампанского.
Жандармы разошлись по углам комнаты. Вдруг громкий шорох и какой-то странный всхлип заставил их замереть на месте. Один из служивых, вытащив револьвер, распахнул дверцы шкафа. Там не было ничего, кроме груды Манькиных платьев. Другой, так же с оружием в руках, осторожно приблизился к койке, на которой под ворохом грязных одеял что-то шевелилось. И тут всхлип повторился более отчетливо.
Жандарм, наклонившись, сбросил груду одеял вниз. В самом углу кровати, прижавшись к стенке (вернее, вжавшись в нее всем своим маленьким тельцем), сидел ребенок в рваной рубашонке из грубого сукна. Он сосал палец и громко икал. На подбородок стекала струйка густой слюны. Глаза его были расширены и почти неподвижно уставились на вошедших с каким-то диким, первобытным ужасом.
Ребенок был совсем маленьким, не старше года. Очевидно, за ним никто не ухаживал – рубашонка была страшно грязная, а от кровати шел тяжелый, тошнотворный запах.
– Это еще что такое, мать твою… – выругался жандарм, опуская револьвер.
Вытащив палец изо рта, ребенок залился истерическим плачем. Поджав тонкие губы, Паучиха выступила вперед, подхватила его на руки и закутала в обрывок какого-то вонючего одеяла.
– Машутка это, ваше благородие, дочка Маньки Льняной, – она произнесла это заискивающе, но глаза ее так и сверкали злобой, – год ей сравнялся только.
– Что здесь делает ребенок один? Кто его кормит, как вообще он не умер с голоду? – рассердился жандарм.
– Так мы и кормим, ваше благородие, мы и присматриваем, пока Манька не вернется. – Паучиха еще сильнее поджала губы, так, что стало казаться, будто ее лицо пересекает уродливый шрам.
– Присматриваешь? – Жандарм подступил к Паучихе, сжав кулаки. – Знаю я вас таких! Продать, небось, ребенка перекупщикам или цыганам хотела, потому и спрятала под одеялом.
Младенец перестал плакать, вновь засунул в рот грязный палец и принялся пускать слюни.
– Дочь Льняной, говоришь? – Полицейский следователь был в курсе всего. – А отец ее кто, Михайло Токарчук?
– Он самый, – кивнула Паучиха, – Манька только с ним последние три года и живет. Его дочка. Как родилась, он с нею возился.
– Ладно, ребенка мы в приют заберем, – распорядился следователь, махнув рукой и дав команду жандармам начать обыск.
Они перерыли все вверх дном, но ничего не нашли. Все нехитрые пожитки Маньки были свалены на пол в кучу. По ним с испугом бегали потревоженные тараканы. Чтобы занять ребенка, Паучиха достала из шкафа большую фарфоровую куклу, единственный красивый и дорогой предмет в окружающей обстановке, и малышка тут же схватила ее.
– Ты только посмотри на это! – обратился полицейский следователь к своему судейскому коллеге, пожимая плечами, – убила купца – и ребенку на деньги убитого куклу купила! Чего только не насмотришься в жизни.
Внезапно он нахмурился, внимательно глядя на куклу в руках ребенка.
– Паучиха, а ну-ка подь сюда!
Та опасливо приблизилась, и полицейский вырвал из детских рук куклу. Ребенок отчаянно заплакал.
Оторвав кукле голову, полицейский разбил фарфоровое тельце на столе, сбросив часть грязной посуды на пол. Кукла разлетелась на мелкие осколки, и на стол, цепляясь за пыльную материю все еще нарядного платья, выпала длинная шпилька, на которой уже засохли багровые следы.
– Господа, вот оно, орудие убийства, – торжествующе произнес следователь, – шпилька, которой она Ваньку Дюжего заколола!
Все сгрудились вокруг него, поздравляя и одобрительно похлопывая по плечу. Никто не обращал никакого внимания на ребенка. Громко плача, девочка тянула грязные ручонки к осколкам разбитой куклы.
Заседание окружного суда было закрытым, слишком уж много было желающих пробраться внутрь и посмотреть, как будут судить Маньку Льняную. Именно из-за громкого общественного резонанса данного дела было решено проводить заседание в закрытом режиме, а для публики печатать репортерский бюллетень, для чего в зал суда было допущено несколько корреспондентов самых популярных и читаемых газет в городе.
С удивлением бывалые репортеры обнаружили, что на судебной скамье Манька Льняная растеряла все остатки былой красоты. Теперь это была смертельно испуганная, больная женщина, выглядевшая гораздо старше своих лет. Пребывание в тюрьме превратило ее в старуху.
Маньку обвиняли в двух убийствах: купца Петра Евдохина – с целью ограбления и лодочника Ивана Дюжева по кличке Ванька Дюжий – с целью убрать сообщника, чтобы не делить награбленное. Главным доказательством послужила окровавленная шпилька, найденная в квартире подсудимой, которой она заколола Дюжего. Манька не отрицала и не признавала свою вину. Она только тихонько плакала и беззвучно шевелила губами, производя впечатление помешанной.
Заседание было недолгим. Марию Лежнич по кличке Манька Льняная приговорили к повешению, и через две недели приговор привели в исполнение.
Казни производились в Тюремном замке на Люстдорфской дороге, где для этого был предназначен глубокий подвал. В ночь казни (а казнили всегда в ночное время) Льняную вывели из камеры, связав руки за спиной, и завели в подвал, где над некоторым деревянным возвышением в полу на обычной перекладине висела толстая пеньковая веревка. На голову ей надели холщовый мешок. Присутствующий священник наскоро пробормотал молитву. Под руки (идти она не могла, от ужаса потеряв сознание) два жандарма подняли Маньку на эшафот, где ей на шею накинули веревку. Ноги ее подкосились, она безвольно повисла в петле. По знаку начальства палач повернул рычаг, в полу под ногами Льняной открылся глубокий люк, и тело рухнуло вниз, несколько раз дернувшись в агонии.
Минут через десять уже безжизненное тело подняли наверх, и судебный медик, присутствующий при казни, подтвердил наступление смерти. Так казнили в Тюремном замке, где почти не было сбоев в работе палача.
Для такого вида казни, как повешение, специально измерялся рост и вес приговоренного к смерти и рассчитывалась толщина пеньковой веревки, чтобы смерть наступила как можно скорей, в течение 2 – 3 минут. Женщины умирали почти сразу.
Так закончила свою жизнь Манька Льняная, о которой еще немного помнили в городе, а затем – позабыли совсем.
Глава 2
Променад по бульвару. Роза Шип. Жуткое убийство на Ланжероновской. Странная находка следователя
ОДЕССА, 1895 год
В теплые вечера любого времени года часть Николаевского бульвара над морским портом заполнялась толпами гуляющих. Нарядно одетые прохожие фланировали, разглядывая других и показывая себя. Часто здесь тут и там вырастали разноцветные яркие зонтики открытых кафе. Но они не заслоняли вид на порт, которым так славился знаменитый бульвар.
Это было подобие светского раута для людей попроще тех, что танцевали во дворцах на балах. Разбогатевшие ремесленники и мастеровые, купцы средней руки, моряки с иностранных судов, военные нескольких гарнизонов, расположенных вблизи города, жандармы на отдыхе, воры, аферисты, мошенники всех мастей, праздные гимназисты, зажиточные крестьяне, заезжие промышленники – пестрая, многоголосая, шумная толпа заполняла бульвар, и было это похоже на самый странный в мире праздник, где смешались все краски, и все было перевернуто с головы на ноги.
К вечеру, когда зажигались ночные фонари, многочисленные развлекательные заведения, расположенные близко от бульвара, распахивали свои двери в ожидании гостей. В них можно было найти цены на любой кошелек и услуги на любой вкус. И бóльшую часть ночи праздная толпа перемещалась из одного заведения в другое, завязывая легкие знакомства или даже серьезные деловые связи в пьянящей атмосфере праздника, похожего на непрекращающийся фейерверк.
Среди гуляющих по бульвару можно было встретить представителей самых разных сословий. Для приличных девушек, точно так же, как и для уличных девиц и для профессиональных кокоток, прогулки вечером по бульвару часто были важной составляющей жизни, ведь именно так можно было познакомиться с интересными молодыми людьми и придать хоть какой-то колорит своей серой, беспросветной жизни. И часто какая-нибудь молоденькая модистка, гризетка, горничная светской дамы или даже учительница женской приходской школы голодала неделями, чтобы скопить денег на приличный наряд. А затем, под руку с подругой, фланировать в самом шикарном на свете платье по аллеям бульвара под модным кружевным зонтиком.
Так же, как и Дерибасовская, Николаевский бульвар был пульсирующим сердцем ночной Одессы. Но если Дерибасовскую заполоняли уличные девицы, поджидающие клиентов (и все знали об этом), то на бульваре собиралась приличная публика. И даже всем известные по именам кокотки, дамы полусвета, разгуливая по бульвару, очень старались сохранять приличный вид.
Среди многочисленных заведений, ожидающих гостей поблизости бульвара, одним из самых интересных и известных был ресторан «Красная Роза» на Ланжероновской, в самой нижней ее части, которая спускалась к морю, но все-таки не доходила до дворца князя Гагарина, торжественно возвышавшегося на самой вершине.
Заведение было очень известно в городе. На первом этаже трехэтажного дома располагался уютный ресторан с хорошей кухней и умеренными ценами. На втором было заведение для мужчин (публичный дом), в который могли подняться посетители ресторана. На третьем этаже находились личные апартаменты хозяйки двух заведений, в которые допускались только избранные.
Точно так же, как это заведение выделялось среди прочих мест отдыха, среди дам выделялась высокая темноволосая, несколько цыганского типа элегантная дама, одетая исключительно в красный шелк или бархат. Либо на воротнике, либо в волосах у нее всегда была неизменная красная роза, свежая даже в морозные дни. Даму знали все в городе. Именно она была хозяйкой ресторанчика и публичного дома, названного ее именем – Роза. А поскольку она отличалась крутым, жестким характером, была остра на язык и скора на расправу, ее прозвали Роза Шип.
Шипы были ее сущностью. И многие клиенты, подкатывающие к ней, уходили ни с чем, жестоко уколовшись о ее колючий нрав. Никто и никогда не слышал о том, чтобы у Розы Шип был любовник. А между тем она была еще молода и очень хороша собой.
Было непонятно, как она появилась в Одессе – или родилась здесь, или же приехала когда-то. Никто не знал ее прошлого. Никто не знал даже о том, настоящее ли это имя – Роза, и как удалось ей разбогатеть настолько, чтобы открыть столь серьезное заведение в самом центре города. Поговаривали, что родом она была из молдавского села и, отданная родителями на службу в Одессу, быстро сбежала из-под барского присмотра и стала делать карьеру в качестве уличной девушки с Дерибасовской. Став любовницей одного криминального главаря, Роза быстро возвысилась над своей средой. Бандита убили в перестрелке с жандармами, но он успел ей завещать деньги, на которые она и начала свой бизнес. Еще поговаривали, что за воровство она сидела в тюрьме.
Другие же утверждали, что в тюрьме Роза Шип сидела не за воровство, а за то, что зарезала человека. Словом, страшная, загадочная слава этой женщины будоражила умы тех, кому довелось ее повстречать.
Но один факт ее биографии все-таки был действительно точным, так как тому существовало достаточно много свидетелей. Роза Шип на самом деле была проституткой, работала не только на Дерибасовской, но и в притонах Средней и Кривого переулка, в заведениях рангом повыше, чем копеечные забегаловки для солдатни.
В любом случае, Роза Шип в кроваво-красном платье в любое время года была достопримечательностью Одессы. На нее специально шли посмотреть, люди говорили о ней.
К удивлению, эта женщина, которой ничего не стоило подрезать человека, заслужила в городе очень добрую славу. А многие смелые языки поговаривали о том, что вот ее-то как раз и надо было бы выдвинуть в Городскую думу, и толку от нее было бы больше, чем от всех остальных.
История, благодаря которой Роза Шип прославилась, произошла десять лет назад. В Одессе ударила жестокая зима с лютыми морозами, и словно вдобавок к этому разразился кризис нехватки продовольствия и лекарств. Роза Шип тогда только открыла свое заведение, где обустроила все, как говорится, по-богатому – благодаря поддержке очередного любовника, крупного промышленника, который засыпал ее бриллиантами. Как и все женщины, она обожала бриллианты и с вульгарностью девушки из простонародья щеголяла в них везде и всегда.
Кризис голода и холода страшней всего ударил по Еврейской больнице и по сиротскому дому призрения на Пересыпи, которые вдруг, по какому-то упущению городской власти, полностью остались без финансирования.
В больнице и в приюте не было дров, еды, лекарств. А между тем Еврейская больница была единственным прибежищем для бедного населения Одессы. В приюте же содержались обездоленные дети из самых низов.
Никто так никогда и не узнал, зачем, для какой цели Роза Шип поехала в приют на Пересыпи. Одни говорили, что разыскивала своего потерянного в юности ребенка, другие – о том, что хотела кого-то усыновить. Ни то, ни другое не было правдой. Но все-таки по какой-то причине Роза Шип оказалась в сиротском приюте. И прямо в коридоре наткнулась на спрятанные под рогожей тела детей, умерших от болезней, голода, зверского обращения и истощения.
На глазах Розы двое кладбищенских рабочих заворачивали в рогожу детские трупы и выносили в похоронные дроги, стоящие во дворе. Потом их увозили в место, находящееся рядом со Вторым Христианским кладбищем, и зарывали в общей яме.
Обстановка в приюте воистину была ужасающей. В жилых комнатах посиневшие от холода дети жались друг к другу, пытаясь согреться, не было ни еды, ни дров – нечем кормить, нечем топить.
В тот же самый вечер Роза Шип продала все свои бриллианты самому богатому скупщику Одессы Ройзману, а деньги отдала сиротскому приюту. Заболевших детей на деньги Розы отвезли в Еврейскую больницу. Когда же она увидела, что и в Еврейской больнице обстановка такая же, как и в приюте, она продала весь остаток своих драгоценностей и отдала деньги на больницу.
Благодаря этим деньгам и дети из приюта на Пересыпи, и больные в Еврейской больнице пережили суровую зиму.
Весть о том, что совершенно бескорыстно сделала Роза Шип, быстро разнеслась по Одессе. Люди были шокированы: бывшая проститутка, бандерша сделала то, что не решились сделать представители богатых семей и городские чины! В городе даже возник страшный скандал, в результате которого многие чиновники городской управы лишились своих теплых насиженных мест. А городской голова был вынужден пересмотреть вопросы финансирования больниц и сиротских приютов.
Так Роза Шип стала самой популярной фигурой в городе. И незнакомые люди, встречая ее на улице, часто низко кланялись ей в пояс.
Честно говоря, Роза не сильно пострадала в финансовом плане: очередной богатый любовник возместил ей все проданные драгоценности с лихвой. Но добрая слава этого бескорыстного поступка осталась жить в памяти Одессы.
Теплым осенним вечером Роза Шип под руку с очередным кавалером прогуливалась по Николаевскому бульвару. Кавалером ее был богатый банкир из Петербурга, и Роза с увлечением делилась с ним своими планами расширения заведения, собираясь достроить к зданию двухэтажную пристройку. Пара мило беседовала, в их разговоре и взглядах царила полная гармония. И, опираясь о руку купца, Роза повела его к себе. Но идилия длилась не долго. Когда пара уже поднялась на третий этаж, Роза вдруг что-то увидела и резко остановилась, а затем схватилась за сердце, побелела как мел и, обернувшись к банкиру, заявила, что у нее внезапно разболелась голова и их свидание продолжится завтрашним вечером. Банкир удивился, но поцеловал ей руку, пожелал скорейшего выздоровления и пообещал прийти утром к завтраку. После чего покинул заведение, наняв у входа извозчика.
Именно так он говорил в своих показаниях судебному следователю, и у того не было оснований банкиру не верить. Тем более, что это подтверждали несколько человек: личная горничная мадам Розы, клиент заведения, спускавшийся со второго этажа, девица Пашка Рыжая, курившая на лестнице, вышибала Семен у входа, он же дворецкий, метрдотель и привратник, а также извозчик, показавший, что в указанное время отвез банкира с Ланжероновской в отель «Бристоль».
Все эти люди сказали, что банкир ушел от Розы Шип около 9 часов вечера, и заявили в полиции, что ничего подозрительного или необычного в тот вечер не видели, так как никто из них не поднимался на третий этаж.
По словам горничной, мадам велела ей уйти к себе в подвальное помещение дома, где та жила вместе с другими слугами, сказав, что у нее разболелась голова, она хочет остаться одна и лечь спать. Горничная сразу же ушла, а Роза Шип, войдя в свои апартаменты, заперла дверь на ключ. Больше в ту ночь никто ее не видел.
Полицейский следователь по особо важным делам как мог пытал банкира, пытаясь понять, что такого разглядела Роза у дверей на третьем этаже и почему вдруг она так резко решилась прервать важное свидание. А оно действительно было важным, так как близкие подруги Розы подтвердили следователю, что деньги на пристройку она собиралась взять именно у этого банкира. Роза хотела раскрутить его на очень большую сумму. Почему же не сделала этого?
Банкир клялся, что ничего не увидел. Роза поднималась по лестнице первой, он – следом за ней. Поскольку женщина она была высокая, с плотной фигурой, широкая в кости, а щуплый банкир был ниже ее на голову, то, конечно, из-за широкой спины своей дамы он ничего не смог разглядеть. Банкир утверждал только, что состояние ее нервозности было искреннее, и что нельзя так искусственно, по желанию побледнеть, как побледнела Роза прямо на его глазах. Тем более, что особой наблюдательностью банкир не отличался, по сторонам не глазел, не отрывая глаз от фигуры своей спутницы. Следователь бился долго, но так ничего и не выпытал. События же в доме на Ланжероновской развивались следующим образом.
В девять утра для мадам принесла важную телеграмму из Южного банка. Горничная знала, что Роза терпеть не могла рано вставать, но телеграмма требовала немедленного ответа, поэтому она решилась подняться наверх.
Дверь мадам была заперта изнутри. Горничная стала громко стучать – никто на ее крик не отозвался. А дальше произошло то, что заставило ее дико завопить и сломя голову броситься вниз по лестнице за вышибалой Семеном: из-за двери апартаментов Розы Шип стал вытекать пенящийся кровавый ручеек.
Вопли горничной переполошили девиц со второго этажа, и они сбились на лестничной площадке, наблюдая за тем, как дюжий Семен быстро идет на третий этаж, неся огромный топор. Этим топором Семен выбил замок и выломал дверь, открывшую узкий коридор. Справа была спальня Розы, слева – личная гостиная и будуар, а прямо по коридору находилась роскошная, отделанная мрамором ванная. В коридоре все было испачкано кровью, а кровавый ручеек тек из спальни мадам.
Двери всех комнат были открыты, и в воздухе стоял тяжелый солоноватый запах крови. Горничная сразу же хлопнулась в обморок. Кто-то послал за полицией.
Прибывшие полицейские обнаружили следующую картину. Все в спальне Розы было перевернуто вверх дном, а на полу разлиты кровавые лужи. Крови было столько, что она вытекла за дверь. Но хозяйки в спальне не было.
Кровавый след вел в ванную, где все так же было перепачкано кровью – еще больше, чем в спальне. Ванна была испачкана так, словно в ней разделывали тушу. Но, опять-таки, тела не было.
А в гостиной не было никакой крови. Но на столе по центру комнаты стояла плетеная корзина, в которой был обнаружен мертвый младенец женского пола не старше трех месяцев, абсолютно голый. Шея его была повернута набок.
От страшного зрелища едва не поседели видавшие виды полицейские. Что за младенец, чей он, откуда взялся – никто в доме не знал. В доме не было и быть не могло никаких младенцев, ни у кого из девиц заведения, персонала ресторана, прислуги и самой Розы не было детей, и в доме с ними дети не жили. Все в один голос твердили, что младенца в трехэтажном особняке не было никогда. Было также непонятно, куда делась сама Роза, и что это за кровь.
Решили обыскать весь дом сверху донизу и целый квартал. К ужасу присутствующих, через два дома, во дворе одного из заведений на Ланжероновской, где была местная мусорная свалка, обнаружили части тела Розы – половину бедра, часть туловища, руку, ступню. Их опознали близкая подруга Розы и горничная – по браслету, который был крепко пристегнут на руке, и убийца его не снял.
Оставшиеся части тела были обнаружены еще в двух местах: возле Карантинной гавани в порту, возле одной из ночлежек, где обитали портовые рабочие, и на Екатерининской улице, прямо на углу с Дерибасовской. Завернув в холщовую ткань, их просто бросили на землю, даже не пытаясь спрятать. Голову Розы обнаружили в мусорном баке на кухне в самом доме – убийца бросил ее в мусорное ведро. Было понятно, что ее убили в спальне, зарубив топором, после чего в ванне расчленили тело и под покровом ночи вынесли все части трупа, разбросав их в разных местах. Кто же с такой легкостью мог ночью бродить по дому? Судя по всему, убийца расхаживал с частями тела целую ночь. А между тем все это время – до половины шестого утра – в доме было полно людей. Ночь была самым горячим временем и в ресторане, и – тем более – в публичном доме. Похоже, убийца с мешком из холщовой ткани затесался среди тех, кто входил и выходил этой ночью. На третьем же этаже никто его не видел, так как, побаиваясь сурового нрава хозяйки, слуги не решались подниматься туда. Очевидно, именно убийца и принес мертвого младенца в корзине. Это был какой-то чудовищный символ, разгадать который было совершенно невозможно: слишком уж жестоким, страшным, нетипичным было убийство Розы Шип.
Полиция сбилась с ног, выискивая свидетелей, допрашивая всех обитателей дома и прислугу, среди которой было много приходящей, нанятой поденно. Вышибала Семен для допросов был так же бесполезен, как и банкир. Его обязанностью было впускать в дом всех, не особенно вглядываясь в лица (ну какому солидному женатому клиенту публичного дома понравится, если на него будут пялиться в упор!). Клиенты, нанятая прислуга, модистка, поправлявшая туалеты девицам, привезли даже срочный заказ от шляпницы… Еще был помощник аптекаря, который поставлял девицам кокаин. Одним словом, с девяти вечера до половины шестого утра дом посетило бесчисленное количество людей, и многие из них были с мешками, чемоданами, большими сумками, коробками. Убийцей мог быть кто угодно!
Сведений о мертвом ребенке полиции обнаружить не удалось. В городе было такое количество пропавших и мертвых младенцев, что отследить их было невозможно физически. Его могли выбросить на улице, могли выкрасть у подпольной акушерки, стащить труп из какого-то приюта или больницы… Вариантов была тьма! Тем более, что в полицию по поводу такой пропажи никто не обращался. Заявлений не было. И разобраться в этом было все равно, что найти иголку в стогу сена. Особенно учитывая высокую детскую смертность среди детей босяков, бродяг (которых никто никуда не записывал) и бездомных уличных детей.
Следователь, правда, обнаружил кое-что странное, но к чему приписать эту непонятную находку, совершенно не знал. На третьем этаже возле первой двери в апартаменты Розы на полу были обнаружены осколки раскрашенного фарфора, словно от какой-то разбитой статуэтки или вазы. Но так как их было слишком мало, и все осколки были мелкие, определить, что именно разбилось и как этот предмет выглядел раньше, было нельзя.
Впрочем, у следователя не было никакой уверенности в том, что осколки фарфора связаны с убийством. Они могли лежать там и несколько дней, по недосмотру горничной – разбила, к примеру, чашку и плохо подмела.
Убийство Розы Шип раскрыто не было, оставшись одной из страшных тайн южного города. Убийцу так и не нашли.
Глава 3
Митинг в цирке. Гранаты медвежатника Новицкого. Конец начальника тюрьмы. Тюремная камера «палача младенцев»
ОДЕССА, 1 декабря 1918 года
Старое деревянное здание цирка содрогалось от порывов шквального ветра, бушующего над Одессой. Зима была суровой. Снегопады, сопровождаемые этим штормовым ветром, причиняли немало бед жителям города, и без того страдавшим от болезней, голода и разрухи. Но внутри помещения цирка на Коблевской никто не обращал никакого внимания на бурю – там стоял настоящий жар. И жаркие страсти собравшихся кипели в воздухе громом бурных, спорящих голосов, сотрясающих деревянные стены цирка не хуже, чем свирепствующая снаружи буря.
Цирк был полон под завязку. Люди толпились на арене. Они размахивали руками и кричали. Эта густая пелена крика производила довольно неприятное впечатление, и в этом шуме нельзя было разобрать слов. Многие курили, и густой сизый дым стлался под потолком рваными хлопьями, обволакивая лица присутствующих сизой, расплывчатой дымкой.
Несколько человек в директорской ложе наверху внимательно наблюдали за сборищем, которое давным-давно вышло из-под контроля организаторов, то есть мирное собрание плавно перетекло в шумный митинг. Страсти разгорелись нешуточные, и достаточно было нескольких слов, чтобы разошедшаяся толпа вырвалась в город что-либо громить.
Несколько человек в директорской ложе внимательно наблюдали за происходящим.
– Видишь, Японец, – лысый гигант в кожанке, облокотившись о перила ложи, внимательно посмотрел на молодого человека, сидевшего рядом с ним. Его элегантный собеседник расположился в кресле вальяжно – нога на ногу и раскачивал носком элегантного лакированного ботинка. Костюм его был так же щегольски элегантен. На колене лежал котелок, за локтем стояла изящная трость, а в петлице пиджака вызывающе краснела гвоздика. Он являл собой разительный контраст с суровыми, плохо одетыми – неряшливо, в кожанки, в рваную военную форму – людьми, находящимися рядом в ложе.
– Видишь, – несмотря на то что лысый гигант вроде как уважительно и даже доверительно обращался к своему соседу, в голосе его звучала все-таки некоторая насмешка, – толпа кипит. Достаточно пары слов – и всё. Да шо там тюрьму, город возьмем! А ты говорил, шухера не будет.
– Так уж и за город возьмем, – усмехнулся Японец, – шо ж ты, Котовский, жмешься здеся, как барышня на сносях, а не берешь за свою тюрьму? Охолонут твои хлопцы, вот-вот часики протикают – и точка. И никто ни за что не возьмет.
– Может, и так, – лысый бросил на него тяжелый взгляд, – за того и позвали тебя сюда. Подсобишь?
– Ты, Григорий Иванович, ушами-то не финти! – хмыкнул Японец, любуясь носком собственного ботинка. – Давно тебе тюрьма покоя не дает. Вроде как вторая попытка. А может, и тюрьму сами сдадут, как в первый раз было? Может, малость погодём?
– Тюрьму надо брать, – мрачно сказал Котовский, – без тюрьмы французы лишатся важного форпоста в городе и скорее всего город сдадут.
– Красным, – хмыкнул Японец.
– Пускай красным, – Котовский кивнул, – сила за красными, и ты, Японец, это знаешь. Недаром вызвался нам помогать.
– Я еще ничего не решил, – ухмыльнулся Мишка, – передергиваешь, как коню поводья. Ну, допустим, подсоблю я тюрьму. Шо я с этого буду иметь? За какой интерес мои люди под пули пойдут, моих ведь там самая малость?
– Ты знаешь! Было же все оговорено! – заметно занервничал Котовский. – Мы же обсудили с тобой, в кабаке твоем, по полкам разложили. Или хочешь, как собачонка, цыпкаться с этим шаркуном Гришиным-Алмазовым, пока кто другой возьмет город? Ты учти, возьмут без тебя, без нас. Давно пора решить, с кем ты, Японец. Отсидеться, как крыса в норе, уже не получится. Так шо вот тебе проверка на прочность. Именно здесь и сейчас.
– Ладно, угомонись. Рот не рви, бо гланды простудишь, – Японец махнул рукой. – Ну шо, гулять так гулять. Но за пару слов ты сказал.
– За пару слов, – подтвердил Котовский.
Японец обернулся к одному из своих людей, почтительно стоявших за креслом:
– Слышь, Новицкого позови.
1 декабря 1918 года в городском цирке проходил массовый митинг, организованный социалистическими партиями. На нем присутствовало огромное количество одесских воров, членов уличных банд – во главе с Мишкой Япончиком и другими главарями, которые все активней и активней поддерживали красных.
Коренные представители пролетариата, выходцы из самых глубин Молдаванки и других одесских трущоб, люди, ставшие налетчиками, ворами и бандитами по воле жизненных обстоятельств, знавшие жизнь с самых низов, впитывали политические лозунги красных как губка, тем более, что красные обещали им новую жизнь, полное прощение всего того, что они успели нагулять и накуролесить в своей бурной жизни. Мало разбираясь в политических играх и тем более в политической пропаганде, они были той самой благодатной массой, которая, увеличиваясь в размерах, плавно, но уверенно перетекала в ряды большевиков.
Неумная политика военного террора, организованная новым губернатором при участии французских властей, сделала то, что долго не удавалось сделать большевикам: сагитировала нейтральных уголовников, абсолютно равнодушных до того к политике, переходить в ряды красных не только в поиске защиты от неминуемой смерти, но и в знак протеста против того произвола, который приезжие, чужие, ничего не понимающие в городе люди творили против жителей Одессы.
Несмотря на то что митинг был согласован с властями и являлся мероприятием официальным, градус ненависти и эмоций скоро зашкалил до опасного предела. Ненависть к полицейским, к французам, к людям Гришина-Алмазова, как вполне плотное, ощутимое, реальное и живое тело витала в воздухе. Это был выпущенный на волю отчаянный, ревущий зверь, готовый не только пугать, но и убивать. И этот зверь ревел, рвал кровавыми когтями содрогающуюся от грозы землю и обладал такой большой силой, что ее грозные очертания уже достаточно просматривались и выступали из-под его шкуры.
Говорить начал большевик Иван Клименко.
«Бить полицейских! Громить участки!» – Первые же его слова вызвали такой бурный шквал, что стены цирка едва не пали от этого рева. Он озвучил как раз то, о чем думали все, ради чего и собрался весь митинг – прекратить произвол полицейских властей.
Но речь Клименко, несмотря на страстную пламенность, не имела конкретики, той логической завершенности, которая стала бы последней каплей, выпускающей на волю ревущего зверя. Именно тогда в самый центр арены, где импровизированно создали нечто вроде трибуны для выступавших, пробился некий Новицкий, в последнее время – активный участник большевистского движения, и бросил то, что взорвало толпу:
– Отобьем наших! Бей участки! Громи тюрьму!
Мало кто заметил, что Новицкий – на самом деле опытный «медвежатник» из банды Мишки Япончика – прежде чем толкать речь, о чем-то довольно серьезно переговорил со своим главарем. Выслушав подробные инструкции от Японца, Новицкий вылез на трибуну и призвал немедленно идти громить тюрьму, по дороге освобождая заключенных в полицейских участках.
Это было уже конкретное руководство к действию, которого не хватало вопящей, плохо организованной толпе. После этого у нее появился хоть какой-то конкретный план, митингующих охватила страшная жажда действий. Вопя и стреляя в воздух, толпа буквально разнесла входные двери цирка и вырвалась на улицу.
Политические шли вместе со своими лидерами, уголовников же, по распоряжению Японца, вел Новицкий. Оружия у политических не было, в отличие от уголовных, которые были хорошо вооружены, а кроме того, несли с собой несколько ящиков гранат. Эти гранаты и винтовки дал Японец – по договоренности с руководством красных. Без оружия любой митинг был бы просто сотрясанием воздуха, не имеющим никаких конкретных целей.
Японцу выгодно было создать в городе хаос и выпустить огромное количество заключенных, в том числе и политических, которых без счета нахватали власти.
Вместе со своими телохранителями Мишка сел в автомобиль, где уже находился Котовский, и поехал к тюрьме.
По дороге Григорий Иванович вышел, чтобы присоединиться к политическим, громящим полицейские участки. Японец же со своими людьми поехал к окончательной и бесповоротной точке боевых действий – одесской тюрьме на Люстдорфской дороге.
Митингующие с песнями разгромили Бульварный полицейский участок, освободив четыреста политических заключенных, которые тут же присоединились к ним. Большинство этих людей имели прямое отношение к уголовному миру. Именно о них в Центральный комитет компартии писала лидер одесских большевиков Софья Соколовская: «Одесский пролетариат – это бандиты, спекулянты, ворье, уголовники, гниль. Возможно, мы попадем в самое отчаянное положение и накануне падения Одессы останемся без средств. А в Одессе революция не может двигаться ни на шаг без денег, такой это город».
Около шестисот человек, вооруженных до зубов (оружие щедро раздавалось от имени Мишки Япончика), подошли к воротам одесской тюрьмы на Люстдорфской дороге. Начальник тюрьмы с малочисленным, плохо вооруженным гарнизоном Тюремного замка ударился в панику и стал слать гонцов с просьбой о подмоге во французский гарнизон. Все гонцы были схвачены и расстреляны осадившими тюрьму – не пробился никто.
Переговоры были абсолютно невозможны. И если прежний начальник тюрьмы принял решение открыть ворота и выпустить всех заключенных, то в этот раз об этом не могло быть и речи.
Во-первых, за такое самоуправство он был бы расстрелян французами. Во-вторых, толпа жаждала крови, уголовники и политические были доведены до такой степени ненависти, что переговоры с ними были уже невозможны. А в третьих, неумный, недальновидный и очень жестокий начальник одесской тюрьмы ничего не понимал в городе, в который попал, и творил в стенах тюрьмы такое жестокое самоуправство, что одесским уголовным миром ему давным-давно был подписан смертный приговор.
Дальше все произошло быстро. Опытный «медвежатник» Новицкий, отлично умеющий обращаться с замками, бросил несколько гранат в самую сердцевину замка ворот и взорвал их. Вооруженная толпа ворвалась во двор тюрьмы, где перестреляла немногочисленный гарнизон Тюремного замка.
Часть людей рассредоточилась по тюрьме, по всем помещениям, отделениям и подвалам, и принялась освобождать заключенных, всех без разбору – и уголовных, и политических. Другая же часть принялась искать начальника тюрьмы, которому, на его счастье, удалось спрятаться.
Но его выдал кто-то из бывших заключенных, который видел, как в попытках спрятаться тот бежал через тюремный двор. Он и привел бандитов к сараю в тюремном дворе, где заперся обезумевший от страха начальник.
Толпа окружила сарай. Дверь забили снаружи, все стены обложили соломой и облили керосином, а после этого подожгли.
Двор тюрьмы огласили страшные вопли – начальника тюрьмы просто сожгли заживо. Очень скоро сарай превратился в гигантский пылающий костер, а по двору разлился тошнотворно-сладковатый запах горелого человеческого мяса.
Бывшие заключенные между тем развлекались вовсю. Все они были одеты в тюремную одежду – в арестантские робы. Даже после такого удачного освобождения и разгрома тюрьмы показаться в городе в таком виде было невозможно. Потому часть заключенных остановила следующий по Люстдорфской дороге трамвай. Они высадили всех пассажиров и отобрали у них одежду, взамен оставив страшные арестантские робы. И долго еще было видно и слышно, как по улицам Одессы разбегались перепуганные люди в полосатой арестантской одежде на голое тело – совсем не по сезону.
Японец вместе с двумя адъютантами и хорошо вооруженной охраной из десяти человек спускался по лестнице в подвал Тюремного замка. Он когда-то сидел в одном из этих корпусов и, воспользовавшись случаем, решил зайти посмотреть. Но в тюрьме уже успело измениться многое, а потому та часть подвала представляла собой сплошные одиночки для отбывающих пожизненное заключение.
– Вот, Майорчик, третья дверь справа, сколько вспомнить всего, – весело разглагольствовал Японец, очень довольный тем, что в очередной раз показал себя королем (ведь без его людей и его оружия красным ни за что не удалось бы даже приблизиться к воротам Тюремного замка). – Весело пролетело за жизнь, – продолжал он, вдыхая знакомый запах, – а теперь смотри. Пожизненные, швицеры злосчастные за каменном мешке. Их тоже отсюдова кинули?
– Кинули, – подтвердил Майорчик, – за уши ноги подобрали, только в зубах засвистит. Такой шухер наделают в городе, мама дорогая!
До заветной двери бывшей камеры Японца оставалась еще одна дверь, как вдруг она распахнулась со страшным грохотом, и оттуда с искаженными лицами вылетели бандиты. Они тряслись, ничего не видели перед собой и налетели на Японца и его людей.
– Да за тихо! Шо за шухер? – удивился Японец.
– Ва… ва…вы… – выл один из бандитов, производя впечатление умалишенного, а другой, заикаясь, мычал: – Там… там…
Третий же, белый как смерть, без устали осенял себя крестным знамением. Японец переглянулся с Майорчиком, после чего, запустив вперед вооруженную охрану с наганами, зашел внутрь – посмотреть.
Камера была самой обычной. Куча гниющей соломы на полу вместо кровати, дырявое ведро вместо параши, узкое оконце – решетка под потолком, чадящая керосиновая лампа, стены, источенные влагой и покрытые грибком, и запах, отличающийся от всех остальных страшный тюремный запах, который, ощутив один раз, больше невозможно забыть.
Напротив гнилой соломы стояла большая деревянная корзина, накрытая крышкой. Японец и Майорчик медленно подошли к ней. Майорчик отодвинул крышку и, увидев содержимое, с каким-то страшным горловым звуком отпрянул назад. Японец, белый как мел, звуков не издавал, но тут же прижал ко рту тонкий носовой платок.
Большая высокая корзина сверху донизу была забита трупами младенцев. Мертвые, посиневшие, абсолютно голые, со свернутыми набок головами, они были свалены в корзину с ужасающей плотностью. Из корзины шел жуткий запах.
Страшное зрелище произвело впечатление абсолютно на всех – никому из проникнувших в камеру мужчин не доводилось видеть ничего подобного.
– Что же это… вейз мир… – прошептал Майорчик. Японец же, быстро сумевший прийти в себя, сказал:
– Корзина палача. Он работал…
Все быстро вышли из камеры. Страшная находка напрочь отбила у Японца охоту предаваться воспоминаниям, и в сопровождении своих людей он быстро поднялся наверх. В тюремном дворе толпилось много людей. К Японцу подошел Котовский.
– Там, в камере пожизненных, – сказал Мишка, – мертвые младенцы в корзине… Это что?
– Местные тюремные особенности, – с горечью ответил Котовский, – раньше такого не было. Этот гад, начальник тюрьмы, новые порядки ввел. Аборты заключенным делать рискованно – как объяснить в документах смертность от них? Поэтому женщины рожают младенцев – или от охранников, или уже так попали в тюрьму. Ну а руководство тюрьмы, чтоб младенцев в приют не сдавать и правду о том, что в тюрьме происходит, скрыть, нанимает повитуху или кого-нибудь из заключенных, который их душит после рождения. Потом их зарывают ночью, тайком, за стенкой Второго кладбища – и концы в воду. Все шито-крыто. Заключенная как родит, ребенка сразу уносят, а потом ей говорят, что умер сразу после рождения. Ребенка же, живого, отдают на расправу и отправляют на тот свет.
– В камерах для пожизненных? – удивился Японец.
– Ну, значит, наняли убийцу какого-то из тех, кто отбывает пожизненное. Не каждая ведь повитуха на такое пойдет. А пожизненное, в основном, серийные убийцы получают. Наверное, начальник тюрьмы нашел такого, за определенные льготы в содержании.
– И вот такое… Шо младенцев душит… сейчас вышло в город? – нахмурился Японец. – Вышло прямиком в город? В мой город?
– Так все вышли, – пожал плечами Котовский, – решено было всех заключенных освобождать. И серийных убийц тоже.
– Надо хоть знать, кто в той камере сидел, – не мог успокоиться Японец.
– А как узнать? Ребята вон тюрьму громят! Все бумаги во дворе жгут. Как теперь узнаешь?
Впрочем, Японец все-таки заставил Майорчика найти кого-то из заключенных. Мелкий воришка, подряженный тюремной охраной для обслуживания тех, кто сидел в подвалах, трясся от страха перед самим Мишкой Япончиком.
– Вторая дверь справа… Кто сидел? – строго допытывался Японец.
– Так убивцы там были… гы… – Воришка был придурошным, он мог только испытывать страх, и не понимал, чего от него хотят, – убивцы по жизни сидели… Не видел я их… Миски только подавал в отверстие… Лиц не видел…
– А охранники говорили, кто?
– Убивцы сидели… страшные… се… си…
– Серийные. Дальше! – Японец злился от нетерпения.
– Ну да… эти… серийные… в подвале… а кто и за шо, охранники не говорили ни за шо, ни за так, как их зовут…
– А что особое в ту дверь ты носил? Такое, шоб не как за всем?
– Вино туда давал. Бутылки. Булки еще белые. А один раз шоколад.
– Видишь, что я тебе говорил, – сказал Котовский, присутствующий при разговоре, – начальник тюрьмы нанял заключенного серийного убийцу на такую гадость. Тот за льготы и подчищал грязные дела. Только ты брось. Мало что бывает в жизни. Где ты его теперь найдешь – растворился, как рыба в воде.
Глава 4
Конец дома Тани на Елисаветинской улице. Увольнение из Оперного театра. Кризис весны 1919 года
Бой начался внизу на Конной, на самом ее углу и Софиевской, и постепенно переместился вверх. Выстрелы, взрывы гранат, крики раненых и умирающих, отчаянные вопли нападавших, вся эта какофония ужаса, хаоса, уличной войны захватила спокойные районы города, разрывая тихие улицы звуками взрывов и выстрелов. И тем не менее в хаосе этих огненных вихрей люди все же ходили по улицам, где текла самая настоящая кровь.
Последние бои между остатками деникинской армии, отрядами, еще не покинувшими Одессу (несмотря на то что все уже знали: французы уходят), уличными бандами под руководством Мишки Япончика, большевиками, подбирающимися вплотную к центру, группами всевозможных политических и анархистских налетчиков и прочих вооруженных людей превратили некогда цветущий город в сплошную зону боевых действий, залили отчаянным пламенем жестокой уличной войны. Обострились схватки полиции и бандитов. Хорошо вооруженные отряды уличных банд теперь с оружием в руках оказывали сопротивление полиции и солдатам.
Несмотря на то что при помощи жестокого террора не удалось справиться с бандитами, власти не сделали никаких выводов из своего провалившегося плана и продолжали посылать вооруженные отряды солдат и полиции, которые вступали в перестрелку с бандитами и несли жестокие потери.
Так, на углу Софиевской и Конной в нелепейшую засаду угодил отряд одного из людей Японца – Изи Штыря. Напоровшись на солдат, бандиты открыли огонь и вступили в жестокую уличную схватку.
Сам Штырь жил в доме на Елисаветинской улице, квартиры в котором Японец снимал для своих людей. Кроме Изи, на втором этаже трехэтажного дома дверь в дверь с ним жила Алмазная, о которой в воровском мире уже начинали ходить легенды. Бандиты Японца заселили также и первый, и третий этаж. А потому рано или поздно дом на Елисаветинской должен был попасть под прицел полицейских отрядов.
Изя Штырь при помощи огня пытался пробиться вверх по Конной, даже не подозревая, что вторая часть полицейского отряда как раз и ждет его на Елисаветинской, устроив засаду в самом доме. А потому, когда Изя с легкостью пробился вверх, сам не понимая, как произошло, что путь немного очистился, он принял решение подняться в квартиру, забрать деньги и ценности и как можно скорей покинуть этот дом и ставший опасным район города.
Но вместо припрятанных богатств за дверью квартиры Изю ждала пуля в грудь. Получилось так, что неопытный шпик открыл огонь, заслышав поворот ключа в замке. Поскольку первым шел Изя, пуля и попала ему в грудь. Ранение оказалось смертельным – и это несмотря на то, что каждый полицейский получил приказ брать бандитов живыми и не стрелять на поражение! Штырь погиб сразу, и можно сказать глупо. Другие же его люди, поднявшиеся наверх, также почти сразу угодили в ловушку. В коридорах дома прозвучала стрельба.
На помощь людям Изи бросились бандиты из других квартир. Прямо на лестничной клетке завязался нешуточный бой – жестокий, несмотря на свои мелкие габариты.
Перевеса не было до тех пор, пока кто-то из людей Изи не догадался бросать гранаты в квартиру на втором этаже. Ряд взрывов прозвучал как бы единым залпом. Деревянные перекрытия старого дома были сделаны из камыша. Начался пожар. Прошло всего несколько минут, и дом на Елисаветинской, оплот людей Мишки Япончика, вспыхнул, как сухая щепка.
Пламя вызвало панику среди полицейских, засевших в засаде. Они пытались выбираться, выпрыгивали из окон, но попадали прямиком в руки к бандитам, окружившим дом. И те их добивали без всякой жалости – выстрелами, ножами, камнями и палками.
Огненный костер взметнулся к небу, словно пытаясь ухватиться за облака своими жуткими щупальцами. Гибли и бандиты, и полицейские – стон внезапной, мучительной смерти повис в воздухе. Страх так же, как черный дым, забивал горло любого, кто смотрел на страшную картину пожара, смерти и разрушения.
В малый репетиционный зал Оперного театра набилось достаточно много людей. Здесь был хор, все статисты, обслуживающий персонал – армия многочисленная, но непрофессиональному глазу зрителей совершенно не видная. Наблюдая прекрасный спектакль на сцене, публика редко задумывается о том, какое именно количество людей трудится, чтобы создать эту красоту. Важным является и другое: каждый крошечный, будто бы незначительный винтик является неотъемлемой частью этой машины. Стоит одному винтику выйти из строя – и никакого результата не будет, публика уже не увидит всей этой сияющей красоты.
Так вот: в малом репетиционном зале театра собрались как раз те не видимые зрителям «винтики», без которых невозможна целая картина прекрасного спектакля.
Директор театра страшно потел. Руки его тряслись, время от времени он доставал из кармана огромный платок, больше похожий на маленькую скатерть, и вытирал им лоб и залысины на висках, на которых выступали жирные, какие-то почти малиновые капли пота. Было видно, что для него мучительно находиться здесь, мучительно говорить, и все вокруг давным-давно стало вот таким жестоким мучением.
Вместе с неизменной Фирой Таня сидела в третьем ряду и так же, как и все в зале, знала, о чем будет говорить директор. В общем, об этом знали все в городе.
Французы уходят. Город будут эвакуировать. Одессу сдают красным. Театр закрывают до особого распоряжения новых властей. Все статисты и низший персонал разгоняются без сохранения жалованья.
Перед этим в Одессе точно так же позакрывались все кабаре. И о том, что закрывается кабаре «Ко всем чертям!», Таня узнала от Тучи.
– Японец забирает свою часть контроля и вынимает капитал, и мы уходим в тень, – рассказал тот, – кабаре будет закрыто. Держать его дольше смысла нет.
– А владелец? – Несмотря на шок от этого сообщения, Таня все-таки не могла удержаться от такого вопроса.
– Так владелец пролетел, как фанера над Парижем, – хмыкнул Туча. – Сам виноват, дурак. Нашел когда деньги в кабаре вкладывать! Сейчас такое время, шо ни охнуть, ни сдохнуть. Знай держи зубы за пазухой да финти ушами.
Несмотря на то что Туча был бандитом, характер у него был добрый. И, увидев расстроенное лицо Тани, он попытался ее утешить:
– Да не страдай ты! Сегодня одно закрылось, послезавтра – новое откроется. Нет такой власти, шо людям гульки да водку запрещать будет. А этот фраер ушами выгребет. В Париж наверняка уедет. Говорят, он князь.
– Князь, – машинально повторила Таня, опуская глаза в пол. Но Туча не понял, что значило для нее это слово.
– Ну да, князь. Наверняка он уже в Париже. В последние дни перед закрытием его никто и не видел. Так шо точно сделал финт ушами – и в Париж, – снова повторил он.
– Значит, уехал. – Эта мысль полоснула Таню болью по горлу, и она с тех пор больше не ходила на Екатерининскую и не пыталась увидеть Володю Сосновского. Что-то горькое запеклось в душе, и Таня вдруг неожиданно для себя самой поняла: он окончательно для нее потерян, они никогда больше не встретятся, потому что целая пропасть, не только море, разделяет ее и далекий Париж…
И вот теперь, сидя в Оперном театре, прекрасно понимая, что отныне и навсегда разрушен весь ее мир, Таня чувствовала себя невероятно спокойной, словно наблюдала картинку со стороны. И неожиданно для нее самой это странное спокойствие стало защитным щитом, способным укрыть за своими надежными краями все ее житейские потери и жизненные бури.
Толпа начала роптать, и директор, скомкав платок и сунув его в карман, откашлялся и поднялся с места.
– Вот увидишь, нас всех выкишнут, – шепнула на ушко Тане Фира, – выгонят прямиком за улицу.
– Без сомнений, выгонят, – кивнула Таня, – потому он так и волнуется.
Это было правдой, и все поняли ситуацию, когда директор театра начал говорить. Цирковых увольняли без сохранения жалованья. Театр закрывался до особого распоряжения новых властей. Работа над спектаклями и новыми постановками будет свернута. Дирекция театра очень просит бывших сотрудников не оставлять свои личные вещи.
– Вот видишь! – Фира толкнула Таню острым локтем. Та в ответ пожала плечами – с удивительным безразличием.
Между тем среди артистов поднялся ропот. Раздались громкие крики:
– Это безобразие! Хоть бы половину жалованья сохранили! У меня дети! Чем я буду кормить детей! Кабаре позакрывались, где мы выступать будем!
– Тише, тише! – Директор умоляюще поднял руки вверх. – Театр больше не финансируется властями, спектакли нам давать запрещено – откуда взять вам половину жалованья? Кто вам платить будет эту половину? Мы тоже в таком же состоянии, как и вы! Поверьте, эта мера временная, все очень скоро образуется!
– Образуется, как же! – выкрикивали из рядов. – Можно подумать, красные придут к власти и сразу театр откроют! Гришин-Алмазов казну выгреб, чинуши его в Париж готовятся с деньгами бежать! А мы подыхай с голоду!
– Ситуация действительно тяжелая, но… – попытался что-то сказать директор, и в этот момент в него запустили бутафорским башмаком, а следом полетели разные вещи. Люди кричали, улюлюкали, свистели, поднимаясь с мест, били мебель, бросая в директора обломки и щепки. Вынужденный укрыться за большой декорацией в виде старинного замка, директор продолжал оттуда что-то вещать, но никто не желал его слушать.
Начался самый настоящий погром. Артисты громили мебель, остатки декораций, стены, зеркала, окна… Это действительно был приступ отчаяния, вдруг сплотивший толпу, – приступ отчаяния и обреченности, который порой бывает страшней и убедительней любых доводов рассудка.
На этом громком фоне Таня вместе с Фирой тихонько выскользнули из репетиционного зала. Им в спину прозвучал жуткий грохот и пронзительний жалкий визг: чем-то тяжелым били рояль, пытаясь выдернуть клавиши.
– Господи, как жаль, – в глазах Фиры стояли самые настоящие слезы, – неужели мы никогда больше не вернемся сюда?
– Не знаю, – честно ответила Таня. На самом деле прощание с Оперным театром не было для нее такой мучительной потерей. Она давно поняла, что совершенно не годится в артистки. И еще поняла, что тратить время на чужие дела больше не будет. Ведь театр был чужим делом, не ее.
– Что ты теперь будешь делать? – Фира наконец успокоилась. Девушки спускались по тяжелой винтовой лестнице.
– Не знаю, – снова пожала плечами Таня, – домой пойду. Надо отдохнуть.
– Да… тебе… конечно… – протянула Фира, – ты никогда выступать не любила. А я артистка! Я не могу без театра!
– Иди домой, артистка, – улыбнулась Таня.
Они вышли на улицу, где было по-весеннему прохладно, и небольшой мороз даже щипал нежную кожу.
– Как они могут закрыть театр? Это ужасно! – всё не могла успокоиться Фира.
– Поверь, могут. Сейчас смерть вокруг – какой театр? – Таня была более реалистична.
– Но без культуры, без искусства…
– Фира, разуй глаза! – Таня не смогла сдержать негодования. – Уличные бои в городе! Буржуи готовятся драпать на всех четырех конечностях! Со дня на день французы оставят город и в Одессу войдут красные! И на этом фоне тебе театр с культурой?
– Ты так говоришь, как будто… Как будто… – вспыхнула Фира. – Культура самоценна. Она всегда цель.
– Фира, – Таня взяла себя в руки, – сейчас не надо ходить по улицам. Домой иди. И я тоже пойду. Потом встретимся.
Всхлипывая, Фира обняла подругу. Внезапно у Тани вдруг возникло какое-то странное предчувствие, что больше никогда в жизни она ее не увидит. Стремясь поскорее прогнать мрачные мысли, Таня распрощалась с Фирой.
В начале Елисаветинской, где находился ее дом, Таня вдруг увидела огромное количество людей. Они были повсюду: казалось, как тараканы, они повыползали из всех щелей. На земле лежало что-то, прикрытое рогожами. Их было много. И Таня вдруг поняла: так накрывают трупы.
Она ускорила шаг. Сердце ее вдруг заболело мучительно, стало выскакивать из груди… В середине квартала она увидела обгоревшие руины. Вместо дома, где она жила, стоял догорающий, жутко дымящий, почерневший остов. Сдерживая крик, она схватилась руками за горло. Земля поплыла из-под ее ног. Но чья-то сильная рука не дала ей упасть. Обернувшись, она увидела Федьку Тертого, «медвежатника» одной из банд Японца.
– Алмазная, ты тоже жила в этом доме? Ну, тебе повезло! – оскалился он.
– Повезло?! – Это слово быстро привело Таню в чувство. – Мне повезло?!
– А то! Шпики в доме засели, фараоны. Они Изю Штыря давно пасли, он за них в засаду залетелся. По дурости и открыл пальбу. В дом гранаты стали кидать. А он камышовый, вспыхнул, как спичка. А Изя Штырь совсем… того.
– Что – того? – Таня зло посмотрела на Федьку.
– Ну что – того? Убит значит. Замочили его фараоны. Это потом уже дом подожгли. Я к концу пожара прибежал. Там наших полегло много. Сгорели заживо.
– А вещи… Что-то из вещей удалось спасти?
– Какие вещи, ты шо, шуткуешь? Я ж тебе говорю – такая пальба была, шо ховайся кто может! А ты за вещи говоришь. Ну кто их будет под пулями на горбу таскать?
Все внутри Тани помертвело. За какой-то короткий промежуток времени она лишилась всего. Там, в доме, сгорели все ее вещи, все отложенные деньги на черный день. Все надежды на будущее, все воспоминания. Всё, абсолютно всё. Она закашлялась от подступившей к глазам гари, снова поплыла куда-то вниз…
– Эй, – Федька держал ее за плечи, – эй, Алмазная! У тебя там чего, тряпки сгорели? Ты жила там?
– Жила.
– Да не парься ты! И барахло, и деньги опять заработаешь. Сейчас такая гульба у наших пойдет – кто хочешь сможет заработать. Так что не страдай! Подумаешь, подожгли хибару! Так за шо, она одна на земле?
Тане было страшно. Горький ком, подступивший к горлу, никак не желал уходить.
– Ладно, Федька, – голос ее дрожал, – пойду я. Темно. Уже поздно.
– Да куда ты пойдешь? Хочешь, провожу? Опасно – вон скока швали по углам валандается. За жабры возьмут – хоть зашибись.
– Нет, провожать не надо. Не первый день гуляю в городе. Свою не возьмут.
– Наши-то да. А как фараоны? А прищепки эти партийные, шо за наши ряды цепятся?
– В любом случае, доберусь, – сказала Таня.
– Ты к Японцу пойди! Поможет Японец.
Последние слова Федьки буквально ударили ее в спину, рикошетом отскочив от всего, что оставалось в прошлой ее жизни и что там пугающе догорало. Куда не надо было поворачиваться.
Больно было дышать, больно было жить. Таня спотыкалась, подносила ладони ко лбу, останавливалась, словно задыхаясь в приступе мучительной астмы. Затем решительность возвращалась, и она снова шла.
Мысли путались, ноги отказывались держать, но шаг за шагом вырисовывалось что-то знакомое, хоть и смутное. Что-то, принимающее реальные очертания, способное хоть ненадолго успокоить, удержать.
Мысль – куда пойти, возникла из подсознания. И, обдумав все тщательно, Таня сказала самой себе, что это не такой уж и плохой выход. От четкости уже принятого решения стало даже легче дышать.
Дом догорал за ее спиной. Распрямив плечи, Таня медленно, но уверенно шла по улицам Одессы. Была холодная весна 1919 года. Весна, ставшая бедой не только для Тани, но и для всех жителей города.
Эта весна 1919 года принесла в Одессу страшный экономический и продовольственный кризис – город был переполнен людьми, и никогда еще обстановка здесь не была настолько тяжелой.
Одесса была преисполнена самых невероятных контрастов. С одной стороны – элитные высшие классы российского общества, бежавшие на юг в течение всего 1918 года от большевиков, захвативших Петербург и Москву. К ним присоединились жители Киева, спасавшиеся от петлюровцев. А с другой стороны – в город хлынуло огромное количество бывших представителей так называемого среднего класса: безработных чиновников, младших офицерских чинов, лишившихся своей армии, бывших офицеров без должностей, званий, заработка, каких-либо навыков и профессиональных умений, спекулянтов и аферистов всех видов, сортов и мастей, стремящихся сделать в этом пестром людском море быстрые и легкие деньги.
А с третьей стороны, был криминал – огромное количество членов уличных банд под общим руководством Японца. Криминал этот постоянно обновлялся вливанием «свежей крови» в виде дезертиров из многочисленных армий, безработных, крестьян, разорившихся фермеров, жуликов, матросов и портовых босяков, ставших безработными рабочих, которые являли собой очень большую прослойку населения.
Если раньше рабочие на заводах имели хоть небольшую, но постоянную зарплату и при этом стабильность и – ну хоть ожидаемую – уверенность в будущем дне, то с приходом политического хаоса заводы и фабрики были закрыты, и огромное количество рабочих оказалось на улице вообще без куска хлеба. Если раньше, опять-таки, учитывая имущественную стабильность, рабочие отрицательно относились к криминальным кругам, то теперь их симпатии резко переместились в сторону красных и одесского криминала, поскольку большинство одесских бандитов были на стороне красных.
По данным пятнадцати профсоюзов Одессы, на 1 января 1919 года безработица составляла около 70 процентов! Безработные пополняли лагерь революционеров и мечтали о воцарении в городе красных – ведь именно они представляли собой самую благодатную почву для большевистской агитации и пропаганды. И опытные пропагандисты, умеющие работать с людьми, большевики, не могли этим не воспользоваться.
В Одессе тогда действовали самые серьезные революционные организации, которые постоянно пополнялись опытными кадрами из центра. Среди них были следующие общественные группы и большевистские, партийные объединения: Национальный центр, Совет земств и городов юга России, СГОР, Союз Возрождения, Революционная сила, Совет большевистского объединения и другие. Даже Городская дума, действующая в городе, была социалистической по своему составу: из ее 120 гласных представителей около 70 человек были членами различных социалистических и большевистских партий.
Так же обстояло дело и в одесском профсоюзе – Центрпрофе, который полностью находился под контролем эсеров. Социалисты в городской власти делали всё, чтобы ослабить Добровольческую армию, находящуюся в городе, ослабить ее позиции, ликвидировать поддержку среди местного населения и дискредитировать действия добровольческих генералов (в частности, Гришина-Алмазова). Надо сказать, что с идеей дискредитации Гришин-Алмазов, заслуживший лютую ненависть в городе, отлично справлялся и сам.
Французы разобраться в тонкостях русских политических смешений никак не могли. У них огромный шок вызывал тот факт, что большинство русских членов городского правительства не поддерживают свою русскую Добровольческую армию и мечтают поскорее убрать ее из города. Кроме того, идеи большевиков, которые так жадно впитывали представители самых низов общества, для французов были абсолютно чужды. Они не понимали, почему странные, неестественные и даже преступные идеи способны вызывать такую горячую поддержку в местном обществе.
И уж никак они не понимали (и не могли понять) тот факт, что вор считался вроде как и не вор, а уважаемый член общества, что большевики набирали свои кадры из воров, а воры были за красных горой, и что самый главный вор, которому подчинялись все остальные, почему-то считался уважаемым человеком в городе и даже именовал себя королем. И почему полиция, с одной стороны, расстреливала мелких сошек, всяких босяков и бродяг, а с другой – категорически отказывалась вести серьезную охоту за этим самым королем, люди которого все более открыто примыкали к красным.
Рассчитывая на Добровольческую армию и делая ставку на то, что эту армию поддержат в Одессе, французы потерпели сокрушительное поражение.
Глава 5
Поражение французов. 2 апреля – эвакуация Одессы. Решение Володи Сосновского. Рассвет в порту – живая история. Отряды атамана Григорьева
Новое французское командование решило изменить систему гражданского управления на юге, и в частности в Одессе, и совершенно отмежеваться от лиц, назначенных в Одессу руководителем Добровольческой армии.
Французами специально была создана искусственная должность: «Главнокомандующий Одесским регионом», на нее был назначен генерал-лейтенант А. Шварц, проживающий в Одессе. Он принял приглашение французов и занял должность, но не поставил об этом в известность генерала Деникина. Приказ о назначении Шварца лично подписал генерал Д’Эспере. Он же отдал следующий очень серьезный приказ: генералы Гришин-Алмазов и Санников, которые были назначены в Одессу генералом Деникиным, должны были немедленно, в течение 24 часов, покинуть Одесский регион. Это было серьезное изгнание, которое практически уничтожило прочные позиции деникинцев на юге. Опальные генералы выехали первым же попутным пароходом в Новороссийск.
При Главнокомандующем был организован орган гражданского управления регионом – Совет обороны и продовольствия с несколькими комитетами, которые имели совещательные права и были составлены исключительно из левых кадетов. В Совет обороны вошли: Андро, Рутенберг, Ильяшенко, одесский городской голова Брайкевич и еще несколько членов городской управы. Доминирующую роль в Совете играл ярый большевик и революционер Рутенберг, который открыто требовал сдать город красным.
Все же остальные члены Совета обороны не имели столь ярко выраженной политической окраски. Это были ловкие, энергичные личности с налетом авантюризма, умеющие приспосабливаться к существующим обстоятельствам.
13 марта 1919 года, после упорных и кровопролитных боев, союзники сдали войскам атамана Григорьева Херсон и Николаев. Одесса была объявлена на осадном положении. В руки генерала Д’Ансельма перешла вся полнота власти в городе и всем регионе.
18 марта 1919 года, после торжественного молебна, совершенного митрополитом Платоном в центральном соборе города на Соборной площади, Одесская стрелковая бригада, сформированная из подразделений Добровольческой армии, выступила на фронт. Она должна была оборонять участок черноморского побережья в районе Очакова до железнодорожной линии Одесса – Николаев. Дальше к северу позиции занимали французские, польские и греческие войска.
Но очень скоро эта линия обороны была прорвана. Французское военное командование, готовя этап операции, не имело ни четкой идеологической программы помощи, ни плана дальнейших действий, ни элементарной военной стратегии. А потому провал военной операции французов под Очаковом стал настоящим позором для всех войск союзников.
Неудача политики союзников и, как следствие, эвакуация войск Антанты из Одессы произошли по многим причинам, но одной из основных называют непоследовательность, половинчатость французской политики по отношению к Белому движению. А также полная неспособность разобраться в качествах, целях и стратегиях русских политических и общественных групп, которые вечной войной между собой способствовали укреплению позиций большевиков в городе.
Вместо того, чтобы объединить белые группы и заставить их договориться между собой, французы поддерживали группы откровенной красной направленности, заставляя белые группы противостоять друг другу. Эта неспособность разобрать «красный оттенок» многих политических групп стоила французам не только полного провала политики в Одесском регионе, но и настоящего позора в военных операциях, которые были бесславно проиграны.
Введя войска в Одессу, французы так и не смогли разобраться в тонкостях местной политической обстановки, определиться с правильным выбором местных лидеров, создать общественную основу из организаций, на которые могли опереться, провести эффективную информационную и агитационную кампанию, которая в доступной, простой, понятной форме объяснила бы местному населению цель присутствия в регионе иностранных войск.
Вместо этого произошло насаждение политики, абсолютно чуждой местному колориту и противоречащей менталитету южного региона. А вместо поддержки войска союзников стали вызывать у местного населения откровенную ненависть и злость.
Французов стали воспринимать не как освободителей, а как оккупантов. В результате с ними начали бороться жесткими партизанскими методами, против которых методы властей и полиции были бессильны.
Различные политические группы, находящиеся на разных платформах, но одинаково ненавидящие французских оккупантов, смогли объединить красные. Если до появления войск Антанты в городе поддержка большевиков не была высокой, население не выступало за них так откровенно, то присутствие французов и союзников сделало регион большевистским. Если первое красное восстание в городе потерпело поражение потому, что у красных не было достаточно людей, чтобы захватить город, то с приходом французов количество симпатизирующих большевикам выросло настолько, что, случись второе красное восстание, живым из него не выбрался бы ни один француз. И французы поняли это очень быстро.
Соперничество, местная вражда политических групп, неспособность объединиться для борьбы с общим врагом – красными создали у французов впечатление полной обреченности абсолютно всех их усилий. Стало ясно, что французам не удастся выстроить крепкую местную власть. А значит, само их присутствие в регионе оказывалось полностью бессмысленным.
В своих воспоминаниях генерал Д’Эспере писал о том, что причиной неудачи кампании стали начальники, сделавшие ставку в регионе на устаревшие, реакционные элементы, связанные со старыми порядками, которые никто больше не желал поддерживать.
Утром 2 апреля 1919 года французский штаб официально объявил, что Одесса срочно эвакуируется в течение 48 часов.
В ночь на 2 апреля в кабинете городского головы Брайкевича раздался телефонный звонок. Звонил Рутенберг из Совета обороны. Он сообщил о решении французов начать эвакуацию, о том, что официально об этом будет объявлено утром. И еще о том, что эвакуация союзников Антанты фактически означает сдачу города большевикам.
На следующие сутки ночью французское командование провело встречу с представителями Одесского Совета рабочих депутатов, на которой были обговорены все условия перехода города от союзников к большевикам.
Утром 3 апреля 1919 года было срочно созвано совместное заседание старейшин Городской думы, делегатов Советов профсоюзов и членов городской управы, на котором Рутенберг от имени Совета обороны Одессы объявил об эвакуации союзников из Одессы.
Как уже упоминалось, эвакуация должна была произойти за 48 часов. В результате этого Одесса, город с населением в 600 тысяч человек, в котором находилось 25 тысяч бойцов воинского контингента Антанты и их союзников, сдавалась войскам стоявшего на подступах к городу атамана Григорьева, чья общая численность достигала 6 тысяч человек. Престижу Франции в регионе, равно как и идее прямого вооруженного вмешательства Антанты в военные конфликты на территории бывшей Российской империи, был нанесен существенный и непоправимый урон.
А победителям – большевикам, которым путем политических интриг и ценой малой крови досталась Одесса, – выпал очень крупный трофей.
Эвакуация же ввергла город в состояние хаоса. Одесса напоминала растревоженный муравейник, над которым реяло страшное пламя войны.
Двое долговязых оборвышей лет по 14, надрываясь, тащили огромный, оббитый медными полосками сундук по лестнице «Международной» гостиницы. Сундук был таким тяжелым, что мальчишки аж покраснели от натуги, а один из них совсем по-детски даже высунул язык. По пустынным коридорам гостиницы гулял ветер. Двери, не запертые на ключ, хлопали с каким-то особым надрывом, воскрешая в памяти страшные готические легенды о средневековых замках с призраками. Под хлопанье дверей, напоминающее разрывы выстрелов, по длинным коридорам летал всякий мусор, оставленный в спешке людьми: веревки, сухие цветы, какие-то ленты, вырванные книжные страницы, обрывки газет…
Войдя в гостиницу, Володя Сосновский сразу увидел, что она пуста. Это страшное ощущение безжизненности, брошенности нельзя было спутать ни с чем, оно давило сильней, чем чувство самой острой тревоги.
Остановившись в большом пустом вестибюле, он стал осматриваться по сторонам. Электрические лампы на стенах мигали, а когда не мигали, светили совсем тускло. В городе были перебои с напряжением, и вот-вот центральная часть города должна была остаться без электрического света. Где-то в отдалении, в нескольких кварталах от гостиницы, были слышны беспрерывные выстрелы. Но глухая канонада воспринималась теперь привычно. И Володя Сосновский, давным-давно привыкший к звукам выстрелов, больше не вздрагивал от их холодной, металлической бездушности – предвестника смерти.
Под ноги ему попался яркий иллюстрированный литературный журнал. Раскрытый ровно посередине, он трепетал на сквозняке затоптанными страницами – жалкими свидетельствами прошлого, ушедшего навсегда в вечность, где никто не станет больше его читать. Нагнувшись, Володя поднял журнал и сразу же попал на небольшой рассказ Ивана Бунина – драгоценное, тонкое кружево слов, настоящих слов прекрасной литературной изысканности, столь неуместной здесь, в хаосе и разрухе.
В этот момент у лестницы и появились двое шкетов, тащивших сундук. От неожиданности Володя выронил журнал, и он упал вниз, в вечность, чтобы как-то сверхъестественным образом просто раствориться в воздухе.
– Вы чего, пацаны? – Голос Володи предательски дрогнул – он никогда не умел командовать. – Чей сундук?
– Отвали, фраер долбаный, – грубо, по-взрослому, отозвался старший шкет. Он сплюнул сквозь зубы и добавил несколько крепких ругательств, страшно звучащих из его еще детских губ.
Несмотря на свою приобретенную профессию, ругаться Володя Сосновский так до конца и не научился – настолько, чтобы это озвучивать. До сих пор все внутри него обрывалось, с болью переворачивалось при звуках вульгарной, грубой, простонародной речи.
А потому, вынув из-за пояса револьвер, Володя просто молча быстро, показушно щелкнул курком.
Глаза шкетов округлились.
– Так бы, фраер, и сказал, гы… – издав губами неприличный звук, старший мальчишка что-то шепнул своему товарищу, и, бросив сундук, оба кинулись врассыпную, сверкнув босыми пятками в сгустившейся темноте. Скоро их и след простыл.
Неудачно упав на ребро, набок, сундук охнул медными полосками и неожиданно раскрылся с громким треском. В крышке был сломан замок. Из тяжелого нутра тут же посыпались толстые пачки газет… Это было петербургское «Новое русское слово», которое с 1918 года с успехом издавалось в Одессе. Газет было так много, что они всё продолжали сыпаться, погребая под собой две пестрые шелковые шали, которые невесть как оказались в сундуке.
Когда, довершая картину нелепости и разрухи, этот поток иссяк, Володя, запрокинув голову, вдруг расхохотался громко, в голос, словно это стало последней каплей действа, выдержать которое он был не в силах. А может, так и было на самом деле, и эти свидетельства светлого литературного прошлого эпохи, навсегда канувшей в Лету, вызвали у него такую горючую, острую смесь чувств, которые вполне логично закончились истерикой – столь же нелепой, как и старые газеты, как и мальчишки, тащившие сундук в надежде, что он набит ценными вещами, – в гостинице, которую уже успели ограбить до них…
От смеха на глазах Сосновского выступили слезы. И так, продолжая смеяться, с револьвером в руке, он пошел по лестнице вверх, чувствуя себя в невероятном, фантастическом мире. Словно он заблудился и блуждает в поисках выхода, которого в действительности никогда не было и быть не может.
На третьем этаже теплилась жизнь. Были слышны людские голоса, стучали молотки, хлопали двери. В начале коридора Володя нос к носу столкнулся со своим бывшим редактором, который тащил пачку книг, завернутых в старый плед.
– Наконец-то! – обрадовался редактор. – Я уж думал, вы не получили моей записки.
– Получил.
– Отлично! – Редактор решительно затащил Володю в одну из комнат, где принялся запихивать плед с книгами в сундук, и без того уже забитый вещами. В глубине комнаты двое незнакомых мужиков стучали молотками, заколачивая какие-то деревянные ящики.
– Еле справляемся с багажом, – суетился редактор, – пропуски на «Кавказ» действительны на два дня, но на самом деле «Кавказ» уходит сегодня в 9 вечера. Должен был послезавтра, а уходит сегодня. Послезавтра в городе уже будут большевики. Вы не поверите, с каким трудом удалось раздобыть пропуска в канцелярии бывшего губернатора! Весь город словно с ума сошел!
– Николаша! – Толстая дама, вся в бриллиантах и теплой, не по сезону, меховой накидке (похоже, жена редактора), заглянула в комнату и с тоской обвела глазами сундуки: – Фарфор, сервский фарфор… ты в бумазею зашил?
– Дура! Какой фарфор? – прошипел сквозь зубы редактор. – Тут столовое серебро не помещается, а ты со своим фарфором лезешь! Перебьется в трюме твой фарфор!
Обиженно поджав губы, дама выплыла из комнаты. Захлопали двери, зазвучали голоса. В этом хаосе отчетливо солировал визгливый женский голос.
– В восемь вечера… Нанял трех извозчиков, чтобы все сундуки перевезти, – пыхтя, редактор утрамбовывал что-то в очередном деревянном ящике, – вы не поверите, князь, чего стоило поставить печати у французов, чтобы нас пропустили на корабль по пропускам.
Володю покоробило неожиданно возникшее и уже неприятное для его слуха «князь». Он понял, что этим словом редактор словно пытается удержаться за осколки разбитого мира, искусственно их склеить, чтобы увезти их с собой. Сколько стараний, чтобы сохранить прошлое! Но ему и в голову не приходило, что обломки эти окончательно рассыпятся по дороге, и не собрать их уже нигде. И в том, чужом мире уже ничем не спасет древнее, ненужное, забытое напрочь слово «князь».
Володе было неприятно, что с ним, похоже, общались только из-за его титула, а вся журналистика и литература в этой редакции, оказывается, были игрой. И вот теперь – бегство. Маски сброшены. В Париже не нужны русские писатели и журналисты. Но, выходит, кое в чем может пригодиться и русский князь.
Володя сунул револьвер обратно в карман. Бывший редактор этого даже не заметил. Багаж продолжали упаковывать. По грязному полу, как и во всей брошенной гостинице, от сквозняка летали обрывки газет.
– Почему гостиница пуста? – не выдержал Володя. – Почему здесь никого нет?..
– Так бóльшая часть постояльцев и тех, кто до корабля решили пересидеть, уплыли на «Константинополе». Он сегодня в 3 часа дня набитый битком отправился на Констанцу. На него пропуск получить было легче. Ну естественно – как от той Трансильвании добираться до Парижа! С ног собьешься! А из Стамбула ходит прямой поезд с грузовыми вагонами. Будет полегче с багажом.
– Все уехали… – повторил задумчиво Володя, и фраза показалась ему странной.
– А что вы хотите? – Бывший редактор пожал плечами. – Молдаванка вооружена вся и только и ждет знака, чтобы грабануть центр города. Им кажется, что здесь самые буржуи.
– Зачем им грабить? – машинально ответил Володя. – У Японца сейчас свои заботы. Слышали стрельбу? Остатки деникинских отрядов пытаются выбраться из города, он их бьет.
– А вы по-прежнему хорошо знаете криминальный мир! – прищурился редактор, и Володя почему-то покраснел.
– Да, они грабят. Но сейчас время такое. А по пустой гостинице уже мародеры прошлись. Я двоих встретил – тащили сундук. Думали, ценности. А оказалось – старые газеты.
– «Новое слово», – кивнул редактор, – здесь Ходасевич жил. Они почти все из «Слова» съехали на «Константинополе».
– Говорят, это последние корабли, – сказал Володя.
– Последние. В город войдут большевики – и всё, море отрежут. Оно будет закрыто, как во время войны. Уже и не выберешься. Если и ехать, то только сейчас.
Закончив с ящиком, редактор перешел к чемодану, который по-простонародному, совсем по-мужицки, принялся перевязывать веревкой.
– Не боитесь, что по дороге в порт ограбят? – усмехнулся Володя. – С таким-то количеством сундуков?
– Не боюсь. Кстати, а где ваш багаж? – спохватился редактор. – Вы что, его внизу оставили? Так там ему точно сделают ноги! Немедленно несите сюда.
– Багажа нет, – сказал Володя.
– Как нет? – поразился редактор. – Что это значит? Как можно ехать без багажа?
– Я никуда не еду. Собственно, это я и пришел вам сказать. Но вас обязательно провожу.
– Как это – не едете? Вы что, с ума сошли? Вы в своем уме? Вы же князь Сосновский!
– Я уже принял решение, и оно неизменно. Я не хочу никуда ехать. Остаюсь.
– Да вас повесят на первом же столбе! – редактор всплеснул руками. – Вы потомок древнейшей аристократической фамилии! Вы наша гордость, наша память, наше славное прошлое! Ваша фамилия гремела по всей России! Сам государь император… И вы хотите сказать, что будете жить там же, где этот сброд? Вы, князь, будете жить среди кухарок и лакеев? Будете с ними на равных? Есть за одним столом?
– Я давно уже не чувствую себя князем, – счел нужным ответить Володя. – В моей жизни было многое. А здесь… Здесь сейчас происходят такие события. Жизнь повернулась невероятной стороной, творится будущее. Я хочу видеть, что будет, наблюдать – как писатель. Я ведь не только князь.
– Писать можно и в Париже! И без риска, что вас повесят!
– Кому в Париже нужны русские писатели и русские книги? Это самообольщение, иллюзия! В юности я бывал в Париже, и не раз. Французам нет никакого дела до всех остальных, кроме них самих. Это удивительно эгоистичная нация. Ко всем остальным они относятся с настоящим презрением, особенно к русским. Так что не обольщайтесь – ни наши газеты, ни русская литература в Париже никому не нужны. Более того: им нет никакого дела до того, князь я или чистильщик обуви. Так что мое место здесь. Я не могу уехать. И даже больше вам скажу: я не хочу.
– Что же вы будете делать? Служить большевикам?
– Ну почему же служить? Я писатель, довольно неплохой репортер. Я буду работать в газете. Ведь будут же газеты при большевиках.
– Я вас не понимаю! Я отказываюсь вас понимать! – Забыв про чемодан, редактор выпрямился во весь рост и стал полыхать праведным гневом. – Вы предаете все российское дворянство! В Париже до этого, может, и нет никакого дела, но большевикам есть. И, узнав о вашем прошлом, они повесят вас на первом же фонарном столбе!
– Пусть. Значит, так и будет, – Володя безразлично пожал плечами. – Мы ничего не знаем о своей смерти, она может быть где угодно. Глупо прятаться от судьбы, бегать за тридевять земель, чтобы попасться в ловушку смерти как раз там. Так что если большевики меня и повесят, я не буду сильно горевать по этому поводу. Какая разница, где и как умирать.
– Послушайте, вы невыносимы! – снова всплеснул руками редактор. – Я не позволю вам загубить свою жизнь! Я специально выписал на вас пропуск! Поезжайте просто так, без багажа! Я уверен, что у вас есть знатные родственники по всей Европе, которые с радостью окажут помощь вам и тем, кто вас спас!..
Нервничая, редактор изложил свой план, и Володя усмехнулся. Значит, он был прав: на князе Сосновском планировалось заработать денег.
– Нет, – в его голосе прозвучала твердость, – я не поеду. Спасибо за все. Мне жаль.
– Вы что, пойдете к этим бандитам? Вы останетесь жить с этим сбродом? – Похоже, редактор пошел по второму кругу.
– Я останусь жить в Одессе, – Володя был непреклонен. – Я уже полюбил ее, она стала моей второй родиной. Мне здесь нравится. Я хочу жить здесь. И поэтому отдайте мой пропуск тому, кто нуждается в нем.
– Не приходите меня провожать! – надулся редактор. – Знать вас больше не желаю! Князь, который продался большевикам! Какой позор! Я больше вам руки не подам!
– Как угодно, – Володя пожал плечами и, слегка поклонившись, быстро вышел из комнаты, в которой навсегда оставалось его прошлое, к которому больше не существовало возврата.
В порт он все-таки пошел. Но отплытие «Кавказа», огромного парохода под турецким флагом, задержалось на много часов. Он был набит битком: сундуки, люди, мешки, люди, снова люди, и опять тюки с вещами… Володе вдруг показалось, что корабль потонет под этим грузом, что этот ворох изломанных судеб и разбитых надежд погребет всю эту массу железа. Провожающих не было. Многие из тех, кто со всем багажом погрузился на судно, плакали. Здесь заканчивалась целая жизненная эпоха. И не начиналась новая жизнь.
И когда «Кавказ», пуская черный дым из мощных пароходных труб, подцепленный двумя буксирами, начал свой тяжелый путь к выходу из Одесского залива, Володя почувствовал, как что-то с болью оборвалось в его сердце, и ощутил предательскую влагу на глазах. Выбор был сделан, но верным ли он был? Сосновский не знал этого. Он даже сам не понимал до конца, почему остался здесь, на этой полоске земли, которая становилась все меньше и меньше для навсегда исчезающего в море «Кавказа» – корабля безнадежности, который никогда не вернется.
Володя встретил рассвет на причале. И когда «Кавказ» превратился в воспоминание, сизые лучи апрельского рассвета осветили следующую картину.
Порт был загроможден брошеными автомобилями, пустыми ящиками от боевых снарядов, частями машин. На земле валялись куски шелковой материи, бутылки шампанского, груды консервов и другого добра. Разбитые деревянные ящики и потерянные в спешке чемоданы, сундуки и коробки с дамскими шляпами были похожи на сюрреалистичные скульптуры, созданные жестоким, безумным скульптором. Потому что нет более страшного зрелища, чем место, откуда ушла жизнь…
Порт являл собой картину разорения и хаоса.
Володя медленно шел, осторожно переступая через забытые вещи из мертвого города, который закончил свое существование этой ночью и почти сразу же возродился другим. Он очень старался запомнить эту картину, понимая, что является живым свидетелем настоящей истории, и что это очень редкий подарок судьбы.
Ранним утром 6 апреля, когда все корабли, увозящие бегущих из Одессы, покинули порт, в город вступили части атамана Григорьева. Володя был среди тех, кто видел это нерадостное шествие.
Население высыпало из домов. Вся Одесса сгрудилась на Дерибасовской, по обеим сторонам от мостовой, по которой ехали конники Григорьева, а за ними пешими шли остальные войска, ощетинившись лесом штыков. Во главе конников находился сам атаман – в сдвинутой набок залихватски папахе, в шинели, с саблей в потертых ножнах. Воинство же его вид имело довольно помятый: солдаты все сплошь были в рванье или в вещах, содранных с чужого плеча. Многие были босы, шли, обернув голые ноги черными от грязи тряпками. А некоторые поразили воображение горожан тем, что сапоги у них были на одну ногу. И, переваливаясь, шкандыбая по одесским булыжникам, такой солдат шлепал в обоих правых или обоих левых сапогах. Рваное, потрепанное воинство представляло собой разительный контраст с ослепительно нарядными мундирами французов, еще недавно ходивших по одесским улицам. В глаза бросалось и отсутствие выправки, чем отличались элегантные, вышколенные, стройные французы, всегда выглядящие, как на параде.
– Босяки! Ну чисто босяки из Дюковского сада! – Щуплый одесский дедок, по всему видно, какой-то мастеровой, стоя рядом с Володей, высказал то, что думали жители города. – А вон тот – ваще за коня в пальте! Ну швицеры, халамидники, шлеперы вшивые – и как такие город взяли? Ой, поимеем мы за теперь шухер, как пить дать!
Рваные зипуны, потертые папахи, обноски с чужого плеча поражали одесситов, не готовых к такому внешнему виду воинов. Лошади конницы были низкорослые и такие истощенные, что еле тащили на себе седоков. Но больше всего поразила малочисленность этих вояк: в город вступило не больше трех тысяч человек.
– И шо, всё? – прищурился дедок. – Остальные копыта откинули по дороге? И шо мы будем иметь с этих доходяг?
Одесситы застыли в напряженном молчании, провожая тяжелыми взглядами оборвышей, дефилирующих по центральным улицам города.
Глава 6
Таня на Привозе. История самого знаменитого рынка Одессы. Появление «одесского языка»
– Ну вот, наше вам здрасьте! – Циля остановилась, картинно возвела очи горé и с драматической театральностью взмахнула руками: – Любуемся – не дышим! Картина маслом!
На дощатых ступеньках магазинчика, с изяществом возвышаясь над привозной грязью, развалился толстый детина не старше тридцати лет. Лежа на спине, раскинув по сторонам руки, он давал такого храпака в сизое весеннее небо, что даже случайные, привыкшие ко всему на свете коты с Привоза вздрагивали от ужаса и на всякий случай драпали со всех лап.
От детины разило перегаром, и было ясно, что так лежит он долго, с ночи. И, судя по храпу и массивности его пропитанного вином туловища, придет в себя еще не скоро.
Циля даже задрожала от ярости, глядя на непрошеного гостя. Таня же, упершись руками в бока, вдруг звонко расхохоталась. И Циля, с удивлением взглянув на нее, неожиданно для себя вдруг присоединилась к ней. Тане было весело, легко на душе – от сизого неба над городом, от весенней прохлады, даже от грязи, чавкающей под ногами, и от знакомых с детства картин, на которые раньше она совершенно не обращала внимания, а тут вдруг оказалась в самой сердцевине нового, еще не изученного мира.
– Хорош смеяться! – Строгий голос, раздавшийся за спиной, заставил их обернуться. – Магазин открыть не сможем, торговый день не начнем, а вы зубы скалите! Скалкой бы его, охламона! Да боюсь, такому скалка – как комариный укус.
За их спинами стояла Ида – суровая, худая, с тонко поджатыми губами и в повязанном по-бабски платке. На руках сопел младенец – ее дочка Маришка, которой едва исполнилось три месяца. Румяные, толстенькие щечки малышки резко контрастировали с худыми, запавшими щеками матери. Девочка была закутана в изящные кружевные пеленки, тогда как Ида была в старом вытертом платье с некрасивыми, нелепыми заплатками на локтях. Они как бы свидетельствовали о времени, в течение которого носили это платье – столько, что оно стерлось до дыр.
Никто не узнал бы в этой постаревшей, измученной жизнью женщине прежнюю Иду – веселую, жизнерадостную, такую, какой она была на Дерибасовской. Та Ида умела радоваться, жить, сопротивляться ударам судьбы.
У женщины, которая стояла, укачивая на руках спящего ребенка, давным-давно погас взгляд, безвольно обвисли губы, и, сломленная нищетой, болезнями, жизнью, она являла собой красноречивую картину того, как жестоко обошлась с ней судьба.
– Тебя забыли спросить, вот шо нам делать! – уперлась руками в бока и Циля. – Ты еще тут фордабычиться за ушами будешь! Шла себе – и иди, сделай себе ручкой! Нас и без тебя этот кобель достал!
– Ты снова дома не ночевала? – Таня строго посмотрела на Иду. – Давно ты здесь ходишь?
– С вечера, – Ида потупила глаза, – он нас вечером еще выгнал, пришел пьяный. Думала, образумится, а он спит до сих пор, я в окно видела. Ночью ходила здесь, крестьяне с подвод приютили. Яблок дали. Парного молока Маришке. Вот… вас жду.
– Я зарежу его, урода, – Циля даже затряслась от злости, – и как таких только земля носит! Зарежу – и всё!
– Замолчи, – резко осадила ее Таня, и повернулась к Иде, – значит, так. Сейчас идешь к нам, занимаешься ребенком, на улицу ни ногой. Вечером, после работы, мы с Цилей привезем твои вещи. Ты с Маришкой останешься у нас и больше туда не пойдешь.
– Нет. Не могу я… Убьет, когда узнает, – слабо запротестовала Ида.
– Не убьет. Это я тебе говорю, – твердо сказала Таня. – У меня уже давно руки чешутся уши ему намотать на задницу. Так я могу это сделать с удовольствием, если хоть волос с твоей или Маришкиной головы упадет. Ты что, не понимаешь, что дочкой рискуешь? Хочешь, чтобы он Маришку прибил?
– Она права, – вмешалась Циля, – больше ни ногой к этому уроду. Иначе я сама тебе по голове дам. Или прирежу к черту.
– Всё, уходи отсюда. Поспи. Пусть Маришка уснет спокойно, – скомандовала Таня, и Ида, шатаясь от усталости, побрела прочь, замедляя шаг из-за луж жидкой грязи, переступить через которые у нее не было сил.
– Дура!.. – Циля смачно сплюнула в грязь. – Ну какая же дура! Родная сестра – и форменная идиотка! Да от него на четвереньках бежать надо было, едва он показал свою свинячью морду! А эта дура, с мозгами полностью отшибленными, к нему возвращалась три раза! Сама бы придушила ее, идиотку!
– Да ну ее, разберемся, – Таня пожала плечами, – с кем только бабской дурости не бывает. Вроде понимаешь, что дерьмо дерьмом, а нет смелости послать. Все мы такие – надеемся на что-то. И она не лучше и не хуже остальных.
– Я бы никогда… – надулась Циля.
– А ты не умничай, пока не побываешь в ее шкуре, – резко осадила ее Таня, – все-таки дочка на руках.
– Дочку мы воспитаем, – решительно сказала Циля.
– Куда мы денемся! – усмехнулась Таня. – Давай красавца нашего оживлять. Попробуем мой способ.
Из маленькой дамской сумочки она достала небольшой стеклянный флакончик и длинное перо (такие используют в кулинарии – смазывают пирожки маслом, к примеру). Макнула перо в флакончик. Разлился острый травяной запах.
– Что это за гадость? – поморщилась Циля.
– Для алкаша самое оно! Я в гимназии очень химией увлекалась. Даже пыталась делать духи. Преподавательница у нас была француженка, такая забавная. Вот она и поделилась рецептом.
Нагнувшись над пьяницей, Таня смазала ему губы пером. Он тут же заворочался. Взяв за руку Цилю, она отошла за угол магазинчика, сказав, что теперь самое время посмотреть, что будет.
Пьянчуга открыл глаза. Поморщился. Облизал губы – и вдруг с жутким воплем вскочил на ноги, а потом понесся прочь, нелепо размахивая руками.
– Что ты с ним сделала? – поразилась Циля.
– Да ничего особенного – рецепт от той самой француженки, чтобы муж не пил. В гимназии всех нас готовили к замужеству – а что еще делать в жизни женщине? – горько усмехнулась Таня. – Ну она и давала нам рецепты разных снадобий. Это травяная смесь. Стоит помазать губы пьяному, и спиртное будет вызывать у него страшную горечь и даже боли. Говорила, что больше не будет пить. А место, где очнется, навсегда будет связано с жутко отрицательными воспоминаниями.
– Что ж это за травы такие? – всплеснула руками Циля.
– Не скажу. До этого момента рецепт мне не пригодился, – улыбнулась Таня, – был записан в моей книжечке и лежал себе. А тут решила попробовать.
– Ты просто невероятная! – воскликнула Циля.
– Да уж… невероятная… В гимназии хотели сделать из нас почтенных светских дам, – с грустью сказала Таня, – они не готовили воровок и бандиток с Молдаванки.
– Ты не бандитка и не воровка!
– Кто же еще? – Таня даже комментировать не стала, просто криво усмехнулась.
Разговаривая так, девушки открыли магазин, распахнули окна, чтобы проветрить, и Циля тут же принялась раскладывать товар по витринам, стараясь придать всему нарядный вид. Таня же отправилась в самый конец Привоза, беседовать с одним контрабандистом, у которого они покупали контрабандный шелк.
– И не стыдно тебе, Зеленый? Ты ушами-то не финти! – Она смяла материю, на которой тут же остались некрасивые полосы.
– Персия натуральная! Шелк из Персии, мамой клянусь!
– Зеленый, туфту заливать ты всем остальным будешь, кроме меня, – отрезала Таня, – не умеешь разговаривать – я научу. Шелк этот не из контрабанды даже. Его вчера за мануфактуру Показаниди взяли в налете Колька Шустрый да Лысяк. Налет провальный был – денег рублей 30 в кассе да вот эта туфта, которую хитрый грек впаривает своим затюханным клиентам, не умеющим разбираться в мануфактуре. А я, в отличие от тебя, разбираюсь. У меня бабушка на складе работала, и как персидский шелк выглядит, я с детства знаю. Так что насчет цены договариваемся либо по-хорошему, либо…
– Да ладно, с тобой и не поговоришь, – контрабандист вздохнул. – Там еще шмотки были. Возьмешь?
– А чего Лысяк сам не пришел? Ты у него в шестерках ходишь?
– Ногу ему по дури вчера прострелили, – мрачно сказал Зеленый, – вот и лежит теперь как фраер конченый.
– На налете? – удивилась Таня.
– На притоне на Средней, куда он после налета отправился. Из-за девицы с одним швицером сцепился, и тут ему пулю в ногу. Осел…
– Ладно, шмотки показывай.
Зеленый развернул увесистый тюк. Таня отобрала пять платьев, меховую накидку под котика, две белые блузы с рюшами да кружевной платок. Все остальное даже не стала смотреть.
– Перешивать долго, а толку не будет, не продам, – сказала твердо: за какой-то месяц у нее появился настоящий нюх. – Принесешь все это к нам, – добавила. – Деньги – ну как доставишь. И если еще что-то с налета будет, ты неси, посмотрю.
После той страшной ночи, когда сгорел ее дом, Таня пребывала в отчаянии. Вещи, деньги – пропало абсолютно всё. У нее осталось только то, что было на ней. Идти к Японцу не хотелось – слишком унизительно было предстать в виде нищенки. И ноги сами понесли ее на Молдаванку – к Иде и Циле.
А в жизни сестер произошли очень серьезные перемены. После того, как Таня спасла Цилю, обе твердо решили больше не возвращаться к уличной жизни и навсегда завязать с Дерибасовской. Какое-то время они пытались выступать в ресторанах, но новое поприще успеха не принесло. Голоса у них были самые обыкновенные, внешность – тоже, танцевали без изюминки, да и артистического в барышнях было слишком мало. Поэтому очень скоро их перестали приглашать выступать в рестораны и кабаре.
Неожиданно положение спасла Софа. Она давнымдавно торговала всякой мелочью на Привозе. И вот Циля решила к ней пристроиться. Очень скоро сестры стали брать вещи у девушек с Дерибасовской, которых знали раньше: те приносили товар от своих знакомых воров. Ида с Цилей перешивали одежду и потихоньку продавали на Привозе. Со временем дела у них пошли так успешно, что они даже сняли стол и стали раскладывать товар на нем.
Все и правда шло хорошо – до тех пор, пока Ида не влюбилась в дюжего белобрысого грузчика, который разгружал крестьянские подводы. Это был первый мужчина, пожелавший на ней жениться, несмотря на ее прошлое. Ида растаяла и, несмотря на то, что ее все отговаривали, быстро выскочила за него замуж.
Брак стал полной катастрофой. Грузчик пил почерному и в пьяном угаре поднимал руку на Иду, выгонял ее из дома. Когда же она родила дочку Маришку, все стало еще хуже.
Роды были тяжелыми, и Ида стала очень сильно болеть по-женски. Денег не было, так как грузчик вообще перестал их приносить. На дочку он даже не смотрел. Вместо этого к пьянству прибавил похождения по девицам с Привоза, которые просто вешались ему на шею. Жизнь Иды превратилась в ад. Она полностью сосредоточилась на дочке и стала жить исключительно ради нее.
Теперь грузчик выгонял на улицу обеих – и Иду, и ребенка. От жизни в страданиях она превратилась в старуху, но все-таки не решалась от него уйти.
Все это Таня узнала, когда пришла к своим подругам, жившим теперь в бóльшей и как бы лучшей квартире. Вернее, здесь жили только Софа и Циля – Ида ушла к своему грузчику.
Они тут же выделили Тане самую лучшую комнату, а узнав, что ее уволили из Оперного театра, Циля предложила ей торговать с ней.
И Таня стала всерьез об этом думать. Новое дело сулило хорошие перспективы. Можно брать одежду у воров после налетов, перешивать и вновь пускать в ход. Память о бабушке плюс прикрытие. Таня подумала и согласилась, и вместе с Цилей открыла небольшой магазин.
Мир, в который она попала, не был похож ни на что, виденное и знакомое прежде. Дощатая будка с навесом над ступеньками и двумя большими окнами находилась в новой, облагороженной части Привоза, которую недавно начали достраивать. И строительство этой будки стоило столько, что Таня в огромном удивлении широко раскрыла глаза. Зная криминальный мир не понаслышке, здесь она столкнулась с грабежом иного рода. И грабеж этот, узаконенный годами развитой торговли в Одессе, привел ее в изумление.
Кинув клич по своим людям и по людям других банд, Таня в первые же дни получила такое количество мануфактурного товара, что ни она, ни Циля не знали, что с ним делать. Пришлось нанять двух швей.
Через два дня одна из них сбежала, прихватив столько вещей, сколько могло уместиться в огромную сумку. Воровку пытались искать, но ее и след простыл.
На третий день открытия магазина (Таня по глупости выставила в витрине отрез редкого, контрабандного китайского шелка) их ограбили с такой наглостью, что даже она диву далась. Пока Ида была занята с покупательницей, а Таня раскладывала товар, двое мальчишек разбили окно, выхватили отрез китайского шелка и «сделали ноги» с такой скоростью, что ни Таня, ни Циля даже не успели на это отреагировать. Потом их снова попытались грабить, но тут Таня пожаловалась Японцу, и магазин больше никто не трогал. Однако это не мешало пьяницам и заезжему сброду уютно спать на их ступеньках – потому что на других лавчонках ступенек не было, и двери выходили прямо в грязь.
Привоз был миром мошенничества и воровства, и к своему огромному удивлению Таня обнаружила, что здесь криминала даже больше, чем при откровенном бандитском налете. Недовесить и обсчитать покупателя было нормальным делом. Торговки даже соревновались в этих умениях между собой. Гнилой, испорченный товар подкладывали в хороший и продавали по высокой цене. Брак выдавался за высший сорт. При этом в ходу были такие грязные методы, как оговоры и откровенная ложь про соседей, торгующих рядом, на той же улице. Словом, открыв для себя Привоз, Таня получила не меньше неприятных моментов, чем когда пыталась выступать в Оперном театре.
Но Циля не разделяла скептицизма Тани, а наоборот, чувствовала здесь себя как рыба в воде. Она с легкостью вписалась в среду торговок Привоза, и очень скоро ее голос зазвучал в общем хоре тех, кто составлял костяк этого особого мира, не похожего вообще ни на что.
Яркая, колоритная, веселая, острая на язык, Циля пользовалась огромной популярностью у особей мужского пола, работающих на рынке. Особей этих было много, так как Привоз разрастался, набирал обороты и становился одним из самых больших рынков в Одессе. Но, в отличие от Иды, Циля умела себя ценить и не желала размениваться на грузчиков. Тем более перед ее глазами был печальный пример сестры.
Неожиданно в Циле открылась коммерческая жилка и взыграло честолюбие. В мечтах она видела себя хозяйкой крупного торгового универмага на Дерибасовской и как-то призналась Тане, что сделает всё для того, чтобы воплотить в жизнь эту мечту. Поэтому Циле было не до романов, и она безжалостно отвергала воздыхателей, ни к кому не испытывая ничего, кроме презрения. Тане очень нравилось то преображение, которое произошло с Цилей, и она пыталась поддерживать его всеми способами.
Самой же Тане вообще было не до романов, потому что слишком много свалилось на ее плечи, помимо торговли. К примеру, нужно было удерживать остатки банды. И это были действительно остатки – слишком много бандитов примкнуло к большевикам. Таня была вне политики, но могла понять тех, кто, польстившись на красную пропаганду, решил навсегда уйти из бандитской жизни. С ее точки зрения, это был не самый плохой выбор, учитывая, что налеты и любые кражи с каждым днем становились все опаснее.
Эвакуация французов из Одессы привела к тому, что самые состоятельные и богатые люди уехали из города и как-то ухитрились вывезти с собой все свое имущество. Сначала в криминальном мире был пир. Бандиты и налетчики занялись откровенным мародерством, грабя подчистую брошеные квартиры, в которых оставалось еще много поживы. Но так длилось недолго. Потом пустые квартиры закончились, и грабить стало некого. От скуки бандиты начали затевать разборки между собой.
Ситуация в криминальной среде стала напряженной, и Японец выбивался из сил, чтобы удержать в рамках свое криминальное воинство, не допустить разброда и стрельбы по своим. На этом тяжелом фоне Тане приходилось не только заново отстаивать свое место в банде, но и, как уже упоминалось, знакомиться с миром Привоза, который в самые же первые дни стал для нее достаточно неприятным местом.
Но отступать было поздно, деньги в магазин были вложены, и Тане не оставалось ничего другого, кроме как приспособиться к ситуации.
С самого начала своего основания Одесса стала городом, в котором главный упор и акцент делался именно на развитие торговли. Этому способствовал морской порт – идеальное место для перевозки товаров и любых грузов.
Первостроители просто замечательно придумали систему так называемых «сообщающихся базаров», располагающихся вдоль всего исторического центра и как бы перетекающих один в другой. Основной линией расположения этих базаров были порт, Военная балка, Александровский проспект.
Одной частью проспекта являлся так называемый Греческий базар на Александровской площади, другим же концом Александровского проспекта служила Привозная площадь, с которой, собственно, и начинался Привоз.
Между ними, вдоль оси проспекта, располагались торговые ряды размерами поменьше – Караимский, Немецкий, Еврейский, Авгинниковский. Все они плавно вливались в Старый базар, простиравшийся от Успенской улицы до Большой Арнаутской. Старый базар разросся так быстро, что его окончанием стала Привозная площадь, на которой тоже очень скоро возникли базарные торговые ряды.
Таким образом, Привоз представлял собой новую часть разросшегося Старого базара. Именно здесь появилось новшество, которого не было на всех остальных рынках: на Привозной площади была разрешена торговля непосредственно с колес, то есть с телег, подвод, фургонов, возов, фур, словом, со всего, на чем крестьяне привозили свою продукцию в город и продавали ее… Оттуда, собственно, и пошло название Привоз – привоз товара, привозить.
Более четверти века Привоз являл собой грязную, ничем не замощенную и не укрытую площадь, лишенную капитальных строений. Только во второй половине XIX века здесь появились деревянные лавчонки и столы для торговли съестными припасами. Эти места сдавались городской управой в аренду посредством аукционной системы, торгов – кто даст больше.
Наблюдать особо за каменными строениями не надо было, потому что в двух кварталах от площади находились каменные павильоны Старого базара, построенные по проекту Торичелли. Крестообразные ряды разделяли Старый базар на четыре площади: Черепенниковскую, Яловиковскую, Посоховскую и Шишмановскую.
Пятая же площадь, которой заканчивался Старый базар, Привозная, оставалась незастроенной – наличие больших каменных строений мешало скоплению гужевого транспорта, с которого производилась привозная торговля.
История собственно Привоза начинается с 1827 года, когда было принято решение строить на Привозной площади каменные павильоны для открытия рынка. Несколько каменных строений стали основой для постоянной торговли и потеснили гужевой транспорт, который очень скоро перестал быть основой Привоза. Крестьяне больше не хотели торговать с телег, а занимали места в новых, открытых павильонах из камня, торговать в которых было намного удобнее, чем в грязи под открытым небом.
В 1913 году по проекту архитектора Федора Нестурха на Привозе построили специальный Фруктовый пассаж. Он состоял из четырех двухэтажных корпусов, соединенных высокими арками с коваными воротами, на столбах которых были установлены литые чугунные вазы с фруктами.
Корпуса были расположены попарно двумя рядами, между ними оставался длинный и достаточно широкий двор. В отличие от классического пассажа, он не был покрыт остекленной кровлей. Под каждым корпусом во всю его длину были устроены подвалы, а на первых этажах – анфилада из десяти торговых помещений, которые впоследствии постоянно перестраивались и достраивались. Фруктовый пассаж стал самым значительным и красивым сооружением Привоза, и торговые места в нем стоили дороже.
Именно тогда в Одессе свирепствовала жестокая чума. Источником заразы были рынки. Поэтому городские власти приняли решение сжечь все строения на Привозной площади. А когда рынок будет сожжен, отстроить его заново. Так и сделали. После пожара на площади стали появляться каменные сооружения.
Привоз рос как на дрожжах. Товары на нем были дешевле, чем на остальных рынках в городе, больше было и покупателей, и продавцов. Здесь торговали представители разных национальностей, видимо, поэтому именно здесь зарождался неповторимый одесский язык, когда отвечают вопросом на вопрос, неправильно используют ударения и падежи, по-своему коверкают слова, но при этом отлично понимают друг друга…
Глава 7
Страшная находка на свалке за Привозом. Что придумал Васька Черняк. Начало еврейского погрома
За рядами Фруктового пассажа и за дощатыми павильонами, построенными вплотную к бывшей Привозной площади, находилась одна точка, которую не удалось изменить за все прошедшие годы. Это место было чем-то вроде человеческой свалки, где собирались самые отпетые элементы Привоза. Люди валялись на земле среди мусора, сброшенного с подвод, да и под самими подводами, потому что совсем вплотную к этой своеобразной свалке располагалось единственное место на всем Привозе, где все еще можно было торговать с них. Места для торговли были там самыми дешевыми – из-за отвратительного соседства со свалкой, из-за вечной, ничем не перебиваемой вони и из-за тех, кто оккупировал эту грязную территорию. Это были последние очистки людской породы, вечный человеческий мусор в виде опустившихся пьяниц, бывших заключенных, ни к чему больше не способных, кроме как клянчить милостыню на рынках, инвалидов, больных чахоткой, спившихся биндюжников, постаревших уличных проституток – этого вечно пьяного отребья, пены человеческого мира, лишенного элементарной брезгливости и прочих человеческих чувств.
Все они спали на грудах мусора вперемешку с гниющими овощными отходами, тут же ели, отправляли физиологические потребности, пили вонючее пойло – паленую водку, купленную в забегаловке за углом, тут же рылись в сброшенных с подвод отходах, дрались за самые жирные куски, договаривались о преступлениях (подрезать кого-нибудь за бутылку водки, а за две – спалить дом) и обворовывали всех, кто проходил поблизости, в том числе и крестьян, торгующих совсем рядом с подвод.
Ни одна власть, бывшая в городе, не смогла уничтожить, очистить Привоз – эту человеческую клоаку. Это было самое вонючее место. И если забредал случайно на эту окраину приличный человек, то потом несколько часов подряд мучился от отвращения, от непреходящего чувства тошноты, не в силах проглотить ни куска пищи, ни сделать глотка воды – настолько сильными были пережитые эмоции.
Эти люди, опустившиеся на самое социальное дно, напоминали животных. И даже местные уголовники, члены уличных банд, брезговали принимать их в свои ряды, потому что, утратив все крупицы сознания и человеческого достоинства, они могли подвести в самый важный момент. Такое существо в рядах уличной банды в любой ситуации можно было считать неразорвавшейся бомбой, и ясно, что никакому главарю это не надо было.
Единственные, кто рисковал находиться рядом с человеческой свалкой, были жадные крестьяне, торгующие с подвод. Жадность всегда присутствовала в крестьянской крови. Не желая платить за места на самом Привозе (к примеру, за дощатый стол) и не зная знаменитой одесской пословицы «Жадность фраера сгубила», они становились рядом со свалкой, рискуя быть ограбленными, зараженными какой-нибудь гадостью или даже убитыми.
Главной мерой предосторожности было то, что в подводу набивалось до 10 человек, и лишь такая многочисленность торговцев отпугивала потенциальных нападающих.
В тот воскресный день место возле свалки, как обычно, было занято подводами, привезшими товар в Одессу. Было около четырех утра. В этот час угомонились все – и крестьяне с неплохой дневной выручкой, и босяки на свалке, полночи распивавшие свое пойло и горланящие блатные песни, исчезли и редкие прохожие, возвращавшиеся с ночных похождений и, чтобы сократить путь, рискнувшие пробежать мимо опасного места.
Было холодно. Над землей, чуть согретой лучами дневного весеннего солнца, поднимался дымчатый пар – свидетельство ночных холодов. Воздух в Одессе всегда был влажным. Разогретая дневным теплом, ночью влага поднималась в воздух, выходила на землю, как туман. И казалось, что все, находящееся на земле, покрыто дымчатым, сизым покрывалом.
Откинув снизу рогожу, внизу, под подводой, спали вперемешку все, кто привез в город товар, наверху, на самом товаре, для охраны оставляя самых отчаянных. От одной из подвод отделилась кряжистая фигура, закутанная в потертый тулуп, и направилась к куче мусорных отходов на самой границе свалки. Чуть зайдя за мусорную кучу, фигура принялась справлять малую нужду, в полусонном состоянии не глядя по сторонам и не замечая, как к куче мусора подошел шелудивый уличный старый пес, хромающий на заднюю лапу. При виде человека он издал гортанный, словно предупреждающий рык и отскочил в сторону, припадая на больную ногу.
– А чтоб тебя, тьфу ты! – замахнулся мужичонка на пса кулаком и, поплотней застегнув тулуп, собрался было бежать обратно к подводе, как вдруг…
Вдруг он увидел под кучей гниющих овощей что-то неестественно белое. Встретившись с человеком взглядом, пес, который все же не убежал, вдруг запрокинул голову вверх и утробно завыл страшным глухим воем, от которого по человеческой коже тут же побежали ледяные мурашки.
– Изыди, сатана! – Мужичонка перекрестился дрожащей рукой. Но любопытство – бич и движущая сила абсолютно всех сословий людей – все-таки заставило его двинуться вперед. Ногой он откинул отбросы, чтобы посмотреть, что за странный предмет находится в мусорной куче. Пес продолжал выть. Нагнувшись, мужичонка потянул предмет рукой – тот был твердый, неестественно ледяной на ощупь и достаточно тяжелый – чтобы его вытащить, потребовалось какое-то время.
И когда он вытащил на свет из кучи мусорных отходов то, за что уцепился, вопль его был слышен далеко, а старый пес, подскочив, бросился наутек со всех ног, забыв про больную лапу. Обитатели подвод вскочили, потирая сонные глаза, спросонок не понимая, что происходит.
Из кучи мусорных отходов мужичонка вытащил человеческую ногу. Переломанная в нескольких местах, как нога тряпичной или восковой куклы, она производила настолько страшное впечатление, что в первый момент даже трудно было понять, что произошло. В этом было что-то настолько жуткое, что даже обитатели свалки казались не столь пугающими. Особенно на рассвете, когда землю покрывал сизый туман, и все плавало вокруг в пугающей серой дымке…
Представители власти из большевиков-григорьевцев прибыли лишь к полудню. Судебный медик отвез ногу в анатомический театр, пообещав прислать письменные результаты осмотра.
Солдаты принялись осматривать всю свалку, для чего оцепили ее. Очень скоро еще в двух мусорных кучах обнаружили вторую ногу и остатки разрезанного на куски туловища.
Ситуация становилась серьезной. Было вызвано подкрепление. Обыск свалки продолжался до вечера. Стало темнеть. Бродяги зажгли костры. Солдаты продолжали обыскивать свалку, гоняя босяков с куч мусора.
Но самая страшная находка ждала полицейского следователя и проводящих обыск солдат в конце свалки, в самом отдаленном месте, где, тем не менее, горел костер, вокруг которого расселись несколько бродяг самого отвратительного вида. Когда солдаты подошли ближе, стало ясно, что бродяги что-то готовят на огне. Отчетливо чувствовался сладковатый запах жареного мяса.
Солдаты придвинулись вплотную и увидели, что на костре, нанизанные на самодельный вертел, жарились куски мяса, по форме напоминающие… женскую грудь. А один из бродяг, сидевших ближе всего к костру, обгладывал… человеческую руку.
Очевидцы потом рассказывали, что один из солдат-григорьевцев, совсем еще молоденький паренек, стал терять сознание, но его быстро подхватили стоявшие сзади.
Следствие проводить никто не стал. Бродяг, лакомившихся жареной человечиной, отвели в сторону и расстреляли без суда и следствия. Потом определили, что части трупа, найденные на свалке, принадлежат молодой женщине. Но остальные части тела так и не нашли.
По городу поползли страшные слухи. В убийствах почему-то обвинили бандитов с Молдаванки, промышляющих на Привозе. Масла в огонь подлил кто-то из солдат, брякнувших, что женщину явно убили на Привозе и что нужно искать место (лавку или стол), где разрубили труп и где могли остаться следы крови.
На Привозе тут же сформировали отряды самообороны, которые вместе с солдатами атамана Григорьева принялись заходить в каждый магазин, в каждую лавку, осматривать каждый стол. Привоз охватила самая настоящая паника. Никто не помнил, чтобы когда-либо здесь случались такие жуткие находки. И люди мучились страшным вопросом: кто убил, а главное – за что. Ответов не было, оставалось только, ради собственного спокойствия, обшаривать магазины, лавки и со странной, болезненной подозрительностью смотреть на всех.
Васька Черняк, грузчик с Привоза, которому с каждым месяцем давали все меньше работы из-за его беспробудного пьянства, проснулся в куче гниющих капустных отбросов в самом отвратительном расположении духа. Деньги кончились еще несколько месяцев назад, а в последние дни бывшие друзья почему-то стали отказываться поить его в долг. Воровать тоже не получалось. В маленьком кабачке на Запорожской Васька попытался отобрать кошелек у какого-то подгулявшего фраера. Но фраер был не так прост: ухватив Ваську за руку, он позвал своих друзей, и те так намяли ему бока, что он еле-еле унес ноги. Но неприятности на том не закончились.
Кабачок был под Гришкой Клювом – злобным, низкорослым выскочкой, совсем недавно влившимся в отряды могучей армии Японца. Клюв послал своих людей, и те чуть не поставили Ваську на ножи за то, что тот пытался шерстить в чужом кабаке, в чужом районе. В общем, едва от них отбился. Откупаться денег не было, пришлось пообещать на Запорожскую больше ни ногой. Репутация Васьки хорошо была известна за пределами Привоза, и никто не хотел видеть его в своей банде.
Черняк вообще с позором был изгнан из криминального мира – за то, что, напившись, он обворовал своих, а потом донес в полицию, что это сделал его подельщик. За два таких преступления не просто выгоняли из криминального мира, но и быстро ставили на ножи. Ваську даже не поставили – побрезговали. Но слава о нем разнеслась быстро, как воздух, и он стал изгоем. И если и воровал кое-как, то втихаря от бывших своих.
Накануне вечером Васька выпил меньше обычного, а потому проснулся с непривычно ясной головой. Всем нутром он почувствовал, что приближается неприятность, и что она очень серьезная.
Несколько месяцев назад Черняк умудрился взять деньги в рост у местного ростовщика Якова Кацмана, который обслуживал весь Привоз. Тот денег дал, причем на несколько месяцев, но заставил подписать какую-то бумажку, которую безграмотный Васька даже не мог прочитать. Деньги были нужны позарез, так что бумажку он подмахнул, поставив какую-то закорючку, и тут же об этом забыл.
Срок выплаты прошел месяц назад, и Кацман принялся требовать назад свои деньги. Васька пообещал сломать ему шею, побуянил немного под дверями лавки, но Кацман не угомонился. Он сказал, что пойдет с бумажкой к новым властям, и те посадят Ваську в тюрьму, потому что в бумажке так и было написано, что Кацман имеет право требовать деньги свои через суд. Черняк перепугался, поспрашивал людей, и те подтвердили: так, мол, и есть, и если Кацман записку в полицию отнесет, то Ваську заарестуют.
Идти договариваться с Кацманом нужно было сегодня, а договариваться было не с чем. Денег не было никаких, и перспектив получения – тоже никаких. А в тюрьму Ваське идти страсть как не хотелось. Он уже сидел в тюрьме, и это были самые худшие воспоминания.
Думая о свалившейся на него беде, Черняк принялся ходить по свалке, глядя себе под ноги, как будто пачка денег неизвестно как могла появиться в гниющем мусоре, как вдруг… Внимание Васьки привлекла большая плетеная корзина, прикрытая грязной тряпкой. Она стояла на самой границе свалки, за грудами мусора, и выглядела как-то странно.
Не долго думая, Черняк двинулся к корзине. Тряпка, ее закрывавшая, была в пятнах крови – он определил это сразу. Васька так много видел человеческой крови на своем веку, что ошибиться никак не мог. Лишенный абсолютно всех человеческих чувств, в том числе страха и отвращения, он одним движением руки отогнул тряпку, чтобы заглянуть в корзину. Но то, что там находилось, на миг пробило его какой-то нечеловеческой дрожью.
В корзине лежал мертвый голый младенец мужского пола, совсем крошечный, не старше нескольких дней от роду. Он был весь синий, а голова его была свернута набок.
Закрыв корзину тряпкой, Васька стал думать дальше.
План в его голове возник сразу, и был он вполне характерным для существа, абсолютно лишенного всех моральных и человеческих качеств, к тому же уже привыкшего предавать своих. Подхватив корзину, Черняк быстро направился к Привозу.
Поскольку стояло раннее утро, торговые ряды были еще закрыты – в такой час торговля еще не начинается. Быстро лавируя знакомыми проходами (Васька знал все ходы Привоза как свои пять пальцев), он вышел к лавке Кацмана, которая стояла в хорошем месте, возле Фруктового пассажа. Лавка была закрыта.
К дверям некоторых дощатых магазинчиковсрубов, которые строили на бывшей Привозной площади, а ныне на полноценном Привозе, вели несколько высоких ступенек – чтобы посетители могли не только очистить свои ноги от грязи, но и чувствовали себя более комфортно.
Сунув корзину с мертвым младенцем под ступеньки лавки Кацмана, Васька стал ждать своего часа.
Час этот пробил скоро. Спрятавшись у ближайших лавчонок, Черняк наблюдал, как старик Кацман, охая и кряхтя, опираясь на черную палку, прошкандыбал к своей ростовщической лавке и, тяжело поднявшись по ступенькам, осевшим под его весом, отпер дверь своим ключом.
Кацман не глянул на то, что могло находиться под ступеньками, – с чего бы? – он туда никогда не смотрел. Старик зашел в лавку, оставив раскрытой дверь, и занялся подсчетами в массивной конторской книге, лежащей на дощатом прилавке.
Подождав еще, Васька вышел из своего укрытия и, походив какое-то время туда-сюда, подобрался к говорливым бабам-торговкам, продававшим фрукты из больших корзин.
– Шо кругами колобродишь? – насупилась одна из них, не любившая Черняка. Впрочем, его мало кто любил.
– Да вот, вчера у Кацмана был… – Васька сделал многозначительную паузу, но торговка ее не поняла.
– Денег, шо ли, стащить хочешь, оборвыш проклятый? – упершись руками в бока, пошла она прямо на него. – А ну делай ноги отсюдова, бо щас як по шее наваляю, то зеньки твои поганые аж до поднебес повылазят!
– Да погоди ты собачиться! – примирительно сказал Васька. – Я ж говорю, был у Кацмана, занес ему денег. Видел у него кое-что… Я ж поделиться хочу.
– А шо ты такое видел? – Любопытство было страшной силой, и торговка вмиг забыла свою неприязнь.
– Да такое… Страшно стало. Кровь.
– Кровь?! – Глаза торговки округлились. – Да ты слышал за то, что народ по всему Привозу лавку со следами крови разыскивает? А ну пойдем!
– Да куда? – Васька изобразил испуг.
– К мужикам пойдем! – решительно заявила торговка и, велев соседке присмотреть за ее нехитрым товаром, решительно потащила его за собой.
Через час отряд вооруженных дубинами, вилами, лопатами мужиков, возглавляемый торговкой с Привоза, которая волокла за собой Ваську Черняка, появился у дверей лавки ростовщика Якова Кацмана.
– Вот оно… – Васька указал на край окровавленной тряпки, высовывающейся из-под ступеней, – вроде как оно… Кровь…
Кусок тряпки Васька сам предусмотрительно высунул наружу – как и все подлые по природе люди, он был очень предусмотрителен в деталях.
– Кровь! – завизжала торговка.
Корзину быстро извлекли на свет, открыли… Толпа разразилась гневными криками.
– Это он, жид проклятый, женщину порешил! На куски порезал и на свалку выбросил! Младенцев наших душат! Изверги некрещеные! – раздавалось в толпе.
– Люди добрые, да шо ж это на свете делается, – вдруг заголосила торговка, – младенцев наших християнских душать, шобы своим чертям в жертву приносить, а мы будем этих нехристей терпеть? Да шо ж це?
– А-а-а! – завопила толпа, – бей жида, бей!
Люди ворвались в лавку, выволокли на улицу ничего не понимающего несчастного старика и стали бить его дубинами, лопатами, не обращая никакого внимания на вопли. Через несколько минут все было кончено. Превращенное в кровавое месиво, тело ростовщика скорчилось в грязи. Лавка была разгромлена полностью и подожжена.
– Бей жидов! Они христианских младенцев убивают! – Дико вопя, толпа ринулась по Привозу, громя лавки, принадлежащие евреям. Через какое-то время появились солдаты атамана Григорьева, которые недавно вошли в город, но, узнав, в чем дело, тут же присоединились к погромщикам, подстрекая и без того разъяренную толпу.
Так начался страшный еврейский погром, который скоро перекинулся на беднейшие районы Одессы.
Глава 8
Еврейский погром. Смерть Софы. Появление Володи Сосновского. Отпор погромщикам
Задыхаясь, Таня мчалась по улицам города, сопровождаемая воплями беснующейся толпы. Ей во что бы то ни стало было необходимо перехватить Цилю до того, как та придет на Привоз. И, зная ее обычный путь, Таня бежала изо всех сил.
Конфликт можно было предотвратить, вмешайся новая власть решительно и сильно. Но вдруг оказалось, что она, эта новая власть в лице солдат Григорьева, вооруженных какими-никакими штыками, откровенно симпатизирует погромщикам, и она не только не сделала попыток пресечь разбойные действия, но и стала подливать масла в огонь.
Разгромив лавку ростовщика Кацмана, толпа рассыпалась по Привозу, разрастаясь, как снежный ком. Вопли были совершенно безумны – и что евреи пьют кровь христианских младенцев, приносят их в жертву своим страшным богам, и что именно они совершили страшное убийство женщины, чье тело разрубили и выбросили на мусорной свалке, и прочая чушь. Полыхая яростным безумием, погромщики громили лавки, принадлежащие евреям, и по ходу убили еще двух человек, которые находились внутри лавок.
Если вначале погромщиков было с десяток человек, то очень скоро их стало не меньше сотни. Толпа разрослась невероятно, увеличившись за считаные секунды.
В тот злополучный день Таня пришла в лавку пораньше, чтобы произвести ревизию товара и сделать кое-какие подсчеты. Циля должна была прийти намного позже – за свою долгую беспорядочную жизнь на улице она отвыкла рано вставать.
Сначала Таня услышала крики, а глянув в окно, увидела женщину, которая бежала и страшно кричала. Волосы ее были растрепаны, лицо в крови. Она диким голосом вопила о том, что толпа разорвала старика Кацмана. Так Таня узнала о том, что начался еврейский погром.
Когда разъяренная толпа приблизилась к ее лавке, Таня выросла в дверях. На груди ее красовался массивный золотой крестик (к счастью, она нашла его среди товаров в лавке и быстро нацепила на себя).
Увидев Таню, часть погромщиков остановилась, другая же пошла дальше.
– Бей жидовку! Здесь жидовка торгует! – крикнул кто-то.
– Какая я тебе жидовка? – громко напустилась на него Таня. – Сам ты жид! Вы что, совсем очумели, на христианских людей бросаться? Вы что, жидовку в лицо отличить не можете?
– На ней крест… Право слово, робяты, гляньте, – загудели в толпе.
– Да с ней жидовка торгует! – выкрикнул кто-то. – Не слушай, бей!
– Это моя лавка! Здесь одна я торгую! Никого со мной нет! Можете зайти посмотреть! – Таня решительно стояла перед толпой, не выказывая ни малейших признаков тревоги и страха. И это подействовало. Толпа дрогнула, отступила. Особенно нападавших смущал крест на Таниной груди.
Кто-то продолжал что-то выкрикивать, но очень скоро погромщики отступили от магазина, рассеялись в разные стороны. Не чувствуя под собой ног, Таня зашла внутрь. Этот поступок – стоять перед разъяренной толпой – потребовал больше мужества, чем она думала. Вся спина ее взмокла от пота, а ноги дрожали так, что она не могла и шагу ступить. Но магазин был спасен, а все остальное не имело значения…
Таня вдруг подскочила на месте, ее словно ударило током: Циля! Вот-вот она придет сюда и угодит прямиком в эту толпу! И эта дикая толпа тут же растерзает ее!
Обезумев от ужаса. Таня быстро заперла лавку и бросилась прочь с Привоза. Она бежала так быстро, что у нее даже стало болеть в груди. Ото всех сторон доносились жуткие вопли, вокруг была ужасающая картина бессмысленных, жестоких убийств, разрушения, хаоса, человеческой смерти.
Дощатые лавки вспыхивали огнем, зажженным погромщиками, а в воздухе стоял густой, солоноватый, металлический запах свежепролитой крови.
Некоторым евреям удалось спастись. Толпа шла через весь Привоз, издавая страшный шум, и кое-кто из евреев успел бежать, заперев свои лавки. Но таких было мало.
Опьяневшие от пролитой крови, обезумевшие люди взламывали запоры и разбивали все, что находилось внутри. Лавку крушили полностью, уничтожая все, весь товар, а обломки поджигали. Страшные костры человеческой ненависти полыхали по всему Привозу.
Очень скоро погромщики прошли весь рынок и высыпали на улицы города. Никто не препятствовал им.
Таня увидела Цилю издалека. Веселая, в развевающемуся по-летнему шелковом платье, она шла почти вприпрыжку, что-то напевая себе под нос. В ее пышных вьющихся черных волосах, выглядывающих из-под распахнутого пальто, алела лента, красиво подчеркивающая яркую смоль ее волос и смуглость тонкого лица. Циля была воплощением весны. И никогда еще Таня не видела ее такой красивой. Здоровая, порядочная жизнь пошла ей на пользу – Циля расцвела, пополнела, кожа ее обрела здоровый, живой вид, налилась молодой силой, к тому же появился задорный, жизнерадостный блеск в глазах. Она выглядела теперь как счастливая девушка из приличной семьи, и никто не догадался бы, чем занималась Циля совсем недавно в своем черном прошлом.
У Тани мучительно сжалось сердце, и, задыхаясь, она побежала еще быстрей. Сзади уже были слышны вопли разъяренной толпы – совсем близко.
– Циля! – Таня закричала громко, с надрывом, изо всех сил: – Циля! Остановись, Циля!
Подруга услышала, удивленно повернула голову.
– Танюш, шо с тобой…
Таня налетела на нее как вихрь, едва не сбив с ног, затащила в ближайшую подворотню.
– Да ты чего? Шо такое происходит?
– Замолчи, глупая! Молчи!
Таня быстро обмотала голову Цили бабским пестрым платком, прихваченным из лавки. Затем так же быстро напялила на ее грудь дешевый серебряный крестик, взятый там же.
– Да шо ты делаешь… – вспыхнула Циля.
– Молчи! – Таня зажала ей рот ладонью. – Ради бога, молчи!
На улице появились первые погромщики – здоровенные пьяные мужики в расхристанных на груди рубахах. Они несли дубины, топоры, какие-то палки. Один тащил самую настоящую косу. С дубин и палок капала кровь.
Разгромив несколько винных лавчонок возле Привоза, погромщики успели восстановить свои силы спиртным, залившись буквально по уши вином и дешевой водкой. И винные пары только подкрепили их пыл. Они кричали свои жуткие лозунги бессвязными голосами, и лица их были красны, как кровь, капающая с дубин.
Глаза Цили расширились от ужаса. Она задрожала, стала белой как снег, и так, дрожа, вдруг схватилась за надетый Таней серебряный крестик – так утопающий изо всех сил хватается за веревку, сброшенную с берега.
– Молчи, – снова прошептала Таня, – ни звука. Молчи.
Погромщики остановились возле дома напротив. Там была булочная, за окнами которой вдруг появилось перепуганное старческое лицо в ермолке.
Разбив дубинами стеклянную витрину булочной, погромщики бросились внутрь. Они вытащили на улицу находящуюся в лавке еврейскую семью: совсем седого старика в ермолке с трясущимися руками, полную старуху, причитающую страшным голосом, молодую беременную женщину в черном платье и еще одну, прижимающую к себе грудного младенца.
Бросив свои жертвы в центр круга, образованного ими же самими, погромщики злорадно хохотали над полумертвыми от ужаса еврейками, лежащими на мостовой.
– Остановитесь… Люди добрые… что же вы делаете… – Старик раскинул руки, пошел вперед, но был тут же сбит с ног ударом мощной дубины, попавшей ему в висок. Неподвижное, скорченное тело уже замерло на мостовой, когда на него стали опускаться палки и вилы, превратившие его в кровавое месиво.
Старуха кричала страшнее всех. Ее крик на идиш словно простирался над всем городом, и был исполнен такой нечеловеческой муки, что его нельзя было слышать без чувства первобытного ужаса, леденящего кровь до самых глубин. Вонзив вилы в ее пышную не по возрасту грудь, старуху повалили на землю и стали колоть. Кололи долго. Может, погромщикам все еще продолжал слышаться ее крик, и они хотели от него избавиться. Может, ее крик вырвал у них мозг, и, не понимая, что происходит, они с тупой, дикой жестокостью просто хотели, чтобы его не стало…
Беременную ударили дубиной в живот. Она ойкнула только один раз, как-то еле слышно, по-детски, и тут же завалилась набок, в то время, как здоровенный мужик в распахнутой настежь красной рубахе, обнажившей мощную волосатую грудь, продолжал колотить ее дубиной, намеренно стараясь попасть в живот и в голову.
Но хуже всего обстояло с женщиной, державшей грудного младенца. Кто-то из толпы, такой же здоровенный детина, как и бóльшая часть погромщиков, вдруг выхватил ребенка из рук обезумевшей женщины и, изо всех сил размахнувшись, ударил его головкой о каменную стену… На глазах Тани и Цили на каменной стене осталось расплывающееся красное пятно.
Женщина бросилась на него, в глазах ее было безумие. Отбросив в сторону трупик ребенка, погромщик опрокинул ее навзничь мощным ударом кулака в лицо. А кто-то из толпы, выхватив вилы из трупа старухи, пригвоздил женщину к земле, после чего она неподвижно застыла, огромными, широко распахнутыми черными глазами уставясь в молчащее небо.
А внутри хрупкого строения булочной продолжался погром. Выворотили дверные рамы из петель, вывернули окна, раскрошили мебель на щепы, раздавили корзины со сдобой на брусчатке мостовой… И в воздухе, словно дополняя весь этот немыслимый ужас, вдруг повис сладкий, приторный запах ванили и свежей сдобы с сахаром, запах жизни…
Мука из разорванных корзин, высыпавшись на землю, смешивалась с кровью, окрашивая текущие ручейки в нежно-розовый, темнеющий на глазах цвет. И ручейки свежей крови стекали вниз, по камням, к ложбинкам и впадинкам в брусчатке, между трупов, лежащих возле разгромленной булочной.
Но наконец погромщики насытились ненавистью и кровью – тем более, что в булочной больше нечего было громить. Потрясая окровавленными орудиями смерти, они пошли вперед, продолжая издавать безумные вопли, оставляя после себя тягучий, тошнотворный запах спиртного и металлический, тяжелый, камнем застывающий в воздухе запах свежепролитой крови.
Улица казалась пустынной. По ней бродили только группы погромщиков, направляясь вниз по Запорожской.
– Идем, – Таня решительно взяла Цилю за руку, – мы должны выйти отсюда.
– Нет, – глаза Цили застыли, она неподвижно смотрела в одну точку и производила впечатление помешанной, – нет… я не выйду туда… нет…
– Пойми, если нас найдут здесь, поймут, что мы прячемся, тогда убьют обеих, – мягко, как ребенка, уговаривала ее Таня, – мы должны выйти и показать, что бояться нам нечего. У тебя на лбу не написано, что ты еврейка. Тем более, что на тебе крестик. Он сегодня меня спас.
– Нет… Не пойду…
– Ты забыла, что в доме Софа? – Таня резко тряхнула ее за плечи. – Мы должны ее спасти!
– Мама… – Циля вдруг заскулила, как маленький потерявшийся щенок, – мама…
– Ты пойдешь, – решительно взяв Цилю за руку, Таня потащила ее за собой, к выходу из подворотни. Они вышли на пустую улицу и быстро пошли вниз, не оглядываясь назад.
Через квартал они вышли на небольшую группу погромщиков, которые заворачивали из-за угла. Очевидно, они разгромили какой-то магазин: весь первый этаж двухэтажного здания был превращен в щепки, а на земле валялись трупы.
Таня и Циля замедлили шаг. Циля опустила голову, а Таня быстро перекрестилась на икону Спасителя, которую нес один из погромщиков.
– А ну проходите! – крикнул кто-то из толпы. – Нечего православным под ногами шастать, когда мы жидов бьем!
Повторять дважды было не нужно. Таня и Циля быстро прошмыгнули и, опустив головы, стали спускаться вниз по улице, изо всех сил спеша к дому, где жила Софа.
– Не узнали… – шепотом сказала Циля, все еще продолжая дрожать.
– Молчи, – зашипела Таня. Нервы ее были на пределе, и она сердилась на подругу за то, что ей понадобилось говорить лишнее, хотя это никто и не слышит.
Погромщики уже успели побывать в их квартале. Большинство грошовых лавок были разбиты, буквально раздроблены, а на земле вповалку лежали трупы. Не щадили никого. Дети, старики, женщины, мужчины – все они были забиты насмерть, никто не мог оказать сопротивления, и большинство трупов были превращены в кровавое месиво. Погромщики никогда не ограничивались одним ударом.
Было жутко идти посреди этого леденящего моря смерти, навевающего нечеловеческий ужас. И Таня едва держала себя в руках. Ей было страшно так же, как и Циле, которая едва не потеряла рассудок от ужаса, превратившись в потерявшееся, ничего не соображающее существо, которое не могло понять, что происходит.
Возле дома была пустота и тишина. Таня вдруг почувствовала, как у нее кольнуло сердце. Циля же очнулась, даже крикнула:
– Мама!..
Двор был усеян трупами. Таня решительно бросилась вперед – и остановилась. Квартира на первом этаже в глубине двора, где она вот уже несколько месяцев жила с Софой и Цилей, была разгромлена полностью. Окна выбили, мебель вытащили во двор. Таня все поняла и решительно остановила плачущую Цилю:
– Не входи… Я сама…
Софа лежала в прихожей. На ней был ее вечный халат, который она не снимала месяцами. Старая, толстая, она лежала бесформенной грудой избитого, уничтоженного человеческого мяса, ее чулки спустились на щиколотки, завернувшись вокруг больных, отечных ног.
Лица у нее не было. Вместо него зияла одна сплошная, синюшно-багровая рана. Было видно, что Софа пыталась сопротивляться: рядом с ней лежала сковородка, массивная, литая сковородка из тяжелого чугуна, которую она, очевидно, прихватила из кухни, услышав в квартире шум. И в этом зрелище было столько трагедии и печали, что Тане захотелось упасть в землю и завыть в голос… Но сделать этого она не могла.
– Они убили ее? – послышался сзади голос Цили. – Они убили мою маму?
Таня попыталась помешать, но было поздно: Циля уже вырвалась из-за ее спины и бежала вперед.
– Мамочка!.. Мама!.. – Голос Цили на самой истерической ноте сорвался, и, как подкошенная, она рухнула на пол, до смерти перепугав Таню…
Когда Таня побрызгала ее лицо принесенной с кухни холодной водой, Циля открыла глаза. Лежала она просто на полу – в квартире не осталось ни одной целой вещи, и положить ее было некуда.
– Мама… – застонала Циля, и Таня поспешила ее перебить, боясь, что она от горя потеряет рассудок: – Послушай, нам надо идти. Надо уходить отсюда. Они могут вернуться в любой момент. И они нас убьют…
– Никуда я не пойду, – Циля кое-как села, прислонившись к стене, – я один раз ее оставила – больше не оставлю. Пусть, пусть и меня убьют, как ее.
– Ты думаешь, она бы хотела, чтобы тебя убили? Что за чушь ты несешь! – прикрикнула на нее Таня. – Софа сделала бы все, чтобы тебя спасти! Ты хочешь так ее подвести? Думаешь, она умерла за это?
И Циля заплакала. Таня не стала ей мешать. Слезы были лучше, чем этот застывший, безумный, неподвижный взгляд, который так страшно напугал ее. Лучше уж слезы – нормальная, живая реакция.
– Я не могу ее оставить лежать так… – всхлипывала Циля, поднимаясь на ноги.
Таня обняла ее за плечи:
– Мы вернемся. Я тебе обещаю.
Поначалу растерявшись, Таня даже не представляла, куда идти, но потом вдруг вспомнила, что поблизости, на Запорожской, живет Шмаровоз. Он-то точно не пострадал в еврейском погроме. Она решила отвезти туда Цилю и обдумать, как быть дальше.
Таня с Цилей повернули на Сербскую. До дома Шмаровоза оставалось квартала три. Странно было видеть пустую, словно вымершую Молдаванку, жизнь в которой всегда била ключом. Выбитые стекла в домах, развороченная дешевая мебель, выброшенная посреди дороги, чернеющие трупы людей в чудовищно неестественных позах… На Молдаванке не было богачей. И евреи, живущие в этом районе города, были такими же бедняками, как и все остальные. Почему же погромщики пришли сюда? Какой была сила их злости, заставляющая проливать кровь таких же людей, как они сами? Таня не могла это понять.
Взявшись за руки, они почти бежали по пустой, словно умершей Молдаванке, и казалось, что эти жестокие погромы вынули у нее душу и сердце.
И тут у них за спиной раздались голоса – как страшный занавес уже виденной катастрофы. Крики нарастали. Таня замерла от ужаса. Наивно было полагать, что они спасутся от толпы во второй раз. Она оглянулась. По Сербской, догоняя их, уже двигались пьяные погромщики.
А потом… Залп выстрелов прорезал воздух страшной пугающей дробью, и впервые в жизни Таня почувствовала, как свистят, обжигая кожу, пули возле самого ее лица. Закричав, она бросилась на землю, потянув за собой Цилю. На земле они откатились к стенке ближайшего дома и так застыли, закрывая голову руками.
Пули попали в погромщиков. Таня видела, как в первых рядах многие попадали. Но выстрелы только разожгли их ярость. Толпа, потрясая кровавыми дубинами, бросилась вперед. Но залпы усилились, а вскоре из-за домов показались и те, кто стреляли.
– Надо бежать… выбираться отсюда… – Таня поднялась на ноги, с силой таща за собой Цилю. Отупев от горя, та совершенно отказывалась соображать. Она ничего не понимала, из ее глаз постоянно текли слезы.
Прижимаясь к стенке дома, они стали продвигаться вперед, по направлению к тем, кто стрелял в погромщиков, инстинктивно чувствуя в них защиту. Так они поравнялись с углом одного из переулков, который пересекал Сербскую.
И в тот самый момент, когда девушки уже достигли угла, прямо на них вывалился еще один отряд погромщиков, среди которых (краем ускользающего от ужаса сознания Таня успела это рассмотреть) было много людей в военной форме – солдат из отрядов Григорьева.
– А, суки! Бежите! – Какой-то мужик с длиннющей рыжей бородой бросился на них с дубиной, успел схватить Цилю, стащить с нее платок. Ее длинные вьющиеся волосы рассыпались по плечам.
– Жидовка! – завопил мужик. – Робяты, глядика, жидовка! Бей ее!
Циля страшно закричала. Таня бросилась на мужика, пытаясь вцепиться ему в лицо. Но ударом в грудь мужик толкнул ее на землю. В этот самый момент он взмахнул дубиной, но вдруг упал навзничь, на спину, с невероятно изумленным лицом. На его лбу появилась расплывающаяся красная точка. Еще несколько выстрелов разогнали остальных нападавших из отряда, пытавшихся броситься на Цилю. Вскочив на ноги, Таня бросилась к подруге, схватила ее за руку. Они забежали в переулок.
Кто-то с силой толкнул ее в спину, так, что Таня с трудом удержала равновесие.
– В подворотню, дура!
Затем чьи-то сильные руки куда-то ее поволокли. Выстрелов становилось все больше. Судя по звукам, на углу начался настоящий уличный бой. Вцепившись в руку Цили, Таня прислонилась к стене какой-то вонючей парадной, где отвратительно пахло кошачьей мочой. Грудь болела, дыхание жгло, ноги отказывались ее держать, вдобавок ко всему предательски дрожали руки – мелкой противной дрожью.
– Что ты здесь делаешь, дура? – Кто-то с силой больно встряхнул ее за плечи. – Почему ты лезешь в самое пекло? Почему ты всегда и везде лезешь? Дура сумасшедшая, что ты делаешь здесь?!
Слов не было, и ничего не было, когда Таня подняла глаза. Перед ней стоял… Володя Сосновский. В руке его был наган. Володя дышал тяжело, с присвистом, и был белый как мел. Это было слишком для сегодняшнего дня, слишком для нервов Тани. Охнув, она вдруг стала оседать вниз, чувствуя, что ее оставляют последние силы. Потом пришла темнота.
Очнулась Таня полулежа на ступеньках парадной. Рядом с ней сидел Сосновский. Он подложил ей под голову свое пальто. Циля привалилась к стене двумя ступеньками выше, как бы за их спинами. Она дрожала и все время плакала, но увидев, что Таня открыла глаза, радостно вскрикнула.
– Это ты выстрелил? – спросила Таня.
– Какого черта ты лезешь в еврейский погром? Ты же не еврейка! Почему ты вечно ищешь беду на свою голову? – В голосе Володи звучал гнев, но, бросив взгляд на Цилю, он осекся. – Ты ее спасала?
– Спасала, – Таня с трудом села на ступеньках, чувствуя, как у нее кружится голова, – а ты что тут делаешь?
– Я репортер. Опасность теперь моя работа, – усмехнулся Сосновский.
– Репортер? Снова?
– В газете Городской думы. Бывшей Городской думы, – поправился Сосновский, – теперь Комитета обороны города.
– Я думала, что ты уехал в Париж, когда эвакуировали город.
– Мое место здесь, – он бросил на Таню странный взгляд, словно хотел что-то сказать, но промолчал. – Слушай, почему она все время плачет?
– В погроме убили ее мать, – объяснила Таня, – потому-то мы и оказались на Молдаванке. Мы бежали спасти ее, но не успели… Эти твари пришли раньше.
– Мне жаль, – Володя опустил глаза. – Какая трагедия, что такое происходит в Одессе. Когда я жил в Петербурге, я слышал о еврейских погромах, но никогда не видел своими глазами, не понимал, насколько это ужасно.
– Откуда во дворцах знать про погромы, – усмехнулась Таня.
– А теперь, когда я увидел своими глазами… – Володя как бы ее не слышал. – Я буду об этом писать.
– Что толку писать? – Таня махнула головой. – Стрелять надо! Ты ведь стрелял?
– Стрелял, – Володя тяжело вздохнул. – Я ненавижу оружие. Хотел бы никогда не брать его в руки. Но теперь такое время: или ты – или тебя.
– А кто стреляет в погромщиков? Кто эти люди? – Таня села совсем прямо. – Кто решился дать им отпор?
– Это люди Японца.
– Быть того не может! Ты серьезно?
– Вполне. Когда Японец узнал о том, что начались погромы, он вооружил своих людей и повел на Молдаванку. Теперь он перебьет солдат атамана Григорьева. Будет конфликт.
– Что ты сказал? Солдат Григорьева? – удивилась Таня.
– Григорьевцы поддерживают погромщиков. Разве ты не видела, что они идут в первых рядах?
– Я видела людей в военной форме, – сказала Таня, – но не думала, что это григорьевцы. Они ведь только вошли в город.
– Это они. Все эти атаманы, поддерживающие красных, всего лишь шваль, бандиты с большой дороги и бывшие босяки. Они всегда были в первых рядах погромщиков. Чего им изменять своим привычкам, если они стали красными? Вот и влились в толпу! И это вместо того, чтобы защищать город!
– Судя по всему, его защитит Японец, – усмехнулась Таня, – все-таки он король.
– Ты можешь идти? Оставаться здесь опасно.
– Куда мы пойдем?
– Есть тут поблизости одна квартира – знакомого сотрудника из газеты. На Госпитальной. Я отведу вас к нему, он вас спрячет. А потом, когда все закончится, доберетесь домой. Где ты сейчас живешь? Я знаю, что твой дом сгорел.
– Откуда знаешь? – удивилась Таня.
– Я ходил туда. Хотел тебя увидеть, – просто сказал Володя, – но пришел на руины.
Машинально, не соображая, зачем это делает, Таня сказала адрес. И добавила:
– Но там все разбито. Мы переедем. И надо заняться похоронами Софы. Она лежит там.
До Госпитальной добрались без приключений. Сотрудник газеты и его жена встретили девушек как родных. Цилю напоили чаем, дали успокоительного и уложили в постель. Как и все здравомыслящие люди, супруги были возмущены погромом и очень хотели помочь. Таня с Володей остались в гостиной. Они пили чай, разговаривали. Таня рассказывала обо всем, что видела на Привозе, о том, как начался погром. Володя не отрывал от нее глаз, и они не замечали, что для них словно остановилось время.
Глава 9
Обескровленная Молдаванка. Спасение Иды – знакомство с Гоби Имерцаки. Контрибуция атаману Григорьеву. Военный комендант Привоза Авдотья Марушина
Сутки уличных боев развалили, обескровили Молдаванку, превратив в полигон кровавой войны. Город словно застыл в изумленном молчании перед жестоким, отвратительным лицом новой власти, проявившей свой звериный оскал. И действительно: не успели григорьевцы утвердиться во взятой Одессе, как начались жестокие еврейские погромы. Это было слишком даже для тех, кто большевикам симпатизировал.
В городе испокон веков мирно уживались люди разных национальностей, на одном только Привозе кого только не было! И преследование по национальному признаку для одесситов стало неожиданным ударом. Город, можно сказать, был к этому не готов. И не готов вдвойне, ведь новые власти вместо того, чтобы воспрепятствовать еврейским погромам и пресечь в зародыше страшные проявления межнациональной розни, не только не приняли мер, но и сами участвовали в них. Единственные, кто осмелился дать отпор с оружием в руках, были люди Мишки Япончика. Хорошо вооруженные, опытные в схватках, отлично умеющие стрелять, они остановили отряды погромщиков, шастающие по Молдаванке. И среди убитых было немало тех, кто еще совсем недавно носил форму солдат атамана Григорьева, сражаясь под его знаменами.
Впрочем, несмотря на то что Григорьев выступал от имени большевиков, в его отрядах не было ни суровой дисциплины красных, ни их жестокой идеологии. И распоясавшееся атаманское воинство было не чем иным, как еще одной разновидностью бандитов, в смутное время возникших на огромных просторах бывшей страны.
До утра Таня с Володей, сидя в гостиной тесной квартирки на Госпитальной, прислушивались к отголоскам ружейной канонады и взрывам гранат, доносившимся поблизости. Оба не сомкнули глаз. Они понимали: город входит в новую эпоху, и какой она будет, свидетельствует именно этот еврейский погром.
На рассвете Таня тихонько направилась к дверям. Володя перехватил ее в коридоре, выходя из тесной, узенькой кухни.
– Куда это ты собралась? Ты с ума сошла?
На улицах продолжали стрелять. Вопли поутихли, и гранаты взрывались все реже и реже, но стрельба – то отдаленная, одиночная, то частыми залпами, став единственным символом этой страшной ночи, – все продолжала звучать.
– Мне надо уйти, это важно, – Таня вскинула на Володю испуганные глаза, – да, мне страшно. Но у меня нет другого выхода.
– Куда ты хочешь пойти? – нахмурился Володя. – Пойми: на улицах разъяренная толпа… Они не станут разбираться, еврейка ты или не еврейка. Они опьянели от крови. Единственное, чего они хотят, – это проливать кровь.
– Я знаю. Я видела, – кивнула Таня, – но это важно. Ида… И ее ребенок. Я не могу оставить ее так.
Ей пришлось все рассказать о судьбе Иды.
– Муж наверняка ее спас, – сказал Володя, выслушав сбивчивый рассказ Тани, – наверняка запер дом и отпугнул погромщиков. Она с ним, там.
– У меня на душе неспокойно, – Таня покачала головой, – мы ведь тоже думали, что до Молдаванки они не дойдут. А они не только дошли, но и убили Софу. Я должна убедиться в том, что Ида жива.
– Ладно, – не долго думая, Володя натянул свою кожаную тужурку, достал пистолет, – пойду с тобой. Черт бы тебя побрал! Вечно лезешь во все неприятности, но без тебя, наверное, было бы скучно жить!
Она не поверила своим ушам. Договорившись с хозяевами квартиры, что они ни за что не выпустят Цилю на улицу, Таня с Володей вышли в притихший город и быстро пошли по разбитым улицам, которые словно стонали от нарушавших тишину шагов.
– Здесь никогда не было так страшно, – кутаясь в платок, Таня с ужасом рассматривала разбитые витрины грошовых лавчонок и разлетевшиеся окна квартир, – а запах… Ты чувствуешь этот запах?
Володя молчал. Его била дрожь. За годы смуты он прекрасно узнал этот запах – солоноватый, металлический, холодный, бьющий в ноздри и выворачивающий всю душу. Это был запах свежепролитой крови.
На углу, на перекрестке возле Еврейской больницы Таня чуть не споткнулась о два тела, распростертые на мостовой. Молодая женщина в черном платье телом прикрывала маленького мальчика лет шести, словно пытаясь вобрать его в себя. Но мальчик был мертв. Он пытался ухватить мать в предсмертной агонии, и крошечные ручки крепко сжимали ее платье – последнюю опору и защиту на этой земле.
Оба были мертвы. Слитые воедино в этом порыве любви, они были выше смерти. Их любовь горькой, трагической нитью словно поднялась над всем городом. Из глаз Тани потекли слезы. Она плакала, и слезы ее, капая вниз, исчезали без следа.
– Пойдем. Не надо смотреть, – Володя обнял ее за плечи, попытался увести, но она все оглядывалась назад.
Они завернули за угол. Стрельба послышалась совсем близко. Раздался рокот мотора. Из-за поворота показался черный автомобиль.
Быстро задвинув Таню за свою спину, Володя выставил пистолет. Резко заскрипев шинами, автомобиль затормозил рядом с ними, и из него показался Японец в сопровождении двух своих неизменных адъютантов: Майорчика и Мони Шора.
– Спасибо тебе, – не разглядев за его спиной Таню, обратился Японец к Сосновскому.
– Рад был помочь, – Володя пожал плечами. Из-за его спины появилась Таня, и Японец удивился:
– Алмазная? Что ты здесь делаешь?
– Пыталась спасти друзей.
– Ну и как? Удалось?
– Не всех.
– В городе опасно. Шухер будет только крепчать, – лицо Японца было бледным, напряженным, уставшим, и Таня поняла, что он в эту ночь не сомкнул глаз, – тварь эта… что устроила погромы… завтра получит от меня бомбу в глотку… Сколько людей положить ни за что…
– Красный комитет бесится, – вступил в разговор Володя, – в редакцию звонила Соколовская и какая-то ее страшная заместительница… Новая… Имени не запомнил… Они не хотели погромов… Комитет обороны будет пытаться выслать Григорьева из города. Так сказал Рутенберг.
– Ага, вышлют, как же! – зло хмыкнул Японец. – Они все заодно! Дали ему карты в руки, суке подзаборной, он со своими на телегах и распоясался! Хорошо хоть я погром остановил. Алмазная, все твои люди со мной были. Молодцы. Все сражались как лёвы. Не ожидал даже. Главное сохранить спокойствие. А не то… Вы куда шастаете?
Таня назвала адрес.
– Не, не по дороге, – нахмурился Японец, – я должен посты сменить. Мои ребята уже сутки стоят. Оружие дать?
– У меня есть, – ответил Володя.
– Вы там поосторожнее, что ли… Хотя мы их успокоили, но кто знает. А вообще спасибо тебе, князь-аристократ!
– Что это было? – спросила Таня, когда автомобиль Японца скрылся за поворотом.
– Я предупредил его, что будет еврейский погром. Нам в редакции сказали. Один из григорьевских тайно позвонил. Я и сообщил Японцу в «Монте-Карло», чтобы он остановил.
– Просто невероятно! Ты – и предупредил бандитов? Не верю своим ушам!
– Только они могли защитить город. Я не люблю, когда просто так убивают людей. На войне, в бою – это совсем другое. А вот так, ни за что, толпа стариков, женщин, детей…
С огромным удивлением Таня изучала лицо Володи, в котором вдруг появилось что-то новое. И это безумно понравилось ей.
Ида со своим грузчиком жила в небольшом переулке за Привозом. И очень скоро Таня с Володей углубились в переплетение разрушенных хибар и каких-то хлипких глинобитных хижин, словно в насмешку носящих название домов. Трущобы здесь были пострашней, чем на Молдаванке. И заселены были всяким отребьем.
Таня была у Иды только один раз, и едва не заблудилась среди этой ветхой, убогой нищеты. Трупов здесь не было. Таня вдруг подумала, что эти дома больше подходят для места обитания погромщиков – тупых, жестоких, вечно пьяных, никчемных, а потому страшно обиженных на жизнь и ненавидящих всех и вся.
Ида жила на первом этаже. И, едва подойдя к ее квартире, они увидели широко распахнутую, покосившуюся дверь, выходящую в чахлый палисадник. Веревка с бельем была оборвана, и детские пеленки валялись прямо на земле.
Из-за двери доносился храп. Таня с Володей вошли внутрь. Пьяный грузчик храпел, растянувшись поперек старой кровати в комнате, носившей следы страшной нищеты. Все здесь было покосившимся, старым, убогим, разломанным. Создавалось впечатление, что мебель собирали по помойкам.
В углу возле окна стояла детская кроватка, но ребенка в ней не было. Не было в комнате и Иды.
Грузчик лежал на кровати прямо в сапогах, к подошвам которых прилипла засохшая грязь. Рубаха на его груди была расхристана, и на светлой ткани виднелись бурые, порыжелые пятна. Возле кровати валялась массивная деревянная дубина, на которой были такие же пятна.
– Он был среди погромщиков, – с отвращением произнес Володя. Таня задрожала от ужаса.
– Ида! – Она пошла по комнате, заглядывая во все углы. – Ида!.. Ида!.. Неужели он ее убил? А ребенка?
– Зачем сразу думать плохое? – Однако в голосе Володи звучала неуверенность. Окровавленная дубина внушала мало оптимизма.
Таня попыталась потрясти грузчика, но это было бесполезно. Он только перевернулся на бок и еще громче захрапел. Таня была в полном отчаянии. Перед глазами стояло мертвое лицо Софы. Представить, что потеряла подругу, она не могла. Таня без устали продолжала метаться и кричать:
– Ида!.. Ида!..
– Нету ее здеся, – в дверях раздался хриплый голос, и на пороге возникла толстая, неопрятного вида старуха, от которой шел сильный запах алкоголя.
– А где она? Вы знаете? – Таня обернулась к ней.
– Выгнал он ее на улицу, как на Привозе всё это началось, – старуха икнула, – пошла, говорит, вон, жидовская морда. Может, тебе по голове дадут, ты и сдохнешь. За порог прямо вытолкал. С дочкой. А сам чуть позже с погромщиками ушел.
У Тани потемнело в глазах.
– И куда она пошла?
– Ну, сначала по улице… Шла и плакала… Сюда пока не доходили с Привоза… А потом ее в лавку забрали.
– В какую лавку?
– Да грузина одного, на углу. Он мебель чинит, старую и новую мебель продает. Так он всех евреев с улицы собрал и быстро в своем подвале спрятал. Когда сюда пришли, все евреи в его лавке спрятались. Так шо не вой, жива твоя Ида!
– Где лавка? – Таня была готова затрясти старуху, как грушу. – Куда идти?
– А на углу. Пойдешь прямо и найдешь.
Таня бежала, не чувствуя под собой ног. Володя едва поспевал за ней.
Солидный, высокий, все еще красивый мужчина лет пятидесяти с благородными седыми волосами стоял в раскрытых дверях лавки по продаже и ремонту мебели.
– Что творится, вах! – причитал он, заламывая руки. – Какой город погубили, какой город!
– Ида у вас? – Таня налетела на него с разбегу.
– Вах, какой дэвушка! Огонь! Чистый огонь! Здесь, здесь твоя Ида! Какой город погубили… Всегда жили мирно под боком – русские жили, грузины жили, армяне, никто ни о ком плохо не думал, а теперь… Как зовут-то тебя, огонь?
– Таня.
– Значит, Тано, – хозяин лавки открыл небольшую дверь в стене, за которой были ступеньки, – в подвале они. Все сидят там.
Подвал был полон людей. В основном там были женщины с детьми. Но, несмотря на скученность, все старались сидеть очень тихо. Молчали даже дети. Ужас погрузил людей в страшное состояние скованности, и это чувствовали все.
Ида бросилась на шею подруге и разрыдалась. Маленькая Маринка мирно спала в какой-то корзине, заменяющей колыбель. Ида понимала, что спаслась чудом. И Таня не решилась ей сказать о смерти Софы.
– Он выгнал меня… Выгнал с ребенком на улицу… Подонок… Шоб он сдох… В жизни к этой мрази больше не вернусь! – плакала Ида. – Это вот Гоби всех спас… если бы не Гоби, мы…
– Гоби? – переспросила Таня.
– Гоби Имерцаки, это его лавка, – пояснила Ида, – он совсем недавно в наш квартал переехал, второй месяц всего живет. А какой человек оказался! Всех спас! Если бы не он… Даже думать страшно. Золотой души человек!
Узнав, что погром закончился, узники стали постепенно выходить из подвала. На улице Ида расцеловала хозяина лавки.
– Спасибо тебе! Не забуду никогда!
– Вах, расти хороший дэвочка! И не думай. Русские жили, грузины жили, евреи, молдаване, греки, все вместе жили, дружно, хорошо. Давно такого позора в Одессе не было! Позор! Позор! – Гоби Имерцаки, причитая, качал головой, и в темных его глазах время от времени вспыхивали яркие непонятные искры.
Темный автомобиль остановился посреди Привозной площади, вызвав глухое роптание у всех собравшихся торговок. Автомобиль в привозных рядах был зрелищем непонятным и странным, но вызывал скорее не удивление, а тревогу.
За час до его прибытия солдатский патруль ходил по всем лавкам и в приказном порядке велел их все закрыть, а всем торговцам собраться на Привозной площади за Фруктовым пассажем. Тот же солдатский патруль выгнал с рынка немногочисленных покупателей, повесив на ворота массивный железный замок.
Солдаты хоть и были в драной форме, явно с чужого плеча, и выглядели кое-как (кто в буйных папахах, кто вообще в старой студенческой фуражке с поломанным козырьком, а кто в ушанке, явно содранной с какого-то крестьянина в пригороде Одессы), но вооружены были настоящими, серьезными винтовками с длинными штыками, и на этих отполированных до блеска штыках неприятно, тревожно плясал дневной свет.
Сталь оружия вообще завораживающе действует на людей, и торговки с Привоза, острое на язык, бойкое и никем не покоренное племя, вдруг прикусили свои знаменитые язычки и покорно пошли за солдатами на Привозную площадь, недоумевая, зачем их там собирают. Под дулами винтовок и нацеленными штыками бойкие торговки вдруг превратились в толпу перепуганных женщин. Они боялись новой власти. Если и были у кого-то надежды на хорошую жизнь, то рассеялись они очень быстро после еврейского погрома, когда проявилось лицо этой новой власти. Более того: стало понятно, что она может быть пострашнее банд самого Мишки Япончика. По крайней мере, пустить оружие в ход не задержится. А потому торговки с Привоза, в памяти которых был еще жив весь ужас погрома, стояли тихо, молча и мирно, не понимая, как себя вести.
Правду сказать, в тихих беседах с подружками они не стеснялись в выражениях.
– Вот суки зацацанные! – качала головой знаменитая на весь рынок торговка медом из Усатово. – Как въехали за Одессу, так на шею налезли. Ножки свесили и сидят, как фраера на заборе, шо им зубы за рот заложить, как на два пальца заплюнуть. И вот теперь фасон за тут развели – права качать!
– Молчи, замолчи зубами, – растревоженно шептала подруга, торговка мидиями и контрабандным шелком. Кому-то это сочетание могло показаться странным, но в Одессе оно было весьма понятным и логичным, ведь и то, и то шло с моря. Улов и шелка торговка получала от контрабандистов-моряков. – За шею открутят, шо без головы своей будешь делать? Ша! Надо молчать! Шоб они были нам здоровы, аспиды, и в тряпочку не чихали!
– Суки зацацанные… – вздохнула подруга, – я и говорю…
Солдаты были неместные. Один из них услышал конец разговора подруг-торговок. Он находился в городе всего несколько дней и не имел никакого понятия об одесском языке. Поэтому, предупрежденный начальством, что торговки начнут ругаться, он страшно удивился и переспросил:
– Что ты сказала?
– Шоб вы были нам здоровы и не чихали в тряпочку! – бойко нашлась торговка мидиями и шелком. – Здоровья тебе желаю… адик!
– Ну спасибо! Только я не Адик. Я Вася.
Подавившись от смеха, торговка медом отвернулась к своим бочонкам, чтоб солдат не увидел ее лица. Так, переговариваясь, товарки собрали свой незамысловатый скарб и пошли за солдатами, совершенно притихнув, подойдя к конечной точке.
Ждать пришлось около получаса, но никто не роптал. Если б не было солдат с оружием, никто не удержал бы фонтан эмоций одесских торговок. Но оружие… Оно меняло все. И буйный нрав отступал там, где речь шла о жизни и смерти. Оставался только юмор, но и он звучал сквозь слезы.
Пыхтя черными выхлопными газами, автомобиль остановился посередине площади, и кто-то в толпе тут же прокомментировал:
– Та прям исчадие ада!
Раздался смех. Таня стояла совсем близко к комментатору – веселому старичку-инвалиду, который торговал детскими свистульками, и ей вдруг стало страшно. Но на слова старика солдаты не обратили внимания. Им было не до того.
Из «исчадия ада» вышли четверо: трое мужчин и женщина в кожанке, кирзовых сапогах и с наганом у пояса. Из-под кожаной фуражки пробивались белокурые волосы. Она могла бы быть очень красивой, если бы была одета по-другому. Но всю ее женственность и обаяние убивали кожанка и заткнутый за пояс по-мужски здоровенный наган.
Один из мужчин выступил вперед:
– Товарищи революционной торговли! Зачитываю вам требование власти по отношению к населению, осуществляющему торговую деятельность. Распоряжение издано командующим Одессой генералом Григорьевым.
Мужчина развернул бумагу и, откашлявшись, начал очень быстро читать.
– Приказ. По распоряжению генерала Григорьева на одесскую буржуазию накладывается контрибуция. 7 апреля 1919 года одесская буржуазия должна заплатить генералу Григорьеву 500 миллионов бумажных рублей, которые следует внести не позже 12 часов дня 12 апреля 1919 года. Если контрибуция не поступит, начнутся репрессии, и частная торговля будет ликвидирована.
Все замерли. Было слышно только тяжелое дыхание шокированных людей. В голове плохо переваривалось услышанное – 500 миллионов бумажных рублей были просто невероятной суммой.
Вперед выступила женщина в кожанке, и зычный ее голос оглушил притихшую толпу.
– Товарищи! Я член ЦК Партии и член Совета по управлению большевиков Одессы. Меня зовут Авдотья Марушина. По распоряжению революционного командования Одессы я назначена комендантом Привоза. Крупный торговый рынок города обязан внести часть денежной контрибуции, наложенной на весь город. Поэтому с каждой лавки, с каждого магазина мы ожидаем сумму от 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на восстановление рынка и города. Мною принято решение арестовывать тех, кто не заплатит указанную сумму, и поступать с ними по законам военного времени. Поэтому проявляйте сознательность, товарищи, и помните, что ваше неповиновение заставит нас принять самые крайние меры. Это будет вынуждено, так как всем вам известно тяжелое положение в стране. Размер контрибуции с каждого магазина будет решаться в индивидуальном порядке. У меня все, товарищи.
Отступила назад. На площади по-прежнему стояла гробовая тишина.
Глава 10
Японец уходит в подполье. Военный комендант Одессы Домбровский. Налет на ювелира Ракитина. Вся правда о военном терроре
Таня стояла перед закрытой дверью ресторана «Монте-Карло», не веря своим глазам. Мало того, что ресторан был закрыт, так на входной, центральной двери висел огромный ржавый замок. Ресторан производил впечатление заброшенности, и было видно, что он не работает давно. Это было абсолютно невероятно – закрытая штаб-квартира Японца. Что бы ни происходило в городе, двери всегда были открыты – при французах, при деникинцах, еще раньше… А вот теперь…
Таня оглянулась по сторонам. Улица вокруг была пустынной. Казалось, даже редкие прохожие спешили проходить быстрее мимо опасного места – ресторана с потушенными огнями вывески, ведь все знали, кому он принадлежал. Для Тани это был удар ниже пояса. Растерявшись в первую минуту, она прислонилась к стене соседнего дома, чувствуя, что вот-вот упадет.
После того страшного собрания на Привозной площади люди расходились медленно. То, что произошло, буквально их добило, ведь большинство на Привозе составляли мелкие, небогатые торговцы, для которых и 100 рублей были неподъемной суммой, ведь продавали они свой нехитрый товар за гроши.
– Что же это делается, люди добрые?! – поднял руки вверх старик-инвалид, торгующий детскими свистульками. – Убили, ироды, без ножа зарезали! Какие тысячи? Чистая смерть… Смерть…
Страшно было слышать эти причитания, страшно было думать о том, что в них содержалась неприкрытая правда. Ведь действительно заплатить такие деньги для многих торговцев означало реальную голодную смерть.
Таня возвращалась обратно в лавку ни жива ни мертва, не зная, как сказать об этом Циле. Но оказалось, что Циля все слышала, прокравшись на Привозную площадь тайком от Тани.
Теперь Циля плакала в голос, вцепившись в распущенные волосы обеими руками, а Ида, худая, суровая, с обескровленными, в муке поджатыми губами, ходила из угла в угол, заламывая пальцы. После погрома Ида окончательно ушла от своего грузчика и теперь жила в доме на Молдаванке с Таней и Цилей. Дом едва успели привести в порядок после погрома, а Софу – похоронить. Но Таня собиралась переехать, и в свободное время смотрела другие квартиры.
– Ну что плакать, – рассердилась она, – слезами горю не поможешь. Попробую достать деньги.
– А вдруг у тебя получится? Ты же Алмазная! – с надеждой посмотрела на нее Циля.
– Алмазная! – фыркнула Таня. – Никакой Алмазной давным-давно нет! Ну у кого сейчас есть бриллианты, кто их носит? Те, с бриллиантами, давно свалили в Париж. Мои люди кошельки по углам тырят, а в кошельках – по 2 – 3 рубля. А ты говоришь…
– Мы погибнем, – резюмировала Ида, поджав губы еще больше, – просто подохнем с голоду.
– Ох, заткнись! – Циля снова разразилась слезами. На душе у Тани скребли кошки – лучше своих подруг она понимала всю безысходность их положения.
– Пойду к Японцу, – подумав, сказала она, – может, он чего придумает… Как не платить…
Однако к концу дня к ним в лавку пришли. Дверь без стука просто распахнулась, и на пороге возникла дама в кожанке, Авдотья Марушина, в сопровождении двух вооруженных солдат.
– Кто хозяин лавки? – Здесь, в магазине, дама вела себя совсем не так, как на Привозной площади, и Таня это сразу отметила.
– Ну я, – выступила вперед Циля, стараясь сдержать слезы.
– У вас мануфактурный магазин? Торгуете краденым?
– Никогда таким не торговали, – Циля побелела как мел, – шо это вам в голову взбрело? У людей берем старые вещи, перешиваем, так и держимся. Сами ведь знаете: товару нового сейчас нет.
– Ворьё, – дама прошлась по лавке, брезгливо схватила розовую кофточку с оборками, лежащую на витрине, швырнула на пол, – вонючее ворьё… Поставить бы вас всех к стенке… Развели контрреволюцию. И поставлю первыми, если не заплатите 1000 рублей. Слышала, ты, жидовка? С твоей вонючей лавки причитается контрибуция в тысячу рублей!
– Побойтесь Бога, мадам! – Циля побледнела так, что казалось чудом то, что она держится на ногах. – Откуда у нас такие деньги? Мы грошовая лавка! На сто рублей в месяц наторгуем – и то счастье! А тысячу рублей… Таких денег нам никогда не собрать!
– Ты слышала, что я сказала, жидовская морда! Не заплатишь – поставлю к стенке! И вертеп твой жидовский сожгу! Слишком с вами тут панькались при старой власти. Теперь будет вам все по-другому. Ты меня услышала, жидовская сволочь? Не заплатишь – всех пристрелю.
Закончив ходить по лавке, Авдотья Марушина ткнула сапогом ящик, в котором хранились отрезы тканей. От удара он отъехал от стены. Солдаты держали наготове винтовки. Было ясно, что, услышав приказ, они сразу станут стрелять. У них были тупые, ничего не выражающие лица – лица тех, кто без всяких сомнений и колебаний готов нажать на курок.
Но приказа открыть стрельбу пока не последовало. Сделав солдатам знак, как двум собакам, Марушина велела им покинуть лавку следом за ней. Они давно вышли, а Таня, Ида и Циля стояли на одном месте, застыв, и сохраняли страшное молчание. И это молчание повисло в воздухе.
Было слышно, как Марушина с солдатами вошли в соседнюю лавку, как оттуда донеслись причитания и вопли и разлились вокруг, как вода.
Таня, сорвавшись с места первой, обернулась к Циле и Иде:
– Я иду к Японцу. Я достану деньги. Будет чем заплатить.
Циля и Ида все еще молчали, когда Таня быстро спустилась по ступенькам лавки и ушла в ночь вдоль рынка, над которым разразилась беда.
Но Таня даже не представляла себе масштабов этой беды – до того момента, как, прислонившись к стене соседнего дома, застыла, вглядываясь в ржавый замок, висевший на двери ресторана. Японца здесь не было. И Таня не знала, где его искать.
Японец ушел в подполье после того, как его люди с оружием в руках остановили погром, и это было вполне объяснимо. На следующее же утро после погрома Григорьев объявил крупную награду за голову Японца и послал всех своих людей на его поиски – которые, разумеется, ни к чему не привели.
Между Григорьевым и Мишкой Япончиком началась серьезная борьба. Григорьев поклялся «поставить к стенке» главаря одесских бандитов. Каждую ночь в городе происходили страшные перестрелки между людьми Григорьева, Мишки Япончика и вооруженными отрядами большевика Домбровского, которого Григорьев назначил военным комендантом Одессы.
Прошлое Домбровского было связано с анархистскими группировками, которые ввязывались в террористические акты в городе еще до прихода французов. Особенно свирепствовали анархисты до первого, провалившегося, восстания красных. Анархист Домбровский одно время входил в отряд дьяволицы Марии Никифоровой. Но после конфликта с атаманшей ушел от нее и сколотил свой собственный отряд, который прославился благодаря необузданной, дикой, ничем не контролируемой жестокости.
Во времена Антанты в городе Домбровский стал членом большевистского подполья, быстро переметнувшись на сторону красных. Он и его люди напоминали отряды Григорьева. Так же, как и он, Домбровский выступал на стороне красных, но воевал по своим собственным законам анархии, очень похожим на его законы. И вот этого человека Григорьев назначил комендантом города, заставив присоединиться к вооруженной травле Японца.
Но, несмотря на все меры, Япончика найти не удалось. Он ушел в глубокое подполье и оттуда продолжил бороться с беспределом отрядов Григорьева.
Надо сказать, что у представителей ЦК Компартии большевиков в Одессе методы атамана Григорьева тоже вызывали настоящий шок. Большевики были в ужасе от еврейского погрома, и на следующий день Григорьева вызвали на ковер в Комитет обороны, который по-прежнему возглавлял Рутенберг, и в Совет ЦК Компартии большевиков в Одессе, возглавляемый Софьей Соколовской.
С самого начала большевики были против кандидатуры Григорьева для взятия Одессы, но особого выбора у них не было.
Атаман Григорьев был бесчестным авантюристом и выскочкой, к тому же – запойным алкоголиком. За годы своей карьеры он успел изменить царю, Временному правительству, Центральной Раде, Директории, гетману и даже советской власти. После чего пришел к красным с повинной, и те позволили ему остаться в их рядах.
В Одессу Григорьев вошел не как атаман (которым был раньше), а как командир 6-й Украинской Советской дивизии. Позже он стал начальником 6-й Украинской. Армия Григорьева состояла из дезертиров царской армии и крестьян самого низшего социального уровня Херсонщины и Николаевщины. Эти люди, в прежнее время находившиеся на самом дне, были абсолютно безграмотны, с трудом выговаривали собственное имя, были тупы, забиты, склонны к алкоголизму, но полны ненависти к тем, кто преуспел в жизни больше их.
И вот совершенно неожиданно судьба вознесла их на самый верх, где они оказались представителями закона и власти. И это опьянение вседозволенностью вылилось в тупую жестокость, ведь в армии бывшего атамана дисциплина поддерживалась слабо.
Тупые, безграмотные, недалекие крестьяне, став властью, опьянели от крови и принялись заниматься «экспроприациями буржуев», то есть самым откровенным грабежом.
На подходе к Одессе они останавливали целые поезда и грабили всех пассажиров. Когда они вошли в город, то тут же принялись таскать по улицам целые подводы, груженные «городским барахлом». Одесса всегда были богатым городом, и именно в ней «хлопцы-григорьевцы» разошлись вовсю.
Не останавливаясь ни перед чем (и еврейские погромы были тому подтверждением), они грабили всех и вся. Иногда доходило до абсурда, когда воинство вытаскивало из домов старые простыни и чугунные сковородки с отломанными ручками – только потому, что таких не было в их родной деревне.
И за такое поведение Григорьева заставили отчитываться – сначала в Комитете обороны и Совете представителей ЦК Компартии в Одессе, а затем – уже в Революционном комитете, в который объединились эти две структуры. После беседы, по настоянию Соколовской, Григорьева пытались арестовать.
Но около тысячи вооруженных григорьевцев окружили здание, где происходила беседа, больше похожая на допрос, и угрожали его взорвать, если большевики не выпустят Григорьева.
Большевикам очень не хотелось развязывать очередной вооруженный конфликт в городе. К тому же силы были неравны – красным нечего было противопоставить григорьевцам. А бросать город на произвол, пока не подошли серьезные части, большевики не хотели. Мало ли что могло произойти – вдруг Добровольческая армия опять нападет на Одессу, или французы вернутся. Добывай тогда столь важный стратегический город во второй раз!
Поэтому Григорьева пришлось отпустить. Ему сделали суровое «внушение», которое очень сильно разозлило атамана. Вот как он сам об этом рассказывал своим людям:
«Я как занял Одессу, так и Ревком жидовский появился… Стали требовать, чтобы подчинился ему, чтобы хлопцы перестали жидов колошматить. А сами знаете, люди в походе изорвались, обносились, а в городе жидов-спекулянтов много… Я взял город, стало быть, он мой, а тут Ревком из подполья вылез и стал мне на пути… Арестовал: все жиды, а один дурак – русский. Ну и того к ногтю своею рукою… Показал им, Ревкомовским жидам. Хлопцы мои не лыком шиты. Так что не они меня, а я их к ногтю».
Впрочем, Григорьев договорился с Ревкомом старым, всем известным, хорошо испытанным способом. Он пообещал отдать часть от собранной им в городе контрибуции в 500 миллионов на революционные нужды. После этого Григорьеву было разрешено выколачивать деньги как угодно, и его люди приступили к «работе».
Деньги выколачивали из «буржуев» в застенках ЧК, ревтрибуналах, народной милиции, комендатуре. Общее командование над сбором денег и составление списков жертв было поручено военному коменданту Одессы Витольду Домбровскому. Он быстро сколотил отряд своей личной охраны, «комендантскую сотню», которая подчинялась лично ему и никому больше. В народе этот отряд окрестили «дикой сотней», так как на 90 процентов он состоял из грузин и чеченцев. На самом деле это была хорошо вооруженная банда.
Штаб по выколачиванию денег из буржуазии Домбровский организовал в гостинице «Пассаж».
Дом ювелира Ракитина на углу Александровского проспекта утопал в темноте. С фасадной части дом выходил на проспект, и можно было спрятаться напротив, в густых кустах, которые разрослись на проспекте. Кусты уже начали покрываться зеленью, и крошечные листики с сочными почками служили идеальной маскировкой для надежного убежища – особенно в темноте.
Ювелир Ракитин не уехал в Париж и даже не собирался сворачивать свой бизнес. Тане охарактеризовали его как хитрую сволочь, которая из семи шкур вылезет, но со всеми властями договорится. И она не сомневалась, что так оно и есть. Потому что вывеска, тянувшаяся по фасаду здания, была роскошной.
Сам же Ракитин жил на втором этаже. Попасть на первый можно было через заднюю дверь со двора – там и находилась богато убранная лавка, где в витрине, на черных бархатных подушечках, были выставлены даже бриллианты. По ночам Ракитин убирал их в сейф, но не всегда.
Семьи у него не было. Жена сбежала еще при царском режиме, не выдержав его тошнотворной скупости. В доме днем убирала старая служанка. Так что на втором этаже Ракитин к ночи оставался один.
Все это Таня выведала от старухи-служанки, дочь которой была знакома с Идой. Как и все окружающие, служанка ненавидела скаредного ювелира, поэтому с удовольствием выложила все, что знала.
Таня со своими людьми стояла в засаде напротив входа в дом Ракитина. Они ждали, когда на втором этаже погаснет свет. Служанка рассказала, что это означает, что Ракитин засыпает в постели. Спит он крепко, из пушки на разбудишь, потому, что принимает снотворное. Надо подождать минут десять, после того, как свет будет погашен, и тогда Ракитин ничего не услышит.
В доме была электрическая сигнализация, соединяющая лавку с полицейским участком. Но Шмаровоз еще днем перерезал провода, а ювелир этого не заметил. Ракитина грабили не часто, так как он исправно платил дань Японцу. Тане было очень неприятно нарушать уговор, но выхода у нее не было. Другого жирного источника денег не предвиделось.
Свет пока горел. Таня и трое ее людей (Шмаровоз, Колька-Рыбак и новый член банды по кличке Белый) видели, как ювелир закрывал ставнями окна лавки и тщательно, на три замка, запирал входную дверь. Таню это не беспокоило. У нее был ключ от двери черного хода в заднем дворе – его ей дала старуха-служанка, которая так сильно ненавидела ювелира, что мечтала о том, как бы его ограбили. Тем более, что Таня пообещала ей дать столько денег, сколько ювелир не доплатил. А это была приличная сумма, так как он постоянно придирался по мелочам и высчитывал деньги из ее копеечного жалованья.
Наконец свет погас, и Таня вздохнула с облегчением. Она уже успела замерзнуть на холодном апрельском ветру. Если дни были теплые и солнечные, несмотря на ветер, то к ночи на землю возвращался настоящий студеный холод, и вместе с неутихающим ветром пробирал до кости.
Прошло минут 15, и Таня скомандовала своим людям двигаться. Они обошли дом сзади, свернули в узкий дворик и отыскали пошарпанную дверь. Ключ подошел сразу. Они оказались в темном коридоре.
Дверь слева вела в просторную кухню, справа – к лестнице на второй этаж, прямо – вела в лавку, но она была заперта на замок. Ключа от этого замка у Тани не было.
Шмаровоз приступил к делу. Смазав отмычку машинным маслом, он принялся шурудить в замке. Колька-Рыбак подсвечивал ему огарком сальной свечи. Фитиль трещал и разбрызгивал жирные брызги. Раньше, для полиции, такая свеча могла стать уликой. Но теперь всем было плевать. Налеты больше никто не расследовал.
Шмаровоз был спецом. И хотя в последнее время он все чаще и чаще говорил, что хотел бы отойти от дел, с задачей своей справился быстро. Замок хрустнул, и дверь открылась. Все четверо оказались в темной лавке, где на подушечках лежали выставленные в витрине ожерелья, кольца и серьги.
Бросившись к окну, Белый сразу схватил ближайшую подушечку. Яркий луч света от электрического фонаря упал на пол и заметался по стене. Таня вздрогнула, и в тот же самый момент все поняла. Она схватила Шмаровоза за руку.
– Надо прятаться под лестницу! Быстрее!
– Да че ты, сдурела? – Белый был возмущен. – Столько добра вокруг – и прятаться?
Но Таня не слушала его. Вцепившись в руку Шмаровоза, она потащила его под лестницу. За ними пошел Колька-Рыбак. Все трое втиснулись в узкое пространство, заваленное ведрами и тряпками, где замерли, согнувшись в три погибели. Белый, пожав плечами, пошел к следующему окну.
Сквозь щель Таня и ее люди могли видеть происходящее. Входная дверь вылетела со страшным грохотом, выбитая ударами сапог. Внутрь ввалились люди в мохнатых папахах. У многих за поясами были сабли. Не успев спрятаться, Белый так и застыл с драгоценностями в руке.
– Вор, твою мать!.. – заорал зычный голос с заметным кавказским акцентом. – Вора поймали! Вор влез!
– Что с вором делают? – громко рассмеявшись, ответил кто-то еще. В тот же самый миг рослый черноволосый в папахе поднял руку. Раздался выстрел. Было видно, как Белый упал на пол и, чуть прокатившись, застыл. Одной пули оказалось достаточно – в голову.
Толпа расступилась, и в лавке появился кто-то еще. Он был в другой части комнаты, и сквозь щель в двери его нельзя было разглядеть. Но по тому, как почтительно вытянулось воинство в папахах, становилось понятно – появился начальник, главарь. Главный комиссар.
Судя по всему, вел он себя очень важно, потому что не сделал больше никаких лишних движений, а только отдавал команды.
– Собрать! – и по одному только звуку его голоса трое в папахах бросились собирать драгоценности и деньги в лавке. Было слышно, как они разбивают витрины прилавков, как переворачивают их. С громким грохотом взорвали сейф. Они вели себя как самые настоящие бандиты-налетчики, даже хуже. После этого последовала команда:
– Привести.
Четверо бросились по лестнице на второй этаж. Это был самый страшный момент для Тани, ведь, подходя к лестнице, они могли их заметить в узкую щель. Но бандиты были настолько поглощены грабежом, что ничего не видели.
Бегом поднялись по лестнице. С дощатых ступенек на сжавшуюся Таню и ее людей посыпались щепки и пыль. Очень скоро сверху раздался грохот, как будто переворачивали мебель, звуки ударов и крики.
А еще через время двое стащили со второго этажа ювелира. Двое остальных задержались грабить наверху. Ювелир еле шел, тяжело ступая босыми ногами. Его буквально тащили под руки. Рубашка на нем была разорвана, а лицо разбито. Из носа и губ капала густая кровь.
Ювелира затащили в лавку, где уже заканчивали хозяйничать грабители.
– Ну что, буржуйская сволочь, деньги прячешь? – Начальник говорил спокойно, даже весело.
– Господин Домбровский, я же согласился платить, вы же… – начал было ювелир. Но тут же раздался зычный, гулкий звук удара, и голова ювелира бессильно свесилась на грудь.
– Молчать, сволочь, – весело, даже ласково сказал новый военный комендант Домбровский, и теперь прятавшиеся под лестницей поняли, кто это такой, – а мне мало. Есть приказ: экспроприация у буржуев. А ты самый что ни на есть буржуй. Мы все у тебя живо экспроприируем. Кстати, а мы в твоей лавке вора поймали. Видишь, как тебе повезло. Грабил гад.
Кто-то из людей что-то сказал Домбровскому, тот весело рассмеялся, затем повернулся к ювелиру:
– Скрытный, да? Ну ничего, у нас ты живенько расскажешь, где и что у тебя есть! Увести!
– За что? – ювелир собрался с силами и завопил в голос: – За что меня?! Я же пообещал с вами сотрудничать! Пообещал, что всех выдам и всё заплачу! Вы же слово дали!
– Подумаешь, слово! С буржуями я не договариваюсь, – сказал Домбровский, – взял и передумал. Тебе, уроду буржуйскому, урок будет.
Очевидно, он подал знак, потому что ювелира поволокли к выходу. Он упирался изо всех сил. Хватался руками за стены. Вопли его были столь страшны, что у Тани разрывалось сердце. Чтобы не слышать этого кошмара, она закрыла уши. Вообще все ее тело от ужаса билось, как в лихорадке, и Таня никак не могла унять эти то ли судороги, то ли дрожь.
Наконец ювелира выволокли за дверь, осыпав градом ударов. Окинув пристальным взглядом внутренности лавки (не забыли ли какую-то ценность его люди), Домбровский направился к выходу.
Теперь Таня отчетливо видела его высокую статную фигуру в серой офицерской шинели еще с прежних времен. Несмотря на то что он был красив, эта леденящая красота могла внушать только ужас. Первобытный, животный ужас, от которого исчезали все мысли и леденела кровь.
Домбровский вышел. Воинство в курчавых папахах потопало следом за ним, горланя на непонятном языке. В лавке воцарилась тишина – тишина, которая была хуже смерти.
– Можно выходить, – тихонько, шепотом сказал Шмаровоз, – пойдем, Таня.
Впервые в жизни он назвал ее так – по имени, тихим голосом, очень просто и без всяких жаргонных словечек. Это означало, что Шмаровоз находится в глубоком шоке, который просто не может себе объяснить.
Кое-как они выбрались наружу. В лавке было разбито и уничтожено абсолютно всё. Умудрились даже отколупать стены. Казалось, по пространству большой комнаты вдруг пронесся смертоносный вихрь.
Труп Белого лежал ближе к порогу. И, как предполагала Таня, у него была прострелена голова. На его окровавленном лице застыл ужас, смешанный с удивлением.
– С нами покончено, – печально качая головой, прокомментировал Шмаровоз, – нет нас больше. С налетами покончено. Теперь власть грабит. Как же они себя ведут, Боже ж мой… Да ни один налетчик, ни один марвихер… Ни один король Молдаванки не оставлял после себя такого! Матерь Божья… Нет больше королей Молдаванки. И Одессы не будет, если такие к власти придут. Никого не будет.
Колька-Рыбак ничего не сказал. Он был в таком же шоке, как и Таня, и его тоже била дрожь. Таня не захотела подниматься на второй этаж. Она боялась того, что может там увидеть.
Молча они выскользнули из страшного дома через разбитую входную дверь и так, больше не говоря ни единого слова, ушли в темноту.
Глава 11
Встреча с Японцем. Контроль над Привозом. Исчезновение Дуньки-Швабры. История с мертвым младенцем
Пролетка остановилась в самом темном месте Фонтанской дороги, там, где узкое дорожное полотно уходило под откос. Покрытая камнями, упавшими со склонов, дорога была очень неровной. Лошади то и дело спотыкались и останавливались, отчего пролетка шла страшно медленно, буквально кланяясь каждому обломку скалы.
– Так мы до утра не доедем! – занервничал Туча, засуетившись, заерзав на жестком сиденье пролетки.
– Та не треба гоняты коней, – раздраженно ответил возница, – бо копыта зламають, оно мине надо? Хто мине новые копыта поставит?
Внизу, под склоном, круто уходящим в беспросветную темноту, билось море. Были слышны гулкие раскаты волн, набегающих на песок. И казалось, в темноте притаился страшный, отчаянный зверь, неспособный справиться сам со своей мощью, и готовый вот-вот наброситься на людей.
Вжавшись в угол пролетки и потеплей закутавшись в шерстяной платок, Таня тревожно вглядывалась в окружающую их темноту. Эта темнота не несла в себе ни спокойствия, ни укрытия – ничего, кроме страшного, отчаянного чувства тревоги, гложущего ее душу.
После той жуткой ночи неудачного налета что-то сломалось, изменилось в ее душе. Если Таня и раньше думала покончить с криминальной жизнью, то теперь была твердо уверена в этом. Впрочем, сейчас ее несколько отпустила терзающая прежде совесть. Теперь ее грехи казались намного меньшими, чем грехи тех, кто прошлой ночью ворвался в ювелирную лавку. Даже участвуя в налетах, Таня никогда не совершала таких страшных поступков.
Рядом с ней в пролетке сопел Шмаровоз. Так же, как Таня, он был потрясен и чувствовал себя потерянным в этом мире. И так же, как Таня, хотел покончить с криминальным прошлым.
– Я ведь мастер на все руки, – сказал Шмаровоз Тане после того страшного дня, – починить могу всё, что угодно. Любой замок могу разобрать и открыть. Зачем же мне башку под пули подставлять?
И она была с ним совершенно согласна. Прежний криминальный мир рушился, исчезал на глазах, и выживать теперь приходилось совсем по другим законам.
После убийства Софы Таня и Циля сняли новую квартиру на Болгарской – удобную, просторную, четырехкомнатную. Вместе с ними поселилась и Ида с Маришкой. Циля, которая терпеть не могла заниматься домашним хозяйством, наняла в прислуги деревенскую девушку Любу, живущую по соседству. Три раза в неделю эта Люба убирала, стирала пеленки Маришки и варила на всех еду. За это довольная Циля и расплачивалась по-царски. Досыта хлебнув горькой бедной жизни, она не могла обманывать людей и платить мало, потому Люба и работала у них с удовольствием.
Выйдя из дома, Таня глазам своим не поверила, увидев Шмаровоза – во-первых, потому, что он не знал ее нового адреса, а во-вторых, потому, что думала: после ночи он не скоро придет в себя. Но Шмаровоз был достаточно бодр, и сразу же это пояснил, видя ее недоумение:
– Слухами о тебе земля полнится, на Молдаванке твой адрес каждая собака знает. А насчет ночи – завязать я решил. Хватит с меня, – потом, спохватившись, быстро добавил: – Японец тебя ищет. Срочно видеть хочет. Он Тучу ко мне прислал.
Таня кивнула – если кто и знал новое местонахождение Японца, так это Туча, который теперь был его казначеем. Японец, скрывавшийся от людей Григорьева, доверять мог считаным людям. Туче и Тане – в том числе.
– Слава богу! Я давно его ищу, – сказала Таня.
– Он за теперь виллу снимает на Фонтанской дороге, не абы шо. Сегодня ночью за нами пришлет Тучу с извозчиком. От он нас и довезет.
Вилла на Фонтанской дороге! Японец всегда умел устроиться неплохо. И пока люди Григорьева обыскивали все притоны Молдаванки, Бугаевки и Слободки, пытаясь даже залезть в катакомбы, Японец жил себе как настоящий король! Таня усмехнулась – ей всегда нравилась удивительная жизненная сила Мишки и его несгибаемая воля. Он был похож на растение, способное пробиться сквозь камень. Не многие люди обладали такой живучестью.
И вот теперь они сидели в пролетке, которая вяло тащилась вдоль побережья, думая каждый о своем.
– Не ходи! – За час до встречи с Тучей Циля схватила Таню за руки. – За ради всего святого – не ходи! А как это ловушка?
– Перестань! – пожала плечами Таня. – Григорьев ищет Мишку Япончика. Кому нужна я?
– Не скажи! – Циля прищурилась. – Таки весь город только и говорит, как в лавке ювелира Ракитина пристрелили вора Белого из банды Алмазной.
– Как быстро… – удивилась Таня, все еще неспособная привыкнуть к скорости сарафанного радио Молдаванки.
– Так шо теперь люди Григорьева ищут Алмазную по всему городу, шоб, как и Японца, ее порешить.
– Да какая я Алмазная, – усмехнулась Таня горько, – нет больше Алмазной, как и налетов нет. Прошлое… Те, что были в лавке, хуже любых налетов. Так что им долго придется меня искать.
– Но ночью ехать тудой, за город… – Таня не уточнила, куда едет, но Циля и так поняла, что Японец прячется не в самой Одессе.
– Это надежные люди, – сказала Таня, – им можно доверять.
Наконец к концу очень долгого пути перед ними выросли два вооруженных до зубов охранника. Туча спрыгнул с пролетки и вступил с ними в переговоры. Минут через пять ворота открыли, и пролетка въехала во двор.
Японец ждал их в роскошно убранной гостиной. Как гостеприимный хозяин, предложил бутерброды, налил вина. Затем отвел Таню в соседнюю комнату, библиотеку, смежную с гостиной, и тут уже, не церемонясь, прямо спросил:
– Ты искала меня из-за дани, которой обложили Привоз?
– Большевичка Марушина, – кивнула Таня, – она была у меня лично. Я в беде.
– Из-за этого ты в лавку Ракитина и полезла?
– Я не хотела этого делать. Но другим способом деньги мне не достать.
– Ладно, это уже не имеет значения, – махнул рукой Японец, – какая теперь разница, если так живем. Но вот что за твою беду я тебе скажу. Деньги я тебе дам.
– Нет, – запротестовала Таня, – мне не нужны одолжения. Тем более, я не смогу их отдать.
– А это не одолжение, – усмехнулся Японец, – ты окажешь мне одну услугу. И заработаешь.
– Я не понимаю, – удивилась Таня.
– Все просто, – улыбнулся Мишка, – сейчас объясню. Смотри. В чем твоя беда? В большевичке Марушиной! Убрать ее – кто придет за деньгами?
– Да следующий из их кодла! – пожала плечами Таня. – Мало ли их здесь…
– Не скажи, – снова усмехнулся Японец, – другого еще надо найти – такого, так чтоб доверять. А к тому времени я планирую выгнать Григорьева из Одессы.
– Ты планируешь? – удивилась Таня.
– Есть у меня свои каналы среди большевиков. Уж очень они мне в последнее время доверяют, – Японец смотрел на нее с лукавым видом. – Так вот: Марушина исчезнет – не придется платить. А деньги я тебе все равно отдам.
– Да как она исчезнет? – нахмурилась Таня.
– Да хоть сами большевики ее расстреляют! Можно ведь и за нее факты насобирать. Ну, там, налетчица, воровка, и все такое… Большевикам врет, и все деньги себе забрала. Они ее схватят – и конец делов.
– А я при чем?
– А ты подумаешь, как ее лучше сдать. Покумекаешь, как ее подставить. Накопаешь на нее шо-то. И заработаешь денег, шо я тебе дам.
– Зачем тебе избавляться от Марушиной? – в упор спросила Таня. Японец усмехнулся.
– Да есть у меня один человек, которому Привоз хочу отдать. Смотрящим над Привозом его поставить. Яков Пилерман зовут. Ты о нем слышала – банковский аферист, ой какие аферы проворачивал. А ты будешь за ним тихонько для меня присматривать.
– Хорошо, допустим. Но как избавиться от Марушиной?
– Обвинить в вымогательстве, в воровстве – ну придумай что-нибудь сама, не впервой, – Мишка начал нервничать.
– Да убей ее – проще простого! – воскликнула Таня.
– Э, нет. Если ее убить – большевики тут же своего человека поставят. А если доказать, что своему нельзя доверять, они начнут сомневаться. Тут я со своим Пилерманом и подойду. Он для меня много денег заработает. Я теперь очень нуждаюсь в деньгах.
– Для чего? – Таня любила прямоту.
– Еще не знаю – может, уеду потом из Одессы. А может, и нет. Есть у меня кое-какие планы – рано пока говорить. Но ты одна из первых узнаешь, обещаю. Сделать думаю кое-что на деньги, которые для меня Пилерман заработает. А что? Чем я хуже других? Король я или не король?
– Ты король, – подтвердила Таня.
– Тем более, многие из вас хотят начать новую жизнь. Им надо дать шанс, – похоже было, что Японец не кривил душой.
– Сложно будет, – Таня задумалась. – А откуда эта большевичка вообще взялась?
– О ней мало что известно, – пожал плечами Мишка. – Как политическая сидела в одесской тюрьме. Когда мои люди вместе с красными взяли ее и освободили всех политических, эта красотка вышла на свободу. Тут же пошла в партийный комитет и втерлась в доверие к Соколовской – эта Сонька Соколовская ЦК Компартии в Одессе представляет, и у меня уже в печенках сидит. Дура редкостная! Но эта Авдотья произвела на нее впечатление, и Соколовская стала ей доверять. Поставила над самым жирным куском Одессы – управлять Привозом. Все деньги с Привоза большевики хотят себе захапать. Словом, беспредел. Вот если бы пошатнуть доверие Соколовской хоть как-то, да сдать в лапы красных эту Марушину, дело было бы сделано, – вздохнул Японец. – Но я тебе и не говорю, что будет легко.
– Почему я? – удивилась Таня.
– Ты ловкая. И ушлая – во все влезаешь, – улыбнулся Мишка искренне. – И с женщинами лучше контакт найдешь. Увидишь то, что мужики не увидят. У тебя получится, я знаю.
Таня задумалась. Предложение Японца ей очень не нравилось. Но другого выхода у нее не было.
– Хорошо, я подумаю, – кивнула она, и Мишка расцвел. – А в еврейском погроме она тоже участвовала? – Я имею в виду – подстрекала? – нахмурилась Таня.
– Не-не, я узнавал. Это было бы просто – еврейский погром, – развел руками Японец, – ты ж понимаешь, она не такая глупая, чтоб вот так явно себя запачкать. Вроде как на Привозе она даже пыталась погром остановить.
– Я узнаю, так ли это, – кивнула Таня.
– Узнай, – кивнул и Японец, – все про нее узнай. Уверен: деньги она ворует не хуже последней шалавы с притона на Средней. Причем – деньги большевиков. Видишь, как все просто. Нам нужно только доказать, – ухмыльнулся он, сверкнув зубами.
Яркий розовый шелк блестел на солнце. Золотистые нити, вплетенные в тонкую ткань, отбрасывали по сторонам радужные блестки, привлекая покупательниц. Но хозяйка шелка, на чьем столе был разложен контрабандный мануфактурный товар, с покупательницами была груба, смотрела на них свысока, отвечала на вопросы сквозь зубы. А потому, несмотря на внешнюю привлекательность товара, покупали у нее мало.
Продавщица этих тканей, Дунька-Швабра, была известна на весь Привоз своим злобным, завистливым нравом и острым языком, который чуть что, не стесняясь, она пускала в ход. Достаточно молодая (ей не исполнилось и сорока) и привлекательная внешне, она, тем не менее, страдала от отсутствия кавалеров и изо всех сил охотилась за женихами. Но потенциальные женихи, познав нрав Дуньки во всей красе, бежали со всех ног в разные стороны, что служило бесконечной причиной ее переживаний и еще большей злости, которую она вымещала на всех, кто попадался под руку.
Шваброй Дунька была прозвана за необычайную, просто болезненную худобу и очень высокий рост – по сравнению с ней даже самые рослые мужчины казались маленькими. Однако не это было ее недостатком, скорее наоборот – Дунька, отличаясь от всех женщин, выделяясь в любой толпе, очень привлекала мужчин. А вот удержать их ей никогда не удавалось.
Как и множество других женщин на рынке, Дунька торговала товаром, который брала у контрабандистов.
Она выросла на Привозе, где до нее торговала ее мать, а потому умение мошенничать и ругаться с покупательницами приобрела по наследству. У нее бывали и хорошие периоды (чаще всего, когда она находила очередного жениха), и тогда Дунька превращалась в само обаяние и любезность. Тогда от покупательниц не было отбоя, и она меньше чем за неделю распродавала свой товар. Но так было не всегда. В конце концов ей надоедало притворяться, и она проявляла свой нрав в полной мере. А потому периоды процветания сменялись периодами полного безденежья.
И этот день был, похоже, как раз такой.
Просто с утра Дунька-Швабра нахамила очередной покупательнице – прилично одетой дамочке с элегантным ридикюлем, которая заинтересовалась розовым шелком. И покупательница ушла, честя Дуньку на чем свет стоит.
– Ты, мать, того… Заткнулась бы, – не удержалась даже соседка, торгующая самодельными леденцами и сахарной пастилой, – золотая гусыня до тебе в руки плывет, а ты зубами скворчишь. Ты бы лучше фасон на морду натянула, да язык за гланды замотала. Было бы больше делов.
– А, плевать, – беззаботно бросила Дунька и, вытянув руку вперед, принялась любоваться дутым серебряным браслетом, в который были вставлены большие куски желто-оранжевого янтаря.
Браслет не остался незамеченным соседкой, и та, прищурившись, недобро посмотрела на него.
– А шо так?
– Может, я вообще больше здесь торговать не буду, – ухмыльнулась Дунька, – может, я сама нашла золотого гуся.
– Да ты шо! – всплеснула руками соседка. – Это он цю цацку подарил?
– А то! Ты смотри, какой фасон! Вещь недешевая. Он тот еще фраер – солидный на всю голову. Не чета тем халамидникам и старым шлеперам, с которыми я раньше ошивалась.
– И где ты такого нашла? – Соседка не могла поверить.
– А вот нашла! – Дунька надменно улыбнулась. – Где нашла – там уже нет.
В этот момент к ней вдруг подбежал чумазый мальчишка и что-то быстро зашептал. Дунька сунула ему мелкую монету, и тот убежал со всех ног. Швабра расцвела.
– Слышь, соседка, – обернувшись к товарке, Дунька вдруг стала сама любезность, – ты за товаром моим присмотри, а? А то нужно отойти на пять минут! Больно надо!
– Шо, фраер твой зовет?
– Он самый! Мальчонку прислал. Шо-то важное у него. Лично хочет сказать. Так присмотришь, а? А я тебе на платок красоты отрежу! Не в службу, а в дружбу!
– Да ладно! – сказала соседка, изнывая от зависти. – Присмотрю, конечно. Только ты долго не ходи, мне сегодня пораньше уйти надо.
– Не волнуйся! – Дунька принялась смахивать ткани с прилавка в огромный матерчатый баул. – Всего-то минут пять, не больше! Он сам сказал – на пару слов.
– А чего в разгар дня-то? – подозрительно уставилась на нее соседка.
– А жить без меня не может! – Дунька цвела.
– Ты хоть расскажи, какой он из себя – брюнет, блондин, рыжий? – вдогонку крикнула соседка.
Дунька обернулась, глаза ее довольно сверкали, как у уличной кошки.
– Солидный. Седой.
Дунька не вернулась даже тогда, когда стало темнеть, когда с момента ее исчезновения прошло часов шесть, не меньше. Чертыхаясь, соседка запихнула баул с тканями под Дунькин прилавок и велела передать той, когда она явится, всего, всего, всего… О чем, собственно, не принято писать.
– Не обязана я ее вещи сторожить – сердилась соседка, – у меня самой дел выше горла! Пошла она куда подальше, наглая тварь!
– Дунька вернется – вой подымет, шо ты ее товар бросила. Ты ее знаешь, – сказала одна из торговок.
– А имела я ее в виду с синим пламенем – с красным знаменем! – парировала торговка леденцами. – Я на ее шмотье не нанималась, и торчать здесь до ночи, пока она с хахалем кувыркается, – ага, щас шнурки поглажу и плясать пойду! Да пошла она куда подальше – маршем и в белых тапках!
Торговки согласно закивали головами. В конце концов их товарка была права. Под всеобщее одобрение она пнула баул ногой и исчезла с рынка.
– Бабоньки, а хахеля Дуньки кто-то видел? – подхватила тему одна из торговок. Тема была слишком интересной, чтобы оставить ее просто так.
– Да был какой-то мужик в возрасте, с седыми волосами, – сказала торговка контрабандными духами, чей нежный, благоуханный товар на прилавке соседствовал с корзиной раков соседней продавщицы.
– Правда? А какой он? Расскажи, расскажи! – раздалось сразу со всех сторон.
– Да нечего рассказывать, – торговка духами пожала плечами, – я его только сзади видела. Широк в плечах. Ниже Дуньки, конечно. Одет дорого. По виду приличный. И весь седой.
– Старик, что ли? – самая молодая из торговок хохотнула и уперлась кулаками в бока.
– Почему сразу старик? Просто солидный, степенный. Дунька тоже не девчонка. Нет, все правильно она выбрала. Ну шо, одет дорого, – сказала продавщица контрабандных духов и вздохнула с глубокой ненавистью. Несмотря на то что ей не удалось рассмотреть подробно Дунькиного хахаля, она чувствовала, что та подхватила солидный кусок.
Дунька не вернулась и к ночи. Не вернулась она и на следующий день. Ее баул с тканями по-прежнему был засунут под прилавок, и никто его не тронул. Это было делом неслыханным. Свалить с деньгами – такое на Привозе бывало, но исчезнуть, оставив весь свой товар… Торговки стали шушукаться. Разные слухи поползли по Привозу. Все говорили только о том, как Дунька-Швабра сбежала с солидным хахалем, что он женат, потому сбежали тайком. В любом случае, за Дуньку никто не беспокоился и обращаться к властям не собирался. Просто торговки на Привозе продолжали какое-то время бурлить.
Рассказ о том, как исчезла одна из торговок, Дунька-Швабра, Тане принесла Циля, находившаяся в курсе всех новостей.
– Как это исчезла? – удивилась Таня.
– А вот так! Сбежала с хахалем и бросила весь свой товар.
– Это странно… Обычно товар не бросают. А она точно сбежала?
– На Привозе все так говорят.
В те дни Таня серьезно обдумывала слова Японца и все больше склонялась к мысли, что задание, которое он ей поручил, будет абсолютно невыполнимым. И наконец, чтобы узнать подробности, она решила походить по Привозу.
Таня пошла к своей знакомой, которая торговала яблоками как раз на том пятачке, что и пропавшая Дунька-Швабра. Торговка, баба Катря, не долго думая, с ходу выложила всю историю про Дуньку. В ее изложении эта история Тане совсем не понравилась.
– Может, сказать властям? – спросила она.
– Кому? Большевичке этой чертовой? Да она же дрянь! – Баба Катря аж взмахнула руками. – От нее только один вред! Какая она власть?
– А правду говорят, что она пыталась остановить еврейский погром? – спросила Таня то, зачем, в общем-то, и пришла.
– Шутишь? Да ее тут и близко не было! Как мертвого младенца нашли, так…
– Кого нашли? – Таня не поверила своим ушам.
– Мертвого младенца. Прямо возле лавки старика Кацмана! С того и начался еврейский погром.
И баба Катря выложила Тане всю историю о том, как Васька Черняк, свинья с Привоза, рассказал про окровавленную тряпку под лавкой Кацмана, как вытащили корзину, а в ней был мертвый младенец. Толпа начала шуметь – так и пошло…
– Младенец был задушен, – на трагической ноте завершила свой рассказ баба Катря.
– Как задушен? Откуда же кровь? – сразу же сообразила Таня.
– Кровь на тряпке была, которой корзину прикрыли. Вся тряпка в крови!
– А чья кровь?
– Кто ж его знает? Матери, наверно…
– Мать истекала кровью и задушила младенца? – пыталась понять Таня.
– Да о таком никто и не думал, откуда кровь. Мало ли чего… – Баба Катря пожала плечами, ведь лично ей все представлялось простым и ясным. Но совершенно не так было для Тани.
– Кто же убил младенца? – допытывалась она, – кто задушил?
– Ну… старик Кацман, – неуверенно ответила Катря.
– Старик Кацман? – переспросила Таня, не веря своим ушам. – Он же был старый и больной! Я его знала. Страдал от подагры. Он палку свою с трудом поднимал, не то чтобы младенцев душить.
– Ну… не знаю, – как-то растерялась баба Катря, – так никто вроде и не думал… о таком…
– Значит, окровавленную тряпку увидел Васька Черняк и рассказал всем, – подытожила Таня, – а знал он, что в корзине?
– Да откуда ему знать? – удивленно уставилась на нее баба Катря.
– А Кацман? – не отставала Таня.
– Так ведь Кацман младенца задушил… – неуверенно произнесла Катря, – ой, ты как-то переворачиваешь, что все выходит не так…
– А если Кацману корзину подбросили? Что тогда? – не унималась Таня.
– Кто подбросил? – Глаза бабы Катри округлились до невозможности. – Кто ж тогда младенца убил?
– Это и я хотела бы знать, – прошептала Таня.
Итак, полученная информация была неутешительна. Таня узнала, что во время еврейского погрома большевички Марушиной и близко не было возле Привоза. Она не пыталась предотвратить погром, но и не участвовала в нем, не подстрекала к нему. Провалилась – как сквозь землю.
Кроме того, Таню страшно беспокоила история с мертвым младенцем, а почему, она и сама не могла понять. Было в этой истории что-то непонятное, зловещее, и настолько жестокое, какой бывает только черная, первобытная злость. Таня чувствовала, что за этим стоит что-то очень страшное, но что именно, пока не могла понять.
«Вот бы посоветоваться с Володей, рассказать ему», – думала она.
Глава 12
Труп в бакалейной лавке. Конец Дуньки-Швабры. Обыск – находка корзины
На самом углу Фруктового пассажа, там, где улица переходила в немощеную мостовую, стояла москательная лавка с претензией на богатство и с новым названием. Прежде стоявшую тут старую москательную лавку (известную всем не только на Привозе, но и на ближайших улицах) переоборудовали и отремонтировали по-современному и даже обозвали красивым модным словом «Бакалея». Но суть от нового названия не изменилась. Изменился только товар.
Новый хозяин (так же, как и старик-москательщик, спившийся до полного разорения) мало чем отличался от старого. Прежний хозяин мошенничал с клиентами, и новый – тоже.
Товары в лавке были ну совсем невысокого сорта, мука с червями стоила как первосортная, а весы были неисправны, отчего товар постоянно не довешивали. А недавно (и слух этот разнесся над Привозом, как дымовое облако) в мешке с горохом обнаружили дохлую мышь. Но владельца лавки это не смущало.
Благодаря выгодному местоположению (лавка стояла самой первой в начинавшемся торговом ряду) он удачно вел торговлю, пользуясь даже теми слухами, что ходили по Привозу. Он был одним из первых, кто быстро сообразил, что отрицательная реклама может сработать лучше положительной, и повторял часто своим покупателям:
– О моем магазине весь Привоз говорит, слышали? А что дурные слухи, так это завистники. Раз плохо говорят – значит, у меня все очень хорошо.
И люди верили, потому что это соответствует человеческой психологии: раз ругают и говорят плохо, значит, на самом деле все хорошо.
На рассвете ветреного апрельского дня к магазину бакалеи вплотную подогнали гужевую подводу, с которой два ленивых неопрятных работника принялись стаскивать тяжелые мешки.
Несмотря на ранний час, на пороге возник хозяин магазина в теплом пальто, наброшенном прямо на домашний халат. Он зевал во весь рот и протирал заспанные глаза.
– А ну погодь! – вдруг остановил бакалейщик одного из мужиков, перекатывавшего по земле мешок. Веревка развязалась, и из мешка высыпалась часть желтоватой муки. Бакалейщик засунул руку в мешок и, вытащив горсть муки, разжал пальцы.
– Мука лежалая. Вся в комках. И плесенью воняет.
– Как известно, – мужичок пожал плечами, – со склада… первый сорт…
– На складу долго валялась? – хозяин магазина сурово сдвинул брови.
– Как известно… не могу знать…
– Заплачу по второму сорту! Вон, мышиный помет виден.
– Не велено. Продаем как высший класс.
– Я сказал – получишь по второму! Я потом с твоим хозяином разберусь.
– Не велено, – и мужичок быстро поднял с земли мешок, ухватив на весу, неожиданно продемонстрировав недюжинную силу, – не заплатишь, как хозяин велел, товар буду забирать.
Так они пререкались минут десять. В конце концов мешок плюхнулся обратно на землю – бакалейщик согласился заплатить как за первый сорт, и, затянув потуже веревку, мужичонка закатил мешок внутрь магазина. Где, по знаку хозяина, помощник бакалейщика отделил этот мешок от остальных.
– Запах у муки ужасный, – развязав мешок, продавец магазина, молодой, ушлый парень, с удивлением уставился на хозяина, – воняет просто. Зачем вы его взяли?
Подвода уже уехала. Остальные мешки перекочевали в магазин, и, расплатившись с двумя грузчиками, бакалейщик поспешил старательно запереть входные двери лавки (чтобы, не дай бог, никто из покупателей не увидел на самом деле, как выглядит «дорогостоящий товар»).
– Сойдет. Запах выветрится. Просушится. А плесень затрем, – пожал он плечами.
– Вы серьезно хотите продать как высший сорт? Не купят! Воняет, и с комками.
– Еще как купят! В городе голод. Мы цену немного сбросим – за милую душу разметут.
– Как скажете. Вот только вид и запах…
– Ладно, ты тех двух баб позови, пусть просеют, одновременно и просушат. Они не из болтливых, а нам невелик расход. Все равно задорого продадим.
Продавец отправился за бабами, торгующими фруктами посреди рынка, там, где вместо дорогих лавок были простые, дешевые ряды. И очень скоро вернулся с ними – одна из них как раз была соседкой исчезнувшей Дуньки-Швабры. Бабы эти давно подрабатывали у бакалейщика, придавая негодному, некачественному товару привлекательный, «дорогой» вид. За это им хорошо платили. А так как в тяжелое время каждая копейка была на счету, бабы работали с удовольствием, быстро и ловко, и не чесали на все стороны языком.
– Фу! Ну и вонь! – поморщилась соседка Дуньки, разворачивая мешок. – Первый раз вижу, шоб мука была тухлой! Зря купили. Там внутри мышь подохла. И не одна. Вонь теперь не выветришь.
– Ты мне поболтай, – пригрозил бабе бакалейщик, – если б все было товарно, зачем тебе-то платить? Там, в муке этой, действительно мышиного навоза много. Вот его надо выбрать, а муку просушить. Справишься? У нас час до открытия!
– А то! – и, придвинув чистую тряпицу, на которой собиралась просушивать, баба развязала мешок.
Но муки высыпалось совсем не много. Баба удивилась. Она потрясла мешком, даже перевернула его и стала дальше трясти – муки высыпалось еще меньше, чем в первый раз. Даже бакалейщик удивился – обычно из холщового мешка мука высыпалась просто и легко.
– Застряло там что-то, – сказала баба, – внутри наложено. Тяжелое что-то заткнули сверху. Вот и не идет мука.
– Что за чертовщина… Неужто мусор внутрь побросал, ирод… И за это деньги плочены… – возмутился хозяин магазина, – нет, ты мне все из мешка вытряхни. Я ему в глотку этот мусор заткну.
Баба засунула внутрь руку.
– Не вытащить. Тяжелое. На ощупь холодное. Твердое, как камень. Ай! Что-то острое… Оцарапалась…
И тут баба вытащила палец… Тут заинтересовался даже продавец, подошел ближе. Дрогнувшим голосом бакалейщик скомандовал:
– Разрезай.
Продавец стал резать мешок по боку. Отогнул обе части мешковины. Снизу прямо на пол хлынула мука. А сверху…
– И… – вдруг завопила баба, отшатнувшись назад и машинально крестясь, – …и …святые угодники… свят-свят-свят…
На полу, в груде муки, лежали части человеческого тела – плечо с рукой и половина туловища. Туловище было женским. Отчетливо просматривалась запавшая, словно высохшая женская грудь, под которой, натягивая желтоватую, как пергамент, кожу, проступали острые ребра.
Баба страшно завопила. Продавец стал белый как мел и, весь затрясшись, привалился к стене. Один хозяин магазина сохранял какое-никакое присутствие духа. Схватив бабу за плечи и тряхнув как следует, заорал:
– Да замолчи ты, дура чертова! Что это? Откуда?
Баба конечно же знать не могла, но с перепугу прекратила вопить. Тем временем ее товарка, такая же белая, как продавец, подошла поближе и толкнула подругу в плечо.
– На руку посмотри!
– А что смотреть? – повернулся к ней бакалейщик. – Чего на это смотреть?
Но подруга, уже взявшая себя в руки, тоже заинтересовалась происходящим и стала тщательней вглядываться в отрезанную женскую руку, лежащую на полу. Глаза ее расширились, а челюсть вдруг отвисла. Баба истошно завопила:
– Матерь Божия! Святые угодники! Так это же Дунька! Наша Дунька-Швабра!
– Какая швабра! Чего ты несешь! – хрипнул хозяин, нервы которого уже, похоже, полностью отказали.
– Браслет! Это ее браслет! Она еще им похвалялась! – вопила баба.
И действительно: на мертвой руке, туго врезавшись в кожу, отчетливо (особенно когда с него спала мука) был виден широкий серебряный браслет, в который были вставлены большие, необработанные куски янтаря.
Это было страшно и странно: на мертвой, отрезанной женской руке видеть изящный, красивый браслет, державшийся так крепко, что он не упал даже после смерти…
– Пропала она, – пояснила баба хозяину, который только теперь стал осознавать, в какую беду попал, – пропала она, Дунька-Швабра. Товар бросила, и сама не вернулась за товаром. Как сквозь землю провалилась. А он вот как… Убил и на куски разрезал, выродок рода человеческого… Дьявол…
– Ты что, знала ее? – пытался понять бакалейщик, как будто происходящее можно было понять.
– Так кто ж ее не знал! – запричитала баба. – Кто ж не знал нашу Дуньку-Швабру! Весь Привоз знал!
– А голова где? – прервав причитания, спросил продавец, приведя этим вопросом в чувство и растерявшегося хозяина, и вопящую бабу.
Тут только хозяин бакалейного магазина сообразил, что в его магазин попал труп, и нужно что-то делать, чтобы его не обвинили в убийстве. А потому, поплотней запахнувшись в пальто, выскочил на улицу, чтобы немедленно обо всем сообщить властям.
Бабы тоже ушли из магазина – было ясно, что через минуту они раззвонят о случившемся всему Привозу. Оставшись наедине с частями трупа, продавец прикрыл страшные находки мешковиной и, забившись в угол, там продолжал дрожать.
Через час возле магазина собралась толпа зевак, которые всегда собираются, когда происходят такие события. Всем было интересно, что будет дальше, а главное, всем хотелось посмотреть на страшные находки в магазине. Но посмотреть не удалось. Части тела, запакованные в мешок из анатомического театра, вынесли через заднюю дверь, чтобы избежать излишнего ажиотажа. Потом их погрузили на телегу и отправили в морг Еврейской больницы для исследования – больница была поблизости. И это была удача – так оперативно сработали сотрудники бывшей еще при французах полиции, которые почему-то не сбежали. А новые власти, не успевшие утвердиться в городе, еще не успели их расформировать…
Солдаты Григорьева приехали вместе с полицейскими и, не понимая, что происходит и что им надо делать, принялись ходить по магазину, утаскивая то, что под руку попадет. Действовали они так нагло, что бакалейщик даже задумался, что хуже – части мертвого тела в мешке муки или вот эти, приехавшие для расследования.
Один раз он попытался вмешаться, но дюжий григорьевец, одетый в какое-то рванье с чужого плеча, пригрозил ткнуть его штыком в грудь, если не замолчит. И хозяину не оставалось ничего другого, кроме как забиться в угол и оттуда наблюдать, как представители новой власти забирают лучшие товары из его лавки.
И бакалейщик смотрел с тоской, как тот самый григорьевец, угрожавший проколоть грудь штыком, лазил по магазину и на ходу откусывал лучшую колбасу высшего сорта, самую дорогую, которую бакалейщик предлагал только богатым постоянным клиентам…
Про переполох на Привозе и про то, что нашли Дуньку-Швабру, Таня услышала одной из первых. Оставив Цилю хозяйничать в лавке, она побежала к бакалейному магазину, который отлично знала. Там уже собралась толпа, и Таня решительно врезалась в нее.
– Как собаку зарезали… Дуньку-Швабру… И с дохлыми собаками зашили в мешок… – говорили в толпе, – голову не нашли… А зубы все выбиты… И рот как будто кричит… А ноги отрезали… И послание какое-то на коже оставили… Слуги сатаны, наверное… их рук дело…
Прекрасно понимая, что в толпе подробностей не узнать, Таня все-таки стояла в первых рядах, чтобы рассмотреть, кто будет выходить или входить.
Она ждала появления Авдотьи Марушиной, на которую хотела посмотреть особо. Но той все не было. Таня догадалась, что части трупа унесли сквозь заднюю дверь, чтобы избежать волнений в толпе.
– Я ее и нашла, – послышалось поблизости, и Таня, обернувшись, увидела ту самую торговку, которая нашла в муке части трупа. Таня решительно вмешалась в беседу.
– Голова, ноги были? – спросила она.
– Только рука с плечом да туловище. И браслет. Дуньки-Швабры браслет нашей… – причитала баба.
– Кровь была в мешке? – допытывалась Таня.
– Какая кровь? – удивилась баба. – Тело твердое, холодное… Закостенела уже… Не одни сутки так пролежала. Да и убили ее не в лавке. После смерти части тела засунули в мешок. На складе, наверное.
Узнав все подробности, Таня отошла от бабы. Было над чем задуматься: загадочное исчезновение Дуньки-Швабры, браслет, потом мешок… Тане подумалось, что остальные части тела убийца мог запаковать в другие мешки, с крупами. Возможно, их и не найдут. Но если убийца отрезал и спрятал голову, то почему оставил браслет, по которому оказалось так легко опознать труп? Значит, голова была отрезана не затем, чтобы скрыть личность жертвы? Тогда по какой причине?
Судя по истории с браслетом, убийца вообще не думал о том, опознают или нет его жертву. Просто ради какой-то своей цели разрезал труп на куски. Но цель эта – не спрятать тело, не попытаться замести следы. А раз так – похоже, убийца сумасшедший. Серийный убийца, который разрезает на куски свои жертвы. Тане вспомнился Людоед.
Ей подумалось: хорошо бы узнать, были ли еще такие случаи в городе.
Думая обо всем этом, Таня вновь вернулась в толпу и попыталась протиснуться в первый ряд, но не тут-то было. Все места были заняты. И какая-то толстая торговка рыбой (судя по ужасающему запаху) пообещала Тане намять бока, если та еще раз ее толкнет.
Ввязываться в драку Таня не собиралась и решила уйти. Но взвилась буквально в ярости, когда кто-то с силой толкнул ее в плечо.
– Да остановись ты наконец! – раздалось над ухом, и, обернувшись, Таня вплотную столкнулась с Володей Сосновским, который хотел схватить ее за плечо и по неловкости толкнул.
– Что ты здесь делаешь? – глаза Тани распахнулись, она даже задохнулась от обилия нахлынувших на нее чувств.
– Работаю, конечно. Я же репортер, а о жутком убийстве на Привозе говорит весь город, – усмехнулся Володя. – Давай выйдем из этой толпы.
Не чувствуя под собой ног, Таня пошла следом за ним, не понимая, что ей делать – то ли смеяться от радости, то ли рыдать во весь голос. Сердце подсказывало, что правильно будет и так, и так.
– Вот, пришел посмотреть своими глазами, но ничего не увидел, – сказал Володя, когда, покинув толпу, они вошли в относительно тихий переулок, вплотную примыкавший к Привозу.
– Там куски тела нашли, – сказала Таня, – убитую звали Дунька-Швабра. Она торговка с Привоза. Контрабандой торговала, в розницу. Как многие здесь.
– Ты что, ее знала? – удивился Володя.
– Немного, – Таня с трудом вынесла его взгляд.
– А как ты могла ее знать? – не унимался Володя Сосновский.
– У меня лавка здесь, – пояснила Таня, – ты теперь репортер, а у меня лавка на Привозе. И, если хочешь, я могу тебе помочь для твоей статьи.
– Ты теперь торговка с Привоза! Час от часу не легче, – на лице Володи появилось выражение ужаса и брезгливости, и Таня поняла, что правильный ответ был плакать. Поэтому развернулась, чтобы уйти. Ей хватало и собственных разбитых надежд.
– Подожди, – Володя ухватил ее за руку, – извини, я не хотел тебя обидеть.
– А ты больше не можешь меня обидеть. Я привыкла, – пожала плечами Таня.
– Ну да, я виноват перед тобой. Но я такой, какой есть, – сказал Володя, – и меняться я не собираюсь. Так что прости.
– Мне все равно, какой ты есть. Я и без тебя многое о тебе знаю. А вот знаешь ли себя ты?
– Ладно. Я не хочу ссориться. Расскажи лучше об этой… как ее… Дуньке-Швабре…
– Нечего рассказывать. Голову ведь не нашли, – невесело усмехнулась Таня, – а то, что опознали ее по браслету, так это чистая случайность. Недосмотр убийцы.
– А ту, первую женщину, ты тоже знала?
– Какую первую женщину? – Таня навострила уши.
– Которую нашли на мусорной свалке. Разрезанную на куски.
И, видя на ее лице искренний интерес, Володя рассказал ей всё. Таня не верила своим ушам! Она оказалась права. Подобное убийство было не первым.
– Это случилось за день до еврейского погрома, – сказал Володя и описал место, где нашли части тела убитой.
– Еврейский погром начался с мертвого младенца, – машинально сказала Таня, – а выходит, было еще и убийство.
Володя заинтересовался мертвым младенцем, и Таня рассказала о лавке Кацмана.
– Корзину с убитым младенцем просто подбросили ему под дверь, – сказала Таня, – это был лишь предлог для погрома. А ту, первую женщину, опознали?
– Нет, – покачал головой Володя, – я специально узнавал. Собирал материал для статьи. А знаешь что? Если у тебя есть свободное время и если ты не возражаешь, давай вместе сходим домой к этой Дуньке-Швабре. Вдруг повезет, и мы успеем до полиции. Ты можешь узнать ее адрес?
– Могу, конечно, – сказала Таня, с трудом понимая, что происходит. Они снова вдвоем собираются заниматься расследованием? Зачем? Но отступить она не могла. А потому, попросив Володю подождать, бросилась к той самой торговке, которая теперь занимала очень важное место в Дунькиной истории, и выяснила, что Дунька-Швабра арендовала лачугу в том же самом переулке, где когда-то жила со своим грузчиком Ида.
В переулке было пустынно. Только полосатый шелудивый кот, усевшись под водосточной трубой, провожал их желтыми настороженными глазами. Хибара, в которой снимала комнату Дунька, одной стеной примыкала к двухэтажному каменному дому, жилье в котором наверняка стоило дороже. Остальные же стенки лачуги были достроены из фанеры и досок, явно собранных отовсюду, оттого пристройка была чем-то вроде жалкой собачьей конуры, а не человеческим домом. Вдобавок ко всему, несмотря на свой страшный вид, она была поделена на клетушки. В самой крайней клетушке, ближней к улице, и жила Дунька. Открыть покосившуюся, с облепленной краской дверь оказалось легко, несмотря на то что она была заперта на ключ. Таня пошурудила в хлипком замке проволокой (когда-то этому ее учил Шмаровоз), и замок открылся словно сам по себе. Внутри стоял затхлый запах нежилого помещения. Таня и Володя переступили порог.
Обстановка была нищенской. Покосившаяся разобранная кровать. Простыня грязная, с дырами. На столе в углу залежи грязной посуды с остатками еды, засохшие, подернутые плесенью. Дунька не отличалась хозяйственностью. На грязь и беспорядок в ее каморе тошно было смотреть.
Внезапно Таня остановилась и указала Володе на большую плетеную корзину, накрытую тряпкой, покрытой бурыми пятнами, которая стояла на стуле прямо рядом с кроватью.
– Интересно, – сказала Таня, – что в ней?
Они подошли ближе. Тряпка выглядела ужасно – порыжевшая, грязная. От нее шел отвратительный запах. Таня проволокой откинула ее, открыла корзину, и… отшатнулась. Ей вдруг показалось, что она потеряет сознание. Увиденное просто не укладывалось в голове.
В корзине лежал мертвый младенец, крошечный мальчик, голова которого была свернута набок. Тельце его было синим. Судя по состоянию кожи, он был мертв уже несколько дней. Младенец явно не имел никакого отношения к Дуньке – она вообще не рожала, детей у нее не было, и об этом знали все на Привозе. Чей же младенец был тогда?
Таня бросила взгляд на тряпку, покрывавшую корзину, и внезапно все поняла. Тряпка, которой накрыли корзину, были юбкой Дуньки. А пятна на ней были пятнами ее крови.
Глава 13
Грузинское вино и деньги красных. Расстрел как метод расследования большевиков
– Что будем делать с ним… с этим? – Белое лицо Володи Сосновского ярко выделялось на фоне серой штукатурки стены. И Тане вдруг пришло в голову, что, несмотря на полицейское прошлое и репортерское настоящее, подобного ему еще не доводилось видеть.
– Может, полицию позовем? Остатки полиции… в смысле… – запинаясь, Володя говорил с трудом, и Тане было ясно, что он совсем не так силен, каким пытается казаться.
– Никакой полиции, никаких властей, – очнувшись словно от столбняка, Таня решительно взяла инициативу на себя, – с этого как раз и начался еврейский погром. Разбираться никто не будет. Нас обвинят в смерти младенца и расстреляют без суда и следствия. На этом все и закончится.
– Что же тогда делать? – растерялся Володя.
– Делать то, зачем мы пришли. Обыскать здесь все и исчезнуть. Пусть корзину находят без нас.
– Что мы можем здесь найти? – нахмурился Володя. – Приходить сюда было плохой идеей.
– Может, и нет, – Таня решительно накинула окровавленную ткань обратно на корзину, действуя проволокой, и задвинула стул в угол между кроватью и стенкой, – нужно действовать быстрее. С минуты на минуту кто-то может здесь появиться. Если нас застукают – тогда мы пропали.
Первая же интересная находка обнаружилась в покосившейся тумбочке возле кровати, дверца которой закрывалась с трудом. Раскрыв тумбочку, Таня обнаружила довольно пухлую стопку революционных брошюр и прокламаций. Самого что ни на есть пропагандистского содержания.
– Вот тебе и раз! – сказала Таня. – Дунька-Швабра была за красных. Может, и в партию большевиков вступила.
– Разве она была грамотная, чтобы все это читать? – удивился Володя.
– Грамотная? Ну нет! Это не читать. Это раздавать и подбрасывать – в богатые дома, магазины, к примеру. И часть, похоже, она уже раздала. Пачка, думаю, была больше. Это была правильная мысль – агитировать торговку с Привоза, умеющую общаться с людьми, – усмехнулась Таня.
– Торговка – и за красных… – недоумевающе протянул Володя.
– А что ты хочешь? Она была бедной торговкой, из самых низов. Такие люмпены – их главная добыча, – сказала Таня, – насмотрелась я на эту публику. Они именно таких и агитируют, самые что ни на есть отбросы общества.
– Ты не любишь большевиков, не сочувствуешь красным, – усмехнулся Володя.
– На самом деле я нейтральна к ним. Но мне не нравятся их методы, – сказала Таня, – и мне не нравятся те слои общества, на которые они делают главную ставку. Разве могло получиться что-то полезное для общества из такой, как Дунька-Швабра?
Володя с брезгливостью засунул прокламации в прикроватную тумбочку. Новый факт из биографии жертвы заставлял думать уже в новом направлении.
Они открыли шкаф. Одежды у Дуньки было мало. Все это были нищенские вещи, заштопанные и перестиранные не один раз. Очевидно, она едва сводила концы с концами. И если случались у нее периоды процветания, то деньги тратила явно не на одежду. В шкафу ничего интересного не было. Перешли к комоду.
А вот там как раз и обнаружилось самое интересное. В самом нижнем ящике, под стопкой вытертых и застиранных полотенец, лежала большая, литра на два, глиняная бутыль вина с незнакомыми золотистыми буквами на очень красочной этикетке. Судя по пробке и по этикетке, вино было из дорогих. Странно было видеть эту бутылку в нищенской обстановке Дунькиной лачуги.
– Это грузинское вино, – сказал Володя, рассматривая бутыль, – я знаю этот сорт, он дорогой. У нас часто подавали к столу такое вино в Петербурге. Отец любил выдержанные грузинские вина. Эта бутылка должна стоить целое состояние. Такой сорт не продается в дешевых лавчонках и в обычных магазинах. Его привозят на заказ богатым клиентам. Нам, в Петербург, привозил поставщик. Я помню, отец рассказывал. Как странно… Что это дорогое вино делает здесь? Купить его она явно не могла.
– Ей подарили, – смекнула Таня, – это подарок. Видишь, вино закрыто. Она, похоже, знала его цену и не собиралась пить. Может, думала угостить кого-то особенного. Или наоборот – собиралась продать.
– Но кто мог сделать ей такой подарок?
– Может, тот, кто подарил браслет? Браслет ведь был недешевый, серебряный, – сказала Таня. – Интересен другой вопрос: где взял это вино тот, кто его подарил? Кто сейчас покупает такие вина?
– Ну… в дорогих ресторанах высшего класса их точно покупают, – задумался Володя, – хотя не во всех. Еще те, кто у власти. В погребах Гришина-Алмазова наверняка такие были. А сейчас – личная охрана этого Домбровского. Там много чеченцев и грузин. Грузины явно могли привезти это вино с собой с Кавказа. В Грузии оно наверняка доступнее и дешевле.
– Это мысль, – задумалась Таня, – кто-то, кто приехал непосредственно из Грузии. Я почему-то не думаю, что Дунька-Швабра связалась с кем-то из дикой сотни Домбровского. Те не клюнули бы на нее даже при полном отсутствии женщин. Уж слишком стара и страшна. И потом, там все молодые. А хахаль Дуньки был седой.
– Да уж, – сказал Володя. Он не видел Дуньку-Швабру при жизни, но по состоянию комнаты мог предполагать, как она выглядела, – может, она доносила на кого-то Дикой сотне, и это была совсем не любовная связь?
– Да на кого она могла донести – болтливая торговка из самых низов! – отвергла это предположение Таня. – У нее в голове не задерживалась ни одна мысль. Не то что донести, она бы вообще ни до чего не додумалась и не смогла внятно сформулировать. Нет, это отпадает.
Володя положил бутыль обратно, и они продолжили обыск в полупустом комоде, где хранились лишь полотенца да несколько перемен дешевого, старого, заштопанного белья. Но следующую находку сделала именно Таня – потому что Володя не смог прикоснуться к нижнему женскому белью, а Таня прикоснулась.
Под стопками нижнего белья лежали несколько пачек денег. Это были очень крупные купюры. Сумма являлась просто фантастической для той дыры, в которой Дунька жила. Таня даже вскрикнула – в последнее время ей не доводилось держать такие деньги в руках.
Рядом с бумажными стопками лежал туго набитый полотняный мешочек. В нем были золотые царские червонцы, которые тоже стоили целое состояние.
– Глазам своим не верю! – сказал Володя, в то время как Таня, лишившись дара речи, рассматривала деньги и развязывала полотняный мешочек.
– Просто невероятно… – выдохнула она, – что это такое? Как такое может быть?
– Может, это фальшивые деньги? – предположил Володя.
– Не похоже, – покачала головой Таня, – я умею различить фальшивки. По городу их сейчас много ходит. Но они настоящие.
– Это очень странно. Более чем странно… – нахмурился Володя. – Нищая торговка с Привоза под заштопанными панталонами в грязной лачуге хранит целое состояние! Как это логически объяснить? Похоже, в этом убийстве всё совсем не так, как кажется. И убил ее не псих, а убили по политическим мотивам.
– Это не ее деньги, – догадалась Таня, – ей дали эти деньги на хранение. А она взяла.
– Кто дал? Знакомый миллионер? – усмехнулся Володя.
– Ну, она могла быть казначеем большевистской ячейки. Большевики доверяют таким, – стала предполагать Таня, – эти деньги ей мог дать любовник, боясь, к примеру, ограбления или налета красных. В конце концов, она могла их украсть.
– У кого? – задумался Володя. – У кого сейчас есть такие деньги, которые еще не отобрали люди Домбровского!
– У того, к кому они боятся полезть. У кого-то из Дикой сотни могли быть, – задумалась Таня, – видишь, снова наталкиваемся на возможную связь.
– Судя по этим деньгами, она вляпалась во что-то серьезное, – подытожил Володя, – убить ее могли из-за этого, а труп разрезали специально, чтобы подумали на маньяка, на связь с первым убийством.
– А мертвый младенец? – напомнила Таня. – Никто не знал, что в первом случае был мертвый младенец. В газетах об этом не писали.
– Подожди… Ты хочешь сказать, что мертвый младенец был связан с первым убийством?
– Да, хочу, – кивнула Таня, приобретая четкую уверенность, – мы имеем дело все-таки с сумасшедшим убийцей, который не только режет свои жертвы на куски, но и подбрасывает мертвых чужих младенцев.
– Зачем? Что он хочет сказать этим? – недоумевал Володя.
– Это символ. Какой-то символ, но вот какой – я не могу понять, – Таня задумалась, – думаю, убийца – мужчина. Эти убийства несут в себе какое-то послание. Он словно подчеркивает испорченную сущность этих женщин, наказывает их за пренебрежение к материнству, невыполнение своих прямых женских обязанностей, подчеркивает их грязную суть… Не знаю. Возможно, в жизни этого человека что-то было связано с мертвым младенцем. Это определенное послание, которое я пока не могу расшифровать, но оно есть, я уверена. А раз так, то ее убили не по политическим мотивам.
– Где убийца взял младенца? – Володя явно был озадачен словами Тани.
– Разве это проблема, да еще на Привозе? – горько усмехнулась Таня – Многие торговки рожают прямо под прилавком, а младенцев выбрасывают на мусорную кучу. Ты только посмотри, сколько женщин валяется на мусорной свалке за Привозом! Пьяные, жалкие, потерянные – да у любой из них можно украсть младенца, она и не заметит. Это ведь не матери, не женщины.
– Может, именно это и хотел сказать убийца? – спросил Володя.
– Может, и хотел, – снова задумалась Таня, – подчеркнуть сущность этих жалких королев Привоза, составляющих свой, особенный мир. Но тогда возникает важный вопрос – почему убийца убивает здесь, на Привозе, и выбирает свои жертвы из числа тех, кто намертво связан с этим рынком?
– А вдруг судьба его тоже была тесно связана с Привозом, и он здесь как-то ужасно пострадал, – предположил Володя, – теперь мстит женщинам, которые работают на рынке. Как ты сказала, королевам Привоза.
– Мне это не нравится. Совсем не нравится, – сказала Таня, – его надо остановить. Может, большевики остановят? Они ведь должны заняться расследованием…
– Что мы будем делать с деньгами? – полюбопытствовал Володя.
– Заберу их себе, – сказала Таня, – уплачу взнос Марушиной за наш магазин. А заодно и посмотрю, кто будет их искать.
– Это неправильно, – насупился Володя.
– Очень правильно, – успокоила его Таня, – в конце концов, ты забыл, кто я такая. Я воровка и налетчица с Молдаванки. Ведь именно так ты меня всегда называл. Будем считать, что это мой налет.
Володя был возмущен до глубины души, но Таня не сомневалась ни секунды. Сняв с шеи платок, она быстро завернула деньги и спрятала их под пояс пышной юбки. Если на ее пути случайно встретились деньги, глупо было их терять. Тем более, что здесь было больше, чем она выручила бы за налет на ювелирную лавку Ракитина. Хватало и на процент Японцу. Словом, Таня чувствовала себя бесконечно правой. Но Володе не собиралась ничего говорить.
Из дома Дуньки они вышли так же незаметно, как в него проникли. Переулок по-прежнему был пустым. Только вместо рыжего кота под водосточной трубой сидела черная собака с ободранным хвостом. Насторожившись, она проводила их цепкими слезящимися глазами, и легонько рычала, от чего вздыбилась шерсть на загривке. Похоже, собака чувствовала в них угрозу.
– Пойдем, покажу тебе мою лавку, – сказала Таня перед входом в Фруктовый пассаж – ей страшно не хотелось расставаться с Володей, но она боялась себе в этом признаться. Похоже, он испытывал то же самое, потому что с радостью согласился пойти с ней.
Но едва они прошли первые ряды Фруктового пассажа и повернули направо, чтобы выйти на площадь, как впереди показались очертания большой толпы, послышался страшный шум.
– Что это такое? – Таня вдруг побледнела. С момента еврейского погрома она страшно боялась толпы и особенно криков в ней. Скопления людей вызывали в ней ужас – тем более, что в последнее время они происходили исключительно по плохому поводу. Похоже, так было и на этот раз.
Таня с Володей приближались стремительно. Толпа росла на глазах. Непонятно откуда появлялись люди – выходили из окрестных переулков, домов, и так стекались к Привозной площади. Они вели себя шумно. Гул нарастал. Тане вдруг подумалось, что толпа похожа на штормовое море – так же всесильна в своей власти и так же опасна. И, как море в шторм, толпу нельзя удержать. Думать об этом было страшно. После еврейского погрома Таня видела своими глазами, на что способна толпа. Но сейчас в ней было что-то другое – может, то, что людей собрали по принуждению. Из-за этого они и начали роптать.
– Там солдаты, – Володя зашел немного вперед, – стоят рядами… Нет, не рядами, в оцеплении. Сдерживают толпу. Видно, как блестят штыки. Солдат много. Зачем это? Непонятно.
Действуя локтями напролом, Таня и Володя стали пробираться вперед. Это оказалось легче, чем они думали. Из-за солдат никто не хотел стоять в первых рядах.
Сбоку мелькнули знакомые лица торговок – растерянные, бледные, и Таня еще раз подумала о том, что толпа явно собралась по принуждению, а не по своей воле.
– Не лезь туда! – одна из торговок вдруг зацепила Таню за плечо, остановила на ходу.
– Почему? Что происходит? – спросила Таня.
– Солдаты ходили по лавкам, – знакомая понизила голос, – сгоняли всех на площадь. Сказали, комендант Привоза будет говорить.
– Марушина… – выдохнула Таня.
– Хмыря эта… чертова, шоб ее… – выругалась торговка, – сказали, будет говорить за убийство. Так солдаты сказали. Страшно.
– Ну что страшного? – Таня пожала плечами. – Наверное, объявит, что свидетелей ищут, и все такое.
– Шуткуешь? – Торговка окинула Таню странным взглядом с головы до ног. – Еврейский погром помнишь? Какие у них свидетели?
– Я все-таки посмотрю, – Таня вновь стала протискиваться вперед, догоняя Володю, который ушел на большое расстояние.
Гул толпы раздался сильней, в ней словно появились какие-то необъяснимые, внутренние волны, и Таню с Володей буквально вытолкнуло вперед, почти на штыки солдат. Володя был прав. Солдаты стояли в оцеплении.
Снова подъехал черный автомобиль – Таня уже узнавала его без труда. Он двигался так медленно, что казалось – стоит на месте. На сверкающей черной краске отражалась хромированная сталь штыков.
Из автомобиля вышла Марушина. Опираясь на руку солдата, поднялась на своеобразное возвышение, ради которого перевернули один стол-прилавок и покрыли его досками. Получилось довольно высоко.
– Граждане революционного Привоза! – рявкнула Марушина, и Таня поразилась тому, насколько зычный у нее был голос, что так запросто мог накрыть всю толпу.
– Граждане революционного Привоза! Вы все знаете, что произошло на рынке. Хочу сразу сообщить: революционные власти не допустят больше подобного безобразия, подрывающего сознательность наших граждан. Мы будем преследовать тех, кто сеет беспорядки и саботаж в наших рядах. Убийство женщины – это саботаж, за который понесут ответственность те, кто повинен в дестабилизации обстановки на Привозе. Хочу серьезно обратиться к тем, кто сейчас меня слышит. За каждое нарушение общественного правопорядка мы будет наказывать всех без разбору. Мы будем брать заложников из числа работников рынка и поступать с ними по законам военного времени за каждый подрыв дисциплины и проявления саботажа. Вы должны помнить о том, что покрывая виновных в саботаже, вы вредите самим себе. Жесткие меры будут применяться до тех пор, пока убийства не прекратятся либо пока виновный не будет выдан. В случае еще одного убийства количество заложников будет увеличено. Граждане! Проявляйте сознательность! И если вам известны какие-то факты, проливающие свет на происшедшие события, вы обязаны сообщить о них лично мне как коменданту Привоза. Помните о том, что законы сейчас устанавливает окружающая нас война. А потому сейчас, на ваших глазах, я выношу приговор революционного трибунала! Революционный военный трибунал будет судить за каждый факт нарушений общественного порядка не только на Привозе, но и на всех рынках города!
Марушина сошла с импровизированной трибуны. Ее сопровождало гробовое молчание. Тут только Таня разглядела, что возле автомобиля в группе солдат стояло несколько человек. Солдаты вытолкнули их вперед.
С ужасом Таня узнала того самого хозяина бакалейного магазина, который обнаружил части тела в мешке с мукой. Рядом был его продавец и еще двое неизвестных Тане мужчин. Всего четверо.
Арестованных поставили к дощатой стене одной из закрытых лавок. Руки завязали за спиной. На глаза нацепили повязки. Марушина взмахнула рукой. По ее знаку солдаты прицелились. Раздался оглушительный залп. Четверо упали вниз, на груди расплывались кровавые пятна. Хозяину бакалейной лавки пуля попала в горло, он упал, захлебываясь кровью.
В толпе раздался истошный крик. Страшно кричала какая-то женщина, закрывая лицо руками. Окровавленные тела погрузили на телегу, стоящую поблизости. Накрыли рогожей. Поскрипывая, телега тронулась с места. Тощая лошаденка с трудом тащила тяжелый груз. Ее сопровождали несколько солдат.
Марушина уселась в автомобиль. Он развил скорость, и умчался прочь в облаке выхлопных газов. Несколько солдат стали тыкать штыками в толпу.
– Расходиться! Нечего стоять! А ну не толпиться! Расходиться всем!
Толпа стала редеть. Дрожа, Таня уцепилась за руку Володи.
– Она расстреляла их! Ни в чем не повинных людей!
– Успокойся, – голос Володи дрогнул, – вот так они расследуют убийства. Методы расследования большевиков.
– Если этот убийца убьет еще раз…
– Будет еще одна публичная казнь. Она же сказала, что будет расстреливать заложников. Я уже понял – она не человек.
– Ее надо остановить, – Таня была близка к истерике, – я не знаю, как, но ее надо остановить!
– Пожалуйста, успокойся! – Володя обнял ее, притянул к себе, обхватил крепко руками и зарылся лицом в ее волосы. Но Таня этого даже не заметила…
Глава 14
Личность первой жертвы – кто она? Любовник Дуньки. Сводня Ираида Стеклярова
Володя сидел в гостиной новой квартиры Тани и пил чай, старательно демонстрируя, что совсем не смотрит на нее, хотя на самом деле бросал множество взглядов украдкой. Циля тактично удалилась в свою комнату, а Ида вообще не показывалась, увидев на пороге гостя. Она занималась только своей дочкой и была на этом просто помешана.
Володя был усажен на мягкий плюшевый диван в гостиной. Большой уютный абажур из ситца отбрасывал на стол мягкий свет. Сосновский отметил, что эта квартира была обставлена гораздо лучше, чем все предыдущие.
Электричество давали с перебоями, поэтому на столе стояли подсвечники со свечами, что еще больше добавляло романтики в окружающую атмосферу. Но ни Таня, ни Володя не замечали романтики. Лица их были печальны и серьезны.
– В комитете партии расстрел заложников на Привозе восприняли на ура, – вздохнув, начал Володя, – Соколовская на общем собрании очень хвалила Марушину и даже вынесла ей благодарность за поддержание общественного порядка на таком тяжелом объекте, как Привоз. Нам было велено тиснуть об этом в газете статейку на первую полосу. Редактор написал. Причем убийство женщины назвали пьяными разборками местных грузчиков. А Марушина якобы показала всем, какую революционную дисциплину надо соблюдать.
– Бред какой-то, – поморщилась Таня.
– Это еще не всё, – усмехнулся Володя. – Методу расстрела заложников на Привозе Марушину научил Домбровский. Они вообще очень спелись в последнее время. Ходят слухи, что с Привоза Домбровский с помощью Марушиной выкачивает большие деньги. И ей, разумеется, отстегивает часть. Никто вообще не знает, откуда она взялась такая, но город уже сыт ею по горло. Как и Домбровским.
– Все понятно. Значит, никакого расследования убийства не будет, – вздохнула Таня.
– Расследование? Ты его видела? – невесело усмехнулся Володя. – Это единственный метод расследования, который понимает Марушина. Вернее, единственный выгодный для нее способ.
– Мне не дает покоя вопрос с мертвым младенцем, – задумчиво прознесла Таня. – Кстати, младенца в коморе Дуньки нашли. Но властей звать не стали. Решили, что младенец был оставлен Дуньке какой-то подругой на присмотр, а так как Дунька долго не приходила, то младенец и умер с голода. Свезли его в больницу как найденного на улице и сдали в морг там. И концы в воду.
– Все правильно, – кивнул Володя, – кто станет сообщать о таких находках после всего, что произошло? Важная улика уничтожена. Думать больше не нужно – кончено.
– И еще… – Таня мрачно смотрела в одну точку, – нужно узнать, кто был первой жертвой. Почему об этом никто не говорит?
– Потому, что она потерялась в хаосе, ее как бы и не было, – печально сказал Володя. – Может, о ней и стали бы говорить, не начнись еврейский погром.
– Меня не покидает чувство, что самое важное – это первая жертва, – призналась Таня. – Меня просто мучает этот вопрос. Сама не понимаю почему… Невидимка, которую разрезали на куски? Человек без имени? А младенец в первом случае? Где он был до того, как его подбросили в лавку Кацмана? Младенец должен указывать на жертву! Так задумал убийца. Вот с Дунькой он был найден в ее квартире. Значит, и в первом случае он должен указывать на жертву? Интересно, кто же подбросил младенца в лавку Кацмана? – Голос ее приобрел решительность.
– А я возьму на себя личность первой жертвы. Попробую узнать по своим газетным каналам, кто она, – пообещал Володя. – У нас есть информаторы в бывшей полиции. В конце концов, я знаю медика, который до сих пор работает в анатомическом театре. К моему огромному удивлению, он не уехал в Париж. Труп, вернее, части первого трупа, должны были доставить в анатомический театр. Может, были особые приметы – ну, шрамы там, родинки или не снятые украшения, как тот браслет. Я попытаюсь это узнать.
– Есть еще один важный вопрос, – Таня даже не замечала того, что на этой стадии разговора они с Володей обсуждают совместное расследование, причем делают это так, словно это абсолютно нормально, – это друг Дуньки, тот солидный мужчина, который подарил ей браслет. Он очень важный человек в истории ее смерти.
– Ты хочешь сказать, что ее убил любовник? – оживился Володя.
– Может, и он, – кивнула Таня, – но в этом случае он должен был убить и первую женщину. Я не сомневаюсь, что два этих убийства из одной серии. Жаль, нельзя узнать, насиловали ли этих женщин перед смертью… Но я думаю, что обвинять в убийствах Дунькиного любовника – это слишком просто. Он наверняка знает многое о жизни Дуньки, ведь женщины болтливы по природе, особенно с любовником. Она могла рассказать ему, куда ходила, кого боялась, в чем видела что-то странное. Словом, важное, поэтому я и сказала так о нем.
– Да, ты права, – согласился Володя.
– Поиск Дунькиного любовника я беру на себя, – решительно произнесла Таня. – У Дуньки наверняка были подруги. Я постараюсь их разговорить. С этого и начнем.
Повезло им буквально на следующий день. В лавку к Тане зашла торговка контрабандной парфюмерией – та самая, которой довелось однажды видеть Дунькиного любовника, – и сама заговорила о нем. Словно между прочим, раскладывая на прилавке различный товар, Таня навела ее на разговор, и та с удовольствием рассказала все подробности, между делом примеряя цветные шали, за которыми, собственно, и пришла в лавку.
Таня выложила перед ней контрабандную шаль – очень пеструю, с экзотическими птицами и алыми розами, и у торговки жадно загорелись глаза.
– Интересно, где Дунька познакомилась с таким солидным мужчиной? – как бы про себя, тихо сказала Таня, пока торговка примеряла шаль. – Такие на улице не валяются… А Дунька была, между нами говоря…
– Это уж точно! – подхватила разговор торговка. – Шваль была, рвань подзаборная! Совсем не для такого мужика!
– Так где же она его нашла? – Таня уже не выбирала выражений и спросила напрямую.
– Так откуда ж мне знать? – Торговка пожала укутанными в шаль плечами, и на них заплясал, заиграл солнечный свет, переливаясь в блестящих нитях ткани.
– Да наверняка же ж слухи какие были? – не отступала Таня.
– Та чи я знаю! Та мало ли какие слухи ходят! Я же ж к сплетням не прислушиваюсь, надо оно мине! Щас время такое – за сплетни кому хочешь голову снесут.
– Ах, как вам хорошо в этой шали! – меняя тему, вдруг просто проворковала Таня. – Как будто сделана специально за вас! Между прочим, отдам со скидкой! Вам повезло.
– А с какой скидкой? – загорелись глаза торговки.
– Та то просто смешная цена! – Таня назвала заниженную стоимость. – Ну так какие сплетни, вы говорите?
– Та… – торговка вздохнула, – шо уже… Дунька мертвая, так шо можно сказать… А вы вправду мне за стоко продадите? – вдруг встрепенулась она.
– Конечно! Если денег не хватает – занесете потом. – Таня была сама любезность. – Свои люди, сочтемся. Так что за слухи? Мне страсть как любопытно!
– Люди говорили, – торговка по-хозяйски перегнулась через прилавок, поправив при этом внушительную грудь, и заговорщически понизила голос, – что Дунька денег подкопила и заплатила за это, много заплатила.
– Ничего не понимаю, – удивилась Таня, – за что заплатила?
– За мужика, конечно! За что же еще! – и, видя искреннее недоумение на лице Тани, сплетница пояснила: – Сводню она наняла. Сводню серьезную, от та ее с солидным мужиком и познакомила. Вы шо думаете, солидные на улице валяются? Ага! Их просто так не найти. Разве за деньги только. Есть у нас тут одна, в районе Привоза работает… От Дунька ей и заплатила.
– То есть для того, чтобы познакомиться с серьезным, обеспеченным мужчиной, надо платить? – не могла никак понять Таня.
– А то как же! – хохотнула торговка, – все стоит денег. А в нашем случае особенно. Ну какой приличный позарится на торговку с Привоза? Да еще на такую, как Дунька!
Таня задумалась. Информация была ценной. Но вот новая сторона жизни, которая открылась перед ней неожиданно, – была непривлекательной. Таню аж передернуло: платить за такие услуги… Подумать только, за деньги какая-то шваль с Привоза могла познакомиться с таким, как Володя… Думать об этом было мерзко.
– А что мужчины? Знают, с кем знакомятся? – напрямик спросила она, имея в виду уже не Дуньку, а себя, так как не могла избавиться от мыслей про Володю.
– Та нет же, конечно. Ну, это дело обычное, – торговка пожала плечами, – сводня просто устраивает им случайную встречу, дает повод познакомиться и натаскивает девицу, как привлечь его внимание. А до того узнает все про него – что любит, что не нравится, в общем, учит девушку как положено. Знакомства, конечно, может не произойти, но так бывает редко. Как правило, знакомятся. Тут один гембель – стоит это дорого.
– Так откуда же у Дуньки были деньги? – прямо спросила Таня.
– А я знаю?.. Скопила, наверное. Насобирала. Уж очень ей хотелось в жизни устроиться.
– Устроилась, нечего сказать! Может, этот солидный ее и убил! – прямо повела разговор Таня.
– Ой, что вы грите! – замахала руками торговка, словно в ужасе от такого предположения. – Та ни в коем случае! Ираида с такими не знакомит. Они же все солидные!
– Ираида? – переспросила Таня.
– Ну да, Ираида Стеклярова, так сводню зовут. Ее на районе усе знают. Она давно работает.
– А как бы встретиться с ней?
– Ой, для себя хотите? – торговка искренне заинтересовалась. – Только учтите, это очень дорого!
– Ничего. Попробую поторговаться.
– Значица так. Сидит она в кабачке «Якорь» в двух кварталах отсюдова, на углу Большой Арнаутской. Там же ведет прием. Но попасть к ней непросто. Она не со всеми разговаривает.
– Ну так Дунька же как-то попала.
– Ну… Наверно, ее кто-то рекомендовал.
– А как найти кто?
– Думаю, вам это не надо, – торговка окинула Таню с головы до ног цепким оценивающим взглядом, – по вам и так видно, что вы из благородных. Ираида вас сразу возьмет.
– Да из каких благородных! – засмеялась Таня, не собираясь откровенничать. – Всю жизнь прожила на Молдаванке!
– А порода чувствуется, не как у всех, – покачала головой торговка. – Вы так сходите. Только никому не говорите, шо це я сказала. Бо Ираида болтовни не любит. У нее такие связи с бандитами, что в два счета язык отрежут. Говорят, она за свою работу проценты платит самому Мишке Япончику. Це ж серьезное дело. Так шо не любит она болтовни.
– Не бойтесь, не скажу, – пообещала Таня. И продала, как обещала, роскошную шаль за половину цены.
– Шо это за было? – неожиданно на пороге возникла Циля, выйдя из соседней комнаты, – шо за финт ушами?
– Ты слышала весь разговор? – спросила Таня.
– Зачем тебе к этой твари? Не связывайся с ней! Сука такая, каких свет не видывал! – не отвечая на вопрос, закричала Циля.
– Ты ее знаешь? – удивилась Таня.
– Ну конечно, знаю! На нее все уличные девушки в районе Привоза работают! А она лупит их и обирает до нитки! Я за нее еще на Дерибасовской слышала. Она девчонку одну приказала облить серной кислотой за то, что та не платила ей денег. А та потом с горя наложила на себя руки. Тварь это страшная! Даже не суйся к ней!
– Да не бойся ты, успокойся, не ори так… Ты ж сама себя не слышишь… – Таня ободряюще улыбнулась подруге. – Я не для себя. Я убийство Дуньки расследую.
– Час от часу не легче! – повторила Циля однажды сказанное Володей и аж руками всплеснула. – Убийство Дуньки – та зачем оно тебе? Кому была нужна та Дунька? Без нее мир только лучше будет! Кому какое дело, кто ее убил?
– Тот, кто ее убил, может убить снова. – Голос Тани был ледяным. – И откуда узнаешь, на кого нападет? А заложники? За каждое новое убийство Марушина будет убивать невинных людей с Привоза. А ну как она придет за тобой или за мной?
– Есть власти – пусть они и расследуют! – Циля не могла остановиться.
– Ты видела их расследование! – закричала Таня. – Видела! А много они нарасследовали за еврейский погром?
– Я боюсь за тебя, – всхлипнула Циля, – не дай бог попадешь в какую-то страшную историю.
– Не бойся. Я привыкла. Кроме того, я уже кое-что выяснила. И просто не могу сейчас пойти назад.
Они помолчали.
– Знаешь, кто бы ее ни убил, это не человек, – Циля нарушила молчание первой. – Нет в нем ничего человеческого, несмотря за руки, за ноги. Такого действительно надо изловить и пристрелить как бешеного пса! Но не ты же должна таким заниматься!
– А кто? Больше некому! – Глаза Тани от злости заблестели. – Ты хочешь жить в страхе? Я – нет… Ладно… все… – выдохнув, произнесла она. – Ты мне лучше вот что скажи: Ираида действительно платит дань Японцу?
– Та ладно! Шестерка она. Платила Калине. А как Калину убрали, стала платить разным всяким там. Японец не знает за нее ничего. А сейчас ходят слухи, что платит большевикам. С ними связалась. Я сама слышала на Привозе.
– Большевикам… – задумчиво повторила Таня, вспомнив революционные прокламации в комнате Дуньки.
Кое-как успокоив Цилю, Таня все-таки послала записку Володе – на адрес редакции (они договорились о такой связи): «Ираида Стеклярова, сводня. Вечером иду в “Якорь”».
Честно говоря, Таня не сомневалась ни секунды, что Володя не поймет записку. Но ей было на это плевать.
Таня толкнула тяжелую дверь, и ей в лицо тут же ударил едкий запах перегара и той характерной смеси, которая свойственна только дешевым кабачкам. Вонь жареного лука, едкой сивухи, застоявшийся под потолком табачный дым, запах большого количества давно не мытых человеческих тел – все это явно не способствовало еде, витало в воздухе и попадало в ноздри как липкая вата, тут же забивая дыхание. Но еда в кабачке была не главной. Здесь много пили – залпом, без разбору, заливая в себя дешевую паленую водку и деревенский самогон как единственную панацею от той жизни, которая поджидала за окном. Жизни тоскливой и тягучей, как надсадный, холодный туман, в который только едкий алкоголь добавлял какие-то живые краски.
Сделав несколько шагов внутрь кабачка, Таня тут же узнала знакомую атмосферу. В глубине ее души появилось даже нечто вроде ностальгии – давным-давно именно в таких вот дешевых кабачках она встречалась с Гекой, сидела с Корнем, когда начиналось все то, что было закончено теперь.
Эти кабачки и далекая романтика криминального мира, затягивающая с головой, бодрящая и бьющая в голову, как глоток молодого вина, эта романтика была жива в ее памяти, обрастая со временем только хорошими, светлыми деталями. Особенно на фоне жестокой ясности того, что мир старой криминальной Одессы с королями Молдаванки, воровским кодексом, уличными законами и своеобразным актерским авантюризмом навсегда ушел в прошлое, а на его место пришел кровавый потоп беспросветной, необъяснимой жестокости, утопивший в этой крови своеобразную красоту и романтизм королей Молдаванки.
Все изменилось, все стало другим, мир менялся так быстро, что было очень сложно успевать за ним. И уходящее прошлое, с каждым днем отступающее все дальше и дальше, причиняло душе Тани физическую боль. Но иногда из прошлого, из памяти всплывали обрывки ценных воспоминаний, проявляясь в душе болезненной ностальгией. Их пробуждала любая незначительная, самая мелкая деталь, как вот, к примеру, неистребимый запах дешевого кабачка.
Тане вдруг показалось, что за одним из столиков сидят Гека и Корень. Гека, взъерошив рукой непослушные волосы, улыбается с такой теплой искринкой в глазах, от которой мгновенно таял любой лед в ее сердце, и сразу появлялась теплота и уверенность. Корень, серьезный, застывший за кружкой пива, с лицом, похожим на маску сомнений, обдумывает очередную воровскую операцию, как настоящий король Молдаванки, чтобы посоветоваться затем с Гекой, со своим братом. И оба так точно вписываются в атмосферу этого кабачка.
Видение было таким ярким, что Таня застыла на месте. Глаза ее наполнились слезами. Она едва не протянула руки к далекому столику возле стены. Но видение прошло быстро. Она очнулась от толчка в плечо, когда кто-то из посетителей случайно задел ее на ходу, и сразу увидела пустой столик в клубах сизого дыма, за которым не было ни Геки, ни Корня. Прошлое осталось в прошлом. Впереди ее ждала жестокая, не предвещающая добра реальность. И Таня, взяв себя в руки, прошла еще немного вперед.
– Эй, красавица, кого ищем? – официант и одновременно хозяин кабачка остановился напротив Тани, с интересом рассматривая ее. Такие элегантные, манерные посетительницы были редкостью в его заведении. Сразу становилось ясно, что здесь такая дамочка не на месте. Ведь специально для встречи со сводней Таня надела красный костюм, купленный за деньги Дуньки-Швабры в самом модном ателье на Дерибасовской. Она давно уже не носила модную, дорогую одежду. Костюм ее преобразил: Таня мгновенно превратилась в элегантную светскую даму – такую, какой была когда-то.
Образ завершали изящные серебряные украшения (позаимствованные в лавке – они достались Тане после какого-то налета) и яркий макияж (еще одна статья расходов). Но игра стоила свеч, и новый образ Тани буквально лишил дара речи хозяина кабачка, заставив его вытянуться в струнку после первой фамильярной реплики.
– Мадам… Простите… не разглядел… Я могу помочь вам, мадам? – склонил он голову.
– Можете, – кивнула Таня, – я ищу Ираиду Стеклярову. Мне сказали, что я могу найти ее здесь.
– Да, конечно… – в волнении хозяин закашлялся и вспомнил старые манеры. – Как доложить?
– Доложите, что ее спрашивает дама в красном. И передайте, что у меня есть для нее привет от общих знакомых. Она поймет.
Хозяин кабачка побежал выполнять поручение, а от Тани стали шарахаться остальные посетители. Она выглядела так, что никто не решался к ней пристать. Таня стояла посреди зала из элементарного чувства брезгливости: столы и стулья в «Якоре» были грязными, и она боялась запачкать свой драгоценный костюм, единственную дорогую и элегантную вещь, которая у нее была.
Хозяин вернулся через пять минут.
– Прошу вас, мадам. Ираида вас ждет.
Он проводил ее в отдельный кабинет, дверь в который была рядом с дверью в кухню. Таня оказалась в тесной клетушке без окна, ярко освещенной керосиновой лампой. За круглым столиком сидела Ираида Стеклярова.
К огромному удивлению Тани, сводня оказалась молодой и очень привлекательной женщиной. Ей не было и сорока. Худощавая, остроносая, с черными как смоль волосами и черными глазами, похожими на спелые терновые ягоды, Ираида Стеклярова была очень похожа на цыганку (а может, и была цыганкой на самом деле). В ушах у нее были массивные золотые серьги, а на груди – бусы из больших красных камней. На ней было черное бархатное платье, больше уместное для прежнего кафе-шантана, чем для нынешнего кабачка.
– Кто прислал тебя? – спросила Ираида, указывая Тане на стул напротив и цепким взглядом обшаривая всю ее фигуру с головы до ног. Увиденным она, похоже, осталась довольна, потому что немного расслабилась.
– Людская молва, – Таня села на стул.
– Ко мне без рекомендации не попадают, – сводня испытующе смотрела на нее.
– Я попала.
Таня с интересом рассматривала татуировку на правой руке Ираиды – черную розу, оплетенную колючей проволокой. Татуировка была большая, яркая, как у восточных женщин, охватывала руку от пальцев почти до локтя – Таня никогда не видела ничего подобного. Это смотрелось одновременно красиво и страшно.
– Любовь в тюрьме, – пояснила сводня, поймав ее взгляд, – большая любовь, на всю жизнь. У тебя была такая?
– Нет.
– Здесь, у меня, любовь не ищут. У меня нет места любви. Ты знаешь?
– Знаю.
– Кто тебя прислал?
– Я слышала о тебе от Дуньки-Швабры, – сказала Таня, пристально вглядываясь в лицо Ираиды, но та даже не дрогнула.
– Дуньку убили. Ты знаешь, кто ее убил?
– Нет. А ты?
– Вижу, за словом в карман не лезешь. Да и не похожа на Дуньку. Кто ты такая? Ты похожа на даму, но дам сейчас нет.
– У меня магазин на Привозе.
– Значит, есть деньги.
– Есть.
– Хорошо, – сводня улыбнулась, – без денег ко мне не ходят. Кого ты хочешь?
– Если я скажу, ты поможешь мне его достать?
– Смотря кого! Может, ты английского короля хочешь, – хохотнула Ираида, – потребности разные бывают.
– Я хочу того, кого ты нашла Дуньке-Швабре. Он был слишком хорош для нее. Отдай его мне.
– Ты что, его видела?
– Видела.
– Он небогат. И стар. Зачем тебе старик?
– Он женится. Я хочу замуж. Мне надо выйти замуж. Я так хочу.
– Я могу найти тебе лучше.
– Нет, пусть будет этот. Мне он подходит. Стариками легко управлять.
– Что ж… Странное желание…
– Как его зовут? Ты знаешь?
– Не спеши, детка. Сначала договоримся о цене. Я беру…
Услышав цену, Таня присвистнула – сумма была огромной. Поневоле она подумала о том, сколько же Дуньке пришлось копить. Судя по всему, Ираида бесплатно палец о палец не ударит. Хитрая и колючая. Единственное, что интересует, только деньги. – Таня решила поторговаться для вида.
– Дорого! Ты сама сказала, что он старый и бедный.
– Во-первых, не бедный, свое дело имеет и хорошо зарабатывает. Во-вторых, не так уж и стар. В-третьих, ты сама именно его захотела. А за твое хотение беру как за самого солидного. Так что решай.
– Поторговаться можно?
– Нет, – в глазах сводни появился жесткий блеск – такой же хищный, как ее татуировка.
– Ладно. Допустим, я согласна. Но где гарантия, что я заставлю его жениться?
– Такой гарантии нет. Ты сама знаешь. Ты платишь за риск. Но без меня ты не встретишься с ним, потому что не узнаешь, кто он такой. Я же подготовлю такую встречу, с учетом его вкусов, что он не сможет не обратить на тебя внимание. Так что тебе решать.
– Если уж он обратил внимание на Дуньку-Швабру…
– У них было всего две встречи. Кто знает, что было бы дальше? Может, потом она совершенно его не заинтересовала бы. А то, что эти встречи были, моя заслуга. Я ее подготовила. И, как видишь, не прогадала.
– Странный разговор. Торгуемся, как на Привозе.
– А что ж ты хочешь? Не за босяка! Босяка вшивого найти – раз плюнуть, с этим любая справится. А солидного человека – дело серьезное. Я занимаюсь именно такими. И каждая копейка того стоит. Потом увидишь.
– Ладно, – Таня нахмурилась, – договорились. Когда я узнаю все про него?
– Когда принесешь деньги. Тогда все будет.
– Скажем, через два дня.
– Пусть будет два дня. Это правильно, что торопишься. Такого мужика с руками оторвут.
– Ты что, уже предложила его кому-то?
– Пока нет. Но вечно он ждать не будет. Хороший вариант для любой торговки с Привоза. Только не для такой, как ты. Ты стоишь большего. Но если ты сама сделала выбор – пусть будет. Если раскаешься – я здесь вообще ни при чем. Мое дело – устроить встречу. Дальше – твое.
– Деньги сюда приносить?
– Принеси сюда. Я всегда по вечерам здесь сижу. Но не всех принимаю, кто приходит. Обычно не принимаю таких, как ты. Ты – исключение.
– Скажи хоть его имя! Я все равно принесу деньги.
– Размечталась! Никаких знаков, никаких имен! Как мне иначе зарабатывать на жизнь? Деньги принесешь – все получишь, не ошибешься. В накладе не останешься.
– А как ты Дуньку с ним познакомила?
– Просто для Дунькиного уровня он один подходил. И солидный, и попроще. Остальные были слишком уж для нее хороши. Даже с моей помощью никто бы на нее не взглянул. А этот подходил по всем категориям. Я и решилась.
Таня обратила внимание на правильную, грамотную речь сводни. Она говорила без жаргонных словечек, без одесского языка с тем неповторимым акцентом и колоритом, который заставляет непосвященных развесить уши и думать, что они сходят с ума. Всего этого не было. Она говорила грамотно, словно занимала высокое положение в прошлом. И Таня подумала, что Ираида Стеклярова не так проста, как кажется.
Глава 15
Редакция новых «Одесских новостей». Почему Володя остался в Одессе. Короткий роман с поэтессой. Возврат статьи
В новом помещении редакции было просторно, но пусто. И отсутствие мебели очень сильно бросалось в глаза. Редакция переехала в новое помещение всего с неделю назад, и городские власти не успели выделить необходимую мебель. А потому пишущие машинки стояли на стульях, а некоторые сотрудники для удобства рассаживались на полу, чтобы доставать до клавиатур.
Огромные пустые комнаты нового помещения редакции были похожи на бальные залы. Особенное сходство придавала золотая лепнина на потолке и хрустальные люстры, оставшиеся от находившейся тут гостиницы.
Да, было пусто, не обжито, но главный редактор «Одесских новостей» Антон Краснопёров ходил, надувшись гордостью. И было от чего. Ведь именно он уговорил Революционный комитет города выделить это большое помещение для главной городской газеты. Помещение и было выделено в бывшей гостинице, реквизированной для нужд города у владельцев. Один из них сбежал в Париж, а другой ни на что не претендовал. А потому газете выделили целый этаж прямо на Дерибасовской, и сквозь окна всех комнат, выходивших прямо туда, можно было видеть главную улицу города и наблюдать за ее жизнью. Словом, «Одесские новости» развернулись вовсю, и перспективы газеты при новой власти были самые радужные.
Это были совсем не те «Одесские новости», которые существовали в городе раньше. Из прошлого осталось только известное название и ничего больше. Исчез страшный редактор, наводивший ужас на всех одесских репортеров. Исчезли и сами знаменитые репортеры. В газете появились совершенно новые люди – все, как на подбор, члены компартии.
«Одесские новости», закрытые еще до появления в городе французов, были реанимированы как раз во времена Антанты. Воскресил их глава Комитета обороны Рутенберг, наполнил новыми людьми и заставил городские власти дать деньги на развитие социалистической газеты.
Так как в Городской думе большинство составляли большевики и социалисты, деньги нашлись, причем в немалом количестве, и газета стала процветать. А так как курировал ее лично глава Комитета обороны, никто не смел ее тронуть.
Володя Сосновский печатался в «Одесских новостях» с первого дня воскрешения газеты. А позже, когда газета получила официальный статус, занял штатное место в составе редакции и даже вошел в состав редакционного совета.
Произошло это так. Володя долгое время публиковался в разных газетах, и не где не мог найти свое место. И вот однажды в кабачке «Ореон», где часто собирались артисты, журналисты и художники, к нему подошел уверенный в себе, даже нагловатый молодой человек и в упор спросил:
– Это вы Владимир Сосновский?
Володя скромно подтвердил, что это именно он. Молодой человек был ему незнаком, и он не имел никакого желания с ним знакомиться. После того, как закрыли кабаре и Володя потерпел полный провал на этом поприще, единственное, что у него осталось, была газетная работа. Но с газетами в Одессе дело обстояло туго, и Володя уже начал испытывать тоску.
– Читал все ваши очерки из жизни криминального дна и два ваших романа. Пишете вы абсолютно гениально! Никогда не встречал ничего подобного! Особенно про мир бандитов – свежо, революционно, точно, и очень нужно нашему социальному классу.
– Какому классу? – моргнул Володя.
– Революционному! Большевикам. Тем, кто стоит на страже интересов обездоленных и хочет защитить их. Как вы.
Володя не поверил своим ушам. До того момента его очерки и романы ругали все кому не лень. Даже знаменитый Бунин отказался печатать его в своем журнале. Володя и сам признавал, что очерки не так хороши. Проблемы со стилем, с характерами и образами героев. Но это же не означало, что он бездарный! И вот перед ним стоит человек, который утверждает совершенно противоположное, причем впервые за столько лет!
Сосновскому вдруг показалось, что душа его плавает в какой-то сладкой подливке.
– Да, ваши очерки о криминальном мире гениальны, это как раз то, что сейчас надо. Дно. Его проблемы и беды, – решительно заявил молодой человек, и добавил: – позвольте представиться: Антон Краснопёров, главный редактор газеты «Одесские новости».
– Какие «Одесские новости»? – удивился Володя. – Разве их не закрыли?
– Закрыли. Но газету мы возродим. У нас будет новая газета революционной направленности – глаз нового мира, так сказать. Очень скоро мы станем главной газетой в городе. И нам нужны такие свежие, талантливые люди, как вы. Я напечатаю все ваши криминальные очерки на первой полосе. Идите ко мне работать.
– У вас уже есть коллектив редакции, помещение? – полюбопытствовал Володя.
– Пока нет. Но скоро все будет. Особенно когда город займут большевики. А это вопрос времени. Пока мы выходим на общественных началах… почти. А после прихода большевиков развернемся полностью.
И Володя согласился печататься в обновленной газете – даже пока на общественных началах. Он был в таком восторге, что сам доплатил бы за то, чтобы его печатали!
Его криминальные очерки стали выходить на первой полосе, и Володя получал даже какие-то деньги. Он твердо решил отныне и навсегда посвятить себя исключительно газетно-литературной работе.
«Одесские новости» и были той причиной, по которой он не уехал в Париж. Еще была Таня, но в этом он не признавался себе даже тайно. А газета стала причиной официальной и самой явной. Многие порицали Володю за то, что он печатается в газете большевиков. Но ему было все равно. Он стал лояльно и даже хорошо относиться к ним – за то, что именно они оценили его творчество.
После ухода французов и воцарения в городе красных все произошло так, как предсказывал главный редактор, большевик Краснопёров. «Одесские новости» стали главным городским изданием, получили солидные денежные дотации и огромное помещение на Дерибасовской. Володя занял свое место в штате редакции, и по тем временам начал получать большую зарплату. «Одесские новости» стали проводником новой политики, проводимой в городе.
Перед переездом в новое помещение их всех собрал Рутенберг. Присутствовала и глава большевиков Соколовская.
– Вы – рупор новой информационной политики, – говорил Рутенберг, – нам очень важно, чтобы именно вы заполнили информационное пространство и сформировали общественное мнение. Наша задача – сделать газету массовой и как можно более дешевой. Вы должны разъяснять населению всю выгоду революции и новой революционной политики, которая работает на народ. Как важный и главный орган новой пролетарской культуры, «Одесские новости» должны пропагандировать среди населения наши идеи, особенно среди пролетариев, которые должны стать вашими основными читателями, когда мы покончим с безграмотностью населения. Вы – наше будущее, и мы будем вас поддерживать.
Все бурно захлопали в ладоши, а Володя вдруг задумался, что кроется за этими сладкими словами. Ему не нравился Рутенберг. И он вдруг понял, даже скорее прочувствовал то, что никто не понял: в газете будет очень жестокая цензура.
Так и произошло. Каждый материал просматривался и подписывался редактором в печать только после личного одобрения Рутенберга. Но очерков Володи это не коснулось, они по-прежнему шли на ура и появлялись на первых страницах.
– Вы показываете всю гниль бандитов как классового элемента, – говорил Краснопёров, – в ваших очерках звучит мысль, что единственный способ нейтрализовать бандита – уничтожить его физически. Это очень правильная мысль. Мы должны донести до населения всю пагубность воровской романтики криминального мира старой Одессы. Подчеркнуть, что главная цель новой власти – избавить Одессу от уголовников любым способом.
И Володя послушно писал именно так, создавая ходульные, искусственные образы одесских бандитов, не имеющих ничего общего с настоящими, реальными. Впрочем, если раньше за эту натянутость, безжизненность и однобокость его ругали, то теперь только хвалили. Бандиты у Володи получались плохо, уродливо, и это очень устраивало новую власть. Сосновский же, не разбираясь в истинных причинах своей популярности, купался в восторге от своих публикаций как в теплой, ароматной ванне, и это составляло всю его жизнь.
А культурная, литературная жизнь в городе бурлила по-прежнему, несмотря на то, что изменились времена и обстоятельства.
До революции в Одессе ежегодно издавалось около 600 изданий, причем почти все они были на русском языке. Только местных газет было 60 и 30 толстых литературных изданий.
В 1919 году в Одессе осталось лишь 10 местных газет и 3 толстых литературных журнала. Интересен был тот факт, что, по требованию новой власти, из 10 газет 2 – 3 выходили на украинском языке. Так новая власть старалась подчеркнуть, что Одесса – это не бывшая Российская империя, а Украина.
Из местных газет самыми важными были «Одесские новости», «Одесские известия», «Одесский коммунист», «Моряк», «Профессиональная жизнь» и «Бiльшовик» (издающаяся всегда на украинском языке). Все газеты в Одессе контролировал Революционный комитет. Очень скоро в Ревкоме появился специальный отдел по газетной цензуре.
Основой издания были пролетарские материалы о низах общества и о социальном, классовом угнетении при старой, царской власти. Диктатура пролетариата активно вмешивалась в культурную жизнь города, пытаясь создать новую социалистическую «пролетарскую культуру».
Комиссаром просвещения в Одессе был назначен Е. Щепкин. Первым, чем занялся новый начальник по культуре, была реорганизация театров по «советскому типу», для того, чтобы полностью ликвидировать «старый мещанский театр». Как должен выглядеть новый театр, комиссар представлял смутно. Он пытался разогнать труппы старых театров, оставшиеся в Одессе. Но заменить их было некем. Пришлось оставлять на местах, но при этом – подвергать жесткой цензуре.
В Одессе был основан журнал «Пролетарская культура», который призывал все театры, газеты и журналы превратиться в «орудие социалистической культуры».
Весной 1919 года возникли ростки «нового искусства». Так появилась «Производственная мастерская революционного синтетического театра» и театр «Красный факел». Губернский театральный комитет стал проводить перерегистрацию театров, запретив существование нескольких известных городских театров, отдельные «буржуазные» пьесы, авторов, популярных при царском режиме, и введя во все процессы постановки и сдачи спектаклей жестокую цензуру. Стала происходить национализация театров, а все пьесы – ставиться только с письменного разрешения Губполитпросвета.
Заметно изменилась и местная литература. Наиболее талантливые литераторы, оставшиеся в Одессе, стали работать в пропагандисткой организации ЮГРОСТ. Главой ЮГРОСТа стал В. Нарбут, а основу составили Э. Багрицкий, В. Катаев, Ю. Олеша, М. Кольцов, И. Ильф.
С апреля в Одессе появилась организация «Коллектив поэтов». В нее вошли те же Ю. Олеша, Э. Багрицкий, В. Катаев, а еще З. Шилова, А. Адалис, Л. Славин, С. Бондарин и другие литераторы, известные в городе.
Поэты этого коллектива были сторонниками нового революционного искусства. Они декламировали свои стихи в новом литературном кафе «ПОЭОН 4-й» и основали два толстых литературных журнала: сатирический «Облава» и литературный «Лава». В этих же журналах публиковали свои произведения и уже известные литераторы В. Сосюра и И. Бабель.
Глава Пролиткульта С. Глаголин создал Молодежную Ассоциацию Художников-Литераторов-Артистов (ХЛАМ) и открыл кафе под таким же названием, где собирались представители новой литературной культуры.
Володя Сосновский был завсегдатаем всех литературных собраний и вечеров. Он стал членом ЮГРОСТа, каждую среду читал свои стихи в «ПОЭОНЕ-4-м», а по субботам – самые скандальные (часто откровенно эротического содержания) в кафе «ХЛАМ». У него даже случился бурный роман с одной новомодной поэтессой, носившей очень короткую стрижку и курившей дешевые матросские папиросы.
Он провел с поэтессой несколько совершенно невероятных, безумных ночей, после чего без труда выяснил, что был не единственным, с кем любвеобильная поэтесса делит свои страстные ночи. Воспитанный в старых традициях, Володя так и не смог принять «новую мораль новых вершителей пролетарской культуры», где верность и порядочность почти полностью исключались из понятий, применимых к современной жизни.
А потому он как мог красиво расстался с поэтессой, которая так и не поняла почему. Впрочем, она не расстроилась, а тут же заменила его бородатым актером, согласным делить ее со всеми другими.
Но истинной причиной разрыва (и Володя боялся признаться в этом самому себе) было то, что он до сих пор не смог вытравить из своей души образ Тани.
Несмотря на свою достаточно бурную жизнь, он все еще тосковал о ее глазах, которые смотрели на него то сердито, то насмешливо, то со строгостью, то с добротой и живым участием… Этот образ заполнял всю его душу, но Володя ни за что не желал признаться самому себе, что до сих пор сходит с ума от бандитки с Молдаванки и одесской воровки. И не важно, что чувства в глубине души подсказывали ему, что на самом деле Таня никогда не были ни бандиткой, ни воровкой… Он отбрасывал эти чувства. Но судьба словно жалела его, в самые невероятные моменты даря все новые и новые встречи с Таней. И от этого диссонанса, разрывающего его душу, Володя страдал, испытывал смятение и тоску. А светлый образ Тани с искрящимися глазами жил в каждом его слове, в каждой мысли, настолько прочной занозой войдя в его душу, что от места ранения этим шипом остался серьезный шрам. И с каждым днем этот шрам становился все больше и больше.
Но это никак не отражалось на редакционных делах, которые, как казалось самому Володе, обстояли блестяще. А потому каждый раз, заходя в редакцию, он испытывал настоящий подъем. И с удивительно легким сердцем поднимался на нужный этаж.
Володя приходил в редакцию по-разному: иногда чуть свет, иногда часам к 10 или даже 11, все зависело от предстоящих дел или сданных накануне статей.
После беседы с Таней в ее гостиной, вернувшись к себе домой, он сел за письменный стол и написал большую статью про убийства женщин на Привозе и про расстрел заложников, которые устроила Авдотья Марушина. Больше всего его потряс расстрел – так и написал Володя в своей статье.
Он писал страстно, горячо, образно и остался очень доволен собой. Сосновский не сомневался ни секунды в том, что статья эта будет напечатана и помещена на первую полосу. После публикации он намеревался отправиться к комиссару народной милиции (так переименовали полицию) потребовать отчета в расследовании и попытаться узнать имя, возраст и все данные первой убитой женщины. Володя был уверен, что в милиции эту информацию не могут не знать.
Утром к восьми часам он явился в редакцию и положил статью на стол главного редактора, даже не сомневаясь в том, что она появится в вечернем выпуске газеты. А потому на следующий день пришел в редакцию в половине одиннадцатого утра, чувствуя себя (без ложной скромности) триумфатором.
Редакция по-прежнему выглядела голо. Мебели в ней еще не было. Пишущие машинки стояли на стульях, а столами сотрудникам служили подоконники, на которые были положены фанерные листы. Все понимали, что это временное неудобство, однако писать на них было достаточно сложно.
Каково же было изумление Володи, когда на своем подоконнике он увидел собственную статью, на заглавном листе которой красным карандашом были выведены жирные буквы «К ВОЗРАТУ». Он не поверил своим глазам!
Схватив злополучную статью, Сосновский бросился в кабинет к главному редактору. Антон Краснопёров помещался в отдельной комнате, на двери которой еще сохранилась позолоченная табличка с надписью «Дежурная горничная». Он находился на рабочем месте и, прижимая трубку плечом, разговаривал по телефону, одним пальцем левой руки отстукивая при этом на печатной машинке какую-то докладную записку для Ревкома (Володя прочитал заглавие), а правой – царапая простым карандашом на полях литературного журнала какие-то заметки. Словом, Краснопёров был весь в делах, как и подобает настоящему газетчику.
Увидев Володю, он кивком головы указал ему на стул, но тот, швырнув на стол статью, остался стоять, полыхая праведным гневом.
– Что это значит? – возмутился Сосновский, когда Краснопёров закончил разговор по телефону. – Это лучшая статья, которую я написал! Что происходит?
– Далеко не лучшая, – спокойно ответил редактор, словно не понимая того, что Володя весь кипит. – Зачем тратить свой талант на разборки пьяных грузчиков на Привозе?
– Что? – К такому повороту разговора Володя явно был не готов.
– Убили, разрезали – всего лишь свара местной пьяни, бандитские разборки. Пили вместе, затем поссорились, в процессе ссоры убили женщину, а чтобы спрятать труп, разрезали на куски… Никаких загадок, ничего интересного, чтобы делать это публичным достоянием.
– Ты серьезно? – Володя не верил своим ушам. – Это же черт знает какая глупость! В городе орудует самый настоящий маньяк, он убивает женщин и режет их на куски, а мы молчим!
– Каких женщин? Подумаешь, убили одну девицу легкого поведения! – пожал плечами Краснопёров.
– Не девицу легкого поведения, а торговку розничным товаром, – уточнил Володя. – И она вторая жертва. Женщин было две.
– О первой ничего не известно. Я не слышал, – возразил Краснопёров.
– Вот об этом я и хотел бы узнать в поли… в народной милиции! – воскликнул Володя. – Они уж точно должны знать про первую жертву!
– Город на грани контрреволюции, везде орудуют криминальные элементы и неуловимая банда Японца – я думаю, милиции есть чем заниматься, кроме пьяных разборок грузчиков! – отрезал Краснопёров.
– Да при чем тут грузчики! – Володя едва не взвился до потолка. – В пьяном виде так не убивают! А расстрел заложников?
– Вот-вот, об этом я и хотел поговорит особо! – уцепился за тему Краснопёров. – Ты напрасно порочишь деятельность военного коменданта Привоза! Поверь, в таком гиблом и грязном месте действовать нелегко. Приходится держать в узде всю эту контрреволюцию, буржуйскую сволочь!
– Да ты шутишь! – Володя был в шоке. – Эта Марушина на глазах у всех расстреляла ни в чем не повинных людей!
– Это была необходимая мера, чтобы поддержать порядок. Значит, нельзя было действовать по-другому, – и Краснопёров принялся уговаривать Володю: – Ты пойми, Авдотья Марушина пытается установить железный революционный порядок среди сброда и буржуев, а это нелегкая задача. Мы не можем ругать ее в таком тоне за то, что она выполняет свои прямые обязанности, очень тяжелые сейчас.
– Прямые обязанности? Да она убивает людей! – возмущению Володи не было предела.
– Это необходимая мера, чтобы поддержать порядок. Она вынуждена действовать таким образом, чтобы дошло до всех остальных. По-другому буржуйский сброд не понимает. Это очень серьезный вопрос. И вместо того, чтобы объяснить правильность ее поведения населению, поддержать проводимые меры по установлению порядка, ты пишешь злобные пасквили на военного коменданта Привоза! – развел театрально руками Краснопёров.
– Так, – Володя начал кое-что понимать, – ты хочешь сказать, что в таком виде эту статью не пропустит цензура Ревкома?
– Наконец-то… – выдохнул редактор. – Я тут распинаюсь битый час, а до тебя только сейчас дошло! Мне не нужны неприятности. Нам еще мебель не дали и тираж не увеличили. А ругать комендантшу Привоза, которую назначила лично Соколовская, это неприятность.
– Она убийца. Она стреляет людей.
– Ты не прав. По-другому сейчас нельзя. С криминальными элементами она поступает по законам военного времени. И правильно делает. Давно пора было избавить Одессу от этой бандитской нечисти.
– Это были простые торговцы, а не бандитская нечисть, – возразил Володя, – я знаю. Я там был.
– Может, и был, – легко согласился Краснопёров, – но есть твое личное мнение, и есть революционная политика газеты. Первое ты обязан держать при себе. Если оно идет вразрез со вторым, – и, видя, как расстроен Володя, добавил: – но я могу напечатать про убийство, если ты перепишешь статью.
– Как перепишу? – сокрушенно поинтересовался Сосновский.
– Уберешь все про Марушину и про расстрел заложников – тем более, что никакого расстрела не было. Напишешь только про убийство, в котором подозревают пьяных грузчиков, поссорившихся за бутылкой водки. Так мы убьем двух зайцев: расскажем про убийство и подчеркнем вред пьянства, что просто необходимо в нашем новом обществе.
Володя печально молчал. Выхода у него не было. Железная лапа цензуры хлопнула его по плечу и пригнула к земле, придавив всей своей тяжестью. А про убийство следовало писать – хотя бы для того, чтобы появился шанс услышать что-то об имени первой жертвы.
– Я перепишу статью, – сказал он понуро.
– Вот и отлично! – обрадовался Краснопёров. – Рад, что мы понимаем друг друга!
Когда Володя вернулся в комнату редакции, там уже ждал сторож.
– Вам письмо доставили, – сказал он.
Письмо было срочным, и, открыв конверт, Володя увидел записку от Тани. Перечитал несколько раз, он не понял ни единого слова… Пытаясь собраться с мыслями, Володя прикрыл глаза…
Глава 16
Вторая встреча с Ираидой Стекляровой. Исчезновение сводни. Допрос Васьки Черняка. Третий труп
Таня шла на вторую встречу с Ираидой Стекляровой с каким-то странным, тревожным чувством. Нельзя сказать, что она не верила сводне. Дело было совсем не в этом. А в том, что она вдруг серьезно засомневалась, что взяла верный след.
Ну действительно: какие основания у нее были подозревать в причастности к убийству Дуньки-Швабры солидного, серьезного человека, за знакомство с которым сводня брала большие деньги? Да, Дунька могла проговориться ему о чем-то, но какие шансы были на то, что она действительно поступила так?
Первоначальной версией было то, что Дунька-Швабра в день своего исчезновения отправилась на встречу с солидным любовником, потому что он позвал ее запиской. А если это было не так? Если Дунька просто соврала про любовника, чтобы товаркам пустить пыль в глаза? Ведь подтверждений этому не было: записки никто не видел. И Дуньку вместе с любовником тоже в тот день никто не видел. Она могла отправиться куда угодно. Тем более, что у нее существовала и другая жизнь, отличная от Привоза.
Об этой, другой жизни свидетельствовали пачки революционных прокламаций и очень большие деньги, найденные в квартире. Все вместе наталкивало на мысли о том, что Дунька была тесно связана с какой-то революционной организацией, выполняя серьезную работу. А что если она ушла по делам этой организации?
Вопросов было больше, чем ответов, и Таня поняла, что никак не может связать между собой разрозненные куски этой истории, в которых на первый взгляд не было ничего общего.
Таня думала об этом по дороге в кабачок «Якорь», отправляясь на вторую встречу с Ираидой Стекляровой. На ней был тот же самый роскошный костюм, а в маленькой сумочке лежали деньги – вся сумма, представляющая небольшой капитал. Деньги, конечно, были Дунькиными, но Таня пользовалась ими без зазрения совести. Сумма для платы Марушиной за лавку была отложена, и Циля хранила ее как зеницу ока. Остальные же деньги находились у Тани, и сколько их было, Ида и Циля не знали. Подруги думали, что Таня добыла эти деньги в налете, и гордились ею.
Отчасти так и было на самом деле – имея в виду налет на квартиру убитой Дуньки, во время которого было обнаружено столько всего, что хватало для самых долгих размышлений. Таня и размышляла по дороге в кабачок «Якорь», и ей казалось, что она движется на ощупь в сплошной темноте.
День был будний, холодный не по-весеннему. В кабачке было совсем не много людей. Старый скрипач, которого в первый раз не было, в углу пиликал матросскую песню на фальшивой, расстроенной скрипке. С жалостью Таня отметила про себя, что старик слеп. В полупустом кабачке веселая, разбитная мелодия звучала уныло и навевала тоску.
Таня положила старику деньги в рваный футляр от скрипки и тут заметила хозяина, направлявшегося к ней. Он выглядел расстроенным.
– Мадам, не знаю, что вам и сказать.
– В каком смысле? – насторожилась Таня.
– Мадам Стеклярова… Ираида… ее нет вот уже два дня.
– Как это нет? – удивилась Таня. – Она назначила мне встречу сегодня в это время! Наверно, сейчас придет.
– Увы, я и сам хотел бы так думать. Но она никогда не пропускала два дня подряд.
– Вы уверены? – Таня нахмурилась.
– Абсолютно! Мадам Ираида арендует кабинет в моем заведении. Сами понимаете, она платит за то, чтобы здесь сидеть. И вдруг деньги впустую? – Лицо хозяина выражало растерянность. – Я знаю Ираиду уже год, и такого не было ни разу.
– Она могла заболеть, – предположила Таня.
– Уже болела, – сказал хозяин, – и приходила больная. Она деньги любит, ох как любит. И никогда не стала бы терять их.
– Может, устала… – неуверенно произнесла Таня.
– Боюсь самого скверного: с нею что-то случилось, – печально сказал хозяин, и Таня вдруг подумала, что эти слова отражают ее собственные мысли, исполненные необъяснимой тревоги, когда она шла сюда.
– Где она живет? – прямо спросила Таня. – Вы посылали к ней домой?
– Понятия не имею! Никто не знает, – хозяин «Якоря» сокрушенно развел руками, – не довелось узнать. С шести вечера почти до утра она всегда здесь сидела как штык. Она была такая… Такая жадная, что высиживала до минуты все то время, за которое заплатила.
– Я могу посмотреть ее кабинет? – нахмурилась Таня.
– Можете, – закивал головой хозяин, – но там ничего нет – ни бумажек, ни записок. Она никогда ничего не писала.
За несколько мелких купюр хозяин привел ее в кабинет, и Таня увидела только мебель. Действительно: комната казалась голой и пустой. Нигде не было ни единого постороннего предмета, ни записки – вообще ничего.
Она вернулась в зал и вдруг заметила, что старик перестал играть, словно прислушивается к ее шагам.
– С мужиком твоя Ираида ушла, – вдруг произнес он, уставясь на Таню невидящими глазами, – я голос его слышал. Скрипучий, с акцентом. Он за дверью стоял.
– С каким акцентом? – удивилась Таня.
– Откуда мне знать? Не русский вроде, – старик пожал плечами, – русские так не говорят.
– Что он сказал?
– Сказал: опять хочешь меня втянуть в историю, как будто сердился. А та отвечает: в этот раз ты не пожалеешь, идем, все тебе расскажу. И ушла. И больше здесь не появлялась вот уже два дня.
Ждать не было никакого смысла, и Таня ушла из кабачка. Медленно следуя по притихшим вечерним улицам, она крепко задумалась.
Рулька Кацап, вор, следящий по поручению Тани за Васькой Черняком, съежился на углу Пантелеймоновской улицы. Уже с угла она увидела его худую сжавшуюся фигуру. Таня замедлила шаг и надвинула на лицо платок. В районе Привоза светить своей внешностью по ночам ей не хотелось. Отметив, что Рулька вроде как справляется с дисциплиной, Таня еще раз повторила про себя то, что она хотела сказать. То, что она собиралась сделать в эту ночь, нравилось ей все меньше и меньше.
Отыскать Ираиду Стеклярову не представлялось никакой возможности. Таня поняла это, когда попыталась пристать с вопросами не только к торговкам с Привоза, но и к тем людям из криминального мира, кто ее знал. Но все только пожимали плечами. По какой-то необъяснимой причине скрытная Ираида Стеклярова залегла на дно. Она строго хранила свою тайну. А потому, оставив в покое линию сводни, Таня решила посерьезней заняться тем самым мертвым младенцем, с которого начался еврейский погром.
Она отлично помнила рассказ бабы Катри о том, что к корзине с младенцем толпу привел Васька Черняк. Значит, следовало отыскать этого Черняка и нажать на него посильней. Таня не сомневалась, что знает он много чего интересного.
Она навела справки о Черняке – все в один голос твердили: – Свинья, каких свет не видывал.
А тут сам бывший король Молдаванки, а ныне один из людей Японца, что со своими людьми вытаскивал Ваську из кабака, где тот пытался воровать на чужой территории, добавил с самым серьезным видом: – Кусок дерьма! Бойся прикоснуться к нему хоть пальцем – по локоть руки замараешь. Будь с ним поосторожнее, Алмазная. Хрен знает, почему его до сих пор никто не пришил. Я бы сам этого задохлого швицера завалил за милую душу. Но наверняка так не забурлило потому, что всем руки жаль марать об такую мерзкую тварь. Сам вроде как запачкаешься. Зачем ищешь?
– Разговор к нему есть, – и, вспомнив про старика Кацмана, Таня добавила: – Он одного человека помог не за дела завалить. Хорошего человека.
– Да, такое на него похоже. Подбросит какую-то гадость – и натравит за остальных. Те язык за уши, а этот швицер замурзанный – в кусты, и всего делов. Уже за разы так бывало.
– Как ты сказал?! – Таня не поверила своим ушам, уж слишком простой выходила разгадка. – Подбросит? Гадость подбросит?
– А то! Это его любимый метод, суки драпаной. Много за разов срабатывало.
У Тани с глаз словно спала пелена, и она даже обругала себя за то, что не додумалась раньше. Ну конечно! Васька Черняк подбросил под лавку Кацмана мертвого младенца! Что может быть проще! Подбросил, а потом сам направил толпу. Да, но мотив?
– Он кому-то денег был должен? – напрямик спросила она.
– Васька Черняк? Да он половине города должен! Теперь ему уже никто денег не дает. А раньше давали. Полгорода кинул.
– А Кацману он был должен, ростовщику с Привоза, которого в погроме убили?
– А то! Тому за первую очередь! Я слышал, Кацман его по всему городу искал, за долги в тюрягу хотел упечь. А потом погром случился, и не стало Кацмана.
– Как вовремя… – горько усмехнулась Таня.
Теперь оставалось только одно – найти Ваську Черняка и допросить как следует. Таня позвала нескольких своих людей и велела его выследить.
– А что за швицер? – поинтересовались воры.
– Свинья с Привоза! – не задумываясь, ответила Таня. – Половине города задолжал. Меня попросили его найти.
И пообещала денег тому, кто это сделает.
Выследил Ваську Рулька Кацап, молодой еще вор, прибившийся к банде недавно, вместо убитого Белого. Был он щуплый, юркий, с хитринкой в косящих глазах, и такой ушлый, что мог из-под земли прошлогоднюю траву вырыть, хоть и молодой еще, не старше 18 лет. Он приехал в Одессу на заработки, услышав много всего о веселом портовом городе.
Здесь он был прозван Кацапом за неистребимый российский акцент (родом Васька был из российской глубинки, откуда-то из-под Орла) – так в Одессе почти никто не разговаривал, и это страшно смешило коверкающих все языки мира одесситов. Рулька пока не освоился в мире воров, а потому был вечно озабоченным жизнью и очень серьезным. Но за предложение Тани ухватился с радостью потому, что любил следить. А следить за кем-то получалось у него гораздо лучше, чем воровать.
Рулька Кацап нашел Ваську Черняка в одной из привозных бодег, где, уже пьяный, тот клянчил налить ему в долг водки. До этого пил он на ворованные – днем раньше вытащил у одной тетки на Привозе кошелек и так ловко дал деру, что тетка не успела и опомниться. Но денег в кошельке оказалось мало, Васька быстренько их пропил, а потом стал просить налить ему в долг. Однако наливать ему никто не собирался.
Когда Таня и Рулька подошли к кабачку, то застали следующую сцену. Низко вросшая в землю, кривая дверь забегаловки резко отворилась, выпустив в холодный воздух пары вонючего кабацкого дыма. Двое дюжих грузчиков появились в дверях, держа Ваську под мышки и за ноги. Хозяин бодеги руководил. По его знаку грузчики размахнулись и вышвырнули Черняка в кучу навоза, наваленную под чахлым, торчащим из голой земли кустом. После чего дверь в кабак закрылась, и раздались раскаты дикого хохота.
Плюхнувшись в навоз, Васька сел и со вздохом потер ушибленный бок. Потом по-звериному взвыл, запрокинув голову на выглядывающие из-под облаков звезды.
– Тебе помощь нужна? – с подозрением покосился на Ваську Рулька, обращаясь к Тане. – Может, его по башке стукнуть, для острастки?
– Пока нет, – Таня протянула ему обещанные деньги и строго распорядилась: – Никому ни слова, а то больше не позову. Молчи как рыба зубами об лед за то, что здесь видел. Понял?
Рулька пообещал и скрылся в темноте.
Таня подошла к Ваське вплотную, морщась от волн накатывающей на нее вони.
– Встать! – В ее голосе зазвучал металл, но подействовал на Ваську он мало.
– Да пошла ты… – зло окрысился он, даже не глядя на то, кто стоит перед ним. Глаза его слезились и были красными, как у голодной и побитой собаки.
Таня пихнула его ногой в бок, и когда Васька, ворча ругательства, принялся подниматься, явно намереваясь съездить наглую бабу кулаком, Таня ткнула ему под подбородок наган и сказала со всей серьезностью:
– Пристрелю, сука.
Наган был армейский, тяжелый, и Таня боялась его до полусмерти. Пользоваться им она не умела, а потому патронов в нем не было. Таня одолжила наган у Кольки-Рыбака, который не расставался с ним уже не один год, резонно рассудив, что по-другому общения с Васькой не выйдет. Таня успела хорошо изучить Привоз и знала все виды и сорта человеческого мусора, которые ошивались там. Она прекрасно понимала, что на отребье вроде Васьки Черняка никакие слова не действуют, и говорить он с нею не будет.
А вот оружие – совсем другое дело. Оружия они боятся без всяких слов. К тому же то, что патронов в нем нет, на стволе нагана не написано. Наган был тяжелый, неприятно пах смазочным маслом, и у Тани дрожали пальцы, когда она достала его. К счастью, Васька был так пьян, что совсем этого не заметил.
Но ствол нагана, тяжело упершийся под подбородок, хорошо прочувствовал, а потому мгновенно стал шелковым и даже заскулил:
– Пусти, пусти, пусти… – чем вызвал у Тани страшную волну тошноты, и она еле удержалась от того, чтобы не съездить его наганом по морде.
– Я тебя, суку, с радостью пристрелю, если не ответишь на парочку моих вопросов.
– Чего? – заморгал пьяный Васька Черняк.
– Отвечать, говорю, будешь! – зло выкрикнула Таня.
– За что отвечать? – перепугался Васька и как-то по-дурацки добавил: – Бить по башке будете, тетенька?
– Нету у тебя никакой башки, – с удовольствием сказала Таня, – этот нарост, что у тебя на плечах, второй задницей называется. А по заднице бить тебя уже бесполезно.
– Гы… – пьяно рыгнул Васька Черняк, не поняв ни единого слова из того, что она сказала. Но наган ему явно мешал, и он завыл снова, с расстановкой:
– Ствол, тетенька, отпусти, пусти!.. Горло давит…
– Я тебе еще не так горло сдавлю, – пообещала Таня, и зло потребовала: – Мертвого младенца ты в лавку еврея Кацмана подбросил? Отвечать!
– Откуда ты знаешь? – перепугался Васька.
– Ты сделал? Отвечать! – Таня снова ткнула его в горло наганом для пущей острастки. Неизвестно, что подумал Васька, но он вдруг завопил:
– Я не хотел! Вот те крест, не хотел! Оно само как-то вышло!
– Как это так само вышло? – усмехнулась Таня. – Не бывает, чтобы само! Говори!
– Так это… Оно так… Денег я был ему должен…
– Ну денег… И что?
– Так Кацман сказал, что в тюрьму меня упечет! А я не хотел в тюрьму! А платить было нечем. А в тюрьму не хотел…
– И что ты сделал тогда? – вспомнив обо всех людях, убитых во время еврейского погрома, Таня почувствовала такую волну отвращения, что еле сдержала себя в руках. Ей страшно хотелось пристрелить гада. И она даже обрадовалась, что благоразумно вынула из нагана патроны.
– Ну… Это… Корзину под лестницу лавки засунул, – нехотя признался Васька Черняк, – думал, про корзину скажу, и Кацману не до меня будет. В полицию его заметут. Я ведь не думал, что такое будет. Вот тебе крест, я не хотел.
– Ладно, – Таня тяжело вздохнула, – корзину с мертвым младенцем где добыл? Кто дал?
– Так никто не давал… Сам нашел… Случайно… Проснулся, а там… это…
– Место! Место, где ты корзину нашел!
– Так уже и не помню…
– Нет, так дело у нас не пойдет, – Таня снова ткнула его наганом, – придется вспомнить. Мне место важно.
– Не знаю я, вот те крест… Сказать словами не могу…
– А показать можешь? – сообразила Таня.
– Показать могу! – обрадовался Васька. – Это недалеко отсюда.
– Тогда веди, – Таня убрала наган и сунула его в карман, – и помни, что я за тобой слежу. Стреляю я метко, а обойма у меня полная.
Васька даже протрезвел от страха и довольно быстро пошел вперед. Любой другой бы заинтересовался тем, кто такая Таня и почему она так интересуется страшной находкой. Но мозги Васьки были полностью атрофированы от количества выпитого спиртного, и он просто шагал вперед, надеясь, что избавится от страха, который вдруг темной мохнатой лапой сжал его сердце.
Вскоре Таня ощутила острую разлитую в воздухе вонь и быстро сообразила, куда он ее ведет. А еще через время различила сгрудившиеся возле самодельных костров настороженные темные тени.
Таня прекрасно знала, что такое свалка за Привозом, и избегала заходить туда, ведь обитатели свалки, жители этого своеобразного привозного дна, не имели ничего общего с криминальным миром.
Эти полуживотные-полулюди, опустившиеся на самое крайнее социальное дно, жили по своим собственным, особым законам. И если вор из криминального мира, член уличной банды, еще мог рассчитывать на то, что его не тронут другие уголовники, то в пределах свалки никакой безопасности не было. Эти существа не имели ни правил, ни понятий, ни законов. И Таня, понимая, что они вошли в границы свалки, вдруг ощутила липкий, пронзающий страх, похожий на острую ледяную иглу, вонзившуюся прямиком в ее сердце.
Ей было страшно, но показывать этот страх она не могла. Как и в случае с дикими животными, к примеру, со злой собакой, страх делал уязвимой.
– Ты здесь живешь? – спросила Таня, сурово сдвинув брови и придав голосу твердости, чтобы не показать, как ей страшно.
– Иногда ночую, – ответил Васька.
Они поравнялись с костром, от которого шла страшная вонь. Таня разглядела, что на огромной закопченной сковородке жарились большие прогорклые куски какого-то желтоватого сала. Ей вдруг подумалось, что это собачье сало, и жуткий приступ тошноты подступил прямо к глазам. Таня старалась не смотреть ни на страшную сковородку, ни на жуткие, расплывшиеся в темноте лица тех, кто склонился над этим костром.
Но костер они быстро миновали. Васька пропетлял мимо сгрудившихся по краю свалки подвод и вывел ее к большой горе гниющих овощей.
– Вот тут, – рукой Васька ткнул в овощные отходы, – только тогда кучка маленькая была. Совсем не навалено было…
– А где корзина стояла? – уточнила Таня.
– Вот тут, – Черняк обогнул гору и ткнул в землю дырявым носком ботинка.
– Кто-то видел, что ты нашел? – уточнила Таня.
– Ни одна живая душа не видела! – тяжело выдохнул Васька.
– Так, ты нашел корзину. Заглянул внутрь. А дальше что?
– А дальше я вспомнил, шо Кацман рыщет меня по всему городу. Ну и придумал, – нехотя признался Васька.
– И страшно тебе не было? Противно не было? – для себя поинтересовалась Таня.
– А чего бояться-то? – Васька пожал плечами. – Он же мертвый.
Большего падения нельзя было даже вообразить. Таню так скрутило от почти физического отвращения, что она развернулась и медленно пошла вдоль горы отбросов, стараясь не сильно вдыхать воздух. Васька плелся за нею следом.
– Ой… – вдруг произнес он с совершенно не свойственными ему нотами, – ой… оно…
– Что оно? – быстро обернулась Таня.
Черняк показывал на кучу гниющих капустных обрезков, под которыми явно вырисовывался твердый предмет.
– Оно, это… раньше тут не было!
Таня подошла ближе, нагнулась, разворотила гниющие капустные листы носком ботинка, чиркнула спичкой. Тусклое пламя что-то осветило – и она разглядела белую человеческую ногу.
Сомнений никаких не было: в куче гниющих капустных отбросов действительно находилась отрезанная человеческая нога! В первый момент Таня едва не потеряла сознание от ужаса и с трудом удержалась, чтобы не завопить во весь голос. Потом в голове быстро пронеслось, что произошло очередное убийство, убийца нанес третий удар.
Как ни странно, но именно эта мысль позволила взять себя в руки. Перед глазами Тани пронеслись сцены страшного расстрела заложников на Привозе – потное, искаженное, ничего не понимающее лицо хозяина бакалейного магазина, тонкое, тревожное, обреченное лицо его молодого продавца-помощника. Новое убийство означало, что будут новые расстрелы. Марушина просто не удержится от того, чтобы не расстрелять кого-то в очередной раз, продемонстрировав свою страшную власть. Убийцу этим не остановить, его жертву – не вернуть к жизни. Но будут новые жертвы… Значит, нельзя допустить, чтобы труп нашли, нельзя, нельзя… Все это быстро пронеслось в ее голове. Таня привыкла принимать решения и действовать. А потому она забросала ногу листьями, постаравшись скрыть как можно больше страшную находку, и резко обернулась к Ваське:
– Ничего тут нет! Понял? Ничего! Только целый, твердый кочан капусты.
– Гы… – Васька моргнул. К счастью Тани, он был слишком пьян и слишком туп, чтобы хоть что-то сообразить. А потому недоумевающе уставился на нее.
– Показал? Всё! Теперь пошел вон! – и, так как Васька продолжал стоять, она рявкнула: – Пристрелю! Пошел вон, кому говорю!
Это подействовало. И, качнувшись, Васька Черняк быстро затрусил в темноту.
Сама же Таня, дрожа всем телом, отступила на несколько шагов назад. А затем бросилась бежать в противоположном направлении.
Володя Сосновский не поверил своим глазам, когда в ответ на несколько тревожных длинных звонков открыл дверь своей квартиры и увидел Таню. Бледная, дрожащая, с огромными, расширенными глазами, она была не похожа на саму себя.
– Таня! Таня… – Володя вдруг ощутил такой безумный, такой пьянящий порыв жгучего счастья, что даже испугался. Чтобы взять себя в руки, быстро подтолкнул Таню вперед.
Комната была уютно освещена настольной лампой, на столе разложены листки рукописи – Володя работал. В кресле, уютно устроившись, спал большой черный кот. Потрескивал зажженный камин. Но Таня, казалось, не замечала всего этого уюта.
Обессиленно рухнув на диван, она начала так сильно дрожать, что Володя не на шутку перепугался. В ее белом, абсолютно безжизненном лице не было ни кровинки.
Он бросился к серванту и быстро налил коньяка. Поднеся к губам Тани стакан, он заставил ее сделать несколько глотков. На щеках ее появился румянец – коньяк подействовал.
– Что произошло? – Володя был испуган, больше всего он боялся, что кто-то мог ее обидеть. – Таня! Что случилось?
– Труп… Очередной труп, – Таня еще раз глотнула коньяк. – Я нашла его совершенно случайно.
– Что ты нашла? – растерялся Володя. К такому он был не готов.
– Труп. Третий. На мусорной свалке. Отрезанная нога, – на одном дыхании выпалила Таня. – Нельзя, чтобы Марушина обнаружила труп, нельзя. Она снова постреляет людей. Помнишь, она угрожала расстрелом заложников, если будет еще труп. Мы должны его выбросить.
– Что мы должны сделать? – не понял ее Володя.
– Мы должны избавиться от трупа, выбросить, уничтожить его, – дыхание вернулось к ней, и теперь Таня говорила более уверенно и спокойно. – Мы должны не допустить новые расстрелы невинных людей. Единственный способ их избежать – избавиться от трупа!
– Подожди… – Володя был ошарашен. – Ты предлагаешь мне скрыть следы серьезного преступления? Но ведь это тоже преступление!
– А расстрел заложников что? – посмотрела на него Таня. – Кто будет расследовать третье убийство? Кто расследовал два первых? Кстати, ты выяснил, как зовут первую жертву, кто она?
– Нет, – Володя смутился, – мне не удалось узнать это. Никто не знает. Не получилось. Пока.
– Вот видишь, – укоризненно сказала Таня, – но если в первом случае не убивали людей, то теперь будут. Мы должны помешать этому!
– И как ты собираешься это сделать? – пораженный Володя просто отказывался мыслить.
– Уничтожить, закопать, сжечь, выбросить! – Таня начала злиться.
– Ты предлагаешь мне, полицейскому следователю, избавиться от трупа и скрыть следы такого серьезного преступления? – Брови Володи поползли вверх.
– Ты уже не полицейский следователь! Как ты не понимаешь, нет больше полицейских следователей! Ничего нет! Как ты мог забыть расстрел после второго убийства! – Закрыв лицо руками, Таня вдруг разрыдалась.
Володя накинул свою кожаную тужурку, сунул в карман заряженный револьвер. И, не дожидаясь, пока Таня успокоится, жестко скомандовал:
– Пошли. Посмотрим, что там такое.
Он действовал и командовал, как самый настоящий мужчина. И Таня вдруг успокоилась. Слезы высохли, истерику сняло как рукой. Володя потушил лампу, камин, запер дверь. Они выскользнули в темноту.
– А ну назад! – Володя наставил револьвер. – Пошли прочь! Стрелять буду!
Таня сжалась за его спиной. Ощерившиеся обитатели свалки образовали собой живую стену, и в темноте ярко сверкали горящие ненавистью глаза.
По дороге в какой-то лавчонке, не запертой на ночь, Володя удачно раздобыл большой мешок, лопату и маленький масляный фонарь.
– Соберем эти части, – сказал он. – Появилась у меня одна идея.
Таня нашла нужное место без труда. Володя зажег фонарь и принялся отбрасывать капустные листья. Под ними обнаружилась не только нога, но и часть грудной клетки с одной рукой, и даже ступня второй ноги, отрезанная почти по лодыжку. Содрогаясь от отвращения, Володя сгреб лопатой части трупа, перебросил их в мешок. Они уже собирались уходить, и даже потушили фонарь, когда за их спинами вдруг послышалось утробное, глухое рычание.
Это были обитатели свалки, которые собирались на них напасть. Вооруженные кто дубиной, кто лопатой, кто вилами, они представляли собой страшное зрелище. Разглядев на свалке посторонних людей, они тут же решили напасть и ограбить. И отбиться от них было пострашней, чем от своры диких собак. Эти звери были двуногими, целенаправленно, с людской понятливостью нацеленные исключительно на злобу и ненависть.
Володя выстрелил в воздух. Подействовало мало. Их стали окружать. Перекинув Тане тяжелый мешок, Володя прицелился прямо в толпу. Это заставило ближних остановиться. Затем кто-то бросился вперед. Володя выстрелил. Раздался звериный вой, исполненный боли. Ряды нападающих сбились.
– Бежим! – и Володя, крепко схватив Таню за руку, бросился в темноту. На бегу он все-таки умудрился забрать из ее ослабевших рук мешок с разрезанными на куски частями человеческого трупа.
Их никто не преследовал. Покинув пределы свалки, они оказались на Пантелеймоновской. Чтобы отдышаться, рухнули на какую-то лавку возле ближайшего дома.
– Они бы нас убили, – сказал Володя, – вот зверье. А вдруг это они убивают таким способом?
– Ну нет, – Таня покачала головой, – на это у них не хватило бы мозгов. Наш убийца умный и куда более изощренный. Убивает сериями.
– Мертвого младенца мы не нашли, – сказал Володя, словно пытаясь ее поддеть.
– Мы не искали, – возразила Таня. – Я уверена, что он где-то там, в куче. Вернуться за ним я не вернусь, даже не проси.
– Я тоже не самоубийца, – хмыкнул Володя.
– Куда теперь? – спросила Таня, бросив взгляд на мешок, лежащий на земле, возле их ног.
– В анатомический театр, – сказал Володя, и тут же добавил: – Там работает старый профессор медицины, друг моего отца. Он так любит свою работу, что рискнул остаться в Одессе. Он сохранит все в тайне, если я попрошу. К тому же сделает медицинское обследование трупа. Может, мы узнаем что-то новое.
– Мне не нравится эта идея – вдруг он испугается и нас выдаст, – покачала головой Таня, – но это лучше, чем ничего. Лучше, чем бросить мешок прямо на улице.
– Он не выдаст, – сказал Володя, – идем. Если нам повезет, мы застанем его. Он часто работает по ночам.
– Вы странные молодые люди, – промолвил старый профессор с густой окладистой бородой, точно такой, какими принято изображать профессоров в серьезных книжках. – Я многое видел в жизни и многое пережил, но видеть молодых людей, которые просят спрятать части трупа и одновременно провести исследование, мне доводится впервые.
– У нас исключительные обстоятельства… – начал было Володя, но профессор тут же перебил его, махнув рукой.
– Знаю, знаю, дорогой Вольдемар! Я понимаю больше, чем вы думаете. Сейчас не те времена, чтобы проводить расследование даже в случае самого жестокого убийства. Я помогу вам, чем смогу. Вы правильно сделали, что принесли труп сюда. Этим вы спасете невинных людей, которых могут расстрелять за то, чего они не делали, – было ясно, что старик-профессор знает о расстреле на Привозе. – Большевики не трогают меня, так как думают, что я сошел с ума. Это играет мне на руку – вот теперь я могу все спрятать.
Старик угощал их чаем в своем кабинете в анатомическом театре, где ничто не указывало на то, что это за место. Поставив чашку на стол, профессор улыбнулся.
– Может, желаете рассмотреть?
Части тела были разложены на оцинкованном столе под большой яркой лампой. В воздухе витал запах хлорки и какой-то тошнотворной медицинской сладости. Тело казалось изваянным из белого мрамора. Там, где были разрезы, не осталось и полоски крови.
– Я могу сразу сказать вам, что этот человек мертв уже несколько дней, – профессор направил лампу на стол, – и еще могу сказать вам, что это молодая женщина.
Таня подошла ближе, склонилась над рукой… И вдруг вскрикнула. На белой коже отчетливо смотрелась черная татуировка – роза за колючей проволокой.
– Что случилось? – Володя быстро подошел к ней. – Ты что-то увидела?
– Увидела, – мрачно сказала Таня, и пояснила: – Я знаю, кто это. Эту женщину звали Ираида Стеклярова.
Глава 17
В анатомическом театре. Частички фарфора. Дело об убийстве Розы Шип
Ранний рассвет следующего дня застал их в кабинете профессора в анатомическом театре, где Таня и Володя ждали результатов исследования. Лучи раннего солнца пробились сквозь сплошную линию туч, рассыпались на полированной ореховой поверхности письменного стола. День обещал быть по-весеннему солнечным и теплым.
Оба молчали. Ужас прошедшей ночи до сих пор был перед глазами обоих, и казалось, этому не будет конца. Он застилал сплошной пеленой мысли, парализовал чувства и волю. И Тане было очень тяжело прийти в себя после страшной находки, бегства по опасным ночным улицам и вида озверевшей толпы, собирающейся их разорвать.
Не менее тяжело было Володе. Он никак не мог прийти в себя от мысли, что он, юрист, бывший офицер, пусть даже полицейской службы, бывший следователь по уголовным делам, помогал спрятать тело жертвы убийства, заметал следы страшного преступления, а значит, по закону становился пособником убийцы. И не важно, что никто не соблюдает этот закон. Володе было плохо от одной только мысли о том, что он это сделал. И ничто не могло уменьшить его страданий. Даже изумительное лицо Тани, на которое падал солнечный свет.
Дверь скрипнула. Появился профессор. Он выглядел более усталым, чем они.
– Ну что, молодые люди, – профессор тяжело опустился в кресло и налил себе стакан воды, – сказать могу мало, но кое-что есть. Как я уже говорил, тело принадлежало женщине до 40 лет. Она мертва уже дня четыре, не меньше. Тело убийца расчленил после смерти.
– А можно установить причину смерти? – спросила Таня.
– Это сложно, но я попробовал. Это не яд. И это не удушение. И, конечно, это не естественная смерть. Судя по тем признакам, которые были у меня в наличии, я могу предположить либо колото-резаную рану в области шеи или сердца, либо тяжелый удар по голове. Жаль, у нас нет второй половины грудной клетки, где расположено сердце. Исследование сердца показало бы мне намного больше. Но по состоянию сосудов, крови и кожного покрова яд и удушение я полностью исключил.
– Колото-резаная рана… – задумчиво повторила Таня.
– Да. Ее могли ударить ножом в сердце. Ей могли перерезать горло. Наконец, ей могли дать тяжелым предметом по голове. Одну могу сказать: смерть была внезапной и без мучений. Тело разрезали только потом.
– А чем? – полюбопытствовала Таня.
– Это хороший вопрос! По тому, как были сделаны разрезы, я могу сделать несколько выводов. Тело резали либо острым мясницким ножом, либо заточенным тесаком. Скорей всего – длинный мясницкий нож. Это не топор и не пила. Разрез тканей легкий, быстрый, нет рваных краев. Да, еще могу сказать, что от времени убийства до момента расчленения тела прошло не меньше часа, а может, и больше. Это означает, что когда тело принялись резать, следов крови не было.
– Это сделал один человек? – Таня внимательно слушала профессора.
– Похоже, что один. И из этого я могу сделать два следующих важных вывода. Первый: человек, который разрезал труп, не имел специального медицинского образования. Как бы вам объяснить… Он резал не правильно, не так, как учат разрезать трупы в медицинских вузах. Но, несмотря на отсутствие анатомических и медицинских знаний, справился со своей задачей быстро и легко. Почему? Отсюда я делаю следующий вывод: убийца поступал с телом так много-много раз. Это не первое убийство. И даже не второе. У него огромный опыт, и опыт помог ему там, где подвели знания.
– Это третье убийство, – сказала Таня.
– Нет, – профессор покачал головой, – определенно не третье. На третий раз нельзя получить такой опыт. Он очень интересно, хотя и неправильно, разрезал межреберную ткань, справился с плечевыми сухожилиями и обошел те места, где могли быть проблемы от соприкосновения с костью. Нет, я уверен, это не третье убийство.
– Какое, по-вашему? – нахмурилась Таня.
– Десятое, как минимум. Я бы точно сказал, что не меньше десяти…
– О господи… – сокрушенно вздохнула Таня.
– Ищите другие жертвы, – посоветовал профессор, – похоже, вы про них просто не знаете. Не обязательно он убивал раньше в Одессе. Может, это заезжий гастролер, приехал недавно. Но то, что он много убивал раньше, – голову на отсечение даю!
– Он резал трупы по какой-то системе или просто так, как придется? – Володя задал первый вопрос.
– Я бы сказал, как придется. Анатомической системы, как обучают в медицинских вузах, во всем этом нет. Но я бы сказал, что у него может быть своя собственная система, понятная только для него одного и порожденная его безумием. Да, я бы именно так и сказал.
– А убийца – мужчина или женщина? – полюбопытствовала Таня.
– Это может быть кто угодно, – профессор сокрушенно покачал головой, – для того, чтобы так разрезать тело, не требуется особенной физической силы. Убийцей может быть и мужчина, и сильная, физически развитая, здоровая женщина.
– Конечно, нельзя понять, было ли совершено над жертвой насилие как над женщиной? – спросил Володя.
– К сожалению, нельзя, – согласился профессор. – Для такого анализа частей тела недостаточно. По крови и кожному покрову это нельзя определить. Но, если тебя это утешит, могу сказать, что под ногтями жертвы я не обнаружил чужой кожи или какого-то вещества. Это означает, что она не сопротивлялась, не царапала своего убийцу, не пыталась уцепиться за стены, пол и прочее. По всей видимости, не сопротивлялась потому, что умерла слишком быстро для этого. А умерла быстро потому, что подпустила убийцу близко к себе. Только с близкого расстояния можно нанести такой мгновенный удар. Возможно, она была знакома с убийцей. Можете это использовать.
– Как вы думаете, – спросила Таня, – на месте убийства должны были остаться следы крови? Или это бескровное убийство?
– Все зависит от способа убийства, от того, как она была убита, – ответил профессор. – Точный удар в сердце не дает много крови. А вот если ей перерезали горло или ударили в горло ножом, тогда будет очень много крови, просто фонтан. Особенно если попали в сонную артерию. Но вот если ее ударили по голове мягким тупым предметом, например, мешком с песком, тогда крови вообще не будет.
– А в том месте, где разрезали тело? – уточнила Таня.
– И в том месте, где убийца расчленил тело, крови вообще не будет. Как я уже сказал, ее разрезали через час или через два после наступления смерти. За это время кровь полностью успела свернуться и загустеть. Я бы сказал так: ее убили где-то и оставили в покое лежать мертвой. А через час или два начали расчленять тело – может, ее куда-то перенесли.
– А на теле вы не обнаружили каких-то волокон – к примеру, от одежды, или следов земли, песка, глины? – спросила Таня.
– Странно, что вы задали этот вопрос в то время, когда я и сам хотел вам кое-что рассказать, – улыбнулся профессор. – Действительно, я обнаружил кое-что, чего пока не могу объяснить. Это не волокна одежды, и не то, что вы перечислили. В районе плечевого сустава, в месте, самом ближнем к шее, я обнаружил крошечные ранки. В тело попали мельчайшие кусочки фарфора.
– Фарфора?! – переспросили одновременно Володя и Таня.
– Именно. Частички фарфора, стекла. Попали они уже после смерти, на голую кожу. Что это такое, я не могу объяснить.
– А вы уверены, что это именно фарфор? – спросила Таня.
– Уверен. Один кусочек был больше других, и я сумел провести исследование. Да и без специального анализа это можно было определить.
– А какой фарфор – из которого делают посуду, люстры, или еще что-то? – продолжала интересоваться Таня.
– А вот это я пока не смог определить, – улыбнулся профессор, – и сам бы хотел узнать. Я не понимаю, как на теле мог оказаться фарфор, да еще такие крошки. Это странно. Думайте над этим. Узнаете – потом расскажете.
– Я тоже не понимаю… – удивился Володя.
– Может, посудная лавка, стеклянная мастерская? – задумалась Таня. – И там тело было спрятано?
– Только не стеклянная мастерская, – сказал профессор. – Такой фарфор делают на крупных заводах, это фабричное производство. В Одессе такого завода нет.
– А на руке такого фарфора не было? – спросила Таня.
– Нет. Только возле шеи. Это единственная странность, которая поставила меня в тупик. Я пока не могу ее объяснить.
– Спасибо вам огромное! – воскликнул Володя.
– Пожалуйста. Я рассказал все, что узнал. Скажите, зачем вы ведете расследование? – прямо задал вопрос профессор.
– И сами не знаем, – пожал плечами Володя, – охотничий азарт бывшего полицейского, наверное. Но в любом случае убийцу надо найти.
Таня и Володя медленно шли пешком по направлению к Привозу. Прежде чем отправиться домой, Таня хотела убедиться, что все спокойно, никто не обнаружил остальные части тела. Впрочем, убийца умел прятать – в первых двух случаях оставшиеся части тел так и не нашли.
– Я вот о чем подумал, – сказал Володя, приноравливаясь к шагам Тани, – почему до сих пор не найдены головы? Куда он их прячет?
– И прячет явно не для того, чтобы жертвы не были опознаны, – подхватила Таня. – Может, он оставляет их у себя?
– Оставляет у себя? Такой сумасшедший?
– А какой же еще? – Таня передернула плечами – получилось довольно резко. – Я тут вот о чем подумала. Может, ты пороешься в старой полицейской хронике, в архиве, в давних подшивках газет, и узнаешь, были ли убийства такого же типа? Вдруг много лет назад что-то подобное уже произошло?
– Это прекрасная мысль! – оживился Володя. – Боюсь только, что от архива мало что осталось. Его столько раз жгли…
– Ну, где-то что-то могло и остаться. Поищи. Мы должны это знать.
– Ты вспомнила Людоеда? Илью Кодыму? – спросил Володя.
– Может быть, – Таня бросила на него тяжелый взгляд. Ей было больно и неприятно вспоминать Людоеда. Особенно то, что произошло потом.
На Привозе не все было спокойно. Возле входа в Фруктовый пассаж собралась толпа. В основном это были женщины, торговки. Они кричали все одновременно, отчего ни слова нельзя было разобрать.
– Вот видишь, – Таня нахмурилась и ускорила шаг, – видишь… Я боялась этого… все-таки что-то нашли…
Сквозь толпу Володя с Таней разглядели лежавшую на земле женщину в пестром ситцевом платье. Лицо ее было все в крови. Она лежала неподвижно, в неестественной позе, а бабы, сгрудившись, галдели над ней.
– Что тут такое? – Таня с Володей врезались в толпу. – Что случилось?
Таня разглядела несколько знакомых торговок – страшные сплетницы, они совали свой нос во все, что произошло.
– Так Анютку забили… – одна из торговок обернулась к ней, – ту, шо цветами торгует с лимана.
– Как забили? – не поняла Таня.
– Да просто! Выволокли во двор, стали всем скопом лупить, а она глянь – мертвая уже лежит! Стало быть, забили.
– Да за что? – Таня была в шоке.
– Как за шо? Да как ее, паскуду, не убить? Да сук таких пошто земля носит? – вдруг заголосила торговка, упершись кулаками в бока. – Сдохла – и хорошо, шо подохла, аспида треклятая, рыло свиное… Гадское отродье и надо было прибить!
– Да за что? Что она сделала? – Таня сама была готова кричать.
– Так младенца своего загубила! Задушила, проклятая.
Таня охнула. Володя с ужасом уставился на нее.
– Как это задушила? – спросила Таня.
– А вот так! Пришли к ней цветы покупать, тюльпаны, такое всякое, да одна бабонька юбками своими цветы на землю сбросила… Задела, значит. Глядь – а под цветами корзина, а в корзине мертвый младенец мужеского полу лежит… Под цветами, значит… Весь синий, задушенный… А младенцу-то от роду всего пара дней. Ну, баба в крик, тут все прибежали… Выволокли Анютку на дорогу и давай до смерти бить за то, что младенца своего загубила… задушила, значит…
– Да откуда вы узнали, что это она задушила? – воскликнула Таня.
– А кто же еще? Не я же его душила! – Баба уставилась на Таню с глубоким непониманием. – Анютка девка молодая, с мужиками шлялась. Забеременела, значит, а позору забоялась… Вот младенца своего и загубила, сука проклятая… До смерти задушила, гадина…
Отойдя от торговки, Таня приблизилась к окровавленной девушке, лежащей на земле. Она была мертва, и видно это было невооруженным взглядом.
– Мертвый младенец… третий мертвый младенец… вот он… – с ужасом прошептал за ее спиной Володя. Тане хотелось плакать.
Сосновский никогда не умел использовать женщин в своих интересах. А быть милым и обаятельным для всех ему не позволяла гордость. И в этот раз ему пришлось не сладко. Прыщавая девица в полицейском архиве не спускала с него восторженных глаз. И Володя пошел на крайнюю меру – улыбнулся работнице архива и так кокетливо оперся о столик, что у девицы перехватило дух.
– Девушка, милая, пожалуйста… Только вы можете мне помочь… – Володя был противен сам себе.
– Ой, не могу, ой, и не просите даже, – девица закатывала глазки, флиртуя вовсю, – хоть вы и репортер, а не могу.
– Известный репортер и писатель, – уточнил Володя. – А хотите, я о вас роман напишу? Или газетную статью?
– Ой, да что вы… вы, прямо, такой… – Девица поджимала губки, поводила плечом, и было видно, что она попалась на приманку. В конце концов она сломалась и пригласила Володю в архив. Ему только и было это нужно.
Забыв даже поблагодарить свою спасительницу и тем более пригласить ее на свидание или на ужин, Володя ринулся в пропахшую вековой пылью святая святых. Бывший полицейский архив был темным и страшным. Находился он в помещении старой биржи, где специально для уцелевших документов выделили темную, без окон, комнату. Пропускали туда по специальному пропуску, подписанному Ревкомом.
Володя подозревал, что членов Ревкома уговорил Домбровский, который из старых полицейских сводок черпал информацию о сохранившихся одесских буржуях. Чтоб ни одна монета не уплыла в сторону, были приняты такие драконовские меры.
А девица, поддавшись натиску, согласилась пропустить Володю просто так. Конечно, он мог бы получить пропуск, надавив на главного редактора Краснопёрова. Но это потребовало бы и времени, и огромного количества объяснений. А давать объяснения Володя не хотел.
В архиве было тесно, пыльно и темно. Но девица разрешила зажечь настольную лампу, которую специально притащила из соседнего помещения. Однако узкого тусклого кружочка лампы было недостаточно для того, чтобы хоть пробить брешь в окружающей его темноте.
Архив был свален просто в стопки на пол, без всякой системы. И Володя ужаснулся тому количеству пыльных папок, которые доведется ему разворошить. Но выхода не было. Таня всегда оказывалась права. И, скрепя сердце, он подвинул к себе ближайшую стопку. Запах пыли был ужасающий. В папках многие листы были обуглены, часто их совсем не было. И все равно документов было море. Володя погрузился в чтение. Буквально через минуту перед его глазами как живая встала горничная, путано и многословно рассказывающая о своей хозяйке, о ее кавалере-банкире, о том, что та и его не пустила в дом, и ее, горничную, отослала… А еще что-то про битый фарфор под дверью… Строго протокольные вопросы следователя тонули в море слов горничной, ярко описывающей свою жизнь и жизнь своей хозяйки. И тем не менее, судя по протоколу, следователь не дал сбить себя с толку и довел допрос до конца.
Исписанные четким почерком листки пахли сыростью и плесенью. Сохранились они плохо – кое-где буквы уже потекли, некоторые страницы с трудом читались. В одном месте папку погрызли мыши. К счастью, на тех листках, которые объели наглые зверьки, не было ничего, кроме детального плана Ланжероновской и самого дома, а все это не представляло особого интереса. По крайней мере, такого, как полицейский протокол. Володя еще раз посмотрел на год, который стоял на папке, взятой им наугад, – 1895-й.
Со все возрастающим интересом Сосновский прочитал подробности зверского убийства известной в городе хозяйки публичного дома по прозвищу Роза Шип, которое произошло тогда в Одессе. С первых же страниц протокола осмотра тела (вернее, его частей, того, что нашли в комнате хозяйки борделя) он просто не поверил своим глазам! Мертвый младенец. И тело было расчленено в точности так, как в их случае. Это была просто неслыханная удача!
Володя не мог просто так отказаться от ценной папки. А потому, засунув ее под отвороты пальто, решил прихватить с собой. Конечно, это было преступлением, и преступлением серьезным. Но Володя резонно рассудил, что по нынешним временам никто отсутствия папки даже не заметит. Тем более, что валялась она буквально на полу, под кучей других бумаг.
Ведь он мог обнаружить эти документы не сразу, а дней, скажем, через десять. Мог вообще не обнаружить. И то, что он сразу увидел эту папку, Сосновский посчитал неожиданным подарком судьбы.
Отодвинув решительно бумажные груды и поплотнее запахнувшись, Володя быстро покинул помещение архива, не забыв улыбнуться на прощание прыщавой девице.
Таня не поверила своим глазам, когда, открыв дверь квартиры, обнаружила на пороге Сосновского, державшего в руках старую потрепанную папку из бывшего полицейского архива. В комнате он с радостью швырнул ее на стол.
– Вот, убийство Розы Каймановой! – гордо возвестил Володя. – Она же Роза Шип – хозяйка борделя на Ланжероновской. 1895 год. Убийство этой дамочки точь-в-точь соответствует нашим убийствам.
Таня принялась читать. Читала она быстро, и Володю обрадовало выражение ее лица, когда она положила в папку последний листок протокола. Это было для него настоящим комплиментом!
– Невероятно! – Таня была потрясена. – Как ты умудрился это найти?
– Ну… были кое-какие догадки. Все-таки я бывший полицейский, – покривил душой Володя. – Ты ведь заметила главное? Убийцу не нашли!
– Да, – кивнула Таня, – это наш убийца. Он вышел тогда, скрылся от полиции и убивает сейчас, в 1919 году. Судя по прошедшему времени, это человек среднего возраста или даже пожилой.
– Седой кавалер Дуньки-Швабры… – предположил Володя.
– Да, очень на то похоже, – снова кивнула Таня, – и это обиднее всего, потому что слишком уж бросается в глаза. Обидно, что так просто. Я, честно говоря, ожидала чего-то другого. Но может быть и так…
– Ты обратила внимание на то обстоятельство, что и банкира, и горничную Роза Шип отправила от дверей своих апартаментов, не впустив их внутрь? Это может означать, что она знала: внутри ее кто-то ждет.
– Но как она узнала об этом за секунду, если вела к себе банкира? – задумалась Таня. – Значит, до того не знала?
– Записка, – предположил Володя, – записка на ручке двери или приколотая на дверь, которую она успела схватить до того, как заметил банкир.
– Возможно, – согласилась Таня, – в этом случае убийца был не только ее знакомым, но и важным для нее человеком, если ради него она отправила назад богатого банкира.
– Любовь, – хмыкнул Володя, – что для женщины может быть важнее всего? Сколько ради этой самой любви делается женщинами глупостей – страшно сказать! Особенно, если в те годы наш седой убийца был молод и красив.
– Много глупостей, – согласилась, усмехнувшись горько, Таня. – Женщины так устроены, что нам нужна любовь, а потому нас очень легко обмануть.
– Опять получается – кавалер Дуньки, – сказал Володя. – А сводню твою он мог убить потому, что она знала его лично и догадалась, что это он убил Дуньку. А мертвых младенцев оставляет рядом с трупом потому, что псих. Как тебе версия?
– Ты обратил внимание на одно важное обстоятельство? – Не отвечая на вопрос Володи, задумчиво сказала Таня. – Оно есть и в нашем убийстве! Осколки фарфора под дверью Розы Шип. И в нашем случае – тоже крошки фарфора на коже. Что бы это могло значить?
– А ты обратила внимание на то, что тогда предположил судебный следователь? – парировал Володя. – Он предположил, что это осколки статуэтки или вазы, потому что они были расписаны красками.
– Ну да, – сказала Таня, – ведь статуэтку или вазу проще искать, чем непонятно что. Только почему они не нашли?
– Непонятно, – Володя пожал плечами, – и никого не арестовали за убийство. Хотя бы по подозрению…
– Наш убийца умеет прятать концы в воду, – усмехнулась Таня. – Вспомни, ведь у нас на него тоже ничего нет! Ладно, спасибо за папку. Что делаем дальше?
– Я подумываю наведаться в тюрьму, – ответил Володя, – порыться там в архивах. Вдруг что найду…
Когда он ушел, и Таня закрыла за ним дверь, из ванной появился Туча, которого Таня успела там спрятать. Буквально за полчаса до визита Володи он явился звать Алмазную для важного разговора к Японцу.
– Картина маслом! – закатил глаза Туча. – И это наш хозяин кабаре! Он теперь твой хахаль?
– Нет, – рассердилась Таня, – никакой не хахаль, даже близко.
– А ведь он тебя любит, – хмыкнул добродушно Туча, – смотрит за тебя как ошпаренный, аж зубы трясутся. И прибежал до тебя совсем как штырь.
– Много ты понимаешь в любви! – фыркнула Таня и добавила: – Ладно, собирайся, поехали.
Глава 18
Встреча с Японцем в ресторане «Ампир». Отвратительное задание. Актриса Антонина Ракитина. Папка шантажиста. Провал операции
Вопреки своему правилу залечь на дно Японец ждал Таню в одном из самых шикарных одесских ресторанов. Когда пролетка вместо того, чтобы покинуть пределы города, свернула в самый центр Одессы, проехала многие улицы и всю до конца Ришельевскую и мимо Оперного театра повернула к бульвару, Таня вопросительно уставилась на Тучу. Тот довольно засмеялся:
– Шо, не поняла? Дела Японца идут в гору! Он нашел общий язык с Домбровским, и Григорьеву прищемили хвост! Конечно, он с великим шухером все еще ищет Японца по городу, но сам особо гланды не рвет. Наш Мишка Япончик сделал ему ручкой, и тип этот приблудный, алкаш, подряпанный пролетариатом, залез мордой в свою нору, да сидит там!
– Потрясающе! – усмехнулась Таня. – Я ни секунды не сомневалась в том, что наш Японец может устроить грандиозный шухер. Только зачем ему я?
– А ты завсегда нада! Он без тебя как без рук! – сделал комплимент Туча, и Таня поняла, что это не пустые слова.
Наконец они доехали. Недалеко от гостиницы «Лондонской» был расположен изящный ресторанчик во французском стиле «Ампир». Это было удивительно, но по какой-то причине красные не решились его закрыть.
Японец ждал ее в отдельном кабинете, и Таня с огромным удивлением увидела на столе его любимые пирожные. Несмотря на подполье и сложную борьбу, Мишка не изменился.
– Садись, Алмазная, кушай пирожные, – широко улыбнулся он. – Хотя ты, кажется, их не любишь, – Японец галантно налил Тане шампанское. – Давай выпьем за твое прозвище, которое, похоже, вернулось к тебе.
– Что это значит? – нахмурилась Таня и добавила: – Я пока ничего не узнала о Марушиной.
– Марушину пока побоку! – нетерпеливо махнул рукой Мишка. – Сейчас есть другой вариант. Важнее ее.
– Какой? – насторожилась Таня.
– Бриллианты. Огромные, как орехи с дачи. Жирные, шо печенка золотого гуся, – мечтательно вздохнул Японец. – Много бриллиантов, которые агенты Добровольческой армии направили в наш город, чтобы свергнуть красных. Надо раздеть Домбровского.
– Почему Домбровского? – удивилась Таня.
– Потому что Домбровский, гнида ушлая, успел их захапать. У него агенты по всему городу. Выследили, заловили, бриллианты отобрали, свидетелей под землю. Все просто. А мне эти бриллианты очень как позарез нужны! Ну прямо во как!
– Все это понятно, но при чем тут я?
– А мы с тобой вспомним старые добрые времена, и ты поможешь мне их добыть.
– Ох, нет… – ужаснулась Таня, – только не Домбровский! Я его видела. Это зверь.
– Знаю, шо зверь. Но никто не заставит тебя рисковать. С твоей головы, драгоценная моя Алмазная, и волос не упадет!
– Поясни, что ты имеешь в виду, – Таня снова поймала себя на мысли, что ей больше не нравится криминальная жизнь.
– Все просто. Ты прибегнешь к обыкновенному хипишу. Домбровский бабник. Он любит красивых женщин. А красивее тебя в нашем мире никого нет.
– Это отвратительно, – сказала Таня, – я не могу больше.
– Знаю, все знаю, – кивнул Японец, – но обещаю: это будет последний хипиш в твоей жизни. Ты ведь не хочешь от нас уйти? Ты же знаешь: от нас не уходят. – Японец перестал улыбаться.
Таня знала. При всех их с Японцем как бы хороших отношениях, если она не выполнит его задание, ей просто перережут горло и выкинут в сточную канаву в каком-то переулке. А умирать ей не хотелось, особенно сейчас.
Ежась от колючих взглядов охранников Домбровского, которые расхаживали по залу, Таня вступила под своды гостиницы «Пассаж». Даже удивительная красота архитектуры одесского Пассажа и старинных скульптур не могла скрыть тяжелого, гнетущего ощущения от такого множества вооруженных людей, оружие которых время от времени бряцало о каменные своды пола. Охранников было достаточно много, как и положено среди белого дня. Страшные, заросшие, они обшаривали Таню глазами, цепко задерживаясь на каждом сантиметре ее тела. Но трогать не осмеливались – из-за того, кто шел рядом с ней.
А рядом с ней шел маленький толстяк в пенсне, которого не любили и боялись вооруженные охранники Домбровского. Связан он был с Революционным комитетом, решая свои дела напрямую с Рутенбергом, и именно через него в карманы Домбровского и Ревкома через подставные банки текли черные финансовые потоки, не отражающиеся ни в каких документах. Он был черной бухгалтерией, потайным сердцем подпольного бизнеса тех, кто, прикрываясь громкими революционными лозунгами, так и не смог усмирить свою естественную человеческую алчность.
Таня ни разу не видела его до того дня, когда, рассказав о бриллиантах, Японец не открыл дверь кабинета ресторана, и внутрь не вошел лысый толстяк. Сделал так Мишка в ответ на Танины слова, когда, уяснив всю суть ситуации, она с горечью сказала:
– Да дикие охранники Домбровского разорвут меня, как только я приближусь к Пассажу! Разве ты не знаешь, что никого не подпускают к нему?
– Тебя познакомит с Домбровским человек, с которым тот не может не считаться. Это сюрприз, – хмыкнул Японец. – Домбровский даже не подозревает, что этот человек давно уже работает на меня.
Именно тогда он и открыл дверь кабинета, впустив толстяка, который, галантно склонившись, совсем по-старорежимному поцеловал руку Тане.
– Позволь представить – Яков Пилерман, – сказал Японец, – черный казначей Домбровского.
Тут Таня начала кое-что понимать. О бриллиантах Мишке явно сообщил Пилерман. И это человек, которого Японец хочет поставить над Привозом. Это понятно, что будущий глава Привоза не может не работать на большевиков. Таня вспомнила, как Японец говорил, что деньги, добытые Пилерманом, он потратит на что-то очень для себя важное, то, что полностью изменит его место в обществе. Очевидно, бриллианты тоже предназначались для этой цели. Но появление черного казначея Домбровского не успокоило Таню – скорее наоборот.
– Если на тебя работает Пилерман, то зачем тебе я? – спросила Таня в лоб. – Он же знает все коды и шифры. Пусть он и добудет бриллианты.
– Все не так просто, – лысый толстяк покачал головой. – Домбровский не должен подозревать меня. Необходимо направить его по ложному следу. А что может быть более подозрительным, чем красивая барышня?
– То есть я – козел отпущения? – догадалась Таня.
– Ни в коем случае! – вклинился Японец. – Ты – та, кто имеет полную возможность проникнуть в квартиру Домбровского, где тот в сейфе хранит свои бриллианты. А дальше – уже наше дело. Пилерман знает код от сейфа. Но Домбровский страшно подозрителен, никого не пускает в квартиру, и у дверей его очень серьезная охрана. А барышня – это вне подозрений всегда.
– Вы проникните в квартиру и вырубите Домбровского, – сказал Пилерман, – дальше впустите меня и наших людей с черного входа. Потом преспокойно уйдете из квартиры, сказав охране, что Домбровский заснул и просил его не беспокоить.
– А наутро он проснется и будет искать меня по всему городу, – усмехнулась Таня.
– А разве до этого тебя не искали по всему городу? Особенно, когда ты промышляла хипишем на Дерибасовской? – удивился Японец. – Разве ты забыла, как попала к нам? К тому же ты загримируешься, изменишь внешность. Ты же бывшая артистка. У тебя все будет под рукой.
– Конечно… Если только Домбровский захочет привести меня в квартиру, – сказала Таня.
– Еще как захочет! – всплеснул руками Пилерман, – Домбровский страшный бабник! У него каждую ночь новая барышня. Он уже прошелся по всем одесским артисткам, и все ему надоели. А вы – новое лицо. Нет никаких сомнений в том, что Домбровский не устоит, – он сально улыбался.
Тане было тошно. Так тошно, что она даже смотреть не могла в сторону Пилермана. Его упитанное, лоснящееся лицо вызывало в ней настоящее отвращение.
И вот в образе роскошной блондинки с вьющимися волосами до пояса она входила в здание гостиницы «Пассаж» – с бьющимся сердцем и черной ямой в душе.
– К кому? – Бородатый кавказец невероятно грозного вида, который усиливала огромная черная папаха, преградил им дорогу.
– К Домбровскому, военному коменданту города, – возмущенно выпалил Пилерман, – к кому же еще?
Истинный одессит, он не мог удержаться от того, чтобы не ответить вопросом на вопрос.
– Тебя я знаю, – кавказец зло зыркнул жгучими глазами, – а она кто?
– А она со мной, – насупился Пилерман.
– Посторонних пускать не велено!
– Она не посторонняя! Это известная актриса мадам Ракитина, только сегодня приехала из Киева. Господин Домбровский нас ждет! – вспыхнул Пилерман.
– Нет сейчас господ! – рявкнул непреклонный страж, однако затем тень сомнения промелькнула по его лицу: – Актриса, говоришь?
Но Пилерман не успел ответить. Ближайшая к ним дверь открылась, и оттуда вышел сам Домбровский в сопровождении трех мужчин, один из которых, высокий, седой, старался держаться за спинами других.
Таня не вглядывалась в спутников Домбровского – ей было не до того. Она мгновенно узнала военного коменданта города, чье лицо видела при таких страшных обстоятельствах, что это до сих пор снилось ей по ночам. Все внутри нее замерло, а потом рассыпалось с такой болью, что Тане даже стало трудно дышать. Домбровский внушал ей ужас, самый настоящий, ледяной, первобытный ужас. И это чувство не так-то просто было в себе подавить.
Домбровский между тем не мог отвести от Тани восхищенного взгляда, хищные глаза расширились, как у кота, который увидел перед собой мышь. Его холеное, чувственное лицо было по-своему красивым. Большинство женщин сочли бы его очень привлекательным, но Таня никогда не относилась к большинству.
– Пилерман! – воскликнул Домбровский. – Представь мне свою спутницу!
При этом возгласе грозный охранник быстро отступил и растворился где-то в тени.
– Это Антонина Ракитина, наша известная актриса. Она прибыла сегодня утром из Киева… – залепетал Пилерман.
Дальше было дело Тани. И она, смело выдержав откровенный взгляд Домбровского, кокетливо протянула руку вперед:
– Антонина! Нина. Я, собственно, приехала к вам.
– Ко мне? – Домбровский плотоядно оскалился. – Я всегда готов уделить вам внимание. Повышенное внимание…
– У меня конфиденциальный вопрос. Только к вам… – закокетничала Таня и, подхватив под руку Домбровского, быстро увела его в сторону от спутников и от свирепых охранников.
– Меня очень интересует судьба моего брата. Он держал в Одессе ювелирный магазин. Ракитин, ювелир Ракитин, – говорила не останавливаясь Таня, – мне сообщили, что его убили. Но никто не рассказал никаких подробностей. Вы военный комендант Одессы. Подробности можете знать только вы.
В лице Домбровского не дрогнул ни один мускул. Либо он уже забыл про ювелира Ракитина, либо помнил, но подобный налет был для него и его банды настолько привычным делом, что он не обратил на него особого внимания.
– Я помню дело ювелира Ракитина, – спокойно произнес Домбровский, – это было очень громкое убийство! Примите мои соболезнования, дорогая.
– Ах, благодарю! Вы расскажете мне подробности?
– Мне нужно воскресить их в памяти, полистать нужные документы… Я помню только то, что вашего брата убили одесские уголовники, люди самого ужасного бандита Одессы Мишки Япончика. К сожалению, его до сих пор не могут поймать.
– Я слышала про этого бандита, – всплеснула руками Таня, – говорят, он настоящий дьявол! Но вы можете выяснить все подробности для меня?
– Разумеется! – Домбровский галантно поцеловал Тане ручку. – Мы можем встретиться сегодня вечером? Я вам все расскажу.
– Да, конечно, – закатила глазки Таня.
– Тогда в 8 вечера я жду вас в ресторане «Пассаж».
Уходя, Таня бросила невольный взгляд на спутников Домбровского. Седой мужчина в этот раз повернулся лицом. Он тихо разговаривал с одним из охранников – молодым кавказцем со шрамом во всю левую щеку. Говорили они не по-русски, а на каком-то своем языке.
Тане вдруг показалось, что она уже где-то видела этого мужчину. Ощущение кольнуло ее. Но он снова повернулся спиной, словно стараясь спрятать свое лицо, и Тане показалось очень странным это намерение все время оставаться незамеченным. Но она не сомневалась ни секунды в том, что уже видела его. Где? Этого она не могла вспомнить, тем более в присутствии Домбровского, который все еще не сводил с нее пожирающих глаз.
Думать дальше ей не хотелось. И, нервничая, Таня очень быстро вышла из Пассажа, потеряв где-то на ходу отставшего Пилермана.
Вечер в ресторане был настолько отвратителен, что Таня постаралась вытравить его из памяти как можно скорей. Время действовать пришло около десяти, когда Домбровский заказал очередную бутылку вина и стал проявлять заметные признаки нетерпения.
– О, какое прекрасное вино! Оно лучше всех прежних, – проворковала Таня, – может, возьмем бутылку с собой, когда поедем к тебе?
– Поедем как можно скорее! – Глаза Домбровского засверкали.
– Конечно. Ты же не оставишь меня одну в такой прекрасный вечер? – Таня вовсю изображала опьяневшую кокетку. – Ты военный комендант Одессы, я так хочу побывать у тебя.
В автомобиле Домбровский попытался дать волю рукам, но Таня быстро поставила его на место. В этом ей успешно помог большой опыт бывшей хипищницы с Дерибасовской. Главное было довести клиента до места. Домбровский об этом не знал, а потому спокойно ждал своего часа.
Он жил на Дерибасовской в роскошных апартаментах внизу улицы, спускавшейся к морю. И у дверей его квартиры, расположенной на первом этаже, дремали трое охранников – опять-таки кавказцев – самого сурового вида.
Войдя в квартиру, Таня потребовала разлить вино. Домбровский охотно согласился и принялся наливать. В этот миг раздался громкий стук в дверь, и хозяин пошел открывать, чем невероятно облегчил Тане ее задачу. Она всыпала почти половину пузырька со снотворным в его бокал, хотя было достаточно всего нескольких кристалликов. Но Домбровский вызывал у Тани такую ненависть, что она решила действовать наверняка.
Из прихожей послышались громкие голоса. Таня на цыпочках прокралась к приоткрытой двери.
– Убирайся немедленно! – гремел Домбровский. – Как посмели тебя впустить?! Я им всем покажу чертову мать! Они разве не сказали, что я занят? У меня дама! Я не один.
– Подождут твои дамы, – зло произнес голос, показавшийся Тане невероятно знакомым. Она точно слышала его, но где и когда, не могла определить.
– Подождут твои дамы, – повторил голос, – шлюхи подзаборные! Я пришел узнать, сжег ли ты документы, которые украл из тюрьмы! И это не терпит отлагательств.
– Почему я должен их сжигать? – рассердился Домбровский. – Я не обещал тебе ничего определенного! Сказал, что подумаю, и буду думать. Уходи!
– Ты сделаешь это сейчас, ты… – прозвучали грязные ругательства, и в речи незнакомца вдруг появился заметный кавказский акцент. По всей видимости, визитер Домбровского страшно разнервничался.
– Девка на Привозе – твоих рук дело? Ты поимел ее, а потом разрезал на куски! – Тут буквально зашипел Домбровский. – И после этого я должен сжечь документы из тюрьмы?! Это твоя работа, или не так?
Таня едва не стукнулась о двери лбом. Это ж надо такое! Убийца с Привоза! Визитер Домбровского – убийца с Привоза! И Домбровский знал, кто это такой!
– Не говори глупости, – голос вдруг зазвучал спокойно, – не убивал я никаких девок. Ты сам знаешь, что это был не я. Сожги документы. Я хочу спокойно жить и работать. Мне все это ни к чему.
– Чем докажешь, что не ты убил девку? Признайся по-хорошему!
– Прочтешь в документах. Почерк не мой. Сам увидишь. А вот если не увидишь, я могу кое-что рассказать. Например, как…
– Заткнись! – В голосе Домбровского зазвучала такая ненависть, что Таня вздрогнула. – Как ты смеешь мне угрожать! Убийца!
– Возможно, я был убийцей. …Но все ведь меняется, не так ли?.. Или, например, я могу рассказать о том, что…
– Хорошо, хорошо… – Таня поняла, что Домбровский сдался. – Обещаю, я подумаю, что можно сделать. А сейчас уходи.
– Нет. Ты сделаешь это сейчас, – настаивал визитер.
Домбровский выдохнул: – Я обещаю: прочитаю документы перед сном, как выпровожу девицу. И если все так, как ты говоришь, сегодня же и сожгу.
– В тюрьме обо мне наводили справки. Твои люди?
– Нет, – удивился Домбровский. – Зачем мне наводить справки, если документы из тюрьмы у меня? Это глупость!
– Тогда кто расспрашивал?
– Да мало ли кто знает о твоем прошлом! Шила в мешке не утаишь. Особенно, когда начались эти убийства на Привозе.
– Я знаю, кто убивает, – произнес голос. – Если хочешь, я тебе расскажу.
– Потом. Расскажешь потом. Уходи, – Домбровскому не терпелось выставить визитера.
Тут, не в силах сдержаться, Таня приоткрыла пошире дверь и увидела спину высокого седого мужчины, которого хозяин выпроваживал. Это был тот самый человек, которого Таня видела днем! Тот, кто так пытался спрятаться за спинами спутников Домбровского! Высокий седой кавказец! Любовник Дуньки-Швабры!
Таня едва успела прыгнуть обратно в кресло, когда Домбровский появился в комнате. Руки его дрожали, и он сразу же залпом выпил бокал вина, налитого Таней. Вина со снотворным.
– Иди ко мне, – скомандовал, поставив бокал на стол.
– Кто это был? Я слышала крики… – начала вкрадчиво Таня.
– Так, по работе. Ну хватит разговоров! – оборвал ее резко Домбровский. – Раздевайся!
Это был явно «галантный» кавалер. Таня едва успела встать с кресла, как он отрубился. И, грузно обмякнув в кресле, захрапел. Она пулей подлетела к дверям служебного входа, которые, согласно плану Пилермана, действительно находились за кухней. Там ее уже поджидали сам Пилерман и два вооруженных человека Японца – охрана.
Сейф стоял в кабинете. Грабители пошли туда, как вдруг… Таня вскрикнула: появившись из-за двери, кто-то набросился на одного из людей Японца, попытавшись схватить его за горло. Завязалась борьба. Тут только она заметила, что в комнате горят портьеры. Начался пожар: неизвестно кто разбросал горящие дрова из жарко натопленного камина, в котором пылало настоящее пламя.
Второй человек Японца выстрелил почти в упор. Тело нападавшего обмякло и рухнуло на паркет. Таня с удивлением узнала молодого кавказца со шрамом во всю левую щеку, который разговаривал с седым сегодня днем.
Пилерман возился с сейфом. Среди пылающих дров, выброшенных из камина, Таня разглядела папку, раскрытые листы которой уже пожирал огонь. Она бросилась к камину, не обращая никакого внимания на языки пламени, хотя от ее юбки уже начал идти дым. Схватив лежащую в стороне кочергу, Таня быстро поддела папку и вытащила ее на пол, затем затоптала пламя ногами. Схватила в руки… И онемела. У нее вырвалось:
– Не может быть! Просто не может быть!
Пламя между тем разгоралось все больше и больше. В квартире послышались голоса. Привлеченные громким звуком выстрела, охранники решились войти, рискуя нарваться на недовольство хозяина. Голоса переросли в крики – в гостиной они обнаружили крепко спящего Домбровского.
– Бежим! – скомандовал Пилерман. Он уже закончил с бриллиантами, собрав их в прочный кожаный мешочек. В комнату заглянул один из охранников Домбровского. Человек Японца выстрелил в него в упор.
Все четверо, и Таня в том числе, буквально вылетели из кабинета и помчались к служебному входу. Их заметили, началась перестрелка. Люди Японца прикрывали Таню и Пилермана. Во дворе, вплотную к дверям служебного, черного входа в квартиру, стоял автомобиль. Таня и Пилерман метнулись на заднее сиденье. Один из людей Японца упал, сраженный пулей, второй был ранен в руку, но успел вскочить в машину.
Двигатель работал на всех парах. Услышав крики и выстрелы, водитель включил зажигание, и автомобиль почти сразу развил такую скорость, что грабители смогли оторваться от погони без труда. Хотя была ли эта погоня, они так и не поняли.
Но Пилерман едва не плакал.
– Все пропало! Все пропало! Меня заметили! Они знают, где я живу! Теперь подойти к Домбровскому будет невозможно.
Таня, не обращая никакого внимания на происходящее, прижимала к груди обугленную папку.
– Бриллианты надо спрятать как можно скорей, – сказала она посередине дороги, – в нейтральном месте.
И, наклонившись к шоферу, Таня велела ему ехать в сторону Привоза.
Таня и Пилерман медленно шли вдоль ограды ночного рынка.
– Никому не придет в голову, что бриллианты можно спрятать в таком шумном и многолюдном месте, как Привоз, – говорила она, и он был полностью согласен с ней, – а когда шум поутихнет, вы возьмете их – и дело с концом! Японец только рад будет, что мы сумеем правильно избавиться от такого смертельного груза. Представляете, как шерстят люди Домбровского сейчас по всему городу?
– Они решат, что бриллианты взял подельник того, со шрамом, – сказал успокоившийся Пилерман, – и что в ссоре из-за камушков его убил. А тебя, как свидетельницу, они могли увезти с собой.
Наконец они увидели подходящее место: каменная тумба возле одного из домов вплотную подходила к решетке рынка. Между тумбой и решеткой была небольшая выемка в камне, куда Пилерман без труда засунул мешочек. Таня присыпала его сверху мусором. Пилерман удовлетворенно кивнул:
– Никто не найдет.
Они быстро пошли прочь вдоль ночного Привоза.
Вернувшись к себе на Молдаванку, Таня бесшумно прошла в свою комнату, без сил опустилась на пол. Ей хотелось плакать. Так она сидела некоторое время. Затем, добравшись до кровати, рухнула, погрузившись в тяжелый, почти мертвый сон.
Глава 19
Подземный тюремный архив. Жестокий убийца. Странный протокол допроса. Таня узнает имя
Осклизлые ступеньки выскальзывали из-под ног. Володя с трудом спускался вниз, держась за стены. Это было самое настоящее подземелье, словно пришедшее из страшных готических средневековых романов. Сосновский впервые был в одесской тюрьме.
Старик-сторож, привыкший ко всему на свете, провел его внутрь. Он сделал это по настоянию Володи, которому не только очень хотелось посмотреть архивные записи, но и вдохнуть воздух того страшного места, где содержались самые опасные узники, – мрачный, затхлый запах подземелья, исполненный тяжелых воспоминаний и ужаса.
С политическими переменами в городе пришли и перемены в одесской тюрьме. Ее вновь стали использовать по назначению, но открыли не полностью. Для использования оставили только два крыла, но закрыли все подвальные помещения. В часть этих помещений отнесли тюремный архив, а остальные были предназначены под ремонт. Но, ввиду полного отсутствия средств, он был перенесен на неопределенное время.
Подземелье закрыли не просто так: уж слишком много неприятных воспоминаний хранили стены подвалов. Именно в этих камерах, в самом низу, содержали политических вместе с опасными преступниками, приговоренными к пожизненному заключению или к смертной казни. Многие из руководства большевиков, которые пришли сейчас к власти в Одессе, провели в этих подземных стенах немало ужасных дней. А потому эти помещения решено было закрыть в первую очередь.
Оставшиеся же в работе два крыла, два корпуса тюрьмы, функционировали по-прежнему. Тюрьма была забита битком, но охранялась не так строго, как в прошлые годы. Находились в ней мелкие уголовники, спекулянты продуктами и медикаментами, какие-то дворяне, не успевшие сбежать из города, да еще те, кого подозревали в связях с Добровольческой армией и шпионстве в пользу белых.
Судов как таковых не проводилось – на это не было времени, да и законы не успели еще переписать, оставались только прежние. А потому суд по законам военного времени проходил очень быстро. Дело прямо в тюрьме рассматривал военный революционный трибунал. После чего обвиняемого либо там же расстреливали, либо отпускали на волю (что бывало гораздо реже, но все же случалось). Не было ни адвокатов, ни прокуроров, ни апелляций – ничего из долгих и законных юридических процедур. Суд был быстрый, молниеносный – почти такой же, как захват большевиками власти в городе. А потому люди, которыми была забита тюрьма, долго в ней не задерживались, и в любом случае быстро покидали ее стены.
Старик-сторож тюремного архива раньше работал царским охранником. Знал он тюрьму как свои пять пальцев, особенно все переплетения подземных коридоров. В связях с белыми его не подозревали, да при прежней власти он был самой мелкой сошкой, в пытках и допросах заключенных (особенно политических) не участвовал. А потому его было решено оставить при тюрьме – не столько из уважения к прежним заслугам, сколько потому, что за архивом надо было смотреть. А никто из большевиков не желал каждый день спускаться в мрачные подземелья.
Так и остался бывший охранник там, где провел бóльшую часть жизни. Только должность его теперь называлась по-другому. И от горя из-за перемены власти и из-за того, во что превратилась тюрьма, сторож беспробудно пил.
Он пил из-за бесконечных расстрелов, которых был ежедневным свидетелем, и которые повредили его психику, пил из-за того, во что превратились камеры: раньше в них содержалось по 2 – 3 человека, теперь же заталкивали по 30…
Иногда в камерах было так тесно, что нельзя было прилечь, и люди сидели, тесно прижавшись друг к другу, чувствуя себя в настоящем аду. Да и охрана самой тюрьмы не имела ничего общего с той, прежней охраной. Дежурства несли кое-как, охранников распределяли неравномерно. А в подвал, где находились архивы, и вообще никого не поставили. Ценные записи, чудом сохранившиеся в тюрьме, содержались без всякой охраны, и забрать их мог кто угодно, стоило только узнать тайный ход, о котором, впрочем, мало кто мог догадаться.
Обо всем этом узнал Володя, сидя в кабачке на Люстдорфской дороге возле Второго Христианского кладбища и слушая пьяные откровения старика, который был просто счастлив найти собеседника. О старике-стороже подвалов Сосновский узнал в редакции от одного из старых репортеров, который, как и сам Володя, остался в Одессе, не в силах расстаться с писательским делом.
Сосновский искал возможность попасть в тюрьму и очень скоро понял, что затея его не только безнадежна, но и опасна. Идти официальным путем никакого смысла не было: революционные власти не пускали за ограду тюрьмы посторонних, тем более репортеров, чтобы никто в городе не узнал о том, что там происходит, ведь в Одессе даже не подозревали о массовых расстрелах, которые каждый день проводились за стенами старинного Тюремного замка.
За попытку проникнуть на территорию тюрьмы в качестве газетного репортера или частного лица Володю ждал неминуемый расстрел. Никто бы не стал разбираться в обстоятельствах. Даже такое понятие, как передачи, в тюрьме были отменены. Власти опасались лишних свидетелей, а потому родственникам тех, кто попал в застенки, было запрещено видеться с ними. В общем, официальных путей не было.
К архиву не допускали никого. Обо всем этом Володя узнал, «закинув удочки» в разных местах, в том числе и от Антона Краснопёрова, который, не подозревая подвоха, даже выболтал важную информацию о том, почему большевики не хотят пускать за стены тюрьмы свидетелей.
Именно тогда с Володей разговорился старый репортер, ставший невольным свидетелем его расспросов.
– Зачем это тебе? Опасности захотелось? – поинтересовался он, честно стараясь подавить в себе чувство ревности.
– Почему опасности? Просто репортаж. Революционная тюрьма, новое в тюремных застенках для уголовников, и все такое, – Володя пожал плечами с самым невинным видом, мол, не думал ничего плохого.
– Пристрелят на месте, – усмехнулся репортер. – Наивный, молодой, не соображаешь, что в городе делается. Брось эту затею.
– Что, неужели нет никакого способа узнать, что происходит в тюрьме? Странно это как-то! – воскликнул Володя.
– Ну почему, есть способ, – прищурился репортер, – могу рассказать… Если снимешь завтрашнюю свою статью и скажешь Краснопёрову, что она еще не готова, в ней непроверенные факты. Тогда Краснопёров отдаст подвал мне, а ты получишь свою информацию.
В любое другое время Володя разъярился бы и выдал обнаглевшему коллеге на орехи! Но мысль о том, что без изучения тюремных архивов их расследование застопорится, сковала ему язык. И Володя сделал то, чего не делал ни разу в своей жизни: согласился на такие отвратительные условия.
Все произошло именно так. Статья ревнивого репортера получила в престижном субботнем номере целый подвал, а Володя получил информацию про старика-сторожа и даже адрес кабачка, в котором этот старик напивался в свободное время.
Уговорить старого тюремщика провести его в тюрьму оказалось нелегкой задачей. В ход пошли и водка, и деньги, и долгие часы разговоров. Видя своими глазами то, что делают в тюрьме большевики, старик боялся их до полусмерти.
Но в конце концов Володе удалось его уговорить, и старик, скрепя сердце, согласился провести его тайным ходом. Страшный поход состоялся в ночь с субботы на воскресенье, когда бдительность стражей была ослаблена, и тюрьма охранялась не так строго. Но все равно – спускаясь по осклизлым ступенькам в подвал, старик дрожал от страха.
Володя же был настроен более решительно. Опасное приключение пьянило ему кровь, как молодое вино. И он не думал даже о том, что в случае провала будет схвачен и расстрелян без суда и следствия. Он чувствовал себя сильным, смелым, гордым от своей мужественности и таким могущественным, что мог справиться с кем угодно, даже с большевиками. И этот бесстрашный молодой энтузиазм, кипящий в его крови, придавал сил.
– Вот здеся они сидели… те, кто тебя интересует, – сказал старик, проводив Володю в самый мрачный и узкий конец подземного коридора, – опасные убийцы… приговоренные к смертной казни… да только их не успели казнить…
– Много их было? – спросил Володя.
– Не могу точно сказать, несколько человек. Кто тебя интересует? Ты спроси, может, что и вспомню.
– Меня интересует тот, кто людей на куски резал, – прямо сказал Володя.
Старик задумался, потом кивнул головой:
– Был такой. Вон в той камере сидел. Его еще при царском режиме посадили, но казнить не успели. Много трупов было на нем. Охранники рассказывали, что он людей на куски резал, а части тел в разных местах разбрасывал. Солидный был такой, седой.
– Седой? – насторожился Володя.
– Представительный очень – и не скажешь, что убийца. Я его видел, – сказал старик-сторож, – мне потом напарник рассказал, что как взяли его, так части тела мертвой женщины у него в доме и нашли. Он разбросать не успел.
– Как его звали?
– Вот за это не помню. Но я тебе в архиве его дело покажу. Сохранилось. Фамилия у него нерусская, сложно произносится. Не наша, тяжелая такая фамилия. А приличный человек был… Заводчик. Завод у него был. А вот какой – уже и не помню.
– Что с ним сталось? Его казнили?
– Куда там! Он в тюрьме долго сидел. Следствие велось. Ни в чем не признавался. Даже про мертвую женщину говорил, мол, подбросили. А потом смены властей начались, не до него стало. Все за него забыли – он же не политический.
– Так куда он делся? Что произошло?
– А вот когда бандит этот главный, Мишка Япончик, на тюрьму пошел, уголовники его и выпустили. Приняли за своего. Хотя никаким уголовником он не был.
– Что? – Володя даже остановился, так потрясли его слова старика. – Ты хочешь сказать, что в город выпустили серийного убийцу, который расчленяет трупы? Что этот убийца сейчас ходит по Одессе?
– Еще как ходит! А чего ему не ходить? – усмехнулся старик. – Ведь когда тюрьму взяли и начальника живьем в сарае сожгли, никто не разбирался, кто по какому делу сидит. Всех выпустили.
– Матерь Божья… – перекрестился Володя.
– Да не одного такого выпустили! И остальных выпустили, а тут такие типчики были, что ого… Рассказывают, что как Япончик тюрьму взял, он случайно в камеру к палачу зашел…
– Куда зашел? – не понял Володя.
– Ну начальник тюрьмы нанял одного из этих жутких убийц, чтоб младенцев душил…
– Что делал? – онемел Сосновский.
– Да от младенцев избавлялся! Бабы рожали в отделении, а младенцев куда? Вот начальник тюрьмы и придумал нанять одного из таких убийц, чтобы тот отправлял младенцев на тот свет. Тот и душил… А потом Япончик в камеру его случайно попал. А там же ж трупы младенцев… Так вот этого ирода сумасшедшего тоже во время штурма тюрьмы выпустили. Распахнули тюрьму! Никто не разбирался, кто за что сидел. Все в город вышли.
Беседуя так, они дошли до самой крайней комнаты в подземелье, где был свален архив. Старик зажег керосиновую лампу под потолком и стал рыться в груде папок, сваленных прямо на каменный пол камеры.
– Вот оно, дело седого… Гляди, и фамилия его здесь написана… Все равно ее не выговорить, – он протянул Володе замшелую, пыльную папку, – всего час у тебя есть. Через час надо уходить. Скоро побудка будет, эти, пьяные, проснутся, по тюрьме шнырять будут. Сюда, конечно, они не зайдут. Но носом везде залезут.
Когда старик вышел, оставив его одного, Володя открыл папку и погрузился в чтение.
Сидя в своей гостиной, Таня раскладывала на столе обгоревшие листы. На папке было заглавие (то самое, которое ее поразило): «Убийца с Привоза». Эти буквы были криво написаны простым карандашом.
«Газета «Одесские ведомости», 1897 год». Статья. «Жестокий убийца продолжает терроризировать Одессу и окрестности города (заглавие). Сегодня полицией была найдена третья жертва жестокого убийцы – вернее, то, что осталось от ее тела. Части расчлененного трупа убитой женщины обнаружили в камышах возле Куяльницкого лимана местные рыбаки. Они обратили внимание на странное поведение собаки, которая вдруг, посередине дороги, уселась и стала упираться задними лапами, не поддаваясь на уговоры и никак не реагируя на пинки. При этом собака утробно выла, глядя на камыши, густо разросшиеся у самой дороги. Старый пес никогда, за все годы верной службы, не вел себя так. А потому хозяин решил, что происходит что-то необычное. Отвязав ошейник собаки, хозяин решил выпустить ее. В тот же самый момент собака рванулась в камыши, продолжая утробно выть. Люди пошли за ней следом. И в болотном иле обнаружили части человеческого тела, которые лежали на самом верху. Убийца не закапывал их в камышах, словно специально оставив на видном месте. По частям трупа можно было определить, что тело принадлежит молодой женщине. Перепуганные рыбаки моментально бросились в ближайший полицейский участок.
Судебный врач, доставленный к месту убийства прямиком из университетского анатомического театра, констатировал, что части тела пролежали в камышах несколько дней. И что убийца расчленил тело уже после смерти жертвы.
На руке убитой был обнаружен серебряный браслет. Из-за тугой застежки он почти намертво впился в кожу, отчего его не так-то просто было отстегнуть. По всей видимости, убийца либо не придал этому значения, либо в спешке не справился с трудной задачей.
По дутому серебряному браслету с крупными кусками янтаря была опознана жертва. Ею оказалась 22-летняя прачка Прасковья Семашко, недавно переехавшая в Одессу из села в Херсонском уезде. Заявление об исчезновении Прасковьи Семашко уже лежало в полиции. Оно было написано двумя ее подругами, соседками по комнате. В нем было сказано, что девушка исчезла уже 4 дня назад.
Вместе с двумя другими девушками Прасковья Семашко проживала в меблированных комнатах «Париж» в районе Привоза, напротив Первого Христианского кладбища. Так же, как и две соседки по комнате, Семашко занималась поденной стиркой, а в свободное от работы время подрабатывала уличной проституцией, подыскивая состоятельных клиентов в районе Привоза и в близлежащих пивных заведениях.
По словам подруг Семашко (обеих девушек звали Мариями), в вечер исчезновения они все вместе собирались отправиться в ресторан «Пале-Рояль» на Дерибасовской, чтобы встретиться с одной известной одесской сводней. Та за деньги должна была либо найти им солидных клиентов для постоянной связи, либо устроить в богатое, солидное заведение.
Встреча с сводней была назначена на 7 часов вечера, и, чтобы успеть в ресторан вовремя, девушки должны были выйти около 6 вечера из меблированных комнат. Прасковья Семашко знала об этом, и, отправляясь с утра на стирку, обещала подругам, что вернется часам к пяти. Но в назначенное время она не пришла. Девушки отправились на встречу без нее, очень нервничая из-за исчезновения подруги, ведь они прекрасно понимали, что Семашко ни за что не пропустила бы эту встречу.
Когда же после полуночи они вернулись обратно в меблированные комнаты, то узнали от хозяйки заведения, сидящей в холле на кассе, что Прасковья Семашко вообще не возвращалась домой. На следующее утро испуганные девушки отнесли заявление об исчезновении в полицию.
По словам подруг убитой, в последнюю неделю в жизни Прасковьи Семашко появился солидный мужчина, личность которого она держала в глубокой тайне. Она мечтала выйти за него замуж. Он делал ей дорогие подарки – в том числе и серебряный браслет с янтарем.
Вот как рассказывала об этом подруга убитой Мария М.: «Пашка скрывала то, что работает прачкой. Говорила, что после смерти родителей осталась без средств к существованию. На самом деле родители ее были живы-здоровы, жили в селе. Мужик этот дорогие подарки ей делал. Давал деньги на жизнь. Она встречалась с ним у него дома и тщательно скрывала от нас любые подробности. Боялась, что мы сглазим. Я знаю, что именно она настояла, чтобы мы встретились со сводней в «Пале-Рояле», устроив эту встречу. Она хотела любым способом заработать как можно больше денег, так как у ее любовника были финансовые проблемы. Он задолжал банку, на него давили кредиторы, и она хотела помочь ему финансово, чтобы он выпутался из неприятностей. Поэтому когда она не явилась на встречу, которую сама же и устроила, мы поняли, что дело очень серьезное. Нет, я никогда не видела этого человека в лицо, не знаю его имени. Пашка говорила, что он молодой, красивый и приехал в Одессу недавно, что у него была невеста, которая умерла перед свадьбой, и он очень сильно грустил по этому поводу, потому и уехал. Пашка говорила, что после смерти невесты он несколько лет не встречался с женщинами, и что она, Пашка, была первой и единственной, с кем он начал встречаться. Но я ей не верила. Все это казалось мне странным.
Например, он никогда не заходил за Пашкой домой. Я не понимала, почему его нужно так скрывать. Думала, что Пашка боится сглаза. Но однажды она проговорилась, что это он заставляет ее скрывать о нем все, даже имя. Зачем он так скрывался? Я подозревала, что он брачный аферист, но не понимала, какой интерес может представлять для него Пашка, нищая, как церковная мышь. Вот если бы она была богата – тогда другое дело. А так… Все это было очень странно. Нет, записки он ей не писал. Да и как бы Пашка прочитала их, если была безграмотная? Она не умела ни читать, ни писать».
А вот показания второй соседки убитой по комнате, Марии Т.: «Пашка рассказывала, что он очень красивый, но в его внешности есть недостаток – это седые волосы. Он весь седой, несмотря на то что ему всего 25 лет! Пашка говорила, что так бывает – какие-то там железы работают неправильно, что-то там от рождения, и появляется ранняя седина. Она говорила, что это не болезнь, он не больной. И что так ему очень красиво. Сразу становится таким солидным, что видно – завидный жених. Нет, я не знаю его имени. В нашем присутствии она никогда не называла его по имени, говорила только так: «мой». Это она хвасталась. Но я его никогда не видела, даже со спины. Он к дому не подходил, даже близко. Однажды она проговорилась, что у него есть деньги. Из своей страны, она не сказала, какой, он привез солидный капитал, и на эти деньги открыл богатый магазин по продаже мебели и небольшой завод, на котором эту мебель делали. Но в последние месяцы дела его пошатнулись. Он сильно задолжал банку и еще каким-то людям. Пашка страстно хотела добыть денег, отдать ему и так помочь справиться с долгами. Чтобы это было как бы ее приданое, понимаете? Несмотря на то что у него были долги, подарки он ей дарил роскошные. Серебряный браслет с янтарем. Золотую цепочку. Бутыль с дорогим вином – Пашка сказала, что такое вино только к царскому столу подают. Бутыль выглядела так богато, что даже мы побоялись его пить, так поставили на комод, как вазу. Еще он ей давал деньги. Не много, но на жизнь хватало.
Я точно знаю, что в тот день она должна была увидеться с ним. Чуть свет собиралась вроде как на стирку, но цепочку золотую надела, да еще самый лучший платок. Зачем это, спрашиваю. А она так засмеялась, плечами повела и говорит: мол, мой за мной мальчонку пришлет, когда у него свободная минута будет, я к нему и пойду. И я точно знаю, что он посылал за ней какого-то мальчишку. Товарки ее потом рассказали. Мол, в разгар стирки прибегает какой-то чумазый мальчонка, да сразу к Пашке. Два слова ей шепнул. Та быстро стирку бросила. А белье в корыте недостиранное было. Нарядный платок нацепила и пошла. Товарки пытались ее остановить – куда идешь, увидят, что с работы ушла, не заплатят. А она только посмеялась – нужна мне, мол, теперь эта работа, если мой прислал. И все, ушла. С концами. Не возвращалась больше. А мы сразу поняли, что не могла она так уйти. Что беда с ней приключилась серьезная. Так и произошло. Он ее убил. Так в протоколе и запишите – он, этот седой, ее убил. Никакой он был не солидный, а убийца проклятый! А браслет действительно ее был. Она его с руки никогда не снимала. Там поломанная застежка была. Так в нем и спала. Он это, ее браслет. Я сама не раз рассматривала».
Показания подруг девушки очень помогли следствию. И, по словам судебного следователя по особо важным делам, личность предполагаемого убийцы уже установлена. И он будет задержан в самое ближайшее время. А нам остается надеяться на то, что в нашей южной Пальмире больше не повторятся жестокие убийства, которые пугают всех жителей города. Напомним нашим читателям, что прачка Прасковья Семашко стала третьей жертвой загадочного убийцы. А до нее убийца убил еще двух девушек, расчлененные части тел которых были найдены в пределах города».
Отложив заметку, Таня взяла протокол допроса, вернее, остатки протокола, те, что сохранились в огне.
«ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ: Вы убили Прасковью Семашко?
ОТВЕТ: Нет. Не я.
ВОПРОС: Но Прасковья Семашко была вашей подругой.
ОТВЕТ: Не подругой. Нет. Близких отношений у нас не было.
ВОПРОС: Но у нас есть показания свидетелей о том, что вы жили с Прасковьей Семашко.
ОТВЕТ: Врут. Врут ваши свидетели из зависти. Близких отношений у нас не было. Так, дальнее знакомство, встретились пару раз.
ВОПРОС: Расскажите о вашей последней встрече с Прасковьей Семашко.
ОТВЕТ: Нечего рассказывать. Я ее не помню.
ВОПРОС: У нас есть показания свидетелей о том, что вы виделись в день ее исчезновения, что именно по вашему настоянию Прасковья Семашко ушла с работы.
ОТВЕТ: Врут ваши свидетели. Врут из зависти. Никаких встреч не было. Я не знаю, почему Прасковья Семашко ушла со стирки. Спросите у нее!
ВОПРОС: Ваш юмор неуместен! Вы прекрасно знаете, что мы не сможем у нее ничего спросить. Это вы убили Прасковью Семашко?
ОТВЕТ: Ложь! Не я! Клевета!
ВОПРОС: При обыске в вашей комнате был обнаружен окровавленный мясницкий нож. Как вы это объясните?
ОТВЕТ: Нож был взят из лавки мясника для разрезания мяса. Обед готовили. Ни для чего больше. В хозяйстве потребовалось, а не было. Пришлось взять.
ВОПРОС: Анализ крови показал, что на ноже следы человеческой крови.
ОТВЕТ: Быть такого не может! Ножом резали мясо, причем не только я. Больше ничего другого.
ВОПРОС: Вы сидели на Александровской каторге?
ОТВЕТ: Ну и что? Мои политические взгляды не должны вас волновать! Мы ж говорим об убийствах, а не о большевиках!
ВОПРОС: На каторге происходили убийства?
ОТВЕТ: Да там каждый день кого-то убивали! При чем тут я?
ВОПРОС: За что на вас напали заключенные? После этого вы даже оказались в больнице с серьезными ранами!
ОТВЕТ: Их спросите! Не нравились мои политические взгляды, что я за красных. Что же еще?
ВОПРОС: А не стало ли причиной убийство двух заключенных во время вашего дежурства в столовой? Заключенные были убиты и разрезаны мясницким ножом для разделки мяса, взятым с кухни.
ОТВЕТ: Чушь какая! При чем тут я?
ВОПРОС: Точно так же, как и заключенные на Александровской каторге, Прасковья Семашко была убита и разделана мясницким ножом. Вам не кажется странным это совпадение?
ОТВЕТ: Нет, не кажется. При чем тут я?
ВОПРОС: Мы сделали запрос в канцелярию Александровской каторги и получили ответ, что вы были осуждены не по политической статье, а по уголовной, за убийства. Как вы это объясните?
ОТВЕТ: Да простая ошибка. Бумаги перепутали – разве так никогда не бывает? Просто перепутали в канцелярии – и всё.
ВОПРОС: Почему вы не хотите сознаться в убийствах? Мы докажем, что вы виновны в смерти Прасковьи Семашко.
ОТВЕТ: Вот и доказывайте. Я тут при чем?»
Таня отложила бумаги в сторону, покачала головой. – Бедная Ида…
И с задумчивым видом уставилась в окно.
Глава 20
Володя читает документы. Поджог дома Тани. Бриллианты
В подвале тюрьмы было тихо и холодно. Стремясь успеть за короткое, отпущенное на его долю время, Сосновский быстро читал архивные бумаги. Фитиль керосиновой лампы тихонько потрескивал и очень сильно чадил, но Володя не обращал на него никакого внимания. Мир, открывшийся перед ним, был гораздо интереснее.
«Судебного следователя Одесского окружного Суда 4 участка Одесского градоначальства. Дело № 5 об убийстве одесской прачки Прасковьи Семашко сожителем ее…». «Судебного следователя Одесского окружного Суда по Одесскому градоначальству. Дело № 18 об убийстве одесской мещанки Анны Чертковой незаконным ее сожителем…».
«Протокол допроса о дознании по обвинению в убийствах Прасковьи Семашко и Анны Чертковой.
1901 года, мая 12 дня, и. о. судебного следователя Одесского окружного Суда 4 участка опрашивал находящегося под стражей… по делу об убийствах прачки Прасковьи Семашко и одесской мещанки Анны Чертковой. Арестованный, в качестве особы, попадавшей под дознание по делу об убийствах, отвечая на данные вопросы судебного следователя показал, что зовут его… звание мещанин, лет от роду… веры православной, жительство имеет в городе Одессе с 1895 года, до того года проживал в селе Новощеповка Херсонской губернии данного уезда. Занимается мебельным делом, торговля и починка мебели, грамотен, под судом не был, о предъявленных обвинениях от судебного следователя слышал, важных сведений по другим уголовным делам не имеет.
Дал следующие показания и показывал в присутствии судебного следователя и канцеляриста, ведущего протокол допроса о дознании для Одесского окружного суда.
С прачкой Прасковьей Семашко познакомился на улице Пантелеймоновской в районе начала Привозной площади, где данная особа имела место жительства и занималась незаконной деятельностью, приставая к мужчинам и требуя с них плату за интимные услуги. О Прасковьи Семашко был наслышан от своих знакомых по торговому цеху, которые пользовали ее услуги. Для интимных услуг нанял Прасковью Семашко, для чего отвел в гостиницу «Франция», где были уплачены деньги данной особе. После чего решил постоянно встречаться с ней для внебрачного сожительства. Внебрачная связь длилась в течение месяца, во время оного подозреваемый постоянно давал Прасковье Семашко деньги. В день 19 декабря, когда по показаниям свидетелей Прасковью Семашко в последний раз видели живой, около полудня отправил подмастерья-мальчишку из своей мастерской к ней в меблированные комнаты, в коих данная особо имела место жительства. Мальчишка должен был передать Прасковье Семашко в устной форме требование немедленно явиться на квартиру подозреваемого, расположенную над мебельной мастерской. Тот так и сделал. Подозреваемый показал, что Прасковья Семашко явилась к нему на квартиру в час дня, где вступил с ней в интимную связь, после чего ушла из квартиры подозреваемого, и больше он ее не видел. Данное обстоятельство противоречит показаниям свидетеля, полученным в ходе следствия. Свидетель по делу утверждает, что Прасковья Семашко вообще никогда не выходила из квартиры подозреваемого. Следствие располагает сведениями, полученными в ходе обыска квартиры подозреваемого о нахождении в данной квартире следов крови. По свидетельскому заключению судебного медика, кровь, найденная в квартире подозреваемого, соответствует группе крови Прасковьи Семашко. Следствие утверждает, что подозреваемый в своей квартире убил Прасковью Семашко, после чего расчленил ее тело и разбросал части в разных районах города. Подозреваемый в преступлении не сознается. В квартире также был найден мясницкий нож, который якобы не узнал подозреваемый. Следствие располагает показаниями прислуги подозреваемого о том, что данный нож всегда находился в квартире и использовался для готовки. По данному факту подозреваемый давать показания отказывается. Про нож заявил, что его не узнал. Признательных показаний в совершении данного преступления следствием получено не было, что никак не повлияет на предъявление подозреваемому обвинения в убийстве одесской прачки Прасковьи Семашко».
«По делу о дознании в совершении убийства одесской мещанки Анны Чертковой подозреваемый показал следующее. С одесской мещанкой Анной Чертковой, вдовой, 43-х лет, подозреваемый познакомился на новогоднем балу 1 января 1901 года в городской управе. Вдовая мещанка Анна Черткова занималась тем, что сдавала доходный дом и жила на получаемую ренту, унаследованную от покойного супруга. На бал в городскую управу Анну Черткову пригласил друг ее покойного мужа, Петра Черткова. Подозреваемый получил приглашение как представитель торговой палаты, от которой приглашения были разосланы известным торговым людям города. После бала подозреваемый в собственном экипаже отвез Анну Черткову к ее дому и, поднявшись в квартиру, вступил с ней в интимную связь, после чего пообещал на ней жениться, однако не давал никаких письменных обязательств по данному поводу. Обвиняемый скрыл от Анны Чертковой факт своего брака, который был заключен подозреваемым в 1897 году в городе Одессе. Анна Черткова, не догадываясь о том, что подозреваемый женат, продолжала с ним внебрачную связь в течение одного месяца.
Однако в это время подозреваемого усердно допрашивала полиция в связи с обстоятельствами смерти его бывшей сожительницы, 22-летней прачки Прасковьи Семашко. Подозреваемый скрыл от Анны Чертковой все обстоятельства по данному делу. Следствие располагает версией о том, что каким-то образом Анне Чертковой стало известно о семейном положении подозреваемого. Возможно, ей удалось разыскать свидетелей данного брака или отыскать бумаги в городской канцелярии. Подозреваемый показал на допросе о том, что уже долгое время не проживал со своей законной супругой и не имел от нее никаких известий, а потому не посчитал нужным поставить в известность Анну Черткову о своем настоящем семейном положении. Подозреваемый заявил, что его супруга давно умерла, однако у следствия нет свидетельства о смерти, и с 1897 года свидетельство о смерти на данную особу выписано не было и в архивах не значится. Следствие располагает показаниями свидетелей о том, что подозреваемый часто виделся со своей супругой до дня ареста, она оставалась у него ночевать и он оплачивал ее счета за снимаемую квартиру. Однако подозреваемый опровергает эти показания, и показывать следствию по данному вопросу отказался.
4 февраля 1901 года под вечер Анна Черткова явилась на квартиру к подозреваемому. По свидетельству рабочих в мастерской, наверху, в квартире подозреваемого, произошла очень крупная ссора, сопровождаемая криками, битьем посуды и мебели. Следствие располагает свидетельскими показаниями о том, что Анна Черткова страшно кричала на подозреваемого, обвиняя его в том, что он хочет воспользоваться ее деньгами, не собираясь на ней жениться, и в том, что он брачный аферист. Зная, что она состоятельная вдова, затеял с ней аферу, чтобы обманным путем выудить ее деньги. Что отвечал подозреваемый, следствие данными не располагает. Из квартиры подозреваемого Анна Черткова не вышла, а через несколько дней в разных районах города обнаружили части ее разрезанного трупа.
Подозреваемый дал следствию показания по этому вопросу. Он показал, что 4 февраля у него действительно произошла крупная ссора с Анной Чертковой. Та явилась к нему на квартиру с различными обвинениями. Он опроверг все обвинения, постарался ее успокоить и вступил с ней в интимную связь. После чего Анна Черткова ушла из его квартиры около одиннадцати часов ночи, и больше он ее не видел.
Однако следствие располагает показаниями рабочих, всю ночь работавших под квартирой в мебельной мастерской, о том, что из квартиры до утра никто не выходил. Во время обыска в квартире подозреваемого следствием были обнаружены следы крови, которые, по свидетельству судебного медика, проводившего анализ, совпали со следами крови Анны Чертковой. В ответ на этот факт подозреваемый показал, что Анна Черткова действительно порезалась в его квартире, когда разбила посуду и мебель. Он перевязал ей порезанную руку, но много крови пролилось на пол.
Однако кровь убитой была обнаружена в разных местах комнаты, а не только в одном месте. Как-то объяснить данное обстоятельство подозреваемый отказался. Также подозреваемый отказался давать признательные показания по дознанию в убийстве одесской мещанки Анны Чертковой, заявив, что не виновен в ее убийстве, и у него нет в квартире второго ножа. Во время обыска второй нож действительно обнаружен не был, как любое другое орудие, которым можно было совершить данное преступление и расчленить части тела. Однако это не является для следствия существенным обстоятельством, так как подозреваемый имел в запасе несколько дней для того, чтобы избавиться от орудия преступления».
«Предварительное следствие, произведенное Судебным следователем Одесского окружного суда 4-го участка Одесского градоначальства об убийстве прачки Прасковьи Семашко и об убийстве одесской мещанки Анны Чертковой, в чем обвиняется подозреваемый… постановило заключить подозреваемого под стражу до решения окружного суда. Начато: 20 декабря 1900 года, кончено 8 марта 1901 года на 607 листах».
«1 сентября 1905 года, Москва, Обер-Полицмейстеру.
Прошу Ваше Превосходительство выслать сейчас же в Одессу второго палача для совершения казни преступника, приговоренного к повешению за два убийства (убийство в 1900 году прачки Прасковьи Семашко и убийство в 1901 году одесской мещанки Анны Чертковой). Первый палач не успевает справляться, так как работы у него слишком много. Расходы переезда будут тотчас возмещены. Градоначальник города Одессы».
Но преступник повешен не был, и в пухлой папке не содержалось никаких свидетельств о том, прибыл ли в Одессу второй палач. Скорей всего, нет. Это письмо было последней бумажкой в деле.
Постучав в дверь, Володя вызвал старика-сторожа.
– Дочитал, мил человек? – Тот появился на пороге в овечьем тулупе, несмотря на апрель, и, поймав удивленный Володин взгляд, пояснил: – Стыло здесь, в камне, больно студено. Кости мерзнут. Так даже летом здесь, в подвале, в тулупе сижу. А бумажки отсюдова выносить нельзя. Не положено. Заметят – сразу поставят к стенке. А я пока не хочу. Так что ты, мил человек, обратно положи, если прочитал, что тебе нужно. Я тебя быстренько наружу выведу, побудка скоро.
– Почему его не повесили? – Володя аккуратно вернул пухлую папку на место. – Почему опасный убийца так долго сидел в тюрьме?
– Так 1905 год был, политические волнения начались, в тюрьме неспокойно было, – пожал плечами старик, – в городе еврейские погромы начались… До того ли властям было. А потом вышел он из тюрьмы. Это ведь старое дело.
– Как вышел? – поразился Володя.
– Сбежал вроде. Одного конвойного убил, как на суд его везли, дело после 1905 года пересматривать, – старик был в курсе всего, что происходило в тюрьме, – готовили ему побег, все хорошо организовано было. А потом, в 1917 году, уже после революции, опять попался. Помню, что прежний начальник тюрьмы из архива затребовал именно вот это дело. Долго его изучал. Мне потом конвойные рассказали, а они слышали от начальника. Так и я узнал, что он серийный убийца. А новое дело, по которому он сюда попал, сожгли, как Япончик тюрьму взял. Оно сверху лежало, вот его и подожгли. Так что не знаю, кого он там в 17 году убил. Только вот это прошлое осталось. По прошлому можно определить, кто он такой. Да и то: в деле записано 607 листов, а осталось от силы 40…
– Интересно, что с его женой… Кто она такая… – задумчиво сказал Володя.
– Вот уж чего не знаю, того не могу сказать! Да наверняка сбежала от него жена, как в тюрьму попал. Кому такой муж нужен? Убийца!
Обратно идти было легче, даже в сплошной темноте. Выйдя наружу, Володя с наслаждением полной грудью вдохнул свежий воздух. От долгого пребывания в страшных подземельях его до сих пор била дрожь. А может, виной тому была разлитая в одесском воздухе сырость? Володе вдруг показалось все происходящее каким-то страшным фантастическим сном. Впрочем, теперь он знал имя убийцы. Надо рассказать Тане как можно скорей!
Володя остановился. Имя убийцы вдруг всплыло в его памяти, заставив замереть на месте. Он уже его слышал, он видел этого человека. Говорил с ним – даже в присутствии Тани. И этот человек действительно очень подходил по описанию к убийце Дуньки-Швабры: солидный, седой, нерусский акцент. Как же сложно было понять, что скрывалось за приятным, добродушным и с виду очень хорошим человеком! Надо спешить… Подняв повыше воротник пальто, Володя помчался сквозь ночь по темной Люстдорфской дороге, спеша как можно быстрее добраться до города, до Тани.
Таня расхаживала по комнате, заламывая пальцы. Все это не укладывалось в ее голове! Казалось бы, все просто. Бумаги были прочитаны, с глаз спала пелена. А убийца… Настоящий убийца был рядом, под боком.
Громкий, резкий стук в дверь вырвал ее из раздумий. Она распахнула дверь. Там стояли двое: Рулька Кацап и Шмаровоз. Кацап дышал тяжело, лицо его было красным, как будто бежал очень долго по всему бесконечному городу.
– Берегись, – с порога выпалил Шмаровоз, – этот жирный тип, Пилерман, хочет тебя убить! Он людей для этого ищет по всему городу.
– Что за… – Таня отступила в дверях, – да вы перепились, что ли?
– С позавчерашнего дня ничего не пил! – выпалил Рулька. – А Пилерман по всему городу людей на тебя ищет. Меня пытался подписать. Я сказал, что подумаю. А потом к нему бегом, – кивнул он на Шмаровоза. – Тебя нельзя убивать. Ты хорошая!
– Я хорошая… – горько усмехнулась Таня. – Чушь какая-то! Зачем Пилерману меня убивать? Хотя…
– Он хитро действовать будет, – сказал Шмаровоз, как всегда, умевший проявить дальновидность, – скажет Японцу, что тебя якобы сильно Дикая сотня ищет, а сам твой адрес потихоньку завыудит, шоб, мол, тебя за шухер предупредить. А потом наймет людей с самого низа, ниже плинтуса, тех, кто не знает тебя. И всё…
– А тебя нельзя убивать, ты хорошая, – повторил Рулька Кацап, – ты мне денег так хорошо за того заплатила… А там ведь не было никакой работы! Никто со мной так по-человечески не поступал!
– Вспоминай: есть у этого гада на тебя зуб? – потребовал Шмаровоз.
Таня побледнела. Бриллианты! Они вместе спрятали их, а теперь Пилерман хочет убрать свидетеля, чтобы никто больше не знал это место! Ну конечно! Как она раньше не догадалась, что он будет действовать именно так! Дернул ее черт прятать эти бриллианты! Дура! Набитая дура! Хотя…
– Ты белая как мел, – сказал Шмаровоз, – значит, было. Тогда чего ждешь? Бери своих и уходи отсюда! Быстро!
– Куда мне их повести? – на какую-то долю секунды Таня вдруг почувствовала настоящее отчаяние, – у Иды ребенок… Они спят…
– Для начала – ко мне, – предложил Шмаровоз, – а завтра тайком снимешь им какую-то хату… Никто не будет знать.
– Ладно, – Таня прогнала отчаяние, стараясь действовать быстро, – идем.
С Идой было просто. Жизнь в страшном браке с грузчиком отбила у нее возможность удивляться и протестовать. Запуганная и забитая, она только-только стала оттаивать в человеческом тепле, а потому беспрекословно подчинилась, собрав вещи и одев потеплее Маришку. С Цилей было сложнее. Она попыталась вопить в голос: что, да почему, да как! С чего вдруг она должна уходить из своего собственного дома? Таня резко тряхнула ее за плечи.
– Погром помнишь? Пожалела, что послушалась меня? И вот теперь все почти тоже, только хуже!
– Как хуже? – перепугалась Циля.
– Теперь гонятся за мной. Один человек нанялся меня убить. Помнишь, я деньги достала? Вот поэтому!
Истерику Цили сняло как рукой, и она собралась так быстро, что поразила даже Таню. Все объяснялось достаточно просто. Опасность угрожала Тане, а Таня была для Цили настоящим идолом. Она поклонялась Тане почти с собачьей преданностью и ради ее спасения готова была сделать, что угодно.
Когда они уже были собраны и стояли в дверях, увязывая в узел вещи, Рулька Кацап отшатнулся от окна:
– Двор окружают какие-то люди. Вижу Яшку Лысого. Его лысина даже под луной светит. Поздно.
– Есть черный ход? – Шмаровоз был настроен решительно.
– Можно попытаться уйти с кухни на первом этаже, – сообразила Таня, – она окном выходит на другую улицу.
– Скорее!
Кое-как спустились по лестнице в кухню.
– Шмаровоз, быстро уведи их! – Таня вытолкнула в окно плачущую Цилю.
– А ты? – Циля вцепилась в нее мертвой хваткой.
– Я позже подойду, – Таня с трудом разжала ее пальцы, – я знаю адрес.
– Алмазная, уходи! – взмолился Рулька Кацап. – Дом подожгут – поздно будет!
Шмаровоз быстро выскочил в окно следом за Идой и Цилей, и Таня видела, как он повел их под руки вниз по улице.
– Я с тобой останусь, – Рулька Кацап не двигался с места.
– Хорошо. Тогда идем.
Они вышли в окно и медленно пошли, прижимаясь к стенке, вдоль дома. Завернули за угол.
Бандиты были уже во дворе. Их было много, пять человек. Двое остались стоять в парадной, один отправился искать черный ход, а еще двое стали подниматься по лестнице.
Таня и Рулька Кацап спрятались в выемке подвала во дворе, ход в который был расположен низко, под камнем, и никто из посторонних в жизни не догадался бы об этом укромном месте. Было слышно, как бандиты выбивают дверь. Раздались крики – проснулся кто-то из соседей. В ответ прозвучали выстрелы.
Потом раздался взрыв. Он был настолько сильный, что пламя вырвалось сквозь крышу, вырывая деревянные перекрытия и уничтожая шифер. В квартиру Тани бросили бомбу. Все смешалось в хаосе огненных языков пламени, людских криков, сажи, копоти, фонтана из осколков стекла и выбитых взрывом камней. Бандитов пулей снесло с лестницы. Они вырвались из парадной, сбив кого-то с ног. Было слышно, как с урчанием завелся двигатель автомобиля.
– Мы должны выскользнуть незаметно, – сказала Таня Рульке. – Когда соседи поймут, что бомбу бросили в мою квартиру и дом загорелся из-за меня, они меня разорвут. Поэтому уходим быстро, пока они будут тут бегать.
Кое-как выбрались из подвала, побежали вдоль улицы. Дом пылал вовсю. Крики заполонили всю улицу – страшной проблемой Одессы было отсутствие воды, и дома сгорали сто раз до того момента, как появлялись пожарные команды с водяными бочками.
Дом был обречен. Таня со слезами на глазах уходила от места, где имела хоть какое-то подобие уюта. Судьба явно была против того, чтобы она обрела покой. И жестоко гнала ее вперед, словно намеренно лишая всего на свете. Таня плакала, не скрывая слез, отчего Рулька Кацап чувствовал себя достаточно неуютно.
– Алмазная, успокойся! Да успокойся ты, – бормотал он, – все же спаслись. Будет у тебя новый дом. Вот увидишь, будет.
Слезы Тани высохли по дороге. За квартал до дома Шмаровоза она остановилась.
– Ты сейчас пойдешь туда и убедишься, что все в порядке. А я… Дальше мне надо одной.
Рулька Кацап пытался протестовать, но Таня умела быть непреклонной. В конце концов он сделал так, как сказала она, и ушел вниз по улице, унося в своей душе ростки своей первой юношеской любви, такой неожиданной и такой опасной для вора.
Таня добралась до Привоза, до того места, где вместе с Пилерманом спрятала бриллианты. К счастью, они были в тайнике. Таня быстро их достала. «Попляшешь теперь у меня…» – злорадно подумала она, унося бриллианты с собой.
Думать особо времени не было. Таня кралась по ночному Привозу. Она спрятала бриллианты в ступеньках бывшей лавки ростовщика Кацмана, которой теперь управлял его сын, на том самом месте, где нашли мертвого младенца…
Глава 21
Помощь Володи. Имя убийцы. Труп в мебельной мастерской
Таня стояла у дверей своего сгоревшего дома, вдыхая приторный запах гари, разлитый в воздухе. Был ранний рассвет. Дом сгорел дотла. Воздух был ужасен. Тане казалось, что им пропахли ее волосы, одежда, кожа. Кое-где еще мерцали алые отблески, отголоски страшного пламени, бушевавшие здесь всю ночь. В черных обугленных досках эти алые огоньки были похожи на пляшущих чертей, вырвавшихся наружу из самого ада.
Тане было страшно по-настоящему. Вот уже вторично ее дом сжигали, и ей казалось, что по пятам за нею следует ад – страшная плата за все ее грехи. К счастью, двор был безлюдным, жильцы других квартир куда-то попрятались. Те, кто пострадал от пожара, уже успели выудить из обугленных руин то, что осталось от их вещей.
Из вещей Тани не уцелело почти ничего, страшно было даже смотреть. Но за последнее время у нее сформировалось какое-то странное отношение к вещам – ей было их совершенно не жаль, и она весьма философски относилась к их потере. Она не жалела о вещах, и сама не могла понять почему. Жизнь научила ее этому.
Таня сама не знала, зачем пришла на пепелище. Какая-то странная сила влекла ее сюда, и ей казалось очень важным прийти именно к этому месту. Но это оказалось тяжелей, чем она думала. И когда она подошла к обгоревшим руинам дома, слезы закапали из ее глаз.
– Господи… Что здесь произошло? – Знакомый голос, раздавшийся за спиной, словно окутал ее. Володя стоял и с ужасом смотрел на руины дома, страшным призраком чернеющие в рассветном свете.
Лицо его стало белым, а глаза казались застывшими озерами на этом лице. Для него это был удар, но его смягчило присутствие Тани. Он еще не осознавал, что она, целая, живая, невредимая, стоит перед ним – все его внимание было приковано к сгоревшему дому.
– Таня!.. Таня… О господи… что произошло…
Он повторял какие-то бессмысленные слова, смотря вперед, перед собой, словно видел настоящего призрака, восставшего из ада.
Это было для нее уже слишком – увидеть Володю после всех потрясений прошедшей ночи. И, зарыдав, она бросилась к нему на шею. Он обнял ее крепко, осторожно гладил ее волосы. И ей вдруг показалось, что здесь, в его объятиях, – дом, единственный дом, самый прекрасный из всех, единственное счастливое для нее место на свете. Так стояли они долго, слишком долго, неспособные разнять рук. До тех пор, пока Володя первый не опустил руки, словно очнувшись.
Таня заметила это, и это кольнуло ее в самое сердце. И тут же она отстранилась сама, пронзая Володю горящими, просто обжигающими глазами – так ее жестоко оскорбил этот невольный его жест.
– Таня! Что здесь произошло?
– Пожар. – Дрожь прошла, и от злости, что он всегда такой нерешительный, странный, чужой, Таня чуть ли не возненавидела его в эту минуту.
– Как пожар? Что произошло?
– Мало ли пожаров бушует на Молдаванке!
– Это связано с тобой?
– Может быть, – Таня снова сверкнула глазами, – а если меня хотели убить, то что?
– Ничего, – Володя был удивлен ее холодностью, – сейчас тебе тоже угрожает опасность?
– Не знаю, – Таня немного сбавила тон.
– Если тебе негде жить…
– Негде, – отрезала Таня.
– Ты можешь временно пожить у меня.
– А Циля с Идой? Они тоже остались без крыши!
– Все вместе мы в моей квартире не поместимся, – задумался Володя, – но я знаю, как поступить. Напротив моего дома в Каретном переулке сдается несколько подходящих квартир. Я сниму одну для вас.
– Ладно, – Таня немного потеплела, подумав, что спрятаться в Каретном переулке прямо напротив Володи – не такая уж плохая идея.
– Тогда пойдем прямо сейчас!
– Подожди. Я должна кое-что тебе рассказать. Очень важное. Я знаю, кто убийца с Привоза.
– И я тоже знаю! – воскликнул Володя. – Я видел архивы в тюрьме! Я поэтому к тебе и шел.
– Похоже, я тоже добыла часть этого дела, – улыбнулась Таня и в двух словах рассказала то, что произошло у Домбровского, конечно, опустив главные детали стрельбы, снотворного и того, зачем она пошла к нему на квартиру. Таня довольно элегантно соврала, что была в гостях, тайком подслушала разговор. А улучив момент, потихоньку забрала папку.
Володя, в свою очередь, рассказал о посещении тюрьмы. Поверил ли он в легенду Тани или не поверил, он не выдал ни единым словом.
– Значит, листки, которые мне удалось украсть, кто-то добыл из тюремного архива, – задумчиво сказала Таня, внимательно выслушав рассказ Володи. – Вот непонятно только, почему забрали именно их? На них не было имени!
– На уголовном деле было, – удивился Володя, – и это имя попадалось ни один раз. Это имя…
– Гоби Имерцаки, – сказала Таня, – тот самый человек, который спас Иду и других людей в квартире от погрома. Бедная Ида…
– Подожди… Как ты узнала имя, если его не было в твоих листках? – Володя с подозрением уставился на Таню.
– Догадалась, – улыбнулась Таня, – ну ладно, я видела его со спины и узнала. Именно он тайком требовал эту папку у хозяина дома. Их разговор я и подслушала. А потом узнала. Честно говоря, это для меня шок. Он казался мне таким хорошим человеком.
– Гоби Имерцаки – серийный убийца, который вышел из тюрьмы после взятия ее Японцем. Он не должен был выходить на волю. И он продолжил убивать сейчас. Это он, наш убийца. Дело закончено.
– Не совсем. Что мы будем с этой информацией делать?
– Пойдем к нему. Попытаемся поймать, – Володя выглядел воодушевленным, – а дальше будет видно.
– Это глупость – идти прямо к убийце в дом! – сказала Таня.
– А мы не будем его ни в чем обвинять сразу, просто пораспрашиваем про Дуньку-Швабру, – предположил Володя, – а там сориентируемся по обстановке. В крайнем случае, задержим его и сдадим Марушиной. У меня есть оружие. Я могу его задержать.
– Это выход, – согласилась Таня, – а вот если Марушина отпустит его, серийного убийцу, тогда… Тогда это будет для меня хорошо! У меня будут доказательства…
– Что ты имеешь в виду? – удивился Володя.
– Так, просто… мысли вслух… – пожала плечами Таня.
– Тогда идем! Или тебе сначала надо устроить своих в безопасное место?
– Они пока на квартире у моего друга. Это подождет. Идем, – Таня вдруг почувствовала, что в ней проснулся некий охотничий азарт. – Одно меня смущает… Когда он убивал раньше, не было мертвых младенцев! Почему?
– Не знаю. Выяснится, – сказал Володя, увлекая ее за собой в лабиринты рассветного города.
Переулок спал. Он выглядел сонным и днем, но в ранние рассветные часы это было настоящее сонное царство. Единственными обитателями были коты. Шныряя по окрестным дворам, они окидывали хитрыми горящими глазами случайных посетителей, забредших на их территорию. Коты чувствовали себя хозяевами этих мест. И, убедившись, что пришельцы не угрожают их привычной жизни, спокойно продолжали свой путь, бесшумно проскальзывая в тайные, только им известные лазы.
Несмотря на то что в переулке жили исключительно бедные люди (зажиточная мебельная мастерская была единственным исключением), никто не спешил в этот час на работу. Это означало, что обитатели переулка добывают себе пропитание хитрыми, только им известными путями – разумеется, нарушая любые законы.
Таня вспоминала то страшное утро после еврейского погрома, когда они вошли в переулок, чтобы узнать об Иде. Каким отчаянием переполнилось ее сердце, когда она поняла, что подруге угрожает беда! И какая радость охватила всю ее душу, когда узнала, что Ида спасена, что один очень хороший человек спас ей жизнь. Какая благодарность охватила ее! И вот теперь она снова шла к этому человеку. В этот раз затем, чтобы разрушить его жизнь.
Все это как-то не укладывалось в голове. На руках были доказательства, они с Володей точно знали, что Гоби Имерцаки – серийный убийца. Они понимали, что страшные убийства на Привозе – дело его рук.
Таня, внимательно выслушав рассказ Володи о страшном палаче в подземельях Тюремного замка, даже поняла, почему к трупам, разрезанным на куски, добавились мертвые младенцы. Это – первый печальный опыт с Розой Шип, которую Имерцаки убил совсем юным, плюс последствия пребывания в тюрьме, после которых его и так больная психика претерпела изменения в самую худшую сторону. Последствия тюрьмы стали необратимы, и он принялся убивать так, как убивал раньше, так, как убил Розу Шип. Тем более, что раздобыть ненужных, брошенных младенцев в таком гиблом месте, как Привоз, совсем не было проблемой.
Все было кристально ясно. Никаких сомнений. Единственный момент, который почему-то страшно беспокоил Таню, содержался в найденных ею документах, в той обгоревшей папке, которую с риском для жизни она случайно добыла в доме Домбровского. В этих листах, явно вырванных из официального уголовного дела, не было имени Гоби Имерцаки, ничего, кроме газетной статьи о смерти прачки и протокола допроса. Имени, имени не было! Так почему Имерцаки так хотел уничтожить эти листы? Почему Домбровский шантажировал его именно этими листками? Что в них содержалось такого, что ради них Имерцаки пошел на преступление, на взлом в чужой квартире, закончившийся убийством? Что содержалось в них тайного, не видного невооруженным взглядом?
Было понятно, что эти листки Домбровский специально вырвал из уголовного дела в архивах тюрьмы. Как военный комендант города, он имел доступ и к тюрьме, и к хранящимся в подземелье архивам. В деле же, которое видел Володя, постоянно звучала фамилия – Гоби Имерцаки. Так почему Домбровский вырвал из дела именно эти листки? Что же содержалось в них?
Пытаясь разобраться, Таня перечитывала их снова и снова, но ничего понять не могла. Это мучило ее, потому что не было объяснений. И мимо такого очевидно загадочного вопроса никак не мог пройти ее аналитический ум. Этот вопрос стал занозой, постоянно живущей в ее сознании. Но она не собиралась делиться им с Володей.
Пока же они быстро шли по переулку, не встретив никого, кроме котов. Мебельная мастерская располагалась на углу, в самом начале переулка. Но подойдя ближе, они остановились как вкопанные. У Тани вырвался легкий крик.
Мастерская была безжизненной и пустой. Вывеску сняли. Всю мебель изнутри вывезли. Сквозь большие окна просматривались голые внутренние помещения. Все внутри было пустым. Дом производил впечатление полной заброшенности. Возле крыльца ветер трепал остатки мусора – разжатую, рваную пружину, обрывки газет, куски пакли…
– Он выехал, – в каком-то трансе сказал Володя, – он выехал, и все бросил! Он понял, что кто-то идет по его следу. Вот черт!..
Таня тоже так думала. Она не сомневалась, что Гоби Имерцаки уехал после того, что произошло в квартире Домбровского. Скрылся в страшной спешке. Об этом свидетельствовало то, что он даже не закрыл ставнями окна, не запер как следует дверь, не повесил наружный замок. Похоже, он не собирался возвращаться. Возможно, он сбежал из-за этих документов. Или из-за того, что Домбровский узнал о нем правду. Не все ли равно…
– Мы его упустили… – Сосновский сжал кулаки. – Никогда себе этого не прощу! Он вырвался, ускользнул и теперь будет убивать дальше!
– Мы найдем его, – попыталась успокоить Володю Таня, – мы обязательно его найдем. Человек не иголка в стогу сена! Отыщем.
– Ты шутишь? – мрачно отозвался он, – Убийца столько лет прятался в Одессе, убивал, и никто не мог выйти на его след, и его не нашли. А теперь, когда он сбежал, возможно, сменил внешность и имя, не найдут и подавно! Все пропало!
– Давай войдем в дом, – предложила Таня.
– А зачем в него заходить? – Володя предавался отчаянию. – Теперь уже поздно!
– А вдруг он что-то забыл в спешке, и по этой мелочи мы его найдем, – сказала Таня, – или увидим какую-то зацепку. Глупо прийти сюда и не войти в дом. Хотя бы это мы можем попробовать.
– Как хочешь! – пожал плечами Володя. Ему не хотелось лезть в дом, он не видел в этом необходимости, но согласился исключительно ради Тани.
Таня же быстро вытащила из волос шпильку и склонилась над замком, вспоминая советы Шмаровоза. В этот раз открыть его было трудней. Таня возилась долго, но ничего не получалось. Володя заметно нервничал.
– Ладно, уходим. Значит, не судьба, – пытался поторопить он.
– Да здесь язычок замка сломан! Заскочил, – наконец определила Таня, – поэтому и не открывается. Сейчас я попробую по-другому.
Прошло еще минут десять. Володя стал совсем белым. Он страшно боялся, что кто-то появится в переулке и застанет их за этим неблаговидным занятием. Тем более, что бывшая мебельная мастерская располагалась на самом видном месте.
Но наконец замок щелкнул, с глухим стуком выплюнул какую-то мешавшую деталь, и Таня открыла дверь.
Первый этаж представлял собой абсолютно пустое пространство без единого предмета мебели. Пол был усыпан деревянными опилками и разным мусором. Было грязно и похоже на то, что действительно собирались в спешке. В глубине большого зала была деревянная лестница, ведущая на второй этаж.
– Пойдем туда! – скомандовала Таня, и Володе не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться.
– Ужас… – Володя поднимался по узким ступенькам пригнувшись – потолок был такой низкий, что вполне можно было расшибить себе голову.
Ступеньки скрипели под ногами. На втором этаже был спертый запах. Они вышли в узкий коридор, куда выходили две двери, одна напротив другой. Та что слева, была приоткрыта.
– Заглянем туда! – сказала Таня, почти порхая по коридору. Какое-то странное любопытство влекло ее вперед. Она решительно толкнула дверь и закричала.
Гоби Имерцаки в веревочной петле висел под потолком. Его босые ноги исполняли какой-то чудовищный танец в воздухе. Ветер раскачивал веревку, от чего она легонько поскрипывала. Тело тоже раскачивалось, и казалось, мертвец движется под потолком сам по себе, пытаясь знаками передать какое-то послание.
– О господи… – Володя бросился вперед, возле стены нашел перевернутую табуретку и, поднявшись, перерезал веревку. Тело с глухим стуком рухнуло на пол. Судя по состоянию трупа, Гоби Имерцаки был мертв уже несколько дней. Тело окоченело достаточно сильно.
Одет он был в ночную сорочку, почему-то разорванную на полосы на груди, и брюки. Ноги его были босы – ни ботинок, ни даже носков.
Глаза трупа были открыты, в них застыл какой-то непередаваемый, дикий страх. Исполненные ужаса, глаза уставились в одну точку. На лицо покойника нельзя было спокойно смотреть. Володя попытался закрыть ему глаза, но это было невозможно. Тело окоченело, и веки не двигались. Тогда он набросил на лицо носовой платок.
– Интересно, что он такого увидел перед смертью… – бормотал Володя. Но Таню интересовало другое. Она внимательно осматривала шею покойника, даже потрогала ее пальцами. Затем повернулась к Володе.
– Он не повесился. Его убили. Посмотри сам.
– Что ты имеешь в виду? – не понял Володя.
– На шее нет следов веревки. Нет странгуляционной борозды, – Таня вспомнила термин, который услышала от доктора Петровского. Тогда она описывала ему смерть Кати и старого фокусника в том периоде жизни, когда боролась с «красной дьяволицей» Марией Никифоровой. – А он должен быть… Черный или фиолетовый след на шее. Здесь его нет… – бормотала Таня. – А еще неестественный цвет лица. У тех, кто умирает от повешения, цвет лица становится темным, багрово-черным, потому, что перетягиваются шейные позвонки и смерть наступает от удушения… Какой цвет лица у него? – наконец взглянула она на Сосновского.
– Да обычный, белый, – он пожал плечами.
– Вот видишь! Кроме того, его брюки сухие и абсолютно чистые. А в момент повешения возникает дефекация. Все это должно остаться на брюках, должен быть ужасный запах. Ничего этого нет, – повторяла Таня то, что когда-то рассказал ей доктор Петровский. – Значит, он был мертв, когда кто-то подвесил его на веревке под потолком.
– Но отчего же он умер?
– Не знаю. Но точно не от удушения. И еще интересно – посмотри, как он выглядит. Как человек, который только что встал с постели и пошел кому-то открывать двери. А мебели в комнате нет. Вообще никакой, кроме табуретки. Думаю, и в других комнатах нет мебели.
– И что это значит? – спросил Володя.
– Возможно, его сначала убили, инсценировали самоубийство, а затем уже повесили под потолком и вывезли мебель. Я не знаю, почему так сделали. А может, мебель вывез он сам, хотел уехать, но зачем-то вернулся в дом, например, ночью с кем-то встретиться. Заночевал в пустом доме, здесь и встретил своего убийцу. Да, это вероятнее всего.
– Возможно, – задумался Володя, – но раз так, выходит, что убийца с Привоза не он! А убили его, чтобы никто не узнал о том, что не он убийца.
– Точно! – кивнула Таня. – Честно говоря, в то, что это он, я не верила с самого начала. Уж слишком все просто. Но вот теперь мы точно знаем одно: убийцу он узнал, причем без всяких сомнений.
– Давай попробуем его раздеть и осмотреть, – предложил Володя, – может, определим, как он убит.
– Давай ты. Я не могу, – отшатнувшись, Таня прикрыла глаза. Для ее нервов это было уже слишком.
Володя быстро приступил к делу – из своей полицейской практики он помнил, как осматривают трупы. Когда-то этому его учил опытнейший Егор Полипин. Пальцы Володи бегали по окоченевшему телу, он внимательно осматривал каждый сантиметр.
– Посмотри-ка на это! – наконец позвал Сосновский Таню.
Преодолевая отвращение, она склонилась над трупом. На молочно-белой груди покойника, покрытой редкими, жесткими, темными волосками, прямо под левым соском темнела маленькая багровая точка, словно след от булавочного укола. Точка была столь мала, что под ней даже не запеклись капельки крови.
– Похоже на укол каким-то острым тонким предметом, – предположил Володя, – шило, или толстая булавочная игла, или есть такая игла, ее называют цыганской. Если предмет был длинный, он достал до самого сердца. Вот от чего наступила смерть.
– Но как это сделали? Он же мог сопротивляться, а работа ювелирная! – засомневалась Таня.
Володя наклонился над трупом и понюхал его губы.
– Так и есть – чувствуется слабый запах алкоголя. Убийца положил ему снотворное в алкоголь, а когда он отрубился, нанес удар иглой в сердце, – довольный своей наблюдательностью, сказал Володя.
– Подожди, – внезапно Таня засунула руку в карман юбки и достала ту самую шпильку, которой пыталась открыть замок, приложила ее к точке на груди – совпадало идеально, – посмотри-ка на это!
– Матерь Божья! – прошептал Володя. – Его убили шпилькой для волос!
– Шпилькой для длинных волос, – поправила Таня. – Похоже, убийца позаимствовал ее у какой-то женщины. Или убийцей была женщина, что тоже вероятно. Для того, чтобы нанести спящему такой удар, много сил не требуется. Да и с тем, как подвесить тело, женщина справится.
– Ну надо же! Новый поворот, – Володя с изумлением уставился на нее.
– Ты помнишь, что было написано в документах? У него была жена! Может, его жена вернулась спустя столько лет и сделала это, чтобы отомстить за что-то?
Глава 22
Разборки с Пилерманом. Чей протокол допроса? Исчезновение бриллиантов
Старая пролетка тряслась по разбитой дороге, и Таня, свернувшись на сиденье в клубочек, прижималась к потрескавшейся коже обивки разгоряченным лбом. Дорога казалась ей бесконечной. В этот раз в пролетке она находилась одна, за исключением возницы, из-под кожаной тужурки которого грозно топорщились несколько заряженных пистолетов.
Стояла глухая ночь. Внизу, под дорогой, бились с грозным рыком свирепые валы ледяного моря. Но, несмотря на это, Таня с радостью выскользнула бы из пролетки на пустынный пляж. Ей предпочтительнее было находиться одной, в темноте, ночью, чем здесь. Но это были только мечты. Идти предстояло до конца. А потому, застыв, Таня сидела в пролетке, пытаясь унять головную боль. От напряжения голова раскалывалась постоянно. Особенно после того, как вместе с Володей они нашли труп Гоби Имерцаки. Это было ужасно. Все ее мысли спутала такая неожиданная смерть. Хотя, с другой стороны, Таня постоянно ожидала чего-то подобного. Она так до конца и не поверила в то, что Гоби Имерцаки был убийцей с Привоза.
Море было беспокойным. Начинался шторм. В детстве Таня страшно боялась шторма на море – с ужасом прижималась к бабушке и, вся дрожа, прятала голову в ее коленях. Став взрослой, она так и не смогла понять свой детский страх, но он прошел. И теперь она вдруг почувствовала, что больше не боится шторма. Любой шторм гораздо предпочтительнее того, что ее ждет.
Пролетка тряслась по Фонтанской дороге к одной из вилл, где с комфортом прятался Японец. После пропажи бриллиантов у Домбровского в городе начался слишком большой шухер, и Мишка Япончик уже не рисковал показываться в ресторане «Ампир».
После того, как они вышли из мебельной мастерской, Володя повел Таню в Каретный переулок, где, заплатив домовладельцу, снял для них уютную трехкомнатную квартиру на втором этаже. Квартира была удобной, комнаты – большие и светлые. Особенно радовала ванна. Потом Володя помог Тане перевезти от Шмаровоза Цилю с Идой и Маришкой. Таня совершенно не возражала и с радостью принимала его помощь. Только теперь она стала осознавать, насколько устала, и находилась словно в каком-то полусне.
Циля с Идой пришли от новой квартиры в восторг. Единственное, что беспокоило, это пропажа вещей. Но Таня сказала им, что они все очень скоро купят.
На самом деле сказать было легче, чем сделать. У Тани остались только те деньги, которые она отложила для платы Марушиной, так как она хранила их в магазине. Все остальные ее сбережения исчезли в огне. Однако Таню это почему-то совершенно не беспокоило. Единственная вещь, из-за потери которой она немного грустила, был красивый красный костюм, который она носила так не долго. На все же остальное ей было плевать.
Едва Таня устроила своих подруг на новом месте и отправилась в магазин, как минут через десять после того, как она открыла дверь, появился мрачный Туча, полностью соответствующий своей кличке.
– Японец рыщет тебя по всему городу, – хмуро сказал он, – какой шухер ты натворила?
– Из-за твоего Японца мой дом сожгли, – огрызнулась Таня.
– Знаю, все знаю, – Туча махнул рукой, – весь город знает, и Японец тоже. Это Дикая сотня Домбровского постаралась.
– Ничего подобного! – Таня в ярости уперлась кулаками в бока. – Домбровский и его люди близко не подходили к моему дому! Так ему и передай! Я знаю, кто это сделал. Вот сама Японцу и скажу.
– Скажешь, за тем и приехал, – вздохнул Туча, – вечером Японец пришлет за тобой человека сюда. Поедешь с ним. И без шуток. А я так, забежал тебя предупредить.
– Предупредить? – Таня почувствовала предательский холод в сердце, от которого сразу заледенели руки. – Ты хочешь сказать… Японец собирается меня убить?
– Тьфу, глупость! – Туча сплюнул сквозь зубы. – Да у тебя совсем мозги за уши завернулись! Замолчала бы за свой рот! Сама натворила грандиозный шухер, так сама еще за то спрашиваешь! Вот и расскажешь Японцу, что почем.
Таня не поверила Туче. Но когда за ней зашел мрачный, до зубов вооруженный тип, без слов села к нему в пролетку. Оставалось только покориться своей судьбе – что бы ни произошло.
Японец ждал ее на вилле. Когда Таня вошла в комнату, он расхаживал туда-сюда вдоль больших панорамных окон гостиной, что было совершенно не свойственно ему. Окна выходили в темноту. Сквозь них доносился грозный шум штормового моря.
– Шо за шухер по всему городу – взрывы, трупы, а я ни за зуб ногой? – крикнул, обращаясь к Тане, Японец. – Шо ты натворила? Я велел тебе сделать чистый, изящный хипиш, а не поднять на уши весь город! Теперь Домбровский обложил меня, как зверя!
– Меня хотел убить не Домбровский. Это не Домбровский взорвал мой дом. Дом уничтожил Пилерман. Нанял людей. Он хочет меня убить. И это всё на его совести, – Таня спокойно, беспристрастно встретила сердитый взгляд Японца, – я тут вообще ни при чем. Дело провалил Пилерман, а теперь хочет избавиться от меня, как от свидетельницы.
– Шо за… – Японец выругался.
– Я правду тебе говорю! Ты знаешь меня – я всегда говорю правду.
– Так, – Японец с размаху плюхнулся в плюшевое кресло, – рассказывай за всё. Говори.
Таня опустилась на край дивана напротив и принялась говорить. Говорила долго, рассказывала все без утайки. Не забыла и про папку, сказав Японцу, что она понадобилась для розыска убийцы с Привоза. А убийцу с Привоза найти необходимо, так как это самый лучший компромат, который только может быть.
К концу ее рассказа Японец несколько успокоился, стал задавать уточняющие вопросы, а затем сказал:
– Значит, просто совпало. Вы зашли в левый момент. Этот ваш… как его… охотился за папкой, а тут вы все подвернулись… А Пилерман вместо того, чтобы тихо все провернуть, вляпался в стрельбу. Бриллианты где?
– В надежном месте. Привезу, как скажешь. Но тебе. Не Пилерману.
– Ты зря на него шумишь. Все-таки это не он. Вот, полюбуйся, – из кармана пиджака Японец достал какую-то бумажку и бросил Тане на колени.
Это была листовка о розыске особо опасной преступницы и портрет Тани в образе блондинки, который подготовил для розыска Домбровский. Таня усмехнулась.
– Домбровский расклеил это по всему городу, – сказал Японец, – конечно, тут тебя не узнать. Кстати, это принес мне Пилерман. Он же сказал, что для того, чтобы бросить бомбу в квартиру, люди Домбровского наняли одного из наших, Яшку Лысого.
– Я видела Яшку Лысого, – кивнула Таня, – надо его найти и спросить, кто его нанял.
– Не получится, – мрачно произнес Японец, – его застрелили сегодня днем. Похоже, попал в перестрелку.
– Это Пилерман его убил, чтобы он не рассказал правду!
– Послушай, Пилерману незачем тебя убивать, – сказал Японец, – бриллианты все равно ему не достанутся. Они мои. И в твоей смерти для него нет никакого смысла. А вот для Домбровского – есть. Домбровский прямо заинтересован в том, чтобы тебя убрать. Не арестовать, а именно убрать, так как ты знаешь за бриллианты. Он же получил их тайно, никто не знает об этом. Поэтому его люди вполне могли тебя выследить.
– И узнали дом, где я живу, и кто я такая, – сказала Таня. – Тогда почему они не бросили бомбу в мой магазин?
На это Японцу нечего было ответить.
– А я скажу тебе почему, – продолжила Таня. – Потому, что Пилерман ничего не знает о магазине, а о том, где я живу, знают все уголовники Одессы, в том числе и Яшка Лысый. Вот он и привел людей Пилермана к моему дому. А про лавку мало кто знает. Но если бы за мной следили люди Домбровского, они бы выследили.
– Ладно, – было видно, что разговор этот стал Японцу надоедать, – я поговорю с Пилерманом. Никто тебя больше пальцем не тронет. Но я не хочу больше этих свар. Я не хочу, чтобы вы вдвоем подняли на уши весь город. Закатили шухер, нечего сказать! Я работаю с Пилерманом, и дальше буду с ним работать. А когда ты заловишь Марушину, поставлю его над Привозом. Тебе лучше держаться от всего этого в стороне. А за тебя я так скажу: занимаешься Марушиной, и занимайся ею дальше. А куда не надо – не лезь. Вот про убийцу с Привоза ты ловко придумала! Как думаешь делать теперь?
– Помощь твоя нужна, – сказала Таня, – одного человека найти надо. Этот человек знает правду про того, кто сидел на Александровской каторге по уголовному делу. И кого там обвинили в убийствах заключенных. Большевичка. В Одессе она держала ресторан «Карета Катерины». Но не долго. Ресторан сгорел. Ее зовут Катерина Мещерякова. Я узнала о ней, когда искала что-то на «красную дьяволицу» Никифорову. И вот эта Мещерякова говорила мне, что судили ее в городе Александровске, и некоторое время она сидела на Александровской каторге до отправки в Новинскую тюрьму. А как раз в это время там находился тот человек, убийца. Мне ее расспросить надо.
– «Карета Катерины»… – задумался Японец, – помню, был ресторан. И бабу ту знал. Но сейчас ее нет в Одессе. Уехала она давно из города. А куда уехала – и сам черт не знает!
– Ты же связан с большевиками, – прямо сказала Таня, – ты поставляешь им оружие. Помоги мне ее найти.
– Ишь, шустрая, – прищурился Мишка, – все-то ты знаешь! А ты уверена, что дамочка эта знает убийцу? Не хотелось бы лезть к Соколовской по пустякам. Еще та барышня… Меня от нее аж всего передергивает!
– Конечно, я не могу быть твердо уверена, – сказала Таня, – но я подозреваю, что знает. Должна знать.
– Ладно. Попробую выяснить. Если оставишь в покое Пилермана и не будешь за него языком болтать.
– Если он больше не тронет меня, – веско ответила Таня.
– Не тронет. Я обещаю. А ты знаешь, за мое слово закон. Ты мне лучше вот что скажи: этот тип, убийца, еще в городе?
– Точно в городе, если убил Имерцаки, который знал его в лицо.
– А Марушина не сделала никаких попыток его найти. Да если я выложу все это Ревкому ихнему и дамочке Соколовской, ей явно не поздоровится! – довольно прищурился Японец.
– Ты сможешь выложить, когда я найду убийцу. Ты прямо скажешь, кто он.
– Я ведь тут видел кое-что… – вдруг задумчиво проговорил Японец, – вспомнил… может, тебе пригодится. В общем, в тюрьме я видел одну страшную вещь.
– Какую? – насторожилась Таня.
– Спустились мы в подвал, как тюрьму взяли. Ребятам камеру хотел показать. Держали меня там, в подвале, так вот… Спускаемся мы, значит, все в фасоне, а тут двое моих выскакивают… Глаза за уши завалились… аж зубы выпучили… и блеют, как швицеры под Привозом… Я им говорю: шо за черт вам уши на гланды натянул? А они: там, там… Ну, мы глаза в руки, да пошли за ту картину маслом взглянуть. А там – сундук. И внутри – детские трупики… Доверху почти… У меня аж в печенках заскворчало… Как вспомню – жуть… Мне потом рассказали, что начальник тюрьмы нанял пожизненного убийцу, шоб от незаконных младенцев так избавляться… Тот и делал за привилегии… А потом в город вышел… Мы его как бы выпустили… Зверье такое… Он и делов наделал… В смысле, этих, на Привозе.
– Жаль, что ты не спросил его имя, – сказала Таня.
– Я спрашивал! Так никто его и не знал. Говорили разное. Но толком даже описать не могли. Какой, мол, из себя. Словом, чушь получилась. Ничего хорошего. Мы же не знали, шо сидит такое в тюрьме. Я ж не знал…
– Одно понятно – это не уголовник.
– Не! Наши боятся таких, как диких зверей. Пристрелят скорей, чем за своего примут. Дело вора – это одно. У вора свой путь. Он вредный, но он такой. А это вроде как и не человек даже. Страшно на него смотреть. О чем думает, не понять. Как животное какое-то в людском обличье. Нет, ты все-таки найди эту тварь. Марушина его не тронет – я займусь. Нельзя, чтобы такое по земле ходило. И в тюрьму его тоже нельзя, ведь из тюрьмы можно выйти. А мои люди им займутся… И скажу тебе – благое это будет дело. Так шо ищи зверюгу. А как найдешь – сразу ко мне.
Темная глухая ночь стояла над городом. Ночь, в которой не было даже звезд. В комнате своей новой квартиры, в неярком свете зажженного камина, Таня сидела на кровати, разложив перед собой все бумаги из тюрьмы. Получилось целое море бумаг, бумажное покрывало, шуршащее от малейших движений. Фантазия Тани пошла дальше, и она вообразила, что бумагами обклеена вся комната, даже потолок и стены, а она задыхается в этом бумажном плену.
Но это была только фантазия. Страшная, как и всё, что окружало ее. Прогнав усталость и сон, Таня внимательно вчитывалась в каждую строчку.
И внезапно к ней пришла очень интересная мысль. А ведь на самом-то деле в протоколе допроса, который она читала с таким рвением и который она безоговорочно приняла за допрос Имерцаки, совершенно не ясен пол собеседника, его имя. Это может быть кто угодно. Вопросы следователя общие, они не определяют пол того, к кому обращены. А ответы еще более безлики – опять-таки, за ними совершенно скрыта личность человека.
А что, если это не допрос Имерцаки? Что, если на вопросы отвечает кто-то другой? Но этот человек должен быть очень важен для Имерцаки, если тот хотел забрать эти документы с риском для жизни. Имерцаки не только знал, кто убийца, но и был связан с ним достаточно тесно. Может быть, родственник, например брат?
Если предположить, что это совсем другой человек отвечает на вопросы следователя, тогда многое становится ясным. Мысль была интересной. Таня остановилась на ней. Но это была не единственная светлая мысль.
Мысль, которая пришла позже, была так же неожиданна: что, если Роза Шип была как-то связана с Имерцаки или была свидетельницей его преступных наклонностей? Гоби Имерцаки появился в Одессе в 1895 году. В этом же году была убита Роза Шип. А если это было его рук дело, если он связался с Розой, а потом расправился с ней?..
Но тогда возникает важный вопрос: почему в одном случае рядом с трупом появлялся мертвый младенец (Роза Шип, три жертвы на Привозе), а в других случаях – прачка Семашко, Анна Черткова и еще две безымянные девушки, которых убили до них? Неужели убийц двое? Или они были как-то связаны между собой? По какой причине убийства, похожие в подробностях, отличались в такой важной детали?
Таня подумала о том, что Володе обязательно нужно снова появиться в тюрьме и найти в архиве документы о Розе Шип, внимательно еще раз ознакомиться с ее делом. И сделать это именно в тюремном архиве, а не в полицейском, где он, собственно, и нашел упоминание о далеком убийстве! Ведь тюремный архив про Розу Шип он еще не смотрел. А значит, можно обнаружить много интересного.
Думая обо всем этом, Таня сидела над бумагами всю ночь. Она чувствовала, что разгадка где-то очень близко, может, даже в этих документах. Чутье подсказывало, что очень важной в поиске убийцы с Привоза может оказаться линия Розы Шип. А чутье редко Таню подводило. Может, в этом звене крылось хоть что-то?
На следующий день почти сразу, с утра, едва Таня появилась в лавке на Привозе, к ней явился посыльный от Японца. Он приглашал ее на встречу в ресторан «Ампир». Таня подумала, что раз Японец больше не прячется, дела его пошли в гору.
В ресторане было многолюдно, но Таню сразу провели в отдельный кабинет. Японец ее уже ждал. Выглядел он добродушным.
– Ну шо тебе сказать за жизнь, – усмехнулся Мишка, – задала ты мне задачку, найти эту дамочку с Александровской каторги.
– Ты ее нашел? – удивилась Таня.
– Конечно нашел, – снова усмехнулся Японец.
– Где она живет? Когда я смогу с ней встретиться? – засыпала его вопросами Таня.
– Где живет, вот так сразу… В земле!
– Что? – не поняла Таня.
– Умерла твоя дамочка. И умерла, кстати, в одесской тюрьме. Ей сокамерницы перерезали горло.
– Как это? Когда? – от лица Тани отхлынула вся кровь.
– В начале 1919 года. В тюрьму она попала при французах. Когда французы были в городе, поймали ее за фальшивые деньги и спекуляцию поддельными бриллиантами. Глупо работала, грубо. Не имела связей, не умела маскироваться и заметать следы. Вот ее и зацапали. Поместили в тюрьму, а там, в камере, у нее с сокамерницами конфликт произошел. Приставать она стала к одной дамочке, а за той вовсю другая заключенная ухлестывала. Словом, та, другая, раздобыла где-то бритву и перерезала Мещеряковой горло от уха до уха, пока та спала ночью. Та умерла на месте. Вот, собственно, и все.
– Ох, как жаль… – расстроилась Таня, – что же теперь делать…
– И еще есть одна новость – такая же неприятная для тебя. Гоби Имерцаки никогда не сидел на Александровской каторге.
– Ты серьезно?
– Да уж серьезней некуда! Мои люди узнали. Не сидел он там. Другой это был кто-то.
– Вот тебе и раз, – удивилась Таня, – значит, другой.
– Появилась тут у меня одна мысль. А что, если тебе найти акушерку?
– Кого? – удивилась Таня. – Вообще не понимаю, о чем ты.
– Ну, акушерку в тюрьме, которая тех младенцев принимала. Я же тебе рассказывал про мертвых младенцев! Они же не сами на свет появлялись, их кто-то принимал. И только потом их уносили к тому зверюге. А акушерка должна была знать, к кому, может, она сама и относила. Так что попробуй разузнать.
– Это мысль! – Тане было даже обидно, что она сама не додумалась до этого раньше.
– Да, и еще. Собственно, главное, зачем я тебя позвал. Завтра, к этому же часу, принесешь мне сюда бриллианты.
– Хорошо, – кивнула Таня.
– Ну, тогда лови своего убийцу! – рассмеялся Японец.
Таня вышла из ресторана с каким-то странным, тревожным чувством. Прошла через общий зал, вышла на улицу. Внезапно она ощутила чей-то взгляд – колючий, недобрый взгляд уставился в ее спину. Таня обернулась. Никого. Вся улица вокруг была абсолютно пустынной.
Таня прошла несколько шагов вперед. Ей снова почудилось это ощущение – более того, оно просто ее обожгло. Ей даже послышались шаги, которые смолкли внезапно, едва она остановилась.
Ее пронизала мелкая, противная дрожь. Кто же следит за ней, кто идет за ее спиной? Таня как могла ускорила шаг и вышла на Екатерининскую площадь, где гуляли люди и даже были зажжены фонари. В толпе она немного успокоилась. Теперь самое время было обдумать слова Японца.
Ночной Привоз был пуст. Ворота закрыты. Но Таня с легкостью обошла их и вышла туда, где не было никаких заборов – ворота были лишь декорацией, на самом деле пройти мимо них было довольно легко.
Крадучись, Таня быстро прошла вдоль всего рынка, обогнула свою запертую лавку и двинулась мимо пустых торговых рядов. Все было тихо, только юркий кот шмыгнул из-под ее ног и тут же растворился в темноте.
Вот и лавка Кацмана. Она была крепко заперта и не освещена. Крыльцо находилось в тени. После смерти старика дела обстояли неважно, сын не справлялся, и лавка приходила в запустение. Таня быстро нагнулась, залезла под ступеньки, засунула руку в щель. Бриллиантов в тайнике не было.
Глава 23
Свеча в окне. Убийство Шмаровоза. Сестра Яшки Лысого. Тайник убийцы
Пламя свечи дергалось в мутных, давно не мытых окнах. Глядя на яркий фитиль, напоминающий мотылька, Таня ощутила суеверную дрожь.
Было что-то до ужаса тревожное и опасное в этом тоненьком огоньке, метавшемся в темноте. Таня прислонилась к шершавому ракушняку стены напротив и крепко, до хруста, сжала в кулаки пальцы. На церквушке поблизости глухо, с уханьем, ударил колокол. Пробило полночь.
Темнота ложилась слоями на немощеный, старый двор. Окна были темны – дом, где жили бедняки, погружался во тьму рано. Таня слышала, что совсем недавно здесь, в окрестностях Молдаванки, возле железнодорожной насыпи, снова открылись две фабрики и несколько кустарных артелей. Жители бедных предместий потянулись туда на работу, чтобы в страшные и смутные времена не остаться без куска хлеба. Все вернулось на круги своя.
Таня ждала. Пламя свечи металось по-прежнему. В этом доме жили, похоже, те, кто вернулся работать на фабрики. В полночь во дворе царила сплошная густая темнота. Окна всех остальных квартир были темны. И только два окна на первом этаже являли собой страшную, тревожную картину. Но огоньки в грязных окнах были не знаками жизни. Это был страшный знак смерти. Таня научилась его отличать.
До этих огоньков пламени прошло меньше часа, а Таня уже прожила всю свою жизнь – с того страшного момента, как обнаружила пустоту в тайнике, до панического бегства в дебри Молдаванки, к дому своего верного (может быть, вообще единственного) друга.
Было сложно передать словами то, что ощутила она в тот момент, когда, засунув руку под ступеньки лавки Кацмана, ощутила там предательскую, страшную пустоту. Первая мысль была о том, что она ошиблась местом. Принялась шарить по всем ступенькам, и под ними, на земле, в грязи – ничего, кроме всякого бесполезного мусора, например, деревянных щепок. Бриллиантов не было.
Закрыв перепачканными руками лицо, Таня рухнула на землю и горько заплакала. Слезы ее поглотила густая темнота.
Пилерман ее выследил и забрал бриллианты. Кто-то следил за ней и этот кто-то донес. Это конец. Завтра к вечеру она не принесет бриллианты Японцу, и Японец подумает, что она решила его кинуть. Хуже этого просто ничего не может быть.
Страшней всего то, что Японец заподозрит ее в подлости – ее, никогда не совершавшую подлых поступков и никогда не предававшую своих. Жить с таким ощущением будет ужасно. Да и кто позволит ей после всего этого жить? Все это было намного хуже смерти. И Таню не столько пугала мысль о том, что ее убьют, сколько та негативная слава, которой будет покрыто ее имя после такого поступка. Мысль о том, как станет думать о ней Японец, была хуже всего.
Этого хватило, чтобы Таня взяла себя в руки и, сев прямо под ступеньками, принялась думать, обхватив голову, гудящую, как котел.
Итак, Пилерман и его люди. Такие же, как и Яшка Лысый, который уже отправился к праотцам. Кто-то из его людей засек ее возле горящего дома и шел по ее следам. Он видел, как, отправив Рульку Кацапа, она бросилась к Привозу, чтобы перепрятать бриллианты. А затем, посмеявшись над дурой, лихо вынул бриллианты из тайника.
Пожар, поджог… Ей чудом удалось спастись. Да, но кто предупредил ее о том, что она на пороге смерти, что за нею скоро придут убийцы? Шмаровоз и Рулька Кацап. Быстрая мысль обожгла, как ожог. Значит, у Шмаровоза и Рульки был выход на людей Пилермана, если они узнали о его планах. А раз так, необходимо как можно скорей этот выход найти. Где живет Рулька Кацап, Таня не имела ни малейшего представления, она находила его в одном из кабачков возле Привоза, где часто встречалась со своими людьми. Идти туда открыто было опасно – в кабачке полно людей, откуда знать, кто будет среди них? Можно напороться и на людей Пилермана, и на засаду Домбровского, тогда все точно будет провалено. Нет, она не знает, где обитает Рулька Кацап. Но она прекрасно знает, где живет Шмаровоз.
Вскочив на ноги, Таня помчалась в темноту так быстро, что у нее закололо в груди. Ее отчаянный бег скоро поглотила беспросветная темнота Молдаванки.
Таня пробежала мрачную ограду Первого Христианского кладбища, свернула на Болгарскую и углубилась в знакомые лабиринты, в немощеные дороги района. Под ногами хлюпала знакомая грязь.
Таня больше не боялась ни темноты, ни мрачных теней, которые подстерегали ее в глубинах дворов. Страх, рвущий ее сердце, был такой силы и мощи, что по сравнению с ним как-то меркли, терялись мрачные силуэты воров и пьянчуг. Воры были свои – достаточно было одного знакомого знака, жеста, принятого в одесском воровском мире, чтобы ее не тронул никто из всех существующих банд. Что же касалось пьянчужек, они были для нее безобидны, и Таня умела справляться с ними еще с тех далеких времен, когда она не имела никакого отношения к воровскому миру, а работала прачкой у купчихи и думала о том, как заработать на лекарства для больной бабушки.
Темнота словно хранила ее, была единственным и верным союзником. Так, без всяких приключений, Таня добежала до дома Шмаровоза и, не снижая скорости, ворвалась во двор.
Пламя свечи металось в темных окнах квартиры Шмаровоза на первом этаже, похожее на страшных призраков, воскресших из самого ада. Таня застыла на месте.
Этот страшный знак, знак чужого человека, который рыщет в квартире Шмаровоза, для чего воспользовался свечой, был знаком смертельной опасности. Затаив дыхание, Таня прижалась к стене напротив и стала смотреть. В квартире мог быть кто угодно. В любой момент могли раздаться выстрелы, даже в ее спину. После того, как ее уже выследили с бриллиантами, Таня не была ни в чем уверена.
Оружия у нее не было. Да и пользоваться им она не умела. Таня до сих пор боялась оружия до полусмерти и с ужасом вспоминала тот момент, когда разряженным наганом угрожала Ваське Черняку.
Оставалось ждать и никак не выдать своего присутствия. Что бы ни искали эти люди в квартире Шмаровоза, ее друга там явно не было.
Прошло минут десять после того, как пробило полночь. Где-то в глубинах двора громко хлопнула дверь, раздался болезненный, хриплый мужской кашель. Таня разглядела сгорбленный силуэт мужчины, который, согнувшись, кашлял на крыльце и сплевывал в темноту. Судя по кашлю, он был на последней стадии чахотки. Бедняки Молдаванки не жили долго, умирая от болезней чаще, чем от пули в перестрелке.
Наконец кашель стих. Снова скрипнули двери, и вдруг раздался звук шагов. Таня до рези в глазах всматривалась в темноту. Зашуршали юбки, в подворотне появилась пьяная девица, от которой страшно несло сивухой. Чтобы не упасть, девица держалась за стены, но ноги ее разъезжались в жидкой грязи. Один раз не удержалась, не успела уцепиться за стенку, плюхнулась в грязь. Смачно выругалась сочным, трехэтажным матом, визгливо расхохоталась, затем снова поднялась на ноги и даже принялась отряхивать от грязи свои юбки! Сколько видела Таня не своем веку таких жалких сцен!
Наконец девица доплелась до своей парадной, свалилась на крыльце, заползла внутрь. Дверь хлопнула. Снова разлилась тишина. Пламя в окнах квартиры Шмаровоза металось по-прежнему. Тане было страшно.
Никогда особо она не верила в призраков, твердо зная, что самые страшные призраки живут среди людей. Но тут впервые в душе ее что-то дрогнуло, и в памяти разом всплыли все самые страшные рассказы местного фольклора о загубленных душах, о призраках-убийцах, поднимающихся на землю из мрачных подземелий катакомб и в ненастные ночи рыщущих в темноте. А вдруг в окнах квартиры Шмаровоза пламенем догорающей свечи металась чья-то загубленная душа, когда-то умершая в этом доме, и искала, за что зацепиться, чтобы вернуться в навсегда потерянный мир?
На какую-то долю секунды ужас сковал ее тело, и Таня не могла пошевелиться. Чтобы не вглядываться в страшную темноту, даже закрыла глаза. Когда же открыла их, пламени свечи в квартире Шмаровоза больше не было. Окна были безжизненны и темны.
Но от этого стало еще страшней. Как вышел тот, кто зажег эту свечу, если двор был по-прежнему темным и пустым, а вокруг не хлопнула ни одна дверь? Неужели призрак-убийца действительно загубленная душа? От этой мысли у Тани заледенела кровь.
Но потом она вдруг поняла: лабиринты Молдаванки были застроены так хаотично и так густо, что большинство квартир имеет несколько выходов, часто даже на разные улицы. Иногда жильцы закрывают другие двери, заваливают камнями и забивают досками. Но если жильцы связаны с криминальным миром, то несколько выходов оставляют. Таня вспомнила, что в квартире Шмаровоза тоже был второй выход на другую улицу, как когда-то в квартире Геки на Госпитальной. Она ведь была у Шмаровоза не раз. А раз так, тот, кто принес свечу, ушел через этот выход.
Не теряя времени, Таня ринулась в квартиру. Дверь была полуоткрыта. Таня почувствовала, как глухо, тяжело забилось ее сердце.
В темной прихожей на стене висела керосиновая лампа, сбоку стоял комод. Она нашарила коробочек спичек под всяким хламом, наваленным на комод, зажгла лампу.
Свет лампы осветил страшный беспорядок, как будто в прихожей происходила страшная борьба. Из комнаты вдруг послышался стон.
Шмаровоз лежал на полу на спине, вытянувшись в струну. Руки его, уже утратившие силу, были безжизненно опущены вдоль тела. Горло Шмаровоза было перерезано от уха до уха, и под телом успела натечь огромная лужа почти черной крови, такой густой, что казалась твердой.
Глаза Шмаровоза были открыты, он был еще жив. Таня бросилась к нему, упала на колени прямо в лужу черной крови. Шмаровоз хрипел. Кровь толчками вытекала из страшной раны на горле. Вместе с ней уходила жизнь.
С ужасом Таня подумала, что не знает его имени. Все называли его Шмаровоз, только Шмаровоз. А между тем он был человеком, у него было человеческое имя, данное ему при рождении… И вот теперь уже поздно узнать…
Он был ее другом, этот старый взломщик, вор от рождения, под конец жизни твердо решивший порвать все связи с криминальным миром и начать новую жизнь. Он мечтал об этом, увидев слишком много горя на обломках крушения старого мира, в котором больше не было места ему и таким, как он.
Но судьба не дала ему этого шанса. Он был рожден вором в лабиринтах Молдаванки и в лабиринтах судьбы. Но Таня знала – он был вором с самым честным, порядочным сердцем, золотым сердцем настоящего друга. И вот теперь он уходил точно так же, как уходили из ее жизни почти все.
Страшную рану в горле нельзя было закрыть. Таня попыталась согреть его руки, зажав их своими ладонями, но это было бесполезно. Ледяной холод, признак смерти, уже сковывал его тело, погружающееся в вечный ледяной плен. Шмаровоз хрипел, губы его двигались. Внезапно Таня поняла, что он пытается что-то сказать. Она нагнулась совсем низко к его губам. Предсмертное хрипение складывалось в слова. Шмаровоз повторял одно только слово:
– Стекло… стекло…
Глаза его были направлены строго в одну точку. Шмаровоз пытался дать ей знак.
– Стекло… – хрипение усилилось, и Таня вдруг ясно различила новое слово: – лавка…
После этого уже ничего нельзя было разобрать. Тело Шмаровоза задрожало, дернулось, вытянулось в агонии. Из разрезанного горла вырвался последний кровяной толчок. И Шмаровоз замер, с широко открытыми стекленеющими со странным выражением глазами, там застывала самая настоящая грусть.
Таня проследила направление его взгляда. Мертвые глаза Шмаровоза были направлены на противоположную стенку. Там висела картина – дешевая литография, изображающая берег моря. Таня решила подойти поближе и посмотреть.
Она отодвинула в сторону дешевую деревянную рамку, и на ее ладонь вдруг выпала какая-то бумажка. Таня развернула ее. Это был обрывок страницы из иллюстрированного журнала. На картинке был портрет бывшего императора Николая Второго на фоне имперского российского флага. Таня задумалась.
Что пытался ей сказать Шмаровоз? Император? Бывший император, кто-то бывший – в чем?.. Мужское имя Николай?.. Все это ей ни о чем не говорило. Что тогда – российский флаг?
И внезапно Таню осенило – ну конечно российский флаг! Это же Рулька Кацап! Рулька, который приехал из России! Таня вспомнила, зачем шла к Шмаровозу – узнать о том, как он и Рулька вышли на людей Пилермана. И Шмаровоз перед смертью пытался указать ей на Рульку Кацапа! Ну конечно, только Рулька мог знать, где искать Пилермана!
Таня лихорадочно думала… Рулька Кацап, стеклянная лавка… А что, если перед смертью Шмаровоз дал ей адрес Рульки? Неужели его убил Рулька? Это было бы слишком ужасно… Но зачем? Зачем Рульке убивать Шмаровоза? Таня не могла это понять.
Зато в ее памяти возникло другое воспоминание: осколки фарфора на коже трупа Ираиды Стекляровой. Это обнаружил профессор судебной медицины, исследуя труп. Неужели зацепка? У Тани перехватило дыхание! А что, если…
Носовым платком она прикрыла лицо покойного друга, чтобы больше не видеть страшного взгляда этих глаз, нацеленных в пустоту. Сердце ее обливалось кровью. Сколько же бессмысленных, жестоких потерь! Кровь вокруг, ничего, кроме крови, и ничего, кроме смертей. Тане хотелось кричать, но она не могла выдавить из себя ни одного звука. Только горячие, обжигающие слезы текли по ее щекам.
Таня последний раз посмотрела на тело Шмаровоза, мысленно попрощалась с ним и, аккуратно прикрыв за собой дверь квартиры, выскользнула в беспощадную темноту.
И только на улице, немного прийдя в себя после ночного страшного бега, она вдруг поняла, о какой стеклянной лавке говорил Шмаровоз. Это была самая настоящая стеклянная лавка на Новорыбной улице возле Привоза, которую держала родная сестра Яшки Лысого. Все воры знали это место, потому что сестра Яшки Лысого занималась скупкой краденого. Это было ее настоящее занятие под официальным – торговлей посудой. Таня бросилась туда.
Лавка была темной, свет нигде не горел. Над дверью красовалась яркая вывеска «СТЕКЛО ПАСУДА» – вполне нормальная как для Привоза.
Таня вспомнила сестру Яшки – толстую голосистую бабу с ярко-красными щеками. Ей было под 60, и вряд ли Шмаровоз или Рулька Кацап могли испытывать к ней нежные чувства. Почему же Шмаровоз указал на нее?
Таня толкнула дверь магазина – заперто. Дом, в котором он находился, был одноэтажный, с покатой крышей, стоящий как бы на отшибе, отдельно. Она завернула за угол и увидела еще одно окно.
Не долго думая, Таня обернула руку шалью, которую сняла с головы, и стукнула по стеклу. Звон был оглушительный, но в окне образовалась довольно большая брешь. Засунув руку, она отперла задвижку и, открыв окно, влезла внутрь.
Таня оказалась в узкой кухоньке, заваленной грязной посудой с остатками еды и пустыми бутылками. Судя по всему, сестра Яшки Лысого тоже жила здесь.
Из кухни в дом вел коридор. Слева был проход в лавку, а справа находились две комнаты. В одной явно жила сестра Яшки Лысого. В другой, скудно обставленной железной кроватью, сломанным комодом и единственным стулом, Таня обнаружила лежащий под кроватью чемодан. Там были мужские вещи – дешевые, поношенные, самого плохого качества. На комоде лежали бритвенные принадлежности. А в ящике комода, под ворохом полотенец, Таня обнаружила новенький, еще блестящий наган.
По всей видимости, сестра Яшки Лысого сдавала комнату внаем кому-то из бандитов, знакомых своего брата. Судя по комплекции и возрасту хозяйки дома, любовник исключался. А вот платный жилец – нет.
Вещи были безликие. Определить по ним личность было невозможно. Таня тщательно обыскала комод – никаких документов, ничего, что могло указывать на жильца. Кроме нагана, ничего интересного не было. Но Таня боялась прикасаться к оружию. Она даже не стала брать его в руки. Задвинула ящик и пошла в лавку.
Сестра Яшки Лысого лежала за прилавком, на спине, точно так, как лежал Шмаровоз. И горло ее было разрезано так же, как у Шмаровоза. Она уже успела застыть. Лужа крови, обволакивающая объемное тело, казалась черной. Тане показалось, что мертвая торговка лежит в луже из стекла. В отличие от Шмаровоза, глаза женщины были закрыты, и от того выражение ее лица было не столь страшным.
Таня застыла, боясь пошевелиться. Смерть сама по себе была ужасом, но такая – и подавно. Когда же закончится эта ужасная ночь?
– Обернись, – глухой голос за спиной вырвал ее из этого жуткого оцепенения. Таня послушно обернулась. Перед ней, с наганом в руке, стоял Рулька Кацап. Она поняла, что это и есть жилец сестры Яшки Лысого. Подслушав разговор Яшки с сестрой, Рулька узнал о планах Пилермана.
– Я все ждал, когда ты придешь. Не думал, что так.
Таня внимательно вглядывалась в его лицо – он был совсем еще мальчик. Но, несмотря на молодость, в его глазах просматривался жесткий опасный блеск. Это были глаза убийцы.
– Зачем ты убил Шмаровоза? – спросила Таня.
– Он догадался.
– О том, что ты забрал у меня бриллианты? – Таня уже все поняла.
– Шмаровоз хотел пойти к тебе и все рассказать. Он догадался, что я за тобой следил. Пришлось заставить его замолчать. И эту старую дуру тоже. Она давно действовала на нервы.
– Теперь ты убьешь меня? – Таня была абсолютно спокойна, весь ужас почему-то прошел.
– Нет. Ты поедешь со мной. Я ведь взял эти бриллианты только ради тебя, – сказал Рулька Кацап.
– Что это значит?
– То, что я сказал. Ты поедешь со мной. Ты теперь со мной будешь. Мы уедем отсюда вместе. У нас есть бриллианты.
Это «нас» неприятно резануло слух.
– Я никуда не поеду. Это глупость, – Таня пожала плечами.
– Поедешь. Я так сказал. Я взял ради тебя эти камни. Чтобы ты была со мной, – голос Рульки задрожал, – я тебя в первый раз как увидел, сразу понял: ради тебя сделаю, что угодно. Ты теперь со мной будешь. Моя.
– Глупый мальчик, – Тане вдруг стало очень грустно, – глупый мальчик, что же ты сделал со своей жизнью… Я ненавижу бриллианты…
– Не смей разговаривать со мной так! – Рулька подскочил к Тане, схватил за руку. Таня попыталась ударить его кулаком в лицо, но это было бессмысленно – он был и выше, и сильнее ее.
Она стала вырываться. Жадными руками Рулька хватал ее за одежду. Таня сопротивлялась изо всех сил. Ей как-то удалось выбить из его рук наган, и тот грохнулся стволом в пол. Раздался выстрел. Он был такой силы, что с потолка посыпалась штукатурка.
Дальше произошло что-то невообразимое. Под ногами Рульки вдруг проломился пол, и с громким воплем он рухнул вниз. Раздался глухой удар тела, и все стихло. Таня еле отползла в сторону от разверзшейся под ее ногами пропасти. Вся дрожа, она пыталась прийти в себя.
– Рулька! – наклонившись над дырой в полу, закричала вниз Таня, – Рулька!
Никакого ответа. Она нашла за прилавком с разбитым стеклом керосиновую лампу и спички. Наклонила лампу, посветила.
Под полом был подвал, довольно глубокий. Таня поняла, что его вырыли в катакомбах как мину. Рулька лежал внизу. Он был мертв. Голова его была неестественно свернута набок, очевидно, при падении он сломал шею.
Таня нашла крепкую пеньковую веревку и прикрепила ее к неподвижному, плотно закрепленному металлическими скобами прилавку. Второй конец бросила в дыру и стала спускаться вниз.
Рулька действительно был мертв. Из его кармана вывалился плотный кожаный мешочек. Таня подняла его – это были те самые бриллианты, которые она спрятала в тайнике. Внезапно Таня почувствовала порыв сквозняка и, посветив лампой, увидела темный ход, заворачивающий за угол, – вход в катакомбы. Таня пошла туда. Она оказалась в небольшом помещении – нише в толще подземного камня. Возле стены стояли большие напольные вазы из стекла. Они выглядели странно. Подняв лампу, Таня подошли поближе.
Верхние части ваз были отбиты. В них, прямо в острые, осколочные края, были вставлены… человеческие головы. Таня узнала голову Дуньки-Швабры, Ираиды Стекляровой… Была еще голова незнакомой женщины, и такие старые, черные, гнилые и высохшие, что уже превратились в мумии.
Мертвые головы издавали ужасающий запах. Это был страшный тайник убийцы. Все в глазах Тани поплыло. Она привалилась к стене и на несколько минут потеряла сознание.
Глава 24
Старая горничная Розы Шип. Дело Маньки Льняной. Медальон в пантеоне убийцы. Планы Японца. Младенец Машутки
Старый шелудивый пес с облезлым хвостом метнулся из-под ног, недобро кося блестящим большим глазом. Володя аккуратно вступил на крыльцо, которое выглядело так, словно при малейшем прикосновении рассыплется в прах.
Все в этом старом дворе на Слободке выглядело таким ветхим, словно сохранилось еще со времен Всемирного потопа. Володя немало поплутал в лабиринтах Слободки, прежде чем найти нужный ему адрес.
Дом оказался многоквартирным, трехэтажным, окруженный такими же покосившимися домами. Даже с виду он был похож на карточный домик. Казалось – дунешь немного, и упадет.
Крыльцо между тем отлично выдержало его, и вскоре Володя крутил звонок возле двери с облезлой краской на первом этаже, из-за которой нестерпимо разило жареным луком.
Неопрятная старуха в халате в жирных пятнах почти сразу открыла дверь. Она была такой толстой, что даже пояс от халата не сходился на ее объемном животе. В этой жуткой полноте было что-то болезненное. На отекших от водянки ногах свернулись простые чулки. Тапочки были такие старые, что в дыры из них высовывались пальцы. Старуха была живым олицетворением беспросветности и нищеты, долгой, никчемной жизни.
– Тебе чего? – Левый глаз старухи был закрыт плотной воспаленной пленкой, она была полуслепой, и оттого тревожно вглядывалась в окружавшую ее темноту.
– Ты Груша? – спросил Володя. Ему было неприятно обращаться так к старухе, но он знал, что другого обращения она не поймет.
– Ну! А тебе чего?
– Поговорить надо. О прошлом.
– Нету у меня прошлого. О чем с тобой говорить?
– О хозяйке твоей. Розой Шип звали. Помнишь ее?
– Как за такое можно забыть? Хоть и потрепала меня жизнь, а Розочку с шипами до сих пор помню. Тебе-то это зачем?
– Надо узнать кое-что.
– А деньги у тебя есть?
– Есть, – Володя вложил ей в ладонь крупную бумажную купюру, и старуха на ощупь определила, сколько денег. Лицо ее посветлело.
– Ну заходи.
Володя оказался в комнате, заставленной старой громоздкой мебелью, где буквально на всем сидели кошки.
Согнав двух рыжих котов, развалившихся на вытертом плюшевом кресле, старуха постелила газетку и усадила Володю туда. Он сел, с ужасом вдыхая отвратительный кошачий запах, от которого почти сразу начала болеть голова.
– Роза Шип мертва, – важно сказала старуха, усаживаясь на диван и опираясь на невесть откуда появившуюся палку, – Розу убили, а кто ее убил, так никто и не нашел.
– Я знаю, – Володя кивнул, – читал в архиве про ее дело.
– Так ты сыщик? – презрительно бросила старуха.
– Я журналист. Книгу пишу про старые убийства. И про убийство Розы Шип, – покривил душой Володя.
Единственной интересной зацепкой, которую он обнаружил в тюрьме, еще раз встретившись со стариком, был адрес горничной, дававшей показания по делу об убийстве Розы Шип. Володя взял адрес на заметку и отправился побеседовать с горничной, не сильно и надеясь на то, что ему повезет и адрес остался прежним. Но ему повезло. Горничная, превратившаяся из молодой женщины в неопрятную больную старуху, жила в том же самом доме на Слободке, где и в 1895 году.
И вот теперь Володя слушал ее рассказ, в котором не было ничего нового.
– А ты хорошо Розу знала? – спросил Володя, когда хозяйка замолчала.
– Ну как хорошо… – она задумалась, – с того самого момента, как она поднялась. Ведь Роза не с самого начала такую карьеру сделала. Никто не думал, что она из простой уличной поднимется.
– А как она поднялась?
– Ну… к чему ворошить прошлое… дело темное было… Было и быльем поросло… – было видно, что старуха кривит душой, что она страшно хочет рассказать об этом самом прошлом, и Володя протянул ей еще купюру.
– Расскажи подробнее, – попросил он.
– Ладно, – старуха устроилась поудобнее, – столько лет прошло, можно уже сказать. Подругу она предала. Такую же, как сама, уличную девицу. И за то деньги получила… много денег. На них и открыла на Ланжероновской бордель.
– Как предала? – Володя понял, что это и есть настоящее, и вот сейчас он действительно услышит то, ради чего прошел весь этот путь. И он не ошибся.
– Была такая девица на Дерибасовской… Манькой Льняной звали. Отчаянная такая девица! В разные истории впутывалась. А мужики к ней так и липли, от богатых клиентов отбоя не было. А у Розы – нет. Розу не сильно мужики любили. Уж больно она была характерная. И вот завидовала Роза этой Маньке и делала вид, что с ней дружила.
Однажды Манька Льняная зарезала золотого гуся. Был такой важный купец, набитый деньгами. Она его в ресторане на Дерибасовской подцепила. И задумала со своим сообщником порешить его. Потащила кататься на волнах, на лодке, там сообщник его и зарезал. А труп в море выбросил. Деньги они забрали. А Маньке не захотелось делиться деньгами поровну, и когда они приплыли на берег, она воткнула ему в горло свою шпильку для волос, так и убила. Фараоны ее быстро нашли. Вычислили, арестовали – а как доказать, что она виновна в двух убийствах? Тогда родственники золотого гуся скинулись и через следователя заплатили Розе за то, чтобы та следила за подругой и на нее донесла.
Манька Льняная была бесхитростная, думала, что Роза ее подруга. И до ареста много чего ей рассказала.
У Маньки была дочка годовалая, Машутка, от бандита Токарчука. Манька когда деньги забрала, ей купила куклу фарфоровую и спрятала в нее шпильку, которой кореша своего порешила. А Роза в тот момент была у нее дома и видели, как Манька шпильку в куклу прятала. Манька еще смеялась: ну кому придет в голову искать орудие убийства в детской игрушке? Машутка страшно радовалась кукле – других игрушек у нее не было.
И Роза донесла обо всем этом следователю. Фараоны заявились в комнату Маньки, отобрали куклу у Машутки, разбили ее и нашли в ней шпильку – доказательство. Маньку Льняную признали виновной в двух убийствах и повесили. Машутку же отправили в приют для сирот. А Роза на деньги, полученные за донос на подругу, открыла свое роскошное заведение на Ланжероновской. Так она и поднялась. Но ей не принесли добра эти деньги. Многие в Одессе ею брезговали, ведь весь город знал, что она Маньку Льняную предала. Мерзкие это были деньги.
Старуха замолчала, чтобы перевести дыхание, а потом заговорщически понизила голос:
– И вот что я тебе скажу… Следователю не говорила, а тебе скажу. Не знаю, кто убил Розу Шип, но точно знаю, за что ее убили. Ее убили, чтобы отомстить за Маньку Льняную.
– С чего ты это взяла? – насторожился Володя.
– А я знаю, что увидела Роза на двери своей комнаты, отчего она богатого гостя завернула. Совесть ее так мучила, что она сразу узнала.
– Что узнала? Что было на двери?
– Кукла. На ручке двери сидела фарфоровая кукла. Точь-в-точь как та, что была у Машутки, в которой Манька Льняная свою шпильку прятала.
– А что стало с Машуткой?
– Слышала, пошла она по стопам матери и отца. Попала в тюрьму сразу, как только вышла из приюта, в 18-летнем возрасте. Там, в тюрьме, люди говорили, познакомилась с каким-то уголовником и даже вышла за него замуж. В точности никто ничего и не знал. И я сейчас не знаю, что с ней сталось. И знать бы не хотела.
– Почему это? – спросил Володя.
– Больная она была, говорили. Совсем нездоровая головой. Видать, наследственность сказывалась тяжелая. Люди рассказывали, совсем была ненормальная.
– А за что она в тюрьму попала?
– Говорили, что хозяйского ребенка не досмотрела.
– Как это?
– Нянькой после приюта работала у богатых господ и ребенка случайно придушила. А потом спрятала труп неведомо куда. Но другая прислуга видела и донесла в полицию. А труп ребенка так и не нашли.
– Это было как раз в тот год, когда Розу Шип убили? – дрогнувшим голосом спросил Володя.
– Точно! Совпало с убийством Розы. Машутку как раз в этот год и отправили в тюрьму. Но все-таки не приговорили, как убийцу. Трупик ребенка ведь не нашли…
Выйдя на улицу, Володя чувствовал себя так, словно тащил на себе тяжело груженный воз. У него даже руки дрожали. Страшные откровения бывшей горничной укладывались в совершенно невероятную картину. Володя из последних сил спешил к Тане.
Таня очнулась от холода. Керосиновая лампа продолжала тлеть. Рваные тени на стенах страшного пантеона еще больше подчеркивали зловещую атмосферу этого ужасного места. Она с ужасом уставилась на высохшие головы трупов, составлявшие с вазами как бы одно целое. Внезапно Тане подумалось, что именно так, ужасающим способом, убийца пытался делать из убитых людей кукол.
Это действительно были куклы – конечно, не настоящие, но они становились настоящими в больном, извращенном мозгу убийцы.
Проверяя свою догадку, Таня подошла ближе, поднесла лампу к ближайшей «кукле» – с головой Дуньки-Швабры. Лампа осветила свежие разводы краски на фарфоровой вазе. Но краска не была предназначена для стекла, а потому расплылась, потекла вниз, образуя у основания вазы самые причудливые разводы.
Таня не сомневалась больше в том, что убийца пытался расписать вазу как платье куклы, что он специально сотворил эту ужасающую матрешку, для сходства с куклой воспользовавшись человеческой головой.
Теперь было совершенно понятно, почему никто не нашел головы жертв. Их и не могли найти. Убийца воспользовался головами для своих извращенных целей. Фарфоровые же вазы, скорей всего, покупал в лавке сестры Яшки Лысого. Возможно, говорил, что самостоятельно расписывает вазы красками. И для этой цели снял в магазине подвал.
Таня стала внимательно осматривать каждую «куклу». Внезапно в основании шеи незнакомой женщины что-то привлекло ее внимание. Она поднесла лампу.
Яркий свет упал на узкую золотую полоску. Таня просунула палец и, преодолевая отвращение, вытащила золотую цепочку, на которой крепился небольшой, по всему видать, старинный медальон. На крышке был изображен голубок, несущий в клюве пышную ветку. Изящная, немного старомодная работа… Такие вещицы предпочитали в мещанских семьях.
Таня попыталась раскрыть медальон. Это было не так просто сделать. Замочек не открывался. Но наконец, после долгих попыток, ей это удалось, крышка щелкнула и отскочила. С одной стороны медальона была фотография убитой – лет на 10 моложе. С другой – выгравировано имя и дата рождения. Прочитав, Таня не поверила своим глазам.
Это было абсолютно невероятно! Разгадка оказалась настолько неожиданной, что Таня была потрясена. Она перечитывала имя снова и снова. Ей вдруг показалось, что с глаз ее спала густая, плотная пелена.
Все стало ясно. Все выстроилось в четкий, логический ряд. Таня нашла убийцу с Привоза.
Японец развязал кожаный мешочек и высыпал бриллианты на стол. Камни засверкали в ярком свете электрической лампы.
– Ты сдержала слово, – сказал он.
– Разве я могла его не сдержать? – Таня пожала плечами.
– Вот они, ростки новой жизни! – Мишка алчно запустил пальцы в камни, и бриллианты словно заструились по его ладоням. – Новая жизнь для всех!
– Что ты имеешь в виду? – Таня не поняла.
– Я скажу тебе, раз хочешь. Ты имеешь право узнать. Это мой полк. Новая жизнь для тех, кто хочет уйти из прошлого. Воров больше не будет. Будет красный командир!
– Я не понимаю… – Таня нахмурилась, – полк… так ты сказал?
– Точно! Все мои люди пойдут в полк, и я стану таким же командиром, как Котовский. Ты слышала, шо с ним?
– Слышала. Он в коннице красных. И ты что же… хочешь, как он?
– А как мне можно не хотеть? Хватит быть бандитом! Хочу податься в начальники. Время сейчас такое… Самое время да погулять. А там, глядишь, чин заслужу, в почете буду… Всё как у людей!
– Ты не был простым бандитом. Ты был королем Одессы!
– Это все в прошлом. Теперь у Одессы другие короли. А мне самая прямая дорога туда. В полк. Я давно за это думал. Денег только не хватало на амуницию, на людей вооружить. А теперь всё будет. И форма, и оружие. Всё как положено.
Таня поняла, что идею эту Японец обдумывал уже давно, и что именно сейчас она начала получать свое реальное воплощение, потому так открыто Японец и говорил. Тане показалось, что она смотрит какой-то нелепый сон – из бандитов в красные командиры! Но у нее хватило ума держать свои впечатления при себе. И она продолжала молчать.
– Да, совсем забыл, – Японец порылся в кармане и вытащил какую-то бумажку, – вот тебе адрес акушерки, которая работала в одесской тюрьме в 1900 – 1902 годах. Ну, она дольше работала, но в эти годы точно была там.
Крепко сжав бумажку, Таня вышла из кабинета в ресторане, где встречалась с Японцем.
– Это ужасно! – Володя крепко сжал руку Тани.
Они сидели в его квартире, куда Таня пришла сразу после встречи с Японцем. Володя же, после бесплодных поисков Тани, вернулся к себе домой. Она появилась неожиданно, ночью, и он был так счастлив, что вообще не хотел говорить ни о чем!
Но Таня рассказала о страшном пантеоне убийцы и внимательно выслушала рассказ о разговоре с бывшей горничной.
– Мария Токарчук, – нахмурилась она, – я всегда подозревала, что убийца – женщина. Значит, Розу Шип она убила, чтобы отомстить за мать, и подбросила хозяйского младенца. Все сходится. Младенец ассоциировался у нее с разбитой куклой… Идем!
– Куда? – перепугался Володя.
– Как это куда? Беседовать с акушеркой! Нечего больше тянуть.
Таня энергично потащила за собой Володю, который, вдруг разом забыв про все убийства, готов был пойти за ней на край света.
– Я помню эту страшную девушку, Марию Токарчук, – благообразная старушка поставила на стол, покрытый кружевной скатертью, дымящиеся чашки с чаем, – это было очень давно.
– Почему страшную? – спросила Таня.
– Она попала в тюрьму за убийство младенца, – сказала бывшая акушерка. – С такими не церемонятся ни охранники, ни другие заключенные. Потому-то с ней и произошла трагедия.
– Какая трагедия? – спросили одновременно и Володя, и Таня.
– Ее изнасиловали трое охранников, в тюрьме. Это было ужасно. Они буквально не оставили на ней живого места. Но самым ужасным было то, что она забеременела. Когда узнала, хотела покончить с собой. Я помогала ей, как могла… – старушка замолчала. – А потом она родила ребенка.
– Что с ним стало, с ребенком? – голос Тани дрогнул, она уже все поняла.
– Она задушила его сразу после родов, – сказала бывшая акушерка, – почти у меня на глазах. Я не успела его спасти. После этого ее отправили в психиатрическую лечебницу, где она пробыла некоторое время. Но вышла оттуда очень скоро, чтобы опять вернуться в тюрьму. За убийства.
– Ребенка похоронили? – спросила Таня.
– За оградой Второго Христианского кладбища, там, где всегда хоронили умерших в тюрьме некрещеных младенцев. Могилы, конечно, отдельной у него не было.
Когда Володя и Таня покинули гостеприимный дом бывшей акушерки, оба молчали. Говорить не хотелось. Все было так страшно, что это не отражали слова.
Глава 25
В гостинице «Бристоль». Месть настоящей любви. Имя в медальоне. Навсегда вместе
Дождь рьяно колотил по карнизу. Эта беспрерывная водяная дробь напоминала пулеметную очередь, ранила слух. Стоя у закрытого балкона в гостиничном номере «Бристоля», Таня наблюдала, как дождевая вода, скапливаясь в старинном бронзовом водостоке, с шумом вырывалась наружу, ударяя по расположенному ниже карнизу.
Сюда, в гостиницу «Бристоль», они забежали с Володей сразу после того, как вышли из здания биржи, где находились все бумаги городского архива. В этот раз Володя взял поручение редакции у Краснопёрова, и его пропустили беспрепятственно, выдав даже в помощь сотрудника – стеснительного молодого человека в очках, который каждый раз страшно краснел, глядя на Таню. Про Таню спросили сразу, на входе, но Володя словно отрезал, заявив веско и внушительно, что она сотрудник редакции. Поручение, выписанное Краснопёровым, давало ему право на это.
Как только они вышли, хлынул проливной дождь. Крепко ухватив Таню за руку, Володя завел ее в гостиницу «Бристоль», где с совершенно прежним светским шиком заказал номер.
– Зачем номер? – запротестовала Таня. – Это же страшно дорого! Просто где-то пересидим дождь.
– А если он всю ночь будет лить? Предлагаешь всю ночь просидеть в подворотне? И потом, это не деньги! Я готов дать тебе все самое лучшее! Ты этого заслуживаешь, – и добавил, застеснявшись: – А денег у меня больше, чем я могу потратить. В редакции хорошо платят, и еще наследство осталось.
В обставленный с купеческой роскошью номер «Бристоля» Володя заказал шампанское. Он разливал вино по бокалам, пока Таня с интересом смотрела на дождь.
– За что пьем? – она отошла от окна.
– За окончание нашего дела! За то, что мы нашли убийцу с Привоза! – Володя протянул ей бокал.
– Рано, – Таня покачала головой, – мы еще не остановили убийцу.
– Тогда давай выпьем за нас, – Володя смело выдержал ее взгляд.
– Я бы выпила, если бы ты никуда не исчез, – Таня горько усмехнулась, – но закончится дождь, и ты исчезнешь так, как исчезал всегда. Я знаю. Тебя не изменишь.
Володя промолчал, только залпом выпил бокал до дна. Лицо его стало очень серьезным. Он смотрел на Таню так, словно хотел что-то сказать… Но не сказал. Таня сделала вид, что ничего не заметила.
Отодвинув в сторону хрустальную вазу, Таня разложила на столе все бумаги, которые были у них по этому делу. И первым, занимая центральное место, лежал главный документ – выписка из архива регистрации актов гражданского состояния.
– Итак, Гоби Имерцаки женился на Марии Токарчук в 1897 году, – Таня осторожно провела по древней бумаге рукой, – дальше начались долгие годы убийств и тюрьмы, разлучавшей и вновь соединяющей их. Теперь я понимаю, что такого ценного содержалось в бумагах, которыми Домбровский шантажировал Имерцаки. Имя свидетельницы по делу прачки Семашко – Мария Т., Мария Токарчук. Единственная свидетельница, давшая фальшивые показания о том, куда и как ушла девушка. И это был протокол ее допроса – ее, а не Имерцаки.
– Но ведь Имерцаки тоже был убийцей, – возразил Володя, – и не раз попадал в тюрьму.
– Он был не таким убийцей, как Мария – или Машутка, так, наверное, будет правильно. Машутка, несчастная дочка Маньки Льняной, – печально вздохнула Таня.
– Опять жалеешь всякую мразь! – нахмурился Володя. – Она же сумасшедшая! В этот раз – точно! Серийная убийца!
– Я больше никого не жалею, – Таня покачала головой, – но она ведь не виновата, что у нее была такая наследственность. Отец – убийца, мать – убийца. Кем должна была стать она?
– Ну ты даешь!.. – вспыхнул Володя.
– Ладно, не будем ссориться, – примирительно сказала Таня. – Итак, что мы знаем по этому делу?
– Мы знаем о женитьбе Гоби Имерцаки на Марии Токарчук, – подсказал Володя, – и мы знаем, что оба играли серьезную роль в большевистской организации. Имерцаки приблизил к себе Домбровский, шантажируя уголовным прошлым. А когда начались убийства на Привозе, Домбровский был уверен, что это убивает Имерцаки. Чтобы держать его в узде, забрал документы из тюрьмы.
– И ошибочно шантажировал, – сказала Таня, – ведь убийц было двое. Если прачку Прасковью Семашко и Анну Черткову убил Имерцаки (Токарчук только помогла избавиться от трупов, расчленив тела), то три убийства на Привозе – дело рук исключительно Токарчук. Думаю, что Имерцаки был против этих убийств. Он хотел начать новую жизнь.
– С Дунькой-Шваброй! – хмыкнул Володя.
– А почему нет? Дунька была неплохой женщиной, с добрым сердцем. Он даже сделал ее членом партийной ячейки – казначеем. И доверял ей хранить часть денег, награбленных Домбровским, – сказала Таня.
– Я вот думаю, на чем основывался этот союз двух убийц, – задумчиво сказал Володя, – на чем строится большинство союзов, как ни на скотской похоти, затмевающей людской разум? В этом случае на месте скотской похоти была жажда крови, страсть такая же сильная, как секс, как алчность. Неконтролируемый порыв…
– Она не была совсем сумасшедшей, эта несчастная девочка, ставшая такой же несчастной женщиной, – покачала головой Таня, – ее душа была сломана с детства, а союз с убийцей Имерцаки еще больше развратил морально и физически. В конце концов она расправилась с ним…
– Вонзив шпильку в сердце, – подсказал Володя.
– Она боялась, что он ее выдаст, – сказала Таня, – и может, думать так у нее были все основания.
– Какие основания? Она убивала потому, что была сумасшедшей! – Володя упрямо гнул свою линию.
– Нет, – Таня не могла согласиться с ним, – во всех убийствах на Привозе был смысл. Дуньку-Швабру она убила из ревности, за связь с Имерцаки. Ираиду Стеклярову – за то, что, зная Имерцаки, та могла невольно навести на нее.
– А первую женщину, безымянную? – уточнил Володя.
– Она больше не безымянная, – сказала Таня, – я знаю ее имя. И это имя – ключ ко всему. Первое убийство было как раз самым важным. Она убила эту несчастную сразу, как только вышла из тюрьмы вместе с Имерцаки, во время штурма тюрьмы Японцем, чтобы получить новое имя, завладеть ее документами. И ей это удалось. Никто не опознал женщину, которая недавно приехала в город, чтобы устроиться на работу и никого не знала в Одессе. Мария Токарчук забрала ее документы, но позабыла забрать медальон. Нет документов – нет человека. Несчастную похоронили как безымянную. А ведь на самом деле это не так. У нее есть имя.
– Какое имя, как ее зовут? – Володя смотрел на Таню во все глаза.
– Узнаешь в свое время, – Таня усмехнулась, – когда мы вместе попытаемся остановить убийцу. Кстати, это будет завтра, с утра.
– Что ты задумала? – нахмурился Володя.
– Увидишь! – Таня откровенно насмехалась над ним.
– Ты нашла этот медальон там, в катакомбах под посудной лавкой? – Володя подозрительно смотрел на нее.
– Да, случайно, – Таня перестала усмехаться. – Мне повезло. Скажу сразу: мои аналитические способности тут ни при чем. Разве что наблюдательность и умение кое-что сопоставлять. В любом случае, я нашла то, что делала убийца с головами трупов. Машутка играла в куклы. Она вставляла головы в фарфоровые вазы и расписывала вазы, как платья кукол. Она пыталась делать «кукол» из живых людей.
– Я же говорю – сумасшедшая, – ввернул Володя.
– Нет, – лицо Тани стало печальным, – она убивала не со зла. Так и не ставшая взрослой, Машутка играла в куклы, ведь та, фарфоровая, подаренная матерью, была единственной куклой в ее жизни. И когда ее разбили, то разбили весь окружающий ее мир. Представь только ужас, в который ввергли этого несчастного ребенка! Отобрали куклу, мать, единственный дом, который у нее был. Потом – ужасы приюта. Что такое приют, мы знаем. А после этого – наемная, рабская работа. Случайная правда о том, кто выдал ее мать, из-за кого ее мать повесили. Первое убийство. Тюрьма. Брак с уголовником, убийцей Имерцаки. И падение в бездну все ниже и ниже. И только куклы, единственная мысль о куклах позволяла ей чувствовать себя живой. Она играла по своим правилам, и не ее вина, что детская игра в куклы для этой несчастной девочки стала кошмаром для всего окружающего мира.
– Тебе нужно было бы в адвокаты пойти! – хмыкнул Володя. – Самого Плевако заткнула бы за пояс! Это ж надо, оправдывать такое отродье!
Таня только пожала плечами, не собираясь ничего ему объяснять. Дождь закончился, но ни Володя, ни она не хотели уходить из гостиницы. Они проговорили до рассвета – не только об убийствах. Они говорили так, как говорят два самых дорогих друга, встретившихся после долгой разлуки. И никто из них даже не догадывался о том, что такие разговоры и есть самым важным, самым ценным проявлением любви.
Утро застало их на ногах. Володя заказал в номер самый крепкий кофе с рогаликами. Но сна у обоих не было ни в одном глазу.
Наконец Таня посмотрела на гостиничные часы, закуталась поплотней в шаль.
– Нам пора, – сказала и, выйдя из гостиницы, повела Володю по направлению к Привозу.
Возле входа в главные ворота Фруктового пассажа они застали толпу. Говорливые торговки, настоящие королевы Привоза, окружили черный автомобиль, из раскрытых окон которого топорщились штыки солдат, осыпая его визгливой, площадной бранью.
– Автомобиль Марушиной, – сказала Таня, бросив на Володю какой-то странный взгляд.
– Только ее не хватало! – поморщился Сосновский. – Что она делает здесь?
– Собирает дань с торговок, – пояснила Таня, – потому они так страшно ругаются. Грязно, но как красочно! Где еще услышишь такую речь?
– Какую дань? – Володя округлил глаза. – Позавчера Григорьева и его банду большевики выгнали из города! Все знают, что со дня на день будет арестован Домбровский! Какая дань? Не нужно больше платить!
– Но ведь Ревком остался? – усмехнулась Таня, – вот для него и собирают деньги! Разве ты не знаешь, что Марушина – правая рука Соколовской? Та доверяет ей во всем!
– Ладно, ну ее к чертям, эту надоедливую стерву! – разозлился Володя. – Скажи лучше, куда мы идем?
– Прямо туда, – Таня смело выдержала его недоумевающий взгляд, – мы идем к ней.
Автомобиль остановился. Из него вышли солдаты. Вышла и Авдотья Марушина. На фоне перемен, происходящих в городе, и быстрой расправы с бывшим атаманом Григорьевым, которого лишили всех полномочий и с позором выгнали, она не решалась стрелять в толпу.
Марушина дала солдатам приказ опустить штыки, не применять оружие и вступить в диалог с толпой. Но это было невозможно. В мире не родился человек, способный перекричать одесских торговок с Привоза, когда они решительно настроены на скандал.
Таня стала пробиваться сквозь толпу, направляясь к Марушиной. Ее узнали. Некоторые торговки даже отступали в сторону – на Привозе Таня пользовалась доброй славой. Наконец она поравнялась с Марушиной, встретила ее растерянный взгляд. Таня вынула руку из кармана, протянула вперед… Володя неотступно следовал за ней.
Дальше все произошло неожиданно и так быстро, что никто не успел среагировать – ни Марушина, ни солдаты, ни Таня, ни Володя.
Из-за угла в толпу врезалась группа всадников. Это были цыгане. Торговки расступились. Вперед вырвался пожилой цыган на черной лошади. Лицо его было суровым, испещренным шрамами, в ушах болтались золотые серьги-кольца, пышные седые волосы были связаны в хвост. Поравнявшись с Марушиной, он с гиканьем осадил лошадь. Затем резко выбросил правую руку вперед. Перед глазами Тани мелькнула знакомая татуировка на всю ладонь – роза за колючей проволокой… Нож с широким лезвием и костяной рукояткой вонзился в грудь Авдотьи Марушиной по самую рукоятку. Нелепо раскинув руки, она издала хрип, похожий на стон. Затем застыла на мгновение. Из ее раскрытых губ вытекла струйка крови. А потом она рухнула вниз, на землю…
Цыган резко взнуздал лошадь и, сопровождаемый другими всадниками, сеющими вокруг панику и беспорядок, рванулся в сторону. Еще мгновение – и они скрылись за углом.
Торговки заголосили еще страшней, чем прежде. Тогда только, словно опомнившись, солдаты принялись стрелять в толпу. Пули рикошетом ударили в булыжники мостовой.
– Бежим! Быстро! – схватив Таню за руку, Володя побежал. В толпе началась настоящая паника. Люди кричали, рвались в разные стороны, сбивали друг друга с ног. Хаос был тем страшней, что породили его выстрелы. В толпе были убитые и раненые, и вопли боли совпали с воплями сходящих с ума от страха при виде этой неожиданной беды.
Володя метался из стороны в сторону, крепко сжав руку Тани. Их толкали со всех сторон. Послышалось глухое урчание автомобильных двигателей – к месту происшествия приехали еще машины, из которых на ходу выскакивали солдаты.
– Сейчас оцепят Привоз! Надо бежать! – Володя завернул за угол. Они мчались так быстро, что от этого бега горели легкие и почти исчезло дыхание. Наконец остановились передохнуть.
– Господи… Что это было? – Володя вытер пот со лба дрожащей рукой.
– Это была любовь. Настоящая любовь, – ответила Таня, – наверное, она существует на свете.
– Какая любовь? Ты что, с ума сошла? – Володя странно смотрел на нее.
– Нет, – Таня покачала головой, – татуировка. Этот цыган был любовником или мужем Ираиды Стекляровой. И он отомстил за ее смерть.
– Как отомстил, почему? – Володя смотрел на Таню во все глаза.
– Вот почему, – Таня протянула руку вперед и разжала ладонь.
Медальон был крепко зажат в ее руке. Таня осторожно открыла хрупкую крышку и показала Володе содержимое: фотографию девушки – на одной стороне и на другой – имя: Авдотья Марушина…
– Матерь Божья… – дрожащими руками Володя взял медальон, – ты хочешь сказать, что она… убила девушку… из-за этого имени…
– Из-за документов, – поправила Таня, – она забрала ее документы, и в Авдотью Марушину превратилась Мария Токарчук, настоящая убийца с Привоза.
– Но как цыган узнал… – растерянно сказал Володя.
– Это я тоже не могу понять. Но как-то узнал. Настоящая любовь существует на свете. Теперь я знаю это точно, – горько усмехнулась Таня.
В переулке показалась толпа, бегущая от солдат. Она нахлынула на них, размела в разные стороны. Таня потеряла Володю из виду. На какое-то мгновение ей показалось, что он мелькнул в толпе, но потом пропал. Оставалось бежать. Бежать под грохотом раздававшихся сзади выстрелов. Бежать подальше от смерти, от пуль…
Была глубокая ночь, когда Таня все-таки решилась выйти из квартиры в Каретном переулке. Она все ждала, что Володя зайдет к ней. Но он не пришел.
Таня остановилась напротив его дома. Окна квартиры были темны. Впрочем, она и не ожидала ничего другого.
Воспоминания нахлынули на нее горькой лавиной, сбили с ног, повлекли за собой. Горечь утрат, разбитые надежды, осколки навсегда сломанной жизни, отчаяние, безнадежность, тоска, неуверенность в завтрашнем дне, горькая потеря прошлого и будущего, неверие в жизнь и разочарование во всех людях, испуг потерянного в мире чужих взрослых ребенка и отчаянный страх – все это нахлынуло на Таню погребающей под собой черной лавиной и вылилось горячим потоком слез.
В который раз Таня оплакивала свой разбитый мир, умирая без надежды на свет. Светом была ее любовь к Володе, единственным светом, который она знала в жизни, и этот свет исчезал от нее, постоянно обманывал, не даря тепла, и предавал.
Что толку его искать – квартира пуста, он уехал. Ускользнул от нее в очередной раз. Так было все время. Так будет. Не на что надеяться. Твердя все это самой себе, Таня медленно шла к его квартире, переставляя ноги с таким трудом, словно у нее была сломана спина.
Дверь была приоткрыта. Таня оказалась в темной гостиной. Камин не был разожжен. Было ясно, что здесь никого нет.
Таня остановилась в центре комнаты, возле стола, и закрыла лицо руками. Где-то поблизости скрипнула дверь. Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки, объясняя самой себе, что дверь скрипнула у соседей. В старом доме всегда множество странных звуков. Их нельзя понять, их нельзя объяснить.
Таня молча стояла в пустой комнате, словно не решаясь уйти. Протянула руку к столу, но ее перехватили на лету. Володя вышел откуда-то сбоку, из темноты комнаты, и Таня вдруг поняла, что он все время был здесь, что он и не думал уезжать.
Таня спрятала лицо на его груди.
– Я люблю тебя… – прошептали ее губы, а может, прошептал за окном ветер, – люблю… Люблю…
Лицо Володи было сосредоточенным и серьезным.
– Идем, – он властно взял Таню за руку, – идем! Навсегда. До конца жизни. Сколько жить буду, столько… Идем!
Решительно подтолкнул Таню вперед. Больше не было ни ветра, ни разбитого мира, ни темноты.
– Идем, – повторила Таня, – навсегда. До конца жизни…
Дверь спальни резко захлопнулась за ними.


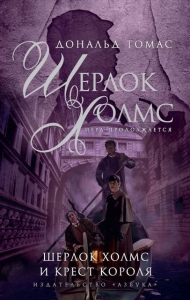



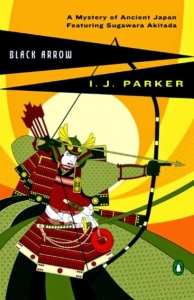

Комментарии к книге «Королевы Привоза», Ирина Игоревна Лобусова
Всего 0 комментариев