Вячеслав Белоусов Наган и плаха
Мы обречены субъективно оценивать события, постигая их настоящую глубокую суть лишь спустя время. Первичное же восприятие нередко зависит от того, насколько искренни мы сами и насколько события касаются нас самих.
Великий чешский патриот Ян Гус, приговорённый к сожжению на костре средневековыми палачами инквизиции, воскликнул: «О sancta simplicitas!» (О, святая простота!) при виде старухи, в порыве религиозного ослепления тащившей полено в костёр под его ноги.
А вот вождь коммунистов и Генсек партии Михаил Горбачёв закричал: «Ну, это уж слишком!» на разжалованного следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Тельмана Гдляна, когда тот с трибуны I Съезда народных депутатов СССР заявил, что уголовное дело о коррупции и взятках партийных чиновников не «узбекское дело» и даже не московское, а кремлёвское. И только всенародная известность отстранила нависшую над ним серьёзную угрозу.
Истине всегда приходится оставаться в последней инстанции, и только время открывает глаза народу.
АвторЧасть первая. Наводнение
I
Снилось, что он тонет.
Захлёбываясь холодной горькой водой, задыхаясь, он будто погружался в тёмную муть глубокого, заглатывающего его дна, но закашлялся, поперхнувшись, выплюнул действительно заливавшую открытый рот воду, перевернулся на живот… И проснулся.
В предрассветных сумерках молнии одна за другой терзали небо, глушил, раскатываясь раз за разом, гром, палатку свалил бушующий ветер и заливал хлеставший дождь. С трудом продрав глаза, Ковригин огляделся, попытался подняться, но укрепиться удалось лишь на четвереньках. Он повертел головой, хрустя позвонками, его покачивало и тошнило, перед глазами бегали мушки, стискивала виски невыносимая боль — вчерашнее, теперь уже второе, застолье без конца и края сказывалось и на нём, вроде привыкшему ко всякому.
Под разбросанной палаткой кто-то шевелился ещё, не подавая голоса. Ковригин с трудом сумел сесть, дотянуться до брезента, откинуть — голая женщина, зябко съёжилась, забурчала во сне, недовольно забираясь в теплоту, подальше от ветра и влаги.
«Кто это?» — прикрыл он её, напрягая память.
Вчера их было несколько, насобирали на станции у райкомвода Аряшкина, с которым встретились к концу первого дня поездки, причалив к вечеру у маленького рыбзавода. Инициатором такой компании был ответственный секретарь губкома Странников, с ним поначалу крутилась шустренькая машинистка из штаба по наводнению, и замгубпрокурора Глазкин, хотя не выдавал истинных чувств, заметно на неё зарился, поплёвывая через борт моторной лодки, пока днём шли по Волге, осматривая укрепления берегов возле населённых пунктов. А вот после встречи с райкомводом, когда ответственный секретарь что-то шепнул на ухо Аряшкину и уже на двух лодках они продолжили подыматься вверх по течению, женского полу прибавилось чересчур. Разместились они во втором судёнышке, у райкомвода, но когда к вечеру ткнулись в берег на ночевую, от бабьих голосов и визга некуда было деться. Волоокая хохотушка с нагловатыми повадками, как сразу приметил Ковригин, так и жалась к Странникову.
Райкомвод Аряшкин не отпускал от себя чернявенькую длинноногую и не без основания: лишь расположились вечерять на траве, к ней стал цепляться Глазкин, хотя заметно было, что для него припасена другая — хохлушка, горланящая песняки после первой рюмки и быстро захмелевшая. Она и в палатку Глазкина раньше остальных залезла, по-хозяйски располагаясь и окликая его, зазывала без стыда и совести, но, не дождавшись, так и затихла.
Была ещё четвёртая, совсем ничья, её Аряшкин прихватил из своего комвода, видать, про запас, зная нрав ответственного секретаря — у того сегодня машинистка, завтра какая-нибудь завженсоветом, а потом пойди, разберись, менял он их, как перчатки. А эта, хотя и поменьше росточком, но волоокая, палец в рот не клади!.. Ковригин её приметил сразу — так и стреляла глазками по мужикам, но мотористов с обеих лодок, пощипывающих её то и дело, когда палатки на берегу растягивали да укрепляли, сторонилась. Её и пригрел Глазкин, лишь предназначенная подружка в его палатке затихла, однако жадные взгляды кидал и на длинноногую, зля и расстраивая райкомвода. А та, опьянев и забывшись, тоже нет-нет да поглаживала зампрокурору бока, вот Аряшкин и завёлся, вспылил, хотя и выглядел трезвее остальных, так как не на все тосты Странникова за победу над стихией откликался, пропускал через одну-две рюмочки.
Как они сцепились, когда Глазкин, совсем захмелев, длинноногую тискать начал, Ковригин не уследил, так как Странниковым занят был — того стошнило, чего сроду не бывало, должно быть, сырой воды глотнул вгорячах, и он повёл его в лесок, а потом к берегу лицо смыть. Там оба и вздрогнули от грянувших вдруг выстрелов, обернулись к костру, где завершали вечернюю разборку поездки, а замгубпрокурора из нагана вверх палит, не останавливаясь, над присевшим от страха райкомводом.
— Это что за хренотень? — не сразу пришёл в себя ответственный секретарь, поддерживаемый Ковригиным. — Сдурели, мужики! Ну-ка, Жорик, утихомирь петушков!
Сам он, как присел в воду в резиновых тяжёлых сапогах, когда первый раз бабахнуло, так и сидел, замочившись по пояс, увяз в тине, не мог подняться без посторонней помощи. Ковригин в два прыжка добрался до Глазкина, наган вырвал, Аряшкина в сторону оттолкнул, потащил его к берегу, голову вздумал ему остудить, но вырвался тот — здоров бугай и злой, как чёрт.
— Не лапай, не баба! — выматерился в сердцах, кинулся к ответственному секретарю. — Василий Петрович! Сделайте паразиту укорот! Я не посмотрю, что прокурор, что с револьвером, лопатой так хвачу… Пусть потом судят!
— Чего это у них? — вскинув лишь голову, мутными глазами заморгал Странников на Ковригина.
— Бабу не поделили, — сплюнул тот, пряча в карман прокурорский наган.
— И тот палить вздумал? — нахмурился Странников.
— Всю обойму выпустил.
— Вот дурак…
— Василий Петрович! — чуть не плача, подступил райкомвод. — Я ему не мальчишка! Ему что, другой бабы не приготовлено? Не гожа та, пусть рыжую вон забирает. Зачем до моей лезть?
— Дураки оба, — заплетаясь языком, с чувством резюмировал секретарь. — Нашли повод для драки! Мы на пороге, можно сказать, свершившийся трагедии… Спасать людей надо… Вода заливает народное добро… И эти члены моего штаба!.. Ну-ка, Жорик, помоги мне…
Поддерживаемый Ковригиным, Странников с трудом поднялся, принялся было отжимать воду с одежды, но махнул рукой и побрёл к костру. Раскачиваясь, постоял над Глазкиным, хлебавшим уху прямо из общего котла как ни в чём не бывало, подхватил рукой Аряшкина за спину и толкнул его к Глазкину.
— Целуйтесь! — скомандовал тоном, не допускающим никаких возражений. — Целуйтесь и выпьем за нашу общую победу над стихией. Так?
Те полезли друг к другу целоваться. Он похлопал обоих по плечам, сдвинул лбами, а Ковригин тут же наполнил рюмки и подал всем одну за другой.
Райкомвод ещё недовольно мурзился, однако Ковригин упёрся плечом сзади, и тот выпил со всеми, после чего снова полез целоваться с замгубпрокурора.
До этого момента Ковригин все эти события помнил хорошо, а вот остальное всплывало в памяти урывками.
Первым успокоился, будто подавая команду, полез в свою палатку Странников с машинисткой. Глазкин ещё манежился, грустил у костра, наливая водки ещё, пил один и, похлёбывая уху, поглядывал на длинноногую исподтишка, но Аряшкин был начеку и увёл её за собой к костру, где располагались мотористы. Поговорив с ними об утренних планах, назначив на вахту первого, он пропал вместе с подругой в другой палатке. Ковригин успокоился, подошёл к Глазкину, напомнил тому, что наган отдаст утром — ответственный секретарь так приказал. Глазкин в ответ налил в гранёный стакан водки, подал ему в знак примирения, они выпили, и прокурор полез целоваться к нему…
Больше, как ни напрягал память Ковригин, ничего вспомнить не мог.
«Так кто же у меня под боком ночью оказался? — забеспокоился он и потянулся к брезенту. — Баба какая-то растребушила его среди сна, жаркие руки и поцелуи он смутно ощущал на своём теле… А какая ж из них? Пятой-то вроде не было…»
Из-под откинутого брезента глянулось ему лицо хохотушки Феклистовой, той самой Эльзы или Элоизы, которая — не мог он забыть, своими глазами видел — сама затаскивала ответственного секретаря вчера к ночи в палатку!..
— Вот сука! — выругался Ковригин, вытаращив глаза. — Она же меня под монастырь подведёт…
— Егор Иванович! — позвал его кто-то издали.
Он испуганно оглянулся, загораживая женщину телом. Аряшкин махал ему рукой от прибитого водой костра, где суетились в дыму мотористы.
— Не подойдёте к нам? — райкомвод выглядел трезвым и собирался направиться к нему. — Дело есть.
— Сейчас! — замахал рукой Ковригин. — Сейчас подгребу. Накину на себя что-нибудь.
Хмель слетел с него разом, лишь только он представил, как Аряшкин застукает его с потаскушкой, забравшейся к нему в постель. Убедившись, что райкомвод занялся своими заботами, он встряхнул за плечи спящую женщину так, что та сразу вытаращила перепуганные глазища.
— Ты что творишь, сволочь? — впился он в неё, весь дрожа, только не кусаясь. — Сгубить задумала и меня, и себя?!
— Жора?.. — обмерла та, побледнев и слабо соображая.
— Отведу сейчас к Василию Петровичу и сдам как шлюшку. Скажу: только что приползла. Он тебя у берега и притопит!
— Жорик! — вскрикнула она, уже вполне натурально пугаясь. — Быстро же ты забыл…
— Беги, дура! — тряхнул он её сильней и попытался вытащить. — Втихаря беги, пока спят все! Да лезь к нему, если и проснулся. Соври, что по нужде бегала. А я к Аряшкину сейчас. Прикрою, чтоб не заметил.
Он поднялся, накинул пиджак на плечи, проверяя, на месте ли наган Глазкина, не торопясь, зашагал от палатки, оглянулся:
— Да смотри у меня!..
Но женщины уже не было, лишь шевельнулся полог палатки ответственного секретаря.
— Жора! — встретил его озабоченный райкомвод. — Не помнишь случаем, секретарь райкома товарищ Кудрявцев обещал нас нагнать?.. Или они с Василием Петровичем договорились иначе? Что-то нет его долго. По моим расчётам он должен был ещё вчера к вечеру заявиться и с нами заночевать. Сегодня нам — кровь из носа — добраться до места. Народ ждать должен. Василий Петрович митинг задумал. Речь держать будет, людей зажечь.
— При такой буре плыть вообще нельзя, — сплюнул Ковригин. — Перевернёт обе лодки — и ищи-свищи тогда нас на дне.
— Ждут там, — помрачнел Аряшкин. — Оружие просил председатель их тройки. Обещал я.
— Это вы, Михаил Петрович, у самого Странникова спросите, — отвернулся Ковригин.
— Ну как же? Вы у него, считай, правая рука, — райкомвод так и поедал глазами Ковригина. — Вчерась как он вас представил? Высока планочка!
— Какая ещё планочка? — смутился тот, всё ещё не отойдя от недавних переживаний. — Правая, левая — не знаю. Оружием у нас товарищ Турин командует.
— Турин там, а вы здесь, — подсластил райкомвод. — Хулигана вчера у всех на глазах осадили. Наганчик-то как выбили! Прокурор чуть в кусты не улетел.
— Вы тоже хороши, — буркнул Ковригин. — Такую бучу поднять из-за пустяшной бабы…
— Я извинюсь перед Павлом Тимофеевичем, — смутился райкомвод. — Он отходчивый. Мы вчера ещё расцеловались.
— Помните?
— Ну а как же…
— То вчера. Глазкин — он тоже памятливый на такие штучки.
— Она же у меня главбухом, — начал оправдываться Аряшкин. — И замужем к тому же. Двое деток. Общественная нагрузка у неё, профсоюзом командует, как же на глазах-то позволять?..
«А спала-то у тебя в палатке, — метнул взгляд на райкомвода Ковригин, — думаешь, по пьянке никто не заметил?»
Но промолчал, только хмыкнул.
— Да он небось и забыл всё? — с надеждой заглядывая в глаза Ковригину, не отставал Аряшкин. — Выпили-то сколько! Он ещё один сидел… С наганом у него часто такое бывает. Мне уже приходилось наблюдать. Это вам — первый раз. Как через меру хлебнёт — за наган и орать: посажу, перестреляю! Водка…
— Ну, миритесь, раз так, — отвернулся Ковригин в сторону палатки Странникова. — Василий Петрович тоже особо не обратил внимания. Стошнило, не до этого было.
В палатке секретаря губкома всё было спокойно, только ветер пытался порвать натянутые верёвки, да выдернуть колышки из земли, однако держалось до поры до времени всё крепко.
— Спят ещё, — проследил за его взглядом Аряшкин. — Пусть отдыхают, в такой ливень куда плыть? К обеду, думаю, растащит ветер тучи, отпустит погода. А там и товарищ Кудрявцев подоспеет. Образуется!
— Подождём, — зашагал к своей палатке Ковригин. — Пойду и я к себе.
— Куда ж вы один? — бросился за ним райкомвод, махнул рукой мотористам. — Ребятки! А ну-ка помогите Егору Ивановичу палатку наладить! Отдохнуть надо человеку.
К полудню действительно улеглась стихия, подоспел и Кудрявцев с топливом и продуктами, но дальше плыть не заладилось, Странников дал команду опохмелиться, послать разведку на завод предупредить, и заночевали они там же, чтобы утром плыть до конечной цели.
II
Спешил, сбегался народ на митинг, криками подгоняли опаздывающих спецы. Опытные постарше первыми подыскали удобные места на кучах щебня, камней, песка и строительного мусора, которых в заводском дворе теперь хватало. Находились смельчаки забраться повыше, оседлали мешки с песком на заградительном валу, не страшась разбушевавшегося ветра. Лениво перекидываясь остротами, посмеивались над суетившимися внизу, наслаждались возможностью спокойно покурить. Зазевавшиеся помоложе пристраивались под столбами с болтавшимися электрическими проводами, отирались у деревянных подпорок, поглядывая наверх, подзадоривая друг дружку, пытаясь влезть. Бабы ахали пугливо, ругались, стаскивали за рубахи отчаянных, а из толпы, уже жаждущей зрелищ и томящейся вынужденным бездельем, подхлёстывали шальных на разные голоса:
— Пашка! Лезь, не глотай сопли!
— Генка! Гни ему спину! Со спины удобней!
— Задницы отобьёте, жеребцы!
— Задницы-то ладно! Они у них железные! А вот что поважней всмятку треснет, это да!
— А что важней?
— А то и важней! Его и лишатся! Тогда уж точно от баб на забор придётся лезть!
И общий хохот красил щёки молодцам.
От нежданных минут отдыха люди, трудившиеся весь день на укреплении береговых сооружений завода, теперь потешились без злости, разглядывая понаехавшее начальство, сплетничали, перемывая гостям косточки, не зная, чем заняться. Нелепую заминку и дружное веселье вызвал споткнувшийся ненароком и кувыркнувшийся в пыли кругленький от заметного живота толстячок, инженер Херувимчик. Маленький, аккуратненький, в тёмной тройке и при галстуке, он суетился перед огромной трибуной, сколоченной наспех и теперь устанавливаемой под его командой на дощатом настиле посреди двора двумя здоровяками рабочими. Забегая то с одной, то с другой стороны, толстячок рукой крутил в воздухе виражи и тонким, визгливым голоском понукал затурканных им бедняг, которым к тому же мешала девица в синем платке и с красным покрывалом, мельтеша у них перед глазами и пытаясь набросить покрывало на трибуну, до которой с трудом сама дотягивалась. Снизу её всё время окликали, тянули графин с водой и стаканами еще помощницы.
Кончилось плачевно, Херувимчик оступился, завертелся на земле, вырвал ветер из его беспомощных рук листки бумаги и, разметав, совсем издеваясь, забросил вверх, аж к тем, которые пытались словить их на валу, да не тут-то было. И погнал их расхулиганившийся буян в волны речки, настойчиво и коварно подбирающейся к заводу. А с вала беззаботно неслось:
— Улетел твой доклад, Василий Карпыч!
— Как критиковать нас будешь?
— Крыть-то нечем!
— Матом, матом их крой! Чтоб до кишок пробирало!
— Карпыч-то? Он и слов таких не знает!
— Учиться у народа надо!
И хохотали снова передние ряды, а с ними и все, кто бездельничал.
Привыкший ко всякому от этого весёлого народа, Херувимчик, нисколько не конфузясь, посидел в пыли, огорчённый, с одним оставшимся листком, сплюнул с досады, выбросил и его, ругнулся без злости, будто клятву давал:
— Я вот выдам некоторым! Поржёте у меня… Без мата достану до нутра!
— Так их, Карпыч! Крой! — гоготали в ответ.
— Здоровая обстановка у тебя в коллективе, — нагнулся Странников к директору.
Тот, тоже низковатого роста, встал на цыпочки, пытаясь достать до плеча ответственного секретаря:
— Что?
— Боевая атмосфера, говорю! — крикнул Странников и махнул рукой членам чрезвычайной комиссии, державшимся несколько поодаль. — Иван Григорьевич! Ты — власть, тебе открывать.
— Вы — председатель тройки, Василий Петрович! — долговязый и костлявый Сергиенко, заместитель председателя губисполкома, отбиваясь, затряс обеими сухими ручками, поджав их к впалой груди, запорожского вида усы обвисли, бескровная лошадиная физиономия его вытянулась ещё более. — Как же? Вам — по рангу!
Странников, особо не протестуя, перевёл глаза на грузного Трубкина, начальника ОГПУ, хмуро наблюдавшего за развеселившейся у трибуны публикой.
— Пока нет надобности, — поджал губы тот, — хотя… Не нравится мне вся эта клоунада и инженер этот. Тю-тю доклад-то… А что в докладе? — повернулся он к директору завода. — Почему доверили ему выступать?
Директор посерел, с цыпочек вниз опустился.
— Проверяли мои ребятки, что он там нацарапал?
— Призывы… призывы одни, — промямлил наконец директор.
— Призывы — ладно, схем сооружений не рисовал?
— Да что уж ты, Яковлевич! — хмыкнул Странников. — Зачем ему схемы на митинг? Он их и без того наизусть знает. Доверять надо нашим спецам, а Херувимчику особенно. Спроси у Сергиенко, инженер этот, не смотри что коротышка, на Стрелке валы укреплял. Большой дока по этой части.
— Докладывали мои, — буркнул тот. — Не имел возможности лично познакомиться.
— Вот и знакомься, — насупил брови ответственный секретарь. — Только в контору свою не тащи, он на валах каждый час нужен. Бери пример с нас. — Странников отыскал глазами замгубпрокурора с райкомводом, застоявшихся за спиной Сергиенко, — Почти все береговые укрепления города объехали по воде. Своими глазами прорехи видели. Людей встряхнули. Бюрократия, она в таких делах вредней паники!
— Работаем и днём, и ночью, товарищ ответственный секретарь губкома! — дёрнулся, пятясь назад, не ожидавший укора Трубкин. — Я лично дополню доклад, если появятся замечания.
— Нет уж, Григорий Яковлевич! — совсем полыхнул плохо скрываемым гневом Странников. — Ты к народу приехал! Есть что — выкладывай сразу, а за мной подтирать не позволю!
Странников, не отошедший ещё от многосуточного пребывания за городом, плавания на моторных лодках по вздувшейся, крушащей берега реке, похмелился с Глазкиным и Аряшкиным на причале завода, где встречал их хлебосольный директор, и открытая заносчивость, верхоплюйство Трубкина, которого он не переваривал, в этот раз взвинтили его не на шутку. Члены комиссии, прибывшие на митинг по суше на машинах, притихли, затаились в ожидании сиюминутной грозы. Но Странников крякнул, выхватил трубку из кармана, сунул в рот, а, опомнившись, хлопнул ею в кулак, развернулся и стремительно шагнул к настилу.
Оттеснив всех, бросился за ним Глазкин. Застывшего в замешательстве начальника ОГПУ больше обойти никто не решался. Толпились, переминаясь с ноги на ногу за его громоздкой поникшей спиной. Уже запрыгнув на настил, Странников в развивающемся на ветру расстёгнутом пиджаке, с взлохмаченными волосами ворвался на трибуну и взмахом руки невольно заставил собравшихся задохнуться от восторга, повскакать с мест и напрячь глотки. Кричали разное, не задумываясь. Это был общий суматошный, нервный порыв.
Больше звучали «Ура!» и «Даёшь Волгу!», но выкрикивалась уже и его фамилия, а Странников зажёг трубку, задымил, облокотившись, и, отставив её в сторону в согнутой руке, заговорил:
— Товарищи! Стихия не прощает разгильдяйства! Терять время на пустяки — смерти подобно! Открываю митинг!
— Ура! — подхватили сотни глоток.
Возвратившись из Москвы, Странников почему-то забросил папиросы и завёл трубку, похожую на ту, что не выпускал из рук его кумир в кремлёвском кабинете. Приметил, как магически действовала она на окружающих. Знакомая по портретам короткая простая трубка рождала известные ассоциации, создавала соответствующую атмосферу, меняла тон голосов собеседников и даже цвет их лиц.
Поступок быстро обратился в привычку, и он уже не замечал, что трубка постоянно мелькала в его руках. Отметил он теперь, как подействовала она на начальника ОГПУ, и намеренно закончил разговор с ним на повышенном тоне, хотя раньше старался не позволять себе этого, в каком бы состоянии ни был.
Между тем подтянулся к трибуне Сергиенко, и ответственный секретарь предоставил ему слово. Вне своего кабинета и стола говорить тот не умел, мямлил и глотал окончания слов, терялся от этого ещё больше и, наконец, совсем смутившись, попытался открыть пухлую кожаную папку, набитую бумагами.
— Товарищи!.. — беспомощно посмотрел он на Странникова. — Я зачитаю последние приказы чрезвычайной тройки и решения губисполкома. Думаю, вам сразу станет понятно, в какое отчаянное положение загнала нас вода.
— Неправда! — вскричал, перебив его Странников, и грубо оттеснил плечом. — Это мы загоним стихию в угол! А приказы?.. Что их читать?.. Этой вот рукой они и писаны!
И он взгромоздил над трибуной и над толпой кулак с зажатой в ней трубкой. Слова его утонули во взрыве смеха и в возгласах одобрения. И теперь прервать его не мог поднявшийся шум:
— Товарищи! Сейчас, когда бешеная стихия, опрокинув все прогнозы учёных и специалистов, собралась припереть нас к стенке, грозя таким уровнем паводка, какого не наблюдалось последние двадцать лет и не вспомнят седые старожилы, перед нами в штабе по наводнению встали два варианта решения главной задачи…
Пауза заставила притихнуть собравшихся. Посвистывал и гудел тревогою лишь ветер в проводах.
— Не распыляя сил и средств, заваловаться на пять-шесть вёрст и свезти туда главнейшие механизмы, оборудование, ценности, документы учреждений. Это первый вариант…
Он опять приостановился, ожидая реакции, но народ молчал, насторожившись. Не торопясь сделал затяжку-другую, выпустил дым, прищурился, всматриваясь, будто выискивая подозрительных в толпе. Люди невольно жались, пытаясь спрятаться, опускали головы, ни в чём не виновные, чуя неладное.
— Или, бросив на оборону все средства и силы, отстаивать от стихии весь город?
Вскрикнув, не выдержала, обмякла женщина, закрыв лицо руками. На неё не обратили внимание. Ждали, замерев.
— Мы выбрали единственно верный вариант — защищать весь город! Он должен жить вместе с нами. В Гражданскую спасли его от врага, отстоим и от стихии!
Голос утонул в возгласах одобрения. Когда поутихло, Странников заговорил проникновенно и негромко, заставляя замолчать всех, чтобы слушали его одного:
— Клянусь вместе с вами, друзья мои, и обязуюсь — другому не быть!
Словно умерло всё вокруг, такая наступила вдруг тишина, но поднялся инженер Херувимчик, одёрнул дрожащими руками запылившуюся свою тройку и запел не в такт и хрипло, смущаясь своего голоса:
— Вставай, проклятьем заклеймённый, Весь мир голодных и рабов!..И песню подхватили.
«Вот пьянь поганая! — поправляя пенсне, шевелил губами Трубкин, уставясь на покуривавшего трубку ответственного секретаря. — Где и кто научил его так говорить и зажигать чернь? Небось не верит ни во что, кроме баб, водки и власти над этими червями под своими ногами. Никого не признаёт. Но каков говорун! Скажет им сейчас — убей отца, мать родную, и ведь не ослушаются, словно под гипнозом пойдут и убьют!.. Успевает везде латать прорехи… Не схватить его, не удавить! А то бы так и вцепился в глотку поганую!..»
— Григорий Яковлевич! — ойкнул рядом перекосившийся от боли Сергиенко, стараясь вырвать у него свою руку. — Вы мне кость сломаете!
— Фу ты, чёрт! — выругался Трубкин и разжал пальцы. — Расчувствовался от речей Василия Петровича… Умеет говорить секретарь!
Не удержавшись, очутился на трибуне директор, заверил всех членов чрезвычайной комиссии, что приложит все силы; понесло на речи райкомвода Аряшкина, долго и нудно благодарившего комиссию и в особенности её председателя за мудрую мысль мобилизовать весь флот и расставить пароходы, баржи и прочие судёнышки вдоль берега, защищая город от губительных вод; полез было к трибуне начальник гарнизона и охраны, но его опередил замгубпрокурора Глазкин, видя, что Странников подмаргивает ему, показывая скрещенные обе руки — хорош, мол.
— Я в виде справки, — всё же юркнул за трибуну прокурор и, перекрикивая подымавшийся шум, объявил: — В связи с введением в городе чрезвычайного положения от имени прокуратуры хочу предупредить, что лиц, использующих стихийную ситуацию для своих мерзких делишек, ждёт усиленное наказание!
Тут же наступила тишина. Зашикали на неугомонных и поглядывающих на выход.
— Кража, совершённая при наводнении, карается отсидкой не ниже двух лет с конфискацией, а вооружённый грабёж — расстрелом.
— У тебя всё? — спросил Странников.
— Всё, — дорвавшись до графина с водой, выглотал второй стакан тот и, облегчённо выдохнув, сбежал с трибуны.
— А от мародёров как спасаться? — закричали с мест, пробираясь поближе к настилу. — Вооружить бы население? Дружины создать?
— Дружины имеются, товарищи! — гаркнул начальник гарнизона и охраны, которому не дали слова. — Желающие могут записаться прямо сейчас у начальника заводской тройки.
— Троек понаделали, да что толку? Одна суета! — неслось с мест.
— Чего врёшь? — отвечали. — Оружие не выдают, вот беда!
— Их учить надо! Забыли, как стрелять!
— Вспомнят да палить начнут, что делать станешь?
— Тише, товарищи! — попробовал прервать перепалку Странников, поднял руку с трубкой вверх, но она уже загасла. — Вот видите, — при общем веселье выбил он её не спеша и сунул в карман. — Это знак. Будем заканчивать. Главное в нашем положении — дисциплина и никакой паники! Может, мы и перегибаем палку, но за нарушения, разгильдяйство и неисполнение приказов тройки виновных будут карать по законам военного времени. Наш город теперь — сплошная линия фронта!
Он сверкнул глазами, помолчал, усмехнулся:
— А с тройками действительно того… Их получилось больше, чем необходимо, но дело поправимое. Сократим, а освободившимся — лопаты в руки! Но те, кому положено, будут вооружены. Об этом лично позабочусь. Город отстоим. Это я вам заявляю, ответственный секретарь губкома Странников!
III
После встряски у Берздина откладывать дело зама в долгий ящик становилось смертельно опасным. Понимая всю исключительность ситуации, добирался губпрокурор Арёл из Саратова в тонущую губернию паровозом, пароходами и другими попутными средствами, мучился, не переставая, раздумывал, как поступить: ведь оказался он, как в народе говорят, — между молотом и наковальней.
С одной стороны, Странников — ответственный секретарь губкома, портить отношения с которым всё равно, что уподобиться беспечному тупице и совать голову в пасть льву. С другой — коварный крайпрокурор, хотя открыто и намекнувший на известную опасность наводить тень на Странникова, имевшего крепкие связи в столице, однако недвусмысленно пригрозивший скорой проверкой, ждать от которой хорошего было бы не меньшим безумием.
Так и не найдя выхода, но добравшись наконец поздним вечером в родные места, побрёл губпрокурор грязный и уставший прямо с дороги в прокуратуру, кивнул дежурному, открывшему двери, поднялся в кабинет на второй этаж, забросил в угол походный портфель и открыл сейф.
Семьёй он так и не обзавёлся, к баловству тоже склонности не имел, жил один, не держа и домохозяйки, поэтому нередко оставался ночевать здесь же, в маленьком кабинетике, засыпая на стульях или укладываясь прямо на полу перед рабочим столом, бросив под себя видавшую виды шинель. Неприхотливость в быту и одиночество в жизни — известное преимущество, чем губпрокурор дорожил. Берёг он в себе ещё одно качество, так и не заимев привычки запивать беды и неудачи спиртным, поэтому достал из сейфа наган, зло блеснувший вороненой сталью, положил перед собой на стол и не спеша закурил.
Не подводил его этот суровый товарищ ни в одной фронтовой передряге, много лет прошло с той военной поры, не подведёт и теперь, если вдруг понадобится. Так просто он, видавший и худшее боевой командир, не сдаст жизнь неправедному противнику, позорному судилищу и расправе предпочтёт бессловесную пулю…
Тут, за столом, и сморило губпрокурора, сложившего на руки измученную тревожными думами голову.
А утром, которое, известное дело, вечера мудренее, лишь начался рабочий день, вызвал Арёл к себе на серьёзный разговор следователя Джанерти, больше русского, нежели иностранца, хотя и с итальянской фамилией. Надёжней и способней сотрудника он не знал, его и выбрал довериться.
Джанерти не надо было в деталях всего расписывать, он схватывал на лету и понимал с полуслова. При имени зама чёрные проницательные глаза его, до этого безучастно тускневшие, вскинулись на губпрокурора и ярко сверкнули, однако лишь на мгновение, и спрятались под длинными, словно женскими, ресницами. Чертовским красавчиком, видно, слыл предок итальяшки, неизвестно за каким дьяволом ещё при царе Петре перекочевавший в Россию, думалось губпрокурору. Может быть, приспичило удирать от верного кинжала в спину или чаши с ядом?.. Ещё в давние гимназические годы, увлекаясь историей, прознал юный Арёл про порочную и скандально прославившуюся коварством династию Борджиа, отравивших едва не всю знать средневековой страны. С тех пор и считал итальянцев способными лишь на зловредные интриги и заговоры. Прав был или заблуждался, однако Джанерти до прокураты работал агентом в уголовном розыске, прославился как раз тонким чутьём и умением распутывать хитрые и тёмные делишки нэпманов, торговцев-миллионщиков, запускавших руки в карман молодого пролетарского государства, только-только неумело налаживавшего экономику. За профессиональные способности предшественник Арла губпрокурор Вронский переманил Джанерти в прокуратуру следователем и не ошибся. Личное дело итальянца, которое от корки до корки изучил дотошный Арёл, сев в освободившееся грозное кресло, пестрело благодарностями за умелое разоблачение махинаций всевозможных ловкачей и прохиндеев от мала до велика: известный рыбопромышленник Кошкин открывал галерею расстрелянных за крупные хищения, далее следовали торговые дельцы братья Соловьёвы, прозванные за особую наглость и размах Соловьями-разбойниками, тихушник ювелирторга Иосиф Крамер, забиравшийся в недра хранилищ ценностей и орудовавший безнаказанно несколько лет, и прочие, прочие, прочие… хищники поменьше, пытавшиеся поживиться пролетарским добром. Взяточников и взяткодателей Джанерти знал как свои пять пальцев, относился к ним с пониманием пастыря, стерегущего до поры до времени своих овечек, погрязших в грехе и без розовых надежд на скорое исправление, той же монетой платили ему и те: выйдя после отсидки, смущённо кланялись за версту и ныряли в ближайшую подворотню, стараясь больше не попадаться на глаза.
Но были господа мозговитей и понаглей. Кляня для видимости свои прежние заблуждения, объявляя о горячем желании начать праведную жизнь, они проникали в различные околохозяйственные липовые организации — союзы, кооперации, конвенции, федерации или тресты, в бесчисленном множестве создаваемые в хаосе зарождающихся экономических экспериментов, и процветали трутнями, формально не нарушая закона. Наиболее яркой фигурой среди таких махинаторов выделялся Лев Наумович Узилевский, или попросту Лёвка, он орудовал в среде рыбопромышленников. В области торговли маячила зловещая тень Макса, так среди своих величали Максима Яновича Гладченко.
«Подкупать аппарат молодой, энергично набирающей обороты, такой неведомой ранее всему миру машины, которая к тому же имела смелость объявить себя государством рабочих, довольно тонкое искусство, — любил повторять Гладченко в кругу собратьев по махинациям, персоной грата[1] проникая в среду чиновников любого ведомства и вращаясь там, словно сыр в масле. — Здесь необходим особый подход. Безболезненно и без уголовных последствий для себя и своих пациентов способны на это единицы. Среди них я первый».
Этих двух незаурядных личностей Дженерти сразу обозначил губпрокурору.
— Они знают всё, что может вас интересовать в отношении Глазкина, — вымолвил следователь, небрежно покуривая сигару на иностранный манер. — Но для работы с ними я бы попросил для себя особых полномочий и в некоторой степени помощи службы Турина.
— А вы сами успели его забыть? — поинтересовался Арёл, намекая на прежние связи.
— Ваша просьба обязывает, — поднял брови Джанерти.
— Извините. Я бы не хотел его посвящать в наши планы, — резко обозначил губпрокурор, но видя, как изменилось лицо следователя, поправился: — Исключительно в интересах особой секретности поручения…
— Мне кажется, вы заблуждаетесь. Турин не тот человек.
— Что вы имеете в виду?
— Если кто-то из известного контингента осмелился запустить наверх маляву на такую личность в городе, как наш Глазкин, значит, у Турина имеются данные по этому поводу… Он посвящён во все козни такого рода.
— Почему же скрывает? Не даёт хода?.. Это же преступление по службе!
— Прячет или держит до поры до времени, — поморщился Джанерти. — Не ищите здесь злого умысла или чего страшного. По команде он выложит всё, личной заинтересованности он не имеет, у него своя метода.
Арёл оценил намёк следователя:
— Тогда не проще вам самому с ним пообщаться?
— Нет. Он мне ничего не скажет, — лицо следователя окутало непроницаемое облачко дыма. — Я изучил его тактику за то время, что посчастливилось работать под его началом. Извините покорно, но это опасная игра, а опытные игроки козырями не швыряются, если на кон поставлено всё.
— И это говорите мне вы?
— Именно, потому что доверяю вам, как, надеюсь, и вы мне. Доподлинно понимаю критическую ситуацию, в которой вы оказались. И искренне желаю вам помочь.
— Чем обязан, простите? — поморщился Арёл. — Мы с вами друг друга не так хорошо знаем.
— Я привык искать истину, а не выгоду, — привстал в кресле Джанерти и поклонился. — К тому же вы порядочный человек, а Глазкин — мразь. Я удивляюсь, что вы так поздно это разглядели.
«Разглядел!.. Он явно переоценил мои достоинства в этом деле. Правильнее будет — проглядел»! — мелькнуло в голове губпрокурора. Смутившись, он спросил:
— Но как только я обращусь к Турину за материалами, станут ясными мои намерения?
— Вам не следует этого делать, — категорически перебил его следователь.
— Вы только что сами заявляли об этом! — с покрасневшим лицом, Арёл не помня себя едва сдержался от брани.
— Вы заблуждаетесь, Макар Захарович, — тихо, произнёс Джанерти. — Мне достаточно вашего разрешения на контакты с определённой категорией лиц. Ваше слово — и больше ничего.
— Вы собираетесь работать с людьми Турина без его ведома?
Джанерти покачал головой, задымил сигару и снова окутался облаком дыма, будто специально пряча лицо в поисках ответа.
«Вот чёртов итальяшка! Весь себе на уме… — разбирало губрпрокурора. — Но куда деться? Ему всё известно наперёд. И то, что Глазкина за какие-то заслуги покрывает Странников, он знает тоже. Они здесь спелись все, а меня, чужака, держат за идиота!»
— Я воспользуюсь услугами и мерзких людей, — вместе с голосом возник и сам следователь в рассеявшемся облаке дыма. — Против такого противника, как Глазкин, все средства оправданы.
«Нет ли меж ними личной неприязни? — забеспокоился Арёл. — Наворотит, а я попаду из огня да в пламя…»
— Не сомневайтесь, — будто читал его мысли Джанерти. — Лично мне Глазкин обид не причинил, но нашему делу он вреден.
— Вы правы… Однако мне хотелось бы быть в курсе всех ваших действий.
Джанерти грустно улыбнулся:
— Мне представляется, вам важнее результат. К чему вам копаться в грязи, она так прилипчива к чистой обуви?
Губпрокурора заметно смутила откровенная тирада.
— Ну ладно, — помолчав, буркнул он и обмяк. — Рамки закона вам известны. Материалы, что были собраны мною, оставил у себя Берздин. Мне вам дать нечего. Исходите из того, что я рассказал.
— Пик наводнения ожидается со дня на день… — Джанерти уже думал о своём.
— Да. У вас в лучшем случае неделя, ну полторы от силы.
— Уйма времени…
— Торопитесь… Я не знаю, чем вам помочь. К тому же вынужден огорчить: автор заявления при дополнительном опросе отказался от всего.
— Вот так, значит?
— Явно, на него оказано давление.
— Он жив?
— Что?
— Я говорю, нет ничего лучше, как начинать с чистого лица, — улыбнулся Джанерти.
IV
Ещё на митинге, запомнив выкрики, Странников озадачил Сергиенко подготовкой проектов соответствующих приказов и распоряжений тройки, и тот, задействовав Юсакова и машинисток, бодрствовал заполночь, добросовестно исполняя указания. Ему было не впервой оставаться ночевать в кабинете, к этому режиму привык и его аппарат, каждый давно оборудовал рабочее место под внезапный ночлег.
С рассветом, приняв дежурного чая, на свежую голову, Сергиенко шлифанул редакцию подготовленных документов, но расслабляться не думал. Предстоял не менее сложный момент подписания бумаг у ответственного секретаря и начальника ОГПУ. Дело в том, что Странников и Трубкин вносили множество поправок, словно старались переусердствовать друг друга. На людях не выказывая чувств, они проявляли гадость на бумаге, скрывая тайну от посторонних глаз.
Чего больше было между ними? Скрытой ненависти и взаимного подозрения, родившихся неизвестно когда и почему? Зависти и презрения?.. Симпатий не наблюдалось никогда.
Даже в чрезвычайной тройке — в штабе по борьбе с наводнением, по существу, в крохотном коллективе, призванном денно и нощно организовывать огромную по масштабам работу на территории всей губернии, держались чужаками. Виделось это невооружённым глазом, уже в первом приказе, который долго попеременно правили оба, значилось:
…Для связи с губернской чрезвычайной тройкой по вопросам, требующим принятия решительных мер, обращаться по телефонам:
Предкомиссии т. Странникову: служ. тел. 10, дом. 2–96;
Члену комиссии т. Трубкину: служ. тел. 5–01, коммутатор ОГПУ;
Члену комиссии т. Сергиенко: служ. тел. 5–06, дом. 3–32;
Секретарю т. Юсакову: служ. 5–61, кв. 2–02.
Также порознь готовились и документы. Писал их Сергиенко, на которого как-то само собой свалилась эта тяжкая ноша. После получения задания он садился корпеть над проектами приказов, распоряжений, указаний и других важных бумаг. Затем согласовывал их с членами, а в заключение бегал ловить начальников — подписывать. Когда не удавалось, перепоручал Юсакову, но поступал так редко — обоим не нравилось общаться с секретарём штаба.
— Мечусь, как древние греки между Сциллой и Харибдой[2], — отдуваясь, жаловался долговязый Сергиенко своему непосредственному начальству председателю губисполкома Арестову, которому одному открывал душу в редкие минуты затишья на фронте вечной суматошной занятости. — Не могу угадать, какая кошка между ними пробежала?
Сергиенко в далёкой юности начинал учителем и порой злоупотреблял заумными суждениями и сравнениями, ставя в тупик окружающий аппаратный контингент в основном пролетарского образования. Однако мудрого Арестова это не касалось, потому что мудрый Арестов понимал и знал всё, усмехаясь в свои чёрные, как смоль, казацкие усы:
— Ревность между ними пробежала великая…
— К бабе? — ахал хохол.
— К бабе, к бабе, — щурился довольный собой председатель. — Только прозывается та баба властью. Соображаешь?
И Сергиенко таращил глаза, в который раз поражаясь прозорливостью начальства, как его собственную голову не посетила столь очевидная разгадка!
А ведь лежала на поверхности, всё действительно заключалось в этом.
Прародительницей Главного политического управления была Всероссийская чрезвычайная комиссия с её органами на местах — самый грозный и беспощадный карательный государственный орган. Сергиенко приходилось слышать страшные подробности о работе одного из председателей ЧК в 1919 году: люди прятались в подворотни, опасаясь угодить ему на глаза, когда, побрякивая маузером по боку, бородатый, тщедушный и страдающий тяжкой болезнью, брёл он по улицам города, шаря вокруг ненасытными глазами, словно вампир, алчущий человеческой крови. Боясь близкого конца, каждую ночь сам приговаривал к смерти попавших в лапы, лишив жизни за четыре месяца своего короткого правления не одну сотню людей…
Создаваемые на заре советской власти чрезвычайные комиссии призваны были вести борьбу с контрреволюционным саботажем, формировались региональными партийными и местными органами власти из зарекомендовавших себя ещё в подполье известных большевиков, естественно — им были подчинены и подконтрольны, а также ограничены в правах. Но длилось это недолго. Дзержинский, вскоре возглавивший ВЧК, при поддержке Ленина быстро прибрал всю власть к рукам, переподчинив управление себе и перестроив, введя в практику направлять на места для руководства своих людей, непосредственно подчиняющихся только ему, и наделяя их неограниченными полномочиями. Пальцем теперь не могли тронуть чекиста ни региональный секретарь партии, ни председатель соответствующего совета! Ему же удалось значительно расширить функции и полномочия ЧК и их руководителей, получивших право бесконтрольно вести агентурную работу против любого, негласно подслушивая и отслеживая, заводить дела, производить обыски и аресты. Требовались лишь подпись и печать местного начальника. Вершилось и главное беззаконие, выносились несудебные решения вплоть до расстрела.
Очевидный беспредел не мог не вызвать недовольства мирного населения, а порой приводил к открытым стихийным противодействиям и вооружённым выступлениям.
Сергиенко было известно, что Арестов тем и прославился, когда в 19-м году, будучи командиром преданных ему бойцов Железной гвардии, рискуя собственной головой, взял под стражу зарвавшегося чекиста, присланного с Кавказа, и предал бы его суду за злодейства, не защити того Киров с Дзержинским.
В стране случаев подобного рода было немало: в 1920 году вынуждены были расстрелять пятерых сотрудников Николаевского Губчека за коррупцию, взяточничество и другие должностные преступления, четверых екатеринославских чекистов — за шантаж и вымогательство…
Однако ни один пример не был обнародован, как и тот позорный случай в их городе, наоборот, постарались забыть, изобразить события в ином свете, а на тех, кто вспоминал, недобро косились.
Но расстреливать по ночам так и продолжали, пообещав публиковать списки в газете «Коммунист»…
Если в первое время советской власти Ленина не пугали неограниченные полномочия органов ВЧК, то рост репрессий, увеличивающийся с каждым годом, заставлял задумываться. Щупальца спрута, руководимого Дзержинским, не знавшего пощады, всё глубже проникали во власть, добирались до самих партийных деятелей — прародителей монстра, творя бесчинства и наводя ужас. Это подтолкнуло Ильича активно поддержать инициативу члена Политбюро РКП(б) Каменева о сужении полномочий ВЧК, Ленин даже отклонил скороспелый проект, не только не реорганизующий комиссию, но и не менявший её названия. Но большего сделать не смог даже он. Процесс оказался необратимым, с монстром нельзя было покончить либеральными и гласными средствами. Требовалась секира, но к тому времени Сталин ещё не окреп.
В очередном проекте, полностью политическом, комиссию, конечно, переименовали… в ГПУ, сохранив и приумножив кадры, расширив функции, а скоро наделили и правом на расстрелы без законного правосудия.
Вот о чём знал и всегда помнил Арестов, вразумляя своего заместителя: сам же он старался забыть свои легкомысленные подвиги в молодые годы на заре взбаламутившей ему кровь революции, никому о них не рассказывал, тихо и мирно просиживал штаны в кабинете председателя губисполкома, с нетерпением выжидая момента убраться с глаз долой подальше, где б его никто не знал; вынашивал он и другую тайную мыслишку, а вдруг ненароком удастся взлететь высоко, стать совсем недосягаемым… ежели, например, в столичный Кремль… А что?
Сергиенко же, покончив с бумагами и откушав чая, принялся за поиски обоих членов тройки, приказав секретарше прозвонить им в приёмные. Каково же было его удивление, когда доложили, что Странников у себя должен быть с минуты на минуту, так как назначил встречу начальнику ОГПУ, и Трубкин собственной персоной уже с полчаса дожидается в приёмной его прибытия.
«Вот момент, который больше может не представиться! Обоих враз и застану!..» — вгорячах схватил папку с документами заместитель и уже готов был мчаться к дверям, но другая мысль остановила его.
Вспомнил он то самое едкое замечание мудрого своего начальника по поводу означенных лиц, собственные размышления, разбередившие душу во время чаепития, и, откинувшись на спинку кресла, крикнул, чтобы принесли новую чашку, только холодней. Остудиться вдруг захотелось и не без основания.
А Странников, задержавшийся в больнице, возвращался к себе. Хмуро кивнув поднявшемуся навстречу Трубкину, прошёл в кабинет, на ходу задымив трубку.
— Как сегодня вода? — бросил без выражения за плечо.
— Уровень ниже, — топал за ним Трубкин, нагнув голову, потея и поправляя спадающее на жирный нос пенсне.
— Думаешь, не повторится 31 мая? — резко развернулся секретарь, вдруг остановившись. — Не набросится, как в тот день, стихия, словно убийца из-за угла?
Трубкин отпрянул, чтобы не натолкнуться, промолчал.
— Пережил я те сутки тяжко, до сих пор в глазах брызги волн, рвущих наши валы. Не дай бог снова! — так и не дождавшись ответа, секретарь прошагал к столу, грохнулся в кресло всем телом, обмяк, перевёл дух. — Вчера на митинге не пугал народ особо, но остерёг, чтоб на расслабились. Вражина силы ещё имеет, чтобы тайно броситься. Ох, могуча стихия! А главное, ничего про неё доподлинно неизвестно, как про коварного врага! А?.. Что молчишь?
— Спадает вроде… — выговорил наконец начальник ОГПУ. — А может, и повторится всё… Вы ж правильно обозначили — стихия. Но мы начеку.
— Вот и я жду, — шумно выдохнув, окутался табачным дымом секретарь. — По ночам не спится, а повезёт со сном — кошмары допекают. Всё за спиной кто-то крадётся.
Странников разогнал дым рукой, впился глазами в Трубкина, словно тот его и мучил ночами, но помалкивал начальник ОГПУ, так и стоял навытяжку, сам на себя не похож.
— Чем маешься? Знаешь что? Какая ещё зараза нагрянула?
Трубкин, решившись, убрал с носа пенсне, завертел в руках папку — не поддавались тесёмки, выскальзывали из толстых коротких пальцев.
— Да брось ты её! — в сердцах не выдержал секретарь — С Таскаевым что-нибудь? Что топтуны да слухари твои проведали?
— Снял я с него наблюдение… — прорезался голос у Трубкина, побледнев, он икнул и выпалил: — Мейнца арестовали в Саратове.
— Что? Кого? Мейнца?!.. — Странникова так и подбросило на ноги. — Ты в своём уме?! Когда?
— Ночью. Телеграфом сообщили. Дежурный с постели меня поднял…
Странников дрогнул, словно его ударило в спину, обмяк в кресле, схватившись за голову, забормотал несвязно:
— Я ж в розыски пустился. Звоню туда — отбыл назад, отвечают… Из-за наводнения, думаю, где застрял… А значит…
— Секретным… спецтелеграфом поручение поступило, — затянул своё Трубкин. — Приказано провести обыск у него дома и по месту работы.
— В губкоме?! — конвульсии пробежали по лицу секретаря.
— Деталей мало сообщили… Взяли их с Венокуровой…
— С Катькой?! — в большом удивлении вскинул глаза Странников.
— На явочной квартире обоих и накрыли перед самым отъездом. Всю троцкистскую банду.
— Сволочи!.. — будто очнулся от отупения секретарь, заскрежетал зубами и заколотил ладонями обеих рук по столу.
— Мейнц дал признательные показания, — не останавливаясь, вываливал всё до конца Трубкин. — Про доклад ваш тоже. Сжёг он его.
— Сволочи! — уже стонал Странников. — А баба эта!.. Кроме бл…ва, ни на что способна не была!
— Активными членами значились оба, — осторожно поправил его Трубкин, бледность исчезла с его лица, он вроде как бодрился, смелее поглядывал на метавшегося секретаря. — Приказано проверить их контакты.
— Контакты? Ах они!.. — Странников грязно выругался. — Свили гнездо осиное в губкоме! Слушай, здесь же её сеструха… Та, что кренделя ножищами выписывала! Приказываю!.. Немедленно её арестовать! Так и запиши в ордере — с моего указания! Слышишь? С моего!
— Будет сделано.
— Сделано?.. Бегом несись! Упустишь, голову оторву! — Странников весь переменился, кровью налилось его лицо, он исподлобья смерил с головы до ног стоявшего перед ним человека, будто впервые увидел. — Как же ты прошляпил? А-а?.. С докладом я их ущучил… Тебе твердил, приказывал… А ты спустя рукава?!.
Трубкин, бледнея на глазах, подбирал живот.
— За Таскаева, дурочка, ухватился… Нюх утратил!
Потолок мог рухнуть от крика. Трубкина качнуло, он и голову вжал в плечи.
— Сегодня же даю в центр телеграмму, — медленно отчеканил Странников. — Сообщу, что вскрыл осиное гнездо. А ты проявил близорукость. Пусть пришлют людей помочь мне вывернуть всё здесь наизнанку. Не пощажу никого! А ты поспешай со своим поручением. Чтоб без промедления! И докладывать мне! Каждый вечер! Слышишь?
— Так точно.
— А теперь пошёл вон!
V
Инструктор губкома Игорёк Иорин несколько смутился, услыхав в телефонной трубке почти забытый с картавинкой голос Роберта Романовича Джанерти. Совсем разволновавшись, по этой характерной картавинке, мягким вкрадчивым ноткам и распознал окончательно. Звонили на квартиру, искали его симпатий в основном женщины, а если мужчины, то люди иной ориентации, нежели следователь прокуратуры. Беспокоились они насчёт посещения салона мадам Алексеевой Татьяны Андреевны, где Игорьку принадлежала особая роль. Поэтому звонили, как правило, загодя — по утрам в выходные дни, пользуясь его квартирным телефоном, который он берёг от чужих ушей. А этот звонок был поздним, ночным, Игорёк их не любил и с некоторых пор вовсе побаивался.
Схватив аппарат и выразительно глянув на встрепенувшуюся, тут же бросившуюся одеваться Эмму Самуиловну, молодящуюся жену известного в городе стоматолога, Иорин нагишом выскочил в прихожую, прикрыв за собой дверь и, прислушиваясь к женским шагам, постоял — доверяй, но проверяй! Только после этого шёпотом поздоровался.
— Легли отдыхать? — извинившись, поинтересовались на другом конце провода.
— Что вы? И не собирался, — не зная, что отвечать, придумывал Игорёк. — Зачитался, знаете ли…
— Извините покорно, — Джанерти был верен себе. — Положил бы трубку, любезный Игорь Евграфович, но дело не терпит. Хотелось бы увидеться…
Несколько месяцев назад, ранней весной Иорину довелось лично познакомиться с этим тонкой психологии человеком, к которому сразу же он проникся уважением и признанием, хотя обстоятельства, предшествовавшие их случайной встрече, в известной степени были довольно деликатными и даже весьма трагическими. Иорин подвергся нападению бандитов, в некотором роде пострадал, и жизнь его, как говорится, висела на волоске, не окажись поблизости милиционера. Егор Ковригин, после этого удостоившийся чести раскатывать на служебном автомобиле с самим ответственным секретарём губкома товарищем Странниковым, стал его спасителем. Тогда и познакомились они с Джанерти, занимавшимся тем делом по поручению губернского прокурора и как нельзя лучше справившимся. Естественно, случившееся не получило огласки. Игорёк от всего сердца попытался отблагодарить понравившегося человека, а прознав, что тот одинок, пригласил Джанерти посетить салон мадам Алексеевой. Попасть туда мечтали и добивались особы серьёзные, но следователь с присущей ему деликатностью отказался, сославшись на занятость. Игорёк пробовал было настаивать, гарантируя абсолютную секретность визита, но тот поспешил перевести разговор на другую тему, и больше они не встречались. Но вдруг Джанерти нашёл его сам. «Созрел-таки чистоплюй», — усмехнулся Игорёк, многоопытный в таких делах и тут же поинтересовался:
— Вас привлекают брюнетки или блондинки?
В трубке возникла пауза.
— Полностью полагаюсь на вас, — наконец последовал ответ. — Мне, знаете ли… хотелось бы особу поинтеллигентней и с понятиями…
«Все они дуры!» — так и хотелось пошутить Иорину, но он выдержал соответствующую мину и пообещал устроить всё, как нельзя лучше.
— Желательно поскорей, — сразу окреп голос следователя, тут же добавившего будто невзначай: — И ещё одна просьбица…
— К вашим услугам.
— Не смогли бы вы там же организовать ещё одно свиданьице?.. Со Львом Наумовичем?
— С господином Узилевским? — не сумел скрыть удивления Иорин, его поразила осведомлённость собеседника насчёт постоянного клиента салона.
— С любезным Львом Наумовичем мы давненько не виделись, — доверительно продолжил Джанерти. — Пусть это будет для него приятным сюрпризом.
— Я вас понял, — заверил Иорин, больше ничего не спрашивая.
В следующий вечер, в понедельник, он поджидал следователя в условном месте на набережной.
Они поздоровались, будто старые друзья. Джанерти по обыкновению не расстающийся с лёгкой тросточкой, похлопал свободной рукой по плечу Игорька, но тот бросился обниматься, после чего провёл желанного гостя со служебного хода прямо в кабинет, как тот и просил.
— Ну? — обвёл он уютную комнатку ласковым взглядом. — Как вам у нас?
— Недурственно.
— Закажете ужин? Или выпьете чего? — Игорёк кивнул на пёстрый, так и притягивающий к себе диван.
— Давайте-ка поступим иначе, — предпочёл стул дивану Джанерти. Он откинулся с удовольствием на спинку, ещё раз внимательно огляделся и, оставив трость между ног, пристроил шляпу на краешек стола. — Два бокала хорошего красного вина, фруктов и обещанную персону… Как?
— Чудесненько! — приветствовал его решение Игорёк. — Делу время, а потехе ночь! Располагайтесь. Я — за вашим визави[3], но мы не прощаемся. Я вас ещё навещу, следующий сюрприз за мной, и вы, уверен, останетесь довольны. Дамочки у нас — пальчики оближешь.
— Премного благодарен, — сдержанно раскланялся Джанерти, приглушил лишний свет и, оставшись в полумраке, полез за сигарой.
Он ещё раскуривал, когда на порог неуверенно ступил Узилевский, вытянув вперёд маленькую головку с замасленным пробором. Он долго близоруко всматривался, сюрприз был налицо — этого человека увидеть перед собой ему явно не хотелось. И тем не менее он быстро пришёл в себя, преобразился, и сладкая улыбка расплылась по его физиономии:
— Роберт Романович! Вот счастье-то! Вас ли я вижу?
Секунда — и хитрец бросился бы обниматься, такая искренняя радость полыхала в его глазах.
— В этом вертепе, хотели бы вы сказать? — отгораживаясь, схватился за трость Джанерти в гневе. — Вы, голубчик, задумали в прятки со мной играть! Откуда сии проказы?
— И мыслишки не мелькало, дорогой Роберт Романович! — всплеснул руками тот, как ни в чём не бывало. — В разъездах весь. Из Саратова возвратясь, умчался на низа. Там дела плохи. Стихия закрутила. В такие передряги угодил! Едва живой, Бог смилостивился, сюда вот душу грешную отогреть заглянул, а Игорь Евграфович мне такую любезность преподнёс!..
— Ну хватит комедию ломать! — пресёк, стукнув тростью об пол следователь. — Хватит! Присаживайтесь. По вашей милости пришлось здесь вас вылавливать. А Игорь Евграфович не при чём, не вздумайте заподозрить его в какой мерзости или ещё коим образом приплести к нашим отношениям.
— И мыслишки не мелькнуло… — опять затянул своё Узилевский, конфузясь.
— Садитесь! — с раздражением ткнул тростью на диван Джанерти. — Должен вас остеречь на будущее. Подобного не потерплю! Церемониться с вами не намерен. За решётку упеку в два счёта. С избытком на свободе задержались, мне совесть спать не даёт, гложет, как подумаю, что вы за спиной моей творите.
— Смилуйтесь! Да чем я провинился, Роберт Романович? — слетела спесь с лица мошенника, и он вмиг побледнел. — Знать бы вину?
— Полноте! — прихлопнул по столу следователь. — Не валяйте дурака! И давайте без истерик. Вам известно, что я вас разыскиваю, однако вы не явились в положенное время на известную вам квартиру. Этого достаточно!
— Но я же объяснил! — взмолился Узилевский, вскинув руки.
— Даю вам последнюю возможность… — начал было Джанерти, но впорхнула девица в легкомысленном одеянии, чуть прикрытая ярким фартучком спереди, заставив стол вином и фруктами, улетела.
— Так вот, — когда остались одни, сухо продолжил следователь, — у вас есть возможность миновать тюремную решётку на некоторое время…
— Боже мой! — слетел с дивана на колени Узилевский. — Что я должен сделать? Маму убить? Я готов!
— Не паясничайте! И сядьте за стол, — нахмурился Джанерти, а мысли его уже были заняты другим, он пододвинул бокал с вином, сам сделал глоток из своего и затянулся сигарой. — Человека, который меня интересует, вы знаете. На него написали письмо, но все отказались, лишь была начата проверка.
Лицо Узилевского дёрнулось:
— Как! Вы взялись за своих?
— Вот видите, вам всё известно, — строже заговорил Джанерти. — Эти люди должны объяснить причину отказа и подтвердить всё сызнова.
— Но… — попытался возразить Узилевский.
— Ни слова! — неумолимо настаивал следователь. — Теперь им придётся явиться в ГПУ к Трубкину.
— Боже мой! Боже мой… — покачивая головой, ухватился Узилевский за бокал и осушил его залпом. — Что творится на этом свете? Вы требуете от меня невозможного!
— Значит, вам милее тюремная решётка? — затянулся сигарой Джанерти. — Но знайте, малым сроком не отделаетесь. Я повешу на вас всех собак. Сгною на нарах.
— Чем я вам так ненавистен? — упал головой на сложенные руки Узилевский.
— Не скулите. Откажитесь, у меня есть в запасе Макс, Нартов, Чубатов, в конце концов я сам возьмусь за автора письма. Имя его известно.
— Нет! — подскочил на ноги в истеричной решимости Узилевский. — Я согласен!
Джанерти хмуро усмехнулся, плеснул вина в бокал, протянул:
— И надо было ломать комедию?
Узилевский лишь заблестел глазами и выпил, ни слова не говоря.
— У вас три дня на улаживание всей этой гнусной истории. Мой человек в ГПУ сообщит, если справитесь с задачей. И не вздумайте сбежать из города. Возмездие неминуемо. Только ни о каком суде тогда не мечтайте. Всё будет гораздо прозаичней. — Джанерти поднялся, надел шляпу, шагнул к двери. — Да, приведите себя в порядок, мне не нравится ваш вид. И придумайте что-нибудь для Игоря Евграфовича по моему поводу… Скажите, приболела голова. И бодрей, бодрей!.. Что вы так согнулись?
Зная все закоулки притона, в провожатых этот человек не нуждался.
VI
Турин дочитал последний лист «Коммуниста», глянул на тумбочку — положить некуда, вся заставлена снедью, соками, лекарством. Постаралась, как обычно, с утра Серафима да убежала по своим делам, покуда он ещё спал. С некоторых пор лишь ему разрешено было подыматься на кровати, самому садиться и опускать ноги к полу, она, приготовив завтрак и всё необходимое, оставляла с короткой запиской на тумбочке и убегала в театр, возвращаясь к обеду. Турин не ревновал, но нервничал — Григорий Иванович Задов, имя которого теперь не успевало слетать с губ Серафимы, полностью завладел её свободным временем. Вечером, допоздна просиживая возле выздоравливавшего больного, она только и бредила предстоящей премьерой грандиозного спектакля, которую тот замыслил, восхищалась ролью, что Задов специально для неё написал, и была без ума от предстоящего праздника, посвящённого, конечно, победе над стихией.
В пьесе всё было ново: от мудрёно закрученного сюжета до необычных костюмов и декораций, по её рассказам Задов собрался заткнуть за пояс какого-то модного в столице Мейерхольда[4], поэтому, разучивая роли и репетируя, актёры в авральном порядке шили невероятные одежды и сколачивали немыслимые декорации, творя такое, чему сами же и поражались.
Пьеса носила название, похожее на статью в газете, которую Турин на днях читал. Ещё тогда его задели, заскребли собственные домыслы: Задов будто сговорился со Странниковым, в одну дуду у них всё получалось.
Турин набрался сил, крякнул, нагнулся, достав с горки на полу нужную газетку с той статьёй. Пробежал глазами по строчкам:
Три недели борьбы с наводнением
Доклад отв. секретаря Губкома ВКП(б), председателя Губ. чрезвычайной тройки по борьбе с наводнением тов. Странникова на пленуме Горсовета.
Пьесу актёр назвал: «Три недели борьбы и обороны».
Серафиме и Задову предстояло играть в ней главные роли. В связи с этим, лишь миновала опасность, всю труппу сняли с обваловки и в театре начался свой аврал. Задов метался по сцене, не закрывая рта, ревел, словно выпущенный из клетки тигр, — премьеру решено было сварганить во что бы то ни стало сразу после пленума. Так было задумано, об этом оповещали афиши, которые спешно писали и расклеивали сами актёры, однако внезапно нашёлся всесильный, перенёс сроки, и афишки пришлось срывать.
Вечером Серафима возвратилась из театра вся не в себе, на расспросы Турина отмалчивалась, по-детски поджимая губы и тая обиду, но не прошло и часа, присела к нему на койку, ткнулась лицом в плечо и разревелась. Как мог, пытался он её успокоить, расспрашивал, что произошло, пока она, глотая слова вперемежку со слезами, объявила, что отложил премьеру сам Странников, а Задов по большому секрету только с ней поделился причиной — секретарь якобы звонил в Москву, рапортовал о полной победе над стихией соответствующему начальству и получил в награду обещанное приглашение работать в столице. На радостях, поломав их планы, затеял он поездку на лодках и гулянье по Волге, приглашает избранный круг лиц, в том числе нескольких артистов. Естественно, премьера переносится и станет своеобразным апофеозом его пребывания в провинции.
— Чем-чем станет? — переспросил Турин, весь напрягшись, и внимательно её слушавший.
— Прославлением, — кольнула взглядом та, — в театре это торжественная заключительная сцена с участием всех артистов.
— Всех ли? — задумчиво иронизировал Турин. — Обожествление — переводится это слово буквально. С греческого на наш. А рядом с богом простым смертным места нет… Хотя, чего мелочиться, великим стал Василий Петрович, читал я и статью его, и доклад на пленуме: он и стихию победил, и в столицу уезжает, небось не в лавку торговать пригласили, в ЦК, думаю, отправится прямой дорожкой…
Молчание, тягостное и долгое, разделило их после этих слов, Серафима явно пугалась его нарушить, видя, как заострилось лицо Турина, как зло сверкнули глаза.
И всё же она решилась:
— Я что-то не пойму тебя, Василий. Ты радоваться должен за него! Сколько мне о нём хорошего сказывал на этой вот койке несколькими днями ранее? О крепкой вашей дружбе делился, хвастал, что понимаете друг друга с полуслова…
Турин лишь хмуро отвернулся.
— Что молчишь?
— Он, Серафима, вроде тебя, у него любовь да дружба коротки.
— Зазря-то не наговаривай! При мне тебя навещал, видела его лицо, небось не к каждому такой большой человек в больницу прибегает. Примчался, словно угорелый, и битый час с тобой валандался.
— Чую, тебя Странников тоже на гулянку пригласил?
— Ну и пригласил, — вызывающе вздёрнула нос Серафима. — Я главную роль в спектакле играю, а не абы что! Григорий Иванович мне приглашение передал, только не решила я — ехать или наплевать.
— А чего ж молчала? Слёзки даже пролила. Почему сама не созналась?
— Ба! Да не ревнуешь ли ты меня, Василий Евлампиевич? — всплеснула руками Серафима, спрыгнула с койки, усмехаясь, вся преобразилась. — В чём мне сознаваться? Украла я или убила кого?
— А молчишь?..
— Сказать не успела.
— А Егор как же?
— Егор?.. А что Егор? — смутилась она и тут же зарделась. — Чего это вы Ковригина сюда приплели?
— Не юли, Сима. Не надо, — одёрнул он её хмуро. — Знаю я про все ваши ночные любовные дела.
— Это откуда же? Следил за нами по ночам?
— Он мне сам открылся, хотя я догадывался, что встречаетесь вы тайком, как в больнице у меня он объявился.
— И что? Враз про любовь заговорил?
— Не тот он мужик, чтоб трепаться. Ангел — крепкого характера человек.
— Ангел?..
— Натерпеться в жизни ему пришлось, а человеческая сердцевина уцелела, вот и прозвал я его так.
— И чего же наговорил тебе этот ангелочек?
— А ничего! — отбрил Турин, скрипнув зубами. — Ты, Серафима, не особенно-то кичись! Для других спесь побереги. У нас с тобой чувства тоже были. Только быстро ты всё забыла. И Егор к тебе в своё время прикипел, из-за чего едва смерть не принял от атамана Жорки. Или тоже память отшибло?
— Забудешь! — вспыхнула та. — Рубцы до сих пор на спине ношу от его кнута! Скинуть платье, полюбуешься?
— Охолонись. Не со зла я, — потупился Турин. — Сама нарвалась. А спрашивал меня Егор в тот раз про нас с тобой.
— Вона как! Разрешением, значит, интересовался у начальника? — ядовито усмехнулась Серафима. — И как же вы меня поделили?
— Уймись, Симка! — рявкнул Турин, не сдержавшись, но опомнился, дотянулся до её плеча, заглянул в глаза.
Она и обмякла вся, щекой к его руке прижалась, глаза закрыла, заласкалась кошкой.
— Красивая ты женщин, Серафима, но судьба твоя такая, видать, чтобы мужиками вертеть, как вздумаешь. Только помолчи сейчас на минутку, уж больно злой у тебя язык, послушай, что скажу.
Тихо стало в палате. Так тихо, что слышен стал стук ходиков на тумбочке, Серафимой же и принесённых в первый день появления.
— Прошлое моё чувство выгорело давно, — тяжело начал Турин. — На том месте бурьяна столько выросло, что и появись теперь какой цветок, задушит его сорняк, не даст подняться. Всё мертво.
— Так ты ему и ответил? — дрогнула она, влажные глаза пряча.
— Так и сказал, — выдохнул он полной грудью, свалил обузу с плеч. — А Егор тебя ещё любит. Только б знал он, кому душу доверяет… Ведь играешь ты им! Тщеславие своё тешишь.
— Что ж он бросил меня тогда? — взвилась Серафима. — Почему допустил, чтоб проклятому Штырю я досталась после Жорки? Не винился тебе в этом?
— Сама спроси, если надобность есть. Только вижу я, нет нужды. И не он тебя бросил, а ты в душу ему наплевала. Сказывал мне он и про это. Изменилась ты с тех пор, комиссара поганого, который казну на тебя растратил да к стенке угодил, я в счёт не беру, баламутного Штыря, по твоей вине зарезанного, тоже тебе прощаю, а вот Корнета Копытова — никогда. Как же ты с ним спуталась, если у него руки по локоть в крови? Немца Брауха смерти за что предали?
— Я к делам Корнета касательств не имела, винилась уже тебе, — сверкнув глазами, отбросила его руку. — Аль забыл, Василий Евлампиевич?
— Верю, — хмуро ответил он. — Иначе не сидела бы ты здесь возле моей койки.
— А что? Арестовал бы? — рванулась она к нему.
Он встретил её яростный взгляд спокойно, не отвёл глаз:
— Арестовал. И суду предал бы.
— А Егор как же?
— Егор здесь не при чём.
— Не знаешь ты, что ангелочек твой мне нашёптывал…
— Ну говори!
— Бежать уговаривал с ним, — зло усмехнулась она. — Закатимся, сказывал. Заживём на краю света, малиной жизнь обернётся. До самой смерти любить обещал.
— И что же ты? Отказалась?
— Не ответила пока. Ни да ни нет.
— Ну и зря, — потеплели глаза Турина, улыбнулся слегка. — Я бы вас и разыскивать не стал. Бегите. Сейчас бегите, пока время представилось. Артисту не до тебя, он спектаклем бредит, Странников ещё тебя не разглядел, хотя глаз положил, когда меня здесь проведывал, но ему в Москву не терпится, а там он краше бабу сыщет… Пока я на койке валяюсь, бегите!
— Никуда я с ним не побегу.
— Задов увлёк? Наобещал золотых гор?
— Хороший мужик Григорий Иванович, но не в моём вкусе, — поморщилась Серафима. — Сладкий больно.
— Вот. Вся твоя сущность в этом. И мне жизнь исковеркала, и Егору душу треплешь. Ветреная ты натура, — грозно сдвинул брови Турин.
— Да что ты меня зашпынял! — взъерепенилась Серафима. — Что ты меня весь вечер скоблишь! Сам-то так уж и свят?
— Грешен. Куда мне в праведники. Только грехи мои не те. Не тебе их ворошить!
— Не к месту мне замечания делать, Василий Евлампиевич, не так уж и сведуща я в твоих больших делах, однако послушай и ты меня.
— Да что ж тебе сказать?
— Берегла я тебя, жалость скребла — больной был, не тревожила.
— Теперь здоров. Выкладывай. Не бойся.
— Что ж мне опасаться? Что от твоих дружков слышала, то и передам.
— Давай и от тех дружков.
— Тимоху Молчуна из Саратова не успел забыть?
— Савельева? — удивился Турин. — Тебе его где видеть привелось?
— А там же, где просил ты его за бабкой приглядывать да за гадом каким-то.
— Разболтал тебе?
— Корнету он жалился на тебя, а я слышала ненароком.
— И чем же я обидел Тимоху?
— Обидел?.. — криво усмехнулась она. — Будто сам не ведаешь? Не обида то, подлую удавку едва не накинул ты ему на шею!
— Язык-то поганый прибереги для другого дела, Симка! — дёрнулся он на койке.
— Что слышала, то и передаю…
Турин во все глаза впился в женщину, руки его дрожали от напряжения, сжались кулаки — так и разорвал бы в клочья!
— Тихон из больницы, куда ты его упрятал, в ту же ночь дёру дал, — отступила подальше от койки Серафима. — И с дружками своими на кладбище промышлять отправился да там тебя и застукал.
Турин переменился в лице.
— Чего побледнел-то? Правду, значит, ворюга открыл Корнету?
— Ты говори, говори… — сверкнул Турин глазами, весь словно стрела на тетиве, догадался, о чём речь пойдёт.
— С подлюгой тем, что бабку под трамвай сбросил да за которым следить его просил, сам же ты и обнимался у могилы. Не ту бабку-то хоронил, Василий Евлампиевич?
— Не ту… — отвернулся Турин. — А чего он сам у меня побоялся спросить? Подошёл бы, так, мол, и так…
— А вы бы вдвоём в ту же яму и его! — хмыкнула она. — На машине вместе укатили, любезно беседуя. Объясни мне…
— Не тот ты человек, чтоб пред тобой ответ держать! — оборвал он её.
— А ведь спросит тебя Тихон с дружками…
— Спросит — отвечу. Тебя не выдам.
— За что же меня-то винить? Слово в слово и передала, что слышала! — изумилась она.
— За то и благодарен. Открыла ты мне глаза на многое, — Турин попытался изобразить улыбку, но кислой она получилась, вымученной. — Я всё в потёмках плутал насчёт той гадины. А после твоих слов и встали на место все детальки.
Он оглядел койку, обвёл тоскливым взором ненавистную палату:
— На волю бы мне. Залежался. Вокруг столько всего творится, а я как в колодце оказался. Слухами живу… Но сегодня ты глаза мне открыла на многое. Спасибо.
Серафима так к стенке и привалилась — смертельным холодом пахнуло от его слов.
VII
Лёвка цену себе знал, наплевать бы ему да размазать на угрозы следователя-итальяшки, однако, когда тот упомянул ГПУ да открыто намекнул на поддержку друзей из грозной конторы, остро заломило у него под одной из лопаток — хорохорься не хорохорься, а связи не те, и предательский холодок предчувствия неминуемых неприятностей пробежал по ставшей слишком чувствительной его спине. Осознал полпред частного капитала всю пакость отвратительной лужи, куда засадил его по уши коварный Джанерти. Поэтому, несмотря на поздний час, едва распрощавшись с крайне озадаченным Иориным, покинул он салон мадам Алексеевой и понёсся разыскивать Максима Яковлевича Гладченко. Макс, если ничем и не поможет, даст верный совет, ситуация в верхах властных структур ему известна лучше других — истинный вождь в среде местных нэпманов, он не без оснований пользовался неприкасаемым авторитетом и считался признанным специалистом по части поддержки деловых контактов с представителями высшего начальства торгового и налогового отделов, экспертов, ревизоров и инспекторов всех мастей в рыбной промышленности, прочих чиновников государственного аппарата, а попросту — по взяткам и спаиванию нужных людей.
Как-то в узком кругу среди своих, подымая тост за процветание частного сектора в финансовом брюхе государства, самый башковитый из братьев Солдатовых, старший Пётр, метко заметил по этому поводу: «Подкупить советского чиновника — дело тонкое и деликатное, можно сказать, ювелирное. Не всякому дан божий дар владеть сим искусством, ведь каждый чинуша требует индивидуального обхождения и частички души. Но наш председатель рыночного комитета великомудрый Максимушка прекрасно владеет этим. Многие с полными карманами отважатся распахнуть дверь к алчущему чиновнику и выйти пустым, да не каждый при этом цели желанной достигнет, утрясёт все закавыки, сгладит углы и уйдёт, провожаемый благодарственным напутствием и не пустыми обещаниями…»
По собственным тайным признаниям Гладченко, а много приврать он считал зазорным, ежемесячные его траты на пивнушки, кабаки да рестораны для чинуш, кроме регулярных отстёгиваний целевых подачек и сувениров, составляли от пяти сотен рублей до тысячи. Компаньоны его по рыбной части трудились и собирали эту обязательную дань, а уж он ведал кому, когда и на какие цели всучить, справляясь с обязанностями как нельзя лучше. Впрочем, некоторые чиновники не дожидались его прихода, ловили Гладченко сами и попрошайничали, жалуясь на прорехи в карманах. А уж когда заявлялся он в их кабинеты и шёл величавой походкой между столов, шептались, не скрывая радости: «Открывай карманы, деньги идут!» И звучало это ласково, с почтением, а то и дружески.
С бьющимся сердцем жаждал встречи с этим человеком Узилевский, однако горькое разочарование пришлось ему испытать — отбыл Максим Яковлевич на низа с рыбопромышленником Штейнбергом, сообщила домработница; толком она ничего не знала, да и уверен был Лёвка — не слетит с её языка лишнего, приучил строгий хозяин к порядку.
Визит к купцам Чубатову и Морозову оставил он на утро, но и там ждала неудача, оба в городе отсутствовали уже несколько дней по той же причине, дежурили на промыслах. Да и как иначе — какой добрый хозяин не печётся насчёт своего добра в грозную пору, когда вроде отступила стихия, но всем известно её коварство!
Оставалась надежда на Антона Нартова, тут ему и повезло. Дом знатного рыбодобытчика, как и положено, высился на бугристом берегу Волги, защищён от всех напастей земляным валом и надёжным частоколом; там, у лодок, и застал его Узилевский. Раскрыл было рот Лёвка, а Нартову объяснять ничего не пришлось, знал почти всё Антон, костерить в хвост и в гриву начал Лихомера, треклятого Клопа, заслужившего такую кличку у метких на язык рыбодобытчиков. Рвал и метал Нартов, рассказывая, как втянул их в гнилое своё дело коротышка жид, хотя и не подписывали они с Чубатовым и Морозовым никакого заявления, тряс их в своём кабинете губернский прокурор Арёл, стращал тюрьмой да конфискацией всего нажитого. По этой причине удрали с глаз долой перепуганные насмерть Чубатов с Морозовым, порешив на низах отсидеться, он сам собирался да вот задержался некстати, иначе и его не застал бы Узилевский.
Выслушав его страхи, смекнул погрустневший Лёвка, что вряд ли удастся сподвигнуть Нартова на поганое дело, однако отступать было некуда, и он заикнулся про свою беду. Сообразил, конечно, не пугать совсем, не посвящать во все тонкости, а начал с малого:
— Ты бы наведался к Лихомеру, Антон Семёнович, — заикнулся в завершении просьбой. — Передал бы ему приглашение на наш совет рыбопромышленников. Всё общество собирать не станем, пусть не опасается, президиум наш, пять-шесть человек, соберём, потолкуем и его вразумим. На будущее…
— Позор на свою голову принимать? — не дослушав, взвинтился тот. — Без того натерпелся у прокурора! Ещё неизвестно, как он повернёт! Жид накатал бумагу, а ведь потом струхнул да отказался! Мы уж гадали с Чубатовым, не проучить ли его по-нашему, по-простому.
— Морду набить?
— Не юнцы мы, Лев Наумович, чтоб кулаками махать, — обиделся рыбодобытчик. — А и не тронь дерьмо, оно и не воняет. Клоп-то, паршивец, вон каким вонючим оказался. Не отмоешься. Мы его по-нашему, по ветру промысел его пустить собирались… А теперь боимся связываться.
— На совете и решим, как с ним поступить, — поддакнул Лёвка. — Чего вам пачкаться? Обществом и серьёзней, и ответственности никакой. Сходи, Антон Семёнович, по-товарищески тебя умоляю…
Так и уговорил.
Сдался Антон Нартов, махнув в сердцах рукой, отправился к прощелыге на поклон, да того след простыл. Жинка тощая, одни впалые глаза пронзительной чернотой жгут, вся в тревоге и слезах, поклялась, что несколько дней уже отсутствует муженёк. Двое деток мал-мала по бокам за юбку ухватились, дом пуст. Не поверил Нартов, по избе прошёлся, однако и дух поганца простыл.
Вот тут Лёвку самого прошибла лихоманка: объясняться в ГПУ ему никак не хотелось, единственный виделся выход — бухнуться на поклон к Камытину, не откажет тот давнему дружку. Да и обращался к нему редко, только когда всерьёз прижимало, а зазря по мелочовке не беспокоил. Этот случай как раз тот: если розыск не отыщет канувшего поганца, только на Всевышнего надежда.
Камытин отсыпался после передряг и тревог с наводнением. Пришлось Лёвке беспокоить его на дому. Отругал за то, что разбудил, а услышал причину, вовсе собак спустил — будет он искать какого-то недоумка!.. Укатил тот по своим делам в другие края или от жены к любовнице махнул и залёг там в своё удовольствие!..
— Клоп не тот, чтоб на бабу тратиться, — горьким смехом разобрало Узилевского. — Аль забыли вы Якоба Лихомера? Сморчок, ему бабу не подобрать по росту.
— Вот на таких они и зарятся, — захохотал и Камытин. — Мал сучок да коряв.
— Сволочь он, весь город на ноги поднял.
— Ты наговоришь…
Пришлось Лёвке приоткрыть слегка свою тайну милиционеру.
— Ну и славно, что от прежнего заявления отказался Лихомер, — лениво потянулся Камытин, вполуха его выслушав. — Нас от работы освободил, себя от лишних тревог. Пасквиль, он, конечно, влечёт последствия. За решётку его да проучить как следует. С ним всё ясно. А вот тебе какой интерес?
— Пропесочить хотим его на общем совете частного сектора, — с невинным видом соврал Узилевский, — чтоб не позорил господ рыбопромышленников, а прежде всего и весь наш честный пролетарский аппарат.
— Дело нужное, — похвалил Камытин, смерил Лёвку недоверчивым взглядом, хмыкнул, совсем продирая глаза, и к трубке потянулся. — Отыщем поганца ради праведного суда. Губрозыск всегда поможет вывести на чистую воду клеветника. На кого накатал ксиву, стервец?
Замялся Лёвка, пожал плечами:
— Джанерти не сказывал…
— Как? Роберт Романович занимается этим делом? Почему же он сам ко мне не обратился?
В который раз взмок от таких нервных передряг Узилевский, замялся, несуразное только и смог пробормотать:
— Деликатный, видать, вопрос… Сами понимать должны, Пётр Петрович.
— Верно, — похвалил тот. — Болтать всякому о таких вещах не следует. — Приказал дежурному объявить розыск Лихомера и досыпать завалился.
Ещё сутки миновали, не дождался вестей Узилевский и с утра сам в дежурку заявился. Выделил ему Камытин долговязого Ляпина, озадачил участковых надзирателей, морг проверили — среди тамошних неопознанных мазуриков Якоба Лихомера не нашлось.
— Точно драпанул из города твой пройдоха, — разводил руки Камытин. — Испугался до смерти прокурора и забился в глухие места отсиживаться. Теперь ждать надо, когда прятаться надоест сукину сыну.
Распрощались бы они так ни с чем, и ломать бы голову бедняге, как к Джанерти идти с ответом, в ГПУ — решил бесповоротно — только под конвоем, но заявился дотошный Ширинкин. Участковый надзиратель ступил на порог Камытина не один, подталкивал перед собой двух огольцов-оборвышей малолетних. Объявил, что пугнул ватагу беспризорников проверить подвалы в заброшенных развалюхах, а те наткнулись на висельника, по описаниям — вылитый Лихомер. Трогать оборванцы его побоялись, вонь вокруг, мухота облепила покойника.
— Что ж ты вылупился на меня? — остудил пыл рапортовавшего Ширинкина Камытин. — Не знаешь, что делать?
— Нам-то зачем это дело? — сообразительный Ширинкин враз потускнел с досады. — Сообщу жинке, пусть хоронит. Неужто главного их в медэкспертизе Курдюма[5] подымать? Небось сама и довела мужика.
— А криминал?! — сдвинул брови Камытин. — Под монастырь вздумал меня подвести? Им же в прокуратуре интересуются!
— Тогда что ж?.. Сразу б и сказали, — смутился участковый. — Вот напасть на мою голову! В Мариинку[6] свезти окаянного?
— Готовь мужиков да телегу и отправляйся с пацанвой к трупу, — поморщился Камытин. — Дам знать Джанерти, капризный он человек, может, свои намерения имеет…
У трупа оказались все: Джанерти с Камытиным, Ляпиным, с судебным медиком Дудкиным — на автомобиле прокуратуры, следом Ширинкин с Узилевским — на пролётке, телега с мужиками и пацанвой для перевозки тела — с запозданием.
Натянув резиновые перчатки, простуженный, постоянно кашлявший Дудкин, согнав мух, первым делом сунулся в карманы и недаром: тут же вытащил на свет бумагу и подал её Джанерти со значительным видом.
— Отписано два дня назад, — брезгливо повертел развёрнутый грязный лист следователь. — Тут целая исповедь… ну, а если совсем коротко, — в смерти просит никого не винить, запутался с собственными делами.
— Вот, — выступил на шаг Ширинкин. — Что я говорил? У них, у дельцов, в паутине своей же запутаться, что тому паршивцу плевок.
И он кивнул на кучку жавшихся в стороне оборванцев.
— Дай-то бог… — не к месту вздохнул Лёвка.
— Какой-никакой, а конец дело венчает, — полез за папироской Камытин.
Молчал лишь Джанерти, словно ждал, когда выскажутся все, на Дудкина искоса поглядывал.
— Пальцев-то многовато на бумажке? — вдруг сказал он и сунул лист медику под нос.
— Это само собой, — не смутившись, согласился тот. — Откатаем всё в лаборатории, проверим. Может, есть экземпляры для идентификации.
— Вы уж постарайтесь.
— Непременно.
— Тогда и всё остальное досконально, — продолжил настойчиво следователь. — Я постановление с вопросиками подошлю. Почерк надо бы сравнить.
— Конечно.
— Это как понимать? — не стерпев, дёрнулся Лёвка. — Убили Лихомера?
— Дождёмся заключения эксперта, — затянулся сигарой Джанерти. — С выводами спешить рано. Чую я, начинается только всё…
VIII
Дни замелькали стремительней стрелок на часах. Казалось бы, вот он, триумф! Повержена стихия, как он сам прописал в одной из газетных статей…
Прописать-то прописал, а положа руку на сердце не чувствовал радости. Тревоги больше стало да ожидания — как Москва? Что решат после его сообщения в столице?
Шум, гам, суета, толпы людей в кабинете, выступления, собрания — невмоготу и на бегу всё. Пленум… Рассчитывал на пленуме и поставить жирную точку, однако безумная лихорадка продолжалась, обращаясь в навязчивую всеобщую болезнь. Теперь уже в какой-то сумасшедшей эйфории начались праздничные митинги один за другим, а то и по два-три сразу в разных концах, хоть разорвись. И везде прославляли его! Кто раздувал мехи? Распятов — бог идеологии дирижировал за спиной?..
Вызвал, принялся распекать, тот руки разводит — народная инициатива! Натерпелись, мол, люди страху, требуется выплеснуть, к тому же творчество так и прёт с мест: массовки на улицах и площадях, маршируют с плакатами, в клубах спевки допоздна. Не унять. Побеждена стихия — лозунг из его статьи подхвачен, всем души разбередил. Выжили!..
А Странников не чувствовал вкуса победы. Забыл, когда ночевал дома, да и не ждал никто там, приловчился спать рядом с кабинетом. Здесь проглатывал пищу, когда голод доставал, валился с ног, когда морила усталость. Заглядывала Файка, машинистка штаба, для блезира с не нужными никому бумажками забегала, беспокоясь долгим его отсутствием. Кокетливо поправляла обтягивающую пухлую грудь кофточку, но отворачивался он в сторону, забыл запах её юбки. Самому становилось не по себе, пугало — не рано интерес к бабам пропал? Вслушивался в организм, нет, жив был его организм, просто внутри что-то сломалось, заснуло.
С некоторых пор стал надоедать Задов бредовой идеей празднеств глобального масштаба: затеял ставить спектакль прямо на набережной Волги. Сам пьесу сочинил, сам в главных ролях, с фейерверком и пушечной пальбой, с баркасами под флагами по волнам.
— Где пушки возьмёшь? — принял поначалу он всё за шутку.
— Пиротехнику обещал военком. Уже решили, — всерьёз бесновался артист. — Твоё согласие нужно.
Пробовал остудить пыл, того пуще разбирает:
— Ты же уедешь! Когда ещё такое событие случится? А народ на всю жизнь запомнит. Не было такого наводнения никогда, не будет и праздника! Да и ответственного секретаря губкома, как ты, больше не сыскать!
Задов умел преподнести, мыслил артист масштабами великими, в этом он весь. А сам Странников всё откладывал… помощнику Кагановича, правда, отрапортовал сразу, выслушал сухие поздравления, тот заверил — жди звонка с приглашением в столицу. Но затянулись ожидания…
В глубине души надеялся, позвонит сам Лазарь Моисеевич, поинтересуется, обрадует… Но тому недосуг, не до него, видно, важнее дела закрутились. Газеты особо не распространялись, но от помощника узнал, что в качестве Генерального секретаря укатил на Украину Каганович с личным поручением товарища Сталина гайки закручивать. И там развелись троцкисты!..
Однако разбередил Задов нутро, пообещал вместо спектакля гулянье по Волге на баркасах, повод имелся — состоялось наконец назначение Глазкина в председатели губсуда, приходил тот с благодарностями и предложениями. Задов весть услышал, тут же встрепенулся, но Странников его осадил, компанию предложил подобрать из своих, без лишних глаз. С артистками — без размаха и посдержанней публику велел подобрать.
А выпроводив Задова, опять ночь прокоротал без сна в тяжёлых мыслях. Едва рассвело, плюнул на всё, сел к телефону. Решил звонить помощнику сам, будь что будет! Никогда не дрожала рука, а тут…
Долго не брали трубку. Он глянул на часы — рано взбеленился, в столице чуть свет к рабочим столам не спешат и ретивые, однако ошибся, помощник Кагановича ответил, видно, тоже в кабинете ночевал. И разговор был коротким — тот поинтересовался обстановкой, пожурил за затянувшиеся празднества и распорядился звонить в Центральную контрольную комиссию ВКП(б). Там ждут. Сдерживая дыхание, он заикнулся о должности.
— Заместителем начальника одного из важных военных отделов… Как для начала? — доброжелательно спросил помощник. — Но это только трамплин!
— Когда выезжать? — само собой вырвалось у него и перехватило горло от волнения.
— Туда звоните, Василий Петрович, — дал телефон помощник. — Но по старой дружбе подскажу: запрягут сразу. Работы там до чёртиков, ситуация в стране особенная, контрольной комиссии достаётся по первое число. Так что, если в отпуске не были, решайте, в ЦКК возможности долго не представится.
И, пожелав успеха, он попрощался.
«Вот ведь как лихо обернулось… — обмяк, полез он за трубкой трясущимися руками. — Сколько мучился, переживал, а пяти минут хватило, чтобы всю жизнь перевернуть!»
Шагнул к шкафу, налил рюмку, выпил и не почувствовал горечь водки, только пуще заполыхало лицо и всё внутри. У окна задымил трубку, а мысли метались, прыгали, обгоняя друг дружку. И Марью вспомнил не к месту, где она? Слышал, что укатила к родне. Прогадала баба, будет теперь локти кусать… Не жалел он её, а зазлорадствовал, сам найдёт в Москве другую, поумней, в столице выбор большой. А Задов? С ним как быть? Просился, дружок, все уши прожужжал МХАТом, Станиславским бредит. Запросы у него, конечно, аховые… А почему нет?! С новыми-то возможностями…
Он ещё налил, выпил. Позвонил Задову, тот, не догадываясь, бодро доложил о полной готовности к предстоящей поездке, если других указаний не будет.
— Не будет! — крикнул он, и голос выдал.
— Что? Свершилось? — понял тот сразу. — Звонил Кремль?
— Звонил! Во все колокола!
— Куда? Кем?
— Завтра всё узнаешь! Завтра!
IX
Лишь ткнулся баркас в пылающий песок островка, как ни старался взявший на себя роль тамады Задов, компания распалась. И виной всему Странников, ещё на борту пригубивший рюмку водки за прибытие. А ведь видел он, как опекал артист припасённую для себя Маргариту Львовну, программу целую затеял и в пути откровенные намёки вёл, но скинул обувь да озорно закатал до колен штанины светлых брюк ответственный секретарь и, заломив шляпу на затылок, вдруг подхватил по-молодецки на руки заливающуюся нервным смехом Марго и, сбежав по жалко скрипнувшему трапу, увлёк её во тьму деревьев.
Там они и пропали.
Дурачась, передразнивая друг друга, аукали им на разные голоса сначала с восторгом и с завистью, потом с ревностью и даже со злорадством, косясь на раздосадованного артиста. А устав, поневоле занялись каждый своим, разбившись на группы.
К слову сказать, не всех всполошил сей лирический инцидент. Две полненькие подружки Маргариты Львовны, Верочка и Ноночка, попорхали, попрыгали на палубе и зашушукались, озабоченно оглядывая оставшихся представителей мужской половины. И было отчего. Резавшиеся в шахматы на корме райкомвод Аряшкин и зав контрольной комиссии Манкаев, возле которых время от времени демонстрировала прелести худосочная прима Элочка; придя в себя от толчка баркаса в берег, не завершив эндшпиля, бросили доску с рассыпавшимися фигурами, лихо разнагишались и ахнулись с гиканьем в воду, подымая фонтаны брызг.
Следом за Странниковым высадился на берег энергичный десант матросов во главе с Егором Ковригиным. Заученно и спешно расстелили коврики в тени деревьев, разнесли закуски с винами и водкой, принялись расставлять палатки.
Лишь Задов не скрывал разочарования. Развлекаемый Анной Андреевной, молодящейся матроной, с которой играл ещё в комедиях Антона Павловича, и подоспевшей Эллочкой, бренчавшей на гитаре, разлёгся он на коврике, пристроил голову в коленях верной блондинки, погрустил положенное, а затем, оживая, разлил красного вина, приподнялся на локотке с первым тостом, подозвал державшегося особняком Глазкина:
— Прошу вас, председатель! Идите, идите к нам! — произнесено было в тон настроению, грусть по несбывшемуся рождала и велеречивость, и ностальгию. — Несмотря ни на что, выпьем за надежду! Вам она тоже не помешает в кресле председателя губернского суда! Ждут вас великие дела, а без надежды на успех…
— Вынужден вас огорчить, — сухо и с вызовом прервал его Глазкин, наливая себе водки в стакан и кланяясь дамам. — Ставя цель, я всегда рассчитываю силы. Вот залог моего успеха! Суд — лишь очередная ступень. Я рад, что свершилось, но моя цель выше!
И он залпом осушил стакан, ошеломив женщин, пришедших в восторг.
— Браво! — тут же подхватил и Задов. — Губерния с нетерпением ждёт такого председателя! Прежний, я слышал, тютя был известный…
— Не стоит ворошить прошлое, — опять оборвал его Глазкин и наполнил свой стакан: где уж успел, но был он заметно на взводе и его переполняли чувства. — Я долго шёл к цели. Не всё было гладко на моём пути. Увы, дорогу преграждали завистники и соперники, к тому же у каждого в шкафу свой скелет. Но мой не сковывает рук!
— Ах, Павел Тимофеевич, голубчик! — всплеснула руками Анна Андреевна. — Как это красиво и откровенно. Как чудесно всё это произнесено! У всех, у всех и розы, и шипы! Замечательно!
Она дотянулась до председателя губсуда и, загадочно подмигнув, успела чмокнуть его в щёчку. Тот не отстранился, принял за должное, поднял стакан:
— Я предлагаю тост за перемены! Не скрою, пришёл в суд не удовлетворить тщеславие, а вершить историю нашей губернии. Застоялись её колёса, обросли рутиной, необходимо завертеть их стремительней! Наводнение, которое мы победили, прибавило всем силы, заставило поверить в невозможное… Я понял, на что способен!..
— Ах, как хорошо! Как мило! — зааплодировала, подавшись его порыву, Анна Андреевна и выхватила гитару у Эллочки. — Можно, я спою для вас?
— В такой день всё можно, — подал ей бокал красного вина Глазкин и не выпускал, пока, привалившись к нему грудью, не выпила она до дна из его рук.
Он грохнул вдрызг стакан о землю и демонстративно расцеловал актрису, как ни морщился Задов.
— Пойте сегодня только для меня! — скрестил он руки на груди и принял позу известного французского императора.
Дрожа от чувств, она взяла аккорд:
…И много было нас. Горбуньи и калеки, Чтоб не забыли их, протиснулись вперёд, А мы, красивые, мы опустили веки, И стали у колонн, и ждали свой черёд. Вот смолкли арфы вдруг, и оборвались танцы… Раскрылась широко преджертвенная дверь… И буйною толпой ворвались чужестранцы, Как зверь ликующий, голодный, пёстрый зверь!— Анна! — остерегающе крикнул Задов, как ни был хмельным, почувствовал он неладное в словах песни и попробовал привстать, протестуя или запрещая, но слаб был порыв, отвалился артист на подушки, не совладав с собой, а Глазкин махнул на него рукой:
— Пустое! Продолжайте! Я хочу!
Но певица и не думала останавливаться и не обращала внимания на то, что творилось вокруг, глаза её прикрылись, запрокинутое в небо лицо пылало жаром, она, вероятно, ничего не видела и не слышала, вся отдавшись овладевшей ею эйфорией:
Одежды странные, неведомые речи! И лица страшные и непонятный смех… Но тот, кто подошёл и взял меня за плечи, Свирепый и большой, — тот был страшнее всех!С Глазкиным происходило неладное — он будто застыл, сцепив зубы и напрягшись, ледяными сделались его глаза, сжались кулаки. Он даже отстранился от певицы, и гневный рык вырвался из его нутра. Но Верочкой и Ноночкой это было воспринято за уместное подыгрывание актрисе, а Эллочка даже зааплодировала, не сдержавшись, крикнула «браво!». Лишь Задов, дотянувшись до стакана вина, осушил его наполовину и опрокинул на коврик, безвольно разжав пальцы.
А певица продолжала:
Он чёрный был и злой, как статуя Ваала! Звериной шкурою охвачен гибкий стан, Но чёрное чело златая цепь венчала, Священный царский знак далёких знойных стран. О, ласки чёрных рук так жадны и так грубы, Что я не вспомнила заклятья чуждых чар! Впились в мои уста оранжевые губы И пили жизнь мою, и жгла меня Иштар!..[7]Анна Андреевна уронила голову на грудь, зашаталась вполне натуральственно, гитара вывалилась из её ослабевших рук, и сама бы она оказалась на траве, не подхвати её Глазкин.
Оставить равнодушными зрителей сей миг, конечно, не мог; рукоплесканиями, криками, визгом наградили певицу, а Глазкин, не владея собой, жадными поцелуями покрыл её полураскрытые, словно в ожидании губы.
Неизвестно сколько бы длилось безумство, не прерви его жёсткий злой голос:
— Пируете без меня?
Наблюдавший за ними не одну минуту, Странников тяжело дышал, прислонившись спиной к дереву. Казалось, он только что гнался за кем-то, долго бежал и теперь приходил в себя. Выглядел ответственный секретарь неважнецки: те же закатанные до колен штаны на грязных уже ногах, взлохмаченная голова без шляпы, исцарапанное бледное лицо.
— Василёк! — трезвея, бросился Задов к приятелю. — Дорогой! Что с тобой случилось? Что за вид?
— Упал, — присел тот медленно, не отрывая спины от ствола.
— Упал? Как? Где?
— Свалился в овраг, — устало закрыл тот глаза.
— Овраг! Откуда здесь овраги? Песок кругом.
— Слушай, дай лучше выпить, — пробормотал Странников и сплюнул тягучую слюну.
Дело приобретало необычный поворот, нутром учуял это артист; разворачиваясь за бутылкой к коврику, он скомандовал:
— Дамочки! Девочки! Разбежались весело по грибы, по ягоды! Быстро! Быстро! Кому сказано?
— Гриня, я останусь, — сунулась к нему Анна Андреевна, отставив гитару. — Помощь какую?.. Лицо обмыть?..
— Дура! — цыкнул на неё Задов. — Какая ещё помощь? Катись отсюда и баб забирай! Мигом! Да чтоб языки прикусили! Ни слова, что видели! Ясно?
— Ясно, Гришенька, ясно. Куда уж ясней, — блондинка развернулась к женщинам, словно курица-хохлатка развела руки в стороны, затараторила: — А ну-ка, милые, подсуетились! А ну-ка, красивые мои, погуляем в лесочке да на бережочке!
Странников между тем опрокинул стакан водки, словно глотнул воды, вытаращил глаза на Глазкина:
— Дай закурить!
— Вы же трубку? — не пришёл ещё тот в себя. — Где вас так угораздило! С Маргаритой Львовной ничего не случилось?
— Цела. Что с ней станется? — тянул руку за папироской тот, а, закурив и прокашлявшись, добавил: — На баркасе она. Вы же веселились здесь, не заметили, как прошмыгнула.
— Так вы за ней гнались?
— А-а! — махнул рукой Странников и грязно выругался. — Остановить хотел. Да куда там…
— С ней-то что? — Задов поднёс ещё водки. — Что вы оба, словно угорелые?
— От себя бегали, — выпив поднесённое, мрачно обронил Странников и замолчал надолго, докурил папироску, забросил её далеко нервным щелчком и вдруг расхохотался неестественно, зло и громко: — Вообще-то, други мои любезные, полный конфуз на мою седую голову! Не пришёлся я ко двору Маргарите Львовне!
— Да ты что говоришь, Василий Петрович? — схватил приятеля за плечи Задов. — Дура баба, как есть дура! Чего ты за ней увязался? Лучше найдём! У меня их!.. А эту я тебе и не советовал…
— Забылся, глупец, что гордые попадаются… Вот и получил, — горько ухмыльнулся Странников и ощупал лицо. — Морду всю расцарапала, когда силой сунулся. Налей-ка ещё!
— Хватит тебе, Василёк, — слегка подлил в стакан Задов. — Тебе успокоиться надо. Позвать Анну Андреевну? Она на гитаре только что нам романс чудесненький сбацала. И какой романс! Как раз в тему. Вон, Павел Тимофеич заслушался. Какая женщина! Пальчики оближешь! Как раз в твоём вкусе. И умная.
— Умная баба — вдвойне дура! — зло вставил Глазкин.
Странников между тем выпил налитое, горько покачал головой, утираясь рукавом.
— Рассказов ждёте, субчики? Интересно небось послушать, как ответственному секретарю губкома баба глаза чуть не повыцарапала?
— Да что ты говоришь, Василёк… — Задов приплясывал вокруг Странникова с полупустой бутылкой, то с одного, то с другого бока оглаживал плечи. — С чего нам злорадствовать? Я себя кляну! Не надо было её брать, но для себя пригласил. Не ждал, не гадал, что ты втемяшишься. Меня ругать надо. Делать вот чего?.. Ума не приложу… Маргарита Львовна, она ведь вокруг Турина всё увивалась…
— А ничего вам обоим делать не надо! — рявкнул вдруг Глазкин. — Я её на место поставлю!
— Что вы такое удумали, Павел Тимофеевич? — испуганно покосился Задов. — Не надо этого. Здесь людей полно. Слух пойдёт. Само собой как-нибудь всё забудется…
— У меня не вякнет, стерва! Строила, строила всем зенки, а потом царапаться! — развернулся Глазкин к баркасу. — Только ты, Григорий Иванович, подежурь у трапа, постарайся, чтобы не зашёл кто, пока я не выйду оттуда.
— Да что же вы задумали, голубчик?
— Проучить её надо. Чтоб неповадно было.
— Павел! Ты чего это?.. — поднял голову Странников на председателя суда. — Ты в должность вступил. Негоже тебе.
— Обойдётся, Василий Петрович, — хмыкнул тот. — Исповедую её с глазу на глаз, а вдруг ошиблась она, любит вас всем сердцем, но задурила, решила поиграться? Горазды на забавы некоторые вертихвостки. Вот и проверю да на ум наставлю, если что.
— Не метод это, — забормотал тот, конфузясь, — не любит она меня.
— Не любит — полюбит, — зашагал Глазкин к баркасу. — У баб настроение, словно ветерок весенний, то в одну, то в другую сторону.
— Василий, останови его! — затряс Задов Странникова за плечи. — Он же дурной, когда перепьёт… Натворит бед!
— А ну вас всех к чертям! — вырвал из его рук бутылку секретарь и прилип к горлышку, запрокинув.
Но водка быстро кончилась. Отбросив бутылку в сторону, он поманил Задова.
— Неси ещё! Оскорбили меня… Напиться хочу…
Баркас покачивался на волнах, поскрипывал трап, когда поднимался Глазкин. Тишина встретила его на палубе, дверь каюты не прикрыта, болталась на сломанных петлях. Пнув её ногой, он шагнул в каюту, застрял, задев косяк, сунул голову внутрь:
— Есть живые?
— Кто там? — взвился женский голос. — Подождите! Я переодеваюсь!
— Обойдёшься! — ринулся он за порог.
Женщина высунулась из-за ширмы-занавески, накинула на голые плечи покрывало, отшатнулась к стене:
— Что вы себе позволяете?
— К тебе пришёл! Не догадываешься зачем? — поедал он её жадными глазами. — Ишь, актриса из-за тридевяти земель! Брезгуешь нашим секретарём?
— Убирайтесь вон!
— Подумай. Не горячись, — снизил он тон. — Может, председатель губсуда тебя устроит? Слышала, наверное, про право первой ночи? Начни с меня!
Он раскинул руки, ощерился и, загоняя её в угол, начал приближаться.
— Я крик подыму!
— Ори! Только мы одни здесь. Компания вся по грибы отправилась. Твой покровитель, Гришка Задов, двери сторожит.
Она схватилась за табуретку, но он легко выбил её:
— Не дичись! Ты же опытная баба, не девка двенадцатилетняя, знаешь, как всё делается…
Но не успел договорить — с треском распахнулась за его спиной дверь и на пороге выросла фигура Егора Ковригина:
— Это кто же здесь балует? Кто шумит?
— Ты, Егор! — опешил на секунду Глазкин.
— Вот, проходил мимо…
— Ну и иди. У нас свои дела с этой дамочкой.
— Какие свои? Кричит женщина?..
— Пошёл вон! — выхватив наган, Глазкин упёр его в грудь Ковригину. — Сопротивление председателю суда знаешь, чем грозит?
— Знаю, как не знать, — смирился тот и голову с улыбочкой опустил, но взмахнул ногой, и полетел наган на пол, секунды хватило, чтобы оказалось оружие у него в руке. — Опять лишка хватил, товарищ председатель суда… Прошлый раз из-за женского пола райкомвода нашего собирались на тот свет отправить, теперь вот дамочке грозитесь…
— Заткнись!
— И разговорчики ведёте нехорошие… Грязные, прямо скажу, разговорчики ваши, — выдержанно себя вёл Ковригин, ласково. — Грозитесь мне смертоубийством. А я ведь приставлен охранять жизнь ответственного секретаря губкома и порядок вокруг него блюсти. Простил я вас прошлый раз, ан не пошло на пользу. Придётся теперь доставить вас к Василию Петровичу для объяснений. Как раз он объявился на бережку. Ну-ка, следуйте со мной!
— Верни наган, болван! — рявкнул Глазкин. — Ответишь за самоуправство!
Он рванулся было к Ковригину, но тот отодвинулся в сторону и выстрелил в пол:
— Стой как стоишь! Я при исполнении обязанностей! — прикрикнул грознее и строже, подняв наган к самому носу Глазкина.
— Ты что, сволочь? — упали у того руки, побледнела физиономия. — Думаешь, чем грозишь?
— Выходите на палубу, Павел Тимофеевич, — посуровел Ковригин. — Не хотел я шуму, но, видать, не обойтись. Ветерком вас обдует, полегчает. Заодно и народ соберётся, посмотрит на вас.
— Позорить меня вздумал?! — зарычал в бессильной ярости тот.
— Идите, идите, — повёл наганом вперед Ковригин. — Не дёргайтесь. Без баловства, очень вас прошу.
Опустив голову, вывалился Глазкин из каюты на палубу. Спрятав оружие, Ковригин подтолкнул его к корме:
— А теперь скидайте портки и сигайте в речку. Охолоните пыл.
Крякнул Глазкин, не оборачиваясь, и как был при костюме, так и перекинулся за борт в воду, словно там ища спасения от позора.
— Вот и ладненько, — крикнул вдогонку Ковригин. — Так бы и сразу слушался.
— Пьяный он, как свинья, Жорик, — забеспокоилась Серафима из-за спины. — Не утонул бы.
— Дерьмо не тонет, — по-простому рассудил тот. — Природа не принимает.
X
Недобрые предчувствия посетили Роберта Романовича Джанерти, лишь получил он заключение медицинского эксперта по поводу смерти рыбопромышленника Лихомера. Однозначный диагноз — убили подателя жалобы, убили коварным способом, ловко инсценировав самоповешение, и записка оказалась выполнена не его рукой, подделана да настолько откровенно, что, стало быть, убийца уверен был в своей безнаказанности, мысли не допускал, что заинтересует кого-то смерть безвестного еврея.
Но теперь, поняв, что просчитался, рассуждал Джанерти, и, конечно, зная или догадываясь о поручении Арла и его намерениях, убийца предпримет все усилия замести следы, а следовательно, новыми жертвами могут стать Узилевский и Гладченко, давшие показания против Глазкина. Однако Лёвка с Максом не лыком шиты, у них информаторов поболее, нежели в сыске, про заключение эксперта уже, конечно, прослышали и прониклись, в какую истории влипли. Личности эти ради таких мелочей, как истина да справедливость, головами в петлю не полезут, а значит, от всего откажутся раньше суда и дадут дёру из города, если уже не смылись. Пытаться уговаривать их либо силой удержать — бесполезная затея, мучился следователь, и очень был заинтригован, когда, ложась спать в тяжких раздумьях, услышал звонок в дверь собственной квартиры. Вытащив наган из-под подушки и отправив его в карман пижамы, шагнул встречать нежданного гостя и совсем поразился, узрев в щель приоткрытой на цепочке двери не одного, а сразу двух: Узилевский и Гладченко, смущённые и непохожие на себя, испуганно жались на площадке.
— Прощения просим за столь поздний час… — мялся Узилевский.
— Да что уж там, проходите, — поторопил он их, пропуская, убедился, что в коридоре никого больше нет, быстро запер дверь.
Однако дальше порога не пустил, уставился вопросительно:
— Чем обязан?
— Удивили мы вас, Роберт Романович? — издалека начал Лёвка, озираясь.
— Нисколько, — отпарировал он, всё поняв и решив сразу брать быка за рога. — Если явились только за этим, могли дождаться утра. Но знаю, не это принесло вас обоих.
— Я же убеждал тебя… — дёрнулся Гладченко и нервно подтолкнул локтем Узилевского. — Уносим ноги! Зря припёрлись!
— Пронюхали, голубчики, про Лихомера, — оборвал его Джанерти. — И перепугались за собственные шкуры, не так ли?
— Вот! Слышишь, как нас встречают? — снова дёрнулся к выходу Гладченко.
— Да погоди ты, Макс… — оттолкнул его Лёвка и засверкал глазами на следователя. — Зря вы с нами так, Роберт Романович. Мы к вам, можно сказать, с чистой душой и с надеждой на защиту, раз уж объединило нас одно общее дело.
— Это-то я сразу понял, — не спешил менять тон Джанерти. — Влипли вы, господа, оба по уши в дерьмо ещё раньше, чем мне открылись на днях и покаялись. Однако за дурака хотели подержать, всех подлинных карт не раскрыли, утаить решили до особого случая, а теперь, когда жареный петух клюнул, когда почуяли, что верёвка, стянувшая шею Лихомера, и ваших не минует, прибежали ко мне. Так?.. Спрятаться-то от злодеев вам некуда. Длинны руки убийцы?
Понурясь, оба опустили головы.
— Ну ладно. Поздно мораль читать… Что мы здесь стоим, проходите, побеседуем по-людски, — смилостивился Джанерти и провёл их в полумрак кабинета, где, включив настольную лампу, кивнул на кресла, устроился сам за столом. — Угощать, извините, нечем. Домработница утром явится. Выпить тоже не предлагаю, так как сам не пью в такие поздние часы. Ну а вам не следует, чтобы опять не запамятовали, зачем пожаловали, — он криво усмехнулся. — Начинайте.
Приятели переглянулись, Лёвка заговорил первым:
— Вы, конечно, слышали об арестованном Губине Петре Аркадьевиче?
— Губине! Ишь куда хватил!.. Не высоко ли?
— Значит, слышали…
— Ну, допустим.
— Только знаете про него не всё, — прищурился Лёвка и подался к следователю вперёд, прямо змеёй весь вытянулся. — Мы вас просветим про такие его делишки с Глазкиным, что не поверите!
— Готов послушать, — не подал вида Джанерти. — Однако почему вы уверены, будто Губин подтвердит всё, что вы мне здесь наговорите?
— А куда ему деться? — выдавил гримасу Гладченко. — Ему вышка корячит за участие в убийстве Брауха! Он за соломинку уцепится! Вы ему только посулите надежду на жизнь, а он каждое наше слово подтвердит. Лишнего городить нам тоже не резон. За каждое слово отвечаем. Губин с Глазкиным на пару обирали нэпманов так, что те пикнуть не могли. Только нам и жалились с Лёвкой.
— Вот, значит, что вы за пазухой берегли… — поморщился Джанерти. — В самое сердце народной милиции метите!
— Ну, до сердца далековато, зря вы так, однако и нас за жабры взяли, Роберт Романович! — Узилевский, не мешай стол, так и вцепился бы в следователя, руки подрагивали от возбуждения. — Вы человек проницательный, Роберт Романович, в наших кругах слывёте порядочным, поэтому и доверились вам…
И Лёвка повёл рассказ.
Лишь под утро проводил нежданных гостей Джанерти, выслушав и тщательно всё записав. Теперь, рассуждал он, подтверди на суде их показания Губин, не видать Глазкину кресла председателя губернского суда, на тюремную скамью прямая дорога. Поэтому раньше времени решил не тревожить Арла; весь истерзавшись, дождался домработницы, подгоняя её, откушал кофе и заспешил в следственную тюрьму.
Шёл, а сам обдумывал ещё одну нелепую закавыку: Губин всё ещё числился за розыском: агент Ляпин задерживал передачу уголовного дела об убийстве Брауха в прокуратуру по пустяшным формальностям — не все бумаги добрал. Поэтому вызов на допрос Губина непосредственно следователем затруднялся. Пользуясь добрыми отношениями с начальником тюрьмы Минуровым, Джанерти, конечно, мог моментально решить этот вопрос и никто б ему препятствий не учинил, но Роберт Романович норму закона чтил превыше всего, поэтому из кабинета начальника тюрьмы позвонил исполняющему обязанности начальника губрозыска.
— Зачем вам понадобилась эта сволочь? — лениво поинтересовался Камытин. — Василий Евлампиевич распорядился никого к нему не допускать, пока Ляпин не закончит дело сам.
— Я б не настаивал, но у меня поручение Макара Захаровича, — пришлось намекнуть Джанерти.
— Сам Арёл крылья распушил на этого стервеца? — Камытин, хорошо знавший следователя ещё по совместной службе, мог позволить себе некоторые вольности. — Или другой какой интерес? Признайся как на духу, Романыч.
— Извини, не могу поделиться, Пётр Петрович, — Джанерти боялся откровенничать. — Не мой секрет.
— Вот как… — Камытин хмыкнул в ответ и телефонная трубка не смогла скрыть его иезуитства. — Хорошо. Только ты уж не обессудь, Роберт Романович, придётся тогда подождать разрешения Турина на этот допрос. Много времени не займёт. Пошлю к нему шофёра с бумагой, он лихо сгоняет и вам сразу же доставит. Вы в тюрьме, не ошибаюсь? С Растямом Харисовичем чаи гоняете? Знатная у него заварочка, пробовал. Привет ему передавайте.
И запиликала трубка отбоем.
— Вот крыса! — выругался Джанерти, оттолкнув аппарат. — Это он мне в ответ, что смолчал насчёт Губина.
— Артачится Пётр Петрович? — добродушный толстяк, начальник тюрьмы Минуров, слышал весь разговор, усмехнулся, сочувствуя, подмигнул. — Не переживайте. Бывает у него, когда шлея под хвост попадёт. Хотите — распоряжусь, выдадут вам Губина, ни одна собака знать не будет, а там и бумаги подвезут?
— Не к спеху, — поморщился Джанерти, закурил сигару и постарался перевести разговор на другую тему: — Мы ведь, Растям Харисович, действительно давненько с вами чаи не гоняли. К тому же, помнится, обещали вы похвастать новыми образцами татуировок ваших подопечных. Был перевалочный этап с Кавказа? Там ведь публика экзотичная, есть экземпляры!..
— Хватает этого добра, любуйтесь, — Минуров выложил перед следователем папку с зарисовками татуировок уголовников. — Надзиратель Приходько постарался, помня вашу просьбу. Всё хочу поинтересоваться, Роберт Романович, так ли помогают вашей работе эти допотопные художества или увлекаетесь ради забавы, баловство души?
— Вам бы знать! — раскрыл папку Джанерти и с жадностью одержимого знатока приник к рисункам. — В этих татуировках скрыт криминальный мир, зеркало, так сказать, происходящих в нём тенденций. Для нашего брата, сыщика, это интересная наука и кладезь специальной информации. Но чтобы понять, надо разгадать рисунок и смысл, в нём содержащийся. Порой до утра мучаешься над какой-нибудь такой абракадаброй, голову ломаешь, а в толк не войти, у самого хозяина интересуешься, а тот начнёт такое врать про свои подвиги, волосы дыбом встают. Некоторые татуируются, чтобы авторитет заработать, но попадаются экземпляры ого-го!
— Неужели ещё попадаются?
— Вот всё собираюсь монографию написать да в распространить в помощь среди работников сыска, — оторвался Джанерти от бумаг и прихлебнул чай, заботливо приготовленный и поданный Минуровым в расписной зелёной чашке, которую держал тот для особых гостей.
— Вы уж и нас тогда не забудьте. — Минуров подсунул расписную тарелку с печеньем.
— Времени не хватает, да и материала ещё маловато, а ведь чешутся руки, так и просятся накопившиеся мысли на бумагу.
— Раз имеется надобность, мы постараемся, Роберт Романович, — заверил Минуров. — Я Приходько прикажу, чтоб не пропускал ни одного урку. Будет расспрашивать про каждую татуировку и сразу описание прилагать.
— Татуировка профессионального преступника — необыкновенное удостоверение личности уголовника, подтверждающее его положение среди своих, — допил чай следователь и, откинувшись на спинку стула, разговорился, увлёкшись. — Авторитеты, элита криминала удостаиваются особых росписей, порой икону целую на спине или груди размещают, поди разгадай все их подвиги! Воры помельче, те мудрят в соответствии со специализацией: щипачи, гопстопники, медвежатники. Убийцы — и те квалифицируются особыми знаками, убил женщину — на груди или бедре обнаружите у него татуировку в виде женщины, горящей на костре, и поленья в том костре не просто пририсованы, их количество означает срок лишения свободы. Милейшее домашнее животное — кот — для них символ удачи, но самый распространённый знак носит на плече даже впервые угодивший за решётку — восходящее солнце.
— И что же это означает?
— Ничего дороже для узника — мечту о свободе…
— Товарищ начальник! — с треском распахнулась дверь, и в кабинет влетел надзиратель. — Беда в одиночке!
— Что стряслось? — Минуров так и вскочил.
— В глазок проверял, когда первый обход делал, арестованный на нарах сидел, из чашки хлебал. Второй обход сделал — он ничком на полу и не движется!
— Зачем паникуешь? — Минуров старался сдерживаться. — Камеру открыл?
— Я Матвеича крикнул. Вместе открыли и забежали. Мёртв!
— Как мёртв? Почему? Один же был?
— Один. Только не дышит и пена у рта.
— За врачом, за Абажуровым беги, остолоп! Может, припадок? А ты крик поднял!
— Отошёл… — прислонился к стене надзиратель и руки без сил уронил. — Матвеич пульс пытался считать. А его нет, холодное тело…
— Кто умер? — чуя недоброе, Джанерти задёргал начальника тюрьмы за рукав. — Кто в одиночке был?
— Да ваш арестант! — покрасневшее лицо Минурова покрылось мелкими капельками пота. — Сотрудник милиции… Губин этот… Которого вы допрашивать собрались.
XI
Странников уезжал на курорт, оттуда в Москву к месту новой службы. Отгуляли прощальные балы, отгремели пафосные речи. Весть, облетев город, взбудоражила всех, и желающие запечатлеть своё почтение в последние дни пребывания выстраивались длинными очередями за дверью приёмной.
Облачась в мундир, тайком привезённый в палату, Турин удрал из больницы. Худющий, в фуражке, спадающей на нос, бледный, но чисто выбритый, покачиваясь от слабости, шёл он по коридору губкома к кабинету ответственного секретаря. Знавшие расступались сами, недовольных теснил, а перехватив негодующий жест с запозданием выскочившей из-за стола Ариадны Яковлевны — командующей парадом, осадил её тяжёлым взглядом, не дав раскрыть рта, рванул ручку двери на себя и шагнул за порог кабинета.
Он должен был видеть секретаря губкома, объясниться с ним с глазу на глаз и помешать этому не нашлось бы никакой силы.
Кабинет был пуст. Но за дверьми известной комнаты царило веселье, раздавались шум и гам голосов. Высунулся раскрасневшийся Задов, ахнул, неестественно закатив глаза, всплеснул руками: «Кого я вижу!», нырнул назад. Турин снял фуражку, рукавом стёр холодный пот со лба; дверь комнаты распахнулась шире, и вывалился сам Странников. Навеселе, с рюмками в руках, протягивая одну, крикнул:
— Тёзка! Вот уж не ждал не гадал!
— Здравия желаю, товарищ ответственный секретарь губкома! — попробовал Турин вытянуться, как бывало, щёлкнуть каблуками, но не получилось. — Вот…
— Ничего, солдат! Своими ногами пожаловал! Благодарствую! Выписали, значит?
— Не совсем так…
— Это хорошо! — не слушая, перебил тот. — Выпьем за твоё здоровье!
Турин принял рюмку, Странников, не дожидаясь, осушил свою.
— А ведь я тебя не забыл! — потрепал он его по плечу, не замечая, как тот скривился от боли. — Собирался заглянуть перед отъездом. Артистов взять думал!.. Устроили б тебе концерт по случаю выздоровления!
Он обернулся, за спиной его толпились выбравшиеся развесёлый Задов, дородная Анна Андреевна, побрякивающая на гитаре, особа пожиже и обнажённей, знакомые профессора мединститута: Телятин или Телятников, второй по фамилии Эксельман или Виксельман, признательно кланяясь, твердящие наперебой: «Где же вы, батенька, лечились? К нам нужно было. Мы б вас в один миг на ноги, а то что же — кожа да кости»… Анна Андреевна наседала на Задова, перебирая струны: «Григорий, может, здравицу по такому случаю?»
— Видишь, как рады тебе? — пьяно сверкал глазами Странников. — Айда к нам! — и поманил за собой в комнату. — Сегодня тут только друзья! Сегодня!..
— Василий Петрович, — коснулся его рукава Турин, — у меня разговор к вам.
— Что? Не годится моя компания? — Странников переменился в лице, поморщился, ухмыльнулся. — Мне они тоже изрядно надоели. Прогнать их к чёртовой матери?
— Обстоятельства не терпят…
— Так уж не терпят? — осклабился тот и, покачивая головой, пристально уставился на Турина. — Тайны у тебя?.. Секреты особые не для моих друзей?.. А зря, ведь я про тебя всё давно знаю.
Турин выпрямился, встретил взгляд секретаря.
— Ты на койке лежал, а мне докладывали про твои героические подвиги и победы! — зло начал Странников. — Брауха злодеи погубили, а ты их упустил… В тюрьме уже свидетелей убивают!..
— Василий Петрович!
— Прав ты, тёзка, в одном. Терпеть больше нет сил. Мне! Понимаешь?.. Мне терпеть надоело! Однако я тебя за свой стол зову, как гостя важного представляю, а ты брезгуешь!..
Турин не опустил головы:
— Оправдываться не стану. Правы во всём.
— Вот! — Странников хлопнул его по плечу, опять не заметив, как тот закусил губу от боли. — Признаёшь?.. Не наговаривают, значит, на тебя завистники?
— Нет.
— За это и держу тебя, что не врёшь. Но ведь переполнилась чаша терпения. Жалуются… развалил ты милицию! Не проходит твоя кандидатура в её начальники.
Турин смолчал.
— Что ж мне делать? Гнать тебя? Судить?
— Вам решать, товарищ ответственный секретарь, только прошу уделить мне несколько минут наедине.
— С глазу на глаз? — Странников издевался или потешался, трудно понять, однако осмыслен был его взгляд, суров вид.
— Желательно, — не дрогнул, спокойнее обычного ответил Турин, в критических ситуациях имел он привычку холодеть рассудком и управлять собой.
С минуту разглядывал его Странников. Трезвел, раздумывал. Наконец крикнул в спину уходящему в комнату Задову:
— Гришка! Забирай всю компанию и катитесь к едрене фене! Погуляли и будя! Утром явишься чемоданы паковать.
— Василий Петрович… — обернулся тот, в недоумении развёл руки. — В самый разгар?..
— Убирайтесь! — отрезал секретарь, набивая трубку табаком и закуривая. — Не нарывайся на грубость!
И отвернулся, задымив, кивнул Турину на стул у рабочего стола. Тот доковылял тяжело, уселся, основательно устраиваясь, фуражку перед собой аккуратно положил.
— Выкладывай с чем пришёл, — когда остались одни, процедил сквозь зубы секретарь. — Но имей в виду, встреча наша может стать и последней.
— Последней… — как эхо повторил Турин и мрачно напомнил: — Последний раз встреча наша почему-то не состоялась. Зря прождал я вас на Саратовском вокзале. А сказать уже было чего.
— Погоди, погоди! — полез в ящик стола секретарь. — Не про это ли хочешь рассказать? — и швырнул газету с броским заголовком:
Внимание всем!
Сегодня близ остановки «Городское кладбище» при невыясненных обстоятельствах под рельсами трамвая погибла блиставшая в прошлом актриса театра Стравинская Аграфена Валериановна. Саратовский уголовный розыск просит всех очевидцев происшествия позвонить в дежурную часть по телефону 6–00.
— Глазкин подсунул? — так и перекосило Трубина.
— Привёз. А что тебя так удивляет? О моих отношениях с Павлиной тебе стало известно в Саратове, куда ты на мой вызов прикатил и от меня услышал, а Глазкин раньше многое удумал, чтоб меня в свою подлость завлечь, подстелил даже свою невесту ради решения своих гадких проблем!
Турин напрягся.
— Да-да… Что глаза таращишь? Мог бы догадаться! А когда я узнал об её смерти, сам задурил, страх разум сковал — я ж первый подозреваемый! Так выходило. Он что-то плёл, будто невеста сама руки на себя наложила, засовестившись, но я-то успел её узнать, бабу насквозь видно, как в постели переспишь. К тому же так и эдак получалось — на мне её смерть. Запил я… Э-э-эх! — Странников грохнул кулаком по столу. — Прихватил он меня под самые жабры! Запсиховал я, а он успокаивал, что свидетельницей всему является одна хозяйка той квартиры, она, мол, с перепуга сбежала куда-то, может, сдохла уже где, сама могла из-за корысти на убийство пойти, у покойницы деньги немалые были. А в милицию он заявился, ему сказывали — не нашли при трупе ничего…
— Вот оно как… Вы, значит, и с Глазкиным до моего приезда виделись? — переменился в лице Турин. — Что ж тогда всё это от меня скрывали?
— А чем делиться? Своими подозрениями? Глазкин пообещал, что о моих связях с его невестой никто не пронюхает, я и запивал тоску, страшные свои догадки водкой. Надеялся, что ты сыщик опытный, скумекаешь сам. Да и что врать, здорово тогда я за себя перепугался — летела бы карьера к чёртовой матери, вылези что наружу. Кому сейчас верят, Турин?.. Поэтому рванул в Москву, как из запоя вышел. А оттуда лишь возвратился, Глазкин тут как тут с газетой вот этой, — он ткнул пальцем в заметку, — вот, говорит, как предполагал, перст судьбы покарал убийцу, спокойно жить можно. Но тогда ещё глубже меня прошибло, что не всё так просто — врёт он. Похоже, без его рук убийство Павлины не обошлось…
— Вы догадывались, а я точно знаю, что бывшую актрису театра Аграфену Валериановну Стравинскую сбросил под рельсы трамвая ваш спаситель Глазкин. А раз её убил, значит, и от невесты своей он избавился. Актриса этому и была свидетельница.
— Свидетели есть, что этот монстр ее под колеса трамвая столкнул? — просветлел лицом Странников, словно только и ждал этих самых слов.
— Был очевидец, — покривился Турин.
— Как был? И его убрал этот стервец?
— Не знаю, — Турин подбородок потёр до скрипа. — Надеюсь, жив, но разуверился он во мне. Во время похорон Павлины видел он меня с этим Иудой вместе у самой могилы да ещё в машине раскатывали мы, любезничали… Я-то подыгрывал стервецу, что мне оставалось делать?.. А Тимоха — тот самый очевидец — мог всерьёз воспринять… В общем, потерял я в его глазах веру, а он как раз Глазкина и поймал, когда тот столкнул актрису под трамвай… Но вырвался, подлец!
— Как же? Что же это?..
— Следил он за Глазкиным по моей просьбе, — Турин опустил глаза. — Верил мне, а теперь не знаю ничего…
— Услугой уголовников опять воспользовался? — догадался Странников. — Не можешь без них?
— А то как же? — нахмурился, обидевшись, Турин. — Этот прохвост всю прокуратуру в Саратове опутал, те только о самоповешении Френкель и твердили. Лучший кореш, Андрюха Шорохов, и тот в штыки меня встретил, против слова слышать не хотел. А ведь платок Глазкина судебный медик нашёл на груди у мёртвой актрисы.
— Что за платок?
— Чёрный! Таких не видел никогда. Редкий экземпляр. Им, наверное, и задушил Глазкин блудливую невесту, чтобы завершить свою авантюру и вас шантажировать.
— Страшный человек!..
— Человек? Это настоящее чудовище!
— Меня обмишурил так, что кресло председателя губсуда пришлось ему выбивать.
Тяжёлое молчание повисло в кабинете после слов ответственного секретаря.
— Отдайте его мне, Василий Петрович, — скрипнул зубами Турин.
— Как это отдайте?! Я твой жаргон не понимаю! — побагровев, Странников вскочил на ноги. — Ты меня со своими уголовниками не равняй!
— Вы всё понимаете, Василий Петрович, — не меняясь в лице, Турин сидел, как сидел, не шелохнулся и головы не поднял. — У меня только что Джанерти в больнице был, следователь прокуратуры. Человек серьёзный. Арёл поручением его озадачил насчёт Глазкина. Догадываетесь, каким?
— Ну допустим, — осел в кресле секретарь.
— Вот Джанерти и обратился ко мне, а я уж к вам. Извините… с тем же.
Не сразу услышал ответ Турин, не скоро прозвучали слова, но всё же произнёс их ответственный секретарь губкома:
— Закон един для всех. И для этого сукина сына тоже.
— Убийств тех двух женщин мне не доказать, — словно подводя черту, заглянул в глаза секретарю Турин. — Однако грехов и без того у него хватает. Обещаю, всё будет по закону. И судить его будут не тайком, а принародно.
— Дождись только, когда я в Москве окажусь, — буркнул Странников.
— Неужели всё ещё опасаетесь?
— Делай как велено! — поднялся тот.
— Извините, — встал и Турин. — Завтра, значит, отбываете в Ялту?
— В Симеиз[8], — вздохнул Странников, и не было в его глазах радости. — Вот что… раз уж такой душевный разговор получился, прости меня, если можешь… А главное, за Маргариту Львовну прости. Накуролесил я сдуру. Вообразил себе чёрт те что с пьяну. Вот и полез… силой любовь добывать… Мало она мне морду ободрала. Больше надо было…
— Как?!.
— За Глазкина, что он там на баркасе вытворял, я не в ответе. А перед ней винюсь.
— Вон оно что! — не скрыл удивления Турин. — А я ничего понять не мог — дикой кошкой забилась она в угол, примчавшись с вашего гулянья, ревела тайком.
— Что ж не жаловалась тебе?
— С какой стати?
— Ну… ваши отношения?..
— Почему мне она жаловаться должна? — видно было, что Турину тяжело это говорить. — С Маргаритой Львовной нас соединяет старая дружба, однако сердце её мне никогда не принадлежало, так, кажется, говорят в высоких кругах? Честно скажу, косил глаза на красивую женщину, по молодости считал за счастье рядом с ней идти, но…
— Значит, ни слова? А я всё передумал, себя последними словами проклинал. Когда ты сюда заявился с видом палача-казнителя, дрогнула моя душонка, врать не стану, — Странников даже хмыкнул и, ободрившись, приосанился.
— Причина для этого у меня была одна. Теперь вы её знаете.
— Знаю, знаю. Как же мне с Маргаритой Львовной-то быть?
— Расстроили вы её.
— Да дурак, что уж там и говорить! Избаловали меня бабы обхаживанием. Только не те, кому надо. Машка моя сбежала, не держатся рядом умные. А Маргариту Львовну я хотел пригласить с собой на курорт. Присмотрелись бы друг к другу…
— И чего засомневались?
— Испоганил всё сам же.
— Я, Василий Петрович, тоже не большой знаток в женской натуре. Советы по этой части не мне давать. У Задова глаз отточенный. Вам бы к нему…
— Да ну его к чёрту! Скажешь тоже… — поморщился тот.
— Видел я, как встретились вы с ней у меня в палате, слышал её рёв вчера, а поэтому мой вам совет — пока она не успела из города уехать, пока собирается с подругой к поезду, езжайте к ней и забирайте с собой обеих в Крым.
— Почему обеих? Вторая-то мне зачем? — в недоумении уставился на Турина секретарь.
— Одна она с вами ехать не согласится, — грустно усмехнулся тот. — Уж очень ненадёжный вы мужчина. А подружка за компанию, как-никак — нравственная поддержка, вдвоём они вроде сами по себе. Впрочем, не меня вам слушать. Разберётесь на курорте сами.
— Турин… — не сдержался секретарь и протянул руку для пожатия. — Ты приезжай в Москву если что. Я ведь добро помню, чем смогу, выручу.
— Спасибо. Чего загадывать? Поживём, увидим.
Часть вторая. Коварство сладкого дурмана
I
Не верилось, что всё это им придумано ради неё. У Серафимы прямо-таки плыла голова от свалившихся чудес, смешались они, словно в прелестном калейдоскопе яркие стекляшки: скорый поезд с загадочной и немного пугающей литерой «1-с», уносящий к неведомому морю, мягкий вагон с аристократическим убранством и покоем, красное вино и боржоми в ресторане на столах под белоснежными скатертями, помпезные вентиляторы, с потолка обволакивающие прохладой, галантные официанты, угадывающие любые желания по одному лёгкому взгляду, будто из-за спин царственных особ.
Всё это не шло ни в какие сравнения с бестолковыми играми в карты, с навязчивыми приставаниями случайных кавалеров, с жуткой убогостью, грязью и неряшливостью, преследующих их на всём первом этапе пути — от Астрахани до столицы. Краски новых впечатлений ослепили, одним махом смыв тягостное уныние затянувшегося железнодорожного вояжирования к южному берегу Крыма, куда поманил Странников, и всё бы прекрасно, не привяжись с первых дней неведомый раньше страх, смутная тревога за неясное будущее, хотя ободрял её Турин и чуть ли ни настаивал, успокаивая, — Егор Ковригин рядышком будет, ответственный секретарь губкома берёт и его с собой, а с Ангелом не пропадёшь. Серафима на первых порах и отказываться пробовала — к чему ей эти курорты! И до слёз дело доходило, но вконец рассерчавший Турин намекнул ей, что в долгу она перед ним за Корнета Копытова, обмерла тогда Серафима, смолкла, поняла, что большой интерес к этой затее имеет Василий Евлампиевич, возможно, сам и приложил ко всему руку. После ранения и больницы виделись они редко, Турин жаловался, что свалилась на голову куча неотложных дел, появлялся по ночам в гостинице, куда поселил их с подругой, говорил мало, запретил визиты к Задову и единственным радостным пятном оставались для неё тайные встречи с Егором, про которые Турин, конечно, догадывался, но ни словом не намекал. Он и принёс предложение Странникова о поездке в Крым, куда тот отправлялся в санаторий перед Москвой, сдавая дела новому секретарю. Предупредил, что понадобится ей подруга, чтобы скуку в неблизкой дороге скоротать да и на курорте вдвоём веселей будет, но тут же шепнул, что про Странникова раньше времени ей сообщать нет надобности, на юге, когда устроится всё, можно будет и обсказать, если раньше сама не допетрит. Жить придётся отдельно, возможно, где-нибудь поблизости от санатория, куда Странникова определят; он криво усмехнулся, — курорты в тех местах друг на дружке, словно грибы, понатыканы. Сказал вроде про смешное, а улыбка — обратила внимание Серафима, так как глаз с него не спускала, — не то чтобы грустной, хмурой получилась.
Вот все эти неясности угнетали её, а к концу и вовсе усилились так, что привязавшийся некстати к левой её крутой брови нервный тик сливался порой с бесконечным стуком вагонных колёс, заставляя чаще биться сердце, и, чем меньше оставалось до финала авантюрной поездки, тем злее начинала мучить её бессонница, хотя и укрывала она плотней плотного окошко занавесками.
Приметила неладное помалкивающая до поры до времени Аглая, ночью беззаботно храпящая, а днём прилипавшая носом к стеклу и деланно ахавшая на местные прелести. После того как промелькнул Бахчисарай[9], ушлая подружка не выдержала, метнула на неё острый взгляд:
— Что с тобой, Марго? Испугалась?
— Сама не знаю…
— Передумала?
— Что?
— Не поздно ли?
— Не боись за меня, подруга, — оторвавшись от своих мыслей, спохватилась Серафима. — Назад ходу нет.
— Гляди, — рассудила та по-своему и, нагнувшись к зеркальцу, что не выпускала из рук, подправила выбившийся белокурый локон. — Ханский дворец только что проехали, а сосед наш по купе, Никанор Иванович, знаешь что вчерась калякал про султана тутошнего?
— Слушай больше своего грымзу! — презрительно хмыкнула Серафима. — Не совратил ещё с собой в санаторий?
Она не одобряла фривольного романчика, который проворная подруга успела завести с пожилым ловеласом, ехавшим в соседнем купе.
— Заарканит тебя обещаниями поклонник, — Серафима шутливо ткнула пальцем в пышную грудь подруги. — Не устоишь. Султана-то из какой сказки приплёл? Смотри у меня, Глашка! Про Екатерину тебе зубоскалил? Как хан Гирей, не соблазнив нашу императрицу, своим невольницам головы рубил за то, что ублажить его не могли?
— Подслушивала! Как есть подслушивала! — ахнула подружка и, отвернувшись, напыжилась, сердито поводя плечиками.
— Его вздохи страстные за версту слышны, — рассмеялась Серафима. — Дурит тебе голову.
— А ну его! — махнула та рукой. — Моря не дождусь. Так и вижу себя в гамаке, словно королева. До смерти хочется по песочку морскому босоногой пробежаться, устроить загорающим пузанам встряску. Вот глазища повыворачат! А больше и нет желаний.
— Там, где будем, вряд ли песок найдётся.
— А тебе откель знать? — опешила женщина. — К морю же едем?
— К морю, только, говорят, камни там, галька… На-ка вот почитай лучше это, приучайся к курортным правилам. Отдыхающие там по берегу гуляют, а не купаются, дамы под зонтиком с книжкой стихов в ручке и с собачкой на поводке, мужчины — с трубками и дым коромыслом вверх, — она сунула подруге небольшую книжицу в розовом переплёте с надписью «Стихотворения о Прекрасной Даме».
— Вот ещё! — оттолкнула её руку Аглая. — На книжке твоей четырнадцатый год значится. Нравы разрисованы ещё при царе Николашке. Другие теперь времена!
— Это сам Блок, глупая, — пыталась её урезонить Серафима.
— А мне зачем? Небось сыщик твой преподнёс на прощание, когда расставались?
— Он, — погладила обложку Серафима. — Угадала. Только я сызмальства те стихи наизусть знала, потому что о нас они, о чуткой женской душе. Так что советую почитать и тебе, чем время на слюнявого поклонника тратить. Кстати, в Крым Маяковский часто приезжает отдыхать. Повезёт, встретишь его и околдуешь, у тебя же лихо это получается.
— Ишь куда хватила, подруга! — Аглая с сомнением уставилась на книжку, потом подняла глаза на Серафиму. — За Маяковским в столице табуны кобылиц хвостами дороги метут, а уж на курорте вовсе такую провинцию, как я, с землёй сровняют. Да и про стишки ты заливаешь, чтобы меня от Никанора Ивановича отвадить. Небось ни одного и не помнишь, если и учила в гимназии. Любишь ты, Серафимушка, напускать на себя тумана.
Не произносила лучше бы она последних слов, — не пришлось бы ей отскакивать в сторону, словно ужаленной. Сверкнули гневными иглами чёрные глаза Серафимы так, будь в них натуральный огонь, спалил бы всё вокруг. Вырвала заветную книжицу у трясущейся Аглаи, прижала к груди, а помолчав и чуть успокоившись, произнесла глухим, не свойственным ей голоском, исходящим из самой глубины души:
Моя сказка никем не разгадана, И тому, кто приблизится к ней, Станет душно от синего ладана, От узорных лампадных теней…[10]Поняла ли что-нибудь её подружка? Вряд ли. Во всяком случае, поправила причёску, ещё раз брезгливо взглянула на книжицу, подвела черту:
— Вот-от. Ты, Серафимушка, в своём репертуаре. А Никанор Иванович хвастал дворцы мне показать.
— Уймись, Глашка!
— Какая я тебе Глашка? Молчала я, молчала, но и меня проняло. Мы же договорились, Августиной буду я зваться на курорте.
— Ну Августиной так Августиной, — спокойнее глянула на подругу Серафима. — Оговорилась в сердцах, не свыкшись. Только хвост-то прикрути. Ишь, расфуфырилась! Ни к чему эти шашни в поезде. Ещё неизвестно, где жить-куковать предстоит, вдруг наши кавалеры поблизости от санатория твоего Никанора окажутся. Всяк бывает, а края здесь чужие, в нашем с тобой случае, подружка, не гоже оступаться, так что держи себя.
— Он обещал свозить в какую-то Ливадию[11] да царские палаты показать. Небылицы рассказывал про Ласточкино гнездо…[12]
— Чего-чего?
— Замок такой над морем, будто на воздухе. Хоть одним глазком взглянуть…
— Насмотришься, потерпи, — буркнула Серафима и задумалась.
— Чую, с тобой увидишь… — с недоверием сквозь зубы процедила Аглая, сунулась к окну, загрустила. — Неизвестно ещё, как встретят. А вдруг от ворот поворот?
— Кавалера тебе подберу, — встрепенулась Серафима и оглядела молодящуюся блондинку, съёжившуюся от тревожных мыслей и мигом утратившую шик. — Ты у меня вон какая красавица! Не продешевлю, генерала, не ниже, тебе сыщу! Их там как грязи!
— Не сглазь! — враз оживилась та и всплеснула руками. — Только б не такого, как наш Никитка!
— Никитка?.. А что Никитка? Это ты комиссара Седова мне припомнила? — так и остолбенела Серафима и вся ощетинилась, будто дикая кошка, готовая к прыжку. — Да мы с тобой, подруга, за ним как за каменной стеной жили! Обе! Нашла кем попрекнуть!
— Какая уж там стена! — вспыхнув, напряглась и Аглая. — Еле ноги от тюрьмы унесли!
— А кто же знал, что он лапу в казну запустит? — Серафима привалилась к стенке спиной, смолкла, обмякнув вся, однако переживания её были недолгими; подвела глазки пальчиком, будто слезу смахнула, просветлела личиком, обняла, прижалась к подружке щекой к щеке. — Не виню его ни в чём, и не судьи мы ему. Крепким мужиком был. Таких сейчас поискать днём с огнём. Сгубила его жалость. Двоих нас ему хотелось содержать. Помнишь, ночами в постели что нашёптывал… про модные любовные треугольнички, шуры-муры иностранные, стишки читал?.. Тронутый был он душой насчёт тонких чувств, помнишь его слова про геометрию необычных человеческих отношений?.. Писателя Тургенева, итальянку Виардо и её муженька?.. Неужели забыла? Им ведь тридцати лет не было, чуть нас моложе. А про наших? Этих?.. Поэта Есенина, артистку Зинаиду Райх и её мужа, режиссёра Мейерхольда, который даже детей усыновил от её первого брака? На примере тех артистов да поэтов Никитушка нас страстью необычной заразить и собирался. А плохо ли было нам втроём? Неужели забыла всё?..
Глаза Аглаи намокли, она с дрожью прижалась к Серафиме и тоже всплакнула:
— Проходит, летит времечко золотое…
Так и сидели бы неизвестно какое время, обнявшись, эти изрядно потрёпанные жизнью два, с виду казавшиеся невинными, прелестные существа, но одна из них, светленькая, вдруг встрепенулась и воскликнула:
— Что ж это мы покойника безвредного поминаем, а про живого да ретивого думать забыли?
— Это ты про кого, Глаш?
— Твой-то, сыщик?.. В Астрахани брошенный, вдруг следом явится? Не боишься?
— Кто-кто?
— Как кто? Турин твой! Если он самого Корнета Копытова ухайдакал до смерти, то чего с нашими курортными фраерами сотворит? Он же по ревности своей в море их утопит. Не следить ли за нами своего верного Егора наладил?
— Дура! — подскочила на ноги Серафима. — Что ты мелешь?
— А что такого я сказала? — не смутилась Аглая. — Мне один разочек его увидеть хватило, чтобы всю натуру разгадать. Бешеный он до баб, к тому же однолюб, в больнице ревностью тебя изводил, глаза таращил за каждым твоим шагом! Я таких издалека чую, поэтому сразу сторонюсь. Боюсь я их безумной ревности.
— Ну вот что, подруга! — забелела лицом Серафима, губы поджала. — Ты язык-то укороти и про фантазии эти забудь. Услышу ещё, прости, но всё наше доброе прошлое зачеркну, физиономию разрисую так, что поклонника своего вагонного перестанешь интересовать. А на будущее запомни: мужики, которые встречать нас будут, совсем иной породы. Им твоя брехня ни к чему, а нам с тобой большой вред причинит.
— Это кто ж такие?
— Поймёшь, когда увидишь, а мозгами сейчас ворочай. Лучше уж бестолковую дурочку продолжай играть, чем вот так на меня лоб морщить, да мудрую из себя корчить.
— Зря ты, Серафимушка, — не особенно смутилась Аглая. — Я и так всю дорогу помалкивала.
— Вот и продолжай в том же духе, — отвернувшись к окну, буркнула Серафима. — Успокой мне душу и отвадь своего козла от наших дверей. Скоро приедем.
Больше к этому разговору они не возвращались, поэтому обе были несказанно рады, когда наконец проводник произнёс заветное:
— Подъезжаем к Севастополю!..
II
Встречать скорый «1-с» было поручено Ковригину. Весь по курортной моде — в лёгком костюмчике цвета беж прямо на сетчатую майку, при шикарной светлой шляпе и мягких, не дающих устоять на одном месте туфлях, он весь светился, темнея лишь загорелым лицом мулата и сражая фланирующих по перрону дамочек помоложе белозубой улыбкой и пронзительными голубыми глазами, а знающих себе цену важных матрон, прицепивших не менее двух-трёх кавалеров на променад к вечернему поезду из столицы, пленял учтивым раскланиванием, слегка касаясь края шляпы и обнажая бритую до блеска голову, враз придающую ему солидность.
Да, Ангел изменился, его попросту было не узнать. За последние несколько недель он лишился не только кудрей; крутым образом изменились его внешность и манеры, и ещё многое гораздо серьёзнее.
Буквально перед отъездом в Крым Странников объявил, что берёт его с собой, но ехать агентом розыска или тем более шофёром негоже, поэтому был урегулирован вопрос с Трубкиным: с этих дней Ковригин становился работником особого ведомства и оперуполномоченным ОГПУ, командировался на время в столицу при ответственном секретаре; в дальнейшем его судьба должна была решаться в Москве. При этом непростом разговоре с глазу на глаз на лице Трубкина мелькнула некая заминка, и он невнятно озаботился — состоит ли Ковригин в партии большевиков, на что Странников в затруднении поднял брови, но все сомнения развеял Распятов, тут же бодро доложивший по звонку, что бывший агент розыска, шофёр губкома происхождения самого что ни на есть пролетарского — из рабочих и в партии большевиков, оказывается, с самого «Кровавого воскресенья», когда озверевшим Николашкой был отдан злодейский приказ расстрелять мирную демонстрацию обманутых провокатором Гапоном ни в чём не повинных людей, то есть с января 1905 года.
Единственной закавыкой, конечно, не красившей Ковригина, выявилась продолжительная задолженность по партийным взносам, но сия оплошность была не столь грешна и легко устранима.
Мнения Егора никто не спрашивал. Впрочем, он и сам прекрасно понимал, что никого не будут интересовать его мысли и соображения по таким вопросам. Ради порядка он всё же заикнулся насчёт Турина, когда был приглашён к Странникову.
— А что Турин? — буркнул ответственный секретарь, не отрывая глаз от бумаг на столе, весь в своих думах. — В столицу вызову как-нибудь, там и решу его дальнейшую судьбу. Думаю, рост по службе его обрадует. Или ты сомневаешься?
Егор знал своё место, поэтому не сомневался. Более того, казалось, скоро он вовсе многое забыл. Симеиз[13], Мисхор[14], Ай-Петри!..[15] Дивным звучанием чаровали уже одни эти слова, а когда воочию узрел он чудеса на фоне лазурной поверхности моря, барахтающихся в волнах бездельников в бесстыжих одеяниях, надолго перехватило дух, и он, пока добирались до места, не переставая крутил головой, едва не свернув шею.
Катили они тогда от Севастополя к санаторию на лакированном автомобиле Крымкурсо[16], однако поездке предшествовал небольшой конфуз. Ни Странников, ни Арестов, оказавшийся с ними в одном поезде, ехать ещё и в одной машине вместе не желали. Сделали, конечно, они это весьма деликатно. Председатель губисполкома нашёл причину задержаться на вокзале, задрав нос возле какой-то достопримечательности, затерялся и отстал, дав возможность Странникову с Ковригиным первыми достичь стоянки шикарных автомобилей Крымкурсо. Бедняге Арестову пришлось расплачиваться за вынужденное лукавство — он жарился на солнцепёке долгое время, изображая страстного любителя местных реликтов, прежде чем один из капризных водителей плюнул с досады и, позарившись на его пухлый бумажник, согласился везти одного пассажира вместо положенного комплекта. Многие прибывшие тем же поездом соблазнились частным извозом: транспорт выглядел неказистее, зато услуги гораздо дешевле. Инцидент не имел бы продолжения и показался бы нелепым и смешным, если бы не дальнейшие события.
Странникова с самого начала смутило и угнетало уже само присутствие председателя губисполкома в одном вагоне — в скорый Арестов подсел в Москве. Ещё более помрачилось его сознание, когда выяснилось, что долгожданный отдых придётся провести в компании с этим человеком — путёвки у них были в один Мисхорский санаторий. Его планы, кривил он губы, радужные намерения насчёт Маргариты Львовны летели ко всем чертям. Предчувствуя их неминуемый крах, он терял рассудок, стараясь найти выход и сделать всё, чтобы не оказаться теперь с ненавистным попутчиком в одном корпусе санатория, не загорать на одном пляже, не встречаться в коридорах и, что самое ужасное — не угодить в одну палату!..
Догадывался ли он, что примерно те же мысли мучили и Мину Львовича? Вряд ли. Поэтому, укатив с вокзала первым и выиграв время, Странников удачно поселился в, казалось бы, непритязательном угловом номере, впрочем, достаточно светлом, на два окна, выходящих к морю. На радостях он даже не поинтересовался у администратора по поводу занятости санатория отдыхающими; по его рассуждениям, Арестов со своими претензиями и тщеславием претендовать на подобное жильё не станет и выберет апартаменты солиднее.
Ковригину же предстояло снять квартиру в частном секторе, поблизости от санатория, куда можно было бы время от времени подвозить на машине Маргариту Львовну с подружкой, чтобы по возможности тайно встречаться. С появлением Арестова, совершенно не вписывавшегося в эти планы, Странников твёрдо усвоил не мельтешить с дамочками на виду и поселить их в ближайшем курортном посёлке, например, в Симеизе, в шести-семи километрах от Мисхора.
Оформившись в санатории и несколько успокоясь, Странников дождался Ковригина, и оба отправились к морю смыть наконец усталость и дорожную пыль в благостных волнах, заодно напрочь утопив и допекавшую нервотрёпку. Солнце скатывалось за горизонт, народа на берегу особенно не наблюдалось, и они славно провели время, пока обоим не надоело сладостно охать и ахать, погружаясь в ласковую прозрачную негу вод, фыркать от удовольствия, заплывая за красные буи, нырять к самому дну в надежде подцепить рапан покрупнее, чтобы потом весело, по-детски хвастать.
В номере уставший Странников сразу завалился на диван в прихожей, а Ковригин в зале принялся собирать на стол, доставая привезённые местные деликатесы и спиртное — ответственный секретарь ждал большого гостя. Богомольцев, работник ЦК, давний его знакомый из кадрового отдела, отдыхал в Мисхоре и обещался проведать. Знатный приятель с минуту на минуту мог пожаловать, и Странников, нервничая, поторапливал Егора. Всё наконец было приготовлено и расставлено на столе, когда неуверенный и тихий стук раздался в дверь. Богомольцев Исаак Семёнович никогда не стучался и, входя, вообще не касался дверей, перед ним их распахивали другие, но Странников все же вскочил на ноги, изобразил улыбку, схватив со стола рюмку, моргнул Егору, чтоб не мельтешил, и громогласно провозгласил:
— Милости просим!
Каково же было его недоумение и ужас, когда на порог ступил не кто иной, как знакомый уже администратор, за спиной которого маячил Арестов с огромными баулами в обеих руках, измученный и мрачный.
— Встречайте земляка! — не заметив изумления хозяев, меланхоличный администратор с дежурной улыбкой оглядел угощения. — Заждались? Прямо царский ужин приготовили.
Он глубоко затянулся аппетитными запахами, задержал взгляд на золотистом куске балыка и поблёскивавших крупных зёрнышках чёрной икры. Не сдержавшись, облизнулся и шутя погрозил пальцем на привлекательный штоф водки[17] в прямоугольной зелёной бутылке:
— С этим, попрошу покорно, без злоупотреблений. Разрешаю исключительно по случаю приезда.
Сказав, вздохнул не без сожаления и, выполнив свой долг, удалился, явно не спеша.
Ковригин, не зная, как поступить, торчком застыл у двери, ни «проходите» председателю губисполкома, ни «здрасьте» у него не получилось. Он таращился на Странникова, ожидая его команд, но тот молчал с зажатой в руке рюмкой, словно проглотил что-то несказанно гадкое и жевал губы от ужасной горечи. Только теперь он приметил угол второй койки в комнате напротив, куда ранее второпях не соизволил заглянуть и теперь осознавал всю трагедию и комедию случившегося.
Чем бы всё закончилось, трудно предположить, но в коридоре послышались громкие голоса, неизвестный посетитель весёлым басом приветствовал администратора, называя его по имени и отчеству, а скоро заявился и сам в распахнутую дверь и сразу заполнил комнату мощным голосом и необъятными телесами. Задев плечом Ковригина, он прижал к груди Странникова, затискав его в медвежьих объятиях и, успев обернуться, крикнул, подзывая Арестова:
— Мина Львович, не натёрли мозоли баулы? Заноси да открывай! Небось всё съедим! Изголодался я на здешних харчах, вовремя подоспели, братцы!
Говорил он не переставая, успевал кого ущипнуть, кого по плечу прихлопнуть, а Странникова, не удержавшись или оказывая особое расположение, несколько раз расцеловал в щёки и в лоб прямо-таки по-родственному и тут же поднял рюмку:
— Сдвигай-ка ряды и стаканы, пролетариат! Сколь не виделись-то?
— Месяцев пять-шесть?.. — начал было гадать Странников.
— Полгода! Вот те на! — захохотал, неизвестно чему обрадовавшись, Богомольцев и зашвырнул шляпу с головы на диван. — Выросли орлы! — Он был навеселе и, не замечая отчуждённости Арестова и Странникова, попытался сдвинуть их лбами. — Вот вы оба, считай, и в Кремле! Это вам большое наше партийное доверие! Цените. Принимайте поздравления по случаю назначения пока от меня, ну а завтра отметим это дело в особом кругу. Наших здесь собралось достаточно. Со всеми обзнакомлю. Теперь вы в верхние круги власти вступаете. Должны друг друга крепко поддерживать. Одним словом, будет о чём побалакать.
И он, подавая пример, опрокинул рюмку первым.
За торжественным банкетом в небольшом уютном ресторанчике, где Странникову с Арестовым всё-таки пришлось сидеть рядом, последовали второй, третий, четвёртый… Председательствовал Богомольцев, дело своё он знал, люди были разные, но все хваткие как на подбор, энергичные, желали успеха. К концу недели, когда, как обычно, Ковригин забежал в номер подымать их к морю, Мина Львович, не отрывая головы от подушки, идти отказался, буркнул, когда его расталкивали, что придёт сам, и подмигнул мутным глазом Егору. К обеду они его так и не дождались, а когда возвращались, Ковригин забежал в лавку и догнал Странникова, пряча в карман свёрток.
— Это ещё зачем? — догадавшись, бросил тот строгий взгляд на свёрток. — Мало ты его вчера на себе из ресторана тащил? Косятся уже отдыхающие. До администратора дойдёт, угодим в историю. Исаака подведём.
— Мина Львович просил, — виновато опустил голову и, не зная, что делать с бутылкой, как мальчишка смутился Ковригин. — Наши-то запасы кончились.
— Опустошили!
— А что там было-то…
— Нельзя ему. Удержу не знает, если присосётся. В запой скопытится, здесь не Астрахань, здесь его штучки дорого обойдутся, а вечером идти к Исааку, уезжает тот скоро. Отходную затевает для всех.
— Вот и поправит Мина Львович головку, чего мучиться человеку?
— Ишь, заботливый нашёлся, — нахмурился ответственный секретарь. — Быстро ты с ним спелся. На какой ниве нашли общий язык?
И он со значением зло щёлкнул себя под подбородком.
— Что вы, Василий Петрович! — вспыхнул Ковригин. — Разве можно? Как вами велено, я лишь перед сном позволяю. Только рюмочку ради успокоения организма, уснуть сразу не могу. К обстановке никак не привыкну. Мельтешат перед глазами эти купальщицы в подштанниках. Русалки, право! Одна стыдоба!
— На днях тебе ехать… встречать Маргариту Львовну. Не забыл про неё? Нимфу[18] остроглазую здесь не приметил? Где устроился, как? Я к тебе так ни разу и не заглянул…
— Нормально! — вытянулся по-солдатски Егор. — Хозяйка справная. Готовит вкусно, стирает. Угодишь — ещё и поднесёт сама!
— Смотри у меня! — погрозил пальцем Странников. — Ишь, хозяйка справная… Загорел-то как! Только сейчас и заметил, — он, оценивая, оглядел Ковригина. — Словно чёрт из пекла, одни белки глаз сверкают.
— Природа.
— Ты вот что… — Странников прищурился, пожевал губами. — Вид у тебя, прямо надо сказать, неважнецкий, даже какой-то безобразный… Лохматый, чёрный весь, обтёрся, обтрепался в пути. Сам-то на себя в зеркало смотришь? С тобой скоро по улице стыдно ходить будет!
Ковригин отвёл глаза.
— Бери пример со здешних. Вишь, в чём шастают? Словно при дворе царском.
— Так нэпманы ж! — покривился тот. — Сотруднику ОГПУ разве можно?
— Можно! — гаркнул в сердцах секретарь. — Ты ещё б тужурку кожаную надел да маузер к поясу подвесил!.. А почему нельзя, голова дубовая? Ты теперь сотрудник особой секретности. Правильно будет, если за своего у них сойдёшь, информацию легче добыть, дружков среди них завести. Кумекай, чудак.
— Мне бы… — чесал затылок Егор.
— Приказ особый нужен? Трубкин, балбес наш, ничему тебя не учил?
— Ну… в общих чертах. Времени-то откуда?
— В общих чертах! — сердито оборвал его Странников. — Слушай меня. Срочно смени одёжку. Костюм соответствующий подбери. Светлым чтоб был, как у этих… И шляпу соответствующую. Денег дам для первого раза, если своих не хватает.
— Трость! — подсказал, вникая в роль, Ковригин.
— Трость? Обойдёшься без трости. За жулика примут. Ты лучше кудри сбрей. Солиднее выглядеть будешь. Ишь, рассыпались, до плеч достают. Для девок отпускаешь?
— Так едут же наши, — попробовал пошутить Егор.
— Не по твою душу едут. Исаак Семёнович намедни интересовался. Спрашивал, не жениться ли снова я задумал, приказал ему представить наших женщин, хочет выбрать сам.
— Смеётесь?
— Какой там! Старик всерьёз всё принял. Говорит, пора, мол, мне остепениться. Если и вторая убежит, как Машка моя, наверху по головке не погладят.
— И вы что ж, тоже всерьёз с женитьбой?
— А тебе какой интерес?
— Извиняюсь…
— Вот-вот, прищепи язык. Разговорился ты у меня. — Странников хмыкнул. — Да и я расслабился в этой обстановке. Как бы и с дамочками нашими такого же не случилось, а то станут заглядываться на здешних красавчиков. Объясни им обстановку, когда встретишь. Чтоб ни-ни!
— Есть.
— С Маргаритой Львовной особо поговори. Она всё же за старшую. В Симеизе чтоб носы особо не высовывали по вечерам, да хозяйку им подыщи построже.
— Понял.
Видно было, что настроение у Странникова после этого разговора изменилось, он посуровел лицом, весёлости прежней и беззаботности в глазах как не бывало. Подпортил дальнейшее Арестов. Лишь появились они в номере, стал приставать к Ковригину, пока Странников не налил ему сам, но лучше бы секретарь этого не делал: потом пришлось наливать ещё и ещё, пока водка не кончилась, а председатель губисполкома не уснул. Вечером поднять его не удалось, и к Богомольцеву Странников отправился один в сопровождении Егора, которого не переставая ругал, что тот угробил Арестова надолго, что отдых напрочь испорчен, а главное, неизвестно, как воспримет всё это Исаак Семёнович. Однако, к его удивлению, Богомольцев сообщение смущённого секретаря принял достаточно спокойно, обнял по-свойски, встряхнул в медвежьих лапах и возвестил, не скрывая от собравшихся друзей:
— Ослаб, говоришь, земеля? Ничего. Поправим. Это у него от отсутствия нашей стариковской закваски. В баньку свозим, в море мокнём. Через день-два в себя придёт как миленький. Не таких оживляли. Опосля сам с ним беседу проведу. Надолго запомнит старого Исаака!
И больше к этому пустяшному случаю не возвращался. А вот когда расставались, когда, выйдя вдвоём из ресторана и покуривая, Богомольцев со Странниковым прогуливались по набережной, долго о чём-то беседуя, Странников вдруг остановился и поманил дежурившего неподалёку Ковригина:
— Послушай Исаака Семёновича внимательно. У него к тебе порученьице деликатное, — сам отошёл в сторону любоваться волнами расшумевшегося к ночи прибоя.
Подбежав к Богомольцеву, Егор вытянулся в струнку.
— Да не таращь глаза, боец, — хлопнул его по плечу тот. — Переживаешь, наверное, что Мину Львовича ухайдакал? Не робей. С каждым бывает по неопытности. Но на будущее заруби себе на носу — негоже так с нашими.
— Так я…
— Это к слову. Чтоб на будущее. А дело вот какое… Ты же в Симеизе дамочек расселять будешь?
— Так точно.
— Найди время, забеги там к своим в ОГПУ, выясни про Загоруйко Никанора Ивановича. Земляк ваш, а мой знакомый с давних пор. Прибыл ли он, устроился, чем прославиться успел?
— Будет сделано.
— Не спеши, молодец. Слухай не в одно ухо, раз я говорю, — вроде и шутил, но сощурил маленькие глазки Богомольцев, притянув к себе Егора. — Сам к земляку-то не лезь, да и с коллегами своими про меня языком не трепи. Придумай что-нибудь, родственник, мол, твой дальний, то да сё. Понял?
— Так точно!
— Эх ты, так точно… — тронулись в кислой улыбке губы Богомольцева. — Где вас только учили… Не та гвардия, не та…
И ни слова больше не говоря, развернулся, уронил плечи, словно обессилел, заковылял, тяжело переступая с ноги на ногу.
А Егор следующим утром, чуть засветлело, не разбудив Странникова, выехал автомобилем в Севастополь.
III
Первой среди встречающих разглядела Егора Аглая. Серафима, уйдя в свои мысли, рассеянно следила за мельканием пёстрой толпы за окном, сидя за столиком и подперев подбородок руками. Не покидала её засевшая дума о том, что опять начинается новый этап в её беспокойной жизни, что снова надо будет кого-то изображать из себя, боясь каждую минуту оступиться, ошибиться в поведении, в разговоре, в выдуманной однажды роли, ляпнуть что-то невпопад, а потом изворачиваться. От таких переживаний с некоторых пор её начала преследовать нервная дрожь; вот и сейчас, когда Аглая веселилась у окна, её слегка знобило — кончилось их какое-никакое, а всё же размеренное вагонное времяпрепровождение, они приехали, с минуты на минуту поезд остановится, они сойдут, шагнув в пугающую неизвестность. А впереди — игра. В этот раз игра затеяна опасная. Странников пригласил её не просто вальяжно покутить, беззаботно провести отдых у моря — она чувствовала, тот задумал что-то серьёзное. Возможно, это время станет своеобразным испытательным сроком, после чего он окончательно решит, брать или не брать её с собой в Москву, а там, может, последует и предложение официально оформить их отношения, ведь он не раз намекал, что при его новой должности высшее начальство не потерпит даже невинного флирта, ему нужна верная подруга, то есть жена. А какая из неё жена, если только и думает о Егоре? С ним-то как быть?..
— Егор! Егор! — едва не вываливаясь из окна, закричала вдруг Аглая, размахивая кому-то платочком и, развернувшись, потянулась к подруге: — Марго! Ну чего ты кобенишься? Иди сюда!
Серафима бросилась к окну, потеснила беснующуюся, поискала глазами, но поезд двигался, и всё сливалось в одно яркое пятно: она плакала и сама не замечала катящихся слёз.
— Проехали, — досадуя, пышной грудью Аглая подпёрла её так, что стало трудно дышать, и она отступила от окна; не унимаясь, та укоряла: — Проспали красавчика. Ну, Марго, держи меня, твово-то не узнать. Весь в белом, а сам вылитый африканец! И при шляпе! Мамочка моя!..
— Болтай! — смахивая слезу, огрызнулась Серафима, сердито напомнила: — Про Егора ни слова! Сколько тебе надоедать? Он у наших кавалеров на посылках. Гляди, на грудь ему не ахнись.
Поезд, совсем замедлив ход, остановился.
— Ну, присядем, что ли, подруга, — Аглая плюхнулась на неубранные подушки, обмахивая заалевшее лицо платочком. — Зашлось сердечко и у меня от переживаний. Не выскочило бы. Гляжу, и у тебя глазки на мокром месте. Дорога нам предстоит… — она в удовольствие потянулась всем красивым телом, вскинув руки. — Эх, застоялась кровушка в этих опостылевших стенах, на волю душа просится! — И с игривым смешком ущипнула Серафиму: — Очнись, Маргуша!
Но Серафиму уже было не узнать, она вся подобралась, опустила голову, провела ладонями по лицу, закрыв глаза, а когда отвела руки в стороны да глянула — и не Серафима взирала на подругу властным жёстким взглядом, а Маргарита Львовна Седова-Новоградская командовала:
— Ты чего это перья распустила, курица драная?! Приберись за собой, чтоб чисто в купе было. Да вещи готовь. Кончилась потеха! Не прощу ни одной твоей промашки, знаешь меня!
И ни слова в ответ, засуетилась, забегала Аглая, хотя прибирать-то особо нечего было. Двух минут хватило на всё про всё. И сама девица будто преобразилась враз — сущая покладистость и смиренность. Аккуратно присела напротив хозяйки, вздохнуть лишний раз опасаясь. Заметила платочек свой на столике, второпях забытый, потянулась, но остановил её громкий стук, и распахнулась дверь — сияя улыбкой до ушей, едва сдерживаясь, чтобы не броситься вперёд, замер Егор на пороге, наткнувшись на грозный взор артистки. На него давили, подталкивали поспешавшие вперёд и на выход, но сдвинуть с места не удавалось никому. Кто-то пискнул, придавленный, кто-то недовольно чертыхался.
— С приездом, Маргарита Львовна, — взяв себя в руки, вымолвил наконец Ковригин, не замечая Аглаи.
— Вас не узнать, Егор Иванович, — ответила она сухо. — Принимайте вещи. Августина, — кивнула прислуге, — поторапливайтесь, да смотрите, чтоб не подавили корзинки с моими шляпками.
Вот и вся встреча.
IV
Бросая колкие взгляды на сжавшуюся, замкнувшуюся в себя Серафиму, Егор старался по её лицу разгадать причину незаслуженно холодной встречи, сердился и мучился, не находя ответа, подыскивал себе успокоение — при народе, на глазах завистливых, жадных до сплетен и чужих секретов могла ли она вести себя иначе?.. А с другой стороны? Он тоже исстрадался, её дожидаясь. Он в чём виноват? Срывать на нём злость? Могла улыбнуться хотя бы уголками губ, краешками глаз, как одна она умела…
— А, чёрт! — он вздрогнул, мысли его оборвались, резко затормозил автомобиль и высунулся чуть ли не по пояс из окошка. — Ну куда прёте, граждане-дворяне? На тот свет не успеете?
Ковригин ещё не привык к чудному движению на курортах, а в этом незнакомом городе ему особенно было не по себе. Здесь почему-то беспечно разгуливали по шоссе словно в парке, не переходили улиц, а бросались с одной стороны на другую толпами, как морские волны на берег, и каждый пешеход норовил обязательно угодить под колёса. Поэтому он вёл машину рывками или резко выруливал баранку либо внезапно тормозил, отчего его пассажиркам приходилось несладко, а перепуганная насмерть Августина, повизгивая, каждый раз цеплялась за что попало, нередко путая его голову с имевшимися в салоне ручками на дверке.
Серафима же и при этом настырно молчала, не проронив ни слова ещё с вокзала. Когда там он замер возле сверкавшего лаком автомобиля, распахнул дверки, уложил багаж и широким жестом пригласил их в салон, она, стараясь не глядеть на него, спросила:
— Откуда такой шик?
Его прямо подкосило уничижительное её пренебрежение, но он нашёл силы лихо улыбнуться и попытаться заглянуть ей в глаза:
— Это ж всё Василий Петрович. Ему везде как два пальца!..
Попытка развеселить не удалась, напротив, она даже нахмурилась, зато Августина рассыпалась в восторгах и первой запрыгнула на заднее сиденье. Он попробовал помочь забраться вслед Серафиме, подхватил осторожно под талию, попытался нежно прижаться, но она вырвалась, словно обожглась, оттолкнула его руку.
— Странников упросил хорошего товарища, — смутившись, расстроился он и вспомнил разговор ответственного секретаря с Богомольцевым насчёт машины.
Состоялся он накануне, загорали опять без Арестова у моря, прячась под навесом от расшалившегося, жарившего не на шутку солнца, раскупорив уже третью бутылку душистого крымского вина. Ковригин устроился поодаль, как велено было, держал себя в полной трезвости, поэтому слова их врезались в память, и было отчего.
— Встретить бы их по-человечески, — заикнулся Странников, то и дело подливая вина старшему товарищу.
— По-человечески это как? — лениво потягивал из рюмки Богомольцев, хитро щурясь.
— Ну, чтоб впечатления с первого дня складывались. Тут ведь, как в сказке, не то что у нас там было: до сих пор вонь пропавшей селёдки не выветрится.
— Ишь ты! Быстро запрягаешь… Баба-то стоит того?
— Вам понравится, Исаак Семёнович.
— Гляди, я на́ слово не верю. Люблю всё своими руками пощупать.
И он захохотал, вскинул волосатые руки, хватая воздух толстыми короткими пальцами.
— Вдруг да какой изъян обнаружу?
— Вот и проверите. Их две. Выбирайте. — Странников стал красочно расписывать достоинства обеих, язык его хотя и заплетался, но с Серафимой ему придумывать не пришлось, а насчёт Августины чрезмерно фантазировал секретарь, так как ни разу её не видел, но выбрался из затруднительного положения, ещё более развеселив слушателя.
— Твоя-то кто? — явно не стерпев, приподнял голову Богомольцев. — Маргарита или вторая, как её, кстати?
— А какая разница? Приглянется — любая вашей будет, — не унимался расходившийся секретарь.
Подсластил Странников начальству, но увлёкся спьяну, не заметил, как покорёжило Егора, но Ковригин унял дрожь в кулаках, а Богомольцев вдруг согнал похоть с лица, строго подытожил, словно и не пил:
— Машину найти не загвоздка, шофёра где взять? Нам чужие глаза не нужны.
— Так вон же он, — махнул рукой в сторону Егора Странников. — Он у меня и швец, и жнец, и на дуде игрец!..
Так Ковригину поручено было это дело — встретить приезжающих. И теперь намёки на чужие глаза, напоминания о скрытых врагах, подслушивающих и подглядывающих, не раз высказываемые Богомольцевым по поводу и без повода, вспомнились Егору, продолжавшему без устали туда-сюда гонять в голове свою тревогу — чем он провинился перед Серафимой, не произошло ли чего в пути? Вдруг его словно осенило и, проверяя догадку, он спросил у женщин:
— С земляками-то повезло в поезде? Не скучно было добираться?
Краем глаза заметил, как напряглась Серафима, как попыталась одёрнуть подругу за рукав, но не успела, шустрая, та залилась взахлёб, будто только и дожидалась:
— С кавалерами отбоя не было! Только постоянных не хватало. Спрыгивали на больших станциях. Старичок, правда, привязался, сосед. Вот он и выручал время коротать. К слову сказать, неказистый, сморчок. Вот Маргарита Львовна на него внимания — ноль. Не повеселит, не ущипнёт. Сплошь одни наставления, — она беззлобно расхохоталась от души, не замечая отодвинувшейся в угол подруги.
— Куда ж на старости лет он собрался? — так и вцепился в болтушку Ковригин. — Растрясло его небось уже в поезде?
— Трясло, — весело согласилась та, — трясло всех, но лишь до Москвы. Но он в столице средь нас очутился. Подсел на скорый. А скорый летел, будто на воздусях. Одно удовольствие.
— Из Москвы? — допытывался Ковригин. — Как же, уважаемая Августина, вы его земляком окрестили? Не ошиблись случаем?
— У меня возраст не тот, — не обиделась, смеялась та. — Перед сном всё о себе рассказывал. Такое заводил!.. Стишками радовал, только песни не пел, а насчёт Москвы не сомневайтесь. По делам туда ездил и жил в самой дорогой гостинице, «Метрополь» называется.
— Врал! — в тон ей веселился и Ковригин. — В эту гостиницу только буржуев селят да и тех знатного происхождения. Ему денег не хватило бы, чтоб за сутки расплатиться.
— Вот уж не знаю, — откровенничала Августина. — Только ездил он по делам в столицу, а уж когда всё порешал, прямиком в санаторий отправился.
— Взгрели небось, раз на курорт потянуло отдыхать.
— Важная какая-то у него работа в Астрахани, с отчётами его и вызывали к начальству.
— Я среди наших знаю многих товарищей такого масштаба, — напустил на себя важность Ковригин. — Интересно бы фамилию вашего попутчика услышать. Может, как-нибудь по случаю проведаем? А вдруг аферюга какой к вам примерялся?
— Егор Иванович, — перебивая, вмешалась вдруг в их разговор Серафима. — Нельзя ли остановиться на минутку? Что-то дурно совсем, воздуха не хватает. В поезде ещё началось. Видно, смена климата сказывается да тряска дорожная усугубила. Раскалывается голова от боли…
Лицо её действительно казалось бледнее обычного, потухли глаза, а поникшие руки она зябко прятала в коленях, словно мёрзла.
Егор остановил автомобиль, выскочил, распахнул задние дверки, предложил ей выйти на воздух, но Серафима отказалась, сославшись на слабость. Обмахиваясь платочком, тихим голосом попросила воды. Ковригин стремглав понёсся разыскивать сельтерскую, но когда возвратился с бутылкой, та пить отказалась.
— Будто полегчало, — сказала устало на его вопросительный взгляд.
— В машине раньше не укачивало? — убрал бутылку Егор. — Может, этот?.. Солнечный удар? Здесь шпарит!.. — И, не дождавшись ответа, продолжал: — Дороги, слава богу, не то что наша, гладенькие, но с непривычки бывает.
Отвернувшись, Серафима не ответила.
— Переждём немного, время терпит, — рассуждая, он сел за руль, завернул автомобиль с дороги к тенистому деревцу, заглушил мотор, посочувствовал: — Выкатим за город да доберёмся до берега, там свежее станет. Там себя лучше почувствуете, Маргарита Львовна.
— Нам и так полегчало! — с надрывом и издёвкой подала вдруг капризный голос Августина. — Едемте! Что ж тут на виду у людей торчать? Путь, сами говорили, неблизкий.
— Неблизкий… — обернулся он на женщин, жавшихся на заднем сиденье по углам, словно вдруг за время его отсутствия их разделила незримая полоса отчуждения.
«Никак кошка пробежала? — только теперь, приглядываясь, он заметил, что действительно между ними что-то произошло неприятное. — Поцапались? Чего не поделили?..»
С Августины слетела прежняя весёлость, Серафима поджала губы и темнела лицом.
— Как, Маргарита Львовна, двинемся помаленьку? — спросил он.
— Езжайте, конечно, — буркнула та. — Что ж время терять? Мне гораздо лучше.
— Ну-ну, — покачал он головой и вырулил автомобиль на шоссе. — Приходите в себя… Попробуйте подремать, а то и заснуть. За Форосом[19] серпантин закружит. Ого-го! Вам там лучше спать.
И весь путь до Симеиза они больше не разговаривали.
V
Лишь выехали за город, миновали окраины, движение на дороге успокоилось, машина побежала ровнее и, оглянувшись несколько раз, Ковригин убедился, что пассажирки его, утихомирившись, прикрыли глаза, обмякли, тихо засопели обе и уснули, словно и впрямь подчиняясь его команде. «Сморило, — улыбнулся он и осторожно повёл машину, сбавив скорость, — добирались, видать, тоже на нервах, по Серафиме заметно, тяжело досталась ей эта путь-дорожка, вся на ножах, приболела даже, в молодости ещё здоровьем особо не хвастала, а тут…»
И он вспомнил первую встречу, когда началось их знакомство, переросшее в привязанность, в баловство, а потом в любовь и мытарства несусветные, кончившиеся, как и должно было произойти, трагедией для обоих.
Ковригин искоса глянул на свернувшуюся клубочком, поджавшую под себя ноги Серафиму, поёжился от нахлынувших чувств: «Как девчонка малая! Красивая всё же Симка! Не угадать: тогда, десяток лет назад, краше была или сейчас милей кажется? Столько всего минуло, сколько страданий от неё перенёс, а взгляну — огнём душу так и жжёт!»
Попал Пашка Снежин, к семнадцати годам уже известный в городе отчаянный жиган, в банду Штыря не по своей воле. Вырос волчонком, не помня родителей, сызмальства не терпел над собой верховодства, руку, ему протянутую, куснуть норовил, другого от неё не ждал, окромя удара. Когда всерьёз принялся заниматься речным разбоем, дали знать ему про Штыря. К тому времени, оказывается, правил тот всей Верхней Волгой, сидя в Девичьих горах. Впрочем, называли те места Пашкины друзья-приятели и по-другому; нравилось им более всего — Жигулёвские, потому как роднее звучанье для сердца и ближе к их вольному промыслу. Волжская вольница — жиганские шайки обитали на правом берегу Волги в излучине Самарской Луки, в густых лесах, среди высоченных гор[20].
Упираясь в небо, громоздились лишь острому глазу доступные утёсы, коварные обрывы да глубокие овраги подстерегали смельчака. Поэтому ещё царские ищейки, немало наслышанные про лихую вольницу, про разбойничьи набеги на речных перевозчиков купеческих грузов, не спешили с облавами, а устраивая их под большим давлением начальства время от времени, особой ретивости не проявляли, желающих лезть на рожон, подставлять голову под пулю из непролазных кустов либо ловить вилы в бок из тёмных пещер особо не находилось. В густой чащобе среди волков и медведей обитал отчаянный бесшабашный люд, ошалевший от благости безграничной свободы, готовый терпеть любые лишения ради этого; ютясь в шалашах летом, в лютые морозы зарываясь, словно неведомые пресмыкающиеся под снег да и в норы под землю. Лоси, косули, кабаны и прочая мелкая живность, не считая разнообразной ягоды и грибов, служили им достаточным пропитанием круглый год. А как проглядывало да начинало пригревать солнышко, уносило льды мощными водами могучей реки, как появлялись первые суда, выбирался на белый свет и вольный хищный народец из схронов. Вот тут и держись купчище, не жди пощады! Большинство торговых дельцов, не накликая беды, заранее заключали договоры с атаманом, откупались, уплачивая дань, а кто жадничал, рассчитывал сэкономить да тайком проскочить мимо сторожевых постов, попадали в большую беду. В наказание да в устрашение другим учинялась над бедолагами жестокая потеха: пороли тех олухов принародно розгами и так жгли спины, что беспощадных палачей этих не иначе, как «жигунами», назвать нельзя было.
В общем, наслышался многого Пашка Снежин, прежде чем решился податься в те места. Где брехло, ворьём выдуманное, где былины народные, а где правда-матка, уже трудно было разобрать, да и некогда: пришло его время искать опору сильную, сомнения и терпения опасными стали, шли по его следам ищейки ушлые, запах тюрьмы в ноздри ударял.
Со своей верной шайкой отобранных бойцов ранней весной прибыл он на поклон к Штырю. Всё, что скоплено было, что в дороге подвернулось под руку, принесли, не тая, в дар атаману как аванс в общую казну. Тот их принял довольно сдержанно, на первых порах до себя не допустил. Обитал он где-то в горах неведомых, в пещере, куда и своих-то близко не подпускали не то чтобы чужаков. Пашка и не рассчитывал: пришлым всегда недоверие.
С неделю атаман выдерживал их в землянке под строгим присмотром чуть ли не за арестантов. Кормил сносно — вода да корка хлеба, а огрызались недовольные, били их пуще собак. Пашка тогда и каялся, и зубами щёлкал от злости, с кулаками на старшего смотрителя лез, не стерпев, но один не справился, подоспели трое, бока намяли. Больше он прыти не выказывал, чуял — бесполезно всё, надо ждать, раз сам влез в такое дерьмо. Тайком с подельниками задумали затеять побег, но упредили их, будто кто знал, позвали к атаману.
Лишь много позже, когда приняты они были, испытаны и даже обласканы, а сам Пашка в авторитетные люди пролез, под большим секретом рассказал ему один человек, будто есть у Штыря помощник по таким делам, положено ему про всех знать, что другим неведомо, а коль сведений недостаточно или сомнения есть, Штырь ему поручение давал проверить всю подноготную новичков. Этим загвоздка и вызвана была, однако главное всё же в другом таилось — терпеть не мог атаман самозванцев, без его благословения воровской промысел на Волге открывавших. В таких случаях обсуждался вопрос на общем совете, где каждый отрядный вожак высказывал мнение, как наказать провинившегося, прежде чем решать брать в банду либо гнать вон, а то и подвергнуть лютой казни. Бывало, и этим кончалось судилище разбойников.
В просторных да светлых палатах рубленого дома-дворца вершил атаман свой суд с именитыми собратьями. Каждый был наделён равным правом спрашивать испытуемого, но наперёд батьки рта не открывал. За тем было и последнее слово. Прежде чем в зал попасть, ждал Пашка своей очереди, так как набралось людишек таких, как он, с десяток и поболее; уже подле самых дверей от детины мрачного получил свой подзатыльник, больше обидный, нежели злой, и нехитрое напутствие — на батьку наглых глаз не пялить, не заикаться с просьбами, больше помалкивать.
Двенадцать насчитал он их за ладно сработанным дубовым столом в светлом помещении, куда его втолкнули на середину. Тринадцатый — атаман — во главе. Все бородаты как один, но ухожены и приодеты добротно, сам Штырь — спиной к свету, лица не разглядеть, но серьга в ухе сверкает, кафтан красной парчи да соболья шапка с волчьим хвостом и в плечах крут; не Гришка Штырь, а сам Стенька Разин, прямо с расписных картин, что в кабаках Пашке видеть приходилось.
«Вот ведь чёрт какой великий концерт творит!» — чуть ни сплюнул Пашка, но одумался, смолчал, однако глаз, как велено было, не опустил, щурился, пытался разглядеть атамана.
— Чему обучен, окромя самовольства да за моей спиной купчишек на реке трясти? — услышал он грозный голос.
— А ничему, — прикинулся дурачком Пашка и простодушно добавил, улыбаясь во весь рот: — На испуг не даётся, на кулак возьму, ну а если мордаст чересчур или трое-четверо, у нас завсегда ножичек имеется.
Ухмыльнулись двенадцать рыл, бородами затрясли, видать, наскучили им допросы нудные да злость, к весёлому человеку да скомороху, хоть и нахал, всегда русская душа лежит, потому что смел, а тут ещё и красавчик перед ними объявился: кудряв, удал и в плечах приметен, в ногах твёрд, не дрожит, как предшественники, не хочешь, а залюбуешься.
Но атаман ухмылку, невольно проскочившую, спрятал в усах, брови сдвинул и на слове споймал удальца:
— Против троих выстоишь?
— А чего ж!
— На кулаках?
— Ага, — ещё шире раззявил рот Пашка. — Зови хоть сейчас своих бугаёв.
— А если больше — с ножичком?
— Да стоит ли кровью твои палаты марать, батька? Зови тогда всех на улицу.
— Не удрать ли задумал? — прищурился атаман, больше посмеиваясь. — У меня волкодавы такие, раздерут на части и костей не оставят.
— А чего ж бежать, коль сам к тебе явился, Георгий Иванович? — сузил глаза Пашка в хитрой усмешке.
— Да что с ним лясы точить? — не выдержал, вскочил один из старшин, рыжей бородой затряс. — Ставь его в круг, атаман! Зови наших орлов, раз хвастает! Пусть проучат выскочку!
И забурлили, подали голоса другие:
— Пустить ему кровь, раз бахвалится! Одного Косолапого на него хватит!
— Нет уж, просил троих, пусть от всех и получит!
— Барана! Барана вывести на него! Задавит один!
— А Лешего что? Леший сопли-то красные враз ему подвесит!
— Тихо! — повёл рукой атаман. — Соскучились, видать, по мордобою… — и он повернулся к Снежину. — Ну, раз сам напросился, спытаем тебя, молодец. Кудри твои жаль, выдерут их мои хлопцы вместе с буйной твоей головой, — махнул детине, что на дверях дежурил. — Кличь всех, кого тут назвали.
— Барана, Косолапого да Лешего? — вылупил тот глаза от изумления. — Да на такого брехуна и одного Барана много будет!..
— Сказано тебе! Всех! — оборвал атаман. — Да вели вина подать.
— Водочки, водочки! — наперебой загалдели, словно ожив, старшины в предчувствии жестокого зрелища.
«Знать, часто подобные потехи здесь устраивают, — смекнул Пашка, приметив, как заблестели глаза у бородатых, как задвигались те за столом, кулаки потирая, — и винца подают, и водочки… Ну что ж, любуйтесь. Устрою я вам потеху, скучать не придётся…»
Он не спеша сбросил с плеч пиджак, расстегнул ворот рубахи, закатал рукава. Оглянулся кругом, поправил волосы на лбу, приготовился. На атамана глянул, — зови, мол, своих волков, и замер, остолбенев: за спиной атамана откуда ни возьмись девица выросла, да такой красоты, что ёкнуло его сердце, а уж когда глаза их встретились, понял Пашка, что вольная душа его отдалась тем глазам враз и навеки. А атаман уже обнял девицу осторожно, будто стеклянная та, боясь раздавить своими лапищами, на колени перед собой усадил, словно ребёнка, на ухо ей нашёптывает и пальцем на Пашку тычет, усмехаясь в усы…
Вот тогда впервые и встретились они!
Испуганный взгляд зелёных глаз Серафимы на всю жизнь запомнил Снежин и утонул в них, как в колодец свалился. Пришёл в себя от рёва возликовавшей публики, встречавшей протискивающихся в узкие для них двери Барана и Косолапого. Третий, по кличке Леший, прошмыгнул — не заметил никто. Но Пашка на него, шустрого, глаз враз и положил, такие обычно в больших драках за спины прячутся, не по той причине, что напуганы или за жизнь свою опасаются больше других, а из-за злодейского своего коварства и безотказной тактики — в нужную секунду их рукой и всаживается сзади нож в то самое уязвимое место беспечного бойца — под левую лопатку, и с тем смертельным ударом заканчивается вся потеха.
Трое пришли его убивать. Подбоченясь, глянули Баран и Косолапый друг на друга, заржали как застоявшиеся жеребцы, оскалились — тут и одному делать нечего! Пашка от них отступил на шаг, два, три; им снова смех, а ему забота — до стены всё ещё много места оставалось, прикрыть некому спину сзади, а в такой драке главное, чтоб спине надёжней было. Оглянулся и не нашёл сочувствующего, лишь в зелёных глазах незнакомки страх да жалость, и уже не сомневался, что одна она за него переживать станет, а поэтому преклонил колено, перекрестился и поклонился ей, словно на икону, чем разозлил и без того жаждущих его позора разбойников.
Подал знак атаман — и тройка начала расходиться в стороны, обходя Снежина кругом. Два бугая — Баран и Косолапый, каждый уверенный в своём превосходстве, особо не спешили напрягать кулаки; поглядывая друг на друга, бычились, кто первым начнёт, лениво стаскивали с себя рубахи, обнажаясь до пояса, лениво поигрывали буграми мускулов, с ноги на ногу переваливались, покрякивали, запугивая жертву. А Леший, как вошёл, сгинул с глаз, про него и зрители забыли. Гибкой рысью скользнул он за Пашкину спину, подбираясь ближе. Уверенный в лёгкой победе, уже дышать перестал, готовя роковой прыжок, но опередил его Пашка, развернулся вдруг и столкнулись они один на один лицом к лицу. Как вор, пойманный за руку, поняв, что разоблачён, опешил злодей и только охнуть успел тяжело — безжалостная нога Пашки врезалась ему в чахлый живот, снесла с ног, а удар второй ноги разбил лицо вдребезги, снеся нос и челюсть. Пашка и рук марать не стал о такую мерзость, сплюнул сквозь зубы на свалившееся тело, глянул на атамана, успокоил:
— Жить будет. Но я б таких за одну подлость убивал.
И развернулся к бугаям, не успевшим с места сдвинуться, не то чтобы прийти на помощь Лешему. Впрочем, на лицах их печали не было, изумление металось в злых зрачках обоих, что так скор был конец негодяя.
И старшины, вскочив на ноги, замерли, рты пооткрывав. Ни одна глотка не издала рыка — досада да недоумение. Леший славился коварными проделками, мастак из-за угла да со спины накрывать зазевавшего, пассажиров в пароходах чистил в одиночку, всю добычу в общий котёл не нёс, прятал. Не было к его беде сочувствия, однако был он из их стаи, не желали ему такого конца, удивлялись.
Поэтому Баран, видно, и завёлся первым. Он и звался так, что не мог сдерживаться в разбоях. Рявкнул на весь зал, вдарил кулак о кулак, пробуя их крепость и, привлекая внимание атамана, моргнул Косолапому, чтобы тот не лез, не мешал, бросился к Снежину, готовый разорвать его в один миг. Но не зря Пашка пятился, до него в один миг не допрыгнуть и к тому же он сам не промах — спружинил ногами, сжался, обратившись в единый мощный сгусток, нырнул в ноги Барану. Того словно серпом срубило, покатился по полу, переворачиваясь. Грохота было достаточно, но пресёк его тот же Снежин. Раньше противника очутившись на ногах, он поймал момент, когда тот окажется на животе вниз лицом и, подпрыгнув, обеими ногами обрушил тяжесть всего своего тела на позвоночник врага. Хруст костей поверг в ужас всех, дикий вопль невыносимой боли корчившегося на полу бандита перекрыл общий взрыв голосов. Не усидев, кинулись к нему старшины, кто-то из них уже и на Снежина норовил броситься, но поднялся за столом атаман, вскинул кулак, угомонил толпу.
— Убрать раззяву! — подал он команду, подёргал ус, окинув Пашку оценивающим взглядом уже всерьёз. — Барану баранья и участь, мозгов-то у него никогда не водилось… — а, переждав ропот старшин, их хмурые ухмылки, крикнул Косолапому: — Примёрз, медведь? Порадуй теперь ты нас! Надери задницу выскочке!
И взревели вновь старшины, полетели в потолок и их угрозы, но оборвал всех Григорий Штырь, добавил в мёртвой тишине:
— А испугался ежели, сам выйду, смою позор за нашу вольницу!
И отодвинул в сторону от себя девицу, словно действительно собрался выбираться из-за стола.
Этого окрика, казалось, только и ждал Косолапый, сдвинулся он с места, закосолапил по-медвежьи к Снежину, махнул раз лапищей — не попал, махнул второй… И закружились два бойца по залу.
Снежин не трогал противника, отступал да увёртывался, хотя с каждым ударом Косолапого успевать за ним было всё труднее. Тот злился, промахиваясь, вытирал с лица пот, уже заливавший глаза, но настойчиво делал своё дело, загоняя Пашку то в один угол, то в другой, из которых тому всё сложней и сложней было выбираться без повреждений. Кулак Косолапого свистел, пролетая то над его кудрявой головой, то едва не задевал уха, и длилась бы эта потеха долгое время, но стали шуметь, а то и посвистывать в два пальца заждавшиеся старшины. Рявкнул на Косолапого и атаман, чем совсем пришпорил неуклюжего бойца, тот заработал кулачищами, словно мельница крыльями. Пашку тоже давно пот прошиб уворачиваться да бегать. Поймал он врага на очередном просчёте, но не отступил назад, как обычно, а сам прыгнул к противнику и всадил кулак в его квадратный подбородок. Запрокинул тот голову, но устоял, закачавшись, второй удар пришёлся ему в то же место, и Косолапого повело в сторону, а уж от третьего — рухнул он наземь.
И притих зал, но ненадолго, захлопала в ладошки, соскочила с колен атамана девица, подбежала к Пашке и, обняв, поцеловала в щёку. Пашка в себя прийти не успел, а она обвела всех победным, задорным взглядом, ни слова не говоря выбежала из зала, и, лишь захлопнулась за ней дверь, донёсся до всеобщего слуха опешивших зрителей бурный марш, исполняемый ею на рояле или пианино.
Тогда это был первый их поцелуй.
— Гляди-ка! С полгода к ящику не подходила, а тут заиграла! — крякнув, поднялся атаман, поманил Пашку к себе за стол. — Не ты ль тому виной? Ожила девка!
Подал ему чарку с водкой, объявил, чтобы все слышали:
— Не врал, молодец! Кулаком владеешь. Прими за победу!
И загалдели, словно ждали, старшины, тоже за чарки схватились, здравицу каждый по-своему начал выражать. Скуп был на слова атаман, больше молчал да Снежину подливал, зато разобрало его подручных. То один вскакивал с чаркой, то другой, наперебой заливались соловьями в честь победившего новичка. Прислуга повыскакивала с яствами, разносолы да закуска украсили стол. За полночь перевалило, половина гулявших здесь же и заснула, кто на полу, стул обхватив, а кто ткнувшись носом в блюдо. Оглядел утихомирившуюся ораву атаман, задержал настороженный глаз на ещё державшихся, буркнул Пашке:
— Победам своим не радуйся, кодле этих псов не доверяй. Сейчас клянутся тебе в вечной дружбе, а поставлю тебя старшиной, ненавистью лютой зальются. Случай представится — каждый поспешит кишки тебе выпустить. И Лешего зря ты не добил, жалость да благородство тебе же лихом обернутся, сгубит он тебя, если доживёшь до его выздоровления, не простит позора.
— А кто та девица, что коленки тебе грела? — не слушая, осмелился Пашка.
— И тебя околдовала Симка? — вскинув брови, отстранился атаман, расхохотался зло. — Вот стерва! Взгляд её чище любого кулака! Наповал бьёт в любое сердце… Хороша девка?
— Хороша! — не скрывал Пашка. — Дочка твоя? Отдай её за меня.
— Остынь, дурень! Жинка она мне, вернее сказать невеста. Дикая коза, два года уже у меня, а к себе не подпускает.
— Тебя! Это как же?
— А вот так. Силой бы взял, да не желаю, руки грозилась на себя наложить. Она сделает! А мне зачем душу невинную да красу несказанную губить? Крови на мне и без того хватает. Предстану перед Ним, — атаман задрал голову к потолку, перекрестился размашисто и пьяно, — отмываться воды в Волге не хватит.
— Как же девственницей такую девку держишь? — не унимался Пашка. — Иль был у неё кто?
— Попала в лапы моих молодцов, когда пароход богатый захватили. Думали, что капитанская дочка она, тот-то сам сбежал, выкуп за неё гадали взять, а оказалось, что она сама по себе, с женишком в свадебное путешествие отправилась, но женишка её там же, при суматохе, на тот свет отправили, проявил он грубое непонимание, в драку кинулся, его и прикололи невзначай. Одним словом, мне её привезли, ну и приглянулась она мне, для себя и оставил.
— А с тем, кому первому приглянулась, что? С тем, кто жениху кровь пустил?..
— Упираться начал. Дурень вроде тебя, тоже размяк от её прелестей, ну и всё такое…
— И что же с ним?
— А ничего, — крякнул атаман и, рюмку выпив залпом, перекрестился: — Спаси, Господь, душу мою грешную! Косточки-то его раки обглодали, как и ещё нескольких. Тех охранять её я назначал, а она охмуряла каждого, бежать с собой звала…
— Суров ты, атаман.
— Думаешь, стар я для неё, если сед?
— Нет, но… — замялся Пашка.
— То-то же. А вы, кобели молодые, все на один лад.
— Кто же теперь за ней приглядывает?
— Тебе теперь и придётся. Ты же Лешего на тот свет чуть не отправил, а он последним цепным псом при ней был. Больше желающих не находилось. Зато Симка смирилась. Бежать с таким негодяем, как Леший, у ней и мыслей не появлялось.
— Значит, Серафимой её величают… — задумавшись, опустил Пашка голову. — Серафима — это значит божий ангел, крылышки у неё за спиной. Всё равно улетит. Не боишься, что со мной?
И смело глянул в глаза атаману.
— Нет на свете того, чтобы меня напугать, — не отвёл глаз атаман. — Жалеть буду по косточкам твоим, понравился ты мне, парень…
А чуть свет заявился Снежин в палаты, стал перед атамановой невольницей.
— Стеречь велено да угождать, — поклонился в ноги.
— Верховой езде обучен? — бросила она ему через плечо, не оборачиваясь от зеркального столика, где прислуга наводила ей красу.
— Седло знаю, — залюбовался он ею.
— Глаза-то не пяль. Запрягай да выводи, любезный, — погнала она его и улыбнулась краешками губ.
Не слезая с коней, носились в тот день они по холмам до той поры, пока солнце невтерпёж припекать стало. Пашка забеспокоился за лошадей, не спалить бы, но Серафима, всё время мчавшаяся впереди и хорошо знавшая тропинки, глазу не видимые, завернула в лесок под горку да спустилась в лощину, и оказались они перед избушкой укромной. Вышел навстречу дед, с поклоном подал два ковша — с водой и молоком, на выбор. С любопытством и грустью глянул на Пашку:
— Из новеньких, молодец?
Пашка с коня соскочил, принял наездницу на руки, задержал в руках, та нетерпения не проявила. Спросил, в глаза заглядывая:
— Не устала?
— Хорошо в седле держишься. Как звать? — вместо ответа спросила она.
— Снежин Павел, — принял он для неё от деда молоко, но отвернулась она, попросила колодезной воды.
И опять пустились они вскачь по холмам, но теперь уже медленнее; выискивала укромные местечки от чужих глаз хозяйка, тянуло её в рощицы кленовые, в тень. На одной из полян остановились, слёг Пашка в траву, не в силах на ногах стоять. Как ни бодрился, а с непривычки замучился, ныло всё тело ещё и от вчерашней пьянки, но когда опустилась рядом она, ударил ему в голову её запах, закружило шальную его голову, обнял её или сама вцепилась в его губы, зацеловались они надолго, не в силах оторваться, словно пили и не могли насытиться чудесным напитком любви.
А когда очнулись и отдышались в прохладной траве, она зашептала:
— Только тебя и дожидалась, любимый мой… Бежим из этого логова, если любишь.
Бежать? Куда? За спиной погибель верная! Всем этим только и пугал его атаман, не забыл ничего Пашка, а в ответ, не думая, шепнул:
— Бежим. С тобой хоть на край света.
— Не считай за сумасшедшую, — горячи были её губы у самого его лица, — всё у меня продумано, всё прописано, свои люди верные везде расставлены, ждут лишь сигнала моего…
А он и не слушал, целовал и целовал нежные губы, остановиться не мог.
Во вторую верховую прогулку бежали они. Весь световой день провели в сёдлах, обессилев, сползли наземь лишь у берега, далеко оставив горы. Ночь уж накрыла их, упали в траву, далее лодка их ожидала под парусом да вёслами, но коснулись руками, слились в едином порыве, тешились любовью до утра в объятиях друг друга, пока не сморил их сон…
Разбудил Пашку храп жеребца и ржавшие в похабном веселье бородатые наездники. Серафиму голой вырвали из его рук, закатали в скатерть будто драгоценность, а его стегали нагайками до тех пор, пока сознание не померкло. Кинули в ту же ладью, завезли на середину реки и бросили в воду, посмеиваясь:
— Моли Бога да благодари батьку, что камень запретил на шею! Нашли бы тебе булыжник потяжелей!
Очухался он, всплыл, хотя и нахлебался вдоволь воды; не помня себя добрался до берега. Подобрал его народ добрый. Выжил. С тех пор искал её, к банде подбираясь, людей своих туда засылал — пропала Серафима; а скоро красные сыщики всерьёз взялись за разбойников жигулёвских. Сколь ни хитрил Жорка Штырь, как ни заметал следы, а схвачен был.
Пашке тоже пришлось несладко. Гонялись и за ним красные пинкертоны, но везло ему, хоронился у друзей и знакомых, а когда совсем припекло и уже к стенке угодить мог, укрылся в следственном изоляторе, сдавшись властям под чужим именем, на глазах попавшись за мелкую карманную кражу, так всегда поступали опытные воры, чтобы спастись. Остался с ним один верный товарищ от всей их шайки — китаец Ван-Сун. С ним бы и перекантовались незамеченными, получив по суду желанный срок, но прицепился в тюрьме отпетый бандюга Панкрат Грибов, по той же причине прятавшийся в «Белом лебеде». Пришлось от него избавиться, а потом уж отыскал его Васька Божок, давний дружок Жорки Штыря, но к тому времени оказавшийся уже начальником губрозыска Василием Евлампиевичем Туриным. Этот человек и подарил Пашке Снежину вторую жизнь, а с ней новые имя и фамилию. Стал Красавчик, по отцу — Пашка Снежин, работником уголовного розыска Егором Ковригиным и, может быть, забыл бы своё прошлое навсегда, ничего в нём особенного, чтобы вспоминать, и не было, если б не эта женщина… Серафима! Правда, прозывалась теперь она Маргаритой Львовной Седовой-Новоградской, сменила не одного любовника. Якшалась с ворьём, кем только не прикидывалась, аж в артистки подалась именитые. Слышал он, что поддавшись на эту удочку, приютил её бесшабашный комиссар Седов, спустил на неё все сбережения, залез в карман государства и по суду был расстрелян. Попала затем она к бандиту Корнету Копытову, тот её использовал в качестве завлекающей игрушки, прикатил с ней в Астрахань грабить немца профессора. Узнал всё об этом Ковригин от Турина, но забыл все свои обиды, лишь встретился с ней в больнице. Какие уж тут обиды? Сам-то святую жизнь без неё вёл?..
То ли горек был упрёк себе самому, то ли перед мчавшейся машиной собака взвизгнула, едва увернувшись, рванул Ковригин тормоз, дёрнулась машина, вскрикнула сзади Августина, вцепилась ему в плечо:
— Задавил кого?!
— Задумался, — улыбнулся он ей. — Вот и отвлёкся от дороги. Спи. Ехать ещё да ехать. Вон подруга твоя и глазом не повела.
Серафима действительно не пошевелилась, сладко посапывая.
— Ей что не спать? — пожаловалась игриво Аглая. — В поезде глаз не смыкала.
— Это чего же?
— За мной приглядывала, — зевнула та, укладываясь удобнее.
— Вон как. Чем же старикан тебя увлёк?
— Никанор Иванович, хохол, конечно, потешный, но уж больно стар.
— Никанор Иванович?
— Ага. А чему так удивился?
— Фамилия, фамилия какая?
— Обыкновенная… Загоруйко.
Услышав это, Ковригин снова в тормоз вцепился.
— Да что с тобой такое? — вскинулась Августина. — Знакомый твой?
— Похоже, — процедил сквозь зубы Егор, а самому подумалось: «Отправил меня к морю Василий Евлампиевич Турин загорать да за Серафимой присматривать, однако не догадывался, какие здесь страсти разгораются. Знал бы, не утерпел, сам примчался!»
VI
Ошибался Ковригин. Не примчался бы к морю ни за какими удивительными открытиями начальник губрозыска товарищ Турин. Не до этого ему было. Закружили его самого неотложные дела, прижали так, что раскалывалась незажившая ещё голова, хоть опять на больничную койку ложись.
Впрочем, как это и бывает, роли его самого в растревоженном муравейнике событий не было, рука его, как говорится, огня не подносила. С Макара Захаровича Арла всё началось, с губернского прокурора.
Так и не дождавшись проверяющих из края да обещанных помощников, в погожий ясный денёк, пользуясь отсутствием народа, присел он за столик у окошка и, что с ним отродясь не случалось, над обычной, можно сказать, тривиальной фразой донесения начальству: «В дополнении к моему письму…» задумался. А задумался он потому, что стал разглядывать пробегавшую за стеклом мимо его окошка публику. И чем внимательней и тщательней этим занимался, тем больше мыслей рождалось в его голове. Публика была особая, не зря его заинтересовавшая, — сплошь женская.
Главным образом это были капризно одетые, молодящиеся вертлявые нэпманши в вычурных и вызывающих шляпках, которых Макар Захарович с некоторых пор терпеть не мог. Такие крикливые дамочки порой являлись к нему на приём обычно по поводу таких же скандальных соседок, подымали невыносимый шум на ровном месте, а главное, не обращали никакого внимания на замечания снимать головной убор в учреждении. Одна, хоть и подчинилась, но, едва не расплакавшись в своём вздорном упорстве, фыркнула, что дамам в шляпе позволительно и за столом кушать, на что, поправив усы, Арёл едва сдерживаясь, рявкнул: «За чаем хоть кол на голове чешите, а у меня в прокуратуре непозволительно шастать таким макаром, потому что учреждение!». И тем же вечером приказал курьер-уборщице Варваре наклеить на дверях соответствующий листок во избежание лишней нервотрёпки и приучения отдельных граждан к пролетарской культуре. Скандал тем не кончился, строптивая особа оказалась знакомой Мины Львовича Арестова, и тот не преминул позвонить губпрокурору, чем несказанно смутил его и укрепил веру в коварство женской натуры. «Трудно было дуре сразу намекнуть на приятельские отношения с самим председателем губисполкома…» — в сердцах бурчал он, выслушивая по телефону назидания и потом отправляя Варвару сдирать с дверей незадачливую вывеску…
Между тем многие дамы, приезжая извозчиком или манерно покидая автомобили начальников, знакомых губпрокурору, здесь же, под его окном, кидались в объятия друг дружке, будто век не видались, устраивали базарный галдёж по поводу каких-то рюшечек, воланчиков и прочей непонятной ерунды, а наговорившись, убегали в соседний с прокурорским подъезд, и стук каблуков их туфель по лестнице, ведущей на второй этаж, а затем и по коридорам мешал Арлу сосредоточиться.
Одним словом, рабочее настроение решительным образом было погублено, и великий гнев разбирал всё нутро губпрокурора.
— Варвара! — отбросив лист, забыв про недавно принятую секретарь-машинистку, позвал по старой привычке курьер-уборщицу Арёл. — Петровна! Куда опять подевалась?
Та, как была с тряпкой, так и втиснулась крутыми бёдрами в дверь.
— У нас что ж?.. — губпрокурор бросил грозный взор за окошко. — Со второго этажа того?.. Съехали наконец профсоюзы грузчиков?
— Убрались оглоеды! — довольно ухмыльнувшись, поджала та губы. — Добили городскую управу ваши письма, устали мои рученьки их носить, — и, одёрнув короткий передник, сложила могучие кулачища на таких же могучих грудях. — Перевели охальников куда-то к берегу, ближе к порту. Нашли там контору, теперь хоть от дыма можно продохнуть да мата не слыхать. А то уши затыкай…
— А эти?.. — перебил её Арёл, тыча в окно. — Эти откуда?
— Мадам Хапсирокова, московская особа, — пробасила уборщица. — Собственной персоной пожаловала к нам в соседи. Из самой столицы! — широко улыбаясь, она перегнулась через губпрокурора, прижав ему голову грудью, и тоже залюбовалась в окошко. — Недели две только оборудование затаскивали, она ж оттуда с собой и машины швейные приволокла, и даже некоторых мастеров переманила…
— Рыбопромышленника Хапсирокова жена? — всё-таки вытащил голову из-под необъятной груди уборщицы Арёл.
— Ну, жинка не жинка, — закатила та блудливые глаза. — Кто их разберёт сейчас? Смазливая ухажёрка. И хваткая. А теперь это главное. Такие наряды у неё шьют!.. Отбою нет от заказчиц.
— Ну а эта?.. Сисилия наша? — Арёл никак не мог запомнить фамилию секретарь-машинистки, навязанной ему заместителем председателя губисполкома Сергиенко после того скандала с дамочкой, чтобы замирить их с Арестовым.
— Сисилия Карловна отлучилась на секундочку. Меня попросила…
— Туда же?
— Материю новую опять завезли. Вот народ и валит. — Варвара принялась усердно протирать тряпкой подоконник. — Предупредила она меня…
— Ну да… — ничего другого не смог сказать Арёл. — Подоконник-то оставь в покое, последнюю краску сдерёшь.
— Вам бы и самим, Макар Захарович, подумать…
— Чего это?
— Больно уж обносились. Гимнастёрку помню с тех пор, когда к нам вас определили. И френчик тот же. Вон, на локтях-то почти до дыр. А на галифе хоть заплатки ставь.
— Не твоё дело! — вспыхнул губпрокурор. — Учить меня будешь! Меньше б в стирку сдавала. Там остолопы, им бы хны! Зараз хорошую материю стреплют. Кожу бычью разъедает их бакалея!
— Да при чём здесь бакалея, Макар Захарович? — прямо-таки взмолилась Варвара, в её бесхитростных глазах грустила искренняя забота и даже иное, более глубокое чувство так и лилось мягким тёплым светом на смутившегося Арла. — Вы на себя-то давно в зеркало заглядывали?
И осеклась, испугавшись невольной дерзости.
— Ты это, Варвара!.. — прикрикнул Арёл, но далее язык не поднялся: насчёт зеркал курьер-уборщица угодила в самую точку, он их в учреждении запретил сразу, а удивившимся сотрудникам буркнул: «Не цирюльня, любоваться на физиономии в других заведениях будут, от нас их под конвоем уводят».
Для личного бритья он держал в своём уголке чудом уцелевшую ещё с армейских времён польскую фляжку под спирт, сверкающую пуще надраенного самовара, в каждом её боку умещались не только его подбородок, но и щетина щёк, а лихой чуб бывший кавалерист укрощал одним взмахом пятерни, как когда-то вскидывал шашку.
— Вероника Селимовна к вам уже несколько раз заглядывала да не заставала, — укоризненно сдвинула брови Варвара. — Познакомиться хотела и в мастерскую пригласить.
— Швейка та?
— Передать вам просила, что ждёт под вечер наверху. Солидным костюмчиком хвастала как раз для вас. Иван Григорьевич Сергиенко уже в таком щеголяет. Сам Григорий Яковлевич не побрезговал, был уже на второй примерке по причине особливости своей фигуры, — прыснула в кулак Варвара.
— Трубкин?
— Для начальства у неё мастерят быстро. К тому же у мужчин претензий меньше.
— Что-то не замечал я раньше за тобой такого интереса? — нахмурился губпрокурор. — Ишь, разговорилась! Новенькая обкрутила? Кондория Сильевна?
— Сисилия Карловна! — совсем расхохоталась Варвара. — Не даётся вам её имя.
— На работе не вижу. Она б лучше на месте сидела, чем по швейкам бегать. Я ведь не посмотрю на её исполкомовские заслуги!
— Зато в моде разбирается, — не унималась Варвара. — Гляньте-ка на портрет, она с Вероникой Селимовной насчёт вас по поводу такого костюма договаривалась.
— Без меня? — Арёл готов был сорваться на грубость, но поднял глаза перед собой и смутился.
Хитро прищурясь, на портрете набивал короткую трубочку табачком усатый грузин. Пригнув голову, казалось, замер, поджидая следующей его фразы. Костюм на нём удивлял генеральской важностью, хотя и был гражданским. Страх вселяло всё в его деталях, но в особенности пугали два больших кармана на груди с пуговицами, которые лишь главнокомандующему под стать.
— Ты говори, говори, да не заговаривайся… — совсем потерялся Арёл от улыбки этого человека с портрета. — Заболталась, ворона!
— Мне что, — с наивной беспечностью отвернулась та. — Думайте сами. Только врать не собираюсь. Половина исполкомовских в таких костюмах шастает. И ничего. Поскромней, конечно, материя. Вероника Селимовна их не балует, а для вас держит, велела передать.
— И когда ж она успела так размахнуться? — удивился Арёл. — Я и не заметил. Если б не дамочки под окном, — он кивнул за плечо, — так бы и…
— А вы, кроме дел своих, и не замечаете ничего, — опять простодушно махнула рукой Варвара. — Как грузчики съехали, так она и села наверху. Шустрая дамочка. И, видать, с большими связями. С месяц уже или поболее пошивом занимаются её люди. Помнится, сам Василий Петрович Странников первым у неё костюм сварганил. Ещё перед отъездом на курорт.
Не раздумывая более и не сомневаясь, взяв с собой бойкую Сисилию Карловну в провожатые, тем же вечером отправился Арёл наверх, в швейную мастерскую. Однако у дверей кабинета хозяйки застыл: изнутри доносилось щебетание явно женских голосов. В недоумении он развернулся к секретарь-машинистке, но та ужом проскользнула вперёд и исчезла за дверью, виновато шепнув:
— Извиняюсь, я на секундочку.
Ждать ему не пришлось, тут же дверь распахнулась снова, уже широко и приветливо; дородная, в чёрном бархате улыбающаяся хозяйка с драгоценностями на груди, будто с картины, подхватила его под руки, ввела в светлое просторное помещение и прямо-таки силком усадила в собственное богатое кресло за великолепно сервированный стол. Его здесь, конечно, заждались; впрочем, среди посуды он приметил разбросанные женские журналы, явно иностранного происхождения.
Без конца извиняясь и жалуясь на занятость, она поднесла ему чай в расписной зелёной чашке и, предупредив, что незамедлительно вернётся, лишь проводит задержавшуюся посетительницу, покинула кабинет. Сделано всё это было так искромётно, с такой женской обаятельностью, что Арёл, ничего подобного не испытывавший, не успел ни обидеться, ни рассердиться, а лишь развёл руками в растерянности. Однако при всём этом казусе он отметил, как пугливо улетучилась его секретарь-машинистка, а вот лицо таинственной особы, стрельнувшей по нему пронзительными глазами, исказилось гримасой презрения в то время, когда озирала она его потрёпанный френч и истерзанные временем галифе.
Чаи распивать в одиночку, ужаленный таким обхождением и пришедший в себя Арёл, конечно, не собирался; выбрался он из-за стола ни к чему не притронувшись, стиснул кулаки в карманах галифе и для успокоения нервов принялся ходить вдоль стен, пёстрых от нашлёпанных на них всевозможных бесстыжих картинок. Швейных да цирюльных дел мастерам, может быть, ничего бесстыжего в тех картинках-фотографиях и не замечалось, однако босоногие и полураздетые обнимающиеся парочки в откровенных панталонах пролетарскому глаза губпрокурора претили, хотя и делали вид, будто демонстрируют современную моду. От этих ли нервических впечатлений или от общего возмущения в одном из дальних углов бесстыжего этого помещеньица Макару Захаровичу вдруг почудился шум голосов. «Возвращается наконец блудница, — решил он, — рассиживаться у неё не стану, прикажу снять мерки и уберусь из этой клоаки». Вздохнув облегчённо, он уже было развернулся, но вдруг осознал, что ошибся — голоса, довольно знакомые, доносились не из коридора, а из другой комнаты, что была под его собственными ногами, и способствовало этому приметное отверстие в самом углу, где отсутствовали плинтуса. Нагнувшись и прижав ухо к стене, теперь он вполне отчётливо услышал визгливый голосок новенькой своей работницы в собственном кабинете:
— Мужлан наш так перепугал Нинель Исаевну, что та, всё забыв, без задних ног бросилась вниз, как только шею себе на лестнице не свернула! Верка её едва догнала на своих ходулях, — с издёвкой хихикала Сисилия Карловна, которой разыгравшаяся сцена бегства незнакомки явно доставила удовольствие.
— Чего ей пугаться? — хохотала и Варвара, но злорадства машинистки разделять не спешила. — У неё женишок ого-го! За такой спиной кого пугаться? Я-то уж его изучила, мужик тёртый, за пояс заткнёт любого, а при своей-то нынешней должности и подавно! Нинель хоть и выпендривается из себя, а ноги ему в тазике готова мыть.
— Прямо-таки и мыть! Скажешь тоже…
Дослушать до конца вздорную перепалку двух своих сотрудниц Арлу не удалось, по коридору к двери кабинета явно спешила сама хозяйка. Он вышел из злосчастного угла не без сожаления. «Чёрт возьми! — одолевали его мысли. — А ведь здесь очень удобное местечко, чтобы прослушивать все мои телефонные разговоры, распоряжения и указания, которые даются мною сотрудникам, совещания с помощниками и следователями… Лучшего места не сыскать! Конечно, дыру в полу проделала не швейка, возникла она, скорее всего, сама собой от общей ветхости здания, оно же ещё с царских времён и задолго до вселения профсоюза грузчиков. Но те орали до одури, им никакой нужды в той дыре не было. Крысы продолбили?.. В Гражданскую войну в этом особняке госпиталь был. Но пройдоха-татарка, как только сюда вселилась, да все углы обшарила, про дыру пронюхала и, конечно, пользовалась ею не раз. Сначала ради любопытства, потом, может, и муженьку своему рассказала. Тот — видный рыбный делец, в подслушанном он интерес для себя находил… Ведь ни она, ни он не спешили с ремонтом, дыру не заделали, и меня о ней не предупредили, а наоборот, скрыли! Может быть, даже приглашали кого из знакомых подслушивать? Мало ли желающих прознать прокурорские да следственные тайны? Уголовных дел-то сколько развалилось за последнее время!.. На последнем секретном совещании старшие следователи Курагин, Семёнов, Джанерти и Васильков высказывали озабоченность, будто бы враг затесался в их ряды и заблаговременно сообщает о готовящихся оперативных мероприятиях и следственных действиях. Грешили на председателя Глазкина, что тот разваливает уголовные дела. Откуда у него такая уверенность вдруг появилась? Вот где может быть разгадка многих неудач — в этой проклятой дыре!..»
От этих мыслей его словно ударило током: «Мне же первому голову Берздин и оторвёт! Объявит предателем, врагом народа — и к стенке! Вот она, твоя позорная смерть, товарищ прокурор! Не ждал не гадал, а она рядышком поджидает… Больше всего такого конца страшился — погибнуть из-за пустяка. Ещё с Гражданской войны это чувство».
Спину накрыло липким вонючим потом. Он чуял противный запах. Пот лез в глаза, скатывался по носу и щекам. Больше всего его угнетало: «Подло жизнь кончить!.. Как же так?..»
Не помня себя он оказался в хозяйском кресле, собрав салфетки, обтёр лицо, одним большим затянувшимся глотком выпил холодный чай из огромной зелёной чашки и, расстегнув ворот, глубоко вздохнул. Мерзкий туман, заполнивший его сознание, начал таять.
«Но это же уголовное дело и для неё, стервы, — растирал он виски пальцами. — Швейку, похоже, не пугает ни ответственность, ни тюрьма. Глупой её не назвать, делами своими она в городе вон как крутит! Сожрала всех конкурентов! Начальство и жён их обшивает. Его, дурака, поймала на ту же удочку… Губисполком под ней, сам Странников, говорят, шил у неё костюм, а теперь начальника ОГПУ Трубкина вздумала окрутить… Подслушивает все мои разговоры и ему их передаёт?.. А? Какова? Как же раньше не догадался — ни одной нэпманше или нэпману Трубкин не позволял располагать своих контор близко к прокуратуре, суду или милиции, а тут вдруг закрыл глаза?.. Неспроста всё это, неспроста…»
Шаги по коридору приближались.
«Что же делать? — лихорадочно мелькали мысли. — Арестовать швейку? В камере она во всём признается. Женщины такого рода, избалованные, изнеженные, да при заботливых мужьях или любовниках, жёсткого тюремного обхождения страшатся. Враз заговорит швейка. С ней всё ясно. А вот как быть с этой Нинель Исаевной? С почтением говорила о ней его Сисилия Карловна, а Варвара прямо задницу драла. Кто её всесильный муж? А вдруг это новый ответственный секретарь губкома Носок-Терновский? Заступил в должность давно, а его, губпрокурора, в глаза видеть не желает. Не встречался по-серьёзному, не расспросил?.. Как, мол, твои дела, житьё-бытьё, товарищ губернский прокурор? Больше и лучше всех знаешь о просчётах, о пройдохах и преступлениях, поведай, как нечисть извести?.. А может, потому и видеть не желает его, что Нинель в тёплой постели всё ему и пересказывает, вот они вдвоём и посмеиваются над ним?..»
Опять не по себе стало Арлу. Дурные мысли грызть стали, разума в них оставалось мало. Гася внутренний пожар, стиснул он кулаки, закусил губы: «Успеется с арестом. Пусть, сука, слушает, наслаждается пока. Надо выяснить сначала про все её связи и знакомства, про Нинель, про эту чертовку — первым делом. Обезопасить себя, а уж потом стрелять без осечек… Сегодня же расспросить Джанерти, не посвящая его в главное. Джанерти, конечно, в курсе всех здешних любовных интрижек. Он подскажет…»
Кое-как изобразив улыбку влетевшей запыхавшейся хозяйке, он заторопился с примеркой; прощаясь, зачем-то нагнулся и поцеловал ей руку, чем привёл в неописуемый восторг, а выйдя за порог, сплюнул и грязно выругался. В прокуратуре сразу прошёл в свободный кабинет следователя на противоположную сторону коридора, вдали от собственных апартаментов, принялся накручивать телефон, разыскивая следователя Джанерти.
Найти того не удалось. Дежурный следственного изолятора окончательно вывел его из себя, сообщив, что следователь прокуратуры ещё днём повёз в судебную экспертизу труп арестанта, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах. Арестантом оказался Губин, тот самый Губин, с которого приказано было не спускать глаз, содержать в одиночной камере и не пускать к нему никого без ведома губпрокурора. От Губина тянулись нити к загадочному убийству профессора Брауха, к отчаянному головорезу Корнету Копытову… От того самого Губина, всё знавшего, но отправившегося на тот свет вместо того, чтобы открыться правосудию. И ещё много тёмного и жуткого унёс с собой арестант, отчего у губернского прокурора давно тяготилось нутро.
Бросил трубку Арёл, вспомнил, что, кроме чашки холодного чая коварной швейки, ничего не ел за весь день, глянул в окно, а день-то давным-давно канул, кромешная ночная тьма накрыла город.
И тогда губпрокурор понял, что надо разыскивать Турина. Тот пришёл скоро, присел на краешек предложенного стула, пока губрокурор, перескакивая с одного на другое, рассказывал ему про дыру в потолке, про свои опасения насчёт швейки и о клиентке длинноногой, выкурил несколько папирос без перерыва, не сдерживаясь или забывшись, гася окурки прямо себе в кулак. А когда выдохся прокурор и затих, хлопнул этим кулаком себе по колену:
— Твердил я вам, Макар Захарович, арестовывать надо было всю эту шлёп-компанию!
— Ты прямо скажи, Василий Евлампиевич, — вскочил на ноги губпрокурор. — Что сейчас предпринять? Крутить да нотации читать нечего!
— А чего тут крутить? — поднялся и Турин. — Брать под стражу надо председателя губсуда Глазкина. И немедленно. Заместителя туда же и ещё с десяток судей, потому что злостные они вымогатели взяток, губящие уголовные дела ради наживы! А впрочем, нечего мне повторяться в который раз. Приводил я вам и ответственных людей — свидетелей, выкладывал веские доказательства. Надо? Ещё приведу!
— А Нинель? Нинель Исаевна? Что это за штучка? Вдруг это…
— Это сообщница Глазкина, а по официальному статусу — его новая невеста после гибели Павлины, дочка богатейшего рыбодельца Бобраковского Исая Моисеевича. Неужели вам было неизвестно?
— Но как брать Глазкина? — не сдавался губпрокурор. — Сам понимаешь, меня удерживало, что он не просто судья, а председатель! Да ещё с такими связями!
— Связи его липовые! — оборвал Турин. — Когда-то, возможно, он и был порядочным человеком, в чём я сомневаюсь, а теперь это последняя сволочь, на нашем языке — высококвалифицированный уголовник. И чем быстрее мы его изолируем, тем лучше.
— Берздин подмогу обещал, старших следователей из края планировал прислать. Ты же сам мне говорил, что с поличным Глазкина не взять, в кабинете он взяток не берёт.
— Теперь в этом нет надобности, — смутил Турин прокурора, зло заглянув в глубину его глаз. — Дождались и мы, видно, нагрешил этот гад столько, что и на небесах не по себе стало.
— Как с паперти заговорил… — хмыкнул Арёл, недоверчиво изучая хмурое лицо начальника розыска.
— Эта судейская шайка-лейка сегодня по какому-то поводу вечеринку закатила, взяла в аренду помещение школы и организовала настоящий бордель с девицами лёгкого поведения.
— Как? — подскочил Арёл. — Кто в школе разрешил?
— Нашлись. Но это полбеды. Перепились они там и перестрелялись.
— Чёрт! А почему мне ничего не известно?
— Я звонил, да секретарша ваша порадовала, что вы костюм новенький заказываете, как раз у той швейки, которая вас подслушивала.
— Убили кого? — сник губпрокурор.
— Обошлось без жертв, хотя Каталкин, зам Глазкина, ранил обоих сторожей школы.
— Ты вроде как сожалеешь? — тяжело опустился на стул губпрокурор.
— Печалюсь. Вы б тогда враз ордер на арест всех подписали.
— Зря ты так, Василий Евлампиевич… — опустил голову Арёл. — Сколько я сегодня пережил, один ты теперь знаешь.
— Со мной и умрёт, если с дерьмом не всплывёт.
— Если не всплывёт… — повторил Арёл. — Выпить бы сейчас.
— У меня есть, — достал фляжку Турин, — только вот налить не во что.
— На фронте всяко приходилось, — Арёл схватил фляжку двумя руками, словно драгоценность бесценную, и выпил бы до конца, не останови его Турин:
— Макар Захарович, мне бы ордера…
— Диктуй, — поставил тот фляжку перед собой и вытер губы рукавом.
— Глазкин, Каталкин, Френкель, Тодорский, Макушев, Макеев, Егоров, Сорокин, Коробынин, Абдуллаев…
— Постой, постой! — протестуя, замахал руками прокурор. — Ты что же, весь губернский суд собрался в тюрьму упрятать? Места не хватит!
— Прогнил суд ещё до Глазкина, а с ним он, как корабль с пробитым дном, сразу на дно пошёл. Много в списке и районных судей.
— Ночи-то хватит? Утром докладывать ответственному секретарю губкома вместе пойдём. И чтоб по каждому арестованному полный расклад был.
— Расклад хоть сейчас представлю, — поднялся на ноги Турин, аккуратно сложил в ладонь выписанные ордера. — А к утру, думаю, управлюсь. Об одном сейчас жалею, Егора Ковригина отпустил. С ним бы и сомнений не было, всех повязали бы.
— Ковригин? Это кто такой? Не шофёр ли Василия Петровича Странникова? — потянулся к фляжке губпрокурор.
— Он, — переменившись в лице, грустно улыбнулся Турин. — Загорает, шельмец, сейчас на крымском песочке, жирком небось обрастает от безделья.
VII
Егор действительно предавался наслаждениям. Набирая в лёгкие поболее воздуха, кувыркался он нагишом в тёплых морских волнах, выбрав укромное безлюдное местечко у торчащей поодаль от берега одинокой скалы. Скала эта прозывалась в народе Дивой, но вокруг удивительной красоты, как это и бывает, водилось столько морских уродин и зубастых чудищ, что желающих плавать и проводить время поблизости особенно не находилось даже днём.
Цепляясь за трещины в камнях, обросших мхом и кишащих мелкими колючими рачками, решился он на отчаянный поступок — добраться, донырнуть до самого дна, где на ощупь отыскать необычного экзотического рапана и поразить сердце любимой Серафимы.
«Разыщу отменный экземпляр, — как мальчишка подстёгивал себя он, — такой, что ей и не снился, отнесу местным умельцам, отмоют, отчистят, заполируют его и смастерят редкую драгоценность! Будет ей глаз ласкать, а к уху поднесёт — море зашумит изнутри, век меня помнить будет». Забавляясь радужными мыслями, нырял и нырял он в морскую глубь без устали, выныривая, отфыркивался, упивался звёздами, рассыпавшимися над головой, и погружался снова на дно. Под светом огромной жёлтой луны, выкатившейся будто специально ему на подмогу, кое-где удавалось рассмотреть дно, мечущихся между растопыренных его пальцев шустрых рыбёшек, удирающих по песку каракатиц и прячущихся довольно аппетитных размеров крабов, но сегодня они его нисколько не интересовали. В одной из глубоких трещин скалы, увлёкшись, он едва не наткнулся на семейство морских ежей и постарался убраться подалее, помня острые ядовитые иглы коварных существ. Потом по собственной же неосторожности опять чуть не пострадал, но увернулся от полной хищных зубов распахнутой пасти какой-то рыбины. Успев отпрянуть, он изрядно наглотался солёной воды, поспешил на поверхность и долго отплёвывался: «Вот так всё и устроено на свете — мы охотимся за кем-то послабее, крупный хищник — за нами, чтобы сожрать, а над всем этим неведомое царствует и повелевает…»
Однако нехитрая философия выскочила разом из головы, когда, вновь погрузившись под воду, узрел он внезапно то, что искал — изумительной формы рапан, увеличенный в размерах слоем жидкости, поразил его и стал наградой всех поисков. Завладев находкой и усевшись в песке среди накатывающих волн, он долго любовался добытым чудом. «Рог подводного бога Нептуна! — просилось на язык от такой невидали. — Вот подфартило так подфартило! — разгорелись глаза. — Не зря я здесь столько времени соль хлебал, теперь не опоздать бы к Серафиме, а то у неё не застрянет — убежит домой, не дождавшись».
Он выскочил на сушу, поспешая, обтёрся и, прыгнув в оставленную неподалёку автомашину, помчался в посёлок, где у особняка должна была поджидать его Серафима. Время было уже за полночь, на этот поздний час они и договорились, чтобы не опасаться Августины.
Ещё днём, когда Егор привёз путешественниц в курортный посёлок и расселил в заранее подобранном самим Странниковым уютном и просторном особнячке, обе попросили покатать их по улочкам, ознакомить с достопримечательностями, а также пожелали искупаться в море. Не прекословя, а даже возрадовавшись, Ковригин свозил любопытствующих к подножию горы Кошка — местному украшению, с которого и начиналась когда-то вся история этого края. Подражая Исааку Семёновичу Богомольцеву, что помня, а что соврав, пересказывал он им предания о диких племенах тавров, основавших поселение, попугал сохранившимся их могильником, из которого мертвяки в полночь якобы выбирались один раз в год к морю промыть косточки, а заодно утащить под землю одну-другую парочку зазевавшихся влюблённых. Дамы визжали от страха, особенно Августина, а потом давились смехом после его раскаяний и признаний. Одним словом, повеселил их как мог, показал руины византийского замка, не забыл про секунд-майора Ивана Мальцева упомянуть, в имение которого наведывался сам император Николашка Второй со всем своим семейством, там же подвёл к вполне сохранившимся виллам «Ксения» и «Мирко-Маре», где нежились когда-то и лечились аристократы царских фамилий, а кроме них и такая знаменитость, как Лев Толстой. Заморив совсем, повёз наконец купаться к морю. Августина плавать не пожелала и, обнажив колени из-под красочного купальника, играла с волнами, накрывшись ярким зонтом. Они же с Серафимой заплыли далеко от берега, а Егор всё увлекал и увлекал её дальше, пока совсем не смолкли голоса купальщиков.
Она не противилась, помалкивала, поглядывая на него с интересом: оттаяла, а может, увидев его красивое, могучее голое тело, взыгралось её прошлое, но сдерживала себя, хотя глаза выдавали. А Егор сдерживаться не мог, подхватив под талию, он прямо-таки впился в её влажные губы и целовал, целовал, целовал…
Она оттолкнула его, вырвавшись, и рассмеялась:
— Не задумал ли лиха?
А он, не унимаясь, поднырнул, стал ловить её ноги под водой и целовать их, подымаясь от лодыжек выше и выше!
— Да уймись ты, охальник! — взбрыкнула она и, взмахнув рукой, вынырнувшего окатила фонтаном брызг. — Люди на берегу. Августина глаз с нас не сводит.
— Завидует.
— Разболтает Василию Петровичу. У неё язык хуже швабры.
— А пусть болтает! — с бесшабашной беспечностью крикнул он. — Василий Петрович давно уже догадывается о наших шашнях, только вида не подаёт.
— Культурный человек…
— Он культурный, даже интеллигентный, когда трезвый, — захохотал Ковригин. — Да нет, он мужик — ничего.
— Вот погонит тебя в три шеи!
— Ему Исаак Семёнович не позволит.
— Это ещё кто такой?
— Тот самый. Его всесильный друг. Тебя мечтает увидеть, ему сиделка нужна для больной жены. Та уже лет десять с постели не встаёт. Парализована с революционных бурных времён. Вот он один и ездит по курортам. А мы с ним подружились. Я ему тайком от Василия Петровича и посоветовал тебя. Да и Странников сам не прочь.
— Как?! Вы уже здесь всё решили!
— Трепались по пьяни они меж собой, а я услышал ненароком. Ты не обижайся, Сима, но Странникову всё равно, какая баба будет с ним, ему лишь бы Богомольцеву угодить.
— Вздор!
— Ну поругайся, если душа просит, — пустился успокаивать её Ковригин. — Мы здесь более недели, уже столько переговорили…
— Придумал ты всё. Чтобы меня сманить.
— А я и не скрывал, что тебя добиваюсь. Василию Петровичу-то давно уже всё равно, какая юбка рядом будет. Конечно, чтоб не дурнушка. Августина ему в самый раз. В столице ведь он и тебя бы бросил, неужели ты на что-то надеялась?
Серафима обиженно отвернулась:
— Если б не его портфель да деньги, нужен он мне, старый козёл!
— Вот! — обрадовался Ковригин. — А я что говорю? Мы с тобой пара. Меня и в должности повысили, в столицу я другим человеком еду, в ОГПУ теперь, но Богомольцев обещает, что при нём буду, а ты как раз за его женой присматривать станешь. Чего нам ещё надо?
— Быстро ты всё за меня решил…
— Быстро? Да я ночей не спал, все варианты пересчитал. Богомольцеву самому выгодно нас с тобой обженить. Странникову он рот прикроет, если тот начнёт возмущаться, а наш брак для него прикрытием будет.
— Значит, он меня в постель к себе вместо больной жены, а ты рядом со свечкой стоять будешь? — сверкнула глазами Серафима. — Под утро я к тебе бегать буду, тебя ублажать… Это тебя устраивает?
— Да погоди ты, выслушай. Тут столько вариантов… Я всё просчитал, — он попробовал закрыть ей рот поцелуем, но она вырвалась из его объятий и поплыла к берегу.
— Постой! Куда ты? Про самое главное не дослушала! — пустился он её догонять.
— Приедешь в полночь к дому, в машине договорим, — не оборачиваясь, крикнула она, как отрезала…
Туда и торопился теперь Ковригин, поглядывая на добытую с морского дна диковину: «Никуда не денется, согласится, Симка — баба с умом. У неё выгода впереди сердца бежит…»
Он не ошибся. Не успел подрулить автомобиль к особнячку, женская фигурка сбежала по ступенькам, он распахнул дверь, и она запрыгнула к нему на сиденье. Он обнял её, совсем горячую, будто только из постели.
— Дрыхнет Августина-то?
— Седьмой сон видит, — прижалась она и сама поцеловала его.
Крякнул Егор и прибавил газу.
— Не гони как оглашенный. Останови где-нибудь за деревцем, чтоб не наткнулся на нас кто.
А он уже целовал её, и жадные руки срывали с неё халат. Скатившись на заднее сиденье, потеряли они человеческое обличье, словно дикие звери набросились друг на дружку, не целовались, а кусались до крови и синяков.
Рассвело, когда, оттолкнув его, выползла она из машины, не в силах встать на ноги, перевела дух, поцеловала на прощание его, выскочившего следом и пытавшегося поднять её на руки, чтобы донести до особняка.
— Не надо. Сама пойду, — улыбнулась она наконец той, прежней, а может, и ещё милей, грустной улыбкой. — Когда теперь увидимся?
— Привезу отцов, — усмехнулся он в ответ. — Гляди на них внимательней. Не прогадай. С Исааком Семёновичем будь поласковей. А Августина быстро сообразит, что ей делать, кого соблазнять. Она не промах.
— Иди, — чмокнула она его в щёку и шагнула от машины.
— Погоди! — нагнулся он в салон и принялся отыскивать подводную драгоценность.
— Чего потерял?
— Да это… тебе со дна морского!.. — он всё метался в поисках.
— Ракушку-то?
— Ага, — повернулся он к ней. — Руки все ободрал, пока счастье подвернулось!
— Выбросила я ту мерзость в окно, уж не помню и куда. Все бока мне истерзала, пока миловались на сиденье твоей машины.
— Что ты сделала! — застыл он с открытым ртом. — Я ж из-за тебя жизнью рисковал, чуть не утонул!..
— Езжай, езжай, — не обернувшись, махнула она рукой. — Народ скоро к морю побежит.
VIII
Как ни ярки были чувства, волновавшие Ковригина после бессонной ночи, проведённой с Серафимой, заявившись на порог санаторного номера Странникова и застав там Исаака Семёновича, он не забыл первым делом отрапортовать Богомольцеву о загадочном Загоруйко Никаноре Ивановиче. Слушал тот вполуха, будто уже всё знал, особенно не интересовали его сведения, что тёмная личность вояжировала из Москвы в Севастополь одним вагоном с приглашёнными на курорт женщинами, более того, соседствуя в купе за тонкой переборкой, каждый день проводя в их компании; что этот человек выведывал у Августины разные разности про Серафиму и Странникова, про их дальнейшие планы, сулил златые горы за сотрудничество.
— Подсадная утка, — хмыкнул Василий Петрович презрительно, к этому времени уже изрядно выпивший.
— Шпион! — жёстко отрубил Богомольцев, строго глянул на товарища. — Причём по твою душу.
— По мою? — удивился тот.
Богомольцев, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться, выхватил из внутреннего кармана пиджака конверт, помахал перед носом Странникова:
— Вот, смотри! Угадай, про кого пишут? Не куда-нибудь, а прямиком в Центральную контрольную комиссию! В святую святых нашей партии, где не таких, как ты, трясли, всю душу вытряхивали из-за пустяков!
— Кажется, догадываюсь…
— Правильно догадываешься — про тебя и твои аморальные проступки! И это ещё мягко сказано… Лишь ты из города отчалил, товарищу Сталину повезли послания!
— Этого негодяя Загоруйко? Да кто он, и кто я?! Из какой он районной организации? Ничего про него в Астрахани не слышал…
— Зато он мастак, в таких грешках твоих сведущ, что уши вянут! Уверен, действует разветвлённая устойчивая группа, — спрятал конверт Богомольцев. — В ЦК мне поручили провести проверку этой писанины. Вот я и поджидаю одного из авторов здесь, чтобы организовать, так сказать, личную встречу, прежде чем ехать на место.
— Какие они все там сволочи! — брезгливо морщась, опрокинул рюмку водки Странников. — Своей рукой я уничтожил всех отщепенцев — выкормышей оппортуниста Муравьёва, вырастил смену энергичных партийцев! Семьдесят процентов молодёжи, стыдно сказать, сифилисом страдало и дурью мучилось; при приёме в комсомол я их через больницы пропустил, оздоровил в заводских и фабричных ячейках, активистами многих сделал! Наконец, город от наводнения спас! Да при мне вылов рыбы в губернии увеличился в несколько раз, рыбодобытчики вздохнули полной грудью!.. И что я заслужил в благодарность?
— Вырастил ты!.. — гневно рявкнул на него Богомольцев. — Пишут они, что вырастил ты нэпманов толстопузых, пожирающих все завоевания астраханского пролетариата и его былую славу. А от себя добавлю, ты уж не обижайся, взрастил ещё Иуду на свою голову! Позабыл про лучшего советчика своего Трубкина?.. А его в первую очередь гноить следовало. Он с первых дней следил за каждым твоим шагом и чуть что сигнализировал Ягоде. Хорошо, что у меня везде свои люди успевали перехватывать. Так он, сука, поведав про это, начал организовывать коллективные обращения в ЦК, ЦКК и самому товарищу Сталину. Но, как был остолопом, так ума не прибавилось, не понял он, что его штучки дурно пахнут. Это раскол партии на фракции, а с фракционизмом у нас!.. — он крепко сжал кулак и рубанул воздух. — Фракционисты теперь первейшие наши враги! Правильно Иосиф Виссарионович учит — самых коварных врагов ищи среди советчиков, шептунов, пытающихся зародить сомнения в наших стальных колоннах!
Он снизил тон, доверительно вполголоса договорил:
— Очень опасны эти тайные советчики, прячущиеся за нашими спинами. Мы и глазом моргнуть не успели, как свили они осиные свои гнёзда. Под носом самого Феликса! Железный чекист прозевал врагов в стенах собственной конторы! Придётся чистить авгиевы конюшни. Крови хлынет много, захлестнёт она страну, а надо… Читал доклад товарища Сталина на активе московской организации? Мы не боимся признавать свои ошибки, но следует повышать бдительность. Если мы будем максимально бдительны, сказал Иосиф Виссарионович, то наверняка побьём наших врагов в будущем, как бьём их в настоящем и били в прошлом. Из Шахтинского дела[21] надо быстро извлекать уроки.
Странников, протрезвев на минуту от такого откровения, начал подозрительно озираться. Ковригин, сжав губы, стыл тенью, боясь шевельнуться. Богомольцев оглядел их, хмуро ухмыльнулся, процедил сквозь зубы:
— Я вот что хотел сказать: вконец зарвался сукин сын Трубкин. Не успели, Василий Петрович, назначить тебя в столицу, прислал он в Кремль человека с письмом, от такой вот группки правдистов и советчиков. Мало того, наказал ему следить за тобой на курорте, чтобы иметь живого, так сказать, свидетеля… Зачем, спросишь ты? А я отвечу — вдруг пригодится на будущем судебном процессе!
И он расхохотался зло, от души, не скрывая выступивших на глаза слёз.
— Я быстро этого живого свидетеля в мертвяка превращу! — ожил, отделился от стенки Ковригин. — Кирпич на шею и пусть покоится вечным сном со всеми своими подмётными тайнами.
— Успеется, — покривил губы Богомольцев, рукавом утёр слёзы. — Нам такие методы вредны. Мы врага должны бить открыто. Привлекать к этому народ. Чтоб тот сам их судил и требовал высшей меры пролетарского возмездия. А зачем, спросите вы? Опять же отвечу, — чтоб народ не думал, что мы сводим старые счёты с нашими врагами. Пусть он сам требует у нас их голов. Помните французскую революцию, Марата и Робеспьера? Уроки надо извлекать из всего и не повторять чужих ошибок. К тому же новые руководители наших карательных органов по совету товарища Сталина переориентировались, сумели обращать врага в нашу веру. Пусть они служат нам, и в логове противника остаются нашими глазом и ухом. — Богомольцев покосился на заклевавшего носом Странникова. — Тебе, Василий Петрович, надо выспаться сегодня и привести себя в порядок. Завтра чуть свет отправляемся в Симеиз. Опасно здесь засиживаться, в Москву нам всем надо, в Москву! Вот завтра завершим ответственное поручение — и в Кремль!
— Зачем же в Симеиз? — продремав и очнувшись, возразил тот, он даже попробовал возмутиться. — К нему? К этому мерзавцу Загоруйко? Его вербовать да перевоспитывать?.. Да я его, собаку, своими руками!..
— Успеется, я сказал! — прикрикнул на него Богомольцев. — Мину Львовича с собой не возьмём. Ни к чему большая компания.
— Да он вторые сутки не просыхает. Куда с ним? — махнул рукой Странников. — И кто ему подносит, пока я к морю бегаю? Словить бы сердобольного, да уши надрать!
— Ты тоже выспись как следует, — повернулся к Ковригину Богомольцев. — Накатался за несколько дней?.. К сожалению, надо. Завтра чтоб как огурчик! Ты у нас завтра — одна из центральных фигур.
— Есть! — вытянулся в струнку тот.
* * *
Ковригин будто ненароком коснулся плечом Загоруйко у входа на пляж, куда тот выкатился мячиком, опережая остальных курортников после завтрака: надо было захватить свободный лежак.
— Гляжу — удивляюсь. Никак земляк? — Ковригин источал радость.
— Виноват, — насторожился тот и хотел проскочить мимо. — Тут все земляки, по ней, по матушке сырой, бегаем. Здесь она, правда, потеплей.
— Вот-вот, — изобразил Ковригин улыбку. — Никанор Иванович?
— Ну допустим…
— Отойдём на секунду?
— Что такое?
— Свои же, свои, — успокаивая забегавшие его глазки, приоткрыл удостоверение Егор. — Коллеги, можно сказать. Письмо писали?
— Письмо? Какое письмо? Вы что-то путаете, товарищ, — а губы выдавали, тряслись.
— Ну-ну! В Кремль?
— Передавал… — побледнел шпион.
«Зелёный мразь! — пробежал по нему острым глазом Ковригин. — Кого набирают в органы? Пенсионеров с улицы! Чтоб неприметней, что ли?..»
Он дружески похлопал курортника по плечу, но скользнула при этом рука, словно случайно, крепко перехватила локоть и слегка подтолкнула в сторону от пляжа:
— Знаем, что передавал. По этому поводу и пройдёмся. Ты на молодого сотрудника нашего угодил, он зарегистрировал поступление письма, а побеседовать, уточнить кое-что запамятовал. Да не волнуйся, тут рядышком беседочка, возле вашего же санатория.
В тени, в густой листве деревьев, в зелёной беседке, удобно устроился Богомольцев. Солидный, в светлой тройке, при шляпе, он сразу производил впечатление и коротким толстым пальцем поманил к себе упиравшегося Загоруйко:
— Никанор Иванович, вижу, напужал вас наш товарищ. Вы уж простите.
Тот закраснел лицом, споткнулся и упал бы, не поддержи Ковригин.
— Что ж вы так близко всё к сердцу? — участливо покачал головой Богомольцев и указал на сиденье против себя. — По нашим сведениям вы давно уже сотрудничаете с органами ГПУ, навыкам обучены. Может, давление разыгралось? У нас в столице и здесь, на море, оно всегда выше, нежели на периферии. Таблеточку?.. Нет?..
Шпион с застывшим испугом в глазах отрицательно мотнул головой, не проронив ни слова.
— Центральный Комитет партии очень благожелательно относится к каждому обратившемуся за поддержкой и помощью, — как ни в чём не бывало продолжал гнуть свою линию Богомольцев. — А вам, Никанор Иванович, чего пугаться? Впрочем, извините, что это я вас всё время Никанор Иванович да Никанор Иванович… Вероятно, это ваш, так сказать, псевдоним? Нет? Это ваше настоящее, не агентурное имя? А то я, извините…
— Настоящее, — пролепетал тот.
— Тогда вам совсем повезло, — вроде как обрадовался Богомольцев, расцвёл, разулыбался. — Вы же письмо в ЦК сами привезли, а мне как раз по графику положено отдыхать, заметьте, тоже на южном побережье Крыма, тут неподалёку от вас, вот и попросили меня встретиться с вами. Я — Богомольцев, заместитель заведующего отделом. Не слышали?
— Исаак Семёнович?
— Спасибо. Оказывается, и моё имя что-то значит у вас на периферии. Приятно. Обойдёмся без формальностей или книжонку всё же посмотрите?
— Всё так неожиданно… — Загоруйко, как прирос к скамейке, так и не двигался; испуганная маска, стянувшая физиономию, всё-таки постепенно разглаживалась, он вытянул шею, ожидая книжки.
— Вот, — помахал красным удостоверением Богомольцев и конверт вытащил, вытянул из него свёрнутый в несколько раз пакет, стал разворачивать, раскладывать на коленях, отыскивая первый лист и стараясь, чтобы Загоруйко увидел текст, убедился.
— Читать? — оторвал Богомольцев глаза от бумаг.
— Не надо, — поспешил и смутился своей спешки шпион, на Ковригина покосился.
— Уйти товарищу?
— Что? Да. Вдвоём вроде как-то…
— Свободен, — сухо скомандовал Богомольцев Егору, но в последнюю секунду, когда тот уже развернулся, окликнул: — Впрочем, погоди.
И вытянулась физиономия шпиона.
— Пригласи-ка нам сюда Василия Петровича Странникова, — подмигнул ему совсем дружелюбно Богомольцев. — Вы же знаете, Никанор Иванович, что он здесь тоже отдыхает, вот и объяснимся, так сказать, без обиняков, глаза в глаза. То, что изложено в письме и вам, и мне известно, — он встряхнул бумажную кучку так, что отдельные листы в траву посыпались, но не нагнулся, не проявил к ним никакого интереса, — Василия Петровича я ознакомлю на словах, все формальности будут соблюдены, как требует ЦКК.
На Загоруйко тяжело было смотреть, лицо его из красного побелело, засерело, заострились скулы, губы почти сжевал.
Странников вошёл в беседку.
— Меня Трубкин втянул… — медленно начал сползать на траву шпион. — Это всё он…
— А мы знаем! — Богомольцев взял высокую ноту. — Давно следим за ним и всей вашей вражеской группкой. Продолжайте, продолжайте.
— И письмо его… Мне даже неизвестно, что там написано.
— Лжёшь! — грубо оборвал его Богомольцев, переходя на новую тактику и тон. — Писано твоей рукой. С почерковедческой экспертизой не поспоришь.
— Я к товарищу Странникову всей душой… Я поддерживал его линию!..
— И опять врёшь! Вражеская фракция, в которую тебя и других втянул Трубкин, чрезвычайно опасна для государства и лично товарища Сталина!..
— Пощадите!
— Клевета на вождей и подрыв авторитета партийных лидеров караются однозначно — расстрел! Тебе назвать уголовную статью?
Плечи шпиона задрожали, потеряв самообладание, он закатил глаза.
— Лекаря? — дёрнулся Ковригин.
— Чего?
— Плох. Как бы раньше времени не окочурился?
— Водичкой его окатить.
— Я мигом, — рванулся с места застоявшийся Ковригин.
— Куда?! — остановил его окрик. — Я разрешал?
— Нет, но…
— Эта гадюка нас с тобой переживёт, — сплюнул Богомольцев. — Прикидывается. Схватили его за подлое жало, вот и выкидывает фортеля. Небось коньячок потягивали с Трубкиным, когда письмо сочиняли… Эх, выпить бы сейчас, тошно от этой мрази!
— Это всё он, — пробилась речь у Загоруйко. — Я был втянут… раскаиваюсь, всё расскажу…
— Трубкин, говоришь, диктовал?
— Григорий Яковлевич.
— Подыми его на скамейку, Егор Иванович, — поджал ноги Богомольцев, — а то он подошвы мне станет лизать, а я брезгую.
— Я заблуждался, но Григорий Яковлевич — начальник. Как осмелиться?..
— Что? Запугивал тебя? Это уже интересней. Чем?
— Известное дело…
— Ты мне загадок не загадывай! — рявкнул Богомольцев. — Ковригин? Я что просил?
Егор схватил за воротник ползающего в ногах грозного начальства повизгивающего шпиона, встряхнул так, что тот враз очухался.
— Куда его? Топить?
— Раз покаялся… — задумался Богомольцев.
— У меня жена больная, сам чахоткой страдаю, — взмолился шпион. — Сюда вот попал из-за болезни. Григорий Яковлевич помог с путёвкой.
— Путёвкой тебя купил?
— Помог…
— Не смей врать! Ты здесь, чтобы за Странниковым следить. Тоже поручение Трубкина?
— Он заставил, а я подлечиться хотел…
— В тюрьме теперь подлечат, если к стенке не угодишь.
— Да я и сделать не успел ничего! — с воем снова бросился в ноги Богомольцеву шпион. — Только письмо и отнёс.
— Егор, убери его с моих глаз, — не смог больше сдерживаться Богомольцев. — Как бы не заразиться! Палочки Коха[22], говорят, по воздуху летают.
Ковригин едва смог оттащить в угол цеплявшегося Загоруйко, в глазах того горел ужас, привиделся, видно, последний час.
— Куда его?
— Я ж сказал, раз покаялся и вину признал, шут с ним, — миролюбивее заговорил Богомольцев. — Пусть напишет официальное заявление, что Трубкин организует вражеские фракции внутри нашей партии, клевещет на проверенных партийных лидеров и понуждает это делать других. Займись с ним, Егор Иванович, а мы с Василием Петровичем пока подумаем, что с ним дальше делать.
Стон отчаяния приглушил его последние слова, но, взяв под руку Странникова, Богомольцев заторопился из беседки. Странников теперь интересовал его гораздо более:
— Подскажи Носок-Турскому, неужели не найдет никого заменить Трубкина? — затеребил он приятеля.
— Почему? Остались на месте надёжные люди.
— Мне люди не нужны. Одного надо, но проверенного.
— Есть. Кастров Ярослав Михеевич. Заместитель председателя губисполкома.
— Значит, Арестов его знает?
— Конечно.
— И будет рекомендовать в ОГПУ?
— Это его человек, — пожал плечами Странников.
— Что-то мне невдомёк?.. Вы как с Миной Львовичем?.. Или виделись только на партсобраниях?
— По-разному, — буркнул тот. — Ты же не слепой, Исаак Семёнович… Арестова до сих пор не разбудить. А насчёт Кастрова я голову кладу.
— Побереги. Она у тебя одна, а Кастровых, батенька… Ну да ладно. По поводу злоупотреблений Трубкина Ягоде сегодня же сам отзвонюсь. Пусть реагирует. Представлю кандидатуру Кастрова на должность нового начальника ОГПУ…
Крик догонявшего их Ковригина прервал разговор:
— Исаак Семёнович, со шпионом-то что делать?
— С этим?.. — снял шляпу, почесал затылок Богомольцев. — Сколько задачек сегодня… Пусть местные органы решают, когда он возвратится в Астрахань. Судить, конечно, а там?.. Не знаю. Шлёпнуть его не шлёпнут, получит, что заслужил. Не до этого мне, Егор, ты же знаешь, нам с Василием Петровичем ещё к женщинам успеть надо. Кстати, прогуляемся мы до них пешком, воздухом подышим. А ты, как закончишь, подъезжай к особняку.
— Его-то куда? — не отставал Ковригин.
— Сдай в местное ОГПУ на время. Пусть занимаются.
— Сомневаюсь, что в посёлке такое учреждение имеется. Прошлый раз мне пришлось аж в Симферополь звонить.
— Вон оно как… — опечалился Богомольцев. — Оформи тогда в милицию до утра, а завтра отправляй домой. Хватит, наотдыхался, сволочь.
— Сбежит один-то.
— А ты на что? Проводишь в родные края, сдашь новому начальству и поспешай к нам в Москву. Я тебя лично ждать буду.
Странников, недоумевая, уставился на Богомольцева.
— Да-да, Василий Петрович, ты уж извини меня, старика хитрого, тебе пока охрана не положена, а мне без неё нельзя. Я ведь сюда никого с собой не взял, так что Егор целый день, считай, на меня отработал. Не вешайте носа оба, так и быть, откупного поставлю!
И он весело махнул рукой Ковригину:
— Ну давай, давай, Егорушка, поспешай. У тебя ещё дел невпроворот…
* * *
Нервничая, так и не найдя отдела милиции, Егор уже запоздно освободился от Загоруйко, сдав его участковому под расписку до утра. Но примчавшись в особняк, никого не застал. Серафима кинулась на шею, сбивчиво объяснила, что уехало начальство на такси, присланным кем-то специально за Странниковым из Мисхорского санатория. Ещё рассказала, смеясь и плача, что Странников до отъезда успел напиться, приставал к Августине, а Богомольцев ей понравился: деликатный, обходительный старичок, они с ним и романсы пели, и стишки он ей декламировал, в общем, ухаживал, а потом сделал предложение ехать с ним в Москву приглядывать за больной женой.
— Как будто ты ему и насоветовал, — поцеловала она Егора и прижалась, разжигая его страсть.
— Ну а ты?
— Не стану ж я кидаться ему на шею, как сучка блудливая?
— Чего ж тогда?
— Пообещала подумать.
— Ты особенно не артачься, не корчи из себя, — занервничал Егор. — Он мужик прозорливый. Чтоб не учуял чего.
— В Москву торопился. Говорил, что закончился его отпуск, вот и теребил. В другой раз за мной сам приедет.
— А Странников как?
— А что ему? Он на Августину глаз положил, лишь полбутылки принял, а про меня — будто и не знал никогда.
— Ну, дай бог! — обнял Ковригин Серафиму. — Вроде как мечтали-думали, так и срастается.
— Сплюнь! — охнула Серафима.
— Поеду, — вырвался он из её объятий. — Может, ещё догоню. Теперь мне не до баловства, теперь новый хозяин. Его привычки изучать надо.
Однако как ни гнал автомобиль Ковригин, а догнать начальство ему не удалось: местные таксисты Крымкурсо по терренкуру летают, как птицы, в бешеной езде им равных нет. Но в номере Странникова, когда он подкатил к санаторию, горел свет. Ковригин с нетерпением вбежал, забыв постучаться. Каково же было его удивление, когда за одним столом с бывшим секретарём губкома как в старые добрые времена он увидел артиста Задова. Потрезвее, тот поднялся навстречу, принялся обнимать Ковригина, неожиданно заплакал.
— Что такое? Умер кто? — затряс его Егор, отстранился и заметил Богомольцева, тот, прихрапывая, спал на койке Странникова.
— Горе у нас, — закатил глаза артист.
— Да что случилось, скажите толком? — Егор повернулся к Странникову.
Тот вяло махнул рукой без особых эмоций:
— Логичен исход. Сознательно к этому шёл гад.
— Как ты так можешь? — картинно вскинул руки Задов. — Человек с последней надеждой к тебе обратился! Больше ему защиты не сыскать!
— Его место в тюрьме, — поморщился Странников. — Ты — дитё малое, Жорик, если не прикидываешься.
— Василий, что ты говоришь, побойся Бога!
— А-а-а… — отвернулся тот, заскользил взглядом по столу в поисках водки. — Негодяй, натворил столько!.. Невесту собственными руками сгубил и дурачком прикидывался!
— О ком вы?! — затряс Ковригин Задова.
— Неужели вам не ясно? — опустил голову артист. — Арестовали Павла Тимофеевича Глазкина, председателя губернского суда и половину его судей!.. Ваш Турин средь бела дня лично конвоировал его через весь город в «Белый лебедь». Зачем, зачем он трагедию обратил в фарс? Чтобы любовалась и смеялась чернь? О времена, о нравы!..
Часть третья. «Астраханщина»
I
Среди своих в краевой прокуратуре гулял слушок насчёт Громозадова, что не слыл Демид никогда тонким тактиком, а уж дальновидным стратегом тем паче, однако тернистую да вязкую дорожку от постового до сыскного агента, а там и до следователя прокуратуры протаранил не в пример некоторым без лохматой руки, подхалимства и других нелестных качеств, а за счёт собственной дублёной кожи, способной терпеть, и умения слушать более опытных товарищей, не перечить начальству.
Судьба смилостивилась над ним, бросила случай, словно кость: угодила под злодейский нож известная актрисочка, после концерта раньше обычного заспешившая домой — плохо себя почувствовала. Троих сразу на месте взяли, не успели бандиты даже от краденого избавиться. Дело штучное, могло и подождать, но театральная общественность и актёрская труппа подняли шум, а в отделе Лавра Ильича Отрезкова со следствием всегда аврал, ни одного мало-мальски свободного человечка, он на Демида глаз и положил. Тот в квартире осмотр производить помогал, в задержании бандитов участвовал — владел ситуацией.
— Надо так надо, — кивнул, — только поможете, если чего?..
— Это за мной, — тут же заверил Отрезков. — Забирай бумаги и не кашляй, а контроль за делом, считай, я уже установил. Заминка какая — беги со всех ног, не стесняйся.
Сказал и забыл, другие дела закрутили начальника, но Демид его и не допекал, через несколько суток принёс готовое дело.
— Можно в суд? — не поверил Отрезков.
— Читайте.
— Да ты у нас!.. — только и сказал начальник, однако не поскупился: отметили Демида Тимофеевича Громозадова в приказе за исполнительность и усердие, тут же сунули ему ещё несколько делишек по мелочи для расследования, а потом послали на курсы — прибрала его к своим рукам судьба по-настоящему, да и ехать никого другого не нашлось, у всех следователей как назло дел по горло, а Демид свободен. Заикнулся было розыскник за подчинённого, что не по назначению, мол, использован будет, но разве Отрезкову кто возразит? Сам Берздин, краевой прокурор, скомандовал!
А с курсов возвратился Громозадов с благодарственным письмом — науки грыз, с занятий не бегал, юбками не увлекался и в общежитие не водил лиц противоположного пола, к зелью же вообще пристрастия не имел. Кроме всего, наградили его там удивительным жёлтым портфелем, правда, из кожзаменителя, но зато с множеством отделений. Из-за огромных размеров назвать следовало сей презент чемоданом, баулом, саквояжем — подходило всякое, но Демид, как обычно, упёрся на своём — «портфель криминалиста» и хоть разбейся, возразить ему или перечить никто не смог. На что уж известный авторитет Тит Нилович Городецкий, обозрев со всех сторон чудо, глубокомысленно затянулся несколько раз трубкой, поморщился, вспоминая ещё царские времена, развёл длинные руки в стороны, раскрыл было рот, но упёрся в красную физиономию Громозадова и, крякнув, не вымолвил ни слова против.
В портфеле плотно размещалась всяческая утварь для следственного работника, что называется от иголки и шила до — мама родная! — настоящего мизерного микроскопчика. А прежде всего несколько связок сносной писчей бумаги в линейку со всевозможными штампами, шапками-названиями: «акт на нарушителя», «акт о нарушении», «акт осмотра места происшествия», «акт изъятия вещественных доказательств» и так далее в том же духе, но главное — объёмный сборник с вопросами, коими следовало начинать и в обязательном порядке заканчивать допросы свидетелей, потерпевших и лиц, задерживаемых в качестве подозреваемых. Разработано всё это было там же, на курсах, рекомендовано распечатать на местах и использовать в работе, разослав и по губернским подразделениям, что привело в большую радость начальство краевой прокуратуры и прежде всего самого товарища Берздина. Поначалу он даже собрался изъять портфель у опешившего курсанта и хранить его на стенке актового зала для всеобщего обозрения в качестве учебного пособия для занятий, но кто-то пошутил или озаботился всерьёз — не растащат по частям содержимое? И Громозадов тут же выставил аргумент — забытую в общей эйфории наградную бумагу, где чёрным по белому значилось, что портфель не общее достояние, а его личная награда, и ручкой блестящей, где это было выгравировано, застучал для пущей достоверности.
Тит Нилович Городецкий, так и не отводящий от чудесного портфеля завистливых глаз, попробовал было опять затянуть своё:
— Награда, конечно, особая… но обществу она пользы больше принесёт при умелом применении.
И Отрезков отмахнулся на гравировку, мол, формализм, а сундучок со всем содержимым всё ж должен принадлежать криминалисту, которого по штату в отделе не имеется, а значит, подлежит направлению прямиком начальнику, в его распоряжение.
Поникшего Демида поддержал не кто иной, как сам Берздин. Побелев лицом от гнева, выхватил он из кобуры на общее обозрение знаменитый свой маузер, оружие великой революции, который из её героев мало уже кто носил (в моду входили иностранные кольты да браунинги), расцеловал сверкавшую на рукоятке маузера табличку с чеканкой: «Славному командиру красных чекистов Густаву Берздину за героические заслуги в борьбе с врагами» и горящим взором обвёл враз всех устыдившихся. Не проронил ни слова Берздин, спрятал оружие, но всем стало ясно, чей портфель и кто им будет впредь распоряжаться, а командир поставил точку:
— Не было у нас в штате такой единицы по вине безответственного бюрократа, так будет! Приближается десятилетний юбилей нашей власти, перевернули мы мир и многое сделать смогли за это время, чего врагам нашим и не снилось! Впереди, конечно, дел невпроворот, однако каждый день — это шаг вперёд, а не назад. Теперь будет у нас и должность криминалиста, а его самого я вам тут же и представлю! — и под гром аплодисментов крепко пожал руку растерявшемуся от неожиданности Демиду.
— Тяжело одному таскать придётся! — выкрикнул какой-то весельчак, не сдержавшись и завидуя. — Железяк килограммов на тридцать пять! Помощника ему выделить бы, я как раз в микроскопе нуждаюсь, объяснения одного карманника разобрать не могу!
— Ты очками обзаведись, если слаб, — под общий хохот подхватив портфель, подволок его к себе Громозадов. — Прочитаем вместе.
— Ишь, заторопился! Мозолей не натри! — подливали масла в огонь уже без корысти.
— Своя ноша не тянет, — огрызался Демид. — Из Ростова вёз, спины не сломил, а тут два шага.
Огрызался-то Демид без злости, однако лишь в кабинет ношу отвоёванную доставил, задумался не на шутку: как с ней быть, где держать? По описи чего только не значилось в портфеле: мелочи — рулетки, угломеры, щипцы да ключи всех мастей, даже стеклорез, способный за один раз вырезать стекло кружком, а также по совершенно прямой линии, только винтик нужный крутани. Про микроскоп уже упоминалось, но имелись в портфеле штучки помудрёней, владеть которыми он не только не умел, но и не догадывался, за что браться, чтобы не повредить. Были ещё диковинная фотокамера, аппарат дактилоскопической регистрации и набор для изъятия следов с места происшествия.
На курсах, конечно, учили всему понемногу, но Громозадов усваивал лучше, когда удавалось попробовать собственными руками, поэтому тянул их всегда вверх, рвался испытать лично, но собрали курсантов человек пятьдесят, и каждый такой же ретивый, так что не всегда получалось. Посчастливилось ему с дактилоскопическим аппаратом, тогда двух раз хватило уразуметь оказавшийся нехитрым механизм — бери пальцы преступника, откатывай каждый в красителе да тычь ими в нужную таблицу по очереди. В следующий раз, где бы ворюга ни оставил сальных своих отпечатков, сравнивай их с имеющимися в регистрационном каталоге и уже знаешь — Васька Червень попался на краже или Прошка Кот, а может, и совсем новый экземпляр объявился, тогда за ним придётся побегать, чтобы поместить его «пальчики» в криминальный кондуит.
С фотокамерой и фотографированием мороки оказалось поболее, но здесь Демиду тоже повезло, с несколькими такими же неумехами под контролем руководителя практики разобрали они и собрали камеру, а потом даже сделали несколько общих снимков, где, сгрудившись, свалившись наземь друг на дружку, довольные от переполнявшегося счастья, орали несусветное и таращили глаза в экран. Громозадову достался один такой снимок, он привёз и повесил его в рамочке на стенку в кабинете, важно демонстрируя товарищам.
Единственное, что подпортило настроение от учёбы — не удалось освоить работу со следами ног: одних порошков, которые следовало предварительно развести в специальных ванночках, прежде чем залить в след преступника, оказалось уйма. А перепутаешь с одним химикатом — всему делу швах, так как каждая почва: песок, глина, чернозём — нуждалась в индивидуальном препарате, иначе слепок вместо того, чтобы затвердеть, разваливался на глазах. Безжалостный руководитель тут же заставлял начинать всё сызнова. Полбеды, если следов расставлено полно, но, когда, усложняя задачу, руководитель прятал их в укромных и недоступных местах, затемнял учебную площадку, приходилось мучиться и потеть.
— На практике и одного можете не отыскать, — учил он расстроенных курсантов, — преступник не медведь и не дурак, чтобы следами вас баловать.
— А собаки-ищейки к чему? — возражали умники. — Пса пустить по следу — и вся недолга.
— На это у хорошего вора пара пачек табака всегда имеется, — был ответ. — А для сопливого жульмана собака не нужна, вы его и так возьмёте…
В общем, стушевался Демид, когда уже на второй день вызвал его Берздин и установил недельный срок, чтобы разобрать, разложить по полочкам всю его хитрую наличность, и тут же назначил день демонстрации возможностей технического и химического вооружения перед оперативным и следственным составом. Предупредил, чтобы те фиксировали увиденное в блокнотах, что он привёз, осваивали премудрости и учились использовать на практике.
Подсчитав собственные резервы, Громозадов попросил помощника, но скоро в нём разочаровался; недотёпа Егоров из канцелярских служащих за несколько часов сломал ему чуткий механизм пятнадцатиметровой рулетки, способной при нажатии кнопки выбрасываться на всю длину, а при повторном — убираться в миг восвояси. Бегающая металлическая змейка, издававшая, кроме того, эффектные щелчки и способная замереть на любом заданном месте — будь то три с половиной метра или все десять с четвертиной, после пятого или шестого испытания издала жалобный стон, после чего убрать её назад можно было, лишь накручивая специальный рычаг.
Затем пришла очередь удивительному набору учебных воровских отмычек, их Егоров сломал сразу несколько штук, пробуя открыть один и тот же не поддававшийся замок в кабинете следователя Горшкова. Та же участь ждала бы, наверное, и изумительный стеклорез, способный резать стекло не только по прямой линии, не подоспей Громозадов, остановивший помощника буквально за какую-то минуту до трагедии. Стеклорез заело, кусок стекла разлетелся вдребезги и быть бы ещё кровопролитию, не явись к месту происшествия Демид.
Но и с этой бедой Громозадов без труда справился — канцеляристу он поручил впредь только писать и наклеивать таблички на технические приспособления и химические вещества в коробках, отчего сразу наступило полное успокоение его души.
Однако избавиться от другой закавыки оказалось невозможно.
Заглядывавший будто ненароком уже несколько раз Отрезков словно ждал момента, когда Громозадов останется один, а когда Демид отослал Егорова по пустяку, Лавр Ильич тут же и навестил его, плотно прикрыв дверь и вывалил умоляющие глаза… Так умыкнули мощную пилу по металлу с набором зубастых пилочек в специальной упаковке.
Отрезков уже который год заканчивал ремонт обветшалого, но ещё крепкого купеческого дома, выделенного несколько лет назад его многочисленной семье, сплошь состоявшей из мальчишек. Конечно, одиннадцать крепышей, как и сам папанька, в многосемейном общежитии умещались с трудом и доставляли массу хлопот остальным жильцам, да таких, что доходило до Берздина. Тому приходилось разбирать всевозможные жалобы: орава творила такое, что удивляло всех, почему не сгорело общежитие или не случился всеобщий потоп.
Ремонт выделенного дома Отрезков делал сам; сначала мучился с фундаментом и прогнившими полами, потом взялся за сруб, ну и, наконец, очередь дошла до крыши. Тут-то всё и застопорилось, хотя и без того двигалось не шибко, не валко. Когда железо нашлось, инструментов не оказалось, вот пила и приглянулась Лавру Ильичу, а ему отказать!.. Тем более что клялся он вернуть в целости и сохранности через день-два, и слово своё сдержал, запоздав малость, но от великолепной когда-то пилы уцелела лишь рукоятка, мальцы сгубили все лезвия, переломав их из-за недюжинной силы, словно спички. «А может, изделие с брачком было?..» — подкинул спасительную идею Егоров, но этому не поверил и сам отец семейства, горько плюясь от досады. Крыша особняка была всё же отделана, и на радостях Лавр Ильич пригласил весь свой отдел отметить переселение многочисленного семейства…
К слову добавить, вместе с чудесной пилой канули безвозвратно щипцы, плоскогубцы, молоток и гвоздодёр, выпрошенные начальником для общего счёта, но эти железки Отрезков клялся вернуть после — не было времени разобраться в бедламе, что царил в доме.
Про другие мелочи, что личный водитель Берздина выпросил под срочную починку мотора набор почти всех накидных гаечных ключей, таская по одному, горевать, конечно, не стоило бы, однако к назначенному сроку демонстрации привезённых чудес в портфеле у Громозадова остался только набор для следов ног, никому не пригодившийся. Химикаты расточали неприятные запахи, лишь дотронься, сам Демид от них воротил нос, когда пробовал экспериментировать, а Егоров сразу выбегал из кабинета. Заскочивший как-то агент первой категории Шляпин попытался было использовать подходящий растворитель для клейки отвалившегося каблука, но химикат оказался такого зверского свойства, что весь сапог Шляпина тут же развалился, спасибо выручили гвозди.
Демонстрировать пустой портфель с не оправдавшим себя набором следов ног не было резона, и Демид отважился поторопить Тита Ниловича Городецкого, который по случаю собственного дня рождения ещё загодя позаимствовал у него фотокамеру. Конечно, камера была возвращена — Городецкий страсть как не любил иметь неприятности с Берздиным, но теперь фотографии возвращённым аппаратом изготовить не было никакой возможности — кончились фотобумага и химикаты, купить которые не удалось из-за их отсутствия в единственном фотомагазине. Переставшего спать Громозадова некоторым образом успокаивало одно — все причастные к этим неприятностям люди были живы и здоровы и при надобности могли подтвердить его объяснения. В особенности он надеялся на Лавра Ильича Отрезкова, Тита Ниловича Городецкого, ну и, само собой, на шофёра Пашку, так и присвоившего ключи. К тому же на месте был и Исаак Зельманович Нейман, неустанно трудившийся на новеньком дактилоскопическом аппарате, который был торжественно вручён ему самим Берздиным, ещё при первой распаковке портфеля, так как прежний от нещадных нагрузок выдавал такие оттиски пальцев, что угадать, кому они могут принадлежать, было невозможно и с лупой.
Кстати, про лупу! Увеличительное стекло в золотистой хрупкой оправе и с длинной чёрной ручкой, а также миниатюрный, как заморская сказка микроскоп Демиду удалось припрятать от жадных глаз своих сотрудников. Ими, конечно, интересовались и Отрезков, и неугомонный Городецкий, а однажды попросил принести сам Берздин, затруднившийся прочитать неразборчивый текст какого-то заявителя, но приглашённый Громозадов, сославшись на остроту своих глаз, предложил собственные услуги без всякой лупы или микроскопа и без запинки отчеканил всю писанину с листа.
— Ну, ты лупой-то как-нибудь похвались… — почесал затылок начальник, но со временем запамятовал и больше не спрашивал.
Так уцелели эти два предмета и остались во владении Громозадова, который нашёл им приличное место, установив во главе собственного стола, отчего не только посетители, но и опытные воровские авторитеты, которых уже ничем нельзя было пронять, видя такую редкость, со значением поглядывали на хозяина стола и остерегались соваться с известными просьбами: «Начальник, угости папироской».
А про демонстрацию техники, привезённой Громозадовым в чудном портфеле, как-то всё забылось само собой. Во-первых, в срочном порядке были вызваны в Москву сам Берздин с Отрезковым. Потом началась чехарда, кого посылать в Астрахань расследовать уголовное дело на взяточников из губернского суда. Городецкий припас медицинскую справку о посетившем его внезапном заболевании, при котором выезд крайне нежелателен, Козлов и Борисов, как обычно, расследовали преступления необыкновенной важности. Громозадова потащили к Отрезкову:
— Надо срочно выезжать в Астрахань. Разворачивается такое дело, что не снилось никому! По плечу оно, конечно, Козлову или Борисову, но их отрывать от дел не велено, выбор пал на тебя.
Так и повторил, скривив губы:
— На тебя, Громозадов, вся надежда. Докладывать лично мне будешь, а нельзя по телефону, — пользуйся спецсвязью или лично приезжай. Там такое закрутилось!..
И стал рассказывать… Ушам не верил Демид. Таких дел расследовать ему не только не приходилось, он и не слышал про них — сам председатель губернского суда взятки вымогал у подсудимых и потерпевших, а глядя на него, занимались этим чёрным промыслом почти все судьи в губернском суде. Брала с них пример и районная братия! Но это ещё полбеды, пьянки устраивали повальные, баб приглашали на столах плясать, а кончилось тем, что устроили стрельбу и сам заместитель председателя суда чуть не до смерти пристрелил двух сторожей, попытавшихся унять разгулявшихся начальников.
— Сложностей особых не было бы по данному делу, — втолковывал Громозадову Отрезков, — если б не сам Глазкин, он же, подлец, из бывших наших, до того как председателем губсуда стать, там же заместителем прокурора у Арла работал…
— Как же! Слышал, слышал…
— Его все знают, пройдоху. Арлу показания отказывались давать против него, однако нашёлся такой Турин, начальник губрозыска, у него оказалось материалов на этого Глазкина пруд пруди, да и нэпманы, рыбные дельцы обиженные, словно проснулись, повалили, понесли малявы… — Отрезков поморщился, поплевался. — Завалили Глазкина дерьмом по горло. Теперь он под стражей, с ним ещё полтора десятка судей, а сукины дети всё прут и прут доказательства, словно их кто под руки подталкивает.
— ОГПУ?
— ОГПУ там ни рыба ни мясо. Прежнего начальника Трубкина уже убрали, привлекать к ответственности собираются, а может, отправят куда-нибудь в тьмутаракань, где Макар телят не пас, и будет он там трубить до конца своих дней… Нового поставили, так что ты с ним в контакте старайся работать, но основными помощниками у тебя будут этот Турин из розыска и губернский следователь Джанерти. Слышал про таких?
— Познакомимся. Толковые, надеюсь?
— Это народ особый. Они весь гнойник в губсуде и вскрыли.
— А Арёл?
— С Арлом не спеши дружбу водить. С ним не всё ясно, да и новый начальник ОГПУ Кастров уже успел гадостей настрочить своим наверх, мол, проглядел Арёл Глазкина, когда тот у него заместителем значился, тогда уже грешки водились да такие, что тюрьма плакала.
— Обрадовали вы меня, Лавр Ильич, нечего сказать!
— Не тушуйся. Справишься. Я наезжать буду. Думаю, месяца два тебе хватит с боевыми помощниками.
— Да разве успеть в эти сроки?! — взмолился Громозадов.
— А что? Они все арестованы. Сиди в изоляторе, допрашивай по одному, если что — очные ставки тут же. Судьи — тоже профессионалы, прижмёшь их одним да вторым взяткодателем, подымут руки как миленькие, один за другим. Это тебе не простое ворьё, чтобы до последнего упираться…
С тем и отправился старший следователь Громозадов в командировку. На первых порах так всё и двигалось: Джанерти с Туриным оказались помощниками дельными, на очных ставках проблемы устранялись сами собой, виновные, поняв, в чьи руки попались, особо не артачились. Держался один, председатель Глазкин. И пьянки, и злоупотребления, и даже растрату казённых денег признал, а на взятки не клюнул, отрицал свою вину до драк с обличителями. Но их оказалось столько, что скоро ярость его сменилась бессилием, а потом и полным безразличием. Он перестал отвечать на вопросы, мычал что-то непонятное. Прислушиваясь, Громозадов разбирал лишь несколько слов. «Это Турин… это он мне мстит за всё… но песня моя не спета… ещё скажет своё последнее слово Павел Глазкин!..»
Однако скоро замаячил зелёный свет судебной перспективы.
Действительно, заезжал один раз Отрезков, прочитал всё дело, подсказал по мелочам, дал указания и решил лично допросить бывшего председателя губсуда. Путного ничего не добился, тот лишь нахамил ему. Лавр Ильич не терпел грубиянов, дал команду Демиду закруглять следствие, писать обвинительное заключение и везти Берздину. Решили заранее, что дело станет рассматривать краевой суд выездным заседанием в Астрахани.
Громозадов теперь и ночью не находил себе места, корпел над набросками обвинительного заключения, по делу только обвиняемых проходило до полсотни человек, а уж остальной братии — свидетелей да потерпевших — вдвое больше. Но странное дело, Джанерти и Турин не останавливались, продолжали поставлять ему новых очевидцев нелестных дел бывших служителей фемиды, а те, кроме всего прочего, как один, начали давать уличительные показания в вымогательстве взяток работниками других государственных учреждений. Хочешь не хочешь, а следователь обязан принимать такие заявления и разрешать их по существу. Нэпманы, в основном рыбопромышленники, словно с цепи сорвались и навалились теперь на работников и начальство Астраханского финансового и торгового отделов, обвиняя их в систематических поборах. Первым был уличён и тут же во всём сознался неказистый на вид нагловатый инспектор Иван Семиков. Размякнув после нескольких вопросов, он сразу признал около двух десятков фактов вымогательства денег на общую сумму более семи тысяч рублей. Громозадов схватился за голову, про такие деньги он не слышал никогда, среднемесячная зарплата составляла под двадцать рублей!.. Звонить, докладывать Отрезкову не было времени, другие подельники чиновника каялись в том же, признавали не меньшие суммы мздоимства, и все как один уличали в ещё больших поборах своё начальство.
Хотя это явно выходило за пределы расследуемого дела о взятках в судах, Громозадов не смог не арестовать нескольких человек, боясь, что, опомнившись, они откажутся от показаний. Голова его шла кругом, поздним вечером он принялся названивать Отрезкову, но в кабинет без стука ввалились Джанерти с Туриным.
— Ещё заявителя приволокли? — с замученным видом поднял голову Демид и бросил надоевшую трубку.
— Своим названивал? В Саратов?
— Туда! Мне здесь посоветоваться не с кем. Пусть там принимают срочные меры. Надо выделять материалы и возбуждать новое дело. А оно по размаху, чую, будет втрое больше судейского.
— Отрезков не то лицо, — буркнул Турин.
— Что?
— Берздина надо информировать.
— Да где ж его сейчас найдёшь? Ночь?..
— Не следует звонить. Надо срочно выезжать туда.
— Это почему же?
— Тюремный врач пропал, Абажуров.
— Это что ещё за хрень? — впал в полное уныние Громозадов, не в силах осмыслить новость.
— Вы не в курсе, — посочувствовал ему Турин. — По поручению губпрокурора Арла мы с Робертом Романовичем занимались уголовным делом о смерти арестованного Губина Петра Аркадьевича.
Джанерти подтвердил, кивая.
— Ну?.. — не понимал ничего Громозадов.
— Произошло непредвиденное…
— Халатность, если не хуже, — уточнил Джанерти.
— Одним словом, эксперты затянули исследования трупа… — Турин оборвал речь на полуслове, видя, что Громозадов его не слушает и закончил погромче: — Одним словом, Губин умер не своей смертью! Его отравили. Яд тоже не установлен, что, впрочем, уже не так важно. Важно, что пропал тюремный врач, который, конечно, к этому причастен и мог бы всё прояснить, а может, сам и отравил.
— Что? — зарозовело лицо Громозадова. — Убийство? Вы доконать меня собрались?
— Спокойствие, Демид Тимофеевич, — положил ему руку на плечо Джанерти, стоявший сзади. — Сейчас трудно делать далеко идущие выводы, но отравление Губина и вывод его из игры неизвестным врагом может иметь отношение к вашим делам — и к взяткам в суде, и к злоупотреблениям в других госучреждениях, связанных с рыбодобычей. Нам здесь одним этого не распутать. Губин арестован по подозрению в причастности к убийству профессора Брауха. Кто-то очень боялся его показаний по этому делу.
— Когда его отравили?
— Губина отравили, когда я намеревался впервые его допросить.
— Немедленно выезжаю! — вскочил на ноги Громозадов и закружился в панике по кабинету. — Это настоящий бедлам… Берздин!.. Конечно, лично Берздин должен всё знать и принимать экстренные меры!
II
Ехать не пришлось. Они заявились сами. Вскочил перепуганный до смерти дежурный, задремавший у дверей. Загремела полетевшая из-под его ног табуретка, и прикладом стукнуть об пол не успел для порядка.
А у Арла всегда дверь распахнута по утрам вместе с форточкой, пока ещё Сисилия Карловна не поспела и в коридорах от народа пусто. Услышал шум, почуял неладное, словно подтолкнул кто, вышел убедиться и тоже испугался — четверо!
Раньше, бывало, глянешь — в кожанках до колен, ремни на груди, приметные квадратные фуражки — не спутать ни с кем — свои. А теперь сразу не догадаться, да ещё в потёмках: сам же распорядился светом особенно не баловать, не транжирить электричество, пока рабочий день не начался, всех лампочек на потолках не жечь, ни к чему фейерверки в серьёзном учреждении без надобности.
Но пригляделся Арёл — оттуда, как и ждал, из краевой прокуратуры!..
Опережая всех, вымеривал здоровущими ножищами Отрезков. Он и выше остальных на две головы, с трудом под потолком умещается, невольно пригибается, от этого сутуловатым выглядит; крутая сажень в плечах — весь проход так и закрыл, трое остальных, которые сзади, выглядывают с боков. Напряг зрение губпрокурор, всмотрелся — чёрненький интеллигентик Борисов без головного убора, видно, снял, как в помещение зашёл, всё ещё смоль свою на голове, хоть она и гладка — волосинка к волосинке, а приглаживает. Козлов, этот без церемоний, рыжий, с нагловатой физиономией и вечной папироской в зубах, так и жуёт её, словно лошадь жвачку. У него и челюсть от этого вперёд выдвинута, а зубы здоровенные, желтющие. И тот, сзади, совсем щупленький, мелковатый, будто путался у всех под ногами, они его и отпихнули. На шофёра не похож. Чужой?.. Замешкался подле дежурного, начал выспрашивать что-то. Чего ему надо, если сам Отрезков влетел, ничем не заинтересовался? И от этого чужого дохнуло на Арла гадким, неприятным, тревожным предчувствием. Выскочил он к середине коридора навстречу, приветствуя, выбросил руку к козырьку фуражки:
— С прибытием, дорогие товарищи!
— Не шебуршись, — совсем не по-свойски процедил сквозь зубы Отрезков, пресекая его трескотню. — Канючил насчет помощи?.. Вот, привёз!
— Тот-то кто с тобой? Четвёртый?.. — сунулся к нему Арёл.
— Узнаешь… Сейчас обзнакомитесь… — и закончить не успел ругануться. Запнулся. То ли сам Отрезков приостановился, урезонивая собственную прыть, то ли одёрнули сзади его — но кто осмелится? Коротышка с мышиным личиком, путающийся в длинной шинели, вынырнул — в больших круглых очках на остром носу, протиснулся и первым предстал перед онемевшим губпрокурором.
— Здравия желаю! — само собой вырвалось у Арла.
— Помощник заместителя прокурора края Фринберг, — хилой ручкой в перчатке отмахнулся невзрачный и по виду сильно уставший от всего человечек.
— Проходите! Прошу… — засуетился, вжался в стену Арёл, уступая дорогу в распахнутую дверь приёмной. — Очень рады вашему приезду.
— Погоди радоваться, — буркнул в ухо Отрезков, подтолкнул его плечом — иначе не разойтись и вслед за ним ввалились Козлов с Борисовым, при этом Борисов замер против губпрокурора на какую-то секунду, но передумал и заспешил вслед товарищу.
А Отрезков, протиснувшись в кабинет, уже устроился поудобнее за прокурорским столом сразу на двух стульях — на одном его зад не умещался — захватил про запас и третье место — главное кресло в центре стола, с нетерпением похлопывая по нему своей внушительной пятернёй и косясь на Козлова с Борисовым, всем своим видом показывал: не для них оно занято. Тем достались оставшиеся два стула по краям. Но Фринберг не спешил рассаживаться. Он расстегнул среднюю пуговицу кителя на груди, вложил туда два пальца левой руки, огляделся, приняв позу известного императора, словно собираясь держать речь, но пригляделся внимательнее и задвигался, забегал короткими ножками по кабинету, тщательно разглядывая всё, что попадалось на глаза. Особенно задерживал внимание на редких портретах в рамочках. Были здесь вожди революции в солидном дереве, фотки помельче совсем без рамок эпохи Гражданской войны. Они-то больше других и интересовали человечка-мышь. Уже зажелтевшие и скрючившиеся на углах, они были приколоты к стенкам иголками — Варвара постаралась. На этих фотках красовался Арёл на конях, то пегом, то чёрном, то белом, но везде с шашкой, вскинутой вверх, а на одной Арёл был заснят фотографом даже с самим Будённым[23].
Заметно страдая близорукостью, человечек-мышь почти носом водил по этому снимку, точно его обнюхивал, но, рассмотрев наконец Будённого, потерял всякий интерес и, опомнившись, резко вскинулся — не заметил ли кто?
— Может, чайку с дороги? — заикнулся Арёл, устав от затянувшейся процедуры, больше похожей на обыск. Он тоже зашёл в свой кабинет и теперь стыл у одной из стен, иногда передвигаясь, так как мешал Фринбергу, и тот, тревожа его пальчиком, двигал туда-сюда, осуществляя обход.
— Чаю, говорите? — переспросил и ткнулся очками в лицо Арла он, привстав на цыпочки. — Горяченького?
— Горяченького, — как эхо повторил Арёл.
— Мне представляется, — Фринберг обернулся к Отрезкову, сразу поймавшему его взгляд, — горячее не повредит перед ледяным, а?
Арёл злой шутки не понял, крикнул в приёмную:
— Сисилия Карловна! Варвара! Нам бы чаю…
Но обернулся, не закончив фразы. Отрезков, так и не отводивший глаз от начальства, ощерился по-звериному, гадко захохотал Козлов, Борисов уткнулся в газеты на столе, а Фринберг захихикал, не прикрывая рта с редкими острыми зубками, ткнул пальцем в какую-то старую фотографию сбоку, за этажеркой, которую раньше он не приметил.
«Чёрт возьми! — и Арёл, бледнея, увидел на ней себя с бывшим тогда Наркомвоенмором Львом Троцким[24]. — Я же приказывал этой полоумной Варваре, чтоб повыдёргивала со стен фотографии да ещё со Львом! Стерва и пальцем не шевельнула! Выгоню, подлую, в три шеи завтра же!.. Кто же меня сдал? Неужели подосланная из губисполкома Сисилия, она и про дыру в потолке, наверное, растрещала… чаще всех в швейную наверх бегала!.. Но этот-то, очкарик, как заплясал от радости! Оказывается, ради этого он по стенкам рыскал!..»
Фринберг, действительно не скрывая своих чувств, ещё раз глянул на злосчастную фотку Троцкого. Словно запоминая, закончил осмотр и, услыхав призывное похлопывание Отрезкова по свободному креслу, с превосходством направился к рассевшейся за столом команде. Пробравшись на сиденье, он снял перчатки, сцепил пальцы под острым носом, найдя наконец им место.
— Ну вот, — ухмыльнулся довольный, — теперь несите чай.
— Всем? — спросил Арёл, ещё на что-то надеясь.
— Всем, — послушно закивали остальные и даже Козлов, который из всех напитков предпочитал водку, лишь Отрезков промолчал, достал пачку папирос, закурил и неожиданно буркнул:
— Мне не надо.
Екнуло в груди Арла, уже без всякой надежды он крикнул во весь голос:
— Варвара! Сисилия Карловна! Где возитесь?
— Давно уже здесь, — едва не столкнула его уборщица, заскакивая с чашками в кабинет, словно пряталась за спиной, а за ней лодочкой вплыла лучезарная Сисилия Карловна с большим чайником, знакомым, зелёным. Подплыла к гостю, замерла над ним, разливая напиток:
— Осторожно, Наум Иосифович. С огня.
«Вот, стерва! — крякнул Арёл. — И его знает!»
— Ладненько, ладненько, — приговаривая, задержал на ней взгляд и Фринберг, потянулся ущипнуть, играючи, но сдержался. — Горячий чаёк из ваших ручек особенно приятен.
Отхлебнул, но, видно, поторопился, сморщился, обжёгшись, отставил чашку, задев локтем Борисова:
— Что там пишут?
— Я вот подобрал вам статеек из свежих газет, — бросился Арёл к тумбочке, подал стопку. — Здесь о нашей работе и прежде всего о следователе, товарище Громозадове. Как раз всё про дело бывшего председателя губсуда Глазкина.
— Бывшего вашего зама! — принимая бумаги, уточнил Фринберг. — Про ваши успехи, голубчик, нам теперь многое известно…
— «Коммунист» в основном объективно отражает наши трудности, — сделав вид, что не расслышал про Глазкина и язвительное «голубчик», — отрапортовал Арёл. — Трудностей хватает. Как без них? Критику вашу признаём. Но в газетках часто перебирают с этим, а то попадаются статейки поверхностных журналистов. Что с них возьмёшь? Непрофессионалы!.. Демид Тимофеевич Громозадов подтвердит. Как-то заявители прут и прут насчёт взяток судейских лихоимцев обсказать друг друга, а Громозадов где-то задержался, так газетчики волокитчиком его обозвали.
— Это кто же? Этих надо укоротить! — блеснул очками Фринберг. — Кстати, где сейчас Громозадов?
— В следственном изоляторе Демид Тимофеевич, он каждое утро с него начинает и до самого вечера, — не останавливался, боясь, что прервут, твердил Арёл, получив наконец возможность говорить. — Мы ведь до главных взяткодателей добрались, всех трёх братьев, рыбных дельцов Солдатовых, арестовали. Петро среди них сущий пройдоха. Он ведь не только судей, он чиновников из торгового и налогового отдела в кулаке держал, деньгами подкармливал, ну а те ему льготы разные…
— Погодите, погодите! — вскинул руку Фринберг. — Что же Громозадов? Один с ними крутится в изоляторе?
— Ну что вы! Там и Джанерти с Туриным. Помогают.
— Турин? Тот, что из розыска?
— Начальник.
— Который, так сказать, разбомбил весь гнойник и теперь активно способствует?
— Если б не Василий Евлампиевич!..
— Сюда его звать не надо.
Арёл так и застыл с открытым ртом.
— Наше совещание особым будет. А Турина этого я сам приглашу позднее. Побеседую. А вот без Джанерти не обойтись. Его зовите вместе с другими. Кстати, сколько их у вас?
— Следователей? Пять. Два старших и три народных.
— Приглашайте и народных, их мнение может быть интересным.
— Значит, совещание собирать?
— А до вас не дошло, голубчик?
Услышав второй раз это слово, Отрезков поперхнулся дымом, зло и громко закашлялся, переглянулись Козлов с Борисовым. Арла жаром обдало. «Вон оно что! — запрыгали, заметались обжигающие мысли. — Не совещание, а судилище явились вершить надо мной этот гад и вся его компания!» Подогнулись его ноги, дрогнули, но подоспела Варвара — двинула стул под зад: «Присаживайтесь, Макар Захарович, раз совещание, я сейчас натаскаю ещё». И умчалась таскать их один за другим. А он, как твёрдое под собой учуял, словно в себя стал приходить от какого-то дурмана. Ясно вдруг стало ему, пелена слетела с глаз, озарение пронзило на что-то рассчитавшую ещё голову, мучившуюся догадками: «Перед тем как снять с должности за то, что проглядел сволочь Глазкина у себя под носом, за то, что не разобрался с ним до конца, а тот вымогательства творил уже и в губсуде, меня, Арла, стрелочником объявят! За все грехи — одним махом! Ещё нагребут до кучи, за этим и приехали, зря что ли серая мышь очкастая все углы кабинета обшаривала, даже фотографиями интересовалась!.. А ведь это самый верный способ — на фотографиях, чудом уцелевших, вся моя жизнь. Не спрячешь никуда. И язык не надо развязывать пытками на допросах. Вон в обнимку с врагом народа, с самим Львом Давидовичем! Что ещё нужно? Дыру в потолке тоже припаяют — преступная халатность, а то и похуже. Вставят лыко и за то, что сыщик Турин кучу взяткодателей — «гнойник», вскрыл, склонил признаться и покаяться в грехах, соблазнил обличить государственных чиновников!.. Впрочем, самому себе врать теперь ни к чему — шептали мне, что неладные вещи творятся в торговом и налоговом отделах, а я глаза закрывал, Странникову да Арестову в рот заглядывал, молился на них как на иконы, каждому слову доверял… Дурак! Со всех сторон дурак!.. Ещё разгильдяй Громозадов, с которого всё и началось. Не успев приехать, перепугался, каждый день в Саратов слёзные письма начал слать, что зашивается, помощи выпрашивал. То, что Джанерти с Туриным ему помогали, это не в счёт, про эту мелочь и не вспомнит никто. На Отрезкова была надежда, но тот за свою задницу переживает. Тоже на меня валить дерьмо станет… Вот за это и попрут с позором. Впрочем, только ли попрут? За это, голубчик дорогой, тебя врагом народа объявят, Троцкого припомнят и к стенке поставят! Не надейся на Колыму и Магадан, девять граммов — вот цена всего, что сотворил ты за всю свою героическую жизнь…»
Неведомая волна зла и ненависти вдруг подняла его на ноги, с каждой секундой он креп от этого, наливался силой от страшной догадки, и она подтолкнула его к действию.
— Вам что-то сказать захотелось? — так и впился в него мышиными глазками Фринберг и сверлил, высверливал ему нутро, словно почуял и пытался лишить его этих сил. — Хотите дать объяснения?
— Я?
— Вы, не я же.
Не только очки, зрачки этой серой мыши разглядел Арёл.
— Садитесь. Вы своё скажете в заключение. Следователи вроде собрались. Ждём Джанерти с Громозадовым…
— Мне бы выйти на пять минут? — Арёл осип, не узнав собственного голоса.
— Бывает, — по-своему понял и подло хихикнул Фринберг. Отрезков кивнул в знак согласия. — Ну, сходите, сходите. Только недолго. Пяти минут хватит?
«Ах ты, сука аппаратная… Поиздеваться вздумал!» — стиснув зубы, чтобы не слышали ругательства, вылетел Арёл из кабинета.
— Сильно прихватило! — захохотал Козлов. — Успеет добежать-то кавалерист? Ему бы кобылу!
— Язык-то прикуси! — рыкнул на него Отрезков, куривший одну папироску за другой.
— А вам что? Жалко стало? — огрызнулся Козлов. — Пакостят на службе, а потом у стенки — в штаны.
— Заткнись, говорю! — начал подыматься Отрезков.
— Товарищи, товарищи… — поморщился Фринберг. — Мы ещё не начали заседание. Поберегите эмоции.
Но не слышал всего этого Арёл. Сломя голову, мчался он в свой уголок, где коротал бессонные ночи, где читал книжки при большой луне и мечтал о мировой победе революции, рассматривая звёзды в распахнутом окне, считая их, чтобы заснуть, а не удавалось, переходил на подсчёт уголовных дел, что заволокитят опять следователи Морозов с Девяткиным и какое за это им придумать наказание… десятку требовать в суде подлецу Россомахину за то, что изуродовал жену, или ограничиться семью годами, так как сама Россомахина уже сбежала из больницы и притащилась в суд просить за мужа…
Вбежав в свой спальный уголок, он отдышался. Сунулась его рука в дальнее тёмное место под развалившийся почти диванчик, зашарила там осторожно сначала, но потом всё быстрее и судорожней. Пустоту хватали разом похолодевшие пальцы и внутри захолодало от нехороших предчувствий. Воздуха мало стало. Выбил он раму в окне, не почуяв крови от осколков, вздохнул полной грудью, опять зашарил под диваном…
Заветного сундучка не было, хотя он облазил все закутки.
«Неужели проведали и добрались сюда?! — забила его нервная дрожь, прятал он здесь дорогое своё именное оружие и никто не знал, кроме… кроме одного человека! Варьке наганом хвастал однажды, когда первый раз осталась та у него до утра, а он по пьяни рассказывал ей про героические свои подвиги. — Неужели она?..»
Грохнул в сердцах себе по колену губпрокурор, уронил голову на грудь, но что-то свалилось вдруг на него тяжёлое сверху, живое, горячее, вдавило лицом в пол.
— Ты что удумал, Макарушка? — различил он сдавленный Варварин крик. — Взбесился, дурачок! Грех на душу решил принять?
Вцепившись в него руками, зашлась в рыданиях.
— Уйди, дура! — попытался он вырваться, но не сразу удалось. После короткой борьбы сбросил её с себя, занёс кулак над головой. — Где наган, стерва?
— Бей, Макарушка, бей! — ползала она у него в ногах. — Не отдам.
— Сука! Украла!
— Как они приехали, так я сюда, — ревела, не подымаясь. — Будто чуяла.
Он бросился на неё, обшарил несопротивлявшуюся, нащупал наган под подолом, вырвал вместе с куском платья, тут же крутанул обойму, проверил — все семь патронов один к одному в гнёздах. Полюбовался, даже поцеловал ствол.
— Догадывалась, что приедут за мной?
Воя, как над покойником, обхватив голову, она раскачивалась на коленях.
— Догадывалась, сука, что придут меня брать? — крикнул он ей в самое ухо.
— Грешить не стану, Макарушка, знала всё.
— Как знала! Кто тебе сказал?
— Убьёт он меня, если выдам! — билась она в истерике.
— Не скажешь, от моей пули раньше сдохнешь, стерва! — взвёл он курок. — Со мной спала, ему стучать бегала? Потолок в кабинете вместе продолбили, чтоб подслушивать?
— Макарушка, не губи… Люблю я тебя!
— Кто? Признавайся!
— Петька… — и не в силах удержаться, она завалилась на спину.
— Петька?
— Пётр Петрович Камытин, — выдохнула она.
— Ах, б..! Заместитель Турина?
— Он.
— А Турин знал?
— Не ведаю…
— Теперь это не так и важно. Значит, Камытин…
— Любились мы с ним еще до тебя. Он меня и на работу к тебе пристроил, чтобы всё рассказывала.
— И ты стучала?
— Слаба я, Макарушка. Беременна от него была, но скинула ребёночка по его указу, а потом тебя полюбила.
— Не думала, что расстреляют меня?
— Он говорил, что не тронут свои своих… В другое место переведут, а я бы на край света за тобой поехала.
— А оружие спрятала, значит, чтобы не застрелился я?
— Петька приказал, говорил, дурной ты, учудить над собой можешь всякое, только позора и боишься. А покаешься сам, — только суд.
— Значит, суда надо мной хотите?
— Да что ты говоришь, Макарушка? Клялся он, что судить тебя не станут.
— Брехал тебе твой кабель! — не целясь, выстрелил Арёл несколько раз.
Умерла Варвара, не мучаясь, первая же пуля угодила ей в сердце. А по коридору уже бухали сапожищи, раздавались крики.
— Не выйдет у вас ничего! — крикнул Арёл. — Не видать вам, сволочи, позора красного командира!
Закрыл глаза, упёр наган в висок. И это были последние его слова и последняя боль…
Позвонив в Саратов, Фринберг, не оправдываясь, выслушал всю ругань Берздина, что живым не привезли; распорядился, как приказано было, захоронить обоих ночью без почестей и каких-либо знаков. С сотрудниками провести секретное собеседование, что губпрокурор переведён в Саратов, а уборщица?.. А что уборщица? Пропала без следа непутёвая баба.
III
Для Наума Фринберга настали чёрные дни. Мало, что мучился после разноса и не мог прийти в себя, переживая за собственное будущее, он ко всему просто не знал, что делать.
Он всю свою короткую, но прыткую служебную карьеру занимался инспекторскими проверками в мелких партийных организациях, а поэтому в прокурорском деле, прямо надо сказать, не разбирался, а тут в знак наказания был посажен разбушевавшимся Берздиным временно губернским прокурором, пока окончательно не прояснятся причины трагической гибели Арла.
Фринберг обладал способностью не без успеха заглядывать в рот начальству и улавливать главное, что тому хотелось, остальное было делом техники — проверки вершил в нужном направлении и с должным результатом: виновных отыскивал, начальство их убирало, достойных ставило взамен.
Однако однажды случилось так, что ему не повезло, и сам угодил в тривиальную ситуацию. Наломал, как говорится, дров, собственный, ведомственный ревизор в одной из прокуратур: работал давно, всё и всех знал, вершил своё потихоньку, но зарвался по той причине, что не в ладах был с зелёным змием. Сначала попивал помаленьку, потом увлёкся, а там и не заметили, как в запои уходить стал. Заменять его, кому ни предлагали, желающих не находилось — побаивались, да и сфера особая. Берздин обратился за помощью в высшее инспекторское ведомство. Вот тогда специальным распоряжением недолюбливавший Наума человечек в верхах отправил его на эту должность. Избавился от Наума. Тот притих на новом месте поначалу, но осмотрелся — кругом те же люди, обвыкся, прижился, и вскоре был отмечен в одной из больших проверок состояния платежей партийных взносов среди прокурорских работников. Досталось тогда многим и высоким лицам, Науму поручено было проехаться по районам, разобраться там, подтянуть положение, провести семинары с секретарями «первичек»[25], одним словом, прочистить мозги лентяям и неумехам. Справился он достойно и был назначен помощником заместителя краевого прокурора по той же части — возглавлять инспекторский отдел. Дело в том, что краевой комитет партии, подметив в прокуратуре упущения с партийными взносами, раскритиковал Берздина на очередном пленуме и предложил укрепить участок; так в крайпрокуратуре была учреждена должность помощника заместителя прокурора. Кроме Наума, претендентов не оказалось, он получил в штат вновь созданного отдела несколько единиц. Теперь Фринберг расцвёл, раскатывал по всему округу, выкорчёвывая недостатки. Его ценили и побаивались, но случай опять вмешался в, казалось, спокойное его бытиё. И ведь не хотел ехать в глухомань, но упёрся Берздин. Твердил, что у Арла серьёзные неполадки, что там одними партийными взносами не обойтись, надо поглубже копнуть состояние работы с кадрами, так как разросся под носом у губпрокурора настоящий гнойник — заместитель замечен в пакостных делишках, пахло вымогательством, но сумел пройдоха проскочить в председатели губсуда, а оттуда намедни загремел прямиком в тюрьму. Грозили и Арлу большие неприятности, сверху уже звонили, приказывали разобраться, иначе сами возьмутся, и тогда многим несдобровать. А с Арлом — дело швах, плевался Берздин, если тот от суда увильнёт, обязательно надо переводить его в какую-нибудь дыру с понижением в должности.
Одним словом, морщился краевой прокурор, копать следует глубоко; в команду проверяющих был включён даже Отрезков, ему приказано было взять в помощники с собой Козлова с Борисовым, те как раз освободились.
Отрезков, начальник следственного отдела, на Наума косился, считая его выскочкой и за глаза величая «непришейкногерукав». С Козловым и Борисовым Фринбергу было проще: они в нём не нуждались, сами знали, за что браться в уголовных делах, за советами не лезли.
После трагедии с Арлом Отрезков на следующий же день укатил, так и оставив в производстве Громозадова всё, что касалось губернского суда, правда, набросал тому план дальнейших действий. Остальные материалы в отношении взяток в налоговой службе, в торговом отделе и в других конторах, занимавшихся рыбным промыслом и контактировавших с дельцами-нэпманами, выделил в особое производство и передал Козлову с Борисовым — делите меж собой!
— Но там столько работы! — увидев горы бумаг, схватился за голову Фринберг. — Арёл с Туриным без разбора успели арестовать около десятка человек! Банду раздули! Среди арестованных высокие начальники, видные рыбопромышленники, есть партийные люди! Как я справлюсь?
— Они справятся, — поморщился Отрезков, кивнув на Козлова с Борисовым. — Эти двое разделят пополам ведомства, и каждому останется всего-ничего.
Козлов с Борисовым снисходительно ухмыльнулись, особо не возражая, правда, Козлов подметил:
— Думается мне, десятком арестантов по таким двум делам не обойтись, не посадить бы нам в «Белый лебедь» и поболее…
— Объедините тогда оба дела в одно и навалитесь вместе, — отмахнулся Отрезков, который уже с трудом переваривал общество бестолкового Фринберга. — К тому времени Громозадов освободится, возьмёте его на подмогу.
Вроде бы миром и разрешилась ситуация, но после отъезда Отрезкова заспорили Козлов с Борисовым, кому каких чиновников брать. Козлов, загодя проведав у Турина, кто первым начал колоться[26] из арестованных, уцепился за взяточников из налоговой инспекции. Там инспектор Семиков на первом же допросе признался аж в трёх десятках преступлений. Заискивающе улыбаясь, пожилой, худющий Семиков, бывший учитель географии или истории, и слышать не желал о каком-то вымогательстве; деньги, твердил, ему клиенты сами клали в карманы, не выбрасывать же обратно.
— За что клали, догадывался? — рявкнул на него Козлов.
— А чего отказываться, раз дают? — не смущался тот. — Я и преступлений никаких не совершал, услуги оказывал. У меня же детей куча и все мал мала меньше…
И остальные попались такие же, вроде придурковатых, поглядывали на старшего следователя с обидой, сбиваясь от его крика, лепетали, что семи шкур, как тот соизволил выражаться, никто с нэпманов не драл, у тех деньги для того и припасены, лишь укажи на нарушения.
Один оказался упрямым — Пётр Солдатов, самый башковитый из трёх братьев. Всё отрицал. Как ни мучился с ним Козлов, нужного не вытянул. Старший из братьев, славившийся своими промыслами на всей Волге, гордо твердил одно:
— С моими объёмами вылова да с моими доходами стыдно обременять достопочтенных государственных людей какими-либо просьбами о поблажках, не то чтобы деньгами их марать.
Но Козлов не унывал и досады не выказывал дельцу; если признались те, кто брал взятки, посмеивался он, никуда не денутся те, кто их давал.
И действительно: за Семиковым, как один, подняли руки и покрепче аппаратчики, заговорили даже такие, как зам зава Авдеев, старший инспектор Стругало да Яковлев Тимоха — губернский ревизор. Козлову вскоре сдался и сам начальник финансового отдела Анатолий Антонович Адамов, три последних года председательствовавший в губернской налоговой комиссии, а ведь она была окончательной инстанцией при разрешении жалоб налогоплательщиков.
Сложности обнаружились у Борисова, которому достались сотрудники губернского отдела торговли, совсем недавно возглавляемые Алексеем Попковым, сумевшим перебраться до возбуждения уголовного дела в краевой торговый отдел. Он и его преемник Валентин Дьяконов категорически отрицали всё с самого начала, хотя и уличали их показаниями не только нэпманы-взяткодатели, но и некоторые свои, дрогнувшие подчинённые. Интеллигент Борисов, по собственным заверениям не любивший марать кулаки, испробовал весь набор хитроумных методов логических убеждений, психологического воздействия, даже выводил арестованного Дьяконова поглазеть на собственный дворец-усадьбу, как по мановению волшебной палочки выросший менее чем за год, однако «невинная овечка» божилась, твердя своё — выстроен дом на трудовые сбережения, доставшиеся ещё от родителей, и приданое жены. До Попкова добраться оказалось совсем невозможно: преобразившись в недосягаемо высокого чинушу, тот стал почти неприкасаемым, вечно занятым, большую часть служебного времени проводил в столице. Делал ли это специально, оставалось неведомым.
Опытен был Борисов, нашёл бы возможность все эти крепости взломать и разоблачить именитых взяточников, но водилась за ним и мешала нелестная слава чистюли. То, что мордобоя чурался, не главное — большого достоинства и тщеславия был этот профессионал, жаждал светлой своей головой, в белых перчатках сломать противника, одержать над ним рыцарскую победу, поэтому не использовал в своей работе ни «прослушку», ни «топнутов», ни «подсадных уток»[27]. В особенности поражало многих то, что Борисов не водил дружбы и с сотрудниками ОГПУ, имевшими гораздо больше возможностей изобличить преступника, нежели следователь-одиночка. Так ли это было на самом деле или пущенная кем-то легенда витала над головой этого человека, никто доподлинно не разумел.
На деле же обстояло всё следующим образом: с Туриным, не объяснив причин, Борисов встретиться не пожелал, вопреки своему коллеге Козлову, однако все агентурные дела на арестованных и других подозреваемых запросил и тщательно перечитал. С вновь назначенным вместо Трубкина начальником ОГПУ Кастровым-Ширмановичем почти сразу же поссорился. «А из-за чего?.. Из-за сущего пустяка — обыкновенных кроватей!», — ухмылялся его коллега Козлов и по большому секрету рассказывал такую историю.
Борисову удалось расположить к себе опытного нэпмана Блоха, за ним начал признаваться рыбный делец посерьёзнее Кантер, арестованные оба по подозрению в даче взяток Дьяконову. Кантер и обсказал всё и покаялся уже, но в ответ попросил о малости — приостановить бесчинства, чинившие его семье злопамятным уполномоченным ГПУ Лисенко, проводившим ранее дознание и ничего не добившимся угрозами да насилием. Когда же дело Кантера принял Борисов и тот вдруг начал давать показания, взбешённый Лисенко с подчинёнными ночью ворвался в дом нэпмана, разбулгачил жену, малолетних детишек и, сбросив всех на пол, вывез из дома кровати, якобы представлявшие ценность, поэтому изымаемые для погашения вреда. Ценности кровати, конечно, не представляли, плевался Козлов, рассказывая, сделано было это уполномоченным в отместку прибывшему снимать сливки чужаку, лишь только Лисенко прослышал про первые серьёзные успехи Борисова.
Кантер с укоризной и слезами в глазах упрекнул не подозревавшего ничего следователя, что такими действиями тот убивает в нём всякое желание сотрудничать и признаваться. И был прав. Естественно, Борисов побежал с жалобой к Кастрову-Ширмановичу, но случившееся уже стало достоянием всех заключённых, и среди них поползла змеиная молва, что авторитет Борисова придуман, для работников ГПУ он силы не представляет, стоит им сознаться, как у арестантов начнутся неприятности похуже.
Так изобразил ситуацию Козлов, а врать он не любил без особой надобности. Борисов, конечно, пошёл дальше, так как обещавший уволить Лисенко Кастров-Ширманович попросту перевёл уполномоченного в дежурные, и тот по-прежнему вредил старшему следователю, как только мог. Борисов обратился с жалобой к краевому прокурору Берздину, известному своими связями с самим Ягодой. Кровати тут же были возвращены, Лисенко пропал с глаз долой, сам Кастров-Ширманович предложил Борисову тесное сотрудничество, чуя повинной головой, что иначе придётся ему паковать чемоданы.
Перемирие вроде бы состоялось, во всяком случае, Борисов переехал в ту же гостиницу, где жил сам начальник ОГПУ. Но что Кастров-Ширманович?.. Он лишь чиновник своего уровня; в ходе следствия Борисов наткнулся на другого ушлого уполномоченного, только по фамилии Афанасьев, и скрытая война разгорелась с пущей страстью.
Афанасьев бесчинствовал, не зная предела; он пьянствовал с преступниками, подозреваемыми в различных махинациях, покрывал нэпманов и прекращал за взятки дела, заводимые на них другими сотрудниками. Нагло, в открытую, крутил с проститутками в кругу тех же нэпманов на их деньги. Установив всё это следственным путём, Борисов уже не стал тревожить Кастрова-Ширмановича. Понимая бесполезность таких мер, он направил все выделенные в особое производство материалы на поганца в вышестоящее ГПУ, приложив собственноручно составленное постановление о привлечении Афанасьева к уголовной ответственности за все его художества; однако постановление до нужного адресата не дошло, неизвестно кем было изъято из материалов, а проверку поручили проводить тому же Лисенко, но оказавшемуся уже в кресле повыше. Естественно, Афанасьев был оправдан.
Преступник возвратился назад, занялся прежними делишками, и стоит ли подсчитывать, сколько времени и новых усилий понадобилось Борисову, чтобы всё же восстановить справедливость, прежде чем Афанасьев понёс заслуженное наказание?
Появлялось ли желание лезть в эту драку, влиять на порочную ситуацию у Наума Фринберга, ведь он не пешкой оставлен был в этом городе грозным Берздиным? При всей убогости юридических знаний и опыта правильного совета старшему следователю Борисову дать он не мог, смелого решения принять боялся, опасался и жаловаться наверх, чуя, что кара падёт прежде всего на его голову: Берздин жаждал первой его ошибки после трагедии с Арлом. Создавалось такое впечатление, что Фринберг глубоко проникся заключительными словами уехавшего Отрезкова: «Эти двое справятся!» — и надежды на лучшее связывал лишь с Борисовым и Козловым. Исполняющий обязанности губернского прокурора постепенно удалился от исполнения своих прямых обязанностей, скоро он потерял власть не только над подчинёнными ему следователями, но утратил контроль и над когда-то покладистым Громозадовым, совершенно не вникая в то, чем тот занимается. Подчинялась и слушалась его одна Сисилия Карловна, которая всегда исправно подавала чай с сухариками утром, к обеду и вечером, следила за состоянием его здоровья, вовремя сообщала о конце рабочего дня. Кроме того, вскоре она подыскала исполняющему обязанности губпрокурора подходящую жилплощадь, предоставив светленькую уютную комнатку в доме, где проживала с престарелой матерью и младшей сестрой, собирающейся выйти замуж и перебраться к мужу. Для Наума Фринберга как-то сразу после переезда прежние тревоги потеряли былую актуальность: домашний уют, постоянные заботы Сисилии Карловны, а главное, её игривые глаза развеяли всё. Вместе они по случаю какого-то праздника однажды были приглашены в семейство добряка Сергиенко, заместителя председателя губисполкома. И прекрасно провели время. Хохол Сергиенко много смеялся и шутил, стараясь развеять угрюмость и замкнутость Наума, советовал ему больше интересоваться историей города, познавать людей. Знания, покрикивал он, откроют глаза на многое непонятное в этом восточном древнем ауле, облагородят душу и непременно изменят настроение.
Вернувшись к себе, Наум полазил по редким книжным полкам Сисилии Карловны, ничего интересного не нашёл и забыл затею, но однажды в ненастный вечер, когда загрустила, особенно затосковала душа, наткнулся в потрёпанном журнале на странную статью. Лёг на кровать, от безделья полистал, полистал и не заметил, как заснул. С тех пор, казалось, он обрёл панацею от всех тяжких забот.
Журнал оказался толстым, литературным, что Наума никогда не привлекало. Но другого ничего не оказалось, и Фринберг, мучаясь, поглощал страницу за страницей, пока сон не брал своё. Так у него развился особый интерес: на какой странице заснёт он в очередной раз, как быстро сморит сонная нега?..
Журнал был в его руках, он принялся читать, но вдруг отложил потрепанный раритет. Слова, только что прочитанные, взбудоражили сознание. Он даже вскочил с кровати. Уронил на пол журнал. Стал подымать его судорожно, поднёс к глазам. Буквы плясали: «Астрахань тягостна. Астрахань безнадёжна. Она лежит, как раскалённый жёлтый камень…»
«Что это? — подумал он. — Как точно поймал автор мои вечные мысли, вечную тревогу за будущее!»
Он лихорадочно растрепал листы, пытаясь найти название журнала, потом искал начало очерка, конец его, фамилию автора, но не удавалось — журнал был сильно повреждён, многие листы вырваны. Он отчаялся и вернулся к тому, с чего начал.
«…Солнце жжёт, и город, состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и без возраста, из камня и печали, пыли и зловония, развалин и пустырей, с трудом переводит дыхание, — глотал Наум жёсткие, пугающие слова и опускался без сил на колени, пока совсем не очутился на полу, прижавшись к кровати, чтобы не свалиться. — Только ночью начинается жизнь. Лица, изнурённые лихорадкой и дневным жаром, так странно бледны… светится освещённый изнутри большой стеклянный гроб, до краёв полный цветами…»[28]
Его забил непонятный страх, но, странное дело, он ничего не мог с собой поделать. Спасло, что в дверь мягко постучали.
— Наум Иосифович? — заглянула Сисилия Карловна в лёгком халатике, ахнула и бросилась его подымать. — Что с вами? Вы так бледны!
— Не надо. Я сам… — пытался подняться он, отбросив журнал, но не хватило сил.
— Помогите! — крикнула хозяйка; в приоткрытую дверь вошёл нежданно-негаданно Турин, одним движением подхватил прокурора и усадил на кровать:
— Плохо? Обморок?
— В мозгах какая-то путаница, — пожаловался Наум, не отрывая рук от головы. — Чертовщина! Гроб… цветы… журнал этот дьявольщиной напичкан… Будь он неладен!
— Переутомились за день да ещё взяли в руки эту чертовщину, — нахмурился Турин, приметив дряхлые обрывки чтива.
— К чёрту всё! — Наум пнул журнал ногой. — Сергиенко надоумил. Какое-то колдовское наваждение, право… Вы ко мне?
— Может, я утром в прокуратуру зайду? — сомневаясь, спросил Турин. — У меня новости тоже не ахти.
— Конечно, конечно, — стала подталкивать Сисилия Карловна Турина к двери. — Вы же видите его состояние!
— Ничего! — встрепенулся, как петушок, Фринберг, его заметно ободрило появление Турина. — Говорите. Что случилось?
— Да что говорить… — Турин уже был у порога. — Действительно, до утра подождёт.
— Говорите, раз пришли! — вздёрнул подбородок Фринберг, как непослушный мальчишка, и очки слетели с его длинного носа.
— Джанерти заболел… — нерешительно начал Турин.
— Да-да… — не видя ничего, Фринберг шарил по полу руками. — Он предупредил меня, что завтра не выйдет на работу.
— Заболел, — продолжал Турин, с какой-то тоской и любопытством наблюдая за неудачными попыткам Наума отыскать очки. — К нему домой медик прибежал из бюро экспертиз, разгильдяй. Завалялся у него акт о вскрытии трупа Губина, умершего несколько дней назад в тюрьме. Вот его обнаружив, и рванул к Джанерти прямо из морга.
— Из морга! — схватился за кровать Фринберг и побледнел опять.
— Да не волнуйтесь вы, ради бога! — замахал руками Турин, запереживав и сам. — Взгреть, конечно, надо как следует этого Бульдогина. Шалопай, а не эксперт! Забыть про такое?.. Но теперь-то чего людей булгачить? Какой толк? Новость со старым хвостом… Губин-то когда отравился… и я закрутился с Козловым.
— Я не в курсе? Что за Губин?
— Это случилось перед приездом вашей комиссии.
— А в чём же дело?
— Оказывается, не своей смертью умер Губин, а отравлен был. Подозрения и ранее имелись. Докопался об этом Бульдогин, но с большим опозданием; к Джанерти прибежал оправдываться, что, мол, затянул с заключением, пытаясь определить вид яда. Но, увы… Джанерти же сам в постели мучается, приболев, однако до меня дозвонился… теперь вот ещё гадает: кто лишил его возможности допросить Губина? А ведь тот мог открыть глаза на многое в убийстве Брауха.
Турин поморщился, нагнулся в угол, подал Науму завалившиеся очки, покачал головой с досадой:
— Несмотря на поздний час, попросил он меня к вам зайти, доложить немедленно. Сам-то встать не может. С температурой.
— Срочно зайдите ко мне по этому вопросу завтра, — водрузив очки на нос, ожил Фринберг и притопнул ножкой. — Утром! Обязательно утром!
— Теперь срочно или мигом — один хрен… — двинулся за порог Турин. — Проворонили момент.
IV
Когда был оглашён приговор, адвокат Кобылко-Сребрянский, блистая морщинистой лысиной и стерев платком пот, катившийся по изрытой жирными угрями красной физиономии, кое-как вытиснул обширный живот из-под крышки столика, перевёл дух с облегчением и, задиристо подскочив, прокричал с петушиным задором, что будет подана жалоба. Однако закончить начатую реплику не успел, запнулся и резко сел, будто ему подрубили ноги. Трое судей сделали вид, что ничего не слышали, ушастый председатель Пострейтер не оторвался от очков, лениво наводя на стёклах чистоту, прокурор Гуров что-то писал или рисовал в блокноте, чем занимался почти весь процесс, и лишь общественный обвинитель от завода имени III Интернационала Гурьев зорко стрельнул глазками по залу, поискал смельчака, крутя лохматой головой, но адвокат уже прирос к столику всей грудью, прихваченный кем-то сзади.
Потом за кружкой пива с дружком-коллегой, он деланно обижался, что дёрнул его за пиджак, высунув лапу из клетки, сам Глазкин, да ещё засверкал на него глазищами так, что у него язык отнялся, садись, мол, нечего злить народ. А народ действительно… Словно с ума все посходили, лишь меру наказания прослушали, орут, тычут транспаранты и плакаты, чуть ли на трибуну не лезут, а на плакатах жуть читать: «Смерть продажным судьям! Председателя Глазкина расстрелять!» да похлеще ругательства и проклятия.
— А Глазкин мне шепотком-то, шепотком, — оторвал губы от кружки Кобылко-Сребрянский, — червонцем отделался, считай, дело выиграно, своё получил.
— И он прав, Модест Петрович, — выуживая нос из пивной пены, соглашался запьяневший коллега-дружок, адвокат Звонарёв-Сыч. — Мой подзащитный Френкель, гусь тот ещё, взятки драл, паразит, не пропуская ни одного клиента. А, извиняюсь, баб?! Баб скольких поимел на той же ниве, шельма!.. Подумать только, уборщицей семидесятилетней и той не побрезговал!
— Слышал я про твоего шалуна и не то, — ухмыльнулся Кобылко-Сребрянский. — Девиз над своим столом смастерил, чертяка: «Не пропущать и мухи, ежели ещё шевелится!»
— Брешут!
— Брешут, конечно.
И оба расхохотались.
— А ведь старушенция — иуда. Нет, чтобы посчитать за праздник, его же и сдала! — стихая, напомнил Звонарёв-Сыч. — Как она его драконила на скамье подсудимых! Считай, всё дело повернула с вашего Глазкина на старого ловеласа, а?.. Разбудила судей, которые засыпать начали. Какова каналья!
— Да-да. Забавная особа.
— Не будь охраны, последние волосы с его плешки повыдёргивала бы!..
— Ну ты ещё скажи — гуси спасли Рим.
Они ещё посмеялись. Звонарёв-Сыч полуобнял старшего коллегу насколько позволила рука, поцеловал бы в щёчку, но не дотянулся:
— И всё же с задачей мы справились. Победа бесспорна! Моему, правда, тоже червонец отмерили да пять по рогам[29]…
— Недоволен?
— Ну, Модестушка, дорогой мой учитель, твой всё-таки председателем губсуда значился. Всем заправлял, всеми командовал. Про него свои же судьи трепались: и указания давал, какое делишко похерить, начальника какого из дерьма вытянуть… Лизали ему ножки судьи, никуда не попрёшь.
— Вот воспитал я себе преемника! — грохнул по столу кружкой Кобылко-Сребрянский. — Вот очакушил ты меня, молодец, так очакушил! Не ожидал сей благодарности.
— Так это ж конкретное дело, Модест Петрович! — расплылся в любезностях его младший товарищ. — Я ж это вроде для разборки ситуации. А так я вам век благодарен! На вас, можно сказать, как на икону молюсь. В каждом судебном процессе каждое ваше слово ловлю, записываю в книжечку специальную, чтоб не забыть.
— Вот сукин сын! — покачивал лысой головой тот, ещё не остыв и отхлёбывая из кружки. — Вижу, как ты мне благодарен, пивом поганым поишь, вместо того, чтоб коньячка поднести или водочки. С клиента своего, еврея, мало содрал?
— Да я… да вы… — совсем смутился оплошавший ученик.
— Так ты моего Пашку Глазкина председателем смел назвать? При мне, который, ты знаешь, до сей адвокатской каторги два десятка лет настоящим председателем суда оттрубил? Какой, к чёрту, он председатель?! Забулдыга и бабник! Сам же, дурак, признавался. Помнишь, что он Пострейтеру отвечал про себя?
— Как же! Конечно…
— Ничего ты не помнишь! — снова грохнул по столу кружкой товарищ. — Сначала козырять вздумал балбес: «Бывший член партии, отец из кузнецов, сам пролетарского происхождения…» Да кому это нужно? Кого разжалобить хотел? Пострейтера, зубастую акулу, который таких, как он, в своей практике видал-перевидал! Даже тот гадёныш с завода, как его?..
— Общественный обвинитель Гурьев, — подсказал ученик.
— Обозлил и против себя его настроил. Бестолочь! Вот кто мне в подзащитные попался! В растрате признался, на водку стал валить да на невесту свою, умницу. Она — золотце, светлая голова! Она ему, подлецу, конечно, этого не простит. Бросит его и правильно сделает. Она ведь столько деньжат на него угробила и своих, и отца! Да что ей деньги!.. Она с местным актёришкой Задовым два или три раза в столицу моталась к дружку их общему — важному человеку в самом Кремле. Тот в этом городишке губернским комитетом большевиков командовал.
— Важная птица! — охнул ученик.
— А я что говорю? — отхлебнул пива учитель, прополоскал подсохшее горло. — Только тот секретарь бывший, став большой шишкой в Москве, наклал на них обоих, и на актёра, и на Глазкина, а выгнав Задова, наказал носа больше не совать, чтобы репутацию его не подмочить.
— Кем же он там в Кремле?
— А тебе зачем?
— Ну…
— Вот и не нукай. Мы для них — грязь под ногами.
— Извини, Модест Петрович, — видя, как разговорился учитель, как покраснели его глаза, младший заёрзал на стуле. — Может, закажу я ещё по кружечке?
— Закажи… чего ж… — всё хмурился тот, не остывая. — Мой клиент много корчил из себя, как я его ни уговаривал… Дурак! Могли бы и на меньшей срок надеяться…
— Неужто?
— Сомневаешься?
— Я право…
Принесли свежую порцию пива.
— Вот и помалкивай, звонарь! — отпил из новой кружки Кобылко-Сребрянский. — Гонорар я полностью с его невесты ухватил. Знаю этих дамочек, влюблённых по уши до поры до времени, а рак на горе свистнет, они в обратную сторону. Круто разворачивают. После того как на суде Глазкин ей в душу наплевал, я копейки больше не получил… А ведь обещала, если срок удастся снизить…
— Да и так ухватили куш вроде ничего…
— Это для тебя ничего, а по моей мерке!..
— Это понятно… — смутился ученик и забеспокоился. — Я со своего тоже всё заранее оттянул, теперь вот премиальные с брата бы этого Френкеля сдырбанить.
— Сдырбань, сдырбань! — взыграл опять старший его коллега. — Ты, Аркашка, как был мелким карманником когда-то, так ничему у меня толком и не научился. Словечки воровские свои и те не забыл, так и вставляешь от случая к случаю. Велел я тебе Цицерона да Плеваку читать?
— Ну, велели…
— А ты?
— А-а-а, — махнул тот рукой, — одна мутота.
— Вот твоё нутро! Ничем его не выскребешь.
— Тише, тише, Модест Петрович, — забеспокоился Звонарёв-Сыч и оглянулся. — Угомонитесь. Не одни мы здесь.
— Что тише? Дурак ты, Аркашка! — сменил Модест тон, но не успокоился.
На шум подбежал официант «Богемы», где они засиделись, скромно отмечая успех дела. Уставился, пригнувшись.
— Чего тебе? — буркнул на него Кобылко-Сребрянский.
— Звали-с?
— Иди! — погнал он его.
— Учусь, учусь, — будто не слышал обидных упрёков, пододвинулся к старшему товарищу Звонарёв-Сыч. — Набираюсь ума-разума, но ты понимать должен, Модестушка, нелёгкое это занятие.
— Не тяжелей того, чем ты в молодости занимался, — зло отбрил учитель. — Одна разница — в наименовании профессий, а средства и цель те же — объегорить клиента да очистить его карманы, голову задурив.
— Это вы про себя так?
— Юродствуй, сатана! Не обижусь… И я далеко от тебя не ушёл, как с мантией судьи расстался, — допивая кружку, мотнул тот головой, а в глазах стыла тоска, да и хмель начал одолевать сознание. — Выиграли бы мы дело с таким сроком, если б не подсуетился я, не подмазал кого следовало…
Звонарёв-Сыч пугливо оглянулся.
— Ну? Чего замолчал? Ни за что бы не выиграли!
Две их персоны в строгих столичных одеждах заметно выделялись среди прочей пёстрой публики. На них давно поглядывали, некоторые даже тыча пальцами, откровенно перешёптываясь. На судебном процессе народа перебывало много, их узнавали.
Подскочил снова официант, но уже другой, понахальнее:
— Чего изволите-с, господа-товарищи? Может, покрепче что? Или свеженького пивка ещё по кружечке? У нас селёдочка, севрюжка холодная в малосоле?..
— От вашей селёдки я весь провонял, — сердито хмыкнул Звонарёв-Сыч. — Вернусь в Москву, Дарья Ивановна дверь не откроет, погонит назад муженька выветриваться.
— Нет уж, дружок мой закадычный, — прихлопнул его по плечу старший товарищ, а официанту подмигнул, поманив: — Принеси-ка, голубчик, на этот вот стол графинчик сполна! Что-то душа моя запросила, затосковала. И севрюжку тащи да поболее. Только картошечки горячей к ней не забудь, чтоб парок над ней подымался. Понял меня?
— Может, пора нам в гостиницу? — забеспокоился сразу Звонарёв-Сыч, заёрзал на стуле. — Поздно уже, Модест Петрович. Засиделись мы, а у меня билет на завтра заказан. Вроде договаривались уезжать?..
— Кто договаривался? Врёшь, Аркашка! И не трясись, — строго осадил его товарищ. — Сегодня я расплачиваюсь, бес с тобой. Сейчас у нас серьёзный разговор только начнётся. Многого я тебе хотел сказать, да всё не о том трепались.
— Что такое? — встрепенулся ученик и ещё тревожнее в учителя всмотрелся.
Товарища своего он изучил вдоль и поперёк; горазд был тот на всякие причуды, велеречив и высокого о себе мнения; кроме всего прочего, поволочиться за приглянувшейся юбчонкой был готов, все дела забросив, или запить на неделю-две, если удачу явную проморгал в судебном процессе…
— Не едем мы никуда из этого гадюшника! — брякнул учитель и выставил на ученика оба немигающих чёрных глаза, словно заклиная. — От билета откажись, если заказан.
— Нет! Как же так? А Дарья Ивановна? Я и телеграмму дал!
— Не говорил я тебе до поры до времени про договорчик, что заключил ещё в столице с одной дамочкой. А гонорар большой, обоим нам за глаза и сверху!
Ученик явно не слушал, он обмяк за столом в полном расстройстве. Наконец рот его полуоткрылся, и он с трудом залепетал:
— А я сижу, догадываюсь… как в воду глядел. То-то ночью плохо спал, сон приснился… Будто юбка тебя поманила, Модестушка! — всплеснул руками, схватился за голову, только не плача, так велика была боль в его глазах. — Не выбраться теперь нам отсюда!
— Не психуй, дурак! — пристукнул кулаком по столу старший. — Не понял ты ничего, Аркашка… Я в полном разумении. Разлей-ка нам по рюмашкам и слушай внимательно, что скажу.
Подлетел, будто ждал команды, официант, расставил принесённое на стол и, уши навострив, снова застыл в ожидании, но Кобылко-Сребрянский погнал его от стола.
— И где глаза мои были? — ругал себя и причитал Звонарёв-Сыч. — И о чём думал? Вроде и выпили всего ничего, а когда развезло тебя, не уследил. Быть беде…
— Молчи и слушай! — прикрикнул тот строже и опрокинул водку в необъятный рот. — Большое дело намечается здесь к рассмотрению. Такого масштаба, что попадём мы с тобой в герои великие, даже его и не выиграв.
— Загадками говоришь, Модестушка, — покачивал головой, словно больной, его товарищ, недоверие не покидало его. — Ни о каком деле я слыхом не слыхивал, хотя лишь приехал сюда, в канцелярии всё разнюхал, со всеми перезнакомился.
— Не там нюхал, дурачок. Секретное то дело да и нет его ещё в суде. В прокуратуре оно с обвинительным заключением. Обсуждается начальством.
— Ну?.. Чего ж за него балакать, раз оно и не назначено.
— А то, что собираются на это дело, как мухи на мёд, наши московские засранцы! Слыхал про Оцупа да Комодова? Гришку Аствацурова не забыл? Все эти асы столичных адвокатур сюда слетаются. Наняли их уже жёны да родственники будущих подсудимых. А подсудимые — не простые люди. На высоких должностях сидели. Рыбным делом правили-вертели, куда хотели. Вот на взятках все и погорели. Гнойником великим назвал это дело сам товарищ Сталин!
— Да что ты говоришь, Модестушка? Сам!.. Сам Иосиф Виссарионович прослышал?
— Слушай и внимай, Аркашка! Мой клиент, дамочка та, она оказалась женой попавшегося рыбопромышленника, такое мне рассказала, что ой-ой-ой! — опорожнил вторую рюмку Кобылко-Сребрянский. — Сказывает, послал Сталин сюда своего писаку, известного журналиста Мишку Кольцова репортажи с процесса писать. Московские издательства публиковать будут. Тут такой шум подымется! На всю страну прогремим! А, кроме того, авторитет себе скуём.
— Заработать бы удалось…
— Дурачок! О чём думаешь? Деньги на голову сами валятся. Я уже свой куш отхватил с той дамочки.
— Со мной-то как, Модест Петрович?
— Сколько подсудимых намедни в рулетку с судьбой играло?
— Что?
— Сколько в нашем деле их было?
— Двадцать два голубчика.
— А по тому делу в шесть раз больше уже арестовано. Их в «Белом лебеде» набито больше той вонючей селёдки, которую ты за всё время здесь с пивом съел.
— Не может быть!
— От нэпманши, что договор со мной заключила, деньгами за версту прёт! Не зря все они за столичными адвокатами кинулись. Местным веры нет. Так что и твоя помощь понадобится. Возьмём на двоих ещё человек пять-шесть, у них же интересы разные — препонов для защиты по закону никаких.
— Как я вам благодарен, Модест Петрович! — поднял и свою рюмку Звонарёв-Сыч, не сводя умилённых глаз с благодетеля. — Только вот закавыка, сколько же нам жить здесь придётся, процесса дожидаючи? Спустим всё заработанное…
— Я без дела сидеть не собираюсь. И тебе не позволю, — протянул учитель своему ученику газетку. — Прочитай-ка на последнем листе объявление.
Тот схватил листок. «Коммунист» — гласило название. Далее большими буквами следовало:
Приговор по делу бывших судебных работников
После длительного совещания, продолжавшегося почти около суток, Выездная Сессия Нижне-Волжского краевого Суда под председательством тов. Пострейтера, вынесла приговор…
— Ты не с той стороны начал. Вишь, как быстро строчат писаки, — отобрал газету из рук растерявшегося приятеля Кобылко-Сребрянский, перевернул листок и сунул другой стороной. — Вот здесь глянь.
Там, куда он указал, значилось:
Судебная хроника
Окрсудом с участием прокуратуры будет произведена ревизия всех дел, как уголовных, так и гражданских, решенных бывшими судработниками, ныне осужденными за должностные преступления.
Дела неправильно разрешенные будут выделены и переданы на новое рассмотрение.
— Уразумел, мой друг? — зорко и величаво глянул учитель на ученика.
— Значит, прежних адвокатов допущено не будет, а всё нам достанется? — на лету ухватил тот.
— Уйма денег! — подвёл черту учитель и, опорожнив очередную рюмку, жадно принялся за севрюжку с картофелем. — За такие дела с клиентов будем вдвое, втрое дороже брать. Пересмотр же! Им это грозит большими неприятностями. Как я всё просчитал?
— Гениально! — подскочил со стула от избытка чувств ученик. — Укатим, Модест Петрович, с тех чахлых апартаментов, где проживать пришлось? Я таракана ночью поймал на постели…
— У них тут «Счастливая подкова» славится, плавучий ресторанчик и уютная гостиница для избранных, — небрежно кивнул Кобылко-Сребрянский. — Туда и вели перевезти наши вещи. Мы здесь ещё развернёмся!..
V
По звонку Отрезкова следователь Громозадов отзывался докладывать приговор суда на Глазкина. Замечаний начальства не вызвал, то было пустой формальностью, хотя подначивали Козлов с Борисовым, что причитается с Демида, за такой вызов, ибо есть это вид на будущее, ожидает его повышение в должности. Так что упаковывал чемодан Громозадов с надеждой и радостью — быть ему теперь старшим следователем, ровней этим двум асам!
Засобирались и Козлов с Борисовым. У обоих расследуемые дела приобрели завершающий вариант, требовалось согласовать главную позицию — соединять ли их в единое производство, кто тогда станет руководителем, а кому оставаться в помощниках и, следовательно, тянуть лямку — рубить хвосты[30], устранять недостатки, писать обвинительное заключение — рутина нудная и муторная.
Козлов места не находил, веселился, хотя особо вида не подавал, предчувствовал: ему Берздин будет благоволить — на днях начал давать показания Пётр Солдатов, считай, дело в шляпе, остальные его подопечные давно признались, единственное беспокоило — не желал Солдатов собственноручно явку с повинной писать. Воротил физиономию, обросшую густой бородой, крякал, как селезень:
— На себя ксиву катать рука не подымается. Никогда такого не было. С малолетства.
— Ты что же, Пётр Семенович, с детских лет по карманам шарил да в приютах обитался? Шаришь, словно вор в законе, и их законам поклоняешься?.. Ты — видный человек, — льстил ему Козлов, заигрывал. — По всей Волге имя гремит знатного рыбного дельца. Вся страна газетки расхватывать будет, когда процесс начнётся. Получишь по суду фигню, а не срок, а прославишься навеки! Ещё пуще славить будут!
— Я загремлю, всех ребятушек своих сдамши. Вот какая слава меня ждёт, — мрачно басил Солдатов. — Ты из меня совсем уж дурака не делай. Не тот Пётр Солдатов, чтоб в хитростях твоих не разобраться. Не мечи икру передо мной! Ты государева собака, ищейка, вот и делай, что велено! Но с достоинством! Меня не унижай глупостями. Я признался тебе — ты записал, вот и все наши отношения, а каяться да слёзы лить ни перед тобой, ни в суде не стану. И в пособники тебе, в стукачи, не гожусь. Стар, чтоб седую голову позорить!..
Сообразил вовремя остановиться Козлов, почуял, — ещё одно его слово, и лопнет мало-мальски налаженный контакт с арестованным, замолчит навсегда Солдатов, слова из него побоями не выдавить. А ведь налаживалась связь с главным арестантом из нэпманов, чуял это нутром Козлов, но где-то, сам не заметив, надорвал тонкую нить. Утёр бы тогда нос он самонадеянному зазнайке Борисову, у которого концы с концами так и не сходились — выпадал закопёрщик всех взяточных махинаций Попков. Скажи слово Солдатов, всё бы в один миг и слепилось: к Попкову в Саратов стекались все денежки взяткодателей; преемник его, Дьяконов, перевозил их сам сумками, вручал шефу регулярно в чётко означенные дни. Но Дьяконов Борисову не признавался, хоть и играл тот ловко с ним во всевозможные психологические ловушки, ставил коварные капканы — не помогало. Берёг вор шефа, надеялся, что ему тем же ответит, когда до суда дойдёт, вытащит всеми правдами и неправдами. Попков вёл себя нагло, его за руку с поличным не прихватили, доказательств — никаких, деланно обижаясь, грозился жалобами самому товарищу Сталину, однако ни одной официальной ксивы не подал даже Берздину, не сердил краевого прокурора. Зато Дьяконов застрочил всех, он в таком количестве катал жалобы, что получал Борисов их чуть ли ни каждый день, складывал в кучку до вечера, а ночью читая, глотал таблетки и мучился бессонницей.
— Не бичуй себя, — посмеивался над ним Козлов. — Ничего ты в тех письмах дельного для следствия не выловишь, хорошего и полезного ни один дурак не напишет. Я вон рву их да в ведро железное, горят с таким сладостным запашком, одно наслаждение. Иногда напоминает дым гавайской сигары.
— Гавайской? — в свою очередь, зло издевался над ним Борисов. — Да ты хоть раз ее пробовал? Сталин и тот перебивался «Герцеговиной Флор»…
Собраться-то ехать в Саратов они собрались, но откуда загвоздки не ждали, заявился вдруг Фринберг. Не иначе сболтнул Громозадов, больше некому, так как за всё время их пребывания не виделись ни Козлов, ни Борисов с Наумом ни разу. Слали в канцелярию для сведения кое-какие бумаги по надобности, Сисилия Карловна подавала их и.о. губпрокурора, тот знакомился, ставил печати при необходимости. Такая форма общения устраивала стороны, и вдруг припёрся собственной персоной в кабинет к Борисову. Козлова Наум как-то сторонился, будто побаивался.
Борисов вышел из-за стола, выпроводил бывшего у него человека, поднял подбородок:
— Чем обязан, Наум Иосифович?
— Вот, передать велено приказ Густава Яновича…
— Так Сисилия Карловна на это? Или приболела?
— Устный, устный приказ. По телефону только что полученный.
— Так вы говорили лично с товарищем Берздиным?
— Имел, так сказать, удовольствие.
— А мы с товарищем Козловым к нему собирались… А он, значит, опередил… Поездка наша, значит?..
— Нет-нет! Ни в коем разе. Не отменяется. Как можно! Я к вам по другому поводу.
— Что-нибудь передать?.. Презент?.. С большим удовольствием.
— Отнюдь, — Фринберг губки надул. — У меня не настолько доверительные отношения с краевым прокурором, чтобы…
И смолк, не находя нужных слов, заметив, как внимательно и даже с подозрением изучает его Борисов.
— Густав Янович, согласившись со мной, предложил, прежде чем вам ехать, обсудить результаты следствия здесь, у меня на совещании.
— А тайна следствия? Как с ней быть?
— Никаких тайн обсуждать нет надобности! — замахал руками Фринберг. — Ответственный секретарь товарищ Носок-Терновский, исключив из партии первого арестованного, правда, распорядился обсудить в каждой первичной партийной организации вопиющий случай, дать оценку, подумать о выделении общественных обвинителей в суд, но на этом всё — точка. Газете «Коммунист» не терпелось, всё пытались публиковать материалы о преступниках… Но вы дали команду, и публикации прекратились, ждут суда…
— Я принял такое решение, потому что журналисты фактически разбалтывали факты, кои разглашать нельзя. Это секреты следствия, публикация их в «Коммунисте», хотя я глубоко уважаю печатный орган партии, вредит следствию. Тем более что ни я, ни товарищ Козлов материала не давали, по глупости увлекались этим работники ГПУ, хвастая шкурой неубитого медведя. Скольких за это уволил с работы товарищ Кастров-Ширманович, надеюсь, помните? А можно было привлечь и к уголовной ответственности болтунов.
— Знаю, знаю, — опять замахал ручками Фринберг. — На нашем совещании будут присутствовать только оперативные работники прокуратуры. Я уже всё продумал, и Густав Янович со мной согласился. Совещание будет секретным, и протокол буду вести я лично. Кстати, вам поручено доставить протокол товарищу Берздину.
— Так о чём же предполагается говорить и что обсуждать?
— В принципе о том, что мы с вами только что обсудили.
— Ничего не понимаю…
— Обсуждать будем гнойники, что вскрыты в двух организациях, где оказались замешаны высокие начальники и многие члены партии… их размеры и долгое время безнаказанного существования. Все характеристики этого негативного явления наводят на нехорошую мысль, что подобной болезнью заражены и другие организации…
— Нет оснований не согласиться с вами.
— Вот! Работники губернской прокуратуры, проработавшие здесь не один год, располагают фактами, позволяющими считать, что есть необходимость расширить список, может быть, даже выступить с инициативой о проведении всеобщей чистки среди чиновников и партийцев и вывести из своих рядов нерадивых.
— По двум нашим делам арестовано более ста двадцати человек, среди них около пятидесяти бывших членов партии… — раздумывая, произнёс Борисов.
— Что вас смущает? Размеры тюрьмы? Построим новую, в этом городе пустырей хватает, а недостаточно — бросим молодёжь на камыш, очищать новые площадки. Это необходимая мера пролетарской перековки гнилой интеллигенции и народившегося класса советского бюрократа-взяточника. Ещё бродят выродки замаскировавшейся буржуазии! — казалось, Фринберг стоял на трибуне и бросал в толпу слова, чем-то напоминая Борисову Фринберга Наума Иосифовича, приехавшего в первый раз клеймить позором и разоблачать своего предшественника, покойного губпрокурора Арла. Тогда он внушал страх и невольное преклонение. Борисов поёжился и попытался сбросить наваждение.
— Ответственный секретарь товарищ Носок-Терновский пожаловался мне, что Контрольная комиссия запросила от него объяснения. Как такое могло случиться? — продолжал Фринберг. — Он попросил моей поддержки в том, будто начиналось безобразие ещё во времена его предшественника, товарища Странникова. Тот якобы сознательно дал волю нэпману, чтобы возродить и развить рыбодобычу на Волге и Каспии, увеличить доход. Невольно потворствовал частнику размахнуться до вредных высот. Действительно, в первые годы это дало неплохие результаты. Но нэпманы, частный капитал, быстро освоились. Словно акулы, крупные пожрали мелочь и принялись за неокрепшие, неразвитые государственные промыслы. Там до сей поры процветают косность, низкая оплата труда, грязь, антисанитария, болезни и полное отсутствие социальных гарантий…
— Вы так считаете? — вскинул брови Борисов с нескрываемой иронией и весёлым любопытством.
Наум сбился на секунду, но сообразил вывернуться:
— Отнюдь! При чём здесь товарищ Странников, который давно в Кремле? Нэпманы, только они, набив карманы деньгами, завалили взятками государственных чиновников, пытавшихся тушить пожар беззакония.
«Наловчился, чёрт!» — поморщился Борисов и, потеряв интерес к и.о. губпрокурора, лениво возразил:
— Завалили взятками? Да тем доблестным чиновникам и рубля протягивать не надо, они настолько прожорливы, что сами выхватывали деньги от благодетелей.
— Вот об этом и будет разговор на совещании.
— Ничего он не даст. Все факты нам известны, — отрезал старший следователь, — и разглашать их мы с Козловым и Громозадовым не собираемся.
— Конечно, конечно… Но вы послушайте других. Их мнение узнаете. Мне представляется это очень даже интересным.
— Не та обстановка… на митингах слушать надо, где меньше думают, когда говорят.
— Это так, — покорно согласился Наум, — но… товарищ Берздин уже дал команду…
— А что вы ответили ответственному секретарю? — вдруг вспомнил Борисов и опять подозрительно прищурился. — Кто же обязан нести ответственность в губкоме?
— Я?.. — смутился Фринберг, но ненадолго. — Я дал понять товарищу Носок-Терновскому, что партия и товарищ Сталин уже оценили работу бывшего ответственного секретаря губкома Странникова. А товарищ Сталин не ошибается!
— Правильно ответили, — сбросив ухмылку, Борисов скупо пожал плечами. — Но имейте в виду, что после любой чистки мы с Козловым задохнёмся от работы.
— Вы своё дело сделали — проложили дорогу, наработали богатую следственную практику. — Наум осмелел, попытался положить руку на плечо старшего следователя, но она тут же соскользнула, так как Борисов с недоумением отвернулся.
— Я тут приглядывался к губернским следователям и помощникам, народ смекалистый, им только прикажи! Сами справятся с любой чисткой.
«И маму родную упекут», — подумал Борисов и усмехнулся:
— А протокол-то тогда зачем?
— Его потребовал товарищ Берздин. — И.о. губпрокурора уже перешагивал порог. — На то, видать, свои основания.
«Не догадываешься, глупец, что этот протокол — петля для твоей шеи, — покачал головой Борисов. — А нам что? Наше дело солдатское…»
VI
Подозрительный шорох разбудил его. Не помнил уже, когда последний раз такое случалось. Приоткрыл один глаз, не двигаясь, — никого. Рука само собой вытянула наган из-под подушки, палец лёг на курок. Прислушался. Скреблись над головой по ставне, которой он всегда притворял снаружи окно, выходящее на набережную в однокомнатной его квартире на первом этаже. И теперь, похоже, ставню пытался кто-то снять.
Но было второе окошко — поменьше, во двор. Последнюю неделю Турин спал на работе в служебном кабинете, хотя от конторы до дома два шага: подшивались дела, подбирались «хвосты», уезжали старшие следователи в Саратов. Помогая, он разрывался между Козловым и Громозадовым, а освободясь после их отъезда, решив отоспаться, пришёл в пустую, исхолодавшую квартиру, свалился на койку, не раздеваясь, только сапоги скинул, забылся.
И тут этот шорох за окном!..
Как был, в носках, в них даже легче, словно кошка на пружинистых лапах, выпрыгнул во двор, к подворотне бесшумно подкрался, выглянул.
Не ошибся. У окошка, уже сняв ставню, копошился незнакомец.
— А ну-ка, гость нежданный, — почти ласково, чтоб не напугался да со страху чего не наделал, воткнув ему ствол меж лопаток, шепнул начальник губрозыска. — Ставь эту штуковину на место. Она мне ещё пригодится.
Второй рукой завладел его оружием, хмыкнул довольно и себе в карман отправил. Тот обернуться хотел, но Турин его и здесь опередил:
— Не шуми, у меня соседи пугливые, мигом соберутся. Ещё подумают, что начальника грабить пришли. Опозоришь ведь.
Ставня всё же выпала из рук, не наделав, впрочем, особого шума, а незнакомец обернулся.
— Егор! — вскрикнул Турин.
— Василий Евлампиевич! — бросился обнимать его Ковригин.
— Вот встреча, так встреча… Не ждал не гадал, что такого вора поймаю!
— Я ж постучать собирался, — оправдывался Ангел.
— А в дверь не удобнее?
— Во дворе всегда собак полно, шума подымать не хотелось, по правде сказать, нежелательно, чтоб меня у вас видели.
— Вот даже как!
Вместе они скоренько приладили ставню на место, и уже на пороге Ковригин шепнул бывшему своему начальнику:
— Света бы тоже не зажигать.
— Да что же это такое? — не стерпев, возмутился Турин. — Тебя этому у них научили? Ты, дружок дорогой, не на явочную хату пришёл к агенту. Я пока ещё начальник розыска! И мне бояться некого.
— Не надо, — Ковригин всё же перехватил руку Турина, попытавшегося включить свет. — И револьверчик верните. Я ненадолго к вам. Извините покорно.
— Что происходит, Егор? — упёрся столбом Турин, не скрывая досады. — Хоть и темновато на улице, а приметил я, что новая форма на тебе, аж хрустит вся, и сам переменился, высох, словно наша добрая вобла. С заданием каким ко мне, или?..
— Или! — остановил его Ковригин, положив руку на плечо, как старший, чего раньше никогда себе не позволял.
Турин замер, а Ковригин грустно улыбнулся:
— Сто граммов-то нальёшь, Василий Евлампиевич?
— А говоришь, времени нет?
— Для этого найдётся.
Турин полазил-пошарил в потёмках, отыскал свечку, выставил на стол вместе с бутылкой водки и только теперь при мигающем язычке пламени с жадностью разглядел осунувшееся лицо Ковригина. Нагнулся, разливая водку по стаканам, крякнул, не сдержавшись:
— Я думал, ты там на курортах живот отъел. А ты забегался. Шпионов много?
— Такого добра хватает, — отшутился тот. — По этой причине я здесь и оказался.
— Ну, тогда давай выпьем за нас с вами и, как говорится, хрен с ними! — ещё раз глянул Турин на бывшего сыщика.
Они подняли стаканы, сжав кулаки на стекле, чокнулись, чтобы не шуметь.
— Я с поезда только что, Василий Евлампиевич. А если в целом всё рассказать: с Крыма по поручению товарища Богомольцева пришлось в Саратов негодяя одного этапировать, — прожевав хлеб, утёр губы Ковригин. — Там подзадержался.
— Что ж это не нашлось никого, кроме оперуполномоченного ОГПУ? Или негодяй высокого ранга?
— Так получилось… А в Саратове оставили на кратковременные курсы, меня же Трубкин одел, обул да шуганул в мир иной, незнакомый… Ну а закончилось обучение, отправили назад, в столицу, к месту службы. Приодели в новое обмундирование, то да сё… А я к вам завернул. Повидаться.
— Значишься в ОГПУ, а служишь Богомольцеву? Что-то непонятно…
— Мне лишь бы дурака не валять да шуту не служить. Человек он нормальный, неплохой, одним словом.
— Ишь, как заговорил! — хмыкнул Турин.
Ковригин смущённо улыбнулся.
— Чего лыбишься? — налил в стаканы еще Турин. — Ты уж извини меня, Егор, но корил я себя, что так получилось. Очень уж не уважаю я этих гэпэушников! Друг за другом следят, при этом зады друг другу лижут, словно кобели. Один Трубкин наш такого наворотил! Дали ему по шапке, слава тебе, Господи, нового назначили. Этот аж Кастров-Ширманович, ну прямо герой Кавказской войны! Заместителем был в губисполкоме, считался рубаха-парень, никто не знал и не ведал про его вторую фамилию. Кастров ну и Кастров, пролетарское вроде звучание за версту пышет, а назначили начальником ОГПУ — на сраной козе к нему не подъедешь. Ни дозвониться по делам, ни в дверь пробиться, словно гвоздями заколочена. Каждые сутки с утра до вечера на совещаниях! И по каким темам проводятся эти совещания, никому не ведомо. Все секретные!
Он сердито глянул на Ковригина и также сердито, не чокаясь, осушил стакан. Ковригин — следом, но не смолчал:
— Вот после одного такого совещания я к вам и заглянул, Василий Евлампиевич.
— Иначе бы не увиделись?
Не ответил на его вопрос Ковригин, зубы стиснул, но ненадолго. Морщась, начал:
— Последнее секретное совещание было, закончили уголовное дело Козлов с Борисовым.
— Провожал я их…
— В общем, чистку большую затевает организовать ОГПУ в Астрахани, вычищать станут врагов народа среди хозяйственников, партийцев, судейских и ваших работников.
— У нас мы их сами вычистили. Не дожидаясь. Два десятка паразитов арестованы в губернском суде, — зло бросил Турин. — Слыхал небось? Самого председателя суда, негодяя Глазкина, к десяти годам приговорили.
— Слыхал. Только теперь за вас возьмутся, Василий Евлампиевич, — буркнул Ковригин. — Так что думать вам надо.
— А мне чего думать? Вот я! Весь на виду! — вскочил в нервном порыве Турин. — Про меня они и раньше всё знали! Что на службу брал бывших царских сыщиков? Так это ж Иван Легкодимов! Скольких он наших сопляков обучил настоящему делу? А сколько воров матёрых помог словить? Из него решето бандиты соорудили — столько раз стреляли, а он жив и здоров, продолжает их по тюрьмам рассаживать.
— Не спасет это.
— Не спасет? Хочешь сказать, припомнят мне, что мальчишкой воровал?.. Так это когда было! А линию свою — ловить воров, ставить их на путь истинный да их же руками опасное бандитьё выкорчёвывать — я сам бывшему ответственному секретарю губкома товарищу Странникову докладывал. Согласие тот мне дал. Вразумили его слова великого нашего учителя Карла Маркса, что преступный мир можно изжить его же руками[31]. Во Франции получилось у Видока?.. А у нас, в пролетарской России, почему не сломить хребет этому зверю? Покончить надо разом с растлевающей весь мир заразой!
— Вы всерьёз во всё это верите, Василий Евлампиевич? — со странной улыбкой спросил Ковригин, разливая остатки водки по стаканам.
— Это неважно! — запальчиво огрызнулся Турин. — Сделал же француз! Есть пример. Чего гадать да обсуждать? С Марксом не поспоришь!
— В вашей конторе крыса завелась, — шёпотом произнёс Ковригин. — Стукач… Предатель…
— У своих узнал? — не изменившись в лице, будто слова эти не были для него новостью, опустился на стул Турин.
— Там.
— Ну и кто он?
— Вот этого выяснить не удалось. Но обложил он лично вас со всех сторон.
— Это каким же образом?
— С оружием вы оплошали крупно. Помните, вещественное доказательство — три десятка револьверов раздали?
— Я ж их во время наводнения по просьбе и под ответственное слово товарища Странникова руководителям районов, в райкомы партии да ответственным хозяйственникам доверил. По специальному списку и под роспись…
— А те растеряли большую часть этого оружия. Странников в Москве про вас, извините, и думать забыл. Откажется так же, как отказался от дружка своего Глазкина, когда артист Задов приехал просить за него да в ножки падал.
— Тот убийца и взяточник! И Василию Петровичу об этом хорошо известно. Каким образом негодяй сумел в судьи проскочить, вот отчего голова его болит.
— Ошибаетесь. Тот же Странников в суд его и устроил, а когда взяточнику на хвост наступили, он от него отмахнулся. Так же и с вами сотворит, все ваши доводы и француза того забудет, вас блаженным назовёт, а то и вредителем.
— Здорово ты нахватался, общаясь среди новых дружков! — хмуро усмехнулся Турин. — Богомольцев обучил?
— Этот человек не дурак, слышал я, что с Ягодой он запросто по телефону калякает. А вот вам точно бежать надо.
— Бежать?!
— И немедленно! Пока не началась кампания по чистке. Если и простят растасканное оружие да другие вещи, то прижмут лапой потяжелей.
— Это ещё чем? Запугал ты меня, право, Егор. В дрожь так и бросает!
— Вы не смейтесь. Они виноватых ищут в том, почему сто с лишним человек арестовано за вредительство приехавшими из Саратова Козловым с Борисовым, а местные органы мух ловили.
— Как за вредительство? Ты, друг мой, не заговаривайся! Это вещи серьёзные! Им предъявлено обвинение за взятки и злоупотребления.
— То прежде было. А теперь, после секретного совещания, на которое Берздин вызывал и старших следователей, решили обвинение изменить. С Москвой советуются, к Крыленко Берздин ездил. Светит арестантам статья 58, сами знаете, что это такое — экономическая контрреволюция. Расстрелять могут.
— Что ты! — схватился за голову Турин.
— А та сука, что среди вас завелась, главным свидетелем станет. Потом за вас примутся — обвинят в том, что прошляпили врагов народа. Этот стервец и против вас свидетельствовать будет. Его, может, для отвода глаз арестуют вместе с вами и в суд потащат. Дадут годик-два — и на волю, а вас, Василий Евлампиевич, в тюрьме сгноят. Трубкина не пожалели и вам не простят.
— Железная логика, ничего не скажешь… — проскрипел зубами Турин. — Спасибо, что не поленился приехать, предупредить, мил дружок, только бегать я не собираюсь.
— Что вы говорите, Василий Евлампиевич? Одумайтесь, пока не поздно. Вы же не враг себе? Знаете, как всё делается!
— Вот поэтому и не побегу никуда. Поймают всё равно, тогда судить будут с позором, а мне честь дороже жизни. Будет суд, я в суде и поборюсь за своё имя. И за всех нас.
— Василий Евлампиевич… — дрогнул голос Ковригина.
— Не сметь заранее оплакивать! — цыкнул на него Турин. — Ты сам подумай, Егор, нельзя мне бросать своих товарищей, если такой страшный час настанет. Каков я буду в глазах людей, если на скамью подсудимых ни за что сядут Иван Иванович Легкодимов, поймавший не одну сотню преступников, лучший наш розыскник Аркашка Ляпин, трассолог Рытин, распутавший десятки дел, фанат Бертильончик, всю жизнь мечтавший словить последнего вора!.. А Пашке Маврику как я в глаза гляну? Чему я его учил?..
— Но что же делать?
— Брось. Не думай. Тебе давно уходить надо. Поезд-то утром?
— Утром.
— Ну вот, светает уже. Давай прощаться.
Они обнялись у порога.
— Я бы с вами остался… — шептал в ухо Турину Егор, не скрывая мокрых глаз. — Уговорил бы бежать всё равно.
— Чушь собачья! Иди!
— Остался бы, клянусь.
— Да тебе нельзя, чудо! Ты же глянь на себя — какую форму носишь? Ты теперь у них.
— К чёрту форму! И службу эту! За Серафиму только и боюсь. Обещал ей вернуться.
— Срослось у вас с Серафимой-то? — сменил тон Турин, потеплели его глаза.
— Слюбились мы, как прежде, — смутившись, кивнул Егор.
— Ну и хорошо, чудак! Рад я за вас. А Богомольцев как? Не попортит?
— Время придёт, сбежим от него.
— И за это хвалю. Была б моя воля, да не эта доля, как говорится, махнул бы и я с вами куда-нибудь на Сахалин, Камчатку, а то и в Сибирь забрались бы. И жили не тужили, как прежде, на воле да в шалашах.
— Вы вправду?
— Поживём — увидим, — подтолкнул Ковригина к двери Турин. — Что тюрьмы? Их для того и строят, чтоб оттуда бежать. Правильно ты говоришь, мне теперь поспешать надо. Я должен провокатора отыскать и разобраться по-своему.
— Смерть собаке, что ещё?
— Главное, мы с Джанерти почти до него добрались, — посетовал Турин. — Пошёл он в тюрьму допрашивать Губина, который с Корнетом Копытиным знался. Должен был Губин и про крысу расколоться, чтобы шкуру свою спасти, да отравили его.
— Это как же?
— Вот так.
— Тюремного врача следовало трясти. Его штучки. Не иначе.
— Поучи меня, — буркнул Турин. — Пропал Абажуров. Сам сбежал или его убрали — неведомо. Всех ребят на уши поставил, а найти не могу. Ко всему этому и Джанерти заболел. В больницу его увезли с отравлением в тот же день. Губина утром мёртвым обнаружили после завтрака, а Джанерти к вечеру почувствовал себя плохо, едва успели спасти врачи, откачали…
— В больнице ещё?
— Навестить его хочешь?
— Не успею уже, хотя рад был бы повидать…
— Ну прощай!
Они обнялись у приоткрытой двери, однако Ковригин не торопился расставаться, будто всё о чём-то раздумывал.
— Остаёшься, что ли? — усмехнулся Турин. — Езжай. Найду я и без тебя ту сволочь.
— Вы к Ивану Ивановичу загляните, — опустив глаза, решился наконец Ковригин.
— К кому?
— К Деду.
— Да ты на что намекаешь? Водка в голову ударила?
— Слышал я, дружками они неразлучными были с врачом. Ещё до революции, — буркнул Егор и пропал в темноте.
VII
Дверь в квартиру Легкодимова долго не открывали. Турин в нетерпении подрагивал, но барабанить не стал. Послышались наконец чей-то тихий разговор и пошаркивающие шаги.
«Старуха?.. — сомневался Турин. — Вряд ли сам рано встает… А может, сбежавшего приятеля прячет?..»
Противно заскрипев, дверь отворилась. «Не тем занят хозяин, некогда ему о хозяйстве думать…» — опять промелькнула досадная мыслишка.
В прихожей, запахнувшись в тёплый длинный халат, стоял Легкодимов с зажжённой керосиновой лампой. Молча отстранился, пропуская вперёд, не выразив удивления, не задавая вопросов.
— Что без света кучумаешь? — не спеша заходить, остановился начальник губрозыска, вглядываясь в непроницаемое лицо хозяина. — Авария на станции?
— А шут их знает, — хмуро поздоровавшись, буркнул тот. — У нас район глухой, на отшибе. Всякое случается.
После известных февральских событий, когда Керенский разогнал царскую охранку, распустили и сыскную службу, семью Легкодимова из центра выселили на окраину. Потом успокоилось, улеглась политическая смута, власть взяли большевики, и Легкодимова по ходатайству Турина допустили работать в розыск, а переселить назад забыли. Да и занято было его жилище, а сам он в глаза новой власти не лез, старался не напоминать о себе.
— Не разбудил Марью Ильиничну? — для порядка побеспокоился Турин.
— Нет её уже полгода, — не поднял глаз Легкодимов. — Схоронил я её.
— Извини, — смутился Турин. — Не знал. Закрутился, а ты не сказал, помощь бы на похороны оказали. Долго мучилась? Слышал, что болела?..
— Болела, — отвернулся тот.
Разговор явно не клеился, да и чему радоваться в такую рань, когда в окна рассвет чуть пробился, даже собак не слыхать на улице, хотя обычно в таких углах их тьма. Исчерпав запас слов, Турин кашлянул, спросил напрямую:
— Не удивился, что рано я к тебе, Иван Иванович?
— Ты — начальник, тебе можно. И ночью нагрянешь, знать, причина важная.
— Лукавишь, Иван Иванович?
— Лукавлю, — развернулся Легкодимов и, тяжело зашлёпав ночными туфлями, направился в комнату к столу, за которым, сгорбившись, сидел человек. Не узнать его было нельзя.
— Давно ждёте? — присел напротив Турин.
— Давно, — ответил за тюремного врача Легкодимов.
— А этот что? Язык проглотил?
— Если б не догадался, Василий Евлампиевич, — оставался в сторонке Легкодимов, — мы бы сами оба пришли. К тебе собирались.
— Вона как! Оно и видно… — изобразил Турин веселье на лице, но в ладошки не захлопал, посуровел и упёрся жёстким взглядом в тюремного врача. — Долго собирались вы, Моисей Соломонович Абажуров! Заискались вас мои ребятки по всему городу! Команда отдана взять вас живым или мёртвым. А ваш дружок — покрыватель ваш, — обернул возмущенное лицо Турин к Легкодимову, — уж и не знаю, из каких ваших заслуг и выгоды, всё собирался!..
— Ты не горячись, не горячись, Василий Евлампиевич, — пробуя успокоить, попытался положить ему на плечо руку Легкодимов, так и не присевший. — Ты послушай сначала Моисея.
— Нечего мне с ним лясы точить![32] — сбросил руку с плеча Турин. — Ясно всё!
— Не спеши с выводами, — присел рядом, обхватил всё же его за плечо длиннющей худой рукой Легкодимов. — Я тоже разное про него загадывал, пока не отыскал в кабаке у Лёшки Турчанинова вусмерть пьяным… Притащил на горбу к себе, привёл в чувство да и выспросил.
— Ну и выспросил? — не унимался Турин. — Что он тебе ответил? Ко мне почему не привёл?
— Не гони лошадей, Василий Евлампиевич. Успокойся. Дай слово сказать.
— Я гляжу, вместо него ты всё углаживаешь, Иван Иванович, — полез за куревом Турин. — Ишь, высиживают два тихушника, выжидают, когда весь розыск на ушах стоит! — Но на Легкодимова косился уже без ярости, больше с любопытством. — И ты хорош, Иван Иванович…
— Да дашь ты сказать человеку или нет? — вспыхнул Легкодимов. — Мы ж тоже живые люди!..
— Молчит твой приятель, словно воды в рот набрал, — задымил папироску Турин.
— Мося! — сурово глянул на тюремного врача Легкодимов. — Ты чего трясёсся? Испугался? Нечего в молчанку играть! Кончилось время за начальство своё переживать, вышка тебе грозит, а ты груши носом оббиваешь!
— Я бы сам пришёл, Василий Евлампиевич, — прорезался наконец тихий голос у врача. — Вот вам крест святой! — И Абажуров закрестился дрожащими пальцами. — За начальство я особо не переживал. Вот за Роберта Романовича мучился, молил Бога, чтобы выздоровел Джанерти.
— Что несёт-то? — развернулся Турин к Легкодимову. — Умишком случаем не тронулся?
— Было и похуже, — поморщился тот. — И похмелье тяжёлое, и слёзы, и истерика, пока до раскаяния не дошло. А за Джанерти он ещё в пьяной горячке кричал, божился, когда отыскал я его в пьяном угаре, что смерти тому не желал. Клялся, что не догадывался про отраву.
— Ну эту басню он на суде расскажет, — хмыкнул Турин, загасил папироску, пожаловался: — Дайте водички испить, друзья-приятели. Как проснулся, не ел толком, нёсся сюда, как на пожар, а от ваших новостей ещё пуще всё нутро пылает. Чуял недоброе, но чтоб такое услыхать!.. Обоих травить собрался… Час от часу не легче!
— Я про отраву-то после догадался, — ёжился от его слов Абажуров. — Он мне чаю отлил в кружку из чайника и велел Губина угостить. Мол, как-никак бывший наш работник, зачем ему желудок тюремным пойлом губить, пусть настоящего чайку откушает.
— Кто?! — так и вскинулся Турин.
— Наиль Абиевич… — едва разжимая губы, чуть слышно, выдавил из себя Абажуров.
— Товарищ Минуров, сколько его помню, — подав воды, Легкодимов присел рядом, — разными чайными настойками увлекался. Особенно восточный чай любил. Пил сам до седьмого пота и других потчевал. Хвастал, что на Больших Исадах не покупает, что привозят ему персюки из Индии.
— Выходит, Джанерти в «Белый лебедь» притопал допрашивать Губина, а вы с Минуровым подсыпали ему яду в чай!..
— Я не видел, чтобы он сыпал, но в кружку Губина он из зелёного чайника жидкость наливал, — перебил Турина тюремный врач.
— Ладно. Пусть так, — кивнул начальник уголовного розыска, пронзая его жёстким взглядом. — А как же ты догадался, что Джанерти тоже отравлен?
— Губин умер за несколько минут, но прежде начал жаловаться на сильные боли и резь в животе.
— И что же?
— Охранник мне рассказывал, что тот упал с нар, катался по полу и стонал. У других заключённых после завтрака никаких болевых симптомов не наблюдалось, хотя пища одинаковая была…
— С Губиным всё ясно, — допытывался Турин. — Поднося чай Джанерти, ты знал об отраве?
— Его чаем угощал сам Наиль Абиевич, — начал вытирать платком влажные красные глаза Абажуров. — Меня в кабинет не приглашал.
— Погоди, погоди! Но как же ты догадался?
— Когда с Робертом Романовичем мы осматривали труп Губина, он начал расспрашивать меня о пище, ну я про чай этот ему и рассказал, а он тоже похвастал, что пил чай у Наиля Абиевича, только особый вкус его смутил, затошнило вдруг.
— И что вы?
— Роберту Романовичу таблетку дал.
— А Минуров видел?
— Его в камере не было. Он начальству звонил, задержался.
— Выходит, вы спасли Джанерти?
— Не знаю. Следователь сам повёз труп Губина на экспертизу. А уж из экспертизы его в больницу увезли с болями в животе.
— Значит, спасли… — повернулся Турин к Легкодимову, будто ища поддержки.
— Получается так, — нерешительно кивнул тот. — Во всяком случае, эксперты помогут правильно ответить на этот вопрос.
— Вот что! — вскочил вдруг на ноги Турин, напугав ретивостью. — Собирайтесь немедленно! Едем в тюрьму. Минурова следует сейчас же брать! Иначе он змейкой выскользнет из моих рук.
— Вы и Моисея с собой?.. — засомневался Легкодимов. — Может, поручить арест кому-нибудь из наших ребят? Ляпину, например… Пусть привезёт задержанного к вам в кабинет, а мы уж там встретим.
— Эффект неожиданности утратим. Замкнётся Минуров, выиграет время, надумает массу вывертов, — отмахнулся Турин, он весь так и пружинил на ногах, подгоняя обоих. — Мы накроем стервеца на месте, пикнуть не успеет. С нами Абажуров, поможет сломить его психологически. Опять же он и отраву где-нибудь в сейфе прячет, ни о чём не догадывается. Чайник бы тот отыскать!..
— Я бы полагал… — осторожно начал Легкодимов. — Вещественные доказательства никуда из тюрьмы не денутся, домой прятать яд он не понесёт. Уничтожать не станет, яд — дорогостоящая ценность, к тому же это редкость восточная, природу, состав не смогли определить наши эксперты. Лично я пришёл к выводу, что это необычное восточное снадобье, несомненно, из каких-то трав, оно неопасно в небольшом количестве. При определённой концентрации состава может употребляться безболезненно в качестве чайной заварки, но стоит изменить концентрацию или количество, как удовольствие превращается в смертельное страдание и убивает человека.
Турин слушал его не перебивая и с уважением, он даже заметно успокоился и задумался, когда Легкодимов завершил, но покачал головой, не одобряя:
— Другой резон имеется. И вы, Иван Иванович, его не учли.
Легкодимов поднял брови.
— Этот дьявол пакостит не один. Я до главаря их никак не доберусь. Губин был не из простых. Минуров — велика шишка, но они — подручные. Крыса выше. Не исключаю, что негодяй среди наших работников, поэтому опасно доверять информацию ещё в чьи-то руки.
— Логика есть, — пробурчал Легкодимов, — но не доверять никому?..
— Это мой приказ! — вышел за дверь Турин. — Забыли, Иван Иванович, почему царь сначала войну немцам проиграл, а затем и власть из рук упустил? Тогда болтали много по поводу любого указа… Немедленно в тюрьму! Я знаю, Минуров рано приходит на службу, постовых сам обходит, камеры проверяет. Есть за ним грешок — с заключённым тет-а-тет[33] пообщаться, исповедь послушать. Потом сравнивает, что ему подчинённые докладывали.
— Аналитик? — усмехнулся Легкодимов. — Его предшественники тоже не чурались, пока один возьми да не застрелись, надравшись водки до чёртиков.
— Когда это было? — отмахнулся Турин. — Царские времена вспомнили?
— Да нет, уже наши…
Они остановили извозчика, Турин велел гнать к тюрьме. Благодаря пустым улочкам много времени это не заняло. Не доезжая, сошли.
— …При Николае последнем начальству уже считалось зазорным допоздна в тюрьме пропадать, — продолжил недоговорённое Легкодимов. — Побегов не было, да и мало кто об этом думал из заключённых: корм достаточный, условия содержания гораздо лучше, нежели на каторге, тем более на этапах или пересылочных пунктах; опять же забота и врачебный уход, ну и крыша над головой. Бежали в те времена только политические и то преимущественно большевики.
— Ну, хватит, — урезонил Турин Легкодимова. — Разговорились не на ту тему. К воротам подходим. Вы, Иван Иванович, в будке постового задержитесь вдвоём, пока я сам за вами не пришлю кого-нибудь из внутренней охраны. Никого не выпускайте и не дайте возможности постовому начальнику тюрьмы сигнал подать.
— Известны их премудрости, — успокоил тот. — Вам-то как одному? Вдруг Минуров пронюхает, заметит вас раньше времени? Удерёт — не сыскать его; в кабаке напиваться, как некоторые, не станет, — покосился Легкодимов на Абажурова.
— Есть такой шанс, — поджал губы Турин. — И не один. Но я первого встреченного охранника сниму с поста и поведу остальных за собой, пока до самого Минурова не доберусь. Вот и весь мой секрет.
— Логично, — усмехнувшись, кивнул Легкодимов. — А если?..
— Если постовой сейчас доложит, что Минуров ещё не пришёл, — подмигнул ему Турин, — тогда вообще все вопросы снимаются. Тогда успеем накуриться в будке, начальника дожидаясь.
Шутку оценил даже тюремный врач, плетущийся в хвосте, кислая улыбка мелькнула на его бледном лице.
Постовой вытаращился на Абажурова и вряд бы скоро очухался, не дёрни его второй раз за рукав Турин. Так и не спуская глаз с тюремного врача, тот затараторил, что Минуров в исправительно-трудовом доме, обхода не производил, находится у себя. Когда он попытался схватиться за внутренний телефон, Легкодимов, опередив, прижал трубку, шепнув, что беспокоить начальника тюрьмы не надо, Турин без провожатых пройдёт до его кабинета.
— Небось чаи гоняет? — подмигнул Легкодимов.
— Самое время, — согласился охранник не сводя глаз с Абажурова и наконец решился задать вопрос: — А вы, Моисей Соломонович, к нам совсем?.. Или как?
— Прибаливал товарищ Абажуров, — вмешался Легкодимов. — Но теперь за ваш контингент примется с двойной силой. Много болезных-то? Жалуются?
— Имеются жалобы. Как им не быть, товарищ Легкодимов, — разговорился постовой. — Народ нормы не знает, к нам прёт, естественно, развелась вошь.
— Гигиену личную не соблюдают, черти! — услышав родное, невольно вмешался Абажуров. — Я вот устрою им общий шмон![34]
— Заждались вас, — постовой со спокойной душой разместил зад на стул.
Беседа завелась, а Турин, никого не встретив, благополучно добрался до второго этажа и неслышно толкнул дверь к начальнику тюрьмы. Минуров даже не поднял головы, он потягивал чай из крошечной чашки маленькими глотками и был весь погружён в себя.
— Приятного аппетита, — пожелал ему Турин душевно и замер от нехорошего предчувствия.
— Давно тебя знаю, Иван-божок, а вот понять до сих пор не мог, — подымая на него глаза, как-то особенно медленно опустил опорожнённую чашку на стол Минуров.
— Что ж во мне непонятного? — сделал шаг вперёд Турин, холодея от сознания, что безнадёжно опоздал.
— Стой где стоишь, — поднял револьвер Минуров. — Хороший ты человек, а не с нами. Почему?
— Успел? — вместо ответа спросил Турин, не шевелясь.
— Успел, — кивнул тот и через силу улыбнулся. — А тебе не хочу плохого. Себя виню. Поздно почуял, шаг у тебя лёгкий, как сама смерть ты подобрался…
И не договорив, уронил голову на стол.
VIII
— Фасад бы только! Фасад! — нервно досадовал, закинув широколобую голову на тюрьму, щурил лукавенькие глазки врио начальника Иван Кузьмич Кудлаткин, обходя с небольшой группой подчинённых вверенную теперь ему территорию. Ненастная погода не смущала его; чрезмерно полноватый, даже пузат, одной рукой он смял фуражку и держал её за спиной, как бы подпираясь, второй постоянно вытирал пот с лица и с короткой шеи изрядно вымокшим платком. Лицо его было красно от неприятных мыслей и семенящей ходьбы, толстые губы дошёптывали:
— Вот приспичила, зараза, так приспичила! Сразила! Ворота бы да передние стены… Бочки мела б хватило…
— А дождь? — слыша, хмурился старшина охранников Бабкин, вечно недовольный.
— Что дождь?
— Гляньте! — запрокинул голову тот, едва успев удержать фуражку на затылке. — Тучи-то какие виснут!
— Ветер. Пронесёт, — отмахнулся Кудлаткин и засеменил дальше, увлекая остальных. — Нам бы один-два денька! Писака с некоторым контингентом побеседует и уедет на низа, к рыбакам.
— Значит, всё-таки по делу нэпманов?
— А тебе больше всех знать?
— И кто только разрешил такие беседы?
— Не наше дело. Ты бы строже смотрел за своими, а то в прошлом году крышу с угла разобрали. Сбежали бы зэки, не подскажи вовремя мои людишки.
После внезапной смерти Минурова от сердечного приступа, так было объявлено на похоронах, и после своего назначения бывший заместитель Иван Кузьмич Кудлаткин старался держаться строже, не спускать никому за малейшую провинность, вот уже неделю подбирал и приближал к себе только достойных. С Бабкиным у них отношения и раньше были натянутыми, на доклад к Минурову спешили оба, стараясь обогнать друг друга. При утверждении на должность у начальства мелькнула и кандидатура соперника, но Бабкина корили за заносчивость и высокомерие, выказывал тот самостоятельность мнений, к тому же пил и не раз попадался в непотребном виде, но Минуров его спасал.
Кудлаткин ненавидел Бабкина, но вида не подавал и мечтал при первом же случае вычистить поверженного, но не сломленного противника так, чтоб пух да перья летели. Передали ему, что тот тайком тоже собирает вокруг себя бычившихся единомышленников, грозится, будто недолго Ивану в кресле начальника властвовать, мол, бездарь он и выскочка. Кудлаткин узнал об этом в первые же дни от Приходько, любимчика Минурова, специалиста по татуировкам уголовников.
Вот и теперь, идя за спиной нового начальника, Бабкин перечил:
— Никто б не подумал тогда бежать, если бы крыша не подгнила. Пойдёте в губисполком мел или извёстку просить, заикнитесь заодно насчёт крыши. Залатали кое-как, а ремонта настоящего не сделали. Опять меня винить станете.
— К Василькову идти бесполезно, — отмахнулся как от надоевшей мухи Кудлаткин. — Ему не до нас. Председатель губисполкома сам переживает. Столичный журналист всем, как серпом по одному месту. Да и на кого я буду похож? Только назначили — и с протянутой рукой! Позора моего хочешь?
— Да не беспокойтесь, Иван Кузьмич, — вмешался Приходько, крутясь рядом и стараясь оттеснить Бабкина. — Я же раньше по дурости монашествовал. Остались среди рясников знакомые. Лошадь дашь, сгоняю в Покрово-Болдинский монастырь, настоятеля ещё не забыл, выручит мелком. Запасливый был.
— Если уцелел, — встрял неугомонный старшина. — Попов-то разогнали давно, и от монастыря ничего не осталось.
— Был там год назад. Сам видел, — вспыхнул Приходько. — Возили мы на Собачий бугор расстрелянных хоронить, местные мужики рассказывали, что жив настоятель.
— Что ж? С попами связываться станем? — Бабкин аж кулаки сжал.
— Не креститься поеду! За общее дело стараюсь.
— Ну, добудешь ты мел, а ливень смоет. В лужах белых плавать будем у ворот тюрьмы вместе со столичным ревизором. Тогда уж точно в фельетоне распишет! — зло хмыкнул Бабкин.
— Клей добавлю, — не уступал Приходько. — Мне технология сия знакома. Не подведу.
— Писака этот не из простых. Слыхал я, что темы его кусачие, выставляет начальников так, что после него не один голову сложил.
— Ты наговоришь!..
— Увидите сами. Пропишет в столичном журнальчике своём, в «Огоньке», или того хуже в газете «Правда», — прогремим по всем губерниям.
— Не каркай, Василий Порфирьевич! — не стерпел Приходько, видя, как побледнел Кудлаткин. — Доброго клея достану. Хуже будет, если писатель в таком виде тюрьму застанет. Вот тогда действительно держись!
— А леса?[35] Леса нужны! Времени-то в обрез, — гнул свою линию тот.
— Работяг с завода пригнать, — Приходько тоже не пронять, завёлся. — Ты, Иван Кузьмич, навести Доричева Михаила Васильевича, у него на «Третьем Интернационале»[36] хлопцы баржи на воду спускают, с лесами они управятся в два счёта, заодно баб попроси стены белить.
— Михаил Васильевич не откажет, — развернулся к спорщикам Кудлаткин, заметно повеселев. — Дело калякаешь, товарищ Приходько. — И огорошил Бабкина: — Самому мне туда не резон, начальство может нагрянуть, проверить, как готовимся, а ты, товарищ Бабкин, поезжай-ка вместо меня, неча лясы зазря точить, а то в ушах уже звенит от твоей трескотни.
Бабкин так и застыл, рта не закрыв.
— Чтоб к обеду назад да с работягами! Одна нога здесь, а вторая… В общем, мой приказ!
— В такой срок?.. — совсем опешил тот.
— Я без тебя справлюсь. Не боись. От меня не убежит ни один зек. А ты поспешай. Общее дело делаем. — И засеменил в ворота тюрьмы, гаркнув назад: — Приходько, ступай за мной, насчёт лошади распоряжусь.
В эти дни действительно многие начальствующие лица в городе ждали и боялись приезда столичного журналиста. Того самого. Михаила Ефимовича Кольцова, прославившегося на всю страну регулярными публикациями в «Правде» о последних годах вождя революции — Великом Ленине. Но тогда только началось его восхождение на литературный и политический олимп. Словно фантастический живчик поспешал он воспевать самые главные события в стране. Появился твёрдый советский рубль — и его рупор оповестил об этом на весь мир, возводились первенцы социалистической индустрии — Шатурская электростанция, Балахнинский бумажный комбинат — и очерки за его подписью украсили «Правду» — центральный печатный орган партии большевиков. Став истинным фанатом воздушного флота, воспел он его зарождение, бросив клич: «Молодёжь — на крылья!», сам активно участвовал в грандиозном авиаперелёте Москва — Севастополь — Анкара, тут же бросился агитировать и готовиться к новым — по европейским столицам, на Восток… Будь его воля, он облетел бы весь земной шар, не очень-то тот велик вдруг стал для него, и, заразившись героями фантастического романа Толстого «Аэлита»[37], подобно инженеру Лосю, готов был бросить лозунг покорять Марс. Он был большим торопыгой, успевал везде первым, но внезапным повелительным телефонным звонком, оборвавшем многие его планы, вдруг вызван был к Ягоде.
Никто не подозревал, и лишь исключительным лицам было известно, что человек, прославившийся на всю страну, прокляв настоящую свою фамилию — Фринлянд, давно и крепко связан с Енохом Гершеновичем Иегудой. И не потому, что страшился его или был ему обязан из-за тёмных пятен биографии, когда ещё по молодости в 1917 году увлёкся Керенским, ораторским искусством восхищавшим массы. В петроградском журнале юный журналист выступил тогда со злыми нападками на большевиков и Ленина. Теперь, естественно, Кольцов искренне боготворил Ильича за беспощадную борьбу с врагами народа, хотя отдавал предпочтение, конечно, Сталину.
Тот разговор с Ягодой один на один в личных апартаментах самого влиятельного человека в ГПУ удивил Кольцова, он даже в некотором роде обиделся, но, зная, что в таком учреждении ничего просто так не затевается, скрыл недовольство, внимательно вдумывался в каждое услышанное слово. Его выдернули из ответственного и интересного авиапроекта, предложив взамен плыть теплоходом в провинциальный глухой городок на Нижней Волге к самому Каспию, чтобы скоренько сочинить фельетончик о зарвавшихся нэпманах, якобы пытавшихся взятками решать собственные корыстные проблемы…
— Что требуется ещё? — не поверив, всё же высказал он нетерпение.
— Ваше выступление должно бить в набат.
— Это понятно, — ждал он главного, ради чего скомканы были все его великие проекты.
— Не фельетон, а настоящий колокол. Помнишь Герцена?
— Ну как же.
— Глаголом жечь сердца людей!.. Учил же Некрасов!
— Мне кажется, Пушкин…
— Неважно. Звон должен предупредить, что возвращается время большой борьбы! Только ещё беспощадней. Измены и нерешительности не простим ни жене, ни брату, ни сыну!
— Но «Шахтинское дело», кажется, уже прогремело, и достаточно убедительно? — попробовал он возразить. — Самые затхлые мозги прочистил ветер перемен…
Кольцов вспомнил, что тогда ему тоже намекали выехать на место и писать, но разговор состоялся на уровне даже не главного редактора газеты, и он тактично отказался, сославшись на занятость.
— «Шахтинское дело» было пробным камнем, — поморщившись, как бы вспомнив старую болячку, поучительно сказал Ягода и подозрительно взглянул на собеседника. — Как всякое начало, оно в определённой степени, увы, оказалось скомканным.
Кольцов слышал из других источников в ГПУ, что чекистам тогда не удалось пристегнуть подсудимым шпионаж в пользу буржуазных стран, как ни упирались Менжинский с Ягодой, но глаза его хранили беспристрастность и холодную пустоту, лицо не выдало, оставаясь безучастным.
— Виновные бестолочи понесли наказание. — Ягода ещё раз метнул острый взгляд в журналиста, будто пытаясь прочесть его мысли. — В нашем случае такого быть не должно. Твою и мою работу контролировать взялся Сам!
— Иосиф Виссарионович?! — невольно вырвалось у Кольцова, и он привстал: — Это его инициатива послать меня туда?
Ягода усмехнулся, вроде кивнул, но в то же время неопределённо пожал плечами и продолжил совершенно о другом:
— Новая экономическая политика, которой словно щитом оппозиционеры прикрыли кулаков на селе, нэпманов — в промышленности и торговле, набрала небывалую силу и приобретает реальную опасность для нашей социалистической экономики. Реальную опасность! Понимаешь, Михаил Ефимович? Гидру следует придушить, пока она не выбралась на волю из поганого логова. Вместе с её порожденцами и приспешниками.
— Они действительно так сильны?
— Точить ножи надо! — удивился его наивности Ягода. — Их принципы заразительны и опасны. Ты вот в своих фельетончиках всё бюрократов да бестолочей стегаешь, а пора бы замахнуться выше и так стегануть кое-кого!..
— Но я слышал и другую точку зрения…
— Бухарин?! — гневом блеснули глаза Ягоды. — Этот молодящийся ангелочек в лаптях, косящий под Бонапарта, многим морочит головы. Надеюсь, тебя не коснулось?
— Журналисту позволено и даже необходимо знать все течения в политической борьбе, но лишь для того, чтобы искусно владеть всем, бороться и побеждать, — Кольцов ответил так, не дрогнув, без эмоций, выучился с некоторых пор. — Вы ж и помогли.
От высокопарного, подслащённого его ответа лицо Ягоды повело. Конечно, он не поверил в искренность, поморщился, злее продолжил своё: о скрытых врагах, маскирующихся и меняющих цвет по обстановке, как хамелеоны.
Тогда Кольцов задал вопрос в лоб:
— Там, кажется, до Носок-Терновского товарищ Странников был… город спас от наводнения… захлёбывались все газеты о его героических заслугах…
— Да, писали… — понял незаданный вопрос Ягода, ощетинился, плечами повёл, но сдержался. — Но ты же не писал!
— Мне бывать там не приходилось… — как бы не замечая перемен в собеседнике, как можно деликатнее заметил Кольцов, всё же дожидаясь ответа.
— Ну, так в чём дело? Вот и побываешь, — в такт ему, как можно спокойнее процедил тот сквозь зубы. — Странников в Москву переведён, является уже членом Центральной контрольной комиссии, недавно был с проверкой по вопросам военных ведомств на Дальнем Востоке. Заслужил хорошее мнение товарища Богомольцева.
Кольцов кивнул.
— Товарищ Богомольцев докладывал товарищу Сталину, что Странников успешно справился с поручением. Поступило предложение назначить его ответственным секретарём Владивосточного окружкома с учётом глубоких знаний проблем рыбной промышленности…
— Но…
— Во Владивосток направлен товарищ Странников, наверное, уже там командует. Это масштабы по сравнению с Астраханью! Что ещё непонятно?
— События, о которых мне придётся писать, скорее всего, начались давно… — намёк Кольцова был совсем откровенен, однако в ответе Ягоды ушлый журналист нуждался не ради праздного любопытства, поэтому не спускал с него глаз. — Не упомянуть товарища Странникова как-то?..
— Время летит, товарищ Кольцов, — поднялся Ягода и зашагал по кабинету. — Не замечаем мы его, а оно мчится! Астрахань уже не губерния, а округом стала. Слышал ты об этом?
— Конечно.
— Вот… Товарищ Странников переведён партией на более ответственный пост, — размеренно шагая, Ягода подошёл со спины к сидящему журналисту и, положив руки на его плечи, сжал пальцы, не рассчитав своих сил с хилой тщедушностью собеседника; тот вздрогнул от боли, но не издал и звука. — Вы же светлая голова у нас, Михаил Ефимович… Вам ли мне объяснять?..
Больше имени Странникова они в разговоре не касались.
Плыть по Волге оказалось занятием удивительно нудным и тяжким. Или, мчась в самолётах, он отвык? Бродя по палубе, часто задумывался об одном и том же, так и эдак Кольцов переворачивая ситуацию, прокручивал в сознании состоявшийся разговор. Всё бы ладно, развязав ему руки по поводу секретаря Носок-Терновского, по существу, отдав его на заклание, Ягода твёрдо остерёг насчёт Странникова, явно упрятанного от всяческих дрязг в дальние края, но всё это не вязалось ещё с одной закавыкой: прощаясь уже, словно забыв за разговором, Ягода в последнюю минуту, почти в дверях сунул ему увесистый пакет:
— В дороге ознакомишься.
Кольцов открыл было рот, но спросить не успел.
— Ехать-то сколько? — хлопнул Ягода его по спине и окатил смешком: — Слышал, ни своих, ни чужих книжек читать не любишь, вот и пригодится мой подарочек!
В пакете оказался проект обвинительного заключения. Кольцов был уверен, что спешка не была случайной, а придумана, чтобы у него не хватило времени ни распаковать, ни прочитать хотя бы первые страницы и задать вопросы.
Потом, уходя на верхнюю палубу теплохода, он тщательно перечитал несколько раз многостраничный фолиант и поразился ещё больше: старшие следователи краевой прокуратуры Борисов и Козлов обвиняли многочисленную группу работников местного государственного аппарата — налоговиков и торговых инспекторов всего лишь в вымогательстве взяток, а рыбных дельцов-нэпманов — в даче взяток! «О каком колоколе настаивал Ягода и чему напутствовал? — мучился, впав в бессонницу, Кольцов. — В обвинительном заключении — сплошная уголовщина!» За это, правда, арестовано свыше ста человек, и действительно размах великий; таких судебных процессов ещё не проводилось, все фигуранты, независимо от степени вины, должностей и вреда, содержались под стражей, даже бывшая участница Гражданской войны, большевичка, кассир по партвзносам, оказавшаяся содержательницей тайного притона для высоких лиц… Что за этим делом скрывается ещё? Чего он не понял? Может, большой любитель коварных загадок Ягода что-то специально недоговорил? Но разговор их никто не перебивал… Наоборот, он показался ему в тот раз необыкновенно длинным, чего в ОГПУ не позволял никто из руководства, слишком все были заняты, и слишком много у каждого было работы… Скорее всего, он сам вёл себя самоуверенно и глупо, поэтому не уловил главного. Иначе чем объяснить? Такой уголовщиной полны многие областные суды, но шума на всю страну никто подымать не собирается… Невольно напрашивается другое… Неужели он Ягоде больше не нужен, и тот потерял к нему интерес… а хуже того — хочет отделаться?
Действительно, последнее время непростительно легкомысленно увлёкся самолётами… Куда хотел улететь?.. Как мальчишка, вцепился в идею промчаться по белому свету на «Крыльях Советов»[38], затеял идею создания агитэскадрильи, затянув в неё серьёзных людей из «Правды», «Известий», родного «Огонька»[39], «Комсомольской правды»… Как это воспринял Сталин? Вождь в один момент может всё перевернуть с ног на голову и скажет: «Товарищ Кольцов хочэт заманить нас в ловушку — пустить на вэтэр народные дэнэжки, когда молодой рэспубликэ дорог каждый рубэль!..» Сталин способен передёрнуть всё, верного друга превратить во врага. Известна его изуверская страсть тешиться с жертвой, как кот с мышью…
Плечи Кольцова сами собой содрогнулись от предчувствия беды, коварной тайны, постичь которую, как он ни пытался, так и не смог. Чтобы отвлечься, он обошёл, облазил все уголки четырёхпалубного теплохода, от нижней — товарно-машинной, до верхней, — позволительной лишь капитану и командному составу. Пообщавшись и побеседовав с народом: с «первоклассными» — в белых штанах, трескавшими в ресторане стерлядку под шампанское, и молодым красноармейцем, задумчиво сушившим портянки на железной палубе, журналист понял, что жизнь мало изменилась на водном транспорте, заперся в своей каюте и принялся за очерк. Раньше он учил молодых с горящими глазами рабфаковцев[40], что мелкотемье — не его призвание, что фельетон — не дешёвое зубоскальство, мишенью должны быть большие люди, охотиться следует на крупную дичь; когда-нибудь он так и напишет в своих собраниях сочинений, но теперь Кольцов изменил себе и писал обо всём, что видел, что стояло перед глазами, потому что разговор с Ягодой не выходил из головы. «Если Енох мне не доверяет, — снова и снова мучился он выбивавшей его из обычного ритма тревогой, — этот злодей и хитрец давно бы подсадил своего молодчика мне на “хвост”».
Подозрительность заставила Кольцова быть осторожным, он стал следить за каждым оброненным словом, захотелось снова на палубу, однако сколько бесцельно он ни бродил по теплоходу, слежки за собой не приметил и несколько успокоился, даже начал посмеиваться над собой: «До каких нелепых фантазий может докатиться перепуганный, загнанный в угол человек?..» И ведь он действительно дрогнул. Что там себя обманывать? Он гадко, позорно перетрусил от одного только предположения, что с ним может случиться, не угоди он Еноху или Самому!..
С этого или чего другого, он вдруг вспомнил нелепую и трагическую смерть Ларисы… Ларисы Рейснер, в двадцать лет ужасно красивую и популярную, в тридцать — умершую[41].
Покорив своим творчеством корифеев в литературных кругах столицы, едва не затмив самого Хлебникова своей чудесной «Атлантидой», она, охваченная страстью революционной стихии, как и её любимые мужчины Блок и Гумилёв, ринулась в самую пучину грозных, не щадящих никого волн борьбы, а, обретя короткое счастье в объятиях грозного командующего Волжско-Каспийской флотилией Фёдора Раскольникова, с винтовкой и наганом, в грубой солдатской шинели комиссарила в Гражданскую войну с возлюбленным бок о бок, громя врага от Царицына до Астрахани и Энзели[42] под кроваво-красным стягом…
А ведь она, словно обожгло Кольцова, тоже много и великолепно писала об этом глухом городишке, куда он держит сейчас путь, о южном форпосте терявшей последние силы в боях с белогвардейщиной молодой республики…
Кольцов всегда завидовал этой женщине-трибуну, прозванной Валькирией[43] революции, подобно той прекрасной богине с картины Делакруа[44], бесстрашно вбежавшей под смертельные пули на баррикады. Он был очарован ею, когда впервые прочитал и потом ещё несколько раз перечитывал её удивительно трогательный очерк в сборнике «Фронт» о боевом морском лётчике, пережившем гибель сына. Он, который не любил вторично заглядывать даже в собственные произведения и почти не прикасавшийся к чужим, восхищался… «А ведь наши жизненные пути тесно переплетались и очень похожи, — признался себе и будто встревожился он, — хотя мы мало виделись и, конечно, этого не замечали… Учились в Петербургском психоневрологическом институте ради того, чтобы проникать в души других, с малолетства увлекались поэзией и прозой, в юности пытались найти себя в творчестве и рано начали печататься в журналах; сломя головы, ринулись в политическую борьбу, заразившись революцией, воевали в Гражданскую войну, а потом полностью отдались прежней страсти — творчеству и достигли её вершин».
Она, старше его на три года, чуть опережала его, а он, не зная того, догонял и будто шёл по её следам… Но она умерла. На её похоронах он стонал, повторяя как в бреду: «Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому человеку?..» В одном из некрологов писалось: «Ей нужно было бы умереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером…»
А ему?.. Сколько осталось жить ему самому в этом беспокойном, переполненном подлостью и ядом мире? Сколько, если он всё же допустит ошибку, так и не разгадав коварной загадки не ведавшего жалости и не дарящего пощады никому человека по имени Енох Иегуда?..
IX
Чопорным аристократом теплоход описал полукруг у зелёного островка напротив пристани и, галантно отгудев приветствие, начал лавировать, пришвартовываясь. С нижней палубы донёсся шум сотен ног, гам драчливых голосов — народ натерпелся и рвался на берег. Матросы, схватившись за руки у выброшенных сходней, поругивались, сдерживая особо горячих.
Кольцов, проспав выбежать заранее на палубу и с борта полюбоваться городком сверху, оторвался от иллюминатора, взглянул на столик, заваленный бог знает чем, и схватился за голову: сплошной беспорядок от чайника, чашек с недопитым чаем, сладких московских сухариков и остатков продуктов до вороха бумаг — обычная обстановка, когда, внезапно сражённый пафосом творчества, он работал, не помня себя. В эту ночь, как никогда, его словно прорвало; то, что не давалось, вдруг ринулось настоящим потоком на бумагу, и рука едва успевала за карандашом в немевших пальцах…
Вместо того чтобы, как обычно, мучиться бессонницей и метаться по каюте, словно загнанный зверь в клетке, он, пересилив себя, накануне сел к столу, и невесть откуда явилась яркая нужная фраза, мысль полетела сама собой, строки помчались по бумаге… Половина строптивого очерка родилась из ничего; уже запоздно, в изнеможении, он свалился на койку и забылся сном. Удивительно, но, проспав всего три или четыре часа и проснувшись от гудка теплохода, впервые он выспался и, полный бодрых сил, бросился под умывальник…
Вежливо постучавшись, двое в знакомой форме приоткрыли дверь его каюты и замерли в нерешительности.
— Входите, входите, товарищи! — крикнул он, обернувшись и устыдившись своего раздетого вида, но старший козырнул без выражения на лице.
— Мы подождём, товарищ Кольцов, — и притворил дверь.
Он бросился одеваться, прибирать каюту, упаковывать чемоданы, в спешке швыряя всё без разбору, что попадалось первым под руку, но написанные листки от первого до последнего собрал бережно и уложил в планшет, который всегда держал при себе и возил в каждую командировку.
«Ну, вроде всё», — отдышался наконец он, застыл на мгновение у зеркала, поправил галстук и чуть тронул расчёской гладкие, привыкшие держать форму волосы. Сел на стул, соблюдая минутную традицию и, распахнув дверь, выставил первый чемодан.
Смуглолицый и усатый, старший по званию, принял его и зашагал к выходу. Светловолосый, всё время смущённо улыбавшийся, подхватил второй и замер, пропуская гостя вперёд. Так они и продвигались далее — он в середине с планшетом и переживавший — как же, под конвоем! — двое спереди и сзади, молчаливые и высокие.
На берегу, не опуская чемодан на землю, старший, словно очнувшись, остановился и развернулся:
— К нам? Машина у пристани.
— А если бы прогуляться? — сняв шляпу, стал он обмахивать разгорячённое лицо, быстро схваченное местным жгучим солнцем. — Вещички свои вам доверяю. Доставите по назначению. Гостиницу какую забронировали?
Они переглянулись, явно не понимая.
— Я бы до центра пошатался; слышал, тут у вас всё близко. Ради творческого, так сказать, процесса. Настраивает, знаете ли…
Странно, ему представлялось, что о его приезде в город давно известно кому следовало, власти должны были бы распорядиться соответствующим образом, прислать из своих; оркестрика, конечно, не нужно, как и дамочек с цветами, но редактор местной газеты, наконец, журналист завалящий, от которого можно было бы вытянуть местные слухи и сплетни, в его работе не лишнее… Однако ничего такого не наблюдалось, на него никто не обратил внимания даже при этих бравых молодцах из грозной конторы… Мелькали в толпе милицейские фуражки, но и тех было раз-два — и обчёлся, да и они скоро схлынули с озабоченными прибывшими и радостными встречающими.
Пока их троица приостановилась, подтянулись с теплохода совсем отставшие: примелькавшийся в ресторане герой-любовник, куривший из мундштука и запомнившийся фразами: «Сказать вам, что мне нравится? Но разве это можно выразить словами…», московская управдельша, затеявшая попутный флирт с персом, отчего сама теперь была не рада, поэтому, спрятавшись за дерево на берегу, повторяла: «Нет и нет! Пожалуйста, оставьте!..» В завершение вывалились и здесь неразлучной группой трое слегка подвыпивших ресторанных артистов: слепые Бредунов и Башилова с матросом-танцором Чудиловым и пианист в чёрных очках, поддерживавший за талию маленькую женщину в видавшей виды шляпке, исполнявшую ресторанной публике изжёванными губами:
Ей граф с утра фиалки присылает. Он знает, что фиалки — вкус мадам…Ансамбль продефилировал медленно, со вкусом, как и подобает приезжим артистам, и Кольцов очнулся:
— Ну что мы решим?
— Велено было вас сопровождать, — невнятно выдавил из себя старший. — Насчёт погулять распоряжений не было, а товарищ Кастров-Ширманович ожидает у себя.
— Хотел я душу порадовать в первый день приезда, — махнул рукой без особого огорчения Кольцов, — но, видимо, вы правы. Нельзя забывать о долге! Везите меня в тюрьму.
— В следственный изолятор?
— А что вас удивило? Разрешение на встречу с арестованными при вас?
— Конечно, — полез в карман старший.
— Вот и славненько, — взяв бумагу, Кольцов долго и тщательно её изучал, проявив особую щепетильность к подписи и печати. Этому с некоторых пор он был приучен, побывав в одной из тюрем, работая над фельетоном «Даёшь тюрьму». Тогда натерпелся, добывая всевозможных разрешений у разного начальства, ворох бумаг доставал, чтобы проникнуть в заведение, да и попав туда, пришлось несладко. Естественно, фельетон сделал злым и богатым на издёвки, из-за чего пришлось долго препираться с редактором газеты и отстаивать чуть ли не каждое слово. Но он не дрогнул и, если сдал какие позиции, то только после обещенного запрещения печатать вовсе, однако дерзкие и ядовитые строчки остались: «Тюремщик обязан быть твёрд и холоден. Сговорчивый тюремщик — что чайник изо льда. Оба рискуют упустить своё содержимое, если потеплеют и смягчатся…»
Но в этом городке он готов был изменить собственному представлению о проблеме: начальник, широко улыбаясь, встречал его с распростёртыми объятиями, как старого знакомого, у самых ворот тюрьмы, сиявших, как пасхальное яичко. В руке у него был журнал «Огонёк», в почётном строе замерла вся свита, отсутствовал лишь старшина охраны.
— Не приходилось видеть таких исправительных домов, — после крепких рукопожатий ответил взаимной любезностью журналист и пошутил, отдавая должное: — Прямо образцово-показательный!
— Милости просим! — рассыпался Кудлаткин.
— Не ведаю за собой особых грехов, но так и провёл бы здесь несколько дней, — рассмеялся Кольцов, ещё более теша душу изволновавшемуся Кудлаткину. — Слышал, монастырь женский заложен был ещё императрицей в этом месте?
— Болтали разное, — кивнул тот и поспешил взять под локоток гостя. — До сих пор живы шутники, балакающие, будто монахи из своего монастыря сюда ходы подземные прокладывали, а монашки — к ним навстречу, вот и бегали друг к другу по ночам, а?!.. Вона страсти-то какие творились! Теперь что? Тихо у нас было до некоторых пор.
И тоже рассмеялся, затрясся пузом, подмигнув свите, те дружно его поддержали.
— А если правду хотите знать, — сквозь смех продолжал он. — Про баб одни враки. Тюрьмы у нас сроду не было, арестантов в Троицком монастыре на территории Кремля держали. Он упразднён был по какой-то причине, и лишь по просьбе бывшего губернатора Попова в 1824 году построили тюрьму, по виду напоминавшую французскую Бастилию; внутри даже церквушка была для арестантов, снесли её после революции.
Вытерев платком губы и раскрасневшееся от смеха лицо, Кольцов вспомнил про сопровождавших его молодцов, задержавшихся у машины, обернулся виновато:
— Вы бы уж поезжали. Мне с арестантами наедине беседовать желательно. Времени займёт достаточно. А товарищу Кастрову-Ширмановичу я отзвонюсь. Объясню. Потом пришлёте машину за мной. Есть связь, Иван Кузьмич?
— Ну как же! — даже обиделся Кудлаткин. — Мы вас и с Берздиным свяжем, если пожелаете.
Старший из сопровождавших ОГПУ нахмурился:
— Если не возражаете, мне бы всё же с вами…
— Хорошо, идёмте, — не стал перечить Кольцов. — Служба есть служба. Я объясню вашему начальству ситуацию.
В кабинете Кудлаткина их заждались: две девицы в белых передниках дежурили у накрытого стола, на котором попыхивал крутобокий сверкающий самовар. Подали чашки на две персоны, за стол сели двое: начальник и гость; сопровождавший от ОГПУ как вошёл, так и застыл у порога, как его ни приглашали. Кудлаткин накрутил аппарат, подал трубку Кольцову. Кастров-Ширманович не высказал ни озабоченности, ни возражений, видимо, заранее предупреждённый насчёт полномочий журналиста; людей своих отзывать не стал, приказал ждать Кольцова у тюрьмы и везти к нему, когда бы тот ни освободился.
— Может, всё же откушаете с нами? — посочувствовал Кольцов, но сопровождавший козырнул виновато и исчез за дверью.
— Ну, прошу за стол. Чем богаты, как говорится… — Кудлаткин пододвинул гостю чашку с чаем и тут же подсластил придуманным: — Мы ведь за вашим «Огоньком» очередь занимаем. Ждём нового фельетона, занятно у вас получается, а главное — в точку всё.
— Спасибо, — вскинул на него хитрые глаза журналист. — А я на берегу поинтересовался печатью в будочке; жаловалась старушка — не берёт обыватель ни газет, ни журналов. Жадность заела — дорого, мол.
— Врёт каналья! — дёрнулся Кудлаткин. — Какой киоск, скажите?
— По правде, — дуя на горячий чай и высматривая пряники посвежее на тарелке, пропустил мимо ушей его возмущение Кольцов, — последнее время некогда было литературой заниматься, увлёкся, знаете ли, авиацией. А эта поездка к вам — чистая случайность. В редакции пора отпусков, некого послать, пришлось самому.
— Правда? — не поверил Кудлаткин, но журналист и глазом не повёл, и он продолжил: — Отпуска — чертовски неприятная штука, по себе знаю, все рвутся, словно заработались до смерти, а начальнику мечись меж ними. Я ведь подумал, Михаил Ефимович, прославились мы на всю ивановскую с этими нэпманами, вот вас сюда и пригнали подстегнуть фельетончиком, а?
— Ну… — поперхнулся от обезоруживающей непосредственности Кольцов, которому самому уже претила затянувшаяся игра в кошки-мышки с, казалось, простоватым тюремщиком. — В определённой степени вы недалеки от истины: уголовное дело шум подняло, давно не привлекалось к ответственности такого большого количества преступного элемента.
— Да какой это преступный элемент? — крякнул от досады Кудлаткин. — Вот раньше были уголовники так уголовники! А эти — слюнтяи. Одни взятки давали, другие брали, о последствиях не думали, считали за должное, катаясь, как сыр в масле. Гляньте кругом, везде не так ли? Эти нэпманы кому хочешь душу замутят. Потому что изменилась жизнь. И берут люди деньги, как своё, раз их в кресло достойное усадили.
— Это вы мне — такое? — встрепенулся Кольцов.
— Да нет! — Кудлаткин ладошкой отмахнулся. — Я их психологию выворачиваю наизнанку. Как они рассуждали. А теперь, угодив за решётку, спохватились и слёзы льют. Борисова с Козловым в Саратов вызвали на днях, но зэкам не терпится покаяться, ко мне с заявлениями прут, друг друга так и поливают помоями. Разве настоящие уголовники так поступают? У тех строгие правила.
— И Солдатов? — не поверил Кольцов. — Тот вроде запирался?
— И он поплыл, — отдуваясь после третьей чашки, полез за платком Кудлаткин. — Конечно, не без моей помощи. Мы тоже штаны зазря не протираем. Мои хлопцы подход имеют к каждому зэку. Всё душевненько, по закону. Петро Солдатов, скажу я вам, большого соображения делец. По-деловому и рассудил — чем червонец тянуть да бычиться, лучше покаяться перед органами и пролетарским нашим судом, может, и скинет годок-другой, а то и пятёрочку.
— Уж больно много обещаете, — засомневался Кольцов. — Браться Солдатовы, на мой взгляд, центральные фигуранты будущего судебного процесса.
— Да что ты, милый! — забывшись, по-свойски усмехнулся Кудлаткин. — Как говорится, три у отца было сына, только молодцом один удался. Петро всем заправлял, но в общей катавасии главных искать следует среди особ другого положения.
— Это кто ж такие?
— Как кто? Попков, который в Саратов успел переметнуться, Дьяконов да Адамов. Шестёрками меж ними и нэпманами, понятное дело, бегали несколько хмырей, в особенности Лёвка и Макс.
— Лёвка? Это Лев Наумович Узилевский, который представлял интересы частного капитала в коалиции?
— Лёвка, он Лёвка и есть, — переменился в лице Кудлаткин, и гневом налились его глаза. — Мошенник отпетый! На нарах давно его место пустовало. Но ничего, теперь отдыхает. Вместе с дружком своим по кличке Макс. Прохвост ещё хлеще! Они взятками крутили. Собирали с нэпманов и распределяли среди продавшихся чинуш. А прочая братия — мелкая рыбёшка.
— Вот мне и хотелось бы побеседовать с представителями разных, так сказать, преступных группировок этой банды, — протянул Кудлаткину бумагу журналист. — Чтобы составить общее представление.
— Какая же это банда? — пробежавшись по списку зорким взглядом, поморщился тот как от кислого яблока. — Шелупень! Одна их связывала страсть — нажиться на рыбе. Люди эти разные, пройдут мимо, друг другу не то чтобы руки не подадут, глотки рвать станут из-за жирного куска. Нэпманы!
— А чиновники? Эти чем отличаются?
— Эк хватил так хватил! — хитро засмеялся Кудлаткин. — Это ж совсем другой народ. Если и изменила их власть, то лишь пригладила. Это ж государевы люди, как были так и остались, для них главное — должность. Кто выше, тому и несут. Вот в вашем списке Дьяконов с Адамовым, это как раз про них, а вот эта личность, — он ткнул в лист пальцем, — Блох, это сущая блоха, сам по себе ничего не значит, он и не из местных, приезжий. Хлопцы мои раскручивали его прошлое, так оказалось, что он из советских судебных работников. Где-то на Украине эта блоха прыгала, к нам сиганула, прослышав про лёгкую добычу на рыбных промыслах. Будете с ним беседовать, спросите — он байду ловецкую видел когда-нибудь в жизни? Не ответит, ручаюсь. И таких много из их сотни, налетели, как саранча, с разных краёв, надеясь урвать свой кусок.
— С Блохом я побеседую, — сделал себе пометку Кольцов. — А про Алексееву что скажете?
— Баба как баба, преклонных лет, кстати, — поковырял в зубах спичкой Кудлдаткин, завершая чаепитие. — Моя б воля, я её и под стражу не стал брать. Кабак держала для бывших партийцев, которые теперь на нарах маются. А с другой стороны, куда им пойти, как ни к ней? Где душу отмыть? В ресторан переться? Враз погонят из партии. Сама она тоже партийная была, партийцев и привечала в основном. Не всякого подпускала. У неё с этим строго было поставлено.
— Интересная мадам…
— Увидите, с моноклем не расстаётся… Старая гвардия… В Гражданскую воевала.
— Мне бы их всех собрать? Разом. Как? Удастся?
— Разом? — удивился Кудлаткин. — Что ж это за доверительная беседа у вас получится?
— Время поджимает, — с сожалением пожал плечами Кольцов. — На низа завтра собираюсь, к рыбакам. А время останется, снова к вам загляну. Тогда уж поговорю с отдельными экземплярами.
— Я вам наш «Красный уголок» могу выделить, подойдёт?
— «Красный уголок»?.. В тюрьме?!
— Ребята мои так актовый зал прозвали, — усмехнулся Кудлаткин. — Да и не зал вовсе, а обыкновенная камера. Гражданского персонала у меня много, вот для профсоюзных собраний им эта самая большая камера и была выделена ещё моим предшественником. Насчёт того, что баловать станут, не беспокойтесь, охрана у дверей подежурит, там и глазок как был, так и остался, а на окнах решётки, как положено.
— Значит, «Красный уголок» с решётками на окнах?.. — горько ухмыльнулся журналист. — Как у вас всё здесь здорово продумано!
— Так я команду даю, чтоб выводили? — поднялся со стула Кудлаткин. — Раз у вас времени в обрез, поспешим. Непростая компания вас ожидает. Один Дьяконов чего стоит. Замучил всех своими прошениями да жалобами. У меня тут завалялся его настоящий доклад — объяснение аж самому товарищу Калинину. Его с книгой только и сравнить! Всё думаю, морочить им голову занятому человеку или сначала самому попробовать прочитать? Вдруг гадость какая? Сущий «Капитал» нашего этого?.. Маркса!
— Решайте, — развёл руки Кольцов. — Возвращусь с низов, обязательно попрошу глянуть.
— Вот выручили бы! И мне совет дадите, куда его девать. — И Кудлаткин повёл гостя в «Красный уголок».
X
Попусту сомневался начальник тюрьмы, что не заладится беседа у журналиста с арестантами, что тяжко придётся столичной знаменитости с уголовным элементом. Чем увлёк, как завёл разговор тот, только через час-полтора, когда ради любопытства призвал Кудлаткин дежурившего у глазка камеры надзирателя Ефремова, тот с весёлой физиономией удивил его: хохот не смолкает в «Красном уголке».
— Хватит врать-то! — встревожился Кудлаткин и потянулся лениво, так как вздремнул в одиночестве. — Неужели на смех подняли с его неуёмным любопытством? Жаль, авторитетный человек, как бы на нас не обиделся.
— Ржут не над ним, Иван Кузьмич.
— Не над ним? А кто ж проштрафился?
— Солдатов. С него началось.
— Как это? Никогда не поверю. Двух слов из него не вытянешь. Чтоб он засмеялся, штаны мне снять надо.
— Это с нашим братом он суров, а писака к нему подход нашёл.
— Да не тяни ты, Ефремов! — посуровел Кудлаткин. — Рассказывай всё толком, ты ж у глазка торчал.
— Ничего вроде этот писака и не придумал, а развеселил компанию.
— Опять темнишь! — прикрикнул Кудлаткин, выходя из себя.
— Ругать стал Солдатов Адамова, что тот последнюю тысячу рублей выманил у него. А тот сконфузился сначала, потом не вытерпел, возьми да ляпни: «Ты зачем мне деньги сувал? С тебя по закону вообще такой налог не положено было брать». Тот рот и разинул. А у него же вся пасть в золотых зубах, ну писака возьми и скажи: «Действительно, зазря обжали на тысячу человека с таким ртом. По миру пустили бедолагу».
— Ну и что?
— Солдатов сначала не понял, а потом щёлк, щёлк своими золотыми, ну и зашёлся в зубоскальстве, а глядя на него, мало-помалу разошёлся и сам Адамов. Ну уж а за ними вся их компания. Даже эта… мадам Алексеева сняла с глаз пенсне, чтобы не утерять, и давай попискивать в платочек. Долго не унимались. Уж больно развеселил всех Солдатов, будто разорил его Адамов тысячей.
— Они отсидят своё, выйдут и нас переживут, — поморщился Кудлаткин. — У них денег столько, что в банки стеклянные закатывай да в землю зарывай.
— Это зачем? — опешил надзиратель.
— Тебе их не понять, Ефремов. Да ты таких денег и не увидишь никогда. Их вот под конвоем сюда поместили и под стражей держат, а мы с тобой добровольно всю жизнь в этих стенах кукуем.
Ефремов руки по швам вытянул, застыл от неожиданности, никогда таких откровенностей не слыхал от начальства.
— Что ж другие? Тоже не уймутся от смеха? — отвернулся от него Кудлаткин, налил холодного чая в стакан, глотнул, успокоился. — Это у них на нервной почве. Впервые на нары угодили. А здесь несладко. Опять же жёсткие порядки. Сюда с воли гражданские люди являются нежданно-негаданно. Заговорил писака с ними по-человечески, вот им башки и посносило вместе с разумом. Солдатову-то что?.. Ему всё нипочём. Он верит, что деньги его и здесь спасут. А другие как?
— Блох скуксился. Начал жаловаться писаке на Дьяконова, что тот деньги брал да не жаловал за это, гнал из кабинета.
— Правильно делал, — усмехнулся Кудлаткин. — Собаке подлой собачий почёт — пинок под зад.
— Дьяконов жалобу всучил ему очередную. Новую кипу из рук в руки.
— Ничего. Кольцов мне все передаст, он мудрый журналист, наши порядки знает.
— Когда вы меня к себе позвали, как раз старуха эта, мадам Алексеева, жаловалась на санитарные условия и бессонницу. Не то таракана, не то вошь поймала. Он ей таблетку дал. Сказал, что сам употребляет, когда сна нет…
— Ладно, — махнул рукой Кудлаткин. — Посочувствовал человек пожилой женщине. Но ты это… Ефремов, актик-то про таблетку составь и мне подай.
— Есть! — вытянулся тот.
— Ну иди, иди, — вздохнул Кудлаткин. — Вот в этом вся наша жизнь… Продолжай, Ефремов, наблюдение. Потом доложишь подробности.
XI
Заканчивался десятый час вечера, а Кольцов всё ещё высиживал в приёмной начальника ОГПУ, утопая в видавшем виды просиженном кожаном диване напротив подрёмывавшего дежурного. Иногда тот подымал голову, лениво оглядывался по сторонам, кидал косой взгляд на знаменитость и, подёргивая себя за длинноватые усы, тихо со значением фыркал. Перед этим журналиста сухо уведомили, что идёт важное совещание, но его обязательно примут, как только оно закончится. Кольцову не надо было объяснять, что это мстительный ответ на его выходку отправиться в тюрьму к арестантам вопреки званому приёму, но поздно было в очередной раз корить себя за такие вот мальчишеские чудачества, которые он не мог истребить в себе, ненавидя помпезность и чванство провинциального начальства в таких поездках.
Вот и в этот раз. По дурости отказался, а теперь ему откровенно мстили, чем могли. С первого дня развязавшийся конфликт ещё может отрыгнуться так, что долго икать придётся… С чего его занесло? Теперь и не вспомнить, да и есть ужасно захотелось. Хотя и поил его Кудлаткин чаем, пряниками угощал, но разве это настоящая пища, которая, несомненно, ждала его на столе Кастрова-Ширмановича? К тому же в командировках, давно подметил он, ему почему-то всегда ужасно хотелось есть. Кольцов проглотил слюну, с тоской глянул в затемневшее окно за спиной дежурного. Тот совсем обмяк или специально выдерживал мину на лице, но не спешил зажигать свет.
Удивительно чёрные ночи на юге, мгновенно всё тонет во тьме!.. Как ни велик опыт, морщился Кольцов, а без досадных ляпов опять не обошлось. Ещё собираясь в командировку, он допускал, что в такой длительной поездке и при особой её серьёзности шероховатостей не избежать. Но, к сожалению, их набиралось предостаточно. Журналист опытный, он старался учесть всё, предупредить возможность даже малейшего промаха. Для этого, кстати, времени было с избытком. Буквально по пунктикам можно было разложить план предстоящего визита в тихий городок, чем шляться без толку по палубам теплохода с верхней на нижнюю и обратно, покуривать в ресторане, предаваясь психологическим инсинуациям. Кстати, шикарную поездку на теплоходе по всей Волге ему устроил Иегуда. Вот то приглашение и переживания насчёт подоплёки поездки, скорее всего, и привели его к душевному срыву. Изнервничался вконец и, не успев приехать, взъерепенился ни с того ни с сего, зачудил, как сорванец! Не смог сдержать себя при виде двух дубоголовых соглядатаев, приставленных к нему местным гэпэушником!.. К тому же те так беспардонно ворвались к нему в номер, когда он едва продрал глаза… Враз взыграли скрываемые даже от себя самого давние неприязненные чувства, дремавшие с тех… первых памятных дней его знакомства с ненавистным учреждением…
Тогда он внезапно и негласно был приглашён человеком с неприятной физиономией хорька. Вызов взъерошил все его прежние, уже почти забытые тревоги, возродил страхи, смешал планы, а тот хорёк, положив перед ним лист бумаги, нескрываемо-издевательским тоном произнёс так, что он запомнил сказанное слово в слово:
— Ну как же вы не догадываетесь, о чём писать, гражданин Фриндлянд?[45] Задумали редактировать на всю страну журнал… «Огонёк», кажется?.. Огонёк — это же почти искра! Угадал? А с «Искры», известно всем, Ильич наш начинал. С большим смыслом вы размахнулись… Про другую важную вашу деятельность я пока умолчу, — он ядовито ухмыльнулся. — Напишите для начала всю правду о сотрудничестве с буржуазными газетами… такими, как «Киевское эхо», «Вечер», «Наш путь», «Русская воля». Кажется, это было в 1917–1919 годиках… Вы как раз в партию большевиков вступали, нет?
— В партию я вступил в 1918 году по рекомендациям товарищей Луначарского и Левченко, — бледнея, ответил он.
— Вот-вот. Я сомневался, вдруг запамятовали. По молодости тогда баловались, конечно… Кто из нас в такие лета не шалил? Вы же не по вражеской злобе совершали нападки на большевиков и на товарища Ленина?.. Значит, не запамятовали, а я уж газеточки те со статейками гадкими подобрал, не желаете ли глянуть?..
И тогда, в том чистом листе дрожащей рукой он стал выводить чёрным по белому: «Мелкобуржуазное происхождение и воспитание (я являюсь сыном зажиточного кустаря-обувщика, использовавшего наёмный труд) создали те элементы мелкобуржуазной психологии, с которыми я пришёл на советскую работу и впоследствии в большевистскую печать…»[46]
Нет, тогда это не было вербовкой его в нелегальные агенты. Он не подписал никаких обязательств о сотрудничестве, не давал обещаний «стучать» на товарищей. Ему деликатно напомнили прошлое, с которым не то чтобы работать в «Огоньке» или в «Правде», сгореть можно было в одну минуту, просто исчезнуть с земли. А его не трогали. «Мохнатой руки», как принято было говорить, он тогда не имел, да и вряд ли нашлась бы такая рука, чтобы вступиться за него. Кому он нужен, рассуждал Кольцов, с какой неведомой целью его оставили живым и на свободе? Что-то ждёт его впереди, какая особая миссия?..
Приглашённый спустя некоторое время в то же учреждение по пустяку к начальнику рангом выше, он сообразил, что это опять неслучайно, его помнили и ему не давали забыть. А когда он был вызван к самому Иегуде, догадался, что большие дела рядом.
Испугался по-настоящему, во время беседы был скован, всё ждал чего-то главного, соображал, выискивал, как ответить, но главного так и не услышал. Разговор крутился вокруг издательских проблем, выпуска некоторых произведений отдельных авторов, в том числе Иегуда вспомнил и про его готовящийся сборник фельетонов, а потом, будто невзначай, коснулся личности известных журналистов, скандальных литераторов, важных руководителей. Кольцов с запозданием понял, в кого его пытаются обратить, — в элементарного стукача, и в тот же вечер, нализавшись в одиночку до чёртиков, что позволял себе крайне редко, схватился за револьвер.
Действительно ли он пытался застрелиться?.. Представив собственное тело растерзанным и бездыханным, разметавшиеся куски кровавого черепа, вылил в себя спиртного больше, чем мог осилить организм, и его внутренности начало выворачивать с ужасными мучениями. Тут уж следовало спасать собственный желудок, про револьвер забылось само собой; проснулась жена, в безобразном виде застала его на кухне, катающимся от болей по полу… Одним словом, увезли его в больницу с тяжёлым отравлением.
Когда ещё зелёным, но уже выздоравливающим, навестил его Иегуда, приказал сдать оружие. Этим и ограничился, освободив от душевных нотаций.
— Дурак! — только и сказал. — Никто из тебя шпиона делать не собирался и не собирается. А пить если не умел, так не учись.
После того случая их отношения нормализовались, однако дружескими не стали; хотя случались вполне доверительные беседы за рюмкой коньяка. Иегуда мог пить без меры, Кольцов пьянел после третьей рюмки, молол чушь, его клонило спать.
Иегуду интересовали те же большие люди, заглядывавшие или звонившие в издательство: Горький, Эренбург, Петров, Серебрякова[47], театральные знаменитости, иностранцы. Кольцов постепенно привык, с него не требовалось разглашать чьих-то чудовищных тайн, заговоров, военных секретов, темы их бесед вовсю обсуждались рядовыми работниками издательства в курилках в виде нелепых слухов, чудных анекдотов, несуразных сплетен. Причиняло ли это кому-нибудь вред?.. Кольцов не задумывался.
А неприязнь?.. Что ж, неприязнь… Чувство. Оно как закатилось однажды в тайный уголок его души при встрече с тем гадким хорьком, так там и запало. Иногда скалило зубы. Но не более того. Взбрыкнулось нежданно-негаданно при виде двух соглядатаев-идиотов ОГПУ и выплеснулось нелепым образом наружу. Он и сам растерялся: они его звать в машину, он им — погулять по городу хочу (и чего не видел?!); они его к своему начальнику, мол, тот дожидается с важными людьми города, стол накрыт, а он им — везите в тюрьму! Встреча с вонючими зэками ему вдруг важней оказалась!.. В общем, старая дурь ударила в голову. Такое уже бывало с ним.
Как-то понесло — очерки о героическом жизненном пути Троцкого удумал один за другим расскатывать в «Огоньке». Целую серию! В голове ещё планы витали насчёт Радека, Рыкова[48]… Но первым, как и в жизни, конечно, Троцкий — славный основатель Красной армии, защитник революции от белой интервенции, величайший Наркомвоенмор!.. Ему намекали, что опасная эта затея, Троцкий из обоймы выпал, почти всех постов лишён, находится в опале, кресло под ним пошатывается, словно скамейка под висельником… А его несло, собственного нюха не нажил, зато норовом обзавёлся и, что греха таить, тайком по привычке прислушивался он ко Льву Давидовичу…
Иегуда тогда к себе его приглашать не соизволил, просто позвонил по телефону… и пар сшиб. А если бы не он?..
Вот и теперь, сиди, думай, как выкручиваться из дурацкой катавасии с тюрьмой?
Кольцов поглядывал на дежурного, тот начал подавать признаки пробуждения — зашевелил надраенной до блеска каким-то кремом головой, прислушался. За стеной наконец-то шумно задвигали стульями. Кольцов поднялся с дивана, размял ноги, отошёл к окну, чтобы не мешать выходящим. Но он ошибся, его пригласили, когда и половина заседавших не вывалилась. Кастров-Ширманович, оставив за столом председателя исполкома Васёнкина и ещё несколько важных чинов, сам поднялся навстречу с протянутой для пожатия рукой:
— Не заснули, Михаил Ефимович? Вот так приходиться работать после вскрытия треклятого гнойника.
— Это меня извиняйте, — заторопился Кольцов. — Днём надо было. Не рассчитал.
— И днём не продохнуть, — начальник ОГПУ с трудом скрывал съедающую злость и досаду. — Если бы послушались моих орлов, Носок-Терновского ещё застали бы. Очень увидеться с вами хотел, но не дождался, выехал в районы.
— Да разве он выехал куда? — вмешался глазастый Васёнкин, вставая и тоже протягивая руку для пожатия. — Ему ж доклад готовить, в Москву скоро ехать! Заперся, наверное, у себя, катает выступление.
— В Трусовский район. К Кудрявцеву, — с неприязнью пресёк разглагольствования председателя Кастров-Ширманович. — Опять народ по социуму вопросы забивает, то бани нет, то дров. Мелочовка, а не обойтись! Кудрявцев, сами знаете, без денег, как в дерьме.
— Не слышал, не слышал, — мялся Васёнкин. — Товарищ секретарь меня бы туда взял. Собирались ведь вместе. Разговор о поездке был.
— Вот он и махнул.
— Ну да, — поджал губы председатель; был он подвижен, простоват, но с хитрецой. — Чего ему тут с нами… — и он указал Кольцову на стул рядом с собой. — В Трусовский?.. Значит, приспичило.
— Корю себя, корю, — не зная, куда прятать глаза, Кольцов закраснел от лукавства. — С утра к нему собирался, но бес попутал.
— Чаёк-то не помешает нашему разговору? — ткнулся к нему Васёнкин. — Признаться, в горле пересохло. С утра кричим.
— Так уж и кричим, — подсел рядом и начальник ОГПУ. — Склонен ты раздувать, товарищ председатель.
— Нам положено, мы к народу ближе и болячками их живем, — принимая чашку с чаем от невесть откуда взявшейся юркой официантки, тот поставил её перед Кольцовым. — Первый стакан гостю, — улыбнулся крепкими зубами.
— С превеликим удовольствием, — отставив чашку, принялся пожимать руки остальным Кольцов. — Я ведь к вам со своими планами. За советом и за помощью.
— Знаем, знаем, — сжимался вокруг них круг любопытствующих, но Васёнкин как-то незаметно оттеснил напиравших, не вставая с места, по-хозяйски принял чай для себя, не поделившись с Кастровым-Ширмановичем, слил в блюдце кипяток, подул толстыми губами, отхлебнул неторопливо и также неторопливо принялся изучать Кольцова; особенно его заинтересовал значок на пиджаке.
— Это что же?.. Награда какая? Вроде не похожа.
— Значок, — небрежно кивнул Кольцов, тоже дуя на горячий чай. — За воздушные перелёты.
— Вона что!.. — одобрительно удивился Васёнкин, тут же пододвинулся ближе, в глаза заглянул. — Что это вас прямо в тюрьму понесло? Туда вроде всегда успеется…
Ожидаемых смешков это не вызвало, все внимательно взирали на Кольцова, но журналист ждал продолжения, молчал.
— Если за информацией, так она вся у нас, — допил чай председатель и подал чашку за новой порцией. — У следователей столько не найдёте.
— Кстати, а где они? — повернулся Кольцов к Кастрову-Ширмановичу. — В прокуратуре я встретился лишь с прокурором, а Борисова и Козлова не видел.
— И Фринберг ничего не сказал? — хмынул начальник ОГПУ. — Они же к Берздину вызваны согласовывать обвинительное заключение по делу. Конец следствию. В суд дело готовить будут. Обвинителей назначать.
— Жаль, — не скрыл огорчения Кольцов. — Хотелось с ними пообщаться. К тому же я замыслил поездку на низа, к Каспию на промыслы, а после возвращения собираюсь вновь встретиться с теми же арестантами. Свидания те попросили с жёнами. Двое. Я пообещал. — И на недоумённый взгляд Васёнкина пояснил: — Оба вину признали. Свидания короткие, с делом не связаны. По правде сказать, захотелось мне несколько фотографий сделать ваших помпадуров со своими помпадуршами[49].
— Никаких им свиданий! — гневом вспыхнул Васёнкин и даже кулаком прихлопнул по столу. — Прославили нас на всю страну жульничеством. Вон, мне звонят по телефону — ругачка новая появилась — «астраханщина»! Смысл гадкий, означает: взяточники мы все и продажные люди! А злодеев бессовестных на обложку центрального журнала или в «Правду» красоваться разместят. Разве это справедливо? Судить их надо, самой жестокой казнью карать!
— Нет, — попытался остудить его Кольцов. — На обложке их фотографий не будет. В тексте, может быть, если содержание позволит… фельетон ещё не готов, есть лишь наброски. Да и приговора следует дождаться.
— И чего же они вам наговорили, раз загорелось к промыслам на низа, да обязательно к настоящим ловцам? — не унимался председатель.
— Мнение их интересно по одному вопросу. В беседе с арестованными этот вопрос был задет, — задумчиво ответил Кольцов, видно было, что он уже определился и сбить его не удастся. — Для полного овладения материалом нужна такая необходимость.
— А нашего материала и мнения, значит, недостаточно? — подскочил на ноги Васёнкин.
— Их мнение расходится с версией следствия.
— Конечно, расходится! И будет расходиться. Поэтому они в тюрьме и сидят. Хотя кто знает, что они вам накрутили…
— Ну как же, как же, Тарас Семёнович, — попробовал урезонить не в меру расходившегося председателя Кастров-Ширманович. — Обвиняют их во взятках. Весь город знает, а исполкому неизвестно? И по поводу свидания я выскажусь, что это правильное решение. Психологической поддержкой будет для них, раз во всём признались и раскаялись.
— Плакали некоторые, — вставил Кольцов.
— Вот видите, как глубоко их раскаяние, — подхватил начальник ОГПУ. — Я берусь содействовать организации свиданий у нас, привезём их из «Белого лебедя», раз так пожелал товарищ Кольцов, и жён пригласим. Если мысли насчёт побега задумал кто, полностью исключим такую возможность. Мои люди обеспечат изоляцию. Да и куда им бежать?
— Спасибо, — кивнул Кольцов. — Может, всё-таки у Кудлаткина?.. Там вроде и первая встреча была. «Красный уголок» приятное впечатление оставляет.
— Фотографии плохими получатся, — тут же укорил его Кастров-Ширманович. — Грязь, вонь, убожество.
— Тюрьма есть тюрьма, — неуверенно возразил журналист. — А помпадуры ваши на этом фоне как раз выразят свою убогость. Их бурная жизнь проявится обратной стороной.
— Вот-вот! — засветился весь, бурно радуясь, председатель. — В тюрьме их запечатлеть с жёнами, другим неповадно будет! А вот поездка на низа ни к чему. Вместо неё спокойно у нас, в исполкоме, с людьми пообщайтесь, с товарищем Носок-Терновским побеседуйте. А насчёт настоящего ловца я вам вот что скажу… — Васёнкин изобразил заговорщицкий вид. — Есть у меня один. С отцом ещё на Каспий ходил. В совершенстве знает ситуацию и в Тумаке, и на Белинском банке, и на промыслах, что к самым раскатам подступают. Он дневал и ночевал там, где сваливает Волга воды свои мутные в изумрудную гладь великого Каспия.
— Хорошо сказано, — ткнулся в свой блокнот Кольцов и стал записывать. — Ну и что ваш ловец?
— А сведу вас с ним у себя в кабинете. Он за два-три часа на все ваши каверзные вопросы ответит, а кроме того, про лотос — цветок чудесный наш — расскажет. Так что в накладе не останетесь. Как, по рукам? — уверенный в согласии, Васёнкин и руку вверх занёс удариться с рукой журналиста.
— И ехать никуда не надо! — радостно зашумели вокруг. — Сутки ведь зазря потеряете!
— Какие сутки? Больше! Вдруг непогода или мотор подведёт?
— Это ж завтра ехать надо, чтобы подстраховаться! Никаких бесед тогда и с Носок-Терновским, и в исполкоме не видать!
— Нельзя рисковать! Теплоход столичный ждать не станет! Уйдёт в Москву в положенное время без вас, если припозднитесь!
— На поезде догонять придётся!
Засмеялись многие вместе с Васёнкиным. Сумрачными были лица у двух людей — журналиста и начальника ОГПУ. Когда веселье улеглось, Кольцов поправил очки, поднялся:
— Нет. Обманывать не имею права. Журналист — моя профессия. Вы же сами верить мне перестанете после такого.
— Правильно, — пожал ему руку Кастров-Ширманович. — Езжайте. И лучше будет, если выедете завтра утром. Вернётесь раньше, успеете со всеми другими своими делами.
— Главное, в тюрьму успеть, — на глазах ожил Кольцов после такой поддержки, — для окончательного разговора. Товарищ Носок-Терновский не обидится и меня поймёт. Я с ним в Москве встречусь не раз, мы его вопросы там обсудим.
— В тюрьму — так в тюрьму, — продолжил начальник ОГПУ. — Народ доставить на свидания я беру на себя, как обещал. И с транспортом вам помогу по Волге к раскатам добраться, если у Тараса Семёновича ничего не имеется.
— Подковыриваешь… — поднялся Васёнкин. — Транспортом обеспечу.
— Нет уж, — не дал договорить ему начальник ОГПУ, — раз я взялся за это, то до конца. Свистунов! — крикнул он в коридор. — Оперполномоченный Свистунов!
— Есть! — вбежал в кабинет дежурный.
— Готовь судно. Завтра в пять часов утра берёшь на борт товарища журналиста и полностью в его распоряжение.
— Есть! — вскинул руку дежурный. — Каков маршрут?
— К промыслам на низа.
— Где брать пассажира?
— Из гостиницы, — буркнул Кастров-Ширманович.
— Так не годится, — запротестовал Васёнкин, растерявшийся от неожиданного поворота событий. — Раз вы всё берёте на себя, оставьте мне товарища Кольцова хоть сегодня. А то и не знаю, когда теперь увидимся. — Он обнял Кольцова за плечи и попытался прижать к себе. — Ночуйте у меня. Зачем вам казённая гостиница? Тараканов кормить?
— А что? — улыбнулся тот. — Я, пожалуй, не возражаю. По домашней подушке соскучился.
— И подыму завтра рано утром сам, — заверил председатель начальника ОГПУ, попытавшегося возразить. — У меня не проспит.
Тому не оставалось ничего другого, как развести руки. Народ стал расходиться. Последними после крепких рукопожатий расстались с начальником ОГПУ журналист с председателем.
— Я Свистунову прикажу, чтоб пожитки ваши и аппаратуру сейчас перевёз из гостиницы на теплоход, в вашу же каюту. Пусть сдаст под ключ, — прощаясь, сказал Кастров-Ширманович. — На всякий случай, если вдруг опаздывать будете.
— Конечно, — подумав, согласился Кольцов. — Но я успею. Непременно успею. Мы ещё увидимся.
— Какие могут быть возражения? — хлопнул его по плечу начальник ОГПУ и позвал к себе Свистунова:
— Ты задачу смекаешь? — когда тот возник на пороге, спросил начальник. — Дверь-то прикрой. Все ушли?
— Так точно, ушли.
— Значит, смекаешь?..
— Никак нет!
— Да не ори ты, ночь уже, — выругался Кастров-Ширманович. — Подойди ближе.
Оперуполномоченный, недоумевая, подчинился.
— Я за тобой, Свистунов, давно приглядываю. Заметь, в дежурке теперь сидишь, а остальные в мыле бегают. Я не Трубкин, вольностей не позволю.
— Так точно, товарищ начальник! — вытянулся тот, как смог.
— Что услышишь сейчас здесь, забудь…
— Есть!
— Да не ори ты, говорю, болван!.. Завтра тебе везти журналиста. Где вы остановитесь, что будете делать, доложишь потом точка в точку. Сломаться можешь, заблудиться в жилках[50], плутать — это твоё дело, но привезти назад Кольцова ты должен за двадцать — пятнадцать минут до отхода в Москву столичного теплохода. Не раньше! Прямо туда и подъедешь. Я сам ждать буду, только ко мне его не веди, тащи сразу на теплоход.
— Не понял… — побледнел Свистунов.
— Дурак!.. Не дрожи раньше времени. Аварию какую-нибудь сообрази в дороге, чтобы раньше не приплыть! Но гляди!.. Не утопи его там.
— Он плавать-то умеет? — начал понимать оперуполномоченный.
— А шут его знает! — хмыкнул начальник. — Нашёл что спрашивать. Живым доставишь назад и здоровеньким, каким возьмёшь. Но учти, повторяю: за двадцать — пятнадцать минут до отхода теплохода. Не раньше! И прямо к пристани!
— Есть!
— Стой! Чуть не забыл. Тут у него блокнотик какой-то мелькал, пусть он утонет случайно… Ну, не мне тебя учить.
— А фотоаппарат, если возьмёт? — Свистунов входил в роль.
— Аппарат?.. Ему место тоже на дне. В Москве новый купит.
Часть четвёртая. Плаха, топор да колокол
I
С некоторых пор большое число вопросов на Оргбюро[51] не выносилось. Один-два, и то засиживались допоздна, ночи не хватало, разъезжались чёрные лимузины из Кремля под утро.
Избираемым обычно председателями заседаний Молотову и Кагановичу Сталин однозначно дал понять, что начинать следует ближе к вечеру: отсидел аппаратчик днём своё положенное, отстоял вахту, как рабочий у станка, пожалуй, голубчик, теперь исполнять то, что партией поручено в порядке ответственной нагрузки, борись с собственными прорехами, истребляй разгильдяйство, бюрократизм, чванство, воспитывай других да сам извлекай уроки — делай то, что в основное время просмотрел, справиться не смог, ошибся в товарище, оказавшись на поверку чинушей или неумехой, а то и откровенным негодяем, врагом.
Сам же Генеральный секретарь[52] нередко, а последнее время всё чаще и чаще, ссылаясь на серьёзную занятость, а то и не объясняя причин, появлялся на заседаниях от случая к случаю, внезапно и с большим запозданием. Кивал председателю, приметившему его в дверях, успокаивая, помахивал ладошкой, мол, продолжай, продолжай, не стоит прерываться, скромно устраивался в сторонке где-нибудь на свободное местечко и затихал, весь внимание.
«Ну, прямо под Ленина косит Коба! — зло жевал усы Каганович. — Ему бы карандаш в руки и тетрадку на коленки!..»
Но Сталин ничего не записывал в таких случаях. Он вообще не любил писать. Во-первых, из-за больной руки, а во-вторых, ему достаточно было гениальной головы, которая всё запоминала. Коба не записывал ничего…
Прервавшееся на какие-то секунды заседание возобновлялось, как ни в чём не бывало, смолкал неуместный шёпоток в рядах, прекращались испуганные переглядывания, вызванные появлением вождя, однако бездействовал Сталин недолго. Будто заранее зная, удивительно быстро сориентировавшись, как и по какому поводу кипят страсти, встревал сам, задавал бьющие в цель каверзные вопросы, безапелляционно перебивая и докладчика, и самого председателя заседания. Так что скоро всё кончалось тем, что заявившийся будто случайно, ненароком, под самый конец дискуссии и жарких прений Сталин подымался с места, высказывая собственное мнение, в корне отличное от почти состоявшегося, завладевал всей аудиторией и, становясь центральной фигурой, подымался из зала на трибуну, заслоняя кряжистой спиной и выступавшего, давно закрывшего рот, и хмурого председателя, по существу, возвращая завершённую обсуждением проблему на новые круги, переворачивая, казалось бы, выстраданное, выспоренное, на свой, собственный лад.
Кипевшая дискуссия меняла русло, проблема неожиданным образом меняла характер, вопрос клонился к совершенно иному решению. «Двухсотпроцентный сталинист», как некоторые завистники его называли, Лазарь Каганович первым изменял позицию, присоединяясь к вождю. Оппонентами оставаться никто уже не осмеливался…
После, наедине, раздумывая и досадуя, Лазарь с запозданием подозревал, что тактика Кобы, начиная с первого шага внезапного появления, с выверенным до секунды опозданием, неслучайна — совпадение всех мелочей в нужный момент слишком удачно. Он готов был поклясться, что с помощью специальной аппаратуры извечного его конкурента и врага Еноха Иегуды Коба тайно подслушивает весь ход нужного ему заседания Оргбюро с самого начала, находясь где-то поблизости от зала, а поймав момент, безошибочно наносит удар. Однако зачем подставляет при этом его, верного соратника?!.. Рвало душу и тревожило — Коба перестал доверять ему и Молотову, последним из преданных партийцев, которые ещё надеялись на его взаимность. Завести прямой разговор об этом Лазарь опасался, реакция могла быть непредвиденной, на положительные эмоции рассчитывать не приходилось. После коварных и подлых ударов Троцкого, посмевших называть себя «ленинской гвардией» Радека и Пятакова, Раковского, Иоффе, Крестинского и других отщепенцев, организовавших секретное совещание в одной из пещер Кисловодска и принявших «Декларацию 46-ти» с требованием погнать из руководства партии Михаила Калинина и Вячеслава Молотова, заменив их в Секретариате ЦК Троцким и Зиновьевым, Коба затаился, окружил себя охраной Иегуды, прекратив былые откровения даже с Лазарем и Орджоникидзе, считавшимся первым его другом. Коба не доверял никому и подозревал всех… Кстати, опасения его не были напрасны. Скоро последовало предательское выступление Николая Бухарина, к которому Сталин был настолько привязан, что ласково именовал его «бухарчиком», но этот любимчик вдруг совершил тайный визит к непримиримому врагу Кобы Льву Каменеву, долго беседовал, расставшись лишь под утро. Люди Иегуды доложили, что Бухарин обсуждал с Каменевым возможности изменения состава Политбюро, в этот раз замышлялось убрать Орджоникидзе и Ворошилова. Не опасаясь прослушки и уверенный в своей безнаказанности, «бухарчик» высказал полное недоверие Кобе, заявив, что при первом удобном случае грузин перережет всем глотки.
Обстановка накалилась до чрезвычайной. Лазарь понимал, что Коба на грани психического срыва, что загнан травлей в угол, что без верных соратников, которыми прежде всего он считал себя, Молотова, Орджоникидзе, Ворошилова, Калинина, Кобе не справиться с врагами внутри партии, но Сталин полностью отдался под опеку подлого Иегуды, коварство которого известно, ибо, заполучив из рук вождя неограниченные полномочия, тот возомнит себя великой личностью. А тогда недалеко и до самого худшего: Иегуда (Каганович был в этом уверен) способен решиться на партийный переворот. Для этого он собрал достаточно сил и тайных соратников в ГПУ.
Переживая отчаянную ситуацию, Лазарь не находил выхода. Её должен был решить сам Коба, разрубив, как некогда Александр, «гордиев узел»[53], одним махом покончив и с оппозицией, и с кичившимся уже своей властью Иегудой, но вождь продолжал выжидать и гнуть опасную стратегию, проявлением которой были и причуды, устраиваемые в Оргбюро.
Вот и в этот раз, когда на заседании должен был рассматриваться ответственный вопрос «О положении в Астраханской партийной организации», Сталин долго отмалчивался на вопросы Молотова и Кагановича, как обычно пришедших к нему предварительно обсудить ситуацию. Тем не терпелось согласовать принципиальные позиции, оговорить степень ответственности местных руководителей, меры их наказания. Ничего толком не ответив, сославшись на серьёзное совещание с военными, вождь в который раз высказал сомнение насчёт собственного присутствия, набил трубку, задымил и принялся прохаживаться по кабинету. Глаза его метали молнии и после третьей или четвёртой затяжки, не сдержавшись, он разразился бранью, что без него в ЦК не осталось людей, способных проводить ленинские принципы в работе с кадрами, разучились бороться с расхлябанностью и наглым оппортунизмом. Молотов, как обычно, вспыхнул, опустил заалевшее лицо, Лазарь по привычке дёрнулся, готовый пуститься в свару, но Сталин уже отвернулся, пренебрежительно отмахнулся ладошкой, пресекая любые возражения, зло бросил через плечо:
— Читал я справку краевой Контрольной комиссии… Ни серьёзного анализа не увидел, ни партийного подхода. Сплошь мазня, бедлам и сплетни! Базарная склока, слушай!..
Непонятно было, обращался ли вождь к Молотову или Кагановичу, но развернулся резко к обоим:
— Складывается такое впечатление, что проверяющие занимались собиранием скабрёзных историй, а не пытались уяснить, почему нэпман одержал вверх над местным партийным активом, превратив из целой организации гнойник за короткий промежуток времени! Только в постель к некоторым аппаратчикам не лазили, а то ведь натуральный «Декамерон»[54] получается!.. Кто на заседании из Центральной контрольной комиссии собирается выступать на Оргбюро?
— Назаров записался, — Молотов сделал неуверенный шаг к Сталину.
— Этот горазд на язык… — выпустил облачко дыма ему в лицо вождь.
— Но он сам на место не выезжал, — быстро добавил тот.
— Ему жалобы поступали из Астраханской области, — встрял Каганович. — Он их кучу насобирал. До сих пор проверяет, вытаскивая пасквилянтов сюда.
— А задницу оторвать боится? — сощурил тигриные глаза вождь. — Съездил бы, невелика шишка.
— Болел вроде, когда проверка началась, а потом уже поздно было, хотя это его зона кураторства — Кавказ, Калмыкия, Нижнее Поволжье, — перечислил без запинки Каганович и ядовито напомнил, что прибегал к нему Назаров насчёт командировки, когда краевой секретарь Густи уже отрапортовал, что проверка завершена и он готов выслать справку в Оргбюро. Назаров размахивал пачкой бумаг, но Лазарь и читать их не стал, отказал ему в поездке.
— Кто из вас председательствует сегодня? — помолчав, небрежно спросил Сталин.
— Я, — Каганович принялся было развязывать папку с документами заседания. — Я всю историю их гнойника от и до проработал. Готов вам доложить подробности.
— Не надо, — отмахнулся вождь. — Читал, хватит. Густи докладывать будет? Краевой секретарь?
— Он. Исполняет обязанности и за Астраханского секретаря, прежний временно отстранён до окончательного решения.
Помолчали. Сталин не садился к столу, продолжая расхаживать в задумчивости и будто успокоясь, Молотов и Каганович, вытянувшись, не сводили с него напряжённых глаз.
— Что ждёте? — полуобернувшись, Сталин остановился. — Ошалел кулак на Каспии, распустился до предела. Это результат преступного послабления. Прижать его, пока за горло нас не взял!
— Это понятно… — опрометчиво поспешил Молотов.
— Вот и действуй, раз понятно! — грубо оборвал Сталин. — Чего вам обоим не хватает? Оба секретари ЦК! А кулак наших партийцев там, на Волге, за пояс заткнул, рублём поманил, они и лапки вверх! Взятками всю экономику рыбной промышленности на дно утянул! Это кому же вы там поручили руководить нашей экономикой?.. Нашей партийной организации или организации троцкистов-оппортунистов?
— Следствие по делу закончено, — опять поторопился Молотов. — Привлечено к ответственности и арестовано более ста человек, много бывших членов партии…
— К ногтю их всех без жалости! — брызнул слюной Сталин, выхватив трубку изо рта. — Это же самая настоящая экономическая диверсия!.. Контрреволюция!.. Умышленное разложение государственного аппарата частником! Мне Ягода докладывал, что следственные органы и прокуратура недооценивают политическую опасность преступления. С Шахтинским делом, конечно, не сравнить, но тот же умысел. Антисоветский! Направлен он против нашего социалистического уклада жизни, на подрыв нашей экономики, так что ж головы нам морочат? Подсказать надо прокурорам, поправить… А, товарищ Молотов?.. Или вы придерживаетесь другого мнения?
— Нет, товарищ Сталин! — в один голос отозвались оба, а Каганович успел добавить: — Контрреволюция налицо!
— Сами догадаться не могли? — зло прищурился Сталин. — И те, на месте?.. Тоже безголовые?.. Тоже сверху подсказок ждут? Ягода не ждёт! Он своего дурака в ОГПУ сразу приметил и убрал. Не дожидаясь моего совета. А вам совет нужен? Почему прокуратура творит отсебятину?
— Застрелился местный прокурор, — вставил Каганович.
— Сбежал от ответственности, негодяй!
— Берздин назначил туда человека из аппарата.
— У Берздина тоже глаза поздно раскрылись. Кстати, как он взяточника в председатели губсуда пропустил? У товарища Ягоды сложилось впечатление, что специально дожидался Берздин, чтобы в суде арестовали негодяя… Глазкина! Выходит, он об авторитете партии забыл? На общее посмешище выставил подлеца, а о партии не подумал? Позором её заклеймил?
— Разберёмся, товарищ Сталин…
— Разберитесь! Только и у вас с запозданием всё получается… — вождь зашагал от них к столу и тяжело присел в кресло. Загасил трубку и, помолчав, спросил: — Кто там у нас?
— Носок-Терновский, товарищ Сталин, — приблизился к столу Молотов.
— Носок?.. Да ещё Терновский… Ещё один дворянин?
— Товарищ Носок-Терновский из рабочих… — начал было оправдываться Молотов, в своей папке принялся копаться, но пальцы дрожали, не слушались.
— А вы уверены? — покосился на него вождь. — Тщательно проверяли, прежде чем назначить? Я замечаю, с некоторых пор графья у нас в писателях, вшивые интеллигенты в наркомах, сами пьески для сцены пописывают, вместо того чтобы делом заниматься, а публика хохочет в открытую над ними… Что ни аппаратчик, так какой-нибудь Даргомыжский-Корсаков! Не заметим, как докатимся до Тяпкина-Ляпкина… А, товарищ Молотов?..
— Носок-Терновский назначен на должность в то время, когда я был болен, — Молотов съёжился, оставил в покое папку.
— Я в командировке был на Украине… По вашему поручению, товарищ Сталин, — выдавил из себя Каганович. — Вячеслав Михайлович действительно лежал в клинике. Мария Ильинична Ульянова председательствовала в том заседании. Её ошибка…
— Поздно теперь виновных искать, — поморщился Сталин. — Надеюсь, с этим ничего не приключилось?.. Приглашён на оргбюро Носок-Терновский?
— Конечно! — напрягся Каганович в ожидании приказа.
— Вот и отчихвостите его! Дайте соответствующую оценку его работе, чтоб другим неповадно было. Не успел уехать один, новый всё завалил. Вот ваш подбор кадров, товарищи дорогие, — Сталин махнул рукой, давая понять, что разговор закончен, но вдруг, будто вспомнив что-то, пристально глянул на Кагановича.
— Прежний секретарь как?.. Герой?.. Который город спас от наводнения?..
— Странников?
— Вот-вот.
— Во Владивосток попросился, — Каганович отвёл взгляд.
— Чего это вдруг? Не прижился у вас?
— Он не у меня. Он почему-то в военный отдел был направлен… инспектировать… В общем, не по профилю, рыбак ведь. Съездил с инспекторской проверкой на Дальний Восток, невольно столкнулся там с проблемами рыбной промышленности. Недостатки выявил, секретаря мы тут же перебросили в другое место, искали замену, но Странников изъявил, так сказать, желание остаться там секретарем, самому поправить ситуацию на промыслах.
— Всё изложил? — вождь недоверчиво впился тигриными глазами в Кагановича. — Не скрываешь?
— Предполагаю, что имеется ещё одна причина, товарищ Сталин, — напрягся тот так, что скулы свело. — Знает он, конечно, про всю эту эпопею в Астрахани, переживает, что слаб оказался его преемник, не справился. Борьбу с кулаками ему ещё самому пришлось начинать, а этот завалил да гнойник развёл. Вот он и мучился. А тут подвернулся Владивосток, там с рыбными промыслами тоже прорехи, он вроде загладить вину туда и попросился.
— Испугался ответственности, значит? — Сталин так и не отводил взгляда. — Той свары, что после его отъезда в Астрахани началась?
— Может, и испугался. Решил искупить вину трудом в самой окраине.
— Докладывал мне Ягода, что любит выпить ваш рыбачок…
— Был грешок, жена к тому же его бросила.
— Это не повод. Сам он тоже чужими бабами не брезговал.
— И это было. В Москве на другой женился, повёз и её с собой во Владивосток.
— Ну-ну… — Сталин наконец отвёл взгляд, вздохнул свободнее и Каганович. — Ты в Оргбюро председательствовать будешь, вот и разберись во всём. А товарищ Молотов поможет. Справитесь без меня? — вождь изобразил улыбку без радости.
— Так точно, — поспешил заверить Молотов и уже за порогом кабинета потянул из рук Кагановича папку. — Лазарь Моисеевич, позволь поработать с делом? Некоторым вопросам не уделил должного внимания, не задержу, до начала Оргбюро возвращу.
— Да что с ними работать, Вячеслав Михайлович? — вытер пот со лба тот. — Иосиф всё растолковал и без бумажек. Ему же подхалим Иегуда всё изобразил в самом худшем виде! Опередил он нас и здесь. Придурок Густи с докладом постарается. Я его предупредил, чтоб как следует врезал тому дворянину.
— Ну, какой он дворянин, Лазарь Моисеевич? — вздохнул Молотов. — Я, конечно, проверю лично, но Носок-Терновский пролетарского происхождения, с фамилией его, конечно, странная особенность…
— Нет нужды теперь этим заниматься, — оборвал его Каганович. — Иегуда раньше вывернет ему внутренности. Если и не знал ничего про своё дворянское происхождение, то все вспомнит.
— Вы это всерьёз?
— Мне не до смеха. Заседание Оргбюро на носу. Не верю я, что Иосиф на этот раз долго с военными задержится.
— Думаете, успеет и к нам?
— Не сомневаюсь. Уж ты мне поверь, Вячеслав Михайлович.
II
Тяжёлым взглядом окинув зал, который в этот раз был полон — ни больных, ни выбывших в командировки, Лазарь Каганович открыл заседание Оргбюро, словно продолжая разговор с вождём. «Именинники»-волжане жались тёмным пятнышком в первом ряду. Явно тяготившийся соседством докладчик, финн или эстонец, он же глава проверявшей комиссии, лишь был объявлен, пробкой выскочил на трибуну, нервно закашлялся, прочищая горло, и повёл косноязычный рассказ, как продались контролирующие органы советского аппарата в Астрахани, превратившись в агентуру частного капитала.
Хотя читал по написанному, отведённого времени докладчику не хватило, и Густи попросил дополнительные десять минут. Хмурясь, Лазарь поставил на голосование, возражений не последовало, но докладчик вдруг начал вспоминать, что несколько лет назад Оргбюро уже слушало вопрос о состоянии Астраханской парторганизации и тогда товарищ Молотов в своей речи указывал именно на зияющий пробел в борьбе с наглым вторжением нэпмана в рыбный промысел.
Молотов побагровел, невольно крякнул; Густи, смекнув, что ляпнул несуразицу, смутился, сбился с текста, отсебятина его прозвучала особенно некстати:
— То есть я должен с сожалением констатировать, что с тех пор в этом отношении ничего не изменилось. То преступление, которое мы наблюдаем теперь в вопросах разложения соваппарата, имеется и в политическом руководстве организации…
«Круто, круто замутил, чудило! — закусил усы Лазарь, кинул взгляд на заёрзавшего на стуле Молотова. — Русским языком не владеет, ещё полбеды, но сдуру наговорит такого, что потом не расхлебать. Кого критиковать-то взялся?»
До заседания Густи забегал к нему, Лазарь втолковывал секретарю, на чём заострить внимание, а что приглушить, не выпячивать на всеобщее обозрение: в зале люди разные, могут быть и скрытые оппозиционеры, им только дай о просчётах да ошибках потрепаться, из мухи слона раздуют.
Теперь же выходило, что секретарь крайкома не проникся глубиной его поучений и, перепутав, понёс ахинею. Что Молотов-то подумает, он же видел, как тот нырял к нему в кабинет?..
«А может, собственную задницу спасает, подлец? — мелькнула запоздалая злая мысль. — Но получится, что в первую очередь себя же и хлещет. Куда сам смотрел, если Молотов даже тогда ему грозил? Крайком обязан контролировать работу подчиненных, поправлять нижестоящую организацию. Высек себя, как та вдова!..» Так и хотелось крикнуть, остановить докладчика: «Что несёшь, глупая голова? Или шкуру спасаешь, негодяй! Кого ж ты топчешь?»
Но Густи, опять не вписываясь во время, спешил, виновато крутил шеей в сторону председателя, одного боясь, — оборвёт. Прерывая его, Лазарь задал успокаивающий вопрос:
— Вы объясните, как масса, как актив партийной организации реагировали на безобразия?
Вопросик-то простой, спасительный, рядовому партийцу понятный. Но Густи снова понесло не в ту сторону:
— Это правый уклон! — вдруг рявкнул он, багровея. — Они там все заражены! И актив, и масса! А бюро комитета и секретарь товарищ Носок-Терновский зажимали самокритику… На последней партконференции до меня дошли слухи, что он запретил своим аппаратчикам критиковать «домашние» дела!
«Закапывает, стервец, бедолагу! Может, кошка между ними пробежала? Свара скрытая началась, а нам неизвестно здесь, в центре, ничего о тихом гадюшнике?.. — Лазарь метнул взгляд на Микояна. — Откуда ветер дует?»
Тот понял, ответил, не особенно рассуждая:
— Головы придётся сечь обоим. Чтоб не выкручивался.
А Густи, осмелев, решительно расставлял точки:
— Заканчивая, хочу подчеркнуть, что политическое оздоровление Астраханской парторганизации требует самых жёстких мер прежде всего к её руководству!
В зале активно задвигались, зашептались, даже выкрикивали что-то. На слуху ещё были Шахтинское дело, Смоленское. Назревал новый, к тому же нежданный, скандал. Пресекая шум, Каганович жестом руки вызвал на трибуну Носок-Терновского, предоставляя слово для объяснений.
Видел его впервые, поэтому задержался; стоя, пристально и с интересом рассматривал, пока тот неторопливо, без видимого волнения по-медвежьи косолапя, пробирался по расшумевшемуся залу.
Невысок, кряжист, широк в груди, с сильными длинными руками — дубок. «Мал да коряв, — вспомнилось Лазарю слышанное где-то. — Такие лобастые упрямые коротышки тщеславны и болезненно самолюбивы. В обиду себя не дадут и в драках горазды. Высоко по служебной лестнице способны забраться, но надеются только на себя, поэтому друзей и товарищей крепких не имеют, как бабы красивых подруг. К интригам в политике не приспособлены, на брюхе надо ползать, а гордецам это претит; к тому же страдают порядочностью, из-за чего раньше других в дерьмо попадают или, хуже того, гибнут. Вот и этот — какой из него рыбак, знаток рыбной экономики?.. Ему сваи в землю бить, рельсы укладывать, на худой конец в цирке публику потешать гирями, силища-то так и прёт, а растоптал его за несколько минут шибзик заикающийся Густи…»
Лазарь всё больше злился и, уже не замечая, кусал не усы, а губы, вспоминая, как, не скрываясь, подхалимничал Густи в кабинете. Тогда уже, будто предчувствуя, болела душа — отколет вертихвост какую-нибудь штучку, но размяк тогда Лазарь, по-барски взирая на раболепствовавшего… Твёрже надо было с ним, жёстче, за уши уже там тряхнуть, а не либеральничать. Но больно в глаза лез да в блокнотик гениальные его поручения чиркал. Вот и начиркал… Вернее, начирикал… Нагадил этот голубь и на подчиненного своего, и товарищу Молотову осмелился напакостить…
Между тем Носок-Терновский уже добрался до трибуны, крепко обхватил её лапищами, попробовал на прочность, качнув слегка, чем тут же вызвал сочувствующий смешок в зале — издревле на Руси жалели людей, идущих на казнь, нашлись в зале и такие.
— Не боись! — крикнул кто-то с иронией. — Не сломаешь.
— Я прошу тишины! — пресёк Лазарь весельчака, не хватало, чтобы в потеху серьёзное дело обратили, и этим резким окриком, словно кнутом, оборвал в глубине собственного нутра забродившиеся было крохи симпатий к главному ответчику.
Чувствуя это, тот виновато улыбнулся председателю:
— Десятью минутами не обойдусь. В сообщении товарища Густи имеются некоторые неточности, я бы сказал, искажения, поэтому я бы попросил дополнительно минуты две-три.
— А вы постарайтесь! — безжалостно оборвал его Каганович. — Много лет не хватило, чтобы организовать работу как следовало, под носом врага не разглядели да спрятать прорехи пытались, попробуйте теперь найти силы честно покаяться перед партией! Оргбюро самое для этого место. На это времени хватит.
Заскребло на душе от собственных слов, но так было лишь, когда произнёс первые, а секундами позже приученный организм одревенел, застекленели глаза, захолодел разум.
И тот, у трибуны, приметил изменения. Он, видно, здорово готовился к этой ответственейшей в его жизни минуте, может, ночей не спал, выстрадал каждое слово, но открыл рот и говорить не смог. Зал онемел, тоже не ожидая такого от здоровяка, только что смелыми искорками глаз завоевавшим у некоторых доверие. Выручил стакан воды, не нужный никому на краю трибуны и раскалявшийся от напряжения в зале. Хлебнув и уже не останавливаясь, пока не осушил до дна, Носок-Терновский обрёл себя, заговорил, но чувствовалось, что сыграли свою роковую роль обрушившиеся на него только что обвинения. Нудно и тяжело оправдываться начал, говорил невпопад, взмок пиджак на спине, и раньше положенного завершил он речь, совсем тихо упомянув, что задолго до его прихода в губернию, увяз аппарат контролирующих органов во взятках, что только при нём начались аресты зарвавшихся чиновников и разоблачения махинаций, однако, как и предполагал Лазарь, не унизился до крайности, фамилия предшественника в зале не прозвучала.
После Носок-Терновского должны были начаться прения, однако желающих выступать не находилось, поглядывали на Молотова, его задел докладчик и некоторые думали, что тот не замедлит дать отпор и начнёт атаку на «именинников», поддаст жару своим выступлением. Но Молотов будто дремал, не подымая своей большой головы, оставаясь безучастным. Кажущееся спокойствие старшего партийного бойца было хорошо знакомо Лазарю: прекрасный оратор и опытный стратег в подобных схватках Молотов ударит в самый нужный, скорее всего, в заключительный момент, когда выговорятся и выдохнутся противники, утратят способность изворачиваться и защищаться.
Каганович незаметно подмигнул Микояну — старому дружку терять нечего, он мог бы слегка «раздуть костёр». Но Микоян славился тонким чутьём на тёмные дела, он не любил, чтоб его держали за несведущего ваньку-встаньку, и крайне осторожно вёл себя в начале любой внутрипартийной драки, заранее не посвящённый в вопросы: кто имеет главный интерес, и кто безусловно должен победить. В этой истории с волжанами он не предчувствовал столкновения высоких сил, иначе Лазарь или Молотов его бы заранее предупредили; вопрос был рядовым, проглядывался, что называется, невооружённым глазом, но очевидная странность тоже была заметна: на бюро не был приглашён прежний секретарь губкома Странников, во времена которого обнаглевшие нэпманы взятками подминали под себя соваппарат, не был Странников ни разу упомянут и прытким докладчиком, замахнувшимся даже на самого Молотова, промолчал Носок-Терновский, которому явно было чем оправдаться.
Всё это вёрткий в кремлёвских интригах Микоян подметил сразу, хотя ни Лазарь, ни Молотов его в свои помыслы не посвящали: прошлое Странникова стало закрытым для всех, лишь Сталин после победы над наводнением перевёл его в аппарат ЦК, где тот быстро был избран членом Центральной контрольной комиссии — высшего контрольного органа партии и обрёл право самому проверять каждого провинившегося партийца, независимо от ранга. Микояну, конечно, было известно, что спустя непродолжительное время Странников почему-то сам попросился на Дальний Восток, якобы изъявил горячее желание поправлять ситуацию в известной ему рыбной промышленности, но это были лишь лёгкие шероховатости, в Кремле у него остались крепкие связи, чего стоили один Каганович или Богомольцев в аппарате ЦК!..
Поэтому, все же попросив слово, Микоян был краток и лаконичен. Он начал с негодования по поводу бывшего ещё у всех на слуху Смоленского дела. Возмутившись, что астраханское руководство, по словам докладчика, зажимало самокритику, он высказал предположение, что само собой, там, конечно, и «смоленскому нарыву» не уделили должного внимания. Между тем в Смоленск выезжала специальная комиссия ЦК, появилась резолюция ЦКК, в газете «Правда» было опубликовано несколько статей, которыми всем парторганизациям следовало тщательно проработать ситуацию, так как свыше ста руководящих работников губернии были исключены из партии и сняты с работы. Готовится постановление секретариата ЦК ВКП(б), рекомендовано сделать выводы из позорного опыта, с удовлетворением закончил Микоян и преспокойно возвратился на своё место с чувством выполненного долга под неудовлетворенные взгляды взбешенного Кагановича.
В зале понимали, что главное впереди…
Лазарь с надеждой оглядывал ряды, будто не замечая дёргавшейся вверх руки Назарова. Кроме него присутствовали другие члены Центральной контрольной комиссии. Однако прятал голову опытный Викенин. На него и молодых Лазарь не надеялся — плохо знал, а бывшие из «ленинской гвардии», проверенные не раз, как например, чекист Петерс, значились уже на вторых ролях. Тот многое мог бы рассказать: как несколько раз выезжал в Астрахань подавлять контрреволюционные мятежи, мог просветить и насчёт незаурядных эксцессов в 19-м, 20-м и в 23-м годах, когда высокодолжностные партийцы кончали жизнь самоубийством, но кого в зале заинтересуют теперь его инсинуации?.. «Дам-ка я ему слово в конце, после этого пустобрёха…», — подумал Лазарь и остановил наконец свой взор на Назарове. Тот подскочил, будто боясь, что Каганович передумает и попытается его остановить. Молотов покачал головой, Микоян лукаво прищурился, весь в любопытном ожидании. Назаров завладел трибуной, размахивая кучей жалоб в руке, выхваченной по пути из кармана. Чего только в витийствовании его не было услышано: и коллективное пьянство, организованное Странниковым во время поездки на пароходе с немецкой делегацией, и недельные запои вместе с бывшим председателем губисполкома Арестовым, и хождение по «домам весёлых знакомств», и откровенное содержание в любовницах бывшей председательницы женсовета, и развод с женой… Одним словом, полное моральное разложение.
— …Неслучайна эта история в Астрахани, — переведя дух, Назаров готовился делать выводы, но был перебит председателем.
— Я вижу в руках у вас письма анонимных авторов, — сухо, со злой иронией подметил Лазарь, отвечая мстившему противнику той же монетой. — Вы так и не выехали на место, чтобы розыскать людей, встретиться с ними и проверить?.. Молчите… Значит, засосал вас кабинет, а ведь с народом надо общаться! Обогащает, знаете ли, тогда правда наружу сама лезет. А вы нам непроверенными пасквилями в нос тычете!
Собрав бумаги в единую пачку и зло сунув в карман, Назаров двинулся с трибуны, как побитая собака, шепча про себя:
— Их если и найдёшь, ни один язык не высунет, только в органы ГПУ или в Кремль тащить. Зажим критики, все здесь слышали от Густи…
— Бороться с недостатками следует, привлекая сознательные массы! — загонял в него последние ядовитые гвозди откровенного издевательства Лазарь. — Ленин учил так поступать. В массу опускайтесь, товарищи, тогда не будет ни шахтинских дел, ни смоленских нарывов, ни астраханских гнойников!
И предоставил слово не ожидавшему того Петерсу. Но старого чекиста и ночью разбуди, он ухо подушкой не прикрывает и палец на курке держит. Когда он поднялся на трибуну не хуже молодого, подтянутый, сухой да стройный, зал зааплодировал, а Петерс, гася аплодисменты, небрежно коснулся седины у виска и произнёс строго:
— Он пьяницей не был, его затравили.
В зале зашумели, слышалось разное:
— Какой мужик бутылки в руках не держал, да ещё с немецкой делегацией! Немцы, они пуще нас хлещут!..
— Да по Волге небось на пароходе!..
— А баба его сама бросила! Тут запьёшь!..
— Со своими-то не погулять! Вон Коллонтай по молодости какой была! Ей с мужиком переспать, что стакан воды хлопнуть. Сам Ленин её критиковал…
— Сам критиковал, а сам…
Встал Смирнов, нарком земледелия, его уважали, примолкли немного.
— Погодите, товарищи, — извиняясь, глянул на председателя. — Я Странникова давно знаю, считай, аж с 1925 года, ещё по Саратову. Энергичный, деятельный партиец. И никогда не был замечен в пьянстве, тем более, жена у него была красавицей…
— То когда было! — перебивали его.
— Жили они душа в душу, — не сдавался нарком. — Другое дело, уступала она ему по партийной линии, но выдержанная, культурная женщина.
— Вот и бросила его, потому что культурная!
— Погодите, погодите, — нарком стоял на своём крепко. — Не горячитесь, не дело в грязь хорошего человека втаптывать. Тем более, слышали, что Назаров с непроверенных жалоб анонимщиков ахинею нёс.
— Какую ахинею? — вскочил взбешённый Назаров. — Выбирайте выражения, товарищ нарком!
— Я для этого и встал, — гордо повёл головой в его сторону Смирнов. — Не терплю, когда в моём присутствии поносят имя достойного члена партии. К тому же Странников продолжает оставаться членом Центральной контрольной комиссии. Его никто не вывел.
— И не собирался, — с места выкрикнул кто-то.
Лазарь, хотя и поглядывал на него Молотов, не торопился мешать этой внезапно вспыхнувшей перепалке. Такой жаркий спор — это тоже высказывание мнений, считал он, только при этом, не замечая, стороны выказывают вгорячах своё истинное лицо, после сожалея.
— Погодите, товарищи! — снова повысил голос Смирнов, так и не присев. — Я хочу проанализировать не сколько сменилось в Астрахани секретарей, а констатировать, почему убрали того или другого? Муравьёв ушёл после скандального дела, его затравили, а соответствующие организации не сумели помочь ему. По поводу другого секретаря ездила в 1926 году особая комиссия.
— Эта поездка была специальной! — выкрикнул с места Назаров. — По рыбному вопросу.
— Вот, — удовлетворённо кивнул головой нарком. — Насколько мне известно, та комиссия формировалась Совнаркомом, она проверяла взаимоотношения государственного сектора с частником именно в рыбной промышленности. И обсуждался вопрос потом в Совнаркоме, но каких-либо серьёзных выводов сделано не было, а Странников оказался не при чем.
— Я и говорю, что прозевали гниль! — снова с места крикнул Назаров. — Ведь в Астрахани нет такого человека, который бы не говорил об этом и который бы об этом не знал! Сложилось впечатление, будто Странников буквально спас город от наводнения, а на деле с его стороны было беспробудное пьянство с женщинами, спасли город рабочие, простые люди…
— Полноте! — поднял руку нарком. — Рабочий класс, товарищи, всегда впереди, но в каждом деле нужен лидер! Утверждая, что в Астрахани всякая ворона знала о безобразиях, вы, товарищ Назаров, чересчур агравируете. Очевидно, что партийная организация, куда попал товарищ Странников, уже была нездорова. Не повторяясь, скажу, до него там сменилось три секретаря губкома. Муравьёва сняли после самоубийства какого-то партийца на бытовой почве… кажись, по пьянке… Нечего сюда и товарища Молотова приплетать!
Подал наконец голос и Петерс от трибуны, устав от бездействия:
— Странников угодил в порочный актив. И актив его заглотил. Я считаю, что товарищ Каганович совершенно правильно поставил вопрос насчёт причин «астраханской истории». Только докладчик, товарищ Густи, не смог на него ответить. Эта история началась не в 23-м году, когда сняли Муравьёва, а поставили Странникова. Я помню ещё в 19-м и в 20-м году там были свои истории, которые доходили до перестрелки. В 1923 году действительно застрелился член партии Фокин, в Астрахань выехала комиссия под моим председательством.
Петерс закашлялся, и зал, увлечённый его неторопливым повествованием, притих, дожидаясь. Постепенно успокоились, расселись повскакавшие с мест.
— Ещё тогда выпивки среди членов партии не были чрезвычайным событием, а я бы сказал, были необычайно частыми. — Петерс потёр виски, словно вспоминая. — В то время ещё не было местной сорокоградусной и чтобы её достать, пользовались услугами контрабанды.
Снова зашумели, посыпалаись разномастные подсказки по этому поводу. Кто-то выкрикнул, смеясь:
— Что тут размусоливать? Был там в губкоме некий товарищ Мейнц, тот прямо заявлял: «Город наш портовый, моряки, рыбаки погулять любят, поэтому и заразили всех пить без меры! Усмирять или перевоспитывать — только портить…»
Но Петерс словно ничего этого не слышал. Старый чекист гнул своё:
— Товарищ Муравьёв снят был не за пьянство. Его сняли за то, что он в течение трёхлетнего пребывания в городе слишком ужился с астраханскими недостатками. Товарищ Каганович так же прав, когда говорил о причинах «истории», ставит её в связи с отсутствием там настоящего пролетариата. Там есть матросы, рыбаки, много приезжих из разных мест. Астраханский порт, где все встречаются, выпивают на этой почве и пропивают накопленные средства. Это и есть благодатная почва, на которой рождается люмпен и разные художества в виде домов свиданий мадам Алексеевой…
Петерс вздохнул, заканчивая, но, видно, вспомнив о главном, добавил:
— А назначение товарища Странникова на должность секретаря губкома я проводил. Не скрою, тяжёлой была конференция. Не хотели местные его принимать.
— Его не хотели там принимать по другим причинам, — уточнил Каганович.
— Конечно, по другим, — согласился Петерс. — Местные боялись, что придёт свежий, чистый человек и весь их разложившийся актив сметёт к чёртовой матери! Но не сладил… Не разметал гнойник…
— Так это ты его привёл? — раздался вдруг жёсткий голос известного всем человека, голос, на который все разом обернулись.
Не было сомнений — в дверях стоял Сталин.
Когда он появился, как долго стоял там, у дверей, никто не знал. Каганович, всё время ловил себя на предчувствии, что это случится — Коба тайком объявится на заседании Оргбюро, причём Лазарь не сомневался — в самый острый момент. И вот это произошло. Но Петерс не смутился.
— Мне пришлось сильно постараться… защищать его… И только после очень трудной борьбы Странников был избран, но деловых отводов, по которым можно было бы его отвести, не выбрать, не было.
— Это твоё твёрдое слово, товарищ Петерс? — Сталин впился в чекиста пронизывающим взглядом.
— Я перед вами никогда не лукавил, товарищ Сталин, — последовал ответ.
В зале воцарилась тишина. Все замерли в ожидании продолжения.
— Проходите к нам, товарищ Сталин, — поднялся Лазарь. — Вы как раз кстати. Старому партийному руководству нашей Волги мы предъявляем претензии, что оно во главе со Странниковым не заметило намечающегося разложения советского аппарата, нынешнее руководство Носок-Терновского мы обвиняем в том, что оно видело гниль, но не боролось…
Сталин прошёл в зал, Лазарь освободил ему место, сам устроился рядом и предоставил слово Молотову.
— Астраханская организация, — начал тот, заметно волнуясь, — относится к таким организациям, где на слабость партийной работы ЦК не раз обращал внимание. Мы никогда не относились к ней, как к сильной организации, на что имелись серьёзные причины. В 18-м и 19-м годах там часто менялась власть: белые на красных и обратно.
Сталин косо глянул на Молотова:
— Рабочие дрались за свою власть.
— Участвовали в этом и рабочие, товарищ Сталин, — не смутился тот. — Но в Астрахани их было мало, недостаточно и сейчас. Несколько судоремонтных заводов, а прочие — рыбаки да кустарщики с полукрестьянским элементом. Преобладают же середняки, поэтому почвы для роста собственных кадров не имелось. Вот и возили мы туда для руководства чужаков, а актив был подпорчен нэпманами. Не приживались новички, засасывал их гнойный актив.
— И Странникова?
— Странников был сильнее прежних, но и ему пришлось туго.
— Раз было туго, надо было чистить.
— Это вовремя сделано не было, товарищ Сталин. Вы правы.
— Значит, чистить надо сейчас, — оборвал зло Сталин. — Если завелась гниль, ведущая к правому уклону, следовательно, пора начинать великую чистку, которой подвергать каждого партийца и работника советского аппарата. И вас, товарищ Молотов, и вас, товарищ Каганович, и меня!..[55] Ничего в этом страшного и позорного нет. Наши ряды приобретут более стойких бойцов! А партия закалится как сталь!
Сказал последнее слово, хлопнул по столу кулаком и встал, объявляя тем самым окончание затянувшегося заседания Оргбюро.
Все поднялись. «Раньше пели “Интернационал”, — вспомнилось вдруг Лазарю. — С некоторых пор начали забывать, потом вовсе перестали. То ли уставать начали, то ли публика переродилась…»
Сквозь тяжёлые занавеси с улицы пробивалось хмурое утро.
III
В безоблачной карьере старшего следователя Борисова тот день стал поистине чёрным, а мог закончиться и вовсе плачевно, не вступись Отрезков за любимчика перед разгневанным Берздиным. Рисковал головой, набравшись смелости, или собственный зад защищал — не это теперь главное; смирился прокурор края, только учуяв логику в злых рассуждениях подчинённого; горькой, конечно, его правда выглядела, однако доводы казались верными: не в крайпрокуратуре виновных следует искать, не среди следователей, а наверху, среди лиц повыше рангом и полномочиями. Уголовная квалификация астраханского гнойника не один месяц занозой торчала на виду, а единства мнений по поводу юридической оценки событий так и не было достигнуто в прокурорском — шестом отделе Наркомюста, хотя по этому поводу вызывался Берздин туда не раз. Заседали, жарко спорили едва не до драчки. И в высоких кабинетах большие личности к единому мнению не пришли. Сам Крыленко[56] не находил признаков идентичности астраханских событий с Шахтинским или Смоленским делами.
Дважды обсуждался вопрос в аппарате ЦК, но и там не прозвучало других обвинений поволжским партийцам, кроме как в упущениях, позволивших развиться таким гидрам головотяпства, как взяточничество и халатность чиновников торгового и финансового отделов.
При таком раскладе в центре ни Берздин, ни Отрезков и мысли не допускали о собственных ошибках, подгоняло их начальство, критиковало за волокиту, а они, в свою очередь, наседали с кулаками на следователей, хотя лучшие свои кадры бросили на это дело не без ущерба для других участков работы.
Что греха таить, и Борисов ждал не того… Он был уверен в высокой награде или в заслуженном поощрении, на худой конец, ждал повышения по службе, так как жадно мечтал о должности старшего помощника крайпрокурора, корпя над последними штрихами объёмнейшего обвинительного заключения, которого до сей поры сочинять не приходилось. Подумать только!.. Сто двадцать девять арестантов значилось в его списке обвиняемых. Такого количества не было ни по знаменитому Шахтинскому делу, где фигурировали лишь 53 инженера и техника прогнившей буржуазной интеллигенции, ни по Смоленскому, когда было осуждено и того меньше.
«Нет, удача сама идёт в руки и упустить её никак нельзя!» — шлифуя и оттачивая каждый уличающий обвинительный факт, подталкивал себя Борисов. Порой он вскакивал по ночам, переделывал всё заново, подыскивая нужное место каждому доказательству, строил новые фразы так, чтобы светились, прозрачней стала вся сложная фабула обвинения. Старался, конечно, прежде всего для прокурора края; Берздину заранее объявили из Москвы, что ему поручено лично участвовать в выездном судебном процессе в качестве государственного обвинителя, хотя пришлют и своего из столицы. Такое допускалось по большим сложным делам.
Понимая всю важность, Борисов, тайком навестив Отрезкова, выпросил и убедил того, что вдвоём с Козловым им писать одно обвинительное заключение никак невозможно. Козлов хоть и товарищ, и коллега высокой квалификации, но не силён в творчестве, без которого не обойтись в деле такой категории, неминуемо начнутся споры, разногласия, что обязательно приведёт к вредной затяжке времени. Отрезков смекнул, что от него требуется, и, хотя Берздин поначалу возражал, аргумент — необходимо уложиться в сроки! — сломил его. Борисов был на седьмом небе от счастья. Козлов после этого, конечно, мешал, хорохорился и даже у всех за спиной звонил своим покровителям в Москву, жаловался, но после нескольких таких переговоров странно смирился, прикинулся больным и в последние дни пребывания в Астрахани перестал выходить на работу, а когда оба переехали в Саратов, и Борисов помчался с вокзала с готовым творческим трудом в краевую прокуратуру, Козлов слёг в лазарет, игнорируя святую обязанность показаться на глаза начальству…
Мог ли Борисов предполагать, что у Козлова на то были коварные причины?.. Мог ли о чём-то догадываться Отрезков, прожжённый и закалённый интриган?.. Да что там гадать! О готовящемся разгроме астраханского дела — «астраханщины», как теперь оно зазвучало у всех на устах, о внезапном появлении на заседании Оргбюро ЦК самого Сталина, расставившего все точки, мало кто раньше предполагал…
Напасть свалилась нежданно-негаданно.
К самому концу заседания в зале объявился Сталин, своим выступлением перевернул весь ход обсуждений, изобличил в контрреволюционном саботаже и вредительстве астраханских нэпманов и зарвавшихся аппаратчиков местного рыбного промысла, а прокуратуру, не сумевшую разглядеть опасного врага, обвинил в политической близорукости…
— Возмущения твои разделяю, — хмуро прервал рассуждения Отрезкова Берздин, — но кому они сейчас нужны? Будь мы с тобой на том заседании Оргбюро и тогда рта не осмелились бы открыть, не то, чтобы оправдываться. Поднял бы ты голос против Крыленко?
Спросил и не узнал собственного зама, дерзок стал его вид, преобразился тот, скулы заострились и лапища в кулаках похрустывают.
— Что ж, свою шею подставлять? — зыркнул он на прокурора. — На кой хрен они там нужны, если дельного совета от них не дождаться?
— Смел не в меру…
— Осмелеешь поневоле, когда припрёт, — Отрезков будто не слышал замечания. — Их позиция отражена в протоколах совещаний, на которых вы присутствовали. Это важный аргумент!
— Засунуть этот аргумент знаешь куда!.. — Берздин вскочил с кресла. — Чистку всем объявил Сталин! Рассказывал мне Богомольцев, что трубкой своей тыкал в Молотова с Кагановичем и во всех остальных. Здорово в раж вошёл.
— Раз так, то у нас есть время выправить положение.
— Что?.. Ты часом не свихнулся?
— Наоборот! — Отрезков, хотя и забледнел лицом, но держался отменно, поднявшись на ноги вслед за начальником. — Общую чистку ещё запустить надо. Вон, в Астрахани, намучились с ней, а так до конца не довели, только по верхам и прошлись. Сами знаете… А там партийцев да аппаратчиков с гульким нос по сравнению с нашим могучим отечеством. Организовать да обдумать надо множество вопросов: с кого начинать, за что браться?.. Пока наверху скумекают да потом обсуждать, спорить начнут по каждому пунктику, колесо не скоро завертится, а там и год пройдёт, а то и поболее…
— Твоими устами да мёд бы пить…
— А нам команда уже дадена, — продолжал увереннее Отрезков. — Мы ждать не станем. Сам товарищ Сталин указал нам правильное направление. Поэтому пусть Борисов ноги в руки хватает и несётся назад в Астрахань. Предъявит арестантам новое обвинение по статье 58-й Уголовного кодекса, как велено, а вам, Густав Янович, суд теребить придётся, чтобы не канючились с выездным заседанием. За месяц общими усилиями сварганим.
— Успеешь? — повернулся Берздин к Борисову. — Твой товарищ что-то расхворался. Докладывали мне, в лазарете лежит. Не холеру подхватил?[57]
— Сифилис! — сердито буркнул Отрезков. — Я вот в его болезнях разберусь! Странными они мне кажутся. Зачем-то в Москву недавно названивал без моего ведома… В каких консультациях нуждался? Не пронюхал ли заранее про шишки, что на головы нам свалятся? Тот ещё стервец!
— Был здоров, когда возвращались, — поддакнул Борисов. — Слёг уже здесь, как приехали…
— Разберёмся. — Отрезков взглядом уже гнал Борисова за дверь. — Я его на ноги мигом поставлю. А ты времени не теряй, сегодня же выезжай и про всё, что здесь сказано, помни. Теперь от тебя многое зависит. Каждый вечер по телефону связь со мной держи.
…Так в немыслимой спешке оказался Борисов снова в Астрахани. С перрона направился в ОГПУ, хотелось проверить, соблюдает ли Кастров-Ширманович договорённость, согласно которой семеро наиболее твёрдо сознавшихся во взятках арестантов должны были содержаться там, а не в «Белом лебеде». С них и собирался начать предъявлять новое обвинение старший следователь, не откладывая дела в долгий ящик. Они и на контакте, они первыми дали признательные показания, раскаиваясь, а кроме того, боялись мести и побоев подельников, из-за чего и просили содержать их до суда в ОГПУ.
Каково же было его негодование, когда их там не обнаружилось! Растерявшийся дежурный отрапортовал, что никаких указаний от начальства не поступало… Выходит, его снова нагло обманули! «Что же стало с бедолагами в общей тюрьме? — ударила страшная мысль в голову. — Их там замордовали, и они вновь откажутся от собственных признаний!..»
Он попытался отыскать Кастрова-Ширмановича. На него косились в коридорах, пока удалось добраться до нужного кабинета, но там его ждали неприятности ещё ужасней — негодяй Лисенко, тот самый, которого вместо заслуженного наказания перевели в Саратов с повышением, собственной персоной встретился ему на пороге, выходящим от начальника. Подло улыбаясь, раскланялся и на его немой вопрос ядовито сообщил, что рад снова вместе вести борьбу с преступниками за общее правое дело. Так и заявил, негодяй!
— Перевели назад, — развёл руками Кастров-Ширманович в ответ на яростное негодование следователя по поводу Лисенко. — С повышением. Уже начальником подразделения, а ваши обвинения снова сняты. Да, кстати, он сейчас будет проводить свидание двум вашим подопечным с их жёнами.
— Свидание?! — охнул Борисов и опёрся о спасительную стену. — Кому и по какому праву?
— Арестованным Попкову и Дьяконову. Вот, у меня их заявления и ходатайство журналиста, — он протянул бумаги следователю, выйдя из-за стола и наклонившись к уху, доверительно прошептал с идиотской улыбкой: — Товарищ Кольцов посетил нас, Михаил Ефимович… Встречался в тюрьме с вашими арестантами: Степановым, Дьяконовым, Алексеевой, ну и с другими. Беседу воспитательную проводил. В «Правде» теперь будем ждать фельетона или подробного репортажа. Обещал лично мне номерок выслать со своим автографом.
— Журналист?! Кто разрешил встречу?
Кастров-Ширманович беспечно пожал плечами и снова улыбнулся: чего, мол, сердиться, это же не садисты-мокрушники или шпионы-изверги, обыкновенные взяточники; происходило всё в «Белом лебеде», там, у товарища Кудлаткина, вот его и расспрашивайте:
— Кольцов изъявил желание сфотографировать их всех на первую полосу газеты, — добавил начальник ОГПУ, — но Кудлаткин взмолился по поводу условий, у него ж там внутри чёрт те что творится, на стены смотреть страшно. Убожество! Учитывая просьбу самого Михаила Ефимовича, я выделил один из наших кабинетов. Лисенко поручил, тот побежал встречать привезённых арестантов. Просили-то свиданку они все, особенно Солдатов обнаглел, но я распорядился только двоим: Попкову и Дьяконову, интеллигентные люди, тихо ведут себя, всё понимают и, слышал я, вам не перечат, признают всё…
— Да как вы смеете! — от всего услышанного Борисов сорвал голос и вместо яростного крика из его глотки вырвались жуткий сип и сдавленное хрипение. — Немедленно прекратить это беззаконие! Следствием распоряжаюсь я! Я буду жаловаться крайпрокурору! В Наркомюст! Самому товарищу Ягоде!..
— Водички! Водички! — на секунду опешив, Кастров-Ширманович потянулся к графину. — Успокойтесь, товарищ Борисов, вы меня не так поняли. Речь идёт о том, чтобы просто сфотографировать. Здорово увязываться будет с предполагаемым названием фельетона: «Помпадуры и помпадурши»… Кольцов, всё предусмотрел: газета предоставит полную информацию о нашей борьбе с нэпманами с их приспешниками, фото — дополнит. Это же прекрасно!.. А свидание Лисенко проведёт под личным контролем. Ни одного лишнего слова не позволит! И зачем им полчаса? Пятью минутами обойдутся, раз вы против…
— Идиоты! — прокашлявшись, Борисов, обрел голос. — Доверять прохвосту? Я запрещаю! — И он бросился из кабинета. — Где Лисенко?
Пробегая коридорами, он скоро увидел двух женщин, жавшихся у стены под присмотром конвоира, с ними уже разговаривал Лисенко.
— Где?! — схватил его за китель на груди Борисов, едва не сорвав пуговицы.
— Тихо, тихо, товарищ следователь, — не без труда отцепил тот его пальцы. — Что вас так разволновало опять?
— Где журналист?
— Он ещё не подъехал. Выехал ещё вчера на низа, но задерживается. Мы договорились на… — Лисенко вскинул к глазам руку с часами, — на…
— Где арестованные? Привезли?
— У меня в кабинете. Ждут-с, — явно издёвка звучала в его голосе.
— Вон! — выдохнул Борисов со всей злостью, на которую был способен.
— Что? Кого вон? — вскинулся, вспыхнув, офицер.
— Этих!.. Дамочек вон! — махнул рукой Борисов, почти угодив кулаком в нос Лисенко. — Никаких помпадур и помпадурш! Ведите меня к арестованным!
И понёсся вперёд сломя голову.
— У меня приказ… — кинулся вслед Лисенко.
— Арестованными командую я! Всем здесь командую я, а не журналисты, пусть и знаменитые! Все приказы недействительны! Свидания отменяются!
Когда, рванув ручку двери, словно дикий зверь, он ворвался в кабинет, Попков и Дьяконов, вальяжно раскинувшись на стульях, болтали о чём-то своём. Испуганно вскочив, они притихли, переминаясь с ноги на ногу.
— Не ждали, господа преступники? — не скрывая злорадства, ощерился Борисов и, по-хозяйски усевшись за стол, взмахом руки отогнал арестантов совсем к стене. — Со свиданьицем!..
Также бесцеремонно сбросив на пол всё со стола, он вывалил взамен содержимое своего портфеля, постановления, заготовленные ещё в поезде, судорожно отыскал нужные, вскинул голову:
— С кого начнём?
Попков и Дьяконов угрюмо молчали, понимая, что внезапный визит взбешённого следователя ничего хорошего им не предвещает, их словно схватили за руки во время воровства.
— Кстати, — подбодрил Борисов, — свидания, неизвестно кем обещанные, мною откладываются на неопределенное время. При условии правильного вашего поведения все можно изменить… Я не прочь вести переговоры на эту тему, — мягче продолжил он, подобрев лицом. — Вам следует проявить разум и подписать необходимые бумаги. Сделаете это, и я гарантирую свидания с жёнами, которые приглашены и ждут вас в соседнем кабинете. Свидания будут, и не на полчаса… До утра!.. Наедине! Как?.. Принимается?
— Можно взглянуть на ваши новые бумаги? — с заметным сарказмом откликнулся первым Попков. — Сомневаюсь, что вы сулите что-нибудь хорошее.
— Хорошего отношения захотелось? — мрачно хмыкнул Борисов. — Вы вправе рассчитывать лишь на то, что заслужили. Добавлю, что всем, изъявившим желание сотрудничать со мной, сегодня же улучшат условия содержания, а будут просьбы — их переведут из тюрьмы сюда, в приёмник ОГПУ.
— Слыхали уже о ваших обещаниях, — буркнул Дьяконов. — Только, видать, их три года ждать надо.
— Осечка вышла… по недосмотру местного начальства. — Борисов через силу изобразил улыбку. — Поправим, а виновные понесут наказание.
— И про это слыхали…
Питал ли он сам надежды, что кто-либо из арестованных примет его условия, согласится с постановлением нового обвинения, грозящим теперь каждому смертной казнью?.. Борисов не был оптимистом и глупцом; конечно, в его практичном уме не было и капли уверенности, что его заверения кого-то тронут, но он исполнял поручение и уже прикидывал другие выходы из сложной ситуации, мучился в поиске изощрённых средств, способных склонить арестантов к невозможному.
Ещё до вечера он побывал в «Белом лебеде», вызвал на допрос десятка два человек. Не все держались стойко, психика многих уже была подорвана невыносимыми условиями содержания в тюрьме, тяжёлыми думами, постоянно угнетающими сознание о неминуемом суровом возмездии. До встречи с Борисовым у некоторых ещё брезжили какие-то иллюзии на снисхождение, поэтому новая беда — ужасная весть о страшной 58-й статье, внезапно свалившейся на головы, подкосила многих.
Схватился за бороду и застонал поседевший, преобразившийся за несколько месяцев в старца тридцатилетний красавец Кантер; упал на колени, ползал по полу и заливался слезами, словно ребёнок, тщедушный маленький еврейчик Блох, бесновался Солдатов, с нечеловеческой злобой бросаясь на стены головой.
Обессилив вконец и сам от всей этой чертовщины, Борисов, поздно вечером добравшись до гостиницы, звонил Отрезкову.
— Ни одна сука так и не согласилась подписывать? — после длительной паузы, последовавшей за коротким докладом, выругался тот в трубку. — Гнилым интеллигентом ты был, Борисов, так им и сдохнешь…
Даже отвратительная телефонная связь не смогла скрыть глубокого опьянения, в котором пребывал начальник:
— Верил я в тебя, а теперь думаю — зря! Менять надо тебе работу, а то сгинешь у нас… А жаль, мужик умный и надёжный… В адвокаты подавайся, вот тебе мой совет…
Борисов подавленно молчал.
— Но ты держись!.. Не скисай раньше времени, — чуя, что перегнул палку, закончил Отрезков. — Сам приеду, зэкам мозги вправлю. А пока жди Козлова, того морды бить непослушным учить не надо…
— Выздоровел? — без малейшего рвения поинтересовался Борисов.
— Он и не болел ничем, сукин сын. Притворялся да прятался!..
И разговор оборвался, лишь короткие нудные гудки ударили в уши, словно гулкие дальние звуки выстрелов.
IV
Козлов прикатил не один, за его спиной маячила неуклюжая фигура Громозадова с таким же громоздким саквояжем, как он сам. Ещё в прошлую командировку жалуясь, что насквозь просолился воблой, тот не поленился прихватить с собой домашних харчей. Забегаловок он брезговал и опасался по случаю слабого желудка, рестораны обходил, жалея денег.
— А каков с него толк? — бурчал и без того злой Борисов, зная, что у запасливого Демида куска не выпросить. — Морды зэкам бить, так дали бы лучше ушлого оперативника. Те — спецы. Ни один врач не определит от кулака или сам свалился.
— Ох, не в курсах ты, дорогой мой товарищ, — не без ехидства поклонился почтительно Громозадову Козлов. — Наш Демид Тимофеевич теперь в почёте у начальства после приговора Глазкину. Он — спец с особым поручением, которое известно лишь ему.
— Ты где остановишься, Демид Тимофеевич? — смутившись и подобрев, поинтересовался Борисов. — Опять в «Белом лебеде» у Кудлаткина угол снимешь?
Громозадов сделал вид, что не расслышал, возясь с саквояжем, подыскивая ему место.
— Может, ко мне? — не отставал Борисов. — У меня приличный номерок в гостинице, вместительный, и рядом товарищ Кастров-Ширманович; попрошу — койку поставит дополнительную… Вместе веселей. Не храпишь?
— Да не приставай ты к нему, — подмигнул Козлов. — Говорю же, у него особое задание.
— Уж не партийцев ли местных шерстить?
— Угадал, как пальцем в небо, — поморщился Громозадов, его действительно было не узнать, разительные перемены произошли во всём его облике. Сменился китель, подтянулся сам, да и прежней робости перед авторитетом обоих старших следователей не замечалось, он теперь уверенно размещал мощный зад сразу на двух стульях, краешка одного, как прежде, не хватало. Покачав кургузой головой, он обстоятельно обьявил:
— Я к Кудлаткину Ивану Кузьмичу опять попрошусь. Он теперь полным хозяином стал, подыщет мне, что получше, среди одиночек. Лишь бы окошком камера на солнечную сторону выходила — светлее писать. И удобства там полные. А главное — никуда ходить не надо. И приведут тебе на допрос, если попросишь.
— Но там же зэки… И эта вонь! — Борисов покривился. — Я неделю болею, если несколько часов там проведу!..
— Ко всему привыкнуть можно, — буркнул Громозадов. — Мы же простые люди. А буржуйские замашки за мной сроду не водились… Скажите тоже, вонь… Воздух застоялся немного, это да, но на то она и тюрьма, а не парк культуры.
— Ты говоришь, тебе чиновниками партийными поручено заниматься? Как же их водить станут?
— Ничего я не говорил, — Громозадов подхватил саквояж и заспешил на выход. — Сами с товарищем Козловым напридумали. Всё подсмеиваетесь… А партийцы или зэки, мне всё одно, сегодня он партийцем бегает, а завтра у меня зэком в камере отдыхает. Я приехал не в бирюльки с ними играть, умных бесед не любитель, как некоторые… Враг народа — к тебе и отношение соответствующее!
Когда за ним захлопнулась дверь, Борисов со значением взглянул на Козлова:
— Слушайте, коллега, пока вы ехали сюда в вагоне, ничего с Демидом Тимофеевичем не приключилось? — и он покрутил пальцем у виска. — Что-то изменился тихоня… Неужели успех по делу Глазкина так вскружил ему голову?
— Думай сам, но Демид уже не тот, — хмыкнул Козлов. — Откушивать его домашних харчей не надейся. И всё из-за вашей дотошности! Он чего возле саквояжа-то своего крутился?.. Он же нас угостить хотел, а вы его рассердили. И советую впредь, теперь берите пример с меня, обращайтесь с ним вежливо и культурно, ему, оказывается, нравится. А то, что такое?.. Демид-то! Демид — это!..
— Хорошо, — покачал головой Борисов. — Пошутили и будет. Отрезков, конечно, объяснил вам наши трудности, о которых мне пришлось телефонировать?
— Я лично в этом не сомневался. — Козлов потёр нос основательно и озабоченно. — Статья 58-я — это не детские игрушки, в которые мы раньше забавлялись. Я чуял, что так просто всё не закончится. Слишком легкомысленно взирали наши начальнички на вздувшийся гнойник! Тут все повязаны одной нитью: и нэпманы, и чиновники, и партийцы. Невооружённым глазом видно…
— Больно зряч задним числом.
— Твердил я тебе, методы надо менять, общаясь с этими контрреволюционными саботажниками, — пропустил мимо ушей замечания приятеля Козлов. — А ты с ними цацкался.
— Что ж, морды бить станешь?
— Понадобится, рука не дрогнет! — зло отбрил тот. — Только начинать ещё рано. Давай, как и прежде, поделим меж собой наших заблудших овечек.
— Вот-вот! — обрадовался Борисов. — С Солдатовым занимайся сам. Он вчера чуть стены в камере головой не проломил, когда я объявил ему о 58-й статье.
— Животное, — зло усмехнулся Козлов. — Его кулаком не проймёшь и револьвером не напугаешь. Подельники историю мне рассказывали, что случилось с ним перед самым арестом. Из Москвы возвращался он, а состав в железнодорожную катастрофу угодил. Несколько вагонов с рельсов слетело от столкновения с товарняком. Солдатов оказался как раз в том, который в щепки почти разнесло, трупы до вечера собирали, а его Бог миловал — сам на ноги поднялся и лишь царапинами отделался. Его в больницу везти, а он вырвался и как ни в чём не бывало на ближайшую станцию помчался, в Астрахань спешил из-за той причины, что, опоздай он, денежный куш утратить мог из-за незаключённой сделки. Во жадности какой зверь, смертельный страх его не взял!
— Успел?
— Успел, кабы не Турин. Тот его на перроне и взял. Прямиком угодил в тюгулевку.
— Турин, говоришь?
— Он самый.
— Толковый розыскник. О нём тоже всякую чушь брешут.
— Как же о нашем брате да не сочинить!
— Брешут, что смекалистых воров к себе в сыскари переманивает. Их знакомства и связи потом использует для ликвидации банд и неподдающихся авторитетов.
— С огнём играет.
— Был уже такой авантюрист по имени Видок. Париж мечтал от ворья очистил таким способом.
— У нас не выгорит, — хмыкнул Козлов. — Не той тонкой психологии наши жиганы. Им морду только бить, другой философии не признают.
— Говорят, получается у него с некоторыми… — Борисов уложил подбородок на ладонь, задумался.
— Ты всерьёз всю эту халабуду завёл? — вспыхнул Козлов.
— Сомневался я в нём поначалу здорово, а он мне неожиданно большую помощь оказал с несговорчивыми нэпманами да чиновниками.
— Вот я тебе их и отдаю, покладистых да гладих. Забирай Попкова, Дьяконова и остальных, дорабатывай с ними сам.
— Уже встречался. — Борисов отвёл глаза. — Упёрлись оба козлами! Особенно Попков. Дьяконов, тот вроде помягче, но про статью 58-ю как услышал, такую ахинею понёс… И ведь рассуждения вёл с экономической подоплёкой, тетрадку с таблицами различными вытащил, там у него и про выгоду, и про уловы, и про прибыль… Ну, сущий Адам Смит[58].
— Раз мягкий, с него и начни! — бесцеремонно оборвал увлёкшегося приятеля Козлов. — А сломаешь его, Попков тебе уже не понадобится. Дьяконов у него в шестёрках был, поэтому весь расклад про то, как они взятки делили меж собой, от новоявленного Смита и получишь.
— Ну какие шестёрки!.. Скажешь! Это ж тебе не уголовники… У них своя психология и понятия имеются…
— Не мели чепухи!
— Дьяконов заместителем Попкова стал, когда тот на повышение пошёл в Саратов. Долю ему возил, не обманывал ни на копейку.
— Это откуда ж ты такой информацией разжился?
— Есть источник, но легализовать не могу. Не из той цепочки.
— Вот так, значит?.. — Козлов сдержал обуявшую злость. — А делился, значит, Дьяконов с начальником по-братски?
Борисов кивнул, ругая себя, что сболтнул сгоряча лишнего.
— Да, тяжко будет его сдавать, понимаю тебя! — Козлов прищёлкнул языком. — Но раз Дьяконов такой впечатлительный и душевный, на высокой его нравственности и следует сыграть.
— Можно пояснее?
— Женат этот местный граф Честерфилд?[59]
— Женат. Ребёнок малолетний на руках и отец-старик.
— Так это ж прямо находка! — Козлов начал потирать руки от нескрываемого удовольствия.
— Что ещё взбрело тебе в голову?
— Удача! Удача, мой друг, сама тебе в запазуху лезет, а ты ни ухом ни личиком. — Козлов прямо-таки закружил, забегал вокруг приятеля. — Значит, делаешь так… У Кудлаткина берёшь одиночку. Пусть найдёт такую, чтобы вонь, сырость, крысы… В общем, у него для лиц, особо чувствительных, как твой Дьяконов, имеется ещё одна одиночка рядом — через стенку, только похуже…
— Да уж куда ещё… — подозревая неладное, запротестовал было Борисов.
Но Козлов оборвал его жестом руки:
— И лучше, чтоб была совсем без окошка. Свежий воздух ни к чему. И без света обойдутся. Ну, понимаешь…
— Это если угловую просить…
— Кудлаткин тебе услужит, здешняя Бастилия располагает таким счастьем, — торопился со своей идеей Козлов. — Если у тебя всё получится и Дьяконов сам заговорит, остальные зэки из торговых враз дрогнут, наперегонки с признанием проситься станут.
— Что ты задумал? — Борисову стало не по себе от ужасной догадки. — Что за представление?
— Всё в рамках закона, — схватил его за плечи тот и слегка встряхнул, успокаивая. — Просто в камеру, соседнюю с одиночкой Дьяконова, по твоему указанию Кудлаткин разместит всё семейство этого душевного отца. Дьяконова самого предупреждать и грозить ничем не надо: лучше, если будет сюрпризом. Переборки там сам знаешь какие, ночью тихо, вот он услышит всё, о чём и не догадывался. Пусть помучается ночами детскими воплями да бабьими криками вместо того, чтобы беззаботно храпеть. Уверен, забегает пуще крыс в камере.
— Но послушай!..
— Плохо соображаешь, мой дружок, или притворяешься?
— Но это же бесчеловечно!
— Не вижу ничего смертельного, — ухмыльнулся Козлов. — Не Фрейд ли утверждал в своих заумных рассуждениях о психоанализе, что страдания близких эффективнее действуют на личность, нежели причинение боли ему самому. Пусть всю ночь послушает крики своего дитятки, вопли любимой жены, проклятия старика отца… Что там у нас ещё по Шекспиру? Пусть испытает муки короля Лира.
— Лира-то приплёл к чему? — Борисов был необычайно бледен. — Считай меня кем пожелаешь, но не пойду я на такое!
— Делай, как велено! — оборвал его невнятные возражения Козлов. — Тебе же морды самому бить не этично?.. Кровь, боль… ручки опасаешься замарать. В тюрьме сказки зэки плетут, что перчатки на допросы надеваешь, значит, не верят, что не бьёшь им носы. Тюрьма есть тюрьма! Она за тебя сама все вопросы решит и, как ни ерепенься, чистеньким не выпустит. Если той же ночью или утром Дьяконов за тобой не пошлёт конвоира да в ножки с раскаянием не упадёт, значит, я ничего не смыслю в такой серьёзной науке, как тюремная психология! — Козлов захохотал и хлопнул Борисова по спине от избытка чувств. — Если вытерпит до рассвета, — с меня выпивка.
— Я не пью, — мрачно отвернулся Борисов.
— После такого запьёшь, — снова захохотал он, и Борисову показалось, сам дьявол, а не Козлов, разевает пасть и скалит клыки.
— А что ж тогда ты намерен учинить с Солдатовым? — поинтересовался Борисов, когда советчик несколько успокоился. — Помнится, в прошлый раз полной победы добиться тебе так и не удалось?
— Да, друг мой, ты прав, — поморщился Козлов. — Испытал тогда я полную конфузию. Не забуду, пока не сотру позорное пятно со своей биографии…
Козлов откровенно ёрничал и не сожалел, а разжигал в себе скрытую ярость, будоража незажившую досаду, обращая её в ненависть:
— Я тоже меняю стратегию. Поглядим, какое впечатление произведёт сегодня на него новый предвестник будущей смерти, раз крушение поездов его не испугало, — и он, выхватив из кобуры револьвер, резко крутанул барабан с патронами о жёсткую свою ладонь. — Выведу в коридор тюрьмы, отпущу конвоира и упрётся этот ствол в его жирный затылок. Как думаешь, задрожат его поджилки?
— Ты совсем спятил! — отпрянул Борисов, не сводя глаз с воронёного ствола. — Зачем тебе его смерть?
— Не пугайся, — продолжал зловеще покручивать барабан Козлов. — Убивать я его сам не собираюсь. Но вдруг случится попытка арестованного к побегу? Кликну охрану. Соображаешь?.. Лёгкая ранка, но возможно и всё!
И он опять захохотал неестественно и страшно, отчего Борисов поёжился.
— Сила ломает силу! — внезапно оборвал хохот Козлов, резким движением бросил оружие в кобуру на поясе и ловко прихлопнул кнопкой застёжку.
Такой лихости от него Борисов совсем не ожидал.
— В тюрьме, мой друг, всё может случиться, будь каждая дверь о десяти замках, — гримаса исказила и без того некрасивое лицо. — И смерть — не самое страшное. Есть подстава, то есть предательство, для авторитетного зэка — это пуще гибели.
Как ни путанны были речи Козлова, Борисов выводы для себя сделал немалые, но счёл лучшим промолчать. С тем они и расстались, озабоченные каждый своим, и вовсе не удивились, что утром следующего дня оба были подняты с постелей людьми начальника «Белого лебедя» по тревожным вызовам.
Козлову было передано на словах, что в камере-одиночке обнаружен повесившийся подследственный Солдатов, с которым старший следователь расстался накануне около полуночи после длительного допроса. Сообщили также о короткой записке, валявшейся там же, у покойника под ногами: «Признаюсь и каюсь!». Козлов хмыкнул, продрав глаза, идти в тюрьму отказался, сославшись на плохое самочувствие, отослал посланцев к прокурору. В связи с этим для осмотра трупа Фринбергом был вызван следователь Громозадов. Он же отписывал и постановление о том, что в самоубийстве заключённого Солдатова винить некого: повесился тот на крючке под лампочкой сам, связав собственный шарф и скрученную в несколько раз наволочку с подушки. Была высказана также версия насчёт причины трагического случая: брат Солдатова — один из двух оставшихся в живых, вспомнил, что Пётр тяжело переживал железнодорожную катастрофу, в которую угодил месяца три назад, отчего мог заболеть психическим неврозом…
А Борисова вызвали в тюрьму по другому случаю. Всю ночь буянил заключённый Дьяконов, стучал в дверь, оскорблял конвоира, звал начальника тюрьмы, а также его, старшего следователя, хотя Борисов среди дня заходил к нему на два-три часа, имел беседу и до обеда покинул тюрьму совсем. По этой причине Кудлаткин распорядился — Борисова не тревожить среди ночи. Если днём, при личной встрече, острой нужды для продолжения разговора Дьяконов не проявлял, — до утра ничего не случится. Борисов спокойно позавтракал и к обеду явился к Кудлаткину, куда привели и буянившего ночью арестанта. Там-то старшему следователю и выгорело: Дьяконов, правда, сапог ему не лизал, в ногах не ползал, однако все необходимые бумаги по статье 58-й подписал, тщательно рассказывал, как занимался взяточничеством под угрозами бывшего своего начальника Попкова и из-за нежной любви к жене, ребёнку и больному отцу, которых якобы трудно было содержать на одну зарплату.
Написал собственной рукой, как потребовал Борисов, листа два-три и, сославшись на головные боли от бессонной ночи, обещал более тщательно и подробно ответить на все вопросы в суде, попросив взамен выпустить родственников или хотя бы жену с малолетним ребёнком, на что Борисов объяснил, что для этого потребуется немало времени, и обещал подумать.
V
Нежданно оно приходит, это ощущение неотвратимой смертельной опасности. Заползёт змеёй со спины жуткое предчувствие беды, коварного заговора, безжалостного удара ножом, выстрела меж лопаток, яда, выпитого с этой вот чашкой остывшего чая…
Турин вздрогнул, отдёрнулась сама собой рука от чашки, встал из-за стола, замер. Один в комнате, а кажется, что в затылок с ненавистью уставился коварный враг, так и ждёт, когда ты зазеваешься, утратишь бдительность, беспечно расслабишься. Давно теперь так… С тех пор как застрелился по непонятной причине губпрокурор Арёл, хотя про смерть его не упомянули и слова, навели тень на плетень, будто вызвали к Берздину в Саратов за грубые недосмотры, а там перевели куда-то… Отравил Губина бывший начальник «Белого лебедя» Минуров при загадочных обстоятельствах, а кто про него плохого подумать бы мог? Всё татуировками уголовников увлекался, пудрил мозги, что этим с преступностью легче покончить. А сам?!. Отправил в могилу и себя твёрдой рукой, унёс с собой не одну зловещую тайну… Видать, жутко ему было бы ответ держать перед неведомым хозяином — хищной, ненасытной до человеческой крови крысой, забравшейся в самое гнездо милиции… Нэпман Солдатов, радовавшийся бытию даже в тюремной камере, не сдержал фасона, в петлю влез. Или затащили туда его?..
Что-то много смертей возле начальника розыска кружится, играет кто-то с ним слишком мудрёную игру…
А ведь закрутилась карусель, лишь появился в этих краях злодей Копытов, теперь уже нет сомнений, прибывший за деньгами Брауха. Неизвестно, был тот профессором стоящим или видимость рисовал, но владел он капиталами немалыми, один сейф его с секретами чего стоил, раз серьёзную озабоченность произвёл на Ивана Ивановича Легкодимова. Сдохли урки, осмелившиеся первыми завладеть тем, что хранилось за семью замками, один Корнет Копытов чудом уцелел по причине, что не прикасался к сейфу. Но он смертельную кончину в вагонной перестрелке нашел, а вот клад Брауха бесследно канул. Мог ещё Губин поделиться тайной да отравили его. Начал было однажды Легкодимов делиться с Туриным своими предположениями — не за главного ли хранителя воровских денег был профессор, не бадитский ли общаг оберегал Браух?.. Слишком заумна версия, отмахнулся Турин, да и профессор Браух нигде не прокололся, чтобы бросить на себя тень криминального авторитета такого масштаба… Словом, не там искать надо врага, не тот след.
Каждого из своих проверил Турин, перебрал и прошлое, и что на глазах вершилось, поведение и поступки каждого сотрудника разложил во время операции, прорехи и удачи проанализировал, вспомнить не забыл ненароком обронённые каждым подозрительные слова. На одном человеке сходилась его сомнительная. Самому неприятная мыслишка, верить в неё не хотелось. Лишь зародилась, погнал её от себя Турин, испугавшись страшной своей догадки. Поэтому и версией настоящей ту каверзную догадку не имел права назвать, однако чем чаще невольно возвращался к ней, чем тщательнее анализировал все факты, тем больше становилось ему не по себе…
Камытин отпадал сразу, с Камытиным они пуд соли съели; спасая жизнь друг другу, спиной к спине не раз вдвоём отбивались от вооружённых банд налётчиков. Камытину Турин доверял самое важное и ни разу не просчитался. Ленив тот стал, как оставил он его за себя, укатив в Саратов по заданию ещё бывшего секретаря губкома Странникова. Нераскрытые убийство Брауха и ограбление казны из сейфа, конечно, на шее Петра, запоздал тот с оперативными мероприятиями, не послал вовремя людей в село, и удрали бандиты с добычей. Но с кем не бывает? Камытин командовал тогда в сложной обстановке, свалилось на него забот невпроворот… Неудачным тот период был, что уж там вспоминать!..
Турин сплюнул с досады, закуривая и возвращаясь к столу. Самому с поездкой в Саратов не выгорело: Странников не очень-то откровенен был с ним про амурные свои похождения, убийство его любовницы Турин распутывал и не догадывался, что жених Глазкин сам её казнил из-за ревности. Не сразу распутал клубок их сложных отношений Турин, а когда прозрели глаза, когда возвратился, самого Странникова на месте не застал, тот забыл уже про все свои тревоги, в столицу укатил. Озлобился тогда Турин, не с толкового анализа начал, а с беспощадного разгона всех, кто попался под руку. Камытину и досталось первому, а остуди голову, да возьмись как следует за убийство Брауха, возможно, и удалось бы раскрыть преступление. Человек тот, которому Губин подчинялся беспрекословно, и есть командующая всем крыса. Добраться теперь до него сложно, если только оплошность не проявит или новую подлость не удумает совершить…
Не вызывал сомнений у Турина Аркаша Ляпин, лучший агент отдела. К Аркашке с какой стороны ни подступись — кругом пролетарские корни, но не это главное, конечно: в работе горит, не считаясь со временем и с любым поручением справляется. Людишек своих завёл среди урок, как учил его Турин, и начал пожинать плоды. Скоро можно думать, кого из них на легальное положение сыщиком переводить — работает система, оправдывает себя, покажет во всей силе, если, конечно, не найдётся дурак наверху руки выкрутить. Замахивался, бывало, и Арёл, но товарищ Странников защитил. Новый секретарь Носок-Терновский в милицию не заглядывает, ему бумагу накатай о проделанной работе, и гора с плеч, а теперь, когда закрутили уголовное дело со взяточниками среди партийцев старшие следователи Борисов и Козлов, секретарю комитета вовсе не до уголовного розыска…
А Ляпин — молодец парень! Грех подозревать его в чём-либо. Дальше кто?.. Рытин.
Ну, Рытину не до этих дел, он на виду и вечно то в мазуте, то в машинном масле, кажется, и не умывается, потому что в железках весь: то в замках взломанных копается, то бандитское оружие сортирует, выискивает для идентификации, к тому же опекать ему Турин поручил молодого Маврика. В деле об убийстве Брауха этот малец отменную смекалку проявил и дотошность, утёр нос самому Камытину, не поленись тот его послушать, может, и схватили бы бандита с воровской казной… Теперь Маврик розыском по деревням занят, однако сообщений не подаёт, значит, нет результатов…
Оставались двое — Дед да Бертильончик.
Про Бертильончика — Абрама Зельмановича Шика и думать нечего. Он в регистрации преступников как увяз, так носа не высовывает до других дел, и куда его?.. На какую операцию брать в такие годы? Замены сам несколько раз просил у Турина, но Дед вступал, отговаривал приятеля — вместе, мол, уйдём, тогда общие проводы и закатим.
Закатили проводы… Только вот кому и какие?.. Иван Иванович Легкодимов в осадок попадает, его, как свинцовое грузило, на дно подлых подозрений тянут Манцуров с Абажуровым, тот накачал отравленным чаем Губина, а затем скрывался не у кого-нибудь, а у самого Легкодимова… Вот и закрывается ларчик! Губина — на тот свет с тайнами сейфа, а валят оба на Минурова — очень удобная и хитрая позиция. А что если бывшие царские служаки-приятели — рукавицы одной пары?
Подлая эта мыслишка, появляясь, морозом поясницу Турина схватывала, словно обручем железным.
Но с другой стороны, Легкодимова он знал столько лет, что со счёта сбился. Сам увлёк его в пролетарский розыск, когда тот почти бродяжничал, умирая с голоду. И погиб бы, не уговори Турин начальство попробовать бывшего царского служаку на советской работе в сыске. В политику старик не лез, мёл беспощадной метлой уголовщину, очищая родной город; в общем, занимался полезным для любых режимов делом.
От корки до корки перелистал комиссар Хумарьянц личное дело новичка с подмоченной репутацией, когда просил за него Турин. Убедился сам, что заслужил тот немало благодарностей от самого губернатора, прославившись ликвидацией банды «Рваная ноздря», после чего притихло жульё в городе. В кабинетах высиживать не любил Легкодимов, лично брал вооружённых криминальных авторитетов: «Самсона», «Сайгака» и «Ерёму», зверски зарезавших двух надзирателей при побеге из Казанского острога, а в Астрахани пытавшихся ограбить банк. В перестрелке с бандитами сам был тяжело ранен, двоих уложил на месте, за это награждён, и провалялся почти до самой революции в больнице.
Похлопал тогда умудрённый жизнью комиссар Хумарьянц по архивной папке личного дела царского службиста, долго молчал, задумавшись, но, наконец, согласился, что польза должна быть несомненная от такого храброго человека, но велел приглядывать, так как Легкодимов в царском сыске был не простым агентом, а начальником всей астраханской сыскной полиции в чине коллежского регистратора, присягал царю на верность.
К чему последние слова сказаны были комиссаром, Турин тогда не думал, радовала мысль, что заполнил одну из множественных вакансий в штате опытным профессионалом, а не каким-нибудь деревенским или заводским недотёпой, ни нагана, ни ружья в жизни не видавшим, а уж про такую науку, как криминалистика, так и не заикайся…
Задуматься пришлось по-настоящему вот теперь, но уже не только над теми словами комиссара милиции.
Обрывая его мысли, в дверь громко и часто застучали.
«Поздновато для дружеских визитов, да и не приглашал вроде никого, — Турин схватился за кобуру, выхватил наган, сунул за спину под ремень. — Однако взрослый мужик!.. Женщина так ломиться не станет…»
Прикрываясь на всякий случай за дверным косяком, скинул крючок:
— Входите! Кто там?
На пороге, удивляя несуразностью одежды и безразмерной кепкой над нахальными глазами, тяжело дыша, озирался подросток, каких на Больших Исадах десятки.
— Гнались, что ли? — стараясь заглянуть в темноту за его спину, спросил Турин. — Заходи, раз стучал.
— Не, — покачал тот головой и, попытавшись сунуть ему свёрнутый газетный лист, дёрнулся удрать.
— Стой, шельмец! — успел перехватить его руку Турин. — Ты куда?
— Дяденька, вам отдать велено, — вырывался тот, и страх бегал в его маленьких хитрых глазках.
— От кого? — крепко сжимая кисть руки Турин, старался затащить внутрь неожиданного визитёра. — Пока не скажешь, не выпущу.
— Не знаю я его, — взмолился тот, чувствуя бесполезность попыток удрать. — Солидный барин! Адрес дома дал и велел вручить, — тут он изловчился, больно укусил пальцы Турину так, что тот сам отдёрнул руку, и был таков.
Остужая боль, помахал ладонью Турин и запоздал с погоней. Прикрыл дверь. Лист оказался пуст при поверхностном рассмотрении, подростка след простыл.
— Что за фортеля на ночь глядя? — бурчал Турин, уже спокойнее изучая под светом лампы свернутую в несколько раз газету. — От кого сие послание? Газет я не выписывал никогда и почти не читаю. Почтальонов такая братия только к своим посылает — к жулью… А тут — «солидный барин»? Чего им от меня понадобилось?
Сердито фыркая от наглой выходки оборванца, он попытался отыскать секрет в тексте газетного листа, но на первый взгляд тот интереса не представлял. Это была одна из бывших уже в употреблении, надорванная местами, в помарках, половинка известного «Коммуниста», причём не самая её лучшая, так как, кроме объявлений в виде кратких безликих текстов, ничего не содержала. Были тут предупреждения о торгах, приглашения к врачам, афишки о бегах, кино, театрах.
— Что-то должно быть в этом проклятом послании, — ругался Турин, — раз его доставили неизвестно от кого, таким странным образом и в полночный час?..
Он основательно уселся за стол, вспомнил про завалявшуюся где-то в столе старую лупу, пошарил в ящиках, извлёк на свет увеличительное стекло с массивной ручкой, давненько не используемое за ненадобностью. «А ведь это Аркашка с Мавриком подарили, стервецы, преподнесли на день рождения, разыграть хотели», — вспомнилось ему всё же и, вооружившись стеклом, он снова, но уже более тщательно прошёлся по всем заметкам. Текста, представлявшего какой-либо интерес для него, не нашлось.
«Злая шутка? — закралась досада. — Никто из его парней не осмелится бы в столь поздний час разыгрывать его таким бессовестным образом! — Турин постепенно раскалялся от гнева. — Натурально розыграли! Вбежал малец, будто за ним гналась тысяча чертей, сунул газетку да ещё укусил, стервец! И ведь придумал про какого-то господина-барина!.. Ну, я покажу умникам! Витек, не иначе! Проверить решил, как я подарком пользуюсь…»
Хлопнув о стол совершенно безвинное стекло, которое уцелело только благодаря благородной металлической оправе, он зашвырнул его на прежнее место в ящик, бросив туда и газетку. Лист изогнулся в его руке, и на плохо читаемом тексте, в самом уголке, зачернели мелкие бегущие строчки, подчёркнутые чьей-то рукой.
— А это что такое? — невольно вырвалось у сыщика. — Почти перед самым носом, а просмотрел?
Надпись специально была выполнена чёрными чернилами, поэтому не сразу бросалась в глаза.
«Немедленно бегите! — прочитал он. — Выписаны ордера на арест всех нас. Простите старика за всё…»
Он узнал почерк Легкодимова. Спутать Турин не мог. «Вот оно!.. То, о чём он предполагал, начинало сбываться. И Ковригин убеждал его в том же, когда заезжал. Но что же делать?..»
Мысли обжигали разум, а руки уже делали своё автоматически; он туго свернул газету и поджёг. Когда догорела до конца, сунул пепел в кружку, плеснул туда воды, размял, развозил по стенкам, выплеснул в ведро, открыл форточку… Делал всё механически, в голове сумбур переплетавшихся догадок, эмоций, не было лишь испуга.
«Дверь надо приоткрыть, — ударило в голову, — иначе запах не выветрится…» Он скинул крючок. Дверь легко распахнулась, будто ждали и помогли снаружи. Он вскинул глаза, перед ним стоял Джанерти. За его спиной несколько милиционеров.
— Приветствую вас, Василий Евлампиевич, — хмуро поздоровался следователь. — Разрешите войти?
— Да чего уж… — отступил он от двери.
— Оружие сами сдадите?
— Вот, — не дав договорить, вытащил наган из-за ремня Турин. — Патроны в столе.
— Успели? — повёл носом Джанерти.
— Сжёг, — кивнул он. — Никчемная записка. Так… Пустое. Вы обыск будете проводить?
— Что искать-то, раз сожгли, — грустно улыбнулся Джанерти. — Но сами понимаете, служба.
И он поманил рукой милиционеров:
— Осмотрите квартиру. Только деликатно. Без этого!.. — и повернулся снова к Турину. — Вы уж извините, Василий Евлампиевич.
— Да бросьте вы, — буркнул тот и сел к столу, ноги плохо слушались. — Меня первого берёте?
Джанерти кивнул:
— На всю вашу розыскную группу Фринберг ордера подписал. К утру должны закончить со всеми. Товарищ Громозадов ожидает вас для допроса в следственом изоляторе.
— А за Легкодимовым поехали? — вдруг словно током ударило Турина.
— К Иван Ивановичу? Право, не в курсе, — смутился Джанерти. — Наверное.
— Голубчик! Дорогой! Ты ж с «воронком»?
— Да.
— Сделай милость, прошу, гони к нему!
— Что такое?
— Не случилась ли беда? Гони сам или своих пошли!
— Записка?
— Да не спрашивай ты меня, сделай милость! Чую, неладное может задумать Дед…
— Хорошо. Постовых я оставлю здесь, а вы поедете со мной. Дорогу знаете?
— Да как же не знать.
«Воронок» тарахтел у подъезда, они впрыгнули, и машина понеслась по тёмным улицам. С лаем, визгом разбегались собаки, больше на улицах ничто не мешало. У знакомого домишки Турин скомандовал тормозить. Ни фонаря на столбе, ни огонька во всём доме. Вымерло. Турин, зажав голову руками, так и сидел в машине, шагу наружу не сделал, словно боялся услышать или увидеть страшное.
Водитель с Джанерти, посвечивая фонарями, ломали дверь под полоумный лай сбежавшихся собак. Наконец стихло, и через несколько минут Джанерти позвал:
— Василий Евлампиевич! Я бы вас попросил к нам.
Как во сне он выбрался из «воронка»; удивительно, но нигде не споткнулся, не пошатнулся, добрался до порога и шагнул в комнату.
— Не успели мы… — ослепил его лучом фонаря Джанерти.
Глаза Турина побежали вслед за жёлтым этим лучом, дрогнувшим сначала у валявшейся на полу табуретки, затем перекочевавшим на босые худющие ступни ног, показавшиеся почему-то тёмно-синими, потом луч медленно и бесконечно долго забирался вверх по ногам, белой рубашке, растёгнутой почти до пупка, пока не остановился на безжизненно склонённой голове.
— Чего после себя оставил? — без сил прислонился Турин к стене, отводя глаза, и совсем сполз на коленки. Ноги не держали его. — Искали?
— Записку под ладанкой[60] с груди его сняли, — показал Джанерти, не снимая с рук перчатки.
— Что? — не смея дотронуться, спросил Турин.
— В смерти своей просил никого не винить…
— И всё?
— Вот послушайте, — начал медленно читать Джанерти. — «Царю и отечеству служил честно. Должности государевой не запятнал, взяток не брал. Вины за ваш так называемый гнойник, не имею. А занимать нары вместе с ворьём да бандитами считаю ниже своего достоинства».
— Как-то всё не по-человечески, Роберт Романович… — сплюнул Турин и повторил: — Вины не имеет… Великий был человек в сыске!
— Разве я что-то попутал? Так написано, — Джанерти протянул ладанку с запиской. — Посмотрите сами.
— За кем теперь вам катить? — сухо спросил Турин.
— По моему списку следующим идёт Камытин Пётр Петрович. Но надо что-то предпринимать с трупом.
— Что с ним теперь делать… — прикусил губу до боли Турин. — Снимите на пол. Покойник требует большего внимания, чем при жизни оказывали, — он помолчал, но недолго, твёрдо поднялся на ноги, словно обрёл новые силы. — Везите меня к вашему Громозадову. Что ему от нас понадобилось? Пусть допрашивает! Всё без дела не будем сидеть…
— А Камытин?
— Подождёт Камытин. Этот руки на себя не наложит.
VI
Несмотря на поздний час, постовой на входе в «Белый лебедь» без особых формальностей пропустил Джанерти с Туриным, видимо, команды насчёт ареста ещё не поступало. Дремотно зевая, спросил:
— И ночью забот хватает, Василий Евлампиевич?
— Отдохнёшь скоро от меня, — буркнул тот, с грустью рассматривая возвращённое постовым потёртое от времени удостоверение, но, заметив недоумение пожилого служаки, согнал тоску с лица, молодцевато подмигнул: — Кому не спится в ночь глухую?
— Ворюге, сыщику да… — не договорив, прыснул в кулак тот. — Не можете вы без подначек, Василий Евлампиевич.
— Мать смеялась, когда рожала.
— Помните ещё?
— Нет. Уронила от смеха, и память отшибло.
И оба загоготали.
У Джанерти, наблюдавшим сцену, заходили желваки на скулах; хмурясь, он достал сигару, размял, откусил кончик и лихорадочно собирался прикуривать, однако сразу не вышло, а после второй осечки он вовсе передумал — врач порекомендовал после выписки из больницы воздержаться от курения, а на открытом воздухе — запретил в особенности.
— Не кури, не кури, — поддел и его Турин, он не был похож на себя от напускной весёлости. — Проживёшь до ста лет, Роберт Романович.
— Вы к Ивану Кузьмичу или к товарищу Громозадову? — сунулся к телефонной трубке постовой.
— А Громозадов что ж? — не покидало ёрническое настроение Турина. — Уже трудоустроился к вам и вид на жительство получил?
— Звонить велено, Василий Евлампиевич, — враз посерьёзнел постовой. — Предупреждать.
— Ну, звони тогда своему начальнику, — шагнув вперёд, не обернулся Турин. — К нему мы. А то застанем за несерьёзным занятием. Секретарша сегодня тоже дежурит?
— Василий Евлампиевич!.. — не стерпев, с укором дёрнул за рукав его Джанерти и тише добавил: — Донесёт же!
— А чего? Знаю я Кудлаткина, мужик — хват, прибегал ко мне за содействием, когда вопрос о назначении обсуждался. Мы с ним старые кореша, этот своё не упустит. И краевых следователей изучил за короткое время очень содержательного сотрудничества. Научили они его стойкого арестанта в одиночке конопатить, чтоб приструнить, а хлюпика — в общую камеру к волкам уголовным загонять. И того, и другого на сутки-двое, чтобы кололись быстрей. На длительное время нельзя, опасаются, что с катушек слетят. Громозадов, конечно, Козлову с Борисовым не чета, а чёрт его знает!.. Время летит, меняется человек. Как себя поведёт теперь? С Кудлаткиным мы пуд соли съели, попросить его хочу за одного своего старика, Шика Абрама Зельмановича, если его тоже в этот каменный мешок бросят. Замечательная личность, профессионал великий, мои ребятки его Бертильончиком прозвали. Вот, думаю, чтоб со мной в одиночку его поместили, тогда уркам до него не добраться, а то ведь загрызут, до суда не дотянет. А уж на зоне легче, там нас всех соберут…
— Ну, если нужно, и я похлопочу, — посочувствовал Джанерти.
— Спасибо, добрая душа, вы и так мне много хорошего сделали. С Кудлаткиным я сам этот вопрос решу. Он, конечно, хмырь отпетый… нет, не подумайте чего плохого — я в другом смысле, но вам он сошлётся на правила, распоряжения… в общем, найдёт как отказать, а уж, если придётся после этого и мне на дохлой козе к нему подъехать, слушать не станет, схитрит, мол, отвод дал следователю прокуратуры, не суйся…
Кудлаткин, извещённый о происходящих событиях, встретил их сухо, без удивления. Турина будто не замечал, но без лишних каверз, а когда убедился в лояльности Джанерти, расслабился и сам, размяк, забирая удостоверение у Турина, спросил:
— Чем помочь-то?
Тот рассказал ему про Шика.
— И всё? — удивился тот.
— А ты боялся, что насчёт собственных хором беспокоить стану? — зло буркнул Турин.
— Старика Бертильона мои волки съедят, — согласился Кудлаткин, почёсывая лысину. — В одни сутки. За ними конвоир в глазок не уследит. Помогу я тебе. — И на Джанерти взгляд кинул: — Формальностями для размещения в изолятор арестованного вы сами займётесь? Ну… личный обыск Василия Евлампиевича, досмотр вещей?
— Все вещи на мне, — вмешался Турин, — удостоверение ты уже изъял, а наган с патронами я Роберту Романовичу сразу сдал.
— Тогда что ж? — поджал губы Кудлаткин. — В камеру?
— Нет! — решительно поднялся на ноги Турин. — Соблюдай субординацию, начальник, а то обидится Громозадов, и вам обоим за меня нагорит. Ведите к нему.
Громозадов, которому ради удобств обычную камеру приспособили по его просьбе под временный кабинет, присовокупив туда стол со стульями и небольшой шкаф, здесь же и ночевал. Пребывал он в одиночестве, не раздеваясь, в форме и в сапогах возлежал на нарах, что-то почитывая. Лампочку в потолке сменили мощностью на несколько ватт больше, так что хлопот с освещением он не испытывал. Постарался Кудлаткин и с отхожим местом, но как ни изощрялись спецы, с ювелирным изяществом приделав крышку, стойко держалась вонь, несмотря на открытую фрамугу. Однако Громозадов не выражал привередливости и, благодаря Кудлаткина за усердие, вспоминал, что жил и работал в условиях хуже, не в пример капризным Козлову с Борисовым.
«Мало кого затянешь заглянуть сюда и, приманивая тульскими коврижками! — входя, похвалил начальника тюрьмы Турин и усмехнулся, — а пройдоха сумел даже в дружки к следователю втереться». Оглядев необычную камеру, он вытянулся, как и подобает арестанту, и уже без намёка на шутки, доложился:
— Гражданин следователь, прибыл согласно ордеру на арест. — И тише добавил: — Бывший начальник уголовного розыска Турин.
— Бывший? А кто тебя снять успел? — Громозадов не переменился в лице от неожиданного вторжения незаурядных личностей, с нар вставать тоже не спешил. — Это моя прерогатива снимать с должностей, а я ни слухом ни духом… Никого ещё не извещал.
Он отложил книжицу в потрёпанном бумажном переплёте, видимо, справочник ведомственных бумаг, распоряжений и актов, с ленцой глянул на Кудлаткина, обозрел с большим вниманием импозантного Джанерти в штатском, при шляпе и с тросточкой, пробасил, адресуя вопрос начальнику «Белого лебедя»:
— Конвоир сам не справился доставить арестанта? Зачем Роберта Романовича надо было беспокоить?
Смутившись, Кудлаткин затараторил:
— Я вот… товарища Джанерти привёл после болезни… ваш кабинет ему показать…
— Вроде как экскурсию проводите… — Громозадов наконец тяжело поднялся, накинул китель на плечи, отпихнув мешавшегося на пути Кудлаткина, бесцеремонно потеснил Джанерти. Турина двигать ему не пришлось, тот, худой, жилистый, благоразумно успел вжаться в стенку.
Добравшись до стола, по-хозяйски упёрся лапищами в края и набычил голову. Трое, дожидаясь каждый своего, продолжали стоять.
— Устраивайтесь, — пригласил Громозадов, хмыкнул недовольно и устало, — чаёв я не переношу, вот, нары могу предложить, трое как раз разместитесь, — и загоготал, впрочем, без поддержки.
На шутку не тянуло, попахивало застоявшейся злобой.
— Нет, — первым уловил ситуацию Кудлаткин. — Я к себе отправлюсь. Дела…
— К себе, так к себе, — не отговаривал Громозадов, но поинтересовался: — А формальности в отношении нашего… хм-м!.. высокого пленника, — в горле его запершило и, громко кашлянув, он продолжил: — Соблюдены?.. Всё, что по протоколу задержания положено, сделано?
Кудлаткин замер и глянул на Джанерти.
— Конечно, — поморщился тот, выложив на стол ордер и оружие Турина. — Должен информировать вас о досадной осечке.
Громозадов вскинул брови.
— Спеша к вам, Демид Тимофеевич, — твёрдым голосом начал Джанерти, — я решил по пути ещё одного арестанта прихватить, агента розыска Легкодимова Ивана Ивановича. Поэтому дал указание шофёру завернуть к месту его жительства, но агент успел свести с жизнью счёты.
— Покончил самоубийством?! — вскричал Громозадов.
— Повесился.
— Да как он узнал об аресте?
— Может, предчувствовал… — Джанерти пожал плечами. — Я оставил возле него нашего человека и сюда к вам.
— Кто же успел упредить? — под Громозадовым жалобно застонали оба стула, на которые он тяжело ухнулся. — Я всё больше убеждаюсь, что в этом чёртовом городишке творятся неладные дела. Совершенно посторонние к следствию люди узнают секреты, только нам адресованные. И узнают раньше нас! — он хлопнул кулачищем по столу. — А давеча Борисов пожаловался на случай и того хуже — находятся твари, что командуют следствием без нашего ведома всяк, кому не лень, и упрекают нас же в нарушении законов!
— Это кто ж такие? — почуяв недоброе, Кудлаткин, собравшийся удалиться, застыл на пороге с распахнутой дверью.
— Вам ли удивляться, Иван Кузьмич? — зло сверкнул глазищами Громозадов. — Московский журналист, некий Кольцов, чаи здесь распивал, беседы устраивал в «Красном уголке» с арестантами и до того распоясался, что свиданки разрешил с жёнами.
— Никаких свиданий не было, товарищ Громозадов! — встрепенулся Кудлаткин и побагровел. — Да разве б я позволил?
— Нашлись и без вас. Позволили, — отмахнулся тот, как от мухи. — Журналист на низа к ловцам махнул, правду, видите ли, отыскивать, но тут уж сама природа не стерпела, навела порядок. В аварию попал, и все его планы вверх тормашками. Едва успел назад на свой теплоход, а то уплыл бы без него в Белокаменную.
— Бывает же такое! — охнул Кудлаткин, не сдержавшись. — Сам-то цел остался, Михаил Ефимович? Замечательный человек! Его вся столица на руках носит, а у нас, как назло, такому несчастью приключиться… Да в самый последний день пребывания…
— И жив, и цел, однако неприятностей себе нажил ваш писака. Борисов, вон, жалобу на него катает в Главную прокуратуру.
— За что? Он же пострадал? — не унимался Кудлаткин. — Ну, пообщался с арестантами, так у него бумага на то была. Сам видел. Чего ж тут незаконного?.. А на низа к промыслам поехал, так ему разрешение дал наш председатель исполкома. Мне известно, что товарищ Кастров-Ширманович лодкой снабдил его вместе с рулевым, знающим толк в вождении.
— Перевернулись оба с той лодкой.
— И что же?
— А то! Хорошо, рулевой с детства плавал, как щука, он и спас непутевого журналиста, вдвоём они лодку откачали, под руль поставили и сушили движок чуть ли не сутки. Залило его, пришлось перебирать от гайки до болта.
— Трагедия, конечно, — сник Кудлаткин. — На воде всяко случается и с опытными ловцами. Засыпают на корме и сваливаются, с руля руки ослабив. Путь-то неблизкий. Потом пустые лодки находят в камышах. А чтобы сами переворачивались!.. Редкий случай, скажу я вам, Демид Тимофеевич. Если только на плывун[61] наткнулись?.. Допустим, ночью возвращались… Или столкнулись с встречной байдой, на которой пьяный… Таких случаев у нас тоже, ого-го!..
— Какой пьяный? Человек начальника ОГПУ вовсе непьющий!
— Все мы непьющие, пока не подносят…
— Этот вышколенным был. Свистунов. Я его знал, — вмешался в разговор Джанерти. — Товарищ Кастров-Ширманович после Трубкина быстро очистил отдел от выпивох и разгильдяев.
— Вы совершенно правы, Роберт Романович, — подхватил начальник тюрьмы. — Там что-то особенное приключилось. Шли они при луне, вот и наскочил на них какой-нибудь раззява. А на низах река вся в жилках изрезана. Вылетел из-за стены камыша — и лоб в лоб! Не вывернешь.
— Не знает никто, что там случилось, — буркнул Громозадов. — Снова происшествие при странных обстоятельствах… Много их последнее время. И спросить не с кого. Журналист в Москву все же успел укатить.
— Главное, жив и здоров, — вставил снова Джанерти.
— Вот уж не уверен, где что главное, — нахмурился Громозадов. — Не в своё дело суваться неча! Зачем его туда понесло? Нашёлся правдоискатель… Для этого существум мы — следователи! А от дилетантов один вред. Начистят ему в столице шею после жалобы Борисова, он так просто это дело не оставит.
— Вот и думай теперь… — с сочувствием покачал головой Кудлаткин.
— Думать нечего, — прервал его Громозадов. — Теперь в Москве думать будут. А нам свои заплаты латать надо. Вы что стоите? — метнул он косой взгляд на Джанерти. — Вас труп не заждался… этого?..
— Легкодимова Ивана Ивановича, — подсказал Турин.
— Вот-вот, — повысил голос Громозадов. — Езжайте немедленно. Мне заключение необходимо срочным образом. Передайте это медикам.
— Ещё за Камытиным успеть, — напомнил Джанерти.
— Вы правы. Позаботьтесь сначала о живом, а мёртвый подождёт, — кивнул Громозадов. — Исполняйте.
— Есть, — развернулся Джанерти, задержав взгляд на Турине, прощаясь.
— Ну… — уставился, не мигая, Громозадов на Турина, когда они остались вдвоём. — Вы, Василий Евлампиевич, не стойте, не стойте чужачком у стенки, на меня зло свое не накатывайте, я, сам знаете ли, при исполнении обязанностей, поэтому устраивайтесь на нарах, нам калякать с вами долго придётся.
Турин пожал плечами, кашлянул:
— До начала разговора хотелось бы услышать, в чём я всё-таки подозреваюсь?
— Неужели не догадываетесь? — натуральным удивлением расцвела физиономия Громозадова, только злые искорки глаз выдавали. — При вашем-то опыте?
— Предположения имеются, чего лукавить… — закурил, не спрашивая разрешения, Турин. — Жалобу накатал какой-нибудь бедолага?
— Да что ж вы так низко себя цените? — следователь подпёр руками расползающиеся от жира бока. — Про гнойник-то на всю страну прозвенели…
— Прозвонили…
— А отвечать кому?
— Тому, кто допустил.
— Вы — и шея для петли.
— Прокурор Фридберг, конечно, ордеры на аресты всех моих ребят выписал?
— Попустительства не следует ждать никому.
— Но есть люди, которые по своим функциональным обязанностям совершенно не причастны. Например, Шик Абрам Зельманович. Он занимался идентификацией преступного элемента по отпечаткам пальцев. Вы же понимаете, что это не имеет никакого отношения к образованию, так называемого, гнойника в среде аппаратчиков, партийцев и нэпманов. Зачем сажать его за решётку?
— Я подумаю и доложу начальству.
— А Павел Маврик?
— Это кто таков? Среди арестованных пока нет.
— Молодой, начинающий агент, подающий большие надежды, недавно зачислен в штат из общественников.
— Разберёмся. Ещё вопросы есть?
— Я просил бы об организации достойных похорон Легкодимова.
— Это не входит в мои компетенции.
— Но вы вправе ходатайствовать перед исполкомом. Покойник того заслужил.
— Я передам вашу просьбу прокурору. Если согласится, меры будут приняты.
— Вы знаете Фридберга, он писать не станет.
— Тогда, увы… — Громозадов удобнее устроился на стульях, выложил из ящика на стол кипу сероватой бумаги. — Займёмся нашей темой?
— Я бы желал сначала получить конкретные ответы на свои вопросы.
— Завтра вы их получите при первой же нашей встрече. А теперь приступим. — Громозадов пододвинул бумагу Турину. — Сами писать будете?
— Нет, — немного подумав, ответил тот. — У меня, удивительное дело, что-то руки дрожат.
— С похмелья?
— Морды хочется набить некоторым.
— Я бы тоже не прочь, — хмыкнул Громозадов.
— Контакт налаживаете с будущим подсудимым? — ядовито подмигнул Турин.
— Думайте, как хотите, — Громозадов не отвёл глаз. — Только не ищите виноватых среди нас, хотя… Хотя есть подлюги.
VII
Как предчувствовал и боялся Кольцов, все его старания добиться аудиенции у Ягоды по приезде в столицу успеха не имели. Помощник в приёмной, куда он явился, не сразу выхлопотав пропуск, сослался на серьёзную занятость шефа и назначил журналисту время позвонить через неделю и напомнить о себе, но когда он, съедаемый волнением, так и поступил, тот коротко и сухо, словно слыша впервые, попросту отбрил его, что надоедать нет надобности, при необходимости шеф сам сочтёт возможным его найти.
Журналист опешил от нежданного холода, так и сквозившего в каждой резкой фразе прежде казавшимся услужливым человека, и стал торопливо разъяснять о недающемся фельетоне, заказанным лично Ягодой, путаясь, поведал нелепую историю с перевернувшейся на Волге лодкой, но помощник снова его прервал и, отчитывая, укорил, что если бы не был знаком с ним лично, вовсе не стал бы слушать, так как попусту теряет время. После чего бросил телефонную трубку.
«Извратил всё Кастров-Ширманович… Добреньким прикидывался! — мучился Кольцов. — Пока я пилил обратно до Москвы на теплоходе, преподнёс он Ягоде всё в чёрном цвете… Чтобы снять с себя ответственность за аварию, наворотил, мерзавец, кучу гадостей на меня. Заела его беседа с арестантами, да я сдуру ещё про вторую заикнулся. Он и против поездки к ловцам на низа был настроен, но затаился… Косо поглядывал на председателя исполкома и на меня…»
Когда же от своих людей долетела до него весть, что прокурором Берздиным подана на него жалоба о самоуправстве во время пребывания в командировке: так была расценена следователем Борисовым его попытка устроить свидания арестованным обвиняемым с жёнами, самочувствие Кольцова вовсе ухудшилось. Не будь он завален скопившимися в редакции материалами, слёг бы на больничную койку. Враз напомнило о себе сердце, только таблетки спасали от бессонницы.
«Нельзя сдаваться оболганным, — постоянно ловил он себя на тревожной мысли, — надо искать выход из подлой ситуации».
И наконец решившись, под предлогом посоветоваться, направился в ЦК к Исааку Богомольцеву.
Человека этого он знал слишком хорошо, чтобы уважать, однако не мог не ценить за особые качества. Чтобы выцарапать из дерьма, в которое Кольцов сам бесславно вляпался, другого не найти — известна была крепкая дружба двух ненавистных ему людей — Ягоды и Богомольцева Исаака Семёновича.
К большой его радости, Исаак встретил радушно, посочувствовал и не скрывал, что наслышан о его поездке в Астрахань, известны были ему и пикантные подробности вояжирования. Угостил чаем, не перебивая, выслушал всю историю, деликатно поинтересовавшись беседой с арестованными. Поначалу осторожный в оценках, Кольцов увлёкся, заговорил ироничными злыми фразами, цитируя собственный незавершённый фельетон. Увлекавшийся в институте ещё по молодости физиогномикой[62], он мог бы заметить, что не всё в его повествовании нравилось внимательному слушателю, от некоторых его суждений тот морщился или совсем багровел, его глаза наливались тайным гневом, при этом Богомольцев прищуривался так, будто старался пронзить журналиста ненавидящим взглядом, однако Кольцова, как говорится, несло. Переполнявшие его мучительные мысли разрушили сдерживавшую плотину разума, он не заметил, как замахнулся на проблемы, которых, собираясь в ЦК, совершенно не предполагал касаться, и уже ёрничал насчёт поразившей его едва державшейся от ветхости и трясущейся при проезде лихого извозчика триумфальной арки в самом «шикарном» месте Астрахани. А ведь изображала она индустриальный мотив.
— Как, как вы изволили выразиться? — будто не расслышав или чтобы запомнить, переспросил Исаак, изобразив улыбку. — Что вы подумали по этому поводу?
— Дай бог память, — впёр два тонких пальца в лоб Кольцов. — Мне легче процитировать фельетон, я некоторые удачные находки наизусть вызубрил. — И он выпалил, не задумываясь: — Кажется?.. Нет, точно! Мне подумалось, что триумфальная арка на Братской улице вот-вот разрушится от ветхости и своими обломками обязательно прибьёт кого-то. А ведь во всём городе это лучшее сооружение и возведено оно гораздо удачней, чем состоявшиеся там последние перевыборы.
— Перевыборы? Не понял? Какие перевыборы? — насторожился Богомольцев.
— Как? Разве вам неизвестно? «По активности избирателей Астрахань с достоинством заняла последнее место во всём Нижневолжском крае!»[63], — процитировал собственные строчки Кольцов. — И думаю, что глубокоуважаемые астраханские вожди до сих пор этим не обеспокоились, иначе они бы не выпестовали прославивший их криминальный гнойник.
— Вы правы! — не сдержал гнева Исаак. — Вот в этом вы очень правы! И фельетон следует немедленно опубликовать! Что там у вас за заминка? Какие сомнения? На носу суд над зловонной «астраханщиной». Мне известно, что следствие по делу окончено. Фельетон окажется к месту. И это немало выручит вас, изменит, так сказать, зародившиеся у некоторых сомнения.
— Сомнения во мне?! — вскричал и лишь огромным усилием воли удержал себя, чтобы не вскочить на ноги, Кольцов. — Неужели я дал повод? Чем?
— На кой хрен вас понесло на низа? — так и впился в него змеиным взглядом Богомольцев. — К ловцам? Какую правду-матку вы собирались там отыскать?
Произнеся это слишком быстро, Исаак тут же закрыл рот, словно сам же и испугался, заморгал глазами, успокоился, размеренно и внятно затвердил:
— Во всём виноват чёртов чистоплюй Носок-Терновский! Он хоть и сам водку не хлестал, баб чужих не щупал, а, нос вверх задирая, грязи под ногами не замечал, а когда тыкали его носом, обходил за версту, вместо того, чтобы, засучив рукава, разнести к чёртовой матери тот гнойник!.. Оргбюро уже дало ему оценку. Вы, наверное, слышали про состоявшееся решение?
— Да.
— Так что же вас туда понесло?
— Но тогда были и сомневающиеся. Чтобы покончить для себя с этими сомнениями, я…
— Убивал бы я всех сомневающихся! — хлопнул по столу ручищей Богомольцев. — У меня вон жена тоже всё сомневалась, да Бог разрешил её сомнения…
— Что такое?
— Умерла.
— Примите мои глубокие соболезнования, честное слово, не знал, — Кольцов попытался найти глаза Исаака.
— А-а-а… — махнул рукой тот. — К слову это я. Все там будем.
Они помолчали.
— А знаете, какой вопрос я задал нэпману Солдатову, одному из самых известных фигурантов по этому делу? — меняя тему, спросил Кольцов.
— Мне рассказывали, что отправляя в поездку, товарищ Ягода снабдил вас готовым обвинительным заключением, — недовольно буркнул Богомольцев. — На кой вам уголовник Солдатов? Насколько мне известно, он самый ярый взяткодатель? Что он мог сказать важного и вразумительного, чтобы ради этого плыть на край света и рисковать жизнью?
— Я всё же попробую объяснить… Тогда никто не знал мнение товарища Сталина, а следователи не заикались о статье 58-й… Никаких намёков не было и со стороны товарища Ягоды.
— А между строк разучились читать? Ещё Ильич учил, когда в подполье приходилось мытарствовать. — Исаак поднял глаза на журналиста и поджал губы. — Впрочем, вы тогда слишком молоды были… Мне тут донесли, что в те времена вы Ильича пытались критиковать… Вы же в политике разбирались, извините, как свинья в Библии.
— Я покаялся и признал свои ошибки…
— Известное дело…
— И всё-таки мне хотелось бы довести до вас, Исаак Семёнович, ужасную, на мой взгляд, мысль, смутившую моё сознание…
— Валяйте, раз уж так приспичило.
— Я спросил Солдатова, не случись всех этих… печальных событий, следствия… продолжали бы они спокойно работать и приносить пользу, настоящую, необходимую пользу нашему социалистическому обществу?
— Ну?
— Знаете, что они мне ответили?
— И не догадываюсь.
— Они отвечали — да. Их промыслы, я в этом убедился, увидев собственными глазами, организованы в несколько раз лучше наших, государственных, там элементарно чище, отсутствует всякая антисанитария в организации приёма и разделки рыбы и вообще к ловцам относятся по-людски, созданы условия для отдыха, выше зарплата…
— Не занимайтесь агитацией, мне известны, не хуже вас, наши недостатки.
— Это элементарные прорехи, где мы теряем и уважение ловцов, и их самих. Поэтому они заинтересованы работать на нэпмана и бегут к нему!
— А почему же этот «хорошенький» нэпман совал взятки аппаратчикам — налоговикам и в торговый отдел?
— А потому, что его зажимали мизерными нормами и огромными налогами. Парадокс! Они вынуждены были добиваться расширения норм путём взяток. Я не поверил… поэтому и решился на поездку, чтобы убедиться самому.
— Убедился?
— Да. Простые ловцы подтвердили всё.
— Хватит! Вы слишком впечатлительны, к тому же увлеклись не своими вопросами, Михаил Ефимович. И если хотите услышать от меня правду, то вот она — от вас попахивает «бухарчиком». Понимаете, про что я говорю?
— Я не разделяю взглядов Бухарина и никогда не разделял.
— Я вам верю. Но в той поездке вы проявили себя не лучшим образом. Генрих Григорьевич остался вами очень недоволен. — Богомольцев заметил, как начало бледнеть лицо журналиста, но не отводил взгляда и не прерывал паузу, он знал, что делал, поэтому продолжил доверительно: — Но я обещаю поддержку. Ягода отходчив, если чувствует, что провинившийся осознал промах и готов загладить его. Вас спасёт злой, правильный фельетон. Не тяните с ним.
— Фельетона не будет, — поднялся на нетвёрдые ноги Кольцов. — Будет зубодробительный очерк! Отповедь всем тем, кто пытался или попытается замахнуться на нашу великую страну или задумает новый термидор[64]!
— Только не надо вот этого дворянского пафоса! — замахал руками Богомольцев. — Тошнит от велеречивости некоторых наших псевдогероев. Попроще, я вас прошу! Поближе к народу.
— Если не забыли, — смутившись и ещё сильнее побледнев, Кольцов опустился на стул, — термидорский переворот сверг якобинскую диктатуру, положив конец Великой французской революции. Мы этого не позволим.
— Никогда не сомневался, а астраханскому термидору, если уж вы, голубчик, подыскиваете название своему фельетону или очерку, как только что обмолвились, больше подходит вонючее и гадкое — прыщ на заднице астраханского рыбака или, как назвал те события товарищ Сталин, — гнойник.
— Товарищ Сталин обладает удивительными способностями давать событиям точную оценку и названия.
— На то он и товарищ Сталин. Есть, слава богу, с кого брать пример вам, писакам, чтобы не лезть в дебри да такие, что приходится оттуда за уши вытаскивать.
— Извините, Исаак Семёнович…
— Кстати, не Семёнович я, а Самсонович, — как-то криво и горько усмехнулся Богомольцев.
— Я подозревал…
— Так же, как и ты не Кольцов, — ещё шире расползлась улыбка Исаака. — Впрочем, не надо меня ни в чём подозревать, — он поднялся, поманил рукой за собой. — Чтобы совсем дружески завершить нашу встречу, хочу познакомить вас с одним моим давним приятелем, который, кстати, тоже имеет некоторое отношение к вашей истории.
Богомольцев, тяжело переваливаясь на ногах, подошёл к внутренней, едва приметной двери в одной из стен кабинета и, распахнув её, широким жестом пригласил:
— Этот человек начинал борьбу с тем самым неподатливым гнойником. Знакомьтесь… Василий Петрович, теперь ответственный секретарь Владивостокского окружкома, член Центральной контрольной комиссии.
Странников уже поднялся с диванчика, где покуривал, потягивая газированную воду. Он протянул Кольцову крепкую руку. Тот пожал её своей щупловатой:
— Очень приятно.
— Я читал в «Огоньке» и в «Правде» много вашего. Интересно.
Странников пожелтел лицом, затуманились глаза, поседела почти полностью голова, но худоба подчёркивала его стройность, прямые плечи оставляли фигуру запоминающейся; на его фоне совсем жиденький журналист в круглых очках выглядел школьником.
— Я слышал о вас много хорошего, — сказал обязательные слова Кольцов, больше ничего не приходило в голову.
— Вот и ладненько, — прихлопнул обоих по плечам Богомольцев. — В моём кабинете, если познакомишься, навек обретёшь друга. Давайте-ка выпьем по этому поводу. Тем более тебе, Василий Петрович, сегодня уезжать домой во Владивосток, а у меня тоже дата — десять дней, как с Саррой расстался.
Он достал из шкафчика бутылку коньяка с рюмочками, они тут же, стоя, выпили. Разговора не получалось. Странников отошёл к окну, закурил, дымя в открытую форточку.
— Скучаете? — спросил Кольцов, чтоб не молчать.
— По Астрахани-то? — не повернувшись, бросил через плечо Странников.
— Он больше по столице слёзы льёт, — подливая в рюмки, усмехнулся Богомольцев. — Дай бог, чтоб всё закончилось благополучно.
Они выпили, чокнувшись, каждый думая о своём.
— Ты к Серафиме так и не зашёл? — спросил Богомольцев.
— А зачем?
— Тоже правильно… Твоя-то Августина, как после свадьбы? Не каешься ещё?.. Гостишь ты в столице уже с неделю, а спросить, поговорить некогда.
— Не Августина она, а Аглая, — хмыкнул Странников. — Глашка!
— Погоди, погоди!.. Это что же, разыграли нас с тобой бабы? И моя не Серафима?
— Твоя без подлога, — Странников налил себе и выпил. — Не волнуйся. А Глашке имя придумали ради дурости, на курорте, мол, красивей… Но баба ничего, смирная. Во Владивостоке она у меня цехом командовать пошла на рыбзавод. Говорит, не станет дома сидеть у окошка. Получается…
— А Симка строптива, — пожаловался Богомольцев. — Не спешит с замужеством и к себе не подпускает.
— Она такая, — хмыкнул Странников и потянулся к коньяку налить третью. — Меня однажды чуть не искусала.
— Ты всем наливай, — подтолкнул его приятель, — а то мы с тобой хлещем, а про Михаила Ефимовича забыли!
— Я прибаливаю после поездки, — улыбнулся, смущаясь всё больше и больше, Кольцов. — Мне врачи посоветовали осторожнее с этим.
— Врут они всё, — оборвал его Богомольцев, — коньяк полезен для организма. Он и в творчестве помогает. Кто из ваших не пьёт? Горький хлещет, Есенин — известное дело, Маяковский?.. Он, говорят, на винце вырос. Так что давайте, не стесняйтесь. — Он полез в шкаф за второй бутылкой коньяка. — Когда теперь увидимся, Василий?..
— Век бы не уезжал из столицы, — пожаловался тот.
— Но-но, ты особенно-то не расходись! — Богомольцев погрозил ему пальцем, прежде чем опрокинуть рюмочку. — Тебе, брат, пахать да пахать теперь на Дальнем Востоке. Имя своё вычищать! Рекорды ставить!
— Думаешь, спасёт?
— А как же! И не сомневайся. О первых достижениях мне рапортуй, я соображу, куда им дорогу дать. Вот, Михаил Ефимович, он в «Огоньке» пока главный…
Кольцов вздрогнул, расплескав коньяк в согнутой руке.
— Не пужайся, главным и останешься, — подмигнул ему Исаак. — Раз сказал, что помогу, значит, так и будет. У тебя же «Правда» почти в руках? — Кольцов послушно кивнул. — Слышь, Василий, не раскисай, у него в руках «Правда».
— Я веду международный отдел, — пояснил Кольцов.
— Где международный, так и другие рядышком, нам это знакомо, не прибедняйся, Михаил Ефимович… Ты его подвиги трудовые освещать станешь!
Богомольцев попробовал обнять журналиста, тот не отстранялся. Сгрудился с ними и Странников. Они выпили, уже звонче чокнувшись.
— А вы знаете, Василий Петрович, — вдруг вспомнил Кольцов, — мне в Астрахани со следователями встретиться не удалось, их отозвали по какой-то причине, но зато, когда заходил в милицию, познакомился с начальником розыска товарищем Туриным. У нас с ним хорошая беседа состоялась. Много замечательного о вас рассказал.
— Турин? Кто такой? — поинтересовался Богомольцев.
— Да так… — буркнул Странников.
— Нет-нет! — Кольцов давно не прикасался к спиртному, и его слегка разобрало. — Он о вас многое вспоминал. Как вы машину уголовному розыску вручали лично, помогали в работе и вообще… очень приятные впечатления!
— Это тот, о котором мне всегда Ковригин долбил? — Богомольцев ткнул Странникова в плечо.
— Ну тот. Что ещё?
— Его приказано арестовать и судить вместе с остальными сотрудниками за то, что допустили гнойник!
— Что же мне делать? — Странников осоловевшими глазами изучал Кольцова. — Броситься его спасать?..
— А ты знал об этом? — вмешался Богомольцев.
— Сообщили…
— И чего мне не заикнулся?
— А ты у нас царь-бог?
— Василий!
— С Астраханью покончено давно, — наливая коньяк и выпив рюмку, медленно, но твёрдо, выговорил Странников. — Всё, что осталось позади, — растереть и забыть. Сожжены корабли!
— Ну что с ним делать? — захлопотал Богомольцев вокруг приятеля, подхватил его под руки, усадил на диванчик, обернулся к Кольцову: — Быстро его развозит, не успеваю заметить. А ведь бросил, почти в рот не брал. Теперь надо думать, как его к поезду доставить… Хотя Ковригин, думаю, справится. Вы как? — он кивнул на остатки коньяка в бутылке.
— Я всё, — поднял обе руки Кольцов. — Кстати, мне пора откланиваться.
— Машиной помочь?
— Нет. Я прогуляюсь. Люблю, знаете ли, по свежему воздуху… Хорошо думается.
— Да уж… думать вам следует быстрее с тем фельетоном.
— С очерком.
— Как волка не назови…
— Не корми.
— Вот-вот…
Они пожали друг другу руки и улыбнулись, довольные друг другом.
«Хороший мужик этот журналист, — подумал Богомольцев, подкладывая подушку под голову разметавшегося на диване, храпящего Странникова. — Молодой ещё, неопытный, влез, куда не следует, а обратно без нас ему от Ягоды не выбраться. Цепкие лапы у Генриха Григорьевича. И с каждым годом крепче хватка…»
Кольцов неторопливо шагал по улице, обмахиваясь шляпой, и думал: «Съездить надо будет на Дальний Восток. Увлёкся самолётами, а замечательных людей зрить перестал… Всё фельетоны пописываю… всё о грязи, что на поверхность вылезает… А Странников во Владивостоке рыбные промыслы подымает! Любимая жена за ним бросилась! Вот как жить надо! Про них и писать!..»
VIII
Несколько суток томился Турин в угловой верхней одиночке под самой крышей следственного изолятора. Камера была необычно светла и за счёт этого, казалось, имела несомненные достоинства перед другими. Тьму Турин не любил с детства, к тому же сюда даже ночью редко добирались вонючие крысы из подвалов тюрьмы, сильно не беспокоили.
Однако скоро ощущение некоторого преимущества улетучилось, и узник испытал все недостатки заточения. Жесть крыши десятилетиями не сменяли по причинам то ли недостатка средств, застреваемых в бездонных карманах начальства, то ли из-за никчёмного жидкого ремонта, теперь истерзанная стихией — пятидесятиградусной жарой летом, ледяными ветрами в лютую стужу зимой и проливными дождями осенью — она представляла собой ветхую и ненадёжную защиту. Громыхая днём и ночью кусками листов под ветром, крыша издавала немыслимую какофонию жутких звуков, лишая возможности не только спать, но хотя бы забыться на короткое время.
Лишь разыгрывался ветер, и концерт начинал истязать нервы. Портовый городок чем-чем, а суховеями своими славился, в определённое время года они добирались до Азовского моря, и тогда, проклиная всё на свете, местные рыбаки старались укрыться в ближних гаванях, спасая утлые судёнышки.
Турин, наделённый отменными нервами, спасался хитростью: порвав носовой платок надвое, он изготовил великолепные пробки для ушей и вдобавок накрывал голову чем ни попадя. Приходилось жарковато, но он хорошо знал, что даже короткий сон — главное спасение для нормальной работы всего человеческого организма. Конечно, угнетали жара и духота, однако жар — не холод, костей не ломит, подшучивал он над собой, когда приходилось совсем туго, и почти приноровился ко всему, пока не обрушилось совсем непредвиденное.
Мучившая несколько суток духота сменилась лёгким ветерком, скоро разгулявшимся настоящим ураганом, который внезапно стих, и захлеставший дождь быстро превратился в ужасный ливень. Небо обрушило на раскалённую до пожара землю неудержимые водопады. Тогда лишь понял Турин всю убогость своего собашника[65] и по-настоящему задумался о коварстве казавшегося простоватым Громозадова.
Потоки воды, ринувшись в трещины стен и прорехи крыши, с удивительной скоростью срывая штукатурку с потолка, стремительно залили пол и всё, что находилось в камере. Турин соскочил с нар, вода, бурля, добиралась уже до колен.
— И утонуть недолго! — бросился он к двери и забарабанил, призывая на помощь.
— Не боись, чудак! — подмигнул ему сменившийся незнакомый охранник. — Плавать-то горазд?
— Открывай! — зверел Турин. — Видишь, что творится? Отвалится потолок — и хана!
— Заткнись! — шибче веселясь, охранник совсем открыл «глазок», чтобы лучше видеть происходящее в камере. — Боисся если, лезь мухой наверх, до первых нар дойдёт водица, пошалит, а там сама вниз скатится!
И захлопнул «глазок».
Турин забрался на верхнюю полку нар, чем-то прикрыв голову. Его окатывали грязные потоки холодной воды, перемешанные с кусками отваливавшейся штукатурки с потолка, сыпались камни и потяжелей, но вода действительно выше нижних нар не поднималась, а к полуночи уровень её начал заметно понижаться.
«Кончился ливень», — понял он и задрал голову: пострадавший больше всего верхний угол камеры зиял черными щелями голых потолочных досок. — Были б силы, да не было б нужды, бежать бы сейчас отсюда… Самая пора — и условия, природа руку протянула…»
Но о побеге он запрещал себе думать, ему необходимо было дожить до суда и открыть глаза многим, почему не заточили в застенки никого, кроме работников уголовного розыска.
…После первого допроса Громозадов «парил» его в одиночке, напрочь забыв про существование, соблюдая известную тактику: так поступали с каждым, кто отказывался «сотрудничать» и не признавался. Эффекта это не давало, но Громозадов, понимая, что с Туриным трюк не сработает, гнул традицию, ибо чтил правила прежде всего.
Спустя некоторое время одиночество узника стал скрашивать своим присутствием Бертильончик, которого Турин продолжал почтительно именовать не иначе как Абрамом Зельмановичем. Трудно было предположить, будто что-то изменилось в издевательской стратегии следователя либо тот смилостивился ни с того ни с сего, подселив старика. На дотошные расспросы Турина Шик добросовестно плёл одно и то же, что ему почти не задавалось вопросов, не стращали, не пытались завербовать; да и что он знал, кроме заковыристых формул папиллярных линий отпечатков лап медвежатников[66] Щербатова Митьки и Федьки Кривого, прославившегося особой жестокостью бандита Рваная ноздря, пахана Циклопа, увлекавшегося растлением малолетних, а попавшимся на старухе-купчихе, а также других, подобного рода знаменитостей из отбросов рода человеческого? Про опасных адептов вражеского мира, объединившихся в тайную организацию «астраханщина», ни слухом ни духом старый Бертильончик не ведал, так как ни один из них не соизволил побывать в его кабинете по идентификации личности и, естественно, оставил отпечатки своих изуверских пальцев лишь после ареста, то есть при регистрации. Сумел ли сообразить это сам Громозадов или его глубокомысленно сподобил Кудлаткин, Турин не ломал головы, соседство не докучавшего ничем старика его устраивало, а порой умиляло, как однажды, когда тот распаковал тряпочный самодельный баул, что использовал универсальным образом — и в качестве мягкого сиденья, и в качестве подушки. С ним он прибыл в камеру и ни на мгновение не расставался как и с алюминиевой ложкой, которую прятал на ноге в высоком шерстяном носке, словно примерный солдат. Однако теперь баул был аккуратно распотрошён стариком и, вытащив на белый свет папку с серыми листами бумаги, тот удобно устроился под зарешечённым окошком, после чего, мусоля огрызок карандаша, принялся что-то быстро строчить. Турину, как обычно возлежавшему на нарах сверху, хорошо были видны прямо-таки каллиграфические строчки, которые старательно и красиво выводил Шик.
— Жалобу малюешь? — заинтересовался скучавший Турин.
— Нет.
— Дома кто остался? — допытывался он, хотя догадывался, что Шик давно схоронил семью.
Старик отрицательно покачал головой, не отрываясь от своего занятия.
— Кому же бумагу слать собрался? — разобрало любопытство Турина, и он соскочил на пол.
— Будущему поколению, — гордо ответил Шик.
— Вона как!
— Ты, Василий Евлампиевич, насчёт жалобы думаешь, а я книгу сочиняю.
— Книгу? — улыбнулся тот. — Не знал, про твои способности. И давно увлекаешься?
— Баловался давненько, — задрал в потолок глаза старик, — даже в газетки статейки о наших славных подвигах пописывал.
— Помню, помню. На десятилетний юбилей розыска отменно постарался.
— И в «Коммунисте» были мои заметки, — не сдержался, похвастал тот.
— Верно. Были.
— Я тогда про каждый героический подвиг наших отважных ребят туда отписывал. Не всё публиковали, конечно, но на то они и спецы, чтобы отбирать лучшее. Мне и псевдоним там дали, и в штат звали. Честное слово, ушёл бы в газету, Василий Евлампиевич, но вас сильно уважал.
— А теперь? Не уважаешь?
— Честно?
— Валяй.
— А за что вас уважать, Василий Евлампиевич, ежели вы до начальника розыска дослужились, а со мной, плешивым дедом, в одной тюремной хате паритесь?[67]
— И это верно.
— Не обиделись?
— Чего ж обижаться на правду.
— Вот и решил я, чем здесь баклуши бить, накатаю-ка я историю нашей астраханской милиции.
— Аж на всю милицию замахнулся?
— А чего? Я в полиции и в милиции жизнь прокуковал, всех начальников знал, можно сказать с самого господина генерал-полицмейстера Владимира Фёдоровича Салтыкова, опиравшегося на князя генерал-лейтенанта, а позже генерал-фельдмаршала Гесен-Гамбургского, командовавшего отрядом Прикаспийских войск.
— Любишь ты приврать, Абрам Зельманович, — захохотал Турин. — Ишь, куда загнул, да не на того напал. Почитывал и я историю нашего края. События, о которых ты мне на уши лапшу вешал, имели место в Астрахани в 1732 году, тогда и был назначен генерал-майор Салтыков первым полицмейстером города. И было то при императрице Анне Иоанновне. Тогда тебя на свете и в помине не было.
— Ну и не было, — не смутился тот, — а история создания местной полиции мне доподлинно известна. Я в «Коммунисте» об этом до драчки спорил с главным редактором товарищем Прассуком.
— Много они знают…
— Вот и я его однажды отбрил, не сдержавшись.
— А он?
— А он выгнал меня и велел больше на порог не пущать.
— Ну это он загнул. Тебе надо было ко мне обратиться.
— Надо было… Но здесь меня никто не остановит и не запретит. В одиночной камере, при полнейшей свободе, я всю правду накатаю про нашу милицию и уголовный розыск.
— Начал-то давно?
— Давно, но особо не получалось. А теперь, когда без дела сидишь, карандаш сам по бумаге летает, теперь успевай — записывай.
— Про всех напишешь? — походив по камере, обдумав хорошенько неожиданную новость, Турин снова подошел к неразгибающему спину старику. — Сыскарей уголовки не забудь… тех, кто головы свои светлые сложили за наше дело… китайца Ван Суна, Ивана Ивановича Легкодимова…
Сказал и дёрнулся его голос, смолк.
— Как же мне Ивана забыть? — оторвался от бумаги Шик. — Оттрубили мы с ним, слава богу, с полвека считай и поболее. Сколько ворья посажали… Как вы, Василий Евлампиевич, он тоже мечту лелеял, что сумеет последнего жульмана за решётку упрятать…
Сказал, поднял голову и замер — плакал железный Турин, не смахивая и не стесняясь слёз.
— Ты про то, что он на себя руки наложил, не пиши там, — заметив, что не отводит от него глаз Шик, отвернулся Турин. — Не надо новому поколению знать об этом, чтоб пример не брали, а то войдёт в моду вешаться да стреляться… по пустяку.
— Разве это пустяк, Василий Евлампиевич?
— Ну, не пустяк… Всё равно не пиши.
— Нет. Или всю правду, или ничего, — отложил карандаш Шик. — Кроме того, я считаю: для настоящего офицера за честь так уйти из жизни.
— Ну-ну… — Турин резко развернулся. — Тогда и про предателя Губина не забудь! Про крысу, которую мы так и упустили…
— Почему упустили?
— Как? Тебе что-то известно?
— Не всех наших арестовали, Василий Евлампиевич, — тише проговорил старик, — многие успели разбежаться.
— Это хорошо, но при чём здесь мерзавец, который осиное гнездо сумел свить в розыске?
— Не забыли, надеюсь, Павлушку Маврика?
— Ты дело говори.
— Он тоже в бегах, а перед этим успел передать Ляпину, будто ухватился за хвост той крысы.
— Ухватился! Вот молодчина! Я всегда верил, что вырастет из него настоящий сыщик. Ну так что? Рассказывай.
— Всё, — сник старик. — Только это и успел передать он Ляпину. Даже имя мерзавца назвать не успел. Едва ноги унёс, его Ляпин прикрыл, затеяв перестрелку.
— Зачем, дурак! Ему же теперь вышак закатят за применение оружия!
— Он в белый свет палил. Пугал.
— Никого не задел?
— Его самого подстрелили легонько.
— Турин! К следователю! — рявкнул охранник из «глазка», и заскрипел замок в двери.
— Жив Аркашка-то? — успел спросить Турин.
— А чего ему станется? В лазарете здесь, у Абажурова бока пролёживает.
— Повезло.
— Вот именно…
Но Турин уже не слышал, он шагал на допрос к Громозадову с высоко поднятой головой и даже чуть улыбался. Причин для этого было несколько, и первая, самая главная, что Маврик на свободе, да ещё обнаружил след ненавистного предателя, что жив и здоров Аркаша Ляпин, выручивший Маврика ценой своей жизни, что старик Шик накручивает лист за листом, стараясь накатать о его ребятах книгу, которую, конечно, припрячет для потомства пройдоха Кудлаткин… В общем, легко стало на душе, светлее как-то, и совсем бы было прекрасно, не беспокой мысль о предстоящей встрече со следователем. Начнёт Громозадов опять мурыжить, глупые вопросы подкидывать насчёт сотрудничества да признания, станет выпытывать, где скрываются разбежавшиеся сыскари… Одним словом, заведёт, зануда, душеспасительные беседы на весь день, на забыть бы про просьбу старика Шика да выманить у следователя хотя бы половинку карандаша и бумаги под предлогом жалобы писать, всё польза какая будет от встречи…
IX
Около полудня, как раз в самое любимое время инженера Херувимчика, когда желудок его начинало приятно подташнивать в предвкушении обеда, и он, облизываясь, жадно оглядывал на прибранном для трапезы столе приготовленные любимой Эллочкой салаты, разносолы и сладкие разности, гадая с чего начать, сердито позвонили с проходной завода и предупредили, чтобы был на месте, так как в экстренном порядке прибыла делегация и занятый директор распорядился её принять.
«Небось сам домой укатил», — язвительно подумал инженер и возмутился в трубку:
— Опять новые стапеля какой-нибудь делегации показывать?
— Не знаем.
— Сколько раз объяснять, что это не моя компетенция устраивать экскурсии для любопытствующих? — вспыхнул Херувимчик. — Опять с бондарного? Ищите мастера Хряшева.
— Ничего не знаем, — последовал такой же злой ответ. — Велено вам, вот и ждите.
— Но это ж не мои обязанности! — весь затрясся Херувимчик.
— Приказано, — оборвали его и трубку бросили.
— Вот так всегда! — всплеснул ручками толстячок и, едва не опрокинув стол, вскинулся с кресла. — Впору из кабинета удирать. Лишь время к обеду, подать всем Херувимчика! Как будто на заводе бездельников мало…
Он едва успел прикрыть стол подвернувшейся газеткой. Ярости его не было предела, вероятно, поток ругательств ещё продолжался бы, но распахнулась дверь и с улыбающимися голодными физиономиями в кабинет втиснулись двое впечатляющих верзил, одного из которых инженер легко бы узнал среди тысячи: Тарас Приходько — любимчик и подчиненный Кудлаткина, забегавший к нему как-то раз в обеденный перерыв и по достоинству оценивший кулинарные способности его киски Эллочки. Посланник начальника тюрьмы Приходько, бросился его обнимать и тискать как старого, доброго знакомого:
— Василий Карпович! Боялся не застать!.. С поручением к вам от Ивана Кузьмича спешил, аки на собственную свадьбу!
— Голубчик, — попытался вывернуться из крепких рук молодца инженер. — Небось снова тюрьму красить? Но у нас, кроме смолы для барж, — ничего.
— Ни в коем разе! Смел бы я ради мелочи беспокоить вас в такой час! — приподняв двумя пальцами край газетки, вдохнул тот аппетитный аромат, пожурив приятеля: — Говорил я тебе, Тихон, не к месту мы с тобой. Люди заняты, а мы от дел отрываем.
— Ничего, ничего. Прошу к столу, — как можно любезнее выдавил из себя инженер, но, окинув фигуру приятеля Тараса, безнадёжно загрустил по фаршированной щучке, блюдо с которой явно ждала незавидная участь, и поинтересовался конкретнее: — «Красный уголок» ремонтировать?
— Опять не в кон, — согрел его горячей улыбкой Тарас.
— Ну, уж теперь и не знаю, — обмяк Херувимчик, обречённо смолк и смахнул газету с блюд. — Приятного аппетита, друзья!
Глаза его будоражила тревога, с кислой улыбкой подавал он приборы визитёрам, — неизвестными оставались намерения беспокойного товарища Кудлаткина, который никогда просто так не отдалял от себя ценного помощника Приходько.
Познакомился с товарищем Кудлаткиным инженер во время митинга на заводе по случаю наводнения и вместе они восторгались пламенной речью товарища Странникова, тогдашнего ответственного секретаря губкома. Кудлаткин сопровождал бывшего начальника тюрьмы Мансурова и был рад знакомству с инженером, а уж когда сам возглавил грозное место содержания арестантов и любимой своей поговоркой «от сумы да тюрьмы не зарекайся» встречал каждого, дружеские отношения их переросли прямо-таки в братские, только сам Кудлаткин на завод больше не приезжал, посылал с различными поручениями пробивного помощника Приходько.
— Какая ж нужда в этот раз? — подкладывал щучку на тарелку тому и другому Херувимчик, оставив всё-таки себе хвостик. — Не огородить ли исправительное заведение дополнительным забором? Слышал я, большое переполнение наблюдается в его стенах в связи с делом нэпманов. В народе сплетничают, — свыше двух сотен арестовано и конца не видать?..
— Обижаете, Василий Карпович! — захохотал весельчак Приходько, лихо расправившись с фаршированной щучкой и подвигая к себе тарелку с варёными яйцами и помидоркой. — Вот, подчинённый мой, Ватрушкин, не даст соврать, живут они у нас, как в хоромах. Недавно, специально по заданию Ивана Кузьмича, — он ткнул локтем приятеля, чтобы тот особенно не налегал на закуски, — фотокорреспондентов к ним водили, в газетке олух какой-то прописал, будто тесно и воды не хватает. Одним словом, чёрное пятно бросил на нашу глянцевую сущность. Мы его потеребили потом… по-дружески; осознал, писака, прощения просил, на редактора ссылался, что велел тот покритиковать кого-нибудь, вот он, не подумав, развёл антимонию. Тихон и до редактора гнилого бы добрался…
— Добрался бы, — с трудом прожёвывая кусок пирога, буркнул приятель. — Кудлаткин запретил, разъяснил, что, оказывается, критка и самокритика сейчас пользуются успехом, посоветовал самим находить недостатки в своей работе.
— Да ладно тебе, — ткнул его в бок Тарас. — Не волнуйтесь, Василий Карпович, тюрьму расширять пока нужды нет. Арестанты у нас по случаю летней жары воздушные ванны принимают, их по плацу гоняют под присмотром товарища Абажурова и медицинской сестры, переписку они ведут с семьями, регулярно читают газеты и даже книжки. Их комфорту сам завидую. Гляньте на мою рубаху, взмок десяток раз, а они сухонькие да гладенькие. Что им? Сиди да покуривай. Мы им даже стрижку бесплатную отранизовали ради санитарии. Все удобства!
Херувимчик встал, чтобы подать чай, так как со снедью было покончено и, глядя на мокрые пятна пота, проступившего на рубашках обоих, деликатно посочувствовал:
— А что же вы не телефонировали, голубчик? Добираться к нам — путь неблизкий. Директор выслал бы в город катерок, доставили бы вас с речной прохладой.
— Обходимся своими двоими, — кивнул, не унывая, Тарас на пыльные сапоги. — Боюсь я воды с детства, а ехать надо. Прикатили мы к вам как раз по случаю того уголовного дела, о котором только что заговорили.
— Интересно? — замер Херувимчик и заспешил разливать чай по чашкам гостей.
— Отправил меня товарищ Кудлаткин, чтобы выразить благодарность за услуги, которые вы оказывали нам и никогда не подводили, — дуя на кипяток, торжественно объявил Тарас.
— Ну что там… — Херувимчик засмущался для видимости и даже, привстав, поклонился. — Всегда готовы государственным органам помогать.
— Сам собирался прибыть по такому случаю, чтобы вручить пригласительные билеты в Зимний театр, где будет проходить торжество.
Инженер с недоумением поднял глаза на Тараса.
— Неужели не слышали?
— Не терзайте душу, товарищ Приходько!
— Билеты вручить для участия в судебном разбирательстве уголовного дела проклятых взяточников — недобитых прихлебателей буржуазии! — ещё торжественнее завершил Тарас. — Не все, не все, скажу я вам, дорогой Василий Карпович, удостоились такой чести. Зал в театре небольшой, придётся вам выделить столяров, чтобы его реставрировать да подвести под требуемые мерки. Стол председателю суда и его помощникам соорудить и водрузить на сцену, транспаранты укрепить, места для прокуроров обустроить, ну и надёжно оградить главных действующих лиц — подсудимых. Будет их не двести, а сто двадцать девять человек всего, плюс охрана. Разместим их, конечно, в партере… — Приходько почесал затылок, подул на чай, отпил, промочив горло, и закончил: — В общем, задачка, Василий Карпович, серьёзная и важная, но осуществимая. Ваши ребятки прекрасно себя зарекомендовали прошлые разы, особенно плотники и столяры из бригады этого?.. Как его?..
— Мастера Барышева, — подсказал инженер.
— Запомнился мне молодой его помощник… темноволосый красавчик!.. Фамилию вот забыл к стыду своему.
— Павел Илларионович со столярного цеха.
— Точно! Пашка! Этот справится. Вы его бригаду поставьте.
— Барышев — хорош! А Павел у него квартиру снимает с молодой женой. Фамилия на языке вертится, а вспомнить не могу.
— Вот и здорово! Праздником для них станет пребывание в театре да ещё на суде! — Тарас привстал, выбрал из папки один из нескольких пакетов и торжественно вручил инженеру. — Где б ещё удалось увидать счастливчикам настоящий суд на театральной сцене?
Привстал и Херувимчик, принимая дрожащими руками пакет и заметно волнуясь.
— Выделяются билеты лучшим представителям вашего завода, зарекомендовавшим, так сказать, себя на трудовом фронте!
— Будет неукоснительно исполнено, — обнял Херувимчик Приходько. — Распределим персонально только среди самых достойных.
— Товарищ Кудлаткин передал, чтобы не забыли про тех, кого он называл, — подмигнул Тарас. — А то растащат по своим.
— Нет-нет.
— Значит, женился Павлушка?
— Давно уже.
— Хороша жена-то?
— Беленькая. Из Кирсанова, говорят, привёз.
— Далеко ездил искать.
— А Барышев сам оттуда. Он их и свёл.
— Ну, привет ему. С женой пусть и заявляется. Достоин.
— Вряд ли они решатся. Она у Павла Илларионовича беременная, первенца ждут. Как бы не раздавили в толчее.
— Опасности никакой! — успокоил Тарас. — Места вам выделены на верхнем ярусе балкона. Там давки нет. К тому же сверху весь суд и всех арестантов увидят. Я в партере буду, так что встретимся.
— Это на сколько же здесь человек выделено? — словно опомнившись, начал было открывать пакет смекалистый Херувимчик. — Нашему заводу выпала честь выдвинуть народного заседателя на этот процесс, рабочего Ускова. Ох, и зубастый мужик! Достанется от него недобитым врагам социализма!
— Усков с представителями других заводов, с председателем суда товарищем Азеевым на сцене восседать будут. Им правосудие вершить, — хвастал познаниями Тарас. — Дождался народ, собственными руками придушим нэпманскую гидру. А вам сверху на всё это глазеть посчастливилось.
Херувимчик слегка поморщился, осторожно поглядывая на второго гостя, шепнул на ухо Приходько:
— Всё хорошо, только наш Усков и его коллеги из рабочих, извиняюсь, в законах разбираются, как я в самолётах…
— Не обращайте внимания на Тихона! — захохотал Тарас, приметив подозрительное смущение инженера, и погладил приятеля по макушке. — Свой парень в доску. Он меня подменит скоро, так как товарищ Кудлаткин перебрасывает мою персону на высшую должность. Это ваше первое знакомство, теперь его выручайте, если с какой закавыкой прибежит. Он у нас тоже партиец крепкий!
— Очень рад, — учтиво поклонился Херувимчик.
— А насчёт судей из народа, Василий Карпович, ты шибко заблуждаешься, — продолжал Тарас. — Я тебе по этому поводу вот что скажу. Их незнание закона — ерунда, классовое чутьё подскажет, как судить. Учил Ильич, что кухарка государством управлять сможет? Вот и пришло время. Я, вон, монашком бегал, а кем стал?
— На днях чистку прошёл, — вдруг ни с того ни с сего похвастал Херувимчик, — правда, сделали замечание насчёт моей Эллочки, критиковали, что нарядами увлекается, но я её в швейную мастерскую определю. Будет главной по моде, это как раз ей подходит.
— Вот! — обласкал его взглядом Приходько. — Мы, партийцы, кого хошь перекуём в свою веру. И твою жинку тоже. А судьям нашим, чтобы не заморачивались попусту ерундой, прокуроры подскажут. Их на процессе достаточно будет. Мобилизовали местных троих, Берздин из Саратова прикатит да из столицы ожидают помощника Верховного прокурора. Навалится эта рать на поганую компанию вместе с их защитниками и рта не дадут открыть, не то чтобы оправдаться.
— Это что ж такое! И адвокаты будут?
— А как же! Закон есть закон. Кстати, некоторые из самой Москвы прикатили и здесь проживать устроились в ожидании поживы. Знатная стая съезжается. Товарищ Кудлаткин называл фамилии Комодова, Аствацурова да ещё какого-то Оцупа, тот, говорят, известный стихоплёт.
— Поэт, — поправил Херувимчик, — сатирик, кажется, авангардист.
— Сатириков у нас хватает. Тут трагедия развернётся. Чую я.
— Газеты читаем, — похвастал Херувимчик. — В пух и прах разносят отщепенцев!
— Народ не позволит смягчить вину вражеским агентам, — подхватил Тарас. — Что ни номер: «Позор и проклятие предателям рабочего класса!», «Пустить в расход всех вредителей!..» И это ещё суд не начался! А начнётся процесс, замаршируют под музыку десятки, сотни колонн демонстрантов с такими же лозунгами и транспарантами. Задавим гидру в Зимнем театре, не дадим живыми выбраться!
— Я вот что тебе покажу, Тарас Никифорович, — инженер выскочил из-за стола, сунулся к стене напротив, ткнул пальцем в приколотую большой кнопкой вырезку из газеты под портретом Сталина. — Гляди, что пишет малец!
— Малец?
— Пионер Ваня Голянкин, — нагнувшись ниже, сказал тот. — Читай сам, тебе виднее.
Чёрные буквы ещё попахивали типографской краской:
«Тех, кто обвиняется в экономической контрреволюции, предать без всякой канители расстрелу, а остальных законопатить в тюрьму!»
— Крепкий пацан! — восхитился Приходько. — Добрый партиец из него вырастет! Нам смена!
— У нас на заводе народ боевой! — воодушевился Херувимчик. — Боюсь, не хватит нам тех билетов, что ты привёз, Тарас Никифорович. Бунтовать начнут. У нас бабы есть — баржемойки, люки барж от мазута зачищают, те изматерят до смерти и директору достанется. Пароход готовим в город на первый день судилища, с транспарантами поедем, колоннами пойдём… Многие рвутся.
— Так это в первый день… — успокоил его Тарас. — А там ещё день-два-три — и накал снизится. К тому же радио в каждом доме заработает, утром, в обед и вечером вещать станет прямиком из зала суда. Услышат все, что происходит в театре… Репродукторы на главных улицах города начнут передавать ход заседания.
— Людям хочется собственными глазами посмотреть…
— Ты вот что сделай, — начал учить его Приходько. — Билеты рассчитаны строго по местам до самого конца процесса, пока приговор не объявят. Установите очередь и выдавайте их ежедневно очередной двадцатке.
— Значит, всего двадцать билетов на завод выделено? — посерело лицо Херувимчика. — Да меня директор с парторгом съедят живьём!
— Эти билеты для рабочего люда, — подмигнул ему Тарас. — Суд будет длиться месяца два… подсчитывай! По двадцать голов в день, получается, сто двадцать голов прогоните. Уйма! Найдётся у тебя столько желающих?
— А?..
— Те, кто увидит, услышит, своими впечатлениями с другими поделится, — не дал ему слова Тарас. — Все о процессе и узнают.
— А?.. — снова открыл было рот инженер.
— А если все сидеть там будут, кто работать останется? Завод заморозить хочешь? Да тебя самого под суд упекут!
— А с начальством как? — наконец выговорил инженер, зеленея от злости. — Их тоже на балкон?
— Чудак ты, Василий Карпович, — прямо-таки расхохотался Приходько и похлопал его по спине. — Ты в театр свою жинку водил?
— Как же? Мы с Эллочкой, можно сказать, завсегдатаи. Она премьеры эффектных спектаклей, оперетт не пропускает.
— Значит, знаешь, что в театре кроме балкона и партера есть ложи, бенуары, бельэтажи и амфитеатры, — хихикнул Тарас. — Ты со своей киской что предпочитаешь?
— Я?.. — растерялся Херувимчик.
— Знаю, ложу, конечно, — убеждённо рассудил тот. — Но, увы, сам понимаешь, ложи будут заняты. Однако поближе к сцене я вам с директором билетики всё же достану. Тихон заранее привезёт, как обозначат дату заветную.
— Вот спасибо, так спасибо! — захлопал в ладошки Херувимчик. — Я свою кисоньку на открытие и на приговор. Она уже интересовалась. Всех расстреляют, наверное? Или как?
— Вот про это не скажу. Не знаю.
— Я за свою Эллочку переживаю. Тонкая натура. Ей заранее всё знать хочется.
— Известное дело, бабы, — согласился Тарас. — Но ты не тревожься, Василий Карпович, появится информация — сообщу. Только уговор, кроме жены, — никому. Чтобы потом конфуза не случилось. Суд ведь только объявит приговор, осуждённых в тюрьму увезут, потом они жалобы начнут писать в Москву, сам товарищ Калинин их рассматривать станет. Твоя киска о судьбе осуждённых узнает через месяц, не раньше.
— Да-да, я читал, — Херувимчик заметно смутился. — И всё же возьму я Эллочку в театр на последнее заседание. Потом погуляем с ней поблизости в Зимнем садике или в Братском. Там же концерты по этому поводу организуют, а может, и танцы?
— А как же!
— Хотя не простыть бы…
— Верно! В зале народ дыханием греться будет, а на улице?.. — подхватил Приходько. — Чего там мёрзнуть? Никто вредителей отапливать не станет. А билеты свои директору отдай, он найдёт, кого порадовать.
— Не получится, — загрустил инженер. — Директор вообще суды не терпит глядеть. Он в газетах про всё читает, там с юмором описывают. А наш посмеяться любит…
— Ну, ехать нам надо, — не дослушав рассуждений Херувимчика, поднялся Приходько, погладил живот и заспешил к двери. — Ещё в нескольких трудовых коллективах побывать необходимо. Билеты вручить в Зимний по поручению товарища Кудлаткина.
— Ба! — прощаясь уже, вцепился в Тараса инженер. — Я ж про Барышева и Павла Илларионовича, его помощника, запамятовал! Им и вручу билеты на приговор, как раз просьбу Василия Кузьмича исполню.
— Ты ж пугался, что беременная у него жена?
— А что ей станется? Она вся в Пашку, молодая да крепкая.
Они обнялись на прощание, довольные друг другом и, как обещался Тарас, до 29 августа не виделись.
А 29-го настал тот самый судный день, которого в городе ждали. Побаиваясь или злорадствуя, но переживали все, равнодушных не было.
X
С раннего утра возле тюрьмы собирались толпы любопытствующих. Для охраны порядка кроме солдат пришлось пригнать конную милицию. На их крики и назойливые свистки обыватели переходили с места на место, лениво лузгали семечки да сплетничали. В общем, тихо было, но когда прибыли заводские пароходы да баркасы с разных концов Волги с рабочим народом, бесшабашным, злым, уже подвыпившим в пути, обложили тюрьму кольцом тёмных своих роб[68], Кудлаткин разволновался всерьёз, стал названивать в контору, Васёнкину в исполком, просить солдат на подмогу.
— Разнесут тюрьму! — надрывался он в трубку охрипшим горлом. — Пьяных много, а им хоть кол на голове теши, — не слушают, требуют начинать суд прямо у тюрьмы, а мне вести арестантов в театр только через два часа заказано да ещё двумя партиями!
— Веди раньше! Сам сядешь на ту скамью, ежели беспорядки начнутся! — рыкнул, как отбрил, председатель исполкома. — Звони своему начальству, а мне голову не морочь!
— Пусто у комиссара, — плакался Кудлаткин. — Он все резервы выгреб, что в городе имелись.
Васёнкин еще долго и сердито покрякивал в трубку, наконец, выматерившись от души, гаркнул:
— Ладно! Выпрошу я тебе солдат у вояк. Только на большое число не рассчитывай. И учти — сам каждую партию зэков в театр поведёшь! Знают тебя все уголовники городские, напасть, чтобы отбить кого, побоятся, а рабочие, даже и пьяные, против власти не полезут. Теперь они послушные. Чего им нэпманов жалеть? Ты за аппаратчиков, гнид этих, взяточников переживай, Дьяконова, Попкова, Адамова да их подручных. Вот их отдубасить могут!..
Обещанные солдаты прибыли; конные милиционеры, нагнетая страх на буянов, вздёрнули на дыбы жеребцов с ржаньем раз да ещё раз; вынул на всякий случай наган из кобуры Кудлаткин, встал во главе колонны весь бледнее мела, поджарый, куда подевался живот, что неделю назад ещё мешал бегать, и повёл первую партию арестантов в Зимний театр с такой решимостью на лице, как водили, наверное, комиссары взбешённых матросов на штурм Зимнего дворца.
Ровно в два часа дня без каких-либо эксцессов отряд дислоцировался на месте и занял четверть предназначенного пространства в переоборудованном до неузнаваемости партере театра. Кудлаткин попросил кружку воды похолодней, осушил до дна без передыха, сплюнул, перекурил и проделал аналогичную операцию уже без былого волнения, сучка и задоринки.
В четыре часа дня в зал ворвались «обладатели счастливых билетов», как писали потом газеты, некоторые с жутким любопытством пытались заглянуть в партер, но командующие охраной Бабкин и Приходько не позволяли никому и близко приблизиться. На сцене высился обширный стол для судей, горбящийся, словно безжалостная Голгофа[69].
В жуткой духоте при свете прожекторов, софитов, вспышек фотоаппаратов кинохроникёров и репортёров в пять часов вечера заняли свои места прокуроры, представлявшие государственное обвинение. Через полчаса напряжённого ожидания, во время которого у одной из обладательниц «счастливого билета» случился обморок от духоты и её срочно эвакуировали дежурившей здесь же «скорой помощью», гул голосов разорвал истерический выкрик: «Встать! Суд идёт!»
Крепыш во френче боевого офицера, с аккуратными усиками над тонкой верхней губой и с чёрными глазами, пронзительными, как татарская стрела, уверенно вбежал на сцену.
— Азеев! — пронёсся шёпот по залу. — Председатель Нижне-Волжского краевого суда!..
Гуськом потянулись за ним чубатые, вислоухие народные представители, олицетворяющие собой «карающую руку пролетарской диктатуры», как выразился острый на язык репортёр местного «Пропагандиста» в статье, посвящённой открытию первого дня судебного заседания.
— Вон и наш Усков, — легонько коснулся локтем супруги Эллочки Херувимчик. — Сверху-то не увидели бы ничего, кроме лысин. А здесь действительно такой прекрасный вид. Прямо рукой дотянуться можно.
— В чём он одет? — заметалась та в поисках театрального бинокля.
— Я ж говорю, здесь невооружённым глазом всё видать, кисонька, — повернул её головку в нужную сторону инженер и услышал презрительное шипение:
— Фу! Какая безвкусица! В грубых пиджаках, без галстуков, а у вашего Ускова даже рубаха навыпуск и ремешком подпоясанная.
— Ты на Берздина, на Берздина глянь, дорогуша. Прокурор в том же облачении. С него пример и берёт наш Усков. Сменилось всё в мире…
— Меняется всё! — фыркнула та. — Но этикет, манеры вечны!
К двум месяцам, как говорили, мало-помалу так и продвигался процесс. Ни один из подсудимых не признал себя виновным, как ни бились прокуроры. «Взятки давали, — потупив головы, твердили многие нэпманы, — но без умысла навредить или сгубить экономику государства, строящего социализм». Кто-то из них, чуть не плача, клялся и каялся: «Когда я давал взятку, не думал и не хотел никакой экономической контрреволюции… Судите меня за это, а советская власть мне дорога…» Но общественный обвинитель Филов, время от времени делавший какие-то зарисовки и записи в своём блокноте, гордо возразил на весь зал: «Хотел не хотел — чувство интимное. Судить будут тебя не за желания, не за хотение, а за реальные действия и их последствия. А общая целеустремлённость очевидна…»[70]
Сказать-то он сказал и мало кто обратил внимание на это, но строго под столом дёрнул его за рукав после этих слов Берздин и, губы прижав к его уху, будто собираясь укусить, грубо внушил:
— Ты с философствованием своим особо не вылазь! Нечего красоваться. Сиди, помалкивай, пока тебе слово не дадут. В зале репортёры и журналисты ушлые, есть юристы и, кроме того, иностранные. Враз раскритикуют твою глупость.
— А что я не то сказал?
— В таких преступлениях — статья 58-я — умысел должен быть доказан на подрыв экономики государства. Прямой умысел должен быть у подсудимых, понятно? А его пока тю-тю. И следователи хреновые, не добыть, не доказать не смогли. Выкручиваться нам придётся, ясно?
— Нет, — откровенно признался тот.
— Ладно. В перерыве мне с Азеевым разговаривать на эту тему придётся. Хочешь послушать, валяй со мной.
Досадную оплошность эту и скрытые переговоры заметил Херувимчик, обходящийся без театрального бинокля и не спускавший глаз с Азеева и прокуроров. «В чём же их целеустремлённость?» — тоже поднял он брови и даже наморщил лоб, напрягая мысли, но его Эллочка в первое своё явление в театр тепло оделась, опасаясь простуды на пароходе, и теперь, задыхаясь от духоты, не давала ему покоя, снимая с себя вещь за вещью и нагружая ими супруга. Забыв про всё, бедный Херувимчик взмолился, однако в ответ та закапризничала:
— Выведи меня отсюда, иначе хватит удар, как ту дамочку.
— Потерпи, — пробовал успокоить её инженер. — Будет перерыв, что-нибудь придумаем. Не позориться же перед народом.
— Ничего ты не придумаешь, — злилась та. — Вентиляции никакой! Не суд, а морока какая-то!
— Тихо, тихо! — перепугался Херувимчик, оглядываясь, не услышал ли кто. — До перерыва недолго.
— Знала б, не сманил бы сюда, — у Эллочки уже блестели натуральные слёзки на ресницах. — Посмотреть не на кого… наряды на дамочках вульгарные… жена председателя исполкома одета, как деревенщина. Модных журналов в руках никогда не держала.
— Эллочка! Ну успокойся, — пытался остановить её упрёки инженер. — На нас уже оборачиваются.
— Это от скуки, — парировала та. — Ничего интересного, кроме допроса мадам Алексеевой по поводу безнравственных кабаков для свиданий начальства с гулящими девками из притонов Мерзикиной и Александровой для партийцев средней руки, они, как и я, ничего не услышали. Сказать по правде, мне известны подробности и похлеще. Тебе нравится, дорогой? Вези меня отсюда сейчас же, иначе я удалюсь одна!
Назревал скандальный демарш. Семейный опыт Херувимчика показывал, что Эллочка так и поступит через минуту-другую, но на его счастье председатель объявил перерыв, и инженер поспешил за строптивой женой на выход.
Возле театра его встретил мастер Барышев, покуривавший и прогуливавшийся с женой.
— Не нужны билеты, Степан Петрович? — остановил его инженер. — Киске моей плохо стало, вынуждены отправиться к пароходу и там дожидаться остальных.
— Самое интересное впереди, — удивился мастер. — Жинке не угодил?
Эллочка вышагивала впереди, задрав нос, не останавливаясь.
— Словно в воду глядишь, Степан Петрович, — покраснел инженер. — Пробовал её уговорить, — ни в какую. Домой и всё!
— Не для женщин, конечно, такие спектакли, — усмехнулся в усы Барышев. — Её и брать не надо было.
— Столько разговоров было! Умоляла, чтоб достал билеты, а обернулось всё, извините, полным пассажем.
— Чем-чем?
— Стыдно.
— Да не переживай ты так, Василий Карпович, давай билеты сюда, найду я им применение.
— У тебя помощник был?
— Павел Илларионович?
— Вот-вот. Сам Кудлаткин насчёт него беспокоился. Сделай милость, передай их ему…
Так благодаря женскому капризу чета молодых рабочих нежданно-негаданно получила билеты в Зимний театр на судебное заседание, куда рвались попасть многие.
Услыхав новость, Татьяна, существо совсем молоденькое, но самостоятельное, неделю уговаривала мужа отказаться от билетов. Всё это время в суд по очереди бегали дружки Павла по столярному цеху и передавали новости с процесса. Сам Павел особенно не переживал, махнув рукой на суд, а вскоре вовсе забыл бы про него за заводскими заботами, но заявился закадычный его дружок Герка-зеркальщик и покаялся:
— Хоть и съедает меня жлоб, Павлуш, а совесть дороже. Завтра приговор по делу обещают оглашать. Так что получай свои два билета и уговаривай Татьяну, больше судьба не представит такого случая.
Герка в цехе был на особом положении, он изготавливал судовые зеркала и так наловчился от какого-то умершего еврейчика, так загордился, что тайну зеркальных поверхностей никому не раскрывал, даже Павлу и, секретничая, объяснил, что скрыто в этом чудотворное что-то, даже мистическое, а тайна должна умереть вместе с мастером.
— А тебе почему доверил старик? — усмехался Павел, который в партии хотя и не состоял, но во всю эту ерунду — чертей, ведьм, домовых и другую нечистую силу — не верил.
— А я его напоил до смерти, — подмигнул шустрый Герка, — он и проболтался.
— Врёшь ты всё, — махнул рукой Пашка, — не хочешь учить, как зеркала делать, не учи, только не бреши лишнего.
Но Татьяне про билеты заикнулся, правда, уже без всякой надежды:
— Герка уговаривает сходить; мучился, что не увидит самого главного, а нам принёс билеты, велел передать, ради тебя жертвует.
— Пашенька, — прижалась она к нему тёплым животиком. — Что с ребёночком будет? Я же всё из-за него. Я смерти боюсь, Паш, чую, упаду там, как про расстрел тех бедненьких объявят…
— Их не расстреляют, — с неуверенностью ответил он, поглаживая белокурую головку и заглядывая в бездонные голубые глазки, которые и свели его с ума при первой же их встрече. — Живыми останутся, хотя, конечно, своё получат для отсидки каждый. А иначе как же без наказания? Я, вон, пацанов, если кто заготовку загубит, без наказания никогда не оставляю. И Барышев, дядя твой, меня тому учил — толку не будет из человека, если внушения не сделать вовремя.
Смотрела она на него и нарадоваться не могла, умным был её молодой муж не по годам, не зря доверилась ему сразу, когда встретились они после её приезда из родного Кирсанова. Жаль, всё своё свободное время на работе пропадал, зато в мастера к дядьке Барышеву выбился и зарабатывать больше стал, но она не засыпала одна, ждала его, только в постели ей и доставались от него нежность и любовь. Горячий был, страсть! И любил её очень, так что ночь быстро заканчивалась: утро заглядывало в окошки — они ещё тешились друг другом.
— А за что же арестантам наказание такое? — сильнее прижималась она к нему. — Чуешь, как наш ножками мне в бок толкает?
— А вот сходим завтра с тобой, тогда и узнаем, — осторожно прикладывал он ухо к её животу, становясь на колени. — Ты гляди, действительно брыкается, неугомонный!
— Весь в тебя, — ласкала она его красивые волосы. — Мне и надеть нечего. Свадебное голубенькое если?.. Я его с приезда не надевала. А теперь можно, ведь в театр идём?..
— Ты ж недавно платье шила? Кроила по себе?
— А ты подсматривал, бессовестный! Это подруге.
— У зеркала крутилась в чём мать родила, как же не подглядеть, — ласкал он её. — Мы за девками в Никольском всегда подсматривали, когда те купаться на Волгу бегали. Только не стеснялись они, хоть и замечали, каждая старалась себя показать, чтобы замуж выскочить быстрее. А ты красивее их всех, Танюшка, только уж больно хрупкая.
— Это ваши астраханские — толстухи, у нас в Кирсанове девки следят за собой, — она уже надела голубенькое любимое платье. — Как я? — закружилась перед зеркалом.
— За что же мне счастье такое? — не удержался Павел, подхватил её на руки и вместе они закружились по комнате. — Не замёрзнешь в нём, Танюш? — беспокоился он, платье пушинкой казалось, летом венчались они тайком в Никольской церкви, теплынь тогда над Волгой стояла, теперь осень поздняя заканчивается, а ехать на пароходе? — И пальто твоё — сущее решето.
— А ты на что? — отвечала она, его целуя. — Согреешь и меня, и нашего Ванечку.
— Это почему же Ванечка? Я не желаю. В честь кого ты имя ему выдумала?
— А просто так сказала, — рассмеялась она. — Первенец у нас будет скоро, а имя не придумали до сих пор.
— Когда мы зал судебный реставрировали, транспарантом сцену украсили, написано на нем было: «Слава пролетарскому труду!» Вот имя так имя! Слава!.. — Павел аж руки развёл в стороны от восхищения. — Как думаешь, Тань? Некоторые уже называют так первенцев.
Ей нравилось, что он с ней советовался, но она глазки — вниз, своё завела:
— Имя, Паша, судьбу человека определяет навек. Здесь спешить нельзя. Надо в церковь сходить, с батюшкой посоветоваться. Мне бабушка рассказывала: рождается человек под своей звездой, да со своей судьбой. У них в книгах специальных всё прописано. Я схожу, узнаю про его имя?
— А меня потом на собрании пропесочивать станут? — возмутился он. — Вон, Ваську Грачёва из комсомола выгнали!
— Так ты же не комсомолец, — робко попыталась она возразить.
— Зато мастер! Из мастеров турнут. И так перебиваемся с хлеба на воду, а если погонят!..
— Хорошо, — отступилась она и обняла его. — Хорошо, не сердись. Не пойду никуда.
— К тому же неизвестно, кто народится? — ерепенился он. — Мальчик или девочка? Как же имя давать заранее?..
— Я знаю, — перебила она его. — Девочка у нас будет.
— Как это?.. — опешил он. — Мел с печки лизала?
— Мел? Вот глупый! Ничего я не лизала и не хочется.
— Если женщин на мел тянет, девки родятся, — выпалил он.
— Дурачок, наслушался своего Герку, — потрепала она его за ухо. — Девочка у нас родится, потому что я тебя сильнее люблю, чем ты меня, — она его поцеловала.
— А если я сильнее, значит, пацан?
— Значит, мальчик. Но я сильнее, девочка будет.
— На транспаранте имя было подходящее и для девочки, и для мальчика — Слава, — обрадовался он. — Вот и назовём ребёночка в честь завтрашнего суда Славой!
— Ну и хитрец ты, Павлуш, — ткнулась она ему в грудь, увлекая на кровать. — Сам давно всё решил, а меня, словно дитя малое, разыграл.
Они заспорили с умилением, как только могут спорить одни влюблённые и, ласкаясь, уснули в объятиях друг друга. Но не прошло и часа, чуткая молодая мама открыла глаза и развернулась спиной к мужу, защищая от возможного толчка и другой какой случайной неловкости того, третьего, который с нетерпением ждал момента улизнуть на белый свет, громким и радостным криком оповестить весь мир о своём появлении.
XI
По версии следствия главное обвинение Турина и его подчинённых заключалось в том, что бывшие работники уголовного розыска не предотвратили, а наоборот, способствовали развитию так называемого «гнойника». Арестовано было всё руководство, старшие служб и те, кто не успел спрятаться. Естественно, никто вины не признавал. Один из замов, Гарантин, в знак протеста попытался совершить над собой насилие, но Громозадов, уведомлённый всезнающим Кудлаткиным, успел бросить его в штрафной каменный мешок да так усмирил, что тот долго вообще не мог говорить, а потом заикался и подёргивал правым плечом, не переставая кашлять.
— Симулирует, — буркнул следователь разволновавшемуся тюремному врачу Абажурову. — Через неделю пройдёт, петушком запоёт, как миленький.
Камытин затих мышью, до Турина доходили вести по перестуку, что того почти не трогают днём, выводят куда-то по ночам, но содержат также в одиночке, даже блатаря фаловать не подсаживают.
Имевший множество наград старший розыскник Коршунков пробовал козырять заслугами, спорил с Громозадовым, что его оправдают и отпустят; в явной ошибке, мол, можно убедиться, стоит только следователю проверить, сколько банд он разоблачил, сколько матёрых уголовников упрятал за решётку, сколько… Громозадов соглашался, однако не реагировал, тогда Коршунков пригрозил написать жалобу самому Калинину, но следователь подшил в дело несколько благодарственных грамот, врученных «красному пинкертону» ещё комиссаром Хумарьянцем в былые грозовые, и тот утихомирился на время.
Турина, словно глухонемого, не вызывали никуда после памятной первой беседы…
Ежедневно телефонируя Отрезкову, Громозадов, вряд ли когда заглядывавший в дебри процессуальных постулатов, беспокоился:
— Без этой хреновины, то бишь их личных признаний, может, в суде обойдутся?
— Кто тебя там учит? — матерился Отрезков. — С судьями договориться сумел?
— Слежу за развитием событий у Борисова и Козлова, у старших, так сказать, товарищей; у них та же закавыка была, но они убеждены, что в суде у многих языки развяжутся, лишь про вышку услышат. Мне же легче станет, — приговор по «астраханщине» вынесут, это и будет главным доказательством виновности всех моих подсудимых.
— Мыслишь верно, — соглашался Отрезков, но материться не переставал. — Дело в том, что неизвестно, когда судебное заседание по этой проклятой «астраханщине» начнётся. Месяц дело в суде у Азеева лежит, тот его мусолит так и эдак, глубокомысленно изучает, а ещё не назначил к слушанию и сколько месяцев рассматривать будет, совсем неведомо. Проволынит, вот тогда взвоем! У тебя по делу всё шито-крыто?
— Хоть завтра в суд направлять! — бодро рявкнул Громозадов. — Жду вашей команды.
— Тогда вот что… забрось-ка для пробы ты его в суд. Пусть в Астрахани у судейских головы поболят.
— А как же?.. Они же с Саратовским судом связь держат? Враз вызнают.
— Вот пусть тоже и помучаются. А то все шишки на нас! Меня Берздин каждый раз на ковёр к себе выдёргивает. Никакого терпежу нет. А тут я ему про твоё дело отрапортую.
И произошло невероятное. Не особо задумываясь о законе, вероятно, тоже подгоняемый начальством, судья Астраханского окружного суда Чернячков, не дожидаясь приговора по «астраханщине», в первой декаде сентября начал процесс по делу бывших работников уголовного розыска. Газета «Коммунист» традиционно запустила накануне зловещий номер, оповещавший всех: «Рабочие требуют высшей меры наказания Турину и Гарантину!»
За несколько дней дело было рассмотрено и вынесен приговор.
Процесс начался на открытой площадке союза пищевиков, народа особенно не сгоняли, хватило переодетых в гражданское милиционеров да заскочил всё тот же придурковатый с бондарного завода. Попрыгал с плакатом о немедленном расстреле, поорал, и председательствовавший открыл действо.
Чернячков не нуждался в наставлениях, каждое утро за завтраком он знакомился с регулярными вечерними отчётами о ходе рассмотрения дела Азеевым, вечером изучал тексты утренних заседаний. Пример был перед глазами. Таким же образом он начал допрос главного подсудимого — открыл том уголовного дела с вопросами, задаваемыми Турину ещё Громозадовым и, естественно, получал те же ответы от подсудимого. В конце концов Турину надоело, и он просто кивал изредка, бурча:
— Там написано, подтверждаю.
Судья не возмущался до времени и не возражал — процесс набирал обороты и приближал развязку.
В том же духе промелькнули допросы остальных. Исключение составил допрос Камытина. Удивив всех разговорчивостью, не подымая головы, тот вспомнил про раздачу Туриным оружия районным властям во время наводнения.
— От мародёров обороняться, — хмурясь, буркнул Турин.
— Прошу помолчать, — остерёг его на этот раз судья.
— Указание от губкома было, — твердил своё тот. — Вернули половину наганов, а с остальных не успели собрать. Мог бы сделать это сам следователь Громозадов при желании.
— Не прекратите, выдворю из зала! — дёрнулся судья.
Коршунков, вспомнив своё, начал опять с рассказа, какую сложную операцию пришлось разрабатывать несколько месяцев, чтобы ликвидировать банду «Чёрная пятёрка», терроризировавшую город, как неделями гонялись за бандой «Орлёнок», как…
— Вы бы лучше нэпманов, что подрыв экономики пытались учинить, ловили, — оборвал его председательствовавший.
— Трубкина, бывшего начальника ОГПУ пригласите, — поднялся Турин с места, сжав кулаки. — Спросите его, почему он этим не занимался? Его прямые обязанности.
— Им теперь занимаются соответствующие органы, разве вам неизвестно? — Чернячков, видимо, что-то знал.
— Тогда при чём здесь мы?
— Вопросы здесь задаю я!
— Тогда Кастрова-Ширмановича допросите.
— Я лишаю вас слова, подсудимый! — Чернячков ударил деревянной колотушкой по столу. — А не прекратите дерзить, удалю из зала. Предупреждаю второй раз. Третьего не будет.
— Я готов. При таком рассмотрении дела, когда все наши ходатайства отклоняются, истины не установить, — снова поднялся Турин с твёрдой решимостью выговорить всё, что накопил и надумал последнее время, сидя в камере.
— Охрана! — рявкнул Чернячков. — Удалить подсудимого!
Через день был оглашён приговор, которым Турин был осуждён к 8 годам лишения свободы с поражением в правах на 3 года, Гарантин и Коршунков — к 6 годам каждый, с поражением в правах на 2 года, Камытин отделался годом лишения свободы, но половину он уже отсидел в камере, и лёгкая ухмылка на его лице не укрылась от Турина, который собрался было что-то сказать бывшему своему заму, но солдаты оттеснили их друг от друга, и больше они не виделись. Скрипнул Турин зубами, кивнул Гарантину:
— Всё понял?
— Понял, — подмигнул тот, — простучу, кому надо, не доживёт эта крыса до своего освобождения.
— Надо будет тщательно разобраться, прежде чем свой приговор вершить станем, — покачал головой Турин. — Подождём, когда выйдет на волю Камытин, тогда устроим свой справедливый суд подлюге…
XII
Когда утром Павел открыл глаза, на столе дымился горячий чай, а Татьяна крутилась у зеркала, подкрашивая реснички.
— Готова, дочь Попова! — вскочив, зацеловал он её.
— Попова, ну и что! — с задором улыбалась она.
— Не боишься замёрзнуть?
— И думать перестань, завтракай и побежим, а то без нас пароход уйдёт.
День удался на славу, не ветреный, но в зале Зимнего театра оказалось столько народа, что не продохнуть. Они с трудом нашли свои места и застеснялись собственных простеньких одежд: нарядные вокруг фыркали дамы и пыжились кавалеры.
— Туда смотри! — чтобы совсем не смущать её, указал он на сцену. — Там приговор объявлять будут.
— Со сцены?
— Ага.
— Мне что-то страшно, Паша. Уж больно всё близко.
— Кого бояться-то? Ты в партер глянь. Там сидят эти… подсудимые.
— Там?! — взглянула и побелела она от страха. — Это их расстреляют?
— Да тише ты! Не будут их стрелять. Если и выпадет кому, то только зачитают по бумаге и всё. А стрелять ещё не скоро. Им право на обжалование предоставлено. Славку родишь, а они ещё живы будут.
— Много их как! — не утерпела, снова кинула испуганный взгляд в партер она, слегка подрагивая. — Гляди, маленький-то, похоже еврейчик, на колени встал, головой об пол бьётся, плачет и молится…
— Забьёшься тут, — оттащил он её назад.
— А ты смерти не боишься, Павлуш? — не унималась она.
— С чего это ты? — вздрогнул и он.
— Нет, скажи правду, боишься?
— Я тифом в мальчишках болел. Все умерли в нашей деревне. И дед мой, и отец, и мать, даже бабушка, которая с печи никогда не слезала. Меня тоже закапывать в общую яму понесли, а я глаза открыл. Санитарка плакала, твердила, что теперь я заговорённый и никогда не умру.
— Так уж и не умрёшь, — улыбалась она. — А я умру.
— Мы вместе умрём, а санитарка та — дура; после в деревне ещё живые отыскивались. Тоська, сестра моя, уцелела.
— Значит, боишься смерти? — лукаво сощурилась она.
— Конечно. Но мы с тобой умрём вместе.
— Это почему?
— Потому что любим друг друга больше всех.
— Вот дурачок, — ущипнула она его, повеселев.
Распахнулся занавес на сцене, стали выходить судьи, но перед ними выбежала группа полупьяных демонстрантов с плакатом. Оказывается, начальство приказало их выпустить перед приговором. Дурашливый мужичишка, их главарь, чудаковато запрыгал и истошно заорал на весь зал, как орал, наверное, на улице: «Смерть вредителям!.. Отщепенцев — к расстрелу!»
— Это не суд, Паш? — дрожа всё сильней, прижалась Татьяна к мужу, и глаза её совсем округлились от страха.
— Не суд, Тань. Это дурачки какие-то. Скаженные. Кто их пустил?
— Скаженные! Скаженные! — закричала она, тыча на прыгающих мужиков. — Вон! Вон, нечистая сила!
— Это придурок Усков с бондарного завода! — засвистел кто-то из зала. — Долой! В шею!
— Это смерть, Паша… — вдруг тихо произнесла Татьяна и, ойкнув, схватилась за низ живота, стала сползать с кресла на пол, в лице ни кровинки.
— Да что ты, Танюша? Что с тобой?! — рванулся к ней Павел, поднял на руки и заметался, не зная, куда бежать.
— Спаси меня, милый, — шептала она, — умираю…
— На воздух её тащи! — подтолкнул Павла к выходу кто-то. — На воздухе легче станет! И медики там на «скорой помощи».
Расталкивая любопытных, Павел бросился к выходу.
— Третья в обморок падает! — орали сзади. — Подохнем все в духоте! Требовали же вентиляцию наладить!
— Беременная она! — кричал Барышев с балкона, видевший всё это, он тоже рванулся вниз, но пока продрался, плутая по этажам, никакой «скорой помощи» и следа не было у подъезда.
— Родня, что ли? Увезли их, — посочувствовал кто-то.
— В роддом. Она за живот хваталась, — подсказал другой.
— Ну попадись мне этот чёртов Усков, я ему кишки пущу здесь же, — ругался Барышев, закуривая.
Милиционеры подхватили его под мышки, поволокли за угол, и спокойствие было восстановлено…
Через несколько часов в Зимнем театре председатель судебного заседания закончил оглашать приговор. Разобравшись, отпустили к этому времени и Барышева, тут и толпа повалила из театра. Барышев, расспросив про роддом, понёсся что было духу на Красную Набережную. С моста сбежал, как учили, враз увидел Павла, согнувшегося на ступеньках здания. Охнул, закурил папироску и, уже не спеша, тяжело передвигая ноги, приблизился.
— Ну что? — присел рядышком.
— Дай закурить.
Барышев поднёс горящую спичку, не спуская глаз с его мокрого от слёз лица.
— Как там Татьяна?
— А я знаю?.. Меня выгнали, как привезли… её унесли. Кричала она, дядя Степан, ох, как кричала!.. — и Павел, не сдерживаясь больше, зарыдал, ткнувшись головой в его колени.
Перед рассветом выглянула в дверь медсестра, старушка:
— Сидите ещё, мужики?
— Да уж искурили все, — ответил Барышев. Павел боялся двинуться, не то, чтобы спросить.
— Ты отец?
— Отец рядом, я родственник.
— Ранёхонько заспешил на белый свет твой детёныш, папаша, — подошла старушка к Павлу, погладила его волосы, всплакнула. — Не захотел жить в этом мире.
Павел, дёрнувшийся ей навстречу, зашатался и упал бы, не подхвати его Барышев.
— А мать, мать жива?
— Татьяна Андреевна в тяжёлом состоянии, но жить будет, у нас доктора умелые, чудеса творят. — И дверь захлопнулась. — Шли бы, сынки, домой.
— Вон они, ваши чудеса, — рванулся к двери Павел и забарабанил кулаками. — Отдавайте мне сына!
— В своём уме, папаша, — не открывая, ответили ему. — Моли Бога, что мать спасли.
— Крепись, Павел, — обнял его Барышев, утирая слёзы с глаз, оторвал силком от двери, увлёк за собой с лестницы. — Вы оба молодые, крепкие. Нарожает тебе Татьяна кучу ребятишек, и Славок, и Сашек… Береги только её от таких вот судов.
— Боялась она туда идти! — стонал Павел. — Чувствовала плохое…
— Успокойся, сынок, — поддерживал его Барышев. — Мне тоже несладко. Я ж её сюда привёз, с меня тоже родительский спрос будет. А что отвечать?..
— Не хотела она идти… Это я во всём виноват! — твердил, не переставая Павел.
— Да в чём же твоя вина, голова дубовая? — успокаивал его Барышев. — Тут, вон, забегаловка имеется. И народ, смотрю, уже крутится. Пойдём, помянем твоего сынка, да пожелаем выздоровления Татьяне.
Они завернули в светящееся с ночи шумное заведение, нашли свободный столик, Барышев спросил подбежавшего молодца:
— По «мерзавчику», наверное, мало будет?
Тот учтиво помалкивал.
— Неси по «чекушке»[71], только в графин не разливай. Стаканы неси, — погрозил пальцем. — Ну и огурчиков солёных с пяток.
Они помянули мальца, мёртвым родившимся, выпили за мать, чтоб быстрее на ноги встала да народила здоровеньких…
Кончились их четвертинки, взяли они уже и полную, а затем заказали и графин.
— Не любила она суд… — время от времени повторял Павел, склонив голову на стол.
— Вот тебе и суд, — поддакивал Барышев, хрустя огурцом. — А ты говоришь, Слава… Четырнадцать главных к расстрелу приговорили, остальных к неволе на разные сроки от десяти и по рогам[72].
И они выпили, не чокаясь:
— Вечный покой…
XIII
Если инструктору Филову подфартило — по поручению секретаря Нижневолжского обкома партии Шеболдаева он успешно справился с обязанностями общественного обвинителя на процессе и в курилке комитета посмеивался, как «лихо отбрехался в суде», то инструктору Люберскому повезло меньше: вторую неделю, не разгибаясь, корпел он над статьёй «Уроки астраханщины» и, проклиная всё на свете, не видел конца. Единственная тщеславная мысль успокаивала его — доклад предназначался для закрытого чтения на партийных собраниях во всех организациях области, а может, и за его пределами. В случае удачи его ждали не только благодарность начальства, но и значительные продвижения по иерархической лестнице.
Лёва Люберский, что называется, спец по аналитике, «большая голова». Однажды его писанина попала на глаза секретарю губкома, который подметил незаурядные задатки автора из ста выдавить двести. Ценились такие способности в зарождающемся советском аппарате на вес золота. Не в каждом портовом грузчике или рыбаке сидел Мартин Иден[73]. В губернском комитете Лёва тогда быстро завоевал популярность. О нём скоро прослышали наверху, так как, кроме всего прочего, умел он красиво подать написанное, прочесть с трибуны, перекрикивая любую орущую публику. Поэтому выдвинули из губкома в крайком, и открылся пред ним путь прямой и лучезарный.
Работая над собой, Лёва создал из талантливой способности культ, каждое задание обдумывал глубоко и тщательно, научившись разбираться в желаниях начальства и угадывать, от кого из них веет верным курсом партии, особо ровняясь на большевиков.
В этот раз он не поленился съездить с Филовым в Астрахань, ознакомиться с объёмными томами уголовного дела и даже прилежно высидел на некоторых судебных заседаниях, дождавшись оглашения приговора.
Только после этого, целиком окунувшись в материал, он сел за стол и с головой ушёл в работу. Лёгкая его рука замелькала над чистыми листами бумаги, как чайка над волнами, рождая события, образы героев и врагов; карандаш едва успевал догонять мчащуюся стрелой мысль — Лёва страсть как любил творить твёрдым, остро отточенным карандашом, это было верной приметой, что народится шедевр, и в подтверждении тому листы, полностью заполненные красивым его почерком, один за другим слетали на пол. Лёва их не подбирал, он не прерывался ни на секунду, устилая всё вокруг себя результатами творчества, замирая лишь на мгновения, чтобы заострить бритвой притупившийся грифель, жадно поджидавший своего момента.
Он начал к вечеру, когда в коридорах комитета сравнительно затихло, и, забыв о времени, витал в благости творчества, кое-где сочиняя своё, навеянное увиденным и услышанным, кое-где фантазировал, додумывая за персонажей — без этого было нельзя создать пафос трагической романтики, а история, которую ему необходимо было создать, требовала того, иначе она бы вязла в ушах обывательщиной, сводила скулы от скуки, скрипела на зубах затхлой пылью.
Одним словом, он творил и вдруг — о, ужас! — вздрогнул и замер от резкого щелчка — в спешке за мыслью он неосторожно налёг на карандаш, и тот переломился…
Это было бедой. Большой бедой, ибо уже от одного этого щелчка Лёва утратил хвостик мысли и ощутил тьму. Ему пришлось всё бросить, опуститься на колени и, ползая по полу, лихорадочно собирать всё написанное, сортировать в потёмках лист к листу, чтобы, найдя первый лист и, зачитав его, приняться за поиски следующего, попытаться восстановить созданный общий каркас повествования. Иначе он не мог писать далее, так как напрочь забывал всё, что до этого создал.
Случалось, не помогало. Тогда приходилось прибегать к неприятному, но неизбежному — читать заново всё от первого до последнего листа, где прервалась мысль. Было ли это болезнью, рождённой бесконечной писаниной?.. Когда такое случилось впервые, Лёвик поспешил назвать это странностью собственного творчества, мог же его громадный мозг уставать и своеобразным образом требовать разрядки, питая сигналом мускульную силу, которая ломала орудие труда — единственное средство приостановить весь процесс. Ужасной казалась эта догадка, но другой не находилось. И Люберский, помучившись и подминая страх ужасного, назвал открытое в себе новое качество феноменом творчества. Сказал же Ломброзо в одной из великих работ, что гениальность и помешательство — ветви пограничные в тонкой психологии великих людей, к которым, несомненно, Лёвик себя относил. Книжка та, ещё в переводе Тетюшиновой, изданная в 1892 году, была случайно куплена им в антикварном магазине. Хозяин, седой старик, бросил её на край такого же древнего стола, видно, создавая общий антураж, но ему, юному гимназисту, отдал почти задаром, когда случайно Лёвик обратил на неё внимание, а открыв, увлёкся. Теперь она постоянно хранилась вместе с разными раритетами в его шкафу тут же, в кабинете; порой он брал её в руки и перечитывал, в который раз поражаясь судьбе великих людей…
Найдя наконец первый лист рукописи и, пробежав глазами содержание, он убедился, что главная мысль задуманного постепенно возвращается к нему. Лёва принялся отыскивать второй, третий лист и, закрепляя схваченное, начал цепко поглощать текст страницу за страницей:
«…Во всех уже оконченных следственных делах проходят свыше двухсот человек и большое количество членов партии. Каждый день за тюремные решётки садятся вновь изобличённые вредители, предававшие оптом и в розницу интересы партии и советской власти частнику и кулаку. Процесс очистки астраханского советского аппарата при помощи развёртывающейся пролетарской самокритики ускоряется. Прокуратура, в делопроизводстве которой находится свыше семидесяти больших и малых дел, не поспевает очищать Астрахань от падали, купленной частником и кулаком…»
Мысль оборвалась на краю листа, Люберский вновь опустился на колени, не замечая, что забыл включить электрическое освещение. Но вот капризная бумага оказалась в руках, и он продолжил чтение:
«Дело судебных работников явилось первым тревожным сигналом, что в советском аппарате неблагополучно. Начатое летом 1928 года, оно было бы, несомненно, смазано и ограничилось бы стрелочниками, если б не вмешался краевой следственный аппарат. В результате прошло дополнительно восемнадцать человек во главе с председателем губсуда Глазкиным и его обоими заместителями. Из классового органа суд превратился в пьяную лавочку, где за недорогую цену можно было купить любой приговор. Растраты, взятки, понуждение женщин к сожительству, дискредитация советской власти, открытые пьяные оргии с нэпманами и прочими чуждыми элементами — всем этим пестрят приговоры по делу губсуда и нарсудов…
Несмотря на судебный процесс и чистку, в аппарате суда и в особенности нарсудов, сохранились до сих пор взяточники и неприкрытые подкулачники…»
Теперь, твёрдо ухватив линию повествования, автор читал отрывками, торопясь наверстать упущенное:
«Дело финработников… Массовая продажность финансового аппарата началась с 1925 года. Частному капиталу удалось купить весь налоговый аппарат, ревизорский, губналогкомиссию и значительную часть экспертизы бухгалтеров… Всего привлечено 32 работника во главе с заведующим и его заместителем. Кроме того — 55 нэпманов-взяткодателей… Серьёзный характер имеют преступления в коммунхозе, где незаконно демуниципировались дома, совершались безобразия при распределении квартир… Исправительный дом (тюрьма) поощряет снабжение заключённых водкой, опиумом; охрана его превращается в решето, из которого в любое время может выйти всякий преступник, подкупив работников деньгами и даже продуктами питания…»
Люберский передохнул, он приближался к главному, которое заключалось в раскрытии причин разложения партийной организации, здесь как раз треснул и сломался карандаш, здесь оборвалась мысль, но он уже ухватился за неё и, бросившись к столу, скорчился, поспешил записать:
«Перерождению советского аппарата, превратившегося в агентуру частного капитала, сопутствует разложение партийной организации, в особенности её руководящего актива…»
Рука его снова летала над страницами, и мысль билась в черепной коробке, словно пытаясь выскочить, но он уже обхватил голову другой рукой, стараясь крепко удержать содержание…
Разрешено ли было Шеболдаевым зачитывать впоследствии доклад на партийных собраниях или ждал его суровый нож цензора, — теперь истину узнать невозможно, однако достоверно известно, что имя Люберского скоро затерялось среди имен множества партийных аппаратчиков. И забылось совсем, а вот труд его остался жить и долго еще мутил и путал умы многим.
Много судебных процессов, втянувших в себя, как губка, сотни людских судеб, трясли город, словно тяжёлый приступ злокачественной лихорадки. В тюрьме скопилось чрезмерное количество арестантов, заключённые спали на нарах по очереди. Враз увеличились болезни, регулярными стали разборки среди уголовного контингента, заканчивающиеся массовыми драками. Во избежание худшего Кудлаткин завалил ходатайствами начальство и всевозможные инстанции наверху о скорейшем этапе осуждённых. Пугал неподдающихся бюрократов бунтом. Нагнетаемый ужас наконец сработал: распорядились этапировать и тех, кто не успел получить ответы на жалобы по объявленным приговорам. В спешке один за другим стали назначать и рассматривать дела, покатили за Урал, застучали по рельсам состав за составом, напичканные зэками.
Готовился к этапу и Турин. Из их группы по приказу Кудлаткина на хоззоне при тюрьме были оставлены лишь Шик. Чуял Кудлаткин, что не переживёт старик этапа, к тому же его интересовало, чем завершатся события в чудной книжке, над которой старик трудился день и ночь и никак не мог приблизиться к долгожданному окончанию. Турин и тот подшучивал над новоявленным летописцем:
— Чем завершать станешь свой фолиант, Абрам Зельманович?
Кипа писанины набралась внушительной, сохранив однако при этом прежнее наименование: «Ксива про отважных уркаганов…» Сам Кудлаткин, изредка тешась над её страницами, не черкал ни слова, щадя автора.
— Хотя бы седины постыдился, — бурчал Турин на Бертильончика. — Втемяшилась тебе в голову эта «ксива», других названий придумать не в силах?
— Правдой отдаёт, — отвечал Шик.
— Да какая же правда, если многие заключённые, читая, вырывают страницы о себе? Или ты неправду лепишь, или они правды о себе боятся.
— Пусть рвут, значит, проняло зэков, посветлело на душе, а я как раз этого и добиваюсь.
— Так от твоей писанины ничего не останется. Ты подумай, надо ли давать её всем для читки?
— Просят.
— Ну, как знаешь, — хмурясь, отходил от него Турин. — Пустое занятие затеял.
— Не пустое, Василий Евлампиевич, — поманил его с лукавинкой в глазах старик. — Одному тебе признаюсь: я рукопись свою в двух экземплярах стряпаю. Первый, нетронутый, у Ивана Кузьмича хранится при моём личном деле, а вторым желающие пользуются. Мне и самому так легче. Я враз угадываю: вырваны листы, значит, ничего в них я не соврал.
— Резонно… — хмыкнул Турин. — Ну ты, Абрам Зельманович, голова! Хитрец, каких поискать. Кто ж тебя надоумил?
— Жизнь, Василий Евлампиевич, — старик потряс сединой.
В дверь камеры грохнули сапогом, откинулся тут же «глазок», рявкнул охранник:
— Турин, на выход!
— Василий Евлампиевич! — ахнул Шик. — Не на этап ли?
— Да поздно уже… Утром этап ушёл. Ночь на дворе, — спокойными были глаза Турина, однако руки выдавали, подрагивали пальцы. — Чего-то попутали служивые…
Дверь распахнулась, на пороге предстал сам Кудлаткин с неизвестным сотрудником ОГПУ, к тому же явно неместным. Козырек его фуражки был низко надвинут на лоб так, что сурового лица не разглядеть.
— Никакой путаницы нет! — вошедший оперуполномоченный так выругался, что вздрогнул и сам Кудлаткин, и затряс наганом под носом Турина. — Ты и так лишнего сидишь! Прижилась, вошь буржуйская!
— Вот бумага, — Кудлаткин в растерянности держал перед собой лист постановления. — Предстоит тебе, Василий Евлампиевич, не этап, а конвоирование в места особые.
— Что за вольности? — рявкнул опять опер и толкнул Турина наганом в спину. — Спелись, гляжу!.. Заключённый Турин, и нет больше у него имени! — зло зыркнул он на начальника тюрьмы. — А далее на номер свой будет отзываться. Шаг вправо, шаг влево — попытка к побегу, а значит, стреляю без предупреждения!
— Да куда же я в тюрьме побегу? — буркнул Турин, нагнувшись за собранной давно котомкой. — Если только команда дадена пристрелить меня?..
— Не дерзить! — взвизгнул опер и погнал Турина перед собой, успев отшвырнуть бросившегося попрощаться Шика. — Не горюй, старик. Скоро встретитесь у чертей на сковородке.
И долго ещё его идиотский хохот эхом перелетал по тёмным коридорам тюрьмы.
Во дворе двое лихо подхватили Турина и, бросив на заднее сиденье легкового автомобиля, запрыгнули следом по бокам.
— Ворота! — потряс наганом опер перед Кудлаткиным. — Что за разгильдяйство?
— Раскрыть ворота! — рявкнул тот опешившему постовому и, когда автомобиль скрылся, выругался: — Сумасшедшая братва в этом ГПУ, а эти аж из Москвы! Примчались… Зачем им понадобился Турин? Важная, конечно, птичка, но чтоб интересовались оттуда?.. Не иначе в расход спешат, чтоб не сбежал.
Однако звонить в верха побоялся, чтобы не накликать беды похлеще, бумагу о выдаче осуждённого конвою подшил и лишнюю заботу свалил с плеч. Кончились его треволнения с этой проклятой «астраханщиной», других забот ворох…
Турин закрыл глаза, оказавшись в автомобиле, вдыхая после вонючей камеры приятный запах бензина, кожи от тужурок конвоиров, дыма от ароматных папирос… Чист всё же воздух на воле!
— Закурить-то не хочешь, Василий Евлампиевич? — не оборачиваясь, вдруг спросил изменившимся голосом забиравший его полоумный с наганом.
У Турина перехватило дыхание.
— Неужели так и не признал? — резко обернулся тот, скинув фуражку, и зубастая улыбка расползлась по его лицу до ушей. — В штаны-то от страха небось наклал?
— Ангел? Мать твою!.. — не дав договорить, охнул Турин и затискал, зацеловал Ковригина так, что водитель, гнавший машину по пустынному городу, вынужден был резко затормозить:
— Василий Евлампиевич! Расшибёмся! И живым вас не довезём…
— А это кто же?.. Маврик! Ты, Павлушка? Ах вы, черти мои! — кидался от одного к другому Турин и поглядывал на рядом сидящих. — А этих ребят не знаю…
— Наши, — коротко бросил с переднего сиденья Ковригин. — Я, Василий Евлампиевич, потом всё тебе расскажу, а сейчас срочно из города надо выбираться.
— Куда же?
— Да тут недалеко, — засмеялся Егор, — километров сто, но и там не задержимся.
— Интересно…
— Перекинем в машину казну воровскую, которую Браух сторожил, Копытов ограбил, а наш Маврик отыскать сумел, и махнём в края необитаемые, где нас никто искать не захочет.
— Не в Сибирь ли собрались?
— А почему нет? Отдышимся, отлежимся, а там видно будет.
— Ладно. Делай, как задумал, — улыбнулся ему Турин, — мне пока в себя прийти надо да расспросить тебя.
— А чего расспрашивать-то, Василий Евлампиевич? Думается мне, вы уже всё скумекали, — хохотал Ковригин. — Обменял я Серафиму на бумагу, которую добыл Богомольцев на конвоирование ваше в неведомые края.
— Вон оно как… — примолк Турин и испытующе глянул на Егора. — Жалеть не станешь?
— А нечего жалеть, — хмыкнул тот. — Серафима мне и подсказала.
— Сама Серафима? — вспыхнул Турин.
— Сама, — сжал губы Ковригин.
— Это что же такое меж вами произошло?
— А ничего. Стар Богомольцев. Да и дела осложнились в верхушке. Генрих Гершенович почти всё к рукам прибрал. Богомольцев молит Бога, чтоб уцелеть. Ему не до Серафимы. Числится она у него домохозяйкой до сей поры, ну а вы её знаете: прикоснуться к себе не позволяет, если сама не захочет.
— Вон оно что… — затянулся папироской Турин и надолго закашлялся. — Я так понимаю, что на этих условиях вы с ней и сговорились? — наконец смог он выговорить.
— Верю я ей, — сверкнул глазами Ковригин. — А с Богомольцевым что случится, она нас найдёт.
— Адрес знает?
— Забывать вы её стали, Василий Евлампиевич… Серафима в адресах не нуждается, жинка умная!
Послесловие
Лукавить не стану — в живых из героев и персонажей, как и лиц, близко их знавших, ко времени начала работы над книгой не было никого.
Как заканчивать историю, задумался я, ведь жизнь тех людей имела право на продолжение?
Каюсь, сколько сам ни старался, сколько ни пытались помочь мне сведующие профессионалы, в распоряжении которых находились и партийные, и государственные, и библиотечные, а также частные архивы и возможности Интернета, судьбы большинства действующих лиц проследить до последнего дня не удалось.
Прежде всего бывший ответственный секретарь Астраханского губкома В. П. Старанников — несомненный покровитель пресловутой «астраханщины» (в романе он значится Странниковым), переведённый в Москву, а по существу, спасённый товарищами по партии в Центре (как и М. Л. Аристов, в романе — Арестов). Старанников поначалу прячется в военно-морской инспекции ЦК ВКП(б), становясь, кроме того, членом Центральной контрольной комиссии — органа высшей совести большевиков, однако, по известным обстоятельствам, удирает на Дальний Восток возглавлять Владивостокский окружком, затем — рыбное хозяйство, и… следы его теряются.
В. Е. Тюрин (в романе — Турин), бывший начальник уголовного розыска, после осуждения во время этапа пропал, как сквозь землю провалился. Но, если пофантазировать, его судьба, его жизненная дорожка могла стать весьма увлекательной, ведь он снова в кругу единомышленников, на свободе, большой профессионал интриг, а впереди — кровавый 1937 год и Великая Отечественная война — море возможностей для таких личностей, как он, Ковригин-Ангел и другие…
Я уже упоминал М. Л. Аристова, который согласно Советской энциклопедии долгое время значился видным партийным деятелем в столице и, казалось бы, спокойно дожил там до последних дней. Однако всё это ложь: из столицы его путь лежал на север, где разжалованный в инспекторы, угодил он под суд как «враг народа» и в одном из лагерей Воркуты скончался.
Биографии большинства работников ГПУ и НКВД во главе с начальником И. Г. Ягодой, как и многих аналогичных персонажей романа, закончились трагично: по сталинской воле завершили они «героический» путь заслуженно — у стенки с пулей в затылке ненавистными народу «ягодочниками», «ежовцами», «бериевцами».
Искренне жаль М. Е. Кольцова. После героических подвигов в Испании он был отозван Сталиным по навету генерального секретаря интербригад Андре Марти, обвинён в шпионаже и расстрелян. Очерк его «Астраханский термидор» об «астраханщине» мало кто успел прочитать, все его произведения были запрещены и уничтожены, но нашлись добрые люди и выручили спасённым экземпляром. Прочитав очерк в оригинале, я понял, почему Ягода возненавидел Кольцова. Кому хочется узнать эту историю, рекомендую великолепные произведения Бориса Сопельняка «Смерть в рассрочку», изд. 1967 г., и «Голгофа XX века» в 2-х кн., изд. 2001 г.
Мне хочется искренне выразить благодарность всем, кто поддержал меня и помогал в работе над книгой.
Особое спасибо Юрию Семёновичу Смирнову, известному астраханскому писателю-прозаику, создателю четырёхтомной «Книги памяти», посвящённой восстановлению честных имён астраханцев и неастраханцев — жертв сталинских репрессий в нашей области. Заслуга его в создании этого исторического труда не оценена современниками, но, думается, найдутся здравомыслящие и восполнят сей горький и постыдный недостаток. Желательно, чтобы случилось это при жизни автора, когда он в этом нуждается сейчас, а не у края могилы.
Неоценимую помощь мне оказал Даниар Батрашев, низкий поклон хранителю милицейских архивов в Астраханском Суворовском училище Олегу Викторовичу Трацевскому и заместителю начальника училища полковнику полиции Анатолию Михайловичу Козину, работникам отдела редкой книги Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской Зое Александровне Малометовой и Алле Горбуновой, руководителям и сотрудникам Астраханского государственного архива.
Я уже писал, что все осуждённые за политические преступления по протестам прокурора Астраханской области были реабилитированы. Занимались этим нелёгким трудом мои коллеги: А. С. Малицкий, Л. М. Маскаева, Е. И. Попов, А. П. Хурчак, Л. Н. Уклистая, Л. В. Стрельникова, Т. Н. Смирнова, А. Г. Коневев, В. М. Баранов, Л. Ф. Александрова, А. Г. Шамайло, Т. К. Кравцова, А. А. Слободских, В. И. Киселёв и начальник отдела П. А. Свистула.
Живым и мёртвым, всем им низкий поклон и безмерная благодарность.
Вячеслав БелоусовПримечания
1
Буквально: желанная личность, пользующаяся особым расположением.
(обратно)2
В греческой мифологии — два чудовища, находиться между которыми означает подвергать себя двойной опасности.
(обратно)3
Буквально — тот, который напротив (фр.).
(обратно)4
Советский режиссёр, прославившийся поиском новых форм агитационного зрелищного театра, в 1940 г. погибший в лагерях ГУЛАГа «врагом народа» и посмертно реабилитированный в горбачёвский период правления.
(обратно)5
А. П. Курдюмов — с 1925 года первый государственный судебно-медицинский эксперт Астраханской губернии, фактически заложивший ростки будущего учебно-экспертного объединения.
(обратно)6
С 1924 года в здании Александрово-Мариинской больницы размещался и кабинет судебной медицины.
(обратно)7
Тэффи (М. А. Лохвицкая). «Праздник дев».
(обратно)8
Курортный городок в Крыму на берегу Чёрного моря в 21 км от Ялты.
(обратно)9
Городок в Крыму с богатым и историческим прошлым; здесь сохранился дворец легендарного хана Гирея, знаменитый Фонтан слёз, воспетый А. Мицкевичем и А. Пушкиным.
(обратно)10
А. Блок. «Моя сказка никем не разгадана».
(обратно)11
Курортный посёлок, бывшее царское имение в Ялте.
(обратно)12
Древнее поместье, возведённое неизвестным царским сановником в виде замка на вершине горы и нависающее над морем.
(обратно)13
Курортный посёлок на южном побережье Крыма с многочисленными санаториями, преимущественно противотуберкулёзного назначения.
(обратно)14
Самый тёплый курорт там же, с дачей «Нюра», где жил А. М. Горький в 1902–1903 гг.
(обратно)15
Одна из живописнейших вершин Главного хребта Крымских гор.
(обратно)16
Лидер перевозчиков в Крыму в 1920-х годах имел более 300 легковушек и десятки автобусов, осуществлял перевозки из Ялты в Севастополь и обратно, а также от Симферополя до Евпатории.
(обратно)17
Мера объёма жидкости, равная 2 водочным бутылкам, 10 чаркам, или 1,23 л.
(обратно)18
С греч. «куколка», в мифологии — женское божество, дочь Зевса.
(обратно)19
Курортный посёлок с обширным парком.
(обратно)20
Самая высокая гора среди Жигулёвских — гора Наблюдатель, её высота 381,2 м.
(обратно)21
Одно из первых дел о вредительстве: в тресте «Донуголь» Шахтинского района Ростовской области органы ОГПУ обнаружили заговор спецов с выходом на деловые круги Парижа, Берлина, Лондона. Арестованные инженеры не признавали обвинения в шпионаже и вредительстве, но на процессе 1928 года были осуждены 49 человек, 5 расстреляны. Следствием командовали Менжинский и Ягода, государственное обвинение поддерживал Вышинский.
(обратно)22
Микобактерия, возбудитель туберкулёза.
(обратно)23
С. М. Будённый — герой Гражданской войны, считается основателем 1-й Красной конной армии.
(обратно)24
Л. Д. Троцкий — один из вождей революции, народный комиссар по военным делам, всю Гражданскую войну командовал Красной армией, признан врагом и выдворен из России после смерти В. Ленина.
(обратно)25
Первичная партийная организация (разг.).
(обратно)26
Давать правдивые показания на следствии (уголовный сленг).
(обратно)27
Оперативные методы для работы с подозреваемыми, кстати разрешённые процессуальными законами.
(обратно)28
Текст из очерка Л. Рейснер «Астрахань».
(обратно)29
10 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет (уголовный жаргон).
(обратно)30
Прекращать производство по эпизодам.
(обратно)31
Известное изречение К. Маркса: «Преступный мир изживёт себя сам».
(обратно)32
Заниматься пустыми разговорами, болтовнёй.
(обратно)33
Один на один.
(обратно)34
Досмотр по камерам (уголовный жаргон).
(обратно)35
Специально монтируемое устройство из металлических стоек и досок для высотных работ на стенах зданий.
(обратно)36
Завод имени III Интернационала, в те времена обеспечивавший ремонт мелких судов и строительство других плавающих средств.
(обратно)37
Популярный фантастический роман Алексея Толстого «Аэлита» с главным героем инженером Лосем, пригласившим всех желающих лететь осваивать планету Марс.
(обратно)38
Название самолёта, на котором осуществлён перелёт по ряду европейских столиц в 1929 году.
(обратно)39
М. Е. Кольцов — основатель и редактор журнала «Огонёк» в 1922–1938 гг.
(обратно)40
Рабочий факультет, в 1919–1940 гг. общеобразовательное учебное заведение в СССР для подготовки молодёжи в вузы.
(обратно)41
Л. Рейснер скончалась от тифа.
(обратно)42
Энзели — городок в персидской гавани в те времена (Иран).
(обратно)43
Воинственная дева, решающая по воле Бога исход сражений (сканд.).
(обратно)44
Э. Делакруа (1798–1863) — известный французский художник, глава мифического романтизма в живописи, и его картина «Свобода, ведущая народ».
(обратно)45
Настоящая фамилия М. Кольцова.
(обратно)46
Б. Сопельняк. «Смерть в рассрочку». М., 2004.
(обратно)47
В салоне Г. Серебряковой встречалась троцкистская группа литераторов.
(обратно)48
Видные большевики, государственные и политические деятели, впоследствии расстреляны как «враги народа».
(обратно)49
Сатирические персонажи одноимённого произведения М. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)50
Узкие протоки в устье Волги.
(обратно)51
Организационное бюро ЦК, орган ЦК ВКП(б), существовал в 1919–1952 гг., был предназначен для решения кадровых и организационных вопросов.
(обратно)52
3 апреля 1922 г. Пленум ЦК ВКП(б) по предложению В. Ленина избрал И. Сталина Генеральным секретарём ЦК ВКП(б), на этом выборном посту он пробудет до своей смерти (1953 г.).
(обратно)53
По известной легенде царь Македонии Александр так решил множество проблем, обнажив меч.
(обратно)54
Бессмертное творение итальянца Д. Боккаччо (1358 г.), прославившееся беспощадной сатирой на безнравственные пороки духовенства.
(обратно)55
И. Сталин и здесь остался верен себе — чистку прошли все его верные соратники: К. Ворошилов, Л. Мехлис, В. Молотов, М. Калинин, Л. Каганович, Г. Маленков, А. Жданов, Н. Хрущёв, А. Вышинский, Л. Берия и многие другие.
(обратно)56
Н. В. Крыленко — в те времена занимал одновременно пост старшего помощника Прокурора Республики и пост заместителя Наркома юстиции РСФСР.
(обратно)57
Первая эпидемия холеры в Астрахани была зарегистрирована в 1892 году.
(обратно)58
Шотландский экономист и философ, идеолог промышленной буржуазии, автор прославившего его труда «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776 г.).
(обратно)59
Филип Дормер Стенхоп, граф Честерфилд (1694–1773 гг.) — английский государственный деятель, дипломат и писатель, автор «Писем к сыну».
(обратно)60
Маленький мешочек с каким-то предметом, заговором, носимый на груди как талисман; может, с горстью родной земли.
(обратно)61
Ствол дерева, бревно, полузатонувшее в воде.
(обратно)62
Наука об исследовании психики, характера, даже судьбы человека по лицу, путем анализа внешних черт лица и его выражения.
(обратно)63
М. Кольцов. «Волга вверх», фельетон, написанный автором в 1928 г., опубликован в 1932 г. в сборнике «Душа болит».
(обратно)64
Одиннадцатый месяц французского революционного календаря (1793–1805 гг.).
(обратно)65
Камера предварительного содержания (уголовный жаргон).
(обратно)66
Вор, специализирующийся на вскрытии сейфов.
(обратно)67
Содержаться в одной камере (уголовный жаргон).
(обратно)68
Грубая одежда судоремонтников.
(обратно)69
Гора в окрестностях Иерусалима, где по Библии распяли Иисуса Христа.
(обратно)70
Сборник «Класс против класса». Речь общественного обвинителя Филова.
(обратно)71
Водка в небольших бутылках, соответствующих меркам: 100 граммов, 250 граммов.
(обратно)72
Лишение политических прав.
(обратно)73
Герой одноимённого романа Джека Лондона, литератор.
(обратно)

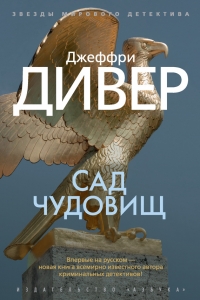





Комментарии к книге «Наган и плаха», Вячеслав Павлович Белоусов
Всего 0 комментариев