Станислав Рем Вкус пепла
© Рем С., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства
* * *
…И мчится на смерть кавалерия В ковыльных российских степях. И пепел сожженной Империи Хрустит на горчащих губах… Н. Дьякова. «Харбинская тетрадь»«Постановление Совета Народных Комиссаров
О красном терроре
(Собр. Узак. № 65, ст. 710)
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.
Подписали: Народный Комиссар Юстиции
Д. Курский,Народный Комиссар по Внутренним Делам
Г. Петровский,Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Вл. Бонч-Бруевич5 сентября 1918 года.
Опубликовано в № 195 «Известий» Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 10 сентября 1918 года».
Глава первая (за шесть дней до постановления «О красном терроре»)
30 августа
30 августа 1918 года, ближе к одиннадцати пополудни, автомобиль председателя Петроградской ЧК притормозил на Дворцовой площади возле дома № 6. В кабинетах бывшего Министерства иностранных дел разместился Комиссариат внутренних дел Северной коммуны. Моисей Соломонович Урицкий резво спрыгнул с подножки авто, с раздражением захлопнув за собой дверцу, не глядя по сторонам, устремился к парадному входу. Распахнув створку двери резким движением руки, игнорируя томящихся в вестибюле посетителей, ожидающих встречи с ним, товарищ председатель короткими упругими шажками устремил свое маленькое приземистое тело к лифтовой кабине.
Какие могли быть посетители после разговора (да какой там разговор… словесная драка, моральное мордобитие, сплошное унижение), который только что состоялся в Смольном.
– Подонки! – зло бормотал в нос первый чекист Северной столицы, покрывая утиным шагом ковровое покрытие до лифта. – Скоты! Да как они смеют так со мной? Мелкие, пакостные людишки… Негодяи! Да я с самим Плехановым рядом стоял! Впрочем, что для них Плеханов? Раритет. Они же теперь – боги! Ничего, ничего… Думают, скрутили? Кукиш! Старик во всем разберется. Еще посидят в «Крестах»…
Старик швейцар, находясь в постоянном ожидании прибывающего начальства, завидев грозного чекиста, тут же кинулся к створкам дверцы лифтового устройства.
Моисей Соломонович притормозил, стремительным движением руки стянул с носа пенсне, быстро протер его вынутой из кармана фланелевой салфеткой, вновь нацепил оптическое приспособление на нос и с новой энергией устремился вперед. Впрочем, до лифта Моисей Соломонович так и не дошел. Именно заминка с пенсне стоила ему жизни.
Едва товарищ Урицкий вошел в помещение комиссариата, как из числа просителей милости от новой власти, что толпились в фойе, в основном возле окон, отделилась довольно ладная, стройная фигура молодого человека в кожаной тужурке и студенческой фуражке на голове, которая устремилась вслед за прибывшим начальством. Никто из присутствующих в холле в тот момент на данный факт не обратил никакого внимания. «Видимо, дело дошло до расстрела родных, – рассудили по-своему поведение юноши просители, ожидавшие встречи с главным чекистом, – вот и кинулся за начальством. Глядишь, авось повезет…»
А юноша, широкими шагами догоняя цель, на ходу расстегнул тужурку, нервно нащупал ребристую рукоять револьвера, торчащего из-за пояса.
Если бы Моисей Соломонович не замешкался возле лифта всего на несколько секунд, он бы в этот момент успел войти в подъемную машину и закрыть за собой дверь. Чем бы и спас себя.
Однако товарищ Урицкий решил протереть пенсне.
Уставшие от долгого ожидания просители вскоре услышали громкий, отраженный каменными стенами выстрел…
* * *
«Вот уже пятую неделю они не вызывают меня на допрос. Любопытно, почему? В чем причина? Неужели их больше не интересуют деньги Губельмана? Бред, такого быть не может. Деньги нужны всегда и всем. Любая власть имеет свойство видоизменяться. Золото же, в отличие от власти, свойства не меняет. Если, конечно, они не считают себя Робинзонами на необитаемом острове. Нет, в том, что обо мне забыли, кроется нечто иное. А что, если большевики проигрывают? Гвардия наступает и побеждает? Крайне сомнительно. Наступать некому. Армия полностью деморализована, развалена под корень. А то, что осталось, – пшик. С таким воинством озверелый Петроград не взять. Любопытно, кто сейчас ведет наступление? Да и ведет ли? Впрочем, какая разница? А большевики – молодцы: своими декретами взяли народец в крепкий оборот. Интересно: станут ли они сами выполнять свои же законы? Или возьмут пример с Керенского?»
Олег Владимирович[1] поднял с деревянного топчана, привинченного к полу тюремной камеры, шинель, накинул ее на плечи. Несмотря на то что на улице буйствовало лето, в одиночке полковника стоял мерзкий, пронизывающий все тело холод. Даже жаркое солнце не могло прогреть толстые стены тюремного каземата. Скорее наоборот. Из-за жары на улице на них появлялся конденсат, пропитывающий влагой все, что находилось в помещении. По этой причине постояльцу данного обиталища приходилось тратить впустую массу энергии: согревать не только самого себя, но и своим телом высушивать мокрую одежду и постель. Вот и в данном случае шинель, накинутая на плечи, давила тяжестью влаги, и не столько грела, сколько создавала иллюзорность тепла. Более-менее согреться у арестанта была только одна возможность, да и то раз в сутки: принять горячую пищу во время обеда. Но то внутреннее тепло держалось недолго, всего несколько минут. А потом телом снова овладевал озноб.
В легких с недавних пор начало происходить нечто болезненное. Кислород с трудом проникал в грудную клетку. Каждый вдох отдавался болью. Появился кашель с отхаркиванием слизи. Иногда, в сумраке дымчатой лампочки, подвешенной под потолком и закрытой металлической решеткой, в плевке можно было разглядеть кровяные нити.
А еще болели все кости, особенно кости перебитых некогда рук. Они ныли хуже зубной боли, которая тоже иногда напоминала о себе.
Впрочем, Олег Владимирович на подобные «мелочи» не обращал внимания. Он находился в постоянном ожидании – ожидании смерти. Он ждал ее с нетерпением. С надеждой, что с ее приходом все закончится. Закончатся холод, бессонные ночи. Громыхание гулкой металлической лестницы под каблуками конвоиров и подследственных. Каждодневная баланда с небольшим куском тяжелого жженого хлеба. И самое главное, закончатся муки, пожирающие изнутри. Муки, вызванные потерей Полины и Сашеньки.
Если бы сейчас Белого спросили: что он ел днем, какой сегодня день, как он себя чувствует, то Олег Владимирович с ходу не смог бы дать толковый ответ.
Чувства? Страдание? Боль? Переживания? Все это более не имело никакого значения. В каменной клетке доживало последние дни физиологическое существо, ранее носившее имя Олег Владимирович. Не жизнь, а бессмысленность, никчемность. Оставили бы шнурки – повесился.
Полковник снова посмотрел тусклым взглядом в тюремное окошко. Скоро вечер.
Забыться в мучительных сновидениях. Прожевать и проглотить некую субстанцию, именуемую «пищей». Справить нужду, что в последнее время стало проблемой. Свалиться «калачиком» на топчан (хоть немного теплее) и, не думая ни о чем, постараться забыться тяжелым сном.
Время для мыслей, воспоминаний, анализа прошло, испарилось. В душе поселилась пустота. Это в первый арест, когда их вместе с Батюшиным определили в соседние камеры, имели место и анализ произошедшего, и «тюремный телеграф», и попытки узнать, что происходит на воле. Теперь ничего этого не было. Да и не хотелось. Стучали в стену – не отзывался. Дважды в камеру подсаживали арестантов – не общался. Ни на какие темы. Один раз даже надзиратель, грубо нарушая тюремный режим, попытался его разговорить. Без толку. Белый молчал.
Впрочем, истины ради следует признать: один раз он разговорился. И не с кем– нибудь, а со своим следователем. Олег Владимирович усмехнулся: да, тогда беседа вышла прелюбопытная. Получилось, не чекист его допрашивал, а он провел ему допрос. А тот того даже не заметил. Белый вторично горько усмехнулся: «Господи, куда катится страна? Безграмотные матросы выполняют функции полицейских, а профессионалы-полицейские сидят в тюрьмах. Бред… Впрочем, отчего бред? Как раз сие и есть закономерный результат происшедшего». Бред проявился полтора года назад. Когда ни с того ни с сего, неожиданно для всех, в марте семнадцатого, сразу после прихода к власти, Временное правительство арестовало практически весь цвет российской разведки и контрразведки. Когда политические проститутки, скинувшие царя, испугались, что на свет божий всплывут довольно любопытные материалы, связанные с коррупцией в военной сфере, в которой практически все они были замешаны. Правильно говорят: кому война, кому мать родна…
Олег Владимирович с силой сжал веки глаз.
«Хотя нет. Зачем себе врать? Бред начался значительно раньше, со смертью Его Императорского Величества Александра Второго, который, словно кость в горле, стоял у всех своих родственников из-за желания сделать плебейку княгиню Юрьевскую императрицей. Недаром, ох недаром тогда по Петербургу так долго бродили слухи о причастности царской семьи к его кончине».
Белый с силой стиснул зубы.
«А может, еще раньше? С 6 декабря 1876 года, когда террористка Вера Засулич выстрелила в Трепова? Не только градоначальника, но и отца семейства? То есть в человека! И ее оправдали, отпустили. Покушение на самое святое, на жизнь, оказалось не преступленным деянием. Может, действительно, отсюда начало всех бед? И его личных, в том числе?»
Олег Владимирович со стоном повернулся на бок.
Вспоминалось все как-то само собой. Кусками. Отрывками.
Отец. Москва. Академия. Лондон. Петербург. Одесса. Стамбул. Париж. Снова Лондон. Полковник Павлов. Благовещенск. Полина. Крестины Сашеньки. Порт-Артур. Адмирал Макаров. Сибирь. Иркутск. Водка. Вызов Батюшина в Петроград. Арест. Целый калейдоскоп…
Первым из «Комиссии Батюшина» Временное правительство упекло в «Кресты» полковника Якубова, руководителя контрразведки Петроградского военного округа. За ним следом пошел подполковник Нордман, начальник особого отделения при штабе командующего флотом Балтийского моря. Чуть позже вместе с ним, Белым, и Батюшиным арестовали полковника Ерандакова из Главного управления Генштаба. Ну а дальше последовала волна: подполковник Юдичев, полковник Фок, помощник прокурора Петроградского военно-окружного суда полковник Резанов… Всех загребли. Всех, кого смогли достать. По липовым, надуманным обвинениям.
«Дурачки, – непроизвольно проговорил вслух узник камеры номер 24, – думали, после первого допроса сломаемся. Ничего-то у вас, господа, не получилось».
«Хотя нет, – Олег Владимирович с силой прикусил губу, – получилось, вышло-таки у них. Убили мою семью не большевики. Те пришли после. На могилы. Убили они, свои! – Шепот сам собой срывался с потрескавшихся губ арестанта. – Год назад, когда я еще топтал эти тюремные плиты. Ироды. Сволочи… Своими бы руками, да за глотку, да так, чтобы хрустнуло…»
Олег Владимирович резко развернулся к стене, заплакал. Наконец-то слезы пробились сквозь зачерствелость век…
* * *
Демьян Федорович[2], отреагировав на звук открываемой двери, оторвал взгляд от листов с показаниями чекистов, посмотрел на вошедшего. Точнее, вошедшую.
«Вот б… – чуть не сорвался с уст бывшего матроса, а ныне чекиста Доронина сочный матюк, – принесла нелегкая… Теперь начнется…»
Переживать и материться Доронину было с чего. Вошедшая, Яковлева Варвара Николаевна[3], обладала очень эффектной внешностью: красивая, стройная, с тонкой талией и высокой, упругой грудью, с первого взгляда поражавшая сердце не одного мужчины. Казалось, что она могла принести мужчине полное мужское и семейное счастье. Однако как раз с семейной-то жизнью у товарища Яковлевой и не сложилось. И причиной стала непередаваемая страсть Варвары Николаевны до революционных дел. Глядя на ее миловидное скуластое личико, ее ладную фигурку, любой представитель сильного пола мог сопоставить эту женщину только с семейным очагом и веселым, многодетным семейством. На деле Варвара Николаевна была первым помощником начальника грозной Петроградской ЧК и, что самое любопытное, личным доверенным лицом в Петрограде самого Железного Феликса, то есть Феликса Эдмундовича Дзержинского, который и отправил ее в Питер из Москвы три недели назад в связи с расследованием «заговора послов». За прошедшие двадцать суток, что товарищ Яковлева провела в ПетроЧК, она настолько сумела «войти в суть проблем», что Доронин перестал видеть в ней не то что женщину, но человека в целом. И характеризовал ее в душе только одним словом: б…ь.
Как-то Доронину довелось услышать одного мужика, что писал стихи. Тот читал собравшимся в кубрике «братишкам» свою поэму. Всю ее Доронин не запомнил, а вот название запало в голову, потому как оно полностью соответствовало Варваре Николаевне. «Облако в штанах». Точнее и не скажешь. Вроде и баба, а ничего бабьего в ней и нет. Особенно название, «облако», вспомнилось матросу в этот черный траурный день после утреннего ЧП: убийства товарища Урицкого. Яковлева с ходу, без согласования с кем бы то ни было решила взять бразды правления Чрезвычайной комиссией в свои белые холеные ручки и во всеуслышание объявила о том, что теперь она лично будет руководить ПетроЧК.
– Я не поняла, Демьян, – тут же «взяла голосом» товарищ Яковлева, даже не подумав прикрыть за собой дверь, – ты что же это творишь?
– То есть? – Доронин, как смог, изобразил на лице недоумение.
– Не понимаешь? – чуть не взорвалась начальница. – С какой стати занимаешься расследованием убийства товарища Урицкого, когда за это взялись комендатура Петрограда и ГубЧК? Кто тебе дал право…
Матрос вторично едва сдержал матюк: говорил же, без скандала не обойдется.
– Ты, товарищ Яковлева, того… Голосом не бери. – Чекист произносил слова глухо, будто те не желали вылетать из груди, а потому их приходилось с силой выталкивать. – Я сам, что ли, вызвался? Глеб Иванович приказал. Наше дело маленькое.
Варвара Николаевна открыла было рот, но тут же сдержала себя:
– Бокий?
– А что, у нас уже есть другой Глеб Иванович?
Яковлева слегка притихла, охолонула.
– По какой причине?
– Так по той. Сказал: мол, спасибо, конечно, товарищам из комендатуры и Губчека за поимку да за первый допрос, однако то наше дело. То есть ПетроЧК. А после приказал забрать у них дело и провести расследование.
– И они отдали?
– Нет, – вынужден был признаться матрос, – сказали: раз начали, сами и закончат.
Варвара Николаевна сочно выругалась:
– Бардак! Везде и во всем! Прав, сто раз прав Феликс, что прислал меня сюда. Я у вас здесь, мать вашу, порядок наведу. Кто с тобой работает над этим делом?
– Так это… Озеровский.
– Это что ж, бывшему жандарму Бокий доверил провести расследование убийства товарища Урицкого? – Тут Яковлева сдерживать себя не стала, выматерилась от души. – У него что, совсем ума не стало? Ничего, по поводу Озеровского разберемся! Спросим! Говоришь, приказали… Так выполняй приказание. Ищи сообщников убийцы. Контру! Беляков недорезанных! А ты херней всякой маешься! Почто держишь под арестом товарищей-чекистов? Тебе что, мало того что они поймали убийцу товарища Урицкого «на горячем», так ты с них еще и показания снимать вздумал? Что за протоколы? Какой допрос? Ты что, Демьян, совсем из ума выжил?
– Под каким арестом? – Доронин привстал. – Ты, Варвара Николаевна, говори, да не заговаривайся! Никто никого не арестовывал! А протокол для суда. Для трибунала! Чтобы могли, значит, ознакомиться с делом. Со всех, так сказать, сторон. Как произошло убийство, со слов этих… При каких обстоятельствах арестовали убийцу? Что при нем нашли? Ну, и так далее…
– Озеровский надоумил? – догадалась Яковлева.
Доронин промолчал. А что ему было ответить?
Варвара Николаевна обернулась, с силой захлопнула створку двери, после чего вернулась к матросу:
– Ты, Доронин, дурак или действительно чего-то не понимаешь? Если не понимаешь, так скажи. Поможем, разъясним. Того сопляка, убийцу Соломоновича, завтра расстреляют! И без твоих бумажек! Как врага народа! А если дурак, то тебе нечего делать в ЧК. Так что выбирай: или остаешься и служишь республике как положено, либо собирай манатки и мотай в Кронштадт, к матросне своей!
При последних словах Доронин резко встал, отчего теперь возвышался над товарищем Яковлевой почти на две головы. На челюстях моряка, под седоватой небритостью, играли желваки.
– А ты, Николаевна, на меня не дави. – От гнева и без того широкая грудь отставного матроса расширилась еще больше, из-под гимнастерки выглянула полосатая тельняшка. Тельник под гимнастеркой треснул. – Утихомирь давилочку. Меня в ЧК не ты поставила, а партия. А потому партия и решит, как со мной быть дале. А ты, Варвара Николаевна, у нас еще не партия. А посему буду поступать так, как мне велит партбилет. А он велит соблюдать законность. А по закону…
– Доронин, ты мне тут ликбез перестань читать! – вспылила женщина. – Меня, между прочим, тоже партия сюда поставила. А потому будешь выполнять то, что прикажут!
– Буду! – тут же отреагировал Доронин. – Любой приказ ЦК выполню! Но ЦК, а не твой лично. Тебя, Варвара Николаевна, точно, партия прислала. Не спорю. Однако ж руководить ПетроЧК вместо Соломоновича она тебя не назначала. Не было такого приказа из Москвы. И то, что ты заняла место товарища Урицкого, – явление временное. Так сказать, необходимое. На несколько дней. Вот прибудет Феликс Эдмундович, тогда все и определится. И по закону, и по делу.
– Вот именно, – женщина тяжело дышала, от чего ее высокая грудь ходила ходуном. Впрочем, Доронину на сей факт было абсолютно наплевать, – а пока он не приехал, будете выполнять мои указания. Ясно? Вопросы есть? Вопросов нет.
Доронин еле сдержался, задавил в себе едва не сорвавшийся матюк, спрятал взгляд: ох, будет в нашей хате драка. И еще какая… Бокий ведь просто так не сдастся.
Варвара Николаевна тоже перевела дух.
– Убийцу допросили? – более спокойным тоном поинтересовалась.
– Да.
– Ты?
– Нет. Комендант Шатов.
– Убийца признался?
– Признался.
– Вот и хорошо. До завтра, до приезда Феликса Эдмундовича заключенного не трогать. На допросы не вызывать. Дзержинский сказал, что хочет с ним лично поработать. И никакой, слышишь, Доронин, никакой самостоятельности, если ты, конечно, еще хочешь продолжать служить партии. Смотри, Демьян, завтра не я, сам Феликс с тебя спросит. И еще, – проговорила Варвара Николаевна резким, стремительным движением руки оправляя юбку, – Доронин, ты почто еще не расстрелял Белого? А?
«Ух ты, – вторично удивился отставной матрос, – про беляка вспомнила. Даже я о нем забыл. И какая падла ей на ухо все нашептывает?»
– Так, – принялся выкручиваться чекист, – Моисей Соломонович приказал не трогать до поры до времени. Точнее, не трогать беляка до тех пор, пока тот не признается, куда и на какие счета перевел деньги банкира Губельмана.
– Сам Соломонович приказал?
– Ну да.
– Это какого Губельмана? – тут же проявила интерес Варвара Николаевна. – Уж не того ли, что помог товарищу Зиновьеву с поставками продуктов в Петроград?
– Совершенно верно. Того самого.
– И много денег?
– По словам Губельмана…
– Товарища Губельмана! – неожиданно поправила Яковлева.
– Что? – не понял Демьян Федорович.
– Я говорю: товарища Губельмана. Товарища! Ясно?
– Понял.
– И сколько?
– Два с половиной миллиона. Золотом.
– Ни… себе… – Чуткое ухо Доронина расслышало знакомое с детства словосочетание. – И как это произошло? Когда?
– Всего еще не знаем. Этого беляка арестовали только из-за того, что на него донес Губельман. А в двух словах дело было так. Губельман еще до войны занимался продажей машинок «Зингер». И не только здесь, в Питере. Но и в Сибири. Там он в первый раз и стакнулся с его благородием.
– Не с благородием, а врагом революции! – жестко уточнила Яковлева.
– Ну да… – смутился матрос. И продолжил: – Че у них там было, в Сибири, сам пес не разберет. Только перед временными они снова стакнулись, но уже здесь, в Питере. Белый еще при царе посадил Губельмана. И дело шло к расстрелу. А после, бац, сам полковник загремел на нары. А товарища Губельмана выпустил господин Керенский. – Демьян Федорович хитро прищурился: он специально принялся употреблять слово «товарищ» по отношению к фамилии «Губельман» как можно чаще – нехай Варька поморщится. Товарища и выпустил сам Керенский… – Ну а после нашей победы товарищ Губельман признал Белого на улице, вот тот у нас и появился.
– А что по поводу денег говорит сам Губельман?
– Сказал, что беляк у него все изъял, спрятал где-то в Европе. Готов отдать все на благо дела революции.
– Точно изъял или, мол, изъял?
Доронин пожал сильными, широкими плечами:
– Бес его знает. Может, брешет.
– А беляк, значит, молчит?
– Как воды в рот набрал, – соврал Доронин. Опять же не по личной инициативе.
– Сука! – не сдержала эмоций Варвара Николаевна. – В городе нехватка продуктов. Голод. На человека осьмушку хлеба выдаем. Да и того осталось с гулькин нос. А этот… Два миллиона… Какие деньжищи! Почему молчит? Нас ненавидит?
Доронин едва сдержал вздох: ох и умеет Варвара Николаевна напустить туману. Осьмушка хлеба… Да, полгода тому так оно и было. Но по лету-то полегчало.
Яковлева с нетерпением ждала ответ.
– Да вроде нет. Ненависти в нем не видно. Равнодушный он какой-то. Мертвый. Молчит все время. Ни с кем не разговаривает.
– Методы принуждения применяли?
– То есть?
– Ты, Доронин, из себя «целку» не строй. Пытали?
– Так ведь запрещено!
– Детворе, пухнущей от голода, будешь рассказывать, что разрешено, а что запрещено! Может, они тебя поймут. А я нет! Чтобы сегодня же приступил! Лично! Понял? И результаты мне на стол! Даю два дня! Всего два! Не захочет расколоться – в расход! Нечего на него хлеб переводить. И смотри, – тонкий указательный палец красавицы, словно ствол револьвера, больно ткнул матроса в грудь, – если что, с ним вместе под трибунал загремишь!
* * *
Озеровский[4] Аристарх Викентьевич – бывший следователь имперской уголовной полиции, а ныне, в силу житейских обстоятельств, доброволец, сотрудничающий с ЧК, – оправил на животе жилетку, одернул полы видавшего виды сюртука, после чего робко постучал костяшками пальцев по полированной поверхности двери.
– Входите! – донеслось из кабинета.
Аристарх Викентьевич служил в Чрезвычайной комиссии почти три месяца, с начала лета, однако до сих пор не мог привыкнуть к тому, что находится в подчинении сильного духом и телом полуграмотного и нагловатого матроса из Кронштадта.
Доронина старый следователь побаивался. И за грубую силу, которую тот мог применить, и однажды применил у него на глазах, во время разгона захватившей продовольственные склады мужицкой массы. И за хитрый ум. И за крепкое, непривычное уху следователя словцо, отдающее морской солью и ветрами дальних странствий. А также за открытость характера. Да-да, и за открытость, коей не могли похвалиться его прежние сослуживцы по Санкт-Петербургскому департаменту уголовного сыска, основной целью своего существования считавшие подсидеть вышестоящего коллегу и занять нагретое им местечко.
Аристарх Викентьевич приоткрыл дверь, просунул в образовавшуюся щель голову:
– Разрешите?
Демьян Федорович тяжело вздохнул: ну и противный же этот тип, Озеровский. Сколько можно… Идти к себе на рабочее место и зачем-то стучать в дверь! Причем противно стучать, эдак, гаденько постукивать. Издевается, что ли?
– Входите, Аристарх Викентьевич! – выкрикнул чекист, с силой хлопнул ладонью по столу, убив муху. – Да не топчитесь в дверях, ей-богу.
Озеровский проник внутрь помещения, осторожно прикрыл за собой дверь.
– Послушайте, Аристарх Викентьевич, – выдохнул отставной матрос, – мне это начинает надоедать. Кажный божий день вы приходите на службу и начинаете с того, что барабаните в дверь своего же кабинета, встаете при появлении любого, заметьте, любого, даже самого мелкого посетителя. Постоянно прячете в стол бумаги. Выходите из кабинета при появлении руководства. Словом, ведете себя так, будто не в ЧК служите, а сами ждете ареста. Ну нельзя же так, Аристарх Викентьевич!
– Нельзя, – согласно кивнул головой следователь, – но по-иному, простите, как-то не получается. – Голос у Озеровского был мягкий, бесплотный, и, как однажды высказался Доронин, безвольный. Вот этим безвольным голосом Аристарх Викентьевич теперь и оправдывался: – Я ведь, как вам известно, пребывал не только по сию сторону решеток, но и по иную.
– Так то при Временном было! – вставил реплику Доронин. – А теперь чья власть? Наша, народная! То есть советская! А вы являетесь защитником новой власти. А потому ведите себя соответственно. Что смогли узнать? – с ходу перешел к делу матрос.
– Не очень много, как того бы хотелось. Но довольно существенное. Простите, Демьян Федорович, вы допрос наших сотрудников уже произвели?
– Да. – Доронин кивнул на лежащие на столе бумаги. – Правда, не понимаю зачем? Для чего вы меня попросили провести эту, так сказать, беседу? Ведь и так понятно: Канегиссер убил товарища Урицкого. Сотрудники ЧК Геллер, Фролов, Шматко и Сингайло, а также солдат Андрушкевич из 3-го Псковского полка задержали убийцу. Что непонятного? Удивляюсь, как они еще сдержались, там, на чердаке, и не прикончили студента. Будь я на их месте, шмальнул бы из маузера пару раз, да все дела.
– И тогда бы нарушили закон, – тихо заметил Озеровский.
– Ой, вот только не надо мне палубу драить! – отмахнулся Доронин. – Контра она и есть контра! К нам с приветом – мы с ответом!
– Но если так подходить, с такой именно позиции, то любой мальчишка-форточник может стать контрой, – негромко проговорил следователь.
– А вот палку перегибать не надо. – Доронин заломил левую руку за голову, почесал затылок. – Мы тоже с понятиями. Разбираемся: кто ворует по голодухе, а кто из соображений обогащения. Так-то.
– По причине, как вы выразились, голодухи вовсе не обязательно воровать. Я вот к вам пришел именно из-за голода, но не воровать, а работать. Честно зарабатывать на хлеб.
– А мы вас за это и ценим. Только не все могут зарабатывать. Где, скажите, может честно заработать малец, у которого нет никакого опыта работы? То-то! Нигде! По крайней мере сейчас. Но ничего, мы и с этим справимся. Всему свое время. Так что вы там выходили?
– Простите, Демьян Федорович, с вашего разрешения, позвольте сначала взглянуть на протоколы допроса.
– Какого допроса? – Доронин раздраженно кивнул на бумаги. – Нашего? Или Сеньки Геллера? Или Шатова? – Чекист на сей раз не сдержался, зло выругался. – У нас сейчас сам черт не поймет, кто занимается этим делом. Все как с цепи сорвались.
– Если позволите, – Озеровский поморщился: он терпеть не мог бранных выражений. Тем более из уст официальных лиц, – протокол вашего допроса. С протоколами, составленными Шатовым, я уже знаком. С протоколом допроса граждан, задержавших Канегиссера.
– Товарищей! – с ударением произнес Доронин. – Товарищей, а не граждан! И запомните это на будущее.
– Хорошо. Товарищей.
– То-то! Вот, смотрите. – Отставной матрос протянул листы. – Отчего ж не посмотреть. Это ж ваша… Эта… Как ее… Все забываю слово…
– Инициатива.
– Точно. – Демьян Федорович тряхнул головой. – Ну и напридумывали слов. Нет чтобы по-простому, ясно, понятно. Так нет же, все навыворот, чтобы непонятно было, кто о чем говорит. Инициатива… Язык сломать можно.
А Аристарх Викентьевич мысленно ругался по иному поводу.
Точнее, по нескольким. Во-первых, он никак не мог понять, в чем и был солидарен с Дорониным, почему для расследования столь простого дела (убийца задержан, во всем признался) работали три следственные группы, когда достаточно одной, хотя бы той же Губчека? Во-вторых, непонятно: почему действия групп между собой никак не соприкасались? Точнее, почему Бокий приказал не контактировать с другими группами? Ведь допрашивали одних и тех же свидетелей.
Далее. Почему, по какой причине первый допрос убийцы произвели не Бокий или Яковлева, преемники Урицкого, чекисты, а комендант Петрограда Шатов? Причем допрос был проведен крайне бестолково и безграмотно. Почему убийцу сразу отвезли не в ЧК, а в здание Петросовета?
Вся эта туманность крайне нервировала опытного следователя.
Вдобавок ко всему Озеровского выводил из себя почерк матроса. Разобрать написанное Дорониным было все одно что с ходу расшифровывать древнеегипетские иероглифы. Буквы, написанные мозолистой рукой матроса, напоминали крючки, которые жили на бумаге самостоятельно, даже не цепляясь друг за друга. Между ними оставалось такое расстояние, в которое Озеровский при желании смог бы вставить целое слово. Оттого смысл не то что предложения, а одного словосочетания полностью терялся, исчезал в таинстве доронинской криптографии.
– Простите, не поможете? Что это за слово? – следователь протянул протокол чекисту. – Пре… При…
Указательный палец Озеровского ткнул в написанное. Демьян Федорович присмотрелся.
– Предупредительный выстрел. Шматко так сказал. Фролов сделал, после чего Канегиссер сдался.
– Понятно. – Аристарх Викентьевич едва сдержал недовольный выдох. – Фролов и Сингайло подтверждают слова Шматко?
– Сингайло ничего не видел, оставался внизу. Вместе с Андрушкевичем.
– А Фролов?
– Фролов подтвердил. А чего не подтвердить? Взяли, арестовали, вся недолга. А что не нравится?
– Да как вам сказать… – следователь аккуратно вернул листы на стол, после чего, по старой привычке заложив руки за спину, стоя на месте, принялся раскачиваться с носка на каблук, – неточности имеются, точнее, некоторые разночтения. В том, что рассказывают наши товарищи, – с трудом вытолкнул из себя последнее слово Озеровский, – и тем, что сообщили жильцы дома, в котором арестовали убийцу товарища Урицкого.
– Кто? Жильцы? – Доронин потер рукой щетину на щеке. – Какие жильцы? Вы что, опрашивали жильцов?
– Пришлось, – следователь пожал плечами. – Признаться, не думал этого делать, но так вышло, – осторожно добавил Аристарх Викентьевич.
– Вы зачем туда поехали? – Отставной матрос тут же мысленно увидел перед собой Яковлеву, услышал ее крик: «Ты каким местом думаешь, Доронин?» Отчего не смог сдержать эмоции. – Вы для чего туда вернулись? Что вы там вынюхивали? Что было непонятного, что вас потянуло на Миллионную? Не верите нашим товарищам?
– Простите, – поначалу голос старого следователя дрогнул, но потом в нем неожиданно зазвучали мужественные нотки, – я не вынюхивал! Хоть нас в незапамятные времена и называли «легавыми», и тем не менее… А искал я доказательства вины убийцы товарища Урицкого. По личному распоряжению господина Бокия! И если вы считаете расследование уголовного преступления вынюхиванием… Можете прямо сейчас закрыть дело.
Доронин несколько раз сжал и разжал кулаки. Полегчало. И с чего он накинулся на старика? Только с того, что на него самого наорала истеричка? Так ежели каждая баба будет вот так кипятком шпарить, то и житья не станет.
Демьян Федорович хмыкнул, слегка улыбнулся, ощерив практически беззубый рот:
– Обиделись? Напрасно. Простите, не сдержался. День сегодня такой… Неудачный. Так что вас насторожило? Или это слово тоже неприятно?
– Да нет. – Озеровский снова заговорил тихо, с придыханием. – Вы только что правильно заметили. Потянуло. Я вот сам себе задал вопрос: почему убийцу товарища Урицкого сразу после совершенного преступления потянуло именно на Миллионную? Именно в тот дом? Может, он там проживал? Ответ отрицательный. Канегиссер проживает в Саперном переулке, вместе с родителями. Кстати, довольно известная, зажиточная семья.
– Их уже арестовали.
Озеровский вздрогнул. Такого шага от ЧК он не ожидал.
– Думаю, напрасно вы так поступили, Демьян Федорович.
– Так поступил не я, а комендант Шатов. Нам только доложили. А что не так?
Озеровский нахмурился: еще одна странность. Не слишком ли много на одно по большому счету банальное уголовное дело?
– Семья преступника к нашему делу не имеет никакого отношения. Впрочем, – тут же быстро продолжил сыщик, – возвратимся к интересующим нас вопросам. А может, на Миллионной, в том доме, в той квартире, куда забежал Канегиссер, проживают друзья убийцы? Снова ответ отрицательный. Я прошел по соседям. Никто и никогда в том доме Леонида Канегиссера не видел. По крайней мере никто в том не признался.
– Могли соврать, – вставил аргумент Доронин.
– Могли, – согласился Аристарх Викентьевич, – только, думаю, вряд ли. Если Канегиссер заранее рассчитывал скрыться именно в этом доме, и если он с кем-то находился в сговоре, те должны были ему помочь, приготовить пути к отступлению. Потому как не в интересах сообщников арест убийцы. Проще либо впустить преступника, закрыв за ним дверь, а потом вывести из квартиры через черный ход или чердак. На крайний случай окно, а там по крышам в соседние дворы, а то и на соседний квартал. Либо убить на месте. В виде самообороны. И этим обрезать все следы. В нашем же случае мы не наблюдаем ни первого, ни второго.
– Думаете, убийца вбежал в дом случайно?
Следователь задумчиво покачал седой головой.
– Вот этого-то я и не думаю. На данной версии настаивает сам преступник. Что крайне подозрительно. Имеется один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. – Озеровский перелистал лежащие на столе и уже изученные им ранее бумаги, извлек один из исписанных листов, поднес к глазам. – Вот, послушайте, что говорит Канегиссер во время допроса, который вел комендант Шатов. «Я, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, студент Политехнического института, 4-го курса, принимал участие в революционном движении с 1915 г., примыкая к народным социалистическим группам. Февральская революция застигла меня …» Это пропустим. Дальше. «Утром 30 августа, в 10 часов, я отправился на Марсово поле, где взял напрокат велосипед и направился на нем на Дворцовую площадь, к помещению Комиссариата внутренних дел. В залог за велосипед я оставил 500 руб.». – Озеровский оторвал взгляд от документа. – Здесь мы имеем подтверждение. Далее: «Деньги эти я достал, продав кое-какие вещи. К Комиссариату внутренних дел я подъехал в 10.30 утра. Оставив велосипед снаружи, я вошел в подъезд и, присев на стул, стал дожидаться приезда Урицкого. Около 11 часов утра он подъехал на автомобиле. Пропустив его мимо себя, я поднялся со стула и произвел в него один выстрел, целясь в голову, из револьвера системы «Кольт» (револьвер этот находился у меня уже около 3 месяцев). Урицкий упал, а я выскочил на улицу, сел на велосипед и бросился через площадь на набережную Невы до Мошкова переулка и через переулок на Миллионную улицу, где вбежал во двор дома № 17 и, вбежав в подъезд, бросился в первую попавшуюся дверь. Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, переодевшись в него, выбежал на парадную лестницу, где и был схвачен. Протокол был мне прочитан. Запись признаю правильной». – Озеровский аккуратно положил протокол на стол. – А теперь о том самом моменте, который мне не по душе. По какой причине убийца решил покинуть дом по парадной лестнице? Он что, не понимал, что его обязательно будут ждать и с черного, и с парадного хода? Повторюсь: намного проще и понятнее сделать попытку уйти по крышам, через окно. – Озеровский глянул на матроса сонными, уставшими глазами. – К тому же, обратите внимание, во время первого допроса Канегиссер ни словом не упоминает о шинели Сингайло. Почему? Запамятовал? Растерялся? Или злую шутку сыграла паника?
– Паника?
Доронин хмыкнул, протянул руку, поднял со стола только что зачитанный протокол допроса, медленно, по слогам, прочитал еще один фрагмент:
– «Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня только тогда, когда в печати появились сведения о массовых расстрелах, под которыми имелись подписи Урицкого и Иосилевича. Урицкого я знал в лицо. Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его и выбрал для этого день его приема в Комиссариате внутренних дел – пятницу, 30 августа». – Демьян Федорович провел рукой по небритой щеке. – Как вам это? Тут никакой паникой не должно пахнуть. Десять дней ждал, мститель хренов. Контра недобитая…
– Какие десять дней? – не понял Аристарх Викентьевич.
– Так вот же, написано. – Доронин тряхнул листком. – Возникла мысль, когда прочитал газеты о массовых расстрелах за подписью Урицкого. А такой указ был один, десять дней тому назад.
Озеровский нахмурился: вот это да! А ведь точно, последний расстрельный приказ был опубликован 22 августа. А он сей факт во внимание не принял. Вот тебе и матрос…
Демьян Федорович кинул лист на стол, криво ухмыльнулся:
– Массовые расстрелы. Двадцать человек. Тьфу, ерунда. Знал бы сопляк, что такое массовые расстрелы? Или вы тоже считаете, будто двадцать контриков – это масса? Молчите? Значит, поддерживаете.
– Молчание не всегда есть подтверждение какого-либо факта.
– Красиво сказали, – матрос хлопнул себя по коленям, обтянутым армейскими галифе, – хоть и непонятно. Ну да бог с ним, с вашим фактом. А что вам еще показалось странным? Ведь показалось, вижу.
В чем-чем, а в наблюдательности матросу отказать было нельзя. Все увидел, шельма, будто сквозь увеличительное стекло.
Аристарх Викентьевич набрал в легкие кислороду и, будто ринувшись с головой в ледяную воду, произнес:
– Практически все.
– А точнее? – тяжело выдохнул Доронин. Нет, определенно, сегодня неудачный день. То Яковлева душу мотала, теперь старик свалился на голову со своей туманностью.
– Ну, хотя бы взять тот факт, как студент готовился к убийству.
– И как? – Демьян Федорович скептически посмотрел на старика. Любопытно, что божий одуванчик может знать о том, как готовятся покушения? – Взял револьвер, убил. Все!
– Да нет, Демьян Федорович, в том-то и дело, что не все так просто. – Озеровский, видя, что его пусть несерьезно, но все-таки внимательно слушают, принялся подыскивать убедительные аргументы. – Конечно, идеальный вариант нам самим допросить Канегиссера, его родных. Чтобы получилась полная картина.
– Варька запретила трогать пацана до приезда Феликса Эдмундовича.
– Что ж, как говорится: хозяин – барин, – Аристарх Викентьевич аккуратно огладил полы сюртука. Ох, как не нравилось ему то, что в данную минуту творилось вокруг, – только странно это. Следователь не может допросить подозреваемого? Не находите?
– Нет, не нахожу, – отрезал чекист. – Какой же этот сопляк подозреваемый? В убийстве признался? Признался. Вину взял на себя? Взял. Все, амба! Или думаете, он вам что-то иное запоет?
– Сомнительно, – стушевался старик.
– Вот видите. Задача у нас одна: выяснить, были сообщники или нет? А в данном деле Канегиссер нам не помощник. Даже, наоборот, обуза. Начнет врать, вилять. Уводить, так сказать, с пути истинного. Только время потеряем. Так что у вас за соображения, Аристарх Викентьевич?
Озеровский бросил быстрый взгляд на коллегу: никак не мог привыкнуть к резкости интонаций в речи отставного матроса и к тому, как тот стремительно меняет направление разговора.
– На данный момент мы имеем достаточно материала для раздумий. И для некоторых выводов. Взять, к примеру, такой факт. Нормальный преступник, я акцентирую ваше внимание, Демьян Федорович, на слове «нормальный». Так вот, нормальный преступник по своей сути есть аналитик. Иначе ему никак нельзя, потому как на кону стоят жизнь и свобода. Он обязательно тщательно продумывает пути ухода с места преступления. Все варианты! Даже дилетант. Желание сохранить жизнь и свободу после совершенного преступления – нормально для преступника. А посему Канегиссер, как человек далеко не глупый, перед тем как прийти в комиссариат, должен был как минимум продумать пути отступления. Вы сами только что сказали, у него имелось десять дней для этого. Целых десять дней! Изучить местность. Проверить проходные дворы, наличие замков на воротах. И так далее. Причем Канегиссер должен был осознавать, что времени у него будет мало. Практически в обрез. По причине преследования. При этом, заметьте, в данной ситуации самым идеальным вариантом скрыться от погони был следующий: не стремиться изо всех сил на Миллионную, как поступил убийца, а, покинув здание комиссариата, спокойно свернуть под арку, на Морскую, всего сто шагов, а оттуда на Невский и смешаться с толпой. Там бы его сам черт не нашел! Однако преступник упорно стремится именно на Миллионную, пересекая всю пустую, открытую Дворцовую площадь. Растерялся, потому и выбрал самый неудобный путь для бегства? Нет. – Озеровский уверенно тряхнул головой. Теперь его голос звучал крепко, на удивление Доронину. – Почему нет? Да потому, что студент заранее избрал именно данный путь отхода, потому-то и взял напрокат велосипед. На Невском, и с велосипедом? Крайне приметно. Ладно, допустим, Канегиссер дилетант и действительно плохо спланировал уход. Решил, что уйти по Миллионной, на велосипеде, проще. Но он и далее поступает нелогично. Вместо того чтобы, свернув на Миллионную, тут же спрятаться в ближайшем подъезде или подворотне, а оттуда, воспользовавшись вторым выходом, проскочить через проходные дворы на соседнюю улицу, убийца сломя голову несется на своем велосипеде по практически пустой Миллионной, словно иных вариантов у него нет. В результате Канегиссер становится идеальной мишенью для преследователей. Опять случайность? Далее: так и не воспользовавшись проходными дворами, потеряв драгоценное время, преступник, теперь наконец понимая, что его догоняют, бросает велосипед и, по совершенно дикой случайности, вбегает именно в тот дом, в тот единственный дом на Миллионной, в котором черный выход заколочен еще со времен господина Керенского. Я проверил. Все дома, что стоят рядом с данным строением, имеют открытый второй выход. Все! Кроме интересующего нас дома! – Озеровский развел руками. – У господина Канегиссера сегодня был на удивление невезучий день! Если не считать того, что он все-таки выполнил намеченное. А в остальном… Невольно напрашивается вопрос: что это? Критинизм? Или нечто иное?
Следователь протянул руку, указал на протокол допроса.
– Или вот еще. Убийца в своих показаниях утверждает, будто его задержали на лестнице. Но не уточняет – где? В каком месте? – Доронин заметил, как голос Озеровского, приводя доводы и аргументы, все более и более набирает силу. Ненадолго, – тут же заметил Демьян Федорович. Выплеснется, опять станет вроде мыши. – Чекисты, которые его арестовали, заявляют, будто ближе к выходу на чердак, точнее, на самом чердаке. Жильцы же дома твердят в один голос о том, что преступника задержали на лестнице, ближе к нижним этажам. Вам не кажется, что это очень странное несовпадение в показаниях?
– И кому верить? – Чекист поскреб твердыми ногтями пальцев по заросшему затылку.
– Никому, – неожиданно отозвался следователь. – Привыкайте. В нашей профессии никому нельзя верить на слово. Все, о чем вам в дальнейшем сообщат потерпевшие, свидетели, сами преступники, нужно проверять и перепроверять. Причем не один раз, и опять же никому не доверяя. Такова специфика. Касаемо дела… Исходя из своего личного опыта, могу заявить: верить преступнику можно только исключительно по горячим следам. Как только приходит в чувство, – Озеровский покачал головой, – все! Начинается ложь во имя спасения. А потому не совсем, но более-менее доверять стоит первому протоколу допроса. Потому, как во втором начнут появляться новые, непонятные детали. Вот, смотрите. – Аристарх Викентьевич снова взял со стола один из листов. – Цитирую протокол второго допроса. Опять же со слов Канегиссера: «Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, переодевшись в него, выбежал на лестницу и стал отстреливаться от пытавшихся взять меня преследователей. В это время по лифту была подана шинель, которую я взял, и, надев шинель поверх пальто, начал спускаться вниз, надеясь в шинели незаметно проскочить на улицу и скрыться». Откуда взялась шинель?
– Ее поднял в лифте Сингайло. – Доронин кивнул головой на документ. – Чтобы сопляк принял шинель за одного из них и расстрелял весь барабан.
– А зачем убийца ее надел? Неужели думал, будто Сингайло настолько глуп, что не узнает своей шинели? – веско заметил следователь. – Но и это еще не все. Ладно, предположим, так оно и было на лестнице. Но я попрошу вернуться чуть назад. В данных, вторых, показаниях отсутствует логика. Следите за моей мыслью. Построчно. «Ворвавшись в комнату, я схватил с вешалки пальто и, переодевшись в него, выбежал на лестницу и стал отстреливаться от пытавшихся взять меня преследователей. В это время по лифту была подана шинель, которую я взял…». – Озеровский провел указательным пальцем по строкам. – Здесь отсутствует время. Временные рамки. В показаниях Канегиссера все слилось. Исходя из них, получается, убийца в течение короткого времени взбегает по черной лестнице, врывается в незнакомую квартиру, снимает с вешалки пальто, надевает его на себя, пробегает сквозь всю квартиру, выбегает на площадку парадной лестницы и тут же вступает в перестрелку с преследователями. Вам ничего не показалось странным?
– Да вроде, как…
– Странным, Демьян Федорович, является то, что убийцу к тому времени преследователи уже ждали на парадной лестнице. Берем протокол допроса Сингайло. Если помните, он заявил следующее: когда они услышали выстрелы, то есть услышали перестрелку между Фроловым, Шматко и убийцей, то решили поднять на лифте пустую шинель, чтобы Канегиссер разрядил в нее остаток патронов, приняв шинель за сотрудника ЧК. Встает вопрос: как Фролов, Шматко и Сингайло смогли догадаться, что убийца решит воспользоваться именно парадным ходом? Получается, они никого у «черного» хода не оставили. У того хода, в который вбежал убийца. Откуда такая небрежность? Вторая неувязка. Фролов утверждает, будто они задержали Канегиссера, когда тот спускался в шинели Сингайло. Но встает вопрос…
Озеровский замолчал, давая матросу возможность найти ответ самостоятельно. И тот нашел:
– Если Фролов и Шматко стреляли в Канегиссера, то как он смог спуститься вниз, минуя их?
– Именно!
После минутной паузы Доронин не сдержался, вспылил:
– А, собственно, какая нам разница, как и где схватили этого Канегиссера? Внизу. Наверху… Главное – поймали!
– С одной стороны, я с вами согласен. Действительно, какая разница, где был задержан убийца? Перепутали, с кем не бывает.
– Вот!
– Только, Демьян Федорович, повторюсь: меня иное беспокоит. Откуда Фролов и Шматко знали, что Канегиссер выбежит на парадную лестницу, а не воспользуется вторично «черным» ходом? Опять же идиотское переодевание. Оно мне покоя не дает. Зачем? К чему? Полная бессмыслица.
– У страха глаза велики, – заметил матрос.
– И потому, вместо того чтобы уходить по крышам, решил разыграть спектакль перед дураками-чекистами? – едко отреагировал Озеровский, впрочем, тут же прикусил язык: – Простите.
Но Доронин только махнул рукой.
– Бросьте.! И правда, ерунда какая-то получается, – матрос с силой опустил руку на шею, убив надоедливого комара. – Ну, с враньем наших понятно. Скорее всего, труханули, а после наприписывали себе подвигов. А вот с какого рожна студенту врать? Ведь и так ясно: он – убийца. Свидетелей столько, лучше и не придумать. – Аристарх Викентьевич отметил, как матрос уверенно употребил слово «свидетелей». Два дня заучивал. – И однако тоже врет! – Чекист в упор посмотрел на коллегу. – Действительно, как-то не то: сначала одел пальто, после давай переодеваться в шинель.
– Надел, – механически поправил сыщик, – пальто надевают.
– Какая разница! – отмахнулся матрос.
– Вот и меня беспокоит данный вопрос, – задумчиво отозвался старик. – В любом случае показания Канегиссера и Фролова совпадают в одном: как бы они ни юлили, тем не менее обе стороны подтвердили, что находились на достаточном расстоянии друг от друга. – Доронин завороженно наблюдал за следователем: вот так, спокойно и рассудительно высказать свою мысль он точно никогда не сможет. А Озеровский продолжал излагать: – Теперь давайте пофантазируем. Представим ситуацию на Миллионной с учетом показаний чекистов, Канегиссера и нашего жизненного опыта. Итак, убийца вбегает в черный ход, устремляется по лестнице наверх. Вбегает в квартиру, пробегает сквозь нее, хватает первую попавшуюся одежду, по ходу натягивает на себя, выбегает в парадное. Одновременно все четверо преследователей концентрируются у парадного входа. По непонятной причине они полностью игнорируют черный ход, по которому убийца вбежал в дом. Хотя, по логике вещей, должны были как раз сосредоточить свое внимание сначала именно на нем, и только после, для подстраховки, на парадном. Однако преследователи поступают вне логики. Идем дальше. Чекисты…
– Товарищи чекисты! – тут же поправил матрос.
– Простите, – поперхнулся Озеровский, – забылся… Товарищи чекисты подошли к входу в подъезд. Несколько минут решали, кто войдет первым. – «Точно, – мысленно отметил Демьян Федорович, – я бы тоже хрен кинулся незнамо куды». – Вошли. Причем вошли осторожно. – «Точно, – снова отметил Доронин, – если бы были смелыми, не ждали бы Сеньку». А Озеровский словно прочитал мысли матроса и продолжил: – Товарищ Геллер со второй группой чекистов прибыли на место задержания преступника спустя десять минут. Данный факт подтверждают Фролов, Сингайло и сам Геллер. Как ни крути, у убийцы имелось достаточное количество времени для того, чтобы скрыться. И через неохраняемый черный ход, и по крышам. Однако вместо этого, по непонятной причине, он выбирает маскарад. Но это не спасает. Далее. Фролов в своих показаниях утверждает, будто преследуемый стрелял. А они со Шматко делали только предупредительные выстрелы. Канегиссер же утверждает совершенно противоположное, будто стреляли в него.
Доронин неожиданно резко вскинулся:
– А сетка и лифтовая шахта? Как с ними быть? Я в таких домах хаживал. Знаю. Там перестрелку очень тяжело устроить. Противника не видно: весь обзор сетка закрывает. Для того чтобы попасть, нужно выйти на открытое место, а это – самому пулю получить.
Ай да матрос… Озеровский мысленно вторично поаплодировал Доронину. Тонко схватил.
– Кто-то из них лжет, – снова, как и начинал, тихо закончил мысль Аристарх Викентьевич, не поднимая головы, – либо Канегиссер, либо наши чекисты. Хотя не исключен и третий вариант. Врут все.
Доронин хотел грубо оборвать следователя, однако смолчал. Факты красноречиво говорили сами за себя. И самое любопытное и непонятное: зачем врал студент? Ведь он и так уже сознался в совершении покушения на председателя Петроградской ЧК. Неужели…
* * *
Варвара Николаевна вскинула руки, обвила крепкую мужскую шею, с силой притянула к себе лицо любовника, прижалась сахарными устами к потрескавшимся губам. Поцелуй затянулся. В то время как тонкие пальчики теребили длинные волнистые волосы на голове товарища Зиновьева[5], мужские руки по-хозяйски опустились по напряженной женской спине, с силой сжали ягодицы.
– Ты что… – Товарищ Яковлева легко хлопнула по руке наглеца. – Не дай бог кто войдет! Срама не оберемся.
– У входа охрана. Не пропустит.
– А твои бабы? Жена? Для нее матросня – не помеха.
– Сара? Не сунется… – самоуверенно ощерился председатель Совета комиссаров Союза коммун Северной области, прижимая к себе тугое тело руководителя ПетроЧК. – Да не ерничай! – ладонь правой руки продолжала сжимать женские бедра, в то время как левая поползла к груди. – Ну, Варенька, – голос Зиновьева звучал глухо, с придыханием, – давай…
– Что давай?
– Давай прямо здесь…
– Ты что, с ума сошел? – Варвара Николаевна с силой оттолкнула любовника, быстрыми движениями рук принялась оправлять платье. – Нашел место. В коридоре бы еще предложил, на потеху всему Смольному.
– А что? – Григорий Евсеевич сально хихикнул. – В этом что-то есть…
– Дурачок, – ласково проговорила Яковлева, погладила заросшую твердой, колкой щетиной щеку Григория Евсеевича, – хочу красиво. В постели. При лунном свете. А не как кобели: бегом – бегом, и в стороны.
– Красиво все хотят. – Зиновьев еще раз окинул голодным взглядом фигурку Варвары Николаевны и тут же перевел разговор на более приземленные темы. – Чего пришла, если не хочешь дать? Ведь не для того, чтобы меня подразнить.
Варвара Николаевна присела на стул.
– Угадал, не для того. Студентик, что стрелял в Соломоновича, жив, паскуда. Сидит в камере. – Яковлева замолчала в ожидании реакции председателя Петроградского Совнаркома.
– Не понял. – Григорий Евсеевич, вмиг забыв о плотских утехах, вскинул голову, отчего его нечесаная анархистская прическа «под Махно» еще более растрепалась. – Как жив? Ведь его должны были убить.
– Не успели.
– Ты что, – Зиновьев прищурился, – думаешь, мой человек скурвился?
– Не знаю, – честно призналась Яковлева. – Сам он утверждает, будто стрелял, но не попал. Фролов подтвердил, что слышал выстрелы, когда со Шматко вошел в подъезд.
– Ну вот, видишь… А почему твои чекисты не смогли доделать работу? Или что, и у них кишка оказалась тонка?
– За ними увязались люди из охраны комиссариата. А тут сосед из квартиры, что напротив. Все видел. – Варвара Николаевна заломила пальцы рук, чисто по-женски, с чувством. – Кто ж мог подумать, что этот идиот перепутает двери?
– Ты должна была все предусмотреть!
– А кто предложил, чтобы он убегал именно по Миллионной? Разве не ты? Теперь расхлебываем. Хорошо, хоть успели арестовать всех из соседних квартир, в том числе и твоего человека. Иначе бы у Бокия возникли глупые вопросы.
– Будто теперь не возникнут! – вскинулся Григорий Евсеевич.
– Не возникнут, – уверенно парировала Яковлева. – Я взяла ПетроЧК под свой контроль.
– Бокий будет против.
– Плевать.
Григорий Евсеевич вскинул быстрый, острый взгляд на подругу:
– Ну, так ежели ЧК под тобой, что ж ты мне голову морочишь? Отдай приказ расстрелять мальчишку, да вся недолга.
Красивый ротик революционерки недовольно скривился:
– Ишь, какой прыткий. В том-то и дело, что не могу.
Теперь Зиновьев впился взглядом в женское лицо:
– Это еще почему?
– Потому что завтра в Питер приезжает Феликс, – четко, едва ли не по слогам произнесла Яковлева. – Лично хочет расследовать это дело.
– Твою мать… – в голос, не стесняясь, грязно выматерился председатель Совнаркома Петроградской трудовой коммуны. – И ты собираешься его дождаться? – Теперь в голосе всегда и всех подозревающего товарища Зиновьева слышались нотки истерики, что Варвару Николаевну явно развеселило. – Чего лыбишься, сука? А-а-а-а, вижу… Вижу, что-то уже придумала… – Григорий Евсеевич приблизил патлатую, немытую голову к лицу любовницы. – Смотри, смотри мне! Захочешь сдать – вместе будем на одной веревке болтаться. Стерва!
– Не городи ерунду, – зло отозвалась Варвара Николаевна в ответ. Временный руководитель ПетроЧК нервно вскинула ногу на ногу. – Невозможно сейчас расстрелять мальчишку, понятно? Бокий начал параллельное расследование. И если до приезда Феликса поставить студента к стенке, все всплывет, как дерьмо по Неве.
– Но Феликс захочет допросить Канегиссера!
– Захочет, – утвердительно качнула головой женщина.
– И тот ему все выболтает.
– Да немного он выболтает.
– Ты… – Взгляд и без того узких глаз Григория Евсеевича прищурился. – Узнаю эту улыбку. Ты что-то уже придумала? Да-да.
– Наконец-то начал трезво мыслить.
Зиновьев положил широкую мягкую ладонь на круглое, обтянутое тканью женское колено.
– И что у тебя сейчас в голове?
Рука революционера слегка сжала коленку. Варвара Николаевна поморщилась.
– Перестань. Мне сейчас не до этого. Феликс прибудет завтра. Днем. Или ближе к вечеру. Расстрелять студента до его приезда мы не можем. Однако Канегиссер должен умереть. А посему ночью подсадим к нему «блатных».
– Каким образом? – быстро поинтересовался Зиновьев. – Убийца должен сидеть в одиночке.
– Ночью тюрьма будет переполнена. Сегодня, ближе к вечеру, состоится нападение на кооператив Военно-промышленного комитета…
– Что на Большой Московской? – уточнил Григорий Евсеевич.
– Он самый. Дом номер 13. Дадим возможность начать грабить. Всех повяжем. Произведем аресты. Заполним камеры. В том числе и ту, в которой Канегиссер. Ночью «блатные» устроят потасовку. Заточка в сердце – и все дела.
– Исполнитель есть?
– К тому часу будет.
– Ну ты и лярва… А что с тем? – Председатель Комитета революционной обороны Петрограда двусмысленно недоговорил. Но Яковлева его поняла.
– С этим проще. Расстреляют. Утром. Это мелочи. Меня сейчас волнуют Шматко и Фролов. – Женщина слегка облизнула кончиком язычка тонкую нить губ. – Предположим, Фролова завтра ранним утром отправлю с продотрядом по области. Там с ним разберутся. А вот Шматко…
– Шматко возьму на себя. Дай адрес, где он проживает.
Хозяин кабинета удовлетворенно потер ладони рук. Хоть обстоятельства складывались и не совсем так, как он рассчитывал, тем не менее главное сделано. А детали не в счет.
Яковлева почувствовала: любовник немного расслабился, ход его мыслей вернулся к началу встречи: взгляд вновь начал блуждать вокруг ее гибкого тела.
– Смотри, с огнем играешь, – хищно оскалила зубки Варвара Николаевна. – Держи себя в руках.
– А не боишься, что Феликс пронюхает о наших с тобой…
– Переживу. Я его таким не раз видела. Знаю, как успокоить.
– Но, но… – Зиновьев театрально прищурился, – я мужик ревнивый, не люблю, когда мою собственность без разрешения лапают.
– Феликс может сказать то же самое. Причем с правом первенства. – Варвара Николаевна спрятала зубки, сбросила мужскую руку с колена, поднялась, слегка выгнувшись так, чтобы ткань натянулась на груди. – К тому же, если бы не он, видел бы ты меня в Питере. Сидела бы сейчас в Москве, безвылазно. А ты тут. И письма… Тоскливо…
– Насчет права первенства можно поспорить, – отозвался Григорий Евсеевич. – А вот по поводу Москвы, пожалуй, права. Да, кстати, посмотри. – Член Реввоенсовета 7-й армии потянул со стола исписанный мелким, округлым почерком лист бумаги, сунул его в руки строптивой любовницы. – Текст обращения. Можешь почеркать. Или добавить.
Варвара Николаевна просмотрела текст.
«Всем Председателям коммун Северной области! Всем работникам Чрезвычайных Комиссий! Всем первичным партийным ячейкам! Всем! Всем! Всем! Враг проявил свою звериную сущность! Сегодня, 30 числа сего месяца, в 11 часов утра подло убит председатель ПетроЧК, член Петроградского реввоенсовета Урицкий Моисей Соломонович. Враг нанес тяжелую рану на тело пролетарской революции! И этим он раскрыл себя и свои подлые замыслы! Дело революции теперь, как никогда, в опасности! От имени и по поручению Петроградского совета приказываю: немедленно привести все силы в боевую готовность. Чрезвычайным комиссиям во главе с председателями коммун организовать повальные обыски и аресты среди буржуазии, офицерства, чиновничества и студенчества! Также подвергать обыску и аресту всех подозрительных буржуа, будь то англичан или французов…»
– Ну как? – поинтересовался председатель Петросовета.
– Я бы написала более жестко и эмоционально. Впрочем, сойдет. А вот что делать с иностранцами, ума не приложу. Наших-то, понятно, под гребенку – и к стенке. А с теми будет столько возни…
– Справимся. Главное – показать силу. Кстати, Феликс уже выехал или только собирается?
– Понятия не имею. – Яковлева игриво прищелкнула язычком. – А ты что, уже начал ревновать?
* * *
Глеб Иванович[6] еще раз просмотрел показания чекистов и охраны, задержавших убийцу товарища Урицкого, выслушал Озеровского, после чего попросил Аристарха Викентьевича на несколько минут покинуть кабинет. Едва за следователем закрылась дверь, Бокий указал Доронину на стул, сам же расположился на краю крепкого дубового стола.
– А теперь, Демьян Федорович, как на духу: доверяешь Озеровскому?
– Как на духу? – Доронин откинулся на спинку стула, с силой потер лоб шершавой от мозолей ладонью правой руки. – Не знаю. То, что полностью не верю, – точно. Вернись старая власть, перебежит. Но и сказать, будто враг, не могу. Дело знает. За два месяца, что Озеровский при мне, раскрыто двадцать четыре преступления, в том числе семь убийств. Опять же с миром уголовников хорошо знаком, знает все их повадки. Потому-то столько дел и раскрыли. Помните, без него самое большее тянули три-четыре в месяц. А сейчас совсем другое дело. Помогает, врать не стану. Да и против нашей власти ничего не говорит. Вроде как это… Лоялен. А так… А что, Глеб Иванович, причины имеются?
– Вот причина. – Бокий постучал указательным пальцем по листам протоколов допросов. – Не нравится мне все это. Крайне не нравится. Со слов Озеровского, невольно складывается картина, будто чекисты, арестовавшие Канегиссера, сделали все для того, чтобы убийца сбежал. Чуешь? По-другому я никак не могу расценить выводы старика. И тут, – Глеб Иванович вторично постучал пальцем по бумагам, – все «плавает». Одни показания не совпадают с другими. Вот и разбери, кто врет? Чекисты? Жильцы? Убийца? Или следователи подшаманили протоколы? Начнем с чекистов и следователей – люди проверенные. Прошли, что называется, огонь и воду. А вот вся остальная братия… Друг друга стоят. Хотя, с другой стороны, зачем врать жильцам? Канегиссеру – понятно, а им? Ты видишь смысл?
– Не знаю. – Доронин смущенно пожал широкими плечами.
– Вот и я не знаю. Кстати, слышал, в Питер едет Дзержинский? А, уже сообщили… Тогда сам должен понимать, до приезда Феликса Эдмундовича нужно разбиться в лепешку, но разобраться во всем. – Рука чекиста легла на сильное плечо матроса. – И разбиваться придется тебе, Доронин. Больше некому. Мало того, разбиваться будешь вместе с Озеровским.
Пальцы матроса коснулись верхней губы, на которой некогда росли усы. Опустились к уголкам рта. Проверили наличие щетины на подбородке.
– Может, кого другого дадите? – неуверенно отозвался Демьян Федорович. – Николаева или Ажгирея. Как они в июне сработали по фальшивомонетчикам. Красота! Сами их хвалили. Или взять Мазаева – раскрыл дело испанского консула… Как его…
– Штурца, – напомнил Бокий.
– Точно!
– Это все не то, Доронин. Не то! Здесь не ювелира грохнули. Контрреволюцией пахнет!
– Так я о чем толкую! – встрепенулся матрос. – Пусть занимается грабежами.
– С одной стороны, ты прав. Но с другой – Озеровский уже в деле. Поздно уводить: вызовет лишние подозрения. А вдруг старик прав, и наши чекисты действительно скурвились? Молчишь?
– Не хотелось бы в это верить.
– Мне тоже. Только человек – существо слабое. А время сейчас голодное. Так что хошь не хошь, Демьян Федорович, терпи. А теперь, товарищ Доронин, давай-ка вспомним еще разок, что нам известно? С самого начала.
– Опять? – Доронин почесал кончик носа. – Глеб Иванович, и так ведь ясно. как день: товарища Урицкого застрелил студент. Он же сам признался. Чего копать, рыть? Не понимаю.
– А если подозрения Озеровского небеспочвенны и Канегиссер действительно не один задумал преступление? – аргументировал Бокий. – Что, если это не месть, а заговор, и убийца покрывает сообщников? Молчишь? То-то, Демьян Федорович. Прав старик: неспроста убийца ринулся на Миллионную. Заметь: взял напрокат велосипед. Значит, все-таки думал о путях спасения. Итак, что сообщили Фролов со Шматко? Что поведала охрана? И что узнал Озеровский от жильцов?
Доронин тяжко вздохнул, принялся говорить. Из его рассказа вытекало следующее.
Моисей Соломонович Урицкий прибыл на Дворцовую площадь как обычно, на автомобиле. Вошел в здание комиссариата. Один. Фролов и Шматко остались ожидать председателя ЧК в автомобиле. По словам чекистов, долго находиться в комиссариате тот не собирался, торопился в Смольный. Впрочем, планы могли и поменяться. Имелась у покойного такая привычка: сообщать о своих передвижениях непосредственно перед отъездом. К этому все привыкли. Фролов и Шматко в момент совершения преступления сидели на заднем сиденье. Услышали выстрел. Тут же выбрались из авто, кинулись к дверям.
– Водитель побежал вместе с ними или остался в авто? – задал вопрос Бокий.
– Не знаю, – стушевался Доронин.
– Проверь. Дальше.
Чекисты вбежали в фойе, увидели лежащее на полу тело Моисея Соломоновича, бросились к нему. Пуля попала в голову, поэтому Урицкий вскоре скончался у них на руках. К тому времени тело Моисея Соломоновича окружили другие сотрудники комиссариата, сбежавшиеся на звук выстрела со всех сторон, в том числе и с верхнего этажа. Старик швейцар, что обслуживал лифт, закричал, что убийца выбежал из фойе. Описал того. Фролов и Шматко, а также двое чекистов из охраны комиссариата, Сингайло и Андрушкевич, тут же сев в автомобиль, кинулись вслед за убийцей.
– Сколько времени мальчишка пробыл в приемной комиссариата? – неожиданно задал новый вопрос Бокий.
Доронин качнул головой.
– Около часа.
– Около не устраивает. Это тоже выясни. – Глеб Иванович спрыгнул со стола на пол, принялся мерить кабинет широкими, упругими шагами. – Также узнай, почему охрана не стояла у входа в здание?
– Это я проверил первым делом, – отозвался Демьян Федорович. – В тот час Сингайло и Андрушкевич, караул комиссариата, переносили мебель из 12-го в 17-й кабинет. Два шкафа и стол. Дубовый стол, тяжелый, – зачем-то уточнил Доронин.
– Тогда, матрос, любопытная петрушка получается. – Бокий встал напротив Доронина, опершись о столешницу руками. – Охраны у входа, как ты утверждаешь, не было. А велосипед, на котором приехал убийца, не сперли! Как так? Или у нас что, уже настал коммунизм? У каждого есть по велосипеду?
Доронин поперхнулся воздухом. А ведь Глеб Иванович прав! А вот он об этом не подумал. Действительно, странно. И причина, что велосипед оставили у входа в государственное учреждение, уважительной не была. На Гороховой, где расположилось помещение ПетроЧК, рядом с грозным учреждением, за последний месяц было совершено пять ограблений и одно убийство. Так что стащить столь привлекательный, редкостный и дорогой предмет, как велосипед, особого труда не составляло. Однако не стащили.
– А может, студент за ним следил из окна? – сделал предположение Доронин.
– Поедешь в комиссариат, пообщаешься со стариком швейцаром. Выясни, где стоял Канегиссер, далеко ли от окна? Можно ли с того места увидеть, что происходит на улице? Теперь давай попробуем совместить показания чекистов со словами жильцов. По словам Фролова и Шматко, убийца сделал попытку скрыться среди домов на Миллионной улице. Однако, осознав, что ему это сделать не удастся, так как авто с чекистами его догоняло, бросил велосипед, вбежал в подъезд дома номер 17, после чего бегом поднялся по лестнице на последний этаж…
– Про последний этаж – это слова жильцов дома, – заметил Доронин.
– Верно. Чекисты остались на некоторое время внизу. После чего вошли в подъезд, и…
– Точно! – резко кивнул головой матрос. – Сразу в дом не сунулись. И вот тут начинаются эти… как же их… Вспомнил, несовпадения, – выдохнул Доронин, – Фролов говорит, будто студента задержали на чердаке. Озеровский же, со слов жильцов, говорит, что мальчишку схватили на последнем этаже. На лестнице. Впрочем, разницы особой нет. Все одно, наверху. Может, перепутали, бывает. Дальше. Выстрелы. Студент на допросе говорил, будто стреляли в него. А вот Фролов глаголет, что стрелял вверх. Предупреждал, мол, – Доронин вскинул взгляд на Бокия, – а для чего предупреждать? Как по мне, то жаль, что Канегиссера сразу не убили на месте.
– И кого бы мы тогда допрашивали? Нет, что ни говори, Шматко и Фролов – молодцы. Взяли живым преступника.
– Так и я говорю: молодцы! Это же свои хлопцы! – тут же поменял мнение Доронин, что вызвало у Бокия вздох огорчения.
– Вот то-то и оно, что все свои. И чекисты свои, и караул свой. А в протоколе сплошь белые пятна. Зови Озеровского! Выслушаем его полную версию.
– Щас, кликну. Только тут еще одно дело… – проговорил Демьян Федорович, приподнимаясь со стула. – Не стал я при Озеровском, но… Словом, Николаевна узды решила полностью в свои руки взять.
– Какая Николаевна? Какие узды? Ты о чем, Доронин?
– Да Варвара Николаевна. Яковлева. – Матрос, не зная, как лучше передать информацию, приподнял руки и показал на себе объем женской груди. – Наша… Эта… Сказала, мол, так как Моисей Соломонович убит, теперь ЧК будет под ней…
Доронин глянул на Бокия и обомлел. Лицо чекиста вмиг посерело, приняло землистый оттенок, желваки на угловатых скулах заиграли, руки сжались в кулаки.
– Вы что, не знали? – удивился матрос. – Вся ЧК гудит.
– Вся ЧК, говоришь? А мне никто ни гу-гу? Выходит, я уже не ЧК? – желваки на скулах Бокия заиграли сильнее. – Дальше что? Не молчи!
– Яковлева приказала по Канегиссеру, по убийце… – Доронин чувствовал себя не в своей тарелке. – Словом, чтобы мы закрывали лавочку. Сказала, раз убийца признался, нечего, мол, дальше рыть.
– Прям, как ты только что говорил. Или ты тоже на ее стороне?
– Глеб Иванович…
– Ладно, ладно… – Глаза Бокия превратились в щелочки, сильно напоминающие смотровые щели броневика. – Разберемся.
– И еще… – Демьян Федорович то ли от смущения, то ли от волнения не смог сразу и точно сформулировать фразу. – Варька запретила допрашивать студента.
– Когда запретила?
– Да вот, перед вами.
– Так… Только этого нам не хватало.
– Точно, – облегченно выдохнул Доронин (матроса порадовало слово «нам») и добавил: – Глеб Иванович, я так скажу. Конечно, понимаю – революция. Равноправие. Мужики, так сказать, и эти… Как их… Женщины. Все правильно. Согласен. В целом. Только предупреждаю: я под бабой, в кильватере, ходить не стану. Лучше сразу списывайте с посудины. Или куда в другое место ссылайте. Где видано, чтобы девка матросом командовала?
– Не матросом, а чекистом! – резко оборвал пылкую речь Доронина Бокий.
– Все одно…
– Ладно, разберемся. – Глеб Иванович сунул руки в карманы брюк, резким движением тела развернулся к окну.
«Ты погляди, как шельма все скоренько закрутила! Нужно телеграфировать Феликсу. Срочно! – подумал Глеб Иванович и тут же мысленно выругался. – Куда телеграфировать? Дзержинский сегодня покинул Москву. Нет, следует самому что-то придумывать». Глеб Иванович хотел приказать Доронину, чтобы тот впустил Озеровского, но новая мысль ошарашила чекиста. «А что, если Варьку сам Дзержинский назначил председателем Петроградской ЧК? Ведь не случайно же он лично прислал ее в Питер месяц назад. Это для Доронина и иже с ним бытует версия, будто Яковлева прибыла в связи с “делом послов”. На самом деле все намного любопытнее. Именно после ее приезда Моисей Урицкий, косноязычный, близорукий, вечно нервный и даже, как ни странно, стыдливый человечишка, был вынужден поменять отношение к выполнению своих обязанностей, как руководителя ПетроЧК. Сколько раз до ее приезда давили на Моисея, чтобы тот ввел массовые репрессии после убийства Володарского? Считай, с месяц. Ан нет, как мог, сопротивлялся. С приездом же Вареньки не прошло и нескольких дней, как 19 августа Моисей Соломонович подписал первый “расстрельный указ”. 21 человечка, как с куста, под стеночку. За шпионаж, саботаж, взяточничество, контрреволюционную агитацию… А причиной стала пышногрудая Варька. Ее постоянные телефонные звонки в Смольный и телеграммы в Москву. С приездом в Питер Яковлевой Кремль знал обо всем, что творилось в Северной столице. Обо всех крупных и мелких делах. Заслали казачка в юбке. И ох как вовремя заслали…»
– Так что делать? – оторвал Бокия от размышлений матрос. – Звать?
– Кого? – сразу не сообразил Глеб Иванович.
– Сатрапа нашего. Ну этого, Озеровского.
– Зови.
Когда Аристарх Викентьевич вновь вошел в кабинет, Бокий расположился на стуле Доронина, тем самым показав, что в сих апартаментах главный он.
– Аристарх Викентьевич, я так понимаю, у вас имеется некоторая информация. Вы не против с ней поделиться?
Рука чекиста указала на стул напротив. Озеровский присел.
– Признаться, не столько информация, сколько размышления.
– Пусть будет так. И…
Следователь сделал паузу, после чего произнес:
– Я могу говорить открыто?
– Именно этого я от вас и хочу.
– Но многое из того, что скажу, может вам не понравиться.
– Не беспокойтесь. Со своими эмоциями я как-нибудь справлюсь. Да и товарищ Доронин тоже. Итак?
Следователь по старой привычке провел рукой по пуговицам жилетки, как бы проверяя их на наличие, после чего, решившись, начал говорить.
– Что ж… Первое. Господин Канегиссер, по моим соображениям, вел себя неадекватно. Полностью. Что дает основания считать, что он либо душевно больной человек, либо… – Аристарх Викентьевич сделал паузу, – либо у него есть покровители в ЧК.
– Что? – Доронин вытянулся в струну. И если бы не хлопок ладони руки Бокия по столу, неизвестно, что бы произошло далее.
Глеб Иванович внимательно, цепко рассматривал старика. Да, таких прямых слов даже он не ожидал услышать из уст данного тщедушного субъекта, не то что Доронин.
– Мы вас внимательно слушаем. Продолжите мысль, пожалуйста.
– Извольте. Факты и только факты. Начнем с простого. Гражданин Канегиссер совершает убийство в людном месте, при наличии огромного скопления свидетелей. И на глазах личной охраны господина… Простите, товарища Урицкого. Причина? Я имею в виду не личные мотивы. Они имеют к делу отношение, но не сейчас. Я говорю о месте совершения преступления. Почему именно в данном месте Канегиссер решил исполнить свой план? Ведь господин студент мог убить Моисея Соломоновича при других, более располагающих к уходу с места преступления, обстоятельствах. К примеру, на улице. В переулке. В подъезде. Вечером. Утром. Где угодно. Когда угодно. Без свидетелей. С глазу на глаз с жертвой. Однако убийца совершает преступление в самом людном, в самом небезопасном для задуманного плана месте, какое только можно себе представить. При этом молодой человек абсолютно не заботится о путях отхода. Точнее, заботится, но как-то странно. Я уже говорил Демьяну Федоровичу…
– О Невском? – перебил Бокий. – Знаю.
– Что ж, в таком случае повторяться не стану. Только то, о чем я вам сейчас говорю, господа, аксиома! Простите, но мне в моей долгой следственной практике с подобного рода бестолковостью до сего случая довелось столкнуться только один раз. Тогда преступник, кстати, оказался душевнобольным. Второе. Скажите, сколько нужно времени, чтобы пересечь пешком Дворцовую площадь в направлении Миллионной? Можете не говорить. Минуты три, от силы пять. А на велосипеде?
Озеровский взглянул на Доронина, тот пожал плечами:
– Я такой штуковиной отродясь не пользовался.
– Минута, – предположил Бокий, – самое большее полторы.
– Именно. – Аристарх Викентьевич повернул голову в сторону начальства. – А теперь считайте. Фролов и Шматко вбежали в помещение сразу после выстрела. Наверняка они в дверях едва не столкнулись с убийцей. Следите за моей логикой. И Фролов, и Шматко – люди военные, опытные, звук выстрела распознали сразу. Потому-то и бросились в здание комиссариата. Однако не обратили никакого внимания на личность, что покидала помещение. Как по мне, сие странно. Далее. По их показаниям, они первыми, не считая швейцара и просителей, обнаружили тело товарища Урицкого. По словам Шматко, Моисей Соломонович скончался у них на руках. Потом бездыханное тело передали другим чекистам. Минимум минута! Акцентирую внимание на слове минимум. – Доронин поморщился, опять непонятное словечко, но промолчал. – Хотя, думаю, прошло минуты две. Заметьте, Шматко и Фролов дождались, пока другие сотрудники комиссариата не спустились с верхнего этажа. Далее чекисты кинулись к машине. За ними увязалась охрана комиссариата. Сели вчетвером. Завели двигатель. Еще минута! Проскочили Дворцовую площадь. Свернули в Машков переулок, оттуда сразу же направились на Миллионную. Сколько у них на все ушло времени в целом до этого момента?
Бокий вторично бросил взгляд на Доронина. Тот потер скуластый, крепкий подбородок.
– Минут… – вскоре послышался недовольный голос матроса. Он никак не мог воспринять слова Озеровского, – пять… Нет, четыре. Пять, если, конечно, пришлось заводить мотор.
– Именно. Берем показания Шматко. – Аристарх Викентьевич с разрешения Бокия взял со стола протоколы допросов чекистов. Глянул в них, нашел искомое. – «Мы выбежали на улицу, сели в авто, завели двигатель…»
Глеб Иванович тоже посмотрел в текст.
– Да, действительно, они заводили двигатель.
– А это с минуту, – тут же уточнил Доронин, – знаю я, как Пантелей заводит: раз двадцать ручку прокрутит. Техник из него еще тот.
– Итого пять минут, – тихо проговорил Озеровский, внимательно наблюдая за Бокием. – Отнимаем от них две, что понадобились убийце на исчезновение с Дворцовой площади. Остается чистых три минуты. Три! За такое время Канегиссер мог преспокойно исчезнуть в проходных дворах. Однако он, вне всякой логики, сломя голову несется по пустой Миллионной, никуда не сворачивая.
– Паника, – предположил Глеб Иванович.
– Сомнительно. На допросе преступник вел себя совершенно уравновешенно. Что, кстати, тоже само по себе странно.
– А если велосипед сломался? – высказал предположение матрос. – Все-таки какая-никакая техника.
– Но ведь до семнадцатого дома он доехал, – парировал Озеровский, – и потом… мне не дают покоя два вопроса. Первый: почему убийца оставил велосипед на улице? – Бокий с Дорониным переглянулись, одновременно вспомнив недавний разговор. – Ведь Канегиссер довольно серьезно рисковал тем, что мог после совершения убийства не обнаружить его. Тогда бы господина студента схватили на месте преступления. Однако Канегиссер рискует, оставляет единственное транспортное средство, которое может его спасти от преследования, без охраны, у входа в помещение. А потому возникает еще один неприятный вопрос: а что, если некто из тех, кто находился на площади, следил за тем, чтобы велосипед никто не тронул? – данное предположение Озеровский сделал робко, глядя исподлобья на Бокия.
– Кто мог следить? – отмахнулся матрос. – Да никто. Охраны-то у входа не было вплоть до убийства.
– Не совсем так, – после секундной паузы, отозвался Глеб Иванович. – А что делал твой знакомый Пантелей? И где были до убийства Шматко и Фролов?
– Точно, – Доронин потер рукой крепкую шею. Ну и денек… – сидели в машине. Неужели они? Того…
В кабинете повисла тишина. Никто не хотел первым ее прервать.
Ответ на непроизнесенный вопрос знали все присутствующие. Действительно, велосипед стоял рядом с авто ЧК вплоть до совершения преступления.
– Нет, не может быть, – с силой тряхнул головой Доронин, – нет, Глеб Иванович, не верю.
– И еще… – на этот раз после слов начальства более уверенно заговорил Аристарх Викентьевич. – Я не успел доложить, – Озеровский вернул протоколы на стол. – Обратите внимание. На задержанном во время ареста было надето пальто, которое он снял с вешалки в случайной, как он утверждает, квартире. – Следователь переплел пальцы рук, с силой сжал их. Раздался резкий, неприятный хруст. Глеб Иванович поморщился. – И тут снова сами собой напрашиваются вопросы. В какой квартире убийца оделся? Почему смог войти в данное помещение? Почему в наше тревожное время, когда, как нам с вами хорошо известно, в городе грабят и средь бела дня, двери той квартиры оказались открыты? Или их кто-то открыл? Почему, вместо того чтобы просто покинуть дом-ловушку через окно, а оттуда уйти по крыше, студент устраивает маскарад с переодеванием и выбегает на лестничную площадку, где его уже ждут? И, наконец, последний момент. Я был в парадном семнадцатого дома. Освещение в подъезде полностью отсутствует. Полумрак. Встает вопрос…
И тут Аристарх Викентьевич замолчал.
– Какой? – с некоторым раздражением нетерпеливо проговорил Доронин.
– Простой, Демьян Федорович, – вместо Озеровского отозвался Бокий. – И звучит он так: как могли товарищи чекисты в полумраке, с расстояния лестничного пролета, распознать в неизвестной им фигуре в пальто убийцу Урицкого, если учесть тот факт, что до сего времени они видели убийцу только со спины и в куртке? А после прозвучали выстрелы. Так, Аристарх Викентьевич?
– Совершенно верно, – кивнул головой Озеровский.
– Это что ж выходит? – Доронин посмотрел на старика, перевел взгляд на Бокия. – Фролов… Шматко? Да нет, Глеб Иванович, не может такого быть…
– Может или нет, узнаем позже, – тихо, но жестко ответил Бокий, – а с данной минуты любые соображения, которые появились или появятся по ходу расследования, должны оставаться только и исключительно в нашем узком кругу. Всем все понятно?
– А как же… – Матрос хотел было напомнить про распоряжение Яковлевой, однако Глеб Иванович его вопрос предупредил:
– Никак. Вы получали письменный приказ о закрытии дела? Нет? По-моему, все ясно как божий день. Теперь слушайте внимательно. Далее действовать будем следующим образом. Канегиссер находится в камере, общение с ним запрещено. – Глеб Иванович никак не отреагировал на удивленное вскидывание бровей старого следователя. – Но выведать у него, что стало истинной причиной покушения и были ли у него сообщники, просто необходимо. Этим займусь лично я. Теперь, Аристарх Викентьевич, хочу, чтобы вы сегодня соприсутствовали на допросе членов семьи Канегиссера.
Озеровский облизнул пересохшие губы.
– Простите, Глеб Иванович, но, как мне кажется, я не имею права далее принимать участие в ходе расследования. Если позволите, поясню. Я всегда занимался только уголовным сыском. Простите, «блатными». И когда пришел на службу к новой власти, то есть к вам, мне сразу поставили условие, которое для меня понятно и приемлемо: что я и впредь буду заниматься исключительно уголовными преступлениями. Однако здесь явная политическая составная. Не берусь судить, какова она, но сие дело не для меня. Однозначно.
– Поздно, Аристарх Викентьевич. К сожалению, – Бокий говорил тихо, внятно, четко, – вы уже в деле. И прекрасно об этом знаете. Мы только что о вас говорили с товарищем Дорониным и пришли к единому мнению. Выводить вас из расследования после того, с чем вы ознакомились, нет никакого смысла. Признаюсь, мне неприятно осознавать, что человек, который долгое время стоял по ту сторону баррикад, будет копаться, простите за грубость, в нашем грязном белье. Но такова жизнь. Мы тоже люди. Большевики, революционеры, чекисты – люди. Такие, как все. Две руки, две ноги, голова… И в нашей среде имеется всякая тварь, которая мечтает только о собственной наживе. Имеются подонки, временно примкнувшие к чистому, светлому делу революции. Не сомневаюсь, имеются среди нас и враги, затесавшиеся в наши ряды с целью подорвать дело революции изнутри. Не исключаю, что кое-кто из них смог проникнуть как в руководство Петросовета, так и в ПетроЧК. Да-да, и к нам. Вот их-то и следует выявить! И как можно скорее! – Кулак Бокия с силой опустился на столешницу. – И наказать от имени народа! Если кто из чекистов имел отношение к убийству товарища Урицкого, должен быть осужден. И расстрелян! А посему, Аристарх Викентьевич, повторюсь: не вижу смысла выводить вас из хода расследования. Мало того, приказываю именно вам присутствовать при допросе родных убийцы. Всей семьи. Меня интересует все! Партийная принадлежность, круг знакомств, интересы. Чем занимался убийца в последнее время? О чем говорил? Кого приводил в родительский дом? Чем интересовался? О чем вел беседы? Словом, все, что смогло бы пролить свет на причины покушения на товарища Урицкого. И второе, Аристарх Викентьевич. Вы человек опытный. Наблюдательный. А потому, исходя из вышесказанного, попрошу вас о следующем. Проследите за тем, как поведут себя наши чекисты во время допроса. Особенно меня интересует товарищ Геллер. Если не ошибаюсь, именно он помогал в первом и единственном допросе Канегиссера коменданту Шатову? Вот на него и обратите пристальное внимание. Вопросы имеются?
Озеровский привстал, нервно поелозил пальцами правой руки по лацкану поношенного сюртука, пытаясь снять невидимую пылинку.
– Простите, Глеб Иванович, даже несмотря на ваше доверие, я не смогу выполнить приказ.
– Лично знакомы с Канегиссерами? – догадался Бокий.
– С главой семейства. Дважды посещал их дом. До революции, – тут же поспешно уточнил Аристарх Викентьевич, – когда расследовал дело о самоубийстве старшего сына, Сергея. Год тому…
Озеровский солгал. С Канегиссерами Аристарх Викентьевич познакомился задолго до Февральской революции. Но тогда бы пришлось вдаваться в некоторые подробности, о которых следователь сегодня предпочел бы умолчать. Слава богу, чекист не заметил лжи.
– Понимаю. Мало того, сочувствую. Однако ничем помочь не могу. Вот ежели бы вы были родственником – другое дело. А так? Не вижу причин для самоотвода.
И без того слабые плечи Озеровского опустились еще более.
– А может, я рвану к Сеньке? – вставил реплику Доронин, которому стало жаль старика. – У меня глаз на контру наметан. Тряхну хорошенько. Никуда не денутся. Расколются!
– Нет, Демьян Федорович. Тут следует действовать тактично. Аккуратно. Нахрапом ничего не добьемся. К тому же, как понимаю, по распоряжению Варвары Николаевны основными следователями по убийству товарища Урицкого будет назначена группа Геллера. А мы со своей самодеятельностью станем у них, словно бельмо в глазу. Так что здесь шапкозакидательство не пройдет. Если я не ошибаюсь, убийца – сын знаменитого инженера Канегиссера? Так? – Бокий повернулся в сторону Аристарха Викентьевича.
– Совершенно верно, – негромко отозвался следователь, – Иоакима Самуиловича Канегиссера.
– Вот, – продолжил мысль Бокий, – человека известного в Петербурге. И не только в Питере. Вам, Аристарх Викентьевич, как говорится, и карты в руки. Если Геллер начнет подминать Канегиссеров под себя, это может привести к нежелательным последствиям. Пусть формально, но законность должна быть соблюдена. А потому ваша задача: ни во что не вмешиваясь, смотреть. Наблюдать. И если почувствуете, будто Геллер начинает «гнуть» семью инженера в определенном направлении, тут же сообщите мне.
Озеровский вынужден был утвердительно кивнуть головой в знак согласия. В данной ситуации Бокий действительно оказался прав. Доронин, в силу своего непрофессионализма, с данной задачей не справился бы.
О Семене Геллере[7], как сам Сенька утверждал, анархисте в прошлом, а теперь убежденном большевике, в ПетроЧК бродили разного рода слухи, в большинстве негативные. В чем только Семена не подозревали, начиная с «прикарманивая» вещественных доказательств, заканчивая «странными» связями с барышнями легкого поведения. Однако доказать многочисленные слухи до сих пор так никому и не удалось. А потому Сенька Геллер продолжал вести себя уверенно и нагло. Впрочем, так он вел себя только в жизни. В профессиональной же деятельности Семен Геллер работал из рук вон плохо. Даже Аристарх Викентьевич, человек, которого старались держать подальше от руководства аппаратом ПетроЧК, и тот, наблюдая процесс со стороны, отмечал, насколько слабо, халатно и поверхностно «товарищ Геллер» относился к своим обязанностям. Дела, особенно уголовные, вел спустя рукава. Доказательства вины не искал, а чаще выбивал из подозреваемых. Причем занимался рукоприкладством без всякой веской причины, чтобы размяться. На службу частенько являлся в нетрезвом виде, хотя в Питере для того, чтобы найти спиртное, нужно было приложить неимоверные усилия: новой властью изымались все запасы спирта на нужды фронта и революции, а потому торговцы алкогольными напитками приравнивались не к спекулянтам, а к контрреволюции. Но в одном нельзя было отказать чекисту Геллеру: больно тот любил присутствовать при обыске помещений задержанных и арестованных. Сенька прямо рвался на обыски всевозможных квартир и особняков. Тут ему в рвении и старании равных не было. «Доверить такому человеку расследование убийства одного из самых важных лиц новой власти, – как думал Аристарх Викентьевич, – было по меньшей мере странно».
– К тому же… – Слова Бокия оторвали Озеровского от размышлений. Глеб Иванович на сей раз обратился к Доронину: – У тебя, Демьян Федорович, и без того имеется одно срочное дело. Какой срок тебе установила Яковлева? Я имею в виду полковника. – Чекист усмехнулся. – Ладно, ладно, шучу. Но она права в одном: с Белым следует заканчивать. Либо так, либо эдак. Засиделся он у нас. Так что давай к нему. И без глупостей. Помни, полковник сдался сам, не оказывая сопротивления. Судя по всему, сломался. Семьи лишился. Один как перст. А посему терять ему нечего. Так что любое давление с нашей стороны ни к чему не приведет. Постарайся вести разговор спокойно, без нажима. Глядишь, повезет. Сможешь переломить на нашу сторону – молодец. Не сможешь – пиши бумагу на расстрел. Нечего народные харчи переводить. Ну что, товарищи, расходимся, – Глеб Иванович окинул взглядом маленькую следственную группу. – Встретимся сегодня, в семь вечера. Желаю успеха!
* * *
Хруст от ключа в замочной скважине вывел Олега Владимировича из полусонного забытья. Арестант с трудом присел. Тело крутило, будто некая таинственная сила пеленала его невидимыми бинтами и теперь с обеих сторон выкручивала их, словно мокрое белье.
«Интересно, зачем пришли? – Мысли в голове еле-еле ворочались, не желая просыпаться. – Обед был. Может, воды принесли. Умыться, что ли… Нет, холодно. Знобит? Простыл?»
Дверь распахнулась.
– Добрый день.
Олег Владимирович приподнял голову. «А, матрос-чекист». Взгляд потух. Голова вновь опустилась. «Ну, – сам себе проговорил полковник, – наконец-то. Вот Боженька просьбу мою и исполнил».
Доронин прошел внутрь камеры, присел на прикрученный к полу табурет. Аккуратно положил на стол листы бумаги, два карандаша.
– Как себя чувствуете, гражданин?
Белый принялся охлопывать себя по карманам, будто мог там что-то хранить.
– Простите, запамятовал, как вас зовут.
– Демьян Федорович мы. Доронины. Вспомнили?
– Да, да, точно… – Олег Владимирович с болью проглотил набежавшую слюну. – Ну что ж, Демьян Федорович, я готов.
– К чему? – В голосе матроса прозвучало удивление.
– Как к чему? А для чего вы пришли?
– А-а… – догадался чекист. – Вы об этом… Нет, я пришел не за тем.
Белый поморщился: боль в горле стала нестерпимой.
– Жаль. Напрасно тяните время. Хотя, спасибо, что нашли время зайти. А то, признаться, начал волноваться, что обо мне забыли.
– Да нет, гражданин Белый. Помнят о вас. Помнят.
– Странно. – На лице Олега Владимировича проявилось нечто похожее на улыбку. – Вы так произносите слово «гражданин», будто оно несет в себе негативный оттенок.
– Не знаю, что оно там в себе несет, – нахмурился Доронин, – но слово верное. Правильное. Вот ежели бы вы были на нашей стороне, я бы вас тоже называл товарищем. А так, гражданин и есть.
– Да Бог с ним, со словом. – Белый потянул на костлявые плечи шинель. – Пришли насчет денег? Или так, поболтать?
– Не то время, чтобы лясы точить, – огрызнулся матрос и тут же прикусил язык, вспомнив приказ Бокия вести себя тактично с этим… гражданином, – но вы правы. Ходить вокруг да около не стану. Нам действительно нужно знать, куда вы перевели деньги Губельмана.
– Господин банкир смог доказать свою нужность товарищам большевикам, – в бесцветном голосе Белого не слышалось никаких эмоций. Только пустота. – Собственно, удивляться нечему. Особенно если вспомнить Савву Морозова. Странно и дико: вкладывать деньги в то, что потом убивает тебя и твой род. Собственными руками выращивать чудовище, которое тебя же и сожрет. Нет, уроки Франции нам на пользу не пошли. Впрочем, сие есть закономерность: учиться на собственных ошибках. Простите, гражданин следователь, отвлекся. Вы дали мне пищу для некоторых размышлений. А вот где деньги – не знаю. И, помнится, я вам об этом уже говорил.
– Да, говорили, – кивнул головой матрос, – но мне что-то с трудом в ваши слова верится. – Чекист протянул руку, придвинул к себе пустую миску. – А вы знаете, что в городе голод? Пацанва мелкая едва ноги передвигает. Смотреть больно! А вы… Да за те деньги можно столько хлеба купить…
– Ну, во-первых, сейчас не так голодно, как по весне, – неохотно парировал арестант. – Я ведь помню, какую еду приносили в мае. А теперь в рационе селедка появилась. А, во-вторых, гражданин следователь, неужели вы действительно верите в то, что на эти деньги купят хлеб? – Олег Владимирович сильнее вжался в стенку. Озноб все сильнее и сильнее охватывал тело. – Лично я уверен в обратном, в том, что на них никто и ничего не купит. Ни сегодня. И ни завтра. Не тот человек господин Губельман, чтобы деньги пускать на ветер. Для него хлеб отданный, а не проданный голодающим – и есть тот ветер.
– А Губельман их и не получит, – убежденно прогудел Доронин. – Банки-то национализированы. Так что деньги теперь народные. Общие!
– Общих денег, гражданин матрос, не бывает. Деньги – такая субстанция, у которой непременно должен быть хозяин, распорядитель. Иначе они не выполняют свою функцию. – Матрос поморщился: еще один умник. Мало того что Озеровский бросается такими непонятными словами, что после голова раскалывается, так теперь и этот принялся издеваться. Белый заметил реакцию собеседника, однако решил его не жалеть. – Запомните, гражданин чекист, финансами, как непременное условие, кто-то должен распоряжаться. Один человек, несколько – без разницы. Но у этих лиц обязательно должны быть фамилия, имя и должность. И, естественно, ответственность. Кому давать? Сколько? Под какой процент? И вот тут мы с вами снова выходим на фигуру товарища Губельмана. – Слово «товарища» полковник специально выделил интонацией. – Человека с опытом банкира. Или у вас имеются в наличии другие подготовленные специалисты, из числа солдат, крестьян, матросов, получивших соответствующее образование и опыт? А может, они этот опыт получили на фронте, в поле, на корабле? Вот то-то и оно! А господину Губельману сейчас только и нужно, что вернуть ворованные миллионы, прокрутить их, пользуясь вашей, мягко говоря, безграмотностью, после чего снова перевести их, только уже с процентами, в Швейцарию или Британию, но только на этот раз на свои личные счета. А потом… А потом товарищ Губельман пошлет всех вас к е…й материи и уедет утренним поездом за границу. Поверьте, с такими деньжищами он там не пропадет. И вот как раз именно этого я не могу и не хочу допустить. По мне, Демьян Федорович, пусть товарищ Яков Исаакович гуляет с голым задом по Руси, чем греет свое пузо на берегу Атлантики. Он того заслужил.
Доронин невольно склонил голову, спрятав улыбку: матрос вдруг ярко представил себе толстого голозадого товарища Губельмана, стоящего в ромашковом поле на берегу родимой Волги. Впрочем, чекист тут же встрепенулся.
– А как дети? А голодные питерцы? Или тоже пусть гуляют? – Чекист примолк, что-то обдумывая, после чего вскинул на арестанта пронзительный взгляд. – А может, вы, гражданин Белый, мечтаете каким-то образом выбраться от нас? Тоже махнуть за границу, шиковать там на народные деньги? А? Что отворачиваешься, ваше благородие? – Голос матроса окреп. – Я вас, контру, насквозь вижу! Только ни хрена у тебя, полковник, не выйдет!
Олег Владимирович отвернулся от грозящего в лицо кукиша, закрыл глаза: озноб все больше и больше охватывал тело. Хотелось принять горизонтальное положение, но при молодом чекисте показать свою слабость тоже не желалось. Приходилось терпеть.
А Доронин, восприняв поведение арестанта по-своему, тут же убрал руку за спину, мысленно матюкнулся: не сдержался. Твою… Вот же, и на кой ему этот беляк? Неужели у Бокия не было никого другого, чтобы послать к этому гаду?
Демьян Федорович упал на привинченный к полу табурет, с минуту молчал. Молчал и Белый. Матросу не оставалось ничего другого, как надавить на себя, чтобы более спокойным голосом продолжить:
– Словом, так, гражданин. Не скажете, где деньги? Не говорите. Но и отсюда не выйдете. Подыхайте с сознанием того, что у вас есть миллионы!
Демьян Федорович рывком поднялся, одним движением руки смахнул со стола листы бумаги.
– Не торопитесь, – едва слышно проговорил Белый, – пугать меня смертью не советую. Сам ее жду. Как спасение. А вот по поводу Губельмана… Присмотритесь к нему. Хорошенько присмотритесь. Он наверняка уже успел влезть в ваши структуры. Не знаю, как они теперь называются. Может, остались, как при Керенском, комиссариатами. Суть не меняется. Раз вы заинтересовались миллионами, значит, Яков Исаакович кому-то из ваших, причем из тех, кто стоит наверху, о них доложился. И не в тюремной камере. А сие дает почву для размышлений.
– Товарищ Губельман, чтобы вы знали, помог Петросовету с доставкой продовольствия, – твердо отчеканил Демьян Федорович, – и если бы не он, то кто знает, сколько человек сейчас было бы при смерти.
– Вот даже как? – Полковник поморщился от обжигающей боли, на этот раз в области почек. Застудил или камни? Хрен редьки не слаще. – Шустро. Впрочем, такая активность всегда отличала Якова Исааковича. Активность в сочетании с напором. Кстати, гражданин следователь, а вам известно, на чем товарищ Губельман заработал те миллионы? Об этом вам не рассказывали? Могу просветить. Так, к примеру, летом тысяча девятьсот пятнадцатого года Яков Исаакович, в сотовариществе с банкиром Рубинштейном, поставили в Шестую армию залежалые на складах сапоги и обмундирование. Негодную одежонку, гнилую, которая расползалась по швам после недели носки. Солдаты в окопах, под осенним ливнем, сидели фактически босые и голые. Всю ту рвань Губельман приобрел за копейки на Воронинских складах. А перепродал правительству гнилье как качественный товар. Спустя два месяца подобную аферу они провернули и с продовольствием. Мясо с душком. Пшено заплесневелое. И это только небольшой эпизод из сложной, многоходовой комбинации товарища Губельмана. – Белый не знал, почему он начал рассказывать незнакомому человеку некоторые подробности из того дела, которое он вел по приказу Батюшина, но останавливаться желания не возникало. – Нашу комиссию, «Комиссию генерала Батюшина[8]», создали именно по причине подобного рода махинаций. Губельман оказался не одинок в своем желании разворовать Россию. Кому война, кому мать родна… Таких, как Яков Исаакович, жаждущих быстро обогатиться, нашлись сотни, если не тысячи. Правда, миллионы из них смогли «наварить» единицы. Вот с ними, с теми единицами, мы и должны были разобраться. Однако все вышло иначе. Разобрались с нами. Кстати, хотите, сделаю предположение, через кого Губельман пытается вернуть себе миллионы? С кем из вашего руководства он, так сказать, навел мосты?
Демьян Федорович молча смотрел на собеседника. Прямо в глаза. В душе большевика боролись разносторонние чувства. Ненависть, любопытство, желание размазать арестованного по стенке и одновременно какое-то странное уважение к сидящему напротив седому старику. Точнее, к его спокойствию, способности анализировать и аргументировать, азы чего он, чекист Доронин, только учился постигать.
– Ну, рискните.
– Я так думаю, – продолжил Олег Владимирович, внимательно наблюдая за собеседником, – Яков Исаакович тесно сблизился с товарищем Апфельбаумом. Я прав? Именно он проявляет особый интерес к этому делу? – Белый не стал вдаваться в подробности того, что, по его данным, сия парочка была знакома еще до революции и еще задолго до Октябрьского переворота проделывала кое-какие любопытные финансовые операции. Пусть блаженные веруют…
– Я не знаю человека по фамилии Апфельбаум, – отозвался Доронин.
– И неудивительно. – Голос Олега Владимировича звучал спокойно, будто он беседовал на скучные темы с давно знакомым ему приятелем. – Апфельбаум – настоящая фамилия господина Зиновьева. Простите, товарища. Сия личность, надеюсь, вам известна?
Матрос опять промолчал. Предположение беляка попало в десятку. Потому как Доронину тут же вспомнилась полюбовница волосатого Зиновьева, Варька.
– Кстати, – тем временем продолжил мысль заключенный, – с этими фамилиями при вашей власти происходят удивительные вещи. У меня сложилось впечатление, будто некоторые ваши сопартийцы стыдятся своего родства. К примеру, известна ли вам подлинная фамилия начальника ЧК, товарища Урицкого?
Демьян Федорович непроизвольно вздрогнул: а что, если старик видит сквозь стены? Сейчас возьмет да и брякнет о том, что Моисея сегодня убили. И еще к тому же уточнит: кто, как и за что? Конечно, бред. Будущий «мертвяк» таких вещей знать не мог. Но чем черт не шутит… Вон ведь как про волосатого сказанул… И частица правды в его словах имелась. До Доронина и ранее доходили слухи, будто у руководителя СК СКСО иная фамилия, но чтобы так точно ее назвать… И где? В каземате!
– А вот Моисей Соломонович в молодости носил не менее благозвучную фамилию, нежели Урицкий. Радомысльский. Странно, и зачем было менять? Не иначе имелось в данном роду нечто такое, что могло помешать карьере товарища Урицкого и что заставило сына забыть отца. Да и не один он такой отказник. К примеру, господин Троцкий по младости именовался Бронштейном. А убиенный Володарский носил фамилию Когана… Кстати, чем закончилось расследование? – тут же поинтересовался Белый: – Убийцу нашли?
Доронин, не ожидавший вопроса, растерянно посмотрел на собеседника.
– Ищем, – буркнул спустя несколько секунд.
– Так я и предполагал. Надеюсь, Демьян Федорович, вы вняли моему совету, отошли от этого тухлого дела?
Чекист еле сдержал себя. От одного-то дела ушел, да второе прилипло, словно мокрый лист. И, судя по всему, еще более тухлое.
– Давайте, гражданин Белый, не будем уходить в сторону. Вы даете согласие на возвращение народных денег или нет?
– Возвращение куда и кому? Народу? Согласен. И безоговорочно. Губельману – нет.
– То есть… – У Доронина возникло жуткое желание врезать арестованному в морду. Черт бы побрал беляка с его логикой. – А если я дам слово, что деньги вернутся народу?
– Как? – В голосе Олега Владимировича звучало искреннее любопытство. – Каким образом, без участия Якова Исааковича, вы собираетесь использовать деньги в России? У вас есть определенный банк, который принадлежит вам, то есть советской власти? Кто руководит данным банком? На чье конкретно имя будут переводиться деньги? Вы можете ответить хотя бы на один из этих вопросов? Нет? Демьян Федорович, в таком случае наш диалог ведет в никуда.
Доронин сложил листы пополам, сунул в нагрудный карман гимнастерки.
– Напрасно вы так, гражданин Белый. Под пулей ходите.
– На большее и не рассчитываю. – Олег Владимирович с трудом приподнялся с топчана, встал напротив матроса. – Однако хочу уйти из жизни, с силой стукнув дверью. И ваш Губельман… да, да, теперь это уже ваш Губельман, и иже с ним не получат ни копейки! Так и передайте своим товарищам.
– Жаль, что мы не нашли общий язык.
– Отчего ж? С вами-то мы как раз его нашли. А вот с господами Апфельбаумом и Радомысльским мне разговаривать не о чем. Пусть ваш Урицкий присылает нового следователя. Мне бы не хотелось, чтобы силовые методы допроса ко мне применяли вы. Не знаю почему, но вы мне симпатичны.
Доронин усмехнулся.
– Было бы так, рассказали бы о миллионах. А вот с вашим желанием будет заминка, – матрос с секунду мешкал, но решился сообщить новость: – Убили товарища Урицкого. Сегодня утром. Так-то, гражданин полковник.
– То есть… – Олег Владимирович задумчиво скрестил руки на груди, – новое убийство? Любопытно. Хотя в этом нет ничего странного, если вспомнить итоги Французской революции. Однако… Демьян Федорович, а что, если я попрошу вас не торопиться и рассказать о происшедшем?
* * *
Глеб Иванович прошел в кабинет, подошел к окну, поднял с подоконника хрустальный графин, наполненный клюквенным морсом, налил в стакан, залпом выпил.
«Сука! – в который раз мысленно выматерился чекист. – Надо ж так… Чтобы меня, первого помощника председателя ЧК, и не пустили к арестованному! Да что ж творится? Чтоб какая-то б… крутила всем Питером!»
Стакан вторично наполнился, опорожнился.
Бокий решил нарушить распоряжение Яковлевой и увидеться с Канегиссером в камере. В том числе и для проверки слов Доронина. Однако все оказалось именно так, как сказал матрос. Глеба Ивановича до камеры сопроводили. Даже в смотровое окошко разрешили глянуть. Но на большее он получил твердый и решительный отказ охраны.
Рука непроизвольно потянулась к телефонному аппарату в желании назвать служащему коммутатора номер Яковлевой и обматерить ту с ног до головы. Но едва пальцы правой руки коснулись деревянной рукояти телефонной ручки, как Глеб Иванович замер от мысли, которая сегодня днем неоднократно его посещала.
«А что, если действительно на должность покойного Моисея Яковлеву назначил сам Феликс? Может такое быть?» И в который раз за день Глеб Иванович так и не смог дать ответ – ни положительный, ни отрицательный.
Да, судя по всему, Варвара была откомандирована Дзержинским в Северную столицу в качестве наблюдателя за Урицким. Слишком Моисей оказался слабохарактерен для руководителя ПетроЧК. К тому же и он, Бокий, потакал Урицкому. До приезда Варьки по Питеру и губернии кровь не текла рекой разливанной. Не имелось к тому повода. Даже смерть Володарского не сказалась на гражданах города. Лишь с приездом Варвары Николаевны, под давлением в ее лице Москвы, Соломонович вынужден был согласиться с подписанием «расстрельных» приговоров. И не мокрушникам[9]-уголовникам, а идеологическим противникам. Ох, как не хотел он тогда этого делать… Бокий помнил, как тянул Моисей с подписанием постановления о ликвидации заговорщиков Михайловского артиллерийского училища. Оттягивал, сколько мог. Пока Варька не прижала: либо тот с большинством, либо продотряд. Соломонович, естественно, выбрал первое. Да, давить от имени партии девка умеет, чем и ценна. Но… Но у Варвары Николаевны имеется один минус, причем огромный, по причине которого Феликс вряд ли назначил бы Яковлеву возглавлять Чрезвычайную комиссию без согласия Ильича. Минус заключался в том, что Яковлева не поддержала позицию Ленина по поводу подписания мирного договора с Германией. То есть отошла в лагерь противников Ильича, к «левым большевикам», к Троцкому. А такой человек, который проигнорировал личное мнение Старика[10] по ключевому вопросу, в дальнейшем терял его доверие. Такой человек, без доверия Ильича, не мог руководить Чрезвычайной комиссией столь крупного центра, как Петроград. Старик терпеть не мог оппонентов по главным вопросам. Бокий об этом знал не понаслышке. А «германский вопрос» полгода назад был не просто главным. От него зависела дальнейшая судьба революции. «Нет, лично, без согласия Ленина, Дзержинский на данный пост Яковлеву бы не поставил. А посему остается одно: ждать. Феликс выехал в Питер. Замечательно. Вот по его приезде и нужно будет все расставить по своим местам».
Дверь распахнулась. Без предупредительного стука. Так в кабинет Бокия мог войти только один человек. Точнее, одна.
Глеб Иванович спрятал улыбку: вот ведь, бестия, чует, что ли, что он о ней думал?
– Глеб, – с ходу волевым голосом проговорила Варвара Николаевна, без приглашения устраиваясь на стуле, – на Большой Московской, возле тринадцатого дома, наблюдается оживленность. Похоже, хотят взять кооператив комитета. Поезжай с людьми, разберись.
Бокий медленно расстегнул верхнюю пуговицу косоворотки, поднял руку, задумчиво провел рукой по жесткому ежику волос на голове.
– Кто сообщил?
– Позвонили. Охрана кооператива.
– Понятно. – Глеб Иванович подошел к столу, но садиться за него не стал: по привычке устроился на уголке столешницы. – Меня только что не пустили в камеру к Канегиссеру. Сказали, твой приказ.
– Мой, – спокойно подтвердила Яковлева. Женщина положила ногу на ногу, от чего красивое круглое колено теперь навязчиво мылило глаза чекиста. – Думаю, прежде чем основательно допрашивать мальчишку, следует дождаться приезда Феликса. Чтобы он все услышал из первых уст. Один день однозначно ничего не решит. Ты не согласен?
– А кто тебе дал право отдавать подобные распоряжения? – с трудом, но сумел сохранить спокойствие в голосе Глеб Иванович.
– Партия, – на красивом лице Варвары Николаевны промелькнула легкая улыбка, – которая доверила мне данный пост.
– Данный пост занимал Урицкий, – напомнил Бокий, – а я у него был первым помощником. Так что по праву преемственности…
– Насколько мне помнится, революция отменила старорежимные правила. К тому же меня поддержит Москва.
– Но еще не поддержала, – уточнил Бокий, проверяя «зыбкость почвы».
– Всему свое время, – ушла от ответа Яковлева. – Приедет Феликс – поддержит.
«Ну вот, – пронеслось в голове чекиста, – Варька уверена, что Феликс будет на ее стороне. Неужели Ильич дал “добро”? Нет, исключено. Старик терпеть не может, когда ему прекословят. А эта чума столько вылила на него грязи, что такое не забывают. Разве… Разве что Феликс встал на ее сторону? Неужели слухи были небеспочвенны? Самое отвратительное в том, что я ничего не могу сделать. Хотя… Почему? – тут же обожгла новая мысль. – Могу! Правда, только при одном условии. Если Феликс убедится в том, что эта бой-баба не в состоянии управлять такой мощной структурой, как Чрезвычайная комиссия. И я ей помогу. Жаль, конечно, что не получится сегодня встретиться с Канегиссером, дьявол… Столько вопросов к нему. Ну да ничего, подождем».
– Что замолчал, Глеб? – Женщине нравилось ее нынешнее главенствующее положение. Да и Бокий был ей не безразличен. Глеб в сравнении с Зиновьевым, выигрывал, и еще как. Невысокого роста, крепкий, мускулистый, с открытым умным лицом, которое короткая мальчишеская прическа только украшала. Не то что длинные, часто немытые патлы председателя Совета комиссаров. Колючий ершик Бокия возбуждал женщину. Даже сейчас ей жутко хотелось провести по нему ладошкой. – Или язык проглотил?
Варвара Николаевна встала, легким движением руки оправила подол платья.
– Не переживай. Придет время, и ты будешь при власти.
Напрасно, ох, напрасно она произнесла последние слова. Именно они еще более убедили Бокия в принятом решении.
Глеб Иванович качнул головой, после чего неожиданно для Варвары Николаевны резким движением вскинулся, обошел стол, сел на свой стул, выдвинул ящик из тумбы стола, вытянул из него несколько папок с бумагами.
– Извини, Варвара, у меня дел по горло.
– То есть? – Женщина оторопело уставилась на ворох документов. – Ты что, не собираешься ехать на Московскую?
– Нет, – спокойно отозвался Бокий, – насколько помнится, возглавлять операции по подавлению беспорядков, а в данном случае мы имеем именно такой факт, должен председатель ЧК. Лично! А так как я не председатель…
Глеб Иванович развел руками.
Яковлева нервно прикусила нижнюю губку. Она еще не поняла, какую западню ей устроил Глеб Иванович, но интуитивно чувствовала: что-то тут не так. А Бокий, решив ей помочь, продолжил мысль:
– И ответственность за подавление мятежей и беспорядков в городе несет непосредственно он, председатель. Так что, Варвара Николаевна, в данной ситуации могу помочь только одним: дать свой наган. Маузер будет великоват для тебя, а вот револьвер в самый раз.
Красивые глаза Варвары Николаевны оторопело уставились на подчиненного. Такого поворота она никак не ожидала. По ее мнению, достаточно было огласить приказ, как машина сама собой должна была заработать. Полностью. Только с ее корректировкой. А тут…
Яковлевой вдруг стало душно.
Капкан ей устроили отменный. Да уж, тут Бокий отыграл очень красиво. Даже Варька была вынуждена это признать.
Дело в том, что никаких инструкций по поводу того, кто, как и в каких ситуациях должен был действовать, в природе новой республики пока не существовало. Демократия. Революционный порыв. Практически анархия. Поэтому на усмирение всяческих беспорядков выезжали в основном те, кто сам любил побузить и почесать кулаки. Для них это было своеобразным выпусканием пара. Руководить подобной публикой мог только авторитетный человек. И, естественно, никак не баба. Даже Урицкому неоднократно ставилось в вину то, что он подчас при проведении акций не мог контролировать своих людей. Так Моисей был какой-никакой, а все ж мужик. А тут… К тому же на подобные мероприятия в основном выезжала «матросня». А та могла и высмеять, и послать куда подальше. Весь авторитет псу под хвост. И это перед приездом Феликса.
– Глеб, ты же понимаешь…
– Что? – Глеб Иванович даже не оторвал головы от бумаг на столе.
Варвара Николаевна собралась объяснить, но взгляд споткнулся о крепкий затылок чекиста, и слова сами собой застряли в гортани. Продолжать разговор не имело смысла. Поняла: Бокий помогать не станет.
А подчиненный зашуршал бумажками, внимательно просматривая то одну, то другую, будто забыв о том, что он в комнате не один.
– Что ж, Глеб, смотри… – женщина резким движением руки отряхнула подол платья, – как бы не пожалел, – и, не прощаясь, покинула кабинет.
* * *
Аристарх Викентьевич, чтобы хоть как-то скрыть смущение, принялся протирать очки некогда отрезанным от старой портьеры кусочком бархотки. Зрение только начало подводить следователя, а потому оптику мужчина применял крайне редко, в исключительных случаях. Да и то, скорее по причине того, чтобы хоть как-то скрывать свои эмоции.
Первой на допрос из всего семейства Канегиссеров Геллер, как ни странно, вызвал дочь Иоакима Самуиловича, сестру убийцы, Елизавету, или, как ее звали в узком домашнем кругу, Лулу.
Елизавета Иоакимовна не признала Озеровского, расположившегося в дальнем углу слабоосвещенной камеры. Да, собственно, с какой стати она должна была узнавать человека, которого видела всего один раз в жизни и то при трагических обстоятельствах: смерти брата?
Тихо сидя на тяжелом, привинченном к полу табурете, вжавшись в него, девушка бросала испуганные взгляды то на коричневую поверхность крышки стола, на которой лежали чистые листы бумаги для протокола, чернильница и перо, то на следователя, вольготно развалившегося напротив и в который раз сально осматривавшего фигурку арестованной, то на стены камеры, выкрашенные в непонятный грязный цвет.
Геллер молча ждал, когда девушка освоится в непривычной обстановке. А может, и по какой иной причине.
Испуганно погуляв по стенам, глаза арестованной с тоской и болью остановились на зарешеченном окне, за которым гудела пусть и ограниченная, но все-таки свобода.
Молчание затянулось. Впрочем, бесконечным оно быть не могло.
– Елизавета Акимовна, – наконец проговорил Геллер, слегка изменив отчество девушки: следователю так было проще его произносить. Еще не хватало напрягаться: Иоакимовна…
Девушка встрепенулась:
– Я вас слушаю.
– Да нет, дорогуша, – не проговорил, а выдохнул чекист, – это мы вас слушаем. Давайте не будем терять время. Рассказывайте о брате.
– Что рассказывать?
– Все! – осклабился Сенька. Девчонка ему определенно нравилась. «Нужно будет перевести ее в одиночку, – мелькнула мысль в голове чекиста, – а после наведаться. С допросом». Последняя мысль настолько понравилась Семену, что он даже улыбнулся.
Девушка улыбки не поняла.
– О чем вы?
– О вашем брате, Елизавета Акимовна. – Улыбка продолжала играть на лоснящейся физиономии чекиста-анархиста. – О Леониде, убийце товарища Урицкого. Давайте, давайте… Как на духу! С кем встречался? Кого приводил в дом? По какой причине застрелил Моисея Соломоновича? Или вам ничего не известно об убийстве?
Геллер в наигранном удивлении округлил глаза:
– Неужели вам ничего не сказали при аресте?
– Отчего ж, сказали, – выдавила из себя девушка, – только я не могу в это поверить.
– Представляете, и мы не можем! – воскликнул чекист, ударяя себя руками по коленям. – Средь бела дня! В здании Комиссариата внутренних дел! У всех на глазах! Кто ж в такое поверит? А тем не менее… Так что вы нам поведаете?
– Я не знаю, что вы от меня хотите, – Елизавета Иоакимовна впервые бросила взгляд на Озеровского, как бы ища у того поддержки. Затем наполненные слезами глаза девушки вновь переметнулись к окну, с него – на расплывшуюся на мягком стуле фигуру следователя, – я ничего не знаю! И я не верю, что Лева мог кого-то убить! Он не такой! Он…
– Не мог даже муху прибить на стекле? – закончил за арестованную Геллер. – Слышали мы такое. И не раз. – Рука чекиста схватила со стола исписанный лист, затрясла им перед лицом арестованной. – Вот! Вот показания вашего братца! Он убил товарища Урицкого из-за мести! Мести! Мстил за расстрелянного друга. Кто был его друг, за которого он мстил? Кто?
Голос Геллера взорвался, перешел на крик, отчего девушка мгновенно сжалась, затравленно бросая взгляды то на Геллера, то на Озеровского.
«Дурак, – мысленно оскорбил Сеньку Аристарх Викентьевич, – вопрос поставлен неправильно. Да и криком давить следует, только когда загоняешь жертву в угол, из которого нет иного выхода, как сказать правду. А в самом начале допроса… К чему? Войди в доверие. Тем более она только свидетель. Перетяни на свою сторону. Дай надежду. А так-то зачем?»
Озеровский нацепил на нос очки, кинул взглядом по напряженной фигуре Геллера, и его будто током ударило. Так было однажды, в начале столетия, когда в дом, где его молодая семья снимала квартиру, проводили электричество. Решил сам, из любопытства, вкрутить лампочку, в результате получил серьезный урок. Но на сей раз ток был иного рода.
Старик следователь неожиданно понял причину крика. И от данного осознания ему стало страшно.
«Семена Геллера, – догадался Аристарх Викентьевич, – не интересует результат расследования. Вообще! Чекиста в данный момент интересует только одно: девчонка, сидящая напротив. Какое убийство? Какой Урицкий? Для Геллера все эти слова так же далеки, как для меня римское право: вроде и рядом, однако далече».
Сенька буквально пожирал девчонку, глотал, давясь слюной. При этом наслаждаясь властью. В зрачках анархиста опытный сыщик прочитал только одно: а ведь девочка будет моей!
«Вот откуда родился крик! Не из желания узнать истину, а из предвосхищения будущего наслаждения. Слава богу, хоть девчонка ничего не заметила».
Геллер с трудом взял себя в руки, откинулся на спинку стула и, вскинув квадратный подбородок, произнес:
– Итак, Елизавета Акимовна, жду ответа.
Озеровский сжал губы. Отвернулся к стене. Господи, как все мерзко, противно. Слава богу, Семен не догадывается о его состоянии, полностью игнорирует присутствие в камере постороннего человека. Специально игнорирует. Семен сразу был против того, чтобы человек Бокия сопровождал допрос. Однако пойти супротив Глеба Ивановича не решился: кишка тонка.
Девушка затравленно, исподлобья наблюдала за грозным следователем.
– Будете говорить? – вновь повысил тон Геллер.
– Я не знаю, что сказать. Я понятия не имею, о ком идет речь.
– Ой ли? – Сенька кинул на стол исписанный лист.
«А ведь это не протокол допроса Канегиссера. Пустышка, – тут же отметил Озеровский. – Глупый ход. Если хочешь использовать документ, но у тебя его нет под рукой, выпиши хотя бы некоторые цитаты из подлинника, чтобы было чем аргументировать. А так, нахрапом… Расчет на деревенского забитого дурачка».
– В показаниях вашего брата, – продолжал тем временем врать Семен, – сказано, будто вы знали о готовящемся покушении. – Чекист в который раз мысленно обматерил Озеровского. Тот ему мешал. Не будь старика, давно бы уже разобрался с этой стервочкой. И, может, даже не один раз. – Что скажете? – Рука бывшего анархиста с силой опустилась на столешницу. – Долго будем молчать?
Елизавета Иоакимовна сжала маленькие, почти детские ладошки.
– Я действительно понятия не имею, о чем вы говорите! Ничего подобного я не слышала! В последнее время Леня дома появлялся крайне редко. Как я слышала, он сошелся с какой-то женщиной. Но кто она, где живет, мне неизвестно. И со мной он ни о чем… Я всегда была для него только, как он говорил, взбалмашной девчонкой. Поймите!
– Давно брат не живет с вами? – Озеровский сам не заметил, как с его языка сорвался сей невольный вопрос. Геллер недовольно покосился на старика, однако промолчал.
– Недели три. Точно не помню.
– Три недели? Не так уж давно, – едко заметил чекист. – А друзья? С кем водился?
– Понятия не имею, – повела худенькими плечиками девчонка, и тут же, опомнившись, затараторила: – Нет, конечно, он был с кем-то близок. И к нему приходили гости. Но кто эти люди, я не знаю. Честное слово! Я ни с кем из них не встречалась. Он никогда и ни с кем меня не знакомил. Не хотел, чтобы ко мне после приставали…
– А кто спрашивал о вашем брате у вас? Приходил ли кто к нему во время его отсутствия? – Озеровскому было наплевать на грозные взгляды чекиста. Гончая взяла след.
– Не было никого. И никто им не интересовался.
– Совсем никто?
– За три недели – да. Леня – человек скрытный. Об этом все знают и давно к тому привыкли. И друзей, настоящих друзей, у него никогда не было. Трагедия всех гениальных людей. Одиночество.
«Девочка немного успокоилась, – отметил Аристарх Викентьевич, – молодец. Теперь будет следить за своими ответами».
– Как отец отнесся к тому, что ваш брат ушел из дома?
– Мы с ним на данную тему не говорили. – Елизавета Иоакимовна слегка выгнула затекшую спину, напоминая грацией проснувшуюся кошку. Геллер не смог скрыть восхищения, и на сей раз это не укрылось от внимания девушки. Та стушевалась, покраснела.
В этот момент в дверь постучали, приоткрыли ее. В образовавшееся отверстие просунулась голова одного из чекистов из личного окружения Яковлевой:
– Семен, на минуту.
– Чего? – Тот непонимающе уставился на сослуживца.
– Надо!
– Ты че? Не видишь, что ли?
Заглянувший чекист осмотрел камеру, кивнул на Озеровского:
– Пусть дед с ней посидит. Тебя Варька зовет! Срочно!
– Зачем?
– Куда-то ехать нужно! Берет только наших. То ли буза, то ли грабеж.
Голова скрылась. Дверь захлопнулась.
– Мать твою… – пробормотал Геллер, поднялся, оправил пояс, обернулся к Аристарху Викентьевичу: – Ну что ж, продолжайте. Только это… Как его… Протокол чтоб был. И все такое…
Сенька со вздохом сожаления бросил долгий взгляд на арестованную, после чего резко развернулся, твердым, решительным шагом покинул помещение.
Озеровский нервно перевел дыхание: да, подобное случается крайне редко. Чтобы вот так, в нужный момент… Вот и не верь после этого в Божий промысел.
А аналитический ум следователя тут же вцепился в последние слова помешавшего ходу расследования чекиста. Буза или грабеж. Подавление займет не менее двух часов. Он сможет сам, без Геллера, опросить всю семью Канегиссеров. Такой шанс упускать никак нельзя.
Аристарх Викентьевич быстро переместился на стул следователя.
– Елизавета Иоакимовна, – девушка встрепенулась. Отчество прозвучало именно так, как положено, с уважением, – я попрошу не терять время и ответить мне, я делаю ударение именно на слове «мне», на все вопросы. Поверьте, это в ваших интересах. Тем более мы с вами однажды уже общались. И вы тогда были со мной открыты, а я не воспользовался данным обстоятельством.
– Простите – Сестра Канегиссера присмотрелась. При этом ее узкий, открытый лобик слегка наморщился. – Не припоминаю… Вы бывали в нашем доме? Наверное, это было очень давно…
– Не столь уж давно. И при довольно неприятных обстоятельствах. Хотя я бывал в вашем доме и ранее. Приходил к вашему батюшке, – в голосе Озеровского прозвучала искренняя грусть, – вместе с господами Ларионовым и Жуковым. Хотя, честно признаюсь, удивительно, что вы меня не помните. Вы меня просто обязаны были запомнить. Наша с вами встреча состоялась полтора года назад, в день смерти вашего брата, Сергея. 8 марта.
Девушка всхлипнула, не сдержалась: закрыла лицо узкими, тонкими ладошками, пытаясь подавить рыдания.
Озеровский терпеливо ждал, когда она успокоится.
Сергей Канегиссер, брат убийцы Урицкого, погиб, точнее покончил с собой, в марте семнадцатого. Впрочем, покончил ли?
Сыщик снова принялся протирать линзы. Любопытное было дело. Собственно говоря, из-за него он и пострадал.
Придя к власти, правительство Керенского первым делом, как ни странно, объявило амнистию. Всем. Как политическим, так и уголовникам. Из тюрем на волю вырвалось огромное количество заключенных. «Птенцы Керенского», как их тут же окрестили в народе. Но то, что их амнистировали, оказалось верхушкой айсберга. Истинные причины амнистии, как догадывался Аристарх Викентьевич, крылись вовсе не в либеральности нового кабинета министров. Вскоре, вслед за амнистией, сторонниками Временного правительства стали со скрупулезной тщательностью уничтожаться личные дела многих бывших зэков. Документы на уголовников в большинстве случаев ликвидировали сразу. А вот бумаги на политических арестантов тщательно пересматривались и анализировались. Кто сел? За что? По чьему доносу? И так далее. Вот тогда-то и всплыла информация о том, что Сергей Канегиссер, которого друзья считали одним из активистов революционного подполья, оказался полицейским осведомителем. Провокатором. Как гласили документы, именно по его «наводке» арестовали несколько членов партии социалистов-революционеров, проще говоря, эсеров. На Сергея началась охота. Результат – самоубийство Канегиссера. Озеровский начал то расследование, но так и не закончил. Вскоре его самого арестовали и продержали в тюрьме аж до октябрьских событий. А дело по «самоубийству» Сергея Канегиссера закрыли на следующий день, сразу после ареста следователя. Аристарх Викентьевич по сей день был уверен: молодого человека убили, сымитировав суицид. Только вот кто убил, сие стало неизвестными страницами истории.
Оптика Озеровского легла на стол.
– Простите, Елизавета Иоакимовна, но у нас, как понимаете, мало времени. С минуту на минуту может вернуться… – Озеровский попытался подобрать слово, которым смог бы назвать Геллера, но не нашел.
Впрочем, девушка и так все поняла.
– Так вы теперь с ними?
Аристарх Викентьевич снова нацепил на нос очки. Закрылся.
– Представьте себе.
– Но… Это же холуйство! – не сдержалась юная особа.
– Простите, – Озеровский аккуратно спрятал бархотку в карманчик жилетки, – с каких это пор поимка воров, бандитов и убийц стало холуйством?
– С тех самых, когда к власти пришли большевики!
– Вот как… – Слова девушки задели Озеровского. – Ненавидите большевиков? А можно полюбопытствовать: за что? – Подследственная сделала попытку произнести нечто в ответ, но Аристарх Викентьевич ее перебил: – Я прекрасно знаком с вашей семьей. И, насколько мне известно, до сегодняшнего дня новая власть не сделала вам ничего плохого. В отличие от власти предыдущей. Или я не прав? Насколько помнится, ваш второй брат, Сергей, был убит, или, как я думаю, покончил с собой не при большевиках. Однако к господину Керенскому вы претензий не высказываете.
– Вы бьете по больному месту. Так нельзя!
– Так нужно, чтобы вы пришли в себя, – Пальцы следователя поправили стекла, чтобы те нашли свое привычное место на переносице. – Большевики ничем не отличаются от Временного правительства. Поверьте, я в этом убедился. И, самое странное, они тоже ратуют за законность и за то, чтобы данное дело, в котором замешан ваш брат Леонид, было рассмотрено объективно, со всех сторон. Для чего меня к вам и приставили. Кстати, хочу заметить, большевики, в отличие от Александра Федоровича, начали не с того, что выпустили на волю уголовников. Скорее наоборот, они сейчас делают все для того, чтобы вернуть тех обратно. И в трагедии с Леонидом не делают поспешных выводов. Потому я здесь. А вы должны нам помочь. Мне помочь. Если хотите, чтобы Леонид остался жив.
Девушка горько усмехнулась:
– Вы обманываете. Его убьют! Как две недели назад ваши большевики расстреляли Володю, его единственного друга. Ни за что расстреляли! За пустяк! Только за то, что он был курсантом. А тут…
– Это какой Володя? – поинтересовался Озеровский.
– Перельцвейг. Володя Перельцвейг. – Головка девушки снова опустилась. – Лева тоже погибнет.
– Это его имел в виду Леонид, когда говорил о мести?
– Не знаю. Наверное. Они дружили с детства.
Аристарх Викентьевич долгим взглядом ощупал юную особу. Нет, внешне девушка не изменилась. Такая же красавица. Вот только светский лоск исчез. И в глазах пропала чертовщинка. А какая была непреступная светская львица еще год тому…
Салон в доме номер пять по Саперному переулку высоко ценился среди столичной богемы. В пятой квартире, где проживали Канегиссеры, считали за честь поцеловать ручку хозяйке дома и ее прелестной дочери застенчивый Мандельштам[11], сверхэкспрессивный взрывной Блок[12], несдержанный в эмоциях Савинков[13], революционер Лопатин[14] и министр Милюков[15]. Многие, очень многие желали посетить салон новоявленной Аннет Шерер[16]…
Мысли Озеровского тут же вернулись в прежнее русло размышлений. Перельцвейг… Личность незнакомая. Однако фамилия на слуху. Девушка утверждает, будто его расстреляли две недели назад… Аристарх Викентьевич пробежался пальцами правой руки по пуговицам жилета: вспомнил. Профессиональная память не подвела и на этот раз. Владимир Перельцвейг. Отчество, кажется, на литеру «Б». Борисович? Вполне возможно… Что точно, так то, что он стоял двенадцатым номером в первом «расстрельном» приказе Урицкого. Любопытно. Озеровский мысленно сделал пометку: нужно будет более детально познакомиться с причинами, по которым сей молодой человек угодил в немилость председателя ЧК.
– Елизавета Иоакимовна, – следователь тщательно подбирал слова, – признаться, мне несколько не по себе от того, что произошло. И особенно не по себе от того, что именно мне приходится проводить допрос. Но, с другой стороны, может, это и к лучшему. Надеюсь, мы еще сможем помочь вашему брату. Поверьте, я искренне желаю помочь. Не по причине знакомства с вашей семьей. Если бы я сразу поверил в то, что Леонид – убийца, или что он был один, и это покушение спланировал самостоятельно, я бы с вами сейчас не общался. Но в том-то все и заключено, что я не верю в последнее. Нет, я не оправдываю вашего брата. Однако в данном деле имеются некоторые моменты, которые наводят на мысль о том, что Леонида просто использовали. Как ширму, дабы скрыть истинных виновников преступления. Вот их-то мы, я и мои новые коллеги, желаем вывести на чистую воду. Не знаю, насколько получится, однако приложу к тому все усилия.
Елизавета Иоакимовна еще пару раз всхлипнула, после чего подняла на следователя покрасневшие от слез глаза.
– Мне сейчас все едино. Жизнь после смерти Сережи в нашей семье приостановилась. Замерла. – Девушка произносила фразы настолько тихо, что старому следователю приходилось все время находиться в напряжении, чтобы распознать их. Однако сыщик и не подумал просить девушку говорить громче. Любая посторонняя фраза могла ее спугнуть. И тогда бы она замкнулась, перехотела выговориться. А Озеровский как раз ждал иного: пусть выплеснется – приоткроется. Следователь мысленно отругал себя: проклятый профессионализм. И тут выискивает практическую сторону. А Елизавета Иоакимовна тем временем продолжала бормотать: – Сережу все любили. Да, да, все. Несмотря на то что он всегда мнил о себе Бог весть что, тем не менее… Помните… Впрочем, вы, естественно, не помните. Он как-то шутя сказал о себе: мол, я – денди с породистой утонченностью. Смешно, да? – Аристарх Викентьевич промолчал. – Все мечтал съездить в Одессу. Он ведь счастлив был только там. На море. Даже в жены взял коренную одесситку. Нет, Наташа хорошая девушка, только не для него. А потом этот выстрел… Знаете, Сережа умирал долго. Все стонал. Бредил. – Этот момент в деле Аристарх Викентьевич помнил очень хорошо. Самострел у молодого человека вышел довольно любопытный: в бок, в области печени. Очень неудобный и странный суицид. Попробуй вывернуть руку с револьвером. Но даже если и сделать так, то на рубашке или на голом теле человека должны остаться следы от пороха. А их на белоснежной сорочке самоубийцы как раз найти и не смогли. Впрочем, дело закрывал другой следователь, который на сей факт не обратил никакого внимания. – Когда Сережа умер, папу сняли с должности. Никаких вечеров, балов. Лакеев пришлось уволить: более подобной роскоши позволить себе мы не могли. А потом ваша гадкая революция, – девушка горько улыбнулась, – которая забрала у нас и Леву. – Взгляд Елизаветы Иоакимовны вновь устремился к следователю. – Вы действительно думаете, что ему сохранят жизнь?
– Не знаю, – честно признался Озеровский, – убийство действительно было совершено именно им. Однако шансы, пусть мизерные, но имеются. Елизавета Иоакимовна, скажите: в последнее время за вашим братом ничего необычного не замечали?
– Нет, – обреченно выдохнула девушка. Она все поняла, – я действительно редко его видела. В последнее время он нечасто ночевал дома. Так, приходил изредка, в основном под вечер. Будто отмечался, что с ним все в порядке. Чтобы мама с папой не волновались. Посидит, почитает книжку… Чай попьет…
– Что читал?
– Штудировал Шницлера.
– Это какого Шницлера? Философа?
– Нет, – девушка отрицательно качнула головкой, – Артура Шницлера[17]. Модно. Сейчас весь Петербург читает. – Елизавета Иоакимовна встрепенулась. – А вот вчера вечером, неожиданно открыл томик Дюма. «Граф Монте-Кристо». – Дочь инженера чуть подалась всем телом к следователю. – Вы верите в мистику?
– Что? – не понял Озеровский.
– Понимаете, – голос девушки вновь перешел на шепот, – у нас в детстве была игра. Кто-нибудь из нас загадывал страницу какой-нибудь книги, на выбор, открывал ее и читал, как мы считали, про свое будущее. Ну, будто бы будущее. Выдуманное. Смешно. Наивно. Это было так давно. Я даже забыла. А вчера Лева поступил именно так. Взял томик Дюма, назвал страницу, открыл ее и прочитал. Усмехнулся еще: мол, прямо как про меня. А ведь так оно сегодня и получилось…
– О чем шла речь в книге? – заинтересованно спросил Озеровский.
– О политическом убийстве. Помните, во втором томе, старик Нуартье рассказывает внучке о том, как он в честной схватке убил не пожелавшего примкнуть к заговору бонапартистов барона д’Эпине. Лева, когда распахнул страницы, даже глаза прикрыл, будто боялся читать. А потом, когда закрыл том, долго молчал. Может, если бы он прочитал другую страницу, то всего этого не произошло бы? Как думаете?
Сыщик скрыл тяжелый вздох. Он так не думал. Он знал: к тому моменту, когда юноша читал те строки, для него все было решено. Либо им, либо кем-то другим, пока неизвестным.
Аристарх Викентьевич придвинул к себе чистый лист, для протокола. Взял в руку перо. Значит, текст совпал с намерениями? Любопытно. Мистика? Только мистики в этом деле не хватало. Да и при чем здесь она? Есть реальный труп. Есть убийца, подписавшийся под протоколом допроса. Нет только доказательств: один он действовал или с сообщниками?
– Елизавета Иоакимовна, скажите, Леонид хорошо стреляет из револьвера? Имею в виду, вы видели, насколько хорошо он умеет обращаться с оружием?
* * *
Доронин остановился возле двери, с силой втянул в себя побольше воздуху, задержал дыхание и решительно постучал костяшками пальцев по полированной поверхности двери.
– Кто? – донесся из кабинета приглушенный голос Бокия.
Демьян Федорович толкнул створку, вошел внутрь кабинета.
– Глеб Иванович, – с ходу начал матрос, даже не успев подойти к столу, – ослобони ты меня от этого беляка! Не могу я с ним это самое!.. Он же, гад, меня насквозь видит. Я к нему с делом, а он мне всю подноготную. Да наизнанку. Да так, что и сказать нечего.
– Сядь. – Бокий указал на стул. После чего кинул взгляд на раритет, оставшийся в кабинете от царского режима: большие башенные часы, уютно спрятавшиеся в дальнем углу, рядом с окном, выглядывающим на Гороховую. – Начало восьмого… Где Озеровский?
– В «Крестах». Ведет допрос Канегиссеров.
– Один? – Брови Бокия в удивлении приподнялись.
– Так точно. Геллера Варька… Простите, Яковлева забрала, на облаву. Так он с ними теперь это самое… Отозвать?
– Ни в коем случае! Что у тебя? Только по порядку, без воды. Про деньги выяснил?
– Нет.
– Другого и не ожидал. Отказался наотрез?
– Вроде как да, а вроде как и нет.
– Точнее?
– Сказал, мол, народу деньги отдать согласен. Губельману – нет.
– Так ты бы и пообещал, что народу.
– Обещал. Не верит. Гарантии требует, что не Губельман будет принимать. Недоверие власти высказал.
– И даже угроза расстрела не подействовала?
– Какая тут угроза… – сокрушенно махнул рукой матрос. – Сам хочет, чтобы его шлепнули. Когда я сегодня к нему пришел, то он прямо так и сказал: мол, готов.
– Ясно. И о чем же вы тогда говорили с ним столько времени?
– Об убийстве Моисея Соломоновича, – пряча глаза, выдохнул Демьян Федорович.
– Даже так… – Бокий с интересом присмотрелся к собеседнику. – Это по чьей же, позвольте полюбопытствовать, инициативе вы вели столь любопытную беседу с арестованным, товарищ чекист?
– Я же говорю, насквозь… – Матрос с силой ударил себя кулаком в грудь. – Ослобони меня от него, Глеб Иванович. Христом Богом прошу! Да и вообще… Нутром чую: сыск – не мое дело. Напрасно я тут…
– Нутро – это здорово, – неожиданно спокойно и с улыбкой отозвался Бокий, – иногда нужно и им работать. А вот по поводу освободить – не получится. Тавров просит освобождения. Кириллов тут приходил. Тоже не справляется. Один Сенька Геллер готов работать с ночи до зари, просить не надо. Тот самый Сенька, которого в три шеи гнать следует. И что мне делать? С Геллером остаться? А кто будет с преступностью бороться? То-то. Лучше присматривайся, как работает Озеровский. Запоминай, учись. Все когда-то и чему-то учатся. Вот и ты, Демьян Федорович, сейчас проходишь новую школу. Кстати, беляк этот твой тоже показал тебе хорошую школу. Наматывай на ус, как следует «крутить» подозреваемого. Ладно, оставим лирику в покое. Что сказал Белый по делу Соломоновича? Какая его версия? Как тогда, с Володарским? Верно?
Доронин провел рукой по упругому, почти полностью седому ежику волос на голове. Крякнул в голос, обреченно:
– Тут такое… Глеб Иванович, я ведь просто хотел обсказать, как все вышло, а он из меня и повытягивал кой-чего.
– Что конкретно?
– К примеру, его тоже удивило, что студент рванул на Миллионную. Но он продолжил мысль нашего Аристарха Викентьевича. В том доме, что на Миллионной, куда метнулся убийца, во второй его половине что располагается? Я вот тоже поначалу не смекнул, а этот сразу взял за жабры…
Бокий напрягся. А ведь действительно… Как он сам мог забыть про такое?
В доме номер семнадцать на Миллионной помимо жилых квартир во второй его половине располагался Клуб английского собрания – неприкосновенная вотчина британского консульства.
– Так я ведь это… – начал матрос, но Бокий уже его не слышал. Глеб Иванович задумчиво развернулся к окну, что, впрочем, совсем не обидело Доронина: раз товарищ Бокий думает, значит, ищет правильное решение.
«А что, если Канегиссер устремился именно туда, в клуб, просить политического убежища? Козырь? И еще какой козырь для дела революции! – мелькнула шальная мысль в голове второго человека в ПетроЧК. И тут же сам собой выдвинулся контраргумент. – Но в таком случае студент должен был с ними оговорить все заранее. С его стороны – убийство председателя ЧК, а с их… Нет, англичане на такой шаг бы не пошли. Конечно, могли наобещать с три короба, а после… Ладно, – сам с собой принялся спорить Глеб Иванович, – предположим, так оно и было. С семьей Канегиссеров, по причине профессиональной деятельности отца, англичане были знакомы давно. Могли пообещать мальчишке, что сразу после совершения преступления его спрячут. Но, как только выстрел прозвучал, ушли в сторону! Логично? Нет, – мысленно тряхнул головой Глеб Иванович, – не могли они так поступить. Смысл? Убийство Соломоновича для них ничто. Лишний шум вокруг посольства ни к чему. После «заговора послов» никто из них на такой шаг бы не решился. И потом, странный маскарад с переодеванием, который больше похож на панику, нежели на продуманный план отступления. Он прямо как клин встревает в любую логическую цепь. Ведь не в клубе же дали пальто Канегиссеру, а в квартире. А что, если кто-то из жильцов связан с британским посольством? Специально открыл дверь с черного хода. Дал пальто… Точнее, не дал, а кинул, после чего выставил студента на площадку, захлопнув перед его носом дверь? В таком случае понятна версия с шинелью. Мальчишка растерялся: обещали одно, а тут совсем иное. Потому и скинул с себя ненужное пальто, оделся в шинель Сингайло. Отсюда и паника. Хорошо, еще один вариант. А что, если никто пальто не давал? Что, если Канегиссер действительно собирался спрятаться в клубе, но просто перепутал ход, этаж, дверь? И к чему пришли? Снова к небрежной подготовке плана совершения преступления. Третий вариант, который объединяет первые два. Пальто действительно дали, чтобы студент замаскировал себя, однако дальше он должен был действовать через иную квартиру. Потому-то и выбежал на площадку. Дверь за ним захлопнулась, потому как хозяева были полностью уверены в том, что все в порядке. А порядка-то и не было, так как вторая квартира Канегиссера не приняла. Отсюда и паника. И еще один момент. Студент был полностью уверен в том, что чекисты ринутся за ним в «черный ход». А те поступили иначе, чем и сбили планы убийцы и владельца второй квартиры. Но в таком случае, как ни странно, однако придется признать, что старик Озеровский прав и мы имеем заговор, в котором замешана либо ЧК, либо кто-то из Петросовета. А это значит… Это значит…»
– А беляк-то меня и спрашивает: как, мол, фамилия мальчишки? – снова начали входить в сознание чекиста слова матроса. – Я возьми и брякни.
– И что он?
– Рассмеялся. А потом добавил: мол, от такого уродца всякого можно было ожидать.
– Почему уродец? – удивился Бокий.
– Я вот тоже так спросил. А беляк и ответь мне: мол, все, кто под Сашкой ходил, все уроды.
– Под каким Сашкой? – заинтересовался Глеб Иванович. – Он пояснил?
– Ну да. Пацан-то, оказывается, одно время служил при Временном правительстве. То ли помощником Керенского, то ли секретарем.
– Секретарем у Керенского? – встрепенулся чекист. – А вот это уже интересно. Даже очень интересно! Черт! – Бокий с силой ударил ладонью по столу. – Жаль, нельзя допросить самого Канегиссера. Благодаря Варьке ходим вокруг да около…
Глеб Иванович стремительно вскочил на ноги, нервно потирая руки, приблизился к Доронину:
– А ведь в этом что-то есть, Демьян Федорович. Определенно есть! Получается, полковник Белый ненавидит всех, кто хоть как-то связан с Керенским. Оно и понятно: те его посадили… А что… – взгляд Бокия уперся в Доронина. – Как думаешь, что, если мы полковника подсадим к студенту? А?
– Для чего?
– А вот послушай. Канегиссера допросить мы не в состоянии. По крайней мере до приезда Дзержинского. Это минимум сутки. Теряем время. А Белый нам поможет.
Демьян Федорович отрицательно мотнул головой:
– Их благородие стукачом не станет. Кость не та.
– А кто говорит о «подсадке»? Мы господина полковника просто переведем в камеру Канегиссера. Он же не в одиночке? Нет. Вот данным фактом и воспользуемся. Утром вернем обратно. А после ты, Демьян Федорович, проведешь с ним новый допрос. Опять будешь на него давить по поводу денег. Он, естественно, будет упираться. А ты, Доронин, как бы невзначай, незаметно снова переведи разговор на убийство Соломоновича. Ведь они там, в камере, наверняка будут общаться. Вот ты его по тем разговорам и выпытай. – Глеб Иванович большим и указательным пальцами сдавил мочку уха. – Канегиссер первый раз в тюрьме. Ему выговориться захочется. Из страха перед будущим. Вот мы ему собеседника и подсадим. А завтра твой полковник все сам расскажет, по собственной воле, безо всякого стукачества. Потому как к «керенской братии» господин Белый питает далеко не братские чувства.
Доронин отрицательно покачал головой:
– Беляк не дурак. Сразу поймет, для чего мы его подсадили к мальчишке. А потому ничего не скажет.
– А ты сделай так, чтобы поверил. Через пару часов привезут новую партию задержанных. Сам знаешь, куда поехала Варвара. Все камеры станут доукомплектовывать. Вот тебе и решение вопроса. Кстати, у тебя в тюрьме есть свой человек? Из твоих, из братишек? Только чтоб верный?
– Найдем.
– Нужно, чтобы он сегодня заступил на пост, на охрану камеры Канегиссера. Коли есть приказ: никого из нас не впускать в камеру до приезда Феликса, то его должны выполнять все. Без исключения! Ты меня понял?
Доронин через секунду довольно осклабился, представив негативную реакцию Яковлевой.
– Николаевна нас с потрохами схарчит.
– Не схарчит, – уверенно проговорил Глеб Иванович. – Каково было распоряжение? А? Чтобы Канегиссера не допрашивали до приезда Феликса Эдмундовича. Чтобы тот, так сказать, все услышал из первых уст. Вот мы и выполним приказ. Так сказать, в полном объеме. А вот по поводу укомплектования камер приказа не было. На первом этаже «блатные» начали «бузить». Кое-кого следует посадить в карцер. Или на крайний случай в одиночку. В наказание. Вот по этой причине мы двадцать четвертую и освободим. А его благородие подсунем к студенту. Посмотрим, как подружится волк с ягненком.
* * *
Пришла очередь допрашивать мать Канегиссера, Розалию Львовну.
Аристарх Викентьевич, глядя на сидевшую напротив женщину, с болью перекатывал в сознании одну мысль: «Господи, и за что все это на нас свалилось? Именно на нас. Сначала война. Безумная, бездарная, непонятная, длинная, как бесконечность. Потом Керенский со своей шайкой. С глупыми «демократическими» указами, которые вконец развалили страну. Теперь эти, с грязью, кровью и матом. И самое страшное, этому не видно конца. Хоть какого-то…»
В последний раз с Розалией Львовной Озеровский встречался восьмого марта прошлого года, в день смерти ее сына. Тогда Аристарх Викентьевич поразился выдержке хозяйки дома. Высокая стройная женщина даже слезинки не пролила в присутствии полицейских. Ни одного лишнего движения. Никакой истерики, никаких эмоций. Только глаза, черные от горя, следили за действиями его подчиненных. Отвечала на вопросы внятно, с толком, с расстановкой. Потом, когда группа сыщиков покидала дом на Саперном, спокойно-величаво протянула руку для поцелуя. Он тогда, помнится, отметил, какая у нее эластичная, прозрачная, холодная кожа руки. Ледяная.
Теперь же перед ним сидела совсем другая женщина. Седая, поникшая. Никакой стати. Сутулая, плечи опущены. Некогда красивые ледяные руки мелко дрожат. В глазах пропал блеск. Мраморно-холодное лицо изрезали глубокие морщины, словно по красивой, готовой скульптуре некий злой художник, из злости или ревности, прошелся острым резцом.
Озеровский положил очки на стол, пальцами левой руки потер глаза. Начало девятого вечера… Ну и денек выдался сегодня…
– Розалия Львовна, – устало проговорил следователь, – как понимаете, вы арестованы в связи с тем, что ваш сын, Леонид Иоакимович Канегиссер, сегодня утром убил председателя Петроградской чрезвычайной комиссии.
– Да, нам сообщили об этом ваши люди, когда приехали нас арестовывать.
– В таком случае должен сообщить, что по данному факту ведется следствие. Ваш арест в интересах данного расследования. И от того, как вы будете ему помогать, зависит то, насколько скоро вы и ваша семья покинут данное заведение.
Камера заполнилась тишиной. Женщина никак не прореагировала на последние слова Озеровского. Она по-прежнему продолжала смотреть в пол, перебирая в тонких, как соломинка, пальцах батистовый платок.
– Вы меня слышали, Розалия Львовна?
– Да. Можете не повторять, – с трудом разжала рот арестантка.
– И как поступим далее?
– Все равно, – без каких-либо эмоций выдохнула женщина. – Мне безразлично, где находиться. Дома или у вас. Все рухнуло. Осталась только пустота.
– Отчего ж… – Аристарх Викентьевич пытался найти нужные слова. – Дом он и есть дом. В нем должны жить. Вы должны жить. Ваш муж, дочь. Вполне возможно, и Леонид.
Последние слова Озеровский произнес едва слышно, одними губами, но арестованная их услышала.
– Что вы сказали?
– Я сказал, что ведется следствие. И его результаты будут известны только после того, как мы опросим всех свидетелей происшедшего события. А потому у вашего сына еще есть шансы остаться в живых.
– Но его ведь не выпустят, – с уверенностью проговорила женщина.
– Думаю, нет. Учитывая то, что он действительно стрелял в господина Урицкого. Тому есть свидетели. Но если следствие докажет, что ваш сын является опосредованным убийцей, то есть исполнителем чьей-то злой воли, если докажем, что его заставили это сделать, то в данном случае фемида может над ним смилостивиться. В конце концов он выйдет из тюрьмы. Через некоторое время. И все вернется на круги своя. Единственное, что нам нужно для спасения вашего ребенка, – так это правда. Какая бы она ни была. И многое теперь зависит от вас.
Женщина провела платком по лицу, стирая пот, который проступил на лбу и тонкой струйкой скатился по щеке.
– Если вы меня обманываете – Бог вам судья. Каждому из нас воздастся за грехи наши. Если же не лжете… Самое глупое в данной ситуации то, что я вынуждена вам верить. У меня просто нет иного выхода, чтобы спасти сына. – Жена инженера не сдержалась, всхлипнула.
– Если хотите, можем отложить допрос. Перенести его. Предположим, на завтра.
– А что это изменит? Нет уж, лучше сейчас. – Розалия Львовна судорожно перехватила воздух. – Задавайте свои вопросы. Что вас интересует?
– Для начала я бы хотел знать, ваш сын, Леонид, имел оружие? То есть вы видели у него револьвер? Это такая вещь, которую очень тяжело скрыть.
– Да, видела. У Левы появился пистолет после того, как он вступил в Михайловское училище. Мы его отговаривали. Всей семьей. Он ведь такой… – Женщина пыталась помогать словам жестами рук, отчего запиналась еще более. – Он… Он стихи писал. Хорошие стихи! Его хвалили друзья. Сережа Есенин. Мариночка тоже о нем была очень восторженного мнения…
– Это какая Мариночка? – поинтересовался Озеровский.
– Простите, фамилий не помню. Вот Сережу Есенина запомнила. Он весь… Экспрессивный. На эмоциях. А Марина… Славная девочка, но… У них что-то не заладилось[18]. Жалко. Вы знаете, – неожиданно вскинулась мать убийцы, – Лева ведь даже издавался. Первое его стихотворение опубликовали, когда Левочке исполнилось пятнадцать лет. Господи, как давно это было… И будто не с нами. В литературные салоны приглашали. В «Бродячую собаку» и… Этот… Как его, господи… «Пристой театралов», так, кажется?
– «Привал комедиантов», – поправил женщину Озеровский. С этим салоном со столь странным названием у сыщика сложились прелюбопытные отношения. В стенах данного заведения в старорежимные времена Озеровский назначал встречи с «шестерками» из блатного мира, с теми, кто «ходил под авторитетами». – Признаться, Розалия Львовна, мне непонятны некоторые моменты. Я действительно слышал о том, что Леонид пишет поэтику, причем, как утверждают знатоки, довольно приличную. То есть хорошую поэзию. Почему, в таком случае, ваш сын, имея столь высокое поэтическое дарование, поступил учиться в политехнический?
Женщина впервые за время пребывания в допросной камере улыбнулась. Но опять же, как отметил Озеровский, не той светлой, блестящей улыбкой, которая покорила и свела с ума не одно мужское сердце, а жалким, тусклым отголоском былого блеска.
– Это все мой супруг, Иоаким Самуилович. Он настоял. Захотел, чтобы сыновья пошли по его стопам. Вот, пошли…
Женщина снова всхлипнула.
– А как Лева угодил в Михайловское училище? – поинтересовался Аристарх Викентьевич.
– Юношеский максимализм. Не более. При прежней власти мы могли себе многое позволить кроме одного – определиться в офицерское сословие. А благодаря Александру Федоровичу[19] евреям дали возможность иметь офицерский чин. Таким вот образом Левушка, вместо того чтобы стать инженером, решил получить воинское звание. Правда, когда училище превратили в курсы, он его сразу покинул. Перед Пасхой. Вернулся в университет. Действительно, в чем интерес оканчивать непонятные командные курсы, после которых тебе отказывают в офицерском звании?
«М-да, – мысленно пробормотал Озеровский, – не во славу Отечества, а для тщеславия и корыстолюбия погоны с позолотою. Какие уж тут окопы…»
– Он сам принял решение бросить политехнический?
– Если бы… – Уголки губ арестантки горько опустились, отчего на лице проявились новые морщинки. – Да Лева сам никогда бы не додумался до такого. Друг сманил. Владимир Перельцвейг. Тот первым кинулся в Михайловское. А Леве, с его легкоранимой душой, разве такое было нужно? Но теперь ничего не изменить. – Женщина всхлипнула, несколько секунд помолчала, неожиданно добавила: – А Володю Перельцвейга расстреляли. Две недели тому назад.
Снова зазвенела, отражаясь от каменных тюремных стен, фамилия Перельцвейг. «Нет, – уверился Озеровский, – определенно следует выяснить, какое влияние сия личность имела на Канегиссера. Завтра же, с утра, следует съездить на Арсенальную набережную, в Михайловское училище».
– Скажите, Розалия Львовна, с кем в последнее время был близок Леонид? Я имею в виду любовные, дружеские отношения. И именно в последнее время, последние десять дней.
– Понятия не имею, – послышался стандартный ответ. – Он наведывался домой один. Все время был замкнут. Расстроен. Огорчен смертью Володи.
– Вот вы говорите, наведывался. Сие означает не ночевал дома? Жил в другом месте?
– Да. – Женщина извлекла из рукава кофточки платок, промокнула им глаза. – Насчет женщины ничего сказать не могу. Вроде бы появилась, ведь кто-то же должен был за ним ухаживать, но нам он о ней ничего не рассказывал. И где проживал Лева, нам тоже неизвестно.
– И вас, как мать, не интересовало, где и с кем живет сын?
– Конечно, интересовало. Но он взрослый мальчик. Сам решает, с кем жить.
– И к вам ту девушку или женщину он никогда не приводил?
– Нет. Приходил только сам. Один. Вечерами. Иногда утром. Как вчера.
– То есть вчера, перед совершением преступления, Лева пришел домой?
– Да, – утвердительно кивнула головой женщина.
– А откуда пришел? От кого?
– Понятия не имею.
– А вы интересовались: чем он занимается? На какие средства живет? Ведь не вы же его финансировали?
– Муж что-то иногда ему давал. Думаю, на жизнь хватало, – устало отозвалась Розалия Львовна. – А по поводу того, где и с кем, Лева всегда уходил от ответа. Смеялся. Говорил, раз приходит, значит, все в порядке. Я была только рада тому, что его приютили. После смерти Володи Лева стал панически бояться ареста. Непонятно почему, ведь ему ничего не грозило. Но тем не менее. Первое время не спал. Все ждал, что за ним придут. Даже перестал ночевать в своей спальне, ютился в гостиной, ближе к окнам, чтобы легче выскочить на улицу.
– Он забрал с собой все вещи? Или только самое необходимое?
– Только нужное. Я же говорю, Лева чуть ли не каждый день наведывался домой. Придет иногда веселый, иногда грустный. Поужинает. Кое-что из еды с собой возьмет. Аннушка, наша горничная, ему судочек специальный смастерила. Все просил сделать кулебяку с грибами. Очень, говорил, любят у них такую кулебяку.
Озеровский отметил слова «чуть ли не каждый день наведывался домой». Сестра убийцы утверждала обратное.
– Кулебяка – это прекрасно, – вынужден был согласиться голодный следователь. – Особенно в наши дни. Вы не устали?
– Нет. Мы можем поговорить еще.
– Очень хорошо. Скажите, Розалия Львовна, Лева год назад служил секретарем у Керенского…
– Да. – Жена инженера утвердительно кивнула головой. – У Александра Федоровича. И не просто служил. Он боготворил его! Даже стихи ему посвятил… Сейчас припомню… Как же они звучали…
– Не стоит, Розалия Львовна. Я хотел сказать…
– Нет, нет. Это имеет отношение к делу и самое прямое, – неожиданно уверенно заговорила подследственная. – Он действительно боготворил господина Керенского. До поры до времени. Я же говорю: юношеский максимализм… Да, вот, вспомнила:
И если, шатаясь от боли, К тебе припаду я, о мать, И буду в покинутом поле С прострелянной грудью лежать, Тогда у блаженного входа В предсмертном и радостном сне Я вспомню – Россия, свобода, Керенский на белом коне…Женщина прочитала строки без всякого выражения, тускло. После чего продолжила воспоминания:
– А потом… Потом он разочаровался в нем. Да и вообще… – Узкая женская ладошка вспорхнула и тут же упала на колени. – Единственное, что его утешало, семья и Володя. С ним они часто встречались. Много времени проводили вместе.
– Володя был уроженцем Петербурга?
– Вроде бы да. Но Лева как-то в разговоре заметил, что Володя, еще до Михайловского, окончил какое-то училище. Кажется, в Казани.
– А Лева с этим Володей Перельцвейгом давно дружен?
– Да не так, чтобы очень. В детстве у них были случайные встречи. Но то было детство. А вот сблизились года два назад.
Вторая ложь Елизаветы Иоакимовны. Зачем?
– А что за училище окончил Перельцвейг, не помните?
– Нет.
– А когда Леонид поступил в Михайловское?
– В июне семнадцатого. Сразу как ушел от Александра Федоровича.
– Владимир к тому времени учился в училище?
– Да.
– А вы, случаем, не знаете, где проживал друг вашего сына?
– Знаю. Каменноостровский проспект, дом 54. А вот номера квартиры, к сожалению, не припомню. Я там была всего один раз.
* * *
Матрос приоткрыл квадратное оконце в гулкой металлической двери и первым заглянул внутрь камеры, после чего пропустил к окошку Бокия.
Глеб Иванович слегка склонился перед квадратом. Камера, в которой находился убийца председателя ПетроЧК, из-за тусклого света подвешенной к высокому потолку и закрытой мелкосетчатой решеткой лампочки казалась серой, грязной и холодной.
Бокий невольно содрогнулся: кости прекрасно помнили, как тюремные стены карцера вытягивают последнее тепло из почти неподвижного тела. Камеры подобного типа специально делались узкими, чтобы заключенный не мог согреться, даже делая физические упражнения. Единственное, что было возможно в таких условиях, отжиматься от пола и приседать.
Леонид Иоакимович сидел на нижнем топчане двухъярусных нар и, обхватив колени руками, не отрываясь, глядел в неизвестную точку на противоположной стене. По лицу Канегиссера Глеб Иванович не смог ничего прочитать. Ни страха, ни сожаления, ни радости, ни удовлетворения – ничего.
– И что, вот так целый день в одну точку и бдит? – в голос поинтересовался Бокий.
– Угу, – утвердительно кивнул матрос.
– Кормили?
– Все съел, подчистую. Пожрал – и опять на нары.
Глеб Иванович заинтересованно посмотрел на заключенного. «Любопытно, – еле слышно пробормотал в нос чекист, – человек только что совершил убийство, лишил другого жизни – и никаких эмоций. Такого не может быть. Хотя почему? Если убивал ранее, вполне возможно. Тогда встает вопрос: когда убивал? Где? Кого? Откуда такое хладнокровие? А если не хладнокровие, то что? А может, уверенность? Уверенность, что он отсюда выйдет? Что же ты за птица такая, студент?»
– Попов, – Бокий кивнул на оконце, которое матрос тут же захлопнул, – к нему кто-нибудь приходил? Что прежняя охрана говорит?
– Никак нет, Глеб Иванович. Никого не было.
– А Варвара Николаевна?
– Тоже. И в тетради соответствующей записи нет. Как определили пацана, так он и обживается. В одиночестве.
– А где семья арестованного?
– Бабы… Простите, мать и сестра в соседнем женском блоке. А папаша ихний в двенадцатой. Только что повели на допрос. К сатрапу.
– К кому? – не понял сразу, о ком идет речь, Глеб Иванович.
– Ну, к этому… – стушевался матрос, – что примазался.
– Попов, – Бокий скрестил руки за спиной, – у нас примазавшихся нет! Понятно? И сатрапов, к вашему сведению, тоже не имеется.
– Ясно, – хмуро отозвался охранник.
– Что ясно?
– Что теперь нет этих… Как их… Словом, все за нас.
– Опять двадцать пять… Впрочем, смысла спорить нет. Запомните, Попов: арестованного повели не к сатрапу, а к следователю, у которого есть имя, отчество и фамилия. И, будьте добры, помнить об этом. И отмечать в тетради, кого и к какому следователю и на какой срок конвоировали. Теперь понятно?
– Точно так, – громыхнул ключами матрос.
– Тогда слушайте дальше. Будете находиться здесь сутки. – Бокий вцепился своим взглядом в прищуренные глаза матроса. – Никого, слышите, ни-ко-го, – по складам произнес чекист, – из наших в камеру к арестованному не пускать! Ни под каким видом! Ни под каким предлогом! Ни меня, ни Доронина, ни Геллера, ни Яковлеву. Сечешь? – Матрос вздрогнул: так, запанибратски, Бокий с ним еще никогда не разговаривал. Стушевался. Но тут же собрался, даже улыбнулся. – Будут артачиться – скажешь, приказ председателя ЧК. И никаких гвоздей!
– А если Варька того… Заартачится?
– Не Варька, а Варвара Николаевна. – Бокий тоже не смог сдержать улыбки, а с языка чуть не сорвалось: «Тем более!». – Заартачится – гоните ко мне. Дальше. Если заключенный вдруг… захочет поговорить, выплеснуть, так сказать, душу, выслушайте его. Понятно? Посочувствуйте.
– Так ведь запрещено…
– Запрещено, – согласился Бокий, – но так нужно. Для дела революции нужно. Вам ведь Доронин сказал, чтобы вы оказали помощь? Вот и окажите. И потом. Если вдруг арестант захочет передать на волю письмо или что еще, берите, не отказывайтесь. Обещайте передать. Но никому, слышите, никому, кроме меня и Доронина, об этом не говорите и тем более не показывайте. Только я и Доронин. И, наконец, последнее. Через час после того как я допрошу арестованного из двадцать четвертой камеры, вы не вернете его в камеру, а переведете к мальчишке. До утра. А в двадцать четвертую переведите «блатняка» из восемнадцатой. Рыжего. Пусть «одиночку» погреет, а то распустился, тля.
– А разве к этому, – матрос кивнул на дверь, – можно подселять?
– Не просто можно, Попов. Нужно! В край, как нужно!
* * *
Последним из Канегиссеров пред Озеровским предстал отец семейства, Иоаким Самуилович Канегиссер.
Едва конвоир, солдат с винтовкой наперевес, покинул допросную камеру, Аристарх Викентьевич поднялся с места, подошел к арестованному, протянул руку.
– Не могу сказать, что день добрый, тем не менее здравствуйте, Иоаким Самуилович.
Немолодой, рано поседевший, но не потерявший очарования мужчина, старше пятидесяти лет, с трудом приподнял голову, внимательно посмотрел на следователя.
– А ведь мы знакомы, – едва слышно проговорил бывший инженер.
– Совершенно верно. Я дважды бывал у вас. С Ларионовым и Жуковым.
– Да-да, нечто такое припоминаю. Но мне кажется, что я с вами знаком по иным обстоятельствам. Более приземленным.
– Я занимался расследованием самоубийства вашего сына.
– Да, да. Припоминаю… У вас еще такая странная фамилия. Что-то связанное с водой…
– Озеровский.
– Верно, Озеровский. – Иоаким Самуилович осмотрелся, нашел глазами табурет, шаркающей, старческой походкой подошел к нему, не спрашивая разрешения, присел. – Теперь вспомнил. Если не ошибаюсь, Аристарх Викентьевич?
– Совершенно верно. – Следователь решил не садиться. Успеет еще протокол составить. А официоз в данный момент ни к чему.
– А где теперь Лев Тихонович? – неожиданно поинтересовался арестованный личностью Ларионова.
Озеровский качнул головой:
– Понятия не имею. В последний раз мы с ним виделись в феврале семнадцатого. Думаю, покинул Россию.
– Может быть… может быть… – Канегиссер запахнул на груди полы пиджака. – Прохладно тут у вас. Простите, меня забрали с больничной койки. Знобит. Вчера была температура. А вы, смотрю, теперь служите большевикам? Нет-нет, Аристарх Викентьевич, я ни в коем случае не осуждаю вас. У каждого свой путь. У вас свой, у нас свой.
– Знаете, Иоаким Самуилович, – Озеровский прислонился спиной к холодной, серой стене, – год назад, когда я сидел в тюрьме… Да-да, не удивляйтесь. Я сидел в тюрьме при Александре Федоровиче. По ложному доносу и надуманному обвинению. Так вот, тогда мне в голову лезли всякого рода мысли. Абсолютно разные и часто непонятные. Но одна, страшная своей непонятливостью мыслишка, до сих пор не покидает меня. И звучит она так: а ведь это мы сами привели к власти тех, кто нас сегодня прячет в тюрьмы. Сами! – Озеровский поморщился: холод сковал лопатки и теперь стекал по позвоночнику вниз, к копчику. – Своими собственными руками. Все играли в демократию. Строили из себя либералов. Восхищались народовольцами. Теперь вот расхлебываем. Причем хлебаем ложками, по полной. И то ли еще будет.
– Странно такое слышать из уст сотрудника ЧК.
– Ничего странного. Большевики смеются, вспоминая, как использовали нас. Точнее, вас и подобных вам. Пример Саввы Морозова на пользу не пошел. – Озеровский говорил медленно, с расстановкой, так, чтобы собеседник услышал каждое слово. – Все хотелось вам прослыть патриотами с чистыми помыслами. Долой самодержавие, долой сатрапов… Теперь сатрапов нет. Самодержавие свергли. Все уничтожили. И что получили взамен?
– Это меня спрашиваете вы, сотрудник Чрезвычайки? – с тяжелой иронией парировал арестант.
– Вынужденный работник, – отозвался Аристарх Викентьевич, с трудом сдерживая раздражение, – вынужденный. И во многом благодаря вам и таким, как вы. Не я привел к власти Керенского, который стал трамплином для большевиков. И не я принимал в своем доме революционеров.
– На что намекаете?
– Бросьте, – отмахнулся следователь, – какие тут намеки. Германа Лопатина вспомните, изречения которого наслушался ваш сын Сергей, отчего и ушел так рано из жизни. Или уже запамятовали?
– Зачем же так? – спустя несколько секунд не сказал, а прохрипел арестованный. – Больно ведь.
– А не принимали бы, не было бы этой боли. Я так думаю, Леонид Иоакимович тоже не остался в стороне от новомодных веяний господина Лопатина и иже с ним.
– Все. Хватит, – неожиданно довольно резко произнес Иоаким Самуилович, забросив ногу на ногу. – Спрашивайте, что вас там интересует, или велите отправить в камеру. Не хочу слушать нотации.
Озеровский сел за стол напротив арестованного, вооружился пером, макнув его в чернильницу, прикрученную к столу.
– Ваши супруга и дочь утверждают, будто ваш сын Леонид Канегиссер в последнее время не ночевал дома? Почему? У вас натянутые отношения?
– Отчего ж, отношения у нас нормальные. И довольно пристойные, в отличие от других семей, – с вызовом добавил Иоаким Самуилович, непонятно на кого намекая. – А почему не ночевал… Мой сын – взрослый человек. Имеет право на личную жизнь. К тому же благодаря нынешней власти сегодня многие ночуют не в своих постелях. – Канегиссер сложил руки на груди. – Кому хочется услышать стук в дверь и через полчаса оказаться за решеткой?
– Если человек чист перед законом, никто к нему в дверь стучать не станет.
– Вот только не нужно! – подследственный чуть откинулся на спину, но, не почувствовав преграды в виде спинки, тут же вернулся в прежнее положение. – Оставьте моральные поучения другим.
– Тогда у меня напрашивается следующий вопрос: вам известна причина, по которой Леонид боялся ареста?
– А с чего вы решили, будто Лева боялся? – моментально отреагировал отец убийцы. – По-моему, ареста он как раз и не боялся. Иначе не приходил бы домой ежедневно. Скорее всего, у него появилась пассия.
– Кто? Как зовут? Где проживает?
– Понятия не имею. Да меня сие особо и не интересовало.
– Но вы же отец.
– А вы следователь. Вот у него и спросите. Если захочет открыться перед вами… Кстати, я могу его увидеть?
– К сожалению, с арестованным Леонидом Канегиссером вы сможете увидеться только во время перекрестного допроса.
– Но у меня есть право! Я отец! Он мой сын!
– Как вы правильно только что заметили, взрослый сын. Леонид обвиняется в убийстве. Мало того, он сам признался в покушении. Понимаете, сам. А потому вы его увидите только в нашем присутствии. Под протокол.
Озеровский не увидел, а почувствовал: Канегиссер «потек». Сломался. Теперь его можно было гнуть, ломать. Но именно этого Озеровский и не хотел. Тот, прежний, злой и сопротивляющийся, Иоаким Самуилович был ему более приятен.
– Леву расстреляют? – еле слышно проговорил Канегиссер-старший.
– К сожалению, большевики в июне вернули смертную казнь. Боюсь, так оно и произойдет. Хотя надежда есть – маленькая, мизерная. Но имеется.
Иоаким Самуилович больным взглядом вцепился в зрачки следователя.
– Помогите! – прошептали бледные, обескровленные губы. – Все, что пожелаете! Лева должен жить! Иначе… Роза не переживет смерть Левочки. У нее больное сердце. Сначала Сережа, теперь… Хотите деньги? Не эти совдеповские бумажки. Настоящие. Золото. У меня есть счета в банках. Не здесь. В Лондоне, в Цюрихе. Все что угодно, только помогите!
Инженер стал опускаться с табурета, чтобы пасть на колени.
– Перестаньте. – Озеровский кинулся к подследственному, принялся поднимать того. – Сядьте и успокойтесь. – Голос следователя звучал глухо, так, чтобы за дверью камеры, если вдруг подслушивали, никто и ничего не смог услышать. – Я помогу. Не знаю как, но попробую. Только и вы должны помочь. Мне нужно знать о вашем сыне все. Понимаете, все.
– Но ведь вы можете обо всем узнать от самого Левочки.
– В том-то и дело, что у меня сейчас нет такой возможности.
Иоаким Самуилович потух. На глаза постаревшего мужчины навернулись слезы.
Озеровский вернулся на свое место и продолжил говорить более громким голосом.
– Единственное, что могу вам сообщить: ваш сын находится в этой тюрьме. Ждет приезда высшего чина, из Москвы. И с ним все в порядке.
Канегиссер утвердительно закивал головой. Он понял, что последняя фраза прозвучала специально, чтобы он убедился: сын жив, находится рядом. А значит, можно рассчитывать на свидание. А может, и на нечто большее.
Инженер сунул руку в карман пиджака, вынул из него платок, принялся быстрыми, нервными движениями вытирать покрывшийся крупными каплями холодного, болезненного пота лоб.
– Что? Что вы хотите услышать от меня?
– Начнем с того, что вам известно о том, где проводил ночи Леонид?
– Ничего. Честное слово! Лева всегда был, как бы так сказать, застенчив, скрытен. Даже Сережа Есенин как-то пошутил, что именно с Левы Чехов писал «Человека в футляре». Шутка, но доля истины в ней имеется. Честно признаться, Леонид уже давно не ночевал дома. Больше месяца. Сначала жил у Володи, потом…
– Перельцвейга? – перебил подследственного Озеровский.
– Да, у него. А откуда вам известно про Володю?
– Рассказала ваша супруга. Час тому назад.
Подбородок арестованного дрогнул.
– Как она? То есть я… Что с ней?
– Не волнуйтесь. Все в порядке. Держится. Вот с ней свидание мы вам устроим. А после смерти Перельцвейга где проживал Леонид?
– Про последние две недели мне ничего не известно. Я несколько раз спрашивал Леву, но он отмалчивался. Один раз даже возмутился. Кричал, что лезем в его личную жизнь.
– А что-то необычное в настроении сына, его поведении в последнее время не замечали?
– Вроде нет. Каждый день, ну, почти каждый день приходил часа на два-три. Закрывался в комнате дочери. О чем они там беседовали, не интересовался. А про необычное… – Старший Канегиссер встрепенулся. – А знаете, было, сегодня утром, – инженер быстро облизнул кончиком языка пересохшие губы. – Лева никогда не приходил утром. Всегда только днем или вечером. А сегодня пришел очень рано. Часов в восемь. Мы только проснулись. Неожиданно предложил сыграть в шахматы. Проиграл. Сильно расстроился. Будто от игры зависела его жизнь. А потом ушел.
– Деньги просил?
– Что вы! Лева очень гордый. Мне даже иногда приходилось его заставлять брать от меня некоторую сумму.
– Ваш сын взял напрокат велосипед, за который оставил в залог пятьсот рублей. Как думаете: откуда у него деньги? Ведь он, как я понимаю, нигде не служил. Частные уроки не давал. А деньги при нем имелись. Откуда?
Иоаким Самуилович отрицательно покачал головой:
– Понятия не имею.
– Жаль, – тихо произнес Озеровский, – а я надеялся, что вы меня поняли. Что ж, раз не знаете, так тому и быть. Следующий вопрос…
* * *
Глеб Иванович с силой грохнул телефонной трубкой о металлический рычажок. Разговор с Зиновьевым получился крайне неприятный.
Телеграмма, не согласованная ни с Кремлем, ни с ним, Бокием, разосланная председателем Петросовета по всей Северной области, однозначно гласила: ЧК обязана провести аресты всех подозрительных лиц, независимо от возраста, пола, сословия. Отсюда вытекало: вскоре тюрьмы будут переполнены людьми, которых задержали не по факту совершенного преступления, а лишь по причине подозрительности, даже не в подозрении в совершенном или готовящемся правонарушении. А далее, само собой, следовало ожидать логического продолжения. Следственные группы, состоящие в основном из бывших рабочих, солдат, матросов, которые и до того работали непрофессионально медленно, на ощупь, теперь физически не смогут справиться с огромным потоком дел, внезапно обрушившихся на них. Что приведет к еще большему переполнению и без того переполненных тюремных помещений. Но и это не все. А чем кормить арестантов? Не впроголодь же их там держать? Опять же уголовники. Как их совместить с политическими? Грозит бузой. И как в такой обстановке работать Ревтрибуналу?
На столь невинный вопрос Бокия Зиновьев разразился истеричным криком, который перешел в угрозы. Глебу Ивановичу припомнили все, в том числе и отказ в помощи Яковлевой. Бокию непроизвольно вспомнились слова наблюдательного Доронина, что Варька таки сблизилась с патлатым председателем. И не только на политической почве.
К счастью, на том беседа и закончилась. Зиновьева кто-то позвал, он первым оборвал связь.
Глеб Иванович сел на стул, принялся шарить по карманам. Где портсигар, чтоб его…
В дверь постучали.
– Товарищ Бокий, – в образовавшуюся щель между дверью и косяком проникла голова конвойного Попова, – арестованный.
– Что значит, арестованный? – гнев чекиста нашел себе объект для выплеска столь долго сдерживаемых эмоций. – Кто арестованный? Я арестованный? Или ты арестованный?
– Никак нет, – испуганно вырвалось из уст конвоира, – они… Того… Как вы приказали, привел. Из двадцать четвертой…
– Заводи! – отмахнулся Бокий. «Вот бестолочь, – выругался про себя самого хозяин кабинета. – Попов-то при чем?»
Белый прошел в глубь кабинета, остановился. Взгляд полковника пробежал по знакомой обстановке, которая практически не изменилась с тех пор, как ее покинул прежний хозяин – один из высших чиновников, входивших в окружение Петербургского градоначальника, и которая теперь мало сочеталась своим богатым убранством с заскорузлой кожанкой чекиста.
Взгляд полковника задержался на зеркале. Оттуда, из стеклянного зазеркалья, на Олега Владимировича глянул незнакомый человек. Первое, что бросалось в глаза, – седая бородка, неудачно косо подрезанная неумелыми руками тюремного цирюльника. Белый ранее никогда не носил «боярского украшения», и сейчас ему было дико видеть себя в зеркальном отражении с подобным обрамлением на щеках. Далее, над бородой виднелся острый, будто у птицы, нос (не нос – клюв) в обрамлении впалых щек. Чуть выше – какие-то мутные, совершенно бесцветные глаза в глубоких колодцах глазниц. Ни дать ни взять покойник. Под бородой мятый китель с рыжими пятнами по всей ткани. И почему грязь всегда оставляет странные рыжие пятна? Под кителем такие же мятые грязные галифе. Завершали затрапезный вид сношенные солдатские ботинки без шнурков.
Олег Владимирович оторвал взгляд от зеркала, осмотрел кабинет. И хоть взор его, казалось, устало, бегло и равнодушно пробегал по крепкой старинной мебели, по позолоченным гардинам, по стоящему возле окна хозяину апартаментов, мозг полковника работал, замечая детали, даже мельчайшие. Особенно во внешности чекиста, с которым он ранее не встречался.
Рост выше среднего, крепкого телосложения, короткие жесткие волосы, выдающиеся скулы, одет скромно, однако с некоторым изяществом… В кабинете ведет себя по-хозяйски. «В ПетроЧК такими данными обладает только один человек, – сделал вывод Белый. – Бокий».
– Присядьте, Олег Владимирович. – Глеб Иванович указал рукой на стул. – Чай будете?
– Не откажусь. – Полковник тяжело опустился на стул, которым совсем недавно пользовалась царская свита. Он жалобно скрипнул, впрочем, тут же замолчал, будто опасаясь, что своим стоном помешал зарождавшейся беседе.
Глеб Иванович налил кипяток в стакан, залив смесь из сухих трав и фруктов.
– Признаюсь, давно хотел с вами встретиться.
– Но все не было подходящего случая?
– И это тоже. – Бокий поставил стакан перед арестованным, присел на край стола, от чего чуткий нос чекиста тут же уловил тяжелый запах давно не мытого тела и не стиранного белья. Скрыть эмоции не получилось, что дало повод для сарказма Олегу Владимировичу:
– Пересядьте за стол, Глеб Иванович. И вам будет легче. И мне.
– Откуда вам известно мое имя? – Бокий не скрыл удивления. – Конвоир проговорился?
– Бросьте. Мальчики – молодцы. Несут службу исправно.
Белый протянул руку, взял горячий стакан, даже не поморщившись от боли. «Тепло, – догадался Бокий. – Долгожданное тепло. Сейчас будет греть руки. И пить маленькими глотками. Чтобы растянуть удовольствие».
– Я распоряжусь, чтобы вас завтра сводили в баню. Сегодня, к сожалению, не получится: поздно. И все-таки, Олег Владимирович, откуда вы меня знаете? Лично-то мы ведь не знакомы.
– Не знакомы. – Арестованный поднес стакан к губам, сделал едва заметный глоток. От удовольствия зажмурился. – Но вот над вашими шифрами мне посчастливилось поработать. Три года назад. – Олег Владимирович улыбнулся. Или Бокию показалось? – Интересную головоломку вы тогда нам задали. Ловко поморочили голову Алексею Ипатьевичу…
Полковник улыбнулся. Уголки тонких губ Глеба Ивановича тоже слегка приподнялись.
– Помню, помню. Точно, Алексей Ипатьевич Межуев… – Бокий в голос рассмеялся. – Видели бы вы его выражение лица, когда он рассматривал мою «математику».
– Думаю, мое лицо было не менее выразительным, когда я в первый раз увидел ваш ребус. – Белый сделал новый глоток. – Должен признать, умную штучку вы изобрели. Когда жандармы принесли вашу тетрадь, моему восхищению не было предела. Помнится, полковник Зинкевич даже предложил взять вас в штат разведки, в шифровальный отдел. Но…
– Но я вновь был арестован, – вставил Бокий.
– Точно, – Белый сконцентрировал взгляд на стакане, – если не ошибаюсь, по делу Петроградского комитета.
– Вам и об этом известно?
– Что делать, служба. Кстати, мне, как оппоненту и противнику, искренне жаль, что вы впустую растрачиваете свой ум здесь, в ЧК, в то время как могли бы применить его в ином месте.
– В разведке?
– Именно. Ловить уголовников с вашими данными… Расточительство.
– Мое трудоустройство еще успеем обсудить. Если будет желание. А сейчас давайте вернемся к вам.
Белый равнодушно пожал плечами:
– Если вы про деньги Губельмана, лучше нашу встречу закончить прямо сейчас.
– Не торопитесь. Деньги, конечно, нас интересуют. Согласитесь, это нормально, когда власть хочет вернуть награбленное у трудового народа. А иначе как? Человечество, к сожалению, не успело еще придумать альтернативу деньгам. Однако давайте на время забудем о губельмановских миллионах.
Полковник вскинул удивленный взгляд:
– Вас что-то интересует помимо господина Губельмана?
– Отчего ж? Меня в первую очередь интересует именно господин Губельман. Но не только он. Признаюсь, в отличие от некоторых моих товарищей, я данному гражданину, который сегодня оказывает существенную помощь делу революции, не доверяю. Не нравится он мне. И ничего не могу с собой поделать. В данный момент меня интересуете лично вы, Олег Владимирович. Я ведь не напрасно сказал в начале разговора о том, что долго ждал этой встречи. Если бы сразу увиделся с вами, у некоторых моих коллег могли возникнуть вопросы, на которые я вряд ли смог бы дать внятный ответ.
– А сегодня, выходит, решили пообщаться? И, если не ошибаюсь, по причине смерти товарища Урицкого? – заметил Белый.
– Совершенно верно. Только не нужно иронизировать. Данное преступление выходит далеко за рамки обыденных правонарушений.
Бокий достал из стола пачку тонких английских папиросок, спички, все положил на середину стола.
– Курите.
– Откуда такое богатство?
– Старые запасы. Специально отложил. Для нашей встречи. Как только узнал, что вы у нас. – Тонкие пальцы Бокия взяли пачку папирос, вынули одну из гильз. – «Галуаз». Любимые папиросы генерал-майора Адабаша. Я не ошибся?
– Нет. Все правильно. – Белый поставил стакан, взял папиросу, прикурил. – Только при чем здесь Михаил Александрович?
Закурил и Бокий.
– Сам генерал к теме нашей беседы никакого отношения не имеет. Он, так сказать, связывающее звено. Теперь по сути. Мне посчастливилось, – Глеб Иванович пододвинул тяжелую бронзовую пепельницу ближе к полковнику, – познакомиться с довольно любопытным документом, который составили вы, Олег Владимирович. И с которым в свое время вы ознакомили председателя Петроградской военно-цензурной комиссии генерал-майора Адабаша. Понимаете, о чем идет речь?
– Естественно.
– В таком случае позвольте задать ряд вопросов, касаемых как данной записки, так и ее последствий.
– Господи, когда это было… – усмехнулся полковник, – сто лет в обед. Да та записка давным-давно потеряла актуальность.
– А вот мне любопытно. Удовлетворите мое любопытство?
– А если откажусь?
– Ваше право. Настаивать не стану. Тем более данный разговор – моя личная инициатива. И по поводу него я никакого распоряжения сверху не получал. Так что можете допивать чай и быть свободными. Понятно, в меру свободными.
Белый глубоко втянул табачный дым в легкие.
Возвращаться в камеру не хотелось. Да и пообщаться с живым существом приятно. Даже если ты к этому существу испытываешь, мягко говоря, презрение. К тому же терять нечего. Документ, о котором шла речь, был составлен в самом начале войны и дальше Адабаша так и не пошел. В силу разных причин. Теперь же, после прихода большевиков к власти, сей документ вообще потерял свою актуальность.
– Что ж, если еще нальете чаю, можно и побеседовать. Что конкретно вас интересует?
– Ох, Олег Владимирович, – Глеб Иванович взял чайник в руки, – я, к вашему сведению, ненасытен. Меня в этой жизни много что интересует. Даже самому подчас удивляюсь: и когда сия ненасытность иссякнет? А ей, кажется, конца и края нет. Но то все лирика. В своей записке Адабашу вы, Олег Владимирович, вскользь упомянули об одной организации – «Полярная звезда». Расскажите мне о ней.
* * *
Аристарх Викентьевич извлек из жилетного карманчика луковицу часов:
– Начало одиннадцатого, – недовольно пробормотал следователь. Снова придется возвращаться домой по ночному городу. Анна Ильинична, супруга, скандал устроит. Переживает. А как иначе? Тут средь бела дня убивают на улицах, что уж говорить про ночь… Впрочем, сам виноват. Мог бы допрос Иоакима Самуиловича перенести на завтра.
Озеровский тут же мысленно оправдал себя: нет, в том-то и дело, что не мог. Если бы перенес, то завтра его бы проводил Геллер в его, Озеровского, присутствии, и ни о какой откровенности не могло бы быть и речи. Нет, все сделано правильно.
Доронин, расположившийся на противоположной стороне стола и вчитывавшийся в протокол допроса членов семьи Канегиссеров, услышав нервное топтание старика, вскинул голову:
– Не беспокойтесь, Аристарх Викентьевич. Поедем машиной. Хотя, судя по всему, выспаться нам сегодня не придется. Завтра приезжает Феликс Эдмундович. Нужно все бумажки подготовить к его приезду.
– Плюс ко всему завтра следует съездить в Михайловское училище, где учился Канегиссер, и на Миллионную, – добавил следователь.
– В Михайловское – понятно. А на Миллионную за какой надобностью? – Демьян Федорович поднял недоуменный взгляд на коллегу. – Ведь были уже там. И так все ясно!
– Я бы так не сказал, – Аристарх Викентьевич откинулся на спинку стула, с силой потер виски: голова болела немилосердно. И очень хотелось есть, – следует найти ту квартиру, в которой Канегиссер разжился пальто.
– Для чего? – На Доронина накатила волна раздражения. Нет, старик, с его дотошностью, точно сведет его в могилу. – Студентик хотел скрыться. Открыл первую попавшуюся дверь. Напялил на себя хламиду, что висела на гвоздике…
– На вешалке, – уточнил Озеровский.
– Какая разница? – отмахнулся чекист. – Кинулся на эту… На лестницу, чтоб, значит, в пальто не признали.
– Однако признали!
– И что?
– А после решил переодеться в шинель Сингайло.
– Так это… Вторая попытка!
– И снова неудачная?
– Получается так.
– А после?
– Что после? Понял, что вниз – никак… Кинулся на чердак. Наши за ним. Схватили. Все.
– К сожалению, не все. Не забывайте, до того, как Канегиссер побежал к чердаку, была стрельба. Опять же мы не знаем, что произошло на чердаке, да и был ли сам чердак?
– Что на чердаке? – не понял Доронин.
– Стреляли или нет?
– Откуда я знаю!
– Вот! – поднял руку с указательным пальцем Озеровский.
– Да какая разница… – вторично чуть не вспылил матрос.
– Большая, Демьян Федорович, – парировал старик, – если перестрелка имела место на лестнице, то на чердак наши чекисты должны были подниматься с опаской, дабы не получить пулю. А они поднимались чуть ли не бегом.
– Так, может, у студента патроны закончились?
– А откуда преследователи могли об этом знать? Или они в его карман заглядывали?
– Галиматья какая-то… – в сердцах выматерился Доронин.
Озеровский поморщился.
– Вот именно. Опять же, зачем взял пальто? Не пиджак, не куртку, а именно пальто. В куртке-то убегать сподручнее! Длинные полы не мешают. Итак, что мы имеем, – устало принялся подводить итоги Озеровский. – А имеем мы различие в показаниях. Шматко уверяет, будто они задержали Канегиссера на чердаке. Точнее, на площадке верхнего этажа, что для товарища Шматко уже есть чердак. Но суть не в том. Шматко ни словом не обмолвился о том, что Канегиссер, переодевшись, пытался спуститься вниз и таким образом обмануть преследователей. Об этом заявил Фролов. Встает вопрос: почему об этом не сказал Шматко? Забыл? Не обратил внимания? Вполне возможно. Собственно, деталь не столь существенная. Любопытно другое. Ни Шматко, ни Фролов ни словом не обмолвились о том, что преступник от них убегал. Стрельбу подтверждают. Шинель подтверждают. А вот то, что преступник пытался воспользоваться чердачным окном, нет. А теперь представьте себя на месте Фролова и Шматко. – Озеровский чуть склонился к чекисту. – Вы осторожно поднимаетесь по лестнице. Выше, на лестничной площадке, видите стоящего человека. Вспомните, что вы говорили: вы его узнаете в полумраке, да при плохом освещении, да через сетку лифтовой шахты? А там освещение никудышнее, мы имели возможность в том убедиться.
Доронин хмыкнул. Старик впервые сказал о них «мы».
– Оно, конечно, трудно.
– Именно. Далее. Ни Фролов, ни Шматко не говорят о том, как стоял подозреваемый на лестничной площадке. Лицом к ним, спиной, боком? По их показаниям, просто стоял, и они его признали. Все. – Озеровский принялся застегивать сюртук. – А если человек стоит к вам спиной, да в полумраке, как его можно признать? Кстати, Канегиссер в своих показаниях тоже об этом молчит. И еще. Вот вы в полумраке, почти в темноте, сможете определить, куда направляется человек?
– То есть? На чердак или… – Доронин запнулся. – В квартиру?
– Именно! И Фролов, и Шматко в один голос уверяют, будто Канегиссер стремился на чердак. А если это не так? – Озеровский задумчиво потер кончиками пальцев уголки рта. – Потому и хочу снова побывать на Миллионной. Преступник бестолково потерял массу времени. Это меня смущает. По показаниям охранников, что были вместе с чекистами, Канегиссер во время погони на улице находился от них довольно далеко, когда те начали в него стрелять. Потому и не попали. – Доронин напрягся. Ждал, что сейчас следователь снова вернет вопрос о недоверии питерским чекистам. Однако тот продолжил мысль в несколько ином направлении. – А где велосипед? По показаниям охранников, в велосипед беглеца угодила пуля, отчего он и бросил технику.
Демьян Федорович почесал ухо:
– А кто ж его знает?
– Нужно найти. И еще нужно снова допросить Фролова, Сингайло и Шматко. Желательно сделать перекрестный допрос. Но в любом случае у Канегиссера имелась, хоть и небольшая, фора.
– Что было? – не понял Доронин.
– Время было у преступника, Демьян Федорович. Время в виде расстояния в полквартала. Пока погоня добежала до подъезда, пока определились, кто будет преследовать дальше, а кто останется на улице, студент мог трижды подняться на последний этаж, оттуда на чердак и уйти по крышам. Однако его задерживают на лестничной площадке. – Следователь вскинул взгляд на матроса. – Где-то Канегиссер потерял минуту! Ту самую драгоценную минуту, на которую, вполне возможно, рассчитывал. После чего у него и началась паника. До получения пальто Канегиссер вел себя адекватно и уверенно. А вот потом действия преступника неожиданно приобретают хаотичность, несобранность. Паника. Им овладела паника. Он растерялся. Все пошло не так, как спланировал. Потому-то и натянул поверх пальто шинель из лифта. Паника. Им овладела паника, – повторился Озеровский, глядя на Доронина. – И ту минуту наш студент потерял не на последнем этаже. Раньше! Кстати, о пальто. Скажите, Демьян Федорович, а что у нас на улице?
– То есть?
– Я имею в виду – какая пора года?
– Предположим, лето, – Доронин никак не мог взять в толк, куда клонит следователь.
– Да не предположим, милостивый государь, – поучительно проговорил Озеровский. – А именно лето! И у меня невольно напрашивается вопрос: почему пальто висело в прихожей, если на дворе лето? По логике, данную вещицу весной должны были просушить и спрятать в шкаф. Моль, батенька! Зараза, всю шубу у меня в прошлом году сожрала… Но это так, к слову. А в данном случае пальто преспокойно висело на вешалке, в прихожей. Так сказать, в ожидании. Посему думаю так. Господин студент не случайно взял напрокат велосипед. Канегиссер знал, что будет уходить с места преступления именно по Миллионной. И целью был именно дом номер семнадцать. Точнее, та квартира, в которой его приодели. Хотя молодой человек рассчитывал, скорее всего, на иной прием. Предположим, проскочить через эту квартиру, а после спрятаться в другой, но находящейся в том же доме, незнакомой нам квартире. А оттуда через черный ход уйти от преследования. И это было оговорено заранее с хозяином квартиры. Однако расчет не оправдался. Молодому человеку кинули в руки пальто, первое, что попало в руки, захлопнули за ним дверь, а дверь второй квартиры не открылась. А преследователи поджимали. Отсюда и паника. Единственное, что убийца успел сделать, – натянуть сею, как вы выразились, хламиду, кинуться к чердаку. А снизу поджимают. В панике Канегиссер не успевает толком разобраться с выходами. Начинается перестрелка. Паника увеличивается. Отсюда и фокус с шинелью, которую доставили наверх на лифте.
– А сколько по времени поднимается этот лифт? – неожиданно поинтересовался Демьян Федорович.
Аристарх Викентьевич посмотрел пристальным взглядом на коллегу:
– Растете, молодой человек. Поверьте мне, из вас будет толк, потому как вы действительно правы. Еще одна дополнительная минута, которой Канегиссер не воспользовался. Будь он более хладнокровным человеком, не поддайся паническим настроениям, вышел бы сухим. Однако он растерялся.
– А почему мальчишка не мог стоять рядом с той квартирой, в которую его не пустили? – задал новый вопрос Доронин.
– Получается, не мог, Демьян Федорович. Если хотите, дело чести. Вот скажите, где сейчас находятся все жильцы с той лестничной площадки?
– Как где? У нас. По приказу Яковлевой всех арестовали.
– Не арестовали, а задержали, – поправил матроса следователь, – вот потому и не мог господин Канегиссер задерживаться у дверей своего человека.
– Что ж выходит? – вскинулся Демьян Федорович. – Тот, что в квартире, его турнул, а он его того… Не выдал?
– Выходит, так, – сумел скрыть усмешку Озеровский. Глубокое высказывание: а он его, а тот ему… Держись, великий и могучий русский язык.
– Дела… – изрек Демьян Федорович, почесав рукой затылок. – Ладно, Глеб Иванович решит, как быть завтра: ехать на Миллионную или нет, – глубокомысленно перевел дух Доронин и снова уткнулся в протокол. Вскоре вновь послышался его удивленный голос: – Ты гляди, а убийца-то наш шахматами увлекался. Алехин[20], мать его…
Аристарх Викентьевич от удивления потерял дар речи: такой осведомленности от полуграмотного, как он считал, матроса следователь никак не ожидал.
* * *
Бокий проследил за тем, как Попов сопроводил арестованного полковника в камеру Канегиссера, после чего направился в кабинет своей следовательской группы.
«М-да, – мысленно анализировал беседу Глеб Иванович, повторяя вслед за сопровождающим солдатом все повороты длинных тюремных коридоров. – Крепкий орешек этот полковник. Жаль, расстреляют. Впрочем, почему жаль? Враг он и есть враг. Выпусти, куда пойдет? К нам? Черта с два. В Крым подастся. Или на Дон. И будет на одного опытного идейного противника больше. А жаль! Какая голова!»
Озеровский, завидев начальство, принялся суетливо подниматься со стула, однако Глеб Иванович, положив тому руку на плечо, упруго усадил следователя на место:
– Не время для церемоний, Аристарх Викентьевич. – Чекист сел на свободный стул. – Ну и денек выдался, не дай бог! Давайте проанализируем все, что у нас имеется, и по домам. Аристарх Викентьевич, что говорят родственники?
– Родственники, Глеб Иванович, в такой или подобной обстановке чаще всего всегда говорят одно и то же: не знаем, не видели, не замечали. Словом, все то, что не дает возможности следствию найти зацепки. Единственная любопытная деталь: преступник в последнее время дома не ночевал. Но, судя по всему, не по причине боязни ареста. Родных навещал ежедневно, чаще по вечерам. Приходил на час-два. Потом снова уходил.
– А где жил? С кем? – Бокий оперся локтями о столешницу, опустил на сжатые кулаки подбородок.
– Не знают. Или не хотят говорить.
– Вот сволочи! – взорвался Доронин.
– Да нет, Демьян Федорович, – глухо осадил матроса Глеб Иванович. – Родня – она и есть родня. Иначе никак. Иначе все, как ты выразился, были бы сволочами. Еще что-нибудь имеется?
Озеровский отрицательно качнул головой. Впрочем, через секунду добавил:
– Хотя вроде как одна зацепка есть. Хиленькая, но имеется.
– Точнее.
– По показаниям матери и сестры преступника, Леонид Канегиссер долгое время дружил с неким Владимиром Перельцвейгом.
– И что с того?
– А то, что Перельцвейга расстреляли две недели назад. За участие в мятеже Михайловской артиллерийской академии. Простите, училища. По личному распоряжению господина Урицкого. Я в секретариате ознакомился с текстом постановления. Оно действительно подписано Урицким.
Бокий вскинулся.
– Это же круто меняет суть дела. – Глеб Иванович живо вскочил со стула. – Перельцвейг… Перельцвейг…
– Двенадцатый номер в расстрельном списке, – негромко напомнил Озеровский.
– Точно! Он еще скрывался под чужим именем. Как же его… Сельбрицкий! Точно! Владимир Борисович Сельбрицкий! Двенадцатый номер… А Канегиссер? Он был вхож в круг заговорщиков?
– Таких данных у нас нет, – ответил Аристарх Викентьевич.
– С какого времени Канегиссер состоял в слушателях?
– По показаниям родственников, учился в Михайловском с июня 1917 года. Мать преступника утверждает, будто Леонид покинул сие учебное заведение еще перед Пасхой, в начале мая. То есть задолго до мятежа. Может, именно потому и не попал в расстрельный список. Однако уход из училища никак не подтверждает факт того, что Канегиссер не продолжал общение со своими однокурсниками. Но на всякий случай, чтобы подтвердить информацию, считаю необходимым завтра посетить Михайловское, поговорить с руководством училища.
– Согласен. Но сделать это следует до прибытия Феликса Эдмундовича. Иначе говоря, с утра. Демьян Федорович, поедете вместе с товарищем Озеровским. Комиссар в училище последними событиями напуган. Как бы, боясь последствий, не дал Аристарху Викентьевичу от ворот поворот. Проследи. Канегиссер почти год находился в среде заговорщиков. Крайне сомнительно, чтобы такой человек, как он, влюбленный в политику, остался в стороне от происходящего. Тем более что ранее убийца состоял при Керенском. – Бокий нервно потер ладони рук. – Прелюбопытная проявляется комбинация. Как считаете?
– Канегиссер в своих показаниях заявил, что политика к содеянному им не имеет никакого отношения, – аргументировал Озеровский. – Месть, не более. Личный мотив. И его показания сбегаются с информацией по Перельцвейгу.
– Что-то слишком долго он ждал, чтобы отомстить, – уверенно обрезал Бокий.
– Как говорят британцы: месть – блюдо холодное.
– Но сообщники-то у него были? Или вы, Аристарх Викентьевич, уже и от данной гипотезы отказываетесь?
– Нет, – убедительно отозвался следователь, – как раз в этом у меня сомнений нет.
– Вот и замечательно, – подвел итог Бокий. – Значит, будем работать в нескольких направлениях. И по поводу мести. И по поводу политической окраски данного дела.
– Да есть здесь эта… – неожиданно высказался Доронин. – Окраска. Нутром чую! Контра мстит! А кто ж еще?
– Не факт. – Аристарх Викентьевич с сожалением посмотрел в темное от ночи окно: сейчас бы домой, в постель. Но разговор, судя по всему, затянется, а значит, времени для сна останется с гулькин нос.
– Что не факт? – снова, на сей раз уже не скрывая раздражения, повторил матрос. Ох уж этот дотошный следователь… И за что ему такое наказание?
– Мы ничего не знаем о том, принимал участие Канегиссер в мятеже или нет, а выводы, получается, уже сделаны. А что, если преступник вообще никакого отношения к михайловским событиям не имеет? И убийство Моисея Соломоновича действительно совершено из личных мотивов? Как быть с презумпцией невиновности? – Аристарх Викентьевич повернулся в сторону Бокия. – Это я по поводу высказывания господина Зиновьева. Извините, Глеб Иванович, но в данном случае, на мой взгляд, презумпция нарушена.
– Чего нарушено? – не понял Доронин.
Однако старший чекист не дал ответить Озеровскому.
– Вы не согласны с тем, что контрреволюция активизировала действия против советской власти? – заиграли желваки на точеных скулах чекиста.
– Смотря что понимать под словом контрреволюция. Поймите, Глеб Иванович…
– Нет, это вы меня послушайте. – Бокий выделял интонацией каждое слово. Так, чтобы до сознания оппонента донеслась каждая эмоциональная нотка. – Контра – она разная бывает. Есть та, что с оружием. Явная. А есть безоружная, которая, на мой взгляд, хуже, нежели первая. Именно она саботирует нормальную жизнь города, волости, губернии, державы. Именно она подрывает наше новорожденное государство изнутри. И если первая контрреволюция – руки, то вторая – мозг. Страна после войны, после революции, в разрухе, голоде, нищете. По крохам собираем хлеб, чтобы хоть как-то прокормить людей. Питер едва не пухнет с голоду. А поэтому каждый саботажник, каждый уголовник, каждый мародер, всякий, кто наносит стране, городу удар, в любом виде, будь то разбойный налет или пьянство, есть враг!
– С этим я согласен, – стушевался Аристарх Викентьевич. – Однако…
– И что ж вы замолчали? Продолжайте мысль, господин следователь. – Бокий кивнул на Доронина. – В нашем тесном, узком кругу вы можете говорить все, что думаете.
– Вот именно, – нашел в себе смелость продолжить разговор Озеровский, – что только в нашем кругу. А в других кругах, получается, я не могу говорить о том, что думаю? Простите, Глеб Иванович, это уже не демократия, а диктатура.
– Именно, Аристарх Викентьевич. Диктатура. И не просто диктатура, а диктатура пролетариата. Впервые рабочий стал хозяином. Полноправным хозяином страны. Теперь рабочий, крестьянин сами могут вершить свое будущее. Но кое-кому это не нравится. Кое-кому этого очень не хочется. Как же: всякая шваль, чернь, голытьба, быдло станет управлять страной. Вот отсюда она и проистекает, контрреволюция. А наша с вами задача, да-да, в том числе и с вами, – не позволить подобной нечистоплотной нечисти вернуть все вспять. Аристарх Викентьевич, советую подумать не только по поводу моих слов, но и по поводу вашего отношения к нашему делу. Измените мировоззрение, потому как обратного пути нет. И не будет! Мы взяли власть в свои рабоче-крестьянские руки не для того, чтобы ее отдать, а для того, чтобы у наших детей было светлое будущее. И за это мы будем драться. Но, Аристарх Викентьевич, это совсем не означает, будто одни рабочие и крестьяне останутся жить на этой земле. Мы рады всем, кто примкнет к нам. Кто поймет и примет нашу позицию, которая крайне проста: равенство для всех. Никакой классовости! Никакого расизма! Только равенство и свобода! Ну а если вас не устраивают наши убеждения, что ж: вот Бог, вот порог. Европа большая, всех примет. Кстати, Ленин из дворян. А Дзержинский – польский шляхтич.
– Простите, но диктатура имеет свойство все приводить к террору. Опыт Французской революции…
Бокий расхохотался:
– Дорогой мой Аристарх Викентьевич! Вы забываете про опыт человечества, про элементарное изучение исторических ошибок прошлого. Мы, большевики, как раз его изучили досконально. А потому можете быть уверены: террора не будет! Не допустим! И прекратим эту никому не нужную схоластику.
Озеровский извлек из карманчика жилетки пенсне, принялся его протирать.
– И все-таки вы со мной не согласны.
– Мировоззрение – не штаны, Глеб Иванович, в один миг не поменяешь.
– А я вас не тороплю. А вот с расследованием поспешить следует.
С последними словами Бокия дверь в кабинет широко распахнулась, в помещение руководителя ЧК ворвался матрос с «пункта обеспечения связи», проще говоря, телеграфист.
– Товарищ Бокий, – дрожащая рука протянула телеграфную ленту, – беда! Вот…
– Что? – Глеб Иванович и сам не понял, почему его голос перешел на хрип. – Что случилось?
– Час назад на товарища Ленина совершено покушение…
* * *
Олег Владимирович тяжело опустился на нижний деревянный топчан нар и, закутавшись в шинель, медленно, так чтобы боль в спине вновь не дала о себе знать, прилег.
Леонид Канегиссер молча, с любопытством наблюдал за сокамерником. По внешнему виду новому знакомому было лет под шестьдесят, если не более. Да и звание, судя по шинели, соответствовало данному возрасту. К тому же седые волосы, борода, морщины по щекам, сухие, узкие ладони рук. «Призрак из минувшего, – неожиданно подумал о сокамернике убийца Урицкого. – Чем-то напоминает аббата Фариа. Такой же старый, странный и загадочный».
Леонид прокашлялся. Старик и не подумал хоть как-то отреагировать. Канегиссер еще раз поднес кулак ко рту, чтобы вторично дать о себе знать, как неожиданно услышал:
– Не старайтесь, юноша. У вас с легкими пока все в порядке. А кашель со временем придет сам собой. В наших условиях обитания подобная зараза приобретается слишком быстро, значительно быстрее, чем вы покинете эти стены.
– Простите. Я не хотел вас потревожить…
– Однако упорно это делали. Впервые в данном заведении? – Белый говорил, откинувшись на спину, скрестив руки на груди, не открывая глаз.
– Да. Первый день.
– Тогда понятно. Непривычно и страшно? Ничего, привыкните. К тому же здесь не страшнее, чем на свободе. По крайней мере тут стреляют только те, кому положено, а не кому взбредет в голову.
Молодой человек с удивлением и страхом смотрел на распростертое на соседнем топчане тело.
– А вы давно здесь?
– Я то? – Белый поморщился: «Вот же, навязался на мою голову. И зачем его перевели из одиночки к этому сопляку? Прощай, уединение». Но все-таки ответил. – Год, включая небольшой отпуск.
– А здесь что, и в отпуск отпускают? – Леонид даже подскочил от удивления.
– Ага, – отозвался Белый. – За хорошее поведение.
– Шутите?
– А в нашем положении, кроме как шутить, более ничего не остается.
Разговор прервался.
Молодой человек умолк. Старик со своими глупыми шутками и нравоучениями стал немного раздражать. Общается с ним, будто с молокососом. Студент шмыгнул уже простуженным носом.
Вообще-то Леонид ждал, что к нему придут другие люди. Те, кто его вытянет из той западни, куда он угодил. Но никто из них, о ком он неоднократно вспоминал за сегодняшний день, так и не объявился. И на допросы, как обещали, не вызывают. Что уже само по себе давало право на надежду.
Молчание, по мнению молодого человека, неприлично затянулось.
– А меня зовут Леонидом… – проговорил студент и хотел было закончить фразу, но Белый его остановил:
– Продолжать не нужно. Достаточно, – Глаза полковника слегка приоткрылись. – И на будущее, юноша. Не представляйтесь тому, кто не нуждается в знакомстве с вами. Мы сокамерники временно. Вскоре, я так думаю, расстанемся и более не увидимся. Так что давайте не навязываться и уважать жизненное пространство друг друга.
– Простите, если что не так. – Студент поджал колени к подбородку. – Просто так одиноко. Пытался уснуть – не получилось. Постоянно шаги за дверью. Подсматривания… будто в душу заглядывают.
– Ничего, пообвыкните. – Белый прикрыл рукой глаза: матовый свет лампочки настырно-раздражающе заполонил все помещение.
– Вряд ли, – отозвался Канегиссер, сильнее вжимая в себя острые колени. – Разве к такому можно привыкнуть?
– Можно, – убедительно отозвался Олег Владимирович. – Я бы даже сказал, нужно.
Леонид не успел отреагировать на последние слова сокамерника.
Замок в двери заскрежетал, дверь открылась, сильная рука охранника втолкнула в камеру двух мужиков, которые тут же принялись возмущаться по поводу поведения солдата.
Белый из-под руки с любопытством наблюдал за происходящим.
– Эй, осторожнее! – писклявый голосок принадлежал мужчине лет сорока в клетчатом пиджаке, под которым виднелась расшитая косовортка. – Ручонки попридержи, матросик!
Второй, помоложе, в черной сатиновой рубахе, скрывающей мощный мускулистый торс, подпоясанной тонким кожаным ремешком, войдя в камеру вслед за владельцем клетчатого пиджака, деловито осмотрелся, уважительно поклонился параше, после чего, с силой отодвинув в сторону писклявого, прошел в центр помещения, встав прямо под лампочкой.
– Будьте здоровы, страдальцы! – рот молодца ощерился в неприятной ухмылке.
Окинув беглым взглядом старика, незнакомец повернулся в сторону студента. Тот, сжавшись в комок, продолжал сидеть на топчане, в недоумении переводя взгляд с незнакомца на Олега Владимировича: мол, не понимаю, что происходит? И почему этот человек так смотрит на меня?
Незнакомец сунул руки в карманы, принялся покачиваться всем телом с пятки на носок, отчего хромовые голенища сапог принялись игриво поскрипывать.
– И кто у нас тут на козырном месте развалился? – тихо проговорил он. Скрип прекратился. Незнакомец неожиданно поднял ногу, с силой опустил ее на ребро топчана. – Что-то я не понял…
Канегиссер вздрогнул: голос у мужика был неприятно-хриплым, с придыханием. Вдобавок с примесью сивушного перегара.
– А это он, Соха, над тобой посмеяться решил, – писклявый пнул дверь и, сунув, по примеру товарища, руки в карманы пиджака, встал за спиной дружка.
«Странно, – Олег Владимирович с любопытством наблюдал за происходящим, – с чего это мужички завелись? Причин для конфликта вроде нет. Хотя среди блатных поставить себя – явление нормальное. Только одно непонятно: почему пристали к мальчишке? На меня только взглянули, а прилипли к нему. На козырном-то месте сидит не он, а я».
Белый, тяжело охнув, привстал.
– Ты куды, дедуля? Лежи, – писклявый ощерился, приподнял ногу в грязном сапоге, ударил каблуком по топчану Белого. – Привыкай. Тебе по статусу положено лежать.
– Да я, с вашего позволения, лучше присяду, – Олег Владимирович сделал вид, будто с трудом, по-старчески, опускает ноги, – телу хоть чуток, а подвигаться следовает. А то ведь совсем слаб стал.
А взгляд полковника в этот момент прилип к рукам молодого уголовника. Не нравилось Олегу Владимировичу, как «сатиновый» то сжимал, то разжимал пальцы, будто разогревая их для ответственного дела. И настораживало положение ноги на топчане. Для чего уголовник приподнял ногу? Уж не для того ли, чтобы извлечь из голенища сапога некий предмет? В виде финки или заточки?
Задница, прикрытая черным сатином, маячила перед глазами полковника.
– Студент? – задница колыхнулась. Рука сжалась.
– Да, – выдавил из себя Леонид. В глазах юноши застыл ужас.
– Из богатеньких! – сделал неожиданный вывод писклявый. – У папашки небось деньжат сгоношил? Или малолетку соблазнил?
– С чего вы взяли? – Взгляд студента судорожно бегал по лицам уголовников. – Ничего подобного я не совершал!
Рука молодого уголовника снова сжалась.
– Значит, контра! – Кулак расправился, рука медленно, едва заметно потянулась к голенищу сапога. – Против народа, которая… тля, на теле народа… Кровосос! И почто ты, сука, тут устроился, а? Твое место знаешь где? У параши, падаль!
Белый отметил, как пальцы молодчика коснулись кожи обуви: нежно, вскользь.
– Ну что, сучонок, – задница, обтянутая сатином, вновь колыхнулась, – сползай с нар. Топай на парашу.
– Зачем? – Леонид никак не мог понять, что от него хотят.
– Ты что, гнида, издеваешься над нами? – хриплый голос с силой выталкивал из глотки слова. – Тебе мало того, рожа упитанная, что на нашем горе народном наживался, так еще и зубы скалишь?
Пальцы уголовника вновь коснулись голенища.
Олег Владимирович вмиг оценил обстановку. Ясно, как день: мальчишку хотят убить. И сделать это должен «сатиновый». Интересно, за что? Впрочем, ответ на данный вопрос можно получить позже. Если получится. Справиться с двумя откормленными «быками» будет непросто. Единственное преимущество – узкое пространство. Как ни крути, второй в драку ввязаться не сможет: слишком мало места, «сатиновый» станет ему помехой. И еще: а что делать потом? Предположим, сейчас он отведет опасность от студента, возьмет на себя. А дальше? Два против одного (мальчишка не в счет). Плохой расклад. Скрутят вмиг. Да и не скрутят, просто прирежут. Обоих. Выход один: «сатинового» придется убить. А вот со вторым разделаться можно будет и более цивилизованным путем.
– Соха, да что ты с ним цацкаешься? – проверещал писклявый. – Тащи в дырку! Пусть дерьма народного глотнет!
– И то верно, – прохрипел «сатиновый», хватая левой рукой студента за ногу. – А ну, ползи ко мне!
Леонид в ужасе вжался в стену. Ладыжка, схваченная уголовником, так заныла от боли, что мальчишка не сдержался, вскрикнул и с силой ударил другой ногой по руке молодчика. «Сатиновый» матюкнулся, перехватил ногу Канегиссера в левую руку, а правую быстро сунул за голенище. Через секунду в тусклом свете матово сверкнуло лезвие финки.
«Все, – пронеслось в мозгу Олега Владимировича, – пора!»
Он резво вскочил с топчана, не сильно подтолкнув «сатинового» под локоть.
– Простите, – это было произнесено специально для писклявого, который из-за тела своего дружка не видел, что происходит.
«Сатиновый», потеряв равновесие, невольно слабо махнул рукой с финкой, пытаясь удержать равновесие, чего и добивался Белый. Он уже стоял сбоку противника.
Главной ошибкой «сатинового» стала его самоуверенность. Он решил, что старик споткнулся случайно, а потому не отпустил ногу студента. Стоя в неудобной позе, уголовник только и успел с недоумением приподнять голову и посмотреть на нерасторопного дедулю: мол, кто это тут посмел мне мешать? С этим недоумением в зрачках и скончался.
Олег Владимирович быстрым, резким движением обеих рук перехватил кисть «сатинового», которая сжимала оружие, развернул лезвие в сторону груди Сохи и вогнал тонкое жало ножа в тело бандита чуть ли не по рукоять. После чего Белый, не ожидая падения безжизненного тела, с силой толкнул Соху на писклявого. И тут сыграла свою решающую роль узость пространства.
Владелец клетчатого пиджака с удивлением подхватил неожиданно упавшее на него тело дружка, еще не сообразив, что же произошло на самом деле. Со своей позиции он не мог видеть происходящего, а потому падение подельника стало для него полной неожиданностью. Второй неожиданностью стало дальнейшее поведение старичка. Тот, с виду бессильный и тщедушный, неожиданно резво для своего возраста вцепился обеими руками в верхние нары, подбросил худое, легкое тело и со всей силы нанес удар ногами в неприкрытую телом «сатинового» голову «писклявого» уголовника. Центр тяжести сместился, ноги владельца клетчатого пиджака подкосились, и он, оглушенный, вмиг оказался на каменном полу, прижатый сверху тяжелым мертвым телом.
Олег Владимирович, не обращая внимания на всхлипывающего на нарах студента, склонился над грудой тел, схватил кисть руки писклявого, прижал ее к полу и со всей силы опустил на пальцы каблук сапога.
– А… с…у…к…а… – донеслось из-под мертвяка.
– Кто? – сквозь зубы прошипел полковник, склонившись над телами. – Кто велел убить мальчишку?
– Н… не… не понимаю, – писклявый явно задыхался под тяжестью дружка.
Белый надавил каблуком сильнее. Одновременно послышались хруст сломанных пальцев и вопль, вызванный болью.
– Говори, мразь. – Олег Владимирович прислушался. Крик, скорее всего, услышали, значит, скоро прибежит тюремная охрана. – Кто приказал? – каблук снова впился в пальцы, и на этот раз с поворотом. Писклявый уже не кричал, а орал. – Кто? Убью!
– Н… не знаю, – писклявый не кричал, выл, – какая-то баба, в кожанке.
– Что за баба?
– Не знаю!
– Почему мальчишку?
– Не знаю… Отпусти руку! Больно! Сука! Отпусти! – крик захлебнулся рыданиями. Ключ в двери, в который раз за сутки, неприятно заскрежетал.
Белый, пока дверь не успела открыться, тут же метнулся к своему топчану и даже успел накинуть на себя шинель.
Матрос и солдат, ворвавшиеся в камеру, быстро оценив обстановку, навели на арестованных карабины:
– Кто кричал? Что происходит?
Охранник в форме матроса бросил взгляд на студента. Но тот только испуганно таращился со своего топчана. Матрос перевел взгляд на Белого. Полковник кивнул на тела:
– Да вот, подрались. Чего-то не поделили господа блатные. – Солдат склонился над «сатиновым». – Осторожнее, – тут же добавил Белый, – у того, что снизу, ножичек, оказывается, забыли изъять. Вот он своего дружка и…
Солдатик вмиг пружинисто выпрямился.
– Эй, там… – Ствол карабина сместился с Олега Владимировича на голову писклявого. – Поднимайся. Медленно. Медленно, я сказал! И кореша своего поднимай. Не ложи, я сказал, а держи руками.
Писклявый с трудом встал на ноги, обхватив «сатинового» поперек груди.
Матрос быстрым движением вытянул финку.
– Вот же, блатота… Одно слово – звери! Тащи дружка. На выход!
Спустя несколько минут камера опустела.
Олег Владимирович выждал некоторое время, пока все не стихло, после чего поднялся и, опершись руками о верхние нары, склонился над Канегиссером:
– А теперь, юноша, выкладывайте, как на духу: кому вы так успели насолить, что за вами даже в тюрьме охотятся?
* * *
Доронин с силой хлопнул дверцей авто.
– Демьян, – чекист-шофер с трудом подавил зевоту, – может, давай прямо к дому подвезу? Тут всего-то осталось…
– Нет, езжай, – отмахнулся Демьян Федорович, – хочу пройтись. Перед сном, говорят, полезно.
– Смотри. В Питере и днем не сахар, а ночью…
– Ничего. Мы тоже не лыком шиты.
Автомобиль ПетроЧК чихнул и вскоре скрылся в темноте.
А Доронин не спеша двинулся в направлении своего подвала, в котором обустроился с полгода тому назад.
«Как же так? – стучало в голове бывшего матроса. – Москвичи, мать их… Недоглядели! Говорили же: не надо покидать Питер. Мы бы здесь Ильича сберегли, как… Как… – Доронин в сердцах ударил себя кулаком по бедру. – Даже слов не могу найти, как… Но сберегли бы! А эти, московские… Да что они могут! Они и в революцию только после нас пришли…»
Неожиданно, спиной, Демьян Федорович прочувствовал некое движение. Не услышал, а именно ощутил, будто зверь. Тело матроса моментально напряглось. Правая рука осторожно, дабы не спугнуть преследователей, опустилась к поясу, нащупала рукоять револьвера. Взведенный курок негромко щелкнул. Однако вынимать оружие Демьян не стал. Даже, наоборот, прикрыл полой тужурки.
– Эй, мужик, – донеслось за спиной, – стоять!
«А голосок-то молоденький, – прикинул чекист, – жаль…»
– Стоять, кому сказано, бля! – на сей раз в голосе послышалось наигранное раздражение.
Доронин остановился, медленно развернулся.
Преследователей оказалось двое. В темноте трудно было различить их возраст. Только силуэты. От этого на душе чекиста немного полегчало: хоть не будет видеть, кого шлепнет.
– Куда спешим, куда торопимся? – Грабители, будто кошки, неслышно приближались к жертве. В лунном свете у одного из них в руке сверкнуло ледяным холодком жало лезвия ножа. – Как насчет пообщаться с культурным обществом?
– Об чем? – спокойно поинтересовался Доронин.
– Об жизни! – хохотнул незнакомец, – Об ней, родимой. Об том, как она есть, а потом раз – и нет.
– Я домой тороплюсь, ребятки.
– Смотри, какой торопливый, – послышался второй голос, более густой, бархатный, – а мы вот не спешим.
Грабители приблизились на расстояние трех шагов. «Дальше подпускать нельзя», – понял чекист. Пора.
– А жаль, что не торопитесь, – выдохнул Доронин, откидывая полу тужурки. Револьвер, подчиняясь воле руки хозяина, вырвался на свободу и произвел два точных выстрела. Людские фигуры поочередно сломались в падении, так и не поняв, что с ними произошло. А Демьян Федорович, пряча оружие, пробормотал:
– Это вам за Ильича, подонки.
И не спеша, уже слегка успокоившись, продолжил путь к своему подвалу.
Глава вторая (за пять дней до постановления «О красном терроре»)
31 августа
Феликс Эдмундович[21] с трудом оторвал взгляд от ночной черноты коридорного окна, вернулся в купе, присел на полку. Взгляд непроизвольно опустился к зажатой в пальцах бумажной ленте. Руки развернули сообщение из Москвы, положили на столик, разгладили. Глаза в пятый раз принялись читать дрожащие в неровном свете керосиновой лампы буквы. Текст гласил следующее:
«Всем Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем. Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина. Роль тов. Ленина, его значение для рабочего движения России, рабочего движения всего мира известны самым широким кругам рабочих всех стран. Истинный вождь рабочего класса не терял тесного общения с классом, интересы, нужды которого он отстаивал десятки лет. Тов. Ленин, выступавший все время на рабочих митингах, в пятницу выступал перед рабочими завода Михельсона в Замоскворецком районе гор. Москвы. По выходе с митинга тов. Ленин был ранен. Задержано несколько человек. Их личность выясняется, – Дзержинский вскинул голову, с трудом, сквозь ноздри, едва не поперхнувшись, втянул в себя воздух. И тут же резко поднес ленту к глазам. – Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов. Призываем всех товарищей к полнейшему спокойствию, к усилению своей работы по борьбе с контрреволюционными элементами. На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит беспощадным массовым террором против врагов Революции. Товарищи! Помните, что охрана ваших вождей – в ваших собственных руках. Теснее смыкайте свои ряды, и господству буржуазии вы нанесете решительный, смертельный удар. Победа над буржуазией – лучшая гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний Октябрьской революции, лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса. Спокойствие и организация! Все должны стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды!
30 августа 1918 г. 10 час. 40 мин. вечера.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Я. Свердлов».Дзержинский смял ленту, с силой припечатал бумажный комок к столу, со всей силы придавив сверху узкой ладонью.
«Что происходит? – Эта мысль билась в мозгу чекиста вот уже как полчаса. – Случайность? Совпадение? Или же действительно питерская контрреволюция изыскала возможность объединить усилия с москвичами?» «Нет, – тут же уверенно ответил сам себе Феликс Эдмундович, – если бы такое произошло, кто-кто, а я первым бы узнал об этом». И причина уверенности заключалась не в качественной работе ЧК, хотя, нужно отдать должное, что для сравнительно недавно организованной структуры Чрезвычайная комиссия работала слаженно и четко: сказался личный опыт профессиональной подпольной работы в царское время. К примеру, летом чекисты смогли внедрить своих людей в лидирующие вражеские организации в обеих столицах, и теперь в Москву поступала самая свежая информация о том, что происходит в стане противника. «Нет, – вернулся к основной мысли руководитель ВЧК, – причина в ином. В том, что лидеры питерских и московских контрреволюционных организаций на данный момент еще не пошли на контакт друг с другом. И та, и другая организации уверены: дни молодой советской власти сочтены, а потому никто не желает делиться с кем-нибудь лаврами победителя, «освободителя России». И еще. На данный момент никто из питерских, так и московских лидеров, из тех, кто имеет вес в их «обществах», не покинул пределы своего города. А сие означает одно: никаких переговоров, по крайней мере среди элиты, не наблюдается. Конечно, питерская шелупонь из «низов» контрреволюционных организаций искала и ищет выходы на московских коллег. Но все, что они делали и делают до сих пор, проходит по их личной инициативе и носит единичный, эпизодичный характер. А чтобы организовать два покушения (и каких покушения!) в один день? И на кого? На лидеров, на вождей революции? Нет, тут необходимы иные масштабы. Иной уровень. Если это не случайность, а в случай мы не верим, то перед нами явно спланированная координация действий. Утром убивают Урицкого. Вечером стреляют в Ленина. В обоих случаях проглядывает явная недоработка ЧК. А по Ильичу, лично его, Дзержинского, просчет. Ведь именно он пять дней назад уступил просьбе Старика о том, чтобы сократить количество людей в охране. А в четверг выслушал от Свердлова нарекание по данному поводу: мол, не нужно было идти на уступку. Причем нарекание было сделано при свидетелях.
Дзержинский с трудом поднялся, снова вышел в коридор, к окну. Прислонился лбом к холодному стеклу.
«А если действительно все спланировано контрреволюцией и я проморгал? Упустил? Прошляпил? В конце концов, между собой могли договориться одиночки. Те же самые эсеры, хотя в такое трудно поверить: им сейчас не до терактов, зализывают раны, боятся высунуть лишний раз нос из конуры. Опять же откуда одиночки в Петрограде смогли узнать о выступлении Ленина на заводе Михельсона? Чтобы так четко скоординировать действия, нужна отличная связь, а этого-то как раз у контрреволюционеров и нет, телеграф в наших руках. Нет, тут нечто иное. Но что?»
Незаметно мысли перекинулись в недалекое прошлое, в февраль этого года, когда решался вопрос по договору с Германией. Именно в те тревожные дни Дзержинский впервые увидел подлинного Ильича: нервного, злого, бескомпромиссного, вся и всех ненавидящего, изрыгающего в своих речах желчь вперемешку с ядом. Причем бил Ленин наотмашь всех, без разбору. В тот момент для него не существовало ни друзей, ни соратников. Все стали врагами. В том числе и он, Дзержинский.
А началось с выступления Ильича 19 февраля в защиту подписания мира с Германией на объединенном заседании большевистской и левоэсеровской фракций ВЦИК. Результат – полный провал. Большинство приняло противоположную Ленину позицию. Дзержинский помнил, каким взъерошенным вернулся с заседания ВЦИК[22] Старик. В тот же день Ленин решил срочно собрать Совнарком[23], который, в противовес исполнительному комитету, одобрил предложения о мире. Мало того, Совнарком принял решение срочно послать в Берлин телеграмму. Собственно, с того заседания СНК все и началось.
Самое смешное (или странное, или страшное; с позиции дня сегодняшнего Феликс Эдмундович даже не знал, как сказать): значительно позже выяснилось, что германский черт в том тяжелом феврале был не так страшен, как считал Ильич. Недостаток информации, помноженный на панику, сыграл свою мерзкую роль и убедил Ленина в том, что немец силен как никогда. На самом деле все обстояло не так безнадежно, как казалось Старику. Да, тяжелые бои имели место, особенно на Украине. Были селения, которые намертво сражались с врагом. Нашлись и такие города, которые сами, без какого-либо сопротивления, подняли лапки, как только к их границам подошел враг, которого на самом деле оказывалось с гулькин нос. К примеру, Двинск захватил отряд немцев из ста человек. А вот в Режице германцы сутки не могли справиться с малочисленным местным гарнизоном. Можно, можно было бить врага. Однако Ильич решил повести дело иначе, что и привело к расколу в ЦК.
21 февраля немец вошел в Киев. Германский сапог, несмотря на мирные предложения молодой советской республики, познакомился с улицами самого древнего русского города и теперь дробил брусчатку своим кованым каблуком.
22 февраля, в том числе и по причине захвата немцами Киева, а также из-за ультиматума, который выдвинул Берлин в ответ на телеграмму СНК, в ЦК произошел раскол. Первым в знак протеста сложил с себя обязанности редактора «Правды» и вышел из состава ЦК Бухарин. Его поддержали Ломов, Бубнов, Стуков… Впрочем, какой смысл всех вспоминать. Но любопытно иное: в группу Бухарина вошел и покойный ныне Урицкий.
«Не только», – тут же мысленно подкорректировал себя Дзержинский.
В ту группу вошла и Варвара Яковлева, которая сейчас ждала его в Питере. Именно по этой причине он и направил ее в Северную столицу: после февральских событий Урицкий доверял соратнице. Данным фактом следовало воспользоваться, что Феликс Эдмундович и сделал. Он надеялся, что Варвара встанет между Зиновьевым и Соломоновичем, тем самым вбив клин между председателем Петросовета и председателем ПетроЧК.
В начале лета, по отголоскам, поступавшим из Питера, получалась крайне некрасивая картинка. Если в феврале Урицкий и Зиновьев были ярыми противниками и долго ими оставались (одна из причин, по которой Моисея оставили в Питере), то к маю, как ни странно, этих двух волков что-то объединило. Что – оставалось загадкой. Причем, как докладывали из Питера, инициатива исходила от Зиновьева, в результате чего он фактически подмял под себя Соломоновича. Именно данные сообщения стали главной причиной появления в Питере Яковлевой. Конечно, выяснить, что там и к чему, можно было поручить и Бокию, и Глеб бы со всем разобрался. Однако Дзержинский решил не подставлять под тухлое дело своего человека. Во-первых, негласное расследование отношений Урицкого и Зиновьева могло привести к неожиданным результатам. И в опалу могли попасть не только они, но и те, кто их окружал, в том числе и люди Дзержинского. Но главное (и во-вторых) – Феликс Эдмундович уже решил перевести Бокия из Питера в столицу, поручить ему иное ведомство. Поэтому марать имя чекиста в дрязгах новоявленных чиновников не имело никакого смысла. Бокий должен был остаться в стороне. На Варваре же Яковлевой после февральских событий не имелось ни одного светлого пятна. После того как Варвара Николаевна открыто поддержала позицию Троцкого и выступила против Ленина по Брестскому вопросу, она до конца дней в глазах Старика осталась предателем, как и все остальные, кто примкнул в том феврале к Бухарину. Хотя, как ни странно звучит, к самому «Бухарчику» Ильич продолжал относиться с большой симпатией. Если, конечно, то была не игра.
Дзержинский, к счастью, избежал участи изменника. Он вовремя заметил настроение Ильича, и, зная его характер, и будучи полностью уверенным в том, что мирный договор подписывать нельзя, отстранился от происходящего. Принял нейтралитет, чем спас себя. Конечно, потом Ленин припомнил его позицию и выговор сделал, но то было позже. К тому же Железный Феликс реабилитировался подавлением восстания левых эсеров.
– Феликс Эдмундович!
Дзержинский встрепенулся. Перед ним вытянулся в струну юноша в изрядно застиранной, но чистой гимнастерке, начищенных сапогах, подтянутый, свежий. Феликс Эдмундович любил таких: чистых, опрятных, с детства не мог терпеть грязь и не понимал тех, кто с ней мирился.
– Что, Саша?
– Из Москвы. Только что пришла.
– Читай.
Юноша поднес к глазам ленту.
– Срочно вернуться Москву. Яков Свердлов.
– Все?
– Все.
– А что в руке сжимаешь?
– Это мне… – стушевался юноша.
– Тоже из Москвы?
– Да.
– Читай! – приказал чекист.
Мальчишка вытер кулаком холодный пот со лба.
– Среди наших буза. Ильич без сознания, при смерти. Свердлов всех крутит в бараний рог. Ищет виновных. Хо… – Мальчишка запнулся.
– Продолжай.
– Хочет всю вину свалить на Феликса.
– Кто прислал?
– Матвей… – Голос юноши дрогнул, – Матвей Крестаков. Из аппаратной. Перед… перед телеграммой Свердлова отправил.
– Он еще там?
– Да.
– Не в первый раз общаетесь таким образом?
Юноша облегченно вздохнул: в голосе Дзержинского прозвучала усмешка, добрая.
– Да. Простите, я…
– Вот что, Саша. – Рука чекиста легла на мальчишеское плечо. – Ты пока погуляй, минут десять. Недалеко. Мне подумать нужно.
«Сволочи! – Феликс Эдмундович снова повернулся к окну, с силой сжал веки, да так, что в глазах пошли разноцветные круги. – Ну теперь, по крайней мере, ясно, что меня ждет. Теперь не важно, кто совершил покушение на Ильича. Теперь важно, кто станет козлом отпущения. Товарищ Андрей[24] решил воспользоваться ситуацией и подмять под себя всю полноту власти. Очкарик кучерявый… И самое страшное, у него это получится. В Москве сейчас творится черт знает что! А я здесь, между Питером и… – Кулак гулко припечатался к стеклу. – Яшка знал о покушении на Ленина! Если не сам спланировал. Но тогда что ж получается? Выходит, и Урицкого положили по его приказу? Или Андрей готовил покушение на Ильича, а тут удачный момент с Соломоном? Не убили бы Урицкого, убили бы кого-нибудь другого и его, Дзержинского, все одно выпроводили бы из столицы. Выродок! Именно он подсказал вчера Ильичу отправить его, Дзержинского, в Питер. Все рассчитал, каналья. Теперь на возвращение уйдет часов шесть, не меньше. А за это время… За это время…»
Феликс Эдмундович кинулся к столу, развернул ленту, нашел нужный отрывок: «На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит беспощадным массовым террором против врагов революции». «Вот оно! Свердлов хочет взять абсолютную власть в свои руки! Конечно, а иначе как все понять?»
Пока он, Дзержинский, будет возвращаться в Москву, там произойдет переворот. ВЧК возглавит новый руководитель (его к тому моменту обвинят в соучастии в покушении на Ленина: бред. Но кто сейчас, в пылу, на это обратит внимание?). Под руководством Свердлова и Троцкого ВЧК начнет массовые репрессии, о чем Лев Давидович мечтает с ноября прошлого года. И республика утонет в крови. «Ай да Яшка, ай да сукин сын! Виновных наверняка уже нашел. Да и что их искать… Скорее всего, всех к этому часу допросили и расстреляли. А дальше оправдывайся, не оправдывайся, все одно – светит трибунал. – Феликс Эдмундович снова резко, всем телом, развернулся к окну. – Я ничего не смогу доказать, меня расстреляют. Но это не страшно. Смерти я не страшусь, давно перестал ее бояться, еще со времен каторги. Страшно иное, страшно, что вся наша работа, весь труд окажется в руках проходимцев. Революцию делали для народа, а воспользуются плодами… – Дзержинский замер. – Если только… Если только я сам не нанесу удар по Свердлову. Да, именно! И такой удар, которого он не ожидает с моей стороны. Яков убежден в том, будто я – сбитая фигура с его шахматной доски. Что ж, этим и следует воспользоваться. Мальчишка спас мне жизнь. Именно так, и никак иначе. В Москву возвращаться нельзя. По крайней мере сейчас. Нужно продолжить движение в Питер. Мой единственный шанс – выжить и не только выжить, а продолжить дело революции. Неожиданность – главный козырь. Яков думает, будто скрутил меня, а я ударю его под дых. Воспользуюсь нашими наработками[25] по британцам и французам. Конечно, все сыро, не подготовлено, ну да в данном случае не до жиру. Нужно устроить в Питере то, от чего у Яшки столбняк случится. Мы раскроем контрреволюционный мятеж не осенью, как планировали с Петерсом, а сегодня, сейчас. Жаль, конечно, кое-кого в спешке упустим, но иного выхода нет. Идеальный вариант – арестовать Кроми. С таким свидетелем сам черт не страшен. Но даже если не получится, все одно: буза, устроенная в Северной, насторожит Свердлова. Испугать, конечно, не испугает, Яков не из пугливых, но и с крутым кипятком тот дело иметь не захочет. А если я к тому же выйду на тех, кто курировал убийцу Соломоновича, тогда держись, Яков Михайлович».
– Александр! – Феликс Эдмундович постучал в окно.
Спустя несколько секунд юноша стоял перед начальством.
– Вот что… Дашь знак своему другу… У вас ведь есть свои предупредительные знаки? – Молодой человек утвердительно качнул головой. – Так вот, дашь ему знак, будто той телеграммы, которую он выслал лично тебе, не было. Ты меня понял? Той телеграммы он тебе не посылал и ни о чем не предупреждал. Это в его интересах. Далее. Сообщи начальнику поезда: мы продолжаем движение в Петроград. И как можно скорее! Утром, крайний срок к обеду, поезд должен прибыть в Питер! Любая задержка в пути будет расценена мной как саботаж.
– Феликс Эдмундович, а как же Москва?
– А Москва, Саша, – рука первого чекиста снова легла на юношеское плечо, – Москва подождет, – острый взгляд Дзержинского встретился с открытым взглядом мальчишки, – успеем мы в Москву. И еще. Более никакой телеграммы, по крайней мере сейчас, в данную минуту, ты отправлять не станешь. Ты меня хорошо понял?
* * *
Весть о покушении на председателя Совета народных комиссаров моментально облетела весь город. Весть эта не вызвала никакого замешательства в рядах пролетариата. Наоборот, всюду слышатся речи о необходимости теснее сплотиться вокруг вождей и усилить до крайней беспощадности борьбу с контрреволюцией.
Белогвардейцы притаились. Никаких выступлений не было.
В городе полное спокойствие.
«Известия ВЦИК», 31 августа 1918 года.
* * *
Бокий тяжелым, шаркающим шагом вошел в свой кабинет на Гороховой.
Третьи сутки без сна. Два часа прикорнул на диване – разве это отдых? А все нервы. Ночь Глеб Иванович провел на ногах. Когда становилось невтерпеж, бежал к телеграфистам, чтобы услышать опостылевшую фразу: «Пока молчат». Утром пришло сообщение:
Официальный бюллетень № 2
31 августа 1918 г. 9 часов утра
Температура – 36,3, пульс – 110–120. Ночь спал с перерывами. Самочувствие лучше. Кровоизлияние в плевру не нарастает. Общее положение серьезное.
Невидимая тяжесть моментально опустилась на плечи, придавила, прижала.
Теперь тело ломило и ломало. Глаза резало так, будто в них песку сыпанули.
Дверь прикрыть за собой Глеб Иванович не успел. В проеме, вслед за ним, тут же проявилась голова тюремного охранника Попова.
– Разрешите?
– Входи. – Бокий прошел к окну, распахнул створки, присел на подоконник: свежий ветерок хоть немного, но все-таки бодрил. – Как прошла ночь? Яковлева приходила к арестованному?
– Никак нет, – отрицательно замотал головой охранник. – Тут дело похлеще, товарищ Бокий. К ним, то есть в камеру, блатных подсадили. Так там такое было…
– То есть? – Глеб Иванович с недоумением смотрел на охранника. – Кто подсадил? Когда? Вечером еще студент сидел один. Только ночью старика к нему подселили.
– После полуночи, – принялся воспроизводить события минувших часов охранник, – прибыла партия новеньких. Двенадцать человек. Варвара Николаевна привезли. – «С облавы на Большой Московской, – вспомнил чекист. – Вот баба, все-таки смогла скрутить уголовничков». Тем временем Попов закончил доклад: – Вот она-то и приказала рассовать блатных по камерам.
– И к студенту?
– Так точно! Двоих.
– А что ж ты… Что ж ты мне сразу не доложил? – Бокий еле сдержался, чтобы не нагрубить.
– Так, Глеб Иванович… – Попов развел руками. – Я подумал, вам не до того. После того как сообщили… про Ильича. Такое случилось… Да мы и сами справились. – Матрос поправил кобуру на поясе.
– С чем справились?
– Так там эти уголовники бузить начали. Один другого порешил. Словом, молодой со стариком сейчас снова одни. – Охранник облизнул пересохшие губы. – А что слышно про Ильича? Жить будет?
Чекист, не глядя на матроса, опустился на стул, с силой втянул в легкие воздух и задержал дыхание, будто собирался уйти с головой в воду. «Нужно успокоиться. Взять себя в руки. И не кричать на матроса. Попов ни в чем не виновен. Яковлевой пойти супротив он не мог. Да если бы и пошел, что бы это изменило? А по поводу доклада… Ну, доложил бы охранник вчера о блатных, и что? Как бы он, Бокий, отреагировал? Да никак. И тут матрос тоже прав: новых забот конец дня преподнес по самое горлышко. Только в Смольный за ночь трижды ездил».
Воздух с сипением вырвался из легких.
– Будет, Попов, жить Ильич. Обязательно будет. – Глеб Иванович поднес руки к голове, сжал виски. – Ты вот что, присядь на стул, подожди минутку. Потом расскажешь детально, как было. Только минутку подожди.
Глеб Иванович склонил голову, прикрыл глаза. На минутку. Только на минутку.
* * *
Доронин с трудом подавил зевок.
– И какого дьявола так рано едем? Всего-то половина восьмого.
– Как раз вовремя, – уверенно заметил Озеровский. – Успеем к разводу. Все будут на месте.
– Да куда бы они делись, – отмахнулся Демьян Федорович. – К тому же зачем нам все? Поговорим с комиссаром, и вся недолга.
Автомобиль ПетроЧК, кряхтя и вздрагивая на каждом булыжнике мостовой, упорно двигался в направлении Арсенальной набережной, где разместилось Михайловское артиллерийское училище.
Аристарх Викентьевич закрыл глаза. Ему тоже хотелось спать. Но, в отличие от Доронина, который не прилег в эту ночь даже на минуту по причине волнения за жизнь вождя мирового пролетариата, следователь не сомкнул глаз из-за своей супруги, которой битых три часа пытался втолковать, что той нужно срочно собирать вещи и, пока есть такая возможность, уезжать с детьми в Астрахань, к тестю. Конечно, там тоже не мед, но, по крайней мере, как считал глава семейства, спокойнее, нежели в Северной столице. Жена же (вот дуреха!) никак не могла взять в толк, для чего и по какой причине должна срочно срываться с насиженного места, да еще вместе с детьми, в то время как ее супруг служит большевикам? Никак своим примитивным умишком не желала понять, какое отношение имеет к благоверному покушение на какого-то там Ленина. Да еще в Москве. А Аристарха Викентьевича бесила политическая близорукость супруги: ну как можно не понимать таких очевидных истин? Чем еще более распалял жену, которая после убедительных доводов неожиданно принялась искать в его словах иной, несуществующий смысл. Вот так бестолково пролетела ночь в доме Озеровских.
Автомобиль притормозил в арочном пролете, что подковообразным зевом соединял проезжую часть набережной с двором училища. Доронин извлек из кармана мандат, предъявил его начальнику контрольно-пропускного пункта:
– ЧК. К вашему комиссару. Он на месте?
– С утра был, – курсант вернул бумагу, дал отмашку подчиненному, чтобы тот поднял шлагбаум. – На второй этаж, по коридору направо.
– А как звать его? – поинтересовался матрос.
– Михайлов Иван Трифонович.
– Училище в его честь, что ли, назвали? – хмыкнул Доронин.
– Ага, – неожиданно зло сплюнул себе под ноги курсант и тихо, сквозь зубы, добавил: – и в собственность отдали.
Караульный тут же повернулся к гостям спиной, прошел в будку КПП.
– Да, – протянул голосом Озеровский, – судя по всему, любят тут товарища комиссара.
Михайлов оказался калачом тертым. Первым делом изучил документы прибывших чекистов. Особенно тщательно вчитывался в мандат Озеровского, явно не доверяя старорежимному чиновнику. После чего в присутствии чекистов созвонился с Гороховой. И лишь после того, как там подтвердили личности следователей, согласился отвечать на вопросы.
Первым начал разговор Доронин.
– Товарищ Михайлов, нас с товарищем Озеровским, – Демьян Федорович особенно выделил последние два слова, – интересуют события десятидневной давности. Точнее, мятеж в вашем училище.
– А еще точнее, личность курсанта Перельцвейга, – добавил Аристарх Викентьевич.
– Перельцвейга? – Комиссар кивнул на кожаный диван, приглашая гостей присесть. – Помню такого. Только о том, что он носит фамилию Перельцвейг, мы узнали после ареста мятежников. У нас по спискам он проходил как Сельбрицкий. Владимир Борисович Сельбрицкий, а никакой не Перельцвейг.
– А вы что, не проверяете курсантов при поступлении? – поинтересовался Озеровский.
– Каким макаром? – довольно грубо отозвался комиссар. – Документ есть? Есть! Кем выдан? Властью! И кого проверять? Власть? – Михайлов сокрушенно махнул рукой. – Тут проверяй не проверяй, все одно – контра пролезет. Заведение-то военное, для врага будто медом намазано. А документ, мил человек, подделать можно. Вот как с этим Сельбрицким вышло. Документы-то ему выдал Петросовет. И что после вышло, что следствие выявило? Оказалось, Перельцвейг просто решил сменить фамилию. Не по душе ему стала его еврейская родословная. Вот и решил сделаться Сельбрицким. Имел право? Имел! Так к нам и попал. К тому же, когда я пришел в училище, он уже был курсантом.
– А как вы определили: кто из учащихся враг? – тут же вкрутил вопрос Аристарх Викентьевич.
– Да просто, – Михайлов сложил руки на груди, прислонился спиной к изразцовому кафелю камина, – по делам. Вот взять, к примеру, Сельбрицкого. Он сразу мне не понравился. В первый же день прибытия в училище я отметил и его чересчур четкую выправку, и печатный шаг. Все остальные курсанты мешок мешком, а в Сельбрицком чувствовалась военная косточка. И взгляд такой, знаете ли, гордый, независимый. Конечно, виноват, что тут же не сообщил о нем в ваше учреждение, ну да мне за это по шапке уже попало. Так что можете лишних слов не тратить. Выговор такой припечатали – ввек не отмыться.
– Давайте вернемся к Сельбрицкому, – оборвал комиссара Аристарх Викентьевич. Доронин молчал, чувствовал: сейчас Озеровскому лучше работать одному, толку больше. – Итак, вы сразу определили в нем военного человека. И как было дальше?
– А что дальше? Начал за ним наблюдать, присматриваться. Все подтвердилось – новичок, как оказалось, с военным делом был хорошо знаком. Отличный стрелок. В заучивании устава замечен не был, однако от зубов отскакивало – позавидовать. Я сам так статьи устава не смог выучить, как он. Не хватает образованности. Ну а после – опаньки и…
– А вот с этого места, пожалуйста, подробней! – попросил следователь.
– То есть?
– Расскажите, как произошло это «опаньки». И, если можно, в деталях.
– В деталях? – Михайлов наморщил лоб. – Что ж, можно попробовать. Мы, то есть я и революционный комитет курсантов, еще с моего прихода сюда, с июня, начали замечать, что в училище прижилась контрреволюция. Не явная, открытая. А эдакая, знаете ли, подленькая. Скрытая.
– И в чем это выражалось?
– Да во всем! К примеру: идет утреннее построение. Смотрю: перемигиваются! И глаза красные от недосыпу. Понятно: ночь провели не в казарме. Однако перегарным духом не несет. Подозрительно? Факт! Опять же, как мне докладывали товарищи из комитета, странные сборища по вечерам, вне стен училища. Вывод: что-то происходит. А иначе как понять? Ведь могли общаться в казарме? Могли! Ан нет, в город бегали. На ночь-то глядя. Зачем? То-то! И к этому Сельбрицкому частенько ездили. Ладно б вино там пили, баб тискали. А то все разговоры да чтения разные. Стишки. Песенки.
– Об этом вам тоже докладывали? – уточнил Озеровский.
– Естественно! Но данный факт мы еще терпели. А вот когда появилось оружие в казарме, тут-то и понял: баста! Приплыли.
– Какое оружие? – на этот раз встрепенулся Доронин.
– В основном наганы. Кольты.
– А у вас что, курсанты без оружия? – в свою очередь поинтересовался Аристарх Викентьевич.
– Отчего ж? С оружием, когда следует, – тут же уточнил комиссар. – Все хранится в оружейной комнате. А за просто так таскать револьвер по училищу – кто ж позволит? К тому же раньше у нас кольтов не наблюдалось, только смит-вессоны, от старого режима. Да и тех с полтора десятка.
– Вы полагаете, будто кольты от Сельбрицкого попали в казармы?
– Я не полагаю. Так в трибунале подтвердили. Мятежники сами признались, что именно он их снабдил.
– Так, и как дальше было? – Доронин с возмущением посмотрел на Озеровского: времени мало, а вы тут про кольты да «смиты» всякие спрашиваете.
– Дальше? – Комиссар, задумавшись, провел широкой ладонью по крепкой, загорелой шее. – Десятого августа мне доложили, что в стенах училища зреет мятеж. Иначе говоря, переворот.
– Вот так прямо и мятеж? – не сдержался Озеровский.
– С захватом власти! – убедительно повысил голос Иван Трифонович. – Я поверил, потому как доложил человек верный. Но проверил. Точно! Все подтвердилось. На следующий день я был у товарища Урицкого. Утром. С документом, в котором все описал. Подробно. Можете посмотреть. Думаю, в ваших архивах он обязан быть.
– Да некогда нам смотреть, – У Доронина даже челюсть свело от мысли, что Озеровский предложит копаться в бумагах десятидневной давности. – Вы лучше на словах обскажите, как да что?
– А что обсказывать? – осклабился Михайлов. – Прибыли ваши товарищи. Провели обыски. У Веревкина, преподавателя, в войну штабс-капитана, нашли наган и три шашки. Точеные! У Арнаутского, курсанта, кольт из-под матраца вынули. У Анаевского браунинг изъяли. А у Дитятьева в тумбочке нашли пишущую машинку. Видно, прокламации собирался печатать. И две бутылки вина.
– А у вас что, регулярная проверка личного имущества курсантов не проводится? – вновь не сдержался Аристарх Викентьевич. – И эту машинку раньше не видели?
Комиссар окинул долгим взглядом следователя, сплюнул на пол, повернулся к Доронину:
– Он у вас кто?
С одной стороны, Демьяну Федоровичу польстило, как Михайлов осадил старика. Больно уж дед надоел со своей дотошностью. Однако с другой – матросу очень не понравилось отношение артиллериста к чекистам. А потому он решил поддержать Аристарха Викентьевича:
– Товарищ Озеровский – работник Петроградской чрезвычайной комиссии. И на данный момент занимается расследованием убийства товарища Урицкого. – В голосе Доронина прозвучала жесть. – И тот, кто будет мешать ему в проведении расследования, будет приравнен к врагам революции и трудового народа. Тем более дело по мятежу в вашем училище не закрыто. Так что отвечайте на поставленный вопрос.
Михайлов покрылся холодным потом. Привела нелегкая! Теперь как бы самому не угодить в «Кресты».
– Проверка личного имущества курсантов отменена распоряжением Ревкомитета училища, – сделал попытку оправдаться комиссар. – Понимаете, такие проверки расцениваются как недоверие к учащимся, что приводит к недовольству…
– И появлению тараканов, – вставил реплику Озеровский, чем вызвал усмешку на лице комиссара. Впрочем, разговор тут же перешел в иное русло. – Перельцвейг, то есть Сельбрицкий, постоянно находился в училище?
– Только во время занятий, – отчеканил Михайлов. Видно, на данный вопрос отвечал множество раз. – В казармах не ночевал: имел жилье в городе.
– Что вам еще известно о Перельцвейге?
– Почти ничего. Скрытен был. Вроде и говорун, а вдумаешься в его слова: пустозвон. Опять же слова говорил правильные, а в глаза глянешь – пустота. Иногда молчит сутками, а то вдруг скажет, будто бритвой обрежет. Молодняк вокруг него вился, будто мухи над дерьмом. Он ведь был самым старшим из курсантов, самым опытным, вот потому они к нему и тянулись. А Сельбрицкий данным фактом пользовался. – Михайлов не спеша прошел к столу, открыл верхний ящик, вынул исписанные листы. – Вот, можно сказать, компромат. Незадолго до ареста Сельбрицкого слышали, как он говорил вот это! Записали почти дословно. Читайте!
Аристарх Викентьевич взял первый лист.
«… побегут, никуда не денутся. Так и сказал: большевикам – крышка! Защищаться им нечем и некем. А нам немцы помогут. Немецкая монархическая партия. Людишек же следует искать в уезде. В городе никого из толковых не осталось. А там чего-нибудь да нашкребем…» Что за бред?
Доронин с силой сжал кулаки: нет, старик точно доведет его до цугундера[26].
– Какой же это бред? – встрепенулся Михайлов. – Крамола! Мятеж!
– А тот бред, что в него нельзя верить. – Озеровский бросил лист на стол. – Какие немцы? Какая немецкая монархическая партия? Где мы, а где Германия? Они себе сами ладу дать не могут, а тут у них помощь просят.
– И тем не менее подтвердилось, – заметил комиссар, – и не где-то, а у вас, на Гороховой.
– Точно, – на сей раз Доронин поддержал артиллериста. Зло поддержал, с искрой во взгляде. – Было.
– Ладно, – Аристарх Викентьевич почувствовал: данную тему лучше закрыть. – А фамилия Канегиссер вам о чем-нибудь говорит?
– Как?
– Канегиссер. Он учился в вашем училище, до весны.
Михайлов отрицательно качнул головой:
– Меня назначили комиссаром в июне.
– Так, может, курсанты его вспоминали? Или в разговоре случайно всплывала эта фамилия?
Михайлов вторично замотал головой:
– Не припомню.
– И он не приходил в казармы?
– Говорю же – нет! Постороннего человека я бы сразу заметил.
– Логично.
Доронин догадался, куда клонит следователь. Если комиссар не помнил Канегиссера, то тот никак не мог принимать активного участия в готовящемся мятеже. Для того чтобы помогать мятежникам, следовало постоянно контактировать с заговорщиками, а значит, встречаться с ними. Кто-то да должен был о нем проговориться во время расследования. Фамилия Канегиссер в деле не звучала, иначе бы тот тоже оказался в расстрельных списках. Или его бы вызвали на допрос. Однако никто бывшего курсанта на Гороховую не вызывал.
– То есть о взаимоотношениях Канегиссера и Перельцвейга вам ничего не известно?
– Абсолютно! – уверенно тряхнул коротко стриженной головой комиссар.
– А с кем из курсантов можно поговорить о Перельцвейге?
Михайлов вторично усмехнулся.
– Ни с кем. Те, кто ходил к Сельбрицкому, расстреляны вместе с ним. А те трое, что не были связаны с заговором, убыли на фронт, три дня тому назад. Здесь остался один молодняк, что поступил в училище перед самым мятежом. Из этих никто ничего не знает.
– А с кем из преподавателей можно поговорить?
Михайлов почесал кончик носа.
– По поводу Канегиссера? Даже не знаю. Сейчас здесь все новые преподаватели.
– А если припомнить? – прищурился Доронин. Нехорошо прищурился, с намеком.
Михайлов намек понял.
– Можно поговорить с Сартаковым, – быстро проговорил комиссар, впрочем, тут же уточнил: – Только его нет: уволили в июле. Слишком строптивый старичок оказался. Не знаю, жив ли… А так… Литков! Точно! Как я мог забыть… Вот кто точно вам поможет. Правда, сейчас в пятидневном отпуске. Но это не беда. Он в городе. На Васильевском проживает, с ним пообщайтесь. Вредный мужик, однако, с памятью дружит.
– Адрес имеется?
– А как же. В канцелярии, на первом этаже.
* * *
Белый вошел в уже знакомый кабинет и, запахнув шинель, без приглашения, тяжело опустился на стул возле письменного стола, за которым расположился Бокий. Глеб Иванович оторвался от телеграфной ленты, которую ему принесли прямо перед приходом полковника, потер пальцами глаза, устало проговорил:
– Чай будете?
– Не откажусь.
Чекист прошел к двери, крикнул секретарю:
– Два чая. И покрепче, – после чего вернулся на свое место, снова обратился к арестованному: – Что ж вы, Олег Владимирович, буянете? В вашем-то возрасте?
– Это смотря что называть буйством. – Белый откинулся на спинку стула. – Кстати, вы мне обещали баню.
– Не хочется перед Господом предстать в срамном виде?
– А кому такое по душе? – равнодушно отозвался полковник. – Покойников – и тех обмывают. А я пока живой.
– Верно заметили, что пока.
В кабинет неслышно вошел пожилой чекист с чайником в руке. Вскоре перед арестованным стоял стакан с душистым кипятком.
Бокий подождал, когда секретарь покинет кабинет, после чего продолжил мысль:
– Странно как-то получается, Олег Владимирович. Не успели вас перевести из одиночки в общую камеру, как вы тут же устраиваете побоище. Даже суток не провели в людском обществе.
– В людском обществе я не был более года, – Белый поднес стакан к обветренным губам, сделал маленький, осторожный глоток, – и, судя по всему, никогда не буду.
– Никогда не говорите «никогда», – серьезно заметил Глеб Иванович, – даже в вашем положении есть надежда.
– Вот только этого не нужно, – полковник поморщился, – я прекрасно знаю свое будущее.
– Что ж, если вам не хочется пофилософствовать, давайте займемся более приземленными делами. Олег Владимирович, не стану ходить вокруг да около. С вами так поступать не имеет смысла. Скажу сразу: мы вас подсадили к студенту специально. Точнее, я подсадил. В надежде, что вы сможете, скажем так, «прощупать» молодого человека.
– То есть без моего согласия сделали меня «подсадкой»?
– Совершенно верно, – без какого-либо намека на улыбку отозвался чекист. – Думаю, вы об этом и так догадались. Не знаю, будете удивлены или нет, но я сейчас хочу перед вами открыться. Но сначала о причине, почему хочу это сделать? Вы – лицо незаинтересованное, отвлеченное. А я в это дело погрузился по самую, как говорится, маковку. А потому многие детали перестал замечать. Глаз, знаете ли, замылился. Вот детали, будто передо мной, а не вижу. Понимаете, в чем дело? Исходя из протокола первого допроса студента стало ясно, что он врет. Причем врет примитивно. Надуманно. Такое ощущение, будто придумал версию покушения в момент ареста. Скорее всего, так оно и было. Молодой человек, судя по всему, никак не рассчитывал на то, что его арестуют. Ан просчитался.
– Вы очень часто употребляете несвойственные следователю слова. «Исходя», «ощущение», «судя по всему»… Сыщик должен говорить глаголами: пришел, сделал, убил, убежал… А у вас все поверхностно и на уровне эмоций. Потому вы и не видите детали. Отбросьте эмоции. Оставьте только логику. Вы лично допрашивали мальчишку? – неожиданно спросил Белый.
Бокий стер улыбку с лица. Да, не случайно Доронин жаловался, будто не в состоянии общаться с этим беляком. Действительно, куда ему, бывшему крестьянину и матросу, если даже он, Бокий, человек с европейским образованием, и то чувствует себя не в своей тарелке в присутствии такого мастодонта от разведки.
– Нет. Студента после первого допроса вообще больше никто не допрашивал. Ждем приезда товарища Дзержинского.
– Не боитесь отдавать такие ценные сведения? А если передам на волю тюремным телеграфом о приезде вашего руководителя?
Бокий повел плечами:
– Во-первых, из приезда Феликса Эдмундовича никто тайны не делает. Во-вторых, вы не тот человек, который станет кусать исподтишка, будто шавка. Вы из волкодавов, а не падальщиков.
– Благодарю за столь высокую оценку.
Белый закинул ногу на ногу, отчего пола шинели с легким шорохом спустилась на пол.
– Вы правы: мальчишка врет. Его подвели под убийство.
– Детально?
– А можно еще чайку?
Глеб Иванович поднял чайник, наполнил стакан. После чего достал папиросы со спичками, положил все это богатство перед арестованным.
– Я вас слушаю.
– Так вот. Я исходил не из того, что убийца вашего товарища, который мне абсолютно безразличен, наговорил вам. Более того, скажу, что он и мне твердил о том же. Мол, убил вашего Моисея… из мести. Я не поверил его словам. И знаете, по какой причине?
– Потому что он слишком спокойно себя ведет? – выдвинул версию Бокий.
– Отнюдь. – Белый отрицательно качнул головой. – Мне и раньше встречались подобные случаи, когда ненависть овладевала человеком так, что он совершал первое в своей жизни убийство, ни о чем не сожалея и в дальнейшем не раскаиваясь. Хоть это и кажется на первый взгляд противоестественно. Тем не менее случается. Суть не в том. Иная причина заставила меня не поверить молодому человеку.
– И какова эта причина? – Бокий прищурился: интересно, совпадет ли гипотеза полковника с его личными выводами?
– Господин Канегиссер из очень состоятельной семьи. Лично с ними я не знаком, но кое-что об этом семействе слышать доводилось. К примеру, известно, что батюшка молодого человека ценил, да, я думаю, и по сей день ценит роскошь и деньги, что и привил своим сыновьям. Известно также и то, что брат нашего малолетнего преступника одно время являлся штатным сотрудником «охранки». Заметьте, не ради денег, а лишь для того, чтобы погорячить свою юную кровь. Также я осведомлен и о том, что господа Канегиссеры всегда входили в контакт только с людьми своего круга. Инородные тела к данному кругу не допускались.
– И что из всего вышесказанного следует?
– А то, что мальчишка из мести убить не мог. Не то сословие, чтобы мстить, как он выразился: «за смерть друга». Из-за девушки – мог! Романтика. Из-за денег, точнее крупного состояния, тоже мог! Вы, кстати, проверьте, не вызывал ли Урицкий к себе на допрос старшего Канегиссера. Ведь наверняка у инженера за рубежом имеются в банках счета на кругленькие суммы. Вполне возможно, ваш Моисей на них-то глаз и положил. Это – причина! А месть из-за друга… Сие из мира фантазий господина Дюма, которые, как вы правильно заметили, юноша придумал в момент ареста. Потому как иной гипотезы на тот момент у него под рукой не имелось. Теперь касательно моего предположения, будто мальчишку подтолкнули к убийству. Ночью в камеру подсадили двух уголовников. Вам об этом, насколько я понимаю, сообщили.
– Тюрьма переполнена. Пришлось вас потеснить.
– Понимаю. – Белый поставил стакан на стол, однако к папиросам притрагиваться не стал. – Только непонятно, зачем они хотели убить мальчика? Ни с того ни с сего. Без причины.
– Вы в этом уверены?
– Абсолютно!
– У вас имеются доказательства?
Полковник развел руками.
– Что вы… У меня есть глаза. Уши. Опыт. Что и подсказало, что тех уголовников совсем не случайно определили именно в нашу камеру. Дальнейшие выводы делайте сами.
Если бы было так просто – сделать выводы.
Полковник прав: блатных к ним в камеру подсадили не случайно. Мало того: подсадили по Варькиному личному распоряжению. Яковлева… Об этом чекисту доложили в докладной записке о происшедшем. Но и это было не все.
За час до прихода полковника с Дворцовой площади, телефоном, сообщили о том, что красноармеец Шматко из охраны комиссариата, который вчера преследовал Канегиссера вместе с чекистами и которого сегодня вызвали вторично на допрос, ранним утром был найден мертвым возле своего дома. Зарезали ночью, когда тот возвращался домой. Ножом в спину. Стянули сапоги, ремень. Обшмонали карманы. Возможно, убийство с целью ограбления. Но что-то с трудом верится в подобное. К тому же второй солдат, Фролов, куда-то запропастился, чтоб его… Вот тебе и загадки. Убийцу пытаются ликвидировать в камере. Свидетели погибают на воле. И вокруг всего этого, словно ведьма, вертится Яковлева. А тут еще Феликс приезжает. Тот самый Феликс, который прислал Варвару. Вот и спрашивается: по чьему велению хотели порешить Канегиссера? По Варькиному или исполняли приказ Москвы?
Бокий вторично пододвинул к арестованному сигареты, сам отвернулся к окну. Ему нужно было, чтобы Белый отвлекся куревом и не обратил внимания на изменения в поведении чекиста.
Глеб Иванович вдруг подумал (и эта мысль обожгла мозг): а с какой стати он решил, будто Дзержинский приедет? Ведь наверняка Феликс на всех порах возвращается в Москву. Конечно, убийство Соломоновича – серьезная причина для его появления в Северной столице, но ведь там совершено покушение на самого Ленина! Ленин и Урицкий – даже смешно ставить их на одну доску.
Но тогда что ж выходит? Получается, покушение на Канегиссера было неслучайным? И он своими действиями отменил распоряжение Дзержинского, которое тот передал Варваре? Да, тут точно можно сойти с ума.
* * *
Урицкий убит. Ленин ранен. Руками правых эсеров русские и союзные капиталисты хотят снять голову с рабочей революции. Пролетариат ответит организованным террором и удвоенными усилиями на фронте. Класс убийц – буржуазия – должен быть раздавлен!
Е.М. Ямпольская«Правда», 31 августа 1918 года.
* * *
За пару домов до жилища бывшего преподавателя Михайловского училища, капитана в отставке Сартакова, Доронин приказал чекисту, управлявшему автомобилем, остановиться:
– Мы с Аристархом Викентьевичем пройдемся. Тут недалеко. А ты обожди.
Пройдя несколько шагов по набережной Невы, на такое расстояние, чтобы шофер не услышал, Демьян Федорович процедил сквозь зубы:
– Никак не могу взять в толк, гражданин Озеровский. Вы что же, ставите под сомнение тот факт, что убийство товарища Урицкого сделано руками контры?
– Нет, не ставлю, – вынужден был выдавить из себя Аристарх Викентьевич. Матрос давил на него своим революционным авторитетом, чем приводил старого следователя в трепет.
– А мне вот кажется как раз наоборот! – чекист с силой сунул руку в карманы галифе, вынул из него сделанный из дерева простенький портсигар, лихо кинул папироску в рот. – Поставить под сомнение мятеж! Не много ль на себя берете? Нет, со многим из того, что вы говорите, я согласен. Согласен, что нужно посмотреть заново дом на Миллионной, тут вы правы. Согласен, что пацан что-то скрывает от нас и у него были сообщники. Может быть, даже из ЧК. Согласен: положили вы на обе лопатки и меня, и товарища Бокия своей логикой. Но поставить под сомнение мятеж, тут знаете ли… – Матрос задохнулся от возмущения. Озеровский промолчал. Поэтому Доронин решил «додавить». – Хорошо, что Глеб Иванович вас не слышал. Впрочем, не факт, что о ваших словах Михайлов не донесет в ЧК.
Озеровский и на сей раз промолчал.
Матрос зло сплюнул на тротуар.
– Вы что, язык проглотили? – Доронин с силой, зло втянул в себя папиросный дым. – И потом: на кой вам ляд сдался Сартаков? Ведь Михайлов четко сказал: Канегиссер ни в каких отношениях с заговорщиками не состоял. А Михайлов – это вам не «Ванька с Моросейки». Комиссар училища, представитель власти!
Доронин в три затяжки прикончил папиросу. Достал вторую.
– Я не знаю, Леонид Канегиссер – контра, как вы выразились, или нет, – наконец услышал Демьян Федорович глухой голос следователя. – Однако что-то мне подсказывает, что причины убийства Моисея Соломоновича лежат совсем в иных, далеких от политики пространствах.
Матрос поперхнулся дымком: ничего себе старик высказался! Чтоб переварить, полдня нужно.
– И где ж они тогда лежат?
– Не знаю, Демьян Федорович. Пока не знаю. Но вы же сами слышали…
– Что я слышал? – вскинулся чекист. – Как вы специально задавали вопросы таким образом, чтобы ответы были в защиту Канегиссера? Это я действительно слышал. И это меня очень удивило! – Доронин схватил следователя за рукав, чуть ниже локтя. – А, кажется, я догадался. Сочувствуете убийце? Дворянская солидарность взыграла, да?
Озеровский тщетно попытался освободить руку. Не получилось. И тогда он сорвался, закричал:
– Милостивый государь! Не сметь! Не сметь приписывать мне то, чего нет в природе! Это во-первых. – Перед носом матроса взлетел тонкий, сучковатый указательный палец. – А во-вторых, я не дворянского происхождения. А даже если бы и был, то ни о какой солидарности с убийцей не может идти речи. Сие противоестественно! Это вы со своим Михайловым поговорите о солидарности классов! Да покрепче, а то заврался ваш комиссар!
Опешивший Доронин отпустил рукав. Подобного от тщедушного старичка он никак не ожидал.
– Простите. – Озеровский обмяк, отвернулся в сторону.
– Да чего там… бывает. – Демьян Федорович глянул по сторонам: не слышал ли кто? Нет, рядом никого не было. Отпустило. Тронул локоть старика. – Так это… Аристарх Викентьевич… Того… Побереги себя. Мало ли чего я гутарю. А у тебя сердце. Я ж знаю, видел, как ты за грудь цеплялся. Только… я тогда совсем ничего не понимаю. Чего ж мы ушли? Чего дальше не стали трясти комиссара? Кивнули б мне, я бы тряхнул Михайлова.
– Зачем? Мы и так все выяснили, – Озеровский развернулся всем телом к коллеге, – Михайлов, сам того не понимая, рассказал нам все. Канегиссер действительно не встречался с мятежниками. Он и не мог с ними встретиться. Потому что мятежа как такового не было.
– Опять? – Доронин сокрушенно развел руками. – Все не угомонишься, Аристарх Викентьевич… А дома у Перельцвейга что, по-твоему, было?
– А разве товарищ комиссар лично посещал квартиру Перельцвейга? Он обо всем узнавал исключительно со слов товарищей из комитета, которые, как я думаю, тоже нечасто проведывали убежище Сельбрицкого, а товарищу комиссару пересказывали то, что узнавали из устных сообщений неведомо кого. А если учесть, что человек – существо лживое и частенько любит приврать или приукрасить, особенно если ему выгодно… – Озеровский едва не захлебнулся от собственной смелости. Раньше он себе такого не позволял: перебивать начальство. Взгляд следователя испуганно поднялся в ожидании большевистского гнева и удивленно замер: Доронин и не думал гневаться. Как ни странно, матрос терпеливо ждал пояснений следователя. И не кривил рот в ухмылке: мол, мели, старорежимник, после я тебя умою, а с нетерпением ждал, ждал с желанием узнать истину. Ту истину, которую молодой сыщик, в силу неопытности профессиональной, а может, и жизненной пока не смог увидеть или услышать, или понять во время разговора. Это импонировало и обезоруживало. Потому Аристарх Викентьевич, выдержав паузу, набрался духу и более четко оформил мысль. – О том, что происходило в квартире Перельцвейга, комиссар знал по доносам своих агентов. А агент – информатор скверный. Поверьте моему опыту. Чаще в его донесениях звучит личный мотив, нежели истина. К примеру, информатор мог проиграться в карты Перельцвейгу. Или поссориться с ним по каким-то личным мотивам. В данном случае информация такого агента не стоит и ломаного гроша. Потому как ее цель – не рассказать о том, что происходило на самом деле, а изыскать возможность утопить объект наблюдения. Но не это главное. Если восстание действительно готовилось, то должны были быть соблюдены простейшие, элементарные аксиомы. И первая из них – конспирация. А вот она-то, по словам комиссара, и была нарушена.
Доронин кашлянул, делая вид, будто поперхнулся. Словами-то какими бросается старорежимник. «Ксиома». Язык сломаешь!
– Мало ли… Проболтались!
– В таком случае позвольте задать вопрос: сколько нужно оружия и людей, чтобы сделать переворот в таком городе, как Петербург? С населением в несколько сотен тысяч душ. Трех револьверов хватит?
– Смеетесь?
– Нисколько. Потому как именно с таким количеством оружия собирались совершить мятеж в Михайловском училище. А теперь вспомните, скольких человек обвинили в заговоре.
– Что-то около двадцати. – Доронин наконец начал понимать, куда клонит Аристарх Викентьевич. И неприятный осадок все более и более тревожил, мутил матросскую душу.
– Двадцать курсантов с пистолетами и пишущей машинкой против Петросовета, ЧК, армии, флота… Бред, – тихо, но достаточно твердо вынес вердикт старик, – полный бред! Отсюда делаю вывод: не было никакого мятежа.
Доронин вынул изо рта еще дымившийся окурок, спрятал его в руке, с силой сжал пальцы. Озеровский вздрогнул, представив ту боль, какую сейчас испытывал матрос. Как физическую, так и душевную. Однако жалеть не стал.
– Демьян Федорович, вы же опытный человек. Военный человек. Сами делали такую революцию. Фактически создали вторую Францию. И кому, как не вам, знать, как совершают переворот. А в данном случае имел место спектакль. Грязная, кровавая трагедия с непонятной конечной целью. Может, сведение счетов, – выдвинул предположение следователь. – А может, желание получить таким образом повышение. По службе. К примеру, того же Михайлова.
– А вот это ты, господин следователь, загибаешь… – Демьян Федорович, все еще находясь в состоянии раздрая, с силой надавил голосом. – Не мог комиссар так поступить! Это тебе не при старом режиме… Чтобы большевик да уподобился вашему брату… Врешь! Понял?
Доронин поднял на следователя взгляд, переполненный болью:
– И ты мне тут байду не трави! Мы, большевики, не для того вас, краснорожих, потеснили, чтобы потом вашими же паршивыми делишками заниматься. Мы новый мир пришли творить! Ясно? А потому нам с вашими понятиями не по пути!
Недавно слегка расправившиеся плечики Озеровского вновь поникли. Аристарх Викентьевич оправил костюм, вялым движением нацепил на переносицу пенсне. Развернувшись, мелкими шажками побрел в сторону автомобиля.
– Вы куда? – подобной реакции от собеседника Доронин никак не ожидал. – Нам в другую сторону!
– Не вижу смысла в дальнейшем общении с гражданином Сартаковым. Ведь вы для себя уже сделали выводы. Считаю целесообразным прекратить дальнейшее расследование и закрыть дело.
– Ишь, как запел… – Доронин закрыл глаза, с силой втянул сквозь ноздри как можно больше воздуху, с шумом выдохнул, в голос выматерился. Полегчало. – Обиделся, Аристарх Викентьевич? Не понравилось, как с тобой разговаривают? А знаешь, как с моим братом, при царе, балачки вели? В морду, без разговоров, хрясь – и все дела! Да так, чтобы юшка из носопырки – да на палубу! А опосля сам ту палубу от своей крови драишь, чтоб блестела! А мы тут цацкаемся, все уговорить пытаемся. Убедить… Мать вашу… Словом, так, сатрап недобитый, – неожиданно закончил речь чекист, – или идешь со мной к этому самому… Сра… Словом, к тому мужику, и доводишь дело до конца либо собирай монатки и дуй из Чеки на все четыре стороны! И чем дале – тем лучше!
Озеровский резко развернулся, с силой сжал кулачки:
– Попрошу со мной в таком тоне не разговаривать! – слова с шипением выплеснулись наружу. – Я в сыске более тридцати лет. Верой и правдой! И мне было все едино – кого защищать: голубую кровь или вашего брата пролетария. Потому как преступники для меня всегда были, есть и останутся отбросами общества. Кто бы они ни были: дворяне, купцы, студенты, как Канегиссер, или комиссары вроде вашего Михайлова. Если человек совершил преступление, под любой личиной, для меня он никто. И ничто! Понятно?
Матрос сделал шаг назад, долгим, более внимательным взглядом взглянул на коллегу и неожиданно широко улыбнулся:
– Понял. Не дурак. Так что, идем, али как?
Озеровский хотел добавить еще пару слов, но только тряхнул головой: все-таки этот матрос был ему симпатичен.
– А не боитесь, что Сартаков наговорит нам такого, что вам не понравится? Он ведь тоже из старорежимных. И наверняка из обиженных.
– Ничего, – отмахнулся чекист, – ради дела потерпим.
* * *
Белый кинул шинель на топчан, но ложиться не стал, присел.
Канегиссер, сидя на топчане в любимой позе, прижав к голове колени, ждал, когда сокамерник заговорит. Тот молчал, не замечая нетерпения молодого человека. Долго ждать студент был не в силах и поэтому быстро переместился на край нар:
– Ну что? Как?
Полковник поднял взгляд на юношу:
– Что как?
– Допрос как?
– Никак.
– То есть? – Студент с недоумением уставился на Белого. – И что, не спрашивали о ночном происшествии?
– А зачем? – Уголки губ Олега Владимировича слегка опустились то ли в улыбке, то ли в усмешке. – Тоже мне, происшествие. Вот то, что вы натворили, – да. А это…
– Но как же? – продолжал недоумевать Канегиссер. – Неужели им неинтересно знать, зачем тот бугай хотел меня…
– Вы что – идиот? – неожиданно резко произнес полковник. – До сих пор не понимаете, что детство закончилось? Месть за друга! Ха-ха-ха! Интересно – неинтересно… Да поймите, в конце концов. Вы – труп! Неужели до вас еще не дошло? – Олег Владимирович склонился над юношей. – Ночью была первая попытка. Завтра будет вторая, третья. И так до тех пор, пока ваше никчемное тело не упакуют в деревянный ящик.
– Нет… – Щеки молодого человека задрожали то ли от страха, то ли от гнева. – Такого не может быть! А суд? Обязательно должен быть суд.
– Вы действительно кретин, – на этот раз Белый горько усмехнулся. – Вас потому и хотят ликвидировать, чтобы вы не дожили до суда. Кому нужен убийца-свидетель, тем более носитель опасной информации?
– Не могу в это поверить! – Губы молодого человека пересохли, потому он их постоянно облизывал. – Они обещали. Гарантировали!
– Кто? Те, кто надоумил вас? – Олег Владимирович упал на нары. – Можете не сомневаться: они первыми заинтересованы в вашем молчании.
– Что же мне делать? – Канегиссер бросил испуганный взгляд на сокамерника. – Как быть? Ведь… Нет, так невозможно! Чтобы вот так… Они обещали!
– Да заткнитесь вы! – Белый не сдержался, выругался.
Юноша вскочил на ноги, сел, снова вскочил.
– Я не хочу умирать! Я хочу жить! Хочу творить! Жить! – Губы молодого человека мелко задрожали. На глазах появились слезы. – Мне страшно.
Олег Владимирович хотел отвернуться, дабы не видеть соплей убийцы, но в сердце кольнула неожиданная мысль: «А ведь он чуть старше моего Сашки. Года на три. Такой же нескладный. Такой же неприученный к жизни. Поэт… Саша тоже писал стихи. Пытался. Хотел опубликоваться. Не успел». «А ведь кто-то вот так же, как я, наверное, сидел рядом с ним, когда он умирал, – более глубоко кольнула другая мысль, – и ничем не помог. Тот умирал, а он смотрел. И, может быть, точно так же разглагольствовал по поводу того, как глупо ведет себя молодежь. Суки! – Белый резким движением, которое причинило боль, встал с нар. – Все суки! И те! И эти! И я в том числе! Мальчишка-то мне чем не угодил? Что ты на нем злость срываешь? Если бы Керенский сидел в этой камере, придушил бы. А этот…»
Глаза полковника наткнулись на дальний, верхний угол тюремной норы, в котором чернело пятно от снятой большевиками иконки: господи, поскорее бы все закончилось!
– Вы говорили, что вам сразу после убийства обещали помочь скрыться? – Белый и сам не понял, как у него с уст сорвались слова.
– Да. – Канегиссер вскинул на сокамерника мокрое от слез лицо.
«И когда он успел распустить нюни?» – удивился Олег Владимирович, но тут же забыл, о чем подумал.
– А на самом деле?
– Они мне… – Мальчишка снова расплакался.
– Перестаньте ныть. – Белый брезгливо поморщился. – Лучше припомните в деталях, как все было? Успокоились? Молодец. Итак?
– Я воспользовался черным ходом. Как и обещали, он был открыт. Добежал до нужной квартиры, – запинаясь, быстро заговорил Леонид. Он почувствовал: старший товарищ не случайно задает вопросы. Неужели есть шанс? Хоть малейший? – Но дверь оказалась заперта. Понимаете? Я дергаю, а она ни в какую… Кинулся к другой двери. Та оказалась открыта. Я вбежал. Хотел пройти в комнату, чтобы потом воспользоваться окном, но меня не впустили! Понимаете, не пустили! – едва не в истерике выкрикнул Леонид. – А ведь мы договаривались! Вышвырнули, как шавку, в коридор. Кинули в меня пальто, вытолкали в парадное, закрыли дверь перед самым носом. Я стал стучать, но никто не открыл. А внизу шаги – чекисты. Стало страшно. Я даже не мог думать, соображать. Бросился ко второй двери. В ту самую квартиру, дверь в которую с черного хода оказалась закрыта.
– То есть в ту квартиру, о которой вы договаривались? – уточнил Белый.
– Ну да. Принялся стучать. Слышу шаги. Хозяин дверь приоткрыл, а та на цепочке. И цепочка такая толстая, не вырвать. А внизу шаги. Оглянулся посмотреть, далеко ли погоня, – дверь захлопнулась. Накинул на себя пальто. А куда бежать? Бросился вниз, по лестнице, думал, не узнают. Но тут начали стрелять. Кинулся к ходу на чердак. Он оказался закрытым…
– Стрелять начали чекисты?
– Наверное… Не знаю. Помню, пуля пролетела рядом, ударилась в стену. Я кинулся наверх.
– Рядом как?
– Едва не задев ухо. – Мальчишеская тонкая рука непроизвольно приподнялась, тронула мочку левого уха. – Прямо перед лицом пролетела. В стену ударилась. До сих пор чувствую, как у меня все внутри одеревенело от ужаса. Потом раздались еще выстрелы.
– Камешками по лицу хлестнуло?
– Что?
– Спрашиваю: осколками стены от удара пули по лицу ударило?
– Нет.
– Понятно. Когда прозвучал первый выстрел, вы спускались по лестнице?
– Да.
– Не слышали, в тот момент дверь открывалась вторично?
– Какая дверь?
– Любая.
– Вроде нет. Не помню.
– Лица преследователей видели?
– На лестнице было темно. К тому же сетка шахты лифта мешала что-то рассмотреть.
– Что ж, молодой человек, могу вас поздравить. В камере вас пытались убить вторично после неудачной попытки в доме на Миллионной. Что так смотрите? В вас стреляли люди, которые сподвигли вас на убийство господина Урицкого. Теперь понятно, почему у нас появились гости.
Голова Леонида упала на грудь, которая стала сотрясаться от рыданий.
– Мне сказали, чтобы я, в случае если меня арестуют, молчал, – шмыгнул носом мальчишка, – обещали, что вытянут отсюда.
– Как сегодня ночью? – едко заметил Белый. – Кстати, какого лешего вы согласились убегать по Миллионной?
– Мне сказали, это самый идеальный вариант.
– Для самоубийцы. «Мне сказали, мне сказали…»
Олег Владимирович только теперь пожалел, что не воспользовался возможностью и не угостился папиросой у Бокия. Курить хотелось нестерпимо.
– Вот что, молодой человек, советую сделать неожиданный ход. Тот, кто вас не впустил, связан с теми людьми, кто вам гарантировал жизнь. Вот и введите этого человечка в круг расследования. И введите так, чтобы его арестовали без согласования с руководством ЧК, я имею в виду того комиссара, который вас допрашивал.
– То есть? Простите, не понял.
– У вас есть с собой деньги?
– Да, вот… – Юноша вытащил из кармана несколько смятых купюр.
– Достаточно. Все проще, чем вы себе представляете. – Олег Владимирович взял со стола книгу, томик Короленко, принесенную в камеру из тюремной библиотеки и оставленную прежними жильцами каменного мешка, принялся ее перелистывать. – Если вы сообщите следователю о том, что действовали не в одиночку, вам останется жить максимум до вечера. Не более. Потому как с подобного рода информацией любой служака первым делом бросится к кому? Правильно, к начальству. Как же: раскрыт заговор! Убийца действовал не один! Цепочка! И вот тут вам придет конец.
Рука Белого потянула последний, чистый лист книги, безжалостно вырвала его:
– А вы поступите иначе. Сообщите о своем сообщнике так, чтобы его допрос произошел, как бы сказать, незаметно. Вроде само собой разумеющегося факта. Поняли?
– Нет. – Канегиссер отрицательно замотал головой.
– И Бог с ним. После поймете, – полковник положил лист на стол, сверху припечатал его карандашом, – пишите.
– Что? – Молодой человек присел к столу.
– Фактически приговор хозяину той квартиры, в которую вас не пустили.
– Но… Это подло!
– А то, как они с вами поступили, не подло?
– Но я не желаю быть похожим на них.
– И не будьте. Вы же сами говорили, будто ваш самый любимый литературный герой граф Монте-Кристо. Вот и исходите из того, как бы поступил он на вашем месте. Неужели подставил бы другую щеку?
– Скорее всего, отомстил.
– Вот и вы мстите. Впрочем, действуйте, как вам заблагорассудится.
Взгляд Белого метнулся к нарам, Леонид это заметил.
– Я согласен.
– Пишите следующее.
Белый дал себе несколько секунд на обдумывание, после чего принялся диктовать.
Через пять минут на столе лежал текст со следующим содержанием:
Уважаемый гражданин!
30 августа, после совершенного мной террористического акта, стараясь скрыться от настигавшей меня погони, я вбежал во двор какого-то дома по Миллионной ул., подле которого упал на мостовую, неудачно повернув велосипед. Во дворе я заметил направо открытый вход на черную лестницу и побежал по ней вверх, наугад звоня у дверей с намерением зайти в какую-нибудь квартиру и этим сбить с пути моих преследователей. Дверь одной из квартир оказалась отпертой. Я вошел в квартиру, несмотря на сопротивление встретившей меня женщины. Увидев в руке моей револьвер, она принуждена была отступить. В это время с лестницы я услышал голоса уже настигавших меня людей. Я бросился в одну из комнат квартиры, снял с гвоздя пальто и думал выйти неузнанным. Углубившись в квартиру, увидел дверь, открыв которую оказался на парадной лестнице. Оказавшись на площадке, я постучал в дверь другой квартиры. Хозяин дверь открыл, однако внутрь меня не впустил.
На допросе я узнал, что хозяин квартиры, в которой я был, арестован. Этим письмом я обращаюсь к Вам, хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня для совершенно незнакомых мне людей, не пришла мне в голову.
Воспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня. В оправдание свое не скажу ни одного слова и только бесконечно прошу Вас простить меня!
Л. Канегиссер.Белый еще раз прочитал написанное, после чего удовлетворенно проговорил:
– А вот теперь пусть у них голова трещит от вопросов. Зовите охрану. Дайте ему деньги и попросите отнести записку на Миллионную. В дом номер…
– Семнадцать.
– Квартира?
– Я не помню номер квартиры. Хозяин – какой-то старик. А этаж второй.
– Вот и попросите передать записку старику со второго этажа.
Полковник, кряхтя, перебрался на нары. Прилег.
– А если не получится? – робко произнес юноша, сжимая в руке послание.
– Получится, – уверенно отозвался Олег Владимирович, прикрывая рукой глаза, – и результат вы вскоре увидите. Нет, даже не так. Почувствуете.
* * *
Отставной капитан проживал на последнем, пятом этаже. По этой причине едва чекисты добрались по крутой лестнице до верха, Озеровский, прижав ладонь к сердцу, взмолился:
– Подождите стучать. Дайте отдышаться.
Легкие старика с хрипом протягивали через себя живительный кислород. Лицо Аристарха Викентьевича стало бледным.
«Как у покойника, – мысленно сравнил матрос. – Ему б отлежаться, а он… А иначе как? Жрать-то надо. Ходить не будешь – сдохнешь. Вот она, жизня…»
Доронин специально отвернулся в сторону, склонился над перилами лестницы. Ему стало жаль старика. Вспомнился отец. Тоже вот так пустоту глотал. В кузнечном цеху работал, там все внутренности и сжег.
– Я готов. – Следователь прокашлялся, как бы ставя точку.
Демьян Федорович первым подошел к нужной двери, с силой грохнул по ней кулаком.
За той стояла тишина.
– Кажется, никого нет дома, – веско заметил Доронин. – Аристарх Викентьевич, а почему мы не поехали к Литкову? Нам ведь и сам Михайлов его советовал.
– Именно потому и не поехали, – слова вылетали из грудной клетки старика с хрипом. – Слишком настойчиво товарищ комиссар советовал нам Литкова. А о Сартакове сболтнул сгоряча, потом прикусил язык. Судя по всему, Сартаков знает поболе, нежели господин Литков.
– Тогда иное дело.
Доронин еще раз ударил по двери, крикнул:
– Кто есть дома? Нам нужен Сартаков!
За дверью еще несколько секунд стояла тишина, после чего раздался мужской голос:
– Кто такие?
– ЧК! Открывайте!
За дверью что-то заскрежетало. После чего донеслось:
– Покажите мандат.
– А как я его покажу, ежели дверь закрыта? – аргументировал матрос невидимому оппоненту.
– К замочной скважине поднеси.
Доронин помянул нечистого: вот ведь какое недоверие у людей проявляется в последнее время. Однако ломиться в дверь не стал, извлек из кармана документ.
– Глядите! – Клочок исписанного листа развернулся в руках чекиста напротив дверного замка. – Прочитали? Теперь открывайте!
Спустя секунду послышался металлический звук, после чего дверное полотно отошло в сторону. В образовавшемся проеме появилась взлохмаченная седая шевелюра.
– Чем обязан?
– Бывший капитан Сартаков? – Доронин спрятал документ в карман пиджака.
– Предположим. – Хозяин шевелюры недоверчиво рассматривал гостей.
– Вы преподавали в артиллерийском училище? – уточнил на всякий случай Озеровский.
– Было такое. Только я ушел из училища. Еще в июле.
– В таком случае мы к вам.
Аристарх Викентьевич первым сделал шаг вперед, прошел внутрь квартиры отставного капитана. Тому более ничего не оставалось, как пропустить вслед за стариком и матроса.
Обстановка жилища отставника оставляла желать лучшего. Одна комнатенка с кроватью в углу, круглым столом по центру, двумя стульями, на которых лежала одежда хозяина жилища. В углу, ближе к двери, примостились вешалка и старая, облезшая этажерка.
Сам хозяин мало чем отличался от комнатной обстановки. Помятый, видно, с перепоя, с красными глазами, небритый, в офицерском галифе снизу и суконном исподнем сверху.
Озеровский, оглядевшись и убедившись, что допрос придется проводить стоя, задал первый вопрос:
– Гражданин Сартаков…
– Алексей Васильевич, – отозвался капитан.
– Алексей Васильевич, нас интересует личность одного вашего курсанта.
– Канегиссера?
– Почему вы решили, что нас интересует именно он?
– Бросьте, – отмахнулся бывший военный, – весь Петербург полон слухов. Я вчера вечером уже знал о том, что сын инженера застрелил начальника ЧК.
– И? – задал самый неожиданный вопрос Доронин.
– Что «и»? – не понял капитан.
– И что думаете по данному поводу?
– Ничего. – Рука отставного военного прошлась по шевелюре. – Мне-то какое до всего этого дело?
– Интересная позиция, – процедил сквозь зубы Демьян Федорович. – Получается, стреляй кого хочешь, а наша хата с краю?
– А с чего это она должна стоять по центру? – Капитан прищурился. – Я в ваши игры не играю. Мне своих забот хватает.
– Убийство руководителя сыска – не игрушки, – веско заметил, в свою очередь, Озеровский. – И так было во все времена.
– Вам виднее, что игрушки, а что нет, – тут же отреагировал капитан. – Только меня к данному делу примазывать не надо. Уже пытались две недели тому назад привязать к делу о мятеже. Слава богу, нашлись и среди вас умные люди. Разобрались.
– А что вы такими словами бросаетесь: примазать, привязать… Несолидно, Алексей Васильевич.
– А где вы сегодня наблюдаете солидность? – парировал хозяин комнаты. – Да что там солидность! Простую порядочность давно видели? Лично я забыл, что сие означает.
– Пустое, – выдохнул Озеровский, – давайте вернемся к цели нашего визита. Итак, что вы можете сообщить о Канегиссере?
– А что вас интересует? Как о личности ничего сказать не могу. Серое пятно в памяти. А как курсант… Худшего экземпляра за все годы службы у меня не было. Да, наверное, уже и не будет.
– А что так?
– Моя задача состояла в том, чтобы научить курсантов стать артиллеристами, а не кисейными барышнями. А из вашего Канегиссера я, как ни старался, артиллериста сделать так и не смог. Вообще по сей день не понимаю, для чего он пришел в училище. Дисциплине подчиняться не желал. Все время ходил какой-то нервный, дерганый. На своих занятиях я его ни разу не видел. Думаю, и других преподавателей он игнорировал. Только политикой и занимался. Видать, на иное Бог способностями обделил.
– А вот с этого места поподробнее, – заинтересовался Доронин.
– А что подробнее? Все в училище знали, что до того, как стать курсантом, Канегиссер служивал у Керенского. Кажется, секретарем. Или советником. Не знаю. И не интересовался. Хотя какой из сопляка советник? Но суть не в том. Пробыл он у Александра Федоровича недолго. Как мне говорили, что-то около месяца. Не помню, кто из них кому не понравился, однако вскоре Канегиссер монатки от Керенского забрал. А тут закон вышел об уравнивании евреев в правах для производства в офицеры. Вот он и подался к нам. Только вместо того, чтобы изучать воинское дело, тут же занялся политикой.
– Он состоял в какой-то партии? – поинтересовался Демьян Федорович.
– Может быть… Я такими подробностями не интересовался. А вот председателем Совета училища благодаря длинному языку его избрали. Все бегал по заседаниям да собраниям. Агитировал. Не курсант – сплошное недоразумение. Полгода пробыл и сбежал! Погоны ему, видите ли, захотелось иметь. А по весне ранги отменили! Вот тогда-то нутро ейное и проявилось! Вмиг деру дал. Да и не только он.
– Я так понимаю, вы не очень-то хорошо относились к Канегиссеру, – заметил Аристарх Викентьевич.
Доронин молчал, чувствовал: раскрутить капитана сможет только старик.
– Не очень хорошо… – усмехнулся отставник, – мягко сказали. Противен он мне был, понятно? Про-ти-вен! – по слогам добавил Сартаков.
– И в чем выражалась причина вашей неприязни?
Алексей Васильевич бросил взгляд на матроса, после чего негромко проговорил:
– До появления этого сопляка в наших казармах понятия не имели о «греко-римской болезни». Нет, знать-то, конечно, об этом знали, но чтобы применять в деле… А как эта б… Простите, курсант Канегиссер появился, такое началось… Впрочем, что вспоминать. Прошло и забыто. Тем паче одних уж нет, и этого вскоре тоже шлепнут.
– То есть вы хотите сказать, – Озеровский сам с трудом верил в то, что сейчас говорил, – будто курсанты Михайловского училища занимались…
– Даже не произносите этого слова! Да, да, да, именно сие я и имел в виду! – брезгливо отрезал хозяин дома. – Простите за несдержанность, мне противно вспоминать обо всем происшедшем. Кстати, ту заразу в училище принес он с Сельбрицким.
– Перельцвейгом, – автоматически поправил Озеровский.
– Вот-вот. – Отставной капитан облизнул пересохшие губы. – Правда, о том, что Сельбрицкий этот на самом деле Перл… Переел… И не выговоришь! – Хозяин квартиры сплюнул на пол. – Словом, узнал на допросе, две недели назад.
– А как думаете: для чего Перельцвейг пришел в училище под другой фамилией? Собственной стыдился?
– Если бы… Тут по-другому следует поставить вопрос: с какой целью пришел учиться в военное училище уже получивший образование кадровый военный? Во как! У меня-то глаз наметанный. Сразу понял: Сельбрицкий ранее прошел воинскую подготовку. Причем квалифицированную. Качественную. Кстати, в училище он тоже появлялся время от времени, как и его однополый дружок. И я его понимаю: скучно заниматься на одном уровне с необстрелянными мальчишками.
Озеровский бросил взгляд на Доронина. Тот понял: все-таки придется копаться в бумагах.
– Давайте вернемся к Канегиссеру. Скажите, Алексей Васильевич, Канегиссер хорошо владел оружием? Я имею в виду револьвер?
– Ленька-то? – В голосе отставного капитана прозвучала ирония. – Не смешите! Он и оружие – понятия несовместимые!
– Исходя из последних событий, я бы так не сказал, – парировал следователь.
– Случайность, – отмахнулся Сартаков, – в тире Канегиссер показывал самые отвратительные результаты.
– А в вашей практике имел место случай, когда человек, плохо владеющий оружием, мог убить с первого выстрела?
– И не один.
– Так, может, и тут такой случай?
Сартаков почесал затылок:
– Бес его знает.
– А как думаете: Канегиссер мог пойти на преступление из мести?
Капитан задумался.
– Сомнительно. Конечно, повторюсь, Леонид – человек вспыльчивый. Нервный. Плюс изнеженное воспитание: романтика, поэтика и все прочее. Но чтобы убить… Знаете, – Сартаков вскинулся, – может, я не прав, но, мне кажется, Канегиссер из категории трусов.
– Аргументы?
Капитан бросил недоверчивый взгляд на Доронина.
– Не беспокойтесь, – Озеровский догадался, о чем подумал отставной военный, – Демьян Федорович занимается расследованием убийства Урицкого, а не мятежом в училище. Сейчас идет стандартная процедура: сбор информации об убийце.
Сартаков провел рукой по крепкой загорелой шее.
– Что ж, коли так… Год назад, осенью, когда ваши брали Зимний, рота моих курсантов охраняла Временное правительство. – Капитан заметил удивленный взгляд чекиста, хмыкнул. – Можете не докладывать своему руководству. Там и без вас знают: сам рассказал, две недели тому назад. Так вот, в оцеплении должен был стоять и Канегиссер. Однако его с нами не было. Причем что удивительно: ко дворцу шел вместе со всеми. В строю. А в Зимнем его недосчитались, – Сартаков рассмеялся, хлопнув себя по ляжке, – исчез! Испарился! Потом что-то врал по поводу здоровья, недомогания. Лично я ему не верил. Трус и трепло! Более ни на какие мероприятия его не брали. Даже в караул не ставили. Не доверяли. А вскоре он вообще покинул стены заведения. Больше я его не видел.
Озеровский мысленно отметил данный факт.
– А как вы поняли, что Канегиссер… того? Ну, вы меня поняли…
– А тут и понимать было нечего. Они со Сельбрицким даже не скрывали, кто есть что. – Сартаков не сдержался, вторично сплюнул на пол. Отчего Доронин даже поморщился: у него в доме такого никто и никогда себе не позволял. – Везде вместе ходили. Птенчики… Мать их…
Едва чекисты вышли из подъезда, как Доронин заговорил:
– А все-таки прав оказался Глеб Иванович. Занимался Канегиссер политикой. Вот она, контрреволюция! Вот откуда истоки! Так сказать, ее душок! И у Керенского служил. И Зимний должен был охранять. Потому-то и мстил…
– Что ж, – вставил свою реплику Аристарх Викентьевич, пряча руки в боковые накладные карманы, – по поводу мести я, пожалуй, с вами соглашусь. По крайней мере теперь ясны некоторые мотивы, которыми руководствовался убийца.
– Убедились в происках контрреволюции? – осклабился Доронин. А таки утерли старику нос.
– Да нет, Демьян Федорович. Мотивация как раз была иная. И я думаю, комиссар Михайлов о той мотивации знал. Как, впрочем, знал он и о Канегиссере. Самого его, конечно, мог в глаза не видеть, но то, что о нем знал, слышал, – факт.
Матрос застопорил ход.
– Я снова все не так понял? Или мне показалось, что вы хотите, чтобы мы перевернули дело о мятеже в училище?
– Нет, как раз это вам не показалось – Теперь Озеровский тронул локоть чекиста. – Я действительно думаю просмотреть протоколы допросов трибунала. И, скорее всего, мы там найдем много интересного, связанного с фигурой покойного гражданина Перельцвейга. Действительно, непонятно: для чего, по какой причине Сельбрицкий, имея военное образование, пришел учиться на начальный этап в артиллерийскую школу? Опять же именно у него на квартире происходили «посиделки». Именно через него курсанты получили оружие. С одной стороны, это действительно похоже на подготовку к мятежу. А потому версию о «контрреволюционном мятеже» отбрасывать не станем.
Доронин слушал Озеровского и никак не мог сообразить, куда тот клонит.
– Но у нас, Демьян Федорович, судя по всему, определилась и вторая версия. Помните, совсем недавно я говорил о том, что лежало в основе мести Канегиссера. Теперь могу сказать: кажется, я был не прав.
– И что же там лежало? – поинтересовался матрос.
– Близкие отношения между двумя молодыми людьми – Канегиссером и Перельцвейгом.
– Дружба, что ли? Так вы сами говорили, ради дружбы Канегиссер на убийство бы не пошел. Ради денег – да. Из ревности – да. А из дружбы…
Озеровский глянул на коллегу смущенным взглядом.
– Именно, Демьян Федорович. Не дружба.
– А что же тогда?
Теперь Озеровский смотрел на Доронина с удивлением:
– Вам что, ничего не известно о «греко-римской болезни»?
– Нет.
Губы следователя тронула улыбка.
– И вы никогда не слышали о гомосексуализме?
– О чем?
– Понятно. Ну, а такое слово, как «педераст», надеюсь, вам знакомо?
– Ну, это… Это ж понятно! Если надо, мы и не так можем матюкнуться, – Доронин замер, – то есть… Вы что, хотите сказать, Канегиссер того… Пидор?
– И Перельцвейг тоже, выражаясь народным языком. Если, конечно, верить словам Сартакова.
Опешивший матрос долго чесал подбородок крепкой, мозолистой рукой.
– Ничего себе! Я-то думал, это так говорят, за ради словца. Чтоб, значит, пообиднее сделать. Так, чтоб достало… А тут… Это ж как? Мужик мужика, что ли? – Озеровский утвердительно кивнул головой. На лице матроса проявилась гримаса брезгливости. – И такое бывает? Е… Тьфу! – смачный плевок упал на камень. – Никогда б не подумал… А если капитан врет?
– Сартакову нет смысла врать. Канегиссер для него – никто и ничто. Пустое место. Ему нет смысла его выгораживать. Но слова капитана точно падают под признание студента. Теперь все становится на свои места. Из-за простой, мужской, понятной дружбы Канегиссер пойти на убийство не мог. Не то воспитание. А вот по причине страсти, особенно любовной, интимной, – иное дело. Хотя и тут сам собой напрашивается вопрос: почему студент не отомстил сразу, как только узнал о казни? В порыве эмоций? В тот же день? Почему ждал две недели? Кто или что заставило его повременить с отмщением? Вот на эти вопросы Канегиссер нам ответа не даст, Демьян Федорович. Потому как ни за что не признает, будто виной всему стала противоестественная связь. Так что придется нам рыть, что называется, более глубоко. И в первую очередь меня интересует: где и с кем последние две недели проживал гражданин Канегиссер?
* * *
Глеб Иванович, предъявив караульному мандат, который тот очень долго вычитывал, миновал одну из двух входных арок, ведущих в парк, и скорым, нервным шагом прошел к центральному входу в Смольный.
По обеим сторонам парадной двери, на мешках с песком, возвышались пулеметы «максимы», возле которых круглосуточно дежурили парные смены караула, состоящие только из матросов Балтики. Охранять свою жизнь другим руководитель Петросовета товарищ Зиновьев не доверял. Вот не было у него доверия к красноармейцам. Да и к чекистам он относился с предостережением. Была б его воля, взял бы под себя и ПетроЧК. Да в железный кулачок, чтоб не пискнули.
Бокий второй раз предъявил мандат. Впрочем, матросы на него не обратили внимания. Там, внутри, было еще несколько усиленных постов, на каждом этаже. Они и проверят. А их дело маленькое: стой да жди, когда можно будет нажать на гашетку.
Глеб Иванович, миновав тройную проверку, наконец попал в приемную Зиновьева, но и тут его ждала неприятность. Григорий Евсеевич, как старорежимно выразился секретарь, сейчас «принять не в состоянии».
Бокий чертыхнулся:
– У него кто-то есть?
– У товарища Зиновьева всегда есть посетители, – отчеканил новый помощник председателя Петроградского совета комиссаров, коих Григорий Евсеевич менял, будто тасовал карты, – мальчишка лет семнадцати, надувшийся от своей значительности.
– Кто у него? – Глеб Иванович тяжело опустился на стул, закинув ногу на ногу.
– Товарищ Яковлева и некий иностранец.
Яковлева. Желваки на скулах чекиста непроизвольно дернулись. Варька. Сегодня Варвара Николаевна не появилась ни на Гороховой, ни в «Крестах». Собственно, ничего необычного в том не было: «стерва» всю ночь занималась бандитским нападением на кооператив Военно-промышленного комитета, имела право на отдых. И в том, что она сейчас находится у Зиновьева, тоже нет ничего странного: тот мог ее вызвать к себе. Необычно другое: Варвара «забыла» поинтересоваться судьбой Канегиссера. Ни звонка, ни посыльного. По крайней мере официально. Неужели так уверена в себе?
Кулаки Бокия непроизвольно сжались.
– Что за иностранец?
Мальчишка, не удостоив чекиста ответом, принялся просматривать бумаги, явно игнорируя присутствующего одного из руководителей ПетроЧК. Подобного отношения к себе Бокий позволить не мог. Глеб Иванович резко встал, оправил полы кожаной тужурки, ринулся к двери.
– Вы что? – вскинулся молодой человек, пытаясь загородить собой путь. Не успел.
Бокий крепко взялся за медную, блестящую от множества прикосновений ручку, с силой рванул на себя дверное полотно. Спустя мгновение он уже был внутри кабинета Зиновьева.
Юноша ввалился вслед за ним.
– Товарищ комиссар, – голос секретаря перешел на визг, – я сказал, что вы заняты, а он…
Все: и Зиновьев, сидящий в центре комнаты, за дубовым столом, и Яковлева, которая разместилась в углу, на кожаном диване, и иностранец, что стоял перед столом комиссара, – дружно обернулись на крик.
Бокий моментально оценил обстановку. Не обращая внимания на вопли помощника, прошел к дивану, сел рядом с Варварой Николаевной.
Зиновьев поморщился: только скандала не хватало. И именно сейчас, когда притащился этот назойливый американец из консульства САСШ[27]. Григорий Евсеевич взглядом заставил секретаря замолчать и покинуть помещение. После чего председатель Совета, даже не взглянув на Бокия, продолжил разговор с иностранцем, который неплохо владел русским языком:
– Итак, вы утверждаете, будто ваши сотрудники не имели и не имеют никаких сношений с представителями контрреволюционных организаций Петрограда?
– И не только сотрудники. А также и простые граждане моей державы, которые в силу различных обстоятельств оказались в вашей стране в столь неприятный исторический период. Неприятный для них, – тут же тактично уточнил иностранец. – На данный момент наше правительство озабочено тем, чтобы они как можно скорее покинули Россию. Поэтому мы просим оказать помощь в выяснении того, не находится ли кто из них, конечно по недоразумению, в ЧК. И если таковые найдутся, просим их выпустить и предоставить возможность для отъезда в Штаты.
– Но у меня нет таких данных… – начал оправдываться Зиновьев, но представитель консульства счел необходимым перебить:
– Мы прекрасно вас понимаем, уважаемый господин Зиновьев. Вы представляете молодое государство, которое только становится на ноги…
Бокий отметил, что американец ведет себя решительно и сдержанно. «Видимо, получил установку», – догадался Глеб Иванович. К тому же янки прав: в камерах на Гороховой и в «Крестах» действительно сидело несколько его соотечественников, которых «приплюсовали» к арестованным немцам и англичанам во время проведения скандального «дела послов». Конечно, их следовало отпустить. Но вот по какой причине – вопрос. К тому же никто не хотел, чтобы после их освобождения по Европе пронеслась волна слухов и россказней о застенках ЧК.
Теперь, судя по всему, повод для освобождения нашелся. Консульство просит. Как не пойти навстречу?
Зиновьев поднялся со своего кресла, прошел к дипломату, протянул руку:
– Мы займемся вашим вопросом в самое ближайшее время. И, как только получим положительный ответ, тут же сообщим!
Руки сплелись в пожатии.
«Все, – решил для себя Глеб Иванович, – теперь несколько дней уйдут псу под хвост».
Председатель проводил американца до дверей. Едва тот покинул кабинет, плотно прикрыл створки.
– Слышали? – Зиновьев, возвращаясь к столу, кивнул на дверное полотно. – И вот так каждый божий день. Просильщики. Плакальщики. Поручители. Кстати, господа чекисты, – Григорий Евсеевич последние слова произнес с явным сарказмом, – а что вы молчите? Не реагируете?
– А что говорить? – первым отозвался Бокий. – Есть у нас американцы. Ждут приговора. Не много, но имеются.
– Без вас знаю, что имеются, – отрезал председатель, усаживаясь в кресло. – Почему до сих пор ждут? Почему до сих пор не отпустили или не приговорили?
– Времени не было, – сказал первое, что пришло на ум, Глеб Иванович.
– Зато теперь найдется. – Григорий Евсеевич нервно похлопал узкой ладошкой по крышке стола. – Слышали, кем грозил? Троцким! Они, видишь ли, близко знакомы по эмиграции.
– Мало ли кто с кем знаком, – с неприязнью отозвался чекист.
– Мало! – принялся выплевывать слова Зиновьев. – Словом, так: международного скандала допустить нельзя, и без того обстановка накалена до предела. Проверьте все дела. И немедленно! Сегодня же! Ночью. Все, что у вас есть по американцам, ко мне! – Удар рукой по столу. – Ясно? И проследите, чтобы все вещи арестованных были в наличии. Не хватало, чтобы нас еще в мародерстве обвинили.
Желваки на скулах Глеба Ивановича заиграли.
– А к чему проверять дела? Отпустить, да и вся недолга.
Зиновьев тут же стрельнул глазами в сторону Варвары Николаевны, чем подтвердил подозрения Бокия.
– Ты, Глеб Иванович, подчиняешься Петросовету? Вот и выполняй его распоряжения. Мы официально, слышишь, официально должны их выпроводить. Видел представителя консульства? То-то! Кстати, а ты зачем пожаловал?
– По поводу Канегиссера.
– А что Канегиссер? Сбежать хотел?
– Да нет. Как раз наоборот, – Бокий вторично бросил взгляд на Яковлеву, но та продолжала спокойно рассматривать ноготки на пальчиках, поэтому чекист решил закончить фразу, – его хотели убить.
– Знаю. Варвара Николаевна уже рассказала.
Глеб Иванович впился глазами в женщину. Та встретила взгляд чекиста спокойно, почти равнодушно. И тут же вновь принялась исследовать ногти.
«Стерва! – мысленно выругался чекист. – Точно, сработали ее люди. Они же и проинформировали ее. Может, рассказать Зиновьеву о том, как все было? Нет, – тут же остановил себя чекист, – нельзя. Варька не случайно с самого утра заявилась в Смольный. Нет никакой гарантии, что патлатый не завязан в деле по самую маковку. А значит, мой приезд есть не что иное, как бессмысленная затея. Нужно как-то завершить разговор и уйти».
– Еще я хотел узнать, куда делся Фролов? – Бокий перевел взгляд на председателя Петросовета.
– Это какой Фролов? – Григорий Евсеевич наморщил лоб.
– Солдат из охраны Комиссариата внутренних дел, – подсказала Варвара Николаевна, на секунду оторвавшись от увлекательного занятия, – принимал участие в задержании убийцы Моисея.
– И что Фролов? – продолжал интересоваться председатель. – Зачем он тебе нужен?
– Как зачем? Следствие продолжается, а на Гороховой он так и не появился. А у нас тут одна смерть за другой. В камере хотели убить Канегиссера. Ночью неизвестные зарезали Шматко, второго охранника из комиссариата.
– Ограбление, – заметила комиссар в черном длинном платье.
– Может быть, – отозвался Глеб Иванович, – теперь вот Фролов пропал.
– Никуда он не пропадал. – Варвара Николаевна встала, оправила платье. Бокий заметил, каким взглядом сопроводил движение ее рук Григорий Евсеевич. И понял, что он в кабинете лишний. – Я его вчера отослала во главе продовольственного отряда. По деревням.
– Во время следствия? – съязвил Бокий.
– Во время голода! – жестко отбрила женщина. – Или ты, Глеб Иванович, сам будешь ходить по селам и трясти крестьян?
Чекист промолчал. А что он мог сказать в ответ? Хотя нет, сказать-то как раз мог многое. Хотя бы про то, что прокормить хоть какую-то часть города, а еще лучше детишек, можно было бы, отказавшись от ежедневных обедов, которые товарищ Зиновьев и его окружение устраивали в Смольном. Много по городу бродило слухов про те обеды. Частенько голодные уста питерцев перемалывали косточки новой власти по причине смольных «лукулловых пиров». Сам Бокий в них участия не принимал, хотя зван был неоднократно, довольствовался пайком. Но и по «нормативным продуктам» догадывался, чем «угощались» комиссар Петросовета и его свита.
– У тебя еще что-то ко мне? – донеслась до сознания чекиста последняя фраза Зиновьева.
– Вроде нет.
– Тогда у меня к тебе предметный разговор.
Григорий Евсеевич склонился над столом, просмотрел бумаги, нашел необходимый лист, снова предстал перед чекистом.
– Завтра похороны Моисея. Людей будет много. Следует организовать охрану. Я это дело поручаю лично тебе. Варваре не справиться. И вообще перестаньте цапаться, словно кошка с собакой. Одно дело делаем. Кстати, через три часа прибудет Феликс.
– А… Он что, не вернулся в Москву?
– Нет, – отмахнулся председатель, – так что ждите! Феликс по телеграфу просил, чтобы к его приезду составили детальный отчет. Времени у него будет в обрез: ночью собирается вернуться в Москву. Так что, хотите того или нет, а сотрудничать вам придется. И как дополнение: думаю, Дзержинский решит вашу проблему – кто старший? А то развели в своем хозяйстве черт знает что! А толку – ноль!
– Именно об этом я и хотел поговорить. – Бокий слегка прищелкнул пальцами: не он стал инициатором следующей темы. Зиновьев «подставился». – Я имею в виду расследование убийства Моисея. Им занимаются три следственные группы. Три! – Бокий вскинул руку с тремя растопыренными пальцами. – Это же ни в какие ворота не лезет. Ладно, все были бы наши. Но каким боком к расследованию убийства притиснулись комендант Петрограда и Петросовет? Благодаря их действиям у нас за сутки арестовано более ста человек. Камеры переполнены родственниками, друзьями, прислугой Канегиссеров. Бабку инженера, восьмидесяти лет, и ту посадили. Как сказали: на всякий случай. Это уже не следствие, а бардак!
– Твои предложения?
– Считаю необходимым ликвидировать сыскные группы от Петросовета и оставить только ту, что в штате ЧК. Все наработанные документы передать на Гороховую.
– То есть, – Зиновьев прищурился, – предлагаешь, чтобы всем делом заправляли только вы?
– Да, – убежденно кивнул головой Бокий.
– Бесконтрольно, – неожиданно продолжил Григорий Евсеевич. – Это как получается? Хочешь единовластвовать? Подмять весь аппарат ЧК под себя? Ловко, Глеб.
Глеб Иванович хотел было возразить по поводу последних слов председателя, что на данный-то момент ЧК управляет не он, однако Зиновьев ему такой возможности не дал.
– Вот что, голубь мой, – процедил сквозь зубы хозяин кабинета, – слушай сюда. Видел на входе матросов с пулеметами? Думаешь, случайно я их выставил? Покрасоваться силой новой власти? Нет, дорогой. Выставил я их по другой причине. Потому как только на одного меня уже было совершено два покушения. Да Володарский, убийцу которого твоя ЧК до сих пор найти не в состоянии. Теперь Урицкий! Убийцу которого, прошу заметить, задержали не твои подчиненные, а охрана комиссариата! И после ты мне предлагаешь, чтобы я ЧК дал полную, бесконтрольную свободу? Нет, родной, – перед лицом Бокия нарисовался кукиш, скрученный рукой товарища председателя, – ни хрена ты у меня не получишь! Будешь сюда ежедневно как миленький приползать для отчета! А я твои россказни сопоставлю с данными от коменданта. И вот тогда-то мы и увидим целостную картину.
Глеб Иванович задержал дыхание, сдерживая эмоции, после чего проговорил делано спокойным тоном:
– Посмотрим, что скажет Феликс. И если он примет мою сторону, хрен получишь ты. Подождем до вечера.
* * *
Дом на Миллионной встретил чекистов тишиной и вонью. Что воняло, Доронин разобрать не смог, но смердило немилосердно.
Войдя первым в парадное, матрос поморщился, чихнул:
– Кажись, крыса сдохла. Или еще какая тварь.
Озеровский прикрыл нос платком:
– Давайте поскорее поднимемся наверх. Там свежее.
«Ну да, – припомнил чекист, – дед-то вчера здесь уже побывал. Знает, о чем говорит».
По лестнице поднимались молча. Доронин – скрипя сапогами, Аристарх Викентьевич – хрипя легкими и постанывая на верхних ступенях каждого пролета. Демьян Федорович старика не торопил, хотя очень хотел поскорее завершить с осмотром места задержания преступника.
На площадке предпоследнего этажа Озеровский остановился, перевел дух, огляделся. Матрос тоже прошелся взглядом по стенам, дверям:
– А из какой квартиры помогли мальчишке?
– Если верить протоколу, из этой. – Аристарх Викентьевич кивнул головой в сторону одной из дверей. Доронин сделал к ней шаг. На полированной поверхности дверного полотна светлела медная табличка.
– Меликов П.Л., – прочитал матрос. – Кто такой этот Меликов?
– Князь, – тяжело выдохнул следователь. – Петр Леванович. Уже старик. Он безобиден.
– У нас щас вся контра безобидна, – шмыгнул простуженным носом матрос. – Кого ни возьми – все сочувствуют нашей власти. А как спиной повернешься, стараются в нее пальнуть или ножом попробовать на прочность.
Доронин с силой стукнул кулаком в дверь.
– Напрасно стараетесь, – дыхание Аристарха Викентьевича пришло в норму, – вам никто не откроет. Все в «Крестах». Петросовет постарался.
– И чего теперь делать? – Матрос растерянно обернулся. – Чего мы сюда приперлись, ежели никого нет?
– Попробуем мысленно восстановить цепочку, – Следователь подошел к двери князя Меликова, прикоснулся к деревянной поверхности. – Предположим, как утверждает протокол, студент выбежал в подъезд именно из этой квартиры. – Тонкие пальцы Озеровского, слегка касаясь, прошлись по дверному полотну. – Его ждали. Открыли дверь черного хода. Он крикнул, что за ним погоня. Впустили, дали ему пальто, выпустили на площадку. Затем дверь за студентом закрыли.
Доронин тоже провел пальцами по деревянной поверхности, подергал металлическую ручку.
– Закрыто.
Озеровский внимательно осмотрел стены, дверные полотна, поднялся на несколько ступенек вверх по лестнице, снова осмотрел все стены, спустился на несколько ступеней, опять исследовал стены. После чего произнес:
– Демьян Федорович, давайте проведем небольшой эксперимент.
Доронин, выполняя инструкцию сыщика, послушно спустился вниз на два лестничных пролета. Теперь чекиста от следователя отделяла металлическая сетка лифтовой шахты.
– Демьян Федорович, вы меня хорошо видите?
– Не очень.
– Приподнимитесь. Выберите наилучшую позицию, с которой виден я.
– Нашел.
– И как?
– Никак. Какая-то тень.
– То есть вы, зная меня в лицо, не можете разобрать, я это или не я?
– Ага. Сетка мешает. Опять же дверь. Вы с ней будто сливаетесь.
– А стрелять с такой позиции удобно?
– Смеетесь?
– Хорошо. Скажите, что я сейчас делаю? – Озеровский широко улыбнулся.
– Стоите.
– А что у меня с лицом?
– А черт его знает. Отсюда не видно.
– Именно то, что я хотел услышать. Поднимайтесь.
Доронин пулей взлетел наверх.
– Значит, вы толком ничего не видели? – на всякий случай поинтересовался следователь.
– Я же говорю: пятно. Серое. Фигура видна, а вот чья – не разобрать.
– А теперь смотрите сюда, – Озеровский указал пальцем на дверь, – следы от пуль, Демьян Федорович. Две в наличнике, одна в полотне, но все три сидят кучно. Почти на уровне головы. – Озеровский постучал пальцем по находке. – Даже если учесть, что первый выстрел был предупредительный, как утверждал Фролов, то остальные два…
– Точно! – сделав судорожное движение кадыком, отозвался матрос. – В голову стреляли. Прицельно. Все выстрелы произвели сразу, без остановки. Рука набитая, опытная.
– Только мальчишка успел пригнуться, – Аристарх Викентьевич принялся перочинным ножом извлекать из дерева деформированные пули, – или споткнулся, скорее всего. Потом кинулся в сторону. Но это еще не все.
Озеровский спустился на три ступеньки.
– Смотрите, – палец следователя указал на воронку в стене, – тоже результат от выстрела.
– Только стреляли не с лестницы, – тут же заметил Доронин.
– Совершенно верно. Судя по тому, как пуля застряла в кирпиче, стреляли с лестничной площадки.
Демьян Федорович кивнул головой в сторону дверей князя Меликова.
– А вы говорите «безобидный старик».
– Тогда почему Меликов не убил Канегиссера у себя дома? Ему бы это зачлось.
Доронин повел сильными, широкими плечами.
– У вас нож есть? Нужно извлечь пули.
– Найдется.
Доронин из голенища извлек финку. Принялся трудиться над дверью, одновременно рассуждая вслух:
– Князь у нас, в «Крестах», спросим. Сейчас нужно как можно скорее сообщить о находке Глебу Ивановичу. И еще вызвать в ЧК тех, кто задерживал Канегиссера. Этих, как их… Шматко и Фролова.
– Правильно мыслите. Проведем перекрестный допрос.
– Чего? – Доронин устремился вниз по лестнице, вслед за Озеровским.
– Это когда в одной камере располагаем свидетелей друг против друга и выпытываем их.
– То есть пытаем, что ли? – опешил чекист.
Озеровский спрятал улыбку:
– Выпытываем – значит допрашиваем. Находим несоответствия в их показаниях, благодаря чему выводим истинного преступника на чистую воду.
– Эвон как…
Чекисты минули вонючий предбанник, покинули подъезд.
– Основная цель такого допроса, – уже на улице принялся объяснять Аристарх Викентьевич, – вывести преступника из себя, лишить спокойствия. Одно дело – когда его допрашивают одного и он может все отрицать, играть в «молчанку», пойти в «отказ» от показаний. Совсем иное дело – когда преступника сводят с подельником и решается, кто из них потянет больший срок? Вот тут обычно с «блатных» весь лоск и героизм, словно шелуха, слетают. Кому хочется тянуть больший срок, при этом зная, что его дружка осудили на несколько лет меньше? На таких перекрестных допросах преступники обычно топят друг друга, да так, что диву даешься: и как они ранее дружками считались?
– Думаете, получится? – Матрос даже не заметил того, что следователь только что сравнил подозреваемых чекистов с уголовниками.
– Надеюсь. – А Аристарх Викентьевич данный факт отметил сразу, бросил искоса взгляд на молодого человека: впервые за последние сутки тот не стал защищать своих товарищей. То был знак. «Значит, Доронин таки проникся делом, – понял Озеровский. – Толк будет».
* * *
Бокий широким, размашистым шагом покинул территорию Смольного, сел в «мотор», как тогда называли все автомобили, приказал ехать на Гороховую.
Внутри чекиста горело пламя, которое он никак не мог погасить. Сегодня Зиновьев вывел его из себя. Впервые за те несколько месяцев, что они сотрудничали. Обвинения, которые кинул председатель, одновременно и имели под собой почву, и не имели. Имели в том смысле, что Григорий Евсеевич был прав: убийцу Володарского так и не нашли. И убийцу Моисея арестовали не его ребята. Тут открещиваться смысла нет. Но была и другая правда. И заключалась она в том, что вокруг этих двух убийств творилось нечто мистическое. А точнее, создавалось впечатление, будто и Володарский, и Урицкий стали случайными жертвами. А удары должны были быть нанесены совсем по иным целям.
И тут Бокию вспомнился разговор с белым полковником. Глеб Иванович усмехнулся: как ни скажи слово «белый», с большой или маленькой литеры, а словосочетание никак не изменится. А вот смысл поменяется кардинально. Так что говорил Белый? Помнится, тогда Доронин предоставил ему практически полную информацию. Бокий еще разозлился по данному поводу. Однако полковник выложил на свет божий такую картинку, от которой у Глеба Ивановича, как говорят в народе, волосы встали дыбом.
По мнению Белого, убийство Володарского произошло случайно. Нет, к убийству готовились, он этого не отрицал. Но мишенью должен был стать не комиссар печати и пропаганды, молодой, только что пришедший в революцию человек, который толком так ничего и не успел сделать во благо молодой советской республики, а иная личность. Ее-то полковник и вычислил.
Бокий прикрыл глаза. Слава богу, Зиновьев ничего не знает. А то бы вовсе слетел с катушек.
По мнению заключенного камеры номер 24, исходя из тех данных, что ему выложил растерявшийся Доронин, события того злополучного июньского вечера, когда убили Володарского, развивались следующим образом.
Убийца, вооруженный револьвером и бомбой, ждал своего, как тогда выразился полковник, «клиента» на Шлиссельбургском шоссе. Он точно знал: «клиент» будет ехать именно этой дорогой. Обоснование? Бомба. Если бы убийца собрался на «акцию» с бухты-барахты, то при нем был бы только пистолет. Однако имелась бомба – самый действенный предмет для передвигающейся крупной мишени. Как тогда высказался Белый: вспомните народовольцев. Сначала бомбой, потом пулями. Стиль один. Итак, убийца ждал автомобиль. И тот появился. В нем находился Володарский, с ним две женщины. Далее, акция. Ну, тут все понятно… Но вот следующее высказывание полковника заставило Глеба Ивановича посмотреть на расследование с иной стороны. Как повторил вслед за Белым Доронин: первое – не того человечка ждал убийца. Второе – убийца не знал «клиента» в лицо. А причина для подобного суждения была одна: Володарский возвращался со встречи в Совете фарфорового завода, куда, по показаниям водителя комиссара печати Юргенса, они заехали совершенно случайно. О том, чтобы он заехал на завод, ему сообщил встреченный ими по пути сотрудник Смольного, который и передал, что Володарского спешно желает видеть Зиновьев, который в тот момент находился… на территории фарфорового завода. В результате молодой комиссар печати поменял планы и поехал на митинг, что и стало причиной его гибели. Убийца ждал Зиновьева. Но в лицо он его не знал. Судя по всему, наняли кого-то из «блатных». Все «политические» хоть раз да видели председателя Петросовета, поэтому перепутать его с Володарским никак не могли. Вот на этом-то все и застопорилось. На Урицкого давили сверху, чтобы он закрыл дело по политическим мотивам и приступил к арестам всех подозрительных лиц. А Моисей (убитого Володарского тоже звали Моисеем. Бокий горько улыбнулся: «Не Петросовет, а прямо библейская община») все оттягивал, не решался начать террор (несколько арестов – цветочки). Выводы следственной группы, в том числе и Доронина, после слов Белого все ставили под сомнение.
Теперь Урицкого нет. Правда, есть убийца, в отличие от случая с Володарским. Однако суть не менялась. Если верить тому, что вчера смогли «откопать» Доронин со стариком, в деле по убийству Соломоновича также не все гладко. Чувствовалось: за студентом кто-то стоит.
Автомобиль притормозил у входа в здание ЧК. Бокий упруго спрыгнул с подножки и… нос к носу столкнулся с ожидавшими его Дорониным и Озеровским.
– Кого ждем? Меня? Пошли в кабинет.
– Нет, Глеб Иванович. Вы уж нас тут выслушайте. – Доронин указал глазами в сторону, мол, следует отойти.
Бокий, еще не успокоившийся после встречи с Зиновьевым, хотел выругаться: мол, что за мальчишество, однако передумал.
Отошли шагов на пять. Демьян Федорович начал доклад:
– Глеб Иванович, мы тут кое-что откопали.
– Откапывают картошку в огороде. Мы – ищем.
Бокий отметил, как улыбнулся Озеровский. Что, впрочем, совсем не смутило матроса.
– Вот именно, нашли. На Миллионной. Точнее, нашел Аристарх Викентьевич. Покажите. – Следователь извлек из кармана пули, протянул их Бокию. – Из того самого дома, где задержали студента. Глеб Иванович, следует срочно пообщаться с Фроловым и Шматко. Провести допрос…
Доронин запнулся.
– Перекрестный допрос, – негромко добавил Озеровский.
– Допрос, говорите? – не смог скрыть горькой усмешки Бокий. – И с какой целью?
– Тут такая петрушка получается… Фролов-то прицельно стрелял в студента.
– И что? – Бокий почувствовал: последнюю фразу он произнес с интонацией, с которой с ним недавно разговаривал Зиновьев, и оттого стал противен сам себе.
– Как же? – удивленно вскинулся Демьян Федорович. – По уставу при задержании требуется произвести предупреждающий выстрел. И Фролов в своих словах вчера утверждал, что палил в воздух.
– Ну?
– А на самом деле стрелял в убийцу! В голову!
– А вы уверены, что Фролов не сделал предупредительного выстрела? А если и не сделал, скажет, что перепутал. Или сознается в том, что специально соврал, испугался наказания за невыполнение устава. – Бокий кидал опровергающие аргументы специально, чтобы точно прояснить обстановку, хотя сам чувствовал: чекисты действительно что-то «накопали».
– Никак нет, Глеб Иванович, не испугался. – Демьян Федорович бросил взгляд на Озеровского: мол, выручайте.
Аристарх Викентьевич сделал шаг в сторону Бокия.
– Выстрелов со стороны Фролова и Шматко было произведено три. Все на поражение. В протоколе сказано: стрелял только Фролов. Пока опровергнуть данные показания я не могу. Но, судя по всему, стрелял действительно один человек. Как показывает кучность расположения пуль в двери, навскидку, в голову. Скорее всего, боялся, что если будет стрелять в тело, то сможет только ранить. Тогда бы пришлось добивать Канегиссера. А сей факт мы бы уже смогли доказать. Потому стреляющим и было принято решение метить в голову. Не учел только одного момента: отвратительная видимость, плохое освещение в подъезде. Оттого и промахнулся.
– Расстояние промеж пуль от такусенькое, – Доронин указательным и большим пальцами показал, на каком удалении находились найденные пули друг от друга.
– Потому мы и хотим свести Фролова и Шматко, чтобы они еще раз рассказали, как происходил арест убийцы. – Озеровский на несколько секунд замолчал, однако, видя, что Бокий ждет окончания фразы, проговорил: – Имеются подозрения против Фролова, что он специально хотел убить Канегиссера. Тем самым обрезать все следы.
– Специально, говорите? – Глеб Иванович беспомощно оглянулся по сторонам, как бы ища в прохожих поддержку. – Может, и так. Только ни с Фроловым, ни со Шматко вы сейчас не поговорите. А уж тем более не сможете провести перекрестный допрос. Потому как красноармейца Шматко убили. Сегодня ночью. Возле дома. Утверждают, ограбление.
– Кто утверждает? – тут же поставил вопрос Озеровский.
– Какая разница! – вспылил Бокий. – Главное, что одного свидетеля у нас уже нет. А Фролов ночью убыл в деревни с продотрядом. Когда вернется – одному богу известно. Если, конечно, вернется. Обстановка сами знаете какая. К тому же нам все одно не позволят свести вместе чекистов с Канегиссером.
– Речь идет не о студенте, – быстро вставил Доронин.
Бокий обернулся к Озеровскому:
– Что еще нашли?
– След от четвертой пули, – выдохнул Озеровский, – только он произведен не Фроловым и не Шматко. Стреляли в Канегиссера со стороны лестничной площадки. В спину.
– Кто?
– Трудно сказать. Скорее всего, стрелял хозяин той самой квартиры, в которую забежал убийца.
Доронин, не сдержавшись, сплюнул на тротуар:
– Зря ноги били.
– А вот и не зря. – Глеб Иванович хитро прищурился. – Если исходить из того, что стреляли с двух сторон – и снизу, и сверху, – получается, что князь Меликов и наши Шматко с Фроловым действовали заодно. А это уже сговор! Враг мог использовать Шматко и Фролова. Или купить. Кстати, в защиту данной версии у нас появился козырь. Утром Канегиссер сделал попытку передать на свободу письмо.
– Родным? – поинтересовался Демьян Федорович.
– Если бы… Прелюбопытнейший факт. По крайней мере в небольшой истории нашего учреждения. Еще ни разу мне с таким не приходилось сталкиваться. Всякое бывало. Писали на волю родным. Друзьям. Товарищам по партии. Но, чтобы первое тюремное послание, через конвойного, охрану, массу препятствий, и было отправлено совершенно незнакомому человеку – такого в моей как арестантской, так и следственной практике еще не бывало!
– Если не ошибаюсь, – продолжил мысль Бокия Озеровский, – Канегиссер послал письмо владельцу пальто?
– Совершенно верно! Князю Меликову. Со всеми извинениями!
– Крайне, – пробормотал Аристарх Викентьевич, – крайне любопытно.
– Вот-вот, – продолжил мысль Бокий. – А исходя из того, что наши свидетели исчезают, словно по мановению волшебной палочки, достаточно произнести вслух их фамилии, я принимаю решение: с данного момента будем делать вид, будто действуем вслепую. По крайней мере на некоторое время такое поведение должно сбить с толку наших оппонентов. Согласны?
– В этом что-то есть, – вынужден был признать Озеровский. – По крайней мере одним живым свидетелем будет больше.
– Именно. Аристарх Викентьевич, если нетрудно, пройдите в мой кабинет и напишите краткий отчет о проделанной работе. Через два часа прибудет Феликс Эдмундович Дзержинский, нужно показать ему наши наработки. – Старик и матрос быстро переглянулись. – Что? У вас еще что-то есть?
Доронин чертыхнулся:
– Пусть вот он, – Демьян Федорович кивнул на Озеровского, – рассказывает. Я сегодня в основном бегал.
Бокий терпеливо ждал.
Весь отчет следователя уложился в несколько минут. Точный, детальный, он представил достаточно ясную версию прошлой скрытой жизни Леонида Канегиссера.
– Фактов пока не хватает, – добавил в конце доклада Аристарх Викентьевич, – но, думаю, в скором времени они проявятся. И еще: следует произвести вторичный обыск в доме инженера. Вчера искали материалы, подтверждающие причастность Леонида Канегиссера к совершенному преступлению. И вовсе не обращали внимания на личную жизнь убийцы. В частности, не нашли дневники, а, как утверждают родные, он их вел.
– Студент мог хранить бумаги в другом месте, – заметил Бокий.
– Сомневаюсь, – уверенно ответил Озеровский. – Факт работы Канегиссера над дневниками подтверждают сестра и мать. Выходит, видели их дома. Если найдем, вполне возможно, данное преступление всплывет в ином свете. Я думаю, Канегиссера просто использовали.
Глеб Иванович с силой потер лоб рукой.
– Значит, так. Отчет отменяется. Оба в «мотор», к Канегиссерам. Кровь из носу, дневники должны быть у меня до приезда Феликса Эдмундовича. Туда три часа назад направилась группа Семена Геллера с обыском. По распоряжению Яковлевой. А как они умеют обыскивать, думаю, рассказывать не нужно.
– Тогда амба, – сделал сокрушенный вывод Доронин, – черта с два, что мы там, после Сеньки, отыщем! Голые стены да выбитые окна.
– Иногда и в стенах кроются загадки, – веско вставил Озеровский. – Не думаю, что сын инженера, личность возвышенная, поэт, держал своего письменного друга на виду у всех. Такие вещи обычно прячут так, чтобы никто, кроме хозяина, не смог найти. Так что не все потеряно.
Доронин с Озеровским кинулись к машине.
А Бокий, подставив солнцу коротко стриженную голову, присел на ступеньку.
«Озеровский прав, – пульсировало в голове чекиста. – Дело принимает иной оборот. Непонятный и оттого еще более пугающий. Чем пугающий? – спросил сам себя Глеб Иванович и тут же ответил: – А тем, что достаточно вспомнить, как проходил трибунал над михайловскими мятежниками. Урицкий, до того поддерживавший все решения Ревтрибунала по смертным приговорам, неожиданно для всех отказался голосовать за смертную казнь для одного курсанта. Курсанта, который считался главным зачинщиком заговора в артиллеристском училище. Курсанта, который, по материалам дела, поставлял мятежникам оружие. И фамилия курсанта была Перельцвейг».
* * *
Зиновьев широким задом придавил пружины дивана, хлопнул рукой рядом с собой по коже: присядь.
Яковлева легко, по-девичьи, опустилась рядом. Однако прижиматься, как то бывало раньше, к любимому мужчине не стала. Что-то в последнее время стало ее раздражать в Григории Евсеевиче. Вот только что, женщина еще разобрать не могла.
– Хочу услышать твое мнение: почему Феликс отказался возвращаться в Москву? – тихо, но внятно произнес Зиновьев.
– Что значит «отказался»? Ему что, приказали?
– Именно!
Варвара Николаевна вздрогнула: вот те на… А Гришка-то, оказывается, от нее кое-что скрывает.
– Кто тебе об этом сообщил?
– Какая разница? – отмахнулся председатель Петросовета. – Сейчас главный вопрос не в том кто, а почему? Итак, повторяю вопрос: твое мнение – почему Феликс решил-таки ехать в Питер?
Женщина неуверенно повела плечами:
– Не знаю.
– Точно не знаешь? – Рука Григория Евсеевича нашла женскую ладошку, сжала ее.
– Больно! – взвизгнула Яковлева.
– Вот и мне больно, – через силу выдавил из себя любовник. – Смотри, Варька… Не дай боже вздумаешь в свои игры играть. Феликс ведь только до вечера пробудет. Апосля обратно в Первопрестольную возвернется. А мы тут останемся. Так что, если надумала мне изменить, сразу предупреждаю: уезжай вместе с ним. Потому как, ежели останешься и я узнаю что непотребное, удавлю.
* * *
Стучать в дверь не имело смысла. В том Доронин убедился в тот миг, когда вместе с Озеровским поднялся по парадной лестнице к квартире, в коей до вчерашнего дня проживала семья инженера Канегиссера. Едва чекисты преодолели крутые мраморные ступеньки, как, к своему удивлению, обнаружили, что створки двери, ведущие в квартиру инженера, распахнуты настежь: заходи, кто хочет! Сегодня раздается барское имущество!
Аристарх Викентьевич хотел было высказаться по данному поводу, но Доронин тронул его за рукав: «Молчите» – и первым осторожно прошел внутрь квартиры.
Жилище Канегиссеров на вторые сутки после ареста семьи напоминало что угодно, только не жилое помещение. Следователь помнил, как раньше в прихожей висела картина – лесной пейзаж. Теперь она отсутствовала, вместо нее на стене выделялось светлое пятно на темно-бордовых обоях. Не было и ковровой дорожки, что некогда лежала в прихожей. Исчезла и тумбочка для обуви. И большое зеркало пропало неизвестно куда. И вешалка. Один одежный шкаф томился в углу. Да и то временно, догадался Аристарх Викентьевич, не вынесли исключительно из-за его габаритов. Вынесут!
Доронин заглянул в распахнутые створки шкафа, указал Озеровскому на старый женский платок, от которого жутко несло нафталином. Следователь поморщился: даже с расстояния в несколько шагов слышался неприятный аромат. Аристарх Викентьевич резко отвернулся и чуть не впечатался носом в телефонный аппарат, что сиротливо висел на голой стене и ждал своей участи.
Матрос хотел было высказаться по поводу увиденного, как тут же замер. Изнутри квартиры донеслись звуки: глухой говор, перетаскивание тяжелых предметов, вслед за всем этим мат.
Чекист сделал несколько осторожных, мягких шагов на звук, ближе к внутренним помещениям. Озеровский последовал его примеру. Теперь оба могли слышать все, что происходило внутри квартиры инженера, в том помещении, которое, по памяти Аристарха Викентьевича, являлось столовой.
– Че ты суешь? Да кому оно надо? – донесся гнусавый голосок Сеньки Геллера[28], Доронин его сразу признал. – Ты даже на толчке это дерьмо не спихнешь!
– Так красиво!
– Красиво будет после! – послышался удар, звон разбитого стекла. – Щас надо то, что можно сменять. Или продать!
Демьян Федорович сделал еще пару шагов, сначала заглянул в комнату, а потом предстал во всем своем разгневанном большевистском обличье перед растерянными сотрудниками ПетроЧК.
Геллер, завидев человека с Гороховой, поначалу опешил.
– Демьян? Ты какого лешего тут делаешь?
Доронин, не отвечая, принялся оценивать обстановку. Судя по всему, «обыск» подходил к концу. Перед одним из подчиненных Семена стояло три полных мешка с разной бытовой утварью: кастрюлями, тарелками, одеждой, еще черт-те с чем, что смогло уместиться в мешки чекистов. Второй Сенькин подручный в тот момент, когда Федор вошел, пытался затолкать в мешок настенное овальное зеркало. Сам Геллер, судя по всему, подобными делами не пачкался, только отдавал распоряжения. По крайней мере рядом с ним мешка не было.
– Шмонаем? – ни к кому конкретно не обращаясь, процедил сквозь зубы матрос, выходя в центр столовой.
– Ты чего, Демьян? Какой шмон? – Геллер изобразил на лице удивление. – Обыск! Нас Варька прислала. Не веришь? – Семен кивнул на телефонный аппарат. – Позвони!
– Отчего ж не верю? Очень даже верю! – Демьян Федорович кивнул на зеркало. – Вещественное доказательство?
– А как же! – осклабился Геллер. – Тут все доказательства! Че ни копни!
– Потому-то по мешкам и тырите?
– Ну, ты скажешь, Демьян! Кто тырит? Несем в Петросовет, сдать, как положено.
– И кастрюли?
– А как же? Убивец из них жрал? Жрал! Значит, доказательство.
– Ну-ну, – протянул Доронин, прищурившись, впился взглядом в геллеровы маленькие свиные глазки. – Гляди мне, Сенька. Я ведь проверю, куда добро свезешь. Память у меня хорошая. Что в мешках – знаю. Так что не обессудь, ежели че.
Сенька тоже прищурился.
– Угрожать вздумал?
– Предупреждаю. На всяк случай. А чтобы у тебя не пропало желание сдать все это барахло на Гороховую, добавлю: сегодня приезжает Дзержинский. И ох, как я тебе не завидую, если хоть одна тарелка или вилка окажется не там, где положено.
На этот раз Геллер промолчал. Внутри Семена родился страх. «Демьян не врет, Феликс точно сегодня будет. И если Варька еще могла отмазать, как она это всегда делала, получая свою долю, то Дзержинский цацкаться не станет. К стенке, со всеми вытекающими».
Семен нашел в себе силы улыбнуться, изобразить спокойствие.
– Ты, Демьян, не пугай. Пуганые мы. Но свой революционный долг знаем, помним и чтим. Усек?
Более Геллер ничего добавлять не стал. Кивнул головой своим людишкам и первым покинул квартиру.
– Все вынесли, – констатировал Аристарх Викентьевич, исследовав после чекистов жилище, – подчистую! Только крупная мебель осталась.
– Ничего, долго сиротствовать не будет. – Доронин поднял с пола лист от календаря, убедился, что на нем ничего не отмечено, бросил на пол. – Только не думайте, будто орудовали одни наши. Вчера, после ареста семьи, первыми, кто тут помародерствовал, была прислуга. Их застукали, когда пытались вынести столовое серебро. Так-то вот.
– А я и не сомневаюсь, – отозвался, в свою очередь, Озеровский. – Люди ведь все разные. И одинаковые одновременно. Думаете, я осуждаю Геллера? Нисколько. Такова жизнь: не прокормишь себя сам, никто тебе не поможет. И прислуга живет по тем же принципам. Будь у них уверенность не то что в завтрашнем, а хотя бы в сегодняшнем дне, разве бы они пошли на подобное?
– Эка ввернули! – почесал затылок матрос. – Режете прям, как из Библии.
– Далеко не самый худший литературный документ человечества, – насколько смог тактично, заметил Озеровский, понимая, что перед ним стоит большевик, то есть представитель той людской прослойки, которая отрицает то, во что не верует. – Впрочем, мы с вами отвлеклись. Давайте приступим к тому, зачем приехали.
* * *
Варвара Николаевна, покинув помещение Смольного, присела на скамейку, что стояла сбоку парковой дорожки.
Нервная дрожь сотрясала тело. Коленные чашечки стучали друг о дружку. Нужно успокоиться. Конечно, самый лучший вариант – жахнуть полстакана водки. Да где ж ее сейчас взять?
«Сволочь!» – еле слышно произнесли губы женщины.
А в голове, будто картинки в калейдоскопе, сменялись мысли.
Гришка начал свою игру. За ее спиной. Нет, не за спиной. Если бы за спиной, было бы не так страшно. Он начал использовать ее втемную. Это опаснее. Значит, хочет ее тоже устранить. Пользуется тем, что она слишком слабая фигура, чтобы тягаться с ним. По крайней мере сейчас, когда у Гришки есть поддержка в Москве. Ликвидирует и глазом не моргнет. А значит, выход один: нужно показать Григорию свою необходимость, свою нужность. А она не имеет никакого понятия о конечной цели Зиновьева. Как он видит ее, Яковлеву, в конце того, что они вместе задумали? В качестве кого? Союзника? Подельника? Или использованной тряпки? Так, как он поступает в постели: сначала нежно и страстно ласкает, а потом, получив свое, отворачивается к стене, оставив ее, неудовлетворенную, в одиночестве на краю кровати. Все может быть. От Гришки можно всего ждать.
Варвара Николаевна сжала ручки в кулачки: что ж, Гриша, спасибо тебе! И знаешь за что? За то, что проговорился, предупредил. Теперь-то буду начеку. Нет, не так. Просто быть начеку не получится: верный путь под пулю. Пусть даже она себя сейчас перед ним и прикроет своей активностью. Но потом председатель Петросовета не захочет оставить главного свидетеля в живых. А поэтому у нее должен быть запасной вариант: нужно сделать все для того, чтобы Бокий встал на ее сторону. Как? Будем думать.
Но в одном Гришка прав: все-таки почему Дзержинский отказался возвращаться в Москву?
* * *
Бокий в упор рассматривал Белого и никак не мог понять, какие чувства тот у него вызывает. Восторг? Однозначно! Ненависть? Не исключено. Любопытство? Вполне возможно. А может, все вместе? Ведь и так бывает.
Чекист положил перед противником папиросы и спички.
– Курите.
Олег Владимирович кивком головы поблагодарил, принялся доставать первую табачную гильзу.
Чекист тем временем, без всяких предисловий, вдруг произнес:
– Вас сегодня должны расстрелять.
Бокия интересовала реакция арестованного.
Полковник никак не отреагировал на услышанное. Спокойно прикурил, втянул в себя дымок, на мгновение в наслаждении замер, выдохнул его из легких:
– И слава богу. А то, признаться, устал ждать.
Глеб Иванович с восхищением смотрел на офицера:
– Иных слов я от вас и не ожидал. А потому сообщу вторую новость: должны расстрелять. Но не расстреляют.
– Передумали? Зачем?
– Приказ о вашем расстреле отдал не я. Но я его приостановил. Мне импонирует ваше общество. К тому же нравится ход ваших мыслей. Идея написать письмо с благодарностью принадлежит, конечно, вам?
Полковник снова с наслаждением затянулся дымком, утвердительно качнул головой.
– Мальчик в панике. Сам до такого бы не додумался. И как, получилось?
– Естественно, – хохотнул чекист.
– Если не секрет, кто тот человек?
– От вас никаких секретов. Князь Меликов Петр Леванович.
– Отпадает, – уверенно качнул головой полковник. – Беспомощный старик, почти маразматик. Ищите среди его челяди.
– У него одна прислуга. Девушка-горничная.
– Вот ею и займитесь. Князь слишком стар, одинок. Для него жизнь давно закончилась. Насколько мне помнится, он еще при царе перестал появляться в свете. Выжившего из ума старика ввести в игру никак не могли: опасно, потому как нет надежды на такого подельника. Равносильно срыву. А вот прислуга – иное дело.
– А тут я с вами не согласен. – Бокий тоже потянулся за папироской. – В Канегиссера стреляли с лестничной площадки.
– Это могла сделать и прислуга.
– В том-то и дело, что не могла. Князь – мог. Молоденькая деревенская девчушка – нет. И вы об этом знаете, Олег Владимирович. Иначе бы вы не стали диктовать письмо мальчишке.
– Ну вот, – выдохнул с дымом Белый, – шестеренки и закрутились. Леонид мне рассказал о том, что одна пуля пролетела рядом с его головой, едва не задев ухо. Князь Меликов стрелять не мог в силу слабости. Девчонка-горничная тоже. Остается…
– Тот, кто живет на этой же лестничной площадке.
– И к кому так стремился мальчишка.
– И который его ждал, но мальчишка перепутал двери, – подвел итог Бокий.
Белый развел руками:
– Что и следовало доказать.
Глеб Иванович затушил папиросу, встал, подошел к окну. Долго смотрел на улицу. Развернулся.
– Вы хотите, чтобы на плаху пошел не только Робеспьер, но и Дантон, который подтолкнул его?
– Я считаю, каждый должен получить по заслугам. Большим или малым. Но обязательно.
– И кто, по вашему мнению, является Дантоном?
– Человек из Петросовета. Или комиссариата. Хотя, если брать ночное происшествие, более склоняюсь к ПетроЧК.
Глеб Иванович снова глянул в окно: в небе скапливались тучи. Точно будет дождь.
– Олег Владимирович, почему вы остались в Петрограде, а не уехали на юг, как ваш бывший начальник Батюшин? – неожиданно переменил тему беседы Бокий.
Белый аккуратно вдавил окурок в днище пепельницы, после чего скрестил руки на груди.
– Странный вопрос.
– Хочу понять мотивацию ваших поступков. Ведь у вас имелась возможность переметнуться на ту сторону. Но вы по непонятной причине остались. Сдались, не оказав никакого сопротивления. В чем смысл? Причина?
– Смысл? – Уголки рта арестованного криво повело. – А нет никакого смысла. Жить, чтобы просто жить? Выискивать каждый день кусок хлеба, чтобы не подохнуть с голоду? А для чего? Что сейчас, в данную минуту, несет мое существование? Кому оно нужно? Год назад у меня была семья, Родина, идея, смысл жизни. Сегодня у меня нет ничего! Ни Родины, ни семьи, ни смысла! Все рухнуло всего-навсего за один год! После «Крестов», когда я узнал, что жена и сын погибли, у меня хотя бы имелось желание отомстить Керенскому и ему подобным за то, что они сделали со мной. Но и тут мне не повезло: за меня отомстили вы. Причем отомстили так, как я сам не смог бы отомстить. Говорите, уйти на юг и воевать с вами? А с кем воевать? С теми, кто привел Сашку Керенского к власти? Того самого Сашку, который убил мою семью? Не сам, опосредованно, но тем не менее. И против кого воевать? Но и не это главное. А за что воевать? Чтобы к власти снова пришел новый Керенский? Как вы правильно заметили, я работал в «Комиссии Батюшина». Вы не представляете, с каким вороватым дерьмом нам пришлось иметь дело. И потом, когда у нас появились все доказательства государственной измены и крупных хищений, все это дерьмо сместило царя и, вместо того чтобы сесть на скамью подсудимых, заняло его место. А нас, «Комиссию Батюшина», определили в «Кресты» через три дня после того, как вся та шушера пришла к власти. А летом убили мою семью. И после всего этого вы предполагаете, что я смог бы встать в один ряд с этими людьми? – Белый устало откинулся на спинку стула. – Впрочем, помогать вам тоже не горю желанием. И не потому, что против вас. Просто я прекрасно понимаю: вы ничем не отличаетесь от тех, на чье место пришли. Внутри вас самих уже началась война за трон. Кто из вас, равных, станет самым равным, на кого все равные станут равняться. И на кого потом будут молиться. Все повторяется. Кстати, не забывайте, чаще всего молятся на покойников, потому как труп не составляет конкуренции, зато на нем можно заработать капитал, и, самое главное, с трупом не нужно делиться. Мерзость? Согласен. Но такова жизнь. Мне противно все, что сейчас творится в России, по обе стороны конфликта. Этим мы и разнимся с Батюшиным. Николай Степанович, несмотря на то что его посадили за решетку по велению Керенского и его камарильи, тем не менее остался верен тому кругу. Я же разочарован и душевно опустошен. Потому и остался.
– Могли уехать за границу. Воспользоваться губельмановскими миллионами.
– Ворованными? Нет уж, увольте. Там на каждой копейке солдатская слеза. У меня бы кусок в горле застрял, если бы потратил хоть один рубль.
Наступила пауза. Не та, неловкая, после которой не знаешь, как продолжить разговор. А та, которая просто разделяет беседу на две части.
– Что вы будете делать, если мы вас отпустим? – неожиданно спросил Бокий.
Полковник запахнул ворот шинели.
– Не знаю. Скорее всего, сдохну в какой-нибудь сточной канаве.
– Олег Владимирович, у меня к вам имеется одна просьба. Она касается вашего сокамерника. – Глеб Иванович тут же замахал руками. – Нет, нет, ничего не нужно у него выспрашивать и вынюхивать. Тем более у вас на это не будет времени. Вас вернут в камеру за вещами. Но один час обещаю.
– И что вас интересует?
– Мои чекисты вышли на одну любопытную версию. Если она действительно имеет место быть, можно спасти мальчишку.
– Странно. – Белый слегка прикусил нижнюю губу. – Он убил вашего товарища, а вы собираетесь его оправдать.
– Не оправдать, а справедливо наказать.
Бокий подошел к арестованному, склонился к его уху.
– Вас не удивила моя просьба?
– Интересно. – Полковник потянулся за папиросой. – Можно взять две? Спасибо. Насколько понимаю, вы хотите сыграть на нервном расстройстве мальчишки?
– Именно.
Олег Владимирович, кряхтя, приподнялся со стула.
– Я выполню вашу просьбу. Но мой вам совет, Глеб Иванович: бросьте это дело. Пустите на самотек. Сомневаюсь в том, что, даже если ответ будет положительным, это спасет студента. Он обречен. А вот утянуть вас вслед за собой в трясину вполне в состоянии.
* * *
Доронин присел на подоконник, принялся раскладывать на крашеной деревянной поверхности все, что они смогли найти с Озеровским. А нашли, как выяснилось, немало. Слава богу, Сеньку интересовали только шмотки, а не бумаги.
Во-первых, был найден дневник студента, пролистав который матрос мало что понял, а потому тут же вручил его старику. Сам же принялся рассматривать то, что они обнаружили, во-вторых. А то были: удостоверение за № 1, выданное 5 ноября 1917 года на имя Леонида Иоакимовича Канегиссера, которого Трудовая народно-социалистическая партия делегировала в 67-ю участковую комиссию по выборам в Учредительное собрание. Выписанный билет до Одессы, на котором стояли дата – 30 августа нынешнего года, и сверху, в уголку, какая-то закорючка. То ли кто-то замарал билет, то ли расписывал ручку. И наконец, непонятная записка с текстом: «Общее собрание 25 июля с.г.» с неразборчивой подписью внизу.
Демьян Федорович то так, то эдак раскладывал найденное, словно пасьянс, пытаясь найти хоть какую-то деталь, которая бы все это объединила.
«Общее собрание… – размышлял Доронин. – Может, той самой партии, народной, социалистической? Так нет, ее вроде прикрыли в июле. А если это связано с училищем? С мятежом? А что, время совпадает. И этот билет на вчерашнее число…»
– Аристарх Викентьевич! – Чекист слез с подоконника. – Можете подойти?
– Сейчас, – отозвался Озеровский из соседней комнаты и вскоре появился в дверном проеме с тетрадью в руках. – Не поверите, Демьян Федорович, но, кажется, мы с вами нашли то, что нужно. Вот, послушайте.
Следователь перевернул несколько страниц, нашел искомое место, зачитал вслух:
«… мне, как и любому другому человеку, нужно счастье, нужно сияние. Господи, что я натворил… Почему послушал этих людей? Почему оттолкнул от себя эту возвышенную душу? Если бы мои близкие знали, какое солнце заполняло мою душу во время наших встреч… Они бы блаженствовали, они бы радовались за меня, а не проливали слезы. В этой жизни так трудно к чему-либо привязаться по-настоящему, глубоко. А мне повезло, мне жизнь сделала Дар. Но любой Дар не дается даром. Никому! В каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие муки способна она, чтобы утолить эту жажду? Теперь меня ожидают тоска, гнет, скитания, унижения, неустроенность. Сможет ли он меня простить? Да и есть ли прощение моему поступку? Подвиг! Нужно совершить подвиг, и тогда в душе засияет неугасимая божественная лампада… Большего я не хочу от жизни. Только прощения и успокоения. Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости сегодня кажутся ребячеством. И даже настоящее горе моих близких, их отчаяние, их безутешное страдание тонут для меня в сиянии божественного света, разлитом во мне и вокруг меня…».
– Ну как? – Аристарх Викентьевич с восхищением свернул дневник в трубочку, хлопнул им о ладонь руки.
– Никак. Спятивший на религиозной почве мальчишка. Сопляк. У нас на «Метком» знаете, сколько таких было? Особенно после первого боя, – подытожил Доронин. – Бог… Божество… Муть какая-то.
– Не скажите! – не согласился следователь. – Сие написано неспроста. Муки терзают будущего убийцу. Душевные порывы. Опять же как тут писано: нужно совершить подвиг, чтобы после его кто-то простил. Непонимание родными его чувств. Каких чувств? К кому? Но меня в данной записи кроме текста заинтересовала дата, когда он был написан. Смотрите. – Озеровский перевернул тетрадь так, чтобы матрос смог увидеть текст. – 18 августа сего года! И еще приписано: ночь. Ни о чем не говорит?
– Пока нет.
– На следующий день, 19-го числа, Ревтрибунал приговорил друга Канегиссера, Перельцвейга, к смертной казни.
– И что? Какое имеет отношение данная запись к трибуналу?
– Вот и меня, Демьян Федорович, сие поставило в тупик. Завтра решается судьба близкого человека, а господин студиозус посреди ночи, вместо того чтобы страдать от скорой потери друга, вдруг извергается высоким «штилем» про чувства, подвиг, непонимание… А может, они не были столь близки? Если предположить, что к тому моменту их чувства охладели и они уже не были между собой тем, кем мы их считаем? Тогда бы это многое объяснило. А точнее…
Озеровский замолчал, предоставляя Доронину возможность самому довести логическую цепочку до конца.
– Пацан соврал. – Доронин понял, куда гнет следователь. – И убийство было совершено не из-за Перельцвейга.
– Именно! – Аристарх Викентьевич потряс дневником. – Сплошной утопический романтизм. Мальчишка мечется. Обвиняет родственников в том, что они расстались. Чувствует вину. Хочет совершить подвиг. И одновременно ждет целых десять дней. Конечно, я согласен с мыслью, будто месть хороша только по прошествии некоторого времени. Но сия форма не совпадает с романтизмом. Как бы поступил романтик Канегиссер? Он бы сразу кинулся на обидчика. А что имеем мы? Ладно, поверим преступнику и его словам о том, будто он хотел убить Урицкого из личных мотивов. И жертву выбрал не случайно, а потому, что та подписала расстрельный приказ. Предположим, данное покушение и есть тот самый подвиг, который решил совершить мальчишка. Однако появляются иные вопросы. Почему Канегиссер не застрелил Урицкого сразу, на следующий день, как только узнал о решении трибунала? Зачем ждал десять дней? Готовился к совершению преступления? Но с более бестолковой и бездарной подготовкой мне, признаться, ранее сталкиваться не приходилось.
– Да ладно вам, – отмахнулся Доронин. – Настанет час – все прояснится. Лучше посмотрите на этот клочок бумаги, – матрос протянул билет, – на вчерашнее число. Мальчишка-то сбежать собирался.
Озеровский бросил взгляд на картонку:
– Верно, до Одессы. Только имеется одна закавыка, Демьян Федорович. Куплен билет действительно на вчерашнее число. А вот хотел ли им воспользоваться именно Леонид и именно этим числом? Вы то небось билетик приобретали в кассе, когда ехали из города?
– Ну да, – согласно кивнул головой чекист.
– А сей бланк, – Озеровский потряс картонкой, – приобретен посредством личных связей. Видите подпись?
– Закорючку?
– Если бы… Данная закорючка принадлежит начальнику вокзала. С таким билетом, Демьян Федорович, вы можете сесть в любой поезд. И не только до Одессы. И в любой, прошу заметить, день, независимо от даты, что написана на нем. И можете сесть не вы, а ваш знакомый. И подобного рода документы просто так, кому ни попадя, не выдают. По крайней мере Леонид Канегиссер лично его приобрести никак не мог. Зато такой билет в их семье мог получить…
– Инженер. – Доронин сообразил, на кого намекал следователь.
– Совершенно верно!
– Но зачем старику билет? Сбежать хотел, что ли? Почему один? – Матрос почесал затылок. – А может, решил всех бросить, к ядреной фене? А че, так бывает.
– Только не в их семье, – покачал головой следователь.
– А что такого? Жинка надоела, дети взрослые. Можно и…
– Канегиссеры – семья еврейская.
– И что? – не понял матрос.
– А то, что… – начал было отвечать следователь и осекся. Новая, логически всплывшая мысль оглушила Озеровского настолько, что он даже растерялся.
* * *
Утром 31 августа собрался актив Московской партийной организации на Б. Дмитровке, в нижнем зале. В горьком молчании мы выслушали короткую информацию о состоянии Владимира Ильича Ленина и приняли такую же короткую резолюцию: на террор буржуазии ответить красным террором трудящихся масс.
«Правда», 31 августа 1918 г.
* * *
Дзержинского встречала Яковлева. Едва тот спрыгнул с металлической ступеньки откидной лестницы, как женщина кинулась к нему.
– Здравствуй, Феликс! – Руки мужчины и женщины соприкоснулись в товарищеском приветствии. – Хорошо, что ты все-таки приехал.
– Есть проблемы? – Феликс Эдмундович моментально отметил только что прозвучавшую фразу: «Хорошо, что ты ВСЕ-ТАКИ приехал».
«В Питере знают о том, что меня отзывали в Москву, – догадался чекист. – И Варвара не случайно поставила слова именно в таком порядке. Предупредила? Вполне возможно. А может, и нет».
До Дзержинского уже дошли сведения о том, что Варвара Николаевна либо сама, лично пустила слушок, либо помогла ему зародиться, о том, что она якобы близка (как женщина) с руководителем ВЧК. Поначалу данное сообщение оскорбило: как-никак, женатый человек. Однако, поразмыслив хорошенько на досуге, Дзержинский решил слух его не опровергать: посмотреть, что из того выйдет? Ведь не случайно Яковлева «спарила их». Какую-то цель преследовала. Если общественно полезную, бог с ней. А если личную…
– Где Бокий?
– На Гороховой.
– Едем к нему. Сначала хочу встретиться с убийцей Урицкого. После заеду к Зиновьеву. Кстати, кто ведет дело?
– Комендатура, Петросовет…
– Кто из наших занимается?
– Люди Бокия – Доронин и Озеровский.
– Что значит, люди Бокия? – В голосе первого чекиста слышался металл. – У вас там что, частная лавочка? Кто на себя взял руководство ПетроЧК?
– Я! – выдохнула Варвара Николаевна.
– Тогда все понятно.
Женщина напряглась от интонации голоса Железного Феликса – холодного, бесцветного. Она чувствовала: что-то изменилось в отношении Дзержинского к ней.
Когда он отправлял ее в Питер, он был совсем другим. Теперь же перед ней стоял холодный, абсолютно безразличный человек.
Варвара Николаевна искоса бросила взгляд на Феликса Эдмундовича: худой, в слегка мятой одежде военного покроя (видимо, в вагоне спал, не раздеваясь), однако в отлично вычищенных сапогах, которые Дзержинский всегда чистил самостоятельно. Уставший, но одновременно собранный, пружинистый. Рыцарь, похожий на Дон Кихота, но не с донкихотовским взглядом. У героя Сервантеса глаза всегда оставались добрыми, по-телячьи детскими, как представляла себе во время чтения романа Яковлева. У Дзержинского взгляд был острый, как бритва, готовый в любую минуту разрезать. Вот и сейчас он смотрел в сторону состава с прищуром, будто в пулеметную щель.
Из тамбуров трех других вагонов поезда главного чекиста республики на железнодорожную платформу принялись спрыгивать сотрудники отряда Московского ГубЧК, личная охрана.
Вместе с Феликсом Эдмундовичем, как на глаз отметила Яковлева, из Москвы прибыло человек двадцать. Многих Варвара Николаевна видела впервые. Однако встречались и знакомые лица. Те, заметив женщину, в знак приветствия, кто улыбаясь, кто хмуро, кивали головой, однако подойти и поздороваться за руку не решались. Видимо, такова была инструкция. Крепкие молодые парни, в целях безопасности, окружили беседующих на расстоянии, не позволявшем услышать их разговор и одновременно дававшем возможность контролировать ситуацию. Двое из московских чекистов в ожидании дальнейших распоряжений держали в руках нехитрые пожитки начальства.
Феликс Эдмундович осмотрелся.
– Кого-то ждешь? – заметила Яковлева.
– Одного человека.
Тем человеком, как вскоре выяснилось, оказался высокий, худощавый юноша лет семнадцати, не более. Стройный, с открытым лицом, с острым, «дзержинским», взглядом и волевым, рассеченным надвое природой подбородком. Под кожаной, перетянутой в поясе тужуркой виднелась застегнутая на все пуговицы, до подбородка, гимнастерка. Нижняя часть обмундирования молодого чекиста состояла из студенческих брюк и ботинок на толстой каучуковой подошве. В правое плечо молодого человека врезались веревки от вещмешка.
Мальчишка изо всех сил тужился показать себя бывалым солдатом, однако сонный вид и растрепанные волосы делали его смешным и слегка, по-детски, неуклюжим.
– Знакомьтесь. – Дзержинский кивнул в сторону юноши. – Саша, точнее, Александр Мичурин[29]. Работник Московской ЧК. Останется здесь. Насколько долго – решу позже, – тут же уточнил Феликс Эдмундович. И, заметив заинтересованный взгляд Яковлевой, не скрывая усмешки, добавил: – Будет работать с Бокием. Теперь поехали. По дороге доложишь, что за бардак у вас тут творится.
«Моторов» на вокзал прибыло два. В первом разместились Яковлева и главный чекист. Во второй плотно загрузились все остальные.
По дороге Варвара Николаевна излила душу. Припомнила все. Начиная с того, как Бокий отказался усмирять «блатных», которые чуть не разгромили склады кооператива на Большой Московской, заканчивая тем, что Глеб терроризирует охрану комиссариата, чем ставит ПетроЧК в неловкое положение.
Дзержинский слушал, не перебивая и не вслушиваясь. О том, что происходит в Питере, точнее в ПетроЧК, после убийства Урицкого, он догадывался и сам. Варвара ни за что бы, за просто так, не отдала власть. Держалась девка за нее, родимую, обеими руками. Как она умела это делать, он прекрасно помнил по столичным делам. Потому-то и сослал ее в Северную, когда убедился, что в Москве она будет ему только мешать. И тому появился веский повод: убийство Володарского. ПетроЧК, как показалось Дзержинскому, в данном деле проявила полную бесхребетность и бессилие. Два месяца вести дело и ничего не выявить (несколько подозреваемых, с подтвержденным алиби невиновности не в счет). Подобное попустительство, да еще в такой тяжелый момент для республики, было просто непозволительным.
И Варвара Николаевна действительно справилась с поставленной задачей. Заставила Моисея довести дело по мятежу в Михайловском училище до логического конца (именно так в ее письме Дзержинскому и прозвучало: «заставила»). Прижала самого Урицкого, да так, что тот наконец-то нашел в себе мужество и подписал расстрельный приказ. Это тоже было достижением: до приезда Варвары Николаевны Моисей Соломонович старался руководить ПетроЧК мягко, лояльно, насколько это было возможно в тех условиях, в которых находилась страна. «Теперь же он вынужден был, – как писала, хвастаясь, Яковлева, – зашевелиться». Чем и гордилась. Но Варвара забыла о главном: гордецы партии, по крайней мере на данном этапе, были не нужны. А за Яковлевой такой грешок стал заметен еще в столице. А что ж тогда творится тут, в Питере?
Феликс Эдмундович бросил взгляд в сторону подчиненной, снова принялся смотреть в сторону прохожих и домов.
«Гордячка… Гордячка Варвара Николаевна. И кто-то ведь мог на ее гордости сыграть. Почему мог? А если уже сыграл?» И вот тут встает вопрос: может ли он, Дзержинский, ей верить? И тут же напрашивается ответ: нет.
А ему нужен свой человек. Потому, как то, что задумано, сможет выполнить только верный, преданный товарищ. Бокий.
«Глеб – свой человек. Проверенный. И временем, и делами. Если, конечно, Варвара… Нет, не могла. Бокий – другого теста изделие. Чтобы его раскусить, нужно слишком много времени, которого у Варвары не было».
Под монотонное брюзжание Яковлевой Феликс Эдмундович прикрыл глаза.
«Господи, о чем я думаю? А у меня самого есть время? Ведь сейчас все решают не дни, даже не часы. Минуты!»
«Нет, – тут же мысленно поправил сам себя Феликс Эдмундович, – неправильно. Сейчас все решает не время, а правильный расклад, как в картах. Нужно по нарастающей выложить козыри, чтобы после каждой сдачи у Свердлова был ступор. Ведь как думает Яков: он на коне, потому как находится рядом со Стариком. И в своей невежественной самоуверенности не видит всей картинки целиком, а ситуация сегодня должна в корне измениться. Ночью он, Дзержинский, поменял карты, и теперь в руках Свердлова одна шелупонь. Хотелось бы увидеть Яшкину физиономию, когда он услышит неожиданную новость из Питера. А неожиданной новость станет потому, что Свердлов просто не ждет такого ответного хода. Хотя он сам его подсказал в своем ночном обращении».
Вся информация о тайных контактах чекистов с британским посольством находилась только в руках самых доверенных лиц Дзержинского: у Бокия в Питере и у Петерса в Москве. Именно через Глеба Ивановича летом была налажена связь между Петроградом и Москвой, между Петерсом и Шмидхеном со Спрогисом, теми самыми питерскими чекистами, которые под руководством Глеба навели мосты с британцами в Петрограде. И Бокий данной информацией ни с кем никогда не делился. Теперь результатами проведенной в июле операции «по внедрению» следует воспользоваться. Захват британского посольства должен быть стремительным, дабы не успели ликвидировать компрометирующие документы. Шмидхен и Спрогис выступят свидетелями. Но это потом, и то, если понадобится. Сейчас главное – навести шум в Питере. За ним последует цепочка: Москва, Ярославль, Казань… Удар должен быть такой силы, чтобы у Свердлова голова закружилась от непонимания происходящего. И вот когда он, Дзержинский, таким образом выйдет из-под удара, можно будет лично разобраться с товарищем Андреем.
Автомобиль притормозил у входа. Часовой, открыв рот, наблюдал за знакомой фигурой главного чекиста, который стремительной походкой прошел мимо него. Он даже не подумал спросить мандат. За что и поплатился. Феликс Эдмундович резко развернулся, едва не оттолкнув Варвару Николаевну, вернулся к двери.
– Солдат! – тихим голосом обратился к служивому. – Почему у меня не проверили пропуск?
– Так… Я же вас знаю!
– И что? А если меня ведут? Если за моей спиной враг? Враг, который хочет попасть в расположение ЧК? Враг, который использует меня как щит? Вы его тоже пропустите?
Дзержинский отыскал взглядом Яковлеву:
– Сменить! Под трибунал!
– То есть как… – Губы солдата задрожали.
Но Дзержинский уже забыл о часовом. Заложив руки за спину, широким шагом преодолел расстояние от двери до лестницы, после чего стремительно взлетел по ней на второй этаж. Охрана, Яковлева и молодой чекист едва поспевали за ним.
Бокий в это время сидел за своим столом, изучал все дела, которые у него накопились по американцам. Бумаги, которые еще не были рассмотрены трибуналом, Глеб Иванович отложил в сторону. С ними и так все ясно, как день: отпустить. А вот как быть с остальными?
Трибунал утвердил приговоры по семнадцати особам. Троим – смертная казнь. Остальных предлагалось отправить на исправительные работы. На разные сроки. Как быть?
«Может, взять да похерить решение трибунала? – подумал Глеб Иванович. – Пусть мотают в свою Америку. Но как? Сам такое сделать я не в состоянии. Да и не выдадут заключенных без решения трибунала. Опять же, как они покинут Петроград без соответствующих бумаг? Словом, как ни крути, требуется санкция Зиновьева. Опять идти к патлатому. Да что ж за день-то такой…»
За решением этой непростой ситуации его и застал Дзержинский.
Войдя в кабинет, Феликс Эдмундович первым делом качнул головой: мол, сиди, после поприветствуем друг друга. Затем Феликс Эдмундович обернулся к сопровождающим его лицам.
– Варя, подготовь комнату для допроса. Хочу сам, лично, пообщаться с убийцей Моисея. Часа будет достаточно? Вот и умница. Ребятки, – чекист кивнул на стулья в коридоре, – а вы присядьте.
После чего с силой закрыл дверь.
– Ну, здравствуй, Глеб.
Широкие объятия распахнулись для Бокия. Он удивленно смотрел на начальство: такой встречи он никак не ожидал.
Хозяин кабинета присмотрелся к старому товарищу по партии. В основателе аппарата, носящего название ВЧК, что-то изменилось за то время, пока они не виделись. Он стал еще более сухим, изможденным. Хотя, казалось, Дзержинскому больше худеть было уже некуда. Только взгляд Железного Феликса продолжал оставаться чистым и пронзительным, как и при их первой встрече.
В последний раз чекисты виделись во время июльских событий, связанных с эсеровским мятежом, два месяца назад. В те дни Феликс вел себя несколько неадекватно, что заметил не только Бокий, но и другие товарищи. Вспыльчивый, нервный, Дзержинский проявлял смелость, замешанную на страхе и ненависти. Результатом чего стала отставка, по его же собственному заявлению, коим он в те дни переполошил весь аппарат ВЧК. Впрочем, спустя месяц Феликс успокоился, вновь приступил к прежним обязанностям. Что стало причиной столь неадекватного поведения товарища, Бокий мог только догадываться.
Феликс Эдмундович похлопал подчиненного по спине, плечам:
– Похудел, смотрю, отощал.
– Это я-то отощал? На себя давно в зеркало смотрел?
О том, что он заметил, как у Феликса мелко, почти незаметно, дрожат руки, Бокий тактично промолчал. О болезненном состоянии Дзержинского, доставшемся ему после каторги, знали все. Не знали о том, как лечится первый чекист. Бокий знал.
– Ты по мне не равняйся. Как у вас тут?
– Работы много. Особенно в последние дни. Арестовали всех, кто был хоть как-то причастен к убийству Моисея. Круглые сутки мотаюсь между «Крестами» и Гороховой.
– Знаю. Потому и приехал. – Дзержинский окинул взглядом кабинет. – Веселая у вас тут обстановка.
– Яковлева нажаловалась? – догадался Бокий.
– А как же! Не без того. А ты что, от нее другого ожидал? – Феликс Эдмундович ухватил за спинку стул, переставил его в центр комнаты, посередине ковра, оседлал.
– Я от нее, кроме неприятностей, давно уже ничего не ожидаю, – хотел промолчать, но не сдержался Глеб Иванович.
– И давно черная кошка пробежала между вами?
– Давненько.
– Ничего. В свете последних событий скоро все изменится.
Бокий по привычке устроился на краю стола.
– Что слышно в Москве? Как Старик?
– Тяжело. Очень тяжело.
– А в деталях?
– В деталях… – Феликс Эдмундович снова пробежал взглядом по кабинетной обстановке, остановился на графине. Глеб Иванович, сообразив, что к чему, тут же налил воды в стакан. Дзержинский благодарно кивнул головой. – Ильич поехал на завод Михельсона выступить перед рабочими. К десяти часам собралась толпа проводить его. Вот тогда в Ильича и выстрелили. Две пули попали в Старика и одна в работницу, что стояла рядом. – Бокий отметил: Дзержинский не изменился, как обычно тщательно подбирал слова. Феликс сам никогда и ни при каких обстоятельствах не оскорблял женщин и другим не позволял, а потому слова «баба» для него не существовало, он всегда находил ему альтернативу. – Убийцу задержали. Ильичу сделали операцию.
– Это нам известно.
– А большего я не знаю. – Феликс Эдмундович со стуком поставил стакан на стол. – Меня информируют так же, как и вас. И никакой отдельной линии связи с Москвой у меня нет. Вернусь – разберусь, что к чему. Теперь по вашему делу. Во-первых, – без всяких преамбул продолжил мысль гость, – вместо Моисея будешь ты. Рано радуешься. Яковлева – первым помощником. – Дзержинский вскинул руку, как бы прикрываясь. – К себе я ее не заберу, не надейся. Но и ты тут долго не засидишься. Ты мне нужен в Москве, Глеб. Очень нужен! Причем скоро. А потому необходимо, чтобы Варвара находилась в курсе всего происходящего в Питере. Первоочередная задача: навести порядок в городе и губернии! Исходя из того, что произошло сегодня ночью, на складах, она с этим не справится. Так что данная миссия ложится на тебя. Как справишься – сразу ко мне.
– В Москве приняли какое-то конкретное решение? – Бокий почувствовал сухость во рту.
– Пока нет. – Дзержинский резким движением рук оправил низ гимнастерки. – Но, чувствую, в скором времени примут. Враг ожил, Глеб Иванович. Поднял голову. Нанес самый страшный удар, какой только можно себе представить, – покусился на жизнь Ильича. Подобного простить мы не имеем права! И не будем прощать! Сегодня в Совнаркоме рассматривается вопрос о законодательной необходимости проведения акции устрашения. Молчи! Я, так же как и ты, против. Если помнишь, еще в июле была попытка принять подобного рода решение. И если бы не я, террор бы вовсю гулял по России. Только двух наших голосов крайне мало, чтобы встать против решения Совета. Но есть один плюс: рассматривать будут в течение нескольких дней. У нас такого срока нет! Контрреволюция подняла голову. Две недели назад британцы передали одной московской контрреволюционной организации более миллиона рублей. Золотом!
Дзержинский промолчал о том, что те деньги были получены «главой той организации» чекистом Берзиным.
– Как мне доложил Шмидхен, они на днях спонсировали и петроградские ячейки, – вставил Бокий.
– О чем и речь. Мало того, имеется обоснованное подозрение: оба покушения, и на Ильича, и на Моисея, спланированы британцами. А потому первоочередная задача: отрубить контрреволюционной гидре голову.
– Иначе говоря, арестовать британское посольство, – догадался Глеб Иванович.
– Не просто арестовать. Главное: найти и изъять документы, подтверждающие связь британцев с контрреволюцией.
– Кроми?
– Именно!
– Будет международный скандал.
– А разве нас скандалы пугали? К тому же дипломатические отношения с Британией у нас на данный момент разорваны, так что все козыри в наших руках. А если еще и документами Кроми завладеем, тогда нам сам черт не страшен. Сразу вслед за посольством – повальные аресты всех подозреваемых, чтобы не дать врагу никакой возможности прийти в себя. Трибуналу работать круглосуточно! Приговоры приводить в исполнение немедленно! Без задержек! Если кто из чекистов станет саботировать работу, расстрел без суда и следствия. Таково веление времени, Глеб. Не мы начали войну. Но мы ее закончим!
Бокий даже не знал, как отреагировать на слова однопартийца.
– Собственно, задача понятна…
– Вижу, не очень! – Дзержинский кивнул на стоящий у стола стул. – Сядь! Ты что, думаешь в наших интересах положить всю страну в мертвецкую? Нет, Глеб Иванович. В наших интересах, чтобы каждый контрреволюционный элемент осознавал, на что он идет. Решился встать против народной власти – получи! Семья вырастила контру – всю семью на выселение, потому что после смерти родственника в ее лоне новый враг вызреет, еще более злой. И если мы ту семью оставим в тылу, непременно, рано или поздно, получим нож в спину. Об этом тоже должен знать каждый, кто пойдет против нас. Понимаешь? Чтобы каждый из них осознавал, на что он идет и чему подвергает своих родных. Страшно? Да, Глеб, страшно. Но иначе нельзя. Иначе нас сомнут. Будут невинно пострадавшие? Будут. Без этого никак. Но таких будет меньшинство в сравнении с теми, кого репрессируем законно, обоснованно. Такая вот диалектика, Глеб.
– Дрова рубят, щепки летят? На страхе новый мир не построить, – не сдержался Бокий.
– А кто говорит о страхе? Живи нормально, никто не тронет. Не хочешь принимать участие в строительстве новой жизни? Да ради бога, будь наблюдателем. Только не вставай на пути! Палки в колеса никому не позволим вставлять! Покажем слабость – сомнут. Растопчут! Раздавят! И это не мой приказ. Это сердце Ильича приказывает!
– И всем этим будет заниматься только ЧК?
– А кто же еще? – вскинулся первый чекист. – Передовой отряд партии.
Бокий облизал сухие губы: о чем говорить? Говорить не о чем, все решено.
– У меня тут американцы… Вот… – Чекист взял со стола бумаги. – Представители их посольства приходили с жалобой в Петросовет, к Зиновьеву. Угрожали скандалом. Тот приказал всех отпустить. Но тут проблема…
– Какие американцы? – Дзержинский вскочил на ноги. – Пся крев… Америка – не Британия. Эти пока что в помощи нашим врагам замечены не были. Пусть убираются! Чем меньше их здесь будет, тем лучше.
– Но по ним есть решение трибунала. Требуется санкция…
– Моей санкции достаточно? Вот и хорошо. Давай бумагу!
Пока Дзержинский писал, Глеб Иванович мысленно перекрестился: слава богу, хоть одно дело решилось. Хотя нет, не одно. Теперь он глава ЧК. А Варвара у него в подчинении. Это плюс. И огромный плюс!
– Кстати, Феликс. Для выполнения твоего приказа необходима свобода действий. А ее у меня нет. Зиновьев скрутил по рукам и ногам.
– Будет тебе свобода! Только дай результат. А Гришку возьму на себя. Что-то он тут у вас слишком заелся. Поговаривают, обеды дает для своей паствы. И это в голодающем городе! – В голосе чекиста слышалось презрение. Бокий знал, откуда оно исходит.
Зиновьев долгое время считался одним из главных конкурентов во внутрипартийной борьбе и даже представлял некую угрозу лидерству Ленина. Теперь, конечно, положение изменилось. Однако Ильич и преданные ему люди простить, а тем более забыть прошлые «драчки» не хотели и не собирались. Ждали своего часа. Ныне, судя по всему, такой час настал.
А Дзержинский думал об ином.
«Глеб правильно подметил, – размышлял большевик, – чистку должна проводить Чрезвычайка, и только она. Иначе процесс выйдет из-под контроля, и тогда море, океан крови растечется по стране. Но, с другой стороны, чекистами попробуют понукать все кому не лень. Вон взять Зиновьева. Как хитро поступил с американцами! Подсунул их Бокию – разбирайся. А я, мол, с краю, ничего не знаю. Но задерживали-то иностранцев не только ЧК, но и Петросовет. А отдувается один Глеб. Григорий Евсеевич перед американцами чист, аки агнец божий. И таких, как Зиновьев, у нас как тараканов на грязном столе или крыс в подвале. И как тут быть?»
Дзержинский открыл клапан нагрудного кармана гимнастерки, вынул свернутый в несколько раз лист:
– Ознакомься. Я ночью накропал несколько строк по поводу смерти Моисея. Прочитаешь завтра, на похоронах. От имени Совнаркома.
– Может, это лучше сделать Зиновьеву? Как председателю…
– Я сказал: прочитаешь ты. От имени Совнаркома!
– Понял.
– Теперь вернемся к нашим делам. Со слов Варвары, я понял, что ты начал разносторонне вести следствие. Охрану допрашиваешь. Всякие детали по задержанию изыскиваешь. Для чего? Нет, я не против. Твое дело, ты им занимаешься. Только поясни: зачем? Убийца есть. Насколько я понял, ничего не отрицает. Зачем искать то, чего нет?
– А если есть? – дерзко отозвался Бокий и осекся. Черт его знает, что сейчас на уме у Феликса, еще неправильно поймет, его самого причислит к врагам народа.
– Что замолчал? Давай выкладывай.
Что ж, слово не воробей…
– Полной уверенности нет, но, кажется, действиями мальчишки руководили.
– Враги?
– Не исключено. Но вполне возможно, что и из наших. Имею в виду не только ЧК. Петросовет. Комендатура.
– Связаны с контрой? – тут же впился в мысль Бокия Дзержинский.
– Трудно сказать. Таких данных пока нет. Только предчувствия. Единственное, в чем не сомневаюсь, так это в том, что убийство Моисея спланировано не одним Канегиссером. – Глеб Иванович обошел стол, вынул из ящика несколько исписанных листов. – Вот что смогли выяснить мои люди. Кстати, в их наработках имеются расхождения с выводами других следственных групп.
Дзержинский быстро, но, как знал Бокий, внимательно ознакомился с отчетом.
– Ну вот, что и требовалось доказать! Рядом с домом, в который стремился убийца, располагается Британский клуб.
– Но Канегиссер вбежал не в него.
– Но он мог им воспользоваться?
– Но не воспользовался.
– Но мог? – продолжал гнуть свою линию Дзержинский.
– Теоретически да, – вынужден был согласиться Бокий.
– Мог и практически, если бы ворота оказались открыты, – отрезал Железный Феликс. – Ты прав, заговор. Убийство Моисея спланировали, факт. И спланировали наши враги. – Дзержинский мягким, поповским движением провел рукой по бородке. – Вот что, Глеб. Канегиссер должен быть приговорен как террорист, контрреволюционер. Как политический убийца. И никак иначе!
– А если это не так? – продолжал упорствовать Глеб Иванович. – Что, если убийство совершено по бытовым мотивам, а мальчишку просто использовали?
– Кто использовал? Вот! – Первый чекист хлопнул рукой по столу. – О чем и речь! Канегиссер-то сам, конечно, мог убить Моисея из личных мотивов, а вот рука, что направляла его действия, явно была вражеская. Организация! За всем стоит одна контрреволюционная организация!
– Но сам Канегиссер отрицает участие в контрреволюционном движении.
– А что бы ты говорил на его месте?
Бокий стушевался.
Феликс Эдмундович похлопал подчиненного по плечу.
– Любой из нас отказался бы выдать товарищей. В этом мы с ними солидарны. Одинаково мыслим, на одних книгах воспитаны, даже жизненные идеалы, как ни странно, идентичны. Мыслим по-разному, но тут уж… Кому как выпало. Глеб, мне срочно нужны материалы по Кроми. И вообще, что у тебя есть по британцам? Все. Начиная с их помощи Керенскому. Ты писал, будто у тебя появилась докладная записка от шестнадцатого года, по британскому влиянию. Она сохранилась?
На этот раз Глеб Иванович не смог сдержать улыбки.
– Мало того. У меня в камере сидит ее автор. Крайне любопытная, скажу тебе, личность. Служил в «Комиссии Батюшина».
– Ого! – Брови Дзержинского в удивлении вздернулись. – И еще жив? Погоди, погоди… Случаем, не тот офицер, который спрятал два миллиона?
– Варвара нашептала?
– Да-а, – хмыкнул первый чекист, – вижу, между вами не одна, а стая черных кошек пробежала.
– Феликс, поговори с ним до встречи с Канегиссером. Поверь, узнаешь много нового и довольно любопытного. Не поговоришь сейчас, потом тебе станет не до него. Поверь мне!
* * *
Входная дверь скрипнула. Доронин, бросив взгляд на Озеровского, быстро прижал указательный палец левой руки к губам. Нехитрый, но всем понятный знак молчания. Правой рукой чекист медленно, почти неслышно, извлек из кобуры револьвер.
Еле слышные крадущиеся шаги миновали прихожую, после чего приблизились к двери, ведущей в столовую, за которой, затаив дыхание, спрятался Доронин.
Демьян Федорович кивнул следователю, чтобы тот спрятался за буфет, стоящий в дальнем углу. Сам плотнее вжался в стену.
Шаги прошуршали по паркету, приблизились к двери, замерли. Видимо, незнакомец не решался войти внутрь помещения.
Чекист задержал дыхание и тут же сделал стремительное движение телом, выставив перед грудью оружие, в результате чего оказался лицом к лицу с нерешительной личностью, что посмела войти в разграбленное жилище инженера. Нарушителем спокойствия оказалась миловидная девушка лет двадцати, явно из деревенских, которая прибыла в Северную столицу на заработки.
– Вы кто? – Доронин не опускал револьвер.
– Катя. – Девушка испуганно вскрикнула, выронив из рук кошелку.
– Вижу, что не Ваня. Что вы тут делаете, Катя? – Доронин бросил взгляд за спину девушки, однако никого более не обнаружил. Девчонка пришла одна.
– Работаю я здесь. У господ.
– Господ сейчас нет. Есть только граждане. Кем?
– Кухарка. То есть на кухне.
– Понятно. – Демьян Федорович спрятал оружие, поднял кошелку. – И зачем пожаловали?
Та молчала, лишь испуганные глаза говорили о том, что она вменяема.
Доронин обошел кухарку со всех сторон.
– Катя, Катя, Катерина… Вы что, Катя, не знаете, что вашего хозяина арестовали?
– Нет. – Молодуха округлила глаза. – Как арестовали? Когда?
Но Доронина если и можно было провести, то только не такими примитивными приемчиками.
– Ах, Катенька-Катерина. Сейчас посмотрим, что тут у тебя…
Доронин хотел распахнуть сумку, но девушка рысью кинулась к нему, вырвала из рук кошелку, прижала к груди.
– Зачем?
– А на всякий случай.
Матрос протянул руку, рванул кошелку на себя.
Девушка ее не отдала. Только стрельнула в матроса синими глазами. Да такими, что тот едва не задохнулся от восторга.
Озеровский тем временем покинул укромное место за буфетом и вышел на свет божий, чем вторично перепугал девицу.
– Понятно. – Доронин воспользовался секундным замешательством кухарки и вытянул из кошеля знакомый цветастый плат, который, как отметил Аристарх Викентьевич, они видели в одежном шкафу. По комнате тут же распространился жуткий запах нафталина. – Воруем?
– Да что вы такое говорите? – Губы молодухи задрожали. – Как можете? Да что б язык у вас отсох! Мое это, ясно? Забыла! Вот, возвернулась за ним…
– А в столовой что забыли? – Матрос схватил девушка за руку, втащил внутрь комнаты.
– Ничего. Просто решила, что… – Катерина быстрым, цепким взором окинула помещение. Озеровский с усмешкой отметил, как потух ее взгляд. Не считая платка, более поживиться в доме инженера слабым девичьим ручкам оказалось нечем. Все, что она бы смогла унести, вынесли подчистую. Разве что отодвинутый рояль да буфет еще одиноко торчали по разным углам, но те бы в кошелку не поместились.
Катерина, не сдержавшись, тяжко вздохнула.
– Бывает. – Матрос правильно понял ее состояние.
– Так я могу идти? – тут же нашлась кухарка.
Доронин посмотрел на Озеровского: отпускаем или как?
Аристарх Викентьевич отрицательно качнул головой:
– Да нет. Коли уж пришли, давайте побеседуем.
Присесть было некуда, поэтому пришлось допрос проводить стоя.
– Скажите, Катерина, давно при семействе состоите?
– С весны.
– Значит, лето провели у Канегиссеров?
– А где ж еще! – Девушка вырвала из руки Доронина платок, спрятала его в сумку.
– В таком случае попрошу вас припомнить: сын инженера в последнее время дома ночевал или где в ином месте?
– Да где ж дома? У чужих. Сюда только по вечерам, изредка днем наведывался. Придет, чуток побудет – и айда!
– И что он здесь делал?
– А когда что. То с хозяйской дочкой сидят, у ней в комнате. То с батюшкой, то есть с самим хозяином, играют в эти… Как их… Ну, что на доске…
– Шахматы, – подсказал Озеровский.
– Во-во. В них. То просто с книжкой, будто тут читальня, – сердито проворчала прислуга.
– Книги – это хорошо. А что это вы, Катерина, вроде как недовольны молодым хозяином? Вам-то он чем насолил? Дома не проживал. Виделись с ним редко. Прибирать не надо, готовить на один рот меньше.
– Ага, – по эмоциям девицы чувствовалось, что последняя фраза следователя задела нужную струну, – как бы не так! Мало того что готовила на всю их семейку. Так еще и дружка сынка подкармливала. Кажен раз ему что-то на Васильевский свозил. В корзиночку аккуратненько положит, салфеточкой прикроет. Поговаривает: мол, сегодня попируем. А дружок-то его такой прожора, не дай боже… И главное, только вкусненькое любит. Кулебяку с грибами ему подавай! А где я грибы найду? Щас вон какое время, не то что по лесам, по городу днем ходить страшно.
– А с чего вы взяли, будто Леонид жил у друга, а не у подруги?
– Тоже скажете – у подруги. – Девчонка замахала полной, с короткими пальцами ручкой. – Да разве женщина столько сможет сожрать? Почитай, неделю, чуть ли не кажен день барчук отвозил то картошку, то мясцо, то кольцо колбаски, то хлебушко. Кулебяку, чтоб ее… И все как в прорву!
– Про Васильевский сам барчук говорил? – неожиданно вклинился в разговор Доронин. «Молодец, – мысленно похвалил матроса следователь, – подметил».
– Куда там! – Девица снова стрельнула в Демьяна голубизной своих глаз. – С нами их благородия не разговаривали. Мы ж для них прокаженные. Кучер их туда отвозил, Матвейка. Вот от него и прознала, что они на Пятую линию ездили.
– Пятая? Очень хорошо! А где сейчас кучер? – быстро отреагировал Аристарх Викентьевич.
– Да кто ж его знает. Раньше тут отирался. А щас… Кто знат, куды пристроился.
– Даже приблизительно не знаете?
– Не ведаю.
Матрос бросил взгляд на Озеровского: как быть?
Аристарх Викентьевич тут же нашелся:
– Сейчас попробуем выяснить.
Кинулся к телефону, тот, на счастье, работал.
– Простите, – услышал Доронин неуверенный голос следователя, – с вами говорит Озеровский. Мой звонок не помешал вам? Еще раз приношу извинения, но нам нужно выяснить… Прошу прощения, что?
Демьян Федорович матюкнулся в душе, прошел в коридор, вырвал трубку из руки старика. По пустой квартире раздался мощный бас:
– Конюхов, ты? Ты на меня, зараза сухопутная, горлянкой не дави. Раз звоним, значит, по делу. – Катерина с восхищением, во все глаза глядела на грозного чекиста: эх, вот такого бы в мужья… – Вот что, одна нога здесь, другая там: срочно найди адрес Матвея… – Чекист запнулся. – Как его… Эй, Катерина, как фамилия кучера?
– Поливанов. – У девчонки даже голос изменился. Стал мягким, почти нежным. Озеровский только покачал головой: ох уж эти женщины…
– Матвея Поливанова адрес. Это по делу Соломоновича. И не ложи трубку! Я жду!
Доронин, прикрыв трубку широкой ладонью, склонился к Озеровскому:
– Аристарх Викентьевич, ежели вы и дальше будете вот так дела вести, толку не будет. Прошу прощения, извините, простите… Нечего сопли по палубе размазывать. Вы в ЧК работаете? В ЧК! И он в ЧК! И его обязанность – вам помогать. И не просить нужно, а приказывать.
Следователь хотел оправдаться, но Доронин уже слушал ответ.
– Что говоришь? Арестован? А с чего арестован? А, всех брали… На всякий случай? Понятно. Нет-нет, это даже очень хорошо! Нет только кухарки? – глянул на Катьку. Та остолбенела. – Не можете найти? Ясно. А где держат? В «Крестах»? Спасибо. Будь!
Трубка легла на рычаг.
– Катерина! – Матрос позвал девушку. – А как ты на свободе задержалась?
– Так за продуктами ушла, – в глазах слезы, – прихожу, а тут ваши. Хорошо, не успела в дом войти, а то бы…
– Сообразительная, значит?
– А че тут соображать? Подхожу, у ворот конка, барина выводют под руку, крепенько так держат. Че тут смекать, и так все ясно.
– Смотри, – Доронин кивнул головой в сторону комнат, – будешь ентим делом заниматься, недолго на свободе погуляешь.
– Так ведь жить-то надо, – дерзко парировала Катерина. – Так как? Могу идти?
– Топай, – отмахнулся чекист, – только сюда не возвращайся.
Слезы вмиг высохли. Девица фыркнула, еще разок обожгла матроса синими искрами глаз и, мотнув юбками, убежала.
– А круг-то сужается, – заметил Аристарх Викентьевич. – Дом на Васильевском… На Пятой линии… Это не Перельцвейг, у того был иной адрес. И не девица. Получается, был некто третий. Что думаете, Демьян Федорович?
– Да хрен их, пидоров, разберет, – чекист зло сплюнул, – ничего не думаю и думать не хочу. Не хватало, чтобы у меня башка трещала из-за всяких… – Доронин грязно выругался, после чего чуть успокоился. – Студент этот говорит, будто убил Соломоновича из-за этого… Перельцейга.
– Перельцвейга, – поправил Озеровский, но Демьян Федорович не обратил внимания.
– Так сказать, из чувств внутренних. А какие ж внутренние чувства, ежели ты живешь с другой… Ну или иначе. – Матрос смутился, махнул рукой. – Вы правы: соврал студент. И Глеб Иванович прав: без политики не обошлось!
– Да при чем тут политика, Демьян Федорович? Я как раз думаю иное.
* * *
Выполнить просьбу Бокия оказалось проще, нежели представлял себе Белый. Мальчишка сам «излил душу» малознакомому человеку, волею судьбы оказавшемуся в одной камере с ним. Достаточно было слегка, как бы случайно, «надавить на некоторые струны его возвышенной, поэтической души».
Все, собственно, с поэзии и началось.
Олег Владимирович, вернувшись с допроса, упал на нары, как обычно, прикрыв глаза локтем руки.
Студент, до того молча бродивший из угла в угол по камере, быстро присел возле сокамерника:
– Ну, о чем говорили?
– Ни о чем, – вяло отозвался Олег Владимирович.
– Как ни о чем? – удивился Канегиссер.
– По крайней мере не о вас.
– Вот как. А как же письмо? Вы же сами сказали, результат появится сразу.
– Он и появился, – Белый опустил руку, открыл глаза, – арестовали вашего человечка.
– И что теперь будет?
– Поживем – увидим. Главное, теперь не только вы находитесь в поле зрения ЧК. А это хоть и призрачный, но шанс.
Олег Владимирович замолчал, снова сомкнул веки и вдруг вполголоса продекламировал:
Время пришло Отпустить свою вольную душу, Пусть-ка надышится, Пусть наболеется всласть, Пусть нарыдается, Не зарывая в подушки Нетерпеливость И гордую терпкую страсть. Вон как звенит, Полонит звездопадное небо, Ясная темень Накроет меня и тебя Легкой прохладой Ночного тончайшего крепа — Освобожденную душу И звезды знобят. Нам ли с тобою, Сомненьями разными мучась, Так и остаться С собою один на один? Время пришло. Неизбежная сладкая участь: Вольному – воля, И снова вся жизнь впереди…– Простите, это вы к чему? – Канегиссер присел на свой топчан. – Думаете… нас… расстреляют? Да?
– Ну, о вас, молодой человек, вопрос спорный, – полковник некоторое время размышлял, стоит ли перевернуться на бок. Ребра ныли, любое изменение позы отдавалось болью в боку и позвоночнике, – а вот по поводу меня… Признаться, сам удивлен, что до сих пор жив. Наверное, секретарь небесной канцелярии год назад закинул мое дело в стол да забыл его оттуда вынуть. Ничего, на днях вспомнит и обо мне.
– Так спокойно говорите про такие вещи. Неужели вам не хочется жить?
– Представьте себе, нет.
– Странно, – в голосе юноши слышалось недоверие, – мне всегда казалось, что любой человек хочет быть бессмертным. Дышать, чувствовать, ощущать. Непонятно, как можно желать смерти?
– Не просто желать. Жаждать, – вставил Белый еще более неожиданную реплику. – Жизнь, молодой человек, должна быть во имя чего-то, а не просто физическим существованием. Постояльцы «желтого дома»[30] тоже живут. Но разве мы сие существование считаем полноценной жизнью?
– Однако и умирать никто из них не желает. А вы стремитесь к иному.
– У каждого имеются свои причины для странных поступков. А те постояльцы, к слову сказать, не думают над бренностью жития. Просто существуют. На физическом уровне.
– Вы потеряли цель? – вопрос заставил полковника вздрогнуть. «А мальчишка-то непрост!»
Белый, не открывая глаз, сделал вид, будто усмехнулся:
– Я потерял то, что называется «во имя». А более меня на этом свете ничто не держит.
– А меня держит. Я еще надеюсь выжить, – тихо отозвался Канегиссер, – и жить долго. Ведь это так здорово – жить.
– Может быть, – устало отозвался полковник.
Наступила тишина. Неприятная. Гнетущая. Напряженная.
– Хотите, почитаю вам свои стихи? – встрепенулся юноша. – Говорят, я неплохо сочиняю.
– Стихи не сочиняют, – веско заметил Олег Владимирович, – ими живут. Впрочем, послушаю с удовольствием.
Юноша вскочил с нар, оправил куртку, по привычке прижал к сердцу ладонь правой руки, смутился, вернулся на топчан.
– Я вас слушаю, – напомнил Белый.
Леонид снова встал:
Лунные блики, стройные башни, Тихие вздохи, и флейты, и пашни, Пьяные запахи лилий и роз, Вспышки далеких, невидимых гроз…– А можно что-нибудь другое? – неожиданно перебил полковник. Олег Владимирович приподнялся, опершись рукой о топчан. – Признаться, сия помпезная поэтика никак не располагает к нашей обстановке. Не находите?
Юноша обиженно прикусил губу:
– В свое время этими строками восторгались.
– Где? В салонах? Вполне возможно. Только не в нашем погребе.
Белый снова откинулся на спину:
– Если ничего более не можете припомнить, лучше помолчите.
– Отчего ж? – встрепенулся студент. – Только не смейтесь. Я эти строчки посвятил сестренке. Она у меня глупая, но я ее люблю. Читать?
– Весь внимание.
Не исполнив, Лулу, твоего порученья, Я покорно прошу у тебя снисхожденья. Мне не раз предлагали другие печенья, Но я дальше искал, преисполненный рвенья. Я спускался смиренно в глухие подвалы, Я входил магазинов в роскошные залы, Там малиной в глазури сверкали кораллы И манили смородины, в сахаре лалы. Я Бассейную, Невский, Литейный обрыскал, Я пускался в мудрейшие способы сыска, Где высоко, далеко, где близко, где низко, — Но печенья «Софи» не нашел ни огрызка!Последнюю фразу молодой человек произнес со смехом. Видимо, припомнив реакцию девушки, когда вместо печенья преподнес листок, исписанный строчками только что прочитанного стихотворения.
Олег Владимирович тоже улыбнулся: слава богу, мальчишка, кажется, немного оттаял. А то все замкнут, испуган.
– Печенье «Софи», – мечтательно произнес Белый, – светлое прошлое старого города. А что, если, – Олег Владимирович мечтательно сложил руки за голову, – Леонид Иоакимович, взять да и сказать нашим палачам перед смертью последнее желание. Мол, хочу печенье «Софи»! А желание приговоренного к смерти, как известно, – закон. Вот будет комедия. Любопытно, сколько господа чекисты будут искать? Как думаете?
– Вы серьезно?
– Нет, конечно. Почитайте еще. Кстати, у вас неплохо получается, что редкость для поэтов. Скольких знавал, никто толком не мог свои творения прилично озвучить. Только что-нибудь из личного. Послание девушке, к примеру. У вас ведь есть зазноба?
Молодой человек стушевался. Руки быстро спрятались в карманы. Взгляд забегал по стенам, потолку. Белый с любопытством наблюдал за сокамерником.
– Вас что, смутила моя просьба? Или вы не писали для юных, взбалмошных особ? Или у вас нет девушки? В таком возрасте и ни разу не быть влюбленным? А может, вы сторонитесь слабого пола? В свое время они вам насолили, так?
– Что вы понимаете? – ни с того ни с сего вдруг сорвался юноша. – Никто мне не насолил. Да мне, если хотите знать, они все противны! Ненавижу! Ненавижу все, что с ними связано! Едва себя сдерживаю, когда вижу, как они ломаются, строят из себя Бог весть что… – Левая рука вырвалась из кармана, устремилась к губам взрослого мальчишки. Зубы молодого человека моментально вгрызлись в ногти. – Терпеть не могу их кривляние, позирование, жеманность…
На лице юноши отразилась явная, открытая брезгливость.
«Вот ты и раскрылся, – усмехнулся про себя полковник. – Даже особых усилий прилагать не пришлось».
– И давно это у вас? – равнодушным голосом поинтересовался Олег Владимирович.
– Что? – сделал вид, будто не понял, Канегиссер.
– То самое… И перестаньте ломать комедию. Родители-то хоть знают о ваших, как бы так мягко выразиться, увлечениях? Или находятся в неведении?
– Знают, – молодой человек сокрушенно опустил голову, – и это боль всей моей жизни.
– Понятно, не поддерживают. Случается. Давно заметили за собой сие, скажем так, заболевание?
– И никакая это не болезнь, – чуть не выкрикнул Канегиссер, – древние греки не брезговали сильными страстями и не считали однополую любовь чем-то непристойным.
– Так то ж греки. К тому же древние. Римляне, кстати, тоже любили экзотику, – не скрывая улыбки, заметил Олег Владимирович, – но истины ради следует заметить: и те и другие одинаково относились как к мужчинам, так и к слабому полу. Имею в виду одинаково во всех смыслах. Иметь наследника было престижно. А мужчина, простите, даже в древние времена такого предоставить не мог. А вы, как я понимаю, собираетесь отказаться от близости с женщиной и тем самым лишить свой род продолжения. Может, именно это нервирует ваших близких? Не задумывались над таким вопросом?
Леонид впервые, с момента начала беседы, взглянул Белому в глаза. А вдруг тот насмехается? Нет. Глаза сокамерника смотрели серьезно, пронзительно.
– Думаете?
– Уверен. Вполне возможно, родители рассчитывали на вашего брата. Но он погиб. Остались только вы.
– И сестра.
– Лулу выйдет замуж, продолжит чужой род. Такова жизнь. А ваш отец желает продолжения своей фамилии. И тут помочь ему можете только вы.
– Мы евреи. У нас род идет по женской линии.
– Но фамилия-то по мужской. Очень сомневаюсь в том, что ваш батюшка, родившись и выросши в России, впитав в себя ее суть, рьяно придерживается кровных традиций.
– Знаете, как-то не задумывался над этим. Я вообще никогда не думал о будущем.
«Дурачок, – мысленно крикнул Белый, – думать нужно всегда. Особенно тогда, когда на кону стоит жизнь».
– Урицкий стоял между вами и вашим другом?
Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что юноша вздрогнул. Худые плечики опали, обвисли.
– Я не хочу отвечать.
– Ваше право.
«Ай да Бокий, ай да сукин сын! – мысленно похвалил чекиста полковник. – Просчитал мальчишку».
– Итак, во всем виновата любовь, – выдохнул Белый, – старо, как мир.
Через минуту Канегиссер, свернувшись калачиком на нарах, выдохнул:
– Все так запутанно. Так странно.
Белый присел. Ждал продолжения. И дождался.
– Это я для господ чекистов придумал, будто убил Урицкого из-за Перельцвейга. На самом деле мы с Володей давно разошлись. Еще два месяца тому назад. Я от него переехал на набережную Фонтанки. – Белый вздрогнул, когда услышал адрес. Впрочем, молодой человек ничего не заметил. – А Володя… Я думал, он станет меня уговаривать, ревновать. А он… Понимаете. – Леонид заговорил быстро, еле внятно, однако Белый его не перебивал, не переспрашивал, даже когда недопонимал некоторых фраз. Понимал: переспросить – остановить мальчишку, тот замолчит и более не откроется. – Я больше так не мог. Для Володи вся и все на этом свете был только он один. Я! Это его эгоистическое «я». Везде и повсюду только «я». «Я» и никто другой. – Канегиссер с силой мотнул головой, так, что послышался сухой хруст позвонков. – А я в Михайловское пошел только потому, что он настоял. А мне-то оно было к чему? Я о погонах не мечтал. Нет, заставил. Мол, давай вместе. На всю жизнь! А сам даже фамилию изменил, когда подавал документы. Струсил, побоялся, что не примут с жидовской фамилией. А потом… Эти вечные встречи, гулянки, гости… Шум! Вонь! Грязь! Пьяные рожи! Когда не было водки – кокаин. Курсанты с бабами. Я поначалу терпел. Потом сорвался. Не выдержал. Ушел. Поначалу он ходил за мной, преследовал. К родителям приезжал. Плакался. Умолял вернуться. После стал угрожать. Я тогда временно жил на Васильевском, буквально пару ночей провел. Нашел, выследил. Пришел. В дверь кулаком начал саднить. А как увидел, с кем я, перепугался. Весь затрясся, будто от холода. Прижался к стене. А дальше…
Леонид нервно облизнул губы.
Белый понял: сейчас услышит самое главное.
Однако продолжить рассказ студент не успел. Со стороны двери послышался знакомый скрежет, в образовавшемся проеме появилась знакомая голова охранника Попова:
– Беляк, с вещами на выход. Быстрее.
* * *
Озеровский, сложив за спиной руки, терпеливо ждал, когда Доронин выговорится. А того несло не на шутку.
– Все ваша, дворянская порода! Наплодили ублюдков, а нам разгребай.
– Простите, Демьян Федорович, но мы, в том числе и я, ничего подобного не плодили, – глухо отозвался старик.
– А кто ж еще? – Чекист распахнул руки. – Мы, что ли? Более, акромя вас, некому! Нашему люду не до этого. Возле станка или в поле ухайдокаешься – хоть бы свои грабли до бабы донести. А уж о всякой дряни и не думается. Это вам, дворянам, которые с жиру бесятся, все подавай эту… как его… боцман говорил… да как же ее… Вспомнил: эзотику!
– Экзотику?
– Точно! О, и вы про нее знаете! Что и требовалось, как говорится, доказать.
– Господи, да дворяне-то тут при чем? – устало отмахнулся Аристарх Викентьевич. Бессмысленный разговор начинал раздражать. – Если б только в нас заключалась беда… В античной Греции и в Древнем Риме многие патриции занимались подобными вещами. И это не считалось чем-то извращенным. Так то происходило две тысячи лет тому назад. Две тысячи лет прошло, и ничего страшного с человечеством не произошло. А Средние века? А минувший, просвещенный девятнадцатый век?
– Вы что, хотите сказать, будто в прошлом веке этим тоже занимались?
– Конечно.
– Рабочие и крестьяне?
Озеровский споткнулся.
– Нет… Впрочем, не знаю… Может, кто из них…
Матрос взорвался.
– Ты мне тут не юли! – Доронин и сам не заметил, как снова обратился к следователю на «ты», вторично за день. – Был такой факт, чтобы рабочего человека поймали за подобным или не было? Только в глаза отвечай!
– В моей практике не было, – с трудом скрыв улыбку, вынужден был признать Аристарх Викентьевич.
– Во! – распетушился чекист. – И не могло быть! Потому как рабочему человеку некогда думать о всякой мерзости. Ему вкалывать нужно, чтобы семью прокормить. Работать. Зарабатывать. А всей этой гадостью, – матрос брезгливо сплюнул на тротуар, – занимаются только те, кто жирует. Кому делать нечего. У кого времени много, как у этих ваших греков. От скуки и от жира все это.
– Демьян Федорович, я вовсе не хотел вас обидеть. И вообще этот разговор не приносит мне никакого морального удовлетворения.
Чекисты, покинув дом Канегиссеров, решили немного размять ноги и теперь стояли на набережной Невы, так как не могли определиться, куда следует ехать дальше: на Гороховую, как предлагал матрос, или на Дворцовую площадь, как настаивал Озеровский, чтобы провести допрос старика-лифтера.
Самое любопытное заключалось в том, что в душе Аристарх Викентьевич искренне поддерживал чекиста. Ему самому мужеложество было крайне противно своей противоестественной сутью. Старик всегда, еще с юношеских лет, брезгливо относился к гомосексуализму. Тем не менее следователь являлся ярым противником того, чтобы обливать грязью, и уж тем более наказывать, только за то, что эти люди, как считал Аристарх Викентьевич, являются психически больными. «Лечить следует, – всегда говорил он своим знакомым, едва разговор касался столь щекотливой темы, – а не распихивать по тюрьмам». И искренне считал, что именно так оно и должно быть.
– А кто такие патриции? – вывел старика из задумчивости вопрос Доронина.
– Патриции? Вроде как наша интеллигенция.
– Понятно, держиморды, – воспринял по-своему ответ матрос. – Тогда все ясно!
– Опять двадцать пять! – на сей раз Озеровский решил себя не сдерживать. – Ну, поймите же вы, наконец: интеллигенция – это не живодеры и не прыщи на теле народа, а цвет любой нации. Это те люди, которые создают культуру, науку, искусство, технику. Одним словом, движители прогресса. Вот, к примеру, ваш маузер создал интеллигент.
– Но-но, мой пистоль сделал наш брат, рабочий. На станке.
– Правильно. Но придумал-то его не он, а интеллигент. Инженер. И дома, что стоят вокруг нас, спроектировали интеллигенты, архитекторы. Да, сделали, построили их рабочие, но придумала интеллигенция! Корабли, на которых вы плавали…
– Ходил.
– Простите, что?
– На кораблях не плавают, а ходят, – недовольно уточнил Доронин.
– Даже так? – удивился старик. – А я не знал. Но от этого суть не меняется. Так вот, те корабли тоже построили рабочие, но спроектировали их инженеры. Опять-таки интеллигенция.
– Вас послушать, так, получается, рабочий человек без этих ваших… Никуда. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Дурачок он, по-вашему, получается. Куда поведут, туда и пойдет?
Доронин поморщился: «Нет, все-таки прав Попов: сатрап он и есть сатрап, своих выгораживает».
– Я ничего подобного не говорил и не имел в виду. Однако без интеллигенции нет ни настоящего, ни будущего. Они – творцы. И вы в этом скоро сами убедитесь.
– Хитро! Выходит, без вашего брата наш брат, пролетарий, ничего сделать не в состоянии? Ну, предположим, маузер – понимаю. А что еще придумали эти самые… патриции? Ну, окромя домов?
Озеровский не заметил хитрости в голосе чекиста.
– Многое. Аэропланы. Паровозы. Телескопы. Синематограф. Книги. Романы. Стихи.
– Во-во, – тут же едко оборвал следователя Демьян Федорович: таки сумел поддеть старика. – Не в бровь, а в глаз. Патриций-то наш, что Соломоновича грохнул, тоже стишками баловался. Ихтелигент хренов. – И, тяжело вздохнув, Демьян добавил: – А вы говорите, будто не от них енто педерячество исходит. То-то, сосед мой, техник с депо, тоже себя инженером называет, а рожа бабья. Теперь понятно, от чего у него голос писклявый. Ладно, – неожиданно оборвал спор матрос, – ну их к лешему, всех этих… Куда едем?
* * *
Бокий «принял» полковника в дежурной комнате. Расписавшись в «арестантской книге», Глеб Иванович указал заключенному в сторону лестницы: мол, прошу, и первым принялся подниматься по ступенькам. Олег Владимирович последовал за чекистом. Замыкал шествие Попов с заряженной винтовкой наперевес.
«Странно, – размышлял по пути Белый, – почему Бокий лично пришел за мной? Раньше подобного не было. Что-то произошло. Но что? А если это последний жест представителя власти – проводить смертника к месту казни? – Полковник с силой сцепил спрятанные за спину руки в замок. – Черт, с чего это тебя вдруг стала так беспокоить собственная жизнь? Или трусишь? Одно дело – бравада перед мальчишкой и совсем иное – встать к стенке через несколько минут? Так, что ли? Нет, не так. Что же тогда? Бокий. – Пальцы рук сжались сильнее. – Да, все этот проклятый чекист. Заставил его забыться. Втянул в свою игру. И, что греха таить, его действительно заинтересовало дело студента. Ай да Глеб Иванович, до чего хитер, сукин сын. Но все-таки куда ведут?»
Расстрельные камеры находятся в подвале, а они миновали коридор, соединяющий здание тюрьмы с главным помещением, снова поднимаются наверх.
На лестничной площадке Бокий неожиданно спросил:
– Ну как, получилось что-то узнать?
– Ваши подозрения обоснованны. Он именно тот, что вы думаете.
– Понятно, – как-то странно бесцветно выдохнул Глеб Иванович, что удивило Белого. «Зачем, если это не имеет никакого значения, было просить?»
«Знакомый коридор. Знакомые двери кабинета Бокия виднеются вдали. На допрос, что ли? Тогда почему просто не прислал конвоира? Зачем сам пришел? Решил прогуляться? Засиделся в кабинете…»
Глеб Иванович сделал шаг в сторону, пропуская идущих навстречу, несших папки с делами двух чекистов. Перед взором Белого на миг открылось коридорное пространство. И этого мига оказалось достаточно, чтобы он оторопел. Сердце Белого захолонуло. Перед кабинетом Бокия, на стуле, он увидел до боли знакомую юношескую фигуру в кожаной куртке.
«Саша?! – боль моментально сдавила виски, озноб, пробежав по спине, ударил в ноги. – Не может быть! Нет, нет, этого не может быть! Я схожу с ума? Откуда здесь быть Саше? Саша умер год назад. Но почему я его вижу? Или…»
Бокий снова ступил на ковровую дорожку. Белый последовал его примеру, слегка уйдя вправо, чтобы можно было из-за его плеча рассмотреть молодого человека. «Прическа? Его. Прямые волосы, пробор, как он любил, с левой стороны. Скулы… Скулы не его: крепкие, литые. А ямочка на подбородке? Есть! Руки… Руки с длинными, тонкими пальцами. Неужели жив?»
Сердце заколотилось в грудной клетке.
Белый сбился с шага. Конвоир слегка ударил прикладом винтовки по спине:
– Не балуй, ваше благородие.
Олег Владимирович тут же наклонил голову, спрятался за спину чекиста.
«Но что он здесь делает? Арестовали? Не похоже. Сидит в коридоре, спокоен. Опять же кожаная куртка. Неужели Сашка, мой Сашка – чекист? Я его не видел больше года. За такое время черт-те что могло произойти! Но как он мог стать чекистом? Неужели у них там, в ЧК, не споткнулись о фамилию?»
Группа неспешно приближалась к расположившейся на стульях группе молодых людей.
– Мичурин! – Олег Владимирович вздрогнул. Знакомую, столь дорогую фамилию произнес один из сидевших у стены. – Не в службу: сгоноши водички!
«Чекист! – теперь не оставалось никаких сомнений. Олега Владимировича охватила радость. – Взял фамилию Полины. Молодец! Сообразил! Господи, – взмолился полковник, – только бы Санька меня не узнал! Помоги! Сделай так, чтобы отвернулся! Пусть отвернется! Пусть уйдет! Пусть пойдет искать воду, черта, дьявола, но только не смотрит на меня! Узнает – ничто его не спасет!»
Когда до чекистов оставалось несколько шагов, Саша, будто услышав мольбу отца, поднялся, стянул с себя куртку, повернулся спиной к Бокию и Белому, принялся пристраивать на стуле кожанку, чтобы потом спуститься на первый этаж, за водой. Олег Владимирович с трудом перевел дыхание. Пронесло…
Первое, что отметил Глеб Иванович, войдя в кабинет, было то, что руки у Феликса Эдмундовича перестали дрожать. «Приступ прошел, – с сочувствием догадался Бокий. – Либо сам успокоился, либо, что скорее всего, принял лекарство».
О нервных взрывах Дзержинского чекист знал не понаслышке. Сам неоднократно становился свидетелем его резких, неожиданных вспышек. Что, впрочем, вовсе не отталкивало от общения с Феликсом. Даже наоборот. Потому как понимал: сию тяжкую хворь Феликс приобрел в сырых тюремных казематах и на каторге.
Дзержинский тем временем внимательно всматривался в лицо Олега Владимировича. Узкие щели глаз чекиста исторгали любопытство. Белый ответил тем же. Перестрелка взглядами затянулась. Первым не выдержал Феликс Эдмундович.
– Прошу! – Рука руководителя ВЧК указала на стул. – Располагайтесь. – Феликс Эдмундович представился, после чего продолжил: – Признаться, никак не ожидал увидеть в живых одного из членов комиссии Батюшина.
– Отчего ж так? – как можно спокойнее отозвался Олег Владимирович. А в голове крутилось: «Саша, Сашенька, Санюха. Скорее всего, он прибыл в Питер с ним, с этим худым, поджарым человеком. Имя которого теперь знала вся Россия. И боялась его. Получается, Сашка служит в Московской ЧК. Под фамилией матери. Вот почему сынок смог пройти проверку и там им никто не заинтересовался. Да и какая сейчас может быть качественная проверка? Большинство документов уничтожено. В дело идут только показания свидетелей. А в Москве таковых никто не найдет».
В былые времена Олег Владимирович нынешнюю столицу Советов посещал неоднократно, всегда только один, и при этом никому и никогда не рассказывал о своей семье. По этой причине сегодня в Москве никто не смог бы связать Сашу Мичурина с полковником Генштаба Белым.
– Насколько помню, – с трудом продолжил мысль арестованный, – из нашей комиссии уцелел не только я, но и сам Николай Степанович.
– Да, да, – согласился Дзержинский, беря пример с Бокия и усаживаясь на угол стола, напротив полковника, – и выпустили его на свободу, к слову сказать, мы. Кстати, если не ошибаюсь, вместе с вами.
– Совершенно верно, – согласился Белый, – только меня потом снова арестовали.
– Действительно. – Дзержинский рассмеялся. – В таком случае сам собой напрашивается вопрос: отчего вы не ушли вместе с Батюшиным на юг? Олег Владимирович, лично мне показалось странным, что вы решили остаться на красной территории. – Феликс Эдмундович говорил не спеша, будто у него имелась масса времени. – Вы должны были, по крайней мере я так думаю, прекрасно отдавать себе отчет в том, что рано или поздно придется выбирать между нами и ими, то есть теми, с кем сегодня генерал Батюшин. И если бы вы перешли в стан врага, ваш выбор был бы вполне понятен и логичен. Там, за линией фронта, находятся ваши соратники. Единомышленники. Друзья. Однако вы делаете нестандартный ход. Возвращаетесь в Питер. Как мне доложили, сами сдаетесь чекистам. На следствии ведете себя только с положительной стороны.
– За исключением… – заметил Белый.
– Вы имеете в виду деньги Губельмана? – Дзержинский провел рукой по волосам на голове, как бы приглаживая прическу. – Сумма, не спорю, приличная. И она сегодня ох как бы помогла нашей республике. Но в данном вопросе, как это ни странно звучит, я на вашей стороне.
– Потому что знаете, что не сможете воспользоваться деньгами?
– Нет, причина в ином. Я вас прекрасно понимаю. И чтобы не быть голословным, поясню. Ведь вы как думаете? О том, чтобы оставить деньги себе, у вас и в мыслях не было. Иначе бы ушли за кордон. Ненависть, Олег Владимирович. Вами руководит простая, банальная ненависть к тем, кто сломал вашу судьбу. И эти люди не из нашего, а из вашего лагеря. В силу обстоятельств вы оказались в точно такой же ситуации, в какой некогда был я. Ваши бывшие друзья, товарищи, коллеги в одночасье стали вашими и, так уж вышло, что и нашими общими врагами. Вы хотите отомстить? Мы тоже. У вас свои причины, у нас свои. Но цель одна. Так почему бы, в таком случае, вам не встать в один ряд с нами?
– А смысл? – Белый постарался привнести в интонацию голоса как можно больше тусклости. – Чтобы в дальнейшем все едино быть расстрелянным или повешенным? Для чего тратить час?
– Почему вы уверены, что мы поступим с вами именно так?
– Потому что у вас нет иного пути, – уверенно отозвался полковник. – Любой бунт – кровь. Тот, кто хоть однажды вкусил крови, жаждет вкусить ее вторично. Все закономерно. Вспомните Французскую революцию, чем она закончилась?
Феликс Эдмундович пересел со стола на стул, откинулся всем телом на спинку, закинув ногу на ногу.
– Любопытная вы личность. Не хотел бы я иметь вас личным врагом. Умный, опытный, главное, любящий Родину враг. Любопытная комбинация качеств.
– Чтобы я перестал быть вашим врагом, меня следует расстрелять.
– Ну, это-то всегда успеем.
Чекист долго, задумчиво смотрел на арестованного. Бокий оказался прав: очень интересный экземпляр.
– Ваша позиция, Олег Владимирович, мне понятна. Вот что до сих пор неясно, почему ваш руководитель Батюшин решил перейти на сторону тех, кто, как и вас, лишил его как настоящего, так и будущего? Ведь, насколько мне известно, Николай Степанович был категорическим противником отречения Николая? Мало того, сам никогда не отрекался от своих мировоззрений. И вдруг оказался в стане тех, кто заставил царя подписать отречение. Почему не уехал за границу? Зачем решил поддержать тех, кто сверг его идеал, а потом посадил в «Кресты»?
– На данный вопрос у меня нет ответа. Точно так же, как у меня нет ответа на вопрос: почему сегодня воюют друг против друга те, кто вчера стоял в одном окопе против германца? Что случилось с нами, что мы готовы убивать не немца, не японца, а своего родного брата? Согласитесь, парадоксально.
– Я бы так не сказал. – Дзержинский отрицательно покачал головой. – Знаете, в чем заключена специфика новой войны? В том, что и мы, и вы воюем за одно и то же: за любовь к Родине. Только любовь у нас с вами разная. У вас – с беседочками на даче, томиком Фета в руке, оркестром в городском саду, с солидным счетом в банке, прислугой и ежегодными поездками на воды. У нас – с крестьянами, землей, заводами, окопами, кровью, малярией, голодом и безграмотностью. Вот так, господин полковник. А беседочку в саду хочет иметь каждый. У вас с Батюшиным имелись личные расхождения? Или служебные?
– Ни того, ни другого. – Белый положил ногу на ногу, придерживая шинель рукой. – Николай Степанович даже после ареста никак не мог поверить в то, что его предали свои же люди. Те самые людишки, которые первыми ратовали за то, чтобы провести полную инспекцию. Мало того, они активно помогали нам, пока мы разбирались с их конкурентами. Но как только дело коснулось личного кармана… Да что там вспоминать? Думаю, вам и так все известно.
– В общих чертах. Как думаете, Батюшин возглавит контрразведку Юга? Доверят ему такое дело?
Белый задумался.
– Нет, – спустя несколько секунд проговорил арестант. И добавил кивком головы, как бы утверждая вышесказанное: – Данную должность он не займет.
– Откажется?
– Не в том дело. Ему ее никто не предложит. Максимум – начальник особого отдела армии. Да и то, если командующим будет человек из близкого окружения Николая Степановича. А таковых раз-два и обчелся.
– Недоверие?
– Причина в ином. Батюшин никогда и ни перед кем не станет стелиться. К тому же кому хочется иметь под боком человека, на которого еще при царе-батюшке навешали всех собак и обвинили во всех смертных грехах? Вспомните, о чем только не писали в газетах про нашу комиссию. К тому же некоторые генералы, из числа тех, что сейчас находятся по ту сторону, принимали личное участие в некоторых финансовых махинациях и проходили по материалам нашей комиссии.
– Понятно.
Дзержинский бросил взгляд на Бокия, оседлавшего край стола:
– А мы все ломали голову: почему Батюшина «затерли»? Ларчик-то просто открывался. – Взгляд Феликса Эдмундовича вновь вернулся к арестанту. – А каково ваше мнение о Колчаке?
– Ознакомились с моей запиской Адабашу? – догадался Белый.
– Документ, достойный самого пристального внимания.
– Не знаю, чем он интересен вам сейчас. Свою актуальность он давно потерял. А об Александре Васильевиче могу сказать только то, что знаю. А мои знания заканчиваются мартом семнадцатого года. Все остальное – слухи, слухам не верю.
– Нам будет достаточно.
– Что ж… Волевая личность. Умеет вести людей за собой. Прекрасный оратор. Великолепный и инициативный организатор. Не случайно, когда «Военная ложа» смогла провести его в командующие Черноморским флотом, в 1916 году, противник на том участке боевых действий получил серьезное поражение.
– Меня интересует иное, – Дзержинский слегка склонился к собеседнику. – В своей записке вы пишете, будто упомянутая вами ложа имела контакты с британским посольством. Колчак лично контактировал с британцами?
– Ах вот вы о чем… Хотите узнать мое мнение, в кого британцы станут вкладывать деньги в игре против вас? Ответ положительный. Вы на правильном пути. Колчак – идеальный фигура в противостоянии с вами. Умный. Талантливый. Не гений, но и не без способностей. Имеет авторитет среди солдат и матросов. Будучи командующим Черноморской эскадрой, провел ряд демократических преобразований, что опять же говорит в его пользу. Не белоручка, знаком с жизнью пролетариев: некоторое время слесарил на Обуховском заводе, поэтому знает, как общаться с народом. Но дерзок. Обидчив. Самовлюблен до беспамятства. Эгоистичен. Крайне негативно воспринимает критику, практически в штыки. Прекрасно знаком с деятельностью не только флота, но и сухопутных войск, а потому все свои решения качественно аргументирует. Гучков[31] в свое время не случайно делал на него ставку, пророчил в члены правительства в качестве военного министра. Британия видела в нем одного из кандидатов на премьерское кресло. Но именно в силу вышеперечисленных качеств Александр Васильевич и не прошел ни туда, ни сюда. Он стал опасен для Временного правительства. Мог собой затмить их всех. Но прямых доказательств его личного контакта с британским посольством добыть не удалось. Масса косвенных показаний, не более.
– Значит, думаете, Британия поставит на Колчака, если он примет решение выступить против нас?
– Естественно.
– Вы только что выделили интонацией «личного контакта». Что это значит?
– Александр Васильевич входил в масонскую ложу, которая представляла собой не что иное, как подпольное движение против монархии, которое, в свою очередь, спонсировалось Лондоном. Вот по данному эпизоду доказательства нами были добыты. Если их не уничтожили при Керенском, сможете их найти в архивах Генштаба. Колчак же, в свою очередь, был самой авторитетной, но не главной фигурой в ложе. Сейчас для Британии, да и не только для нее, наступил идеальный момент для получения главного приза войны: России. И они сделают все для того, чтобы этот приз забрать. Так что, если Александр Васильевич вышел, так сказать, на тропу войны, лучшего врага даже не могу пожелать.
– К сожалению, архивы основательно подчищены. Кто в Петрограде поддерживал Колчака?
– Многие. Я так понимаю, вас интересуют только те, кто остался в городе. Но я понятия не имею, кто из «бывших» сейчас проживает в Петрограде, а кого нет. А из тех, кого знаю… Генерал Алексеев, к примеру. Генерал Рузской, Половцев, Головин, полковник Локтев, Андроников, Гусев… Да мало ли кто. – Белый не заметил, как Бокий с Дзержинским быстро переглянулись. – Я перечислил только тех, с кем точно был зафиксирован контакт с Колчаком. Не все из них входили в ложу, но они все контактировали промеж собой. Об остальных…
Феликс Эдмундович качнул головой.
– Спасибо. По крайней мере прояснили ситуацию. Может, у вас есть пожелания? Претензии?
Белый усмехнулся:
– В моем положении о претензиях лучше помалкивать.
– Напрасно так думаете, Олег Владимирович. Сейчас не царский режим. Имеете полное право высказывать недовольство. Тем более вы помогаете следствию. Что ж, если нет претензий, в таком случае, Глеб Иванович, распорядитесь отправить арестованного в камеру.
Едва за Белым захлопнулась дверь, Феликс Эдмундович поднялся со стула, прошел к окну, задумчиво постучал пальцем по стеклу.
– И как тебе мой арестант?
Дзержинский обернулся.
– Ты прав. Умный враг. Переманить на нашу сторону – цены бы такой находке не было. Кстати, здесь кроется тот самый вопрос, по которому я хочу видеть тебя в Москве. Раскрытие преступлений, – Феликс Эдмундович слегка присел на подоконник, так чтобы видеть одновременно и Бокия, и улицу, – борьба с контрреволюцией – дело нужное и на данный момент первоочередное. Однако следует смотреть в будущее, – руководитель ВЧК говорил тихо, монотонно, как бы аргументируя самому себе. При этом сквозь двойные стекла окна внимательно наблюдал за тем, как двое мальчишек в рваных одежонках, явно беспризорники, сновали взад-вперед по улице в поисках добычи. – Советская власть пришла не на год и не на два. Думать следует не только о борьбе с внутренним врагом, но и внешним. – Мальчишки засуетились, воровато посматривая в одну сторону.
«Так, – догадался чекист, – кажется, кто-то скоро окажется без кошелька. Или кошелки». Подумал без каких-либо эмоций. В данную минуту Феликс Эдмундович был на стороне мальчишек. Взрослый человек мог еще как-то выжить в это тяжелое время, у пацанов, оставшихся полными сиротами, путь для выживания был только один – воровство. И обвинять их в этом, считал Дзержинский, было верхом цинизма. Не хотите, чтобы дети крали, – создайте для них нормальные условия жизни.
Сердце чекиста сдавило.
Ян, сынишка… Дзержинский видел сына всего один раз, в 1912 году, когда тому исполнился годик. Жена во время эмиграции переехала в Швейцарию и возвращаться оттуда не пожелала. Впрочем, он и сам не хотел, чтобы вернулась. И дело было не в том, что разлюбил. Наоборот. Чувства остались. А вот здоровье ушло совсем. Ну, вернется она в Москву, и что дальше? К кому приедет? К полутрупу? К доходяге, по утрам выплевывающему со слюной и кровью ошметки легких? И что дальше? Жить не в любви, а в сочувствии? Так, на соболезновании, долго не протянуть. Доброта хороша в меру. А когда вместо любви только чувство сострадания, то так долго не выдержать ни ей, ни особенно ему. Пусть уж лучше все останется, как есть.
Смерть бродила за чекистом буквально по пятам. Физическое состояние Дзержинского было настолько подорвано, что неоднократно врачи едва ли не силой вытягивали его с того света, дважды подобное произошло во время заседаний коллегии ВЧК. Каждое утро Феликс Эдмундович просыпался с одной мыслью: ну вот, и сегодня не умер. И на том спасибо. И так каждый день.
Когда летом, в одиночку, он пошел в стаю взбунтовавшихся эсеров, многие члены Совнаркома и ВЧК посчитали данный поступок чекиста верхом сумасбродства. Но сам Дзержинский знал, что делал. Он уже ничего не боялся. Убьют, так убьют. Днем раньше, днем позже придет смерть – какая разница. Но именно по этой причине его тогда и не убили, потому как он сам к тому стремился. Спиридонова сразу поняла: Феликс ищет именно смерти. Поняла и отступила, чем спутала планы Троцкого.
А с женой Софьей только вел переписку. И одному Богу было ведомо, что творилось в душе мужчины, когда он ей писал короткие, как записки, письма. А вот к сыну тянуло. Нестерпимо и до боли тоскливо.
– Будем создавать разведку? – прервал затянувшуюся паузу Глеб Иванович.
– И не только, – председатель ВЧК оторвался от окна, развернулся к товарищу, – решено организовать несколько структурных подразделений, которые независимо друг от друга будут делать одно дело: внешнюю политику. Вот для одной из таких структур ты мне и понадобишься. Опыт конспиративной и шифровальной работы у тебя огромный, тебе и карты в руки.
– В чем будет заключена работа?
– Для начала – создание агентурной сети за рубежом. В первую очередь нас интересуют Германия, Франция, Британия. Людей следует подбирать разных. В том числе переубеждать врагов. Иначе нельзя. Нам нужны не просто агенты, а люди, которые смогут входить в различные зарубежные структуры, в том числе и власти, которым будут доверять их чиновники. А поэтому будущие агенты должны быть грамотны и обучены еще царской властью, пока не создадим свою школу. Еще лучше, если этих людей будут знать там, за границей, по прежним временам. К ним больше доверия. – Дзержинский слегка прикоснулся к руке чекиста. – Вот с полковника и начинай. Опробуй, так сказать, на нем свои силы. Сможешь переубедить, как говорили в былые времена, завербовать, сделаешь огромную часть работы. И губельмановские миллионы пойдут в дело, на развитие сети. Твоей сети.
– Белый не согласится, – уверенно отозвался Бокий.
– Если просто скажешь в лоб: идите к нам, не согласится. И я бы не согласился. – Феликс Эдмундович легкой, скользящей походкой прошел в центр кабинета, спрятав руки в карманы галифе. – Полковник не дурак. Дураки нам не нужны. Его хорошо знает враг. Даже «легенду» не нужно придумывать. Огромный плюс. Второй плюс: ненавидит Керенского и его окружение. Сыграй на этом. Найди аргументы. Нащупай болевую точку, на которую можно надавить. Пройдись по материалам «Комиссии Батюшина». Просмотри сохранившиеся документы Генштаба. Выясни, кто из родственников жив? Не все же погибли. Кто-то ведь должен был остаться. Сестры, братья, племянники, пусть не родные, двоюродные… Маленькая, но зацепка. От нее и начинай плясать.
– В том-то и дело: ни штабных документов, ни документов комиссии толком не сохранилось. Все уничтожили при Керенском. Так, мелочовка.
– Копайся в мелочовке. Не может человек не иметь следов. Понимаешь, Глеб? Аксиома! Если человек жил, после него что-то да должно остаться. Если не бумаги, то воспоминания сослуживцев, соседей, дворника, булочника… Ищи!
– А если не получится? Если полковник не согласится на сотрудничество?
– В таком случае выбивай миллионы, и к стенке. Но только в том случае, когда действительно поймешь: дальше пути нет.
– А если без стенки? Белый ничего плохого нам не сделал. Даже, наоборот, помог с тем же Канегиссером.
– Уже испытываешь к нему симпатию?
– Ты против?
– Нет, – Дзержинский посмотрел на часы: время не просто бежало, летело, – наоборот, приветствую. Иначе бы не предлагал работать с ним. Но он слишком хорошо проинформирован. И если примет сторону врага…
– Имеешь в виду Андроникова?[32]
– При чем тут Андроников? – Острый взгляд Дзержинского хлестнул по лицу Бокия.
– Прости, показалось. Но тут придраться не к чему, – неожиданно даже для самого себя принялся оправдываться Глеб Иванович. – Он спас тебя от Керенского, прятал в своей квартире. Рисковал жизнью. Все об этом знают.
– За что я и дал ему рекомендацию в Петросовет. Но не более того. В Кронштадтскую ЧК Андроникова устроили Урицкий и Зиновьев, – едва ли не со злостью отозвался первый чекист. – И не нужно мне приписывать то, чего не было. Кстати, Андроников тут ни при чем. Белый… Твой полковник прикоснулся к таким вещам, о которых врагам лучше не знать. Я имею в виду информацию про Колчака. А Андроников… К сожалению, Глеб, люди не меняются. Какими были в младые годы, с тем жизненным запасом и приходят во взрослую жизнь. А подобные Андроникову не меняются вообще, поскольку нет у них причин для изменений. Сытно живут, пользуются всеми благами, какая бы власть ни пришла… Во имя чего меняться? Их устраивает та судьба, которая досталась с молоком матери. Даже до Москвы стали доходить слухи, будто в Питерской ЧК можно купить свободу. Удивлен? Вот и я удивлен, что у тебя под носом творится черт-те что, а вы ни сном ни духом. И вонь, кстати, несет из Кронштадта. Это еще одна причина, по которой я пока что вынужден оставить тебя в Петрограде. Если выяснишь, что за денежными махинациями действительно стоит Побирушка[33], немедленно принимай меры. Вплоть до расстрела. Чтобы другим неповадно было. И еще. Никто, слышишь, Глеб, никто не должен знать о том, чем ты с сегодняшнего дня занимаешься. В том числе и твои сотрудники. Для всех ты продолжаешь выполнять функцию председателя ЧК. И только! Кстати, обратил внимание на мальчишку, что прибыл со мной? – Бокий утвердительно кивнул головой. – Я не случайно его захватил. Из дворян. Отец, офицер, был арестован «временными», умер в тюрьме. Мать год назад убили уголовники – «птенцы Керенского». Мальчишка люто ненавидит ту власть. Но речь, как понимаешь, идет не о ненависти. Он владеет тремя языками. Сообразителен. Воспитан. Опыта, правда, маловато, но именно для этого я его к тебе и привез. Будет твой первый помощник в создании будущего подразделения. Присмотрись к нему. Привлеки, так сказать, к будущей деятельности. Больше того, подружись. Парень толковый, в Москве самостоятельно раскрыл несколько преступлений. Кстати, петербуржец, так что обузой не станет.
– Хорошо, вернемся к полковнику. Предположим, сагитирую беляка. – Бокий тоже спрятал руки в карманы. – Как я смогу организовать переход? Официально уйти ему никак нельзя: сразу навлечет на себя подозрения. Устроить побег?
– Сейчас твоя главная задача – его сагитировать! А как переправить, придумаем. К тому же, если ты его переманишь, думаю, он сам предложит варианты «ухода». Теперь давай студента, хочу с ним лично поговорить. И Варвару вызови. Будет вести протокол.
Бокий прокашлялся в кулак:
– Яковлева отсутствует. К Зиновьеву поехала.
– Даже так?.. В таком случае начну допрос, а ты найди человека, только грамотного.
* * *
Мичурин поставил железный чайник на подоконник, присел на стул. Сколько еще ждать?
Вспомнилось, как час назад ехали по грязному, запущенному военному городу. Саша помнил Петроград другим. С витринами, афишными тумбами. С зазывалами и пролетками. Шлейфами и офицерскими мундирами. С кофейнями, театрами, яркими магазинами и парадами. Теперь ничего не было. Город выглядел опустошенно, мертво. Заколоченные ставни окон нижних этажей и разбитые стекла верхних. Ветер, гоняющий по улицам обрывки бумаги, шелуху от семечек и еще черт-те что, что может поддаваться воздушным порывам. Серость в одежде как у мужчин, так и у женщин, будто весь Питер одевался в одной лавке. И усталость на лицах прохожих, словно на всех питерцев невидимая рука нацепила траурные маски.
Саша откинулся на спинку стула, прикрыл глаза. «Как я раньше любил этот город! – сказал сам себе, скрещивая руки на груди. – И как я его теперь ненавижу! За маму! За папу! За то, что он так безразлично, молча, наблюдал за тем, как уводили папу в тюрьму, откуда тот больше не вышел. И кто уводил? Те, кому папа верно и преданно служил. Те, кто сытно ел и благополучно жил, в то время как другие проливали кровь. А город промолчал. Подленько, гаденько». Точно так же, подленько и гаденько, город молчал, когда их с мамой выгоняли из квартиры. Никто не пожелал встать на защиту больной, одинокой женщины и мальчишки-подростка. Семья «врага Отечества». Как саранча набросились на покинутое жилье, едва он снес вниз последний баул. Если бы их не выгнали, то, может, мама и по сей день была бы жива, не угодила бы под финку бритоголового мокрушника.
Кулаки сжались сами собой. «Найду, – на скулах молодого человека заиграли желваки, – найду владельца дома. Своими руками гниду…»
Дверь кабинета Бокия распахнулась. Юноша, чуть приоткрыв глаза, отметил, как стоящий перед ним охранник скинул с плеча винтовку, перехватил ее руками. «Уводят арестованного», – догадался Мичурин. Снова, закрыв глаза, вернулся к прежней мысли.
«Нет, давить не стану. Зачем? Можно сделать лучше. Посажу. В одиночку. Или лучше – к уголовникам. Те знают, как сровнять тебя с дерьмом. Пусть окунут в парашу. Пусть тоже поменяет квартиру. Узнает, почем фунт лиха. Как остаться без жилья и близких. И семью его по ветру пущу! Пусть слез наглотаются, как мы с мамой!»
Кулаки медленно разжались. «Эх, добраться бы еще до Керенского… Вот бы кому кровушку пустить! Да с превеликим удовольствием! Да где ж его, падлу, найти? Так сбежал, что и концов не сыскать. Сидит, скорее всего, за границей, во Франции или в Британии. Ничего, придет время, доберемся и до него».
* * *
Белый перевел дыхание: Саша не обратил на него внимания. Услышал-таки Боженька молитвы. Теперь можно спокойно, детально продумать сложившуюся обстановку.
Полковника провели до конца коридора, после чего Белый и Попов спустились по лестнице, где при входе в расположение тюрьмы арестованному приказали встать лицом к стене: мимо Олега Владимировича провели его сокамерника. Когда группа из трех человек – два конвоира и между ними убийца Урицкого – проходила мимо, Белый, слегка повернув голову, бросил взгляд на студента. Лицо мальчишки напоминало маску: бледное, с выступающими скулами, тонкой ниточкой губ – от него исходили напряжение и испуг. «Да, парень, – решил про себя полковник, – кажется, пришла твоя пора преставиться перед Боженькой».
– Не смотреть по сторонам! – Попов легонько придавил Белого прикладом в спину.
Канегиссер, увидев товарища по несчастью, хотел было что-то сказать или спросить, но сильный тычок в плечо заставил заключенного замолчать. Едва группа прошла, Попов сделал шаг назад и, вроде как извиняясь, негромко проговорил:
– Продолжай движение, ваше благородие.
Конвоир не мог понять, как ему вести себя с арестантом. С одной стороны, тот был «из бывших», золотопогонник. Однако с другой – Попов сам, своими глазами, видел, как Дзержинский чуть ли не с дружеской улыбкой расстался с арестованным. Ерунда какая-то. А может, этот беляк вовсе и не беляк? Может, перешел на нашу сторону? Как сатрап, то есть Озеровский. А что? Всякое бывает. Вон, поговаривают, и Бокий не из работяг. И Дзержинский не крестьянин. Да и про самого Ильича слухи разные бродят. Вроде тоже из этих… дворян. А кто ж тогда у них, в ЦК, из рабочего класса? Или деревни? Кто-то ж должон быть! Кто ж защитит работягу и крестьянина, ежели у них там все бывшие сидят? Бес его знает…
А Белого волновало совсем иное.
Едва войдя в новую камеру (сокамерники отсутствовали: кто на допросах, кто на прогулке), полковник кинул вещи на верхнюю, свободную шконку[34] и, заложив руки за голову, принялся мерить узкое неуютное пространство широкими шагами.
«Итак, Саша жив. Жив! Не важно, что он с ними. Главное, жив! Цел! Невредим! Хотя, погоди, погоди, почему не важно?»
Белый, уже без тоски во взгляде, долго смотрел в решетчатое окошко.
«Именно то, что сын с ними, как раз и важно! Теперь умирать нельзя, ни в коем случае. И не потому, что у жизни снова появился смысл. В смерти тоже имеется своя мудрость. А потому, что Саша с ними. И они понятия не имеют, чей он сын. Пока все складывается хорошо. Чекисты знают его под другой фамилией, судя по всему, доверяют. У самого Дзержинского в охранении. Значит, вскорости покинет Петроград. Это тоже хорошо. Случайно не пересекутся в тюремном коридоре. Тем самым не выдаст себя. Но как долго Санька сможет оставаться Мичуриным? Год? Два? Месяц? Где гарантия, что рано или поздно не найдется человек, которого заинтересует родословная Александра Олеговича Мичурина? А ведь такой человек обязательно проявится. Человек, который начнет рыть под Сашку, и очень глубоко рыть, и в конце концов дознается, кем тот приходится полковнику Российского Генштаба Белому».
Если бы смерть могла спасти сына, Олег Владимирович положил бы голову на плаху, не раздумывая. Но в том-то и дело, что в данном случае смерть ничего не изменит. Скорее, наоборот, только живой полковник сможет спасти сына.
Олег Владимирович остановился, с силой потянулся телом, так, что хрустнули суставы.
«Судя по всему, в рядах новой власти началась грызня. Процесс не новый – достаточно вспомнить последствия французского бедлама. У тех венцом революции стала гильотина. Интересно, что изобретут эти? Сегодня большевики приступили к первому, закономерному этапу любой революции: делят власть. Как обычно, в лучших традициях: с кровью. Процесс только начался, и Санька может под него попасть. Вопрос: насколько прочно сидит в высшей иерархии власти большевиков Феликс Эдмундович? Ответ: неизвестно. Володарский и Урицкий тоже занимали далеко не низшие посты, однако пришел их час, и головы идейных революционеров легли под лезвие русской гильотины. А если скинут “первого чекиста”? То-то и оно. Первое, чем займется преемник, – чисткой аппарата. Отсюда, выходит, мальчику нужна страховка. Гарантия жизни и свободы, при любых катаклизмах. У меня должна быть абсолютная уверенность в том, что сына не тронут. Что ни один волосок с его головы не упадет. И эту гарантию нужно создать собственными руками. Вопрос: как? Отдать губельмановские миллионы? Нет, не выход. Деньги не спасут сына. Страховкой должен стать я сам! Лично! Целый! Живой! Невредимый! Я обязан выстроить позицию таким образом, чтобы стать необходимым для новой власти. Большевики должны увериться в том, что им нужен царский полковник с незапятнанной репутацией, вместе с его связями и этими проклятыми миллионами. Но, самое главное, я должен находиться не здесь, в тюрьме, в Петрограде, в России, а за рубежом. В Англии, в крайнем случае в Германии. Там, где у меня остались контакты и верные люди, которых я смогу задействовать для новой власти. Только в этом случае Дзержинский или кто там будет после него станут со мной считаться и не тронут сына».
Белый тяжело опустился на чужой, застеленный топчан.
«А если просто сбежать? Проявиться за “кордоном”, оттуда диктовать условия? Предположим, организовать побег – не проблема. Как не проблема перейти границу. Что дальше? Тупик. Посольств и консульств новая власть ни в Англии, ни в Германии не открыла. Да и во всей Европе большевикам не рады. К тому же нет никакой гарантии, что кто-то сможет ему помочь из тех, кто остался из бывших дипломатических служб и на кого раньше он мог опереться. Отсюда сам собой вытекает вопрос: как в таком случае установить контакт с Советами “оттуда”? Ответ до банальности прост: никак. Чтобы наладить контакт с большевиками, понадобится как минимум месяца три. А то и полгода. А за полгода черт-те что может произойти. Нет, от побега следует отказаться. Большевики сами должны переправить меня за границу. Проявить во мне заинтересованность и переправить. Только в таком случае они должны узнать, кто есть Саша на самом деле, чей он сын. Но не напрямую. Сами, в результате поиска!»
Полковник прилег на чужую кровать. Спина привычно отозвалась болью где-то в районе поясницы, однако Олег Владимирович на данный факт даже не обратил внимания. Все его существо охватила энергия жизни.
«Я должен подставиться, открыться. Неожиданно, вскользь. Когда? В беседе с Бокием? Конечно, в беседе. Иначе никак. Но на чем можно себя “засветить”? На чем? Или на ком?»
Голова раскалывалась то ли от температуры, с которой Белый за последние трое суток свыкся, то ли от мыслей, которые метались в голове. Выход был. Олег Владимирович чувствовал, физически ощущал его наличие. Но какой?
Неожиданно перед глазами возник образ Полины, стоящей у окна. Ветер с Ангары поднимает воздушную тюль, будто снег ворвался в распахнутое окно. Маленький Саша подбегает к матери, обнимает ручками ее колени. Все смеются. Ранняя осень. Сентябрь… Новая картинка: Нева, они идут по набережной. Саша старается выглядеть взрослым, однако какой он еще мальчишка… О чем они тогда говорили? И ведь разговор был, помнится, серьезным, а вот о чем, – не вспомнить.
«Господи, – Белый едва не расхохотался в голос, – как все просто! Ведь наверняка Сашка не стал скрывать, что жил в Петербурге. Смысла нет скрывать такую информацию. Вот от нее и начну плясать. В разговоре с чекистами, как бы случайно, расскажу о том, где жил, вспомню Полину и Сашу. Вскользь должна промелькнуть девичья фамилия жены – Мичурина. Более ни слова. Ни в коем случае! Они сами должны раскрыть меня, оттолкнувшись от адреса. Вспомнить Сашу. Провести проверку, потом приступить к вербовке. И вот тогда, на Саньке, я и “сломаюсь”».
Олег Владимирович наткнулся взглядом на грязную точку на стене.
«А с чего я решил, будто они станут со мной работать? А что, если нас обоих пустят в расход? Ведь может такое быть? Нет, – Белый резко сел, – не может. И с Бокием, и с Дзержинским я заочно знаком по их подпольным, дореволюционным делам. Исходя из того материала, что поступал к нам, знаю: оба чекиста – умные, сильные личности, для которых важен не просто результат, но и качество его достижения. А потому ни первый, ни второй ни за что не пройдут мимо столь лакомого куска, как перспективный полковник Генштаба. Тем более, если им есть чем меня прижать».
* * *
Глеб Иванович покинул кабинет, оставив Канегиссера наедине с Дзержинским и Николаем Антиповым – единственным сотрудником, который смог зарекомендовать себя перед председателем ВЧК в качестве секретаря.
Выйдя в коридор, чекист огляделся, выделил из группы москвичей юную, почти мальчишескую фигуру, направился к нему:
– Товарищ Мичурин?
– Совершенно верно, – парнишка вскочил на ноги, – Саша. Простите, Александр.
Только что назначенный руководитель ПетроЧК крепко пожал руку молодого человека.
– Бокий Глеб Иванович. С данной минуты ты в моем подчинении.
– Я знаю. Мне говорил Феликс Эдмундович.
– Пошли! – Бокий первым направился к кабинету Доронина. Саша, подхватив куртку с вещмешком, устремился вслед за новым начальством. – Ничего, что сразу на «ты»? Я со своими «выкаться» как-то не привык. Кроме одного человека.
– По-товарищески. У нас, в Москве, тоже так принято.
– В ЧК давно?
– С апреля.
– А до того чем занимался?
– При Моссовете состоял. Порученцем.
– С бумажками возился? А как в ЧК занесло?
– Личные мотивы.
– Ясно. – Бокий вспомнил слова Феликса про то, кто лишил мальчишку семьи. – Отомстить решил?
Тот оставил вопрос без ответа.
Глеб Иванович резко остановился, так что юноша ткнулся ему в спину.
– А вот это плохо.
– Что плохо? – Саша ростом был выше Бокия, поэтому смотрел на того сверху вниз. – То, что хочу наказать тех, кто убил маму и отца?
– Наказать – согласен. Отомстить – плохо. Есть доказательства виновности – наказывай. Определяй в тюрьму. Подавай бумаги в трибунал. А вот о мести – забудь. Мы местью не занимаемся! Мы защищаем граждан от бандитов, воров и контрреволюции. Защищаем, понятно? А месть – это к анархистам. Впрочем, не только к ним. Про убийство Урицкого, понятное дело, знаешь?
– Конечно!
– Тоже якобы из мести, – Бокий потянулся к ручке двери, – а нам расхлебывай. Входи. Здесь разместилась группа Доронина. Теперь это и твой кабинет. Феликс сказал, ты родом из Питера?
– Родился в Благовещенске, на маминой родине, на Дальнем Востоке. Потом с родителями жил в Иркутске. Во время войны, в пятнадцатом году, переселились в Петроград. Точнее, папу сюда перевели.
– А как оказался в Москве?
Бокий принялся разжигать керосинку.
– Летом прошлого года мама решила переехать в Подмосковье, к папиным родственникам. Точнее, нас выселили из дома, за долги. Папа в тюрьме. Обвинили в измене Родине. Денег не было. Вот домовладелец и… А до родственников так и не добрались. Маму убили в поезде. Ограбление. С нами из Питера, в соседнем купе, ехали два человека, из амнистированных. Они и не скрывали, что сидели. – Саша прокашлялся. Видно было, что ему трудно вспоминать прошлое. – Играли в карты, пили водку. А ночью… Мама носила перстень и цепочку. Вот они на них и позарились. Стала кричать. Они ее… И меня, чтобы не мешал. Потом спрыгнули с поезда. Со всеми нашими вещами.
– Поймали?
– Куда там! Да и кто бы их стал искать? – В голосе юноши прозвучали злость и бессилие.
– Это точно, – заметил Бокий, ставя чайник на решеточку керосинки. – А что отец?
– Умер, – уверенно отозвался молодой человек. – Был бы жив, нашел бы меня.
– Понятно. Чай будешь?
Юноша вместо ответа развязал тесемки вещмешка, извлек из него полбуханки хлеба, небольшой шмат сала и завернутый в платок кусковой сахар.
– Неплохо вас в Москве харчуют. – Бокий сглотнул набежавшую слюну: он вдруг вспомнил, что не ел со вчерашнего вечера.
– Ребята собрали. В дорогу.
Дверь скрипнула, на пороге возникли фигуры Озеровского и Доронина.
– Ого, – первым, стуча каблуками сапог, вошел в кабинет Демьян Федорович, – да у нас тут пир. По какому поводу?
– Знакомьтесь, новый сотрудник. Прибыл из Москвы, вместе с Феликсом Эдмундовичем.
– Дзержинский в Питере? – воскликнул матрос, на что получил утвердительный кивок головы Бокия.
Пока Саша тряс руки коллегам, Глеб Иванович разлил по кружкам кипяток.
– Будете работать вместе. По крайней мере первое время. Мичурин, садись, жуй и слушай. Так сказать, вникай. Что нового?
– Есть кое-что, – Демьян Федорович извлек из голенища сапога финку, принялся аккуратно нарезать продукты. – Аристарх Викентьевич, доложите.
– Кстати, – Бокий хлопнул Мичурина по плечу, – это единственный сыщик среди нас, к кому мы все обращаемся только на «вы». Как говорится, из «бывших», но профессионал высшей пробы.
Александр исподлобья бросил косой взгляд на Озеровского. «Вот он, представитель той власти. Царской и временных. Один из тех, кто мог поймать убийцу мамы. И один из тех, кто этого не сделал. Точнее, кто не захотел этого делать. Кто просто наплевал на то, что убили женщину. Тот следователь, что допрашивал его, тоже был холеный, гладко выбритый, пах дорогим одеколоном, прическа с пробором, волосок к волоску. И почти в таком же сюртуке. Только другого цвета».
Старик, почувствовав на себе взгляд молодого человека, обернулся:
– Простите, что-то не так?
– Нет, показалось. – Саша быстро опустил глаза, спрятал кулаки в карманы брюк. «Сдерживать себя, во что бы то ни стало. Главное – не показывать эмоции». А ведь как хочется отыграться на этом старике. Что с того, что он невиновен в смерти мамы? Что он даже не знал ее. Пусть даже понятия не имел о ее существовании. Но он принадлежал именно к тем, кто в тот день прибыл на маленькую разбитую станцию и, вместо того чтобы сразу приступить к поиску преступников, вот точно так же засели пить чай в кабинете начальника вокзала. Лишь через час, со скучающим видом, сыщики принялись обходить вагоны, вяло расспрашивая пассажиров о том, кто что видел или слышал. А потом, даже не удосужившись поговорить с ним, раненым, окровавленным, посчитав, что особой веры словам мальчишки нет, уехали восвояси. Спустя две недели, когда рана затянулась, юноша сам пришел в полицейский участок, но там ему удосужились сообщить только одно: «… сделано все возможное, однако положительного результата пока нет. Ждите». Ох, как хотелось в тот момент ударить по лоснящейся, самодовольной физиономии следователя. Да так ударить, чтобы рука припечаталась к потной, липкой, розовой щеке, прилипла к ней и отпечатком осталась навечно.
– Обед готов. – Доронин провел лезвием по хлебной корочке.
Бокий бросил взгляд за окно:
– Скорее ужин, – и первым приступил к еде, при этом продолжая разговор с Озеровским. – Выходит, Канегиссер или кто-то из членов его семьи собирался покинуть Питер?
– Получается, так. – Аристарх Викентьевич придвинул к себе кружку с чаем. – Еще у нас, в «Крестах», сидит их кучер Матвей: он отвозил Леонида на Васильевский. Тот именно там проживал в последнее время. Нужно, чтобы этот Матвей показал нам дом.
– Вы, Аристарх Викентьевич, про свою думку расскажите, – с набитым ртом с трудом проговорил Доронин.
– Что за думка? – Бокий с шумом отхлебнул кипяток.
– Вот что мне пришло в голову, Глеб Иванович. – Озеровский поставил кружку на край стола, после чего осторожным движением руки пододвинул ее ближе к центру стола. Саша отметил это движение: точно так же делал папа, когда Саша был маленьким. Боялся, что стакан нечаянно упадет. Аристарх Викентьевич тем временем продолжал: – Леонид Канегиссер – еврей. Моисей Соломонович Урицкий тоже еврей. Еврей убивает еврея. Вам не кажется странным?
– Мне? – Брови Бокия в удивлении взлетели. – Нет.
– Но так не принято в их сообществе.
– В каком сообществе? – парировал Глеб Иванович. – Урицкий – большевик. Студент – его идейный враг.
– Я имел в виду сообщество евреев.
– Что? Какое сообщество?
– Вам слово, Демьян Федорович, – вместо ответа Озеровский передал слово матросу.
– Недели три назад, я это… Был на Большой мастерской. Так вот там я видел нашего Моисея Соломоновича… Покойного. Он выходил из большого дома, с круглой крышей.
– Это здание Большой хоральной синагоги, – уточнил Аристарх Викентьевич.
– Во-во, – подхватил матрос, – и выходил не один, а с каким-то мужиком. С бородой, в очках.
Саша, жуя хлеб, молча смотрел на новых товарищей. Все, о чем они сейчас говорили, было для него сплошным туманом. Но чувствовал, скоро в этом мареве придется плавать и ему.
– И что с того? – вновь парировал Бокий, но как-то вяло, неуверенно.
– Да просто любопытно: что большевик-атеист, руководитель ЧК делал в еврейской общине? – продолжал добивать Бокия аргументами Озеровский. – Ведь, как вспомнил наш наблюдательный Демьян Федорович, Моисей Соломонович пришел в храм пешком, не на авто.
Глеб Иванович хотел сделать новый глоток, однако передумал.
«Старик прав. Пришел пешком… Вот в чем загвоздка. Если бы он не знал Соломоновича, то не обратил бы внимания на данную фразу. Но в том-то и дело, он слишком хорошо знал Урицкого. Впрочем, Озеровскому во внимательности тоже не откажешь».
Моисея невозможно было представить без «мотора». Машина всегда ждала своего начальника возле дома, под подъездом комиссариата, у входа в ПетроЧК. По авто сразу можно было догадаться, где находится Урицкий. Именно по этой причине первое, несостоявшееся, покушение на Моисея готовилось в машине. «Мотор» был визуальным показателем власти, своеобразным эквивалентом уровня жизни, и Моисей им пользовался от души, ездил куда угодно, даже если ехать было всего десять шагов.
Что делал большевик Урицкий в синагоге?
О Петроградской еврейской общине давно назревал вопрос. Недоволен был город присутствием потомков адамовых. А всему виной стал некий Арон Симанович, который еще при царе, через Распутина, положил Питер на лопатки. Вроде как дела давно минувших дней, а эвон как кусает. Год назад имели место погромы. Как бы и сейчас не повторилось. Не случайно, ох не случайно комиссар Еврейского отдела, еврей Раппопорт, заговорил о том, чтобы закрыть синагогу.
«А может, Соломонович хотел предупредить братьев по крови? С него бы сталось…»
Между тем за столом шел тихий диалог, начало которого Глеб Иванович, в раздумьях, пропустил.
– Шматко обшмонали – факт. Я с нашими гутарил. Говорят, ограбление. – Доронин отрезал кусок хлеба, сверху – ломтик сала, положил все это перед молодым человеком. – Ешь. Тебе жрать сейчас надо хорошо. У нас тут как: не успел – бегай голодным. Если что – хлеб в столе, в газете. Бери, не стесняйся.
Саша заметил, как Озеровский с трудом подавил улыбку. Гад.
– Подождем возвращения Фролова.
– Если он, конечно, вернется, – сорвалась с языка старика тревога Бокия.
Глеб Иванович прищурился, как всегда делал, когда проявлял заинтересованность к собеседнику.
– Я тоже думаю, что смерть Шматко не была случайной.
Над столом нависла тишина.
– Аристарх Викентьевич, – первым ее нарушил Глеб Иванович, обращаясь к Саше, – уверен в том, что к данному делу причастен некто, кто служит в наших рядах, в ПетроЧК.
– Не только, – тут же поправил начальство следователь.
«Вот это да, – мысленно свистнул Сашка, – первый день, и попасть на такое».
В том, что юноша услышал, ничего необычного не было. В рядах Московской ЧК за одно минувшее лето выявили девять предателей. А чем Питер лучше столицы? Но вот так, с поезда и в дамки… Почему старик так спокойно оппонирует руководству? Дела… «А что, если Дзержинский именно по этой причине и взял меня с собой в Питер? Не хватает преданных людей, вот и решил усилить».
Бокий словно услышал мысли молодого человека.
– Александр приписан к вам в усиление. Используйте на все сто процентов. Он – питерский. Город знает. – Глаза Бокия встретились с глазами Мичурина. – Ты в группе. А поэтому должен понимать: с данной минуты, в интересах следствия, все контакты с твоими московскими товарищами отменяются.
Почти домашнюю обстановку взорвал Доронин.
– Точно! Варька! – Черный ноготь указательного пальца моряка с силой застучал по столу. – Она! Ей-богу, эта стерва все закрутила!
Бокий поперхнулся чаем.
– Чтоб ты был здоров, Демьян Федорович! – закашлялся Глеб Иванович. – С чего взял, будто то Яковлева?
– Смотрите. – Матрос принялся загибать пальцы. – К убивце нас не пустила – раз! Фролова отправила с продотрядом – два. Это… Как его…
Доронин споткнулся. Замолчал.
– А три-то и нет, – суммировал Глеб Иванович. – Мне Варвара Николаевна тоже не по нраву. Что не значит, будто я могу на нее ведро помоев вылить. Хотя, признаюсь, желание такое имеется. Огульно обвинять все мастера, а доказательств нет.
Аристарх Викентьевич осторожно поднял свою кружку с чаем, подул на кипяток.
– Связывающим звеном между Канегиссером и теми или тем, кто спланировал покушение, были либо Шматко, либо Фролов. Хотя не исключен вариант, что оба. И тут, Глеб Иванович, не могу не согласиться с Демьяном Федоровичем. То, что Фролов и Шматко одновременно исчезли в течение одной ночи, не случайно. А если учесть, что Фролова с продотрядом отправила лично Яковлева, вывод напрашивается сам собой.
Над столом снова нависла тишина.
– Я рассчитываю на то, что заговорит Канегиссер, – медленно, как бы раздумывая, проговорил Бокий. – Сейчас его допрашивает Феликс Эдмундович.
Саша отметил, как Озеровский исподлобья быстро глянул на начальство и тут же опустил глаза. И в этом взгляде было все, что угодно, только не оптимизм.
* * *
Белый перевернулся с боку на бок. Сон не шел. Да и какой тут сон! Саша жив! Живой! Живехонек! Господи, счастье-то какое!
С нижней шконки послышалось, как ворочается сокамерник: с допроса привели толстого мужчину, в мятом костюме. Общаться не захотел, тут же лег, отвернувшись к стене. Да и Бог с ним. Даже к лучшему: не будет мешать думать. С соседнего топчана доносился крепкий храп.
План действий в голове полковника к тому часу созрел полностью, в деталях. Оставалось воплотить его в жизнь.
Олег Владимирович вновь повернулся лицом к стене, замер. Неожиданно припомнился последний разговор с Николаем Степановичем Батюшиным.
Их в тот вечер выпустили. В те дни новая власть особо не разбиралась, кто и за что посажен в тюрьму. Считалось, коли арестовало Временное правительство, ты – страдалец. А потому гуляй, свобода!
Выпустили, когда солнце опустилось за горизонт и на город упал серый, холодный вечер. Первое, что они сделали, покинув «Кресты», пошли на набережную Невы. Батюшин, дрожа от пронизывающего холода, плотнее запахнул на себе шинель, но и это не спасало от порывистого балтийского ветра.
– Олег Владимирович, вам не кажется странным, что нас арестовали коллеги, а выпустили враги?
Белый, помнится, в тот момент смотрел в темную глубину реки и думал совсем об ином. Однако ответил:
– А кто сегодня для нас коллеги, а кто враги? Все перевернулось. Те, кому мы служили верой и правдой, нас предали. Как Иуды, за тридцать сребреников. Те, кого мы ни во что не ставили, выпускают на свободу. Мир сошел с ума. К сожалению, это единственное объяснение происходящего, которое я могу дать.
Батюшин окинул взглядом город: в вечернем свете Петроград смотрелся серо, землисто, будто неизвестная болезнь проникла во все его поры.
– И что вы теперь намерены делать?
Полковник повел плечами: действительно холодно.
– Поеду домой. К семье. Соскучился.
– В данном случае я ваш союзник. Тоже, признаться, хочу увидеть своих. Но я имел в виду вообще. Чем намерены заняться?
– Не знаю, – честно признался Олег Владимирович.
– Надеюсь, не собираетесь оставаться в городе? – Батюшин плотнее свел на груди полы генеральской шинели. – Поверьте, эйфория вскоре закончится. Господа большевики придут в себя и сообразят, что совершили грубейшую ошибку, выпустив нас. Примутся искать. Мой совет: берите семью и уезжайте.
– Куда?
– Куда угодно. Главное, как можно дальше. Туда, где вас никто не найдет. По крайней мере в смутное время.
– Таких мест в России сейчас нет.
– Уезжайте за границу. Пересидите. Не хватит денег – разрешаю использовать средства со счетов Губельмана. Потом отчитаетесь.
– Не боитесь, что все растранжирю? – попытался пошутить Белый, однако Николай Степанович шутку не принял:
– Вы слишком порядочный человек. Я бы даже сказал, чересчур.
– Благодарю за комплимент. И за совет. Но вряд ли им воспользуюсь. За границу, знаете ли, что-то не тянет.
– Напрасно. Уверен, хотя сия биомасса заполнила Петербург временно, тем не менее крови нашему брату попортит изрядно, что отразится на всех. Даже на тех, кто будет стоять в стороне.
– А вы решили-таки ехать в Крым?
– Представьте себе. Не могу без дела. А там жизнь, суета. Борьба, в конце концов. Движение. Авось найдутся чудо-богатыри, вернут России былую славу. В такой момент хочу быть с ними. Может, понадобятся мои опыт и знания.
Олег Владимирович проглотил ком в горле: вот и все. Конец всему: надеждам, будущему, да и настоящему тоже. Батюшин, конечно, прав: эти ничем не лучше Керенского и его камарильи, тоже изрядно навредят России (бескровных революций не бывает), однако не прав в ином. «Эти», в отличие от «временных», пришли не на день и не на год. Мужички хваткие, цепкие. Голодные во всех смыслах. И Россия сама виновата, что приняла их. Некого обвинять в том, что уставший, измотанный, оборванный, голодный солдат решил направить штык на того самого генерала, на которого в их комиссии некогда лежали бумаги, говорящие о личном участии его превосходительства в хищениях как материальных, так и финансовых. Их превосходительства сами виноваты в том, что произошло. Слишком зарвались, зажрались.
В камере они много спорили на данную тему. Батюшин не хотел слышать доводов полковника. Нервничал. Метался по узкому помещению, заложив руки за спину, как бы ведя диалог с самим собой. Потом вскипал, начинал сыпать аргументами. Долгие споры ни к чему доброму не приводили. Только разводили по углам. После часами молчали, каждый думая о своем.
Николай Степанович все время пытался разобраться, в чем заключалась ошибка, и никак не мог внять логике Белого, который твердил одно: Россию продали. Свои! Те, кто давал клятву на верность. Те, кто толкал царя на войну во имя личных интересов. Те, кого называли патриотами, а на самом деле они были мародерами. И началось все не во время войны, а раньше.
Но Батюшин не хотел услышать бывшего подчиненного. Вот и теперь, стоя на берегу Невы, генерал думал об одном: как вернуть Россию в прежнее русло, не понимая, что обратного пути нет. Тупик. Какие богатыри? Откуда они возьмутся? Всех богатырей скосила пулеметная очередь где-то между четырнадцатым и семнадцатым годами.
Генерал смахнул набежавшую слезу:
– Что ж, Олег Владимирович, будем прощаться, – Николай Степанович распахнул объятия, – простите, что втянул вас в сию историю. Не думал, что так все закончится. Не держите зла на старика. И внемлите моему совету: уезжайте. Забирайте Полину Кирилловну, сына и бегите отсюда куда глаза глядят. Надеюсь, как-то свидимся.
Генерал трижды поцеловал полковника, сжал его ладонь в своей руке и, не оборачиваясь, устремился по полутемной набережной в неизвестность.
А Белый еще долго смотрел ему вслед. Казалось, с уходом Батюшина завершилась некая часть его жизни. Та часть, о которой хотелось забыть. Полгода, которые хотелось вычеркнуть из жизненного календаря.
Белый не понял, как задремал. Теперь в его сознании смешалось все: мысли, эмоции, сновидения, чувства. И боль, кольнувшая сердце, когда в который раз за минувший год приснилась пустая квартира с занавешенными окнами и зеркалами.
* * *
Дзержинского Бокий застал в кабинете в одиночестве стоящим у окна. Любил первый чекист, когда общался с людьми, одновременно наблюдать за тем, что происходит на улице. Впрочем, Глеб Иванович и сам постоянно приседал на подоконник, как выдавалась возможность. Тюремная привычка: ближе к окошку, к свободе.
Услышав, как дверь приоткрылась, Феликс Эдмундович обернулся:
– Входи. Твоего студента я уже отправил в камеру. Тертый калач.
Дзержинский сделал шаг к столу, взял с его поверхности исписанный лист бумаги, протянул чекисту:
– Вот, прочти, что смогли из него выжать.
Бокий слегка повернулся к свету, чтобы легче было разобрать почерк Антипова.
Протокол допроса Леонида Акимовича Канегиссера, еврея, дворянина, 22 лет.
Допрошенный в ЧК по борьбе с контрреволюцией председателем Всероссийской комиссии тов. Дзержинским показал:
На вопрос о принадлежности к партии заявляю, что ответить прямо на вопрос из принципиальных соображений отказываюсь. Убийство Урицкого совершил не по постановлению партии, к которой я принадлежу, а по личному побуждению. После Октябрьского переворота я был все время без работы и средства на существование получал от отца.
Дать более точные показания отказываюсь.
Леонид Канегисер.– И все? – Бокий с удивлением вскинул глаза на председателя ВЧК.
– И все!
Странно, что Феликс Эдмундович оставался на удивление спокойным. Приехать из Москвы в столь тревожное время, получить несколько строк невнятного текста и сохранять спокойствие? Для Бокия это было удивительно. Первый чекист заметил растерянность на лице подчиненного.
– А ты думал что? Дзержинский приедет – вся контра тут же лапки от испуга сложит? Нет, Глеб, – Феликс Эдмундович, заложив руки за спину, принялся задумчиво раскачиваться с носка на пятку, – не боятся они нас. И не будут бояться, пока зубы не покажем. – Тонкий указательный палец председатель ВЧК ткнул в бумагу. – Канегиссера кто-то предупредил о том, что его буду допрашивать я. Мало того, обнадежили, уверили в том, что все будет хорошо, главное, чтобы он молчал. И он им поверил. Слишком вызывающе, нагло вел себя мальчик. Уверенно. Если верить показаниям твоего полковника, а оснований им не верить у меня нет, до сегодняшнего дня Канегиссер был растерян, морально убит создавшимся вокруг него положением. Однако передо мной предстала иная личность. Будто студента подменили. Сорок минут беседы, и вот результат. О чем это говорит?
– О том, что среди нас есть предатель, – выдохнул Бокий.
– Именно. Вот что, Глеб, – Феликс Эдмундович резко, с силой оправил на себе гимнастерку, – пусть твои люди все наработанные материалы по Канегиссеру передадут Отто и Риксу.
– То есть как? – Чекист оторопел.
– А вот так. Покушение на Ильича не случайно произошло в день убийства Моисея. Само покушение на Соломоновича действительно могло быть личной местью, которой, как ты правильно мыслишь, кто-то воспользовался. Или направлял действия мальчишки, что скорее всего. Однако к покушению на Старика смерть Урицкого, как я думаю, не имеет никакого отношения. А вот то, что произошло в Москве, действительно привязано к убийству Моисея. Понимаешь, к чему веду?
– В Москве ждали подходящего момента, чтобы ты покинул столицу на сутки.
– Именно! Узнав о покушении на Моисея, предатели проверили информацию о том, что я уехал, после чего выяснили маршрут передвижения Ильича. В результате успели подготовиться к событиям на заводе Михельсона.
– А если ваш предатель поддерживает отношения с нашим?
– В таком случае, Глеб Иванович, грош нам цена. Потому как мы с тобой прохлопали заговор.
Дзержинский специально исказил для Глеба Ивановича логическую цепочку. На самом деле Феликс Эдмундович думал несколько иначе.
Перед приходом Бокия он успел связаться по телеграфу с Московской ВЧК. В ходе короткого диалога Петерс сообщил: человек, стрелявший в Ленина, пойман. Свердлов настаивает на его немедленном расстреле. Именно в тот момент в голове Феликса Эдмундовича и промелькнула та пугающая мысль, которой он только что поделился с подчиненным: а что, если в Москве действительно имеет место заговор? Это предположение он не высказал Бокию. А оно звучало так: а что, если Яков Свердлов решил воспользоваться покушением на Ленина, чтобы занять его место в Совнаркоме, что, собственно, и произошло? Или еще страшнее: а что, если Яков сам организовал покушение на убийство? Точнее, не сам, а в группе лиц: Свердлов – Троцкий – Зиновьев – Яковлева. Конечно, ни прямых, ни косвенных доказательств нет, однако…
Свердлов и Троцкий – первые претенденты на лидирующие места в партии и правительстве после Ленина. Это известно всем. Зиновьев давно метит на полную власть в новой России. Сколько раз Дзержинский случайно слышал возмущение из уст Якова по поводу того, что, мол, он, Свердлов, в отличие от Старика, не прятался в царские времена по заграницам, не строчил оттуда «статейки», а делом доказывал преданность партии. Конечно, все это говорилось за глаза, почти шепотом, однако произносилось. А раз озвучивалось, значит, в голове кипело еще большее негодование.
Про Троцкого и говорить не нужно. Тот открыто выступает против Ильича. Постоянно его критикует, особенно в военных вопросах.
Теперь по Питеру.
Смерть Урицкого крайне выгодна Зиновьеву, потому что на место Моисея (что, кстати, и произошло) становилась полюбовница «волосатого» и одновременно его, Дзержинского, ставленница – Варвара Яковлева. Зиновьев же, в свою очередь, поддерживает тесную дружескую связь со Свердловым. Троцкий в последнее время тоже стал активно поддерживать Якова. Дружбы между ними быть не может, но общие интересы явно прослеживаются. Чем не заговор?
Яковлева, судя по всему, исполнитель. И тут имеет место не столько ее желание руководить ПетроЧК, сколько интимная связь с Зиновьевым, о которой первому чекисту доложили две недели назад. Тогда он на данное обстоятельство не обратил никакого внимания: рыться в чужом белье омерзительно. Тем более это их личная жизнь, которой никто не имеет права касаться. Однако в свете нынешних событий этот факт стал еще одним связующим звеном в логической цепочке.
– А что? – Бокий с силой сжал мочку уха. – Очень даже может быть. Только одного не пойму: зачем передавать материалы Отто и Риксу? Мои люди могут довести дело самостоятельно.
– Да потому! – вспылил Дзержинский, но тут же осадил себя: Бокий был одним из тех немногих, кому Феликс Эдмундович полностью доверял. И он знал: лучше Глебу рассказать если не все, то многое, и тогда он поможет, чем водить за нос. – Прости. Нервы. Во-первых, Рикс и Отто уже ведут дело Володарского. Пусть оба расследования объединят в одно судопроизводство. Сам понимаешь, там одна подноготная. А во-вторых, Глеб Иванович, они не твои люди, как выражается Яковлева. А значит, Варвара и Зиновьев не станут им, а точнее тебе, ставить палки в колеса. Видишь, насколько я с тобой откровенен? Но не это главное. Главное то, что твои люди должны продолжить работу. Только тайно! Чтобы вычислить врага, необходима полная конспирация. Доронин с Озеровским зашли слишком далеко. Боюсь, если их официально оставить в деле, на них начнется охота: предатель пойдет на все, чтобы расследование сорвалось, вплоть до их физического уничтожения. И тогда вся работа пойдет псу под хвост. Но мы поступим иначе. Отто и Рикс официально продолжат расследование. И будут вести дело только в политическом аспекте, что успокоит врага. Тем временем Доронин и Озеровский, осторожно, ты меня слышишь, Глеб, очень осторожно продолжат работу. И результаты ее будут только у тебя. Ни Зиновьев, ни Варвара, ни кто-либо еще не должны знать о том, чем занимаются твои люди на самом деле. Кстати, телеграфом по этому делу пользоваться запрещаю: его контролирует Зиновьев. Лично привезешь собранные материалы. В крайнем случае пришлешь Мичурина.
– А как же Канегиссер?
– А что Канегиссер? – искренне не понял Дзержинский.
– Но ведь он убил Соломоновича не по политическим мотивам!
– И что с того? – Феликс Эдмундович никак не мог понять, куда гнет Бокий. – Какая разница, за что он понесет наказание? Он убийца, Глеб, этим все сказано! А за что расстреляют – дело второе, а то и третье.
– Феликс, ты же знаешь, если мы сможем доказать, что он совершил покушение по личным мотивам, в состоянии аффекта, то в таком случае мальчишка сможет избежать смертной казни.
– Жалеешь? – Глаза председателя ВЧК превратились в пулеметные щели. – Врага жалеешь? Не забывай, он работал у Керенского.
– И ушел от него, – парировал Бокий.
– Потом сотрудничал с эсерами!
– Ушел и от них.
– Его друг хотел поднять мятеж в Михайловском училище.
– За что и был расстрелян. Однако на Канегиссера обвинительного материала собрать так и не удалось.
– Ты что, на стороне этого сопляка?
– Я на стороне закона, – не сдержался Глеб Иванович.
– А я, значит, против закона? – Феликс Эдмундович встал напротив подчиненного, грудь в грудь. – Ты что, хочешь сказать, будто я действую противозаконно? Может, еще скажешь, что я подделываю материалы дела? Или перевираю факты? А может, Канегиссер не убивал Моисея? Или британцы – не наши враги, а союзники и не поддерживают контрреволюцию?
– Этого не скажу.
– Тогда в чем дело? Все факты заговора налицо!
– Факты, но не доказательства.
– А ты предлагаешь подождать, когда враг совершит новое убийство? Но такое, чтобы доказательства вины преступника были явными? Только учти, – Дзержинский ткнул пальцем в грудь чекиста, – ждать придется долго. Потому что враг найдет второго дурачка вроде Канегиссера, которого тоже науськает на жертву, используя личные мотивы. Потом третьего, четвертого… И так до тех пор, пока нам в руки не попадет именно ТОТ человек, со стопроцентными доказательствами. Ты это предлагаешь? Нет, батенька мой, нет у нас столько времени. Враг сегодня концентрируется по всей России. Я не случайно спрашивал у твоего полковника о Колчаке. Из Лондона пришла информация, что Америка и Британия собираются оказать ему финансовую и материальную помощь в организации новой волны Белого движения. Так-то вот. Счет пошел не на годы и не на месяцы, а на дни и часы. И кто первый нанесет удар, тот и выиграет. Повторяю: в данной ситуации, после вчерашних событий на заводе Михельсона, не может быть и речи о том, чтобы считать убийство Урицкого исключительно местью гомосексуалиста.
– Но ты же только что говорил…
– Говорил. И еще раз подтверждаю: студент убил Соломоновича из личных побуждений. Однако убийство крупного политического деятеля, руководителя Петроградской ЧК, не может быть классифицировано никак иначе, кроме как политическое. Все, больше мы к этому разговору не возвращаемся. Точка!
Бокий опустил голову, прикусил губу. Вот тебе и вся справедливость… Хотя, черт его знает… Может, Эдмундович и прав…
* * *
– Как думаешь, почему он не едет? – Зиновьев нервно вытаптывал ковер кабинета.
Яковлева, сидя на стуле, с неприязнью смотрела на любовника.
– Трусишь?
– А ты нет? – Григорий Евсеевич резко развернулся в сторону женщины.
– Я? Нет! – с вызовом отозвалась Варвара Николаевна. – Помнишь, ты как-то спросил, чем отличаешься от Феликса. Я тогда промолчала. Не хотела обидеть. А напрасно. Ты ведь любишь, чтобы тебя по головке гладили, растекаешься как кисель. А Феликс – стержень. Сталь. Бабы за таким в огонь и в воду. Он не стелется. И вытирать об себя ноги не позволит. Никому. Этим-то вы и отличаетесь.
Нечесаные космы Зиновьева склонились над женщиной.
– Думай, что говоришь… Стерва.
– А ты не психуй, – зло отозвалась Варвара Николаевна. – С чего нервничать?
– Ни с чего! – резко, нервно отозвался председатель Петросовета.
Ему было с чего беспокоиться и нервничать. В кармане Зиновьева лежала последняя телеграмма из Москвы, с которой Варвара Николаевна еще не была знакома и которая сообщала следующее:
Официальный бюллетень № 4
31 августа 1918 г. 7 часов вечера.
Пульс – 102, наполнение лучше. Температура – 36,9, дыхание – 22. Общее состояние самочувствия хорошее. Непосредственная опасность миновала. Осложнений нет.
В.Д. Бонч-Бруевич.Именно последняя фраза – «опасность миновала» – и бесила большевика. «Кого миновала, а кого нет», – мысленно выматерился он.
Яковлева состояние любовника восприняла по-своему.
– Перестань, успокойся. Даже если Канегиссер не поверит моему человеку и начнет болтать, все одно – тот ничего толком не сообщит. К нам след не ведет. Мальчишка с нами не общался. Он вообще о нас понятия не имеет. А поэтому нечего тревожиться: Феликс при всем желании не сможет привязать нас к убийству Моисея.
– А Андроников? А Свиридов?
– Что Свиридов? О последнем мальчишка сам промолчит: не захочет, чтобы кто-то рылся в его личном, грязном белье. Тем более мы заранее отправили Свиридова в Москву, так что к нему следов нет никаких. А Андроников… И что с того, что Канегиссер расскажет про Андроникова? Да и что он может про него рассказать? Что тот морально подтолкнул его? Так то были просто разговоры. Андроников не давал мальчишке в руки револьвер. С отцом убийцы контактировал? Так он его еще с дореволюционных времен знает. И не забывай самое главное: кто поставил Андроникова в Кронштадтскую ЧК? Чья подпись? Урицкого!
– Но советовал-то его взять я!
– А Дзержинский дал Андроникову рекомендацию, – тут же парировала Яковлева, – так что, получается, замазаны все. – На красивом холодном женском лице проявилась легкая презрительная улыбочка. – Так что не разводи сопли, Гриша. Феликс против самого себя не пойдет.
– Дай-то бог…
– А ты на бога не надейся. Бог атеистам не помощник. Лучше подумай о том, что будем делать в ближайшее время. Власть благодаря мальчишке у нас. Теперь следует подумать, как ее удержать. – Варвара Николаевна, разгорячившись, расстегнула верхнюю пуговицу на платье. – Независимо от того, кто будет верховодить в Кремле, наша задача – укрепиться здесь. Зря, что ли, столько сил потратили? А отсюда потом можно будет и в Златоглавую прыгнуть. – И Варвара вдруг озвучила мысли, которые только что пронеслись в голове Зиновьева. – Это даже хорошо, что мы сейчас в Питере, а не в Москве, вдалеке от драки. Когда они себе чубы повыдергивают, обессилят, вот тогда мы и объявимся. С чистой, незапятнанной репутацией. А пока… Пока думай над тем, что сказать Феликсу? Пусть ругает, критикует – это все ерунда. Главное, чтобы Дзержинский не почувствовал в тебе конкурента. Чтобы остался в убеждении, будто имеет на тебя влияние. И перестань трястись, как баба.
* * *
Бокий задержался перед дверью в кабинет Доронина. Рука, так и не притронувшись к дверной ручке, задумчиво потянулась к кончику носа, потерла его. Впервые за последние полгода Глебу Ивановичу стало не по себе от разговора с Феликсом.
«Нет, конечно, Дзержинский прав: какая разница, за что расстреляют Канегиссера? Наверное, любому человеку нет разницы, за что его убьют. Результат-то один и тот же. Но тогда получается, что идем к тому, от чего так долго открещивались: к диктатуре. А от той недалеко до террора. О чем вот уже почти год вещает Троцкий. А если учесть, что Ленин при смерти и вся власть в Москве в руках Свердлова и Троцкого… А Феликс здесь, в Питере…»
Мысли тяжелым жерновом с трудом проворачивались в голове.
«Феликс не вернулся в Москву из-за Свердлова. Сам только что проговорился. Что ж получается? Раздрай в наших рядах? Мало того что у революции есть враг внешний, так мы еще и сами друг друга берем за горло?»
Глеб Иванович подошел к окну, что вело во внутренний двор здания, распахнул створки, всей грудью вдохнул свежий, слегка прохладный воздух. Посмотрел по сторонам, будто опасался, словно кто-то сможет прочитать его мрачные думы. А память и логика уже вовсю подбрасывали факты в топку сомнений.
Покушение на Ильича состоялось в начале одиннадцатого часа вечера. Было совершено три выстрела, как сообщили утром, когда эмоции стали утихать и всем понадобилась четкая и объективная информация. Ильич ранен и одна из работниц завода. «Теперь, – продолжал анализировать Бокий, – представим ситуацию. Слышны выстрелы. Старик падает. Заваливается и та женщина, из митингующих. Какова должна быть реакция толпы? Все в стороны. Этот инстинкт срабатывает в минуту опасности. Именно поэтому убийца и смог исчезнуть с завода. Как сообщили, его, точнее ее, поймали за заводской чертой. О чем это говорит? Только об одном: на площадке была паника. Выстрелы напугали толпу. Потом, когда убедились, что более никто не стреляет, ринулись к телу Ильича. Убедились, что жив, хоть и ранен. Перенесли в авто. На все про все ушло минут десять. С завода повезли в Кремлевскую больницу. Сколько до нее езды? Бокий ругнулся: а хрен его знает. Смотря какое авто, как едет… К тому же с какой стати я решил, будто Старика повезли в Кремль? А если в другое место? – Глеб Иванович резким движением ладони стряхнул со лба пот. – Да бог с ней, с больницей. Повезли, и все. Любопытно другое. Кто сообщил Свердлову о покушении? Во сколько? Откуда? С заводского телефона? Возможно. Сразу после того, как Ленина увезли? Скорее всего. И не скорее всего, а так и есть. И вот, предположим, я – Яков Свердлов. Мне звонят в половине одиннадцатого, говорят, что на Ленина совершено покушение. Мои действия? Естественно, как у всякого нормального человека, узнать, каково состояние Ильича. Что с ним? Куда повезли раненого? Немедленно отправиться к нему. Другу. Товарищу. Соратнику. И лишь после, убедившись в том, что в Ильича действительно стреляли, что он ранен, а не убит и каково его состояние здоровья, сообщить о произошедшем всем партийным ячейкам. Сообщить – уже в последнюю очередь. Сначала все узнать! Самому! Так бы поступил я, Бокий. Однако на деле все произошло иначе. Потому что, если бы Яков поступил, как я, то телеграмма пришла бы в лучшем случае ближе к полуночи. Но никак не в одиннадцать часов. То есть спустя сорок минут после покушения. Получается, телеграмму отправили, доверившись словам, прозвучавшим с заводского телефона. Не проверив ни единого факта нападения на Ильича! Не уверившись в том, жив Ильич или умер. Не подняв своей задницы с кремлевского стула. Просто доверившись телефонному звонку!»
Бокий с трудом перевел дыхание.
«А потом Дзержинский отказался вернуться в Москву. Скорее всего, Феликс просчитал то же самое в поезде. Но в таком случае мы имеем не что иное, как захват власти Яковом Свердловым. А только ли им? А в Питере что, не то же самое? Причем оба убийства в один день. Не заговор ли это?»
Холодный пот прошиб лоб чекиста. Глеб Иванович поднял голову, долгим, пристальным взглядом окинул затянутое тучами небо. За спиной кто-то прошел, поздоровавшись, на что Бокий не обратил никакого внимания. Все его мысли были сконцентрированы вокруг одного.
«К осени в Петрограде всю высшую элиту власти составили те, кто в марте не поддержал Ильича. Случайность? Или их намеренно сконцентрировали в Северной столице? Зиновьева, Яковлеву, Урицкого… А в Москве теперь заправляли те, кто их поддерживал, те, кто вместе с ними был против Старика в Брестском вопросе: Троцкий и Свердлов. А между ними стоит одинокая фигура Дзержинского. Человека, который не принял ничью сторону, имеющего свою личную, индивидуальную точку зрения. И в марте не поддержавший ни тех, ни других».
Феликс…
После подавления восстания левых эсеров, то есть тех, кого он приютил в ЧК, Дзержинский, неожиданно, по собственной воле, сам себя отстранил от обязанностей председателя ВЧК. По официальной версии, он давал показания как свидетель по делу мятежников. На самом деле, как сообщили Бокию из Москвы, все обстояло совсем иначе. Феликс находился на грани психического срыва, безмолвно отдав бразды правления ВЧК Петерсу. И причиной нервного срыва, как ни странно, стал Старик. Ленин терпеливо ждал, когда его соратник, совершивший новую ошибку, с повинной падет перед ним на колени. А падать было за что: об этом Бокий знал не понаслышке.
Мятеж левых эсеров вспыхнул во время работы V съезда Советов, а начало ему было положено выстрелами начальника секретного отдела ВЧК, эсера Якова Блюмкина в германского посла, графа Мирбаха. Того самого Якова, которого привел в ЧК сам Феликс. А помогали Блюмкину не кто-нибудь, а два заместителя Дзержинского – Александрович и Прошьян. Уже один этот факт в подборе кадров говорил против Железного Феликса. Но на нем дело не закончилось. Самое любопытное произошло позже. Феликс сам пошел в стан мятежников. И те его не тронули! И это несмотря на то, что с мятежниками власть разделалась под орех, с помощью артиллерии и безжалостных к врагам революции латышей. То, что Дзержинский выжил, стало второй причиной недоверия к нему. Едва Феликс оказался на свободе, он тут же отправился на Лубянку и, как Бокию потом рассказывал один из его старых товарищей, Егоров, приказал арестовать тринадцать сотрудников ВЧК, которые имели отношение к партии эсеров. Всех тех, кого Дзержинский сам привел в Чрезвычайную комиссию. Не тронули только одного человека. Как ни странно, зачинщика мятежа Янкеля Блюмкина. Почему? На данный вопрос Бокий ответ получить так и не смог.
Полтора месяца ушло у Феликса Эдмундовича на то, чтобы загладить вину перед Стариком. И тот простил. Бокий, сжав правый кулак, с силой потер им лоб.
«А вот простил ли Феликс Старика за то унижение? И не является ли нежелание Феликса вернуться в Москву следствием июльских событий? А еще этот странный допрос Дзержинского».
Из того, что Антипов записал на бумаге, выходило, будто Феликс вообще ни о чем не разговаривал с Канегиссером. Но ведь все было не так. Пока он, Бокий, разыскивал чекиста с хорошим почерком, Феликс общался со студентом около тридцати минут. И когда они с Антиповым вошли в кабинет, было видно: разговор между председателем ВЧК и арестованным состоялся. А на бумаге совсем иное. И вновь непонятное поведение Феликса. Проехать такое расстояние от Москвы до Питера и спокойно отнестись к такому провальному результату допроса? Нет, подобное на Железного Феликса никак не похоже.
Бокий почувствовал, как холодная испарина от новой, еще более странной и страшной мысли проступила на лбу.
«Канегиссер не интересовал Дзержинского! Британское консульство – вот основная цель приезда Феликса в Питер. Вслед за Питером – Москва. Зачистка всех британских “авгиевых конюшен”». И собирать доказательства вины британцев помогал лично он, Бокий. Впрочем, те и сами, как бараны, приносили доказательства своей шпионской деятельности в загон. А дальше… Дальше у Феликса руки будут развязаны. И ни Свердлов, ни Троцкий не станут для него помехой.
Вопрос теперь заключался в ином: а с кем встанет в строй он, Бокий? Кого поддержит? Феликса или Якова?
Глеб Иванович с силой тряхнул головой и, резко развернувшись на каблуках, направился в кабинет Доронина.
* * *
При появлении долгожданного гостя Григорий Евсеевич тяжело встал с мягкого кресла, неслышно ступая по толстому ворсу ковра, распахнув объятия, направился навстречу Дзержинскому.
– Наконец-то… – Улыбка осветила лицо члена Петроградского реввоенсовета. – А то было подумал, ты так и не заедешь ко мне.
Феликс Эдмундович вяло пожал протянутую руку, осмотрелся.
– Роскошествуешь, Григорий. Ковры, хрустальные люстры, картины…
– От старого режима осталось, – парировал Зиновьев.
Острый взгляд председателя ВЧК пронзил его, однако Феликс Эдмундович воздержался от дальнейших комментариев.
Конечно, Дзержинский мог кое-что припомнить соратнику по партии. И сытые по нынешним временам обеды, которые, по наводнившим Питер слухам, давались для приближенных Григория Евсеевича в Смольном. И усиленную охрану. И захваченные квартиры и дома в городе, где в одиночестве проживали новые нувориши, в то время как основная людская масса, которая привела их к власти, как и прежде, ютилась по углам и подвалам. И усиленные продпайки. И много еще чего. Но это бы означало пойти на открытую конфронтацию с руководителем Петрореввоенсовета. А сейчас подобного чекист себе позволить никак не мог. Сегодня Зиновьев ему был необходим в качестве союзника. Потому-то и промолчал Феликс Эдмундович. Однако и показать слабость руководитель ВЧК не имел права. Почувствуй Зиновьев слабину – сожрет в секунду. А потому Дзержинский перешел не в «тяжелое», а в «легкое» наступление.
– Смотри, Григорий, не споткнись. Предупреждаю: упадешь – помощи не жди.
– Это ты мне, вот так, по-дружески, как старому партийцу говоришь?
– Нет. Это я тебя как чиновника предупреждаю. Как рядового, поставленного на службу народом чиновника. Думаешь, окружил себя прихвостнями с пулеметами, и никто о тебе ничего не знает? – Дзержинский умел говорить так, что у собеседника дрожь по телу проходила. – Ошибаешься, Григорий Евсеевич. И на тебя из Питера приходят бумаги. И не одна-две, тома. Бога благодари, что все попадают ко мне.
– Что ж, Феликс, получается, мы с тобой теперь не в одну дуду дудим?
– А мы в одну никогда и не дули, – левый глаз первого чекиста нервно дернулся, – да и вряд ли когда будем дуть. Брест промеж нас глубокую черту провел. Старик до сих пор на тебя зуб точит.
– Если помнишь, я свою ошибку признал.
– Признать мало. Нужно подтвердить действием.
– Так ведь и подтверждаю.
– Слабо подтверждаешь, – Дзержинский устало присел на стул, – у тебя тут черт-те что творится.
– У вас, в Москве, не лучше, – тут же нашелся Зиновьев.
– Согласен. И у нас черт-те что. Потому и приехал. Как думаешь наводить порядок? Ведь если так дальше пойдет, вас тут всех перестреляют.
– Имеются некоторые соображения. Думаю создать группы патрулирования, из рабочего люда, охватить ими весь город, особенно по ночам. Рабочий человек – сила. Выдадим оружие, отпустим, так сказать, вожжи. Пусть со всякой гнилой интеллигенцией по-своему, прямо на улице разбираются.
– Без суда и следствия?
– Не для всех, понятное дело. Только для тех, кого возьмут на горячем.
– А кто определит, что горячее, а что нет? Эдак твой рабочий люд начнет самосудом заниматься. Кто лицом не понравился – к стенке! Или прической вроде твоей. Смотри, как бы сам к стенке не встал.
– А у меня иного выхода нет. Народа столько пересажали – трибуналы не успевают выносить приговоры. Тюрьмы переполнены. А контра все прет и прет!
Дзержинский отмахнулся от назойливой осенней мухи.
– Что ж, ты сейчас в Питере главный, тебе и решать. Но смотри, Григорий, если начнешь личную политику гнуть… – Феликс Эдмундович резким движением рук оправил мятую гимнастерку, вскинул острую бородку вверх и неожиданно проговорил резким, четким, приказным тоном: – Теперь о том, зачем к тебе приехал.
Зиновьев сжался. Вот оно, дело Канегиссера. Однако партиец ошибся. Дзержинский заговорил совсем об ином.
– Прямо сейчас, немедленно, я направляю людей в Британское посольство. Постановление об обыске и арестах подписал. Руководят операцией Яковлева и Геллер.
Григорий Евсеевич был ошеломлен.
– Ты что, Феликс… Дипломатическая неприкосновенность!
– У меня имеются прямые доказательства их связи с контрреволюционным подпольем. Десять дней назад люди Бокия, – Дзержинский специально выделил интонацией данный факт, – арестовали некоего Ковалевского Владимира Павловича. В прошлом военврача. При Временном правительстве служил санинструктором Балтфлота. Так вот, во время допроса Ковалевский признался в том, что знаком с английским военно-морским атташе Фрэнсисом Алленом Кроми, который в данный момент находится в Петрограде. Англичанин предложил Ковалевскому заняться вербовкой противников советской власти и сбором информации. Ясное дело, не за красивые глаза. Впрочем, Кроми меня интересует не только по деятельности в Петрограде. Этот молодой человек уже успел наследить в Архангельске – подготавливал там почву для высадки британского десанта. Так что причин для обыска, Григорий Евсеевич, хоть отбавляй. Прошу у тебя поддержки силами отряда Петросовета: наших чекистов будет маловато. Кроми следует доставить лично ко мне. Я буду на Гороховой. Перед штурмом…
– Постой, постой, – встрепенулся Зиновьев, – ты что, предлагаешь и мне заняться британцами?
– Именно.
– Нет! – с силой, будто осел, отгоняющий мух, мотнул головой Григорий Евсеевич, стряхнув на плечи перхоть. – Так не пойдет! Ты, Феликс Эдмундович, руководитель ВЧК и можешь поступать, как заблагорассудится. Ты сам себе начальник. Но насчет меня – уволь… Петросовет втягивать в твои игры я не позволю.
Дзержинский вмиг превратился в натянутую до предела струну.
– Трусишь?
– А при чем тут трусость? – неожиданно дерзко отозвался Зиновьев. – Ты, Феликс Эдмундович, на личностный фактор не перекидывай! Ты тут бузу устроишь и адью, а мне расхлебывать? Мало американцы плешь проели, так теперь еще и англичане присоединятся? Вас и след простыл, а мне с их нотами и протестами разбирайся? Нет, Феликс, – не сказал, прошипел Зиновьев, – так дела не делают. У кого компрометирующие материалы на британцев? У тебя! Чья идея захвата посольства? Твоя. Решил арестовать? Твое право. Мешать не стану. Просто не имею права тебе мешать. Но и помогать не буду. А вдруг твои выводы ошибочны? Что, если подозрения не подтвердятся? Чувствуешь, куда клоню? Одно дело – извиняться только ЧК: бывает, случается, и совсем иное – просить прощения Советам, власти. Чувствуешь разницу? И ЦК, уверен, примет мою сторону. Если не согласен – телеграфируй Свердлову. Даст Москва добро, сам, лично, пойду арестовывать твоего Кроми. А не даст…
Дзержинский, глядя в глаза собеседника, медленно поднял руку, так же медленным, скользящим, мягким движением провел по бородке.
– Что ж, может быть, ты и прав. Провожать не нужно, не барышня. – Феликс Эдмундович направился к выходу, у двери задержался, напоследок еще раз окинул взглядом роскошные апартаменты председателя многочисленных комиссий, комитетов и советов. – Приведи кабинет в подобающий вид. Как-никак представляешь власть рабочих и крестьян. А то устроил тут бордель…
* * *
– Доронин!
Матрос резво вскочил со стула, делая вид, будто бодрствует, однако помятая левая сторона лица явственно говорила о том, что Демьян Федорович далеко не бдил за столом.
– Садись. – Бокий вялым движением руки усадил чекиста. – Да не три ты физиономию… Загонял я вас. Да что, брат, делать? Такая у нас доля. Аристарх Викентьевич ушел?
– Да, отпустил. Я ему приказал мальчишку к себе на постой пристроить, – проговорил матрос и тут же принялся оправдываться: – Взял бы мальца к себе, да куда? Комнатенка – сами знаете… И я там третий.
– Вот и замечательно, – перебил Глеб Иванович, – только плохо, что приказываешь. Аристарх Викентьевич – такой же чекист, как и ты. – Доронин заметно стушевался. – Что назавтра наметили?
– Озеровский хочет еще раз опросить этого… Из комиссариата. Ну того, который видел, как убили Соломоновича.
– Лифтера?
– Ага. И до кучера Канегиссеров нужно съездить в «Кресты». Помните, служанка говорила, будто он возил студента на Васильевский… Хотим, чтобы показал дом.
– Помню. Словом, так, Демьян Федорович, слушай меня внимательно. И не перебивай. Официально… Понимаешь смысл этого слова?
– А то как же…
– Так вот, официально по делу Канегиссера вы с Аристархом Викентьевичем отстранены. Завтра утром передашь материалы Отто и Риксу.
– Это как же, Глеб Иванович… – Матрос принялся растерянно скоблить рукой левую скулу. – Мы ведь только…
– Ты меня внимательно слушал? – Бокий слегка наклонился к подчиненному. – Я же сказал: официально прекращаете работу. А неофициально…
– А-а-а. Понял!
– Не перебивай. Ты, Демьян, больше суетись здесь, на Гороховой. Наблюдай за прибалтами. Озеровский же пусть продолжает крутить дело на всю катушку. Только помни: не дай бог, кто узнает, что мы отсебятину городим. Головы всем не сносить.
– Усек, товарищ Бокий, – подмигнул Демьян Федорович начальству. И тут же поинтересовался: – А как быть с мальчишкой? К кому его приставить?
Глеб Иванович ждал этого вопроса. И уже дал сам себе ответ.
– Мичурин будет при старике. Нечего ему глаза мозолить нашим. Не дай бог, на Яковлеву нарвется, вообще покоя не будет.
– Эт точно, – скабрезно хмыкнул Доронин и тут же поправился: – Ну, к тому, что пусть мальчонка опыта набирается. Здеся, в кубрике, он только бумажки может перебирать. А с Викентьевичем-то они ого-го…
Бокий оценил сарказм чекиста:
– Вот-вот, и я о том же…
* * *
Саше Аристарх Викентьевич выделил для ночлега кожаный диван в гостиной.
– Простите за неудобства, – старик чувствовал себя крайне неловко, – но мы гостей не ждали.
– Мы люди привычные. Я в Москве на лавке спать приспособился. Хорошо для осанки.
Саша устало присел на край дивана, исподлобья осмотрелся. Давненько не почивал в господских хоромах. Усмешка искривила красивое лицо юноши: хорошо живут… Ну да недолго им тут жить.
В Москве Александр делил топчан с чекистом Смирновым, мужиком холостым, в прошлом рабочим Морозовской фабрики. Тот проживал в подвале вместе с матерью-старушкой и младшим братом-инвалидом. За год Саша привык к «спартанским условиям» Смирновых и других даже представить себе не мог. А тут… Мягкий диван на пружинах, кресла, тоже кожаные, огромные, сядешь – утонешь. Точно такие были у них дома, у папы в кабинете. Картины на стене. Табачный столик для курящих гостей. Да, хорошо… «Интересно, с какого хрена этот старик подался в ЧК? Не от голодухи, точно».
Аристарх Викентьевич по-своему расценил молчание гостя.
– Может, желаете поужинать? Есть овощной суп. Вы как?..
Саша с силой отрицательно мотнул головой. Есть он хотел. Но не в этом доме, не у этих господ. Эх, жаль, что его не позвал к себе второй чекист, Доронин. Ему, Саше, он сразу понравился. С первого взгляда видно: есть в мужике стержень. Глянешь на него, и сразу понимаешь: человек плавал по морям-океанам. Ну и что, что на ногах сапоги, а на теле гимнастерка? Зато из-под расстегнутого ворота видна тельняшка, душа моряка. Хоть маленький, но шик. А Озеровский…
Ненависть билась в нежной мальчишеской груди. Ярая, лютая ненависть. Если бы Доронин не приказал ехать в дом старика, Саша бы с удовольствием остался в здании ЧК, где нашел бы себе местечко для отдыха. Не впервой. Вещмешок под голову, курткой укрылся – вся недолга. Однако чекист приказал, а приказы следует выполнять. «Ну, да ничего… – снова подумал молодой человек. – Завтра скажу Доронину, что буду жить на Гороховой, хоть на чердаке. А потом… Потом найду момент и наведаюсь к нам домой. Пообщаться кое с кем. – Кулаки молодого человека с силой сжались. – Мы еще за все поквитаемся!»
Дверь за спиной надсадно скрипнула.
Александр не заметил, как Аристарх Викентьевич вышел из залы.
«Догадался, что ли, о чем думаю? – прикинул Мичурин. – Скорее всего, так. Ведь сколько раз Феликс Эдмундович говорил: скрывай эмоции. У тебя все на лице написано. А вот ни черта не получается».
Кулаки как-то сами собой разжались. На душе стало муторно. Действительно, что это он при Озеровском стал кочевряжиться? Старик-то при чем?
«То есть как это при чем? – тут же зло осадил себя Саша. – Притом. Он один из них. Из тех, кто виновен в смерти мамы и папы. Служил Керенскому? Служил. Значит, виновен».
С последней мыслью юноша, специально не разуваясь, лег на диван, кинув под голову мешок с вещами, и спустя несколько минут спал, по-детски посапывая во сне.
* * *
Паровоз в ожидании команды осторожно, будто проверяя, все ли в порядке, пускал под колеса пар. Феликс Эдмундович отметил, как матовое облачко вырвалось из клапана, растеклось по перрону, растворяясь в воздухе.
– А Кроми арестовать не удалось, – вещала тем временем Варвара Николаевна. – Оказал вооруженное сопротивление. Застрелили.
Дзержинский, отвернувшись в сторону, тихо, так чтобы никто не услышал, выругался: бездари. Простого, элементарного не смогли выполнить.
– Бумаги? – Дзержинский протянул руку.
Варвара Николаевна вложила в нее свернутый в тонкую трубочку пакет.
– И это все? – удивлению чекиста не было границ. – Так ничтожно мало?
– Большинство документов британцы успели сжечь, – вынуждена была признаться Яковлева.
– То есть как это «успели»? – Глаза чекиста, будто пиявки, впились в женщину.
– Я… Мы… Мы хотели, чтобы они сами открыли нам двери.
– И дали время на уничтожение улик? – взорвался Железный Феликс.
Четыре месяца тщательной работы, три подвода к британцам своих людей, с трудом налаженный контакт – все псу под хвост.
Варвара Николаевна, покаянно опустив голову, смотрела себе под ноги. А в голове… А в голове мысли неслись табуном.
Яковлева не случайно отдала приказ начать с переговоров, а не сразу приступить к штурму посольства, как на том настаивал Феликс Эдмундович. Дзержинский стал для нее опасной фигурой на данной шахматной доске, такой же опасной, как и Зиновьев. Именно поэтому она и решила выполнить приказ Григория Евсеевича (о неторопливом проведении операции), а не Дзержинского. Логика в ее действиях была проста: в Москве всем заправляют друзья Григория, отсюда вывод: Феликс в опале. И если сейчас поддержать позицию ВЧК, можно проиграть. А вот убийство Кроми и уничтожение материалов никак не повлияет на Дзержинского, только несколько ослабит его позицию, и не более. Если он силен, сможет выплыть и без этих материалов. А если слаб, что ж, тогда она поступила правильно.
И еще: хорошо, что Дзержинский направил на исполнение приказа группу Сеньки Геллера. Проинструктировать-то он его проинструктировал, да не учел одного: Семен состоял в связке с Варварой, а поэтому справиться с приказом Зиновьева было проще простого. Прислал бы людей Бокия, и кто знает, чем бы все закончилось?
Теперь оставалось только делать вид, будто опростоволосились. Ну что значит небольшой нагоняй, тем более от опального руководителя, в сравнении с тем, что тебе светит в будущем? Мелочь. Можно и потерпеть.
Однако Феликс Эдмундович не стал отчитывать Яковлеву.
– С этого момента ПетроЧК будет руководить Бокий. Ты – его помощник. Считай данное решение наказанием за невыполнение приказа. Можешь быть свободна.
Варвара Николаевна резко развернулась на месте и, не прощаясь, подметая перрон подолом черной юбки, устремилась к выходу. Дзержинский проводил ее долгим, пронзительным взглядом.
«Предала, – сама собой возникла острая, режущая мысль в голове первого чекиста. – Теперь нужно выяснить, телеграфировал Зиновьев Свердлову или нет? И когда телеграфировал. Если до штурма посольства, то, вполне возможно, Зиновьев получил из Кремля приказ не штурмовать. Если же после… Впрочем, какая разница! Варька со своим волосатым любовником подложили хорошую свинью. Хорошо, что отдал приказ Бокию передать дело Канегиссера Отто и Риксу. Те уже проинструктированы, как довести расследование до конца. Не подведут. Вот только сам Бокий…»
– Феликс!
Дзержинский обернулся. К нему подбежал запыхавшийся Глеб Иванович.
– Слава богу, успел.
– Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy[35], – усмехнулся Феликс Эдмундович.
– Не совсем понял, что ты сказал, но вот за дьявола можно и обидеться.
– Ишь ты… Ладно, – тонкие пальцы первого чекиста чуть тронули локоть подчиненного, – извини. Что-то случилось?
Бокий вскинул голову, открыто и решительно посмотрел в глаза Дзержинского.
– Я с тобой, Феликс.
– Уверен? – Взгляд первого чекиста стал стальным. – Уверен, что принял правильное решение? Я ведь сегодня не в чести.
– Отойдем в сторону. – Чекисты сделали несколько шагов к противоположному краю перрона, так чтобы оказаться подальше от охраны. – Помнишь, я тебе сегодня докладывал по делу о прокламациях «Всемирного израильского союза» и «Каморры народной расправы»?
– Дело художника Злотникова? И что?
– Дело в том, что во время одного из допросов Злотников признался, будто имел контакты не только с монархистами, но и с кем-то из наших. Не из ЧК, а из власти в целом. Точнее, с людьми из Петросовета. Одним словом, Злотников те прокламации изготовил из-за спора. Проспорил.
– Он что, кретин? Или больной? С такими вещами не шутят.
– Ни то, ни другое. Думаю, его специально подвели к тому спору. Поступили точно так же, как с Канегиссером. И не выполнить условий спора художник не мог: сыграли на чести.
– А мы, получается, купились?
Бокий мысленно отметил произнесенное слово «мы», которое Феликс Эдмундович даже не попытался выделить интонацией. Дзержинский не дистанцировал себя от него, хотя к данному делу он-то как раз не имел никакого отношения.
– Зато благодаря Злотникову вышли на заговор монархистов.
– Давай говорить откровенно, Глеб: вышли совершенно случайно. И вашей заслуги в аресте Боброва[36] и Ревенко[37] нет никакой.
– Это спорный вопрос…
– Обиделся? Прости, день сегодня такой выдался: всех обижаю. Дальше что?
– А то, что Урицкий летом вел беседы со служителями Большой хоральной синагоги.
– И что? Злотников тут при чем?
– Я так думаю, здесь, в Питере, борьба за власть между нашими началась несколько месяцев назад. И началась именно с этого художника. Борьбу между собой затеяли Урицкий и Зиновьев. Заметь, оба евреи. Конечно, это только мои догадки, но, думаю, они верны. Так вот: каждый из них решил использовать еврейский фактор для своей победы. Урицкий начал налаживать контакты со священниками. Зиновьев зашел с другой стороны: в том числе используя Злотникова, тайно принялся раскачивать антисемитские настроения, одновременно как бы отстранившись от еврейского движения, но при этом поддержав инициативу Диманштейна[38] о создании местных еврейских комиссариатов. Причем Зиновьев с Урицким не одиноки: нечто подобное происходит сейчас и в Москве. Это сегодня Свердлов с Троцким союзники. А что будет завтра? Хорошо, что Старик выжил. На этот раз. Но нет никакой гарантии, что не будет второго, третьего покушения. А вдруг процесс выздоровления пойдет не так? Ты можешь гарантировать, что его правильно лечат? – Дзержинский вздрогнул. – То-то. И вот когда Старик умрет, тут все начнут рвать одеяло на себя. Но почву готовят сейчас. Потому-то им и не нужны ни поляк Дзержинский, ни русский Бокий.
– Хочешь сказать, камень преткновения – еврейский вопрос?
– Отнюдь. Власть. Полная, абсолютная власть. Повторюсь: пока Свердлов, Зиновьев, Троцкий – союзники. Но как только захватят престол, тут же начнут уничтожать всех, кто им неугоден. С тебя уже начали. Мной не закончат. Но то, что я тоже попаду в жернова, – факт. Это главная причина, почему я принял твою сторону.
– Спасибо за откровенность. И как, по-твоему, я смогу эту информацию использовать в Москве?
– На данный момент никак. Но знание о противнике – само по себе много. И еще: я связался с Петерсом еще до начала штурма посольства. Он блокировал в Москве телеграф до твоего прибытия. Все телеграммы будут проходить через его руки. Так что Зиновьев не успеет никого предупредить о захвате британского посольства. Мало того, Петерс пустил слух, будто ты задержался в Питере еще на сутки. Таким образом, завтра всех застанешь врасплох. И Якова, и британцев, и завладеешь всей информацией, даже той, которую успел уничтожить Кроми в Питере: думаю, у них там имеются дубликаты. А я займусь арестами. Только не думай, будто я изменил свое мнение и поддерживаю данный метод. Просто не вижу иного выхода. Не начну – снимут. И тогда Зиновьев меня сожрет.
– Только не перестарайся, – согласился Дзержинский. – Идея революционного террора буквально висит в воздухе. Ею все пропиталось настолько, что вот-вот готово взорваться. Боюсь, после покушения на Старика данная идея материализуется. И от нас уже мало что зависит.
– Я тут вот о чем подумал. Я согласен, террор – плохо. Очень плохо. Только вот как странно получается. До сих пор Яков, Гришка и иже с ними, те, кто ратует за террор, ставили нас в такие условия, что в глазах мировой общественности они, сторонники террора, выглядели демократами и чуть ли не либералами, а мы, противники из ВЧК, – деспотами и держимордами. – Бокий сделал паузу, помолчал, после чего продолжил мысль: – А вот если появится постановление о красном терроре, оно поставит всех в одни рамки. Тогда никому не удастся спрыгнуть с того поезда, который мы отправили в путь год назад. А это, пусть на время, но приостановит разброд, который начался в аппарате. Как думаешь?
Дзержинский вздрогнул:
– Странная мысль.
– Согласен. Только есть ли иной выход? А?
Феликс Эдмундович промолчал. А что он мог ответить, когда вот уже вторые сутки та же самая мысль билась в его голове.
– Впрочем, может, и обойдется. Ты ведь не случайно передал дело Канегиссера латышам? – Бокий с хитринкой глянул на председателя ВЧК. – Дело еврея-убийцы, который убил своего соплеменника-еврея, передать следователям-антисемитам. Ловкий ход. Они черт-те чего нагородят. Их расследование, особенно если его правильно высветить в прессе, станет ощутимым ударом и по Зиновьеву, и по Свердлову, и даже по Троцкому.
Дзержинский усмехнулся, протянул подчиненному узкую кисть правой руки:
– Раскусил. Молодец. Рад, что не ошибся в тебе.
Бокий принял рукопожатие:
– Теперь главное – не ошибиться в наших дальнейших шагах.
Глава третья (за четыре дня до постановления «О красном терроре»)
1 сентября
Официальный бюллетень № 6
1 сентября 1918 года, 8 часов 30 минут утра.
Пульс – 110, температура – 37,3. Общее состояние удовлетворительное, осложнений нет.
А.Н. Винокуров.* * *
– Вот, – Доронин вынул из ящика стола папку с материалами дела, – все, что у нас имеется.
– Не отчень густо, – с явным прибалтийским акцентом отозвался молодой стройный парень лет двадцати семи в туго обтянувшей тело кожанке. То был не кто иной, как Эдуард Морицевич Отто[39], один из чекистов, которому Дзержинский поручил довести дело Канегиссера до конца.
– Что наскребли – все ваше.
Коллега Отто по группе расследования, тридцатилетний Александр Рикс[40], присел на стул, потянул папку на себя.
Доронин хотел было еще разок притронуться к документам, но тут же передумал и обреченно махнул рукой. А глазами быстро оценил обстановку.
Да, ребятки… Обмишурились с расследованием убийства Володарского, теперь и это угробите. Куда вам до Озеровского… И зачем Бокий приказал именно им сдать дело? Неужели более толковых не нашлось? Эти даже на русском через пень колоду говорят, а пишут так вообще не прочесть (о себе Доронин, как о составителе протоколов, был довольно высокого мнения).
Впрочем, истины ради следует сказать, что выбор Дзержинского (о чем Демьян Федорович, ясное дело, не знал) был далеко не случайным.
Александр Юрьевич Рикс, несмотря на молодые годы, был одним из немногих чекистов, кто имел высшее юридическое образование (окончил Петроградский университет) и имел небольшую практику в следственных делах. Хотя, как заметил Доронин, в их тандеме лидирующую роль играл не он, а Отто.
Эстонец по национальности, Эдуард Морицевич Отто, владелец кожаной «чекистской» тужурки, особым образованием не блистал. Знаком был с электротехникой, фотографией, однако ни в первом, ни во втором особых талантов не проявил. Зато в организации террористических актов показал себя выше всяких похвал. Чем, собственно, и привлек внимание к себе органов ЧК. Впрочем, отличался товарищ Отто не только этим. Его главной отличительной чертой были честность и прямо-таки параноидальная жажда справедливости. Чекист рубил правду-матку вся и всем, вне зависимости от должности, звания и возраста, что многих обижало и отталкивало от него. А поэтому друзей, настоящих, близких друзей, у Эдуарда Морицевича не было.
Отто склонился за спиной коллеги, тоже принялся изучать бумаги.
Доронин внимательно наблюдал за обоими.
– Князя Меликова допрашивали? – Рикс поднял голову, посмотрел на матроса.
– Это к которому забежал мальчишка? Нет, не успели.
Бумаги зашелестели дальше.
– Почему нет протокола допроса отца Канегиссера?
Тут Доронин только развел руками. Отца убийцы допрашивал Озеровский. А вот почему не оформил бумаги, кто ж его знает?
– Отчень халатный работа! – прямолинейно высказался Отто.
Папка захлопнулась.
Доронин едва не задохнулся от гнева: это кто его тут вздумал учить? Однако сдержал себя: вовремя вспомнились слова Бокия.
– Времени было мало. – Демьян Федорович поднялся со стула, оправил гимнастерку. – Зато вам теперь все карты в руки.
* * *
Утром Озеровский с Мичуриным в первую очередь отправились к месту убийства товарища Урицкого – в Комиссариат внутренних дел Северной коммуны.
Город готовился к похоронам убитого Моисея Соломоновича. По тем улицам, где должна была пройти траурная процессия, вывешивали красные флаги с привязанными к древку черными ленточками. Дворники совместно с охраной и сотрудниками комиссариатов прибирали как проезжую часть, так и тротуары. Утром все питерские газеты вышли с некрологом. К Таврическому дворцу, где выставили для прощания гроб с телом покойного, Совнарком подогнал броневики. А за городом, на летном поле, томились в ожидании аэропланы.
Впрочем, о последнем ни Озеровский, ни тем более Мичурин не имели ни малейшего понятия.
По дороге Саша поинтересовался:
– А зачем мы едем в Зимний? Ведь убийца пойман на месте преступления.
– К сожалению, убийца был задержан далеко не на месте преступления, – в своей любимой, поучающей манере начал отвечать следователь. – Именно по этой причине мы и едем, как вы выразились, в Зимний. Вас устраивает такой ответ?
Юноша только пожал плечами.
– Разрешите поинтересоваться, а что у вас, в Московской ЧК, не проводят детального расследования?
– То есть как это не проводят? – взъерошился Мичурин. – У нас все проводят, как полагается, в соответствии с законом. Вот только, если преступника поймали с поличным, с ним долго не возятся, как тут, – с легким укором ответил юноша.
Озеровский только усмехнулся: молодежь…
Войдя в здание комиссариата, где два дня назад произошло преступление, следователи подозвали к себе швейцара.
Озеровский кивнул в сторону лифтового приспособления:
– Вы присутствовали в момент убийства госп… м-м-м… товарища Урицкого?
– Так точно-с, – старик быстро, утвердительно затряс головой, – присутствовали. И я, и мой напарник, Федор Васильевич. Только он сегодня отсутствует. Приболел. Мы в ЧК все рассказали. Все, как было… Да и что мы видели? Почти ничего, – быстро затараторил перепуганный швейцар. – Я-то до того все смотрел на люд, кабы чего… У нас же как – где много люду, там и карманники. Вот и наблюдал. А тут бах-бабах… Гляжу, а Моисей Соломонович весь в крови, лежит. И крики, крики…
– Что было, мы и без вас знаем, – грубым повелительным тоном оборвал выступление щвейцара Озеровский. Саша, услышав стальные нотки из уст старшего товарища, едва смог сдержать улыбку: так не вязался этот повелительный тон с неброской, даже скорее запущенной внешностью Аристарха Викентьевича. – Нас интересует поведение убийцы до покушения. Когда приехал? Где стоял? Что делал? С кем разговаривал? Бывал ли он раньше в комиссариате? Если был, то с кем? Или один?
Старик швейцар прижал руки к груди:
– Точно-то я ничего толком сказать не могу. Появились они, кажется, за час до приезда Моисея Соломоновича.
– Кажется или за час?
– Вроде бы за час. Хотя, может, и раньше. Стояли вон там, у окна. – Швейцар указал на то место, где два дня назад топтался, в ожидании Урицкого Канегиссер. – Курили, это помню точно. А вот с кем общались – не приметил. Вроде ни с кем. Я за другими следил. – Служащий комиссариата встрепенулся. – Я ведь вашим товарищам про это уже рассказывал.
– Знаю. – Озеровский прошелся по пустому холлу. Сегодня посетители отсутствовали, а потому его шаги гулким эхом отражались от стен. – Детали. Вспоминайте детали. Он точно ни с кем не общался?
– Ну-у, – протянул швейцар, – так, чтобы разговаривать, то ни с кем.
– То есть… – Аристарх Викентьевич заинтересованно потер правой рукой подбородок. – Убийца ни с кем не разговаривал, но… продолжайте.
– Они, как рассказывал мой напарник, Федор Васильевич, спрашивали у него, приехал товарищ Урицкий или нет? И все.
– И что тот ответил?
– Сказал, что вроде нет. Он, то есть Федор Васильевич, еще поинтересовался в тот момент у помощника Моисея Соломоновича, прибыл ли товарищ комиссар? Тот ответил, что нет. После этого убийца-то и отошли к окну, и больше ни с кем не разговаривали.
– Помощник Моисея Соломоновича, если я не ошибаюсь, Александр Соломонович Иоселевич?
Сашины брови вторично вскинулись в удивлении: еще один Соломонович?
– Он самый, – утвердительно мотнул головой швейцар.
– А что в тот момент здесь делал товарищ секретарь? – Озеровский не давал старику возможности передохнуть. Брал напором.
– Как что? Шел к себе, наверх. На службу.
– Ясно. А охрана у входа когда была снята?
– Так минут за десять до приезда Моисея Соломоновича. Сверху вызвали. Чтоб помочь…
– Кто вызвал? – на сей раз Мичурин своим вопросом опередил Озеровского.
– Так я ж говорю, товарищ Иоселевич приказали… По их, так сказать, личному распоряжению.
Аристарх Викентьевич напрягся. Весь прошлый опыт следователя сейчас кричал о том, что нет случайностей, когда одна деталь всплывает в деле не единожды. Особенно, если данная случайность имеет живой облик и носит конкретную фамилию. Но то, что было произнесено стариком швейцаром, еще ни о чем не говорило и уж тем более ничего не доказывало. Пока оно только настораживало.
– А для чего секретарю понадобилась охрана? – тем временем поинтересовался Саша.
– Мебель перенести. В другой кабинет.
– Мебель оставим в покое, – Озеровский снова взял инициативу в свои руки. – Убийца раньше приходил в здание комиссариата? – Аристарх Викентьевич, заложив руки за спину, встал напротив старика. – Врать не советую. С Канегиссером вы были прекрасно знакомы еще с тех времен, когда тот был секретарем у господина Керенского. Итак, в последние дни он бывал здесь, в этом здании, незадолго до покушения. Да? Или нет?
– Но я вашим товарищам…
– Да? Или нет?
– Да, – узкие старческие плечики вмиг рухнули, – приезжали-с. Несколько раз.
– Когда?
– Дни не помню. Точно в июле. В конце. И еще раз в августе. За неделю до…
– До чего? До убийства?
– Совершенно верно.
– Дату дня приезда помните?
– Простите, запамятовал. Но то, что неделю тому назад, верно!
– К кому в последний раз приезжал Канегиссер? – Озеровский бросил взгляд на Мичурина, но тот был спокоен, видимо, еще не совсем понимая, куда может завести ниточка, которую только что потянул следователь. – Говорите.
Старик молчал. Только губы слегка дрожали.
– Итак, Канегиссер приезжал… – начал было за швейцара Озеровский и… замолчал, потому что испытал тот же самый испуг, что и старик. Однако продолжить фразу все-таки было нужно, и непослушные губы произнесли: – Приезжал к Урицкому? – Старик молчал. – Или к Иосилевичу?
Старческая голова обреченно опустилась.
Озеровский сквозь моментально образовавшуюся сухость во рту с трудом выдавил из себя:
– Сколь долго он пробыл у Александра Соломоновича?
– С час. Может, меньше.
– Понятно. – Озеровский сделал вид, будто собирается уходить, как тут же резко развернулся к швейцару и задал новый вопрос: – О том, что знаете Канегиссера, вы не рассказали во время предыдущего допроса по причине того, что тот служил у Керенского?
Седая голова вторично склонилась:
– Испугался. Решил, ваши товарищи не поверят. А у меня будут неприятности.
– Неприятности у вас начались с того момента, как вы промолчали, – не смог сдержаться следователь. И, чтобы хоть как-то сгладить негативные эмоции, продолжил: – Нужно было сразу обо всем сообщить. Теперь же вас могут посчитать за сообщника.
– Как это? – Лицо старика побелело. – Я-то тут при чем? Я ж просто… Я тут… Что ж теперь будет? А, миленький? Что ж мне делать?
Озеровский кивком головы показал Мичурину, чтобы тот отошел в сторонку.
– Первое, – шепотом проговорил Аристарх Викентьевич, – молчать. Никому о том, что вы только что сказали мне, ни слова. Второе: не вздумайте увольняться. Это будет не в вашу пользу. И попробуйте еще что-нибудь припомнить. Обещаю – зачтется. Я к вам завтра наведаюсь. Надеюсь, вы не наделаете глупостей. Товарищ Иоселевич на месте?
– Нет-с. Готовят похороны.
Покинув здание комиссариата, Мичурин первым делом поинтересовался у следователя:
– Как вы догадались, что старик знаком с убийцей?
Озеровский пожал плечиками:
– Просто. Во-первых, наш собеседник все время величал Канегиссера на «вы». Заметили, как он говорил? Они стояли… Они спрашивали… Они появились. Старая косточка. Говорить только в уважительном тоне с начальством и о начальстве. Многолетняя привычка. Ее одним росчерком пера не ликвидировать. А сложить один и один, то есть слова швейцара и то, что Канегиссер в прошлом был секретарем Керенского, не составило труда.
– Это как же так получается? Убийца и убитый товарищ комиссар были близко знакомы? Так, что ли, выходит? – в голосе юноши звучало искреннее удивление.
– А что вы видите в том необычного? – Аристарх Викентьевич посмотрел в небо: не будет ли дождя? Вроде не намечался. – Они могли встречаться по разным причинам. К примеру, по просьбе отца убийцы, видного инженера. Или по какому иному поводу. Причем замечу: познакомились господин Урицкий с его будущим убийцей задолго до покушения. Так что причин для их встреч имелось множество. Кстати, вполне возможно, что именно эти встречи и стали причиной преступления. Но ответ на данный вопрос нам может дать только сам убийца. Меня сейчас интересует другое: зачем Канегиссер приезжал к господину Иосилевичу? Не к Урицкому, а именно к Иосилевичу? Чем мог ему помочь секретарь? Владимира Перельцвейга на тот момент уже не было в живых, а значит, просить за него необходимость отпала. По личному делу? Вопрос: по какому? Кстати, Иосилевича до сих пор толком не допрашивали. Побеседовали, на том дело и кончилось. А сей факт говорит только об одном: плохо мы еще работаем, Саша, далеко не на профессиональном уровне. Некачественно. Понимаете, грамоты не хватает вашим… Простите, нашим молодым следователям. Простой, элементарной грамоты сыскного дела. Опять же сыскарь в первую очередь должен быть прекрасным физиономистом. Наблюдать за собеседником, за его реакцией. Как думаете, почему я попросил вас отойти? Из-за того, что не доверяю? Ошибаетесь. При вас старик не стал бы говорить. Вы для него – человек новой формации. Он вас боится. А я для него понятен. Мы с ним одних лет, прошли одну школу жизни, потому он мне и открылся. А теперь предлагаю проехать в «Кресты», к кучеру господ Канегиссеров.
– А я предлагаю отложить поездку на вторую половину дня и проститься с товарищем Урицким, – неожиданно твердо заявил юноша. – Кучер никуда не денется. А товарищу комиссару следует отдать должное.
Озеровский без каких-либо эмоций посмотрел на молодого человека.
– Вы – большевик?
– Да.
– Тогда все понятно. Простите, но сия процедура не для меня.
– Несмотря на то что работаете на советскую власть, ненавидите комиссаров? – едко бросил Саша.
– Нет. Терпеть не могу покойников. В моем возрасте их вид навевает на грустные мысли. И вам не советую посещать без нужды подобного рода мероприятия. А посему едем в «Кресты».
– Нет, я на Гороховую.
– Молодой человек, – в голосе следователя послышались стальные нотки, – я с вами не советуюсь. Я приказываю. Выполним поставленную задачу, можете идти, куда душа пожелает. А в данный момент едем за кучером. И выполняем поставленную товарищем Бокием задачу.
С последними словами Саша по самые уши натянул на голову кожаную фуражку с красным околышком и широким упругим шагом направился к автомобилю.
Озеровский с сожалением посмотрел юноше вслед. Мальчишка, глупыш, не понимает, что следователь специально его не отпустил. Чтобы не проболтался, потому что за полчаса Мичурин услышал такую информацию, которую лучше до поры до времени не разглашать.
* * *
Григорий Евсеевич, в пятый раз пробегая глазами по тексту прощальной речи, дабы хорошенько ее запомнить, практически не слышал, что говорила Варвара Николаевна, а потому пропустил обращенный к нему вопрос:
– Как думаешь, он не догадался?
– Что? – Зиновьев растерянно оторвался от бумаг, приподнял голову. – Ты что-то спросила?
– Я сказала, что Феликс, скорее всего, догадался о том, что мы специально задержали захват здания посольства.
– И что с того? – Григорий Евсеевич только пожал плечами. – Лапушка моя, это уже ничего не меняет. – Зиновьев привстал, потянулся. – Вот скажи, кто на данный момент, у нас товарищ Дзержинский?
– Председатель ВЧК.
– Неправильно, – плотоядно улыбнулся председатель Совнаркома Петроградской трудовой коммуны, слегка щелкнув подругу по самому кончику носа. – Товарищ Дзержинский на данный момент – временный председатель ВЧК! Понимаешь? Временный! До прибытия в Москву. И в таковом качестве ему осталось быть всего несколько часов. Как думаешь, там, в столице, ему простят покушение на Старика? То-то! На нашего Феликса Эдмундовича уже готово постановление. Так что твоему Бокию недолго занимать пост руководителя ПетроЧК. А уж на то, догадался Дзержинский или нет, вообще наплевать. Спросишь, зачем в таком случае ты ему помогала с посольством? Отвечу. Во-первых, если бы отказалась, вот тогда бы он действительно догадался, откуда дует ветер, и, поверь, нам бы не поздоровилось. Потому что на тот момент ЧК еще находилась под ним. Отдал бы приказ Бокию, и сидели б мы сейчас на Гороховой. Или у стены лежали. А во-вторых, ты его оставила без главного свидетеля, Кроми. А без Кроми Дзержинский в Москве – никто. Те бумаги, что ты ему передала, многого не сообщат. Зато теперь нам известно, как и, главное, с кем Феликс работал здесь до отъезда в Москву. А в самой Москве его уже ждут. С распростертыми объятиями. Во всем, Варвара Николаевна, следует искать выгоду. Даже если ты ее не видишь. Так некогда говаривал мой батюшка, человек недалекий, но по-житейски мудрый. Мотай на ус. У тебя все? А то мне еще к выступлению готовиться.
Странно, но слова Зиновьева почему-то не успокоили женщину. Мало того, слишком успокоенное, даже умиротворенное состояние любовника только насторожило ее.
– И все-таки, Гриша, мне как-то не по себе.
– Разберись с Канегиссером, и все встанет на свои места, – отрезал Зиновьев, – а то только одни обещания. А где дело? Точнее, тело?
– Если все будет, как ты говоришь, будет и тело.
– Тогда, значит, и нет проблемы. Все, свободна. Встретимся на Марсовом поле.
* * *
Бокий, примостившись на стуле в углу кабинета, сквозь прищуренные щелки век внимательно, цепко следил за тем, как Рикс «тонко» плетет нить допроса задержанного князя Меликова. Глебу Ивановичу было любопытно познакомиться с «объективной, доказательной и аргументированной» базой, которую Рикс, как он сам признался, должен был по приказу Феликса подвести к банальному уголовному делу, чтобы перевести его из разряда «уголовных» в «политическое».
Петр Леванович Меликов, старик, хозяин той самой квартиры, в которую сунулся перепуганный насмерть Канегиссер, тяжело опустив плечи под бременем так неожиданно упавших на него обвинений, с трудом удерживал слабое, изможденное тело на привинченном к полу, тяжелом дубовом табурете. Князь был тяжело болен: слабое сердце, застарелая, обострившаяся язва желудка плюс геморрой не давали возможности радоваться оставшимся минутам жизни. Руки старика, мелко дрожа, постоянно елозили по брюкам, как бы приводя те в порядок. А взгляд затравленно и неотрывно буравил следователя.
– Гражданин Меликов, вы по-прежнему утверждаете, будто не знакомы с Леонидом Канегиссером?
– Да, да… – Старческая голова непроизвольно затряслась. – С батюшкой отношения имели. Но это давно было. Очень давно. Еще тогда… А вот с сыном… Никогда. Честное слово!
– В каких отношениях состояли с отцом убийцы?
– Простое, банальное знакомство, – быстро нашелся князь. – Инженера Канегиссера знал весь Петербург. А как же… Фигура! Личность! Дважды виделись у его превосходительства…
– Дома у него бывали?
– Простите, что?
– Дома у Канегиссеров бывали? – чуть повысил тон чекист.
– Ну что вы… – На лице Меликова проявилось некое подобие улыбки. – Они ведь евреи. Он, его батюшка, приходил ко мне.
– И с Леонидом, до 30 августа, ранее никогда не встречались?
– Именно.
– И он понятия не имел, где вы проживаете?
– Совершенно верно.
– И вбежал в вашу квартиру гражданин Канегиссер совершенно случайно?
– В том-то и дело!
– И вы, конечно, его не ждали?
– Ни в коем случае!
– Вас уже грабили? – неожиданно поинтересовался Рикс.
– Дважды.
– Били?
– Да. – Князь все еще не понимал, куда клонит чекист.
– Вы звали на помощь? Вам помогли?
– Нет. Как же… Сейчас все люди боятся высунуть нос из своих квартир, – Меликов понял, что сболтнул лишнее, тут же поправился: – То есть я хотел сказать, такие времена… Беспокойные.
– А как в таком случае, – Рикс постучал указательным пальцем по исписанному листу протокола, – вы поясните тот факт, почему двери именно вашей квартиры в тот день оказались открыты для преступника? Чем тот и воспользовался.
– Не могу знать… – Меликов быстро обернулся, бросил взгляд на Бокия, словно ища в нем поддержку, после чего снова повернулся к следователю. – Я… поймите, я не слежу за дверьми. У меня есть прислуга. Они… Да, да, это скорее кто-то из моих девушек забыл закрыть дверь. – Князь робко улыбнулся. – Молодость, что поделаешь…
– Вы – монархист? – Рикс, не глядя на допрашиваемого, принялся пролистывать протоколы из папки с делом Канегиссера.
Меликов с силой сжал кисти рук.
– Государь отрекся от престола. Думаю, не имеет смысла…
– Смысл есть всегда. И во всем, – чекист чуть приподнял короткостриженую голову, исподлобья взглянул на подследственного, – особенно в таком неоднозначном деле.
Князь вторично обернулся к Бокию, но, не получив поддержки со стороны руководителя ПетроЧК, вынужден был вернуться в исходное положение.
– Что ж, – Рикс макнул перо в чернильницу, – будем расценивать ваше молчание как положительный ответ. Монархист.
Перо, скрипя, прошлось по бумаге.
– С кем поддерживаете контакты?
– В смысле? – не понял Петр Леванович.
– С кем из представителей прежней власти поддерживаете отношения?
– Ни с кем. Многие разъехались. Покинули Петербург… Простите, Петроград. К тому же мое состояние…
– Иначе говоря, ни с представителями царской власти, ни с представителями Временного правительства вы никаких контактов не поддерживаете?
– Так. Именно так.
– Опять врете! – Хлопок ладонью по столу. – А князь Юсупов? А полковник Ставров? А генерал Халимов?
Руки князя снова принялись елозить по брюкам.
– Но это же было так давно. Я с Юсуповым виделся год тому… А Халимов скончался…
– Это не имеет никакого значения! Раз вы раньше поддерживали связь с врагами республики рабочих и крестьян, то и сегодня поддерживаете их. Сие есть аксиома, не требующая доказательств! Вы были знакомы с Керенским? Да или нет?
– С Александром Федоровичем?
– Да или нет?
– Несколько раз имело место быть…
– Так и запишем в протокол: поддерживали отношения с Керенским.
Рикс неожиданно резко вскинул голову:
– Что же вы тут врете, гражданин Меликов? Вы были знакомы с Канегиссером! Потому что убийца состоял в секретарях Керенского! И не знать этого вы не могли! Почему вы мне только что солгали? Вы ждали его? Вы специально открыли дверь? Вы знали о покушении? А может, вы один из соучастников убийства?
Это было настолько неожиданно, что даже Глеб Иванович вздрогнул. А что говорить про арестованного… Бокий видел, как спина князя согнулась в дугу и мелко-мелко задрожала. Глебу Ивановичу стало противно. Он быстро вскочил на ноги, прошел к двери.
– Вы дальше не будете присутствовать? – вскинулся следователь. – Сейчас как раз начинается самое интересное.
– Думаю, справитесь без меня, – Бокий толкнул дверь, – мне нужно успеть на похороны Моисея Соломоновича.
В коридоре, закрыв за собой дверь, Бокий дал волю чувствам и с силой ударил кулаком по кирпичной, выкрашенной в серый цвет стене. Он испугался. Нет, даже не испугался, а ужаснулся. Там, в допросной камере, сидя в углу и наблюдая за тем, как Рикс медленно, методично, целенаправленно подтасовывает факты под необходимый результат, Глеб Иванович неожиданно представил, как в один «прекрасный» момент, в один из таких же теплых осенних или летних дней могут арестовать и его. И вот такой же Рикс или тот же самый Рикс точно так же – методично, цинично – станет и на него искать компромат, «подтягивая» показания под нужную статью. И весь ужас заключался в том, что Глеб Иванович прекрасно понимал: в данной ситуации он, как и князь, ничего не сможет сделать. Не сможет себя защитить. Не сможет себя отстоять. В конце концов, спасти себя. Вот такой же дотошный Рикс станет копаться в его прежних связях, случайных встречах, беседах, которые он проводил с разными людьми. А беседы, споры, дебаты проводились не только с друзьями, но и с врагами, и их начнут «подводить» под расстрел. Будет «шить дело», подстраивая совершенно случайные факты под нужный политический момент. И не важно, кто отдаст такому вот Риксу приказ. Важно то, что это будет оправданно. И обоснованно.
Конвоир, ожидавший у двери арестанта, с недоумением посмотрел на чекиста, чем и привел председателя ПетроЧК в чувство. Действительно, что это он размяк? Чтобы по нему не отдали приказ, он должен сам отдавать приказы, и тогда все будет в порядке.
Бокий резким движением рук оправил на себе гимнастерку, быстрым шагом направился к выходу: ему действительно нужно было успеть на проводы Моисея Соломоновича.
Кучера Матвея Поливанова привели в «допросную» минут через двадцать. И то только после того, как Озеровский нашумел на дежурного. Как после выяснилось, все руководство тюрьмы выехало на похороны товарища Урицкого. А дежурный долго не мог решиться на самостоятельные действия: отдать приказ на привод арестованного или нет? Все сомнения разрешили мандат Озеровского и его расписка.
Как ни странно, кучер, невысокого росточка, крепкий, бородатый мужичонка, в чистом, хотя и залатанном зипуне, не выказывал никакого страха. Спокойно разместился на табурете по центру комнаты, основательно оседлав его.
«Крепкий орешек», – сделал вывод Озеровский. И чтобы не терять время, с ходу маленьким, но твердым, как речной голыш, кулаком врезал в челюсть мужику, чем и вывел того из состояния равновесия.
– За что? Прав таких не имеете! – в голос заверещал Поливанов. – Я того…
– Куда возил барчонка? – Кулак вторично опустился на голову арестованного.
– Я?
– Нет, я. – Озеровский носком башмака больно ударил кучера по ноге, для острастки. – Рассказывай!
– А ты кто… – начал было орать мужик, за что вторично получил по косточке голени. Очень больно.
– Ы-ы-ы-ы-ы, – завыл в голос Матвейка.
– Не ты, а вы. Это раз. – Озеровский встал напротив лица лежавшего на полу кучера. – И вопросы задаю я, ты отвечаешь. Это два. Итак, куда возил сына инженера?
– Так, много кудысь… – всхлипнул Матвей.
– Последние две недели, – уточнил Озеровский.
– Не помню! – Поливанов быстро сообразил, что его могут снова ударить, а потому заголосил. – Правду говорю! Почем мне помнить? Приказали – поехали. Нам-то что? Куда прикажут…
– На Васильевский ездили?
– На Васильевский? – задумался. – Так на эту… На Пятую линию.
– Номер дома?
– Не знаю.
– Верю. Дом запомнил?
– А как же…
– Часто туда возил?
Кучер замотал головой.
– Нет, на Васильевский редко. Чаще на Фонтанку приказывали.
– Тот адрес тоже не помнишь?
Снова отрицательно замотал головой.
– Показать сможешь?
Теперь голова закивала положительно.
– Сколько раз отвозил барчука на Васильевский?
– Раза три, кажись.
– Кажись…
Кучер только шмыгнул простуженным носом.
– Как хоть дом выглядит?
– Дом как дом. Такой же, как у нашего барина. Серый. Крыльцо со ступеньками. Зверюки по обеим сторонам крыльца.
– Что еще за зверюки? – не понял Озеровский.
– Да нет. Эти… Как их… – Рука кучера принялась чесать бороду. – Из камня. Мордатые… С волосней.
– Львы?
– Во! Они самые.
– Барчук оставался, а ты уезжал?
– Так, вот ей-богу…
– Поедешь со мной, покажешь дом.
Рот кучера искривился в улыбке.
– Так что ж сразу не сказали! Мы ж с радостью! Мы ж…
– Не радуйся! – оборвал возбужденные крики Озеровский, – с охраной едем. Не убежишь.
* * *
На вокзале в Москве Феликса Эдмундовича встречал Петерс[41]. Один. Без сопровождения, соответственно приказу, который ему отдал Дзержинский по телеграфу, находясь еще в пути.
В правой руке заместитель руководителя ВЧК крепко сжимал ручку старого, потертого кожаного портфеля.
– Как Ильич? – первым делом поинтересовался Феликс Эдмундович, спрыгнув с подножки тамбура на платформу.
– Жить будет, хотя чувствует себя крайне тяжело.
– Где содержится человек, покушавшийся на Старика? – Дзержинский, не дожидаясь охраны, направился к выходу. Петерс едва за ним поспевал.
– Была у нас. Сейчас в Кремле, – заместитель смахнул со лба пот, – по личному распоряжению Свердлова.
– Письменное распоряжение о переводе имеется?
Чекист отрицательно качнул головой.
– И ты отдал? – Феликс Эдмундович резко развернулся всем телом в сторону подчиненного. Тот только судорожно, сквозь ноздри, втянул в себя воздух.
– Понятно. – Кулаки Дзержинского сжались сами собой.
Петерс продолжал молчать.
– Что еще?
– Преступник был не один. Налицо явный заговор, нити тянутся к нам. Либо в ЧК, либо… – Яков Христофорович прокашлялся, будто поперхнулся, после чего с трудом выдавил из себя: – Либо на Красную площадь.
– Уверен?
– Вот, – замки портфеля щелкнули. Яков Христофорович распахнул клапан, вынул из него три исписанных с обеих сторон листа, – здесь мои соображения по данному делу.
– Фанни Каплан? Та самая? Соратница Спиридоновой? – Дзержинский с недоверием глянул в содержимое.
Чекист подтвердил кивком головы. Товарищ Петерс был по жизни малоразговорчив, и председатель ВЧК знал и ценил эту его черту, потому что считал, что сотрудник ЧК в первую очередь обязан подтверждать свою преданность делу революции не словом, а делом.
– Она же слепа, как крот.
– То-то и оно.
Феликс Эдмундович тряхнул сжатыми в кулаке бумагами.
– Бред. Каплан не смогла ликвидировать[42] градоначальника Сухомлинова в Киеве, сама на бомбе подорвалась, а тут…
– Я тоже не верю в то, что стреляла она.
– А какие основания думать, будто среди нас есть предатель?
– Про предателя я ничего не говорил, – заметил Петерс, – но то, что Свердлов очень торопил с этим делом, показалось мне подозрительным. Хотя Каплан сама призналась в том, что участвовала в покушении на Ильича.
– Каплан – одинокая, несчастная женщина. – Феликс Эдмундович знал, о чем говорит. Фанни Ефимовна, как и Дзержинский, прошла суровую школу каторги. А российские каторжане друг о друге знали если не все, то многое, и их братство не успело расколоться окончательно. – Больная, никому не нужная, потерявшаяся в жизни женщина. Вам известно о том, что она дважды пыталась покончить с собой?
– Нет.
– Вот то-то и оно. Свердлов объяснил причину перевода Каплан в Кремль?
– Нет. Да и распоряжение передал не лично, а через Курского. Кстати, именно Курский забрал арестованную.
– Ладно, разберемся. – Феликс Эдмундович сложил вчетверо мятые листы, спрятал их в нагрудный карман гимнастерки. – Теперь о том, что следует сделать вам. Люди готовы? – Получив утвердительный ответ, Дзержинский продолжил мысль. – Немедленно отправьте их к британскому консульству[43]. Захват здания должен произойти молниеносно и без применения оружия. Повторяю: никакого применения оружия! Хватит того, что в Петрограде и главного подозреваемого убили, и своих людей потеряли[44]. Меня интересуют живые свидетели и документы. Слышите, Яков Христофорович: только живые свидетели! Я к Свердлову. Как справитесь, звоните в Кремль.
Руководитель ВЧК еще в поезде принял решение: по приезде в Москву не ехать на Лубянку. Опыт минувших суток подсказал: предатели есть везде. Как только Яков узнает, что он появился в столице раньше ожидаемого им срока, все может сорваться, как едва не сорвалось в Питере. «Впрочем, – тут же заметил Феликс Эдмундович, – почему едва? В Питере именно сорвалось. Кроми мертв, документов нет. За действиями Яковлевой явно чувствуется измена: не сразу начала захват здания британского посольства, дала возможность дипломатам сжечь компрометирующие их бумаги. Личная инициатива? Сомнительно. Скорее всего, надоумил Зиновьев. Его поведение, кстати, тоже заслуживает самого пристального внимания. Вновь, сукин сын, остался в стороне. Паразит скользкий, ужом из рук выворачивается. И на этот раз извернулся, не подкопаешься. В Москве подобного произойти не должно».
Председатель ВЧК посмотрел в спину Петерсу. Рука сама собой потянулась к груди, перекреститься. Но тут же замерла, так и не поднявшись к сердцу.
* * *
Кучера разместили в автомобиле на заднем сиденье, между Сашей и солдатом из взвода тюремной охраны. Солдатик на всякий случай привязал руку кучера к своей, чтоб, как он пояснил, «не утек». Озеровский устроился на переднем сиденье авто, рядом с водителем.
Дом на Васильевском нашли сравнительно быстро. Кучер чуть не подпрыгнул, увидев его.
– Вон, – заорал во все горло, – вот он! И зверюки на крыльце. Все, как говорил.
Аристарх Викентьевич приказал водителю остановиться, спрыгнул на тротуар, огляделся, зафиксировал в памяти местность, после чего поднялся по ступенькам к двери, постучал.
Мичурин хотел пойти вместе со следователем, но только мысленно махнул рукой: ну его, пусть сам топает. Юноша еще был зол на начальство. Впрочем, данное состояние не помешало ему с любопытством посмотреть за тем, что происходило на крыльце. Саша увидел, как кто-то приоткрыл дверь, однако кто – мужчина или женщина – рассмотреть из-за спины старика не удалось. Прошло минуты две. Дверь захлопнулась.
Аристарх Викентьевич, странно медленно, будто о чем-то сильно задумавшись, спустился к авто. Потер морщинистый лоб, сильно потер, так, что остались следы от пальцев. После чего снова взобрался на свое сиденье.
– На Гороховую, в ЧК. Потом на Фонтанку, – приказал водителю, даже не обернувшись к Мичурину. Словно забыл о его присутствии.
* * *
Траурная процессия, провожавшая в последний путь Моисея Соломоновича Урицкого, растянулась на несколько верст.
Поначалу гроб с телом убитого председателя Петроградской ЧК выставили для прощания в Таврическом дворце. А днем похоронная процессия, состоящая из делегированных партийцев от заводов, фабрик, учреждений, армии и флота, под рев броневиков, тронулась к Марсову полю. Обитый кумачом, дубовый гроб с телом Моисея Соломоновича везли на белом катафалке, в сопровождении всадников, одетых в черное военное обмундирование. Повсюду вдоль шествия алели красные знамена, флаги, кумачовые транспаранты… Процессия растянулась на несколько кварталов, поэтому, когда гроб под звуки оркестра подвезли к кладбищу, живая очередь тянулась еще минут сорок. В небе кружили аэропланы. Внутри траурного шествия грохотали металлом броневики.
Рядом с будущей могилой товарища Урицкого ночью соорудили деревянную трибуну, с которой должны были сказать прощальное слово представители новой, революционной власти.
Глеб Иванович, шедший среди членов делегации от ПетроЧК, нет-нет да и оглядывался по сторонам: для контрреволюции такая масса народа – идеальный шанс. В такой толпе можно в один момент ликвидировать всю верхушку большевистской власти в Северной столице. Достаточно кинуть бомбу с верхнего этажа.
– Боишься? – послышалось за спиной. Глеб Иванович обернулся на знакомый голос.
Красивый рот Варвары Николаевны искривился в усмешке.
– Не думала, что ты из пугливых.
– А ты у нас смелая? – Чекист поднял голову, кивнул в сторону ближайшего чердачного окна. – Какое отличное место для стрелка! И какой обзор! А вон из того окошка, – новый кивок головой, – можно бросить динамитную шашку. Прямо под ноги. А ты уверена, что через два дома нас не ждет пулемет, установленный вон на том чердаке… – Рука Бокия указала направление. – Замечательное место для обстрела, лучше не придумать. Всех скосит одной очередью. И бежать некуда: ни одной подворотни. Как думаешь, те чердаки проверяли?
Едкий оптимизм моментально улетучился с женского лица. Уж кто-кто, а Варвара Николаевна, как никто другой, знала, насколько товарищ Зиновьев халатен в вопросах безопасности. И невольно спряталась за спину Бокия.
Глебу Ивановичу только и оставалось, что усмехнуться: чекисты, мать вашу…
Бокий хотел закурить, но передумал. Как-то глупо бы он смотрелся с папироской на прощальной процессии. Пришлось терпеть всю дорогу.
По странному стечению обстоятельств Моисея Соломоновича Урицкого приходилось хоронить на том самом месте, откуда готовилось его убийство: именно на Марсовом поле, перед совершением преступления, Леонид Канегиссер взял напрокат велосипед.
Гроб сняли с катафалка, перенесли на специально установленные деревянные «козлы». Толпа окружила «домовину» с убиенным. Крышку гроба поставили рядом с гробом. Бокий со своего места прекрасно видел желтое, с коричневыми трупными пятнами лицо Моисея Соломоновича в обрамлении увядающих цветов.
К гробу подошел Зиновьев. Долгим, театральным взглядом посмотрел на покойника, смахнул со щеки никому не видимую слезу, прошел к трибуне.
– Счастлив тот, – разнеслось вскоре над полем, – кому суждено принести свою жизнь в жертву великому делу социализма! Счастлив тот, кто отдает всего себя делу будущего! И лишь нам, живым, тяжело провожать в последний путь самых преданных делу революции товарищей! Таких, как Моисей Соломонович Урицкий! На долю товарища Урицкого выпала самая тяжелая работа в революции – борьба с ее внешним и внутренним врагом. И он с этой работой справлялся прекрасно! Не зная ни дня, ни ночи, стоял на своем посту наш дорогой товарищ…
Глеб Иванович огляделся, однако Доронина не увидел. Договаривались встретиться здесь. Что его могло задержать? Странное, конечно, место для встречи, однако сейчас было не до сантиментов. Озеровский сегодня работает с кучером, но вот матрос должен был прийти.
– Расправа, самая беспощадная расправа со всеми, кто выступит против дела революции! – тем временем неслось над Марсовым полем. – Какие бы препятствия ни стояли на нашем пути, победа будет не за Канегиссерами, а за Урицкими! Не за капитализмом, а за ленинизмом, ведущим нас к установлению коммунистического строя во всем мире!
Толпа взорвалась. Со всех сторон неслось до трибуны: «Ура!», «Бей гадов!», «Вешать их, вешать!» Прямо перед трибуной выплеснулся транспарант с коряво, вкривь и вкось написанным красной краской на черном фоне полотнища воззванием: «Пуля в лоб тому, кто против революции!»
Резким движением руки Зиновьев остановил многоголосый вопль.
– Мы вступили в иную эпоху! В эпоху, в которой нет ни рабов, ни рабовладельцев! Но за эту эпоху мы должны драться! Мы должны отстоять свою свободу и независимость! И даже пролить за нее кровь. И если нужно нам стать террористами во благо этой эпохи, мы станем террористами! – Григорий Евсеевич вскинул над головой сжатую в кулак руку. – Да здравствует красный террор!
На этот раз толпа взревела.
Бокий вздрогнул. Подобного от Зиновьева он не ожидал. Точнее, не ожидал сейчас.
Сзади кто-то тронул руку. Глеб Иванович обернулся. Доронин.
* * *
Расположившись на заднем сиденье авто, на котором к вокзалу приехал Петерс, Феликс Эдмундович приказал везти его в Кремль, после чего извлек из кармана докладную чекиста. Спустя три минуты Дзержинский отдал приказ ехать медленнее. То, что он в данную минуту держал в руках, заслуживало самого пристального внимания. Особенно некоторые места.
«…вместе с Каплан на месте преступления т. Орлов заметил некую Лидию Васильевну Коноплеву, сподвижницу Григория Семенова[45]. В отличие от Каплан, Коноплева имеет отличное зрение, твердую руку и опыт во владении оружием. Гр. Коноплева мной арестована, но допросам еще не подвергалась…
…т. Гиль[46] утверждает, будто видел женскую руку с оружием, однако была ли то рука гр. Каплан, признать не смог…
…т. Гиль утверждает, что женская рука сжимала браунинг, однако никакого браунинга обнаружено не было. Мало того, на момент задержания у гр. Каплан не имелось никакого оружия…
…ни один свидетель не смог подтвердить, что видел гр. Каплан у машины Ильича в момент покушения…
…повезли т. Владимира Ильича в Кремль, доставили в начале двенадцатого. К тому моменту т. Свердлов уже разослал телеграмму о покушении на т. Ленина в губернии. Кто проинформировал т. Свердлова о покушении, выяснить не удалось…
…т. Свердлов по личной инициативе расположился в кабинете т. Ленина. Лично мне это не понравилось…
…т. Свердлов вместе с т. Аванесовым[47], т. Курским[48] и т. Петровским[49] прибыли ночью на Лубянку, где первыми (слово «первыми» подчеркнуто дважды) провели допрос гр. Каплан без моего участия…
…гр. Каплан призналась в том, что стреляла в т. Ленина из револьвера, однако ее показания противоречат показаниям т. Гиля, который утверждает, будто женская рука, которую он видел, сжимала не револьвер, а браунинг. Впрочем, гр. Каплан по незнанию могла назвать револьвером браунинг…
…по устному распоряжению т. Курского арестованная гр. Каплан была этапирована из Лубянки в Кремль, в специальную тюрьму в подвале Кавалерского корпуса…
(Дзержинский тут же вспомнил секретное узилище, которое находилось в подчинении исключительно председателя ВЦИК Якова Свердлова.)
…кроме т. Юровского, к арестованной охрана никого не пускает: личное указание т. Свердлова. На пост возле камеры гр. Каплан выставлена охрана из латышей, совершенно не знающих русского языка…
…Все попытки с моей стороны увидеться с гр. Каплан были пресечены. Это дает основание подозревать, что гр. Каплан уже нет в живых…
…так как т. Свердлова интересовала только гр. Каплан, о Коноплевой я решил ему (т. Свердлову) не докладывать…
…вечером т. Свердлов сказал мне, что утром нужно обязательно дать в “Известия ВЦИК” официальное сообщение о ходе следствия. Мол, этого ждет весь мир…
…т. Свердлов приказал написать для официального сообщения: стрелявшая – правая эсерка черновской группы, связана с самарской организацией, готовившей покушение, и принадлежит к группе заговорщиков. И это, несмотря на то, что никаких доказательств у нас нет…»
Феликс Эдмундович уронил листы на колени.
«Нет, Глеб Иванович, – мысленно продолжил последний разговор с Бокием Дзержинский, – ничего у нас не получится. Отто и Рикс, конечно, как ты сказал, нагородят черт-те чего. Только это уже ничего не решит. Свердлов пошел ва-банк. А значит, драться будет до конца. И каким будет конец, одному Богу ведомо».
* * *
Доронин прибыл на кладбище, когда Григорий Евсеевич Зиновьев со всей революционной решительностью крушил с трибуны врагов революции и империалистических наймитов.
Демьян Федорович, привстав на носки, тем самым приподнявшись над плотной массой людей, бросил равнодушный взгляд на покойника, после чего принялся искать глазами Бокия. Тот стоял среди членов Петросовета. Демьян Федорович слегка матюкнулся, стал пробираться к нему сквозь толпу.
– Почему опоздал? – шикнул на него Глеб Иванович.
– С Гороховой. Озеровский побывал на Васильевском, на Пятой линии.
– И… Что ты тянешь кота за яйца?
Доронин склонился к уху Бокия и, кивнув головой в сторону гроба, произнес шепотом:
– В том доме проживал Соломонович.
– Что? – Глеб Иванович не поверил своим ушам.
– Факт.
Бокий тоже невольно бросил взгляд на покойника.
Урицкий действительно проживал на Васильевском, на Пятой линии, в доме то ли бывшего помещика, то ли дворянина. Кого именно, чекиста ранее не интересовало. Единственное, что раздражало, так это то, что Моисей Соломонович проживал в особняке с множеством комнат в полном одиночестве, с престарелой прислугой, оставшейся от прежнего режима. Будто барчук.
– А если кучер соврал?
Доронин хмыкнул:
– Сатрап, простите, Аристарх Викентьевич общался с прислугой. Все сошлось.
– А если это случайность? Фотографию Канегиссера показывали прислуге?
– Нет.
– Вот. А что, если кучер специально навел нас на дом Моисея, а? Вдруг он тоже в заговоре?
– Сомнительно, Глеб Иванович. Матвей – простой кучер. Господа с такой рванью дел не имеют, – резонно заметил матрос.
– А если все-таки перепутал?
– Ловко перепутал, – хмыкнул Доронин, – прям в яблочко. Нет, как ни крути, чуйка подсказывает: знакомы они были – покойничек наш и убийца его. А связью промеж них был Перельцвейг.
– А такие выводы у тебя откуда?
– Судите сами. Канегиссер и Перельцвейг были этими… – чекист не решился начальству сказать так, как думал. Пришлось выкручиваться, – близкими друзьями. Это раз. Соломонович не хотел подписывать расстрельный приказ на Перельцвейга, пока на него не надавили Варька и Зиновьев. Два дня не хотел подписывать. – Доронин показал два пальца. – Это два. Канегиссер приезжает к Соломоновичу на дом. Три. Вот и получается…
– Ничего еще не получается, – оборвал подчиненного Глеб Иванович. – Чуйку к делу не пришьешь. Возвращайся на Гороховую. Возьми в деле фотографии Канегиссера. Поезжай на Васильевский. Поспрашивай прислугу, соседей, предъяви фото. Тряхни всех. Озеровский сейчас где?
– Повез кучера на Фонтанку, по второму адресу.
– Мальчишка с ним?
– Ага.
– С Васильевского возвращайся на Гороховую, жди меня. И никакой…
– Слово предоставляется, – донеслось до чекистов, – председателю Петроградской чрезвычайной комиссии товарищу Бокию!
– Слышишь, Доронин, никакого самовольства! – быстро закончил мысль Глеб Иванович, после чего ясным соколом взлетел на трибуну.
Никакой речи Бокий заранее не готовил, понадеялся на импровизацию, как обычно поступал. Главное – революционный запал. Однако на этот раз многолетняя привычка подвела чекиста. Фразы получались какие-то корявые, неживые. А всему виной было лежащее в гробу тело. После той информации, которую только что принес Доронин, у Бокия как-то язык не поворачивался назвать Урицкого «светочем революции» или «Прометеем зарождающегося коммунизма». Какой Прометей, ежели таким паскудством занимался?
Спасла записка Дзержинского – слово от имени Совнаркома. Вовремя вспомнил о ней.
– Товарищи! – Бокий достал из бокового кармана пиджака текст. – Совет народных комиссаров просил передать революционному Питеру горячий, пламенный привет и слова соболезнования по поводу горькой утраты, постигшей нас. Вот что пишет нам Совнарком: «Гидра контрреволюции наглеет с каждым днем! Вдохновляемая всемирной буржуазией, контрреволюция сегодня, сейчас, в данную минуту пытается задушить авангард революционного интернационала – российский пролетариат. И начинает удушение с того, что убивает его авангард. Буквально недавно, здесь, в Петрограде, погиб от вражеской руки Владимир Володарский. Спустя два месяца та же самая вражеская рука достала Моисея Соломоновича Урицкого и попыталась убить Владимира Ильича Ленина. Можем мы простить это нашим врагам? Нет, не можем! – Бокий сделал шаг вперед, вплотную к трибуне, и выкрикнул в массы: – И не будем! Светить можно, только сгорая! Так, как жил наш дорогой товарищ Урицкий. А потому, смерть врагам революции!»
* * *
Варвара Николаевна с тоской смотрела на трибуну, слушая сначала председателя Петросовета, а потом чекиста. От скуки невольно начала сравнивать Бокия с Зиновьевым. И чем больше она их сравнивала, тем все более и более приходила к выводу: Григорий Евсеевич по всем статьям проигрывает Глебу. Всем видом своим: изнеженно-женоподобными, округлыми жестами, длинными сальными волосами и взглядом – цепким, скрытым, завистливым.
Бокий же смотрелся как мужчина, и не просто мужчина, а мужчина ее, Яковлевой, мечты. Крепкого телосложения, поджарый, мускулистый. С крутыми, угловатыми, скорее всего от недоедания, скулами. С ввалившимися глазницами, из которых смотрел открытый, дерзкий взгляд. И эта короткая стрижка ежиком, по которой так хотелось провести рукой. Жесты рук твердые, волевые. Если опустил руку – поставил точку, а не стал, как Зиновьев, волнисто ею водить, будто подразумевая многоточие. Нет, Бокий ярок и значителен. Боец! А Гришка… Тряпка. Размазня.
* * *
Марсово поле вторично взорвалось криками «Ура», свистом и рукоплесканиями.
В этот момент в небе послышался гул от двигателей аэропланов: красная авиация отдавала последний поклон погибшему председателю ПетроЧК.
Бокий скорым шагом спустился с трибуны.
– А сейчас, – снова послышался звонкий голос Зиновьева, который взял на себя роль распорядителя похорон, – мы предоставляем слово нашему «красному Беранже», нашему поэту революции, Василию Князеву!
Поэт, размахивая сжатой в руке кепкой, выпятив от возбуждения грудь, захлебываясь сиюминутной славой, яростно принялся выкрикивать в толпу:
– Мы залпами вызовов встретим! К стене богатеев и бар! И градом свинцовым ответим на каждый их подлый удар! Клянемся на трупе холодном свой грозный свершить приговор — отмщенье злодеям народным! Да здравствует красный террор!Едва пришедшие в себя от вторичного испуга, кладбищенские птицы стремительно взмыли ввысь в третий раз: Марсовое поле взорвалось криками и аплодисментами революционно настроенных масс.
Из толпы раздалось:
– Бей сволочей!
– Пулю им, пулю!
– Террор! Да здравствует красный террор!
Бокий, прикусив нижнюю губу, с минуту смотрел на восторженные рукоплескания, после чего тихо, так, чтобы никто не услышал, обреченно пробормотал:
– Все. Обратной дороги нет.
И как бы в подтверждение его пророчества с кронверка Петропавловской крепости прогрохотал прощальный артиллерийский салют. Обратной дороги теперь уже действительно не было.
Примечания
1
Белый Олег Владимирович – заключенный камеры № 24 специзолятора Петроградской ЧК на улице Гороховой, 2/6. Работник Генштаба Российской империи (контрразведка), полковник. В первый раз арестован в марте 1917 года по распоряжению Временного правительства за работу в так называемой «Комиссии Батюшина» – оперативно-следственной комиссии, созданной по распоряжению Николая II и связанной с расследованием крупных финансовых хищений, в том числе и в военном ведомстве (дела Рубинштейна, Абрама Доброго, Израиля Бабушкина и других). Выпущен на свободу в ноябре 1917 года распоряжением Петросовета. Вторично арестован Петроградской ЧК 11 мая 1918 года.
(обратно)2
Доронин Демьян Федорович – матрос с миноносца «Меткий», член РСДРП с 1915 года. Откомандирован в ПетроЧК Советом депутатов Красного Балтийского флота в мае 1918 года.
(обратно)3
Яковлева Варвара Николаевна – член РСДРП с 1904 года. Дважды судима царским правительством (1906 и 1913 годы) за революционную деятельность. Кандидат в члены ЦК РСДРП. Откомандирована из Москвы в Петроград, в ПетроЧК, в начале августа 1918 года по личному распоряжению Ф.Э. Дзержинского.
(обратно)4
Озеровский Аристарх Викентьевич – беспартийный. Не сочувствующий. Бывший старший следователь Петербургского уголовного сыска. Арестован по распоряжению Временного правительства в марте 1917 года за «нелояльное отношение к подследственным». Выпущен на свободу в ноябре 1917 года как «пострадавший от рук царского режима». Принят на службу Петроградской ЧК в июне 1918 года.
(обратно)5
Зиновьев (Апфельбаум) Григорий Евсеевич – член РСДРП с 1901 года. В октябре 1917-го выступил против ленинской резолюции о вооруженном восстании, по причине чего Лениным был поставлен вопрос об исключении Зиновьева из членов партии большевиков. В ноябре 1917-го Зиновьев вышел из состава ЦК, однако продолжал заниматься политической деятельностью. С декабря 1917 года и на момент происходящих событий Зиновьев занимал посты председателя Совнаркома Петроградской трудовой коммуны и Союза коммун Северной области, председателя Комитета революционной обороны Петрограда и члена Реввоенсовета 7-й армии.
(обратно)6
Бокий Глеб Иванович – член РСДРП с 1900 года. Неоднократно подвергался царским режимом арестам за революционную деятельность. Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. Во время переговоров в Бресте был противником подписания мирного договора с Германией. С марта 1918 года – заместитель председателя ПетроЧК Союза коммун Северной области.
(обратно)7
Чекиста С. Геллера вместе с тремя «подельниками» однопартийцы расстреляют в январе 1920 года за «…использование служебного положения для хищения ценностей, конфискованных ЧК у арестованных. И за покровительство преступным элементам».
(обратно)8
Батюшин Николай Степанович – полковник царской армии, один из основателей русской контрразведки. С мая 1916 по апрель 1917 года руководил оперативно-следственной комиссией («Комиссией Батюшина») по расследованию экономических преступлений Рубинштейна, Абрама Доброго, Израиля Бабушкина, Иовеля Гопнера и других, связанных с поставками в действующую российскую армию обмундирования, продуктов питания и так далее. После Февральской революции был арестован (8 апреля 1917 года) по распоряжению Временного правительства.
(обратно)9
Мокрушник – убийца.
(обратно)10
Старик – одна из подпольных кличек В.И. Ленина.
(обратно)11
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) – русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик, один из крупнейших русских поэтов XX века.
(обратно)12
Блок Александр Александрович (1880–1921) – русский поэт, классик русской литературы XX столетия, один из величайших поэтов России.
(обратно)13
Савинков Борис Викторович (1879–1925) – революционер, террорист, российский политический деятель – один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения, писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист; литературный псевдоним – В. Ропшин). Известен также под псевдонимами: «Б.Н.», Вениамин, Галлей Джемс, Крамер, Ксешинский, Павел Иванович, Деренталь, Роде Леон, Субботин Д.Е., Ток Рене, Томашевич Адольф, Чернецкий Константин.
(обратно)14
Лопатин Герман Александрович (1845–1918) – русский политический деятель, революционер, член Генерального совета I Интернационала, первый переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык.
(обратно)15
Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – русский политический деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы, кадетской партии). Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 года – почетный доктор Кембриджского университета.
(обратно)16
Анна Павловна Шерер – героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
(обратно)17
Шницлер Артур – известный австрийский писатель, драматург и прозаик. В России первой четверти ХХ столетия были широко известны его прозаические и стихотворные произведения, основанные на теории Фрейда. Из них самые известные «Игра в любовь», «Зеленый попугай», «Юный Медард», «Вуаль Беатриче».
(обратно)18
Марина Цветаева была хорошо знакома с прототипом героя романа, с Леонидом Канегисером, о котором оставила следующие строки воспоминаний: «…изнеженный, женственный 19-летний юноша, эстет, поэт, пушкинианец, томные позы, миндалевидные очи…»
(обратно)19
Керенский Александр Федорович – российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства, один из лидеров российского политического масонства.
(обратно)20
Алехин Александр Александрович – великий русский шахматист. На момент происходящих событий был известен в Петербурге как победитель шахматного турнира памяти М.И. Чигорина (1909 год) и бронзовый призер на международном «турнире чемпионов» (Петербург, 1914 год).
(обратно)21
Дзержинский Феликс Эдмундович – председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, член ЦК РКП(б); по убеждениям – левый коммунист; выступил в ЦК против подписания Брестского мира, однако посчитал недопустимым раскол партии, поэтому при голосовании 23 февраля 1918 года воздержался.
(обратно)22
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет.
(обратно)23
Совнарком – Совет народных комиссаров.
(обратно)24
Товарищ Андрей – один из партийных псевдонимов Я.М. Свердлова.
(обратно)25
В июне 1918 г. Ф. Э. Дзержинский отправил двоих латышей – Яна Буйкиса (под именем Шмидхен) и Яна Спрогиса, – недавно поступивших на службу в ВЧК, в Петроград с заданием проникнуть в антисоветское подполье.
В морском клубе, располагавшемся рядом с Адмиралтейством, приятели общались с моряками стоявшего на рейде английского судна. Через них чекистам удалось познакомиться с руководителем контрреволюционной организации, морским атташе английского посольства Ф. Кроми. Их представили Кроми как «надежных людей». Позже Кроми, в свою очередь, познакомил чекистов с агентом английской разведки Сиднеем Рейли и посоветовал им ехать в Москву, предварительно снабдив письмом для передачи главе специальной британской миссии при Советском правительстве Б. Локкарту, который хотел установить контакты с влиятельными командирами латышских стрелков.
В Москве после совещания с Ф. Дзержинским и Я. Петерсом было решено «подсунуть» Локкарту командира артиллерийского дивизиона латышской дивизии Э.П. Берзина, выдав его для солидности за полковника. 14 и 15 августа 1918 года Берзин встречался с Локкартом, а затем 17, 19, 21 августа – с Рейли. Рейли передал Берзину в конечном счете 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве платы за свержение латышскими полками советской власти в Москве, денонсацию Брестского договора и восстановление Восточного фронта против Германии. А после войны англичане обещали содействие в признании независимости Латвии.
(обратно)26
Цугундер – тюрьма. В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова говорится, что этот оборот пришел в русский язык в царское время из армейского жаргона, будучи заимствован из немецкого языка. За провинность солдата приговаривали к сотне (zu hundert) палочных ударов.
(обратно)27
САСШ – Северо-Американские Соединенные Штаты.
(обратно)28
Геллер Семен Леонидович – член РСДРП (рекомендацию в партию ему дал М.С. Урицкий). В ПетроЧК исполнял обязанности начальника комиссаров и разведчиков.
(обратно)29
Мичурин Александр Олегович – сотрудник Московской ЧК, член партии РСДРП с февраля 1918 года.
(обратно)30
В Российской империи в желтый цвет красили фасады психиатрических лечебниц.
(обратно)31
Гучков Александр Иванович (1862–1936) – российский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября», председатель III Государственной думы (1910–1911), депутат Думы (1907–1912), член Государственного совета Российской империи (1907 и 1915–1917). Военный и морской министр Временного правительства России (1917).
(обратно)32
Андроников Михаил Михайлович (Андронников; 1875–1919) – русский князь, авантюрист. До Февральской революции тесно сотрудничал с МВД Российской империи. Имел чин камер-юнкера, титулярного советника, в 1914–1916 годах состоял внештатным чиновником особых поручений при обер-прокуроре Синода. Российской контрразведкой подозревался в шпионаже в пользу Германии. При Временном правительстве три месяца провел в тюрьме Петропавловской крепости. После Октябрьской революции занял пост руководителя Кронштадтской ЧК.
(обратно)33
Побирушка – прозвище М.М. Андроникова, которое тот получил еще в царские времена. Об «активной» деятельности князя-авантюриста в дореволюционное время очень хорошо написал В.С. Пикуль в романе «Нечистая сила».
(обратно)34
Шконка – кровать в тюрьме, если нары двухэтажные, то каждая полка – это шконка.
(обратно)35
Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy (польск.) – Когда человек спешит, черт радуется.
(обратно)36
Бобров Леонид Николаевич – член Русской монархической партии, основатель Общества русских патриотов.
(обратно)37
Ревенко Иосиф Васильевич – член Русской монархической партии, член Совета монархических съездов.
(обратно)38
Диманштейн Шимон (Семен Маркович) (1886–1937), коммунист. В 1908 г. был осужден на шесть лет каторги, отправлен в Сибирь, откуда бежал (1913) и эмигрировал в Париж. После Февральской революции 1917 г. Диманштейн вернулся в Россию, работал в Риге в военной организации и редактировал газету «Окопная правда». После Октябрьской революции входил в коллегию Наркомтруда. В январе 1918 г. Диманштейн был назначен главой Еврейского комиссариата при Народном комиссариате по делам национальностей, возглавляемом И.В. Сталиным, участвовал в создании первой советской газеты на идиш «Ди вархайт» (с 1 августа 1918 г. – «Дер эмес») и был ее редактором в 1918–1919 гг.
(обратно)39
Отто Эдуард Морицевич – эстонец, член РКП(б), в царской армии служил вахмистром, до поступления на службу в ПетроЧК работал электротехником и фотографом.
(обратно)40
Рикс Александр Юрьевич – эстонец, член РКП(б) с 1905 года, член ПетроЧК с июня 1918 года.
(обратно)41
Петерс Яков Христофорович – профессиональный революционер. После Октябрьской революции член коллегии ВЧК и помощник (заместитель) председателя. С апреля 1918 года – первый в истории ВЧК секретарь парторганизации.
(обратно)42
В 1906 году Ф. Каплан готовила террористический акт в Киеве на местного генерал-губернатора Сухомлинова. Во время подготовки к теракту, который вместе с ней готовил гражданский муж Каплан Виктор Гарский (он же – Яков Шмидман), в номере гостиницы «Купеческая» (ул. Волошская, 29) в результате неосторожного обращения сработало самодельное взрывное устройство. Каплан получила ранение в голову и частично потеряла зрение, после чего при попытке покинуть место происшествия была задержана полицией (Гарский скрылся).
(обратно)43
В те дни молодое Советское государство еще не поддерживало дипломатические отношения ни с одним из европейских, да и не только европейских правительств, поэтому в Москве располагались только «миссии», а не официальные дипломатические структуры (к примеру, «специальная британская миссия при Советском правительстве»). Однако в разговорах, в общении между собой руководители Советской России все эти структуры продолжали по привычке называть официальными дипломатическими терминами, кому как было удобно. Отсюда и неразбериха в использовании терминологии: кто называл миссии посольствами, кто консульствами, кто миссиями, однако суть от того не менялась.
(обратно)44
Во время захвата Британского дипломатичного представительства в Петрограде со стороны ПетроЧК был убит один чекист и два сотрудника Петроградской ЧК получили огнестрельные ранения.
(обратно)45
Семенов Григорий Иванович – руководитель Центрального боевого отряда партии эсеров, который был создан весной 1918 года.
(обратно)46
Гиль Степан Казимирович – личный водитель В. И. Ленина.
(обратно)47
Аванесов Варлаам Александрович (Мартиросов/Мартиросян Сурен Карпович) – советский государственный деятель. C августа 1918 года – второй заместитель начальника Особого отдела ВЧК.
(обратно)48
Курский Дмитрий Иванович – политический и государственный деятель. С 1918 года – нарком юстиции РСФСР.
(обратно)49
Петровский Григорий Иванович – политический и государственный деятель. Петровский был вторым советским наркомом внутренних дел РСФСР (1917–1919).
(обратно)






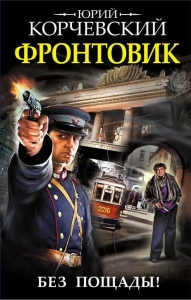
Комментарии к книге «Вкус пепла», Станислав Рем
Всего 0 комментариев