Ольга Михайлова Плоскость морали
Opfer fallen hier
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer
Goethe. «Braut von Korinth[1]Делая подлости, не ссылайтесь на время.
Помните, что время может сослаться на вас.
Неизвестный авторПролог. Апрель 1879 года
На Северный или на Восточный? Иванников решил рискнуть, над ним мелькнул чёрный купол неба, чуть подтаявший по краю лунный диск и стеклянный полукруг огромной розетки на центральном фасаде Восточного вокзала. Он ринулся к входу, толпа в недоумении расступилась, и ещё от дверей вокзала, выходящих на платформы, он увидел того, кого искал.
Но по первому пути в предутреннем тумане уже двигался состав, извергая из-под колёс густые клубы сероватого пара. Иванников остановился, дожидаясь, когда поезд пройдёт, чуть отдышался, и тут в стеклянной вокзальной двери, выходящей на перрон, увидел своё отражение. Торопливо вынул платок, стирая со лба пот, кое-как пригладил взлохмаченные рыжеватые волосы, ибо в спешке совсем забыл про шляпу, поправил галстук. Последний вагон, грузно прогромыхав по рельсам, исчез в тумане, а на второй платформе в свете фонаря, удлинявшем его тень до рельсов, по-прежнему стоял стройный черноволосый человек, опиравшийся на трость с золотым набалдашником, и смотрел на пути, откуда ждал поезда. Спокойная расслабленность его позы задела Иванникова почище любого оскорбления.
— Выступление Мак-Магона в Национальном собрании! Покушение на российского императора Александра! Хедив Египта Исмаил-Паша объявил об отставке кабинета! Столкновение паромов на Темзе! Новая драма Ибсена! — вопили бегающие по вокзалу мальчишки, торгующие газетами. Один из них ринулся к Иванникову, потрясая свежими номерами «Temps», «Rеpublique Fransaise» и «Monde», но тот отмахнулся, стремительно перебежал через рельсы первого пути на вторую платформу и окликнул стоящего под фонарём.
— Юлиан Витольдович! — Иванников поморщился от звука собственного голоса, прозвучавшего надсадно и горестно, и снова почувствовал жалкую неуверенность в себе.
Мужчина медленно обернулся, окинув его высокомерным взглядом. Иванников знал, что это иллюзия, причиной надменного выражения на лице Нальянова были его глаза, обременённые тяготой томно-грузных век, придававших взору что-то невыразимо величественное и царственное. Если бы не они, Юлиан Нальянов едва ли привлекал к себе внимание, но эти проклятые глаза почему-то сводили женщин с ума и приковывали к молодому русскому все взгляды, где бы он ни появлялся.
Сам же Иванников никогда не назвал бы это лицо красивым. Нальянов, с его тяжёлыми веждами и горделивой осанкой камергера, казался ему пугающе неживым, ожившим мертвецом, выходцем с того света. Сейчас, даже не затруднившись придать лицу вопросительное выражение, наглец бесстрастно смотрел на Иванникова и молча ждал вопроса.
— Вы… вы уезжаете? А как же… как же Лиза? Лизавета Аркадьевна ведь… — Иванников совсем смешался.
Его собеседник молчал несколько секунд, потом с явной неохотой всё же проронил:
— Причём тут мадемуазель Елецкая? — он пожал плечами. — Мне нужно в Петербург.
— Но ведь… она любит вас! Вы не можете! — У Иванникова потемнело в глазах. — Мне говорили, что вы…но дворянин не может так поступить!
Брови Нальянова чуть поднялись, придав лицу выражение лёгкого недоумения.
— Лизавета Елецкая — ваша невеста, если не ошибаюсь, Пётр Дмитриевич? — осведомился он любезно, хоть в этой любезности Иванникову померещилась наглая издёвка.
— Перестаньте! — Иванников почувствовал, что закипает, — вы же… всё понимаете. Мне нужно… мне нужно только её счастье! Не заставляйте же меня… — Иванников ненавидел себя, но куда большую ненависть вызывал в нем этот жуткий человек, пугавший ледяным бесстрастием и глазами ящера. — Неужели вы нуждаетесь в признании вашего превосходства? Вам нужно моё унижение? Вы — хуже Дибича! Вы просто подлец! — последняя фраза вырвалась у Иванникова неумышленно, на изломе отчаяния.
Нальянов закусил губу и несколько минут отстранённо смотрел, как к перрону подавали состав на Страсбург. Иванников совсем смешался, ему казалось, он оскорбил Нальянова, но тот вдруг задумчиво проговорил:
— Пётр Дмитриевич, Елизавета Аркадьевна дала слово быть вашей женой. Не проходит и месяца помолвки, как она нарушает данное вам слово. Причина — любовь ко мне. Вы или глупы, или играете в криво понятое благородство. Я не сужу вас — это, в общем-то, ваше дело. Но кто позволил вам навязывать мне женщину, для которой клятва верности — пустяк, которая не знает ни долга преданности, ни женской скромности, ни чести? Мне-то это зачем? — он чуть склонил голову к собеседнику, точно подлинно недоумевая.
Иванников остолбенел. Он ждал чего угодно, но не этих спокойных и жестоких слов. Несколько минут пытался прийти в себя, пока Нальянов кивал слуге, подошедшему с чемоданом к вагону.
— Но она же… сердцу не прикажешь…
— А она пыталась? — на лице Нальянова снова промелькнула тонкая язвительная усмешка.
Иванников совсем растерялся. Лиза, Лизанька, Елизавета Елецкая была для него идеалом красоты и женственности, её желание, прихоть, любой каприз — были законом, и он никогда не думал, просто не мог подумать того, что столь резко и безжалостно уронил Нальянов. Иванников чуть отдышался. Он всё ещё ничего не понимал. Он-то полагал, что Нальянов, по адресу которого молва в русских кругах Парижа давно уронила слово «подлец», вскружил Лизаньке голову, а сейчас решил уехать, чтобы просто свести её с ума. Но если он…
— Так вы… вы едете… не потому, что… не из-за Лизы?
Из тамбура показался слуга Нальянова и сказал господину, что поезд отходит через три минуты. Нальянов кивнул, утомлённо взглянул на Иванникова, во взгляде его проступило теперь что-то подлинно высокомерное, почти палаческое, он вздохнул и резко отчеканил, повторив уже сказанное:
— Мне нужно по делам в Петербург, — после чего, не ожидая ответа, исчез в вагоне.
Иванников, чувствуя, как путаются мысли, и кружится голова, ошеломлённо проводил его взглядом и стоял на перроне до тех пор, пока поезд не тронулся.
Глава 1. Двое подлецов в купе первого класса
Революция за два дня проделывает работу десяти лет и за десять лет губит труд пяти столетий.
Поль Валери…Есть ли унижение горше пренебрежения женщины? И что мерзостнее всего — женщины, по сути, совсем ненужной, случайной. Голова Дибича после двух бессонных ночей мучительно болела, но что значила эта боль в сравнении с уязвлённым самолюбием? Или он всё же лжёт себе? Андрей Данилович посторонился, пропуская в вагон какого-то генерала с седыми бакенбардами. Мысли текли вязкой патокой. Что значила для него Елена Климентьева? Дибич, морщась, вспоминал, как впервые увидел её. Она шла впереди него медленно и плавно, её обнажённые, бледные, как слоновая кость, плечи, были разделены тонкой бороздкой между лопатками, и описывали неуловимую, как движение крыльев, кривую, а на затылке спиралью загибались волосы обожаемого Тицианом медно-рыжего цвета. Она посмотрела на него — вскользь, почти не видя. Он взволновался. Иной женский взгляд мужчина не променяет даже на обладание. Трепет её ресниц напоминал движение крыльев стрекозы, томные глаза — полотна Тинторетто, волосы — шлем Антиноя в галерее Фарнезе. Но они были не совсем медными, приметил он. У них был один из тех оттенков, какие бывают у полированного палисандрового дерева, освещённого солнцем.
«…Виноградной ли лозе? Соцветьям амброзии Уподоблю я тяготу медных волос твоих? Так в безмолвном покое бледнеющей осени Проступает сиянье Флоренции Козимо…»Дибич был дипломатом, но в кругах богемы считался недурным поэтом. Стихи о Ней возникли в голове сами, душа наполнилась музыкой рифм, и это внезапное непринуждённое поэтическое возбуждение подарило радость почти альковную. Он прикрыл глаза, желая продлить трепет, предшествовавший вдохновению. Затем стал подыскивать рифмы, — тоненьким карандашом на коротких белых страницах записной книжки. Но вскоре опомнился. Он не мог отпустить… или упустить эту девушку, эту хрупкую красоту медичейской эпохи.
…Сейчас Андрей Данилович уверял себя, что у него не было ни видов, ни намерений, просто захотелось пофлиртовать. Но его даже не отвергли, а просто не заметили. Он говорил комплименты — его не слушали, приглашал танцевать — к нему повернулись спиной. Два дня назад Елена уехала в Петербург, Дибич же, к его собственному удивлению, две ночи не смыкал глаз, обостряя пытку неудовлетворённой плоти тягостными мыслями. Им овладела странная болезненность, вся кровь казалась неисцелимо заражённой.
По природе своего вкуса Дибич искал сугубого наслаждения: осложнённой радости чувств и всепоглощающих страстных порывов, при этом не был сентиментальным, скорее, напротив, знавшие Андрея Даниловича часто упрекали его в бесчувственности. Дибич менял женщин как перчатки, они не занимали ни сердца, ни ума, но он привык считать себя неотразимым. Публичное унижение портило реноме, ведь гадина Тропинин уже растрезвонил повсюду, что его репутация донжуана дала трещину и его лучшие дни позади.
Ладно, он столкнётся с ней в Питере, и тогда посмотрим. Гордыня, девочка, грех смертный.
Ныне, выезжая из Варшавы в Санкт-Петербург, Дибич хотел отдохнуть и надеялся, что билет дипломатической брони первого класса, которым, по пословице, ездили только принцы, дипломаты, американцы и дураки, оградит его от нежелательных знакомств и излишне разговорчивых попутчиков.
Увы, надежда не оправдалась. В его купе уже стоял молодой брюнет, вначале показавшийся Дибичу одним из тех лощёных светских хлыщей, считающих, что L'amour est la fleur sur le bord de l'abîme[2]. Француз неторопливо снял шляпу, вынул из кармана пальто смятую» Monde», положив её поверх лежащего на столике небольшого издания in-quarto. Giambattista Marino, мелькнуло на обороте. «О, мой Бог, он итальянец, всю дорогу покоя болтовнёй не даст…», — раздражённо подумал Дибич, но тут незнакомец обернулся, и дипломат сразу осознал своё заблуждение.
В глазах его спутника проступало то расплывчато-мутное и туманное, что европейцами обычно зовётся âme slave[3], и Дибич понял, что перед ним его соплеменник. Какой там «une fleur»…
Теперь Андрей Данилович разглядел незнакомца. Безукоризненная правильность бледного лица приводила на память мертвенность кладбищенского мрамора, нос, выточенный с классической строгостью, делал его похожим на молодого Алкивиада, но в тяжёлых царственных глазах колебалась ряска болотной тины и плыла мутная поволока.
Незнакомец был, на взгляд Дибича, или упадочно красив, или волнующе некрасив, но он приковывал к себе любой взгляд. «Умён, запредельно умён, и прекрасно это знает», — пронеслось в мозгу дипломата. «Русский, состоятелен, точнее, богат, законы и ограничения для такого — ничто. Они помимо него. В голове бездна… или кавардак… или истина. Спрашивать ему некого — да и не о чем. Ответы есть на все, но никого и словом не удостоит. А глаза-то, глаза… Точно прокурорские».
«Ряска бурых болот, ядовитый мышьяк, Средь гниющих коряг в липкой тине тумана, Мутят воду не лапы бородавчатых жаб — Плавники змееглавого Левиафана…»Эти странные строки проступили и погасли. Дибич удивился, ибо совсем не ощущал вдохновения. Виски по-прежнему то сжимало болью, то отпускало.
Андрей Данилович сел и устремил взгляд за окно, в ночь. Нечёткость отображения тёмном стекле придавала его лицу очертания черепа, отобразив чёрные пятна глазных впадин и провалы под скулами. В стеклянном отражении Дибич увидел, что его попутчик взял книгу, повертел её в руках и углубился в чтение, сам же он, чуть повернувшись, неожиданно заметил газетный заголовок. Ахнув и забыв спросить разрешения, схватил газету и пробежал глазами полосу: второго апреля 1879 года на императора Александра Второго во время его обычной утренней прогулки в окрестностях Зимнего дворца без охраны и без спутников совершено покушение. Покушавшийся — Александр Соловьёв, дворянин, отставной коллежский секретарь, тридцати трёх лет. Все выстрелы прошли мимо. Соловьёва настиг штабс-капитан корпуса жандармов Кох, задержавший его возле здания министерства иностранных дел. При задержании Соловьёв принял яд, но был спасён медиками.
Сегодня было пятое апреля. Дибич из-за чёртовой хандры просто разминулся с последними новостями, не читая в эти дни газет. По его телу прошла отвратительная волна тошнотворной слабости. Потомственный дипломат, он ненавидел кровь. А между тем после убийства в прошлом году шефа жандармов Мезенцева, в феврале был убит князь Кропоткин, вскоре за тем — полицейский агент Рейнштейн в Москве и, наконец, тринадцатого марта жертвой злоумышленников едва не пал сам Александр Дрентельн, нынешний шеф жандармов, ехавший в карете в комитет министров. У Лебяжьего канала с ним поравнялся всадник, выстрелил, потом пронёсся по Шпалерной и скрылся, однако был пойман и оказался поляком Мирским. И вот — новое покушение… Государь-император.
— Вам полегчало, Андрей Данилович?
Дибич поднял голову и встретился глазами с незнакомцем. Он не растерялся и не удивился, но ответил не сразу. Ему вдруг показалось, что он ждал чего-то неожиданного, необычного, причём — как раз от этого человека.
— Вы меня знаете? — вежливо осведомился он.
— Мы никогда не встречались, — покачал головой незнакомец, чуть заметно улыбнувшись.
Дибич не спросил, откуда тогда собеседник знает его имя, но задумался. Попутчик появился в купе первым и не мог видеть меток на его багаже, но и там были только инициалы — «А.Д.» Впрочем, он мог слышать о нём стороной…
— Я велел слуге купить билет, оставался час до отхода поезда, был только первый класс, одно место в этом купе, другое было забронировано Андреем Даниловичем Дибичем, — вяло пояснил попутчик своё всеведение. — Так ваша голова прошла? Не спать две ночи подряд — тяжело.
Дибич нервно улыбнулся.
— Честь имею представиться, — поклонился прозорливец, — Юлиан Витольдович Нальянов.
Дибич не спросил, как господин Нальянов узнал, что он не спал две ночи. Это не билеты, от кассира такого не узнаешь, но раз уж угадал, не хотелось давать этому Юлиану Витольдовичу повод ещё раз казаться провидцем. Неожиданно Дибич понял, что голова и вправду прошла, взгляд его просветлел.
— Благодарю вас, Юлиан Витольдович, мне полегчало. — Он сложил газету и кивнул на передовицу, — вы читали?
Нальянов утвердительно склонил голову. Читал-с.
— Господи, дворянин, — поморщился Дибич. — Когда этим занимается чернь, понятно, но дворянин… поднять руку… Как можно-то?
— Революционеры — не чернь и не аристократия, — снисходительно пояснил Нальянов, — это прослойка неудачников и банкротов всех классов и профессий: разорившиеся помещики и обанкротившиеся купчики, неудавшиеся адвокаты и пойманные на взятке помощники присяжных поверенных, прогоревшие лавочники и спившиеся рабочие, в общем, недоноски и отбросы всех мастей. Этот, — он снова кивнул в направлении газеты, — смог только сдать экзамен на преподавателя уездного училища. Через тридцать лет службы он мог бы стать «его превосходительством», но он и ему подобные не хотят ждать тридцать лет, они хотят всего и сразу, а сделать из коллежского секретаря премьер-министра может только революция.
— Но не все же там карьеристы, — в тоне Дибича, хоть он и возражал своему спутнику, не было отторжения, ибо по сути он был согласен со сказанным.
— Не все, — согласился Нальянов, — есть и прекраснодушные глупцы-идеалисты и особенно идеалистки, начитавшиеся Чернышевского, есть и буржуа, боящиеся прослыть недостаточно либеральными. Это тот редкий случай, когда жажда свободы делает человека рабом.
— Да, но ведь есть же и подлинные либералы, — Дибич улыбнулся, снова явно подыгрывая собеседнику.
Нальянов высокомерно усмехнулся.
— Да, либералы-земцы давали по подписным листам деньги для «Народной воли». Правда, либеральные круги против покушений на царя, но они сочувствуют террору против государственных сановников. Вспоминаю разговор на эту тему с одним повешенным, — изуверски усмехнулся он, — тот рассказал, как получил от одного либерала для организации десять тысяч рублей. Тот жил в Европейской гостинице, и будущий висельник к нему пошёл с Иванчиным-Писаревым. Этот земец говорил, что, по его мнению, покушения на царя мешают необходимым политическим реформам, в то время как убийство министров может заставить высшие сферы направить царя по другому руслу.
— Так и сказал?
— Да, — мрачно кивнул Нальянов, и лицо его потемнело. — Вообще же либерализм в России — привычное своекорыстие лжи. За фразу «Я верю в русский народ!» всегда наградят аплодисментами, а кто же не любит аплодисментов? В итоге человек порой так изолжётся, что и сам верит в свою искренность. А на самом деле нам ведь всем совершенно наплевать на народ, он — повод для проявления либерализма, только и всего.
— Но ведь иные на эшафот идут, помилуйте, вон как этот… как его… — Дибич заглянул в газету, — Соловьёв.
— Для того, кто ежеминутно готов умереть, — рассудительно и уже серьёзно заметил Нальянов, — если не лжёт, конечно, как сивый мерин, — уточнил он, чуть наклонив голову к собеседнику и блеснув глазами, — интересы народа, за которые он умирает, никакой ценности иметь не могут. Смертнику всё безразлично: и народ, и честь, и совесть, уверяю вас, — он пренебрежительно махнул рукой, потом продолжил, — это потусторонние люди с искажёнными мозгами, в которых — окаменелая затверженность недоказуемых постулатов. Это то, что в старину называлось ересью, проще говоря, помрачением ума большой, подавляющей мозг дурью. Сами подумайте, Андрей Данилович: наша интеллигенция, фанатично стремясь к самопожертвованию, столь же фанатично исповедует материализм, отрицающий всякое самопожертвование. Я не устаю умиляться помрачённости этих голов.
— Мне кажется, вы всё же излишне категоричны…
— Разве? — пожал плечами Нальянов и сменил тему. — А вы при посольстве?
Дибич кивнул: его отца, известного дипломата, хорошо знали в высших правительственных кругах.
Нальянов опустил глаза и потёр виски бледными пальцами.
— Я хотел бы спросить. Фамилию «Дибич» я слышал и раньше, и это не было упоминанием о вашем отце. По вашему адресу в Париже и в Питере несколько раз роняли слово «подлец». — Он склонил голову к собеседнику и невозмутимо поинтересовался. — За что?
В ответ на вызывающий вопрос своего собеседника Дибич смерил Нальянова твёрдым взглядом. Нальянов ему нравился — даже этим прямым и дерзким вопросом. Он улыбнулся. Восхищение… Что это, как не вежливая форма признания чьего-либо сходства с нами? Дибич тоже, несмотря на дипломатичность, любил прямые вопросы. Он не затруднился.
— А этом мире двоятся слова и мысли, намерения и поступки, и только холодная логика оставляет нам шанс не запутаться. Я дипломат и стараюсь обходить острые углы, но я стараюсь быть разумным, я ставлю цель и достигаю её. Почему в моих действиях видят что-то ещё — мне неведомо.
За окнами убаюкивающе поплыли фонари вокзала. Поезд тронулся. Нальянов, казалось, оценил мертвяще-честный самоанализ Дибича, смотрел внимательно и отстранённо. Стройный и худощавый, Дибич казался выше своего роста и старше своих тридцати лет, и был, бесспорно, привлекателен исходящим от него ледяным обаянием бесстрастного ума.
Нальянов улыбнулся.
— Дипломатия как таковая есть умение творить подлейшие дела милейшим образом, а вот привычка постоянно обходить острые углы часто оборачивается хождением по кругу. Но я тоже стараюсь быть разумным, — проронил он, — однако в итоге глупостью зову мнение, противоречащее тому, что думаю на этот счёт сам, а самоочевидной истиной — то, что очевидно для меня и ни для кого больше.
— И вы тоже считаете меня подлецом? — в глубине тёмных глаз Дибича неожиданно блеснула молния.
Однако Нальянов не поднял перчатку.
— Я вспомнил об этом потому, что слышал то же самое по своему адресу, — сдержанно проговорил он. — Но я стараюсь избегать двойственных суждений, стремлюсь согласовывать намерения и поступки, не имею цели и очень часто плюю на холодную логику. Я вовсе не дипломат и не боюсь острых углов. Но что удивительно, — он вздохнул, — тоже именуюсь подлецом.
Дибич выпрямился и слегка наклонился к собеседнику.
— Мне бы хотелось быть правильно понятым, господин Нальянов. Наименование «подлец», слышанное вами по моему адресу, ни в коей мере не является верным. Я удостаиваюсь его от глупцов, чьи представления о должном весьма кривы, но не знаю, поймёте ли вы меня?
— Да, — успокоил его собеседник.
И, взглянув в болотную тину глаз Нальянова, Дибич убедился, что его и в самом деле понимают: без осуждения и неприязни, но и без одобрения. Просто — понимают и всё.
— Но я, — тут Нальянов странно передёрнулся, — посетовать на непонимание не могу и подлецом именуюсь, похоже, вполне заслуженно.
После этих знаменательных слов Нальянов предложил Дибичу ложиться: третья бессонная ночь пагубно скажется на его здоровье. Тот предложил собеседнику выпить коньяку в вагоне-ресторане — он и вправду устал, но спать не хотелось, винные же пары всегда усыпляли. Нальянов любезно кивнул и поднялся.
* * *
Тут где-то в коридоре что-то хлопнуло, послышался топот ног и крики. Дибич в панике отпрянул в глубину купе, а Нальянов распахнул дверь и вылетел в коридор. Андрей Данилович с испугом заметил, что в руке его попутчика появился гассеровский револьвер, и ощутил, как вспотели виски. Тем временем прямо на Нальянова налетел какой-то тощий человек с аккуратно выстриженными тёмными висками и франтоватыми усиками, он пытался разминуться с ним, но Нальянов, заметив бегущих сзади полицейского и ещё одного штатского в полосатой жилетке, схватил тощего и резко прижал к стене. Полицейский и его товарищ быстро подоспели, надев на пойманного наручники и бормоча слова благодарности.
— Где-то я его видел, — обронил тем временем Юлиан Витольдович, чуть склонив голову и разглядывая пойманного, всё ещё пытавшегося вырваться. — Вор, что ли? — спросил Нальянов полицейского. Его голос, начальственный, властный, гулко отдавался в открытом купе и коридоре.
Дибич осторожно выглянул в дверной проём и стал прислушиваться к разговору, одновременно разглядывая схваченного полицией. Тот был бледен и тяжело дышал. Из дальнего купе вышел тот самый генерал с пышными бакенбардами, которого дипломат видел при входе в вагон, и тяжело ступая, приблизился к ним.
— Никак нет, не вор, ваше превосходительство, — ответил полицейский Нальянову, нутром почуяв, что говорит с кем-то из власть имеющих, да и с кем ещё могла свести судьба в вагоне первого класса?
— Проверяли багаж, а он спираль Румкорфа вёз в полированном ящике и гальваническую батарею под лавкой, — пояснил штатский. — Но мало ли кому что надо, но уж больно волновался, а тут и вовсе бежать кинулся, нервы, знать, не выдержали.
— Да это же Коломин, — изумился вдруг Нальянов. — Когда я его последний раз видел, он блондином был в засаленном пиджачишке, толкался в меблирашках, носил прокламации из типографии. То-то я его не узнал сразу. Это паричок-с у вас или подкрасились? И давно ли ездите первым классом, Михаил Яковлевич? — Дибич понял, что Нальянов просто глумится, а вовсе не пытается ничего вызнать у схваченного.
Штатский тихо заговорил с Нальяновым о личности задержанного, который по документам числился Владимиром Сухановым. Нальянов категорично покачал головой, назвал паспорт липой и уверенно сказал, что это член так называемого исполнительного комитета «Земли и воли» Михаил Коломин. После чего сам назвался, отчего у штатского и полицейского округлились глаза, и они тут же поклонились.
— В Петербурге штаб-квартирой группы служит квартира отставного артиллериста Люстига, — указал он, заставив вздрогнуть арестованного. Дибич не заметил, как из рук Нальянова невесть куда исчез револьвер.
Генерал, слушавший молча, теперь спросил, что делать с багажом этого взрывателя? Штатский сказал, что сейчас всё уберут.
Коломина увели. Дибич, уже успокоившийся, вдруг снова напрягся. Нальянов? Где он слышал эту фамилию? Почему эти двое так удивились и сразу расшаркались? Отец что-то говорил… Витольд Нальянов. Кажется, тайный советник? Где? Третье отделение? А это, значит, сынок?
— Ваш отец… — осторожно обронил он и дипломатично умолк на полуслове.
— …возглавляет уголовное ведомство в Третьем Отделении. — Глаза Нальянова скрылись за выпуклыми мраморными веками. — Однако мы собирались в ресторан.
Дибич удивился неизменности намерений сынка тайного советника, про себя подумав, что у этого человека нет нервов. Впрочем, может, опасности и не было?
— А что за спираль он вёз? — осторожно поинтересовался Дибич, проходя за Нальяновым по вагонным коридорам.
Нальянов, не задумываясь, откликнулся:
— Спираль Румкорфа — это новейшее изобретение для взрывов золотоносных шахт. Ну а этим оно зачем — сами догадайтесь. Сложнее всего там глицериновый запал, элемент Грене, — дополнил он педантично, — боеголовка заряда. Не сработает — пиши, пропало.
— Но зачем он бросился бежать? Оно могло взорваться?
Нальянов пожал плечами.
— Нет, просто нервы не выдержали. Жизнь заговорщика чрезвычайно нервирует и отупляет. Это жизнь затравленного волка, над всем господствует сознание, что каждую секунду надо быть готовым погибнуть. Единственная возможность выжить при таком сознании — это не думать о множестве вещей, о которых, однако, нужно думать, если хочешь остаться человеком. Привязанность к кому-нибудь — истинное несчастье. Изучение чего-либо немыслимо. План действий мало-мальски сложный не смеет прийти даже в голову. Всех поголовно нужно обманывать, от всех скрываться, во всяком подозревать врага. При такой противоестественной жизни люди тупеют, нервы истончаются, беспрерывная возня со шпионами, фальшивыми паспортами, конспиративными квартирами, динамитами, засадами, мечтами об убийствах и бегствами — фатальна для ума, души и нервов. Прошу вас.
Он открыл дверь вагона-ресторана и галантно пропустил туда несколько ошарашенного этими пояснениями Дибича.
* * *
…Проклятие. Этого только не хватало. Дибич поморщился. Вагон-ресторан был полон, свободными оставались лишь два места у стойки. Но рядом за столом уже сидел человек, выражение и цвет лица которого безошибочно указывали на язву желудка. Он работал в Канцелярии Управления градоначальника Санкт-Петербурга, отличался нередкой в России склонностью к доносам, был подловат, завистлив и скареден, имел оболтуса-брата и был помолвлен. Звали его Леонидом Осоргиным. И Дибич вовсе не проявил тут никакой прозорливости: Осоргин был, что называется, его «бедным родственником», кузеном.
Деваться было некуда, дипломат сухо кивнул Осоргину, тот привстал, приветствуя его, потом, окинув быстрым взглядом дорогой сюртук и галстук с бриллиантовой булавкой его спутника, и, узнав от Дибича, что перед ним господин Юлиан Нальянов, поспешно поклонился. Дибичу же меньше всего хотелось выслушивать глупейшие рассуждения Осоргина, дурацкие вопросы о здравии домашних и досужие сплетни, и он снова обратился к Нальянову, игнорируя присутствие родственника, вернувшись к разговору в купе.
— Вы удивили меня, Юлиан Витольдович. Чтобы дать себе определение «подлец»? Я-то всегда, признаюсь, находил мораль… излишне плоской. И соскальзывал с этой плоскости, — скаламбурил он. — Мне ближе свобода от категорических императивов. Они недоказуемы. А вам он по душе?
— Наш мир стоит во зле, — спокойно ответил Нальянов, — следовательно, он аморален по определению. Что до императивов… Есть геометрия Эвклида. Она стара как мир и стоит на четырёх недоказуемых аксиомах. Но на этой геометрии стоят мосты и дворцы. Бернхард Риман и Николай Лобачевский создали свои геометрии. Они современнее и интереснее, но упаси вас Бог строить по ним мосты. Развалятся. Это геометрии ирреальности и по ним можно строить только в ирреальном мире. — Он усмехнулся, но совсем невесело. — Есть заповеди Божьи — синайские и сионские. Они стары как мир и стоят на недоказуемых для разума постулатах. Но на них покоятся устои мира — неустойчиво и зыбко, да, но покоятся, как кораблик на гербе Парижа. — Он закурил. — Нам в последнее время часто предлагаются новые заповеди — то Гегеля, то Канта, то Маркса. Ну, что же… можно ими позабавиться — пару вечеров. Но упаси вас Бог строить по ним мир, это жалкие людские умопостроения — и на них ничего не устоит.
На лице Осоргина появилось выражение недоумения. Леонид Михайлович был человеком хоть и приземлённым, но разумным, и прекрасно понимал, что подобные разговоры могут вести только праздные болтуны. Глаза же Дибича от нескольких глотков недурного коньяка или от слов Нальянова — потеплели.
— Я правильно понял? — рассмеялся он. — Вы утверждаете примат божественной морали? — Нальянов вежливо кивнул. — Это прелестно-с. Но доказуемо ли?
— Человеку с умом? Нет, Андрей Данилович, как ни парадоксально, человеку с умом невозможно доказать ничего, в чем он сам не хотел бы убедиться. — Нальянов глотнул коньяк, глаза его померкли. — Но знаете, я невысоко ценю ум, но преклоняюсь перед высотой духа. Ничтожество духа низвергнет в бездну и великий ум. Наше время не знает этого — и вот результат: на улицу выходят люди кривой морали, ничтожного ума, а порой и вовсе душевнобольные, возят в вагонах взрывчатку и метают бомбы в людей, общество же, заразившееся кривизной мышления, аплодирует.
— Простите, Юлиан Витольдович, — вмешался в разговор шокированный Осоргин, — как же можно так говорить? Люди жизнью жертвуют. Как кривой морали? И разве… разве идеалы интеллигенции не говорят о высоте её устремлений? Вам не по душе эти высокие идеалы?
«Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять все сомнения», — пронеслось в голове у Дибича, но он промолчал, отвернувшись. Он всегда стыдился родственника — его неприятного, худого, плохо выбритого лица, дурного запаха изо рта, потёртых обшлагов сюртука, стыдился и его примитивных суждений. Сколько Дибич помнил Леонида Осоргина, тот никогда не произнёс ничего умного.
Нальянов поднял на Осоргина царственные глаза. Тихо вздохнул. Он видел такие лица в университетские времена в Питере. Перед ним был вечный студент-радикал, правда, готовый в любую минуту стать защитником самодержавия и провокатором, — надо было лишь хорошо заплатить. Нальянов даже молниеносно прикинул сумму, которую надо было предложить, предел мечтаний Осоргина, и уверенно остановился на трёхстах рублях в месяц.
— Мне? Не по душе? — Нальянов тихо и надменно удивился. — Мне, господин Осоргин, по душе ночи, когда над морем в прозрачном небе теплятся несколько божественных звёзд, таких дивных, что хочется стать на колени.
Осоргин ничего не ответил, ибо понял, что имеет дело с откровенным мерзавцем, чуждым всего, что волнует лучших людей России. Этот человек — своими величавыми глазами, набриолинненым пробором, дороговизной костюма, белоснежными манжетами с бриллиантовыми запонками и холеной белизной рук, согревавших коньячный бокал, стал ему отвратителен. Осоргин поднялся и поспешил распрощаться с Нальяновым и Дибичем, и возненавидел обоих ещё больше, заметив, как оба, поспешно кивнув ему на прощание, тотчас забыли о нём.
— Мне хотелось бы уточнить одну вещь, Юлиан Витольдович, — задумчиво начал Дибич, теперь расслабившись и улыбнувшись собеседнику.
— Если вы хотели спросить, как я понял, что вы не спали две ночи, — опустив взгляд на дно коньячного бокала, проговорил Нальянов, — то ответа не дождётесь.
Дибич заметил, что губы Нальянова изогнулись в тонкую улыбку. Сам Андрей Данилович, именно об этом желавший узнать, рассмеялся.
— А почему? Считаете, интрижка? — Он хитро прищурил левый глаз.
— Нет, — протянул, покачав головой, Нальянов, на мгновение подняв на Дибича тяжёлые глаза. Теперь он не улыбался, — вы были несчастны. Только повторяю, не спрашивайте, как я это понял. Тут мы выходим за границы логического мышления. — Нальянов кивнул головой в сторону двери, — а кто этот человек? Родственник?
Дибич скривил губы и брезгливо кивнул. Нальянов больше ничего не спросил, и Дибич был благодарен ему за отсутствие любопытства, но сам с любопытством продолжил их прерванную Осоргиным беседу.
— Вы удивили меня. Морали… — Дибич усмехнулся, чуть откинувшись в кресле. — Я-то полагал, что низшие не возвышаются до морали, а высшие до неё не снисходят.
— Ну, что вы, — серьёзно, хоть и со странной интонацией ответил Нальянов. — Верно скорее другое: морализирующие праведники скучны, а морализирующие подлецы страшны, и потому нам мораль лучше не обсуждать. К тому же, — одёрнул себя Нальянов, вынимая из кармана жилета часы, украшенные бриллиантовой россыпью, — уже поздно, вы устали, Андрей Данилович, пойдёмте в купе.
Дибич снова бросил быстрый взгляд на Нальянова. Как он угадал? Ведь именно в это мгновение его неожиданно связала сонливая вязкость коньячных паров. Нальянов тем временем поднялся и расплатился. Они без помех миновали коридор.
В купе веки Дибича отяжелели, едва он опустился на бархат подушек, и последнее, что он помнил, был жёлтый свет фонаря за окном да польская ругань станционных смотрителей.
* * *
Дибич проспал почти десять часов: сказались предшествующая нервотрёпка и бессонница. На рассвете, когда они уже подъезжали к Гатчине, он проснулся, припомнил вчерашний разговор с Нальяновым и сцену в коридоре и понял, что не хочет, чтобы этот человек потерялся для него. В нем было что-то удивительное, Андрей Данилович не сказал бы «привлекательное», скорее завораживающее, околдовывающее. Они вращались в одних кругах, что помешает им сойтись? Дибич отдавал себе отчёт в том, что сын одного из высших чинов тайной полиции, по всей вероятности, может быть связан либо со шпионажем, либо с политическим сыском, но это его не волновало. Его не занимали ни политика, ни служба. При этом Дибич почти забыл об Елене Климентьевой. Унижение, пережитое третьего дня, почему-то потускнело и почти стёрлось в памяти.
Во время раннего завтрака они выяснили, что у них мало общего во вкусах. Дибич любил женщин. А также поэзию, севрюжину под хреном, ликёр «Бенедиктин», романы Бальзака, братьев Гонкуров и Золя. Не любил глупцов, Москву и шампанское. Нальянов не любил женщин, вороний грай, детский плач и крохотных собачонок. Терпеть не мог сырую грязь трущоб, ненавидел конюхов и аромат роз. Обожал запах первого снега и свежескошенного сена, готические замки Прованса и коньяк «Наполеон». Читал Гомера и Шекспира.
— А поэзию вы, Юлиан Витольдович, любите? — Дибич кивнул на томик Марино.
Нальянов, казалось, изумился. Глаза его заискрились.
— Это не мой, помилуйте. Я вошёл в купе, а он тут валялся. Забыл кто-то. Я уже в том возрасте, когда любят не поэзию, а стихи, и даже строчки из них. Ведь от поэта в веках часто остаётся одно-единственное стихотворение, — усмехнулся он. — Жаль, неизвестно заранее, какое именно, а то бы можно было не писать всех остальных.
Поезд прибыл на Варшавский вокзал, в тамбуре мелькнул слуга Нальянова с чемоданом, Дибич вышел в коридор и вздрогнул — в предрассветной темноте под фонарём стоял Юлиан Нальянов. Но он никак не мог опередить его, двери вагона первого класса были ещё закрыты, а Нальянов оставался в купе. Тут дипломат понял, что ошибся: проводник открыл двери, Нальянов появился в тамбуре позади него, кивнул ему на прощание, сошёл со ступеней и остановился перед встречавшим его двойником.
— Валериан, дорогой… Христос воскресе!
Дибич на минуту растерялся от столь странного приветствия, но тут вспомнил, что прошлое воскресение и точно было пасхальным.
— Воистину воскресе!
Братья обнялись, неожиданно для Дибича почти страстно, с силой стиснув плечи друг друга.
Дипломат теперь заметил, что братья, хоть и схожи лицом, вовсе не близнецы: Юлиан был на дюйм выше, шире в плечах и представительней брата, а Валериан казался добрей и проще. Взгляд его был мягче, нос — резче и длиннее, чем у брата, в лице проступала умная мужественность, внушающая людям безотчётное доверие. В нём не было того магического обаяния, контраста утончённости и властности, что отличала Юлиана, не заметно было и мистической красоты, хоть он был совсем недурён собой.
Дибич поставил у ног чемодан и, медленно натягивая перчатки, внимательно разглядывал братьев. В свете фонарей оба они в длинных пальто выглядели как-то театрально, и проходившие по перрону женщины украдкой оглядывались на них. Нальяновы, не тратя слов, направились к выходу, и Дибич успел увидеть дорогое ландо, куда слуга Нальянова уже сложил вещи барина. Услышал он и распоряжение Юлиана: «На Шпалерную!»
Незаметно рассвело, фонари вдруг погасли, и вокзал, словно истасканная театральная декорация, линяло поблёк и затуманился.
Дибич, махнув на прощание Осоргину, появившемуся из вагона третьего класса, торопливо кликнул извозчика, всем видом показывая, что спешит, хотя в его доме на Троицкой Андрея Даниловича ждал только старый слуга Викентий, предупреждённый о его приезде телеграммой.
Глава 2. Нитроглицерин и сладострастные грёзы
Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то.
Евангелие от МаркаВсе люди видят сны, но по-разному.
Те, кто видит сны ночью, в пыльных закоулках сознания, просыпаясь утром, осознают нереальность сновидений, однако те, кто грезит наяву, — опасные люди: они способны с открытыми глазами делать то, что им снится, претворяя свои грёзы в действительность.
Томас Эдвард Лоуренс— Ты к тёте? — с некоторой долей удивления спросил Валериан, ожидавший, что брат поселится с ним и отцом или у себя на Невском.
— Да, она пригласила.
Ландо, мягко покачиваясь на рессорах, выехало на Измайловский проспект. Братья некоторое время молчали, потом младший устало осведомился у старшего: «Ты нашёл их?»
— Каминского видел, затеял свару и публично обозвал мерзавцем, вызвал, — досадливо усмехнулся Юлиан, — увы, сукин сын удрал. Старик Везье говорит, пока в экстрадиции нам откажут. Впрочем, теперь, после покушения Соловьёва, надо запросить, повод есть. Аэтого иуду Булавина спиши, — он тихо продолжил по-французски, — je me suis pare par le clochard, a decouvert durant sa nuit pres de la maison de sa maitresse, a assourdi avec la canne et a descendu a la trappe de canalisation a cote de l'hotel de Clisson. Le compte est ferme[4].
Валериан нервно и болезненно вздрогнул, испуганно взглянул на брата, долго молчал, опустив глаза, потом недовольно проронил:
— Жюль, ты сумасшедший, — его дыхание сбилось, — Господи, неужели ты не понимал, чем рисковал?
— Понимал, — лениво отозвался Юлиан, — дорогие туфли от Шовера переодеть поленился, в результате — дерьмом их перепачкал. И простудиться мог. Но что было делать? Чем меньше цена, тем ниже предательство, а он нас даже не продал — выдал даром. — В голосе Юлиана послышалось рычание. — У него были все свойства собаки — за исключением верности.
— Но руки марать…
— Некий шутник справедливо заметил, что истина всегда там, на чьей стороне палач. Если я — палач, стало быть, там, где я, там и истина. И не стану мыть руки, я не Пилат. Кто не карает зла, ему способствует.
Он бросил взгляд на лица брата, рассмотрел его в лучах рассвета и озабоченно спросил:
— Что с тобой, Валье? Плохо спал?
Как ни странно, Валериан сейчас казался не моложе, а старше Юлиана, чему немало способствовали поперечная морщина на переносице и заметные следы усталости на лице. В ответ на слова брата черты его озарила бледная улыбка, в ней сквозило что-то нервное, почти юродивое, придававшее лицу выражение не то какой-то затаённой святости, не то — одухотворённой поэтичности.
Страх за брата, исказивший его лицо, уже исчез.
— Да нет, спал-то я хорошо, только мало. В кресле в кабинете полчаса под утро, — пояснил Валериан, — но отосплюсь в выходные. А что это там Ливен рассказывает о твоих галантных похождениях? — На лице Валериана промелькнуло что-то болезненное, — какая-то Елизавета Елецкая? Шутка, что ли?
— Да нет. В русских кругах Парижа толчётся всякое, — пояснил Юлиан, брезгливо отмахнувшись. — Я же, за подонком охотясь, посещал их сборища, надеясь на него натолкнуться. Что до девицы… Je ne lui ai pas fait d'avances, mais elle les a acceptеes[5]. — Юлиан в недоумении развёл руками. — Наверное, вежливость стала такой редкостью, что некоторые принимают её за флирт? Как это у меня получается, не ведаю.
— Как всегда, — иронично пробормотал Валериан и снова побледнел, вспомнив признание брата. — Но, Бога ради, Жюль, борясь с сатаной, нельзя осатанеть самому. Ты сатанеешь. Булавин — мразь и предатель, но…
— Tu quoque, брат мой, tu quoque, — с укором пробормотал Юлиан, — неужели и ты стал либералом?
— Я просто следователь, — Валериан усмехнулся и покачал головой, — а быть судьёй и палачом не могу.
— Правильно. Один из атрибутов либерализма — никто не хочет быть палачом. А в результате рушатся империи.
Валериан ничего не ответил брату, тем более что тот вовсе и не ждал ответа.
Юлиан же, помрачнев, серьёзно и сумрачно осведомился:
— Тут-то что происходит?
— Все взволнованы, перепуганы, ошеломлены и удручены. — Тон Валериана Нальянова странно контрастировал с его словами, был спокоен и безучастен, точно он говорил о погоде. — Помимо временного генерал-губернатора учреждено Особое Совещание, хотят выработать сугубые меры борьбы с крамолой. Что до Дрентельна, — Валериан лениво поправил на запястье перчатку, — он задумал учредить новый орган правительственной печати, но это отвергнуто как излишне смелый проект.
Старший Нальянов зло хмыкнул, но ничего не сказал. Валериан же размеренно продолжал:
— Предполагается усиление сети секретных агентов, внедряемых в революционные круги и подотчётных только Третьему отделению. Выделяют четыреста тысяч.
— И то хорошо, — голос Юлиана тоже звучал теперь невозмутимо и спокойно.
— Князь Мещёрский сказал отцу, что видит во всём этом сатанинский план тайного общества с целью обрушить империю, и уже поползли упорные слухи, что бомбисты готовят своим противникам Варфоломеевскую ночь.
— Я на их месте тоже распускал бы такие слухи, — чуть вскинув брови, брезгливо кивнул Нальянов-старший. — Но я-то зачем вызван? Не собирается же наш дорогой Александр Романович сделать секретным агентом меня?
Хоть это была явная шутка, Валериан Нальянов не улыбнулся. Они свернули через Гороховую на Садовую и сейчас подъезжали к Невскому.
— Нет, не собирается, какая ломовая лошадь из Пегаса? — пожал плечами Валериан, — это я настоял, ты прости уж, но тут одно странное обстоятельство всплыло. Один наш человек, Штольц, если помнишь, что в Дегтярном, — Юлиан кивнул, — так вот, он говорит, к нему в аптеку Великим постом повадился один блондин. Покупал исключительно кислоты в двадцатифунтовых бутылях. Всё бы ничего, мало ли кому что надо, но тут на Страстной в частную клинику Левицкого в Митавском переулке поступила одна барышня, Варвара Акимова, с анемией, тошнотой и обмороками.
Нальянов брезгливо искривил губы.
— Что вам до гулящих девок? — с недоуменной улыбкой спросил он брата.
Теперь улыбнулся и Валериан, правда, криво.
— А вот то-то и оно, что девица вовсе не беременна. Кроме тошноты, головных болей и странных припадков, на ладонях Акимовой замечена краснота, на слизистой носа — странные ожоги. Да и глаза… роговица сильно воспалена. А привёл её и оплатил лечение некий блондин, который Левицкому представиться, сам понимаешь, не удосужился.
Улыбка исчезла с лица Юлиана, точно её стёрли.
— Даже так? Левицкий определил, что за ожоги?
— Когда убили Гейкинга, его жене руку изувечило, и дурь либеральная из него сразу выветрилась, он теперь на запах пороха реагирует быстро. Но он только предположил, что такое возможно при смешении некоторых ингредиентов взрывного характера, потому и дал нам знать. Странно и то, что не в неотложку девица-то пришла, а к частнику.
— Надо проследить за ней по выписке и обязательно… — Юлиан умолк, заметив улыбку брата. — Уже сделали?
— Да, этим занимался Лернер. Девица, когда ей полегчало, вещи в клинике оставила, а сама пошла на квартиру в Басковом переулке, но едва переступив порог, вылетела оттуда пулей. И тут же ринулась на другую квартиру, где по квартальной ведомости хозяином числится Трофим Игнатьевич Суховесов, а снимает её некий Сергей Осоргин, но его не застала, записку оставила, которую мы изъяли, потом — в клинику вернулась, где в настоящий момент и пребывает.
По лицу Юлиана прошла тень, но он не перебил брата.
Тот же методично продолжил.
— Мы наведались и в Басков переулок. Там нашли два лабораторных прибора для производства нитроглицерина. В сосуд со смесью серной и азотной кислот в холодной ванне они пускали капли глицерина из стеклянной банки с краном. При образовании нитроглицерина жидкость дымится от самонагревания. Для предупреждения взрыва они быстро охлаждали смесь, добавляя в ванну куски льда. Кроме всей этой химии на полу обнаружен труп. Видимо, дело было так: при смешении нитроглицерина с магнезией динамит выходит в виде тестообразной жирной массы, которую они мяли руками. От отравления при вдыхании ядовитых паров у девицы возникла тошнота, и случился продолжительный обморок. Я думаю, блондин отвёл её в клинику, а сам вернулся в квартиру, начал процесс снова и со льдом не успел. Взрыв был, видимо, негромкий, да и если и сильно бабахнуло — из соседей там только глухая старуха. Мы поднимать шум тоже пока не стали. Подождём.
— Труп — блондин? — спокойно поинтересовался Юлиан.
— Блондин, — веско покивал головой Валериан, — Штольц опознал в нём своего покупателя, хоть лицо сильно обожжено. Дворник говорит, зовут его Дмитрий Вергольд.
— Вергольд?.. — изумился Юлиан. — Чёрт возьми, не сынок ли декана химфака? — его брат кивнул. — А Сергей Осоргин… — пробормотал Нальянов-старший. — Это его брат Леонид в канцелярии градоначальника служит?
— Угу.
— Я с ним столкнулся случайно в поезде. Ладно, это терпит. И что хочет Дрентельн? Надо…
— Надо накрыть всех, — кивнул, опережая брата, Валериан, — а так как соловьевский случай здорово высшие сферы перепугал, шеф жандармов решил, что меры нужны экстраординарные. Тут я предложил вызвать тебя. — Валериан повернул голову к брату, глаза их снова встретились. Теперь Валериан улыбнулся, правда, не разжимая губ, улыбка же на лице старшего из братьев сверкнула белизной зубов и погасла. Он уже всё понял. — Дрентельн хочет, чтобы девица Варвара Акимова рассказала бы всё о блондине-покойнике, об их организации и о динамите. Тебе.
Юлиан Нальянов усмехнулся и покачал головой.
— Кем, интересно, вы с Александром Романовичем меня считаете? Жиголо, что ли? Казановой? Почему бы тебе этим не заняться?
— Времени нет, — покачал головой Валериан. — А девицу разговорить надо во что бы то ни стало — и быстро, Бог весть, сколько у них таких лабораторий, — не отвечая на риторический вопрос брата о жиголо, продолжил он. — Так что — придётся тебе. Ну, нет у нас других таких Селадонов, ты уж прости, Юленька, и искать некогда. При этом самого худшего я тебя ещё не сказал.
— О, мой Бог, — помрачнел Юлиан, напряжённо вглядываясь в лицо брата, рука его судорожно вцепилась в подлокотник ландо, — что-то с отцом? Как он? С тётей?
— Нет, — поспешно покачал головой Валериан, — отец здоров, тётушка тоже. Я как сказал ей, что ты приедешь — тут же понеслась в ювелирный к Ружо. Я про девицу. Вот фотокарточка. — Он быстрым, почти неуловимым движением вынул из внутреннего кармана фото, и, казалось, сдерживая смех, обронил: — Я не знаю, я говорил Дрентельну, но…
Виноватый тон брата заставил Юлиана Нальянова бросить на него ещё один внимательный взгляд, взять снимок и вглядеться в него. С него смотрела светловолосая безбровая девушка с чуть выпученными светлыми глазами и пухлыми губами-варениками. Но, хотя Акимова немного напоминала лягушку, лицо её не пугало, а скорее, вызывало сочувствие и жалость.
Валериан продолжил всё тем же извиняющимся тоном.
— Левицкий свидетельствует, что девица мнительна и возбудима без повода. Нарушен сон, сердечная недостаточность, мелкая дрожь пальцев и рук, повышенный аппетит… — Он умолк, заметив саркастичный взгляд брата. — Чего ты?
— Стул-то, надеюсь, нормальный? — язвительно заметил Юлиан, давая понять братцу, что перечисленные им подробности ему вовсе ни к чему, и, не сводя глаз с фото, спросил: — У неё, что, базедова болезнь?
— Нет, — покачал головой Валериан, — просто глаза от вспышки вытаращила. Но самое главное, девица, видимо, весьма влюбчива: наш Тюфяк, он узнал её по карточке, говорит, что в кругах бомбистов её негласно среди мужчин знают как Варюшу-Круглую попку. У неё там и разведённая сестра крутится. У девицы было несколько визитов к дамским врачам, один из визитов, как я понял, имел фатальные последствия. Впрочем, дети там никому и не нужны. Но, Тюфяк сказал, страстно мечтает о великой любви. Идеал — Вера Павловна и Лопухов. Была любовницей Константина Трубникова, Михаила Иванова, Андрея Любатовича. Все они, девицей попользовавшись, исчезали. Ныне двое из них — Трубников и Любатович арестованы и сосланы, а вот Иванов, скорее всего, в Польше. Был ли Вергольд её любовником — неизвестно, но романтика бомбового дела для многих девиц, сам знаешь, как мёд для мух. Мужиков там много крутится, идеалы в этом «стане погибающих за великое дело любви» возвышенные, чернышевские, и это в немалой мере способствует увлечению пустоголовых девиц бомбизмом.
— Мечтает о великой любви… — тон Юлиана стал вдруг на октаву ниже, в его голосе снова, как на парижском вокзале, проступило что-то палаческое, он злобно рыкнул, — это надо же! Месит нитроглицерин с магнезией, готовит динамит, разрывающий в клочья ближних, и мечтает о великой любви, о, женщины… — Он недоумённо покачал головой. — А что Соловьёв? Слышал что-нибудь? Он допрошен?
— Да, признал себя виновным уже при дознании, говорит, действовал самостоятельно, но в духе программы своей партии. Котляревский слышал, как судебному следователю, уверявшему, что чистосердечное признание облегчит его участь, он сказал: «Не старайтесь ничего вызнать, к тому же, если бы я сознался, меня бы убили соучастники — даже в этой тюрьме». И больше от него не добились ни слова. Ну, тут ничего удивительного. Вся эта братия суть орден висельников. Но убей, если я понимаю, почему бредовая идея убийства императора обладает столь притягательной силой?
— Количество ересей вовсе не бесконечно, братец, — поучительно заметил Юлиан, однако глаза его внимательно оглядывали Невский проспект, и думал он, казалось, о чём-то другом. — Из века в век в любом обществе появляются люди-бациллы, несущие в себе распад — душ, семей, общества. Они не могут созидать, не способны творить, и, поняв это, начинают разрушать существующее, мстя за собственное бесплодие, или надеясь лучше устроиться на руинах общества, в котором оказались ненужными. Идеи разрушения в веках похожи, как две капли воды. Император — воплощение порядка, голова общества, и им кажется, что, убив его, они обезглавят само общество, — Юлиан вздохнул. — А связи Соловьёва проследили?
— Ночь со Страстной пятницы на субботу был у проститутки, Пасху провёл у неё же на квартире, ушёл около восьми часов утра второго апреля. Это проверено.
Нальянов брезгливо поморщился, но никакого удивления не выказал, точно он только того и ждал.
— Страстную пятницу провёл на бляди? — Он кивнул, точно доказав что-то самому себе. — И тоже, наверное, мечтал о великой любви или спасении России? — Нальянов вздохнул. — Что в головах у этих людей? Нитроглицерин? Что у них в душах? Магнезия? Серная кислота? Черви?
Нальянов-младший пожал плечами. Лицо его хранило всё то же выражение равнодушия к суетным делам странного века сего, между тем голос Юлиана стал деловым и каким-то плотоядным.
— И где мне встретить эту Варюшу? Кем представиться?
— Ты — молодой врач, приехал к другу, Вениамину Левицкому, по приглашению. Он в курсе, ждёт. Левицкий сказал, что задержит девицу на пару дней, да и ей самой не резон мелькать на улице. Она предпочтёт отлежаться. Ну, а дальше, — Валериан насмешливо взглянул на брата, — тебя ли учить? — Он помолчал, потом продолжил: — Я боюсь одного. Девицы обычно глупы, как пробки, каждая мнит себя красавицей, и всё же… Сможет ли Варюша-Круглая попка поверить, что в неё влюбился такой Селадон, как ты? Я и Дрентельну это говорил, но Андрей Романович уверен, что тебе всё по плечу.
Старший из братьев, всё ещё держа в руках карточку и брезгливо косясь на девицу, уверенно кивнул.
— Сможет ли поверить? Сможет, и дело не во мне. Женщины-бомбистки верят в то, что хаос динамитных взрывов может породить мировую гармонию. Такие поверят во что угодно и тем охотнее, чем невероятнее оно будет. А что не красавица, — он с легкомысленным видом парижского щёголя пожал плечами, — laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination[6]. Я уже почти влюблён, — он продолжал смотреть на снимок глазами томного поклонника светской красавицы, и только губы его гадливо кривились.
— Гаер, — усмехнулся Валериан, покачав головой. Он явно любовался братом, тем более что лицо Юлиана странно преобразилось. Валериан понимал, что братец актёрствует, но убери из его монолога шутовской тон, проступит что-то совсем иное, не поддающееся определению, гипнотическое, завораживающее, почти колдовское. Сколько раз он наблюдал брата и никогда не мог понять этого поразительного обаяния Юлиана.
Тут Валериан опомнился:
— Ты французским-то в клинике не злоупотребляй. Зовут тебя Антоном Серебряковым, ты — из обедневших дворян Орловской губернии, учился в Москве на медицинском вместе в Левицким. Хорошо бы успеть за пару дней.
В ответ на это Юлиан вяло зевнул, прикрыв рот парой лайковых перчаток. Валериан смерил его странным долгим взглядом и вздохнул. На Шпалерной у четырёхэтажного особняка с входом, окружённым классической колоннадой, ландо остановилось.
* * *
Дибич с вокзала приехал к себе на Троицкую. Дом его примыкал к одной из кондитерских Филиппова. В ста шагах от парадного, у ресторана «Квисисана» — дурного тона, с тухлыми котлетами на маргарине, разбитым пианино и жидким кофе, он натолкнулся на смуглую бродяжку-цыганку, коих терпеть не мог. Та настойчиво и нудно клянчила «монетку» и предлагала погадать. Андрей Данилович резко бросил ей «отстань», но тут девка вдруг проговорила, словно прокаркала: «Не к добру ты влюбился, барин, ох, не к добру. Мнишь себя умным, а ведь под носом ничего не видишь…» От визгливого смешка уличной девки Дибича вдруг проморозило. Мерзкая ведьма!
Но швейцар уже распахнул перед ним двери, и чертовка отвязалась.
Дома Андрей Данилович скоро успокоился, принял ванну, перекусил и выслушал от слуги Викентия скупые домашние новости. Их родича, Серафима Павловича, разбил паралич. Даниил Павлович, как услышали-с, сильно расстроились. В каминном зале, где раньше стоял рояль Ларисы Витальевны — крыша протекла и потолок в потёках. Экипаж с ремонта у каретника вернулся, рессоры уже не скрипят, сидения тоже хорошо перетянул. На имя молодого барина пришли три письма. Дибич поднял глаза на лежащие на подносе конверты, просмотрел, увидел почерк и вздохнул.
Из обуревающих человека страстей, пронеслось у него в голове, тяжелее всего лёгкие связи. Но, что делать? Если великая страсть овладевает тобой в десятый раз в жизни, у тебя, к несчастью, нет уже прежней веры, что она будет вечной. Ты сомневаешься и в её величии. Ты уже во всем сомневаешься.
Викентий же поведал хозяину о жалобах Даниила Павловича на холодную весну, они-с на горло жаловались. Дибич кивнул, почти не слушая. За окном накрапывал дождь. Санкт-Петербург — удивительный город, словно созданный для того, чтобы в нём в такой вот сумрачный, дождливый день красиво, с истинным вкусом выпить бокал хорошего коньяку и застрелиться.
Впрочем, эти мысли были праздными.
Дибич отпустил Викентия и снова лёг. Глаза смежились, в ушах поплыл отдалённый перестук колёс, сменившийся убаюкивающим шуршанием дождя. Вспомнилась цыганка. О какой это любви она болтала? Влюбился? Елена? Вздор. Просто приглянулась. Когда это он влюблялся-то? «Мнишь себя умным…» Эка дура…
Проснулся он через несколько часов, ближе к вечеру, освежённый и отдохнувший. Задумался. Странно.
Теперь он понял, что привлекло его в Нальянове. Окружение Дибича, словно проказой, было поражено неврастенией, вокруг не было здоровых людей, повсюду мелькали ядовитые, угрюмые, желчные лица, искажённые какой-то тайной неудовлетворённостью и внутренним беспокойством. Нальянов же был спокоен и силён. От него веяло странной мощью. Но его мнения, что и говорить, были слишком, слишком вызывающими.
Дибич откинулся на спинку дивана и задумался. Юноше в России общественное мнение ещё на пороге жизни указывало высокую и ясную цель, признанную всеми передовыми умами и освящённую бесчисленными жертвами: служение народу. Андрей же рано осознал себя если не свободомыслящим, то уж, во всяком случае, глубоко чуждым этой ясной цели. Сам он всегда хотел исполнения только своих прихотей. Почему он, которому было плевать на самодержавие, должен умирать на эшафоте за его свержение? Ему не нужны были эти святые цели, но мутный тяжёлый стыд мучил его иногда и поныне.
А вот Нальянов явно презирал святые цели. Дибич закусил губу. Его самого часто называли подлецом, но это было мнение тех, кто в глазах Дибича не имел цены. Он просто предпочитал реальные выгоды — абстрактным соображениям чести. Это — здравомыслие, господа. Но Нальянов сказал, что слышал по своему адресу то же самое. Почему? Более того, он согласился с этим определением. Эпатаж?
Дибич вошёл в спальню. В камине тлел можжевельник. Свет смягчался тяжёлыми портьерами с вышитыми на них листьями и цветами. Он нагнулся к камину, взял щипцы, поправил кучу пылающих дров. Поленья рассыпались, разбрасывая искры, пламя разбилось на множество синеватых язычков, головёшки дымились. Дибич огляделся.
Кровать под балдахином. Инкрустированные столики, дорогая мебель. Все эти предметы, среди которых он столько раз любил, были свидетелями и соучастниками его наслаждений. Каждая линия извивов тяжёлого полога, цвета простынь и милые безделушки на каминной доске — все они гармонировали с женскими образами в его памяти, были нотою в созвучии красоты, мазком на картине страсти. Как сосуд долгие годы сохраняет запах хранимой в нём эссенции, так и они сберегали воспоминания былых наслаждений, от них веяло возбуждением, точно от присутствия женщины.
Дибич сел в любимое кресло в стиле росписи дворца Фарнезе, обитое старинной кожей, напоминавшей бронзу с лёгким налётом позолоты, заглянул в зеркало, поправил волосы. Он, в принципе, нравился себе, суетность порочного и изнеженного человека не проступала в строгой мужественности его черт. Снова вспомнил Елену. Закусил губу и поморщился.
Тайна её красоты была неясна ему. Голова её — с низким лбом, прямым носом и впалыми щеками — отличалась таким классическим очерком, что, казалось, выступала из камеи, рот застыл в пароксизме той страсти, какую только самому больному и извращённому воображению удавалось влить в лик Лилит. Откуда это в ней?
Дибич задумался. В пошлости нашего больного века мало-помалу исчезают традиции изящества. Светскость, редкий эстетический вкус, утончённая вежливость — всё гибнет и опошляется. Из мира уходит красота и изысканность.
Он вздохнул. Весенняя истома наводила на него бесконечное уныние, порождала ощущение пустоты и тоски. Он подумал, что этот смутный недуг мог происходить и от перемены климата, ведь душа претворяет неясные ощущения в чувства, как переживания яви — в сновидения.
Без сомнения, он стоял на пороге чего-то нового. Найдёт ли он наконец дело, которое могло бы овладеть его сердцем? Беда его, как полагал он сам, была в том, что он, человек искусства, ещё не создал ничего мало-мальски прекрасного. Полный жажды наслаждений, он ещё ни разу не любил вполне и не наслаждался чистосердечно. Давно утратил волю и мораль — они были не нужны. Но люди, воспитанные в культе Красоты, полагал Дибич, даже при крайней извращённости сохраняют известную порядочность. Просто потому, что подлость некрасива.
И потому зовущие его подлецом — просто глупцы.
Мысли его снова вернулись к Елене. Зачем обманывать себя? Это была его женщина, он почувствовал это сразу, всеми фибрами души и тела потянувшись к ней, именно поэтому пренебрежение так задело. Но что он сделал не так, в чём ошибся? Выглядел безупречно, был утончённо вежлив, манеры его всегда отличались отточенностью и филигранностью. Рядом не было мужчины, равного ему. Да и она никого не выделила. В чём же дело?
Почувствовав смутную тоску, прошёл в кабинет. Открыл шкаф. Здесь таились редчайшие издания, предмет его тайных склонностей: книга «Gerwetii de concubitu libri tres» со сладострастными фигурами, вплетёнными в виньетки, издание Петрония, «Erotopaegnon», изданный в Париже в годы Директории, приапеи, катехизисы, идиллии, романы, поэмы от «Сломанной трубки» Вадэ до «Опасных связей», от «Аретина» Огюстена Карраша до «Горлиц» Зельма, от «Открытий бесстыдного стиля» до «Фобласа».
Руки Дибича гладили дорогие переплёты, словно ласкали. Вот его гордость — первое венецианское издание Винделино ди Спира, in folio, «Эпиграмм» Марциала, а вот книга пресловутых трёхсот восьмидесяти двух непристойностей… А вот книги де Сада, «Философский роман», «Философия в будуаре», «Преступления любви», «Злоключения добродетели». Напечатано Гериссеем всего в ста двадцати пяти экземплярах на японской бумаге.
Он рассматривал ряды похабных страниц, затейливые переплёты с фаллическими символами, чудовищные рисунки одного английского безумца — видение терзаемого эротоманией могильщика, пляску смерти и Приапа. Комическая вакханалия вывихнутых скелетов в распущенных юбках, обнаруживала ужасающую лихорадочную дрожь руки рисовальщика и овладевшее его мозгом безумие. Грубый порыв чувственности встревожил Дибича, в душе мелькнул туманный образ ложбинки между лопаток, взволновала какая-то кровожадная похоть.
Дибич ненавидел такие вечера. Ему казалось, что время почти зримо протекает меж пальцев. Простаивала спальня, напряжение плоти причиняло лишь неудобство и боль. Он откинулся на диване и нервно вспоминал своих женщин. Худенькую француженку Катрин с гордой золотистою и сияющей, как некоторые еврейские головы Рембрандта, головою мальчика, похожую на Цирцею кисти Досси, итальянку Рочетту с вероломными и изменчивыми, как осеннее море, глазами, англичанку Джоан, леди из роз и молока, какие встречаются на полотнах Рейнолдса и Гейнсборо, снова француженку — Жюли — копию Рекамье, с чистым овалом лица, лебединой шеей, высокой грудью и руками вакханки, итальянку Лучию Чилези с медленной величавостью королевы, вспомнилась и пылкая испаночка Кончита, над нежностью очертаний лица которой открывались хищные глаза пантеры.
В его душе проносился смутный вихрь эротических образов: нагота вплеталась в группы распутных виньеток, принимала сладострастные позы, выгибалась, отдавалась животному разврату, но он не узнавал эту воображаемую наготу, поняв, что раздевает ту, которую не знал. Элен…
Тут, однако, ему помешали. Раздались тихие шаги Викентия, он постучал в дверь кабинета.
— Простите, барин, совсем запамятовал. Даниил Павлович очень просили вас, как вернётесь, завезти его карточку и поздравление с юбилеем Георгию Феоктистовичу Ростоцкому, на Фонтанку-с.
Дибич вздохнул и, проклиная про себя всех юбиляров, обречённо кивнул.
Глава 3. «Девице лучше в чёрта влюбиться…»
Грош может заслонить самую яркую звезду, если вы будете держать его перед глазом.
С. ГрэфтонМозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный.
Мишель де МонтеньОсоргин, проводив Дибича на вокзале долгим нечитаемым взглядом, услышал, что его зовут, и обернулся. Его невеста Елизавета Шевандина и её сестры Анастасия и Анна, спешили к нему, на ходу крича, что вышли не на ту платформу. Лизанька, некрасивая, унылая, с застывшими на бледном лице бесцветными глазами, бросилась в его объятья. Анастасия, довольно милая девица, взгляду которой самые строгие критики пожелали бы большей глубины, а мягким, словно размытым губам большей отчётливости, улыбнулась ему. Что до младшей Анны, многим казавшейся чахоточной из-за туманной бледности личика, обрамлённого пепельными волосами, то она горячо обняла Осоргина и поцеловала. Чуть прихрамывая, подошёл и Василий Шевандин, его будущий тесть, коллежский советник.
Но заговорили не о поездке — о покушении на императора: тема была у всех на слуху. «Говорят, одиночка, стрелял несколько раз, но всё мимо… Вроде бы учитель уездного училища». В тоне Шевандина слышалось неодобрение, но чего — попытки убийства государя или неумения убийцы стрелять, — понять было сложно.
Шевандин велел кучеру отвезти Осоргина на его квартиру, пригласив вечером на ужин, сам сошёл по пути на службу. Сестры, проехавшие с ними до Голландской церкви у Полицейского моста, тоже пошли прогуляться.
— Мы, представляешь, Нальяновых сейчас встретили, в открытом экипаже мимо проехали, — усмехнулась Лиза, когда они свернули на Мойку. — Анна говорит, что старший — красавец писаный, да и младший — тоже хорош собой.
Осоргин почувствовал, как желчью по душе разливается досада. Поведение Нальянова в поезде унизило Осоргина, и ему было неприятно слышать от Лизы имя этого набриолиненного негодяя. «Красавец писаный…» Что за мир, в котором франтоватые щёголи превознесены, словно герои?
— Нальяновых? — отрывисто бросил он, с трудом скрывая раздражение. — А ты с ними разве знакома? — Леонид Михайлович посмотрел на невесту. Шевандин обещал за ней дом за Михайловским садом и десять тысяч. Знакомы они были полгода, и Осоргин находил свой будущий брак разумным.
Лиза молча покачала головой.
Расставшись с невестой, он приехал на квартиру, и обычные житейские дела, коих столько накапливается по приезде, отняли полдня. Он разобрал вещи, написал отчёт в канцелярию, временами отвлекаясь на письма, пришедшие в его отсутствие, но неожиданно прервался, поняв, что фраза Елизаветы о Нальянове всё ещё острой занозой сидит в сердце. Осоргин прикрыл глаза, и в памяти вновь всплыло тонкое лицо, надменный греко-римский профиль, тёмные волосы вокруг высокого лба, горделивые глаза колдуна, похожие на гнилую трясину. Что за дело ему до этого господина?
* * *
Вечером Осоргин направился к Шевандиным. Он не был в восторге ни от будущей родни, ни от друзей семьи, примитивных обывателей, и всё же рассчитывал, что ужин у Шевандиных рассеет неприятные утренние впечатления. Однако первое, что он услышал на пороге гостиной, были слова Шевандина о Нальяновых. Старика окружали дочери, Илларион Харитонов, дальний родственник жены Шевандина, и генерал Георгий Феоктистович Ростоцкий, отставной полицейский, старый друг хозяина дома, крестный его дочерей. Он сидел в углу, кутаясь в клетчатый плед.
— Братья — богачи, — задумчиво проронил Шевандин. — Нальяновы оба чалокаевские миллионы поделят: тётка-то бездетна. Кроме них — ни одного наследника.
— В золоте купаться будут, — поддержал его из угла гостиной высокий тенор Харитонова, полноватого увальня с прозрачными голубыми глазами, кои он прятал за толстыми стёклами круглых очков в золотой оправе. В свои тридцать лет уже заметно лысеющий, Харитонов разделял царящие в обществе принципы бремени вины интеллигенции перед народом, но сам едва ли был в состоянии носить какие-то бремена. Его, личной безобидностью сравнимого с божьей коровкой, неоднократно встречали даже в кругах бомбистов, однако всерьёз нигде не принимали. Его бесхребетность обычно сходила за утончённую интеллигентность истинного петербуржанина.
— Вам тоже кажется, что эти Нальяновы такие уж красавцы? — спросила Лизавета, как обычно, ни к кому конкретно не обращаясь. — А то сестрица Анюта на премьере «Пиковой дамы» в Мариинке на Рождество, по-моему, ни Лавровской, ни Никольского не заметила: рядом в соседней ложе господин Юлиан Нальянов сидеть изволили, так она весь спектакль глаз с него не сводила, — подпустила Лиза шпильку сестрице.
— Перестань, Лиза, что ты говоришь-то? — Анна поморщилась: ей были неприятны слова Лизаветы. — Нальянов хорош собой, это все признают, но мне-то что на него пялиться?
Лиза бросила быстрый взгляд на Анну, но ничего не сказала. Анастасия Шевандина, не принимавшая участия в разговоре, села к роялю и заиграла. Осоргин отдал замешкавшемуся лакею шляпу и вошёл в гостиную. Елизавета с улыбкой поднялась навстречу, Леонид небрежно обнял её и поинтересовался у Харитонова.
— А Юлиан этот, Нальянов — что собой представляет? А то я с ним из Варшавы ехал, но понял только, что франт.
Илларион замялся.
— Юлиан?… Юлиан не франт.
— А что он такое?
Харитонов пожал плечами и снова замялся, сам того не замечая начав грызть ногти… «Он странный…», пробормотал он и умолк. Впрочем, Осоргин не удивился. Харитонов, по его мнению, никогда не мог толком ничего объяснить.
В эту минуту в зал вошли Аристарх Деветилевич и Павел Левашов, считавшиеся в семье «светскими львами», но бывшие, на взгляд Осоргина «мартовскими котами», мотами и картёжниками. Черты смуглого лица Аристарха несли в себе что-то воровато-цыганское, но не отталкивали, и только малый рост мешал ему нравиться женщинам. Павел же Левашов, высокий чернявый молодой человек с козлиным профилем, усугублённым козлиной бородкой, с неприятными, словно накрашенными, томно-распутными глазами, считал себя неотразимым. Он любил сплетни и не только мастерски вынюхивал их, но и довольно талантливо распространял. Осоргин, впрочем, замечал, что иногда Левашов был не прочь и просто сочинить их.
К вошедшему Деветилевичу, прерывая шум приветствий и музыкальный пассаж Насти, обратился Харитонов.
— Аристарх, вы же Нальяновых знаете? Тут до вас им косточки перемывали.
Улыбка сползла с губ Деветилевича. Он прежде, чем ответить, несколько мгновений задумчиво смотрел в пол.
— С Юлианом Нальяновым? Знаком-с, конечно.
— Кто же Юлиана свет-Витольдовича-то не знает, — тихо, но колко подхватил Левашов, — и скелеты-с в его шкафах тоже всем известны-с. Да и братец его — тот ещё фрукт, уверяю вас.
— Полно вам вздор молоть-то, — Харитонов поморщился и замахал руками. — Вечно наговариваете на них невесть что. Юлиан мне слово чести дал, что в той истории… не замешан вовсе.
Глумливая улыбка Левашова не оставляла сомнений, что Павлуша не очень-то верит в честь Нальянова, однако вслух он ничего не сказал.
В эту минуту на пороге появился высокий, хорошо одетый человек, но отлучившийся лакей не представил его, а из угла донеслось насмешливое кряхтение. Заговорил молчавший до того старик Ростоцкий.
— Что господин Юлиан Нальянов собой представляет, на этот счёт я вас, Леонид Михалыч, просветить могу, ибо непосредственным свидетелем чуда сего был, а было это без малого пятнадцать лет назад. — Заметив, что все обернулись к нему, он, поплотнее укутавшись пледом, с усмешкой продолжил. — Мать Юлиана и Валериана, она из Дармиловых была, тогда уже умерла, и Витольд Витольдович оставлял детей с гувернёром. Сам он тогда уже Вторую экспедицию, сиречь, уголовное ведомство в Третьем отделении возглавлял. Да только детишки были, видать, шустрыми, и когда за месяц третий гувернёр расчёт потребовал, Нальянов взбеленился. Схватил он сыновей за шиворот, швырнул в ландо, и велел ехать к Цепному мосту. Сам говорил, хотел своих хулиганов на пару часов в кутузку бросить — чтоб поумнели. Да не успел. Остановил его в коридоре Менчинский, да и докладывает, что на Невском, в доме за Исидоровским епархиальным училищем, новое убийство. Нальянов, само собой, велел подробности выложить, а про сынков-то и забыл. Малявки же первыми в кабинет отцовский просочились, у окна поместились на стульях — и тише мышей сидели. Сыскарь же, Иван Андреевич Менчинский с присными, тоже в кабинете расселись и обсуждали происшествие. А дело, что и говорить, случилось страшное. Отравлен был старый управляющий Елисеевского магазина Пётр Аверьянович Акимов, человек богатейший. Старик жил одиноко, всех наследников — только сын, увы, забулдыга, да дочь, что жила на Выборге. Ну, обсуждаем, с чего начать — по свидетельству ухаживающей за Акимовым сиделки Марии Абрамцевой, старик её отослал накануне вечером — он ждал кого-то. Не сына ли? И вдруг из угла от портьеры голос раздаётся — Юлиашка-малой в разговор встревает. «Папа, а ведь то же самое было на Малой Садовой в прошлом году, в январе, — дело о смерти старухи Аглаи Могилевской. Ты его домой приносил, я полистал. Тогда тоже сына заподозрили, да улик не было…» Витольд Витольдович сынишку только ироничным взглядом смерили-с. «И что с того?», спрашивает. «А то, что там свидетелем по делу тоже проходила сестра милосердия из исидоровской богадельни. И тоже Мария Абрамцева. Не она ли и подсыпала чего? Не странно ли: где сиделка мелькает — там и покойник?» Нальянов онемел, а Менчинский серьёзно так у мальчонки — тому едва шестнадцать, почитай, только стукнуло, спрашивает: «Так ведь она не наследовала ничего, зачем же ей? Логика-то где-с?» Мальчишка же, не поверите, этак свысока поглядел на него глазёнками-то своими малахитовыми, да и говорит с непонятным для отрока житейским цинизмом: «Плевать на логику. Для нищей бабёнки и гривенник деньги, а кроме того, поди, узнай, что из квартиры-то пропало. Люди убиты небедные, мало ли тайников могли иметь. Да и показания её в деле-то прошлом — подозрительны. Говорила, что сразу после причастия на утрени в храме Боголюбской иконы Божьей матери к Могилевской в девять сорок утра пришла и покойную обнаружила. А только утреня-то воскресная раньше десяти не кончается. В девять сорок ей туда никак не поспеть было. Зачем же лгать про службу-то было, а? Святошу из себя корчить?» Тут меньшой, Валериан, птенец тринадцатилетний, тоже голос подаёт. «Даже если предположить, что она тогда целования креста не дождалась, а на рысаке до Могилевской за десяток минут доехала, придётся заключить, что скорость лошади была свыше ста двадцати вёрст в час».
И что вы думаете? Правы детишки-то оказались! Причём — во всем. Мерзавка втиралась в доверие к состоятельным клиентам, божьего человека из себя строила, травила их и обчищала, а подозрение, конечно, падало на родню да наследников. Вот с тех пор-то слава об уме и талантах братцев Нальяновых и пошла гулять по Отделению.
Рассказ старика все выслушали молча. Первым откликнулся Харитонов. Теперь он разрумянился и похорошел.
— Да, братья умны, как черти, — оживлённо кивнул он. — . Оба николаевское «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» сорок пятого года в две тысячи с лишком статей наизусть знают. А когда вдвоём соберутся — любят преступления вековой давности обсуждать. Как-то сошлись у Фабера — час кряду препирались. О чём бы вы думали? О какой-то кровавой графине Эржбет из Эчеда! Я поинтересовался — не всё же дураком-то сидеть было — и что оказалось? Жила эта графиня в шестнадцатом веке, сестрой была короля Польши Стефана Батория, и знаменита убийствами девиц. Что братцам до какой-то графини? Так нет же. После — убийство какого-то Эрколе Строцци в Ферраре обсуждали — тоже триста лет назад дело было, а они час копья ломали. Валериан уголовный аспект просчитывает безошибочно, а братец Юлиан иногда нечто такое подметит, что и Валериановы выкладки по швам трещат.
— Братья, выходит, враждуют? — Осоргин бросил быстрый взгляд на Харитонова.
Тот удивился.
— Ничуть не бывало. Странности у обоих, чего скрывать-то, есть, но любят друг друга несомненно.
— Витольд Витольдович — человек суровый, — дополнил Ростоцкий. — Братьев учил манерам бронзовых монументов: «никто не должен знать, что ты думаешь, никто не должен понять, что ты чувствуешь…» Братцы — сфинксы, но старший, говорят, посентиментальней будет.
Осоргин презрительно хмыкнул. Если старший «сентиментален», что же являет собой младший? При этом Осоргин заметил, что раздражение его нисколько не уменьшилось, напротив, рассказ Ростоцкого о Нальяновых и слова Харитонова о любви братьев друг к другу, столь контрастировавшие с его личными впечатлениями, только усугубили в его душе мрачное чувство чего-то неизбежного и тягостного.
Ростоцкий же тем временем продолжал.
— Нальянов хотел из сыновей следователей сделать, да со старшим не вышло что-то. Юлиан, в России полгода проучившись, университет питерский на Европу сменили-с, да и Валериан тоже сказали-с, что хотят учиться там, где профессора учат студентов, а не наоборот, и тоже в Европу укатили. Младший по окончании Сорбонны, али чего там, уж не знаю, назад вернулся и с отцом работает, уж, почитай, дюжина громких дел им раскрыта, а старший в Париже, всё никак не определится. Но оба весьма способные люди, умнейшие и порядочнейшие, Дмитрий Васильевич Нирод, он с Юлианом Витольдовичем в Париже встречался, вообще назвал его «холодным идолом морали». Уж не знаю, что сие означает.
Левашов казался озадаченным и почти потрясённым.
— Холодный идол морали? — склонив голову набок и словно вслушиваясь в это странное определение, повторил он, ничего, правда, к нему не добавив.
Тут на пороге возник лакей, запоздало представив давно стоящего за портьерой гостя.
— Андрей Данилович Дибич.
Осоргин с удивлением встал, совершенно не ожидая увидеть здесь Дибича. Деветилевич и Левашов, знакомые с ним ещё по гимназии и университету, с удивлением кивнули, не понимая, что привело дипломата к Шевандиным.
Сам же Дибич, который всё это время внимательно слушал Ростоцкого, подлинно обратившись в слух, теперь торопливо, но весьма вежливо рассыпался в извинениях за неожиданное вторжение и объяснил хозяину дома, с которым был едва знаком, что заехал по поручению отца в дом Георгия Феоктистовича, да не застал, однако слуга его сообщил, что он у Шевандиных, и дал адрес. Дипломат передал Ростоцкому поздравления от отца с юбилеем и сожаления последнего, что из-за дел в Варшаве он не сможет лично засвидетельствовать своё почтение его превосходительству.
Старик рассыпался в благодарностях, после чего Дибич, кивнув Осоргину с Деветилевичем и Левашовым, откланялся. Его короткий визит в шуме гостиной прошёл почти незамеченным.
После ужина Осоргин подошёл к Харитонову, протиравшему у окна стекла своих очков. Он не хотел, чтобы их услышали.
— А что вы сказали, Илларион, за странности-то у братцев?
— Что? — Харитонов явно забыл, о чём говорил час назад. — Какие странности?
— Вы сказали, что у обоих Нальяновых странности. Какие?
— А… — Харитонов надел очки и заморгал, — Нальяновы. Ну, не знаю. Братцы не от мира сего. Старший, правда, в нескольких великосветских интригах упоминался, да, может, слухи. Но они странные оба. Я как-то с ними о женщинах заговорил — перевели разговор на женщин-убийц и час, говорю же, о графине этой жуткой толковали. Я тему сменил, про труды Герцена, Бюхнера и Маркса их расспрашиваю — так Юлиан сказал, что от Герцена у него голова разболелась, едва приобщиться к его «Былому и думам» попытался, а про других поинтересоваться изволили, кто это такие-с? Я им о страданиях народа, обо всём, что всех передовых людей волнует, — так они тут и вовсе попросили меня поискать для таких разговоров кого-нибудь поглупее-с.
У Осоргина снова потемнело в глазах. «Подлецы…» Тут из-за спины Харитонова вынырнул Левашов, явно слышавший разговор. Осоргин неоднократно замечал за Левашовым это дурное умение появляться ниоткуда, выпрыгивая, словно чёртик из табакерки.
— Насчёт великосветских интриг, так это вовсе не слухи-с. Все говорят, девице лучше в чёрта влюбиться, чем Юлиана Витольдовича.
— Это ещё почему? — с невольным интересом проронил Осоргин.
— Ну, это уж сами догадайтесь, я до сплетен не охотник.
Осоргин смерил Левашова долгим взглядом, вздохнул, но ничего не сказал. «Не охотник, как же…»
Глава 4. Беседа на постели
Это не та книга, которую можно просто отложить в сторону.
Её следует зашвырнуть подальше со всей силой.
Дороти ПаркерКлиника Вениамина Левицкого располагалась на первых двух нижних этажах построенного тридцать лет назад неподалёку от брандтовского дома в Митавском переулке крепенького трёхэтажного особнячка, на верхнем этаже которого проживал сам Вениамин Мартынович с семьёй. Доктор считался специалистом по кожным болезням, и клиника редко пустовала. Левицкий никогда не принимал бесплатно, но за конфиденциальность можно было ручаться, и потому клиентами доктора чаще всего становились люди уважаемые, никоим образом огласки не желающие, чаще всего, что скрывать, сифилитики.
Впрочем, не только. Врачевали тут и красную волчанку, и малярию, и грибки, залечивали псориаз и лишай, избавляли больных от чесотки, экзем и угревой сыпи. Жителей окрестных домов никогда особенно не волновало, что пациенты клиники чаще всего заходили туда с лицами, скрытыми шарфами или полями немодных широкополых шляп. И мало кто склонен был удивляться, что прогуливались пациенты Левицкого только в сумерках, днём предпочитая отсиживаться в уютном дворике клиники, с трёх сторон закрытом стенами соседних домов, а с четвёртой — ограждённом кованой оградой, плотно увитой густолистым хмелем и разлапистым плющом.
Никого не удивило и появление здесь рослого господина, глаза которого тонули в серой тени от козырька чёрного немецкого картуза, а нижняя часть лица была закрыта клетчатым шарфом. Мужчина появился, едва свечерело, и растаял у парадного входа клиники.
Ещё через час доктор Левицкий, тридцатипятилетний дородный мужчина с коротко остриженными рыжевато-каштановыми волосами, тонкими усиками с эспаньолкой и зоркими глазами под круглыми стёклами пенсне, уже начал привычный вечерний обход. Правда, сопровождала его не медсестра, а молодой коллега-медик в белоснежном халате, удивительно оттенявшем его блестящие, чёрные, как смоль, волосы и бледное лицо с большими зелёными глазами. Всех пациентов беспокоить не стали — медики навестили только женское отделение, где вниманию молодого специалиста был представлен довольно сложный случай патологического повреждения склеры глаз и дыхательных путей. Пострадавшей, Варваре Акимовой, были прописаны растворы гидрокарбоната и хлорида натрия. Внутрь давали жаропонижающее и обезболивающее.
Девушка, когда пришли врачи, не спала, но напряжённо смотрела в окно, хоть там, в тумане весенних сумерек, едва ли можно было что-то разглядеть. Мысли Варвары были печальны. Вспомнилось что-то давнее, полузабытое, в памяти то и дело всплывали события далёкого прошлого. С чего всё началось?
О, она хорошо помнила это. Ей было всего пятнадцать…
Той осенью из деревень и дач все снова съехались в свои насиженные петербургские гнезда, и необыкновенное оживление воцарилось в интеллигентских кружках, всюду шли толки о романе Чернышевского «Что делать?». Все просто не могли наговориться о нём. Иные указывали на недостатки: герои — люди без заблуждений и увлечений, без ошибок и страстей, без потрясений и драм, одномерные и плоские, с их уст никогда не срываются проклятия судьбе, их сердца не разрываются от боли и муки, их души не омрачаются ненавистью, завистью и отчаянием. Таких не бывает. Другие уверенно заявляли, что написан роман бездарно, но то была эпоха отмирания эстетики: художественные красоты никого не интересовали, все жаждали указаний, как должен жить «новый человек».
Варвара читала роман с замиранием сердца, запоем. Какую веру в знания и науки пробуждал роман, как настойчиво звал он к общественной борьбе, какую блестящую победу сулил каждому, кто отдавался ей! Автор укреплял в юном сердце Вареньки пламенную надежду на счастье: каждая строка красноречиво говорила, что оно достижимо даже для обыкновенных смертных, если только они всеми силами будут работать для его завоевания. В семейной жизни автор стоял за свободу любви, за идеально откровенные, деликатно-чистые отношения между супругами. Вот эти-то идеи, подтверждаемые примерами героев, покорили её.
Вывод из сказанного был просто: женщина должна разорвать все путы, тормозящие её жизнь, сделаться вполне самостоятельной в делах сердца и, не ограничиваясь этим, сбросив моральный гнёт предрассудков, зажить общественной жизнью. Она должна трудиться так же, как и мужчина, иметь собственный заработок и быть полезной обществу.
Варенька видела, как среди знакомых ей женщин началась погоня за заработком: искали уроков, поступали на телеграф, в переплётные мастерские, продавщицами в книжные магазины, устраивались переводчицами, чтицами, акушерками, переписчицами, стенографистками. На тех, кто продолжал вести пустую светскую жизнь, смотрели с презрением. Её сестра Нина, жена служащего в банке, тоже стала давать уроки, и Варя страшно гордилась сестрой.
Однако муж Нины до пяти был на службе, она — на уроке, бросить детей на руки кухарки, едва справлявшейся на кухне, было немыслимо. Чтобы заменить себя, Нина на время своего отсутствия наняла приходящую девушку, вознаграждение которой оказалось больше того, что получала она сама. Муж возмущался: заработок матери семейства ничего не вносил в семью, но боязнь, что кто-нибудь назовёт её «законной содержанкой» и «наседкой», — эпитеты, которые были в большом ходу, — мешали сестре оставить работу. В итоге случилось что-то совсем ужасное, никаким романом не описанное.
Василий Андреевич, муж сестры, влюбился в няню своих детей и оставил Нину.
Сама Варя, повзрослев, стала мечтать о швейной мастерской на новых началах. Она собрала подруг. Усевшись за стол, они раскрыли роман с описанием мастерской, и начали подробно обсуждать, как её устроить. Решено было нанять отдельную квартиру, но где найти необходимую сумму? Тогда условились снять меблированную комнату в двадцать пять рублей, стали собирать деньги на новое предприятие и, в конце концов, собрали. Девицы наняли четырёх портних и получили несколько заказов от своих знакомых. Распорядительницею мастерской пришлось назначить Машуню Воронину, обучавшуюся кройке в продолжение нескольких недель. Все благоразумно рассудили, что ей ещё опасно выступать в качестве закройщицы, и наняли специалистку. Машуня же должна была присматривать за порядком, а когда присмотрится — кроить простые платья.
Хозяйка-распорядительница не умела обращаться со своими служащими с бесцеремонной грубостью заправских хозяек, и портнихи начали обращаться с ней чересчур фамильярно и недоверчиво, то и дело спрашивали её, получат ли они своё жалованье вовремя? Бедная Машуня созвала экстренное собрание всех устроительниц и просила совета, как держаться с портнихами, чтобы возбудить к себе доверие? Те посоветовали объяснить швеям, какая выгода для них получится впоследствии, а также указать на то, что в конце месяца кроме жалованья между ними будет поделена и вся прибыль. Увы, это окончательно подорвало авторитет хозяйки-распорядительницы, портнихи в ответ со смехом закричали: «Отдайте нам только жалованье, а прибыль оставьте себе!..»
За несколько дней до конца первого месяца оказалось, что, за вычетом суммы на покупку приклада, а также материи на платья, валовой доход новой мастерской за первый месяц составил сумму, необходимую на уплату месячного жалованья одной закройщице, а чтобы рассчитаться с остальными швеями, пришлось снова прибегать к сбору денег. Мастерская лопнула.
Но все эти неудачи ничуть не обескуражили Варю: она понимала, что просто ещё не встретила «новых людей», тех — без заблуждений и ошибок, без грязных страстей и себялюбия, чистых и светлых. И они появились в её жизни: Нина, после развода с мужем ушедшая в революционную работу «рахметовых», познакомила её с ними.
Наконец-то Варя окунулась в романтику революционной борьбы. Конспиративная квартира находилась на Гороховой улице между Садовой и Екатерининским каналом, она помещалась во дворе, в третьем этаже, и состояла из трёх небольших, скромно, но прилично обставленных комнат. Они жили — кто по бумагам отставного чиновника, а кто — по паспорту мещанина. Один из них — бледный и русоволосый Константин Трубников — часто приходил с портфелем под мышкой, где были двадцать-тридцать фунтов бумаги для типографии, типографские краски, бутыли азотной или серной кислоты. За кислотами заходил обыкновенно некий Дмитрий Вергольд, за бумагой для типографии — Авдотья Иванова, скромно одетая чахоточная девушка, и приносила прокламации, завёрнутые в чёрный коленкор, как портнихи носят куски материи или исполненный заказ. Вечера Варенька с сестрой проводили дома, брошюровали прокламации, попадавшие к ним на квартиру из типографии, и складывали их для передачи представителям кружков в письмах и посылках. Для рассылки в конвертах имелись экземпляры, напечатанные на тонкой папиросной бумаге. Квартира служила также для хранения взрывчатых веществ и местом, где временно могли укрыться разыскиваемые лица.
Константин Трубников быстро стал засматриваться на неё, и Варенька поняла, что пришла любовь. Правда Константин прямо сказал, что не может связывать себя семейными узами — для революционера они не существуют, однако это не испугало Варю, ведь и Кирсанов, и Лопухов тоже были за свободную любовь, за идеально откровенные, деликатно-чистые отношения!
Правда, тут тоже не все заладилось. Вера Павловна у Чернышевского была свободна в любви, свободна она была от последствий любви, а вот Варенька почему-то забеременела. Трубников отвёл её к знакомому доктору, объяснив, что революционная борьба и пелёнки — вещи несовместные, а вскоре пояснил, что лучше им выбрать новую любовь, после чего стал любить её через задний проход, а после — просто исчез и на конспиративной квартире больше не появлялся.
Его вскоре сменил брат Авдотьи Ивановой, Михаил, и история повторилась, потом течение революционной работы унесло Михаила Иванова в неизвестном направлении. Михаила Иванова сменил Андрей Любатович, последнему наследовал Дмитрий Вергольд. Все они, укладывая её в постель, говорили высокие слова о чистых отношениях, но почти все практиковали то же, что и Трубников.
Сестра Нина к тому времени стала апатичней и злей, говорила, что все мужчины — одинаковы. Вообще-то Варенька так не считала: Трубников, раздвигая ей ноги, сильно стонал, Иванов же хрипел, Любатович молчал, только тяжело дышал, всё время мял её груди и долго не слезал с неё, между тем, его ждали в типографии. От него она снова понесла, но аборт был неудачен, Варе сказали, что детей у неё больше не будет.
Порой у Вари мелькала мысль: те ли это идеально откровенные, деликатно-чистые отношения, описанные её кумиром? Но так как у неё было много забот с изготовлением взрывчатых веществ и типографией, то времени задумываться об этом особо не было.
Вергольд, в общем-то, был человеком серьёзным и знающим. Разве что выдержки ему не хватало. Вот и в последний раз, когда надо было добавить порцию нитроглицерина в сосуд, он задрал ей юбки и приказал держаться за край ванны. Опомнился он, только когда она упала в обморок от вонючего смрада, поднимавшегося от кислот. Он отвёл её в частную клинику, заплатил сам. Что случилось на квартире после — Варенька только гадать могла: видимо, снова Вергольд на что-то отвлёкся.
Глаза Вари мучительно болели, словно туда сыпанули песку, нос точно кто опалил изнутри, глотать тоже было больно. Но она выполнила свой долг: передала Осоргину, что с Вергольдом беда.
— Головные боли у вас прошли? — неожиданно услышала она совсем рядом и обернулась.
Перед ней стоял, чуть склоняясь, молодой человек с огромными глазами, похожий на кого-то, виденного так давно, что воспоминание терялось в глубинах памяти. Впрочем, нет, она вспомнила. Архангел Гавриил в белых ризах с иконостаса маленькой церквушки напротив ворот их старого дома. Няня говорила «благовестник», у него в руках была зелёная ветвь. Почему? В воспалённых глазах Вари это лицо двоилось и чуть расплывалось, но она, вцепившись в одеяло, упорно пыталась сфокусировать взгляд на стоящем перед ней. «Как красив», пронеслась в ней какая-то чужеродная, не революционная мысль, «как он красив…»
Неожиданно до неё дошло, что он спрашивает её о чем-то.
— Что? Вы что-то спросили? — Варя все ещё не могла отвести глаза от лица врача.
Юлиан Нальянов внимательно вгляделся в лицо и опухшие веки девицы, смерил взглядом губы и заглянул в покрасневшие глаза. Не сожгла ли дурочка роговицу? «Je prefere mourir dans tes bras que de vivre sans toi?»[7] Нет, мгновенно решил он, не пойдёт. Антон Серебряков? Не стоит затеваться. Он кивнул Левицкому на дверь, прося оставить их наедине. Тот исчез.
Нальянов сел на кровать к девице, опершись спиной о металлические прутья. Теперь его и Варвару Акимову разделяли всего пол сажени. От брата он услышал вполне достаточно, остальное — понял интуитивно.
— Вообще-то мне вас спрашивать не о чем. Но вот вам время спросить себя, — он не сводил глаз с девицы, поняв, что на время заворожил её. — Не пора ли начать думать своими мозгами, а не книжными схемами, Варвара?
Она растерялась. Кто это? Он же продолжал, не сводя с неё какого-то жуткого взгляда, пугающего и словно гипнотизирующего.
— Ты так и не заметила, что начав с книжной проповеди равенства, братства и чистой любви, превратилась в рабыню и подстилку похотливых мерзавцев, сливающих в тебя сперму, но убивающих твоих детей, а в итоге и вовсе превративших тебя в пособницу убийц?
Она замерла, оторопевшая и оскорблённая. Никто и никогда не говорил ей таких дерзких слов, никто так не оскорблял. Она выпрямилась.
— Они не убийцы! Мы социалисты. Цель наша — уничтожение неравенства, в чём корень всех страданий человечества, — она задохнулась, на миг замерев: больное горло перехватило болью. Но она яростно сглотнула и продолжила, — само правительство нас, посвятивших себя делу освобождения страждущих, довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств! Вот факт, известный всей России! Многострадальные долгушинцы: Папин, Плотников, Дмоховский! За распространение нескольких книжек по приказанию Третьего отделения, они приговорены к самым бесчеловечным наказаниям. А Чернышевский? Кто не знает, что уже много лет, как кончился срок его наказания, а его продолжают держать в той же тундре, окружённого жандармами!
Она остановилась — снова перехватило горло, но не только. Иконописный ангел смотрел на неё презрительно и иронично.
— У тебя хорошая память, Варенька, — насмешливо отозвался он, и её обдало жаром от этого сардоничного тона, — на конспиративной квартире ты набрала множество текстов прокламаций и мне отрадно видеть, что ты запомнила, что в них написано. Бесчеловечные наказания за распространение нескольких книжек, говоришь? — Он на миг опустил глаза, — думаешь, пустяк? Так ведь книжка — всё того же Чернышевского — сломала жизнь тебе, девочка. Не Третье отделение, а именно она. Она заразила твою, тогда ещё неокрепшую душу праздными мечтаниями и одурачила, потому что манила пустыми утопиями и неосуществимыми прожектами. Ты могла бы быть женой честного человека, рожать и воспитывать детей. Но она толкнула тебя в бездну. Каждый день ты ходишь по лезвию бритвы. У тебя уже не будет детей. Те, кто пользуются тобой, дали тебе унизительную кличку, как бордельной потаскухе. Чем всё кончится? Ты многие годы проведёшь в тюрьме. Не будет ни свободы, ни любви. И ведь не правительство виновато, Варюша, в том, что ты стала доступной, никем не ценимой женщиной, виноваты в том твои же дурные мечтания, порождённые лживой книжкой. Мёртвые и лживые книжки ломают живые жизни, Варенька, и за распространение иных из них — задушить мало.
Варя замерла. Мысль, откуда он всё это знает и кто он, как-то неприметно померкла в ней. Он говорил страшное. Нет, страшное не об ожидавшем её, ибо она полагала, что готова, подобно Рахметову, на пытки и казни, но страшное по сути. Он назвал понятные ей вещи какими-то другими, жуткими и оскорбительными именами, которые и повторить-то нельзя было, но что было возразить ему?
— Я не подстилка и не рабыня! — вскричала она.
— Вот как? — изуверски удивился он. — И можешь уйти оттуда? — он не дал ей ответить, и голос его стал голосом палача, — нет, малышка, ты слишком много знаешь. Тебя не отпустят. Оттуда не отпускают. Там все рабы. Правда, ты можешь отказаться от «чистых» революционных отношений, но сомневаюсь, что твою попку оставят в покое, ведь революционеры — бескорыстные аскеты только в прокламациях, а так, ты уж извини мне эту откровенность, Варюша, такие же похотливые козлы, как и всё остальные, если ещё и не похуже прочих. — Он усмехнулся. — И уверяю тебя, для очень многих в вашем движении наиболее привлекательна не романтика бомбизма, и даже не мечта застращать общество и диктовать ему собственную волю, хоть и это очень даже возбуждает. Но для весьма многих, — он гадко ухмыльнулся, — сугубо прельстительна возможность задарма полакомится доступными и бесплатными молодыми эмансипированными бабёнками — при декларированном отсутствии всяких обязательств. Ведь они подол-то тебе задирали, несмотря на «необходимость отдать все силы революционной борьбе…» На это сил хватало, да?
Он умолк, не спуская с неё взгляда, теперь — спокойного, даже немного унылого, почти дремотного. Варя тоже молчала. Навалились усталость и какое-то мрачное отупение. Она не хотела думать о сказанном им, но его голос, казалось, проник в голову и свистел там змеиным шёпотом: «Ты и не заметила, что начав с книжной проповеди равенства, братства и чистой любви, превратилась в рабыню и подстилку похотливых мерзавцев, сливающих в тебя сперму, но убивающих твоих детей, а в итоге и вовсе превративших тебя в пособницу убийц?…»
Его голос вдруг зазвучал снова — отчётливо и властно.
— Кто руководит всей этой мерзкой швалью?
Она растерялась.
— Я не знаю, никогда не видела его, — это вырвалось у неё помимо воли.
— Сколько лабораторий, подобной той, что в Басковом переулке?
— Я… я не знаю, — она опешила, — разве есть? Только там…
— Кто, кроме Вергольда, готовил динамит?
— Любатович… но он уехал.
— Кто такой Сергей Осоргин?
— Он… я не знаю, но велено, если что с квартирой случится — ему сообщить, адрес мне дали.
— По каким паспортам вы жили в городе? Где их доставали?
— Списывали копии с настоящих, — она тяжело сглотнула. — Вергольд занимал номер в гостинице, как приезжий, и помещал объявление в газете, что ищет служащих для своего дела. У приходивших, которым выдавали аванс, отбирали паспорта, снимали с них копии, подписи и печать и потом возвращали владельцам с выражением сожаления, что дело расстроилось.
— И у вас ни разу не было обыска?
— Нет, — покачала она головой, — каждую неделю приходила Ванда с написанным мелким почерком списком лиц, у которых должен быть в ближайшие дни обыск. Мы переписывали фамилии и адреса, чтобы предупредить их. Подлинный список тут же сжигался.
— Откуда приходил список? — голос его зазвенел, а глаза сверкнули.
— Я не знаю, но Вергольд как-то сказал, что непосредственно от служащего в Третьем отделении. Тот какому-то французу список передавал, а тот Ванде. Они его ангелом-охранителем называли.
— Что за француз?
— Не знаю, но Ванда его Французом называла.
Красивое лицо ангела исказилось в лик дьявольский, но тут же обрело прежние очертания.
— Кто такая Ванда?
— Полька, Галчинская, она с подругой в Дегтярном переулке живёт, стенографию учат, — по лицу Варвары прошла странная тень.
Нальянов заметил её, но ничего не сказал. Он ещё некоторое время расспрашивал её, потом поднялся с кровати, вынул откуда-то из-под халата бумажник и раскрыл его.
— Слушай меня внимательно, Варвара, и не говори, что не слышала. — Он протянул ей две ассигнации по двести рублей, — спрячь туда, где никакой товарищ по революционной работе не найдёт. Левицкий залечит тебе глаза и носоглотку и отправит к своему коллеге, тот даст медицинское заключение, что у тебя начинается чахотка. Сообщишь об этом товарищам и отправишься в Крым, и постарайся не глупить там. Найди нормальную работу. Правды не говори никому, даже сестре, если хочешь жить, конечно. Твои товарищи горазды на расправу. Затаись и, даст Бог, спасёшься. — Он повернулся и направился к двери, но уже почти от порога вернулся, — и на прощание, Варвара. Запомни, даже если не поймёшь. Любовь — это не мужик на тебе, любовь есть Бог, но Бог — это ещё и Путь, и Истина и Жизнь. Разрушающий чужие жизни динамитами никогда не обретёт любви. Он лишь утратит свой путь, перестанет различать истину и ложь, и рискует к тому же лишиться жизни. Помни это, Варюша.
Он растаял в сгустившихся сумерках палаты. Ей на миг показалось, что всё это было просто сном, пустым мороком, видением, ничего не было, но дверь распахнулась, появилась медсестра, внесла лампу, и Варвара в ужасе вскрикнула: в её судорожно сжатых руках захрустели две серые ассигнации.
Глава 5. Мазурочная болтовня и ресторанные трапезы
Женский ум может все — при условии, что ему не нужно подчиняться логике.
Мигель де СервантесПредают только свои.
Французская мудростьЛизавета Шевандина многого не сказала своему жениху. Имя Юлиана Нальянова среди девиц в свете последние месяцы произносилось с восторженным придыханием, о его победах над женскими сердцами ходили легенды. Правда, Аристарх Деветилевич утверждал, что половина слухов — вздорная ложь, между тем как Павлуша Левашов, многозначительно улыбаясь, шептал, что про нальяновские интрижки и половины правды не рассказывают — ведь сынок полицейского умеет прятать концы в воду. Однако Илларион Харитонов убеждал всех, что абсолютно все, связанное с Нальяновым, — просто «мазурочная болтовня» да девичьи мечты.
Но девичьи мечты — вещь удивительно устойчивая и даже настырная. Начало им положила подруга Анастасии Шевандиной Елена Климентьева, увидевшая молодого человека ещё на Рождественском костюмированном балу у графини Клейнмихель. Елена была там с дядей, а Юлиан Нальянов приехал с отцом, и, в отличие от многих разряженных гостей, отдал дань костюмированному балу только бархатной чёрной полумаской, которую, впрочем, вскоре снял, засунув во фрачный карман и больше о ней не вспоминал. Девицы не сводили глаз с молодого красавца, но он, уединившись в углу гостиной с членом Государственного совета генерал-адъютантом Логином Гейденом, о чем-то долго беседовал с ним, а после направился с отцом за стол английского военного атташе полковника Жерара и шведского посланника Рейтершельда.
Дочь обер-гофмейстера князя Волконского и княжна Барятинская несколько раз прошли мимо, но замечены не были. Наталия, дочь графини Сперанской, и сестра княгини Шаховской, Татьяна Мятлева, лорнировали красавца, Нина, дочь графини Шереметевой, и Анна, дочь графини Нирод, обмахиваясь веерами, осторожно осведомлялись о нём. Увы, время после ужина Юлиан Нальянов провёл за вистом с товарищем министра иностранных дел тайным советником Шишкиным, испанским посланником графом Виллагонзало и графом д'Аспремоном, а незадолго до конца бала исчез.
По временам молодого Нальянова видели в Мариинке, а после Сретения Елена Климентьева неожиданно встретила его в гостиной своей тётки, супруги князя Михаила Белецкого. Белецкий обсуждал с Витольдом Нальяновым вопросы безопасности на вокзалах, молодой же человек сидел рядом с отцом. Витольд Нальянов, как заметили хозяева, обращался к сыну всякий раз, когда ему нужна была справка, и Юлиан, ни минуты не размышляя, тут же начинал цитировать по памяти страницы уложений — параграф за параграфом.
Белецкий не обошёл молодого человека вниманием.
— Где же это учился сынок-то ваш, Витольд Витольдович?
Хоть сыновья были тайной гордостью тайного советника, по его лицу этого было не прочесть. Впрочем, по лицу Витольда Нальянова никто и никогда не мог ничего прочитать.
— Да где они только оба не учились, — проворчал он словно недовольно, — младший в Лондоне и Берлине. Ну, тот-то хоть по делу ездил, юриспруденцией интересовался и математикой, а этот так, извольте видеть, в Париже курс богословия у католиков слушал! Дожили-с. Чего смеёшься? — Этот вопрос относился к сыну, который, однако, вовсе не смеялся, но блеснул на слова отца белозубой улыбкой.
— Я окончил в Сорбонне курс по истории и праву, богословием же просто интересовался, — поправляя отца, уточнил он для Белецкого.
— Вот-вот, интересовался он, видите ли, бездельник, — Нальянов вздохнул, — зачем это тебе? Память исключительная и мозги недюжинные, и что? — вопрос был явно риторический, и Юлиан ничего не ответил, снова улыбнувшись.
Елена Климентьева, то и дело небрежно, как требовали приличия, поднимала глаза на Юлиана Нальянова и чувствовала полное душевное смятение. Чеканный профиль античных гемм, большие, неподвижные зелёные глаза, учтивая улыбка тонко обрисованных губ, сияющие чёрные волосы. Как бесподобно красив, как свободно, но с каким достоинством себя держит! Дядя тоже был явно в восторге от молодого гостя.
А вот тётка, Надежда Андреевна, смотрела на Юлиана Нальянова взглядом мрачным и тягостным и, хоть ничем не выказала неодобрение и старалась выглядеть радушной, Елена мельком заметила, как напряжённо та себя чувствует и как принуждённо играет роль гостеприимной хозяйки. Впрочем, она подумала, что ей это просто показалось.
После ухода гостей Елена поспешила поделиться с тётей впечатлением от визита.
— Как он хорош собой, не правда ли, тётушка?
Тут княгиня подлинно удивила Елену. Надежда Андреевна помрачнела и отчётливо, хоть и совсем негромко отрезала:
— И думать о нём не смей, слышишь? — последнее слово проступило каким-то змеиным шипением.
Елена испуганно вскинула глаза на Белецкую. Та, встретившись с ней взглядом, снова повторила, ещё настойчивей и отчётливей:
— Не смей даже думать о нём. Нежить это, а не человек, выродок, поняла?
Елена испуганно отшатнулась. С тётей её связывали отношения совсем близкие, сестра матери подлинно заменила ей мать. Сейчас, когда пришла пора выдавать Елену замуж, Надежда Андреевна опекала её не только с материнской нежностью, но и с твёрдостью цербера. Она строго следила за тем, чтобы в доме появлялись только «достойные» женихи: с хорошей родословной, не моты и не вертопрахи, не замешанные в дурных светских скандалах и, что называется, «люди денежные».
— Но… почему, тётя?
Елена знала принципы тётиного отбора, в принципе, не спорила с ними, но Нальяновы, по её мнению, семейством были наиприличнейшим, люди родовитые, успешные и с деньгами, а оба сына Нальянова были ещё и наследниками миллионных капиталов промышленника Фёдора Чалокаева, о чём с почтением говорили в свете.
— Не твоего ума то дело, но говорю тебе — думать не смей об этом Юлиане, — снова зло прошипела Белецкая. — Не человек это. Что с матерью сделал-то… Не подходи к нему. Запомни.
Елена сильно смутилась тёткиным словам. Она знала осведомлённость Надежды Андреевны в светских сплетнях и подумала, что княгиня, видимо, слышала от своих бесчисленных подруг нечто, не делающее чести молодому Нальянову. Слухов и вправду ходило множество. Но всему верить? Мать? Мать его, она слышала, давно умерла.
В итоге, несмотря на резкое предостережение тёти, Нальянов всю ночь не выходил из её головы.
Дальше — хуже. Следующим вечером в гостиной Шевандиных, куда Елена заехала навестить подругу Анастасию, разговор снова зашёл о Нальянове, и восхищённые придыхания, циркулирующие в свете, умноженные на восторженные описания Анны, видевшей его в театре, не дали беседе заглохнуть.
Елена снисходительно поддержала разговор.
— Мой дядя сказал, что редко видел столь одарённого молодого человека. Они с отцом у нас вчера обедали, — лениво пояснила она, с удовольствием заметив, какой завистью пылает взор Аннушки, — да, Юлиан красив бесподобно, это верно, и галантен весьма.
Последнее отнюдь не соответствовало действительности. Молодой Нальянов не проявил себя кавалером, впрочем, под взглядом отца сын и не дерзнул бы ухаживаниями-то заниматься. Эта мысль весьма утешала Елену, которая, сколько ни глядела в гостиной тёти на молодого гостя, не заметила в нём интереса к своей персоне. Но рассказывать подругам о сдержанности Нальянова не собиралась.
Анастасия слушала Елену всегда в безмолвии, Лиза фыркала, Аннушка ловила каждое слово Елены.
Надо сказать, что Анна Шевандина поначалу, когда слышала рассказы подруг о молодых красавцах, морщилась. Неужели действительно все дело женщины заключается в том, чтобы отыскать достойного её любви мужчину? А где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно несёт с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье, — что до того? Ведь этот тяжёлый труд облегчался бы пониманием, что живёшь не напрасно.
Об этом постоянно говорил Харитонов, который приходил к Шевандиным довольно часто и был, как все замечали, влюблён в Настю. Анна не спускала с него радостно-недоумевающего взгляда, его слова волновали и очаровывали её. Жить не напрасно — это самое главное в жизни. Но дальше? Харитонов посоветовал ей поступить в сельские учительницы, близко стоять к народу, сойтись с ним, влиять на него. Он говорил, как плохой актёр твердит заученный монолог, да и она никак не видела в этом «настоящего» дела.
— Голубушка, это дело мелко, что говорить, — сказал Харитонов, видя, что она недоумевает, — но где теперь блестящие, великие дела? Да и не по ним узнается человек. Это дело мелко, но оно даёт великие результаты.
Но Аннушка хмурилась. Это ли дело? Конечно, не такая пошлость и мещанство, как обсуждать каких-то светских хлыщей, но всё же… Однако с тех пор, как она увидела этого «хлыща» в театре, мнение её переменилось. Она сама не понимала, что произошло, но отныне Анна горячо защищала Юлиана Нальянова от любых обвинений, и считала, что у человека с таким лицом просто не может быть дурного нрава.
Общий разговор пыталась оборвать Елизавета.
— От такого, как Нальянов, надо держаться подальше, госпожа Андронова сказала, что один только скандал с Иваном Мятлевым говорит о том, что Нальянов — человек без чести. О Надежде Софроновой и говорить нечего. А уж история с дочерью госпожи Скарятиной и вовсе ужасна. Она же говорила, что и в семейке нальяновской не всё чисто.
Лиза не закрывала глаза на то, что сватовство Осоргина можно счесть удачным, только если считать удачей то, что ей вообще удалось найти жениха. Понимание, что красавицы-сестры составят более удачные партии, злило её, а уж разговоры о богаче-Нальянове просто выводили из себя.
— Ну, перестань, Лиза, сколько тебе говорить, что это всё вздор? — с унылой тоской проговорила Анна.
— Это ты так считаешь, — зло прошипела Лизавета.
— А что за истории-то, Анюта? — лениво спросила Елена, стараясь, чтобы в голосе не проступил интерес.
— Да глупости, сплетни все. Мятлев вызов Нальянову послал, тот якобы сестрицу его совратил, а выяснилось, что дурочка все выдумала, чтобы внимание к себе привлечь, вот Дашке Куракиной и сказала, что у неё свидание с Юлианом было. Братец же, как услышал, к Нальянову и кинулся. Тот изумился — он о Татьяне Мятлевой и слыхом не слыхивал, тогда только из Вены приехал, Мятлев же, как помешанный, настаивал на дуэли, но тут сестрица прибежала, покаялась, что всё вздор, мол…
— За любовника испугалась? — ядовито спросила Лиза.
— Как же! Нальянов в подброшенный двугривенный попадает, а Ванюша Мятлев, по слухам, револьвера в руках отродясь не держал, у него за стёклами очков и глаз-то не видно, — отбрила Анна, — кому бы бояться?
Елена внимательно слушала.
— А что Софронова?
— Та наглоталась какой-то дряни, написав записку, что Нальянов жесток. Потом выяснилось, что она отправила ему три дюжины писем, а он ни на одно не ответил.
— А Лидка Скарятина?
— А Скарятина замечена была выходящей из нальяновского парадного, сплетни пошли, но она утверждает, что к княжне Анне Долгушиной заходила, та тоже в дервизовском доме квартирует, но этажом ниже и в другом парадном. Сказала, дескать, перепутала. Странно только, что не со своим кучером приехала и без компаньонки.
— И вы в это верите? — презрительно бросила Лиза Шевандина. — Госпожа Андронова в людях не ошибается, — отчеканила она и вышла из комнаты.
Это суждение можно было счесть равно как истинным, так и ложным. Зинаида Яковлевна Андронова, крёстная Лизы, считала, что у всех молодых кобелей на уме одно, и была не так уж и неправа, но кобелями считала даже сорокалетних подагриков и пятидесятилетних астматиков.
Последующие месяцы упрочили странную репутацию Юлиана Нальянова: слухов вокруг него дымилось множество, но заметить пламя никому не удавалось. Реноме весьма многих девиц оказалось подмоченным, количество влюблённых в Нальянова постепенно стало равняться числу ненавидящих его, но это мало о чём говорило: женская ненависть, собственно, та же любовь, разве что вывернутая наизнанку. Вёл себя Нальянов как истый джентльмен: если его спрашивали, имела ли место интрига с той или иной светской красавицей, Юлиан Витольдович, слегка склоняя голову и опуская долу свои величавые глаза, задумчиво интересовался: «Кто это?»
Брат же Юлиана, Валериан, и вовсе нигде не показывался, кроме службы и мест преступлений. Татьяна Закревская как-то проронила, что он — откровенный хам. Правда, после уточнений выяснилось, что молодой человек, когда у матери Татьяны украли жемчуга, не пожелал быть ей представленным и даже не допрашивал её.
Но украшения нашёл к вечеру того же дня.
Елена ловила эти слухи ревниво и жадно, несмотря на слова Лизы и молчаливое отторжение Насти, и тут ей случилось снова встретиться с Юлианом Нальяновым на вечере у князя Заславского. Гостиная князя с её малахитовыми колоннами и обитыми зелёным бархатом диванами оказалась удивительным обрамлением для зелёных глаз Юлиана. Юлиан Витольдович задал в этот раз Елене несколько вежливых вопросов о князе Белецком, просил передать ему поклон и даже сказал, что она прелестно выглядит. Но на танец не пригласил и снова ушёл задолго до конца вечера. Елена сама не заметила, как стала ложиться и просыпаться с мыслью о Нальянове. В сравнении с ним все мужчины казались ничтожествами. В Варшаве тётка сделала ей выговор за пренебрежение к какому-то посольскому атташе, видимо, мнящему себя красавцем. Какой ещё атташе?
Она никого не замечала.
* * *
…Витольд Нальянов, седовласый шестидесятилетний мужчина с трехзвёздными галунными петлицами, возглавлявший Вторую экспедицию Третьего отделения, ведавшую особо опасными уголовными преступлениями, сектантами и фальшивомонетчиками, лениво набивая трубку поповским табаком по восьми рублей за фунт, мрачно заметил:
— Расползается крамола, как злокачественная опухоль. Но желание карать ниспровергателей и одновременно угодить «гуманностью» либеральной публике — не знаю, как это укладывается в голове у властей. — Он зажёг трубку, и его глаза с выпуклыми пергаментными веками заволокло ароматным дымом.
Единственным слушателем Нальянова был его сын Валериан, сидевший у окна и листавший какие-то бумаги. Время приближалось к семи. Днём Валериану удалось ещё пару часов поспать, и сейчас, хоть его по-прежнему клонило в сон, выглядел он лучше. Мысли его занимали дело Мейснер, попытка брата вызнать в клинике связи бомбистов и ужин.
На реплику отца он ничего не ответил, просто кивнул.
Тут в дверь просунулся посыльный с запиской, отец и сын поспешно поднялись. Валериан поблагодарил курьера, запер дверь и торопливо распечатал листок. Он ждал доклада по убийству Мейснер от одного из своих агентов.
— Это от Юлиана, — удивлённо проговорил он. — Пишет, что ждёт меня на набережной в «Контане».
— Но не мог же он… — старший Нальянов, бывший в курсе задания Юлиана, бросил взгляд на часы на стене. Со времени приезда Юлиана отец видел сына только у сестры во время обеда. — И часа не прошло. Значит, сорвалось.
— Наверное. — Валериан был расстроен: он возлагал на брата большие надежды.
В фешенебельном «Контане» тяжёлую дубовую дверь перед ним открыл с почтением раскланявшийся ливрейный швейцар с расчёсанными надвое бакенбардами, представительный как генерал от инфантерии. Валериана провели по мягкому ковру в гардероб, потом величественный метрдотель, узнав, что посетителя ожидают, кивнул и без слов проводил его в уединённое место в затемнённом углу, где сидел Юлиан. Тот, не дожидаясь брата, уже сделал заказ, и теперь с остервением кромсал ножом и серебряной вилкой кусок мяса, точно тот в чём-то провинился перед ним. Бледный официант нервно протирал неподалёку бокалы и тарелки, с испугом глядя на озлобленное выражение на красивом лице клиента. Неужто мясо пережарено? Ведь сам Мефодий готовил…
Валериан молча сел рядом. Подскочил ещё один официант в чёрном фраке с крахмальной манишкой и тут же поставил на стол дымящийся поднос. Пока он не отошёл, братья молчали.
— Не хочется мне огорчать вас, милейший Валериан Витольдович, — жуя, тихо проговорил наконец Юлиан, — но придётся.
— Что ж так? — закладывая салфетку за воротник и приступая к трапезе, спокойно поинтересовался Нальянов-младший. — Девица оказалась твердокаменной? Возможно ли-с?
Официанты быстро носились от столиков на кухню, искусно лавируя с тяжёлыми подносами, заставленными снедью, нося их над головами. Оркестр вдали играл гайдновские вариации, они сливались с тихими звоном вилок и бокалов, женским смехом и негромкими командами метрдотеля, посылавшего официантов то к одному, то к другому столику.
— Невозможно-с, — согласился Юлиан. Теперь в его голосе и манерах явно проступило старшинство, — девица мало что знает, да я и сам такой не доверил бы даже менять промокашки под пресс-папье, но кое-что она рассказала. Они весьма оригинально обзаводились документами, потом расскажу, это пока не к спеху, лаборатория, девица уверяет, только одна, или она просто не в курсе. А вот почему их до сих про не накрыли, так это потому, что из Третьего отделения им регулярно передавали список предполагаемых обысков. Приносила некая Ванда Галчинская. Получала его от Француза, а тот — непосредственно от сотрудника Третьего отделения. Именовали они этого иуду Ангелом-охранителем. Так-то, дорогой братец, Булавины не переводятся.
Валериан молчал, замерев с нанизанным на вилку грибком. Метрдотель в визитке с полосатыми брюками промелькнул в свете лампы, исходящем от соседнего столика. Оттуда послышался мужской голос, по-французски рассказывавший старый анекдот, и игривый, немного глупый женский смех. Оркестр играл сонно и медленно, ароматы мяса и тонких специй, витавшие в воздухе, одновременно возбуждали и усыпляли.
— Ты уверен, Жюль? — растерянно проронил Валериан, отправляя всё же грибок в рот, убеждённый, впрочем, что брат ошибиться не мог.
— Да. Сколько у вас человек?
Младший Нальянов вздохнул, плечи его понуро поникли.
— Вообще-то, считая тайных агентов, до чёрта, но на совещаниях по обыскам шесть человек. Но это едва ли кто из высших чинов, — скривил он губы, — я скорее отца заподозрю. Это, вероятнее всего, пользующийся доверием кого-то из них мелкий прихвостень, — убито предположил Валериан. — Из исполнителей — трое, Каримов, Зборовский и Чаянов. Это мои люди. — Его лицо зримо потемнело. Да, братец, что и говорить, огорчил его. Ох, огорчил.
Некоторое время оба молчали, прикончив первое блюдо.
— Если тебе нужен мой совет, Валье, — пригубив вина, продолжил Юлиан, — то начни с трупа Вергольда. Его пора обнаружить. — Валериан кивнул, соглашаясь. — Дальше — похороны, кто-то из этой шелухи неминуемо там мелькнёт, сердце чует. Одновременно проследи путь бумаг с датами обысков. Подсунь ложную бумагу с ложными датами, посмотри — где и через кого всплывёт? Тюфяк и Художник пусть настороже будут.
Валериан кивнул — эти мысли пришли уже и в его голову.
— А ты… ты не мог бы сам взяться за эту Ванду? Я-то официально в уголовном ведомстве, да и убийство Мейснер надо закончить — репортёришки каждый день досаждают.
— Не знаю, подумаю. Париж, в принципе, пока подождёт.
Валериан улыбнулся. То, что брат готов был помочь — снимало большое бремя с души. Ведь рассказанное Юлианом потому и отяготило, что совпало с его собственными подозрениями, и опереться в такую минуту на того, кому беззаветно веришь — было большим облегчением.
— А что девица? — поинтересовался он, — попка и в самом деле круглая?
— Обыкновенная мечтательная дурочка, — не отвечая на последнюю реплику брата, махнул рукой Юлиан, — я дал ей денег и посоветовал убраться из Питера. Сумеет — её счастье.
— А нет ли резона…
— Сделать из неё наблюдателя? — подхватил, усмехнувшись, Юлиан и покачал головой, — нет, девка недалёкая, несмотря на блудную жизнь, довольно чистенькая. Ни ума, ни воли, оттого и ищет идеалов. Впрочем, сила бабская, она, Валерочка, в дурости и свершается, так что ничего страшного. Но осведомитель дураком быть не должен. Я на неё и гривенника не поставлю.
Младший Нальянов усмехнулся и подозвал официанта, попросив подать счёт.
— Нам пора, отец ждёт. Он так верит в тебя, — Валериан кинул быстрый взгляд на брата, — когда ты прислал записку, он подумал, что ты не сумел выполнить поручение Дрентельна. Расстроился. Не будем держать его в этом нелестном для тебя заблуждении. Поехали.
— Он ещё на Фонтанке? — Юлиан открыл портмоне, оплатил счёт и добавил чаевые.
— Нет, ждёт дома. Надо все обсудить.
Глава 6. Дурные кладбищенские впечатления господина Дибича
Похороны — единственное светское мероприятие, на которое можно прийти без приглашения.
Эдмон РотшильдСлучайный визит Дибича к Шевандиным в поисках Ростоцкого оказался весьма полезен молодому дипломату. Свидетельство старика было, что и говорить, любопытным. То, что Нальянов умён, и умён бесовски — это Дибич понял и сам, едва увидел Юлиана, но то, что этот ум проступил столь рано — было новостью для него. Не менее интересными были и слова Нирода, переданные генералом. «Холодный идол морали»? И это о человеке, который называет себя подлецом? Всё это и занимало, и интриговало Андрея Даниловича.
Дни в Питере, на которые он рассчитывал как на дни беззаботного отдыха, текли вяло и по большей части бессмысленно. Он мечтал о великих стихах, точнее, совершенных и бессмертных, что замыкают мысль в строгий неразрывный круг, но после той встречи с Еленой в Варшаве он больше не чувствовал вдохновения.
Тут в зале особняка на Троицкой, где Дибич просматривал утренние газеты, раздался звонок. Андрей Данилович скривился. Кого это чёрт принёс? Оказалось — Павлушу Левашова, его бывшего сокурсника.
— О, Андрэ, — с порога пробасил Павлуша, — не появись ты у Шевандиных, я подумал бы, что ты ещё в Варшаве.
— Рад тебя видеть, Поль, — проинформировал Дибич Левашова и тут же, поняв по едва сдерживаемому Павлушей дыханию, что что-то случилось, спросил, — есть новости?
— Представь себе, — томно скосил вбок глаза Левашов, падая в кресло и кривя губы распутной улыбкой. — Помнишь Митеньку Вергольда? Химика?
— Помню, — разговаривая с Левашовым, Дибич старался не тратить лишних слов.
— Завтра похороны, — сообщил Павлуша и, судя по голосу, он отнюдь не был преисполнен скорби. — Представь, ставил какой-то дурацкий опыт — ну и взорвался. Причём, что взорвалось — непонятно! Ростоцкий, старая полицейская крыса, сказал, что-то там нечисто, а Элен Климентьева, племянница Белецкого, от сестры Митькиной узнала, что лицо покойничка опалено до черноты, пытались отмыть — какое там! Да и нашли его, почитай, на третий день. Вонь… Короче, отпевание в соборе на Преображенской завтра в одиннадцать. Похоронят на Волковом, за Лиговским. Придёшь?
— Не знаю, — Дибич достаточно убедительно изобразил скуку и равнодушие.
— Ну, смотри, дело, конечно, твоё. Я-то вынужден, в родстве мы с ним, — и Павлуша, торопясь обежать знакомых с интересной новостью, исчез.
Имя Елены, как с неудовольствием убедился Дибич, снова взволновало его. Он, подумав, решил пойти на отпевание, благо, делать всё равно было нечего, и тут же отдал распоряжение Викентию приготовить на завтра уместные для похорон тёмный сюртук и шляпу.
Самого Дмитрия Вергольда Дибич помнил: в студенческие времена тот часто горланил на сходках что-то революционное. Но Дибич не любил сходки стадной и нетерпимой студенческой толпы: студенты-радикалы полагали всех мыслящих иначе тупицами и подлецами, с ними было просто неинтересно..
Сам Дибич всегда без слов открывал портмоне, когда товарищи собирали деньги на какие-то «вспомоществования», но в остальном предпочитал держаться в стороне, тем более что о большинстве спорных предметов имел весьма смутное представление, ибо так и не смог прочитать переводных немцев с их «политэкономией», засыпая уже на второй странице. Окончив университет, он вздохнул с облегчением и быстро забыл студенческую пору.
Вергольд, однако, не забывал его, и временами Дибич, возвращаясь с отцом из Варшавы или Страсбурга, Парижа или Рима, находил в почте насколько писем — как всегда, с просьбой о пожертвованиях. Теперь Дибич с омерзением выбрасывал их, ничего не посылая. Принесённое Павлушей Левашовым известие о смерти их бывшего товарища нисколько не задело Андрея Даниловича. Сообщённые странные подробности тоже не показались интересными. Единственно, что взволновало его — будет ли на отпевании Елена?
И, надеясь на это, одевался на следующий день, что скрывать, с особой тщательностью.
Вышел загодя, ибо хотел прогуляться. Пытаясь унять волнение, немного прошёлся по набережной Фонтанки, свернул на Пантелеймоновскую и вскоре вышел к собору. Служба уже закончилась. Издали были видны у ограды храма несколько карет, катафалк и довольно значительная толпа.
Минуя цветочные прилавки маленького рынка близ собора, Дибич остановился, ощутив аромат роз. Ему понравились красные и белые, и он некоторое время колебался в выборе, рассматривая их. Алые были с густыми лепестками, заставляя вспомнить о прославленном великолепии тирского пурпура, а белые, чувственные, как формы женского тела, возбуждали странное желание приникнуть к ним губами. Их неуловимые оттенки, — от белизны девственного снега до цвета разбавленного молока, мякоти тростника, алебастра и опала, — чуть возбудили его. Сверху, с колокольни, раздался мерный звон. Дибич очнулся и взял несколько белых роз, вдохнув их пьянящий запах, аромат любви и неги, странно изумившись тому, что их придётся положить в гроб мертвеца.
Дибич не торопясь направился к храму и сразу увидел в центре толпы высокого лысеющего блондина лет пятидесяти в тёмном пальто с глазами, окружёнными бурой тенью. С двух сторон его поддерживали молодые белокурые женщины — бледные и заплаканные, с какими-то стёртыми, помутневшими лицами. Дибич предположил, что это отец и сестры Вергольда, и, как выяснилось, ничуть не ошибся.
Гроб напугал его — тёмного дерева, крупный, помпезный, он подавлял тяжестью и угнетал душу. Дибич, не любивший похоронные церемонии и боявшийся покойников, поспешно отошёл к пустому пока катафалку.
Рядом с катафалком стояли две странные, сразу бросившиеся ему в глаза женщины.
Одна, похожая на маленького порочного мальчика-гимназиста, бледная, с оживлёнными лихорадкой глазами, была миниатюрной и худой, но её лицо и руки были как-то по-детски пухловаты. Очень высокий лоб странно контрастировал с вялым, безжизненным подбородком. Она носила круглый монокль в левом глазу, высокий накрахмаленный воротничок, белый галстук, чёрную жакетку мужского покроя и гардению в петлице, обнаруживала манеры денди и говорила хриплым голосом.
Другая была полновата и сильно раскачивала бёдрами, её постоянно полуоткрытый рот обнаруживал в розовой тени расплывчатый перламутровый блеск, как внутренность раковины, а глаза, застывшие и влажные, казались сонными. Оттенок порока, проступавший в её движениях и манерах, сильно шокировал собравшуюся на отпевание публику. Девица притягивала мужские взоры, и понимала это. Сама она, как заметил Дибич, отметила взглядом дороговизну его пальто и долгое время не сводила глаз с трости с тяжёлым набалдашником в виде головы дракона, купленной в Лондоне.
Сновавший то там, то тут Павлуша Левашов с белым полотенцем на рукаве подскочил к нему и на тихий вопрос Дибича, кто эти особы, ответил, что девица в пенсне — Ванда Галчинская, эмансипе, а толстушка — Мари Тузикова, её подружка. Девицы были знакомыми Вергольда по курсам стенографии, где тот некоторое время преподавал начатки химии. Дибич спросил себя, зачем стенографисткам начатки химии, но тут же и забыл об этом, заметив возле храма, почти у стены своих родичей — братьев Осоргиных, Леонида и Сергея. Андрей Данилович, понимая, что здороваться всё равно придётся, поймав взгляд Леонида, вежливо кивнул, надеясь этим и ограничиться.
В толпе не смолкали тихие сожаления и вздохи, сетования на печальную и, увы, невосполнимую утрату. «Какой молодой, боже мой, какие надежды подавал…» Но тут Дибич перестал слушать и совсем смешался, различив в толпе князя Белецкого, его супругу и племянницу. Элен, в лёгком вишнёвом пальто с пелериной и серой шляпке с вишнёвым пёрышком, казалось, сошла с картинки модного журнала. В её движениях, плавных и неторопливых, ему снова померещился ровный прибой Адриатики и колеблющиеся в лазурных венецианских волнах вершины округлых куполов, а несравненные, нежные, белые руки, на розоватых ладонях которых хиромант открыл бы сплетения потаённых чувств и неведомых порывов, заворожили.
Дибич вздохнул. Очертания её лица напоминали женские профили на рисунках Моро и виньетках Гравело. Он видел стройную фигуру, крошечную ногу на ступенях храма. В глубине его души зашевелилось страдание: её голос и лицо дышали чрезмерным очарованием. Время от времени в ней проступало движение, которое возбудило бы в алькове любовника. Андрей Данилович оглянулся: ему казалось, что при взгляде на неё все мужчины должны были невольно окружить её нечистыми мечтами, фантомами возбуждённого желания. Но толпа сновала вокруг, казалось, ничего не замечая.
Дипломат поклонился, вежливо и сдержанно, Белецкому и его супруге, потом — Елене. На лбу девицы, чистом, как паросский мрамор, пролегла едва заметная складка. Елена явно вспоминала, кто он такой, но потом, склонив голову, всё же признала знакомство.
К Елене подошли ещё три девушки: бледная, со стеклянно-ртутными глазами, и две покрасивей, русоволосые, с одинаковыми серыми глазками и розовыми губками. Он вспомнил, что мельком уже видел их, когда приходил поздравить Ростоцкого. Его представили сёстрам Шевандиным: старшей Елизавете, и младшим — Анастасии и Анне. Все они посмотрели на него с небрежным любопытством.
На башне собора английские куранты отбили одиннадцать, и тут откуда-то с Моховой появилась карета, из которой вышли трое мужчин. К немалому удивлению Дибича, один из них оказался Юлианом Нальяновым, второй — его братом Валерианом, а старший из них — тоже с тяжёлыми веждами и осанкой камергера — явно был Витольдом Нальяновым: фамильное сходство всех троих проступало слишком отчётливо. Последний устремился к шатающемуся блондину со словами соболезнования, назвав его «дорогим Аркадием», за ним подошли и сыновья, тоже проговорившие короткие слова соболезнований.
Дибич отошёл в сторону и, прикрыв лицо букетом, внимательно разглядывал семейство. Деветилевич, приблизившись, раскланялся с Нальяновым вежливо и даже чопорно. Левашов, удивляя Дибича, тоже был учтив и скромен. Юлиан признал знакомство с ними: наклонил голову на треть дюйма.
Дибич осторожно миновал толпу и постарался оказаться ближе к храмовому входу. С дрог сняли гроб и понесли мимо центральных ионических колонн в глубину собора. Туда же устремилась и толпа со двора. Одна из девушек, окружавших Аркадия Вергольда, надрывно и горестно всхлипнула, обвиснув на руке отца, к ней кто-то бросился с платком и нашатырной солью.
— О, Андрей Данилович, приветствую, — услышал Дибич за спиной мягкий голос Нальянова и обернулся, сделав вид, что заметил его только сейчас. Ему было приятно, что Нальянов узнал его и поздоровался первым, и он в ответ с улыбкой протянул Юлиану руку. Тот пожал её, опустив глаза к плитам пола.
— Вы были знакомы с Дмитрием? — вежливо спросил Дибич.
Нальянов не ответил, но торопливо посторонился: сзади пронесли несколько букетов живых роз. Андрей Данилович заметил, что лицо Нальянова чуть исказилось: казалось, его гложет мигрень. Дибич подумал, что у него, видимо, розовая лихорадка, тем более что тот ещё в поезде говорил о своей ненависти к запаху роз, и, поспешно метнувшись к гробу, положил свой букет в ногах покойника, лицо которого было закрыто белым, почти непрозрачным отрезом органзы, потом вернулся к Нальянову и снова спросил о знакомстве с покойным.
— Нет, отец знаком с Аркадием Афиногеновичем многие годы и пришёл выразить ему соболезнование, — шёпотом пояснил Нальянов, когда Дибич наклонился к нему, — я помню, как он бывал у нас в доме, когда я был совсем мальчишкой, — скорбно дополнил он. — А с молодым Вергольдом я никогда не встречался. А вы его знали?
Дибич ответил, что вместе с ним учился, на разных факультетах, но на одном курсе.
— О, там, я вижу, господин Осоргин? — проронил Нальянов. — А кто с ним рядом, лысеющий блондин?
— Сергей Осоргин, младший брат Леонида.
— Он кажется старше.
Это невинно замечание не удивило Дибича, все, кто видели братьев вместе, отмечали то же самое. Лысеющий, невысокий, с жидкой бородёнкой и отрешённым близоруким взглядом, Сергей казался сорокалетним.
Началась служба. Высокий бородатый священник нараспев читал «Живый в помощи Вышнего», потом — «Святых лик обрете источник жизни».
Дибич редко бывал в храме и сейчас странно томился, точно в преддверии простуды. Он механически крестился, когда замечал, что Нальянов поднимал троеперстие ко лбу, и тут вдруг увидел, что в правом притворе, там, где громоздилось множество знамён, бунчуков и крепостных ключей Преображенского полка, в желтоватом свечном пламени двух лампад стоит Елена. Её овальное лицо, отличающееся той аристократической удлинённостью, которою злоупотребляли живописцы Квинченто в поисках идеала изящества, было бледно. В нежных чертах проступало то выражение страдания и усталости, которое придаёт неземное очарование флорентийским картинам медичейского века. Дибич заметил, что она, не отрываясь, смотрит туда, где стояли они с Нальяновым. Точнее, тут же понял Дибич, смотрит она на Юлиана Нальянова, смотрит взором воспалённым и больным, рабски-покорным и страстным.
Дибич почувствовал, как в душе зашевелилась гадюка, при этом неожиданно поймал себя на смутном пока ощущении чего-то неотвратимого, а так как чувствителен никогда не был, изумился. Он мог прочувствовать смысл, но осмыслять чувство ему приходилось впервые.
Андрей Данилович скосил глаза на Юлиана, но Нальянов молча крестился и повторял за хором псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей милости своей», клал поклоны и ничего не замечал, глядя на гроб и окутанное непрозрачной тканью лицо умершего. Правда, после возгласа иерея «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида…» — Дибич мог бы поклясться, что по лицу Юлиана промелькнула судорожная нервная усмешка, тут же и пропавшая.
Он явно не видел Климентьевой.
Когда отпевание закончилось, и гроб заколачивали, Дибич тихо обратился к Нальянову с вопросом, поедет ли тот на кладбище? Юлиан покачал головой и неожиданно проронил с какой-то ласковой задушевностью:
— Вы хотели поговорить со мной, не так ли, Андрей Данилович? — Дибич бросил на Нальянова быстрый взгляд, решив выразить удивление, но тяжесть, всё ещё ощущаемая в душе от замеченного им взгляда Елены, помешала привычному лицемерию. Он растерялся и почти кивнул, и Юлиан продолжил, — сейчас это затруднительно, у меня ещё пара дел, но после семи заходите. Я квартирую не с отцом, а в доме тёти, вечером буду свободен, — он, сердечно улыбнувшись, протянул Дибичу визитку, в двух словах пояснив, как найти чалокаевский особняк на Шпалерной.
Потом все трое Нальяновых прошли к своему экипажу и, едва гроб вывезли за ворота, быстро уехали. Дибич, оставшись на улице с Левашовым и Деветилевичем, непринуждённым тоном, лишённым и тени интереса, спросил у Павлуши, давно ли тот знает Нальянова.
Тот ответил, что последние пару лет тот то и дело мелькает в свете.
— Представь, где ни появляется — там паскудит, как кот. Только вчера из Парижа вернулся Маковский, такого наговорил о похождениях подлеца — уши вянут, — Павлуша, как всегда, лгал: уши его отнюдь не казались увядшими, — представь, закрутил голову Лизке Елецкой, у жениха отбил, а после, когда стала без надобности, кинул. Та — репутацию загубила, за Нальяновым бегая, ей теперь — хоть в омут. — Павлуша трунил напропалую, — а в феврале он тут, в Питере, такое отмочил! Девица, ну, сам понимаешь, имени не назову, влюбилась в него на вечере у графини Долгушиной да и заехала к нему, от чувств обезумев. Так он, представь, вывел её из дому за полночь чёрным ходом, да ещё и мораль ей на прощание прочитал, дескать, непристойно сие. Вся история всплыла благодаря Савелию, денщику Андрея Липранди, что у чёрного хода тогда господина ожидал — на Стрельню ехать.
Из-за спины Левашова высунулся Деветилевич и с лёгким недоумением проронил:
— Помнишь Аронова-Донченко, красавца-содомита из «Квисисаны»? — Дибич кивнул, — этот такой же. На женщин — ноль внимания.
— Так может, сходство сие все и объясняет? — вкрадчиво поинтересовался Дибич, хоть сам ни на минуту не допустил подобного: в Нальянове проступали почти осязаемая воля и сила духа, а ни в одном из педерастов он её никогда не видел.
Всё это не очень-то заинтересовало его: сплетни Левашова и злословие Деветилевича были привычны.
— Как бы не так, — Аристарх склонил голову набок и поджал губы, — не содомит он, уже бы просочилось откуда-нибудь. Такое шило в мешке не утаишь. А дуэли? Подставляет голову под пули, знаешь, в духе гвардии двадцатых годов. За косо брошенный взгляд. И стреляет, как дьявол, тут ничего не скажешь. Девицы же просто с ума сходят. Но чем он берёт — понять не могу. — На лице его проступило выражение скрытой досады, если не злобы. Деветилевич подлинно заметил: чем больше Нальянов отталкивал женщин, чем высокомернее держался, тем одержимее те влюблялись в него. Дурное колдовство, ей-богу…
Тем временем Белецкий с женой и племянницей уже вышли из храма и подходили к ним. Деветилевич и Левашов бросились к Елене, предлагая проводить её к карете, но она лишь покачала головой и прошла к экипажу с дядей. На душу Дибича снова навалилась какая-то странная тяжесть, он бездумно смотрел на следы ног Елены на посыпанной песком аллее, на её замшевую перчатку, нервно зажатую в руке, вспоминал остановившийся, рабский и тоскливый взгляд на Нальянова в церковном притворе. Может, ему померещилось?
Неожиданно Левашов высунулся из соседней кареты и спросил его, едет ли он на кладбище? Дибич, успев заметить, что экипаж Белецких следует за катафалком, торопливо кивнул и протиснулся в полуоткрытую Павлушей дверь. Минуту спустя он пожалел о своём необдуманном порыве, но потом подумал, что погост в этот погожий апрельский день успокоит его взбудораженные нервы.
Однако погребальный обряд, свершённый тихо и при весьма небольшом уже скоплении народа, ничуть не успокоил. К нему, стоящему особняком у отдалённой могилы, незаметно отдаляясь от родни, подошла Елена Климентьева, и некоторое время молча стояла рядом. Губы её были полуоткрыты и словно задыхались, глаза же казались сонными. Дибич подумал, что есть женские губы, точно зажигающие страстью раскрывающее их дыхание. Наслаждение ли озаряет их или искривляет страдание, — они всегда смущают рассудочных мужчин, влекут их в бездну. Постоянный разлад формы губ и выражения глаз таинственен, двойственная душа проступает двоящейся красотой, аморфной и страстной, изуверски-жестокой и сострадающей, и двойственность эта возбуждает душу, любящую изгибы альковных пологов. Леонардо, беспрерывно погруженный в изучение сокровенных тайн, он единственный воспроизвёл неуловимое очарование подобных уст, уст Джоконды.
— Андрей Данилович, — услышал Дибич и слегка повернул голову к девице, несколько удивившись, что она запомнила его имя, — а господин Нальянов ваш друг? — голос Елены звучал равнодушно, но Дибича не обмануло это деланое безразличие: он видел стиснутые перчатки и дрожь сжимавших их пальцев. Сердце его заныло. Если уж девица решилась спросить такое у него…
Мужчина в нём был оскорблён, но дипломат ответил любезно и искренне, что, впрочем, совершенно не исключало абсолютной лживости сказанного.
— Да, мы знакомы с Юлианом Витольдовичем ещё по Парижу.
Девица больше ничего не спросила, потому что в эту минуту гроб опустили в землю, и её подозвал к себе дядя, князь Белецкий. Дибич тоже подошёл к могиле, бросил на крышку гроба горсть земли и отошёл в сторону, пропуская к гробовой яме Деветилевича и Левашова. Вскоре могильщики стали зарывать гроб, Аркадий Вергольд утробно завыл, сестры покойника зарыдали в голос. Дибич нервно поморщился: плач родных новопреставленного царапал душу, хоть сам Андрей Данилович поймал себя на том, что за всю церемонию отпевания и похорон Вергольда ни разу не подумал о нём самом.
— У вас есть сигареты?
Дибич вздрогнул. Пред ним теперь стояла та самая девица-гимназист, что обратила на себя его внимание ещё у собора — похожая не то на гермафродита, не то на гавроша. Голос её был странно низок, с хрипотцой. Инстинкт дипломата, никогда не подводивший Дибича, помог ему и тут. Он склонил голову в галантном поклоне и ответил, что, к сожалению, не взял с собой ни табака, ни сигарет.
— Здесь немного не место для этого, — пояснил он.
— Мне на это плевать. Женщина фатально осуждена делать то, что ей не хочется: молчать, когда хочет говорить, и говорить, когда она не имеет к тому ни малейшего желания. Она осуждена соблюдать приличия, то есть кривляться. Я не из таких, — ответила она и пошла к толпе.
Дибич оглядел её сзади и поморщился. Он хорошо знал таких поклонниц Жорж Санд, пару раз в Париже опрокидывал их на постель и всегда вставал разочарованным: мужеподобие маскировало бесчувственность, но это полбеды, оно прятало ещё и отсутствие груди и выпуклой попки, а порой — скрывало и откровенное уродство, вроде кривых ног. Дибич не понимал эмансипе: свобода выбора избранников превращалась у них в свободу иметь любовников, но зачем таким амёбам любовники?
Он вздохнул, пошёл к экипажу, стоящему поодаль, и тут услышал негромкий оклик княгини Белецкой. Дибич остановился и с удивлением услышал, что Надежда Андреевна приглашает его в среду к ним на чай. Он выдержал лёгкую паузу, пытаясь смирить волнение, и обещал быть непременно.
Это нежданное приглашение внезапно изменило его планы: он уже не хотел возвращаться с Левашовым и Деветилевичем, захотелось прогуляться и поразмыслить. Андрей Данилович распрощался с дружками, сказав, что заболела голова, и он хочет пройтись, — и пошёл по одной из кладбищенский аллей, то пропадая в тенях едва распустившихся кустов, то выходя в лужицы солнечного света. Он размышлял о приглашении Белецкой. Она сделала это по просьбе Елены, или тому была другая причина? Если он прав в своих наблюдениях, то Елена видит Нальянова далеко не первый раз и явно влюблена в него. Уж не хочет ли она, улучив минуту, поговорить с ним на чаепитии о Юлиане?
Дибич прикрыл глаза и перед ним промелькнули одна за другой чёткие, точно фотографические картинки: Нальянов в купе варшавского поезда, его насмешливые слова за завтраком о женщинах, удивительно легкомысленное признание в нелюбви к ним, его же лицо в церкви, отстранённое и спокойное, язвительные сплетни Павлуши Левашова — «где ни появляется — там паскудит, как кот…», и наконец странные слова Нирода, переданные Ростоцким, — «холодный идол морали».
…В трёх десятках шагов от ворот кладбища Дибич вдруг замедлил шаг. Случилось что-то, чего он не понял, но инстинкт дипломата, не любящего резких движений, заставил его остановиться и сделать несколько шагов назад. Нет, не померещилось. Он брёл мимо мраморных надгробий и гранитных монументов, не читая, а скорее, разглядывая надписи, и заметил это имя, точнее, споткнулся об него, точно о камень. Это был чёрный невысокий квадрат мрамора, окружённый закреплёнными на четырёх столбах чёрными цепями, через которые легко было переступить. Не было ни калитки, ни скамьи, ни венка, ни портрета, ни надгробной статуи с рыдающими ангелами, как на соседних могилах, ни эпитафии, — только имя и дата смерти под ним. И именно это имя подсознательно отметила его душа, замерев на миг и тут же оттаяв. На чёрном мраморе когда-то белыми, а ныне потемневшими от времени буквами значилось: «Лилия Нальянова 1832 — 1864».
Мысли Дибича теперь потекли по совсем иному руслу. Это мать Юлиана и Валериана? Женщина умерла пятнадцать лет назад в тридцать два года. Что с ней случилось? Роковая болезнь? Чахотка? Или несчастный случай? Тут он снова отметил странность захоронения: в мрамор было заковано не только надгробие, но и, чем-то напоминая причал набережной, пространство до цепей. Здесь не росла трава, и негде было посадить цветка, и сама могила, хоть и не казалась заброшенной, ибо её не заглушили сорные травы, несла на себе какую-то страшную печать забвения. Забвения не вынужденного, а продуманного и взвешенного, точно нарочито запланированного, и потому — сугубо леденящего душу.
«Миг застыл — и тянется, не плачем, не молитвою, не раскаяньем, не отчаяньем. Плитою могильною.
Ни лжи, ни истины. Бессонница не церемонится.
Сомкни пустые очи, истлей, покойница…»
Почему-то строки проступили точно под стук вагонных колёс. Потом Дибич подумал, что ему всё это просто показалось. Нервы расшатались, вот и всё. От ворот погоста он снова обернулся на памятник Нальяновой, надеясь, что теперь он сольётся с рядом других, и все эти дурные впечатления рассеются.
Но нет. Своей лаконичной строгостью и каким-то изуверским аскетизмом надгробие всё равно выделялось. Мистика, покачал головой Дибич. Он нащупал в кармане визитную карточку Нальянова. Юлиану сейчас около тридцати. Мать его, если это именно она, умерла, когда он был ещё отроком. Однако Дибич, несмотря на то, что был весьма заинтересован, и мысли не допускал о том, чтобы спросить Юлиана о матери.
Поинтересоваться этим придётся в других местах, подумал он и, выйдя за кладбищенские ворота, крикнул извозчика.
Глава 7. «Холодный идол морали»
Жестокость в сочетании с чистой совестью — источник наслаждения для моралистов.
Вот почему они придумали ад.
Бертран РасселДом Лидии Чалокаевой, вдовы богатейшего питерского фабриканта, был отстроен в классическом стиле. Архитектор не был профаном: сдержанность и гармоничная простота, дерево ценных пород, мрамор и лепнина делали чалокаевский дом на двадцать комнат шедевром архитектуры, хотя сама хозяйка предпочла бы что-нибудь менее величественное, но более уютное.
Чалокаева, женщина большого ума и ещё не совсем увядшей красоты, имела только один смысл в жизни — любимых племянников. Она обожала Юлиана и Валериана как собственных детей, которых, увы, не дал Бог, и ни для кого не было секретом, что именно они унаследуют колоссальное состояние Фёдора Чалокаева.
Надо сказать, что после двух смертей — её мужа и жены брата Витольда, случившихся с разницей в три года, покоя в нальяновском семействе не было. Фёдор Чалокаев умер от мучительного и долгого недуга, Лилия же Нальянова скончалась совсем молодой, как говорили в семье соседям, от трагической случайности. В итоге Лидия Чалокаева, вынужденная управлять огромным состоянием мужа, приобрела, по мнению брата, «замашки настоящей самодурки». Проявлялось это в том, что сестрица, всегда недолюбливавшая жену брата, после её смерти взяла себе привычку хозяйничать в доме Витольда, как в своём собственном, претендовала на племянников, словно это были её родные дети, нагло вмешивалась в их воспитание, особенно портя старшего — Юлиана, бывшего её любимцем. Витольд Нальянов, когда видел это, редко удерживался от ехидного замечания: «Кого она желает воспитать дурными потачками сарданапаловой роскоши? Пустого сибарита? Праздного бонвивана? Прожигателя жизни?»
Сам Витольд Нальянов воспитывал детей в такой спартанской строгости, что удивлял и слуг: мальчики спали на соломенных тюфячках, зимой и летом обливались ледяной водой, по три часа в день проводили в седле и уже в отрочестве прекрасно разбирались в оружии. Нальянов и это счёл бы недостаточным, если бы не замечал в сыновьях того, чего и сам не понимал: оба они были самостоятельны и умны, порой казались стариками. Оба не любили надзор гувернёров и делали всё, чтобы избавиться от него, при этом не любили и шалости, предпочитая свободное время проводить с книгами.
Гостей в доме после смерти матери не бывало, только друг отца — священник отец Амвросий из Знаменской церкви, что у Екатерининского дворца, — навещал порой Нальяновых-младших, угощал пастилой, рассказывал о скорбях Спасителя и приводил в алтарь своего храма во время прогулок.
Однако к тёткиным «замашкам» племянники относились без всякого раздражения и не разделяли мнения отца о сестрице. Опыт и здравомыслие Лидии Витольдовны ценились ими, в семейных спорах она неизменно принимала сторону Юлиана и Валериана, и именно она уговорила брата отпустить их учиться в Европу, при этом — тётка продолжала баловать «любимых малюток» в своё полное удовольствие.
Валериан, впрочем, получал подарки от Лидии Витольдовны нечасто: презентовав ему однажды орловского рысака да на совершеннолетие — двухэтажный особняк на Лиговском, тётка вспоминала о нём только в день именин да на Рождество и Пасху. Что до «душеньки-Юленьки», Лидия Витольдовна подарила ему роскошный дом на Невском, открытое ландо и двух английских лошадей, баловала деликатесами и шёлковым бельём, роскошными халатами и маленькими безделушками баснословной цены: запонками и булавками с драгоценными камнями для галстуков, золотыми часами с бриллиантовыми инкрустациями, кои он мог бы уже коллекционировать. Она дарила ему так много дорогих костюмов и роскошных пальто от Чарльза Редферна, что племянник иногда недоумевал, не видит ли тётушка в нём портновский манекен? Он неизменно получал от неё презенты на все церковные и государственные праздники, на тезоименитство государя-императора и всего царского дома, не говоря уже о собственном дне ангела. Но чаще всего подарки вручались ему и вовсе без всякого повода.
То, что Юлиан поселился в этот приезд с ней, а не с отцом и братом, было тётке особенно приятно. Юлиан успокаивал её одним своим присутствием, компенсировал ущербность бездетности и создавал ощущение полноты семьи и жизни. Он часами импровизировал для неё на рояле, ибо и сам весьма любил музыку, вечерами читал ей — благо, вкусы у них не сильно разнились: дамских романов Лидия Витольдовна терпеть не могла, новомодную поэзию презирала, предпочитала английскую классику.
В этот вечер, однако, он уговорил тётю лечь пораньше, пояснив, что ждёт в гости знакомого.
* * *
Нальянов был уверен, что Дибич постарается встретиться с ним, ибо заметил его интерес к себе ещё в поезде, и сразу после похорон Вергольда навёл справки.
Дибич слыл светским львом, волокитой и законодателем мод, излюбленными местами которого были дорогие рестораны, игорные дома и кафешантаны. В кругах парижской богемы считался поэтом. В Париже служил при посольстве, в Варшаве просто имел родню. Если Дибич был под влиянием отца, одного из старейших дипломатов, то, несомненно, занимался шпионажем, ибо посольских атташе всегда числили едва ли не официальными шпионами. А чем ещё может заниматься человек на таком посту, если не сбором сведений? Впрочем, чаще всего дипломаты шифром передавали домой то, что вычитывали в позавчерашних газетах.
При этом очень много рассказывали о его любовных интригах. Но когда военным атташе при Наполеоне был граф Чернышев, приставленные к нему агенты тоже с удручающим однообразием докладывали императору лишь о бесконечных альковных похождениях красавца-московита. Бонапарту осточертели амурные проказы Чернышева, и он распорядился снять наблюдение, логично предположив, что подобный распутник ни на что другое не годен. Однако, покинув Париж, Чернышев привёз на родину чрезвычайно ценные сведения о французской армии. Не подражает ли Дибич Чернышеву?
Сам Юлиан последние годы курировал заграничную агентуру секретного делопроизводства Третьего отделения, но деятельность его с делами дипломатическими никак не пересекалась. Воспитанный умнейшим человеком, Нальянов умел мыслить, терпеливо и последовательно вырабатывая из десятков пустых суждений достоверность, и в итоге он сделал вывод, что интерес к нему сына дипломата — сугубо академический.
Но интерес самого Юлиана к Дибичу был вовсе не академическим. Атташе назвал Леонида Осоргина своим родственником. Значит, он родня и Сергею Осоргину. Юлиану нужно было так повернуть разговор, — о чём бы Дибич ни собирался говорить, чтобы вызнать об этом родстве как можно больше.
Неожиданное обстоятельство едва не нарушило его планы. Когда он торопливо заканчивал письмо агенту, его камердинер доложил о приходе «молодой особы, не пожелавшей назваться». Юлиан торопливо обернулся, быстро спрятал письмо в бюро и запер его, опустил ключ в карман халата и только потом соизволил поинтересоваться: «Кто ещё там?»
Серафим Платонович не мог ответить господину на риторический вопрос и лишь развёл руками, потом, спустя минуту, вышел и пропустил в кабинет невысокую женщину, прикрывавшую лицо тёмной шалью. Одного взгляда Нальянову хватило, чтобы узнать незнакомку, и на лице его проступило тоскливое выражение, впрочем, проступило только на мгновение, тут же сменившись вежливым вниманием.
— Вы непостоянны и не держите слова, сударыня, — высокомерно бросил он. — Насколько мне не изменяет память, вы обещали в прошлый раз, что нога ваша никогда больше не переступит моего порога. Впрочем, полагаться на женские обещания было бы глупостью. И чему я обязан счастьем нашей новой встречи? — в его голосе проступила ирония.
Вошедшая, заметив, что камердинер исчез, перестала закрывать лицо. Глаза её сверкали, на щеках пламенел болезненный румянец, девица, казалось, была в чахотке.
— Я видела вас в Преображенском, — резко бросила она. — Вы пришли туда ради неё?
Брови Нальянова взлетели вверх, губы на миг раскрылись, он казался ошарашенным. Впрочем, быстро пришёл в себя, потёр рукой лоб и переспросил:
— Ради кого?
— Я видела, как она на вас смотрела! Вы решили свести с ума и её? И не смейте это отрицать!
Юлиан Витольдович тяжело вздохнул.
— Если мне запрещено отрицать то, с чем я не согласен, беседа наша, и без того-то лишённая смысла, становится просто абсурдной, сударыня. Никого я с ума не сводил, включая, кстати, и вас. Ваше нынешнее помешательство — следствие вашей собственной глупости, поверьте.
Девица, казалось, не расслышала его последних слов.
— Вы любите её?
— Кого, господи Иисусе? — в голосе Нальянова проступила тоска. Он сел и откинулся в кресле.
— Климентьеву!
Юлиан Витольдович вздохнул снова — ещё тяжелее, чем прежде. Потом поднял глаза на девицу, неожиданно усмехнулся, лицо его обрело особую красоту, глаза заискрились. Он изуверски спросил:
— А что, если да? — в голосе его снова проступило что-то от палача.
— Вы подлец! — девица стремительно побледнела и схватилась за край стола.
— Я и сам часто даю себе такое определение, — согласился он. — Но какое это имеет отношение к госпоже Климетьевой, если предположить, что я действительно влюбился в неё? Вы, кстати, если считаете, что для неё опасно «сойти с ума», могли бы предостеречь её от увлечения таким подлецом, как я. Расскажите ей обо мне правду. Что вам мешает?
Настроение девицы переменилось. Она, совсем обессиленная, опустилась на край дивана.
— Юлиан…Ты не можешь быть так жесток…
* * *
…Дибич направился к чалокаевскому дому вечером, когда не было и шести: просто хотелось пройтись. Всё время с похорон он просидел у себя в кабинете, пытаясь как-то сродниться с той безнадёжностью, что породил в нём взгляд Елены на Нальянова в церкви и её вопрос о нём на кладбище. Она без ума от Нальянова, влюблена до беспамятства. А влюблённая девица не увлекаема: можно обольстить любую женщину, кроме влюблённой в другого. Но сам Нальянов… «холодный идол морали»… Что это может значить?
Дибич остановился. Не доходя десятка шагов до парадных ворот чалокаевского дома, в свете фонаря он неожиданно заметил тень женщины на ступенях. Дибич подумал было, что это хозяйка, Лидия Витольдовна, но тут же отверг эту мысль: Чалокаеву, высокую и дородную, он видел в обществе, тень же была девичьей, хрупкой и тонкой, двигалась девица с оглядкой, прижимаясь к стене. Дибич подумал, не Елена ли это, силуэт впотьмах показался схожим, и он осторожно приблизился, но тут же заметил на пороге за колонной Юлиана Нальянова. Лица его не было видно, свет падал сзади.
— Юлиан… — шёпот девицы казался голосом умирающей, — ты не передумал?
— Вы ожидали чуда? — в голосе Нальянова сквозили насмешка и усталость.
Дибич понял, что это не Климентьева: с головы девицы сползла шаль, обнажив не красновато-рыжие, а светлые волосы. Рассмотрел он и то, что девица едва доставала Нальянову до плеча, Елена же была, кажется, на пару дюймов выше.
— Я уже говорил, что вы непременно пожалеете о своём опрометчивом шаге и пытался объяснить вам его безрассудство. Но вы ничего не желали слушать и настаивали на своём. Чего же вы хотите теперь?
— Юлиан… Ты не можешь так говорить, — шёпот девицы казался голосом умирающей.
Нальянов вздохнул.
— Вам пора, ваше отсутствие могут заметить.
— Но почему? Почему?… Почему? — голос девушки прерывался.
Нальянов снова вздохнул и пожал плечами.
Девица всхлипнула, опустив голову, тенью промелькнула у ограды и пропала у ворот. Нальянов вздохнул и пошёл к дому. Дибич задумался. Ледяное равнодушие Нальянова к жертве своих прихотей несколько удивило его. Злословие Левашова, оказывается, было куда ближе к истине, чем ему показалось вначале.
Сам Нальянов лениво поднялся по ступеням, минуту спустя в зале загорелся свет, потом вдруг раздалась тихие переливы фортепиано. Дибич прислушался. Это была мягкая импровизация, по-шопеновски воздушная, зыбкая, неуловимая, словно тающая, обволакивающая и ласкающая. Потом все смолкло, и с нового аккорда зазвучала разухабистая французская шансонетка. Юлиан пел.
Le lеzard, le lеzard de l'amour S'est enfui encore une fois Et m'a laissе sa queue entre les doigts C'est bien fait! J'avais voulu le garder pour moi…[8]Голос у Нальянова был мягок, но сама песня звучала зло и сардонично, возможно потому, что исполнялась в аффектированной театральной манере парижских уличных бродяжек. Наконец всё смолкло, и Дибич увидел, как Нальянов встал, прошёлся по комнате, опустился в кресло и закинул голову вверх. В его позе не было излома или отчаяния, скорее, сквозили тоска и усталость.
Теперь любовные дела Юлиана Нальянова неожиданно заинтересовали Дибича, он дал себе слово навести разговор на женщин, хоть вначале хотел поговорить совсем о другом. Стенные часы пробили семь. Дибич подошёл к парадному и позвонил.
Нальянов, сам распахнув через пару минут дверь и увидев его, приветливо кивнул. Они прошли в дом и расположились в гостиной, освещённой только рожком на стене. На фортепиано были разбросаны ноты. Нальянов закрыл окно и наполовину задвинул портьеру, потом предложил своему варшавскому попутчику кофе и сигареты.
Дибич отказался, откинулся в кресле, пожевал губами и нахмурился. Он ещё по дороге думал о предстоящем разговоре, и, казалось, определился, но сейчас растерялся. Ему почему-то показалось, что своим недоумением он может показаться Нальянову смешным, и от этой мысли едва не возненавидел себя. Неужели ему не всё равно, неужели он так высоко ставит над собой этого человека, что его мнение столь значимо? Он, несмотря на то, что минуту назад отказался от сигарет, теперь нервно закурил.
Нальянов тоже закурил и, опустив глаза, молча ждал вопроса.
— Я хотел бы… — Дибич преодолел себя и быстро проговорил, — я хотел бы вначале расставить все точки над i. Я могу предположить, чем занимается сынок тайного советника полиции, но мне хотелось поговорить без чинов и званий. — Нальянов молчал, Дибич же резко тряхнул головой и заговорил резко и отрывисто. — Лет десять назад в университете я встретил Антона Гринберга. Он был из обрусевших немцев, входил в идейный кружок… ну, вы понимаете…
Нальянов, весьма удивившись про себя, что Дибич заговорил именно про это, кивнул.
— … Когда кружок был арестован, никому ничего, кроме исключения и высылки из Питера, не грозило. Но Гринберг в тюрьме наглотался осколков стекла, а потом, облив себя керосином, поджёг и скончался в страшных мучениях. Перед смертью признался, что неспособен стать революционером, признал себя ни к чему не годным и решил покончить с собой. Его смерть потрясла всех, однако, как всегда, во всем обвинили режим.
Нальянов молча слушал, не двигаясь и не отрывая взгляда от лица Дибича.
— Но ведь это они, — зло бросил Дибич, снова на мгновение пережив тот ужас, что сковал его тогда при этом известии, — это они приговорили к смерти эту душу, насилуя её беспощадным требованием служения.
Нальянов по-прежнему молчал. Дибич перевёл дыхание и продолжил.
— Там всех делили на «кутил-белоподкладочников», вроде меня, и «идейных», сиречь героев. Правда, лишь избранники были посвящены в настоящую конспирацию, большинство же только читали нелегальную литературу. Но и они рисковали быть сосланными в глухомань и считали себя героями.
— Типа вашего родственника Осоргина? — уточнил Нальянов и после кивка Дибича спросил, — а вы, как и Гринберг, не могли быть героем? Или не хотели? Однако рук на себя не наложили.
— Не хотел. — Дибичу была противна мысль, что он чего-то не мог, хотя сейчас в нём промелькнуло сомнение: а мог бы, в самом-то деле? Он торопливо пояснил, лихорадочно всплеснув руками, — мне было наплевать на самодержавие, поймите. Оно помимо меня. Вяземский правильно сказал, что российское самодержавие — это когда всё само собой держится. Я того же мнения. Но что оставалось? Отречение от святыни ради неверия? Упрямая вера ни во что? Отторжение от мира? Уход в себя? Ведь сомнения в революции — хула на Духа Святого.
Нальянов усмехнулся.
— Да нет, в тех кругах смело можно проповедовать хоть веру в Бога, докажите только, что она обеспечит политический прогресс и освобождение народа.
— И вы это делали? — удивился Дибич.
— Боже упаси, — изумлённо распахнул глаза Нальянов. — Я устал от этих глупостей за неделю, но вынужден был закончить семестр. Потом уехал в Сорбонну, — Юлиан улыбнулся. — Но мне и в голову не приходило звать эту глупость «героизмом». Всего-то стадность, страх чужого мнения да дурная жажда власти при отсутствии дарований, — пожал плечами он.
Эти слова, безмятежные и понимающие, успокоили Дибича. Неожиданно Нальянов спросил его о младшем Осоргине. Они близки? Что за человек?
Дибич удивился, но ответил.
— Этот как раз был из пылких идеалистов. Сегодня стал почти невыносим. К его удивлению, вчерашние сокурсники, произносившие страстные речи о самодержавном произволе, превратились в чиновников-карьеристов либо спились. Сам он мечтал о борьбе, при этом довольно слабо успевал, за сходками-то некогда было, в итоге — едва приступив к работе, то и дело удостаивается, как я слышал, нелестных отзывов коллег. Как-то бросил при мне, почему, мол, он, готовый к смерти на эшафоте, должен заниматься дурацкими расчётами движения составов? Злится и на брата, ставшего, по его мнению, просто приспособленцем.
— Любопытно…Он мне показался странным, — осторожно заметил Нальянов. — Я его видел на похоронах.
— С детства такой, — раздражённо кивнул Дибич, но раздражение вызвали нахлынувшие семейные воспоминания. — Он родился недоношенным, синюшный такой был, никто не ожидал, что выживет. Начал ходить только в три года, говорить тоже после трёх. Упав, не поднимался, а бился головой об пол. После трёх лет истерики стали столь частыми, что тётка сажала его в специальное чёрное кресло, всерьёз считая сумасшедшим.
Нальянов ничего не ответил, но слушал с таким лестным вниманием, что Дибич продолжил:
— Однажды в детстве исчез из дома, нигде не могли найти пару недель. Оказался далеко от города, на дороге, не отзывался на собственное имя, не помнил имён близких, не узнавал мать, но вдруг заговорил совершенно недетским тоном о событиях, знать о которых не мог. — Он пожал плечами. — А так — игрушки, какие не подарят, ломал, сестру младшую лупил вечно. В гимназии был замкнут, крайне раздражителен. Потом пытался заниматься хозяйством, у них именьице было крохотное, но крестьяне не вписывались в рамки его революционных фантазий, он с ними вечно судился. В итоге именьице пришлось сдать в аренду, дабы избежать полного разорения. Университет всё же закончил, но уже с первых шагов у него ничего не получается… Недавно сказал: «Бросить бы всё это к чёртовой матери и просто жить…» Я так и не понял, о чём он…
— О, я понимаю, — задумчиво возразил Нальянов. — Жить собственной жизнью такие не способны. В своей стране они изгои, но амбициозны и предельно эгоистичны. Нет друзей, даже приятелей, нет радости. Ему тридцать, он наполовину лыс, жиденькая бородёнка, прищур близоруких глаз, язвительная ухмылка.
— У него повреждение зрительного нерва левого глаза, — педантично уточнил, сам не зная зачем, Дибич.
— Он, наверное, когда говорит о захвате власти, о революции, оживляется и даже входит в какой-то раж? — спросил Нальянов так, словно не сомневался в ответе, и, не дожидаясь этого ответа, кивнул. — Обычный неудачник. Бороться с собственным несовершенством — удел мудрецов, а эти, никчёмные и пустые, борются с несовершенством мира, коверкая его, приспосабливая под свою никчёмность. Другие возбуждаются от женщин или денег, а их единственная любовь — власть! Взять Россию, а потом Европу, и переделать весь мир — вот в этих фантазиях он и получает оргазм. — Тут Нальянов опомнился и спросил, — но вы-то что избрали взамен этого «героизма»? Неверие? Веру ни во что? Уход в себя? Или, как я понимаю, ничего и не выбрали?
— Ничего и не выбрал, — кивнул Дибич.
Нальянов развёл руками.
— Но ведь, кроме революционного, есть и другие поприща. Почему не политика, не наука, не искусство, наконец?
— Вы серьёзно? — Дибич неожиданно озлился, судорога перекосила его черты. — Когда «идейные» громят самодержавие, я вижу в них только лжецов, одержимых дурной идеей. В искусстве нет ничего, способного захватить и окрылить. Всякая романтика смешит или раздражает. Наука? Толстые учёные книги, плоды безграничной осведомлённости? Упаси Бог вчитаться: сколько в этом многотомии бездарности и рутины, и как мало свежих мыслей и глубоких прозрений. Везде — духовное варварство утончённой интеллектуальности и чёрствая жестокость гуманности. Я вишу в воздухе среди какой-то пустоты, в которой не могу отличить зыби от тверди. Я смешон вам, да? — неожиданно спросил он, перехватив взгляд Нальянова.
Тот смотрел на Дибича со странной, нечитаемой улыбкой, потом покачал головой.
— Чего же смеётесь?
Лицо Нальянова окаменело.
— Я не смеюсь. Стараюсь понять. Вы же вроде поэт…
— Я уже давно не писал стихов, — отмахнулся Дибич. — Раньше созвучие приходило само, без поисков, а сейчас… Стих не удаётся, распадается, слоги враждуют со строгостью размера. Ничего не получается. Я не могу закончить ни одного стиха.
Дибич не лгал: уже год он не мог дописать ни одного стихотворения. Даже меткий и точный эпитет звучал слабо, как медаль у неопытного литейщика, который не умел рассчитать необходимое количество расплавленного металла для наполнения формы. Он начинал сызнова, и иной стих звучал с приятной жёсткостью, а сквозь переливы ритма проступала симметрия, но целого не получалось никогда.
— Ну, а эта, как её, — Нальянов щёлкнул пальцами, — любовь? Или тоже — пустое?
— Бросьте, — Дибич нахмурился, вспомнив только что виденную сцену, промелькнула в памяти и Климентьева, — для кого это пустое? — ядовито поинтересовался он. — Между моралью и прихотями плоти — пропасть. Начиная с болезненных извращений, что разъедают стыдом и самопрезрением, и кончая вихрем страсти — кто в силах побороть себя?…
Дибич остановился, напоровшись, как судно на риф, на застывший взгляд Нальянова. Тот озирал Дибича, чуть склонив голову, и в зелёных глазах стояла трясина. Взгляд этот странно заворожил Дибича, и он неожиданно бездумно высказал затаённое, что говорить вовсе не собирался.
— Не знаю, где кончается трепет любви и начинается блуд, но даже блуд влечёт не столько чувственностью, а каким-то разрешением последней тоски… или непреодолимым соблазном полного упоения.
— И вам оно удавалось? — с неожиданным любопытством спросил Нальянов.
— Наверно нет, но не надо строить из себя «холодного идола морали», хоть у вас и получается. — Юлиан, как заметил Дибич, при этих словах усмехнулся, но не сделал вид, что не понимает, о чём речь. Он, стало быть, явно уже слышал эти слова или от Нирода или от кого-то другого. — Все мы с виду благопристойные люди, некоторые даже заслуживают репутацию «светлых личностей», но как много мук, тьмы и порочности в глубинах даже самых «светлых личностей»! Я не прав?
— Не знаю, — Нальянов задумчиво пожал плечами. — Возможно, подлинная жизнь человека — та, о которой он даже не подозревает. Но в плотской жизни мне всегда мерещилось что-то унизительное.
Дибича передёрнуло.
— Даже так? Предпочитаете играть? Впрочем, все мы играем свои благопристойные роли и так вживаемся в них, что даже умираем с заученными словами на устах. Но что я… Я же не о том. Я понимаю, что ваше занятие, видимо, политический сыск, но я аполитичен. Я хотел спросить, вы… вы сами… выбрали рабство? Свободу? — Дибич вдруг нахмурился, лицо его исказилось, — только не лгите, мне это… важно.
Нальянов некоторое время молчал, кусая губы, потом всё же проронил.
— Насчёт рабства, — Нальянов усмехнулся, — помните старую остроту? «Извозчик, свободен?» — «Свободен». — «Ну так кричи: да здравствует свобода!» Я, наверное, так же свободен, как тот извозчик, просто не кричу об этом. Мне не нужна французская свобода. Француз — всегда премьер-министр, даже на своей кухне. Они — наследники римского права, законники, и никто ведь этой любви к законам и свободе не насаждал там силой. Они хотят соблюдения своих прав и защищают закон. У нас же, богоискателей, борьба за народную свободу всегда была уделом отщепенцев, с точки зрения которых народ туп и глуп.
— А может, не так уж они и неправы? Что это за народ, которому не нужна свобода?
— Народу богоискателей нужна не свобода, а истина, а так как истина лежит вне права и отнять истину нельзя, мы вопросами прав не озабочены вовсе. Зато нас легко увлечь планами построения Третьего Рима, Царства Божия на земле, мировой революции, но, если и свершится что-то подобное, свобод-то и законов никогда не прибавится, а вот нищих богоискателей прибудет с избытком. Но это я к слову. Однако после вашего страстного пассажа о плоти… — Нальянов усмехнулся, — человек, алчущий любви, свободным тоже ведь быть не может. Вы побледнели, глядя сегодня на эту рыжеволосую. Может быть…
Дибич зло ухмыльнулся. Его разозлило, что Нальянов, оказывается, заметил это.
— Вы наблюдательны.
— L'amour? — усмехнулся Нальянов, хоть глаза его не смеялись.
— Это вы о барышне, что с вас глаз не сводила?
Как ни старался Дибич, в его голосе проступило уязвлённое самолюбие. Он помнил взгляд Елены на Нальянова. В царственных же глазах Нальянова вдруг пробежали искры, лицо обрело картинную красоту, голос же стал вкрадчив и мягок. Он усмехнулся.
— Ревнуете?
Это слово и томно-изуверская интонация, с какой оно было произнесено, неожиданно взбесили Дибича. Ногти его впились в ладони. Сплетни Левашова не достигли его души, но теперь одно лишь это слово и зелёная трясина глаз мгновенно открыли ему, что он был глуп, безоглядно доверяя Нальянову и читая ему проповеди о тривиальности морали. Сам он собирался навести разговор на женщин, но сейчас разговор вёл вовсе не он. Дибич напрягся всем телом.
— Мне предпочли вас, и разумному человеку остаётся только смириться с поражением.
Нальянов взглянул на Дибича в упор. Глаза его потухли.
— Так это из-за неё вы не спали две ночи? — интонация Нальянова была теперь безрадостной и какой-то бесцветной, но жёстко утвердительной, и он, не дожидаясь ответа, устало и пренебрежительно покачал головой, — ох, зря.
Дибич снова замер. «Где не появляется — там паскудит, как кот…» — пронеслись в его памяти слова Левашова. Он тогда не поверил, зная, сколь мало можно доверять Павлуше, но эти несколько надменных слов обнажили пропасть понимания тех вещей, в коих Дибич считал Нальянова несведущим.
— Вы, кажется, обмолвились, что не любите слабый пол. Откуда ж такая уверенность?
— Холодная логика и только. — Нальянов теперь испугал Дибича: что-то бесконечно зловещее промелькнуло в его насмешливом цитировании. — Забудьте о ней.
Дибич несколько секунд молчал.
— Это… приказ? — тон его был спокоен и тускл. Он впервые увидел в Нальянове противника и соперника.
Тот поморщился.
— Боже упаси. Вы же хотели «понимания». Я вас понял и как «холодный идол морали» даю вам добрый совет.
— Стало быть, наименование Нирода принимаете?
— В некотором роде, да, — Нальянов говорил рассудительно и мрачно, — все три слова верны по сути, правда, в совокупности они себя отрицают. Но вам, логику, такого не объяснить. Просто… — он с тоской уставился в темноту за окном, — так будет лучше.
— Выходит, Елену Климентьеву ждёт судьба мадемуазель Елецкой? — Дибич сыграл ва-банк.
Нальянов ничуть не удивился и не спросил, откуда ему известно это имя. Вздохнул и откинулся в кресле. Дибич снова отметил царственный разворот плеч и прекрасную осанку Нальянова. Тот тем временем медленно проговорил:
— Если мадемуазель Елецкая возьмётся за ум и выйдет за Иванникова, её ждёт обычная женская доля — рожать да растить детей. Если мадемуазель Климентьева возьмётся за ум — она тоже будет рожать и воспитывать детей. Слово «судьба» тут неуместно… Судьба — это об очень немногих, — теперь в голосе «холодного идола морали» слышалось ленивое пренебрежение.
— Как же Елецкой за ум-то взяться, если, как говорят, вы её с ума-то и свели, у жениха отбили, а после кинули-с.
— Бросьте. Это фантазии Деветилевича или небылицы Левашова?
— Это Боря Маковский из Парижа вернулся.
— А, — рассмеялся Нальянов и, подражая кабацкой цыганщине, промурлыкал, — «к нам приехал наш любимый Борис Амвросиевич родной…» — некоторое время он продолжал смеяться, явно забавляясь, потом умолк.
— Так Боря лжёт? — поинтересовался Дибич, видя, что Нальянов не собирается комментировать слова Маковского.
Нальянов вздохнул.
— Я уже сказал вам, дорогой Андрей Данилович, что понимаю, когда вас именуют подлецом те, кто мыслит иначе. Понимаю, ибо сталкиваюсь с тем же. Голову я барышне не кружил, у жениха не отбивал, надобности никакой в упомянутой мадемуазель не имел. Всё это — домыслы.
— Ну, что ж, хоть в ошибке любой женщины есть вина мужчины, но… хочу вам верить. Предполагается, что «холодный идол морали» сам должен быть безупречен. А вы говорили, что у вас поступки со словами не расходятся… — Дибич умолк, заметив ощетинившийся вдруг взгляд Нальянова.
Тот зло усмехнулся.
— Говорю же вам, слишком логично мыслите, дорогой Андрей Данилович, слова у вас однозначны и поступки — одномерны. Я же, в отличие от вас, признал не только наименование «холодного идола морали», но и то определение, которое вы отрицаете. Я — подлец, Дибич.
Андрей Данилович молча смотрел на Нальянова. Ему снова стало не по себе. «Холодный идол морали» чем-то даже испугал его. Вспоминая ночную встречу Юлиана с неизвестной девицей, его бесовскую песенку, ледяные глаза во время беседы, явное нежелание открывать душу, Андрей Данилович понял, что почти заворожён этим странным человеком. Если Нальянов считал себя «холодным идолом морали», то его представления о морали были запредельно странным, если же лгал и актёрствовал, — всё становилось ещё интереснее. Одно было бесспорно. Нальянов не мог заблуждаться на свой счёт: слишком уж умён был этот сукин сын.
Нальянов потёр ладонями глаза, несколько мгновений молчал, потом улыбнулся.
— А ведь я ошибся, Дибич! — он откинулся на диване и прикрыл глаза. — Идиот. Я — о судьбе… Путаница в дефинициях, амфиболия и эквивокация. Судьба охватывает людей и случайные события неразрушимой связью причин и следствий и присуща лишь изменчивому. Но изменчивы все творения, неизменен лишь Бог. Следовательно, судьба присутствует во всех творениях, и чем больше нечто отстоит от Бога, тем сильнее оно связано путами судьбы. Да, мадемуазель Елецкая имеет судьбу, я ошибся. Мадемуазель Климентьева, боюсь, тоже.
Дибич опустил голову, чтобы скрыть улыбку. Нальянов же вернулся к сути разговора.
— Но это всё пустое, мы же не о том. Неверие в революционные идеалы, полагаю, не заставило вас возжелать безграничной разнузданности: вы всё же не из пылких натур, к тому же любовные мечты — это всё же женский удел. Вы жаждете чему-то посвятить себя, не можете служить живому Богу, ибо нет веры, а приносить изуверские жертвы революционным идолам не хотите. Правильно ли я вас понял? В «категорический императив» хотя бы верите?
Дибич смерил собеседника цепким взглядом и резко покачал головой.
— Нет. Со времени Канта нам указывают на бесспорность морали, но кто может обосновать этот закон? Почему я должен любить людей, если я их презираю, и во имя чего я должен ломать самого себя? Я хочу свободы, пусть даже свободы своих прихотей и похотей.
— А я всегда хотел свободы от своих прихотей и похотей, — Нальянов умолк и несколько минут сидел молча. Потом неожиданно проговорил. — Что ж, вы пришли разрешить своё ментальное сомнение, но тут мы снова сталкиваемся с неразрешимой проблемой логического мышления, не признающего универсалий. — Дибич заметил, что глаза Нальянова помертвели, стали погасшими и больными. Он говорил, словно думая совсем о другом.
— Я верно понял? — неожиданно напрягся, перебив его, Дибич, — я не могу быть адептом святых целей, но достаточно честен, чтобы считать это слабостью. Вы плюёте на святые цели, но считаете это силой. Мы — подлецы с точки зрения осоргиных, потому что открыто плюём на святые цели, хотя они тоже плюют, но тайно. Но вы признаете наименование подлеца. Это и есть сила?
— Чёртова логика, — усмехнулся Нальянов. — Плюньте вы на неё. Я действительно сторонник морали, причём — пламенный, несмотря на холодность натуры. Но моя мораль в ссоре с моей свободой. Если я делаю то, что хочу, то становлюсь подлецом, несмотря на преданность морали, а, не делая, что хочу, естественно, теряю свободу. Дальше — я снова кристально честен: не умея управиться с собой, я не лезу управлять миром, на что претендуют осоргины. Что до святых целей, то для морали свят только Бог, и на все иные цели вы можете вполне безгрешно наплевать. Вот и всё. Но верующий — не обязательно образец нравственности: дьявол тоже абсолютно уверен в бытии Бога. Во мне просто нет любви, точнее, моя любовь не от мира сего. Но это для вас сложно, ибо совсем уж нелогично. Что до этих «святых» целей, — Нальянов задумался. — Тут недавно писатель наш известный Нечаева и его присных обозвал «бесами». Это поумнее будет всех этих лживых припевов поэтов наших, пьянчужек да картёжников некрасовых: «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви!» Достоевского только на одно не хватило: понять, что нечаевы в этом «стане погибающих» — не случайность и не «мошенники», а сама суть этого стана, хоть есть там, конечно, и пушечное мясо.
— Так если вы сами себя подлецом аттестуете, может, вам как раз там, в этом самом стане, и место-с? — поддел Нальянова Дибич.
— Нет, — покачал головой Нальянов, — вы забыли, что я ещё и моралист. Сиречь под заповеди Господни выю я склоняю и Бога… — Нальянов на миг умолк, потом, тяжело вздохнув, всё же закончил, — люблю. — Последнее слово, произнесённое неожиданно севшим и словно треснувшим голосом, упало с губ Нальянова как тяжёлая мраморная плита старого надгробия.
Несколько минут он молчал, точно обдумывал что-то.
— Да ведь это всё вовсе и не ново, — со вздохом проронил он в конце концов. — Мы вечно стремимся обозначить нечто подиковиннее да поновее, а суть-то как раз не в новизне. Поголовные умопомешательства, когда целые толпы, помрачённые дурью, становились абсолютно управляемыми, в старину именовали ересями. Классический признак такого сумасбродства — искреннее непонимание оставшихся в живых участников дурных событий, как такое вообще могло случиться? В этом — нечто от глубокого гипноза, наркоза, черепно-мозговой травмы. Но это не гипноз. На людей просто находит дьявольское помрачение. И тогда сотни начинают делать что-то невообразимо нелепое, месить нитроглицерин или печатать прокламации, словно жить естественными человеческими чувствами недостойно, стыдно. Следом появляются Рахметовы, готовые изуродовать себя и спать на гвоздях, а потом приходят готовые уродовать других только потому, что те не хотят спать на гвоздях… «Бросить бы всё это к чёртовой матери и просто жить…» Стало быть, он всё же понимает, что «не живёт»? Но понимает ли он, что просто нежить?
…Дибича измотал и измучил состоявшийся разговор. Но стоя в темной аллее чалокаевского дома, Дибич задумался о другом. Слова цыганки звенящим аккордом всплыли в мозгу… «Не к добру ты влюбился…» Андрей полагал, что от этой белокожей куклы с волосами цвета темной меди ему нужно лишь обычное мужское удовольствие. Волна холодного бешенства, затопившая его при взгляде Климентьевой на Нальянова, была вызвана, по его мнению, просто уязвлённым самолюбием. Но нет… Слова Нальянова о ревности. Да, он ревновал. Ревновал. Он не хотел отдавать эту рыжеволосую красотку сопернику, и самолюбие тут было ни при чём.
Ведь заныло сердце.
* * *
Леонид Осоргин по пути домой с кладбища зашёл к брату: тот снимал квартиру в Дегтярном переулке. Оказалось, Сергей, уйдя ещё с заупокойной службы, встретил старых приятелей по университету, Василия Арефьева и Виктора Галичева, и пригласил их к себе — помянуть Вергольда. Леонид, едва войдя, понял, что встреча с сокурсниками плавно перетекла в попойку: на столе громоздились несколько бутылок, нехитрая закуска из гастронома Галунова и гора грязной посуды. Леониду не хотелось ссоры, и он молча принял из рук Сергея протянутый ему стакан. Арефьев залихватски тяпнул стопку, закусил стерлядью, прожевал и низким басом вывел: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в нера-а-авном бою…» Остальные вразнобой подхватили: «…Пусть нас по тюрьмам сажа-а-ают, пусть нас пытают огнём, пусть в рудники посыла-а-ают, пусть мы все казни пройдём!»
Тут Галичев предложил пойти к девкам. Осоргин знал, что в квартале от квартиры брата было дешёвое заведение купчихи Аглуевой, но идти туда не хотел: в бардаке ошивалась солдатня, мастеровые и бродяги, шлюха шла в тридцать копеек, стоял вечный смрад мочи, плесени, селитры и спермы. Были места и почище, но сорить деньгами Осоргину не хотелось, тем более, пришлось бы платить и за дружков брата. Однако развеяться тоже хотелось, он устал от разъездов, до свадьбы было ещё два месяца. В итоге все решили направить стопы в довольно чистенький притон вдовы Печерниковой, где толклись чиновники, студенты и младшие офицеры, а стоимость услуг колебалась от одного до трёх рублей за «время» и до семи за ночь.
Туда и двинулись.
Девки были второсортны, но выбирать не приходилось. Да Осоргину, в общем-то, было всё равно. От девки ничем не воняло — и то ладно. Почти до полуночи он слышал за ширмами пьяные визги, грубый мат Галичева, и хмельное полусонное пение Арефьева: «Замучен тяжёлой нево-о-олей, ты славною смертью почил… В борьбе за рабочее де-е-ело ты голову честно сложил… сложил…..»
В темноте упал стакан и со звоном раскололся, раздался стон девицы под Галичевым, кого-то основательно стошнило. «Служил ты недолго, но че-е-е-стно для блага родимой земли, и мы, твои братья по де-е-е-елу, тебя на кладбище снесли… снесли…»
Неожиданно где-то за окном мутно и зло мяукнул кот, раздалось шипение, в проём драной шторы вплыла жирная, как шмат сала, луна. Галичев снова рыгнул за перегородкой, под полом зашуршали мыши. От матраса тянуло мокрой псиной, в освещённых луной углах притона струились ночные тени, тягучие и неопределённые. Осоргин злился. Злился на бессонницу и на брата, злился на вязкий туман за окном и мерзейший кошачий визг. Под утро неожиданно заснул, и в сонном потном мареве видел что-то несуразное: бурую тину смрадного болота, потом — зелёные глаза Нальянова и его руки, согревавшие коньячный бокал.
Пробудился он от толчка брата — Сергей успел одеться и торопил его уйти. За окном рассеивался утренний туман, на набережной Монастырки глухо ударил колокол. Голова Леонида болела, от запаха нечистых простынь и мышиного помета подташнивало, он тоже поспешно натянул штаны и рубашку, чертыхнулся, заметив, что жилет и пиджак упали со стула и основательно помялись. Братья вышли на порог и с наслаждением вдохнули свежий весенний воздух.
Тут в глазах Осоргина потемнело: из тихого переулка на набережную вышли братья Нальяновы.
Оба были в длинных кашемировых пальто от Чарльза Редферна, горло обоих было замотано на французский манер шёлковыми шарфами, на головах красовались дорогие шляпы моднейшего фасона. Осоргин растерялся, и его ошарашенный вид невольно остановил взгляд Нальяновых. Осоргин понял, что его узнал не только Юлиан, но и младший Валериан, мельком видевший его на вокзале и на отпевании. Однако братья, смерив их странно серьёзными взглядами, даже не переглянулись, молча продолжая свой путь. Не помня себя и не совсем понимая, что делает, Леонид потянул брата следом и остановился только в начале набережной, где Нальяновы вошли в резные ворота храма, ни разу не обернувшись и не заметив провожавшего их Осоргина.
Теперь Леонид опомнился. Чего его понесло за ними? В витраже витрины он оглядел силуэты — свой и брата — и снова поморщился: вид был непрезентабельный, особенно сравнительно с Нальяновыми. При одной мысли, что братцы могли понять, откуда они вышли, у Осоргина свело зубы, хотя, если бы его попросили объяснить, с чего — не сумел бы ответить.
Глава 8. Казнь прелюбодеек и дела Третьего Отделения
Чтобы стать циником, нужно быть умным.
Чтобы не стать им, нужна мудрость.
Ф. ХорстМужу опасно возвращаться домой слишком поздно, но иногда ещё более опасно вернуться слишком рано.
Марсель Ашар.Между тем за вторником, как водится, наступила среда, а вместе с ней — время чаепития у Белецких. Дибич вовсе не собирался пропускать его. Елена… Несмотря на мутный совет Юлиана Витольдовича «забыть о ней», девица не забывалась, он не намерен был отказываться от желанного ему, и советы Нальянова только подливали масла в огонь. Кто смеет указывать ему? Андрею Даниловичу казалось, что именно Елена могла бы стать его истинной Музой, и тогда он создаст шедевр, неосуществимый сон многих поэтов: лирику, облечённую во все изящество старины, страстную, чистую и сложную.
Он присел на скамью у фонтана. Задумался. Он никогда не впадал в более беспокойное и смутное состояние духа, и никогда не испытывал такой неприятной неудовлетворённости, томительной, как назойливый недуг, как в эти дни. Его тяготили ожесточённые приливы отвращения к себе. Иногда он чувствовал, как из глубины его существа поднималась горечь, и он смаковал её, вяло, со своего рода сумрачной покорностью, как больной, утративший всякую веру в исцеление и решивший замкнуться в своем страдании. Ему казалось, что сердце его опустело непоправимо, как продырявленные мехи. Чувство этой пустоты, несомненность этой непоправимости возбуждали в нём отчаянное озлобление, а за ним — безумное омерзение к самому себе, к своим последним мечтам. Он, хоть и не хотел себе в этом признаться, не имел сил бороться.
Дибич прошёл мимо храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Освещённые изнутри свечным пламенем окна храма в вечернем сумраке на миг показались ему островками уюта. Служба только началась, и Дибич решил зайти. В полупустом храме неожиданно напрягся и вздрогнул. У правого притвора в нише, опустив голову в пол, но временами поднимая чело и размашисто крестясь, на коленях стоял Юлиан Нальянов. Рядом стоял и Валериан, неподвижно глядя остановившимся взглядом в глубины алтаря. «Холодный идол морали» не выглядел ни страстным монахом Мурильо, ни святым Эль Греко, скорее, в его лице проступило что-то расхристанно-русское, чего Дибич раньше в Нальянове не замечал. Было заметно, что службу Юлиан знал, как афонский монах, но лицо его было пугающе-неживым, скорбным и словно мраморным.
Дибич поторопился выйти из храма.
Как и предвидел Андрей Данилович, на чаепитии девица нашла случай побеседовать с ним, причём выбрала для этого именно тот момент, когда князь Белецкий с похвалой отозвался о внимании Нальяновых к несчастному Вергольду, потерявшему сына. Елена, слегка наклонясь к Андрею Даниловичу, спросила, давно ли он знаком с Юлианом Витольдовичем и что тот за человек? Она говорила негромко, и Дибич чувствовал, что от неё исходило странное обольщение, очарование расплывчатых призраков, неизъяснимое, невыразимое, точно след древних благоуханий, точно она в побледневшем, неясном виде воплощала в себе все волшебство века Медичи.
Дибич отозвался с живой искренностью и полной откровенностью, снова, впрочем, дипломатично не ответив на поставленный вопрос.
— Недавно мы с господином Нальяновым обсудили наши вкусы и нашли, что они не очень-то схожи. Тем не менее, вражды меж нами нет, — снисходительно улыбнулся и пояснил Дибич, разглядывая Елену. — Я нахожу Юлиана Витольдовича весьма интересным человеком.
Девица была хороша. Женщины редко нравились ему при дневном свете, но волосы Елены золотились в вечерних солнечных лучах, чистая кожа отдавала опаловыми переливами, грудь волновалась, как речные перекаты. Он закусил губу и снова опустил глаза.
— Он так странно себя ведёт. Он в кого-то влюблён? — с осторожным, но жадным любопытством проронила Климентьева, и Дибич окончательно понял, что дело зашло далеко.
— Мне показалось, что сердце Юлиана Витольдовича свободно. Но я, конечно, могу и ошибаться… — Дибич заметил, что Елена пожирает его глазами. Никакая другая тема не могла так заинтересовать её. — Я видел влюблённых, дорогая Елена. Он на них совсем не похож. Нальянов, мне кажется, не верит в любовь.
Елена была удивлена и озадачена.
— Как это? — она искренне недоумевала. Не верить в любовь, по её мнению, было всё равно, что сомневаться в том, что в небе есть солнце.
Дибич задумчиво пояснил девице, что многие мужчины, увы, разуверились в любви.
— Кто они? — его карие глаза блеснули. — Бессердечные циники или несчастные люди, пережившие драму страсти? Когда мужчина, утверждает, что не верит в любовь, он никого не хочет подпускать к сердцу. И причина — как раз несчастная любовь. Он прячет боль под маской бесстрастия. Неразделённая любовь унизила его, но признать этого он не хочет. Любить такого мужчину трудно. Насильно от горьких чувств не избавить… — Елена заворожённо слушала. Дибич с горькой и загадочной улыбкой продолжал, — другая причина, — обман. Если в жизни была измена, то вера в светлые чувства сменяется цинизмом, мужчина не верит ни одному слову из женских уст, убедив себя, что любовь лжива, и будет мстить всем за причинённую ему боль.
— Так его обманули? — Елена просто не могла поверить, чтобы такого мужчину можно было обмануть, но Нальянов действительно избегал женщин, она видела это, и слова Дибича звучали правдиво. — Тётя почему-то настроена против него, из-за матери, — еле слышно пробормотала она.
Сидя с ним рядом, Елена теперь рассмотрела этого атташе поближе. Ничего неприятного в нём не было: любезен, неглуп, недурён собой. Домогательства Дибича в Варшаве она отвергла потому, что он, по её мнению, в подмётки не годился Юлиану Нальянову, да и не мог ведь он сам не понимать, что ему нелепо даже сравнивать себя с Нальяновым? Но, в принципе, он недурён, решила она.
* * *
Юлиан Нальянов на следующее утро встречал в тёткином доме своего брата, пожаловавшего ещё до девяти утра. Юлиан завтракал и знаком пригласил Валериана разделить с ним трапезу, сжевал гренок и деловито осведомился:
— Ты навёл справки?
— Пока узнал немного. — Валериан, который явно в эти дни отоспался и выглядел намного бодрее, не отказался от кофе и намазал гренок мёдом. — Леонид Осоргин, тридцати шести лет, коллежский секретарь из канцелярии Управления градоначальника, помолвлен с Елизаветой Шевандиной, девицей двадцати восьми лет. В принципе, то, что ты заметил, соответствует действительности. Он на хорошем счету в управлении, с подпольем не связан, однако любит либеральную болтовню. Его брат Сергей, двадцати девяти лет, служит в департаменте железных дорог, не на хорошем счету, но и увольнение ему не грозит. Тут, отметь — устроен по протекции Даниила Дибича. В подполье, Тюфяк говорит, он не в авторитете, всегда на вторых ролях, в общем, статист. На его квартире есть возможность отсидеться разыскиваемым и хранить оружие, там же, видимо, хранили и типографские шрифты.
Он откинулся в кресле и продолжил.
— А что он собой представляет, про то Тюфяк рассказал смешную вещь. Шмон тут недавно на весь Питер стоял из-за того, что одна их баба революционная в лавке заказ на газетную бумагу крупный сделала, да прям на «хату» после пошла. Вот по дворникову донесению жандармы и пришли с утра с облавой. Типографию взяли. Так Желябов, Тюфяк говорит, орал как резаный, что без типографии они немые, все, дескать готово к делу: дома сняты, динамит на месте и ничего нельзя изменить, и тут… конец. У него дружки и спрашивают: «Почему, мол, конец? После объявим, что это мы…» В России нет никакого «после», завопил Желябов. «Самозванцев, кричал, полно не только на трон, но и на Голгофу! Даже если царя грохнем, пока будем восстанавливать типографию, найдётся дьячок-семинарист или псих-Осоргин, который добровольно возьмёт на себя крест цареубийцы. На Марсовом поле его публично прогонят через строй шпицрутенов, в историю войдёт, а нас, настоящих борцов, тем временем тихо переловят и так же тихо постреляют по застенкам без всякого шума — тем всё и кончится. Ты же знаешь этого гада Дрентельна — на такие штуки он большой мастер…» Вот как они на Осоргина смотрят.
Юлиан неожиданно весело расхохотался, — до того, что на глазах выступили слезы, и долго покатывался со смеху. Наконец успокоился и, все ещё улыбаясь, спросил.
— Насколько я это понимаю, чем ниже ты стоишь в организации, тем больше рискуешь, а чем выше поднимаешься в иерархии, тем реже приходится голову подставлять, да? Забавно. А что известно об остальных?
— Ванда Галчинская и Мария Тузикова — студентки Женских курсов, обучаются стенографии, — начал деловым тоном Валериан. — Мария никогда не отличалась ни родовитостью, ни образованностью, это полная противоположность интеллектуальным барышням из хороших семейств, которые, закусив удила, ринулись сдуру просвещать народ. Но эта тоже начиталась Чернышевского и ушла от мужа, да-да, — кивнул он, заметив ошарашенный взгляд братца, — Тузикова она была в девичестве, по мужу — Нифонтова, но ушла к любовнику и снова взяла девичью фамилию. Однако любовник исчез, а она записалась на курсы стенографии, подружилась с курсистками, а там возникли и таинственные пропагандисты с запрещённой литературой — полный романтический набор для восторженной дурёхи. Поначалу она оказывала пропагандистам… — Валериан замялся, — м-м-м… разные мелкие услуги. Простая, малоинтеллигентная девушка, она, конечно, как говорил один её коллега, «больше по чувству, чем теоретическому пониманию, тяготеет к социализму». Чувство социализма… Мне понравилось. На самом деле, Тюфяк сказал, что она распробовала «мелкие услуги», и они ей понравились.
— Валье, — укоризненно проронил Юлиан и, заметив, что брат поднял на него глаза, сказал, — я видел этих особ на похоронах, и всё понял. Надеюсь, и ты поймёшь меня. Я с ними дела иметь не желаю. Отец хотел воспитать из нас верных слуг империи, готовых защищать её до смерти. — Он поднялся. — До смерти я защищать её готов. Но не до сифилиса, Валье. Проваленный нос — это мерзость. Кроме того, будет очень трудно уверить отца, что я подхватил люэс на службе империи.
— Девицы экзотичны, да, но что делать? — Брат Юлиана спокойно глотнул из чашки пахнущий имбирём и аравийским ветром кофе, сладостный и возвышающий, как право первой ночи. — Ты думаешь, всё так ужасно?
— Рискнуть проверить? — ехидно спросил Юлиан, на что Валериан просто вздохнул и развёл руками.
Потом он снова заговорил.
— При этом мадемуазель Тузикова обладает любвеобильностью Мессалины, но и только, а вот мадемуазель Галчинская… — Валериан замялся.
Юлиан завёл глаза в потолок.
— Ладно уж, выкладывай… Неужели вроде Перовской? Ты слышал, кстати, рассказ Художника? Он говорил, когда в Херсоне они делали подкоп под банк, работа была адская: задыхались от удушья, в ледяной воде, подтекавшей отовсюду, рыли сутки напролёт. Из чёрного отверстия подкопа тянуло леденящим холодом, мраком, смрадом и тишиной могилы. Свеча гасла, из земли шли зловонные миазмы, воздух был отравлен, невозможно дышать. Недоставало сил проработать и десяток минут. Так вот Перовская скинула блузку, юбки, панталоны и, оставшись в одной рубашке, чулках и башмаках, встав на четвереньки, поползла вниз по галерее, волоча за собой железный лист с привязанной к нему верёвкой. Через пять минут верёвка задвигалась: пора было вытягивать нагруженный землёй железный лист. Лист за листом шли вниз, пустые втягивались обратно в подкоп. Мужчины только переглядывались: она работала третий час без отдыха! Наконец из подкопа показались облепленные глиной чёрные чулки, и она выползла наружу — в насквозь промокшей рубашке, с покрытыми глиной волосами, чёрным лицом и мутными глазами.
— Милая девочка.
— Да, в их компании именно ей в случае прихода полиции поручали выстрелить в бутылку с нитроглицерином, чтобы взорвать всё и всех. У любого из этих прирождённых убийц могла бы дрогнуть рука, а у неё нет, это знали все. При этом она тоже слаба на передок и возбуждала в мужчинах, как с ужасом признавался Тюфяк, какое-то патологически-покорное вожделение, род животной похоти, и каждый под ней чувствовал себя бабой…
Валье переглянулся с Юлианом, глаза их на мгновение встретились, и оба почему-то побледнели и умолкли.
— Ладно, так что Галчинская-то? Такая же? — нарушил наконец молчание Юлиан.
— Ну, в их организации постельная разборчивость считается отжившим предрассудком и проявлением глубочайшего недружелюбия к товарищам по борьбе. Все девицы охотно угождают в постели любому товарищу. Люди это раскрепощённые, никто не верит в Бога, значит, и таинства брака быть для них не может, — Валериан вздохнул. — Что до Галчинской, а она, кстати, генеральская дочь, то да, распутство стало причиной её давнего разрыва с семьёй и ухода из дома в революцию. Но до Перовской ей далеко. Ей ничего серьёзного пока не поручают, однако есть нюанс. Все эти «революционерки» обычно или любовницы психопата-революционера, или женщины, пытающиеся обратить на себя внимание любым способом. Ведь в этой среде женщина может претендовать на мужчину в открытую. При этом они фанатичнее мужчин, отличаются большей стойкостью и не склонны к самоанализу, что раз усвоили, того держатся до конца. Но… — он снова замялся. — Есть и некий процент просто ненормальных. Галчинская некоторое время назад наблюдалась у врача. Род истерии или эпилепсии, — выговорил он наконец.
— И её-то ты мне предлагаешь заставить выдать своего нынешнего любовника? Или я должен, по-твоему, заменить его? — Юлиан прищурился.
Валериан бросил на брата быстрый взгляд. Вздохнул.
— Нам нужен Француз или повод для ареста Галчинской, — напрямик сказал он.
Юлиан с сомнением покачал головой.
— У каждого артиста — своё амплуа. Я могу прикинуться парижским пшютом, английским коммивояжёром или русским барином, но притвориться бомбистом у меня не получится. В кругах, где вращаются Осоргины и Галчинские, такие как я — изгои. Тем более старший Осоргин видел меня в поезде в купе первого класса, а на похоронах — с отцом. Не настолько же он дурак, чтобы два и два не сложить. Нет, всё это, увы, невозможно.
— А никем и не надо прикидываться, — веско бросил Валериан. — Твоя задача — даже не столько выведать что-либо, а спровоцировать хоть что-то. В этом умении тебе равных нет.
— Да где и как их свести со мной?
Допив кофе, Валериан откинулся на стуле.
— Тут есть одна возможность, — заметил он. — Георгий Ростоцкий, ему семьдесят недавно стукнуло, он юбилей отмечает сначала дома в пятницу, а на субботу и воскресение его гости поедут в Павловск, на дачу генеральскую. Сказал, что там будут «очаровательные сестры Шевандины», Осоргины, Харитонов, Деветилевич и Левашов, а также подружка одной из сестёр — Елена Климентьева.
— Пёстрая компания подберётся.
— Да. Я извинился, что дел невпроворот, но обронил, что ты, может, придёшь.
— Так не ты ли, братец, эту идейку Ростоцкому и подбросил-то, а? — чуть прищурив глаз, наклонился к брату Юлиан.
— А вот и не угадал, — заметил тот, вытирая губы салфеткой и бросая её на стол. — Я тут совершенно ни при чём. Идеальное стечение обстоятельств. Единственно, чего недостаёт, это как туда эту Ванду с подружкой отправить?
Валериан Нальянов слукавил, точнее, чего уж там, — бессовестно солгал брату. Старик Ростоцкий, бывший подчинённым его отца, питал к обоим братьям Нальяновым уважение глубочайшее, и потому откликнулся на просьбу Валериана устроить празднование юбилея с той же готовностью, с какой всегда выполнял поручения Витольда Витольдовича, нисколько не сомневаясь, что эта просьба исходит от самого тайного советника.
В итоге старик уже известил Шевандиных, Иллариона Харитонова, братьев Осоргиных, Аристарха Деветилевича и Павлушу Левашова, что приглашает их всех к себе в будущую пятницу — в дом, а потом на выходные в Павловск — отметить его семидесятилетие.
— Как же, идеальное, — не похоже было, чтобы Юлиан поверил брату. — Ты или темнишь, или недоговариваешь. За каким чёртом ты всё это затеваешь? Выйди на своего иуду и разговори. Что тебе в этом Французе?
Валериан минуту сидел молча, глядя в пол, потом всё же проговорил.
— Ладно, не шуми, Жюль. Я говорил тебе, в конце января людьми Дрентельна была взята их типография. Наборщик Жарков был на следующий день освобождён и через знакомых рабочих предлагал свои услуги для устройства новой типографии. По сведениям Тюфяка, который их и сдал, они сочли, что именно Жарков предал типографию и приговорили его. Он был убит на льду Невы агентами Исполнительного Комитета. Судя по всему, один отвлёк Жаркова, второй сзади ударил его гирей по затылку, а тот, что шёл рядом, вонзил ему в сердце нож, потом оба положили на убитом приготовленную прокламацию и пошли дальше. Тюфяк слышал разговор, что это дело рук некоего Француза. А тут Акимова твоя это имя и проронила. Но напрямую вопрос не задашь. Никаких французов там нет, но это может быть прозвище кого-то, бывавшего во Франции. Тюфяк не знает такого, он, сам понимаешь, тоже по тонкому льду ходит и лишних вопросов он там никому не задаёт. Не поймут-с. Лучший путь — Галчинская или Тузикова. Кроме того, младший Осоргин ничего про записку Акимовой не знает, он настороже не будет.
— А… вот что ты стойку-то сделал. Так прямо к Ростоцкому и обратись, — усмехнулся Юлиан, — пусть он Галчинскую и пригласит.
— Да откуда Ростоцкому девиц эмансипированных знать-то? — сделал большие глаза Валериан.
— Ну, тогда Деветилевич.
— Не выйдет, — покачал головой младший из братьев. — Недавно умершая мамочка Аристарха, ни в чём себе не отказывавшая, точнее, ни в чём не отказывавшая своему тайному любовнику лейтенанту Амосову, оставила сынка с носом. Именьице оказалось заложенным и перезаложенным, и полученная им сумма в итоге не покрыла и третью часть его долгов. Но Аристарх на многое и не рассчитывал, всегда отличаясь здравомыслием. Сейчас здравомыслие подсказывает ему верный выход — женитьбу на Елене Климентьевой, его кузине, которой предстоит унаследовать свыше двухсот тысяч. Это решает все его проблемы, и Аристарх уже полгода преданно влюблён в свою двоюродную сестру, неизменно дарит цветы и милые знаки внимания, сумел даже заручиться поддержкой Белецких. У Ванды он бывал — эмансипированные девицы, в отличие от проституток, дают бесплатно, по идейным соображениям свободной любви, но для него публично признаться в знакомстве с Тузиковой и Галчинской, — он театрально развёл руками. — Невозможно-с.
— Что ж, любовь не нуждается ни в каких оправданиях, — саркастично согласился Юлиан. — Ну а Павлуша Левашов?
— Павлуша? — задумчиво переспросил Валериан. — Он единственный наследник состояния дядюшки и не привык беспокоиться о деньгах. Но старик Уваров крепок, как дуб, и кто знает, когда он сыграет отходную? Пока же старик требует брака Павлуши со своей внебрачной дочкой Дарьей Шатиловой, ибо не хочет вписывать её в завещание, опасаясь скандала. Левашов же, весьма неглупый молодой человек, предпочитает не спорить с богатым родственником, но женитьба на Дарье, некрасивой толстой девке, от которой вечно воняет, как он болтал спьяну, прогорклым маслом и дегтярным мылом, отнюдь не его мечта. Он согласен спать с жабой, но не упустит своего, когда рядом есть кое-что получше. И он тоже весьма внимателен к Климентьевой — если удастся очаровать богатую наследницу, он может дядюшку с его побочной дочкой послать к чёрту. И потому — он тоже будет скрывать это знакомство.
— Харитонов?
— Не пойдёт, — покачал головой Валериан, — он несколько побаивается эмансипированных девиц. И, по слухам, безнадёжно влюблён в среднюю Шевандину, вот и вертится там. В том-то и беда. Их знают все, но ни Деветилевич, ни Левашов, ни Харитонов такое знакомство афишировать не будут. Тем паче — младший Осоргин, если мозги есть, он вообще прикинется, что первый раз в жизни их видит.
— Понимаю. И что же делать?
— Есть одна мысль. Эти нигилистки там нужны — и они там будут.
— Кстати! — откинулся Юлиан в кресле. — Постарайся, чтобы там был и Дибич.
— Зачем? — подлинно изумился Валериан. — Вы встречались?
— Да, и насколько я понял, никакой родственной близости и симпатии между Осоргиными и Дибичем нет. Дибич презирает братьев, они, судя по всему, считают его «кутилой-белоподкладочником», однако это не мешает им пользоваться протекцией своих богатых родственников. Тут другое. Дипломат выдаст вам всё, кроме своих чувств. Если же они проступают, — усмехнулся Юлиан. — Он тоже влюблён в Климентьеву. Влюблённый — это дурак, а если пяток дураков столкнуть лбами — толк будет.
— Циник ты, Жюль, — смерил Валериан брата быстрым взглядом. — Но он там будет, я постараюсь.
Оба некоторое время молчали. Нарушил молчание Юлиан.
— А что по гнили в Датском королевстве — ты что-нибудь узнал?
— Да, Дрентельну сообщил, и фальшивые даты мы расписали. Все агенты предупреждены.
* * *
На следующий день Андрей Дибич получил от генерала Ростоцкого приглашение на юбилей, который старик явно решил отметить с размахом, а вечером столкнулся с его превосходительством у почты, где старик внимательно проглядывал газеты, читая, правда, только уголовную хронику и изучая дело Мейснер.
Генерал, шелестя газетной страницей, недоуменно и восторженно покачал головой.
— Удивительно! Судя по всему, ни одного лишнего жеста. Он шёл по следу как борзая, ей-богу, точно нюхом.
Дибич знал, что это нашумевшее в Петербурге дело вёл брат Нальянова, и с живым любопытством спросил:
— А Валериан Витольдович душевно похож на своего брата?
Старик улыбнулся.
— Не знаю, это вам, Андрей Данилович, самому лучше приметить. Молодёжь сегодня не особо любит душу-то раскрывать. Валериан Витольдович очень умны-с, Юлиан Витольдович тем же с юности отличались, а вот душевные нюансы — это не про меня-с.
— Нальяновы ведь, я слышал, рано осиротели? — осторожно и мягко спросил дипломат.
Ростоцкий кивнул, сразу погрустнев.
— Да, и пятнадцати старшему не было, а Валериан — годка на три, почитай, моложе. Такое несчастье.
Тон дипломата стал ещё мягче.
— А что произошло?
— Она по ошибке не ту микстуру выпила. Спасти не смогли.
* * *
Сходка заканчивалась.
— Великий принцип «реабилитации плоти» — это попираемое обществом понятие мы оправдываем как выражение закона любви. Закон этот — в равенстве всех, вопреки предрассудкам, порождённых невежеством и разъединяющих людей на сословия и классы! — Мария Тузикова села под аплодисменты публики.
В конце сходки к ней подошёл Лаврентий Гейзенберг, похожий на толстого серого кота, всем своим кошачьим видом показывая, что рассчитывает остаться на ужин. И, невзирая на то, что его не было во время выступлений, нагло просочился в гостиную снимаемой девицами квартирки и угнездился за столом между Марией и Вандой, начав уплетать за обе щеки. Лаврушку никто не принимал всерьёз и подобное поведение не вызвало возмущения.
Однако, к удивлению девиц, Лаврентий, дождавшись, пока народ разойдётся, неожиданно огорошил их новостью. Его дальний родственник, сообщил он, отставной генерал Георгий Ростоцкий, вчера пригласил его на свой юбилей и пикник в Павловске и предложил взять с собой пару друзей.
Ванда и Мари переглянулись. Попасть на генеральский банкет и в Павловск с его дороговизной и немыслимыми ценами? Лаврентий явно не шутил, да и, если оставить в стороне его вечное стремление щипать их за задницы, был надёжен, по крайней мере, долги всегда отдавал и доверенное ему ни разу не выболтал. Гейзенберг ещё раз повторил, что ничуть не шутит, и, чуть покраснев и опустив глаза, добавил, что во избежание слухов и пересудов представит их своими кузинами.
Девицы не возражали и принялись за обсуждение, в какой сак лучше сложить вещи для пикника.
* * *
Разговор с Еленой подлинно заинтересовал Дибича. Он понял, что княгиня Белецкая явно знает о смерти матери Нальянова куда больше Ростоцкого. Надежда Белецкая и Лилия Нальянова, видимо, были подругами. Оказывается, там всё же произошло нечто примечательное. Что именно? Белецкая обвинила Юлиана в смерти матери, однако Ростоцкий сказал, что она всего лишь «по ошибке не ту микстуру выпила». Но глупо интересоваться этим у княгини. Надо поднять связи отца и людей, помнящих события пятнадцатилетней давности. И могила… эта странная могила…
Дибич не сразу осознал, почему его так волнует услышанное от Елены. Потом осмыслил. Сейчас как никогда ему требовалось оружие против Юлиана, нужен был факт о Нальянове, который бы выровнял их отношения и его шансы в соперничестве за Климентьеву. И в смерти Лилии Нальяновой — ему именно этот шанс и виделся.
Мысль пришла неожиданно: конечно же, надобно расспросить графиню Клеймихель, которая приходилась ему родней по отцу. Андрей Данилович рассудил здраво: если Надежда Белецкая знает нечто, не делающее чести Юлиану Нальянову — едва ли она единственная, кто это знает. Свидетелями событий пятнадцатилетней давности могли быть многие, а значит, нужно у стариков и поинтересоваться. Старуха Клейнмихель вполне могла бы просветить его.
Андрей Данилович заехал к себе переменить платье, а около семи уже стоял на пороге особняка Екатерины Клеймихель.
Если Екатерина Фёдоровна и была удивлена визитом, то не настолько, чтобы выказать своё удивление. Зная резкий и откровенный характер старой графини, её иступлённую веру и уединённый образ жизни, Дибич заранее решил не искать обходных путей и уловок, а спросить напрямик, и выбранная им тактика оказалась правильной.
Он коротко рассказал о своём знакомстве с Нальяновым, откровенно признался, что этот человек, несмотря на то, что весьма заинтересовал его, временами пугает. Сам он слышал печальную историю смерти его матери, но не знает подробностей. В чём они заключаются? Отчего умерла Лилия Нальянова?
Старая графиня смерила внучатого племянника долгим мрачным взглядом, но не стала ни лукавить, ни делать вид, что не понимает, о чем речь.
— Умирающий в юности обычно гибнет по грехам своим да по глупости. Тут всё и совпало. Дармиловский род захудалый был, да Лилька уродилась редкой красавицей. Брак с Нальяновым выгоден был — Дармилов-то за ней дать ничего не мог. Тут бы ей оценить Божью милость, да каждый день Бога благодарить. Так нет же. Сыновей она ему двоих родила, а потом во все тяжкие пустилась. Но поначалу всё тихо было, дети малые, а Витольд целыми днями на службе. Она то с одним гувернёром валандалась, то с другим, но осторожничала. Потом дети подросли, старший-то особо понятливый был… Да и Лидка Чалокаева тоже пронюхала про всё: она всегда своих людей в доме братца держала. Умная баба. Ей Акулька-то, горничная Лильки, про всё и донесла. Дальше не знает никто, как всё произошло, только уехала Лилька в их летнюю резиденцию, на головные боли пожаловавшись, мол, отдохнуть хочет. Остальные должны были в воскресенье приехать, да вот беда, Нальянов раньше освободился. Приехали они — Нальянов со старшим сыном да Лидка Чалокаева — в субботу на повечерии, ну… Лильку под конюхом и нашли. В Розовой спальне, аккурат на первом этаже во внутреннем дворе, там окно французское, и всё розами обвитое.
Дибич слушал, не пропуская ни одного слова, как оглушённый. Старуха несколько минут молчала, но Дибич не решался заговорить. Графиня вздохнула.
— Натурально, скандал в благородном семействе. И тут… Витольд расплакался, любил он Лильку-то, а Лидка истерику закатила, требовала выгнать прелюбодейку в шею, да на развод подать, конюх, натурально, удрал, Лилька на золовку завизжала. Тут-то Юлиашка Нальянов тихо вышел, никто и не заметил, а через четверть часа вернулся. И зубки показал. Скандал не утихал, Лидка с Лилькой переругивались, а тут Юлиашка-то бутыль на стол ставит и говорит матери, что скандалы в благородном семействе никому не нужны. В этом флаконе, говорит, микстура от бессонницы, полбутыли хватит, чтобы все скандалы в землю ушли. Тут молчание повисло такое, что хоть топор вешай, — старуха закашлялась, но вскоре успокоилась. — Даже Чалокаева в ужасе умолкла. Витольд вздрогнул: «Это же твоя мать», — говорит. Так этот… «Мать, — отвечает, — это жена отца, а жена конюха мне матерью быть не может».
— Господи…
— Дурная история, что и говорить, — кивнула графиня. — Лилька завыла, пыталась сыну в ноги кинуться, но тот отца поднял и вышел с ним. Чалокаева за ними. Лидка, что тут говорить, детей-то своих отродясь не имела и выгнать Лильку хотела, интригу для того и плела, спала и видела, Юльку да Валье к рукам прибрать, о разводе их мечтала, но тут и она струхнула.
— И что Дармилова? — не замечая, что пальцы его почти не гнутся, а зубы выбивают чечётку, в ужасе спросил Дибич.
— Она за ними в Питер кинулась, думала, с сыном договорится, но какое там… Лакей от порога ей отворот поворот дал. «Принимать не велено никогда-с» Ну, в итоге, в понедельник её на даче и нашли. Сонного этого зелья выпила она, видать, с избытком. Так даже на похоронах, — старуха вздохнула, — Валье и Витольд плакали оба, даже у Лидки нос покраснел, а этот — слезинки не проронил. Бледный стоял, как мертвец, только глаза светились.
— Да, милосердие там не ночевало, — выдохнул Дибич, теперь ощутив, как в жарко натопленной комнате у него замёрзли пальцы.
— С чего он так — Бог ведает, — пожала плечами старая графиня. — С детства Юлька, говорят, кошек бродячих в дом притаскивал, жалостливый был. А тут — палач палачом. Как можно так? Я Лилию не оправдываю. Нет такому оправдания. Но не сыну же судить. Мать же всё-таки.
— А что потом?
— А что потом? — пожала плечами графиня. — Ничего. Чалокаева на племянников лапу наложила. Как ни странно, Юльку-то особенно всегда жаловала, просто души в нём не чаяла. Да только есть ли там душа-то?
— А Валериан?
— Младший тоже в этой семейке какой-то неладный. С головой-то у него всё в порядке, — уточнила старуха. — Сын Заславского, который с ним в этом, как его, Оксфорде, учился, рассказывал, что Валериан лучший на курсе был. Да только глаза-то у него мёртвые. Совсем мёртвые.
Дибич едва не забыл поблагодарить родственницу за рассказ. Его шатало, ноги дрожали, и земля, казалось, проваливалась под ними. С трудом спустившись по парадной лестнице и добредя до угла, он без сил плюхнулся на скамью в скверике и попытался умерить дрожь, которая сотрясала всё тело. «Холодный идол морали…» Да, Андрею Даниловичу удалось получить всё интересующие его сведения, но вот беда, они вовсе не дали ему оружия против Нальянова, а, скорее, откровенно напугали, наполнив душу почти мистическим ужасом.
Поступок молодого Юлиана был страшным, откровенно нехристианским в своем нежелании простить ту, кого простил Христос. Но тут ужас безжалостного деяния усугублялся стократно: он осудил и убил не просто прелюбодейку, но родную мать. Мораль моралью, однако подобная жестокость выходила за границы любой морали. Но почему? Принял близко к сердцу унижение и боль отца? Тот ему был ближе и дороже? Но если и так, поступок мальчугана все равно был запредельным в своей безжалостности. «Розы», всплыло вдруг в памяти Дибича, «розовая спальня…» «Ненавижу конюхов и запах роз».
Дибич поморщился. Никто из нас не в силах до конца отрешиться от воспоминаний детства и отрочества, они по сути создают нас и формируют, это всегда наш краеугольный камень, альфа и омега, стержень, столп и фундамент души. Но Нальянову было тогда шестнадцать. Если плоть в нём заговорила рано, он должен был понимать, а поняв, простить и снизойти. Почему он не сделал этого? Откуда это леденящее бессердечие и бесстрастие? Дибич вспомнил и тот странный взгляд Нальянова, на который он сам напоролся, как на риф. Он говорил тогда о пропасти между моралью и прихотями плоти, утверждая, что никто не силах побороть себя. Юлиан не притворялся — он подлинно не понял его. Почему?
Однако все недоумения Дибича были ничто перед поселившимся в его душе испугом: с этим человеком надо быть весьма осторожным, сказал он себе. Упаси Бог столкнуться на узкой дорожке. Упаси Бог.
И, тем не менее, по непонятному ему самому душевному влечению, Нальянов всё равно привлекал его, точнее, Дибич ловил себя на иррациональном желании сближения с этим человеком, сближения, которое, Дибич чувствовал это, могло стать для него роковым.
Глава 9. Юбилей генерала Ростоцкого
Наибольшая сила — воскрешать.
Наибольшая слабость — убивать.
Николай БердяевДевицы Шевандины и Елена Климентьева, надо сказать, были весьма шокированы появлением в роскошной столовой Ростоцкого двух весьма странных особ, которых они видели ещё на отпевании Дмитрия Вергольда, но Ростоцкий объяснил, что это — кузины его дальнего родственника Лаврентия Гейзенберга. Что до Деветилевича, Левашова и Харитонова, то те, к удивлению Шевандиных, ничего шокирующего в девицах Тузиковой и Галчинской не видели, правда, мимо Ванды проходили как-то боком.
И Елизавета, и Анастасия с Аннушкой, и Елена старались держаться от эмансипированных особ на расстоянии, что до самих эмансипе, то они тоже озирали роскошные платья девиц с нескрываемым презрением и называли их «барышнями». В самом наименовании ничего, положим, оскорбительного не было, но тон, которым это произносилось, был исполнен глубочайшей неприязни и раздражения.
Дом наполнялся гостями со звёздами и аксельбантами, чиновниками и отставными военными. Дибич появился минута в минуту, а Нальянов пришёл около половины восьмого, любезно раскланялся с Дибичем и был представлен всем девицам. Ванда Галчинская, которая сегодня была одета в подобие фрака с мужской манишкой, рассматривала его сначала через лорнет, но потом забыла о стёклышке и не сводила взгляда с красавца Нальянова. Тот был вежлив и молчалив, тепло поздравил юбиляра, вручил дорогой портсигар, тихо сел рядом с Дибичем, остальных — братьев Осоргиных, Деветилевича, Левашова, Гейзенберга, Харитонова и девушек — почти не замечал, хоть изредка бросал по сторонам короткие и быстрые взгляды.
Ростоцкий же явно считал Юлиана самым дорогим гостем и снова восхитился расследованием дела Мейснер.
— Это просто чудо. Ни одной лишней версии, ни одного ненужного движения!
Нальянов неожиданно тепло улыбнулся, и улыбка, величественная и горделивая, придала его лицу выражение особой красоты и силы. Глаза его засияли.
— Валериан оплошал только однажды, — кивнул он, — в деле вдовы Несторецкой. Её брат упал с моста ночью, — пояснил он, — улик не было, только видели, что незадолго до смерти он гулял с сестрой. Но та уверяла, что пошла домой, брат же остался. Между тем, для самоубийства оснований не было — дела покойного шли прекрасно. Оказалось в итоге, что сестрица его и столкнула. При этом тут же и забыла об этом — воспаление мозга, провалы в памяти. Это выходило за рамки рационального мышления, вот Валериан и сплоховал.
— Но почему вы сами не расследуете преступления, Юлиан Витольдович? — Харитонов близоруко сощурился, протирая стекла пенсне. Его взгляд, единственного из всех молодых людей, выражал робкое восхищение.
Нальянов опустил глаза и усмехнулся.
— Не люблю глупость, Илларион. Валериан уверяет, что встречал среди преступников хитрых и изворотливых людей, но умных — никогда. Преступление — удел глупцов и подлецов. Это бедные любовью люди с оскудевшей душой, перешедшие грань, где злой умысел претворяется в деяние. Злой умысел мне интересен, но трупы…претят.
Дибич слушал с улыбкой. «Холодный идол морали», признавший и наименование «подлеца», говорил о преступлении, как об уделе подлецов. Это было занимательно. Внезапно в тёмном углу Дибич заметил ещё одного гостя, совсем утонувшего в тени от камина: там сидел монах и тоже не отрывал глаз от Нальянова. Дибич неожиданно узнал его, это был его знакомый по гимназии Григорий Бартенев, ныне, после пострига, — отец Агафангел. Дибич слышал, что он служит в Павловске, но сейчас не стал его окликать.
Дибич обернулся к Нальянову.
— Интересен? — спросил он Юлиана, — мне помнится, вы говорили, что стремитесь, чтобы ваша мысль не расходилась со словом, а слово — с делом. Интерес к злому умыслу для такого, как вы, опасен, если, конечно…
— Если, конечно, я не лгу, как сивый мерин, — рассмеявшись, закончил его мысль Нальянов. — Мне трудно это объяснить логику. Я всегда считал, что душа не может оскудеть, пока ты связан с источником вечной жизни, любви и бесконечности — с Богом. Пока ты — с Ним, ты сильнее злого помысла в себе.
Нальянова прервали. Анастасия, резко поднявшись, выскочила из комнаты. Но на девицу почти не обратили внимания, только сестра Аннушка проводила её удивлённым взглядом, да Харитонов смотрел недоумённо и испуганно. Деветилевич же недовольно глядел на Елену Климентьеву, не спускавшую глаз с Нальянова, Левашов молчал, словно воды в рот набрал, Гейзенберг тоже не произнёс ни слова, а братья Осоргины смотрели на Нальянова с едва скрываемой неприязнью. Обе эмансипе сидели рядом с «кузеном» молча.
— Но если убийцы глупцы, значит, идеальное убийство невозможно? — поинтересовался старик Ростоцкий.
Юлиан поморщился.
— Убийство — это всегда грех, невосполнимый ущерб душе, — он поморщился. Было видно, что этот разговор становится тягостен ему, — но мир — калейдоскопическое мельтешение причудливых случайностей и людских прихотей. Идеальное убийство — это когда никто ничего не заметил, и всё сошло с рук. Но ничто не сходит с души. И потому идеальных убийств не бывает. Убийства мерзостны.
— Убийства мерзостны? Но когда народный мститель убивает палача… — подал голос Харитонов.
— Он подводит себя под петлю и под невероятный излом души, — резко бросил Нальянов в ответ, и внезапно лицо его исказилось изуверской улыбкой, — единственный, кто может убивать без изломов, это как раз палач, Илларион. У него нет дурного умысла, он всего лишь орудие казни.
— Но у революционеров нет другой цели, кроме полнейшего счастья народа, и если достижение этого счастья возможно только путём насилия над палачами, причём тут «изломы души»? У революционера нет души! — воскликнула Мария Тузикова. Девица, в общем-то, цитировала брошюрки, приносимые Гейзенбергом, но при этом была уверена, что высказывает своё собственное мнение. Она поспешно обернулась к Ванде Галчинской. — Ведь правда, Ванда?
Но девица Галчинская молча сидела у стола и, похоже, вовсе не услышала подругу.
Нальянов то ли задумался, то ли сделал задумчивый вид.
— Нет души? Как интересно…
Дибич не любил подобных бесед, сознавая их полнейшую бессмыслицу. Нальянов, понял он, тоже считает их глупейшим вздором и сейчас просто забавляется. Меж тем Дибич заметил то, что позабавило его самого. Деветилевич явно ревновал Климентьеву к Нальянову, холодное бешенство читалось и на козлиной физиономии Левашова — по тому же поводу. Девица же, забыв обо всём, уже четверть часа глядела на Нальянова, не мигая. Странно, но сейчас, при свечах, Юлиан Нальянов показался Дибичу удивительным красавцем — его лицо казалось нарисованным ликом ангела с рождественской открытки.
Дибич неожиданно вспомнил об Анастасии. Та уже вернулась в гостиную и, присев в кресло, смотрела в пол. Заметил Дибич и то, что Мария Тузикова выглядит растерянной, Аннушка — бросает на Нальянова взгляды недоброжелательные и гневные, которые того скорее забавляют. Лизавета слушала его очень внимательно, Ванда же молчала, опустив глаза в свою тарелку.
Марии Тузиковой показалось странным, что Гейзенберг не дал никакой отповеди Нальянову.
— То есть вы считаете, что нужно смириться с беззакониями и ничего не делать? — возмущённо спросила она.
Нальянов посмотрел на девицу с надменным выражением, но ответил.
— Ну, толика смирения никому ещё не помешала.
Мария ничего не ответила, беспомощно оглянувшись на Лаврентия Гейзенберга. Последний робко заметил:
— Но ведь ради народного счастья, Юлиан Витольдович…
— Народное счастье — это неопределимая категория. Меня, например, счастливым делает лунный свет на воде. Но предложи это счастье другому — обидится.
— Но ведь люди идут на смерть, — поддержал Гейзенберга Харитонов.
— Готовность на смерть не может извинить склонности оценивать истину по кухонным критериям, избавить от бескультурья, оправдать отсутствие глубоких знаний и неспособность к серьёзному мышлению, я же неоднократно говорил вам это, Харитонов. Вы не задумывались, почему при таком обилии героев у нас так мало порядочных людей, и почему все эти герои, начав с готовности пойти на эшафот, кончают обычно вином, картами да сифилисом? Если убеждения приводят к эшафоту — они совсем не обязательно святы. — Настойчиво, словно малолетнему дурачку, втолковывал Нальянов Иллариону. — Но дураков смерть за убеждения завораживает, парализует ум и совесть: для них всё, что заканчивается смертью, освещено, всё дозволено тому, кто идёт на смерть. В свете этой дьявольской идейки всякие заботы о жизни, чести и совести — провозглашаются мещанством. А возрази — тебе скажут, что ты трясёшься за свою шкуру.
— Ну, — осторожно вмешался Деветилевич, лицо его чуть перекосилось, — вам-то такого не скажут.
— И правильно, — безапелляционно отрезал Нальянов, — потому что любому, кто мне это скажет, я всажу пулю в лоб.
— И, поговаривают, это уже случалось, — не глядя на Нальянова, пробормотал Левашов.
— Разумеется, — отмахнулся Нальянов точно от мухи. — Но глупо каждое деяние оценивать по принципу, — грозит ли за него смерть? Как раз в этой преувеличенной оценке смерти и скрывается самая большая трусость, — губы его гадливо перекосило, он презрительно прошипел, — подумаешь, смерть…
Харитонов сильно побледнел и обратился к Нальянову, глядя на него напряжёнными глазами.
— Вы, насколько я знаю, не трус и истину по кухонным критериям не оцениваете. И над героями смеётесь. А порядочным человеком вы сами себя считаете?
Дибич напрягся и с любопытством уставился на Юлиана. Нальянов несколько мгновений, нахмурившись, молчал, не отрываясь, смотрел на Харитонова. Потом опустил голову и злобно рассмеялся:
— Если оценивать человека по готовности на смерть, как вы и делаете, то я порядочнее всех ваших героев вместе взятых, — едва ли не с хохотом отчеканил он и поднял зло блеснувшие глаза на Харитонова. — И вы, Илларион, это знаете. Я подставлял свой лоб под пули чаще, чем иные ваши на сходки ходили.
Илларион Харитонов молчал, не поднимая глаз.
Растерянная Анна Шевандина, понявшая из этой перепалки довольно много, испуганно и недоуменно спросила:
— Но… к чему вы призываете?
Нальянов пожал плечами.
— Я не проповедник. Кто поставил меня к чему-то призывать, помилуйте?
Анастасия Шевандина обратила на сестру короткий взгляд и тихо заметила.
— Проповеди сегодня не в моде, Анна.
— Но как же? — Анна растерялась. — Ведь все ищут пути, чтобы освободить народ!
Нальянов вздохнул.
— Никакие рассуждения неспособны показать человеку путь, который он не хочет видеть.
— Что? Вы… о чём?
— Есть ныне забытая миром страшная формула: «Мир живёт немногими», — пояснил Нальянов. — Она несколько кощунственна, конечно, — с новым вздохом обронил он, — но мне она всегда нравилась. Огромное количество людей, увы, просто не знают, кем они являются и зачем живут. С ужасом вижу, что и боятся узнать. Им страшно наедине с собой. Их единение в любом учении — якорь спасения, и им нет разницы, что их объединит — революция или вышивание крестиком. Но те, в ком есть понимание себя и Бога — всегда будут отторгать стадные учения, и никогда не будут служить ничему, кроме Бога. Ну а все остальные… они пусть ищут пути освободить народ, который, кстати, никого из них ни о чём не просил.
— Но если вы отрицаете путь освобождения народа, то у вас должно быть… должна быть своя святыня… — Аннушка сбилась и растерялась снова.
Нальянов неожиданно улыбнулся и ответил даже ласково.
— Ну, жизнь без святыни, да, это первое бедствие человека, ведь земная жизнь имеет свой сокровенный и высший смысл, и он — не в повседневности мелочной суеты, это так. Он требует свободного признания и решительного предпочтения. Если же мы не признаём его и не ищем, то этот смысл ускользает от нас, и жизнь незаметно воистину становится бессмысленной. Но причина бессмысленности иных жизней именно в том, что люди живут так, словно жизнь бессмысленна.
— Так святыня, по-вашему…
— В том, что вечно, неизменно и преисполнено милосердия и любви. Терроризм, думаю, вы со мной согласитесь, не вписывается в эти рамки.
Но тут абсолютно не к месту вылез до сих пор молчавший жених Лизаветы и перебил Нальянова.
— Служение благу народа есть высшая и единственная обязанность человека, а что сверх того — опасная погоня за призраками. Все глупость, суеверие, ненужное и непозволительное барство.
Нальянов смерил старшего Осоргина ленивым взглядом, и, не отвечая, спросил у Дибича, как, по его мнению, распогодится ли к утру? Тот взглянул в окно и кивнул. Пожилая служанка внесла самовар и пироги. В разговор вмешался хозяин. Не согласятся ли Юлиан Витольдович и Андрей Данилович составить им компанию на выходные? Они хотят устроить пикник в Павловске в Старой Сильвии с холодными закусками, ветчиной, свежими сливками.
Нальянов собирался что-то ответить, но Дибич, опережая его, ответил, что с удовольствием придёт и кинул странный взгляд на Нальянова. Тот заметил его, почесал пальцами лоб и, хоть и сам собирался приехать, проронил, что, возможно приедет: во взгляде Дибича он прочёл просьбу согласиться.
Харитонов, глядя на Нальянова больным и похоронным взглядом, вдруг проронил почти молящим голосом:
— Нальянов, но…всё же… вы можете, конечно, глумиться над народом и осмеивать наши идеалы…
Юлиан, отбросив чайную ложку, резко звякнувшую о блюдце, перебил его, словно хлестнул по лицу.
— Ларион! — тот вздрогнул и умолк, Нальянов же продолжил. — Перед вами на тарелке пирог. Вам принесли его минуту назад. — Харитонов нахмурился, точно вдруг разглядев стол. — Скажите, кто принёс его вам? — Харитонов ошеломлённо уставился на тарелку, повертел головой и пожал плечами. Нальянов же тяжело вздохнул и менторским тоном проговорил, — не заметили? Это была женщина лет пятидесяти пяти, хозяин назвал её Анной Дмитриевной, потом Анютой, она, судя по говору, уроженка Ярославской или Костромской губернии, её седые волосы зачёсаны на прямой пробор, лицо квадратное, губы крупные, глаза бледно-голубые, одета в тёмно-синее платье с белым кружевным воротником, шаль цветная, куплена на Апраксином дворе. Судя по моим наблюдениям, недавно переболела сильной простудой, никогда не была замужем, очень любит кошек и большая любительница вышивания.
Ростоцкий странно хмыкнул, потом, покачав головой, рассмеялся.
— На тридцать вёрст ошиблись, Юлиан Витольдович, она с Нерли, это Владимирская губерния. Анюта!
Женщина появилась в комнате.
— Барин…
— Ты же владимирская, с Нерли?
— В Исаевском родилась, барин, ярославские мы.
Ростоцкий вытаращил глаза, восхищённо покачал головой, а Харитонов, моргая под золотой оправой очков, хоть тоже изумлённо и растерянно улыбался, но недоумевал.
— Ну… и что? — обернулся он к Нальянову.
— Ничего, — пожал плечами Юлиан, — просто прежде, чем спасать народ и умирать за его благо, научитесь, Илларион, просто замечать его.
— То есть, вы считаете… — Харитонов ожесточённо грыз ноготь.
— Мысль о возбуждении бунтов, восстаний, заговоров у нас не воплощается, поймите, — перебил его невысказанную мысль Нальянов. — Для баррикад и ирландщины нет желаний народа и общества. При таких условиях, да, остаётся только единоличный бунт, то есть именно терроризм. Для него не нужны ничья поддержка и сочувствие. Достаточно своего убеждения, своего отчаяния и своей решимости погибнуть. — Нальянова, как заметил Дибич, раздражала привычка Харитонова грызть ногти, но он сдерживался. — Но в смысле политических изменений значение террора равно нулю. Он или бессилен, или излишен: бессилен, если у революционеров нет сил низвергнуть правительство, и излишен, если эти силы есть. Но он искажает самих революционеров, воспитывает в них презрение к обществу, к народу, и — взращивает страшный дух своеволия. Какая власть безмернее власти одного человека над жизнью другого? И вот эту-то власть присваивает себе горстка людей, убивая за то, что законное правительство не желает исполнять самозваных требований людей, до такой степени сознающих себя ничтожным меньшинством, что они даже не пытаются начать открытую борьбу с правительством…
Осоргин сидел молча, прикрыв глаза и почти не дыша от бешенства. Этот человек просто выводил его из себя. Он осмеливался кощунствовать и откровенно плевать на святое — и при этом никто не осмеливался возразить ему. Но даже и на возражения этот негодяй плевать хотел, делал вид, что вовсе не замечал возражений или откровенно глумился. Подлец. Откровенный выродок. При этом больше всего Леонид Осоргин бесился именно от наглой дерзости барича, которая почему-то странно подавляла.
Сергей Осоргин тоже злился и ничего не мог понять. Кто позволил этому наглому барину высказываться с таким апломбом? Сам он привык считать себя человеком, разорвавшим всякую связь с приличиями и условностями, истинным революционером. То, что приходилось работать в ненавистном министерстве — воспринимал как нечто случайное. Он помнил уроки революционного дела: «Все изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в революционере единою холодною страстью революционного дела». Он строго делил общество на категории. В первой были осуждённые, насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство, лишив его умных энергических деятелей. Вторая — из тех, кому временно даруют жизнь, дабы они зверскими поступками довели народ до бунта. К третьей принадлежали высокопоставленные богатые и влиятельные скоты, которых надо опутать, сбить с толку и по возможности сделать рабами. Четвертая состояла из государственных честолюбцев и либералов, коих требовалось скомпрометировать и их руками мутить государство. Пятая категория — доктринёры, праздно-глаголющие в кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать в действия, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящий отбор немногих.
Юлиана Нальянова Сергей отнёс бы, безусловно, к первой категории, но это значило признать, что этот барин умён, а признавать этого не хотелось. Сергей оглядывал и девиц. Их тоже предписывалось делить на три разряда. Первые, пустые и бездушные, которыми можно пользоваться, другие — преданные, но не доросшие до революционного понимания, и, наконец, женщины вполне посвящённые, свои. Невесту брата Сергей не ставил и в грош — ни рыба, ни мясо, такая не попадала ни в одну из категорий, но Елену Климентьеву он сразу занёс в первую категорию, Аннушку — во вторую, туда же попали Машка Тузикова и Ванда Галчинская. А вот Анастасия Шевандина, которой было явно тошно слушать этого лощёного мерзавца, была совсем своей, это он чувствовал. При этом было и ещё кое-что в словах этого лощёного барина, что сильно взволновало Сергея, но он надеялся, что это ему просто померещилось…
Тем временем Нальянов повернулся к Дибичу. Тот же наблюдал за Еленой Климентьевой, и, когда перевёл взгляд на Нальянова, покраснел. Юлиан тут же опустил глаза. К удивлению Дибича, ему было явно неловко.
Нальянов поднялся было, однако, путь ему преградила Аннушка Шевандина. Она со странным вызовом спросила его, в чём он видит предназначение женщины? Нальянов оторопел от неожиданности, потом пожал плечами и ответил, что никогда не задумывался об этом. Заметив потемневший взгляд Анны, брошенный на Нальянова, и покрасневшую Анастасию Шевандину, Илларион Харитонов поспешно заметил, что это и так понятно.
— Предназначение женщины — возбуждать в мужчине пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому — и это назначение велико и священно.
Нальянов неожиданно улыбнулся, любезно, хоть и чуть шутовски кивнул Харитонову, как бы соглашаясь с ним. Дибич же спросил Анну, в чём она сама видит это женское предназначение? Анна ненадолго смутилась, но её перебила сестра Анастасия.
— Не думаю, Анна, что это интересно господину Нальянову.
— Вы, конечно, скажете, что дело женщины — семья и кухня? — не обращая никакого внимания на реплику сестры, спросила Анна у Нальянова. — Вы презираете женщин, да?
— Ну, что вы, Анна Васильевна, как можно-с? — Нальянов улыбнулся беззлобно, но чуть насмешливо. — Но я против участия женщин в революции. Идеи всеобщего равенства, забившие крохотные мозги дам, взрывоопасны. Они жаждут принести себя в жертву на алтарь революции, сгореть в мировом пожаре и броситься под копыта истории. Но обязательно публично. Именно поэтому суфражисток и истеричек весьма охотно принимали в свои ряды революционеры всех мастей. Лидеры партий, всё охочие до власти мужики, знали — женщин хлебом не корми, дай чего-нибудь разломать или взорвать. В истории ведь остались имена Теруань де Мерикур и Шарлоты Корде. Останется, к сожалению, и имя Засулич. Но мне не нравится Вера Засулич. При этом, — усмехнулся он, — не нравится во всех смыслах. Я не одобряю сделанное ею и никогда не лёг бы с ней в постель.
Анна была смущена, но всё же спросила:
— И какие же женщины вам нравятся?
Дибич не сомневался, что на этот вопрос последует резкая отповедь, ведь спрашивали у человека, фактически убившего мать, но Нальянов снова снизошёл до вежливого ответа.
— Смиренные, кроткие, целомудренные, — отчётливо и очень серьёзно проронил он.
— Смиренные? — точно услышав оскорбление, возмутилась, едва не взвизгнув, Мария Тузикова, отчего брезгливо поморщились Елена Климентьева и Анна Шевандина. — Что за вздор? Неужто, если женщина несчастна, не понята и чахнет в неподходящем ей браке, душа её должна приноситься в жертву прописной морали, провозглашающей нерушимость брака и «покорность» мужу? Неужели лучше лгать и продолжать совместную жизнь с нелюбимым, недостойным человеком, чем честно и свободно соединить своё существование с тем, кого любишь?
— Насильно у нас замуж не выдают, — пожал плечами Нальянов. — И причём тут счастье? Женщин надо научить в мягкости быть твёрдыми, в терпении — неколебимыми, в преданности — стойкими. Вот и будет им счастье.
— Вы просто не знаете любви! — взвилась мадемуазель Тузикова. — Тому, кто постиг равенство мужчин и женщин перед Богом, любовь откроется во всем её величии, но пропитанному грубыми предрассудками, тому, кто ищет лишь волнений крови, а не идеала, любовь не откроется никогда!
— Тут вы правы, наверное, — с готовностью кивнул Нальянов, хоть Дибичу было довольно трудно понять, с чем именно он согласился.
— Значит, вы не признаете за женщинами никаких прав? — тихо спросила Елена. Её голос раздался в гостиной впервые за весь вечер.
— Почему? Она вправе мне отказать, — Нальянов смерил девушку долгим взглядом. — Это святое право женщины.
Дибич закусил губы, оценив злую иронию Нальянова: девицам в гостиной это право было ненужным.
Неожиданно голос подал Аристарх Деветилевич.
— Господин Нальянов как-то в обществе уронили-с, что следует остерегаться женщины, когда она любит: она-де теряет себя в страсти и для неё ничего не имеет никакой ценности, — вкрадчиво заметил он. — Страсть мужчины, сказал он, может сделать из него подлеца, а может и не сделать, но страсть женщины любую превращает в фурию. Я правильно тогда понял? — спросил Деветилевич, глядя на Нальянова потемневшими глазами.
— Я это говорил, — спокойно кивнул Юлиан, не добавив ни слова.
Девицы подавленно молчали. Деветилевич же с трудом скрывал ликование. Отлично. Нальянов в своём репертуаре. Впрочем, Аристарх знал: чем больше этот наглец отталкивал и игнорировал женщин, тем одержимее те влюблялись в него. Боялся он этого и сейчас.
— А вас страсть делала подлецом? — поинтересовалась Елена Климентьева.
— Нет. Меня же постоянно упрекают в бесстрастии, мадемуазель.
— Выходит, холодный идол морали властен над страстью, Жюль? — Дибич улыбнулся.
Нальянов пожал плечами.
— Чувствительность — не преимущество, Андрей Данилович, слабость сердца — не достоинство. Плотская любовь ведь, как болезнь. Исход? Либо — выздоровление, обыденность и рутина, либо — смерть самой любви, смерть любимого, его измена и потеря. — Дибич заметил, что Нальянов назвал его по имени-отчеству, не приняв его попытки сближения.
Плечи Маши Тузиковой брезгливо передёрнулись, Ванда Галчинская казалась странно печальной, Елена смотрела на Нальянова глазами, в которых стояли слезы. Ей казалось, что в его словах — боль обманутой любви, но, вообще-то, на холёном лице Нальянова не было и тени скорби. Он казался равнодушным и чуть сонным. И эта полусонная летаргия уже не отпускала Юлиана Витольдовича. Он сел рядом с Дибичем и молча слушал чужие разговоры, но сам в беседы не вступал. Если к нему обращались, отделывался кивками.
Глава 10. Ночные разговоры
Найти истину при помощи логики можно лишь при условии, что она уже найдена без помощи логики.
Гилберт ЧестертонЗа плотно закрытым окном шуршал дождь. В соседней зале раздались звуки музыки — заиграл приглашённый генералом оркестр. Дибич был уверен, что Нальянов не будет танцевать, но ошибся. Тот встал и любезно поклонился Ванде Галчинской, галантно протягивая руку и улыбаясь. Она подняла на него глаза, вспыхнула и явно смутилась, но Нальянов, смеясь и что-то бормоча её на ухо по-французски, уже увлёк её в соседнюю залу. Глаза его искрились томным светом, казались ласковыми и нежными.
Это приглашение подлинно удивило всех. Поражены были, и весьма неприятно, девицы. Елена Климентьева казалась просто шокированной, Анна Шевандина растерянно смотрела вслед паре, Анастасия была подавлена, Мария Тузикова — откровенно завидовала подруге, провожая её взглядом мутным и потемневшим. Деветилевич и Левашов выглядели одураченными. Леонид Осоргин, поджав губы, пригласил на танец невесту, Дибич, несколько секунд заворожённо следя за танцующими, вдруг опомнился и поспешно пригласил Климентьеву. Растерянная и явно униженная предпочтением, которое Нальянов выказал эмансипированной нигилистке, она протянула руку Дибичу, и он тут же увлёк Елену в зал.
Деветилевич и Левашов, переглянувшись, пригласили сестёр Шевандиных — Аристарх — Анастасию, Павлуша — Анну. Младший Осоргин посмотрел на Лаврентия Гейзенберга, к этому времени основательно набравшегося, и пригласил Марию Тузикову. Харитонов сидел в углу в одиночестве и как всегда нервно грыз ногти.
Танцы продолжались почти до полуночи, и всё это время, беся девиц, Нальянов не отходил от Ванды Галчинской. Он то и дело увлекал её к столу, поднимал за её здоровье бокал, шептал что-то на ухо. Они то появлялись в столовой, то исчезали в танцзале, то мелькали в парке под фонарями. Девица что-то оживлённо рассказывала, Юлиан Витольдович слушал, несколько раз оттуда доносились взрывы смеха.
Елена Климентьева была оскорблена, не понимая, что может находить Нальянов в этой испорченной особе, Анна Шевандина тоже недоумевала, Анастасия высокомерно пожимала плечами и ломала веер, зато Елизавета насмешливо кривила губы, глядя на сестёр. Что до Марии Тузиковой, она, уже не танцуя, странно бледная, сидела в углу с какой-то французской книгой, которую, впрочем, читала на одной и той же странице.
Дибич мельком заметил, что Сергей Осоргин с явным неодобрением наблюдает за парочкой, но сам Андрей Данилович был слишком занят, чтобы следить за гостями. Елена, нервная и рассерженная, всё же кокетничала с ним, явно, чтобы заставить ревновать Нальянова, но тот упорно не отходил от Галчинской, рассказывал ей о французских коньяках, потом стал учить, как понять выдержку напитка и определить, не подделка ли это, спрашивал, есть у неё знакомые французы.
Андрей Данилович на вопрос Климентьевой, давно ли Юлиан Витольдович проявляет столь низкие вкусы, тихо пояснил, что Нальянов, насколько он понимает, не ищет в женщине высоких достоинств и не умеет их оценить. Елена побледнела и ничего не ответила. Дибич видел, что Климентьева не сводила весь вечер с Нальянова глаз, Аннушка Шевандина тоже пожирала его глазами, Тузикова и Галчинская были, казалось, готовы забыть свои эмансипированные взгляды, если бы это было угодно Нальянову. Таковы бабы, пронеслось у него в голове, эмансипе-то эмансипе, а всё равно — рабыни и попугаи мужчин. Даст им мужик прокламации — будут прокламации цитировать, а дал бы Писание — повторяли бы за ним Писание.
У него мелькала мысль — не рассказать ли Елене историю смерти матери Нальянова, но он совсем не был уверен, что этот рассказ произведёт нужное впечатление. Женщины не любят логики, размышлений и геометрических доказательств, они боятся мышей и призраков — но очень мало чего между этими крайностями. Елена влюблена в Нальянова, а женская любовь перевесит все грехи любимого.
Тем временем в гостиной снова появились Нальянов с Галчинской. До Дибича донеслись слова Юлиана: «Это ещё почему? Я в достаточной степени сын Божий, чтобы снизойти к дочерям человеческим, но женщина может претендовать или на право выбирать, или счастье быть избранной…» Он явно смеялся. Было заметно, что Ванда растеряна и не знает, что ответить.
Около полуночи Климентьева и Шевандины уехали: за ними прислали экипаж. Лаврентий Гейзенберг начал настаивать на отъезде «кузин», и Нальянов галантно проводил свою сильно пошатывающуюся пассию к экипажу. Сам он, несмотря на то, что пил много, казался абсолютно трезвым, при этом, как снова обратил внимание Дибич, глаза его, окружённые бурой тенью, светились, точно болотные гнилушки. Было и ещё одно очень странное обстоятельство: Нальянов, усадив Галчинскую на извозчика, сжал и неожиданно прижал к губам руку Марии Тузиковой. Та резко обернулась, но Юлиан уже исчез и темноте.
Дождь давно перестал. Нальянов вернулся в залу и уединился у окна, а на вопрос старика Ростоцкого, поедет ли он в Павловск, с готовностью кивнул, сказал, что хорошо знает Павловск, у сестры его отца там дача, он обязательно приедет. Потом он кивнул Дибичу и Ростоцкому, и, ни с кем более не прощаясь, пошёл к двери, однако вдруг остановился, увидев монаха, который всё торжество скромно просидел в углу обеденной залы.
— Ба, отец Агафангел…Вы тут зачем?
— Я, Юлиан Витольдович, записку господину Ростоцкому от протоиерея нашего привёз, пожертвования собираем на новое паникадило, да вот его превосходительство за стол меня усадили-с, — глаза их встретились, и тон монаха стал мягче, — отец Василий велел мне поблагодарить вас за милосердие и сострадание. Такое щедрое пожертвование, спаси вас Бог. Я к вам заходить не стал, боялся, коль снова приду, прогоните.
— Что за вздор? Приходите, — Нальянов окинул собеседника взглядом, показавшимся Дибичу больным, — всегда рад вам, — после чего вышел.
Дибич, на миг удивившись знакомству Юлиана с монахом Агафангелом, догнал Нальянова уже у ворот.
— Постойте, Юлиан Витольдович, — после чего насмешливо поздравил «холодного идола морали» с большим успехом у женщин. — У ваших ног было три влюблённых девицы, Нальянов, — с чуть заметной льстивостью проронил он.
Нальянов обернулся к нему, и взгляд его показался теперь Дибичу полусонным и вялым.
— Категории общности у вас хромают, дорогой Андрей Данилович, — лениво уточнил он. — Если быть точным, то влюблённых там было — шесть без четверти. Впрочем, этой погрешностью и впрямь можно пренебречь. Что до девиц, то там и трёх не наберётся, хоть я и не считал, конечно. Если и были времена, когда я думал, что юные девушки питаются незабудками, лунным светом и утренней росой, то они давно прошли, Дибич.
Нальянов растаял в ночи, оставив растерянного Дибича у ворот дома Ростоцкого.
* * *
Андрей Данилович чувствовал себя усталым, но не в том была беда, — он чувствовал себя ещё и одураченным. Он не хотел признаваться себе, что запутался в ситуации, а снисходительно-циничные слова Нальянова, усугублённые его грубой безапелляционностью, и высказанные-то к тому же как-то походя, неожиданно смутили его.
Впрочем, прохлада весенней ночи скоро остудила его разгорячённую голову и чуть успокоила нервы. Дибич вернулся к дому и сел под окном на скамью. Уход Нальянова породил среди молодых людей яростную дискуссию о революции, отголоски которой доносились до него из окна, снова раскрытого кем-то.
— Вся тяжесть жизни происходит от политических причин: рухнет полицейский режим, и тотчас воцарятся и здоровье, и бодрость! — голос Харитонова звучал надтреснуто и резко.
— Счастье обеспечивается материальными благами, это есть проблема распределения. Надо отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и тем обеспечить человеческое благополучие. А все эти сказки о простой помощи человека человеку, о простом облегчении горестей текущего дня — вредная растрата сил на мелкие и бесполезные заботы! — вмешался Леонид Осоргин.
— Хуже! Это измена ради немногих людей всему человечеству! Плоская и дешёвая благотворительность! — поддержал его Сергей.
— Неправда! Простой, реальный смысл работы среди народа принижать нельзя! Она полезна для общего дела всемирного устроения человечества! — Харитонов старался перекричать всех.
Сам Дибич задумался. Впечатления этого вечера медленно всплывали и отливались в странные и тягостные вопросы. Почему Деветилевич, который, как прекрасно было известно Дибичу, не лез за словом в карман, в присутствии Нальянова буквально немел и осмелился только на один выпад? Почему Павлуша Левашов поздоровался с Нальяновым нынче и на отпевании Вергольда у собора с вежливым подобострастьем, хоть за спиной последнего распространяет мерзейшие слухи? Насколько эти слухи лживы? Дибич вновь вспомнил о девице, приходившей к Нальянову в ночи, явно бывшей любовнице, которой Нальянов «пытался объяснить всю неосмотрительность её опрометчивого шага…» Нальянов же только что насмешливо подчеркнул, что не удивится, если далеко не все из оных девиц подлинно окажутся девицами…
Хлопнула дверь, и на пороге, прервав его мысли, показался Аристарх Деветилевич. Заметив Дибича, он скорчил мутную рожу, плюхнулся рядом на скамью и спросил портсигар. Тяжело затянулся, и Дибич заметил, что папироса дрожит в руке Аристарха.
— А ты давно его знаешь? — Дибич без уточнений понял, что тот спрашивает о его знакомстве с Нальяновым, ибо в гостиной Нальянов обращался преимущественно к нему.
Дипломат должен уметь видеть человека, не глядя на него, и смотреть на человека, не видя его, всегда знать, что спросить, когда не знаешь, что ответить. Дибич пожал плечами и, ничего не уточняя, дипломатично перевёл разговор.
— Тебя, я вижу, он бесит?
— А тебя нет? Гадина… Понять не могу, как он это делает? Собой, конечно, приметный, но чтобы так… И ничего ведь, заметь, не делает, — Деветилевич искренне недоумевал, — а все бабы с ума сходят…
Дибич тоже заметил это. В присутствии женщин вокруг Нальянова, казалось, точно танцевали мелкие бесенята, взгляд его завораживал, голос увлекал в неведомую бездну. Но сам Нальянов в коловращении этого любовного приворота казался подлинно бесстрастным. Он ничего не делал… или… Дибичу вспомнилось насмешливо-проникновенное: «Ревнуете?» Или все же делал?
Но с Деветилевичем Дибич откровенен не был никогда, и сейчас просто притворился, что не понял его, безразличным тоном проронив:
— Да, полно. Обычный бонвиван. Однако, неглуп, этого не отнять.
Деветилевич зло поджал губы.
— Гадина он. Бес-искуситель. Она же голову потеряла, глаз с него не сводит.
Дибич давно знал о финансовых проблемах Деветилевича, а от Левашова неоднократно слышал злобную ругань о домогательствах Аристарха к его кузине Климентьевой. Деветилевичу, по его словам, светила долговая яма. Павлуша обмолвился тогда, что Елене по достижении двадцати одного года предстоит унаследовать состояние отца. Познакомившись с Климентьевой в Варшаве и наблюдая за ней последние пару дней, Дибич понял, что Аристарх подлинно рискует потерей двухсот тысяч: девица не замечала кузена. Но сейчас, несмотря на гадкие намёки Левашова, Дибичу показалось, что Аристарх подлинно неравнодушен к Елене: он не просто бесился, но въявь ревновал — но не к нему, а к Нальянову.
Дипломат снова предпочёл сделать вид, что не понял Аристарха.
— Голову потеряла… Ты о ком?
Деветилевич опомнился.
— Неважно. Все они одинаковы. Пялятся на него…
— Ну, не все. И Елизавета не особо от него, по-моему, в восторге, и средняя Шевандина тоже. А младшую, Анну, он вообще, кажется, бесит.
— Как бы ни так, — зло огрызнулся Аристарх. — Бабское притворство. Всё они к нему неровно дышат. Ну, может осоргинская Лизавета дурью не больна, и то, потому что понимает, что никому, включая Лёнечку, не нужна.
— Ну, шутишь, — провоцируя Деветилевича, усмехнулся Дибич, — он разве что Климентьевой нравится.
На скулах Деветилевича заходили желваки.
— Гадина… — словарный запас Аристарха в моменты озлобления богатством не отличался, Дибич давно заметил это и сейчас ничуть не удивился.
Дверь скрипнула в петлях, на крыльце в ночи возник Павлик Левашов, в криво падающем оконном свете больше чем когда-либо похожий на перевёрнутую пентаграмму, лицо его уподоблялось козлиной морде, но он вступил в тень и всё пропало. Левашов плюхнулся на скамью рядом с ними.
— Как же осточертели эти реформаторы, — тихо и зло бросил он, — Лариоша поминутно теряет очки и забывает застегнуть пуговицы на ширинке, Лаврушка жрёт, едва дорывается до стола, как Пантагрюэль, Лёнечка ради десяти тысяч на лягушке жениться согласился, Серёженька два и два с трудом после университета складывает, а все туда же — строить новый мир!
Деветилевич кивнул.
— Да уж, всемирные устроители человечества…
Дверь снова хлопнула. Сергей Осоргин никогда не придерживал за собой двери. Сейчас он, едва разглядев в темноте Деветилевича, обратился прямо к нему, игнорируя остальных:
— А что, этот барин, ты говоришь, смельчак? Умеет рисковать жизнью?
Левашов скривил губы, но промолчал. Деветилевич, тоже немного поморщившись, ответил Осоргину:
— Скорее, я сказал бы, что ему нравится убивать, Серж, — Деветилевич загасил сигарету, — хоть сам он никогда никого не вызывает. Но несколько раз, будучи вызван, хладнокровно подставлял лоб, а потом, когда противник промахивался… Один раз, я сам видел… — Деветилевич с трудом сглотнул слюну, — он как раз говорил секунданту, чтоб готовил лошадей. Тут и пальнул, не глядя. Попал в сердце. У него дурная репутация. — Тут Деветилевич усмехнулся. — Да ты, чай, не вызвать ли его решил? Не глупи. — В голосе Аристарха мелькнула нескрываемая насмешка.
Осоргин промолчал.
Дибич решил, что делать ему тут нечего. Он поднялся, дружески распрощался с приятелями, и направился к себе на Троицкую. Проходя мимо чалокаевского дома, остановился. Его удивило, что в окнах не было света: спальня Нальянова с тяжёлыми тёмно-зелёными портьерами — не была освещена, горели лишь розовые окна — явно женского будуара. Однако загадка разрешилась быстро. Из темной аллеи у дома показались две тени. Нальянова Дибич узнал сразу. Напрягся, рассматривая высокую женщину в чёрном платье, и тут чертыхнулся про себя. С Нальяновым шёл монах Агафангел. Видимо, Нальянов нагнал его дорогой.
Дибич удивился ещё и тому, что оба явно никуда не торопились, шли не таясь, то и дело останавливаясь, оживлённо жестикулируя. Их силуэты отбрасывали в свете фонарей длинные тени на цветочные клумбы.
Дибич прислушался. Говорил Нальянов.
— На первый взгляд, Бог превосходит всё бесконечное, а наш разум может познать Бога, следовательно, он может познавать и бесконечное. Но это — иллюзия, отец Агафангел. Бог бесконечен как форма, не ограниченная материей, а в вещах материальных бесконечным называется то, что не имеет ограничения. Форма познаётся, а материя без формы не познаётся, стало быть, материальное бесконечное не познаётся. Формальное бесконечное, Бог, сам по себе познаваем, но для нас Он непознаваем, — вследствие ущербности нашего разума, приспособленного к познанию материального. И потому мы можем познавать Бога только через Его проявления, но не можем лицезреть Бога в Его сущности.
В ночи послышался голос Агафангела.
— Но мы способны к познанию различий и количества, количество же, например, чисел, бесконечно. Вот вам и возможность познавать бесконечное.
— Нет, — серьёзно возразил Нальянов. — Бесконечное не может познаваться, если не перечислены все его части, а это невозможно. Ведь после восприятия максимального количества бесконечного можно всегда принять и нечто сверх него. И если даже признать новомодную придурь, что разум есть бесконечная способность к познанию, то надо возразить, что способность пропорциональна своему объекту, и разум должен так соотносился с бесконечным, как соотносится с ним его объект. Но среди материальных вещей не обнаруживается бесконечного, и поэтому разум никогда не может помыслить столь многое, чтобы он не мог помыслить затем ещё большее. Таким образом, наш разум может познавать бесконечность только потенциально.
Бартенев засмеялся и поднял ладони вверх.
— Сдаюсь. Если такой схоласт начнёт рассуждать…
Нальянов усмехнулся, авторитетно поднял палец вверх и сказал:
— В давние времена папа Бонифаций Восьмой объявил войну могущественному роду Колонна, жившему в Пенестрино. Бонифацию не удалось взять его силой, и тогда он призвал францисканского монаха Гвидо да Монтефельтро, обещал открыть ему двери рая и отпустить грехи, если тот даст совет, как победить Колонну. Тот дал лукавую рекомендацию обещать Колонне полное прощение, если они уступят Пенестрино, потом сровнять замок с землёй, а после — изгнать род из Рима. Папа так и поступил. У Данте лукавый францисканец попадает в ад. Чёрный херувим счёл, что, несмотря на обещанный папой рай, он должен получить, по лукавому совету своему, ад, и говорит ему: «Forse tu non pensavi, ch'io loico fossi?», дескать, «А ты не думал, что я тоже логик?» — Нальянов усмехнулся, — вот и я тоже всегда боюсь услышать это от чёрта.
— С чего бы? — усмехнулся монах. — Вы же ничего не проповедуете, не интересуетесь преступлениями, не волочитесь за женщинами и не верите в народное счастье. Лукавых советов тоже не даёте. С чего бы вам беспокоится?
— Из-за недостатка логики, отец Агафангел.
Бартенев повернулся к нему, долго смотрел в лицо, потом странно смущаясь и отворотив глаза от собеседника, точно про себя пробормотал: «Мне померещилось, что у вас совсем не логики недостаток».
— Конечно, грехи мои явны, — Нальянов рассмеялся. — Окромя гордыни бесовской, грешен всем набором барским — от безделья и лени до уныния.
Бартенев, раз подняв глаза на Нальянова, тут же и опустил их.
— Я вам не духовник. Но, хоть и умны вы пугающе, кажется, несчастны очень, — он умолк, заметив, что Нальянов отшатнулся.
Монах стал торопливо прощаться. Нальянов, как заметил Дибич, на прощание взял благословение, а после, не глядя на монаха, медленно пошёл к дому.
Дибичу не понравился услышанный разговор — и какой-то схоластической дидактичностью, и своей неотмирностью, и тем, что Нальянов был столь красноречив не с ним, а с монахом. Он поймал себя на том, что едва ли не ревнует. И бунтовало не самолюбие — снова заныло сердце. Он вышел из тени, шаги его зашуршали по гравию, и Нальянов, уже севший на скамью у входа, обернулся.
— А, Андрей Данилович! — он поднялся навстречу Дибичу.
— Не знал, что вы с монахом-то знакомы.
Нальянов вдруг подался вперёд.
— Агафангел? Вы его знаете?
Дибич кивнул.
— Конечно. Учились вместе. Безумец. Загубленная жизнь. Сын Гордея Бартенева, богача-промышленника. Способности к математике, физике. Ему прочили блестящее будущее — и вот, всё насмарку. Богоискатель… Он служит в Павловске.
— Григорий Бартенев, — пробормотал Нальянов, кивнув, и продолжил, резко меняя тему, — ну, и объясните теперь, Бога ради, смысл вашего красноречивого взгляда. Зачем вам пикник у Ростоцкого, точнее, зачем вам на оном увеселении я?
Дибич сел на скамью.
— Честно? Я заинтересовался иррациональными вещами, а именно — вашим колдовским обаянием, и хочу попытаться разложить его на составляющие. Проанализировать.
Нальянов расхохотался, хоть и негромко и не очень-то весело.
— Объектом разума может быть только рациональное, дорогой Андрей Данилович, — заметил он. — Иррациональное же непознаваемо по определению. Его можно ощутить, но это, мне казалось, не про вас.
— Господи, вы отказываете мне в способности чувствовать? — удивился Дибич.
— Боже упаси. Но вы собираетесь познавать фантомы.
— Ну, нет. Вы — просто колдун. И я докопаюсь до разгадки.
— Колдовство — в женской глупости, дорогой Андрей Данилович. Только женщина может быть одновременно верить комплиментам и быть уверенной, что мужчинам верить нельзя. — Нальянов невесело усмехнулся. Он снова, казалось, зримо удалялся в свои мысли, был рядом и в то же время бесконечно далеко.
— А как вам ваша сегодняшняя дама, мадемуазель Галчинская? — любезно осведомился Дибич.
— Она совершенно невыносима, но это её единственный недостаток, — с улыбкой ответил Юлиан, но глаза его в свете фонаря были почему-то откровенно злы.
Дибич подумал, что ему померещилось. Он попрощался с Нальяновым, однако направился вовсе не домой. Ему совершенно нечего было делать дома, и он решил сходить к Малеру: его портсигар опустел. Франц Малер жил на втором этаже над своим магазином и покупателям был рад в любое время. После Дибич медленно побрёл по тёмной улице, освещённой только у почты.
На душе было гадко. Дипломат никогда не выйдет из себя непреднамеренно: «нестерпимое положение» на дипломатическом языке означает положение, когда неизвестно, что делать, и потому приходится терпеть. И сейчас он попал именно в такое положение.
Мысли его были далеко, а воображение услужливо нарисовало перед глазами картину: кареглазая красавица, чьи тёмно-рыжие волосы отливали радужными бликами в отблесках каминного пламени. Он возжелал эту красотку, и теперь, морщась, вспомнил высокомерные слова Нальянова, столь унизившие его. «Зря…»
Однако, этот наглый барич та ещё штучка, мрачно подумал он. Лжёт и не краснеет. Неужто равнодушен? Неужели он способен предпочесть красотке Климентьевой — эмансипированное чучело? Но Дибич знал и Елизавету Елецкую. Ценил не высоко, девица казалась взбалмошной и недалёкой, но красавицей была редкой. Точно ли Нальянов совратил её, как сказал Маковский, или… как намекнул сам Нальянов, он пренебрёг ею? Павлуше да Бориске верить — себя не уважать.
Дибич пошёл к почте. Окно ещё горело, и он торопливо взбежал по ступеням. Телеграмму отправил в Париж Максу Лисовскому, которого в дипломатическом мире звали Ренаром. С кем только не связанный, он знал столь многое, что больше него не знали председатели обеих палат парламента, Леон Буржуа и Шарль Дюпюи — вместе взятые. В телеграмме Дибич попросил Ренара поделиться с ним сведениями: имела ли место связь Нальянова и Елецкой?
В точности данных Ренара сомневаться не придётся.
Глава 11. Разбитые мечты
Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным.
Сенека…Елена Климентьева всю ночь не смыкала глаз. Она ничего не понимала. Чтобы ей предпочли какое-то пугало в мужском пенсне — это не укладывалось в её голове. Но предпочтение это было даже демонстративным. Ей вспомнились странные слова тётки о том, что Нальянов — не человек, а нежить, и надо держаться от него подальше. Тогда Надежда Андреевна отказалась ей что-либо объяснять, да и разозлилась не на шутку. Но почему? В поведении Нальянова пока сквозило праздное волокитство за явно доступной и вульгарной девицей, и дипломат сказал, что Нальянов не ищет в женщине высоких достоинств и не умеет их оценить. Но во всём этом сквозило что-то нарочитое, точно напоказ сделанное. Почему? Не потому ли… ах, как хотелось в это верить, что он хотел скрыть свои подлинные чувства?
Анна Шевандина тоже была расстроена, но по другому поводу. Нальянов одним брезгливым движением брови и презрительным взглядом странно обесценил всё, о чём она мечтала. Высокие идеалы сразу показались ничтожными и жалкими, цели — неважными и даже смешными, а сами её учителя, Осоргин и Харитонов, в присутствии Нальянова не могли вымолвить ни слова, жалко блеяли что-то невразумительное. Но сам Нальянов отказался сказать, что исповедует. Почему? Ей смутно подумалось вдруг, что он считал собравшихся не достойными откровенности и не хотел «метать бисер…»
Анна вдруг испугалась этих странных новых мыслей, они нервировали. Ей и самой иногда казалось, что Харитонов не особо-то верит в то, что декларирует, и, хоть и говорит о самопожертвовании для народа, сам никогда и ничем не пожертвует, что братья Осоргины вовсе не революционеры, а недалёкие и неприятные обыватели, а Гейзенберг, несмотря на провозглашаемую веру в идеалы, идеалом считает заливное из поросёнка и телячьи ножки под французским соусом. Теперь эти опасения почему-то стали для неё очевидным фактом. Но что проповедует Нальянов? Почему он скрывает свои взгляды?
…Анастасия засветила ночник и села на кровать. В дверь постучали. На пороге показалась Елизавета Шевандина.
— А Анюта-то не солгала, — проронила она, опускаясь в кресло, — он завораживает, глаз отвести невозможно.
— Он тебе понравился? — отстранённо поинтересовалась Настя.
— Не знаю… Но странно, что в одном человеке столько слилось: лицо, фигура, манеры, голос, ум. Он удивительный, конечно, — Лиза была грустна и вяла. В голосе проступила тоска.
Настя бросила внимательный взгляд на Елизавету. Некрасивая девица, лезущая из кожи вон, чтобы приглянуться красавцу, уподобляется нищенке на паперти, но Лиза не пыталась понравиться Нальянову. Настя подумала, что красота Нальянова просто заставила её присмотреться к Осоргину, и невольно возникшее сравнение не могло не расстроить её. Но ей не было жаль Лизу.
— Твоя крёстная говорит, на красивых мужчин нужно любоваться, как на картины в Эрмитаже.
— Правильно говорит, — вздохнула Елизавета, но голос её был совсем неуверенным и даже жалким.
* * *
Сергей Осоргин ушёл от Ростоцкого мрачнее тучи. Нальянов, наглый барин, глумящийся и дерзкий, не выходил у него из головы. Не выходил не только потому, что проронил слова, странно совпавшие с его собственными делами, но и из-за того издевательского, презрительного тона, каким говорил о том, что Сергей привык считать самым важным. «Готовность на смерть не может извинить склонности оценивать истину по кухонным критериям, избавить от бескультурья, оправдать отсутствие глубоких знаний и неспособность к серьёзному мышлению… Почему при таком обилии героев у нас так мало порядочных людей, и почему все эти герои, начав с готовности пойти на эшафот, кончают обычно вином, картами да сифилисом?»
Ему показалось, или Нальянов точно посмотрел в эту минуту прямо ему в глаза? Сегодня утром он понял, что визит в печерниковский притон дорого ему обошёлся, хоть у врача ещё не был. Случившееся парализовало его мысли, он упорно надеялся, что всё обойдётся, но признаки были слишком отчётливы. Не хотелось думать о случившемся.
Внимание Нальянова к Ванде ничуть не удивило его, как остальных: Ванда и Мари в его глазах были обычными шлюшками, они никому не отказывали, а раз так, почему бы этому барину ими пренебрегать? Осоргин как-то не соотнёс слова брата о Нальянове с охранкой, а рассказ за столом Ростоцкого свидетельствовал о связях этого типа с Угловкой. Ни Тузикову, ни Галчинскую Сергей в расчёт не брал — голова была занята другим.
Прерывая его размышления, в дверь постучали. Пришли Арефьев и Галичев, деловые и серьёзные, явно удручённые чем-то.
— Встречи теперь будут на Лиговке в конспиративной квартире, занятой Грязновой, — начал Галичев буквально с порога, — завтра пойдёте с Тихоновым к Анненскому в Троицкий переулок, надо вынести чемодан с печатями, штемпелями и красками, тетрадями с образцами текстов для паспортов, формуляров и удостоверений.
Осоргин отметил, что Галичев очень бледен, точно болен, а Арефьев мрачен и насуплен.
— Что-то случилось? — осторожно спросил он.
— Кундалевич, — брезгливо прошипел Арефьев. — Квятковский сообщил, что он арестован в Публичной библиотеке. Оставил в кармане пальто три номера «Народной Воли», а швейцар, заметив их, донёс. Его арестовали при выходе из библиотеки. Кретин, просто кретин.
Сергей видел, что оба не столько расстроены, сколько напуганы. Кундалевич, плюгавый, хрупкого сложения, легко мог заложить всех. И всё же, явное пренебрежение к арестованному почему-то задело.
— А в ночь вчера Мартыновского взяли, — зло добавил Галичев. — Обыск проводился полицией без жандармов и чинов прокурорского надзора, трое просто рылись в номерах, в которых жил Мартыновский. Они уже уходили, да, представь, нашли в столовом ящике гальванические запалы. Тогда приступили к тщательному обыску, нарыли принадлежности для взрывов, химию для взрывчатых веществ, а в числе документов «паспортного стола» — копии паспортов, по которым жили Квятковский и Фигнер, уже арестованные. Но всего ужаснее, что нашли черновой проект метрической выписки о бракосочетании канцелярского служителя Лысенко с дворянкой Рогатиной. По справке в адресном столе оказалось, что супруги Лысенко живут по Сапёрному переулку. Полиция пошла туда с обыском, те открыли стрельбу, подтянулись жандармы, и квартира была взята.
Сергей помертвел. Это была квартира типографии. Галичев добавил, что Софья Иванова и Бух, изображавшие супругов Лысенко, Цукерман и Грязнова тоже арестованы. Бумаги, найденные у Мартыновского, разбираются в секретном отделении у градоначальника на Гороховой.
— Но это верные люди, они ничего не скажут…
Осоргин осёкся, поняв по лицам товарищей, что те придерживаются совсем другого мнения.
— Они умеют правду выколачивать. В прошлый раз эта бестия из полиции, Котляревский, разговорил Гольдберга, уверил его, что в результате его откровенности будут крупные политические реформы и что никто из оговорённых не пострадает, ни один волос не упадёт ни с чьей головы. Тот, дурак, Котляревскому это потом и напомнил, после того, как всё выболтал, гнида. А тот ответил: «Верно, мол, волосы не упадут, но голов попадает немало». Сука Гольдберг повесился в камере. Да что с того-то? Поздно, что тут скажешь.
Осоргина странно покоробила ругань дружков. Он понимал — если возьмут его, то и по его адресу они точно также уронят: «Идиот» или «сука», и брезгливо махнут рукой, но дело было даже не в том. А в чем? В памяти снова всплыли давешние слова барина Нальянова, презрительные и изуверские: «Глупо каждое деяние оценивать по принципу, — грозит ли за него смерть? Как раз в этой преувеличенной оценке смерти и скрывается самая большая трусость. Подумаешь, смерть…» Осоргин помнил, как это прозвучало. Барин подлинно ни во что не ставил смерть. Он именно не преодолевал страх, а не знал страха вовсе. Именно это и задело Осоргина.
Между тем дружки продолжали:
— Теперь слушай. Надо подготовить покушение на генерал-губернатора Гурко. Мы устроили наблюдение за его выездами. По понедельникам он один ездит обедать на Литейный, недалеко от Невского. Филёры стоят на другой стороне Мойки, где Морская выходит на Исаакиевскую площадь, у дома министерства внутренних дел. Коковский и ты — предполагаемые исполнители, и Тихонов в качестве члена Исполнительного Комитета. Ты будешь первым метальщиком.
Осоргин слушал молча. Бог весть почему, но весь азарт революционной работы, так занимавший его раньше, вдруг схлынул. Неужели он струсил? Нет, вздор. Он просто словно потерял нечто важное, определяющее…
«Когда народный мститель убивает палача…», бросил давеча Харитонов, а барин перебил его: «Он подводит себя под петлю и под невероятный излом души, единственный, кто может убивать без изломов, это как раз палач. У него нет дурного умысла, он всего лишь орудие казни». «Но у революционеров нет другой цели, кроме полнейшего счастья народа, и если достижение этого счастья возможно только путём насилия над палачами, причём тут «изломы души»? У революционера нет души!» «Нет души? Как интересно…»
Этот ли разговор задел его? Или… что-то ещё, непроизносимое, но понимаемое почти кожей? Сергей видел, что Галичев и Арефьев ни минуты не дорожат никем, но хладнокровно чужими телами прокладывают себе путь… Себе? Куда? Вопросы были какие-то мутные, неопределённые и тягостные.
«В смысле политических изменений значение террора равно нулю. Но он искажает самих революционеров, воспитывает в них полное презрение к обществу, к народу, и — взращивает страшный дух своеволия. Какая власть безмернее власти одного человека над жизнью другого? И вот эту-то власть присваивает себе горсточка людей, убивая за то, что законное правительство не желает исполнять самозваных требований людей, до такой степени сознающих себя ничтожным меньшинством, что они даже не пытаются начать открытую борьбу с правительством. Терроризм или бессилен, или излишен: бессилен, если у революционеров нет сил низвергнуть правительство, и излишен, если эти силы есть…» А что если этот барин прав?
Раньше Сергей полагал, что народное счастье стоит любых жертв — и был готов пожертвовать собой. Но так ли интересует Галичева и Арефьева народное счастье? Что их вообще интересует? Но точно, что не его жизнь. «Если убеждения приводят к эшафоту — они совсем не обязательно святы. Но дураков смерть за убеждения завораживает, парализует ум и совесть: для них всё, что заканчивается смертью, освещено, всё дозволено тому, кто идёт на смерть. В свете этой дьявольской идейки всякие заботы о жизни, чести и совести — провозглашаются мещанством…»
Первый метальщик — это почти гарантированный козел отпущения. Ему не выжить. Он трясётся за свою шкуру? Сергей помрачнел. Нет. Как раз на свою шкуру было наплевать. Скорее, иссякла та вера, что поддерживала его готовность идти на смерть, она странно обесценилась, и не только из-за наглых слов вальяжного барина, сколько из-за этих двоих, Василия Арефьева и Виктора Галичева. Их равнодушие к идущим на смерть он замечал, но тогда это казалась требованием революционного дела, однако сейчас он понял, что революционное дело почему-то заставляет этих двоих не подставлять головы под топор, а рубить их…
Осоргин вспомнил Жаркова, предавшего типографию. Он невольно знал о приготовлениях к его казни, ибо они происходили почти на его глазах. Галичев имел с Жарковым несколько свиданий, о которых он сообщал Арефьеву. Свидания Арефьева и Галичева происходили на квартире Осоргина в его присутствии, и из их разговоров для него ясно стало, что под предлогом показать летучую типографию Галичев поведёт Жаркова через Неву. Чтобы Жарков не опасался идти, Виктор должен был предоставить Жаркову следовать за собой. Галичев имел при себе револьвер и кинжал, а Арефьев унёс что-то железное. Сергей тогда не обратил на это внимания, но на следующий вечер, когда на Неве был найден труп Жаркова, всё это получило определённое освещение. Оба тогда поняли, что он догадался. «Не потому ли от тебя сегодня хотят избавиться?», зашевелилась в голове Сергея дурная мысль.
Однажды Арефьев назначил ему свидание в Летнем саду. Сергей пришёл несколько раньше назначенного времени и застал Василия сидящим на скамейке с чрезвычайно хорошо одетым человеком в лакированных ботинках, с цветным галстуком, с франтовской тростью. Выбритый с оставленными маленькими чёрными бачками и усиками, он производил впечатление великосветского хлыща. Не зная, кто это, он прошёл мимо, не подойдя к Арефьеву. Потом тот догнал Осоргина в другой аллее и сказал, не останавливаясь: «Иди домой, скоро буду». Он пришёл и принёс список лиц, у которых должен быть обыск. Если разобраться, он действительно много знал…
Тем не менее, Осоргин быстро и уверенно кивнул, слишком хорошо зная своих товарищей. Упаси Бог дать им понять, что перепуган или колеблешься.
— Когда? — спросил он.
— На следующей неделе. Комитет назначит дату.
Они ушли, и Осоргин остался один. Мысли путались. Раньше он часто представлял себе этот день, день его геройства, его триумфа. Его жертва зачтётся, обессмертив его имя. Он даже заранее готовил последнюю речь на суде. Сколько раз в мечтах он чеканил в лицо царским сатрапам эти жестокие, безжалостные слова: «Каким образом может русское общество бороться за необходимейшие для каждой человеческой личности права? У нас нет сплочённых классов, которые могли бы, как в Западной Европе, сдерживать правительство путём печати и парламента, у нас отняты все пути к нормальному проведению в жизнь своих убеждений. Общество только террором может защищать свои права. Среди русского народа всегда найдётся десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за своё дело. Таких людей нельзя запугать…»
Сейчас он был растерян и испуган. Всё оборачивалось как-то совсем не так. А тут ещё этот ужас с печерниковским притоном. Но если он и правда подхватил сифилис — его жизнь и вовсе станет в копейку. Впрочем, заразу можно залечить, а вот дырки в шкуре от осколков бомбы — не уврачуешь.
* * *
Никогда ещё Машеньке Тузиковой не было так плохо. Точнее — тошно. Она привыкла считать себя умнейшей особой и полагала, что ей вполне по силам доказать любому мужчине что угодно. Так и выходило, пока она говорила с Гейзенбергом или Галичевым, Желябовым или Арефьевым. С ней никто не спорил.
Нальянов с ней тоже не спорил. Но не спорил именно потому, что не принимал её всерьёз, причём даже не скрывал этого. Он с презрением относился к современным свободным женщинам, смеялся над их надеждами и идеалами. Но не то было тошно. Этот мужчина сразу затмил всех вокруг: и Гейзенберга и Галичева, и Желябова или Арефьева. Куда им было до него! Машеньке то и дело в ночи мерещились его глаза — зелёные, страстные. Тем сильнее оскорбило её внимание этого красавца к Ванде. Что он нашёл в этой унылой тощей истеричке? Правда, последний поцелуй уже у кареты вроде бы был намёком, что подлинно ему приглянулась именно она, но это не утешало. Что если это простая галантность?
* * *
Нальянов вошёл в парадное тёткиного дома и поднялся в гостиную. Она освещалась только светом горящей лампады в углу и одной свечой на столе, почти догоревшей. К удивлению Юлиана, гостиная не была пуста: на диване спал брат. Валериан, видимо, принял ванну, лежал в банном халате и босой. Лицо его, неподвижное в сонном покое, казалось скорбным: свечное пламя, играя тенями, придавало ему то выражение страдания, то усталости.
Грудь Юлиана начала нервно подёргиваться, дыхание сорвалось. Он сжал зубы, пытаясь успокоиться, но тут Валериан открыл глаза, несколько секунд оглядывал гостиную, пытаясь вспомнить, как тут оказался, потом разглядел брата и поднялся на локте. Он заметил слёзы на лице Юлиана и несколько минут молчал. Потом сел на диване и поправил фитиль свечи. Юлиан присел рядом, молча обнял брата. Тот ответил ему, мягким жестом погладив то место, где под фраком угадывалось биение сердца.
— Ну что ты, Юль, всё в порядке. — Эти успокаивающие слова произвели, однако, на Юлиана совсем иное впечатление. Он истерично завыл, судорожно сжимая брата в объятиях и уткнувшись лицом в его плечо, руки его сильно тряслись. «Мальчик мой», повторял он словно в припадке.
— Нет, нет, перестань, Жюль, — Валериан понимал, что вызвало истерику брата. — Не нужно.
Юлиан тяжело дышал.
— Валье, ты же ни одной женщине не можешь сказать: «Я тебя хочу».
Валериан болезненно поморщился и потёр рукой побледневшее лицо. Долго молчал, потом ответил:
— Пусть так. Но я спас душу и не потерял Бога. В этом же мире я не хотел бы терять только тебя. Успокойся. И ещё…
Юлиан, побелев, резко повернулся к брату. Он вычленил из слов Валериана совсем другое.
— Не хотел бы терять? Ты… ты можешь отречься от меня? — Лицо его испугало Валериана застывшей на нём маской отчаянного спокойствия.
Теперь побелели губы Валериана. Глаза братьев встретились
— «Брат мой Ионафан, любовь твоя была для меня превыше любви женской…» Подлинно превыше, — неожиданно услышал Юлиан и торопливо спрятал в карманы заледеневшие руки. — У меня никого нет, кроме тебя, отца и тёти. — Валериан обнял брата.
Старший Нальянов зло рыкнул.
— Одна баба, одна баба… Она же сделала тебя калекой, а меня палачом. Я столько лет видел в снах это дебелое тело в прорези прицела, сколько лет, — Юлиан закачался, потом умолк, заметив, что Валериан резко отстранился от него. — Я виноват, знаю, — уныло сказал он.
Валериан тихо проговорил:
— Ты невиновен. Невиновен. Невиновен.
— Ты утешаешь меня или выносишь вердикт?
— Я не утешаю, я оправдываю тебя. Прости ей всё и моли Господа простить тебе.
— Я много лет считал себя убийцей, Валье, — Юлиан вскинул руку, заметив нервный жест брата, — нет, выслушай. Я считал себя убийцей и не мог каяться. Я считал себя правым. Я осудил её, хотел убить и считал, что вправе быть палачом. Я им и стал. Я отправил первую возжелавшую меня — в воды чёрные, и любая возжелавшая — пойдёт за ней. То, что потом случилось с матерью, — это всё звенья одной чёрной цепи. Я мог бы всё остановить. Просто не хватило любви. Мне всегда не хватало любви. Почему?
— Молчи, не вспоминай. — Валериан, трепеща, придвинулся к брату вплотную. Боль, жалость и мука сдавили горло. Валериан сел ближе, прильнул к плечу брата. Душа его была в смятении: он не подозревал, сколь мучительно для Юлиана прошлое, и теперь жалел, что не разделил его боль раньше. Юлиан же расслабился: то, что брат не осудил его, радовало. Он обнял своего мальчика, и, любуясь разрезом царственных глаз и тонкими чертами, поцеловал чистый лоб.
Несколько минут оба молчали.
Потом Валериан заметил, что голос Юлиана обрёл твёрдость, а взгляд — хладнокровие и безмятежность, и Валериан, видя, что брат успокоился, вздохнул и улыбнулся.
— Скажи мне наконец, что за история с той девицей? Ты мне в марте так и не ответил. Левашов везде болтает, что всё из-за тебя…
— А… Софронова, что ли? Мне нечего сказать. — Юлиан нахмурился, — за пару недель до Рождества я начал получать от неё длинные слезливые письма, из коих и первое не смог прочесть дальше второй страницы, а их было семнадцать. Я не отвечал. Да и что я мог ответить, Господи Иисусе? Остальные, не читая, сбрасывал в личное отделение стола. Потом по поручению отца поехал в Вильно по делу Лисовских, а вернувшись, узнал, что она приняла сулему, оставив записку о моей жестокости. Я не запомнил её имени, но удивился. Какая жестокость? — Вид Юлиана был грустен и насмешлив одновременно. — Не мог же я читать её романтический бред? А чтобы ты сделал на моём месте?
Валериан был растерян.
— В городе говорят, что девице лучше полюбить чёрта, чем тебя. Я полагал, что ты… я боялся.
— Упаси Бог. Я ни одну никогда не ославил. Каким бы подлецом меня не называли, у меня есть честь. Думаю, что есть и совесть. И даже вера. Впрочем, ныне — это действительно черты вырождения, так что мы оба, боюсь, подлинно выродки, мой мальчик.
Но тут на лестнице послышался шум шагов — и Валериан, достав из кармана платок, быстро протянул его брату, сам же торопливо встал, качнул подсвечник, и фитиль утоп в расплавленном воске. Зала потонула в полумраке.
В комнату вошла тётя, неся в руках поднос с двумя дымящимися чашками кофе.
— Трофим сказал, что вы здесь. Что это вы оба впотьмах-то сидите? — она поставила поднос на стол, — принеси лампу, Валье, — она подошла к камину, вынула из свечного ящика новую свечу, — Юленька, как ты?
Старший из её племянников снова выглядел лощёным светским красавцем: он игриво улыбался, глаза его, правда, с чуть припухшими веками, сияли.
— Вернулся с юбилея Ростоцкого, танцевал до упаду, завтра еду в Павловск, его превосходительство пикник затеял.
— К нам заедешь?
— Да, не люблю в чужих домах ночевать.
— Весь в меня, — счастливо пробормотала Лидия Витольдовна. Она искренне забыла ненавистную невестку, и видела в племянниках сыновей. — Меня тоже не заставишь в чужом доме спать — всё равно не усну. Когда выезжаешь? Поездом? На рысаках?
— Тут и тридцати вёрст не будет, — почесал затылок Юлиан, — думаю, около девяти на своих выехать. Если и не спешить, в десять там буду. В общем, как проснусь — так и в путь.
— Я с тобой экономке записку передам и письмо управляющему. Сама, наверное, в воскресение утром тоже приеду.
— Конечно, тётушка.
Лидия Витольдовна ушла писать письма, братья же снова сели вместе на диван. Ничего истеричного в Юлиане больше не проступало. Теперь это был спокойный разговор чиновников. Валериан деловито спросил, не заметил ли Юлиан чего на юбилее. Тот задумчиво пожевал губами.
— По твоему совету я наступил на больную мозоль каждому. Полька эта, коньяка налакавшись, сказала, что во Франции отродясь не бывала. Я про любовь песенку завёл, но ничего ценного из неё не выдоил. Не просить же дуру рассказать мне про всех её любовников. Француз… Прямо я о нём упомянуть не мог. Если на пикнике толку не будет, — лицо его перекосилось, — придётся приставить слежку. Недели за две всё выясним. Но время терять не хочется.
— За ней уже следят, если она сегодня с кем-то встретится — Тюфяк доложит. Хоть и вряд ли. У них, наверное, определённые дни для встреч.
— Если этот Француз её любовник, для случек им любой день подойдёт. Я на всякий случай и с Тузиковой мило простился. Случись что, стравлю их. Ревнивые бабы друг друга за грош ломаный продадут. Впрочем, нечего загадывать, как сложится, так и сложится. — Юлиан помрачнел и проронил. — Я жалею уже, что связался с Дибичем. Слабовольный истерик.
— Даже так, — усмехнулся Валериан. — А мне казалось, он тебе нравится.
— В царстве слепых косоглазый — король, но косоглазие всё равно косоглазие. Он — страстен, — уронил Юлиан, точно зачитывал приговор. — Страсть — привилегия людей, которым больше нечего делать. Под сильными страстями только слабая воля, а я боюсь слабовольных. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь. Ладно, я глаз с него не спущу.
— Да что в нём такого-то?
— Кто не способен ничего вынести, парадоксальным образом может решиться на все, а так как сила воли слабых называется подлостью, я начинаю понимать, что риск несоразмерен выгоде.
Братья умолкли и каждый, казалось, задумался о чём-то своём. Вскоре появилась тётка с письмами, и все разошлись по спальням.
На рассвете Юлиан выехал на рысаках в Павловск, и уже к семи подъехал к дому.
* * *
Сергей Осоргин в последний перед отъездом в Павловск день на конспиративной квартире снова встретился с Арефьевым. Покушение было расписано по минутам, динамит был готов, его должен был принести во вторник Галичев. До Сергея все эти приготовления как-то не доходили, точнее, он старался просто не думать ни о чём. Мысли расплывались, вместо них проступали звуки — то боя часов, то скрипа половиц, то отдалённых разговоров.
Ещё вчера он поймал себя на том, что боится — до животного ужаса. До этого было скучно. Однозвучно тянулись дни, недели, годы. Сегодня, как завтра и вчера, как сегодня. Молочный туман, серые будни. Жизнь, как тесная улица: старые, низкие дома, плоские крыши, фабричные трубы. Туман. В белёсой мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? В Петербурге хмурилось утро. Волны в Неве, как свинец. За Невой расплывалась туманная тень, острый шпиц: крепость. Потом день потух, зажгли фонари. Ревел с моря ветер. Бурлила в граните Нева.
Вчера вечером он пришёл на вокзал, машинально сел в поезд. С лязгом прогремели буфера, согнулись рессоры. Засвистел паровоз. Торопливо в окне промелькнули огни. Торопливо застучали колеса. Ему нужно пойти на смерть. Зачем? Для сцены? Для марионеток? Он не думал, что надо убить. Это было не важно. Надо умереть. Нет, нет, нет.
Ничья жизнь не имела смыслю Но он не хотел умирать.
Неожиданно мелькнула мысль пристрелить Галичева, когда тот придёт во вторник с динамитом. Но он понимал, что не выстрелит. Галичев придёт не один.
Зачем он ввязался в это? Зачем? Почему все эти люди вокруг веселятся и пьют, они будут жить, а он должен идти на смерть? Ночью снова пошёл дождь, стуча по железным крышам. И так до виселицы, до гроба.
Он не хотел гроба.
Глава 12. Молох морали
Полиция — единственная профессия, в которой клиент всегда не прав.
Автор неизвестен.Летняя резиденция Лидии Чалокаевой в Павловске не уступала её городскому дому. В имении были весьма искусно созданные альпийские горки, большой пруд, над которым нависал арочный мост, наполовину скрытый бледно-зелёными ветвями старой плакучей ивы. В тени таких же ив в аллее терялись скамейки, вдали, в прогале старых каштанов светились решетчатые ворота — выход на реку. До Славянки было рукой подать, осенью её русло было видно меж деревьев, но сейчас молодая листва закрыла его.
Юлиан бродил по парку у дома, безучастно разглядывал с каждой минутой всё более розовеющее небо над кажущимся задымленным ельником. В комнатах пахло свежей зеленью и мягкой земляной сыростью, с тёткиного пруда доносились звучные лягушачьи трели, а откуда-то с вершин тополей слышался резкий вороний грай. Вид причудливых облаков на золотом востоке, словно проколотых копьями солнечных лучей, был каким-то картинным, точно нарисованным старым мастером перуджийской школы.
Нальянов досадовал на себя: целый вечер у Ростоцкого потерян. Он так и не смог навести разговор с эмансипе на Француза, а между тем Валериан был прав: время уходило. Лицо Юлиана исказилось злостью, он подумал, что если не удастся добиться нужных сведений от Галчинской здесь, в Павловске, недурно бы подставить её под разборки «товарищей»: для этого просто достаточно дать знать тому же Осоргину, неважно, старшему или младшему, что девица выдала подполье. Собственно, своими ухаживаниями у Ростоцкого он старался добиться того же самого, но делал это неосознанно. Сейчас, осознав свои планы, вздохнул.
«Ты сатанеешь…», вспомнились ему слова брата.
Он тогда возразил Валериану, но не мог не понимать, что брат прав. «Холодный идол морали…» Нирод сказал это ему самому в пылу перепалки. Сказал, излишне много зная о нём — по родству. Глупцы истолковали брошенную фразу по-дурацки, но сам Юлиан ни на минуту не обольщался: он хорошо понял старика, хоть тогда отшутился: «Очень сложно быть идолом морали в мире, где давно не осталось морали».
Но вот, старик оказался прав. Ныне он подлинно становился Молохом Морали, он — аскет и моралист, давно начал уничтожать себе не подобных. Он не создавал вокруг себя чистоты — сталкиваясь с ним, возникала смерть. Юлиан некоторое время полагал, что, не имея умысла к злу, сам устоит. Просто нелепый случай отрочества сделал из него палача, полагал он. Он стал Палачом Бога, но эта вакансия была занята дьяволом, и сейчас, Бог весть почему, Юлиан осознал в себе дьявола. Стало быть, да, он подлинно осатанел. Где он ошибся?
— Трифон! — громко позвал он, и когда камердинер возник на пороге, спросил, — слушай, а монах Агафангел — где служит? Я слышал, что тут, в Павловске.
— Тут, — кивнул старик, — он при церкви Марии Магдалины, с протоиереем местным, Василием Шафрановским, служит, спит на чердаке флигеля богадельни, днём — в Мариинском госпитале для увечных воинов помогает, вечерами со старшим врачом Игнатьевым в шахматы играет. Но вчера он в Питер уехал, вернулся ли к службе — не знаю.
— Хорошо, — лениво кивнул Юлиан.
Камердинер исчез. Нальянов, плохо спавший ночь и рано поднявшийся, лёг на диване в гостиной и веки его мгновенно сомкнулись. В мареве вязкого дневного сна угадывались какие-то образы, всплывали эпизоды последних дней, слова брата, с клироса мерно звучал похоронный напев, чёрное лицо покойника мутно виднелось под белой кисеёй. Потом проступило лицо Дибича в поезде, юбилей Ростоцкого, мелькали лица, проговаривались и расплывались слова, потом, откуда ни возьмись, к нему приблизилась полная женщина в светлой кофте с рыхлым лицом и бесцветно-пепельными волосами. Поднялось дуло ружья, он видел её в раздвоенном жале прицела.
Юлиан пробудился от тяжёлой дрёмы, точно от болезни. «Но, хоть и умны вы пугающе, кажется, несчастны очень…» Слова эти не обидели — просто оцарапали. Разве он несчастен? Счастлив ли дьявол?
Туман над ельником давно рассеялся, солнце стояло высоко над липами, и, услышав, как в гостиной пробило три, Юлиан вышел на боковое крыльцо и обернулся на звонкий женский смех. Вот и они. На соседнюю дачу генерала Ростоцкого приехали несколько экипажей, слуги вносили в дом саквояжи и шляпные картонки, девицы Тузикова и Галчинская, замеченные им издали, стояли в изломанных позах, видимо, казавшимися им изящными, шумно восхищались красотой пейзажа. Братья Осоргины тоже мелькнули среди гостей. Звонкие девичьи голоса и смех отдавались эхом в тёмной, росистой чаще сада, где царила глубокая тишина. Где-то далеко, у реки, лаяли собаки. Порыв ветра обломил на вершине старого вяза сухую ветку и она, прошуршав по шершавым листьям, упала на дорожку аллеи. Голоса вскоре смолкли — все, видимо, располагались в доме.
Заметил Юлиан и Дибича. Тот неторопливо вышел за ворота дачи Ростоцкого и направился к его дому. Заметив издалека, помахал рукой. Подойдя, поздоровался и тут же спросил:
— Вы не против, если я переночую у вас, а то в генеральском доме меня с кузенами поселить хотят, — на лице Дибича было расстроенное выражение.
Нальянов кивнул, зная, что с Осоргиными тот подлинно не ладит.
— Конечно, дом пустой, свободных спален два десятка. Располагайтесь. Не занимайте только белый будуар на третьем этаже. Завтра обещала приехать тётя, это её спальня.
Дибич искренне поблагодарил, вернулся в дом к генералу и известил Ростоцкого, что ночевать будет у Нальянова, быстро притащил свой сак и распаковал его в одной из спален на втором этаже. Нальянов не помогал ему, а ушёл к себе и вскоре появился в тёмных брюках, лёгком свитере и щегольской охотничьей куртке, явно собираясь прогуляться. Дибич иронично заметил, что выглядит Юлиан Витольдович как модный тенор итальянской оперы, услышал в ответ предложение катиться к чёрту, но ничуть не обиделся.
Нальянов зевнул и пожаловался:
— Я плохо спал, под окном полночи выла собака. Чуть свет выехал сюда, не выспался.
— В ваши годы, Юлиан, мужчина плохо спит из-за совсем других вещей.
Нальянов недоуменно посмотрел на него, потом усмехнулся.
— А… я и забыл. Голодной куме всё хлеб на уме, — губы его скривились, — и когда же пикник?
— Сегодня вечером хотят наловить рыбы, там, за Сильвией, а завтра — с полудня — развернётся торжество. Холодные куры, ветчина, настоящая уха, ящик крымского вина.
Нальянов, казалось, не слушал, но потом кивнул. Дибич решил пройтись к месту пикника и пригласил на прогулку Нальянова, но тот сказал, что догонит его, а пока — поздоровается с Ростоцким.
* * *
Старая Сильвия, поросшая густым хвойным лесом, была частью дворцового парка императора Павла, она, обильно украшенная скульптурами, густыми зарослями деревьев и кустарников, была излюбленным местом пикников и прогулок. В центре её от круглой каменной площадки со статуей Аполлона лучами расходилась дюжина аллей, приводивших то к статуе Актеона, то Ниобы, то к Амфитеатру, то к Руинному каскаду. У паркового павильона в конце Липовой аллеи, на границе Сильвии, зелень листвы создавала множество затенённых уголков.
К павильону мимо траурных чугунных ворот, на столбах которых красовались опрокинутые затухающие факелы, вела уединённая дорожка. Андрей Данилович миновал ворота. Павильон напоминал древнеримский храм-эдикулу, со стороны главного фасада он был прорезан полукруглой нишей. На круглом пьедестале из тёмного мрамора возвышались две белые урны, обвитые гирляндой и укрытые одним покрывалом. Крылатый Гений отбрасывал покрывало, а скорбящая женщина в античной тоге уронила голову на горестно вытянутые руки. Дибич вздохнул. Здесь, у кенотафов, его вдруг перестали волновать суетные мысли. Что он мается из-за девицы, все мысли которой — о другом? Что ему за дело до Нальянова? Впрочем, опомнился он, в конце концов, это и есть жизнь, суета, наполняющая каждый день подобием забот и дела.
Минувшей ночью он почти не спал, стоило ему чуть сомкнуть веки — проступала Елена. Он сжимал её в объятьях, и его ласки вырывали у неё крик, который дышал всем сладким мучением плоти, подавленной бурей наслаждения. В его объятиях она становилась прозрачным существом, лёгким, зыбким, но стоило только кому-то из них сильнее вздохнуть или чуть-чуть шевельнуться, как невыразимая волна пробегала по разгорячённым телам. Это одухотворение плотского восторга, вызванное совершенным сродством двух тел, завораживало его.
Лёжа на спине во тьме, он смыкал веки и звал её всем своим существом, воображал, как она намеренно-медленным движением нагибалась над ним и целовала. Все его члены содрогались неописуемым волнением, в своем напряжении похожем на ужас связанного человека, которому грозит быть клеймёным. Когда же, наконец, уста её касались его, он с трудом сдерживал крик, и пытка этого мгновения нравилась ему.
В пламени этой страсти, как на костре, сгорало всё, что было в нем дурного, искусственного, суетного. После этих пустых блудных лет, он верил в это, он вернётся к единству сил, действия, жизни. Именно в слиянии с ней приобретёт доверчивость и непринуждённость, сможет любить и наслаждаться юношески.
Потом он видел в грёзах, как она брала свою утреннюю ванну и воистину, ничто не могло сравниться с благородной грацией этого тела в тёплой воде, отсвечивавшей нежными отблесками серебра. К утру приступы желания и боли стали так остры, что, казалось, он умрёт от них. Ревность к Нальянову снова пробудилась. Иногда им овладевала низкая злоба против этого превосходящего его мужчины, полная горечи ненависть и какая-то потребность мести, как если бы Юлиан обманул его, предал.
Минутами он думал, что не хочет её больше, не любит и никогда не любил. Это внезапное исчезновение чувства он уже знал, это было духовное отчуждение, когда в вихре бала или в постели любимая женщина становилась совершенно чужой ему. Но такое забвение было непродолжительно. Спустя минуту в крови и в душе его оживала и загоралась страсть. И его снова смущало беспокойство и тяжёлое плотское томление, совсем не юношеское, а казалось, зрелое и даже чреватое надломом сил…
* * *
Тут на тропинке возник Нальянов, всё такой же хмурый и недовольный, снова пожаловавшись, что совершенно не выспался. Вскоре в парке появились гости Ростоцкого. Они остановились на берегу Славянки, в месте, которое знал Левашов — здесь у него хорошо клевало. Осоргин-младший занялся разведением костра, Тузикова помогала ему, Гейзенберг пытался играть на гитаре, Леонид Осоргин курил и гладил собаку хозяина, борзую Линду.
Анна смотрела на Нальянова требовательным и ищущим взглядом, Анастасия и Лизавета сидели молча, а Ванда Галчинская попросила Гейзенберга перестать бренчать и забрала у него гитару.
— А вы умеете играть, Юлиан Витольдович? — кокетливо спросила она. Сегодня в ней было куда больше женственного, чем накануне. Платье с кружевами. Изящные туфельки. Монокль исчез. Волосы были расчёсаны на пробор и украшены красивой заколкой.
Тот молча протянул руку к инструменту, пробежал пальцами по струнам, несколько минут, морщась, подтягивал колки, потом заиграл.
Все замерли, Дибич обмер. Нальянова нельзя было упрекнуть в дешёвом щегольстве, Юлиан явно был виртуозом гитары: благородная сдержанность, исключительная чёткость и чистота интонаций говорили об утончённом мастерстве и безупречном вкусе. Флажолеты, глиссандо, выразительное вибрато, стаккато и легато — всем он владел в совершенстве.
Все перестали суетиться, девицы окружили Нальянова. Деветилевич, до этого уходивший за хворостом, тоже подошёл и теперь, опершись о ствол старого дуба, не сводил мрачных глаз с Елены Климентьевой, заворожённо слушавшей игру Нальянова.
Не сводил с неё глаз и Дибич, но неожиданно подхваченный этой колдовской музыкой, он словно остался один в бесконечности. От всей его юности, от всех идеалов не оставалось ничего. Внутри зияла только холодная пустая бездна. Всякая надежда погасла, все якоря были сорваны. Зачем жить? Добиваться новой любви? Но в любви всякое обладание обманчиво, всякое наслаждение смешано с печалью, всякая услада половинчата, а сомнения портят, оскверняют все восторги, как Гарпии делали несъедобной всякую пищу Финея.
Нальянов продолжал играть. Дибич отвёл глаза от девушек — пальцы и лицо Юлиана приковали его внимание. Он смотрел, слушал, немой, сосредоточенный, умилённый, словно проникаясь волною бессмертной жизни. Никогда музыка не вызывала в нём такого волнения, как эти аккорды, приветствующие восход Дня в небесах Триединого Бога. Он чувствовал, как над душою поднималось нечто вроде смутного, но великого сна.
Но плавный аккорд точно пробудил его — и вихрем изменил мысли. Сквозь белизну весенних платьев девиц проступили родинка на груди и несравненный живот Элен, гладкий, как чаша из слоновой кости. В её серебристом голосе он услышал другой, хриплый и гортанный, утончённо развращённый звук, напоминавший мурлыканье кошки у очага или воркование горлицы в лесу.
— Что это за мелодия? — восхищённо спросила Мари Тузикова, едва музыка смолкла.
Нальянов передал гитару Гейзенбергу и ответил с галантной улыбкой, слегка наклонив голову.
— «Импровизации» Фердинандо Карулли, мадемуазель. Впрочем, я их основательно переврал.
Елена сидела молча, глядя на весенние листья молодого клёна, но явно ничего не видя, вся во власти умолкнувшей музыки. Дибич поднял на неё глаза и понял, что его любовь безнадёжна. Сама эта безнадёжность — его желаний, надежд, притязаний — была не проговариваема, но остро ощутима, как ощутимы были для его разгорячённых ладоней порывы ветра и как проступал в ушах треск ломаемого Девятилевичем хвороста для костра. Сердце его сжалось — мучительно и болезненно. Безнадёжно. Безнадёжно. Дибичу казалось, что в самом этом слове заключена вся мука его поражения. В душе его зашевелилась змея, но не столько змея оскорблённого самолюбия, а, скорее, боли неудовлетворённой страсти.
Харитонов затеял с Нальяновым какой-то спор, который, однако, скоро угас из-за односложных ответов Нальянова, но напоследок Илларион робко спросил Юлиана, каким он видит социальное будущее России. Он сторонник медленных реформ?
Нальянов со вздохом пожал плечами.
— Господи, Ларион, зачем вам реформы? Вы любите слабых и бедных, но любите именно как идеал. Вы боитесь богатства как бремени и соблазна, боитесь прикоснуться к власти, считая всех властвующих — насильниками, и даже образование в глубине души считаете роскошью и верите, что чистота помыслов простецов может возместить всякое знание. Вас влечёт идеал простой, убогой и невинной жизни. Но все это есть в России и без всяких реформ, в любой деревне. Вы не умеете сделать слабых сильными, бедных — богатыми, невежественных — образованными. А раз так — что вы ищете среди реформаторов?
— Но передовая русская мысль не может не думать о будущем переустройстве мира…
— Какая русская мысль? — простонал Нальянов. — Наши мысли — это фантом, вехи господства иноземных доктрин. Кантианство, шеллингианство, гегельянство, сенсимонизм, фурьеризм, марксизм, — что ни мыслишка, то иностранное имя. У нас и в помине нет своей мысли. Что до того, о чём думать, — глаза его зло блеснули, и он закончил с неотвратимостью палача, — то лучше не заботиться о переустройстве мира, а навести порядок в своих делах, не забывать застёгивать ширинку и не терять своих очков. — Он поднялся, наклонился и вытащил из-под чьего-то сака очка Харитонова и протянул их Иллариону, смутив того до крайности упоминанием о ширинке.
Кроме Анастасии, хлопотавшей у костра, девицы, сохраняя разделение на «чистых» и «нечистых», смотрели на говорящего с одинаковым вниманием, ловя каждое его слово, и, надо сказать, что на Мари Тузикову и Ванду Галчинскую речь Нальянова впечатление оказывала гнетущее. Мари была мрачна и не возражала, как давеча, а Ванда просто смотрела на Юлиана взглядом больным и погасшим. Сестры Лизавета и Анна бросали на Тузикову и Галчинскую ревнивые и брезгливые взгляды, а Елена просто не спускала с Нальянова глаз.
Дибич мрачно слушал. В душе его по-прежнему шевелилась гадюка. Все его ухаживания были тщетны: стоило появиться Нальянову, Елена переставала его замечать. Он был пустым местом. Но что нужно было ему самому от этой медноволосой красавицы? Не более чем ночь любви. Впрочем, не любви, нет. Просто ночь и ничего больше. Гадюка подняла голову и зашипела. Всё, что требовалось, это записка от Нальянова, приглашающая её на свидание в дом. Почерка Нальянова Елена не знает, значит, ничего и не заподозрит. Ночью все кошки серы и отличить его в Жёлтой спальне от Нальянова ей будет затруднительно.
Ну, а если не придёт? Ну, значит, не придёт. Что ж поделаешь. Девиз Чичикова: «Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай…» Отчего же не попробовать-то? Нальянову девица безразлична, а раз так…
Дибич медленно побрёл вдоль реки, предаваясь этим размышлениям. Он почти ничем не рисковал — не увлекал насилием, не угрожал и не шантажировал. Если девица придёт — винить ей будет некого.
На миг ему стало тоскливо, точнее — навалилось какое-то тяжёлое ощущение чего-то непоправимого, точно он был при смерти, но всё быстро исчезло, точно схлынуло случайным недомоганием, напугавшим, но оказавшимся пустяком. Он оглянулся, снова посмотрел на Елену. Ни одно произведение искусства не оставляло в его душе столь же продолжительного и неизгладимого впечатления. Это тонкое, как стебли лилий, тело, склонённая шея и выпуклый лоб, полные скорби уста, худые, восковые, прозрачные, как облатка, руки, эти красноватые, как медь и как мёд, как бы отделённые друг от друга благоговейным терпением кисти, волосы…
Тут к нему присоединился Юлиан и, к немалому удивлению Дибича, кусая губы и не глядя ему в глаза, неожиданно проронил, что у него нет никаких интересов… в отношении мадемуазель Климентьевой.
— А разве они есть у меня? — холодно осведомился Дибич, почувствовав, как в сердце закипает злость, сворачиваясь змеиными кольцами. Он волновался в присутствии этой девицы, но полагал, что это незаметно. То, что Нальянов, казалось, понимает его волнение, злило.
— Предосторожности смешны в любовных делах, дорогой Андрей Данилович, — проронил в ответ Нальянов, — достаточно подметить позу или взгляд, чтобы понять слишком многое. Я безошибочно угадываю произнесённое шёпотом слово, замечаю слабую улыбку, блеск глаз, умею с искусством карманного вора постичь непостигаемое, уловить отрывок разговора, подметить томность, дрожь, нервное движение руки. Вы влюблены в эту рыжую женщину.
Дибич попросил его оставить эту тему и выразил восхищение искусством Юлиана Витольдовича.
— А вы — просто виртуоз. Когда вы играли, я вспомнил Караваджо — помните его лютниста?
— Он слащав, — насмешливо проронил Нальянов.
— Ваши руки похожи, а лицом вы напомнили мне коронованного Наполеона кисти Давида.
— У него тяжёлая челюсть, — пренебрежительно поморщился Нальянов.
Дибич покачал головой.
Они медленно брели вдоль аллеи, несколько минут принуждённо обсуждали посторонние вопросы, стараясь не смотреть друг на друга, потом свернули с Сиреневой дорожки, совсем уединившись от шума пикника. Здесь Нальянов после долгой паузы вдруг посмотрел прямо в глаза Дибичу и резко заметил:
— Я сказал вам, что мадемуазель Климентьева меня не интересует, — Дибич изумился странному тону Нальянова, озлобленному и резкому. По мнению Андрея Даниловича, тот играл в благородство, но переигрывал, ибо добровольное самоустранение Юлиана унижало достоинство Дибича. Но он не успел рассердиться, как Нальянов продолжил, — только глупости-то, Бога ради, не делайте. Ведь, как ни парадоксально, но проще всего создаются сложности.
Дибич промолчал, ничего не поняв. Точнее, он растерялся, вспомнив, как безошибочно ещё при первой встрече в поезде Нальянов угадывал нюансы его душевного равновесия. Что он имел в виду сейчас? Не прочёл ли он его мысли? Дибич усмехнулся было, но потом снова задумался. Вздор всё это. Они медленно вернулись на поляну. Подуло ветром, начало смеркаться.
Глава 13. Дурная ночь
Чем сильнее страсть, тем печальней её конец.
У. ШекспирМысли Дибича при новом взгляде на Климентьеву вернулись в прежнее русло. Чем он, собственно рисковал? Ничем. Подсунуть ей записку от имени Нальянова труда не составит: народу вокруг полно, вон шляпка Елены, лежит без присмотра, что стоит засунуть записку за ободок?
Он ненадолго отлучился под предлогом, что решил надеть тёплый свитер, и в доме Нальянова внимательно просчитал количество шагов от чёрного хода до своей спальни на втором этаже. Удачным было и то, что с бокового входа наверх вела лестница, на которой было весьма трудно кого-то встретить, на пути девицы никто не мог появиться.
Потом он быстро набросал по-французски: «Toute personne qui ne peut pas vous dire au sujet de votre amour pour tous, prêt ce soir pour vous révéler le secret de son cœur. Montez par la porte arrière sous un saule au deuxième étage après minuit. Nous sommes seuls. JN»[9].
В доме Ростоцкого чёрного хода не было, но Дибич счёл нужным приписать, что девица должна пройти под ветвями ивы — это подлинно покажет ей, о каком доме идёт речь и кто автор записки. Андрей Данилович надел свитер, спрятал записку в карман и устремился обратно в Сильвию.
Под деревьями никого не было, кроме Ростоцкого и Левашова с Гейзенбергом, которые что-то все-таки поймали и возились с уловом, остальные играли в мяч на поляне, и оттуда-то и дело доносились смех и крики. Между тем Нальянов продолжал демонстрировать свои низменные вкусы, однако теперь оказывал нежданное предпочтение Мари Тузиковой. Слишком грузная для игры в мяч, девица сидела в одиночестве на парковой скамье под цветущим каштаном, когда Юлиан, усевшись рядом, занял её каким-то смешным разговором. До Дибича долетали только отдельные слова, но, подойдя чуть ближе, он услышал, что девица со смехом возражает Нальянову.
— Никакой он не француз, Арефьев просто преподаватель французского в гимназии.
— А сами вы, Мари, хотели бы побывать в Париже? — голос Нальянова, мурлыкавшего что-то на ухо девицы, звучал сладострастно, почти медово.
— Кто же не хочет-то? А вы там были?
— Да, я часто бываю там по делам. Paris — le meilleur de la ville, la ville de rêves et d'amour[10].
Дибича не интересовала эта пустая болтовня, но он по-настоящему удивился, что Нальянов готов заигрывать со столь низкопробными женщинами, почему-то ему казалось, что у Юлиана должен быть изысканный и тонкий вкус. Впрочем, задавался он этими вопросами недолго, озабоченный совсем другим: шляпка Елены по-прежнему лежала на скамье, и Дибич осторожно приблизившись, присел рядом и осторожно засунул записку за внутренний ободок шляпки. Потом поднялся и вышел на поляну.
Вскоре к нему присоединился Нальянов: он отчего-то был мрачен и насуплен, глаза метали искры, а губы кривились. Удивительно, но даже такая мимика его не портила: это лицо было красиво и в жестокости. Но это выражение странно не вязалось с только что слышимой Дибичем болтовнёй с Тузиковой, и Дибич даже испугался. Юлиан несколько минут молча озирал поляну и играющих, потом медленно пошёл прочь.
Дибич и Ростоцкий с двух сторон почти одновременно окликнули его, и Нальянов обернулся.
— Вы уже домой, Юлиан Витольдович? — заискивающий тон старика Ростоцкого заставил Юлиана остановиться. — Вы же завтра будете?
Юлиан вежливо кивнул.
— Да, Георгий Феоктистович, непременно, мне просто на почту надо.
— В добрый час, Юлиан Витольдович.
Дибич, оставивший распоряжение Викентию пересылать ему всю почту в Павловск, догнал Нальянова на выходе из парка. Дипломат был уверен, что слова Юлиана про почту просто отговорка, но ему самому не резон было оставаться в Сильвии, и он поторопился уйти с Нальяновым. Если девица захочет прийти — она всё поймёт правильно.
По дороге Дибич полушутя обронил:
— Вы, как я понял, Жюль, пригласили девицу в Париж?
Нальянов снова проигнорировал его попытку к сближению.
— Я, дорогой Андрей Данилович, никого никуда не приглашал.
Дибич с досадой окинул взглядом Нальянова: Юлиан не только снова назвал его полным именем, но ещё и в тоне его проступило что-то раздражённое, почти гневное. Впрочем, Нальянов вскоре оттаял, заговорил о посторонних предметах, а возле почты остановился, извинившись, что ему надо отправить телеграмму. Дибич тоже зашёл вслед за Юлианом в небольшое здание в Медвежьем переулке. К сожалению, на его имя ничего не получали, а Юлиан, видимо, ограничившись в телеграмме несколькими словами, вышел на улицу вслед за Дибичем буквально через пару минут.
Часы Дибича показывали уже седьмой час вечера. Андрей видел, что солнце клонилось к закату, потонув в тяжёлых дымно-серых тучах, и выразил сомнение, что завтра будет солнечно. Нальянов сдержанно кивнул. Чтобы просто поддержать разговор, а отчасти потому, что мысли его против его воли кружили вокруг предстоящего ночного свидания, Дибич осторожно спросил Нальянова:
— А вам, как я вижу, нравятся свободные женщины?
— Я вам уже говорил, Андрей Данилович, что мне никакие не нравятся, — в голосе Нальянова проступила усталость. — И, кстати, я уже говорил вам, не делайте глупостей, по крайней мере, сейчас, пока мы в этом гадюшнике. Я сам не ангел, но эти переустроители мира меня немного пугают.
Дибич искренне удивился. Ни его родичи, ни Деветилевич с Левашовым, ни Харитонов с Гейзенбергом никакого страха ему не внушали.
— Что? Вас можно напугать? И кто — эти пустые болтуны? Бонвиваны и сентиментальные дурачки?
— Я не сказал, что испуган, — педантично уточнил Нальянов, — кроме того, не все, кто болтают, болтуны.
— Вы полагаете…
— Я предостерегаю, — утомлённо выделил Нальянов.
Дибич растерялся, ему показалось, что они говорят о разных вещах.
Между тем они уже подходили к нальяновской даче. У дверей их встретил камердинер, сообщивший Юлиану Витольдовичу, что Лидия Витольдовна нарочного прислали сообщить, что завтра утром приедут-с.
Нальянов молча кивнул.
В гостиной он сел к роялю, и пробежал пальцами по клавишам. Чёрная тень его головы слишком остро легла на белую поверхность рояля, резкий контраст заворожил Дибича и породил в нём странный вопрос.
— Слушайте, а вам никогда не приходило в голову застрелиться? — неожиданно спросил Дибич. К тому же ему всегда казалось, что такой, как Нальянов, обязательно должен думать о суициде.
Но Юлиан удивился до оторопи.
— Даже в голову никогда не входило, — пожал он плечами. — Я же вам говорил, что люблю Бога. Смерть — это совсем не Бог, очевиднейшим образом не Бог.
— И всё же, — теперь удивился Дибич, — неужели ни разу даже с мыслью не поиграли?
— Нет, — отрезал Нальянов. — Один святой говорил, что душа самоубийцы — чертог сатаны, вместилище одержимости, и неважно, вылетела ли пуля из его револьвера, — его уже не спасти. Самоубийство — смерть во имя дьявола. Имейте мужество жить. Умереть-то любой может.
— Жить — тоже, — усмехнулся Дибич.
— Если бы все могли бы жить — никто не игрался бы с дурным помыслом о смерти, — отрезал Нальянов, и разговор оборвался.
Но Дибич, которому надо было скоротать время до полуночи, предпочёл остаться в гостиной с Нальяновым.
— Вы пока не собираетесь возвращаться в Париж?
— Возможно, в конце месяца уеду, — кивнул Нальянов.
— Вы не любите Россию?
Нальянов так удивился, что даже прервал музыкальный пассаж.
— Почему, Господи, я должен её не любить?
— Россия не имеет ни страстей, ни идей Европы. И не говорите, что мы молоды или что мы отстали…
— Я и не говорю, — пожал плечами Нальянов. Он снова начал играть, однако не спускал теперь взгляда с Дибича.
— Значит, вы патриот? — удивился Дибич. — Мне казалось, что умный русский патриотом быть не может. Большое видится на расстоянии, поэтому многие предпочитают наблюдать за Россией издалека. У нас нет общественного мнения, господствует равнодушие к долгу, презрение к мысли и достоинству человека. Нет привычек, правил, ничего, пробуждающего симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного. Я не принадлежу к тем горячим умам, что предрекают у нас расцвет искусств под присмотром квартальных надзирателей и кучки подлецов, вылезших из грязи в князи…
Нальянов пожал плечами, перебив его.
— В чём-то вы правы, — он снова пробежал пальцами по клавишам. — Всё протекает и уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. Мы точно странники: в своих домах как будто на постое, в семье как чужестранцы, мы даже не кочевники, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. Мы чужды самим себе. Но русская душа сложна простотой. Кавардак в головах часто подводит нас к источнику всего и вся. Понятия не имея, что ищем, находим.
Дибич удивился.
— Это вы о себе?
— И о себе тоже, — отрешённо кивнул Нальянов, и неожиданно добавил, — при этом русский человек славится своим умением находить выход из самых дурных ситуаций, Андрей Данилович, но ещё более он славится умением находить туда вход. Впрочем, хватит философствовать, слово «философ» у нас на Руси бранное. Я советовал бы вам пораньше лечь спать.
— Вы рано встаёте?
— Нет, с чего бы? Кто рано встаёт, тому весь день спать хочется, — Нальянов доиграл пассаж и поднялся. — Спокойной ночи, Андрей Данилович.
Он исчез на третьем этаже, а Андрей Данилович осторожно, крадущимися шагами спустился на лестницу и приник к оконному пролёту. В доме Ростоцкого горел свет, в окнах мелькали бледные длинные тени, звучала музыка. Дибичу показалось, что среди других мелькнул её силуэт, и он взволновался. Пробило десять. Андрей решил, что ему лучше подождать у себя в спальне, потом, ближе к полуночи, выйти на лестницу.
Но придёт ли она? Нервы его были напряжены до предела. Придёт, если поверит, что записку писал Нальянов. На миг ему стало холодно и совсем уж неуютно. Унизительно, что и говорить, воспользоваться чужой любовью, да и подло к тому же. Может и правы те, кто именовали его подлецом? Но почему чужая любовь значима, а его — нет?
Дибич задумался. Выходит, он подлинно любит эту медноволосую красавицу? Именно любит? Но что с того? Обладание редко придаёт женщине цену, чаще — обесценивает её. Назавтра, когда голод плоти затихнет, он может просто не узнать её. Его память услужливо напомнила ему былые связи, его любовницы замелькали перед ним одна за другой, но часы неожиданно пробили полночь, и он торопливо поднялся.
* * *
Дом спал и был погружён в тишину. Где-то тихо пел сверчок, а за окном на слабом ветерке усыпляюще шуршали ветви старой ивы. Окна в генеральском доме уже не горели, фонарь на углу был единственным источником света. Дибич осторожно и зорко вглядывался в ночь, рассчитывая, что заметит Елену на входе. Но не заметил, только услышал, как в ночной тишине скрипнула дверь чёрного хода.
Он торопливо устремился в лестнице, не столько увидел, сколько всем телом ощутил приближение женщины. Её тёмное платье сливалось с ночью, лицо едва проступало во тьме. Она тоже, словно почувствовала его присутствие на ступенях, торопливо бросилась к нему. Обнявшись, они дошли до спальни.
Елена, он слышал это в темноте, отбросила на постель платок. Дибич не стал ждать и молча опрокинул её на кровать, больше всего боясь проронить хоть слово, чтобы она не догадалась, что он — вовсе не Нальянов. К его удивлению, а он ждал стыда и сопротивления, это была подлинная ночь страсти, девица любила исступлённо и безумно, всё время упрекала его в том, что он жесток, была ненасытна и горяча.
Под утро она поднялась и, укутав голову шалью, свалившейся во время страстного поединка на пол, точно призрак, растаяла у дверей. Дибич, измотанный и обессиленный, собрался всё же проводить её до дверей чёрного хода, но просто не успел: когда он, накинув халат, вышел на лестницу, там уже никого не было.
Теперь Андрей Данилович медленно приходил в себя. Елена была вовсе не девицей, но оказалась страстной и опытной женщиной. Это так-то странно охладило его, почему-то в мечтах он всегда ласкал её девственное, прохладное тело, и её ответные ласки простирались не дальше сбившегося дыхания или нежного поглаживания. Ему невольно вспомнились издевательские слова Нальянова: «Что до девиц, то там и трёх не наберётся, хоть я и не считал, конечно. Если и были времена, когда я думал, что юные девушки питаются незабудками, лунным светом и утренней росой, то они давно прошли, Дибич…»
Андрей Данилович, несмотря на то, что ловко одурачил Климентьеву, почувствовал себя усталым и разбитым. И — обманутым в сокровенных ожиданиях. Девица, что и говорить, была ловка, умела строила из себя непорочную недотрогу. Но на гнев у Дибича уже не хватало сил. Он опустил голову на подушку и провалился в мутный сон без кошмаров и сновидений, чёрный, как дно колодца.
Разбудил его бой часов и прерывающиеся звуки рояля: Нальянов, в дорогом шёлковом халате играл мефистофелевские куплеты Гуно, временами мурлыкал их по-французски, а порой отрывал руку от клавиш и с явным наслаждением прихлёбывал кофе.
— Знаете, что я подумал, — лениво обронил Юлиан вместо приветствия, — не пойду я на этот пикник. Тётя только что приехала и жаловалась, что давеча ей нехорошо было. Как пить дать дождь будет.
Дибич с сомнением выглянул в окно и пожал плечами. Солнце сияло в чистом небе, на востоке клубились лёгкие облака, никаких признаков непогоды не было.
Сам Дибич был мрачен. В нём совсем не звучала музыка. Игра Юлиана, мастерская и точная, не отзывалась эхом в душе, как было всегда. В голове не возникало ни единого образа. Он ужаснулся.
Лакей внёс завтрак для Дибича, и Юлиан добродушно попросил принести ещё одну чашку кофе для него. Слуга поклонился и исчез, а в комнату вошла высокая дородная женщина со следами удивительной красоты, и Нальянов представил ей своего гостя. Лидия Чалокаева любезно поприветствовала Дибича, заметив, что в былые времена знавала его батюшку, после чего обернулась к Юлиану.
— Совсем забыла передать тебе. Валье, когда провожал меня, сказал, что телеграмму твою получил, и, возможно, на пару дней приедет.
Юлиан задумчиво кивнул. Тётка рассказала о приговоре Соловьёву и начала костерить власти. Как понял Дибич, в семейке Нальяновых-Чалокаевых либерализм был словом бранным, Лидия Витольдовна придерживалась взглядов ультраконсервативных и ругательски ругала министра внутренних дел Макова.
— В прошлом году, после убийства Мезенцова, этот идиот напечатал в «Правительственном вестнике» воззвание к обществу о содействии правительству в его борьбе с разрушительными и террористическими учениями. Читали? Большего бреда и вообразить невозможно! Говорят, когда харьковские и черниговские земские собрания пожелали отозваться на призыв правительства, то были сами заподозрены в политической неблагонадёжности. Боже мой… — она покачала головой и вышла.
Нальянов допил кофе и предложил Дибичу собираться.
— Если уж идём, то нам пора. И не забудьте зонт.
— Я вижу, ваша тётушка не любит либералов, — отозвался Андрей Данилович, — Маков и вправду двигает сомнительных выскочек.
— Разве беда в выскочках? — Нальянов бросил на него задумчивый взгляд. — Беда России не в том, что кучка подлецов вышла из грязи в князи, а в том, что тысячи проделали этот путь в обратном направлении.
Глава 14. Труп в водах Славянки
Не стоит искать причины конкретного преступления — его семена рассеяны повсюду.
Э. МуньеВ доме Ростоцкого подготовка к пикнику заняла всё утро, но даже Ростоцкий заметил, что с его «юными друзьями» что-то не то. Леонид Осоргин и Левашов готовили снасти и обсуждали, где лучше накопать червей, говорили о наживке и лучших приманках, но тон их был отрывистым и нервным. Харитонов, насупившись, смотрел на Анастасию, и, казалось, готов был разрыдаться. Деветилевич исподлобья бросал недовольные взгляды на Елену, по-иному убравшую волосы и надевшую новое платье, Гейзенберг пытался завязать разговор с Вандой, но та, казавшаяся уставшей и поникшей, почти не замечала его, отделываясь короткими односложными ответами. Анастасия, тоже в новом платье, ни на кого не обращая внимания, устроилась в саду на скамье и о чем-то размышляла в одиночестве. Все были странно напряжены — казалось, достаточно искры — и будет взрыв.
Ростоцкий пытался заговорить с Аннушкой, но та сказала, что её нужно переодеться и убежала в дом.
В Сильвии все собрались после полудня, сразу накрыли столы, всех пригласили закусить и выпить за здоровье юбиляра, после чего Левашов и Деветилевич ушли на реку.
Дибич внимательно оглядывал Елену и удивлялся. В ней проступало то надломленное горе неразделённой любви, что и раньше. Она бросала на Нальянова печальные и больные взгляды, и Дибич, ждавший совсем другого, растерялся. Ванда Галчинская и Мари Тузикова не спускали с Нальянова глаз, Анна тоже смотрела на Юлиана, как слепой на солнце, и только Анастасия почти не обращала на него внимания.
Нальянов сегодня неожиданно полностью утратил интерес к эмансипированным нигилисткам и едва поздоровался с ними. Он то и дело оглядывался на ворота, выходящие из парка, и, казалось, ждал кого-то.
Тут Тузикова спросила его, почему он не любит эмансипации.
— Независимая женщина — это женщина, от которой никто не хочет зависеть. Но я, дорогая Мари, за эмансипацию, просто я считаю феминизм слишком серьёзным делом, чтобы доверять его женщинам.
Ироничное презрение, прозвучавшее в последней фразе, несколько приободрило остальных девиц. Нальянов же, отойдя от стола, уединился с Ростоцким, Дибич слышал, как он беседовал с юбиляром, наводя справки по каким-то давно забытым делам, не то уголовным, не то политическим. Молодые люди разбрелись по поляне. Дибич, купивший по дороге газету, то читал её, то наблюдал за Нальяновым. Несколько раз Андрей Данилович проходил мимо Елены Климентьевой, даже пытался заговорить с девушкой, но та отделывалась односложными ответами, и разговор угасал.
На поляне меж тем снова возник спор Харитонова и старшего Осоргина с Гейзенбергом, но до Дибича долетали только отдельные фразы.
— …Либо победит революция, либо конституционная глупость. Если революция, то это будет нечто великое и небывалое, а если все эти либералишки, то будет одной дрянной конституцией и рассадником мещан больше…
— …Мирным развитием общины и артелей нельзя устранить вопиющих неправд, нужно народное восстание. Бакунин прав, русский народ пропитан духом Разина и Пугачёва, и всякий, кто много шатался по народу, скажет вам, что в его голове совершенно зрелы основы социализма. Бунт сразу покроет всю Россию сетью людей из народа, готовых к революции. И тогда успех обеспечен!
— Вздор! Кто поднимет это движение? Крестьяне бессильны, рабочих ничтожное количество Русское образованное общество? Их тоже немного. Остаётся только русская учащаяся молодёжь!
— Чушь! В возможности влияния на этих плотников я совершенно разочаровался! Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, затем уже приходил к своим обобщениям. Но любой кологривец утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты потому, что все поголовно пьяницы и забыли Бога. Я никак не мог сбить их с этой дурацкой позиции. Под влиянием безвыходности, не зная, где искать спасения, все крестьяне бессознательно впадают в суеверное отношение к царю…
Левашов развёл костёр, кто-то пошёл побродить по Сильвии, кто-то ушёл на реку, кто-то собирал хворост.
Дибича что-то удивляло, хоть что именно — он не смог бы сказать. Временами он ловил на себе взгляд Нальянова — тяжёлый и словно укоризненный, но тут же всё и пропадало. Девушки, видимо, перессорились: все были мрачны и не глядели друг на друга, причём не только «барышни» явно враждовали с «нигилистками», но и сестры Шевандины не разговаривали друг с другом, а от Анастасии отворачивались и Анна, и Лиза, и Елена. Дибич поймал взгляд Ванды Галчинской на Настю и отшатнулся — в нём была утробная ненависть.
Мрачен был и Сергей Осоргин. Это тоже было замечено всеми: он не принимал участие в играх и разговорах, просто молча сидел, тупо уставившись на огонь, иногда глаза его оживлялись, но тут же и потухали. Потом и он исчез — ушёл куда-то с собакой.
К вечеру небо медленно заволокло тучами, но не грозовыми, а мутно-серыми, и Нальянов, оставив Ростоцкого, попенял Дибичу на недоверие к предсказаниям его тётки. Андрей Данилович не обратил на упрёк внимания и предложил пройтись.
Оба поднялись и покинули собрание у костра. Они, как и накануне, спустились с Висконтиева моста, побрели по берегу. Заговорили о Париже, о путешествиях. Внезапно сильно заморосило, и Нальянов сказал, что благоразумнее переждать, тем более что дождь, мерно шуршащий по береговой траве, обещал быть недолгим, и здесь, под нависающей древесной кроной, было сухо.
Нальянов, казалось, думал о своём, и Дибич отвлёк его от размышлений.
— Мы здесь одни, и мне хотелось бы, чтобы вы были откровенны со мной, Юлиан Витольдович. Я наблюдал за вами достаточно долго, — Дибич опустился на лежащее бревно, и бросил на Нальянова пронизывающий взгляд, — и не мог не заметить этой странности…
Юлиан Нальянов, опершись спиной о берёзовый ствол, задумчиво смотрел на тихое, едва заметное течение в заболоченной по краям запруде. На слова собеседника он учтиво наклонил голову и чуть развёл руками, словно говоря, что готов удовлетворить его любопытство, однако сам за собой ни малейших странностей не замечает.
Но Дибич не успел поведать Юлиану Витольдовичу ни о его странностях, ни о своих наблюдениях. Со стороны моста послышался всплеск, потом среди кувшинок мелькнуло что-то белое, вздувшееся парусом, и на поверхности воды показалось тело. Дибич обомлел, а Нальянов щурясь, пытался рассмотреть утопленника, потом, сбросив куртку и стянув через голову рубашку, скинул ботинки и ринулся в воду.
Всё произошло как-то слишком быстро. С трудом преодолев оцепенение, Дибич ощутил, что по всему телу прошла волна дрожи, меж тем Нальянов, который за считанные минуты доплыл до тела, уже тянул его к берегу, потом, поминутно отплёвываясь и злобно морщась, ибо стебли кувшинок мешали ему. Наконец он вынес на берег девицу в разорванном, превратившемся в желтоватую тряпку платье, и положил её возле того бревна, где до того сидел Дибич.
Тот в ужасе попятился. Это была Анастасия Шевандина.
Нальянов отбросил со лба мокрые волосы, тяжело дыша, взглядом палача оглядел утопленницу и очень грязно выругался. Потом опустился на колени перед трупом, торопливо потянулся к куртке, достал часы, поднялся. Тут глаза его неожиданно вновь обрели величавое спокойствие и заискрились, на губах мелькнула улыбка и, впервые назвав своего собеседника по имени, он торопливо и властно бросил:
— Андрэ, бегите к Ростоцкому. Пусть немедленно вызовет полицию.
— Господи, но… почему полицию? Ведь она… — быстрота соображения и действий Нальянова поразила Дибича, но самого его трясло и лихорадило, спирало дыхание, — может, ещё можно помочь? Говорят, воду из лёгких… Я правда не умею… — он растерянно взглянул на Юлиана Нальянова, почему-то отметив, что с кончиков его волос стекает вода.
Тот уже натянул свитер и, промокая рубашкой волосы, смерил Дибича ласково-насмешливым взглядом, словно Ньютон — котёнка.
— Какая вода в лёгких? Вы, что, не видите? — дышал он глубоко и размеренно. — Её платье порвано, грудь исцарапана, на шее — четыре следа пальцев и три косых царапины от ногтей. Её задушили и сбросили в запруду с другой стороны моста. Я услышал плеск воды и только тогда обернулся. Убийца сто раз успел бы удрать. Я никого не разглядел, — дождит, марево. Бегите к Ростоцкому и, ради Бога, поторопитесь. Да, — надев куртку, он с чуть заметной улыбкой наклонился к Дибичу, — если вас не затруднит, сообщив Ростоцкому о трупе, принесите мне от тётки полотенце и сухие штаны. Да и сухое белье лишним не будет. Вода ледяная, будь она проклята.
Дибич резко дёрнулся, бросился было к мосту, от которого их отделяло два десятка саженей, но заскользил ботинками по мокрой траве и едва не упал. Выпрямившись, он остолбенел, увидев, что Нальянов, отвернувшись от трупа, со странной ликующей улыбкой смотрит в небо.
Дибич опомнился и снова ринулся по скользкому глинистому склону к парапету моста.
Мысли его путались. Перед глазами стояло страшное лицо убитой. Он бежал сквозь мокрые ветви ив, вначале пытаясь уклоняться от них, но тогда снова начал скользить по траве. В конце концов, просто ринулся кратчайшей дорогой к месту пикника. Ростоцкого он нашёл в беседке, старик сидел с Анной и Лизаветой. Никого больше не было видно. Дибич на миг запнулся, увидев сестёр убитой, но тут же, отдышавшись, сказал Ростоцкому о поручении Нальянова.
Анна побелела, вцепившись руками в стол, Лизавета смотрела на него недоумевающим взглядом, словно спрашивая себя, не пьян ли он, но Ростоцкий, тоже сильно побледнев, быстро поднялся и бросился куда-то к почте. Дибич почти побежал следом — он не хотел оставаться с Аннушкой и Лизой, боясь криков, кроме того, спешил к Чалокаевой. Как ни странно, просьба Нальянова самой своей обыденностью позволяла ему чуть успокоиться, не думать о произошедшем, выиграть время.
* * *
Лидия Витольдовна приняла его в гостиной. Дибич уже сумел немного взять себя в руки, перестал дрожать, и сейчас впервые внимательно рассмотрел эту красивую женщину — дородную, холеную, волевую. Чалокаева выслушала его спокойно, поняла всё с полуслова, вызвала слугу Юлиана, приказала взять смену белья, брюки и полотенце, захватить и чемодан барина, вдруг что понадобится — и бежать к Висконтиеву мосту, найти там Юлиана Витольдовича и всё ему передать. Тот кивнул и исчез. Чалокаева бросила на Дибича ещё один проницательный взгляд — и тут же позвонила, распорядившись подать коньяк.
— Юлиан сказал, что девицу удушили? — хладнокровно спросила хозяйка. Было заметно, что она — подлинно сестра полицейского, в ней не замечалось никакого испуга. — Тело упало с моста на ваших глазах, вы были в это время рядом с Юлианом Витольдовичем? — уточнила Чалокаева, впившись взглядом в лицо собеседника.
Дибич утвердительно кивнул. Чалокаева, откинувшись в кресле, пожала плечами.
— Ростоцкий должен привести или Веньку Вельчевского, или Трофима Болотова. Больше некого. Оба толковы, но, боюсь, в Париж племянничек в мае уже не попадёт, — незаметно было, чтобы это расстроило тётку. Она улыбалась и почти злорадствовала. — Это всё вздор. Валериан приедет, чего те напутают, поправит.
— А сам Юлиан Витольдович, разве они-с… не помогут следствию? — Дибич удивился вполне искренне.
Чалокаева вновь пожала плечами.
— Захотят — поможет, а не захотят — от рояля не отойдёт. Он — человек прихотливый. — Чалокаева, чуть наклонившись к нему, небрежно бросила, — не любит он с дерьмом-то возиться.
Дибич поднялся.
— Однако я пойду, там сейчас начнётся.
Чалокаева задержала его только, чтобы заставить выпить, от чего продрогший Дибич и не подумал отказываться, а после вручила ему непочатую бутылку коньяка — для племянника.
Обратно Дибич шёл медленно, по пути сосредоточенно размышляя. Поначалу его испугала мысль, что девица задушена. Его пронзило понимание, что некто, только что сидевший с ним вместе у костра, спустя полчаса хладнокровно сжал руки на девичьем горле. Но сейчас он подумал, что напрасно подозревает тех, кто был на пикнике, — ведь кто угодно мог наброситься из кустов на бродившую в одиночестве девушку.
Чем ближе Андрей Данилович подходил к мосту, тем менее понимал он своё давешнее волнение. Чего он, в самом деле, разволновался? Кто ему Анастасия Шевандина, чтобы переживать по поводу её гибели? Дибич окончательно пришёл в себя. При этом поймал себя на остром любопытстве — как-то поведёт себя Нальянов? Ему неожиданно вспомнилась девица, которую он видел возле чалокаевского дома на Шпалерной. А что если это была именно Анастасия? Волосы-то похожи, да и рост… Но так ли? Дибич, увлечённый Еленой, не обращал никакого внимания на сестёр Шевандиных, не замечал и Анастасию. Однако если Нальянов разговаривал тогда именно с Настей, то вся эта история может приобрести весьма интересный и неожиданный оборот. При этом Дибичу не давало покоя странное выражение, замеченное на лице Нальянова на месте убийства, экстатическое и восторженное. Мелькнуло-то оно, положим, на миг, но мелькнуло. Это точно. Ему не померещилось, в этом он был уверен.
Юлиан, давно уже переодевшийся в сухое, вытирал полотенцем волосы и встретил презент тётки, вручённый ему Дибичем, радостной улыбкой, обронив себе под нос мягкое и ласковое «дорогая тётушка…». Он, не обращая внимания на невысокого полицейского и его людей, суетящихся у трупа, тут же опрокинул в себя половину бутыли, порозовел и, элегично глядя на кувшинки в запруде, кротко попенял Дибичу.
— А всё из-за вас, дорогой Андрей Данилович. Не хотел же идти. Как чувствовал. Бренчал бы себе сейчас на рояле или лежал бы с книгой у камина. А уж глупость-то ваша и вовсе непростительна: я же просил вас Ростоцкого найти, а не сестрицам убитой всё выкладывать. В итоге — у меня от криков до сих пор в ушах звенит. Это вы нарочно, что ли? — Дибич заметил, что Нальянов вовсе не рассержен, скорее благодушен.
— Вы вроде бы называли меня Андрэ, — не обращая внимания на упрёки, напомнил Дибич, — А где Анна и Лиза?
— Не люблю фамильярности, Андрэ, но если не возражаете… — Нальянов улыбнулся ему теперь почти дружески, — а барышень к доктору увели, в больницу, что при церкви.
К ним подошёл что-то изучавший у тела полицейский. Дибич отметил скуластое, умное и очень тонкое лицо, чем-то удивительно напоминавшее борзую. Сходство довершал взгляд быстрых и внимательных глаз странного серо-карего цвета.
— А время вы не запомнили, Юлиан Витольдович? — голос незнакомца был подобострастен и мягок. Дибич понял, что тот знает, что говорит с сыном тайного советника полиции.
Нальянов отозвался спокойно, кивком подтвердив предположение полицейского.
— На берег я вынес труп в шесть двадцать восемь, доплыл до тела минут за пять, обратно плыл медленнее, прикинем минут семь-восемь, итого, с моста она упала около шести с четвертью. — Он напрягся, — да, шесть на церкви пробило, Вениамин Осипович, когда мы с господином Дибичем с моста спускались. Дождь как раз только начался. Чтобы до берёз дойти, нужно минут пять, но мы шли медленно. Ещё минут пять мы дождь пережидали. Стало быть, да, время — пятнадцать минут седьмого. — Нальянов сел на бревно и снова хлебнул коньяку.
— Но ведь это не время убийства, — Дибич теперь размышлял почти спокойно. — Убийца, а это любой случайный прохожий, мог задушить жертву и раньше. Я вообще не понимаю, зачем он её в воду сбросил, тело куда проще было в кустах спрятать, — он закусил губу.
Юлиан хмыкнул. Вельчевский резко повернул к нему голову.
— Это не так?
— Увы. Это сделал тот, кто был на пикнике. — Нальянов не интриговал полицейского, тут же пояснив, — Ростоцкий был с собакой. Та могла учуять покойницу и привести к убийце. Случайный убийца точно под куст бы сунул, а этот знал о собаке. А на воде след не возьмёшь.
Взгляд полицейского просветлел: искать среди узкого круга людей было проще. Нальянов походя представил Дибичу Вениамина Вельчевского, и последний обратился к Андрею Даниловичу с вопросом, как всё произошло? Тот не затруднился с рассказом, но поправил Нальянова.
— Мне показалось, что Юлиан Витольдович до тела доплыл быстрее, минуты за три…
В эту минуту появился бледный Ростоцкий. Он на глазах постарел и ссутулился, около тела Анастасии замер, было заметно, что его знобит. Нальянов предложил ему остатки коньяка, но старик, похоже, даже не услышал его.
— Когда это случилось?
Вельчевский ответил, что тело сбросили с моста около шести с четвертью. Ростоцкий уставился невидящими глазами на тело девушки и странно двигал губами, словно что-то пережёвывал.
— Шесть с четвертью? А сейчас сколько?
Дибич вынул часы. Время приближалось к восьми.
— Кто, после того, как мы с Андреем Даниловичем ушли, оставался в Сильвии? — поинтересовался Нальянов.
— Анюта, служанка моя, с корзиной суетилась, да Аннушка всё гитару рассматривала. Павлик ушёл на реку, Аристарх — за хворостом, Серёжа в лавку побежал, Леонид с невестой гуляли где-то, Лариошу я не видел, девочки тоже погулять пошли. А Настенька… Она же первая ушла… — старик горестно развёл руками. — Потом Лизанька подошла.
— Соберите там всех, кто был, — попросил Вельчевский, и старик потрусил к ставшему заметным меж деревьев костру.
Темнота, усугублённая ненастьем, сгущалась. Тело сфотографировали, сверкнув магниевыми вспышками, и, уложив на носилки, прикрыли простыней и унесли.
— Вы уверены, что убийца там, на пикнике? — Дибич внимательно вгляделся в безмятежного Нальянова. Тот не проявлял ни малейшего интереса к убийству, не спуская глаз с речной глади.
Нальянов пожал плечами.
— В случайного бродягу верится с трудом, публика тут чистая, за отребьем следят, людей немного, каждый дачник на виду. Это не Питер, здесь не затеряешься.
— Но приезжие…
— Здесь нет дешёвых комнат по пятнадцать рублей за сезон, — лениво растолковал Нальянов, — тут и за сотню дачу не снимешь. Цены от восьмисот до тысячи. Мне знакомый адвокат жаловался, что с его окладом пятьсот рублей в Павловске и Петергофе делать нечего.
— Значит, вы уверены…
— Да нет, случайный человек не исключён, но если мышь пропала в гадюшнике, глупо подозревать кошек с соседнего двора, — он смолк, потом зевнул. — Я не думаю, что Вельчевский задержит нас, мы, благодаря друг другу, вне подозрений, а в сговоре нас не заподозришь. Завтра он навестит меня, а сейчас я хотел бы принять горячую ванну. На девять мучеников Кизических я ещё никогда не купался. — Нальянов поёжился, потом неожиданно рассмеялся, — кстати, через пару дней, по древним поверьям, Вальпургиева ночь.
Дибич почувствовал, как в душе закипает раздражение. Нальянов даже не трудился изображать нечто приличное случаю, и это откровенное безразличие заставило Андрея Даниловича снова сыграть ва-банк.
— Хочется надеяться, что в результате разбирательства не всплывут некоторые «случайные» обстоятельства, — с улыбкой проговорил он. — Например, не выяснится, что вы были раньше знакомы с мадемуазель Шевандиной.
— А если и выяснится? — рассмеялся Нальянов, — что с того? Я её не убивал, дорогой Андрэ, и вы тому — первый и надежнейший свидетель.
Дибич скрипнул зубами от злости: Нальянова было не пронять.
— Свидетель чему? — тонко улыбнулся он. — Вы вытащили на моих глазах упавшее в воду тело. Но девица могла ненароком упасть в реку, а вот вы, когда плыли с ней к берегу, могли сцепить руки у неё на шее, — Дибич ни на минуту не верил этой гипотезе, она казалась ему бредовой, просто желание сбить спесь с Нальянова пересиливало всё остальное.
Нальянов блеснул глазами и расхохотался.
— А неплохая версия, между прочим, — он несколько секунд трясся от смеха, чуть не давясь им. — Да только есть одно обстоятельство, дорогой Андрэ, которое сводит это дивное предположение к нелепости.
К ним торопливо подошёл Вельчевский.
— Девушек можно исключить. Над жертвой, похоже, надругались, значит, это мужчина.
Нальянов кивнул так, словно ни минуты в этом не сомневался.
— Вениамин Осипович, если понадоблюсь — я буду у тёти. Господин Дибич живёт у меня.
Тот кивнул головой и снова исчез. Дибич в задумчивости закусил губу. Нальянов же издевательски сощурился.
— Как видите, дорогой Андрэ, ваша сказочная версия треснула и расползлась по швам. Как всякий мужчина, я ношу при себе орудие насилия, но если вы не готовы предположить, что я за время, обозначенное вами как «три минуты», успел на плаву осквернить девицу, или, что ещё остроумнее, — он снова расхохотался, — что я обесчестил уже остывший труп на берегу, то придётся предположить, что нужно искать кого-то другого. — Он поднялся, всё ещё смеясь, — ладно, я к тёте.
— Вы действительно собираетесь домой? — Дибич не верил ушам.
Нальянов кивнул.
— Говорю же, мне нужна ванна. Посмотрите, что с волосами… — Волосы Нальянова были взъерошены, но ничего особенного Дибич не заметил. — Вельчевский меня там найдёт.
— Вы… вы не хотите помочь? Ведь девушка погибла. Вы даже не хотите расспросить их?
— И что я узнаю из расспросов? — поднял брови Нальянов. — Убийца прибежит и покается мне, рыдая в жилетку? Я вообще редко прибегаю к этому крайне сомнительному способу узнать истину. А сейчас мне нужна ванна.
— Это цинично.
Нальянов утомлённо вздохнул.
— Андрэ, мы с вами не расставались ни на минуту, и благодаря этой счастливой случайности оба вне подозрений. Кто это сделал — мне неведомо. А желание после ледяного купания принять горячую ванну — естественно. Я замёрз и устал. На вашем месте я бы сделал то же самое. У тёти на даче — пять ванных комнат. Пойдёмте.
Дибич не обиделся насмешливому тону Нальянова, но тут в голове его медленно проступило недоумение: почему Нальянов назвал компанию на пикнике — гадюшником? Он был раньше знаком с Деветилевичем и Левашовым, знал Харитонова и Лаврентия Гейзенберга, с Осоргиными его познакомил он сам: с Леонидом — в поезде, а с Сергеем — уже здесь, у Ростоцкого. Девиц же, кроме Климентьевой, Нальянов, видимо, не знал вовсе. Почему же?
— А почему вы сказали про «гадюшник», Юлиан?
Нальянов посмотрел на Дибича взглядом сумрачным и высокомерным. Потом усмехнулся.
— А как же, Андрэ, логика? Взгляните на факты, затем порассуждайте. Чего же вы?
— Перестаньте. Вы ведёте себя просто… подло.
— Вот как? — усмехнулся Нальянов, и глаза его вдруг полыхнули злобой. — Вы уверены? — Он наклонился к Дибичу. — Беда-то в том, что погибшая девица может не быть девицей вовсе не из-за насилия. Ведь вчера покойница приходила к вам на встречу, не так ли?
— Что? — подлинно поразился, внутренне обмерев, Дибич.
Он оцепенел и почувствовал, как по всему телу прошла ледяная дрожь.
— Я видел, как вы вчера засунули записку в шляпку девицы, — усмехнулся Юлиан. — Просто вы ошиблись. Перепутали шляпку Анастасии Шевандиной со шляпкой мадемуазель Климентьевой. Они похожи. Так что, — он наклонился к самому ухи Дибича и насмешливо прошептал, — случись что, в расследовании вы заинтересованы не больше моего, дорогой Андрэ…
Глава 15. Кое-какие объяснения
Откровенность и ясность — такова правильная линия поведения, если вы хотите скрыть собственные мысли и запутать мысли других.
Б. ДизраэлиНальянов, обронив, что зайдёт на почту, быстро ушёл, мелькнув тенью в свете фонаря в парке. Дибич же, несколько минут бездумно смотрел ему вслед, потом неожиданно ощутил, насколько устал. Лихорадочное напряжение и взвинченные нервы последних часов, оказывается, изнурили его до полного бессилия.
Но хуже всего было нежданное открытие, точнее, разоблачение, сделанное Нальяновым. Дибич понял, что обманулся, и это понимание усугубилось новой тяжёлой тоской: он был с Анастасией, а Елена по-прежнему была далека от него, а то, что его афронт оказался известен Нальянову, стократно злило и унижало. При этом Андрею Даниловичу достаточно чётко дали понять, что теперь его действия определяет Нальянов, в противном случае…
Впрочем, нет, это померещилось. Юлиан ничем не угрожал, просто очень жёстко отметил общность их интересов.
Дибич поплёлся к костру, где мелькали тени полицейских и участников пикника, подойдя, опустился на поваленный ствол, потёр лицо руками. Хотелось спать.
Полицейские расспрашивали молодых людей об их передвижениях, но, как понял Дибич, толку не добились. У берёзы стоял Харитонов, бледный и трясущийся, его пытался успокоить Вельчевский. Деветилевич, взволнованный и недоумевающий, силился растолковать стражам закона, что был на реке, а Анастасии не видел. Не видел её и младший Осоргин, бегавший в лавку за папиросами, а потом вернувшийся к Левашову на берег. Нигде не встречал её после ужина и Левашов, удивший рыбу по ту сторону реки. Осоргин-старший гулял с невестой, потом остановился поболтать с Аристархом, позже снова нашёл Лизу в парке. Гейзенберг, по его словам, искал Аннушку Шевандину, хотел отдать ей шаль, которую она забыла у костра, но нигде её не видел. Закусив губу и ничего не говоря, у огня сидела бледная Елена Климентьева. Она никого не видела, когда начался дождь, укрылась в беседке в парке, оттуда ей были видны господа Нальянов и Дибич, когда они переходили через мост. Харитонов тоже никого не видел, да и видеть не мог — снова потерял очки. Анны и Лизы не было, услышав слова Дибича о гибели сестры, они бросились к берегу, увидели тело, и с ними началась истерика, часть которой застал господин Вельчевский, велевший своим людям отвести рыдающих девушек в Мариинскую больницу к Игнатьеву.
Обе нигилистки на вопрос Вельчевского со странным презрением ответили, что убитую не знали вовсе, познакомились только на юбилее. Анна Шевандина, когда вернулась к костру, не могла ничего сказать о том, где она была около шести, она мельком видела только Елену, сидевшую в одной из аллей Сильвии и читавшую. Сама она тоже бродила по аллеям парка и никого не встретила. Ростоцкий же, выпив принесённой ему валерьянки, твёрдо сказал, что после того, как все разошлись, с ним осталась только Аннушка и Лизавета Шевандины. Девушки никуда от костра не уходили, Аннушка сидела с гитарой, Лиза — читала.
Остальных Ростоцкий не видел. Часов старик с собой не взял.
Публика была, что называется, «чистая», Ростоцкий — человек ранга высокого, задерживать никого не стали, но всех попросили никуда из Павловска не отлучаться. Дибич вздохнул, с трудом поднялся. Мысли его двоились, виски сжимало болью.
К нему подошла Елена. Она была босиком, держала в руках туфли, основательно где-то промочив их. Аромат её ландышевых духов фирмы Коти перебивался дымом костра и запахом мокрой травы. Она была не испугана, но словно удручена чем-то, Андрей подал ей руку и подвёл к скамье на дальней аллее, с горечью отметив, что ночью подлинно был дураком, если мог спутать во тьме эту прохладную тонкую длань с горячей рукой Шевандиной.
— Как… как это произошло? — голос Елены дрожал.
Дибич коротко рассказал о происшествии.
— Юлиан Витольдович сказал, что её… задушили?
Андрей кивнул, заметив, что девушка не бледна, а, напротив, на щеках её пылал яркий и несколько болезненный румянец. Он предложил проводить Елену до дома, но она покачала головой, обронив, что вернётся с подругами. И точно — девушки показались из-за деревьев, сопровождаемые Левашовым и Деветилевичем. Сергей Осоргин нёс снасти и сак с мелкой рыбой, Леонид вёл под руку невесту, Гейзенберг на ходу что-то жевал. Харитонова не было, и на вопрос Дибича, где он, Левашов мрачно обронил, что его тоже повели в больницу — стало дурно с сердцем. Полицейские с Ростоцким и экономкой ушли другой аллеей. Эмансипированные девицы шли за ними следом.
Дибич на слабеющих ногах поплёлся домой.
* * *
Чалокаевский дом был освещён по первому этажу. Подходя, Дибич заметил, что в столовой суетится прислуга, а за столом, сжав в руке салфетку, с вымытыми и набриолиненными волосами, в костюме и галстуке сидит Нальянов и, смеясь, что-то рассказывает тётке. Чалокаева, кутаясь в шаль, слушает племянника, и время от времени что-то спрашивает. Дибич с досадой подумал, что этот наглый барич в своём циничном равнодушии к совершившемуся выглядит подлинно царственно. При этом снова ощутил приступ ледяного бешенства, почувствовав в поведении Нальянова нечто, унижающее его самого. Андрей Данилович почти без сил вошёл в дом, потом, приведя себя в порядок, спустился в гостиную.
Чалокаева с Юлианом всё ещё были там: племянник играл тётке ноктюрн Шопена. Ни Нальянов, ни Лидия Витольдовна не задали Дибичу ни одного вопроса и даже не поинтересовались ходом расследования. Причём в этом совсем не было ничего нарочитого, было заметно, что их это подлинно не волнует.
Есть Дибич совсем не хотел, он попросил у хозяев порошок от головной боли и поторопился лечь, едва пробило девять. Болело за грудиной, его трясло. Вначале усталость взяла своё, Андрей Данилович провалился в сон, но едва часы в гостиной отбили четыре, проснулся и, с досадой понял, что больше не уснёт. Тогда сел на кровати и задумался. Он снова вспомнил взгляд Нальянова, устремлённый на тело утопленницы и его грязную ругань. Злоба, раздражение, непомерное ожесточение и даже бешенство промелькнули в том коротком сквернословии. И тут же всё погасло. Юлиан потянулся к куртке, глаза засияли, губы дрогнули в улыбке. Почему он обозлился — и почему так быстро успокоился? Ведь он… почти ликовал, дошло вдруг до Дибича.
Размышления о Шевандиной не заняли много времени. То, что он провёл с ней предыдущую ночь, было известно только Нальянову. Она же сама едва ли понимала, что ошиблась: на пикнике она к нему вообще не подходила. А раз так — не было и особого смысла тревожится.
Чёрт не выдаст — свинья не съест.
* * *
Не спал в эту ночь и Вениамин Вельчевский, терпеливо расспрашивая сестёр убитой. Лизавета Шевандина на все его вопросы отвечала, что в этот день почти не видела сестры. Она бродила по парку, читала, потом с рыбалки вернулся её жених и они гуляли вдвоём по Сильвии. Аннушка же, к его немалому удивлению, о жизни Анастасии не могла сказать почти ничего. Анастасия никогда не была ни болтливой, ни откровенной. Мыслями ни с кем не делилась.
— А что сестра любила?
Аннушка, недоумевая, пожала плечами. Анастасия любила курагу к чаю и розовые платья, ненавидела пенки на молоке и грязь на подошвах туфель. Дружила с Еленой Климентьевой, других подруг не имела. Анна подлинно была потрясена. Анастасия, по её мнению, была себе на уме, но кто мог убить её? Она знала, что сестра нравилась Иллариону, но ни минуты не допускала, что он — убийца. Он так оплакивал её…
Вельчевский, после часовой беседы знавший почти то же, что и до неё, попросил разрешения осмотреть вещи и комнату Анастасии. Анна проводила его на второй этаж и указала на дверь. Ключ был в замке. Полицейский отпустил девушку спать.
На многое Вениамин Осипович не рассчитывал: девица едва ли взяла с собой в чужой дом что-то компрометирующее. Он методично обыскал саквояж, осмотрел одежду в шкафу. Потом ощупал постель, но под матрацем ничего не было. Пусто было и под подушкой. Шляпные картонки ничего, кроме шляп, не таили. На столе лежали несколько книг, он пролистал их. Ничего. Вельчевский задумался.
Нальянов, к которому он питал глубокое уважение, сказал, что это сделал гость Ростоцкого. Вениамин Осипович и сам в этом почти не сомневался. В доме было шесть молодых мужчин и хозяин. На пикнике было — девять, но Нальянов и Дибич были вместе, а старик Ростоцкий едва ли имел отношение к убийству: возраст не тот, чтобы за девчонками бегать.
Харитонов алиби не имел. Он, как показалось полицейскому, при страшном известии подлинно горевал — единственный из всех, однако скорбящих убийц Вельчевский тоже встречал — и потому подозрений с Харитонова не снимал. При этом отметил как странность, что все остальные, кроме сестёр Насти, не проявили скорби, казались лишь удивлёнными, а нигилистки — так и вовсе странно отреагировали. Явно злились и нос воротили. Почему?
Вельчевский почесал за ухом кончиком тонкого пера с посеребрённым наконечником и напрягся. Откуда здесь перо? Тут его взгляд упал на чернильницу на столе — небольшую, тёмного стекла, стоявшую за вазой с цветами. Она была полна чернил. Сестра сказала, что девица была близка только с подругой, и обе они были здесь — кому же убитая писала? А где бумага? Попросила у хозяина? Вряд ли. Значит, имела свою. Но где она?
Вениамин Осипович снова начал обыскивать комнату — теперь понимая, что ищет.
Бумагу — ни в листах, ни в пачке — он не нашёл. Но на полке, возле хозяйских книг заметил изящную книжку в дорогом бархатном переплёте. Вещь не могла принадлежать Ростоцкому, была слишком женственной. Полистал. Внутри были записи тонким, витиеватым почерком. Вельчевский торопливо подошёл к столу, обмакнул перо в чернила и оставил росчерк на полях. Цвет чернил последних записей совпал.
Полицейский не стал беспокоить Аннушку — она наверняка уже давно спала, да и едва ли, с досадой подумал он, эта глупышка знает почерк Анастасии. Вельчевский опустился на стул у стола, подвинул лампу поближе и погрузился с чтение.
* * *
Если верна пословица: «Чего хочет женщина — того хочет Бог», значит Бог никогда не знает, чего же он конкретно хочет. Лиза Шевандина попросила экономку принести ей ещё одно одеяло. Это не было капризом — её сильно знобило. Неожиданная гибель Анастасии изумила её. Но кто убил её? Этот глупый служака, что вёл дело, сказал кому-то, что это сделал мужчина. Наверное, бродяга. Ей стало жарко, и она сбросила одеяло.
Потом долго не могла уснуть, несколько раз спускалась вниз — хотелось пить. Убил Настю, разумеется, случайный подзаборник, больше некому. Елизавета не восприняла всерьёз расспросы полицейского — тот, казалось, был уверен, что это сделал кто-то из мужчин, что были на пикнике. Вздор. По Насте вздыхал Харитонов, Лиза знала, что он домогался Анастасию, но та отшила его. А что если, он разозлился и…?
Нет, Лиза пренебрежительно покачала головой, этот рохля на такое не способен. Ну, а остальным она и даром не нужна. Деветилевич и Левашов на богачку Климентьеву облизываются, Гейзенберг хочет Аньку совратить, её Леонид — зачем ему Анастасию убивать? Сергей с ней едва знаком, кому же нужно её душить-то было? В итоге Елизавета в эту ночь, сильно переволновавшись после допроса полицией, не могла уснуть и полночи провела у лампы с вязанием кружев — это занятие всегда успокаивало её.
Старик Ростоцкий спал, совершенно обессилев душевно и телесно. В комнатах молодых людей тоже было тихо.
* * *
…Дибич был на ногах уже на рассвете. От принятого порошка боль за грудиной утихла, но пекло веки и болело горло. Андрей с досадой подумал, что, кажется, простудился. Ночью в его голову лезла всякая дрянь: то мерещилась задушенная утопленница, то в памяти всплывал Нальянов, говорящий о преступлении «удел выродков…», то виделись какие-то мутные театральные сцены с утонувшей Офелией, то проносились забытые итальянские строки Марино. Но вскоре всё ушло и в его сне, сумбурном и путанном, проступила Елена, он снова обнимал её, тая от любви. «Неужели ты любил Анастасию?» — спрашивала она, а он клялся, что любит только её, причём во сне почему-то понимал, что лжёт. Хоть разве лгал? Истина и ложь странно мешались в нём, точно мёд и дёготь, вода и кровь, сон и явь.
В восемь утра ему подали дипломатическую телеграмму. У Андрея ёкнуло сердце, но это оказался ответ Ренара на его запрос. Лисовский был лаконичен, сообщал, что связь Нальянова с Елецкой, безусловно, имела место, тактично добавляя, что сам он, конечно, свечку не держал. Однако девица сама призналась жениху, разрывая с ним, что любит Нальянова. Ренар присовокупил, что вскоре ей пришлось пожалеть о такой поспешности и откровенности: Нальянов уехал, не прощаясь.
«Холодный идол морали», зло пробормотал Дибич, презрительно улыбаясь. «Я — подлец», вспомнилось ему, и это воспоминание стёрло с лица улыбку. Андрей Данилович откинулся в кресле и погрузился в неспешные размышления, вспомнив первую встречу. Нальянов тогда подлинно понравился ему — утончённостью и аристократизмом, тонким умом и наблюдательностью. Он невесть как понимал ощущения и смену настроений собеседника, опережал его мысли, суждения Юлиана были неординарны. Вспомнилась и беседа наедине в гостиной на Шпалерной. «Ревнуете?» Нальянов снова понял тогда сокровенное, словно прочитал его, а ведь за непроницаемым лицом дипломата мало кто мог разобрать даже пустой помысел. Вчерашний, субботний день. Павловск. Нальянов тогда заметил в компании гостей Ростоцкого нечто такое, что дало ему основание назвать компанию гадюшником. Замечать он умеет. Но что он увидел?
Дибич удивился себе, вспомнив, что, несмотря на жуткие впечатления вчерашнего дня, он порадовался сближению с Нальяновым, тот всё-таки назвал его по имени. А почему это радовало? Потому что тот въявь, открыто отказался от соперничества? Дибич покачал головой. Нет. Этот человек по-прежнему нравился ему — очаровывал и даже завораживал. Даже ревнуя к нему, боясь и временами ненавидя, Дибич ловил себя на зависти и восхищении.
Андрей Данилович снова вспомнил вчерашний пикник. Он снова заметил впечатление, производимое на девиц Нальяновым. Он понял, что Юлиан не тонкий и умный ловелас, ловкий и лживый волокита, нет, отторжение его от девиц было искренним, он не играл. И эти страшные, покоробившие его слова о любви… Неужели он и вправду пережил любовную трагедию, которую Дибич придумал как сказку для Елены?
Теперь Ренар. Значит, связь была, но Нальянов утверждал, что «никакой надобности в мадемуазель не имел…» Собственно, одно другому не противоречит, просто нелепо как-то. И, наконец, Анастасия. Нальянов не убивал её, это бесспорно, но имела ли место связь? Да, безусловно. Но что было делать? Спросить самого Нальянова? Не хотелось, — не хотелось чувствовать себя дураком. Дибич им не был. Но в присутствии этого умного мерзавца, он казался себе глупцом. Тут Дибич задумался. Хм… Телеграмма Ренара не то чтобы разоблачала ложь Нальянова, просто поступок был совсем не «моральным»… Но, с другой стороны, он убедительно подтверждал иную самооценку Юлиана. «Я — подлец, Дибич».
Андрей Данилович вышел в гостиную.
Нальянов, как и накануне, был в своём зеленоватом халате — возлежал на диване с книгой, а рядом, на пледе, свернувшись клубком, устроился холёный сибирский кот, чёрный с яркими зелёными глазами. Увидев Дибича, Нальянов отложил книгу, встал и любезно поинтересовался, как он себя чувствует.
Дибич поблагодарил и ответил, что ему лучше. Юлиан присел к роялю и пробежал пальцами по клавишам. Кот тоже поднялся, потянулся, выгнув спину и, прыгнув на переднюю крышку BЖsendorfer'а, нагло разлёгся возле нот. Юлиан, сегодня как никогда благодушный и любезный, погладил его.
— Любите кошек? — вежливо поинтересовался Дибич.
— Да, они заставляют вспоминать юность, Сорбонну, годы учёбы, — Нальянов улыбнулся, и Дибич с удивлением отметил эту улыбку — открытую и радостную, — у моей хозяйки мадам Лану было три кота, и когда в мартовские дни оn n'entendait plus monter du quartier, anеanti de sommeil, que les jurements d'une chatte en folie…
Тут лакей доложил о приходе Вельчевского. Юлиан велел просить и приказал подать фрукты и закуски.
Появившийся на пороге полицейский был бледен, он явно не спал ночь. Нальянов раскланялся, и тут Вениамин Осипович проронил, что хотел бы остаться наедине с Юлианом Витольдовичем. Дибич торопливо поднялся, Нальянов же остановил его, бросив ироничный взгляд на Вельчевского и Дибича.
— Мне бы не хотелось, чтобы господин Дибич покидал нас, — в голосе его промелькнули насмешливые нотки. — Это необходимо, Вениамин Осипович?
— Дело в том, что в дневнике покойной, Юлиан Витольдович, весьма много говорится о вас.
— Нисколько в этом не сомневаюсь, — кивнул Нальянов. Он обошёл рояль, оперся на тёмный корпус, и упёрся взглядом в Вельчевского, — тем не менее скрытность в таком вопросе глупей откровенности. Я полагаю, что из дневника Анастасии Шевандиной вы извлекли следующее: мы встретились с ней музыкальном вечере у Давыдовых, хозяин попросил проводить её, на следующий день она оказалась в моём приходском храме, хотя раньше там никогда не бывала. Сказала, что хочет кое-что рассказать и вечером навестила меня. — Нальянов скучал. — Ну… вы понимаете, что я услышал. Я сказал, что едва ли способен полюбить её. Она была уверена в обратном. Ну, что ж… Неделю спустя я уехал в Страсбург. На этом всё и кончилось. При этом, — апеллирую к вашему здравомыслию, Вениамин Осипович. Можно представить тьму случаев, чтобы отвергнутая женщина в гневе убила бы ветреного любовника, но зачем ветреному любовнику смерть ненужной ему женщины?
Вельчевский молчал. Из дневника он подлинно узнал, что Анастасия отдалась Нальянову, но экстатические строки любви быстро сменились ненавистью. Итак, Нальянов сразу признал связь. Что с того? Только у этих двоих — Нальянова и Дибича — было алиби, вдобавок подтверждённое со стороны: их обоих видели с другого берега почтенная супружеская чета и Елена Климентьева.
Вельчевский осторожно спросил, пытаясь прояснить то, чего не понял из дневника.
— Анастасия Шевандина не нравилась вам?
— Ничуть.
Дибич скорчился в кресле и молчал. Вельчевский поднял глаза на Нальянова.
— То есть, я правильно понял? Вы не любили девушку, но воспользовались её склонностью к вам…
— Вениамин Осипович! — Нальянов повысил голос на пол октавы, но словно рассёк воздух кнутом. Он снова обошёл рояль, сел в кресло, наклонил голову вперёд и исподлобья посмотрел на полицейского. — Я часто бываю саркастичным и умею так похвалить человека, что он надолго обидится, но вас так хвалить не хочется. Вы — умный человек, просто пока не научились слушать. Я ни разу не назвал погибшую девицей.
Вельчевский чуть покраснел и выпрямился в кресле.
— То есть… вы хотите сказать… — Вельчевский растерялся.
Нальянов не затруднился.
— Она была лжива, распутна и лицемерна. Страстна и темпераментна. Весьма горделива, обидчива и ранима. В ней было что-то кошачье… Elle tenait aussi de la chatte par une torpeur apparente, un demi-sommeil, les yeux ouverts, aux aguets, toujours dеfiante, avec de brusques dеtentes nerveuses, une cruautе cachеe, — и тут, заметив, что его не до конца поняли, быстро перевёл, — она своими повадками напоминала кошку: внешне бесстрастная, словно дремавшая с открытыми глазами, недоверчиво настороженная, с внезапными, порой жестокими вспышками нервной энергии. При этом хочу быть правильно понятым: я помню старую истину о покойниках, — пояснил Нальянов, — если же говорю правду, причиной тому именно — нераскрытое убийство. Я назвал эту особу распутной, и тем сказал всё.
Вельчевский и Дибич молчали. У них было много вопросов, но Дибич благоразумно отложил свои на потом.
— Значит, она была… по вашим словам, нечестной и её словам нельзя доверять? — на лице полицейского промелькнуло странное разочарование.
— Почему? — изумился Нальянов. — Не смешивайте понятия. Она была совращена кем-то ещё в отрочестве, но это не делает ложными все её суждения. Сделайте поправку на оценочные мнения блудной девки, которая никогда и ни в ком не признавала наличия высоких помыслов, но наблюдения её могут быть и верны. Если в дневнике она говорит, скажем, о том, что имела место связь, допустим, Аристарха Деветилевича с одной из её подруг или сестёр — этому вполне можно доверять, — Нальянов цинично усмехнулся.
— Вы… вы… — Вельчевский сглотнул и умолк. Потом продолжил. — А не могли её убить именно потому, что она была излишне наблюдательна? Тут, — Вельчевский повертел в руках тетрадь, — много грязи обо всех, вы правы.
Нальянов вздохнул и чуть потемнел с лица.
— Да, это может быть причиной. — Он странно поёжился, точно замёрз, потом резко обронил, — но может и не быть, помните это.
— Я могу рассчитывать на вашу помощь? Я, вы знаете, не имею больного самолюбия.
Нальянов кивнул.
— Знаю. Я давно не занимаюсь уголовными делами, но…чем могу. К тому же завтра приедет Валериан, если возникнут затруднения, уж он-то непременно поможет вам разобраться.
Вельчевский поблагодарил Нальянова и торопливо откланялся.
— Я правильно сделал, не позволив вам уйти, дорогой Андрэ? — слова Нальянова точно пробудили Дибича от сонной летаргии.
Дибич медленно приходил в себя. Он, как ему показалось, начал что-то понимать. Если Нальянов был любовником Анастасии Шевандиной, от неё он мог подлинно узнать немало сведений о компании. Но сейчас Андрея Даниловича интересовали три вещи: что Нальянов знал о Климентьевой, была ли его связь с Елецкой столь же пустой, как и связь с Шевандиной, и почему Нальянов откровенно радовался смерти Анастасии? При этом третий вопрос был куда значимей второго.
— Если я правильно понял, вы оставили меня для того, чтобы я задался некими вопросами. Я и спрашиваю. Что вам известно о Климентьевой такого, что вы отговаривали меня от встреч с дев… впрочем, девицей ли?
Нальянов улыбнулся.
— Нет-нет! Ничего дурного о мадемуазель Климентьевой я не знаю. Я попросил вас остаться, чтобы вы перестали задаваться пустыми вопросами на мой счёт. Что до мадемуазель Климентьевой, выкиньте её из головы. Либо — честно посватайтесь.
Дибич обомлел. Слова Нальянова были либо издевательством, либо — безумием.
— Вы сошли с ума? Девица влюблена в вас, как кошка, а вы предлагаете…
— Она нравится вам.
— И что? Хотите поглядеть, как она и из-под венца прибежит к вам? Вы оскорбляете меня.
— Да нет же… — Нальянов поморщился и закусил губу. После минутного молчания добавил, — простите, я не хотел обидеть вас, дорогой Андрэ. Всё пустяки.
Дибич снова скорчился в кресле. Он не обиделся, скорее снова не мог понять чего-то. Главное ускользало, терялось, расползалось. Но одно обстоятельство он уточнил.
— Простите, Юлиан, но если вы ничуть не любили Анастасию Шевандину, зачем затащили в постель? Я, видит Бог, не всегда был честен с женщинами, но спал только с теми, кого любил. Для «холодного идола морали» это несколько странно, вы не находите?
Нальянов смотрел отрешённо. Он снова думал о чем-то своём, но тут взгляд его сфокусировался на Дибиче.
— А я и не затаскивал, помилуйте. Даже втолковать ей пытался, что она нужна мне, как летошний снег.
— То же самое было и с Елецкой?
Ответ поразил Дибича безмятежностью.
— Разумеется. Только хуже… В смысле — истеричней.
Дибич неожиданно расхохотался.
— Да, понимаю. А ведь, пожалуй, те, кто называют вас подлецом, правы. Будем логичны, воспользоваться любовью женщины, — Дибич глумился, чувствуя странное удовлетворение, — это почти «право на бесчестье…» Есть всё же какое-то самоуважение, внутренняя порядочность, наконец…
— Мне порой кажется, что умение мыслить логично позволяет человеку выстраивать лишь цепь закономерных ошибок, Дибич, — презрительно перебил Нальянов. — Впрочем, не люблю морализировать, так что оставим, — всё так же безмятежно и продолжал Юлиан. — Что до меня, то я и был честен. Кристально. В первый раз, — он зло, по-мефистофелевски, сощурил глаз. — И честно сказал, что предложенная девицей Софроновой любовь мне не нужна, а воспользоваться её чувствами я считаю бесчестным. Я поступил, как истый джентльмен.
Дибич смерил его внимательным взглядом. От тона Нальянова, страшного своей мертвенной бесстрастностью, улыбка его исчезла.
— И что?
— Девица написала мне несколько дюжин писем, кои я, не распечатывая, швырял в стол, потом наглоталась сулемы. — Нальянов по-прежнему был хладнокровен и невозмутим. Дибич на миг почувствовал себя дурно. Нальянов же чесал за ухом кота, и был все так же задумчив. — С тех пор я честно не поступаю. Просто боюсь. Но насчёт порядочности — ну… в блуде я духовнику каюсь, конечно. Притом, я, знаете ли, вовсе не блудлив, — в тоне Нальянова не было усмешки, он был очень серьёзен.
— Господи, Юлиан… как вы с этим живёте? Я не знал…
— Полно. — Голос Нальянова был лёгок как летние облака, — La douleur n'orne le cœur d'une femme[11]. Я не люблю вспоминать об этом, но если встречаю подобный типаж, резких движений больше не делаю, только и всего. С ничего не значащими словами лучше согласиться.
— Подождите, — Дибич понял, что Нальянов, видимо, подлинно страдает, но научился скрывать боль. — Но… когда влюбляетесь сами — неужели и тогда…
Лицо Нальянова омертвело в высокомерной холодности.
— Перестаньте, Андрэ. Не хватало мне уподобиться мадемуазель Елецкой. Не смешите.
— То есть… вы никогда не любили?
— Не задавайте глупых вопросов, Андрэ.
Дибич наконец разобрался в сумбуре своих мыслей.
— Постойте… Вы же… только не лгите, я же видел… вы возликовали, поняв, что она мертва!
Нальянов опустил глаза, потом усмехнулся и покачал головой.
— Да нет же, Андрэ. Я обрадовался, что она убита.
Дибич заморгал, закусив губу. У него закололо в висках.
— Что? И вы… признаетесь в этом?
— Почему нет? Я не заметил убийцы, и опасался, что идиотка сама бросилась в истерике с моста, но на берегу сразу заметил следы удушения. Чай, не впервой, я же работал у отца. Стало быть, это не самоубийство, понял я. Ну и хвала Всевышнему — это было дело полиции, я же был озабочен только тем, чтобы не простудиться, — Нальянов гладил кота и смотрел в окно.
Дибич помолчал, потом поднялся. Хотелось остаться одному, подумать. Но мысли снова путались. Андрею Даниловичу казалось, что он, несмотря на прояснившуюся ситуацию, запутался в происходящем ещё больше, а главной причиной путаницы было непонимание. Если правда, что из-за любви к Нальянову восторженная и экзальтированная девица когда-то наглоталась сулемы — можно понять, что он не желает повторения подобных инцидентов. Конечно, такое бремя душа вынесет с трудом. Хотя… иному это даже польстило бы, пронеслось у него в голове. Но не Нальянову, это чувствовалось. И в то же время, Юлиан никогда не казался страдающим, и его проступавший временами цинизм был не напускным.
И было что-то ещё, что не позволяло до конца поверить Нальянову. Смерть Анастасии проступила на его лице не облегчением, как пытался уверить его Юлиан, а странным восторгом, торжеством — это Дибич видел. Выходит, Нальянов сказал далеко не всё.
Глава 16. Новые недоумения
Заведи дневник — и не заметишь, куда он тебя заведёт.
Мэй УэстДибич неожиданно вспомнил, что Бартенев после встречи у Ростоцкого сказал Нальянову, что тот несчастен. Тогда это показалось Андрею нелепостью, но сейчас вдруг вспомнилось и заинтересовало. Вспомнил он, что и Нальянов был покороблен этими словами. Дибич не любил представителей поповского сословия, и то, что Бартенев, безусловно, умнейший и талантливейший человек, выбрал дорогу в никуда, удивляло и даже отталкивало.
Но теперь, выйдя от Нальянова, Андрей торопливо устремился к церкви, надеясь застать там Бартенева.
Ему повезло — он увидел монаха на церковном дворе: тот нёс несколько поленьев в свою каморку.
— Григорий!
Монах обернулся, узнал однокашника и остановился, оглядев Дибича странным, лишённым любопытства, даже несколько скучающим взглядом. Андрей подошёл. Он помнил, что Григорий и в годы гимназические был неразговорчив, часто казался задумчивым, если же заговаривал, был скуп на слова, прост и лаконичен. Сейчас Дибич не стал петлять.
— Слушай, я как-то слышал твой разговор с Нальяновым… Ты, кстати, давно его знаешь?
Монах опустил вязанку на траву.
— Лидию Витольдовну, тётку его, много лет знаю, его здесь как-то встречал, тут и познакомились.
— А почему ты назвал его несчастным? Я слышал это.
Агафангел не удивился, но пожал плечами и ничего не ответил.
— Помнишь, ты сказал как-то в гимназии, что любой негодяй несчастен… или уж не умён до крайности.
— Ты запомнил? — в голосе монах промелькнула тень удивления.
— Запомнил, — Дибич с некоторым удивлением разглядывал монаха Агафангела, в коем по-прежнему старался видеть Григория Бартенева. Тот казался выше и стройнее, чем был в гимназические годы, при этом Дибич то и дело натыкался на странный взгляд монаха — смотрящий на него, но, казалось, невидящий. Он вспомнил, что подобным неоднократно удивлял его и Нальянов. — Ты считаешь Нальянова подлецом?
Чернец молчал, потом на переносице его проступила заметная морщина.
— Почему? Он из тех сильных, кто не понимает чужой слабости… и даже своей не понимает. Но подлец… Он мне не исповедник, чего же его судить-то? Кстати, вчера в Сильвии, сказывают, когда всё случилось, ты с ним был? К Иртеньеву привели этих девушек и Харитонова, говорят, это убийство. Точно ль так?
Дибич кивнул и коротко рассказал о произошедшем. Бартенев внимательно слушал, изредка вставляя короткие уточняющие вопросы. Он, как выяснилось, не очень запомнил девиц, и не знал точно, как выглядела убитая. Дибич описал Анастасию, отметив, что погибшая была отвергнутой любовницей Юлиана, и что Нальянов отнёсся к убийству с полным безразличием: его молчать об этом не просили, а реакция монаха была ему интересна.
Но Агафангел выслушал его с каменным лицом и промолчал.
* * *
Между тем Вениамин Вельчевский, обнадежённый словами Нальянова, снова внимательно листал дневник Анастасии Шевандиной. Юлиан не ошибся — грязи и сплетен тут было предостаточно. Анастасия подлинно оправдывала слова Нальянова: она ни о ком не говорила доброго, и похоже, подлинно ничего хорошего в людях не видела.
Вельчевский пропускал строки о Нальянове, в которого Анастасия вначале вцепилась по жадности, потом влюбилась, как кошка, но потом на нескольких страницах злобно проклинала, и методично отмечал в дневнике факты и упоминания о тех, кто был на пикнике. Деветилевич, Левашов, Харитонов, Гейзенберг, братья Осоргины. О последних почти ничего не было, лишь мелькали злые насмешки над уродством Лизаветы и скользили уничижительные фразы о её женихе. «В сказочке Иван-царевич целовал жабу — и она становилась принцессой. Но наша жаба-Лизонька нашла Ивана-дурака, и от брачной ночи глупо ждать чудес…» Вельчевский поморщился от этой безжалостной и циничной фразы. Не менее резко Шевандина писала о Гейзенберге и Харитонове. Жалкие глупцы и недоноски, готовые всю жизнь повторять чужие мысли, ничтожества.
Но, помимо ругани, проступали и факты.
Харитонов пытался ухаживать за самой Анастасией, но жалование преподавателя гимназии на полставки было в её глазах смехотворным. Оказывается, молодой человек делал предложение. Анастасия ответила, что не хочет торопиться с замужеством, считая, что стоит оставить этого дурака как запасной вариант, но покуда она считала, что может претендовать на что-то и получше. Записи эти датировались концом февраля. В феврале у Анастасии была связь с Нальяновым.
Саму Анастасию романтика никогда не интересовала. Она с завистью поглядывала на роскошные нальяновские апартаменты. И это — летняя резиденция! Видела она и пятиэтажный особняк Чалокаевой на Шпалерной и дом самого Юлиана на Невском. Анастасия была девицей практичной и умной, себе на уме, наивность утратила рано, и потому внимательно слушала все ходящие вокруг Нальянова сплетни. Картинка вырисовывалась странная: Ростоцкий, старый маразматик, рисовал сынка начальника полиции юным вундеркиндом, Елена описывала галантного кавалера и умницу, рассказы Левашова намекали, что Нальянов не дурак приволокнуться за девицами, при этом — чрезмерно избалован дамским вниманием, и намекнул, что Юлиан Витольдович — мужчина, понимающий толк в женщинах и превосходно разбирающийся в них.
Анастасия не была страстно влюблена, но решила, что получит Нальянова в мужья, чего бы ей это ни стоило, и спросила мнения одной из великосветских замужних особ. Та дала ей совет — надо отличаться от толпы девиц, быть равнодушной и холодной, не пытаться привлечь его внимание. Избалованные мужчины привыкли, что женщины сами бегут к ним в объятия. Она же должна заинтриговать его недоступностью. Сначала нужно заговорить, но в разговоре надо быть ни на кого не похожей, потом проявить к нему холодность и не позволять приблизиться. Пусть чувствует, что она — добыча нелёгкая. Так она охладит его пыл и осторожно заставит усомниться в собственной неотразимости.
Анастасия была в восторге от этого плана. Но из него, увы, ничего не вышло. Как она не пыталась заинтриговать Нальянова — он не интриговался. В итоге она все же добилась своего, но мерзавец вскоре укатил за границу, не оставив для неё даже привета.
Что до Павлуши Левашова, то ему, единственному наследнику состояния дяди, по мнению Анастасии, побираться не придётся, но старик Ивашов требовал его брака с Дашкой Шатиловой. Анастасия насмешливо свидетельствовала, что дурочка Анюта, пожалуй, кажется Павлуше куда посмазливей, недаром же крутится рядом да читает глупышке сентиментальные проповеди о народных скорбях. Так, глядишь в постель и затянет… Пока же, по наблюдениям Анастасии, Левашов зарабатывал доносами в полицию на коллег, в марте она видела его со знакомым ей филёром в кафе.
Вельчевский снова подивился цинизму девицы, и продолжил чтение.
Об Аристархе Деветилевиче Шевандина писала зло и насмешливо, особенно о его ухаживаниях за Климентьевой. Впрочем, если Элен узнает о былых похождениях и шалостях Деветилевича, брак ему не светит, придётся ходить в драных носках и потёртых кацавейках.
Через несколько страниц замелькали новые строки, теперь о Климентьевой. Анастасия узнала о знакомстве Елены с Нальяновым. «Рыжая сучка считает себя неотразимой, а сама просто бездарная дура и пустая кукла».
При этом во всем дневнике не было ни строки о Гейзенберге, лишь однажды вскользь упоминалось, что он был на дне рождения Элен Углицкой, той самой светской особы, что делилась с ней умением свести с ума мужчину. Сама Элен Углицкая упоминалась часто, с некоторой долей уважения: «своего не упустит и себе на уме», эти характеристики звучали по сравнению со всем прочим самым лестным комплиментом.
Несколько последних абзацев в дневнике были посвящены новому гостю — Андрею Дибичу. Анастасия от кого-то узнала, что молодой человек, сын высокопоставленного отца, совсем не беден и служит при посольстве в Париже. У неё возникли виды на молодого дипломата, но тут она заметила, что Дибич не сводит глаз с Елены Климентьевой. Затеять интригу кроме того мешало присутствие Нальянова, которого Анастасия теперь ненавидела всем сердцем, однако, предпринять против которого ничего не могла, ибо нрав последнего хорошо знала и боялась переходить ему дорогу.
В дневнике была и записка. Не очень-то сильный во французском, Вельчевский всё же перевёл её. «Тот, кто не может сказать вам о своей любви при всех, готов сегодня ночью открыть вам тайну своего сердца. Поднимитесь через чёрный ход под ивой на второй этаж после полуночи. Мы будем одни. Ю.Н.» Это было интересно, но не более. Девицу убили не ночью, а среди бела дня. Однако почерк не совпадал с инициалами.
Вельчевский вышел на порог полицейского участка и закурил. Несмотря на вал грязи, он не находил в дневнике Анастасии ничего, что могло бы указать на причину её смерти, разве что слова о Левашове. Точно ли тот — осведомитель охранки? Это должен знать Нальянов. Но убивать её, чтобы скрыть это?
Вельчевский покачал головой. Глупо. Что за резон, разве что девица шантажировала его этими сведениями? Но что могла потребовать? Равно и слова о Деветилевиче. Если Анастасия была осведомлена о каких-то его «былых похождениях и шалостях», а тот знал об этом… Вениамин Осипович полагал, что сведения эти станут опасны для Аристарха Деветилевича только в том случае, если будут переданы Елене Климентьевой, и если Анастасия ревновала теперь Елену к Дибичу… Но из неприязни к Елене — досадить Деветилевичу?
Мозаика рассыпалась. Ничего не складывалось.
* * *
В понедельник расследование шло полным ходом, но ни Нальянова, ни Дибича особо не беспокоили. Правда, возле дома Чалокаевой мелькнул монах Агафангел, приветливо поздоровавшийся с Нальяновым, сидевшим в одиночестве на скамье под ивами.
— Я хотел спросить у логика, — чуть застенчиво улыбнулся монах, — про это убийство в Старой Сильвии.
Нальянов покачал головой.
— Чужие грехи.
— Я не о том. Вы знаете, кто убийца?
Юлиан смерил Агафангела долгим взглядом.
— Знаю, конечно, но догадка не улика, а понимание — не расписка. Пусть мёртвые погребают своих мёртвых, отец Агафангел.
— Но убивают живых людей, девушка ведь погибла.
По губам Нальянова промелькнула безучастная улыбка. Было понятно, что это ему безразлично.
— Без воли Господней волос с головы не падает, — вяло проронил он, но опомнился и словно встряхнулся. — Чёртово бесчувствие, отче, чего же вы от меня хотите?
Агафангел покачал головой, но ничего не ответил.
* * *
Вениамин Вельчевский педантично собрал все факты о воскресных передвижениях гостей Ростоцкого в Сильвии, но, как назло, с половины шестого начало хмуриться и даже те, то раньше были вместе, разбрелись кто куда. Взаимных алиби почти не было. Никто не мог точно указать время, когда он был на рыбалке или гулял. Гейзенберг мельком видел младшего Осоргина, но не ручался, что это было в шесть — может быть, и раньше. Леонид Осоргин гулял с невестой, но вдвоём их видели около пяти. Деветилевич бродил вдоль реки, не видел никого, кроме Елены, сидевшей в беседке у надгробий Родителей императрицы, однако сама она не видела Аристарха, заметила только Нальянова и Дибича. Павел Левашов уверял, что был занят рыбалкой, но Сергей Осоргин, проходивший мимо реки в лавку, его не заметил. От Анны Шевандиной проку было и того меньше — она вообще не могла вспомнить, где и кто был. Девицы же Галчинская и Тузикова рассматривали в парке статуи, но вот беда — Климентьева однажды прошла мимо статуи Актеона, но там сидела только Ванда Галчинская, Марии же нигде не было видно. Харитонов же по неосторожности потерял очки и вообще ничего не мог видеть.
Взаимное и непробиваемое алиби имели только те, кто обнаружил труп. Нальянов и Дибич были вместе, их видели около шести вдвоём с другого берега, и совершить убийство на глазах друг друга они не могли. Но это никуда сыскаря не продвигало. Вельчевский знал братьев Нальяновых не первый год, и подозревать Юлиана не стал бы никогда.
Вечером в понедельник появились Валериан Нальянов и супруги Белецкие, прослышавшие об убийстве и приехавшие за племянницей. С приездом Валериана Нальянова, имевшего в кругах сыскарей негласную кличку «Цугцванг», Вельчевский заметно приободрился. Он знал одарённость этого человека, его ум и благородство, и рассчитывал на помощь, рассказав всё, что знал, включая дневник и записку. Валериан согласился вместе с ним осмотреть место преступления и поляну пикника, при этом Вельчевского не оставляло ощущение, что Валериан, как говорили в Третьем отделении, подлинно «не от мира сего». На берегу Славянки, глядя на Висконтиев мост, Нальянов обронил: «Если архитектура застывшая музыка, то это строение — реквием», а выслушав отчёт о передвижениях гостей Ростоцкого, сказал, что это всё совершенно неважно, после чего вежливо осведомился у полицейского, обедал ли он?
Видя растерянность Вениамина Осиповича, Валериан обмолвился:
— Это дело не из простых, за час всё равно не управимся. Вы пообедайте и отдохните, а мы с братцем пока помозгуем. Завтра утром заходите — даст Бог, что-то прояснится.
Вельчевский, не спавший ночь, и впрямь валился с ног от усталости и согласился.
* * *
Валериан же вернулся на тёткину дачу, где у рояля в гостиной с погашенными лампами застал братца Юлиана, с кем-то беседовавшим впотьмах. Валериан пригляделся. В тёмном углу на стуле сидел Лаврентий Гейзенберг.
— Не видел, клянусь, знал бы, что и где упадёт — на лету поймал бы, а так… — Лаврентий развёл руками. — Валериан Витольдович велели-с эмансипе в компанию доставить, — ну, я и доставил. А за барышнями приглядывать — с чего бы? Когда же вы, как я понял, что надо получили, — я и вовсе расслабился, на жаркое да винцо налегать начал.
— А в воскресение утром, перед пикником, заметил ли что?
Гейзенберг задумался.
— На завтраке в доме Ванда на убитую смотрела как на змею. Я спросил после, чего, мол, она? Так сказала, что некоторые тут строят из себя приличных особ, а на самом-то деле обыкновенные-де шалавы.
— Так и сказала? — удивился Нальянов, и Валериан понял, что мнение брата об эмансипированной девице значительно поднялось.
— Ну да. И Тузикова, хоть и не говорила ничего, взгляды бросала презрительные. А Лизавета эта, сестрица-то убитой, скандал закатила ей!
— Что?
— Утром, ещё до завтрака дело было. Я по малой нужде встал, возвращаюсь, слышу в комнате у Анастасии голоса. Ну, я, натурально, к себе зашёл, стакан к стенке приставил, ухо приложил. Так Лизавета возмущалась, что та с вами ночь провела, мол, Ванда, полька эта эмансипированная, ночью её выследила: окно-то у неё на чёрный ход вашего дома выходит. Она всё видела, теперь, конечно, всем всё растреплет и разнесёт молва всё по ветру.
— А Анастасия что? — Юлиан улыбался и явно наслаждался беседой.
— Сказала ей, чтобы не лезла в чужие дела. Да только Лизавета не унималась и пуще прежнего бранилась.
— Так, как я понимаю, о визите покойницы в мой дом перед пикником знали уже все?
— Думаю, да. Левашов — точно знал, посмеивался в усы, Деветилевич при мне Осоргину-старшому, Лёньке-то, сказал, что знатный у него свояк будет. Ну а дальше… Разве что сам Ростоцкий не в курсе дела был.
— А что Анна и Елена Климентьева?
— Мрачные были обе, как в воду опущенные. Они же по вас вздыхают, а тут им так дорогу перебежали.
Юлиан тоже вздохнул, только Бог весть о чём, и насмешливо бросил:
— Ну, что же, держи ушки на макушке, Тюфяк, и сам будь осторожен.
После чего комната мгновенно опустела: несмотря на толщину, Гейзенберг двигался как кошка — бесшумно и молниеносно.
После его ухода Валериан, не говоря ни слова, развалился на диване и задумался. Старший Нальянов вскоре сел напротив. Некоторое время оба молчали, потом Юлиан спросил:
— Арефьев арестован?
— Да, и от него узнали своего иуду. Не Каримов это, не Зборовский и не Чаянов. Клепочников, представь себе. Дрентельн ему как себе верил. В общем, всё не так плохо, он — человек Толмачёва, пусть с него и спрашивают. Но ты умница, конечно, я не ожидал, что так быстро разыщем. А тут-то что случилось? Расскажи толком. Что за записка у покойной в дневнике?
— Переусердствовал я, похоже, только не пойму, где, — скривился Юлиан, правда, физиономия его выражала не столько недовольство собой, сколько, напротив, сияла. — Убитая — Анастасия Шевандина, моя бывшая пассия, связь продолжалась неделю. Минувшую ночь она провела в нашем доме: ей написал записку мой дружок-дипломат Андрей Данилович. Справедливости ради скажу, что он охотился вовсе не за ней, а за племянницей Белецкого, но девицу мне жалко стало, и я записку… переадресовал. То, что ночную гостью выследили — это, конечно, неожиданность. Ванда оказалась умнее, чем я полагал. Однако кому понадобилось душить Анастасию и зачем — убей, не понимаю. Не девицы же ревнивые? К подполью Анастасия отношения не имела, это точно. Впрочем, есть у меня некоторые размышления насчёт этого гадюшника. Тебе пригодятся.
— Почему Вельчевскому не рассказал? Он толковый.
— Ему трудно будет отделить зерна от плевел, кроме того, не должно всплыть, что Тюфяк — наш агент, да и Левашова светить не хотелось бы. Надо их прикрыть. В общем, разбираться придётся тебе.
— Хорошо, — благодушно согласился Валериан. — А ты не исключаешь, что наш Тюфяк или Поль могли сами девицу придушить?
Юлиан хмыкнул.
— Ох, Валье. — Он вздохнул и несколько помрачнел.
— Что ты, братец?
Старший Нальянов безразлично пожал плечами.
— За несколько часов до убийства я разглядывал гостей Ростоцкого. Подпольщики-бомбисты, сочувствующие им чиновники муниципалитета, глупейшие эмансипе, светские львы, романтичные дурочки и циничные стервы — все они говорили о революции, а внимали им агенты охранного отделения. Они все хотят изменить мир, не понимая, что обязательно станут палачами или жертвами. Но ведь и я не лучше, Валье, я тоже хочу изменить мир, очистив его от подпольщиков-бомбистов, сочувствующих им чиновников муниципалитета, глупейших эмансипе, светских львов, романтичных дурочек и циничных стерв. Просто я умнее и сильнее, и понимаю, что я — палач.
Валериан Нальянов смутился.
— Полно тебе, пугаешь ты меня, Жюль. — Он поторопился вернуться к случившемуся. — Ладно, напортачили, давай думать. Тут политику не пришьёшь, ты прав, банальная уголовщина. Если это изнасилование и убийство для сокрытия следов, то подозреваемый — мужчина. Их на месте было девятеро. Старика Ростоцкого отметаем, вы с Дибичем имеете взаимное алиби, остаются шестеро. Ты исключаешь Тюфяка и Поля?
Юлиан неторопливо перебил брата.
— Нет-нет, Валье, это мнение Вельчевского, но он повторил сказанное врачом, что убитая не девица. Я осмотрел тело. Следов блудной ночки много — но как отличить их от следов насилия? Расцарапать её мог накануне и мой друг Андрэ…
— А не мог убийца сначала придушить Шевандину, а потом воспользоваться?
— Мог, ведь она не кричала, — кивнул Юлиан. — Если изнасилование было — это, конечно, облегчит наше положение. Но пока будем основываться только на факте удушения. Из трёх подходов к расследованию — орудие убийства, возможности его совершения и мотивы, — выберем то, что быстрее приведёт к убийце. Итак, первое — орудие преступления. Руки. Подозреваемых четырнадцать человек. Удушить женщину могла даже женщина, так что не исключаем никого, но сразу отсекаем троих. Меня, Дибича и Ростоцкого. Дальше. Тюфяк не убивал Шевандину. Чист и Харитонов. Можно пропустить и Анну Шевандину.
— Аргументы? — удивился Валериан. — Гейзенберг убедил тебя в своей невиновности?
— Нет, но на шее убитой чёткие следы ногтей, они довольно длинные и так впечатаны в кожу, что оставили кровавые лунки, а у Тюфяка ногти врастают в пальцы. Он бренчал на гитаре и сегодня четверть часа размахивал руками перед моим носом. А Харитонов, когда нервничает, грызёт ногти, а так как нервничает часто, они очень коротки. Коротко острижены ногти и у Анны Шевандиной. Впрочем, она и так вне подозрений.
Валериан улыбнулся.
— Браво, братец, отец прав, какой бы сыскарь из тебя вышел! Если мы отмели троих по орудию преступления, и стольких же отметём по возможностям и поводам, мы найдём убийцу к утру.
— Не найдём, — покачал головой Юлиан, — хотя ещё кое-кого оправдаем. Итак, у нас остались восемь человек. Осоргин-старший и его невеста Елизавета, она подошла к Ростоцкому позднее, Сергей Осоргин, Деветилевич с Левашовым, Елена Климентьева, Ванда Галчинская и Мария Тузикова. Можно снять подозрение с Павлуши. Он — левша, а на шее Шевандиной отпечатаны пальцы правой руки. Хотя, — он на мгновение задумался, — женская шея тощая, мужчине можно больших усилий и не прилагать, так что он и правой бы справился…
— А племянницу княгини Белецкой ты не исключаешь?
— С чего бы? — удивился Юлиан. — Ногти у неё аршинные. Я скорее усомнился бы в возможностях Ванды Галчинской. Она слишком субтильна, ручонки совсем слабые. Удушить она, впрочем, могла, а вот перекинуть тело через перила моста… — Юлиан с сомнением покачал головой. — Я ведь, признаться, думал, что укокошат именно её…
— Что? — изумился Валериан.
— Имя Арефьева я узнал от Тузиковой, а полька молчала до последнего. Я и обронил при младшем Осоргине, что на месте наших бомбистов я не держал бы в своих рядах баб-с. С потрохами-де продадут первому жиголо. Надеялся, уберут её, и одной шалавой меньше станет. В общем-то, шалаву и убили, только почему эту?
Валериан вздохнул и мрачно покачал головой.
— Какой же ты циник, Жюль.
— Ну что ты, Валье, — Юлиан зевнул. — Однако продолжим. Возможности придушить Анастасию были у каждого: все разбрелись по парку, хмарилось, быстро темнело. Деветилевич и Осоргин развели костёр и ушли — один за хворостом, другой в лавку. При этом я думаю, что убийца либо догнал гуляющую Анастасию на мосту, либо пригласил пройтись и на мосту задушил, сбросив тело через перила. Кстати, перила невысокие, пожалуй, и Галчинская могла столкнуть через них жертву. Если же имело место насилие, то убийца придушил её в кустах, позабавился, а потом отволок тело к мосту. Теперь всё упирается в мотивы.
— Ты же знал её. Кому она мешала?
— Судя по моим наблюдениям — она никому не была нужна, но сама едва ли это понимала. Она презирала сестёр — одну за уродство, другую за наивность, презирала плебея-жениха Лизаветы и его братца, презирала Харитонова и ненавидела Деветилевича и Павлушу Левашова. Ненавидела и Климентьеву, ревновала её ко мне.
— Чем ей не угодили Павлуша с Аристархом?
— Аристарх Деветилевич, как я догадываюсь, лет пять назад совратил её, потом она была любовницей Левашова. Но оба предпочли ей Климентьеву. Там и деньги немалые, и родство приличное. В этом смысле замечу, что гораздо проще найти у Анастасии мотив разделаться с каждым в этой компании, чем понять, кому понадобилось сводить счёты с ней самой.
— А то, что думали девицы… что она провела ночь с тобой?
— Ревность? Ну, это совсем дурочкой убийце быть надо.
— Могла ревнивая девица и голову со злости потерять.
— Могла, только преступление не кажется мне импульсивным. Хоть и проступает какое-то дурное отчаяние…
— А не могли её убить по ошибке? Ты говоришь, темнело, марево…
Юлиан покачал головой.
— Едва ли. Смеркалось, но не разглядеть лица? Да и фигурой она схожа только с Анной и Елизаветой, Климентьева выше, Мари-эмансипе — толще, Галчинская — куда субтильней. Она одна была в светло-жёлтом платье. Не думаю, что убийца не видел, кого душил. Рука легла спереди.
— Ты сказал, что Дибич написал записку. Записка у Вельчевского. Я читал её. Ты считаешь, что он писал не Шевандиной?
Юлиан вздохнул.
— Он тут давеча корил меня, что я без любви воспользовался девицей. Это, по его мнению, — подло. Каково, а? А назваться чужим именем и затащить девицу в постель под видом другого, — что, идеал праведности? Человек, пользующийся моим именем и моим домом, чтобы обесчестить влюблённую в меня, не считает себя подлецом. Но тогда почему я, подставляющий ему издёвки ради блудную девку, должен считать себя таковым? Самое смешное, что он в Климентьеву всё же влюблён. — Нальянов горько рассмеялся и пояснил. — Я заметил, что он отлучился в дом, а потом вернулся, наблюдал за ним и видел, как он заложил за ободок шляпки Климентьевой записку. Я её извлёк и прочёл. Хотел засунуть в шляпку Галчинской, да она не снимала её, хотел Тузиковой, да она её в руках тискала. Вот и сунул в шляпку Анастасии. Потом подумал, что так и лучше — нигилисток он бы сразу отличил по субтильности и полноте.
Валериан внимательно посмотрел на брата.
— Зачем ты это сделал? Всё же пожалел племянницу Белецкой?
— Говорю же, не люблю, когда пользуются моим именем и делают мой дом публичным, — отмахнулся Юлиан, — Кроме того, я не сомневался, что уж кто-кто, а Анастасия обязательно придёт.
— Ты хотел завербовать Дибича? — хладнокровно поинтересовался Валериан.
— На чёрта он нам нужен? — удивился Нальянов. — Хотел при случае посмеяться. Но невольно повязал. Однако это всё пустяки. Нужно проверить мотивы Осоргиных. Ребята мерзковаты. Кроме того, она могла шантажировать Аристарха и Павлушу тем, что расскажет о них кое-что Елене. Эмансипированные девицы могли разозлиться на её хамство или пренебрежение. У остальных — мотив — ревность. И наконец, она просто могла случайно что-то увидеть и стать нежелательным свидетелем.
— Работы много, — вздохнул Валериан.
* * *
Тем временем совсем стемнело. Снова стал накрапывать дождь. На даче Ростоцкого, куда зашёл Андрей Дибич, заметив приезд Белецких, он стал свидетелем двух разговоров. Первый ничуть не заинтересовал его: Белецкий требовал от Вельчевского, чтобы его племяннице позволили утром во вторник уехать, ибо Елена, разумеется, не имеет никакого отношения к гибели подруги. А вот второй разговор был весьма интересен. Княгиня Белецкая тихо выговаривала Елене в саду за то, что та не прислушивалась к её словам. Дибич, осторожно прячась за ствол раскидистого дерева, подошёл ближе и стал за кустами.
— Говорила же тебе, держись от него подальше! — яростно шипела Надежда Белецкая, — и вот в итоге посмотри, во что ты впуталась.
— Причём тут он? — возмутилась племянница. — Он с дипломатом этим, Дибичем, был. Никакого отношения к этому не имеет. Перестаньте поносить его. Что он, в конце концов, вам сделал? Почему вы так ненавидите его? Все эти разговоры о его похождениях — вздор.
— Нужны мне его похождения! — огрызнулась тётка, — достаточно и того, как он с матерью поступил! Я, видит Бог, Лильку не оправдываю, но не сыну мать судить! Выродок он, бессердечный выродок!
.Елена судорожно вцепилась в руку тёти.
— Да что он сделал-то, объясните!
— Не твоего ума дела, — снова зло отмахнулась Белецкая, — да только если бы ни он — Лилька жива бы была. И хватит болтать, Собирай вещи, и утром уезжаем. Живо.
— Но нам не велели отлучаться…
— Нам разрешат. А к этому Нальянову больше не подходи. Думать забудь.
— Вы не правы, тётя.
Дибич подумал, что как только закончится следствие — разумнее уехать. Что до Климентьевой — её-то как раз просветить на счёт «идола» не помешает. Он решил, что завтра расскажет ей о том, что узнал от графини Клейнмихель.
Глава 17. Зигзаги следствия
Судья, отступающий от текста закона, становится… законодателем.
Фрэнсис БэконОднако ночь обманула Андрея Даниловича. Он почему-то до пяти утра просто не сомкнул глаз, а вот под утро — уснул, причём настолько крепко, что не слыхал ни петухов, ни гонга на завтрак. Когда же он наконец проснулся, то заметил, что за те часы, пока он спал, случилось что-то ещё: на улице суетились дворовые люди с чалокаевской дачи и из дома Ростоцкого. Что-то, размахивая руками, доказывал Вельчевскому старик Ростоцкий. Деветилевич, Левашов и братья Осоргины стояли на пороге дома генерала с серыми лицами. Правда, из гостиной чалокаевской дачи неслись тихие аккорды шубертовского «Мельника», а с балкона на поднятую суету недовольно взирала сама Лидия Чалокаева, из чего Дибич заключил, что какая бы беда ни приключилась, она не коснулась «холодного идола морали».
И он не ошибся.
Поднявшись по ступеням боковой лестницы, Дибич столкнулся с Валерианом Нальяновым, который, вежливо и отстранённо кивнув ему, быстро прошёл вниз. В гостиной же сидел старший Нальянов, перебирая ноты.
— А, дорогой Андрэ, вы уже проснулись? — увидев его, небрежно бросил Юлиан. — Вы знаете, что нигде не могут найти прелестную мадемуазель Климентьеву?
— Что? — удивился Дибич, присаживаясь на диван.
— Мадемуазель пропала — с утра ищут. Утром сегодня Белецкие с Ростоцким телеграмму давать ходили, потом разрешения на отъезд получили, а тем временем, как говорят, Елена вышла по саду генеральскому погулять. Белецкие вернулись — вещи сложены, а девицы нет.
Дибич решил, что его разыгрывают.
— Шутите? Куда она с дачи-то пропасть могла?
Нальянов покачал головой.
— Не знаю.
Это просто и почти бездумно произнесённое «холодным идолом морали» слово неожиданно заставило Дибича похолодеть.
— Так она серьёзно пропала? — он вскочил. — А вы где все были?
— Утром-то? Вельчевский с братом на почту ходили, Лидия Витольдовна с ними пошла, я решил ванну принять. Потом поспал ещё часок, газеты полистал. В Германии введён высокий таможенный тариф, пошлины на железо, бумажную пряжу и хлеб. Кроме того, наш Тургенев получил звание доктора гражданского права в оксфордском университете. Сообщено, что он один из первых русских, удостоенный этой чести. Больше ничего примечательно. На рояле побренчал, подзакусил слегка. Ванну принял.
— Какого чёрта вы принимаете ванну дважды в день? — вскипел Дибич.
— Потому что три раза я не всегда успеваю, — охотно растолковал Нальянов.
Дибич тяжело дышал. До него только сейчас дошло, что убийца Анастасии не арестован и может продолжать убивать.
— Перестаньте ёрничать. Вы, что, думаете, что убийца — маньяк, и Елена… Елена погибла?
Нальянов зевнул.
— Отличительные свойства маньяка, дорогой Андрэ, — постоянство и неизменность. Но постоянство и неизменность проступают только со временем. Если убийца маньяк — это скоро выяснится. Девица могла и заблудиться. Валериан с Вельчевским сейчас взяли шляпку мадемуазель и поищут её с собаками.
Дибич едва сдерживал гнев.
— А вам, холодному идолу морали, это безразлично?
— Ну, почему? Это же я предложил взять собаку. Кстати, о расследовании убийства Шевандиной. Её, оказывается, выследила Ванда Галчинская, а Вашу записку Вельчевский обнаружил вложенной в дневник убитой. Он взял образчик моего почерка и сильно интересовался вашим, потому что руку Деветилевича, Левашова, Харитонова, Гейзенберга и Осоргиных уже изучил.
Дибич побледнел и снова сел. Всё его бешенство погасло. Найти его почерк в бумагах министерства не составит труда, а как он объяснит подпись? Рассказать правду было немыслимо, но какие-то объяснения дать было необходимо. Андрей Данилович лихорадочно размышлял, забыв и об исчезновении Елены, однако, как назло, ничего в голову не приходило.
— Что же делать? — растерянно спросил он сам себя, но произнёс это вслух.
Нальянов вздохнул.
— Вы же не убивали Анастасию Шевандину, хоть и подставили её под ревнивую месть пятерых влюблённых дурочек, — невесело усмехнулся он. — Но факт остаётся фактом. После ночи с вами она была жива и здорова, а раз так…
— А если я скажу Вельчевскому, что просто пошутил над девицей, а она возьми и прими всё за чистую монету? — жалобно пробормотал Дибич. — Она пришла, ну, а мне, как джентльмену, деваться было некуда?
Нальянов покачал головой.
— Не выйдет. Вельчевский же не идиот. Если бы дело шуткой и закончилось, вопросов бы не было, но убийство… убийство, увы, на любое деяние проливает свой холодный и мертвенный свет. В вашей записке стоят мои инициалы, а джентльменам свойственно подписываться своим именем. К тому же, если бы девица приняла всё не в шутку — прийти она должна была ко мне, именно так Вельчевский и подумает, уверяю вас, — лениво растолковал он.
— Ну, спальню перепутала…
— Ага, — расхохотался Нальянов. — Записка ваша и почерк ваш, инициалы зато мои, спальня снова ваша, девица в моём доме идёт в вашу постель. Дивны дела твои, Господи.
Дибич вздохнул. Он не мог признаться Вельчевскому, что решил заманить к себе Климентьеву запиской от имени Нальянова. Не мог доказать, что перепутал шляпки. Не мог объяснить, что вовсе не Анастасию Шевандину ждал к себе в полночь — всего за восемнадцать часов до её смерти. Он попал в дурной капкан двумя ногами и понимал это.
— Если вам что-то мешает рассказать правду, — усмехнулся Нальянов, — правдиво солгите. И если вы не настолько щепетильны, чтобы принять от меня помощь…
Дипломат резко повернулся к нему.
— Что мне делать?
— Пусть следствие думает, что я был в курсе этой записки, — посоветовал Нальянов. — Вы можете сказать, что знали о моей связи с девицей, хотели приволокнуться за ней, имея в виду лёгкую добычу, посоветовались со мной, и я согласился, чтобы вы заманили её к себе от моего имени. Мне она была безразлична, и вы знали об этом. Она пришла, вы своё получили, а кто убил девицу на следующий день — знать не знаете. Лучшая ложь та, в которой много правды. — Глаза Нальянова болотно искрились. — Разумеется, о Климентьевой — ни слова, даже если её угораздило стать новой жертвой маньяка: вам до этого дела быть не должно.
— И вы подтвердите, что знали о записке? — оживлённо спросил Дибич. В словах Нальянова ему и вправду померещился выход.
— Что мне, подлецу, стоит солгать следствию? — язвительно рассмеялся Юлиан. — Да, дорогой Андрэ, я готов это подтвердить.
Дибич облегчённо вздохнул. Он понимал, что Нальянов проявляет по отношению к нему высокомерное великодушие, но сейчас решительно всё заслонило беспокойство о себе. Подобная история, всплыви она во всех подробностях в свете, могла бы здорово уронить реноме и стоить карьеры. Не говоря уже о том смешном положении, при котором он, незадачливый Казанова, ловил в сети утончённую красотку, а получил чужие объедки.
— Благодарю вас, — сказал дипломат почти искренне.
* * *
Однако заняться лжесвидетельством им довелось не скоро: Елены нигде не было. Ростоцкий был бледен, к нему вызвали врача. Эмансипированные девицы недоумевали, Лизавета и Анна испуганно жались друг к другу, Белецкий метался по даче генерала как помешанный, но только путался у всех под ногами. Харитонов, Гейзенберг, Деветилевич, Левашов и Осоргины отправились в Старую Сильвию, обошли весь парк, выкрикивая имя Елены, но никто не отозвался. Собака Ростоцкого и полицейский пёс Вельчевского взяли след, но явно вчерашний, и Валериан Витольдович с Вениамином Осиповичем, прометавшись несколько часов по поляне и местам пикника, тоже ничего не нашли, убедившись, что девица пропала бесследно.
«Холодный идол морали» в центре всего этого сумбура был воплощением ледяного спокойствия: он заказал кухарке бефстроганов и послал за бутылкой роскошного вина, потом прогулялся по чалокаевскому парку и сел обедать в одиночестве, ибо Лидия Витольдовна и Дибич ушли в парк узнать об итогах поисков. Когда они вернулись — вместе с Вельчевским и Валерианом Витольдовичем, Юлиан допивал уже последний бокал.
Дибича безрезультатность поисков всё же сильно обнадёжила, к тому же он был уверен, что убийца, кто бы он ни был, никогда не стал бы нападать на Елену в то время, когда рядом были её дядя и тётя. Она жива, просто… просто… он не знал, что предположить, но верил, что Елена непременно найдётся. Она забрела в какой-нибудь храм или старую церковь в Павловске, заблудилась или повредила ногу…
— Ничего не нашли, Валье? — осведомился Юлиан тоном, который ясно говорил, что в ответе он не сомневается.
— Её нигде нет, — ответил младший Нальянов, приступая к трапезе. — А ты чем занимался, Жюль?
— Меня господин Дибич обвинил в равнодушии к следствию, — любезно улыбнувшись Андрею Даниловичу, светским тоном сообщил Нальянов, — всего-то за то, что часок понежился в ванной. Между тем, — Юлиан вытер губы салфеткой и положил её на стол, — девицу я нашёл.
Дибич в изумлении выронил вилку, звякнувшую о край тарелки, Вельчевский замер, Лидия Витольдовна усмехнулась, а Валериан, сохраняя каменное спокойствие, осведомился:
— И где она, Жюль?
— Вам всем лучше дообедать, а после сопровождать меня.
— Какого чёрта? — вспылил Дибич, с досадой отбросив салфетку. — Вы всё это время знали, что с девушкой?
— Не знал, — покачал головой Нальянов. — Она могла быть в Сильвии, заплутать в незнакомых улицах, упасть о обморок… Есть и ещё один вариант — попала в воды Славянки, и тело её кануло на дно. Однако, прогулявшись в ваше отсутствие по округе, я отверг это допущение. А теперь, когда ваши поиски окончились безуспешно, я могу с весьма большой точностью предположить, куда она пропала.
Лидия Чалокаева единственная не придала большого значения словам племянника. Она с аппетитом ела, заботливо спросила Юлиана, что он будет на ужин, приказала принести ещё вина. Дибич заставил себя успокоиться и снова принялся за еду. Валериан поднял глаза на брата.
— Значит, она мертва? — он, казалось, утверждал это.
Дибич обмер, в глазах его потемнело. Вилка снова со звоном ударилась о тарелку.
Юлиан уверенно кивнул.
— Да, Валье.
— Это… это ваши догадки! — Дибич почувствовал, как рывками заколотилось сердце. — Чушь!
Нальянов усмехнулся и промурлыкал:
— «Белый саван, белых роз деревцо в цвету, и лицо поднять от слёз мне невмоготу…»
Дибич побледнел, чувствуя, как спирает дыхание: Нальянов безжалостно процитировал песенку утопленницы Офелии.
Валериан же спокойно закончил трапезу.
— Я, кажется, тебя понял, — он исподлобья взглянул на брата. — Ты полагаешь, она… в нашем пруду? У меня была эта мысль, но собаки-то не пошли туда.
Чалокаева нахмурилась, бросила встревоженный взгляд на племянников, но ничего не сказала, хоть было заметно, что эта догадка Валериана её отнюдь не порадовала. Она не любила, когда кто-то появлялся в её имениях без её ведома, а уж утопленницам в собственном пруду и вовсе была не рада. Чалокаева внимательно посмотрела на Юлиана. Увы, на сей раз любимый племянник не смог порадовать её.
— Они и не могли туда пойти, — он развёл руками. — Она же вчера вечером промочила ноги. Едва ли у неё была с собой другая обувь. Стало быть, она надела чужие туфли или калоши, что стояли у входа.
— Этого не может быть, — Дибичу казалось, что всё, что говорит Нальянов, тот говорит специально, чтобы побесить его. — Это… это просто вздор!
Валериан же явно ни на минуту не усомнился в словах брата.
— Значит, ты уверен, что рано утром убийца выманил её из дома, они пошли через сад Ростоцкого в наш парк, и там он около пруда задушил её и сбросил в воду?
— Думаю, да. Я полагал сначала, что он вывел её к реке, но, когда прошёл туда, заметил, что Савинковы вырубили на подходе к своей даче кусты и берег почти голый, да и глубина там — курице по колено. И видно всё вокруг — на выстрел. Значит, спрятал у нас, тут везде кусты, пруд в сажень глубиной.
— Выходит, она не подозревала его в убийстве Шевандиной. — Валериан допил вино и повернулся к Вельчевскому. — Я полагаю, Вениамин Осипович, нам надо проверить догадку брата.
Тот уже стоял на ногах. Чалокаева подозвала к себе лакея и что-то тихо сказала ему. Дибич, которого сильно трясло, тоже поднялся.
— Дорогой Андре, не сочтите за обиду, — Юлиан тоже поднялся, — но мы с братцем и господин Вельчевский — люди, если так можно выразиться, привычные к трупам. Я дела по убийствам ещё в отрочестве почитывал, Валье в уголовном ведомстве семь лет служит, а Вениамин Осипович — и того дольше. Вас же, как я заметил, бездыханные тела… нервируют. Может, останетесь?
— Нет! — Дибич выкрикнул это резко и зло.
Он сильно нервничал, мысль о смерти Елены Климентьевой была нестерпима, и то, что Нальяновы столь деловито и бессердечно обсуждали версию о гибели Элен, раздражало его непомерно, просто убивало. То же, что Нальянов припомнил ему его слабость у тела Анастасии Шевандиной, оскорбило и рассердило. Не менее злил и нарочито мягкий тон Нальянова, точно тот говорил с ребёнком.
Юлиан кивнул и уступил, не став настаивать.
— Ну, не обессудьте. Будь по-вашему.
Вошедший в комнату лакей протянул Юлиану Витольдовичу небольшую бутылку французского коньяка.
— Мерси, тётушка, — повернулся племянник к Чалокаевой. — Такая вещь лишней не бывает.
— Я Семёна за вами пошлю. Что понадобится — присылай его.
Юлиан улыбнулся тётке, любезно поцеловал ей ручку и вышел.
За ним последовали и все остальные.
* * *
На дворе по-прежнему моросил дождь. Господский парк, окружавший дом, был длиною около семисот саженей, шириной и того больше. Большой пруд, над которым нависал арочный мост, наполовину скрытый ветвями прибрежных ив, лежал в шестистах саженях от дома и был огорожен со стороны Славянки каменной стеной, но со стороны генеральской дачи ограда была всего лишь живой изгородью в аршин высотой и в нескольких местах была прорежена, а в одном — и вовсе отсутствовала.
Братья Нальяновы двигались одинаково легко, почти по-кошачьи. Вельчевский же снова напомнил Дибичу борзую — он словно принюхивался к воздуху и шёл в болотных сапогах напрямик, минуя выложенные плитами дорожки. Андрею Даниловичу в парке от запаха молодой листвы, яркости свежей зелени и птичьего пения немного полегчало, он чуть пришёл в себя и подумал, что напрасно разозлился на Юлиана. Это всё нервы, мелькнуло у него в голове. Однако чем ближе они подходили к пруду, тем больше он чувствовал усталость и изнеможение и уже почти жалел, что не остался в столовой с Чалокаевой.
Сама поверхность пруда оказалась в итоге зеркальной и безмятежной. Дибич бросил торжествующий взгляд на Юлиана, но тот в это время обернулся к брату и Вельчевскому.
— С берега убийца её сбросить не мог, тут мелко, только с моста, но там глубина около сажени.
— Нет, — покачал головой Валериан, — я плавал там на исходе прошлого лета и доставал ногами до дна.
— Хорошо, — вздохнул Юлиан. — Иеремия — для купания рано, конечно, но… — он начал стягивать с себя рубашку.
— Перестань, — остановил его Валериан, — ты, что, третьего дня не наплавался? — Он сбросил куртку, рубашку и штаны. — Ты только коньяк не разбей… — с этими словами он прыгнул с моста в воду.
— Вот там сначала посмотри, Валье, где ветка сломана.
— Но разве утопленник… он на дне? — растерянно спросил Дибич Вельчевского. — Мне казалось, что тело… ведь его несёт по воде…
— По течению реки недолго несёт, — кивнул Вельчевский, — а в пруду утопленник быстро идёт ко дну и остаётся там, пока лёгкие не заполнятся водой. Вскоре внутри трупа накапливаются газы, и оно всплывает на поверхность. Но тут не в утоплении дело. Убийца мог столкнуть живую девушку с моста, а мог задушить жертву и только потом бросить тело в воду. Картина будет разная.
Дибич в ужасе отвернулся. Его убивало то, как спокойно и уверенно эти люди говорят о смерти Элен.
Между тем, Валериан раз за разом исчезал под мостом, обшаривал всё вокруг, но не находил тела. Вода в пруду сильно помутнела, по воде шла нервная рябь.
Неожиданно Дибич услышал:
— Жюль, здесь. Кажется, нашёл.
Дибич вскочил. Вельчевский бросился к мосту, подошёл ближе к Нальянову, готовый помочь. Но Валериан сказал, что вытянет тело на берег, так проще, и поплыл к тому месту рядом с мостом, где стоял Андрей Данилович.
Вениамин Осипович и Юлиан торопливо спустились с мостков и стали на берегу рядом с Дибичем. Вода у берега не была замутнена, виднелось дно. В двух саженях от берега Валериан достал ногами отмель и стал в воде по пояс. Он волок за собой тело, и там, где ступали его ноги, со дна подымались, мутя воду, голубоватые разводы ила. «Нет, нет, не может быть», уверял себя Дибич. Он был внутренне уверен, что на берег будет извлечено что угодно, только не тело той, о которой он грезил. «Это не она, не может быть…»
Валериан тем временем появился из воды по пояс, он подхватил утопленника на руки и, взрывая вокруг себя желтоватые буруны воды, вынес на берег тело Елены Климентьевой. Она походила на фарфоровую кукл — безольно висящими руками и маленькими босыми ножками, бледно-розовыми и нежными.
Глава 18. Офелия, о, нимфа…
Нелепо спорить с убийцей о его праве убивать людей.
Вильгельм Райх.У Дибича помутнело в глазах, и в мутном тумане перед ним промелькнуло лицо Юлиана Нальянова — лицо падшего ангела, искажённое зловещим ликованием и изуверской улыбкой палача, а также бледное, странно испуганное лицо Валериана и затылок Вельчевского, бросившегося на помощь младшему Нальянову. Потом всё погасло. Он рухнул на траву.
Нальянов заметил обморок Дибича, лишь когда тот упал рядом. Но не бросился на помощь, а, не отводя взгляд, смотрел на брата. Потом, быстро опомнившись, он послал Вельчевского за носилками и доктором.
— И попросите тётю распорядиться, чтобы брату приготовили горячую ванну.
Вельчевский исчез, а Нальянов, перешагнув через Дибича, набросил на плечи брата куртку и оттолкнул его в глубину парка — под сень ивовых ветвей.
— Ты, что, с ума сошёл?
Валериан казался усталым и поникшим. Намокшие на концах волосы стекали по его лбу и плечам прозрачными слезами.
— Я видел твоё лицо.
— Причём тут лицо? Над лицом я не властен, но над собственными деяниями — вполне. Выбрось из головы.
Валериан вцепился в отворот рубашки брата.
— Ты виделся с ней ночью. Я видел. Зачем она приходила? Что ты сказал ей?
Юлиан опустил голову и, не отрицая ночного визита Климентьевой после убийства подруги, отчеканил:
— Она спрашивала, знаю ли я, кто убил её подругу? Я ответил, что в таких случаях подозреваю всех, даже её. Она поинтересовалась, серьёзны ли были мои отношения с убитой, раз она провела ночь в моем доме? Я сказал, что не каждый, кто провёл ночь в моем доме, обязательно провёл её со мной. При этом посоветовал ей как можно скорее вернуться в Петербург. Мы поговорили об убитой, Елена… задала ещё несколько вопросов, после моих ответов появилась княгиня Белецкая и они обе ушли в дом Ростоцкого.
— Поклянись Богом и жизнью, что ты ни при чём, — он заметил движение брови Юлиана и резко добавил, уточнив, — моей, моей жизнью поклянись.
— Клянусь, — веско отрубил Юлиан и, заметив, как смягчилось и оттаяло лицо Валериана, ядовито добавил, — это каким же Каином ты меня считаешь, а?
Но Валериан только покачал головой.
— Прости, ты напугал меня.
Юлиан сразу заметно расслабился.
— Полно, чего уж там. Пошли делом заниматься. О, мой дорогой Андрэ приходит в себя. — Дибич и вправду зашевелился. — Где коньяк?
— У тебя в левом кармане.
— А, ну да, вот он…
Дибич действительно пришел в себя и чуть поднял голову. Он уже некоторое время назад начал воспринимать и слышать, увидел братьев Нальяновых, потом оба подошли к нему. Но сил подняться не было. Он ощутил на губах обжигающий вкус коньяка, с помощью Валериана сумел сесть на траве. При этом Юлиан Нальянов не стал, к удивлению Андрея Даниловича, глумиться над его состоянием, а, напротив, вынув из кармана большую лупу в золотой оправе, начал внимательно изучать шею утопленницы и сновал вокруг трупа.
— Странно, — отрывисто бросил он наконец. — Очень странно…
— Вы… — Дибич внимательно слушал Нальяновых, — вы полагаете, это самоубийство?
— С чего бы, дорогой Андрэ? — продолжая осматривать тело, спросил Юлиан.
— Она… она любила вас, а вы отвергли её.
— И что?
Дибича снова разозлило, что «холодный идол морали» даже не считает нужным отрицать любовь к нему убитой.
— Это вы виноваты в её смерти. Вы…
Это обвинение ничуть не задело «холодного идола морали».
— В её смерти равно можно обвинить и вас: случись всё, как вы хотели, девица была бы вами обесчещена и, поняв, что обманута, вполне могла прыгнуть в пруд. Но я вас не обвиняю. Я ведь тоже логик. В смерти её виновен тот, дорогой Андрэ, кто затянул на её шее шарф и столкнул с моста в воду.
— Что? Шарф? — Дибич бросил растерянный взгляд на труп. — Какой шарф?
— Розовый, шёлковый, он затянут сзади на один узел. Судя по тому, что наша Офелия… — Он осёкся, бросив взгляд на Дибича, и перешёл на сухой тон полицейского чиновника: — Судя по тому, что на жертве преступления платье цвета чайной розы, можно предположить, что шарф тоже принадлежал ей. Кажется, она приехала в субботу именно в этом платье, и шарф держал шляпку на ветру. В это утро он, возможно, был обвязан вокруг горла, и убийца, зайдя за спину жертвы, стянул узел до предела, а потом столкнул задохнувшуюся девицу с мостика.
Дибич, преодолевая страх и отвращение, присмотрелся к трупу и понял, что Нальянов прав, просто сам он не разглядел шарфа.
— Так она… её убили?
— Разумеется, убили. Наш маньяк трепетно выбирает мосты над вешними водами, а вот методы удушения разнообразит, — кивнул Юлиан. — При этом я рад, что у вас снова безупречное алиби, дорогой Андрэ. Мой камердинер может свидетельствовать, что вы всё утро прохрапели в спальне. Я тоже вас слышал.
Подошли Вельчевский, слуги с носилками, бледная, как смерть, Белецкая и представительный мужчина из городского Правления. Надежда Андреевна ринулась к погибшей племяннице и зарыдала в голос, у Дибича снова начала кружиться голова, он хотел было сказать Нальянову, что пойдёт к дому, но обнаружил, что обоих братьев у пруда уже нет.
Тогда он сам, несколько раз сбившись с главной аллеи на боковые и выходя к ограде парка, побрёл на удачу и наконец увидел за деревьями белые стены дома. На пороге его встретила мрачная Чалокаева, и Дибич сразу понял, что она уже знает от племянников о происшествии.
Сами же племянники снова поразили Дибича: младший согревался в горячей ванной, поставленной прямо в малой гостиной, а старший возлежал рядом — на небольшом диванчике с гитарой, и мерно перебирал струны. Выходившая мелодия была наглой импровизацией: Гуно кривлялся, Мефистофель пел «Камаринского», а откуда-то сбоку почему-то зловеще проступали такты «Коробушки».
— Pretty Ophelia! O nymph! Sins of my prayers remember![12], - промурлыкал гитарист напоследок.
Дибич снова рассердился, но он был слишком обессилен, чтобы вспылить. По счастью, заметив его, Нальянов отложил гитару.
— О, дорогой Андре, это вы. Вам бы поспать, вы плохо выглядите.
— А вам совершенно всё равно, кто убил девушку? — не отвечая, спросил Дибич Нальянова.
— Ну, с чего это вы взяли? — чуть подняв соболиные брови, осведомился Юлиан. — Или, чтобы вас успокоить, я должен поминутно выражать вслух беспокойство? При этом я не совсем вас понимаю, дорогой Андрэ. Откуда эти обвинительные нотки в вашем голосе? Вообразили себя прокурором? С чего бы?
— Вы разговаривали с ней вчера после убийства Шевандиной! Вы сами признались!
— Не признавался, — покачал головой Нальянов, — а просто сказал. И что? Да, вчера, заметив меня у дома на скамье, она подошла и заговорила со мной. Но подошла княгиня Белецкая, прервала нашу беседу и увела племянницу в дом. В это же самое время меня позвал в дом брат: тётя хотела, чтобы я поиграл ей. После этого Лидия Витольдовна распорядилась запереть все двери в доме и велела Силантию и Семёну-дворнику охранять дом. Убийцу боялась. Я же лёг в спальне брата в половине одиннадцатого и проспал до девяти утра сном праведника. Нас обоих разбудил Вельчевский.
— У вас нет сердца. Вы — не человек, — зло бросил в лицо Нальянову Дибич.
— Я уже говорил вам, чувствительность — не преимущество, слабость сердца — не достоинство. Идите спать, вы же с ног валитесь.
Дибич неожиданно точно ощутил вязкую сонливость и тянущую боль в сердце. Он подумал, что спорить с «холодным идолом морали» бессмысленно, пошёл к себе в комнату и, едва прилёг, провалился в сон.
* * *
За окном совсем стемнело. В третий раз за день полил дождь, на сей раз — затяжной и сильный. Юлиан заставил брата выпить ещё один бокал коньяку, Лидия Витольдовна, вернувшись со двора, со злостью захлопнула двери.
— Совсем помешалась Надька, ей-Богу! Кричит, что это всё из-за тебя, Жюль. Как так можно? — С Надеждой Белецкой Лидия Чалокаева не ладила никогда, и истерические вопли княгини, её обвинения в адрес собственного обожаемого племянника не могла не воспринять в штыки.
— У неё горе, — меланхолично сказал Юлиан, наигрывая моцартовский «Реквием».
— А ты, что, племянницу её близко знал? — подозрительно спросила тётка.
Юлиан поднял глаза и лучезарно улыбнулся.
— Нет, близко не знал.
— А эту… шевандинскую девицу?
— Эту знал, — рассмеялся Нальянов.
Валериан покачал головой. Глаза тётки блеснули.
— А что же она в смерти этой Анастасии тебя не обвиняет, а в смерти её Ленки, получается, ты виноват? Кричит, что ты её с ума свёл? Ловеласом обозвала…
— Она не так уж и не права, — пальцы Юлиана, пробежав по клавишам, вызвали к жизни кривляющуюся мелодию чардаша. — Ловелас не тот, в ком женщины пробуждают страсть, а тот, кто пробуждает страсть в женщинах. Это мужчина, которому женщина не может и не хочет сопротивляться. Но мужчина охладевает к женщине, которая слишком сильно его любит и не ценит тех, кто не сопротивляется. Видимо, с сердечными чувствами дело обстоит как с благодеяниями: кто не в состоянии отплатить за них, становится неблагодарным. Но в смерти Климентьевой я неповинен ни сном, ни духом. А где Вельчевский?
— С врачом и телом уехали.
Чалокаева села рядом с Юлианом. Тон её изменился, она успокоилась, но казалась напряжённой.
— Юля, Валье, а кто девок убил-то?
Нальянов посмотрел тётке в глаза и улыбнулся. Ответил серьёзно.
— Когда появится Вельчевский — я, возможно, буду это знать.
— Но это мужчина? Кто-то из этой публики?
— Да, это из этой публики, что до того, кто убийца… Женщины способны на всё, мужчины — на всё остальное, так что, тётушка, подождите немного. У истины есть дурацкое свойство, общее с дерьмом. Она всегда всплывает. Эту же мысль, кстати, выразил и наш Господь, но в более пристойной форме, сказав, что всё тайное всегда становится явным.
Лидия Витольдовна усмехнулась и вышла.
— Ты уже что-то понял, Жюль? — Валериан, хоть и выпил полбутылки коньяку, слова произносил отчётливо.
— Как ни странно, наоборот. Я кое-что перестал понимать. Чёрт бы подрал дорогого Андрэ с его блудными забавами. Если бы не он, я бы уже разобрался.
— Ты полагаешь, что убийца действовал из ревности?
— Меня сбивает блудная ночка Дибича, — пояснил Юлиан. — Он спутал мне все карты. Спросить напрямую, есть ли у него привычка оставлять на плечах и заднице девиц царапины, я не могу — воспитание не позволяет. Но Вельчевский завтра это спросить будет обязан. — Нальянов плесканул себе коньяка на дно бокала и озабоченно продолжил. — Но мой дорогой Андре и солжёт, дорого не возьмёт, к тому же, он дипломат: умение лгать входит в набор его профессиональных навыков. Жаль, нервишки у него слабые — сегодня они его подвели. В любом случае, всё сводится теперь к одному — была ли Шевандина изнасилована убийцей? Если да — всё становится ясным как божий день, и можно посылать Вельчевского за парой наручников. Если нет — надо будет думать снова.
Валериан быстро вскинул глаза на брата.
— Я правильно понял, Жюль? Ты считаешь, что убийц двое?
— Да, — уверенно кивнул Юлиан, — и они даже не соучастники.
Валериан напрягся. На его переносице снова проступила поперечная морщина.
— То есть второе убийство никак не связано с первым?
Юлиан закусил губу и ненадолго задумался.
— Связано. В том смысле, что не будь первого, не было бы и второго. Но убийца Шевандиной, я думаю, сегодня имел повод здорово удивиться.
Валериан потёр виски.
— Чёртов коньяк, я много выпил, туманит голову. На каком основании ты полагаешь, что это не один человек? Обе девицы молоды, хороши собой. Мне даже показалось, что в действиях убийцы в обоих случаях сквозит какое-то безумие, почти отчаяние.
— Правильно, мой мальчик. Я тоже заметил. Только отчаяние совсем не одинаковое.
— Ты уверен?
— Хм…
— Конечно, он ни в чём не уверен. — Дибич стоял на пороге гостиной. Он прекрасно слышал разговор братьев. Полчаса назад он проснулся. Подслушанный разговор вывел Дибича из себя. — И что вы хотите от меня услышать? Причём тут моя правдивость? Вы просто умничаете и набиваете себе цену, вот и всё.
— Иногда я это делаю, — согласился Юлиан, — но не перед Валье, уверяю вас. Ну, а так как я не подозревал о вашем присутствии, то нелепо думать, чтобы я актёрствовал перед собой.
— Тогда с чего вы решили, что моё свидание с Шевандиной имеет отношение к преступлению?
— О! — махнул рукой Нальянов. — Тут, скажу честно, дорогой Андрэ, мы делим ответственность пополам. И мне придётся покаяться перед вами. Вы поступили как обычный подлец, решили обманом заманить и соблазнить девицу, в которую были влюблены, и подсунули ей записку, подписанную моим именем. Я не любил мадемуазель Климентьеву, но как сказал один остроумный француз: «Пусть нет любви, зачем же ненавидеть?» Я не желал девушке зла, при этом считал, что связь с таким подлецом, как вы, счастья никому не принесёт: когда она поймёт, что обманута, да ещё вами, она, я уверен, наложила бы на себя руки ещё быстрей, чем после связи со мной. В таких случаях во мне проступает «холодный идол морали»: мне захотелось помочь бедняжке и спасти её от вас. Но я тоже подлец и не брезгую подлыми методами. Я переложил записку в шляпку своей бывшей любовницы, хоть, признаюсь, хотел подсунуть её кому-нибудь из эмансипированных особ, да не получилось.
Дибич стоял с открытым ртом посреди комнаты и не мог выговорить ни слова.
— Именно этим, кстати, объясняется и моя великодушная готовность помочь вам выбраться из западни, в которую вас загнала ваша блудная похоть, — спокойно продолжал Нальянов. — Аморально подписываться чужим именем и выдавать себя за другого, аморально обманывать непорочных, но подлог письма тоже неправеден. Хотя, если задуматься, раз письмо было подписано моим именем, следовательно, у меня было и некоторое право решать, кому его адресовать, — глаза Нальянова насмешливо блеснули. — Теперь я отвечу на ваш вопрос. Почему я говорю, что вы смешали полиции карты? Потому что о визите Анастасии стало известно Ванде Галчинской, которая выследила её, а так как нигилистка считала, что приходила она не к вам, а ко мне, то из ревности и обиды за высказанное Настей им с Мари пренебрежение, она рассказала о ночном вояже Шевандиной всем гостям Ростоцкого. Точнее — своей подружке Тузиковой, Левашову и Елизавете Шевандиной. Лизавета закатила скандал Анастасии, их слышал Гейзенберг, потом от Левашова всё узнали Харитонов, Климентьева и Анна Шевандина. А Лизавета, видимо, рассказала всё жениху и его братцу. В итоге, на пикнике мы попали не просто в гадюшник, как я вам сказал раньше, а в растревоженный террариум.
Дибич, потрясённый и уничтоженный, сел, точнее, нащупал бедром диван и присел на подлокотник.
— Господи…
— Рад, что начинаете кое-что понимать, но не думаю, что вы всё понимаете до конца. Дело в том, что ваша ночная гостья была особой вам под стать. Распутная и подловатая, она, однако, умела сохранять «в подлости маску благородства». В неё в итоге был влюблён Илларион Харитонов, видевший в ней воплощение своих грёз об истинной женственности. Не будем обсуждать степень глупости подобных иллюзий, но их крушение болезненно. Узнав о том, что она приходила ночью ко мне — он стал невменяемым. На меня у него рука бы никогда не поднялась — кишка тонка, а на Анастасию… вполне.
— Илларион — убийца? — губы Дибича не слушались его.
Нальянов усмехнулся.
— Не тут-то было. Мотивы могли быть и ещё у некоторых. И ведь не менее озлоблены были девицы. Теперь Анастасию ревновали Елена Климентьева, сестрица-Аннушка и Ванда с Мари, да и Лизавета, хоть и не столько из ревности, сколько из зависти, — все они готовы были удушить мерзавку.
— Но как же… Елена не могла…
— Убить Анастасию? Да, она была леди, признаю. И если бы мы точно знали, было ли насилие, мы могли бы уверенно исключить всех женщин. Под подозрением остались бы двое-трое мужчин. Так что, как видите, я вас вовсе не мистифицировал. Но тут есть иная сложность. Осмотрев тело Шевандиной, сможете ли вы понять, что оставлено вами, а что — нет? Как я понимаю, в вашей спальне не горел даже камин, вы опасались, что вас узнают. В итоге, что мы имеем?
Дибич вздохнул. Мутное чувство тошноты расползалось в нём и убивало все прочие ощущения.
— Я… посмотрю, постараюсь. Но вы сказали, что Елену убил кто-то другой?
Нальянов кивнул.
— Это предположение, но в данном случае врач не увидел никаких следов насилия.
— Значит, убийца — женщина? Но кому… зачем?
Юлиан вздохнул.
— Ох уж эта логика, — он снова глотнул коньяку, — если нет следов изнасилования, значит, убийце нужно было не скрыть следы иного преступления — ему нужна была именно смерть жертвы. Но я вас уверяю, мой дорогой Андрэ, что если бы не смерть Анастасии Шевандиной — мадемуазель Климентьева была бы жива.
Глава 19. Математика преступления
Роль предусмотрительного человека весьма печальна: он огорчает друзей, предсказывая им беды, которые они навлекают на себя своей неосторожностью; ему не верят, а когда беда все-таки приходит, эти же самые друзья злятся на него за то, что он её предсказал.
Н. ШамфорНепробиваемая уверенность и ледяной тон «холодного идола морали» вначале просто убили способность Дибича возражать. Он даже не пытался оспаривать выводы Нальянова. Оказалось, Юлиан знал куда больше, чем предполагал Дибич, оттого-то вся открывшаяся вдруг картина предстала перед Андреем Данилович в самом неприглядном свете. Он был подавлен и удручён. Даже то, что Нальянов мастерски обыграл его в ситуации с запиской, не столько унижало, сколько подавляло молниеносностью соображения и действий проклятого моралиста. Да и вся цепь рассуждений Юлиана вмиг свела все разрозненные факты воедино.
— Я не бросил бы её, — непонятно почему, именно эта мысль из всего сказанного Нальяновым, задела Дибича больнее всего. — Я любил её, и не ославил бы и не бросил.
Нальянов не спорил.
— А я вас в подобном намерении и не обвинял. Но в подлости — истиной подлости — всегда скрыт дьявол, дорогой Андрэ, а дьявол — это всего лишь себялюбие. Человек уподобляется дьяволу не тогда, когда начинает убивать, но когда начинает любить себя больше, чем Бога. Именно в этом ведь — исконный дьявольский грех. Даже сейчас, уверяя меня, что не предали бы мадемуазель, вы ни на минуту не задумались о ней самой, о её склонностях, душевном покое и счастье. Поэтому-то вас и зовут подлецом. Такие как вы — чёрные омуты бытия, поглощающие всё, до чего вам удаётся дотянуться.
— А сами вы — безупречны?
— Двинете мне в упрёк слова старой графини Клейнмихель? — мгновенно перехватил его мысль Нальянов. — Не получится. Не суйте нос в чужие семейные дела, боком выйдет. — Он явно начал злиться, к тому же сидевший всё это время в молчании Валериан, казавшийся уснувшим в полусонной летаргии, неожиданно поднялся и бросил на Дибича пугающе злобный взгляд. Оба брата сейчас казались почти близнецами, их плечи сошлись и кулаки сжались.
Дибич торопливо отступил и поспешно вышел из комнаты.
Валериан подошёл к окну и распахнул раму. В залу ворвалось прохладное дыхание ветра, шум древесных крон и освежающий запах дождя. Юлиан, тут же забыв про Дибича, закинул руки за голову и откинулся на кушетке.
Младший Нальянов несколько минут прислушивался к шуму дождя за окном, потом обернулся к брату:
— Этого подлеца послать бы подальше. Что тебя с ним связывает? Зачем ты пригласил его в дом?
— Я не приглашал, — Юлиан пожал плечами. — Случайное знакомство. Что до прощания с моим дорогим Андрэ, — Он зевнул, — то оно воспоследует само собой. Подлец не любит, когда его называют подлецом. — Он поднялся, задумчиво прошёлся по комнате. — Что за напасть? Почему так вдруг захотелось жареной рыбки? Завтра после ареста этих мерзавцев, — на рыбалку. Хочу поймать сазана. Я у Висконтиева моста местечко присмотрел, там должно отменно клевать.
Валериан только улыбнулся.
* * *
Утро среды было омрачено горестными воплями Надежды Белецкой, страшными и надрывными. Все ждали, пока привезут с похоронной конторы гробы, все были собраны к отъезду.
Нальяновы с Дибичем ушли в полицейское управление к Вельчевскому. Андрей Данилович провёл ужасную ночь, и сейчас чувствовал себя совершенно разбитым. Слова Нальянова, сожаления о Элен, понимание, что он совершил что-то страшное и непоправимое, совершенно изнурили его. Предстоящее ему испытание, унизительное и постыдное, тоже безмерно тяготило, но отказаться он не мог. И не из-за страха, что Нальянов расскажет всё о записке, скорее, в нём проснулось желание хоть чем-то искупить свою вину, иметь возможность сказать — хотя бы себе, — что сделал всё, что мог. Елене уже ничто не могло помочь, но хотя бы найти убийцу. Это был пустяк, жалкий паллиатив, но Андрей Данилович верил, что узнанное имя убийцы Елены поможет ему прийти в себя, даст выход той боли и безысходности, что поселилась в душе.
К его безмерному облегчению, его оставили с телом Анастасии наедине. Никто не торопил его и не беспокоил. Он видел в окно, как Юлиан сел с Вельчевским на скамье возле полицейского управления и что-то долго говорил ему. Вениамин Осипович молча кивал. Валериан куда-то ушёл, но вскоре вернулся, к удивлению Вельчевского, с ведром, болотниками и двумя удочками.
Дибич тупо разглядывал тело той, что ещё в ночь на воскресение согревало его плоть, которое он принимал за тело любимой. Вода смыла с него все следы и запахи, грудь была тверда и неподвижна, как мрамор, ласкавшие его руки казались ледяными, на шее Анастасии багровели тёмные пятна от пальцев убийцы.
Тяжёлый запах камфары и формалина давил на виски. То, на что намекал Нальянов, было вздором, Дибич не любил грубостей и не оставлял на телах любимых «знаков страсти», и сейчас искал следы чужих рук. Как он понимал, следы рук Харитонова, ведь Нальянов прозрачно намекнул ему на вину Иллариона.
Он нашёл их, когда санитары перевернули тело, и сразу поспешил выйти на свежий воздух. Ему было всё равно, что подписывает приговор Харитонову, хоть лысеющая голова Иллариона, стёкла его круглых очков и растерянные голубые глаза как-то не вязались в его голове с убийством. Рохля ведь, подумал он как-то отрешённо.
Дибич вышел из мертвецкой, подошёл к Нальяновым и Вельчевскому. По глазам полицейского понял, что о записке и всём прочем тот уже знает.
— Я думаю, да, её ноги оцарапаны. В ночь на воскресение этого не было, — Дибич не поднимал глаз на Нальянова, смотрел на угол скамьи, окрашенной синей краской. — Но кто убил Елену? Ведь не Харитонов же?
— Нет, дорогой Андрэ, — это обращение, которого он так добивался от Нальянова, теперь резало ему слух. — Мне больно вам это говорить… но…
— Вам? Больно? — едва не взвизгнул Дибич. — Вы… палач. Палачу ничего не больно. Перестаньте издеваться. И что мне за дело…
— До моей боли или до того, кто убил Анастасию? — Нальянов вздохнул. — Но вам до этого дело будет, уверяю вас. — Он тяжело вздохнул и уверенно проронил, — боюсь, Анастасию Шевандину убил ваш кузен Сергей Осоргин.
— Что? — оторопел Дибич, — вы же утверждали, что Илларион…
— Я не утверждал, а предполагал, что это могли сделать двое. Левашову и Деветилевичу смерть Анастасии не к чему, оба были когда-то её любовниками, но что с того? Гейзенберг и Харитонов не могли оставить на шее жертвы отпечатки ногтей, остаются двое Осоргиных, но вашего старшего кузена я особо не подозревал: зачем ему идти на скандал, убивая сестру невесты? А младшему Осоргину она нравилась. Когда же он в воскресение утром узнал, что девица вполне доступна, он попытался заявить на неё свои права в кустах ракитника, а встретив отказ, просто придушил её.
— Господи, Сергей… Этого не может быть, он же не сумасшедший!
— Думаю, что он им стал. Его дружок по партии, третьего дня арестованный, рассказал, что ваш кузен был назначен первым метальщиком в подготовленном покушении на одного высокопоставленного чиновника. Собственно, и чиновник-то этот им не пойми зачем был нужен… Ваш братец, я полагаю, немного… потерял себя. Это бывает в преддверии смерти. Это была истерика, глупый жест отчаяния. А может, это надо узнать, он просто пытался… пройти по иному делу. От дружков он теперь надежно спрячется лет на семь… Это лучше петли в Петропавловке.
— Но Елена! Какое отношение она имела ко всему этому? Вы сказали, что эти убийства связаны!
— Не говорил, — покачал головой Юлиан. — Я сказал, что первое убийство спровоцировало второе. Всё просто. Когда из вод Славянки выловили труп Анастасии Шевандиной, я ругался, вы перенервничали, Ростоцкому стало дурно, девицы испугались, Харитонов был ошеломлён и убит, но в одной из мужских голов труп на берегу породил весьма подлые мысли, что свидетельствует, кстати, о том, что не мы с вами одни мерзавцы и градации подлости весьма многообразны. Так вот, в голову его закралась мысль, что недурно воспользоваться этой смертью, чтобы наладить свои дела. Проще сказать, подлец решил сыграть маньяка, рассчитывая, что второе убийство повесят на того, кто совершил первое. Убить же ему было необходимо именно Елену Климентьеву, наследницу двухсоттысячного состояния. В случае её смерти до совершеннолетия наследником становился именно он.
— Деветилевич!
— Верно. Он понял, что Елена никогда не выйдет за него замуж. Между тем видел её влюблённость в меня, подмечал и ваши очарованные взгляды в её сторону. Я уточнил у Белецкого, до совершеннолетия ей оставалось только три недели. Естественно, когда кузен пригласил её прогуляться по парку, Елена ничего не заподозрила. Он же привёл её на мост нашего пруда и быстро затянул шарф у неё на шее. Всё, что оставалось, столкнуть тело вниз. Дальше — он чувствовал себя в полной безопасности, полагая, что убийство спишут на того, кто убил Шевандину.
— Подлец, — зарычал Дибич, — какой подлец… Аристарх… Он не убежит?
— Нет, за ним следят.
Дибич, почувствовав, что ноги совсем не держат, опустился на лавку. Чудовищное открытие лишило его последних сил. Нальянов же и вовсе поразил его. Он сказал Вельчевскому, что в конце недели уедет в Петербург, а пока направился с Валерианом на рыбалку. Дибич проводил обоих недоумевающим взглядом, потом махнул рукой и побрёл к чалокаевскому дому.
* * *
Аресты наделали в Павловске и Петербурге много шума. Нальяновы совсем не желали, чтобы их имена мелькали в деле, и честь раскрытия преступления досталась Вениамину Вельчевскому. Белецкая, до того проклинавшая любовь племянницы к ненавистному Нальянову, узнав об аресте своего племянника, упала в обморок, Белецкому тоже стало дурно. Несколько дней Надежда Андреевна провела в чалокаевской летней резиденции: врачи запретили ей вставать с постели. Лидия Чалокаева, надо заметить, проявила к несчастной истинно христианское сострадание, ревностно заботясь о ней.
При аресте Аристарха оторопел даже Левашов: Павлуше и в голову не приходило, на что мог решиться его дружок. Арест Сергея Осоргина тоже поразил всех, впрочем, куда меньше, чем арест Аристарха, однако взятие его под стражу мало что изменило в планах семейства: Елизавета всё равно не отказалась выйти замуж за брата убийцы своей сестры. При этом во время следствия выплыло то дурацкое обстоятельство, которое было подмечено во время следствия братьями Нальяновыми и обозначено ими как «отчаяние». Оказалось, что в печерниковском притоне Сергею не посчастливилось: он по неосторожности подхватил заразу. Отчаяние от необходимости идти на смерть усугубилось отчаянием дурной болезни и, как выразился после Юлиан, отшибло у бедняги последние мозги, и именно отсюда следовала сумбурная глупость его поступка.
Что касается Дибича, то он сразу после ареста Осоргина и Деветилевича уехал. Сначала в Петербург, потом, как говорили, в Париж. Через несколько дней чалокаевская резиденция опустела, увезли Белецкую, с ней в город возвратилась и Лидия Чалокаева. В доме оставались только братья Нальяновы, помахавшие вслед тёткиным рысакам. Потом Валериан с задумчивым видом отошёл от окна. Юлиан бросил исподлобья быстрый взгляд на брата.
— Что с тобой, мальчик мой?
— Знаешь, я подумал, что ты в чём-то и прав, — Валериан поёжился, словно его морозило. — Полтора десятка человек… Обычная толпа любого дома. Эмансипированные нигилистки, проповедующие свободу нравов, но с готовностью поливающие грязью особу, пойманную ими на этой самой свободе. Революционер-сифилитик с уголовными замашками, его братец, с революционными убеждениями и любовью к народу, ведущий под венец десять тысяч приданого, светские львы, чьи интересы не идут дальше денег и сплетен, и готовые при надобности денег до зарезу — бездумно зарезать. Сестры, не могущие, прожив вместе под одной крышей двадцать лет, сказать о своей сестре ничего, кроме того, что она любила курагу, и проповедники нового устройства мира, не умеющие устроить на носу свои собственные на носу и научиться тщательно застёгивать ширинки на штанах. И наконец, поэт, элита нации, хладнокровно заманивающий к себе на ночь девицу, прикрываясь именем соперника…
— Великолепный анализ, Валье, — кивнул Юлиан. — И что?
— И эта страна мнит, что способна указать свет миру? На неё — де направлен таинственный перст Божий — указать дорогу миру?
Нальянов расхохотался, но ничего не ответил брату.
Через минуту поднялся.
— Ты куда-то собрался? — Валериан повернулся к Юлиану.
— Да, я на пару часов. Договорился о встрече.
Глава 20. Исповедь
Люди не смогли даже выдумать восьмого смертного греха.
Теофиль ГотьеВ ночном небе серебристый диск луны отдавал по краям бледно-золотистой желтизной. Юлиан шёл медленно, иногда оглядывался, хоть знал дорогу. У собора остановился. На паперти сидел нищий, раскачивающий головой и бормочущий, что Антихрист уже народился. Нальянов что-то бросил ему в чашку, вздохнул и прошёл в притвор. Человек в чёрном подряснике ждал его, Нальянов отметил мягкий овал лица и глаза Агафангела, сильно увеличенные стёклами круглых очков в тонкой оправе. Монах подошёл к аналою с крестом и Евангелием. Нальянов стал рядом и, отвернувшись, тяжело озирал лик Христа. Долго молчал. Агафангел не торопил, отчего-то временами тревожно вглядываясь в мрачное лицо Нальянова. Агафангела снова поразили глаза исповедника — смарагдовые, тяжёлые, умные.
Юлиан начал рассказывать, поразившись, как услужлива память. А ведь все эти годы он так хотел забыть. Но нет, события былого отпечатались в нем, как в известняке — отпечаток древней раковины диковинного трилобита.
…Это было пятнадцать лет назад. В тот вечер его брат неожиданно вернулся от их тётки, Лидии Чалокаевой, из Павловска, на день раньше. Совсем ещё отрок в свои тринадцать, Валериан поразил тогда Юлиана запавшими глазами и почти чахоточным румянцем. Встревожился и отец, был вызван доктор, и опасения сбылись: к утру мальчик метался в жару. Мать была в Петергофе, и не приехала, написав, что приболела. Юлиан стирал пот, струившийся по вискам брата, поил его мутными снадобьями, и порой в ночи ловил непонятные своей путаной горестью стенания больного в горячечном бреду. Именно из них он понял, что с братом в чалокаевском имении что-то произошло, Валериан был точно запуган домовым, просил о пощаде, порой просто плакал во сне.
Через пару недель недуг отступил, Юлиан, дежуривший у постели брата ночами, валился с ног от усталости. Отец сам предложил ему провести выходные в имении сестры, Валериан смотрел на него огромными испуганными глазами, просил не бросать его, но отец приказал Юлиану ехать.
…Он приехал после Пасхи, в том году — майской. В доме была только компаньонка тётки, её приживалка Нина Соловкина, бывшая Чалокаевой родней по мужу. Юлиану она не нравилась, совсем ещё юный, в свои пятнадцать он видел многое, не подмечаемое другими, и в Нине его раздражали манерничанье, раболепие перед тёткой, вечная льстивость. Девица лет тридцати была даже красива, но отталкивали болезненная полнота груди и огромных широких бёдер. Она, странно поводя глазами, спросила, вызвать ли кухарку, что барин будет на обед и ужин? Юлиан обронил, что ему всё равно, он приехал только на выходные, что есть, то пусть и подадут, и ушёл к себе. Немного читал, спал, вечером вышел прогуляться. Вернувшись, был рад поданному ужину, ломтям сочного мяса и пряной ароматной медовухе. Нина пододвигала ему лучшие куски, но её томный, чего-то ищущий взгляд был неприятен.
…Юлиан помнил, что неожиданно голова странно закружилась, пришла вязкая, как цепляющая за ноги сорная трава, слабость. Он смог подняться и доползти до дивана и тут почувствовал чью-то потную руку, скользнувшую в его сокровенное место. Юлиана сотрясла внутренняя дрожь, он понимал, что чем-то опоён, но сопротивляться не мог. Помнил, как её полное, словно мучное тесто, тело заглатывало его, мерзостно чавкало и давилось им, жгло ощущение страшной, непоправимой катастрофы, слитой со смертной тоской, чувство чего-то ужасного, преступного, постыдного, но всё же сладостного. Потом все погасло.
Тягучий хмель, отпустивший к утру, оставил в Юлиане мутную головную боль и кристальную ясность понимания произошедшего. До этого он был чист, но наивным не был никогда. Молнией озарила догадка: то же самое «она» сделала с братом. От этого понимания Юлиан оцепенел, пальцы мелко задрожали, в глазах померкло. Его брат, чистый ангел, осквернён этой распутной тварью? О себе Юлиан не думал, но она сделала «это» с Валье? Бред брата стал понятен ему. Юлиан поднялся на ноги, содрогнулся при виде своего осквернённого белья и тела, торопливо застегнулся, схватил со стены отцовскую винтовку и, спустившись к реке, побрёл против течения. Дошёл до Чёртова омута, тёмного водоворота, движимого встречным течением, через который были переброшены шаткие мостки, миновал их и углубился в лесок. Здесь опустился на поваленный ствол старой берёзы и разрыдался — отчаянно и горько. Почему Валериан не рассказал ему обо всём? Почему не доверился? Юлиан понимал причины, и всё же сожалел о стыдливой застенчивости несчастного мальчонки. Если бы он знал…
Свалившееся на него было намного тяжелее того, что он мог понести в свои пятнадцать, что же говорить о Валье, Господи? Юлиан ощутил страшную беспомощность. При воспоминании о сожравшем его мучнистом теле к горлу подкатывала тошнота, он мотал головой и дышал ртом. Неожиданно вспомнил, как его преподаватель в гимназии, Аполлон Афиногенов, глядя на него, с улыбкой проронил, что они с братцем — будущие соблазнители. «Почему?», изумился Юлиан, для которого в этом слове заключался какой-то до конца не ясный, но гадкий смысл. «Таким, как вы, женщины не отказывают. Просто не могут. Да и не хотят…» Тогда это взволновало Юлиана, сердце забилось, пересохли губы. Весь внутренне трепеща, он представил себе юную красавицу, принимающую его приглашение на танец, кружение вальса, её губы… Вечером долго рассматривал в зеркале рослого юношу с царственными глазами и улыбался.
Теперь от слов Афиногенова тошнило. Он ничего у «этой» не просил. Ему не отказывали — его не спрашивали.
Юлиан предался мутным размышлениям. Сказать отцу? Это было немыслимо. Пожаловаться тётке — ещё большая нелепость. «Эта» прекрасно понимает, что он никому ничего не скажет. При новой мысли о Валье Юлиана начало знобить. Что с ним теперь будет?
Неожиданно где-то в деревьях за мостом раздался голос, и он вскочил. Это был голос «этой». Она, то ли встревоженная его исчезновением, то ли движимая всё той же полночной похотью, искала его. Вот она появилась хлипких мостках, увидела его. Их разделяло два десятка шагов. Юлиан не хотел, чтобы она их преодолела. Она не подойдёт к нему. Он резко дёрнул ремень винтовки и сжал лаковый приклад, в прорези мушки показалось жирное тело, его ударила волна странного возбуждения, но не юношеского возбуждения плоти, испытанного ночью, а лихорадочной взвинченности всего тела, возбуждения охотника, увидевшего тигра.
…Нальянов умолк. Его рассказ прервался. Монах, стоявший рядом в каменном молчании, пошевелился.
— Вы стреляли?
Нальянов утомлённо потёр лицо рукой.
…Она, видя его лицо и позу, вздрогнула, сдвинулась с мостков, и вдруг, нелепо взмахнула руками, исчезла. Небольшой уступ закрывал от Юлиана омут, он опустил ружье, медленно на ватных ногах миновал несколько саженей, отделявших его от берега, и видел, как дебелое тело и мокрый хвост пепельных волос мелькали в стремнине. В Чёртовом омуте дно немереное — это Юлиан слышал от местных. Вдруг из воды появилось её мокрое страшно перекошенное лицо наполовину закрытое волосами, трепещущая рука пыталась схватить бревно мостовой опоры. Окаменев, Юлиан смотрел на руку, которую отделяло от приклада десять дюймов. Тело исчезло под водой только несколько минут спустя, последней мелькнула в воде рука с судорожно растопыренными пальцами. Юлиан поднял глаза к небу, и его ослепила вспышка на востоке.
Встало солнце. Неразрешимое и смрадное бремя, неожиданно вошедшее в его жизнь и исказившее её, так же неожиданно и исчезло. Он стоял недвижим, словно околдован странным чувством силы и ликования, ощущением невесомой лёгкости полёта и полного самозабвения. На миг ему показалось, что он вознесён над землёй и абсолютно счастлив.
Потом счастье медленно погасло, растворилось в тревожном беспокойстве. Он опять мыслил отчётливо, как часовой механизм. Снова вскинул ружье, зажав под мышкой приклад, перегнул ствол пополам. Пуля была на месте, но, щёлкнув затвором, он все же понюхал и дуло. Пахло чистой воронёной сталью.
— Я не стрелял, нет. Она упала от испуга, я не стрелял. Не стрелял. — Он помолчал и с силой продолжил, — но выстрелил бы, сделай она хотя бы один шаг ко мне. Я мог протянуть ей руку, мог дать схватиться за приклад. Но никогда бы не сделал этого. Я не хотел, чтобы она жила.
— Что было потом?
Он понимал, что выстрелил он или просто вскинул ружье, напугав утонувшую, — она погибла по его вине. Отказ помочь усугублял вину. Но это понимание не обременило его, а лишь породило мрачное злорадство. Он пошёл вдоль реки назад, по течению, остановился у запруды, положил ружье, разделся и, дрожа, вошёл в воду. Она пахла свежей тиной. Окунулся с головой, вспомнив иорданское купание в проруби на Крещение. Мужики и парни покрякивали и погружались с головой, ему же отец не позволил, но обещал, что на будущий год разрешит. Он омывал себя в лесной речушке, как в Иордани, но, представив как утопленница, обернувшись русалкой, утаскивает его в бурую тину, поплыл к берегу.
Потом он долго сидел на скамье в парке. В него медленно входило нечто ледяное и гнетущее. Он — убийца? Откуда-то всплыло тягостное слово «палач», он взвесил та губах его кровянисто-солонаватую тяжесть. Ему по-прежнему не было жаль её. Палач — не убийца, он исполнитель приговора. Последняя судебная инстанция, только и всего. Но кто вынес ей приговор? Никто. Ни суд человеческий, ни суд Божий. Это он приговорил её к смерти. Но кто поставил его судить? Мысли его путались.
Через два часа, найдя кухарку и сказав, что после завтрака уезжает, велел запрягать. Старуха сонно покрутила головой, посетовала, что он так рано едет, спросила, где Нина Ильинична? Он пожал плечами. Он не считал, что солгал, разве он знал, где она? Острое и болезненное ощущение осквернённости прошло, восторженное минутное счастье возмездия растаяло, ощущение вины тоже ушло, уступив место ледяному бесстрастию. Он последний раз окинул глазами зал с лепниной потолка и изящными креслами, рояль и диван, освещённый утренним солнцем, и даже не поморщился.
Казалось, долги уплачены.
Но обратный путь под скрип рессор тарантаса снова смутил его. Он, сын тайного советника полиции, был умён. Отец говорил, что он родился умным. «Эту» может вынести течением на отмель уже сегодня. Кто видел, точнее, кто мог видеть в предрассветный час его, идущего к омуту? Случайный пастух? Сосед по имению? Дачник?
Что делать? Рассказать отцу правду? Как? Это убьёт его — особенно, когда он узнает о Валье. Сам он не мог предать Валериана — тот ничего не сказал о случившемся даже ему. Просто сказать, что видел, как несчастная Нина Ильинична оступилась на мостках, а он пытался помочь, но не смог? Почему же он сразу не поднял людей? Нет. Всё вздор. На омуте никого быть не могло. Даже если его и видели идущим в лесок — ну, и что с того? Они могли сто раз разминуться. Недоказуемо. Выстрела не было — он не стрелял, снова уверил он себя, а уж спасать эту ларву и вовсе было смешно.
Тут Юлиан снова брезгливо поморщился. А почему он оправдывается? Он, читая десятки уголовных дел, верил в возмездие. Снова вспомнив произошедшее накануне, содрогнулся. В памяти всплыл и горячечный бред Валье. «Анафема». «Эта» должна была быть судима — вот и предстала перед Божьим судом, ибо перед человеческим предстать не могла. Пусть он палач, пусть убийца, только сотворённое мерзавкой с братом заслуживало смерти. Он ощутил себя прокурором. «Виновна», вынес он вердикт. Наказание просто предшествовало приговору.
Юлиан ничего не сказал отцу.
…Тело нашли только через четыре дня — в речном затоне в полуверсте от Чёртова омута. Кухарка смутно помнила, что Нина Ильинична утром в воскресение куда-то ушла, она подумала — не в церковь ли? Молодой барин утром около десяти уехали. После Нина Ильинична не возвращалась. А оказывается, такая беда! Наверное, ногу свело, поскользнулась на мостках, бедняжка.
Юлиана не обеспокоили, отец довольствовался его словами, что он прогулялся в лесу, потом вернулся и уехал. Его, оказывается, точно видели — Егор Савинов, пожилой дачник, заприметил его, идущего через мостки в лес. Но погибшую тот не видел.
Сам Юлиан видел потрясение Валье при этом известии. Несчастный отрок побледнел и долго молчал, беззвучно шевеля губами. К вечеру этого дня Юлиан поймал на себе задумчивый взгляд брата, но только на следующее утро, когда Валериану разрешили наконец пойти в гимназию, и Юлиан провожал его, тот осторожно спросил:
— Ты… эту… эту… женщину… погибшую… ты видел её в имении?
Юлиан вздохнул, глядя на осунувшееся лицо брата. Он любил брата. Любил трепетно, почти страстно. Мать не интересовалась сыновьями, несколько раз при входе его в комнаты она отскакивала от их гувернера с тем же выражением, что было на лице Нины… Теперь он осмыслил это и зло скрипел зубами.
Как-то в отцовском кабинете мальчишки нашли на столе уголовное дело. Юлиан читал с восторгом и интересом, Валериан же проронил, что все эти убийцы — удивительно неумные, они не боятся Бога. И вот теперь тринадцатилетний Валериан, ставший жертвой растления похотливой твари, спрашивал его, убийцу, о той, что погубила его чистоту. Юлиан смотрел на брата безучастно и спокойно.
— Видел. Она погибла. Забудь о ней.
Валериан судорожно вздохнул, обжёг его взглядом, но снова ничего не сказал.
…Монах долго молчал, потом спросил.
— И сожалений у вас нет?
— Я не хотел знать, где её надгробие. Узнал бы — помочился на могилу. — Взгляд Нальянова налился вялой тоской. — Я пытался уверить себя, что случившееся было в чем-то промыслительно. Эта женщина остановила меня и брата перед стезями распутными, но в итоге Валериан стал калекой. У него необычная память, и, конечно же, он не смог забыть пережитого. Хладнокровие прячет искаженность души и отвращение к плотскому — только так он смог откупиться от прошлого. Он разгадывает полицейские ребусы, занимает ум головоломками преступлений, как несчастный Кай складывал из льдинок слово «вечность». Я же… Да, я убийца. Душа мертва, и не распутство этой Нины убило меня, а желание её смерти. Я стал подлинным выродком. Валериан не выносит женщин. Я не могу любить. Любая связь с женщиной начинает мучительно тяготить после первой же ночи, во мне поднимается злоба. Любая из них Нина — точнее, становится ею после первого же соития.
— Вас можно пожалеть… Почему вы назвали себя выродком? Ваша душевная боль может быть уврачёвана, поверьте… Христос…
— Вы не дослушали, — перебил Нальянов, он сжал зубы и на скулах его обозначился румянец, — я ещё исповедоваться не начал. Мои детские воспоминания — давно в прошлом. Потом… потом был скандал с матерью. Меня обвиняют, что я был её палачом. Каюсь, был. Когда я понял, что она бросала нас вдвоём с Валье только для того, чтобы самой валиться под конюха — эта мысль переворачивала душу, точно Нина улыбалась мне с того света. Я не мог видеть мать, и боль отца… я каюсь. Я был непомерно жесток. — Он рассказал о смерти матери. — Когда мать умерла, приняв снотворное, я считал себя правым, но теперь… я каюсь.
— Простите, Юлиан, а Бога-то вы тогда вспомнили? Таким, как вы трудно верить..
— Да, Спаситель нужнее слабым, исповедник твёрдо кивнул. — Но я всегда понимал, что если над таким, как я, не поставить силы, меня превосходящей, я такого натворю…
— Но Сын Человеческий не губить души пришёл, а спасать…
Нальянов хмыкнул, но потом кивнул.
— Поэтому-то я и здесь.
Монах молчал. Его исповедник был наделён таким умом, что и сам мог понять, что с ним.
— На слабость духа тут ничего не спишешь. Но, может, просто… показаться врачу. Это надлом…
— Не люблю врачей, — вяло откликнулся его исповедник. — Латынь мёртвый язык ещё и потому, что чем больше на нем разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента остаться в живых. Но я знаю латынь. У меня — устойчивая психика.
— Что есть устойчивая психика?
— Это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу, — не задумываясь, ответил Нальянов.
— А то, в чём вас обвиняют? Связи с женщинами?
— Ни одной связи с женщинами у меня никогда не было, Агафангел, — Нальянов, казалось, хотел отмахнуться от вопроса. — Я проклят, понимаете? Все девицы и женщины — алчут связи со мной, как мотыльки ищут свечного пламени. Если пламя закрыто от них стеклом — они умирают от тоски по его сиянию, а если открыто — опаляют крылья и гибнут. Но свечному пламени нет дела до мотыльков. В определениях же я точен. С недавних пор я стал замечать, что нарочито стараюсь… влюбить в себя женщину, довести её до безрассудства и погубить. Тем более, что для этого мне ничего делать не надо. Но я стал чувствовать, что мне нравится это. Я наслаждаюсь её гибелью. Я стоял над удушенной Анастасией Шевандиной и наслаждался. То мгновение, когда я возвышался над Чёртовым Омутом, вернулось, я ощутил… я снова ощущал эту мощь… Нечеловеческую. Дьявольскую. — Голова исповедника согнулась почти до аналоя. — Я болен, болен, болен, — прошептал он. — Валье говорит, что я сатанею. В Париже я почти бездумно убил человека. Это был предатель, по вине которого погибли наши люди, и я хладнокровно уничтожил его. Валье испугался. Но где я неправ? Что не так? Иуда должен повеситься сам? Мы же потеряем империю! Расползается крамола, чёрная ересь, отравляет души… А мы? Либеральничаем и заигрываем с дурью, когда нужны костры инквизиции и трибуналы. Ведь эти же осоргины, дорвавшись до власти, нас не помилуют, уверяю вас. Ни вас, отче, ни меня.
— Из душ уходит Христос, — мрачно кивнул монах. — И остаётся нам дом наш пуст. Но вы должны думать не об империи, а о своей душе. Вы только укрепились в испытании, которое любого сломало бы, но сила ваша теперь ломает вас самого. И сломает, если не опомнитесь. Помните о Христе, поминутно помните… Ваша человечность спасена будет только в Духе Святом.
Он ничего не добавил, лишь накрыл голову Нальянова епитрахилью. «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо Юлиане, и аз недостойный иерей Его властью мне данною прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь».
Эпилог
Иногда человек погибает при попытке бегства от себя самого.
Неизвестный авторМесяц спустя.
Петербург среди резких смен приносимого порывами ветра дождя в неизменно солоновато-дымном воздухе сиял как мимолётная улыбка, погасающий свет. Искривлённые вечерние лучи оттеняли золочёный узор портьер. У столовой в доме на Невском сидели братья Нальяновы Старший уже позавтракал. Лакей внёс десерт и вино. Окна были распахнуты, ветер чуть покачивал тяжёлую портьеру. Валериан Нальянов отложил газету и обернулся к брату.
— Есть новости, Жюль.
Юлиан сидел с гитарой на оттоманке и наигрывал итальянскую песенку.
— О Семенове? Или по делу Винера?
Валериан покачал головой.
— Нет, это по павловскому делу, помнишь?
— А… Осоргин и Девятилевич? Приговор вынесен?
— Нет ещё. Это о Дибиче. Помнишь его?
— А, мой дорогой Андрэ, — задумчиво кивнул Юлиан. — Он уехал в Париж, не прощаясь. Впрочем, я на него не в обиде. Что он мог бы сказать мне на прощание? Но прислал мне письмо. А что за новости-то?
— Тут в русской газете в Париже…
Лицо Юлиана чуть заметно напряглось.
— … Он пустил себе пулю в лоб.
Юлиан Нальянов тяжело вздохнул и сжал гриф гитары. Брови его сошлись на переносице. Он поднялся и взял у брата газету. В короткой заметке сообщалось, что сын известного дипломата покончил с собой выстрелом в висок. На столе осталось множество бумаг со стихами. Ни одно так и не было закончено. Записки, объясняющей его поступок, самоубийца не оставил.
— Значит, он всё-таки понял, — странным тоном проронил Юлиан.
— Что именно?
— Самоубийство — попытка через смерть изменить жизнь, значит, он понял, что в его жизни что-то было не так.
— А что он тебе написал?
Юлиан снова вздохнул, потянулся к блокноту и вынул из него свёрнутый пополам листок, заложенный между страниц.
— Вот оно.
«Две ночи без сна или дурные сны. Это в последний раз. Звёзд небесных не жаждем мы, Свет их волнует нас. Нездешней дорогой уйду с перепутья. Не стоит будить память о чёрной минуте. Кану зыбкою дрожью звезды на восходе. В Старой Сильвии, средь беззвучных мелодий. Руки Офелии — потоками слёз, Йорик сам виноват — остался не у дел. Я не любил звёзд Я любил Их свет На воде…»— Неплохо, кстати, — оценил Валериан. — Тебе его не жаль?
— Жаль, — кивнул Юлиан. — В этом гадюшнике Андрэ был всё-таки лучшим. У него была душа и иногда она проступала. Ему не хватало Бога, но Бог не находит тех, кто не ищет Его, а он искал идолов и потому был бесплоден. Он говорил, что не может закончить ни одного стиха. Но это стихотворение вполне закончено. Стало быть, кое-что из задуманного у него получилось.
Валериан поднял глаза на брата.
— Это самая безжалостная эпитафия из всех, какие я только слышал, Жюль.
— Я говорил ему, что сентиментальность — не преимущество, а слабость сердца — не достоинство. — Он опустил голову и задумался. Потом проронил. — Боже, я же обещал монаху…А Христос простит его? — повернулся он к брату.
— Нет. — Валериан метнул в него быстрый взгляд. — Самоубийца проклят.
Юлиан усмехнулся.
— Агафангел сказал, что моя человечность спасётся Духом Божьим. Я обещал ему помнить о Христе во все дни жизни моей. Как говорят католики, «подражать Христу». Но если Господь не простит моего дорогого Андрэ, то нужно ли мне быть милосерднее Господа? — Юлиан уставился в потолок. — Надо же, а я ведь почти простил и даже пожалел нашего поэта. Обычно я грешил излишней жестокостью, теперь же впал в преступное милосердие. — Он помолчал с минуту, потом задумчиво проронил. — Нет, я снова не прав. Выразить о нём сожаление — не будет грехом. Как ты думаешь, Валье?
Примечания
1
Жертвы падают здесь. Не телец, не овца, Люди — без числа и без конца. Гёте «Коринфская невеста» (обратно)2
Любовь есть цветок на краю бездны (фр.)
(обратно)3
Славянская душа (фр.)
(обратно)4
Я нарядился клошаром, выследил его ночью у дома его любовницы, оглушил тростью и спустил в канализационный люк возле отеля Клиссон. Счёт закрыт (фр.)
(обратно)5
Я не ухаживал за ней, но она приняла мои ухаживания (фр.)
(обратно)6
Давайте оставим красивых женщин людям без воображения (фр.)
(обратно)7
Я предпочитаю умереть от твоих рук, чем жить без тебя (фр.)
(обратно)8
Ящерка, ящерка любви Опять ускользнула, опять, только хвост у меня остался… Но за ним-то я и гонялся! (обратно)9
«Тот, кто не может сказать вам о своей любви при всех, готов сегодня ночью открыть вам тайну своего сердца. Поднимитесь через чёрный ход под ивой на второй этаж после полуночи. Мы будем одни. Ю.Н» (фр.)
(обратно)10
Париж — лучший из городов, город мечты и любви (фр.)
(обратно)11
Боль украшает только женское сердце (фр.)
(обратно)12
Прелестная Офелия! О, нимфа! Грехи мои в молитвах помяни! (англ.)
(обратно)
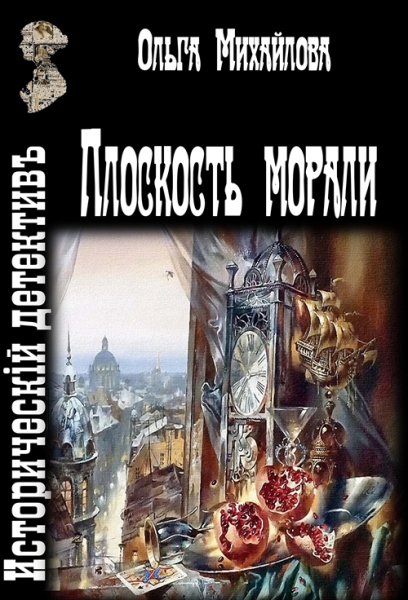





Комментарии к книге «Плоскость морали», Ольга Николаевна Михайлова
Всего 0 комментариев