Татьяна Романова Сизые зрачки зла
Пролог
Санкт-Петербург
Февраль 1826 года.
Снег пополам с дождем полз грязной кашей по брусчатке мостовой. На набережной Фонтанки подле Цепного моста – в месте модном и обычно бойком – сейчас вовсе не было прохожих, лишь запряженный тройкой экипаж ожидал хозяев у крыльца длинного серого дома с плоским мраморным балконом, да чуть правее, прижавшись к решетке набережной, мокла ямская пролетка.
На козлах экипажа тихо переговаривались кучер и лакей. Оба уже подзамерзли и теперь строили предположения, сколько им еще придется ждать. Лакей, разминая ноги, спрыгнул на мостовую, и, разглядев в впотьмах извозчика, прикрытого теплой попоной, попенял кучеру:
– Вон гляди, справный человек запасся, а у тебя даже попоны нет.
– Так барыня уже скоро выйдет, – отозвался кучер, прекрасно сознававший, что сплоховал, и нужно было захватить с собой попону, но лакей его уже не слышал: увидев, что дверь дома отворилась, он побежал к крыльцу.
Первой вышла хрупкая дама средних лет, а за ней появилась высокая девушка в собольей шубке. Она тут же подхватила даму под локоть и помогла той сойти со скользких ступеней. Лакей распахнул дверцу экипажа и откинул подножку. Радостно суетясь при мысли, что ожидание на холоде наконец-то закончилось, он помогал хозяйкам разместиться в экипаже, кучер расправлял вожжи, и оба они уже не вспоминали о бестолковом вознице, поджидавшем седоков на безлюдной улице.
Никто из них не заметил, что странный извозчик скинул с плеч попону и достал из-за пазухи закутанный в мешковину сверток. Еще через мгновение в его руке блеснул зажженный фонарь. Извозчик торопливо вытащил из него свечу и сунул ее внутрь свертка. Чуть помедлив, он убедился, что пламя пробилось сквозь мешковину, а потом, в несколько шагов преодолев расстояние до экипажа, стал около запяток. Разглядев за стеклом заднего окошка силуэты двух шляпок, он тихо хмыкнул и бросил горящий сверток в давно облюбованное место – узкую щель между платформой и кузовом. Сверток застрял, но вопреки его ожиданиям держался еле-еле. Поняв, что намотал слишком много тряпок, извозчик в растерянности замер, но исправлять оплошность было уже поздно: экипаж тронулся, а сверток на его запятках вовсю горел.
«Да и черт с ним, все равно никуда не денутся», – успокоил сам себя злоумышленник. Он оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли свидетелей, но набережная казалась совершенно безлюдной. В ожидании, он стал у своей пролетки. Прогремевший взрыв разнес тишину в клочья. У Цепного моста ржали перепуганные лошади и кричали люди. Убедившись, что дело сделано, извозчик развернул свою пролетку и помчался прочь.
День у генерала Бенкендорфа выдался тяжелым, а вечер, похоже, обещал быть еще хуже. Сегодня он с самого утра заседал в Петропавловской крепости – разбирал протоколы допросов участников декабрьского восстания. Спешили очень – государь потребовал доклада, и оставшийся без обеда Александр Христофорович к вечеру изрядно устал. Он уже собирался домой, когда в крепость примчался посланец от генерал-губернатора. В крайне сумбурной записке граф Голенищев-Кутузов сообщал, что на набережной Фонтанки случилось чрезвычайное происшествие: у Цепного моста неизвестные злоумышленники взорвали карету графини Чернышевой. Пострадавшие дамы – мать с дочерью – возвратились в дом графа Кочубея, откуда они вышли всего за пару минут до взрыва. Генерал-губернатор нижайше просил Бенкендорфа незамедлительно выехать к месту преступления и возглавить расследование столь невиданного в столице события.
Каков слог! Как будто после декабря столицу можно было хоть чем-нибудь удивить… Впрочем, выбирать не приходилось, и Александр Христофорович отправился к Цепному мосту. Жандармская команда уже оцепила место взрыва. Старший у них – щеголеватый молодой капитан, произносивший свою самую русскую из всех фамилий Иванов с ударением посередине, – провел начальство к полуобгоревшему экипажу. Лошадей видно не было, и генерал поглядел по сторонам в их поиске.
– К графу Кочубею увели, ваше высокопревосходительство, – уловив его взгляд, подсказал жандарм, – и слуги там же, и обе пострадавшие дамы. Но мы, прежде чем их отпустить, порасспросили кучера и лакея. Те хозяек своих сегодня очень долго ждали, и оба в один голос утверждают, что набережная совсем пустынная была, но какой-то извозчик все это время стоял неподалеку от них.
– Какие же седоки в такую погоду?
– Вот и я так подумал! Начал слуг допрашивать, да только оба ничего толком сказать не могут. Мелют, что извозчик попоной накрывался, а лошадь у него была темной, вот и весь их сказ, – отозвался Иванов.
Александр Христофорович оглядел экипаж. У того отвалились задние колеса, а часть, лежащая на земле, сильно обгорела, и даже в полутьме было видно, что брусчатка рядом с каретой выбита. Генерал подошел к подозрительному месту и убедился, что он не ошибся: на набережной, прямо у въезда на мост, выделялась большая яма.
– Так что же пытались взорвать? – вслух подумал Бенкендорф.
– Нет ясности, ваше высокопревосходительство, – откликнулся капитан, – Да только не похоже, чтобы мост взрывали. Зачем на брусчатку заряд класть, если его можно снизу, стоя на льду, к балкам прикрепить? Нет-с, бомбу с моста под карету кинули!
– Или раньше положили, но она в этом месте скатилась на мостовую, а карету уже снизу взрывом задело.
– Ну, тогда это либо ямщик, либо кто-то из того дома, где экипаж стоял.
Капитан, похоже, оказался из молодых да ранний, он уже стал раздражать Александра Христофоровича своим апломбом, и генерал иронично заметил:
– Граф Кочубей, помниться, еще пару лет назад был министром внутренних дел. Я надеюсь, что вы не подозреваете столь уважаемого человека в подобном злодеянии?
Поняв, что хватил лишнего, жандарм явно занервничал, он злобно пнул ногой выбитые куски брусчатки, вытянулся по стойке смирно и объявил:
– Никак нет, ваше высокопревосходительство! Я не точно выразился. Я хотел сказать, что злоумышленник мог спрятаться в доме графа.
– А почему не в каком-нибудь другом? Вон их тут сколько…
– Да, вы совершенно правы.
Амбициозный капитан на глазах сдулся, словно пропоротая тряпичная кукла с выпавшими опилками, чем изрядно позабавил Александра Христофоровича. Он не зря поставил молодца на место, а то взяли моду без пиетета к великим мира сего относиться. Если ты Иванов, так и бегай со своими жандармами по улицам, а уж с высшими персонами и без тебя найдется кому побеседовать! Решив, что на месте взрыва смотреть больше нечего, генерал направился к дому Кочубеев. Жандарм пошел было за ним, но Бенкендорф приказал тому остаться и разбираться на месте. Он хотел побеседовать с графиней Чернышевой без лишних ушей. Он не сомневался, что мишенью злоумышленников была именно эта дама. Даже более того, он знал человека, ради которого устроили нынешний взрыв.
«Неужто моя крыса попалась? Забавно…» – оценил Бенкендорф, вспомнив донесения своего нового агента. Даже не верилось, что его соперник мог так потерять осторожность. Если удача сейчас не отвернется, а пойманная за хвост ниточка не оборвется, конкуренту – конец. Ну и агент – просто находка! Всего месяц и дело в шляпе… Не сглазить бы только. Хотя чего опасаться? Ведь он все рассчитал правильно…
На радостях Александр Христофорович громко хмыкнул и молодецки взбежал на мраморное крыльцо дома Кочубеев…
Глава 1
Москва
Январь 1826 года.
Ну и мороз!.. Всю последнюю неделю Первопрестольную терзали холода, загоняли москвичей по домам – в тепло, поближе к печам и каминам. Улицы опустели – ни пешеходов, ни выездов. Впрочем, по средине Тверской все-таки катили одинокие сани. Черный как смоль высокий рысак выбивал звонкую дробь на обледенелой брусчатке. Конь был очень хорош, да и сани с высокой лакированной спинкой и накрытыми медвежьей шкурой бархатными сиденьями радовали глаз изящными обводами, но взгляды одиноких прохожих приковывали не они, а пассажирка – закутанная в меха девушка. Темные локоны, выпущенные из-под отороченной соболем шляпки, заалевшая на щеках от мороза кожа и прозрачные светлые глаза в угольных ресницах яркими мазками оживляли холодноватую правильность тонких черт. Гордо вскинув голову, в санках сидела безупречная красавица, и лишь слишком суровое выражение ее лица портило идеальный облик.
Однако саму ее чужое мнение особо не трогало. Графиня Вера Чернышева в свои девятнадцать лет давно перестала думать о том, как она выглядит. Гораздо сильнее ее заботило благополучие близких, а поводов для беспокойства накопилось немало! В доме что-то не ладилось, но в чем причина, Вера так и не поняла, хоть и пыталась докопаться до истины. Правду знали лишь мать и брат, но две недели назад Боб вдруг прервал долгожданный отпуск и срочно уехал из дома, а графиня Софи с тех пор казалась непривычно задумчивой, но от вопросов дочери старательно уходила. Пришлось Вере сбавить напор – она боялась насторожить родных.
Как-то само собой вышло, что за последние годы в ее руки перешли многочисленные обязанности по ведению семейных дел, и Веру это устраивало. Начиная, она даже не подозревала, какими восхитительными окажутся моменты озарения, когда вдруг над столбцами скучных и безликих цифр откуда-то приходит понимание, что и как нужно изменить в поместье, как закрутить дело, как повысить доходы. А когда ее планы воплотились в жизнь, и пришел первый успех, Вера вдруг осознала, в чем ее призвание. С тех пор все у нее великолепно получалось, и ей совсем не хотелось, чтобы мать и брат догадались, что, продавая саратовскую пшеницу или строя новую мельницу, Вера уж слишком отличается от своих сверстниц. Ну а того, что они озаботятся поисками подходящего жениха, она вообще панически боялась.
Сердце ее давно было занято, только вот тот, кого она обожала, относился к ней лишь как к близкому другу, и что делать в этой печальной и где-то даже унизительной ситуации, Вера не знала. Внутри собольей муфты она привычно погладила крохотную миниатюру, написанную ею самой на овальной пластинке слоновой кости – это было все проявление чувств, которое она могла себе позволить.
Утренняя поездка по морозной Москве подарила Вере столь редкие минуты полного уединения. Сейчас она принадлежала лишь самой себе и, дав волю сердцу, она погрузилась в привычные размышления:
«Почему Джон так боится следующего шага? Мы стали настоящими друзьями, понимаем друг друга с полуслова, он поет лишь для меня… и это – все!».
Ответа у нее не было. Она была богата, красива, умна и… совершенно не нужна своему любимому.
«Наверное, дело во мне, – бичевало душу запоздалое прозрение – со мной что-то не так, если я вызываю в красивом, полном сил мужчине лишь дружеское участие».
Да уж! В ней явно чего-то не хватало, раз с ней можно только дружить. Сама виновата – по-мужски увлеклась делами, никто не сможет полюбить конторщика…
Вера прекрасно понимала, что губит собственное счастье, но ничего не могла с этим поделать. Так сложилась жизнь, что ее отец – граф Александр Чернышев – погиб в двенадцатом году, оставив после себя вдову с четырьмя детьми на руках. Вера его помнила смутно, в глубине памяти теплилось воспоминание о больших ласковых руках, любви и защищенности, и теперь, тринадцать лет спустя, образ отца стал для нее идеальным, почти святым видением, а служение его памяти – потребностью души. Она изо всех сил старалась хоть в чем-то заменить родным покойного главу семьи и ликовала, когда это удавалось. Вера часто видела отца во сне, она рассказывала ему о том, как старается стать опорой матери, а тот ласково хвалил ее, называя «моя девочка». Утром Вера просыпалась счастливой, а мягкий, глубокий голос отца еще долго звучал в ее ушах.
Эти сны сыграли с ней странную шутку. Два года назад, когда дочка еще не выезжала, Софья Алексеевна взяла ее в гости в одно из подмосковных имений. Хозяйка поместья, бывшая до замужества знаменитой оперной дивой, получила в подарок от любящего мужа собственный театр, куда теперь с удовольствием приезжал на спектакли весь высший свет Москвы. Назвать театр домашним можно было лишь с очень большой натяжкой. Вере тогда показалось, что он ничем не отличается от Большого: так же несколько ярусов блистающих золотом лож окружали широкий партер с множеством бархатных кресел. Но все ее восторги от роскоши зала и прекрасной музыки сразу забылись, когда на сцену вышел изумительно красивый блондин, и дело было не в его внешности, а в том, как он пел. Вера услышала голос из своих снов. Тот же ласкающий душу тембр баритона, те же сердечные интонации. Душа сразу же сделала свой выбор, и Вера… влюбилась.
В тот же вечер она добилась того, чтобы ей представили белокурого баритона. Маркиз Харкгроу – так именовался этот красивый молодой англичанин вне сцены – оказался умным, прекрасно воспитанным и очень обаятельным. Младшая дочь Чернышевых Любочка – обладательница не слишком сильного, но красивого голоса и абсолютного слуха – упросила мать пригласить маркиза к ним в дом, чтобы она смогла спеть для оперной знаменитости. Лорд Джон приехал, послушал девочку и предложил Софье Алексеевне заниматься с ее дочкой вокалом в то время, пока он будет в Москве. Дальше все оказалось лишь вопросом времени – обаятельный англичанин сразу расположил к себе Софью Алексеевну и ее дочерей, да и единственный сын графини в свой первый же свой отпуск подружился с ним. Маркиз был знатен, богат, им восхищались в лучших домах Москвы, и Софья Алексеевна со всей щедростью русского сердца приняла его в собственную семью. Она так и не догадалась, как страдает по голубоглазому баритону ее такая сильная и всегда разумная старшая дочь.
«Все считают Джона чуть ли не родней. Когда все свои, то никто ни в кого не влюблен, а все дружат. Ну и как поступить? Набраться храбрости и сделать первый шаг?.. Но ведь это неслыханно! Если мама узнает, она ужасно расстроится», – терзалась Вера.
Она слишком дорожила своими отношениями с матерью, и ни за что на свете не хотела бы ее разочаровать. Нет, вариант с объяснением казался явно неподходящим. Оставалось поступать так, как делала все эти два года: терзаться, но молчать. Вера вновь провела пальцем по портрету своего кумира. Руки она прятала в муфте, чтобы никто не видел ни миниатюру, ни пальцы. Подобных уловок за два года своей тайной любви она придумала немало, но ближе к заветному предложению руки и сердца они ее так и не продвинули.
Увидев, что впереди показалась трехэтажная светло-бежевая громада их дома, а под морозным солнцем засверкал белый мрамор его колонн, Вера постаралась успокоиться. Пора спрятать собственные заботы – ее ждут дела семьи. Не хотелось слишком беспокоить мать, но надо же узнать, что та скрывает. Как говорится: «кто предупрежден, тот – вооружен». Вера собиралась мягко навести Софью Алексеевну на нужные темы, и нащупать в ее ответах крупицы правды. Она вздохнула, привычно переложила портрет Джона из муфты в карман шубы и откинула медвежью полость.
– Пожалуйте, барышня, – торжественно объявил кучер, помогая ей переступить из саней на мраморные ступени крыльца.
– Спасибо, Архип!
Вера прошла в услужливо распахнутую рослым лакеем дверь, а кучер, легко щелкнув вожжами, направил рысака к конюшне – приземистому зданию в глубине двора. Вера отдала слуге муфту и перчатки, расстегнула шубу и потянула ее одной рукой с плеча, другой пытаясь нащупать в кармане драгоценную миниатюру. Но маленького овала в золотой рамке не было, карман был пуст.
«Господи! Да что же это?..»
Вера порылась в другом кармане – бесполезно. Портрет исчез. Она растерянно уставилась на свои руки, потом на темно-синий бархат, покрывающий мех шубки, затем на пол. Миниатюры нигде не было. Скорее всего, та выпала на крыльце или в санях. В надежде увидеть свою драгоценность на ступенях Вера выскочила на крыльцо, и опять ничего не нашла.
«Значит, я выронила портрет на улице», – поняла она.
На ходу запахивая шубу, Вера слетела с крыльца и вдруг замерла, ей на мгновение показалось, что сердце пробил огромный толстый гвоздь – она больше не могла дышать. Крепко вдавленная в колею, оставленную полозьями, в снегу валялась миниатюра, вернее то, что от нее осталось: расплющенная золотая рамка еще держала несколько осколков костяной пластинки, но лица у красавца-баритона больше не было. Кровь отлила от Вериного лица.
«Ужас какой! Это судьба предупреждает, что не нужно питать иллюзий», – подсказало отчаяние.
Но она постаралась отогнать свои подозрения. Суеверия в доме глубоко верующей графини Чернышевой не приветствовались, и Софья Алексеевна не уставала повторять дочерям, что не бывает дурных знаков и плохих примет. Вера предпочитала с матерью не спорить, хоть сама и думала иначе, и сейчас она точно знала, что это – предупреждение судьбы, но душа ее отказывалась принимать черную метку. Вера молниеносно подняла остатки миниатюры, сунула их в карман и вернулась в дом.
В вестибюле рядом с лакеем уже дежурила гувернантка мисс Николс. Та явно искала молодую хозяйку.
– Ваше сиятельство, графиня ждет вас в своем кабинете, – торжественно провозгласила она, – ваши сестры уже там.
– Благодарю, мисс, сообщите мама, что я сейчас буду, – отозвалась Вера, надеясь, что гувернантка пойдет вперед, а она сможет незаметно избавиться от остатков миниатюры.
Она рассчитала правильно. Дама величественно кивнула и отправилась к лестнице, ведущей на второй этаж, а Вера, передав шубу лакею, старательно спрятала в кулаке кусочки слоновой кости и гнутую рамку. Оставшись одна, она подошла к большой яшмовой вазе, стоящей в простенке меж окон, и бросила остатки миниатюры внутрь. Вот теперь можно идти. Гадая, не решила ли мать открыть наконец-то правду, Вера поспешила наверх.
Софья Алексеевна увидела из окна черную спину жеребца и сани, а в них – фигуру дочери. Вот и все! Она тихо вздохнула и вернулась к своему креслу за письменным столом. У противоположной стены на диване устроились ее младшие дочки. Девочки склонили друг к другу кудрявые головы и тихо шептались.
«Бедные мои, нежные, как бабочки», – пожалела графиня.
Она не стала окликать дочерей, просто не могла – цеплялась за последние тихие минуты, оставшиеся до прихода Веры. Еще можно было помолчать, ведь когда дети узнают правду, их мирная жизнь сразу закончится. Сама Софья Алексеевна узнала о беде еще две недели назад, когда ее сын, уже с месяц гостивший в родительском доме, услышал в Английском клубе рассказ приехавшего из столицы знакомого о подавлении восстания Московского и Гренадерского полков, отказавшихся присягать новому императору Николаю Павловичу. Сын вернулся домой непривычно растерянный, а уже через час уехал в Санкт-Петербург, успев рассказать матери то, что скрывал от нее последние три года. С ужасом узнала Софья Алексеевна, что ее ребенок, оказывается, давно состоит членом тайного общества, задумавшего переменить порядки и власть в России.
– Поймите, мама, я должен ехать. Я не стоял с моими друзьями под пулями, но хочу быть с ними теперь. Вдруг кто-то попросит моей помощи: им теперь придется бежать за границу, потребуются деньги, а не у всех они есть.
– Но как же ты? Наверное, тебе самому нужно уехать, – робко предположила графиня, отчаянно пытаясь оценить тяжесть свалившегося несчастья.
– Я не участвовал в восстании, меня не тронут, но мои друзья пострадают. Я не могу поступить иначе. Не нужно так переживать, все образуется, и я вернусь домой через пару месяцев.
Но прибывший сегодня из столицы слуга сообщил, что обещания своего молодой граф уже не сдержит, поскольку его арестовали сразу же по приезде. Виновато поглядывая на хозяйку, лакей докладывал о происшедшем.
– В ту же ночь, как его сиятельство домой приехали, за ним жандармы и пришли. Барину только одеться и дали, а больше ничего не позволили, даже вам, матушка, письмо написать не разрешили. Все бумаги, что в кабинете имелись, перерыли, а потом, когда барина уводили, с собой их забрали.
Удар оказался так силен, что Софья Алексеевна долго не могла сказать ни слова. Она ощутила страшное биение сердца, нервную судорогу, пробежавшую морозной дорожкой от глаза к углу губ, и огромный вязкий ком в горле, который она никак не могла проглотить. Пронзительное чувство непоправимого несчастья придавило ее. Наконец, когда слуга уже подумал, что пора звать на помощь графиню Веру, хозяйка тихо спросила:
– Куда увезли моего сына?
– Говорят, что всех офицеров в Петропавловскую крепость свозят. Мне слуги Лавалей шепнули. У тех ведь хозяйского зятя арестовали – князя Трубецкого.
Софья Алексеевна вспомнила хохотушку Катрин – старшую дочь своих соседей по Английской набережной графов Лавалей, но сейчас горе другой женщины ее даже не взволновало.
«За что мне все это? Я одна вырастила детей, сохранила имения, ни разу не изменила памяти мужа, а судьба опять отбирает самое дорогое. В чем моя вина?.. Боб в восстании не участвовал, его даже не было в столице, а его арестовали», – терзалась она.
Мысль о сыне отрезвила Софью Алексеевну. Надо же что-то делать, помогать Бобу! По крайней мере, нужно ехать в столицу. Графиня постаралась прикинуть, что можно предпринять. Из близкой родни у нее осталась только незамужняя тетка – сестра отца, бывшая фрейлина покойной императрицы Екатерины, но зато со стороны мужа в Санкт-Петербурге имелся влиятельный родственник. Александр Иванович Чернышев хотя и относился к нетитулованной ветви рода, но был одним из любимцев недавно умершего императора Александра и его особо доверенным лицом.
«Мой муж много помогал Алексу в начале карьеры, теперь его черед помочь нашему сыну», – уцепилась за надежду графиня.
Она попыталась сосредоточиться на предстоящем разговоре, искала среди сумбура мыслей правильное решение. Ее дочери – бриллианты в короне матери! Как она их обожала и как ими гордилась! Когда-то графиня захотела назвать девочек в честь дочерей своей небесной покровительницы, ее муж, не слишком набожный сам, но искренне уважавший глубокую веру своей Софи, отнесся к желанию жены с пониманием. Поэтому родившиеся вслед за первым сыном маленькие графини Чернышевы получили имена Вера, Надежда и Любовь. Может, материнское чутье подсказало Софье Алексеевне эту мысль, или она видела лишь то, что хотела бы видеть, но ей казалось, что христианские добродетели, озвученные в именах дочерей, ярко проявились и в их натурах. Девятнадцатилетняя Вера, или Велл, как ее звали в семье – умная, сильная, излучающая уверенность – давно стала опорой матери. Очаровательная и живая Надин (годом моложе сестры) обладала неунывающим характером и удивительной силой духа. А младшая дочка – семнадцатилетняя Любочка – оказалась чутким и любящим сердцем семьи.
«Как же рассказать детям об этом кошмаре? Они уже потеряли отца, а теперь теряют брата. Даже если все обойдется и Боба оправдают на суде, ему все равно придется ухать за границу, ведь в армии его не оставят, да и в свете он будет изгоем. Неизвестно еще, как теперь отнесутся в столице ко мне и дочерям», – засомневалась Софья Алексеевна.
Совесть напомнила о себе – больно кольнула сердце, ведь думая о благополучных детях, невольно отбираешь внимание у самого обездоленного. И это в таких критических обстоятельствах! Ничего себе мать! Как бы ни отнеслось теперь светское общество к ее дочерям, они все-таки были свободны.
«При таком приданом девочки все равно найдут женихов, если не в столицах, так в деревне, а я всегда буду на их стороне, значит, они выберут себе мужей по сердцу», – пообещала себе графиня.
Младшие дочери засмеялись в своем уголке, а Софья Алексеевна даже не смогла улыбнуться. Придавленная бедой она сегодня не чувствовала привычного прилива материнской гордости, а ведь все ее дочки были красивы яркой, даже броской красотой. Черноволосые, как их отец, они взяли от матери светлые глаза и белую кожу блондинки. Тонкие черты их лиц почти повторяли друг друга, и лишь глаза дочерей отличались оттенками: светлые и прозрачные у самой старшей и младшей, у Надин они оказались яркими и густо-синими. В прозрачной глубине глаз Веры вокруг зрачка собралось множество темных точек, отчего их голубизна отливала необычным лиловатым оттенком, а у Любочки такие же точки получились зелеными, и поэтому глаза младшей дочери напоминали цветом спокойное море. Барышни Чернышевы выросли бесспорными красавицами, но Софья Алексеевна вдруг суеверно испугалась, что постигшая ее беда послана ей за гордыню, слишком уж она восхищалась собственными детьми.
– Мамочка, – окликнула ее младшая дочь. – Надин говорит, что, наверное, вам уже пора одеваться на прием. Правда, что Зинаида Александровна вернулась, и теперь там каждый вечер будут петь итальянские артисты?
– Мы с вами не узнаем, чем станет развлекать гостей княгиня Зизи, поскольку сегодня к ней не попадем. Я должна вам кое-что рассказать, а потом мы вместе всё обсудим, но давайте подождем Велл, она скоро придет.
Графиня смолкла. Странное это оказалось чувство – наблюдать, как последние секунды прежней жизни улетают в вечность. В коридоре послышались шаги, и Вера вошла в комнату. Графиня глянула в лицо своей старшей дочери, и той мгновенно передалось ее отчаяние. Глаза Веры расширились, она побледнела и, поразив мать своей проницательностью, спросила:
– Что произошло, мама? Это Боб? Он идет на войну?
– Нет, Велл, дело в другом. Твой брат перед отъездом в столицу признался мне, что состоял в тайном обществе офицеров, – объяснила графиня, а потом, собравшись с духом, сказала главное: – Они не захотели присягать новому императору и вышли на Сенатскую площадь, требуя перемен. К сожалению, государь счел их бунтовщиками. Теперь всех, кто состоял в этом тайном обществе, арестовывают. Вашего брата тоже схватили, он, скорее всего, сейчас в Петропавловской крепости. Нужно ехать в Санкт-Петербург. Я хочу увидеть сына, матери не должны отказать в этом.
Пораженные девушки молчали. Не верилось, что их душка-брат, мечта всех московских невест теперь сидит в тюрьме. Этого просто не могло быть! Не прошло и двух недель, как он сопровождал сестер на бал к Голицыным, тогда все барышни в зале свернули головы, разглядывая красавца-кавалергарда. Но посеревшее лицо матери, ее полные муки глаза, подтверждали страшную правду.
Первой опомнилась Вера. Она кинулась к матери, обняла ее и прижалась щекой к светлым волосам графини.
– Все будет хорошо, – прошептала она, накрывая материнскую руку маленькой теплой ладонью, – я верю, что Боб обязательно вернется.
Стараясь сдержать слезы, графиня молчала. Как хорошо, что Вера выросла такой стойкой! Софью Алексеевну тянуло довериться ей, переложить тяжесть принятия решений на плечи дочери, а самой отдаться своему горю. Поймав себя на этом желании, она устыдилась. Да кто же, кроме матери, должен заниматься делами сына? Она собралась с мыслями и спросила:
– Вы поедете со мной в Санкт-Петербург? Я могу оставить вас на попечение кузины Алины. Попросим ее переехать к нам в дом, и вы сможете остаться в Москве…
– Нет, мы не останемся. Мы, как всегда, должны быть вместе, – тут же заявила Вера, и младшие согласно кивнули.
– Я тоже не хочу с вами расставаться, мне спокойнее, когда вы рядом, – призналась графиня, и неуверенно добавила: – Наверное, теперь нужно собираться?
– Не беспокойтесь, я все сделаю, – отозвалась Вера и объявила: – Идите отдыхать. Мы выезжаем завтра.
Она сама отобрала вещи в дорогу, проследила за их укладкой и набила провизией корзины. Ледяная зимняя ночь еще не покинула Москву, а графиня Чернышева уже разместилась вместе с дочерьми в новом дорожном экипаже, поставленном из-за зимы на полозья. В возок поменьше сели горничные. Вера укутала ноги матери меховым одеялом и, стукнув по стеклу, дала сигнал трогать. Вылетев со двора, тройки понеслись по Тверской в сторону заставы. Софья Алексеевна прикрыла глаза и ушла в свои тяжкие мысли.
«Я помогу сыну, – как заклинание мысленно повторила она, – я никогда с ним не расстанусь».
Графиня обняла уже задремавшую младшую дочь и застыла. Она осталась наедине со своим горем, силы у нее кончились, и черная река отчаяния прорвала преграду из воли и мужества, опаляя сердце, выжигая душу. Стараясь пережить эту пытку, Софья Алексеевна сжалась в комок, и постепенно боль ушла, оставив после себя полное опустошение. Когда же за окном стало светать, графиня постепенно успокоилась и незаметно для себя соскользнула в вязкую тину сна.
Сон ее оказался прекрасным. С нежной гордостью смотрела она на своего сына. В белом мундире кавалергарда шел он среди цветущих кустов сирени. Как же он был хорош, как грела сердце матери его улыбка! Потом сад вдруг кончился, и вокруг зашумел вековой лес, которому не было ни конца, ни краю, но сын шел рядом, и этого Софье Алексеевне было достаточно. Пытаясь что-то ему сказать, графиня посмотрела на своего ребенка и поразилась: исчез белоснежный мундир, его заменила широкая шинель, похоже, солдатская, и странная круглая шапка. Графиня хотела спросить, что это за одежда, но от ужаса не смогла говорить. Она уже и сама поняла, что это значит. Каторжник! По-звериному завыв от отчаяния, Софья Алексеевна проснулась. Она сидела в полутемной карете, рядом спали дочери. Графиня поняла, что беззвучно открывает рот, но голоса своего она не слышала.
«Слава тебе, Боже, это был просто пустой сон», – решила она.
Превозмогая страх, Софья Алексеевна перекрестилась. Она не хотела верить, что с ее ребенком может случиться такая беда, но зато твердо знала, что готова потерять все, что имеет, лишь бы на плечах ее сына не болталась ужасная шинель арестанта, а за его спиной не шумела бы бескрайняя сибирская тайга.
В свой дом на Английской набережной столицы Чернышевы приехали уже затемно. Измотанные дорогой дочери, наскоро поев, отправились в спальни, а Софья Алексеевна прошла в комнату сына и застыла, глядя на его вещи. Под грудью ее мелкой дрожью разрасталось нервное возбуждение, и графиня заметалась из угла в угол, стараясь успокоиться, но ничего не получалось. Скоро она поняла, что уже не сможет совладать с собой, а тем более уснуть. Впрочем, время оказалось не позднее, и она могла поехать к тетке. Вот где она найдет поддержку! Обрадовавшись возможности действовать, Софья Алексеевна велела заложить свежих лошадей и выехала.
Лошади споро бежали по пустынной набережной, потом ее экипаж свернул на Невский проспект, и дорогу осветили газовые фонари. В Москве по ночам еще ездили с факелами, а в столице стараниями покойного генерал-губернатора Милорадовича на центральных улицах свет горел всю ночь. Вспомнив беднягу-генерала, Софья Алексеевна перекрестилась. Как же жаль Милорадовича! И особенно несправедливым казалось то, что этот храбрый и благородный генерал погиб не в бою, а от выстрела в спину во время восстания во вверенной ему российской столице. Отчаяние вновь кольнуло сердце. Неужели и сын причастен к его гибели?..
«Нет, только не Боб, невозможно, чтобы он сочувствовал убийству Милорадовича. Наверное, это была трагическая случайность. Мой сын – благородный человек, и все его друзья – прекрасные молодые люди, они не могли стрелять в спину боевому генералу», – успокаивала себя графиня.
Думы изводили ее, душили душу горькой тоской, и Софья Алексеевна тихо застонала. Она порадовалась, что с ней нет дочерей, ведь сдерживать отчаяние стало невмоготу. Наконец эта пытка закончилась: карета остановилась у мрачноватого трехэтажного дома, выкрашенного в светло-зеленый цвет лет пятьдесят назад. Построенный углом, особняк Румянцевых одним фасадом выходил на набережную Мойки, а вторым – на Зимнюю канавку. Графине он всегда напоминал саму тетку Марию Григорьевну – дом так же, как его хозяйка, остался в царствовании Екатерины Великой и казался чуждым нынешнему веку.
Карета остановилась, лакей открыл перед графиней дверцу и помог ей сойти с подножки. Старый швейцар, подслеповато щурясь, уставился в лицо Софьи Алексеевны.
– Ваше сиятельство! – восторженно воскликнул он, наконец-то узнав гостью, – вот уж барыня будет рада!
Графиня поздоровалась со стариком. Вокруг засуетились слуги, а по лестнице навстречу племяннице с завидной быстротой уже спускалась сама хозяйка дома – невысокая, располневшая, но все еще красивая пожилая дама с яркими голубыми глазами в сеточке тонких морщин.
– Сонюшка, вот ведь радость! – восхитилась она.
– Какая же радость, тетя? – шепнула ей на ухо удивленная Софья Алексеевна, – Боба арестовали. Разве вы не знаете?
По растерянному лицу тетки графиня поняла, что та действительно ничего не знала. Мария Григорьевна покачнулась, и племянница поддержала ее.
– Тише, тише! Пойдемте в гостиную, там и поговорим.
Обняв тетку, графиня повела ее в соседнюю комнату, там усадила на диван, сама закрыла двери и, вернувшись, села рядом.
– Значит, и наш мальчик попал в эти жернова… Но ведь, когда случилось это ужасное несчастье, он был с тобой в Москве!
– Да, он был дома, но, как только узнал о выступлении на Сенатской площади, сразу же выехал в столицу. Его арестовали в ночь приезда. Судя по слухам, он сидит в Петропавловской крепости. Я должна добиться свидания с сыном и помочь ему всем, чем смогу.
– Но за что арестовывать человека, который ничего не совершил?
Графиня вздохнула, она уже сотню раз задавала себе тот же вопрос, и так и не знала ответа, но тетка с тревогой вглядывалась ей в глаза, и пришлось отвечать:
– Он был членом тайного общества, наверное, его арестовали за это.
– Опомнись, Софи, да ведь в Санкт-Петербурге каждый второй человек при дворе – масон! Разве это не тайное общество? Это все игра – взрослые мужчины всегда немного, но остаются детьми, вот они и играют в тайны. Разберутся – и отпустят Боба. Ну, как же может быть иначе?..
– Ах, тетя, дай бог, чтобы это так и было, – перекрестилась графиня, хотя понимала, что «просто» уже ничего не получится. – Нам нужно подумать, кто сможет мне помочь в хлопотах об освобождении. Я хочу съездить к Александру Ивановичу Чернышеву, он нам – родня, хоть и дальняя, и мой муж много помогал ему в начале карьеры. Неужели он теперь откажется помочь мне?
На лице старой дамы появилось такое скептическое выражение, что ее племянница насторожилась.
– Ох, Софи, не люблю я этого молодца, слишком уж он холодный какой-то, и глаза у него – чистые куски льда. Я всегда, когда его встречала, думала, почему ему с женами так не везет. Попомни мои слова, это – знак свыше, Бог за грехи его карает, плохой он человек.
– Мне выбирать не приходится. После смерти мужа его друзья как-то отошли от нас, может, я сама виновата – слишком ушла в горе, никого не хотела видеть, но теперь об этом жалеть поздно. Я не знаю, к кому еще обратиться. Ведь этот человек должен быть влиятельным, иначе мне придется передавать прошения через мелких чиновников, я буду ждать ответа, а они выбросят мое письмо в помойное ведро.
Румянцева призадумалась, а потом признала:
– Теперь из страха, что их тоже примут за заговорщиков, все сверх меры восхваляют Николая. Только сдается мне, что сам он пока ничего не решает, и сейчас главным человеком при дворе стала императрица-мать, она всегда имела влияние на младших детей. Нам бы до нее добраться!
– Как, тетя? Я давно не бывала при дворе, да и в Москве выезжала лишь к хорошим знакомым, и то только потому, что нужно было вывозить дочерей. Да что уж говорить – за два года так и не смогла найти для Велл жениха…
– Положим, ты не очень хотела расставаться с дочерью, поэтому и не искала, да и жениха Верочке найти не так-то просто…
Графиня отмахнулась:
– Вы, конечно, правы, но теперь это все не имеет значения. Мой сын арестован, и меня волнует только его судьба. Дочери как-нибудь устроятся: при таком приданом они всегда найдут женихов.
– Вот и успокойся, давай подумаем, кто сможет замолвить за тебя словечко перед императрицей-матерью, – ласково посоветовала Мария Григорьевна, увидев слезы на глазах племянницы. – Я завтра с утра напишу Натали Загряжской, она до сих пор очень влиятельна. Надеюсь, она нам и поможет.
– Дай-то бог! Вот встретимся с ней, а потом я поеду к Чернышеву. Он должен помнить, чем обязан моему мужу, я не хочу верить, что он мог это забыть.
Они принялись подробно обсуждать, что можно будет сказать генералу Чернышеву, а о чем лучше промолчать, и, уйдя в свои размышления, графиня даже вздрогнула от неожиданности, увидев в дверях гостиной незнакомца. Пораженная, она с недоумением разглядывала улыбчивого мужчину в модном фраке.
Гренадерской стати темноглазый брюнет с приятным открытым лицом казался ее ровесником, но при этом явно молодился (муаровый жилет его переливался всеми оттенками рубина, а черный шелковый галстук был щегольски – по последней английской моде – тонок). Румянцева сидела к вошедшему спиной, поэтому не видела гостя. Поняв это, мужчина заговорщицки, как озорной мальчишка, подмигнул Софье Алексеевне и предупредительно кашлянул.
– Что там? – вскинулась старушка, но, узнав вошедшего, расцвела улыбкой и пригласила: – Проходи, дружок, познакомься с моей Софи.
Гость поспешил на зов и отрекомендовался:
– Лев Давыдович Бунич – сосед нашей драгоценнейшей хозяйки. В Полесье наши имения граничат друг с другом. – Он поклонился Софье Алексеевне, с гусарским шиком прищелкнул каблуками блестящих туфель, и заявил: – Сердечно рад, сударыня! Премного наслышан о вас и ваших детках от Марии Григорьевны. Я ведь уже с неделю, как пользуюсь ее любезнейшим гостеприимством, и не было ни дня, чтобы она не вспомнила о вашем семействе. Так что вы понимаете, как я заинтригован и рад наконец-то познакомиться лично.
Софья Алексеевна мысленно спросила себя, что же тетка успела рассказать своему нежданному постояльцу. Вот огласка-то им точно ни к чему. Но, вспомнив, что старушка до сегодняшнего вечера не знала об аресте Боба, графиня успокоилась. Завязался легкий разговор. Бунич оказался на редкость любезным – душка, а не собеседник! Не вдаваясь в подробности, он коротко объяснил, что у него в столице разбирается тяжба о наследстве дальнего родственника, а потом принялся развлекать дам, изображая в лицах персонажей итальянской оперы.
Это оказалось так уморительно, что развеселилась даже Софья Алексеевна. Как хорошо, что она догадалась приехать сюда – ей стало легче. К тому же тетка со своей идеей просить помощи у Загряжской дала надежду, и измученной отчаянием и неизвестностью графине вдруг почудилось, что она сможет отвести от своего ребенка беду. Если бы можно было обменять жизнь Боба на свою!
«Господи, если нужно, а забери все, но только спаси моего сына!» – взмолилась она.
Услышат ли?.. Кто знает…
На крайний случай у нее еще оставался запасной вариант – просить покровительства у Александра Ивановича Чернышева.
Глава 2
Черт побери эти карты! Александр Иванович Чернышев проснулся в пресквернейшем расположении духа. А с чего радоваться, если вчера бес попутал, и он проиграл своему приятелю, а с недавних пор и родственнику Чичерину, целых двадцать тысяч? Проигранного было до отвращения жалко. Денег у Чернышева хватало: находясь в фаворе у покойного императора Александра I почти двадцать лет, он не раз бывал отмечен монаршими милостями. Многочисленные ордена, золотое оружие и табакерки с портретами августейшей четы считались почетными наградами, но государь не раз осчастливливал верного слугу и прозаическими, но от этого не менее желанными дарами в виде денег. Так что теперь Чернышев стал так богат, что даже не сильно обрадовался, получив в наследство фамильное гнездо своей семьи – деревню Лыткарино. Теперь эта, так любимая им в детстве, старая усадьба казалась бедной по сравнению с его великолепным домом на Малой Морской и поместьями, принесенными в приданое женой.
Мысль о жене еще сильнее испортила настроение. Может, он привередничал, ведь столичное общество признало, что Елизавета Николаевна умна и великолепно образована, а уж о ее моральных принципах и говорить нечего – они выше всяких похвал. Все, конечно, так, только вот скучно от этого благочестия – сил нет. Сейчас, когда супруга носила их первого ребенка, она могла бы притихнуть, стать простой и домашней – хранительницей теплого очага. Но та решительно настроилась выйти столпы столичного общества и изводила мужа зваными вечерами в своем музыкальном салоне.
– Куракинская спесь! Как же! Они – Гедиминовичи, пол Ярославской губернии в приданое дали. Возвышенные натуры, все – в искусстве, – часто бурчал Чернышев.
Супруга, так же, как и ее мать, теща Чернышева, писала музыку и считала себя серьезным композитором. Однако Александр Иванович тещу переносил с трудом, равно как и ее почтенного батюшку: тот, несмотря на возраст, оказался настолько активен, что беспрестанно, а самое главное беспардонно вмешивался в жизнь своих дочерей и внуков.
«Заплачу долг деньгами из приданого, а потом постараюсь донести эту новость до ушей тещи и ее папаши, – развеселился Чернышев, – вот будет смеху, когда драгоценный дедушка узнает, что его денежки попали в карман дочери, чье имя он не произносит уже больше пятнадцати лет».
Младшая сестра его тещи, будучи замужем, влюбилась в красавца Чичерина и сбежала от мужа. Не получив развода, она вышла за своего любовника замуж, чем наделала тогда много шума. Бедняжку больше нигде не принимали, а собственный отец запретил упоминать о ней в своем присутствии. Но Чичерину это не помешало сделать блестящую военную карьеру, и Александр Иванович, познакомившийся с ним в самом начале войны, считал генерала нужным знакомством и старался поддерживать с ним приятельские отношения.
Однако, хотя иронизировать можно сколько угодно, двадцать тысяч считались огромной суммой. Так можно пробросаться и всем имуществом. Генерал-лейтенант задумался. Все его состояние было нажито милостями покойного Александра I. Он оставался с императором до самой его кончины, правда, не стал тогда дожидаться отправки тела в столицу, так как вызвался выполнить особо деликатное поручение – арестовать руководителя южных заговорщиков полковника Пестеля.
Тогда он проявил все свои навыки разведчика – как с гордостью именовал себя со времен своей лихой молодости в Париже. Тогда в постели сестры императора Наполеона Полины ее неутомимый русский любовник узнавал важнейшие секреты Франции. Приехав в Тульчин, Чернышев под замысловатым предлогом исхитрился вызвать тяжелобольного полковника в штаб и там арестовал его, а в столицу уже повез в кандалах. Похоже, вид измученного Пестеля, волочившего за собой цепи, порадовал нового императора. Чернышев тут же был включен в комиссию по расследованию деятельности бунтовщиков, а теперь умудрился стать одним из самых близких к Николаю Павловичу людей.
– Я надеюсь на вашу преданность престолу. Поверьте, что наша семья высоко ценит ту верность, с какой вы служили моему покойному брату, – уже не раз говорил Чернышеву молодой государь.
По всему выходило, что это царствование может оказаться для Александра Ивановича еще более удачным, чем предыдущее. Император ждал его с ежедневными докладами о работе комиссии. Это ли не шанс? И Чернышев не терялся: рассказывал подробно, не брезгуя сгущать краски, а то и откровенно привирать. А почему бы и нет? Чем опаснее будут выглядеть заговорщики, тем сильнее окажется нужда в таких верных солдатах, как он. Тонко проводя мысль, что поголовно всех участников восстания можно считать государственными преступниками, Чернышев постоянно подпитывал убежденность молодого императора в том, что, подавив бунт на Сенатской площади, тот спас жизни своих детей, жены и матери.
– Страшно подумать, ваше императорское величество, что могло бы случиться, если бы бунтовщики пошли на Зимний дворец, как собирались первоначально. Императрица, такая молодая и хрупкая, оставалась совсем без защиты с цесаревичем и великими княжнами на руках, пока вы и великий князь Михаил Павлович, выполняя свой долг перед Богом и Отечеством, пытались образумить восставших безумцев, – с дрожью в голосе говорил Александр Иванович.
В больших, на выкате, серых глазах Николая проступал ужас, и Чернышев радовался, что попал в точку. Император обожал свою красавицу-жену. Склонившись со скорбным выражением лица, генерал-лейтенант в душе забавлялся. Молодой царь не шел ни в какое сравнение со своим старшим братом. Тот был не просто умен, он обладал редкостной интуицией. Покойного государя сложно было поймать на крючок и так манипулировать им, а вот Николай, похоже, мог сделаться послушной марионеткой в опытных руках. Вопрос был лишь в том, кто станет его кукловодом, и здесь Чернышев никому не собирался уступать.
Никто не подозревал, что у всесильного генерал-лейтенанта Чернышева есть слабость – он стыдился своей принадлежности к нетитулованному дворянству. Просто Чернышев – представитель самой младшей ветви этого старинного, восходившего к Рюрику рода, хотя в двух старших ветвях все многочисленное потомство писалось графами.
«Никчемные людишки, моты и пьяницы – графы! – часто с раздражением сетовал он, – а я – опора трона – ничего не могу добавить к своей фамилии».
Покойный государь не соизволил пожаловать ему титул, и хотя Чернышев трижды женился на очень знатных особах, это ничего не давало: у всех его невест имелись братья – наследники рода, а муж получал лишь приданое. Понятно, что деньги тоже оказались приятным приобретением, но душа жаждала титула, и теперь, нежданно-негаданно замаячила возможность осуществить свою мечту. Среди заговорщиков оказались графы Захар и Владимир Чернышевы. Титул Захара считался более почетным, ведь тот происходил из старшей ветви рода, да и все его имения были объединены в передающийся по мужской линии майорат. У графа Владимира был другой плюс: три его сестры еще не стали совершеннолетними, и им требовался достойный опекун, способный разумно распорядиться огромным состоянием этой семьи.
Александр Иванович мешкать не стал и уже подал на высочайшее имя прошение с просьбой пожаловать ему подлежащий изъятию в казну майорат государственного преступника Захара Чернышева. Как ни смешно, но через брак тетки, он действительно мог на него претендовать, вот только кроме него среди ближней и дальней родни оказалось немало таких же желающих, но тут уж – выкуси, пусть кто-нибудь попробует отодвинуть его на задний план. Что же до графа Владимира, то Александр Иванович вчера наложил арест на его имущество. Сегодня приехавшей в столицу матери бунтовщика должны были вручить предписание об освобождении всех домов и имений, принадлежащих ее сыну.
«Нужно смять дамочку, сломать ее волю, чтобы она с готовностью согласилась на мою опеку. В ее же интересах уступить, а то придется действовать по-военному, и пленных не брать», – рассуждал Чернышев.
Все он сделал правильно: Софья Алексеевна лет десять прожила в деревне или, в крайнем случае, в Москве. В столице у нее не осталось никаких связей, и ей не к кому было обратиться кроме него. К тому же графиня казалась обычной деревенской простушкой, а значит, должна была считать Чернышева старым должником своей семьи.
«Нужно родиться идиотом, чтобы потом обливаться слезами умиления при воспоминании об участии «благодетелей» в собственной судьбе, – развеселился Александр Иванович, – Если бы я пускал благородные слюни каждый раз, когда мне кто-нибудь помогал, то сидел бы сейчас в Лыткарино в засаленном халате».
Представив себя на лавочке перед старым отцовским домом, Чернышев хмыкнул, уж очень забавной показалась ему такая картинка.
«А если глупая баба упрется?» – вдруг засомневался он.
Чем это могло ему грозить? Да ни чем! При самом плохом раскладе он просто останется при своих, зато, если дело сладится, его долгожданный сын может родиться графом.
– Вместе с нисходящим потомством… – прошептал Чернышев, представив на мгновение текст вожделенного указа.
Нет, так раскисать невозможно, иначе не получишь ничего! Александр Иванович сердито фыркнул, провел щеткой по волосам, посмотрел, как сидит мундир, и отправился в столовую. Было еще очень рано, он надеялся, что жена спит, и он сможет уехать из дома, не встретившись с ней. Но доносящиеся из музыкального салона звуки фортепьяно подсказали супругу, что Елизавета Николаевна встала и репетирует свое очередное сочинение.
– Не повезло, – пробормотал он.
Теперь придется здороваться, выслушивать мнение жены о новом музыкальном шедевре и новости о здоровье тещи. Но нет худа без добра: можно позабавиться, рассказав ей о двадцати тысячах Чичерина. Собственно, можно и не торопиться, а попробовать прошмыгнуть в столовую. Он так и сделал, однако хитрость не удалась: не успел он выпить чашку кофе, как в дверях возникла фигура супруги, ту, похоже, предупредил кто-то из прислуги. Чернышев про себя чертыхнулся, но с дежурной улыбкой кивнул. Елизавету Николаевну сложно было назвать красавицей: лицо ее, хотя и правильное, казалось простоватым. В нем отсутствовала изюминка, в глазах не хватало блеска, а губы, обычно плотно сжатые, как будто намекали на недовольство супругом. Впрочем, бога гневить было нечего – жена ему досталась вполне миловидная, да к тому же богатая. Сделав над собой усилие, Чернышев поздоровался и вступил в разговор:
– Что ты, Лиза, так рано встала? Тебе доктор советует больше спать.
Жена любезно улыбнулась и сообщила:
– Я выспалась и уже поела, но хотела бы выпить с вами чай.
Она неодобрительно кивнула на чашку крепчайшего кофе, который Александр Иванович пил без сахара и молока, как пристрастился когда-то в Париже.
– Алекс, вам нужно отказываться от вредных привычек, табак и кофе подорвут ваше здоровье.
Чернышев поморщился.
– Я потом как-нибудь откажусь, сейчас у меня слишком много дел, кофе и трубка мне необходимы. Вот выйду в отставку, уедем в Лыткарино, там и будешь приучать меня к правильной жизни.
По тому, как губы жены поджались еще сильнее, Александр Иванович догадался, что отъезд из столицы в Лыткарино в ее планы не входит, да и его отставка ее тоже не прельщает. Это обнадеживало. Стараясь сдержать усмешку, он скроил на лице скорбную мину и сообщил:
– Лиза, ты все равно узнаешь, ведь матушка тебе непременно доложит, поэтому признаюсь сам. Я проиграл вчера огромную сумму в двадцать тысяч Петру Александровичу Чичерину. Я уже отправил ему деньги. Надеюсь, имения в этом году компенсируют нам эту потерю.
Супруга побледнела. Она сразу поняла, что ее скуповатый муж, все свои деньги предпочитавший отдавать в рост, заплатил карточный долг из ее приданого. Это означало, что мать и дед, не связываясь с всесильным Чернышевым, сотрут в порошок ее.
– Вы заплатили моими деньгами? – тихо уточнила она.
– У меня сейчас других нет, мои все вложены.
Муж говорил спокойно, но Елизавете Николаевне показалось, что она увидела в его глазах веселый блеск.
«А ведь он издевается надо мной, – поняла она, – специально рассказал мне об этом проигрыше, хотя мог бы и промолчать. Я же беременна, почему он не щадит меня? Похоже, что ему все равно».
Женщина опустила глаза. Сразу после свадьбы, когда они пару месяцев жили в Таганроге около царской четы, она еще надеялась, что в их заключенном по расчету союзе смогут проснуться теплые чувства. Но откуда бы им взяться, если муж холоден, как ледяная глыба? Его волновали лишь деньги и власть. Но и она не абы кто, и заслуживает уважения! Решив, что пора выказать обиду, Елизавета Николаевна явственно вздохнула. Чернышев понял, что перегнул палку, и постарался исправить ситуацию. Отвлекая жену, он весело сообщил:
– У меня есть приятная новость: я подал ходатайство с просьбой передать мне майорат, принадлежавший ранее государственному преступнику Захару Чернышеву. Так что скоро ты, Лиза, станешь графиней.
Но вместо радости, жена испугалась:
– Как же так? Граф Захар жив. Или вы будете добиваться его казни?
Чернышев поморщился, эта дурочка по простоте душевной ляпнула то, что шептали во всех гостиных. Почему людям нужно совать нос не в свое дело? Это все происки конкурентов из старшей ветви рода! Не сделав и сотой доли того, что он совершил для страны и престола, эти свиньи лезут в его огород. Ну, уж нет – он никому не позволит присвоить то, что принадлежит ему. Александр Иванович, не мигая, уставился на жену и отчеканил:
– Лиза, не говори ерунды. Мне не нужно добиваться казни графа Захара. Он – государственный преступник, а значит, должен быть лишен всех чинов, титулов, званий и имущества. Майорат закреплен на имениях еще его дедом, титул переходит вместе с майоратом. Имущество государственного преступника вместе с титулом отходит казне. Все абсолютно законно.
– Да? Я не знала… – протянула жена, но по ее тону Александр Иванович понял, что женщина ни в чем не уверена.
– Значит, спроси у того, кто знает – у своего мужа, – раздраженно буркнул он и поднялся, скомкав салфетку. – Мне пора к государю.
Решив проучить жену за бунт, Чернышев не стал целовать ей руку, а лишь кивнул на прощание.
Карета уже ждала его. Пора, пора ковать железо пока горячо! Николай I вставал очень рано и ценил то же качество в своих приближенных. Александр Иванович уже чувствовал, как напуганный пролитой кровью молодой император все сильнее попадает под его влияние. Царь не принимал никаких решений без его совета, обсуждал с ним все возникающие вопросы и, самое главное, Николай уже говорил словами своего нового советчика. Открывалась перспектива не просто блестящей, а фантастической карьеры. Только не спешить! Только не промахнуться!
Привычную дорогу до царского кабинета Чернышев миновал быстро. Он кивнул молодому флигель-адъютанту, сидевшему за маленьким столиком у дверей. Тот вскочил и сообщил:
– Пожалуйте, ваше высокопревосходительство, его императорское величество ждет вас.
«Отлично, – с удовольствием отметил Александр Иванович, – я приехал на полчаса раньше, а меня уже ждут».
Он прошел в кабинет и, стоя у двери, почтительно поклонился императору. Завидев Чернышева, государь поднялся из-за стола.
– Здравствуйте, Александр Иванович, – четко, по-военному выговаривая слова, сказал он и предложил. – Садитесь, докладывайте.
Государь вернулся на свое место и указал визитеру на парное кресло с противоположной стороны широкой, крытой зеленым сукном столешницы. Генерал-лейтенант про себя усмехнулся: Николай Павлович сидел так, чтобы, поднимая глаза от бумаг, упираться взглядом в портрет жены. Все слабости нового государя лежали на поверхности, но упас бог подать вид, что замечаешь их. Чернышев скроил привычное почтительное выражение.
– Вы привезли показания Трубецкого? – нетерпеливо поинтересовался царь.
– Да, ваше императорское величество. Вот, пожалуйста, собственноручно изложено Трубецким, – сообщил Чернышев, выкладывая на стол несколько исписанных листов. – Вопросы перед арестантом были поставлены так, как вы изволили приказать.
Николай взял верхний лист и углубился в чтение. Чернышев ждал, а пока его мысли вновь свернули в уже привычное русло. Александру Ивановичу не нравилось, что в его комиссии начал усиливаться генерал Бенкендорф. Они были почти ровесниками, с одинаковыми заслугами за прошедшие войны. Бенкендорф считался способным человеком и так же не ограничивал себя моральными запретами в выборе в средств, как и сам Чернышев. Но вдобавок ко всему у соперника имелись очень весомые связи: его сестрица – Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посланника в Лондоне – имела огромное влияние на министра иностранных дел. Бенкендорф становился опасным. Вот и нужных показаний от арестованного Трубецкого добился именно этот хитроумный немец. Чернышеву пришлось пойти с наглецом почти на конфликт, чтобы самому передать эти бумаги государю, тот рвался представить их лично.
«Теперь, когда Аракчеева нет и можно стать первым министром, начинает лезть вперед всякая шушера. Не успеешь оглянуться, как тебя обставят. Неужели Бенкендорф нацеливается туда же, куда и я? Неслыханная наглость!» – расстраивался Чернышев.
Он так увлекся своими предположениями, что чуть не пропустил момент, когда император закончил чтение. Тот поднял голову, и по его растерянному выражению Чернышев догадался, что нужный эффект достигнут. Он предвидел, как будет оскорблен государь признанием Трубецкого, ведь тот подтвердил, что тоже был согласен на провозглашение императором малолетнего наследника.
– Чем же я ему так не угодил? – сердито осведомился царь. – Ну, эти бедные отставные корнеты и прапорщики мне понятны. Никто даже не подозревает об их существовании – а тут вдруг они взлетают до небес, судьбой России играют, лавры Наполеона им покоя не дают. Но Трубецкой – он же Рюрикович!.. Блестящая карьера, богатство, престижное родство – все брошено в грязь. Ради чего такой человек соглашается быть диктатором в богомерзком деле? Я ничего не успел сделать, а он меня уже приговорил к смерти как неподходящего правителя!
– Все идет от распущенности, – вкрадчиво подсказал Чернышев, – вседозволенность в армии в последние годы достигла чудовищных размеров. Офицеры считают себя вольными стрелками, повсеместно в полках на караул во фраках являются. Силы не чувствуют, укорота нет.
Император согласился с ним сразу:
– В армии пора наводить порядок, как, впрочем, и во всех остальных сферах нашей жизни. Я поручаю вам, Александр Иванович, выяснить у бунтовщиков, что же в государственном устройстве они собирались менять, систематизировать все их ответы и доложить мне. И второй вопрос, которым вы и впредь станете заниматься, не терпит отлагательства. Это – наведение порядка в армии. Через месяц я хочу получить подробный доклад о положении дел в армейских частях и военных поселениях. Сейчас, когда Аракчеев отбыл на лечение за границу и к службе уже никогда не вернется, я хочу, чтобы вы провели проверку всей работы военного министерства.
– Рад стараться, ваше императорское величество, – отчеканил Чернышев. В душе он ликовал. Все-таки военное министерство отойдет ему! Теперь, накопав побольше негативных фактов, надо охаять работу предшественника и предложить действенные меры. Ну, уж это ему – раз плюнуть. Хорошо говорить и писать отменные доклады он научился еще в Париже, не зря даже император Наполеон считал любовника своей сестры достойным собеседником.
«Вот дело и сдвинулось с мертвой точки…» – мысленно поздравил он себя.
Судьба смилостивилась: одно из его заветных желаний исполнилось. Теперь второе! Лучше всего и майорат, и наследство девчонок Чернышевых, ну и графский титул, конечно. Сейчас, когда удача сама шла в руки, оставалось только не оплошать, поворачиваться порасторопнее…
Однако не все было так просто. Полз упорный слушок, что императрица-мать со своим старческим немецким скопидомством всячески противится раздачам из казны. Надо признать, что аргументы у нее имелись весомые: забрав из покоренной Франции все, что ему понравилось во дворцах Наполеона, покойный император Александр перестал считать российские богатства, щедрой рукой раздавал из казны имения, крестьян и деньги. Мария Федоровна рвалась прекратить этот золотой дождь, но на старшего сына влияния не имела, зато теперь она собиралась отыграться сразу за все. Вдруг не отдаст и майорат графа Захара? А на состояние сестриц Чернышевых Александр Иванович мог претендовать лишь как их опекун.
«Получу в свое распоряжение их деньги, а там посмотрим, – решил он. – Девушки – существа хрупкие…»
Просчитывая следующие шаги, Чернышев задумался. Как?.. Как все это выкрутить? Что ни прикинь – везде вставали препятствия. Наконец он пришел к выводу, что один с этим делом все равно не справится. Срочно требовался преданный и небрезгливый помощник.
Вернувшись с допросов в Петропавловской крепости, генерал Бенкедорф нашел в кабинете послание от своей сестры. Жена предупредила его, что письмо принес матрос с прибывшего из Лондона корабля. Тот отдал конверт лично ей в руки, предварительно уверившись, что она – хозяйка дома и супруга адресата. Александр Христофорович сообразил, что его мудрая сестрица решила не рисковать, пользуясь услугами дипломатической почты, а раз так, то в письме содержится нечто, не предназначенное для чужих глаз.
Он вскрыл конверт и углубился в чтение. Долли, не церемонясь, с первых же строк писала о деле, но в письме не нашлось никакой секретной информации, зато нотаций имелось в избытке. Младшая сестра поучала его, как следует жить!
– Ну и ну, кем же она себя возомнила? – в крайнем раздражении воскликнул Александр Христофорович, отбрасывая письмо. – Да где это видано, чтобы баба учила боевого генерала?!
Поскольку Бенкендорф находился в своем еще полупустом кабинете один, то ответа он не получил, но риторический вопрос ослабил раздражение и позволил ему спокойнее посмотреть на вещи. Следовало признать, что Долли всегда считалась в семье самой умной. Эта женщина могла обвести вокруг пальца любого, а уж родных и подавно, но и не было случая, чтобы она не помогла ему делом или советом, и раз соизволила написать брату это конфиденциальное письмо, значит, считала дело достаточно важным.
Бенкендорф решил еще раз перечитать послание. Летящий почерк его деятельной сестрицы уместил все нравоучения в три абзаца:
«Дорогой мой! До меня доходят очень тревожные вести о твоих делах и твоем поведении. Прошу тебя, не повторяй прежних ошибок. Если ты не смог извлечь уроков из своих провалов, позволь это сделать мне.
Прежний государь тебя откровенно не любил, мы понимаем это оба, но я, в отличие от тебя, знаю и причину его неприязни. Мой дорогой, ты – отчаянный храбрец, но утонченность ума и привычка к интригам тебе не свойственны. Не нужно опять лезть с предложениями, не нужно картинных прыжков во время наводнения, не нужно выпячиваться и суетиться! Это не твоя стихия, ты проиграешь любому более-менее искусному интригану.
Твой конек – порядок, основательность, дисциплина. Держись солиднее и скромнее. Новый император во многом похож на тебя. Теперь наконец-то появился прекрасный шанс сделать достойную карьеру. Никаких инициатив, лишь рвение в исполнении поручений, и самое главное, научись внимательно смотреть по сторонам».
В очередной раз подумав, что его сестрица – дьявол в юбке, Бенкендорф попытался понять, что же услышала Долли в своем Лондоне, раз написала ему такое письмо. Он не лез ни с какими прожектами – тут уж госпожа разведчица перегнула палку, он тоже умеет делать выводы из прошлых промахов. Он скромно служит там, куда его определил император. И эта комиссия по делам бунтовщиков сейчас стала самым наиважнейшим делом. По крайней мере, Николай Павлович заслушивает доклады Чернышева ежедневно.
«Чернышев! Вот в чем дело, – догадался он, – этот напыщенный болван до сих пор имеет влияние в министерстве иностранных дел, говорят, он в кабинет к Нессельроде ногой двери открывает. Этот подлец что-нибудь наплел у дипломатов, а те раззвонили Долли и ее муженьку».
Сестра даже не подписала письмо и нигде в тексте не упомянула никаких имен. Осмотрительная Долли надеялась, что он сам все поймет, и Бенкендорф бросил письмо в огненное нутро голландской печки. Погрев руки у теплых изразцов, он вернулся к столу. Черноглазое, все еще смазливое лицо соперника вновь встало перед его внутренним взором.
«Скотина, я ему поперек дороги стал. Все должны казаться серыми мышками в его присутствии, только великий Чернышев спасает государя и Отечество, – разлился Бенкендорф. – Если его россказни дошли до Лондона, что же он мелет обо мне во дворце? Скорее всего, чернит с сочувствующим видом, а я даже не подозреваю, что он делает за моей спиной».
Ситуация казалась очень скользкой: его государь уже давно не принимал и только намекнул при последней встрече, что скоро понадобятся преданные и сильные люди, а в министерстве внутренних дел все нужно менять. Но никаких конкретных обещаний Бенкендорф не получил, а новая казенная квартира была ему пожалована за работу в комиссии по бунтовщикам. Квартира оказалась как нельзя кстати. Бенкендорфы никогда не славились богатством, а его последняя романтическая эскапада – женитьба на очень красивой, но бедной вдове подорвала финансовое благополучие семьи на долгие годы. Теперь на шее Александра Христофоровича висели жена, три дочери и две падчерицы, эта женская компания стоила бешеных денег, и никак нельзя было упустить открывающиеся возможности. Чернышев становился опасным, и следовало знать все, о чем тот говорит, и даже то, о чем он думает. Пора уже найти подходы к сопернику – завести шпиона в его окружении.
«Что бы сделала на моем месте Долли? – задумался генерал. – Она подружилась бы с женой своего врага и получала бы нужные сведения из первых рук, но я не женщина, к тому же Чернышев «любит» меня так же, как и я его. Близко к себе он меня не подпустит. Нет! Нужно придумать что-то другое».
Он попытался нащупать сюжет интриги, но мысли казались смутными и неоднозначными. Почти час провел Бенкендорф в раздумьях, прежде чем блестящая в своей простоте идея пришла в его голову. Он сыграет на ревности! Чернышев внимательно следит за каждым его шагом. Значит, придется завести приметного человечка и сделать вид, что тот необычайно полезен в делах, чтобы Чернышев иззавидовался и захотел лишить конкурента деятельного подчиненного. Ну а потом останется только дождаться, когда соперник переманит его агента к себе.
Идея выглядела настолько изящной, что даже немного улучшила казалось безнадежно испорченное настроение. Конечно, пока подходящая кандидатура не просматривалась, но въедливый и основательный остзейский немец не сомневался, что обязательно подберет нужного человечка. Найденное решение успокоило, и генерал велел подавать коляску. Дело – прежде всего! Его ждали в Петропавловской крепости.
«Вот там я и подсуну тебе соглядатая, – мысленно пообещал он конкуренту, – тогда и увидишь, как хорошо все у меня получится».
Впрочем, отступать Александру Христофоровичу все равно было некуда, оставалось одно – победить, хоть это и казалось сейчас абсолютно невозможным.
Глава 3
«Это невозможно, это немыслимо! – не могла прийти в себя от изумления перепуганная Софья Алексеевна. – Как можно наложить арест на имущество, когда есть я и девочки? Это противоречит всем законам Божьим и человеческим!..»
Графиня так и стояла в вестибюле, куда ее вызвал дворецкий, сообщив, что прибыл нарочный с бумагами. Она приняла у засыпанного снегом курьера пакет и, поскольку тот сказал, что ответа не требуется, отпустила его. Софья Алексеевна вскрыла круглую красную печать с самодержавным орлом и стала читать. Она сначала даже не поняла, чего от нее требуют в официальной бумаге с красиво выведенным заголовком «Предписание». Наконец, прочитав несколько раз с начала и до конца, графиня убедилась, что она не ошиблась. Какая-то комиссия с длинным названием требовала от всех родственников, проживающих в домах и поместьях государственного преступника Владимира Чернышева, на имущество которого до решения суда наложен арест, освободить занимаемые помещения, передав ключи чиновникам Собственной Его императорского величества канцелярии.
Уяснив, наконец, что случилось, графиня осознала, каково это – сваливаться в пропасть. В одно мгновение из богатой и уважаемой женщины она превратилась в бездомную нищенку, а что хуже всего – ее участь должны были разделить дочери. Пытаясь сообразить, что же из имущества семьи хотя бы формально не принадлежит сыну и может быть выведено из-под ареста, Софья Алексеевна прижалась лбом к створке высокого окна, смотревшего на Английскую набережную. Стекло оказалось ледяным, но в дрожи лихорадочного возбуждения она этого не чувствовала.
«Все мои поместья я принесла в приданое мужу, а после его смерти они отошли Бобу, как единственному наследнику», – вспоминала графиня.
Дочкам отец оставил приданое в золоте, его, как опекун сестер, должен был выделить брат. Мать с сыном, решив, что так надежнее защитят интересы девочек, из этих средств купили каждой из них по имению, но до замужества юных графинь Чернышевых купчие были оформлены на имя их брата. Припомнила Софья Алексеевна, и как сын вскользь заметил, что оставшуюся часть денег из приданого сестер он пока отдал в рост, но куда и кому, не уточнил.
Боже, как теперь жить?! Не осталось ни крыши над головой, ни денег! Сердце графини колотилось как безумное, а руки мелко тряслись: полученная бумага уничтожала жизнь и будущее ее дочерей. Она так надеялась, что эта трагическая история не затронет хотя бы их, но неразумное поведение Боба ударило по всем членам семьи.
– Ну и что мне теперь делать?.. – спросила саму себя Софья Алексеевна.
Ответа у нее не было. Такое же ощущение полной опустошенности испытала она после смерти мужа, и в тот раз ей понадобилось несколько лет, чтобы прийти в себя, но тогда с ней оставались малые дети, и она могла скрыться от всего света в любом из многочисленных поместий. Сейчас дети выросли и сами могли бы помочь матери, но зато не стало убежища и средств. Софья Алексеевна застыла, утонув в своих безрадостных мыслях, и не услышала тихих шагов дочери.
– Мама, почему вы здесь стоите? Что случилось? Это бумага про Боба? – прозвучал озабоченный голос Веры.
Расстроенная графиня молча протянула ей предписание. Вера прочитала, нахмурилась, мгновенье помолчала и спросила:
– Они забирают все? Вообще ничего не остается?
– Похоже, что так, – подтвердила мать, – я все пытаюсь сообразить, что же нам делать, и ничего не могу придумать.
– А наше приданое, оно же было в деньгах? Мы могли бы на них жить.
– Ваш брат отдал часть денег в рост надежному человеку, а на остальное мы купили каждой из вас по имению. Это была моя идея, я боялась за ваше будущее, ведь деньги можно легко потратить, а имение станет приносить доход и даст крышу над головой.
Софья Алексеевна вздохнула, она хотела сделать дочерей счастливыми, а на самом деле обездолила их – если бы деньги остались в золоте, семья на долгие годы была бы обеспечена.
– Не нужно расстраиваться раньше времени, – заметила Вера, и мать удивилась, что лицо дочери вновь стало безмятежным.
Вера поймала ее взгляд, и мысленно поблагодарила небеса: выражение спокойной уверенности у нее получилось как нельзя лучше. Она слишком хорошо понимала, сколько стоит их привычная жизнь в российских столицах, и у нее не было никаких иллюзий. Если она не сможет быстро найти хоть какой-нибудь выход из этой непростой ситуации, семья потеряет все, а ее сестры и будущее.
– Вы говорите, что часть денег отдана в рост? Мы заберем их с процентами, и все устроится. Боб сказал вам, у кого из ростовщиков он разместил свои деньги?
– Нет, дорогая, я не знаю, он не вдавался в подробности. Может быть, мы найдем расписки в его бумагах?
– Но ведь кабинет обыскали, а документы изъяли, боюсь, что там уже ничего нет, – напомнила Вера.
– Да, я совсем забыла… Но мы обязательно спросим у него, когда увидим. Ведь мне не могут отказать в свидании с сыном!
Прочитав бумагу, где одним росчерком пера их сделали нищими бродягами, Вера не была в этом уверена, но ободряюще кивнула и согласилась:
– Конечно, мы спросим у него, и все узнаем.
Но вдруг пришедшая мысль заставила забиться ее сердце, и, боясь вспугнуть удачу, Вера тихо спросила:
– Кстати, вы рассказывали мне, что московский дом дедушка подарил вам уже после замужества.
– Да, а какое это теперь имеет значение?
– Значит, он писал дарственную?
– Так и было, она хранится в кабинете за вашим портретом.
Вере вспомнился написанный еще до войны портрет маленьких графинь Чернышевых в виде трех амуров. Чудом уцелевший во время пожара двенадцатого года он теперь закрывал дверцу железного ящика, вмурованного в стену кабинета по окончании ремонта дома. Мать всегда хранила там самые важные документы семьи.
– Вот и замечательно – значит, дом не входит в приданое и принадлежит лично вам, хоть это у нас осталось, – объяснила Вера.
Графиня просияла.
– Боже мой, Велл, какая же ты умница! Я даже не подумала об этом. Значит, у нас осталась крыша над головой?
– И есть деньги, просто нужно найти того человека, которому они отданы. Давайте все же поищем в кабинете брата, вдруг мелькнет хоть какая-то зацепка. Деньги всегда оставляют след, значит, мы их найдем. Может, я пойду и посмотрю, что творится с бумагами Боба, а вы с девочками поедете к бабушке? Она ведь уже заждалась.
– Так и сделаем, – согласилась графиня и слабо улыбнулась. – Что бы я без тебя делала?
– Но ведь я есть. Зачем еще нужны дочери?
Мать сжала тонкую руку Веры и довела ее до дверей кабинета. Дочка права: давно пора ехать к тетке, и если бы не ужасная, выбившая её из колеи бумага графиня никогда бы об этом не забыла. Ну ничего, тетя простит – она же ей все и всегда прощает…
Отправив мать, Вера осталась одна посреди разоренного обыском кабинета брата. Слуги кое-как собрали с пола разбросанные вещи, но бумаг на виду не было. Это казалось плохим знаком, похоже, жандармы увезли все. Вера выдвинула ящики письменного стола и поняла, что права. Их шансы выправить положение семьи таяли на глазах.
«Вот и нет у нас приданого», – поняла она.
За себя Вера не волновалась, она, наоборот почувствует облегчение, когда ее многочисленные кавалеры устремятся на поиски других невест, но вот сестры… За них она с радостью отдала бы жизнь. Перед ее внутренним взорам встали милые лица сестер и исхудавшее – матери. Кто им еще поможет, если не Вера?
– Я обязательно что-нибудь придумаю, – пробормотала она, и тут же, закрыв глаза, повторила громче, уже как заклинание: – Я должна это сделать, и я сделаю.
Софья Алексеевна приказала подать сани и решила взять с собой только Надин, а младшую дочь оставить дома. В Москве Любочка в каждую свободную минутку оказывалась около фортепьяно, и теперь она с удовольствием помчалась в гостиную к большому концертному инструменту, выписанному братом из Англии специально для нее. Софья Алексеевна переоделась в подходящее для визитов шелковое лиловое платье, французскую шляпку и соболью шубу. Теперь нужно выглядеть даже лучше, чем всегда. Она никому не позволит себя жалеть! Впрочем, по-другому и поступить нельзя: свет жесток – беднякам и изгоям никто не помогает.
Графиня заглянула в комнату Надин и убедилась, что дочка уже готова. В ярко-голубом бархатном платье, оттенявшем ее глаза и волосы, и того же цвета шляпке Надин была чудо как хороша. Горничная помогла ей надеть соболью шубку. Надин застегнула крючки и завязала под пушистым воротником бант шелкового шарфа.
– Мама, я готова! Мы можем ехать, если вы хотите, – сообщила она.
– Да, поехали. Тетя уже давно ждет.
На улице сильный мороз сразу же защипал им лица, серьги через пару минут превратились в ледышки и неприятно холодили уши. Надин прижалась к матери и спрятала руки в ее большой собольей муфте.
– Мама, я все знаю, мне Велл рассказала, но прошу, не нужно расстраиваться, мы обязательно что-нибудь придумаем, – ласково прошептала она. – Вот увидите, мы справимся, и Бобу поможем. И мужья у нас будут самые лучшие без всякого приданого!
Графиня чуть не заплакала. До чего же прекрасны ее храбрые дочери, и как они наивны!
– Ох, милая, жизнь – очень жестокая штука, – шепнула она, – боюсь, что без приданого вам будет трудно рассчитывать на хорошие партии, а тем более после того, что случилось с вашим братом. По крайней мере, не в ближайшее время.
Надин фыркнула:
– Ну, уж нет! Обещаю вам, что сделаю самую блестящую партию в этом сезоне. Самый богатый, знатный и красивый жених достанется мне.
Софья Алексеевна вздохнула:
– Я буду очень рада…
Ей не хотелось раньше времени разочаровывать дочку. Зачем это делать, если жизнь сама все скоро расставит по местам? Она замолчала, уйдя в себя, а Надин, подбодрив мать, тоже затихла.
«Интересно, кто в этом сезоне самый богатый и знатный жених? – задумалась она. – Наверное, какой-нибудь высокомерный болван, а значит, его можно будет поймать на крючок, вот и все дела».
На какие крючки ловятся выгодные женихи, Надин пока представляла смутно, но это казалось ей слишком незначительным обстоятельством, чтобы принимать его во внимание. Она принялась строить наполеоновские планы и была даже разочарована, когда они прибыли к подъезду дома Румянцевых на Мойке. Софья Алексеевна откинула медвежью полость и поднялась на крыльцо особняка, Надин поспешила за ней. Дверь тотчас же открылась, и, войдя в вестибюль, они узрели возмущенную Марию Григорьевну. Та, сгибаясь под тяжестью длиннополой ротонды с тремя пелеринами, раздражено ходила из угла в угол, покачивая в такт шагам огромным беретом с аметистовой пряжкой.
– Где вы провалились, голубушки? – сердито спросила она вошедших вместо приветствия. – Я договорилась о визите к Наталье Кирилловне, а вас все нет. Экипаж во дворе, садитесь скорее, а то совсем опоздаем, и она ляжет отдыхать.
– Извините, тетя, просто случилось непредвиденное событие, – отозвалась Софья Алексеевна.
– Все в экипаже расскажешь, поехали, – заторопилась Румянцева и пошла впереди племянницы и внучки к выходу во двор.
Там ожидал запряженный тройкой большой экипаж. Привезенный когда-то из Франции он прослужил, наверное, уже лет тридцать, но по-прежнему выглядел блестящим и ухоженным. На колеса поставили полозья, а кучер и лакей по-зимнему приоделись в толстые шинели. Женщины уселись, и карета повезла их к законодательнице столичных мнений Наталье Кирилловне Загряжской. По дороге графиня успела сообщить тетке о полученном документе и о том, что они с Верой придумали.
Мария Григорьевна сразу же предложила:
– Переезжайте ко мне. Ты и так – моя наследница, а девчонкам я каждой приготовила подарок к свадьбе: Велл – поместье в Полесье, а двум другим дам денег.
– Спасибо, тетя. Но как же мы повиснем камнем на вашей шее?.. Хотя вы даете мне надежду, что мы сможем выдать девочек замуж…
– Что вы говорите, мама? – вмешалась оскорбленная Надин. – Мужчины должны сами добиваться нашей руки, без всяких денег. Я выйду замуж без приданого, обещаю, бабушка может потратить свои деньги на что-нибудь другое.
Раздражение Марии Григорьевны наконец-то выплеснулось наружу:
– Не нужно учить меня жить, – отрезала она, – ты подрасти сначала, а потом станешь нам с матерью советы давать! …Кстати, мы уже подъезжаем. Не болтайте лишнего в присутствии слуг…
Графиня Румянцева дружила с Загряжской ровно с тех пор, как обе они стали фрейлинами у императрицы Екатерины Великой. Эту дружбу не поколебали ни смена царствований и веяний при дворе, ни ревность, что иногда возникала между лучшими подругами, ни взбалмошный характер Натальи Кирилловны. Может быть, так вышло потому, что Румянцева все подруге прощала, оправдывая ее выходки физическим увечьем, ведь Загряжская была от рождения горбата. Кто поймет?.. Тем не менее, красавица Мария Григорьевна так и осталась в девицах, а некрасивая Наталья Кирилловна вышла замуж, и теперь доживала свой век в семье дочери – графини Кочубей. В доме зятя она занимала отдельные апартаменты, и все в столице знали, что именно в ее гостиной играют по-крупному.
Софья Алексеевна, бывавшая в этом доме еще во времена своей юности, отлично знала дорогу, поэтому отпустила лакея и осторожно повела тетку по лестнице на второй этаж к кабинету Загряжской. Постучав, они вошли в маленькую комнату, плотно заставленную массивной мебелью красного дерева, где в это время дня принимала личных гостей Наталья Кирилловна. Сейчас та сидела в кресле у окна, раскладывая пасьянс на старинном инкрустированном столике.
– Мари, Софи! – с восторгом вскричала она, поднимаясь навстречу вошедшим, и Софья Алексеевна с грустью заметила, что старушка совсем исхудала и окончательно согнулась. – Наконец-то вы ко мне приехали. А это кто? Верочка?
– Тетя Натали, позвольте представить вам мою дочь Надежду, – поправила ее графиня, привычно называя Загряжскую так, как и тридцать лет назад.
– Надин, Бог мой! Как ты выросла, девочка, стала настоящей красавицей!
Девушка сделала изящный реверанс и улыбнулась старушке.
– Моя Мари хотела посмотреть на твоих дочек, Сонюшка, думала, что ты всех трех привезешь, – сообщила Загряжская.
Она позвонила в серебряный колокольчик, и приказала мгновенно появившейся горничной, чтобы та отвела барышню к хозяйке дома. Выждав, пока за девушкой закроется дверь, Загряжская повернулась к Софье Алексеевне и предложила:
– Софи, расскажи мне все. Ничего не пропускай, сейчас любая мелочь может оказаться важной.
Графиня кивнула, соглашаясь, собралась с мыслями и начала свой рассказ с того ужасного дня, когда сын вернулся из Английского клуба, и закончила сегодняшними событиями.
– Вот так обстоят дела, – грустно признала она, – у нас остался только московский дом, да деньги, отданные неизвестно кому, а мой сын, скорее всего, сидит в крепости. Я ничего о нем не знаю и даже не понимаю, к кому обратиться. Моя надежда только на вас, да на Александра Чернышева, он при покойном императоре был в большой чести.
Услышав последнюю фразу, Загряжская чуть не подпрыгнула от возмущения:
– Ну, ты даешь, мать моя! Ты с кем меня равняешь? Да этот Чернышев – настоящий подлец! Я вчера ему от дома отказала – написала письмо, что больше его не принимаю, посмотрим, где он теперь играть будет. Ни у кого больше таких ставок нет, как у меня.
– Но почему, Натали? – поразилась Румянцева, – ты что, поймала его на шулерстве?
– Бери выше! Вы знаете, что моя дочка – статс-дама, да к тому же в большом фаворе у императрицы-матери? Так вот, Мари вчера вернулась из Павловска вне себя от изумления. Государыня сама рассказала ей, что Чернышев подал императору бумагу, где попросил пожаловать ему майорат и графский титул Захара Чернышева, арестованного за участие в восстании. Императрица дала понять, что она посоветовала сыну не принимать такого решения второпях, ну, а я раздумывать не стала и сразу сообщила этому наглецу, что ноги его у меня больше не будет!
– А что, графа Захара уже осудили? – обомлела Софья Алексеевна, сразу подумав и о своем сыне. – Разве такое возможно без решения суда?
Загряжская проворчала:
– Никого еще не осудили, иначе я бы знала, такой слух мимо меня не прошел бы. Создана комиссия, где первую скрипку играет как раз этот самый мерзавец Чернышев. Еще там заседает Бенкендорф, брат жены посланника в Лондоне Долли Ливен, но я его почти не знаю. Туда же включили Мишеля Сперанского. Ходит слух, что заговорщики хотели привлечь его на свою сторону, назначить в правительство, когда победят. Вот новый император и проверяет его лояльность, заставляя судить тех, кто его так высоко ценил.
– Да ведь это же – настоящее иезуитство! – всплеснула руками Мария Григорьевна. – Как так можно? Какая жестокость!
– Это – жизнь, со всеми своими неприглядными сторонами, в том числе со злопамятностью и подлостью, – возразила ей старая подруга.
– И что? Вы думаете, что он сможет осудить таких, как мой сын, тех, кого даже не было в столице во время восстания? – испугалась Софья Алексеевна.
– Я не знаю, дорогая, – вздохнула Загряжская, – но помочь тебе встретиться со Сперанским не могу – он нигде не бывает. А вот с командиром своего сына ты сегодня сможешь поговорить. Я знаю, что он должен был приехать к Кочубею, и попросила зятя привести его ко мне. Пусть командир тоже замолвит словечко за своего офицера.
Радость окрасила румянцем бледные щеки графини.
– Ах, тетя Натали, а я не догадалась попросить о помощи командира кавалергардов, – призналась она. – Какая прекрасная идея!
– Погоди радоваться, будешь меня хвалить, когда что-нибудь получится.
Громкий стук в дверь прервал их разговор. Загряжская пригласила гостей войти, и в дверях сначала появился сам Виктор Павлович Кочубей – высокий, все еще стройный, с красивой седой головой, а за ним вошел очень рослый человек в белом мундире кавалергарда.
– Маман, выполняю вашу просьбу и представляю вам князя Платона Сергеевича Горчакова, командира лейб-гвардии Кавалергардского полка, – объявил Кочубей. Потом он заметил, что теща в комнате не одна и, узнав присутствующих дам, воскликнул: – Софи, Мария Григорьевна, рад вас снова видеть в нашем доме! Позвольте мне познакомить и вас с Платоном Сергеевичем.
Он назвал гостю имена обеих дам и вопросительно глянул на Загряжскую, ожидая подсказки, что делать дальше. Старушка поднялась с кресла и, уцепившись за руку зятя, попросила:
– Отведи меня, голубчик, в гостиную, там, наверное, уже новые колоды разложили. Мою подругу тоже не забудь, предложи ей другую руку, а то как бы мы с ней не попадали – года наши уж больно сильно нас к земле тянут.
Она бросила острый взгляд на Румянцеву, и та с готовностью встала. Хозяин дома почтительно вывел старушек из комнаты, а оставшийся наедине с Софьей Алексеевной гость предложил:
– Позвольте мне, сударыня, проводить и вас. Я, правда, не знаю, куда идти, но надеюсь, что это недалеко.
– Прошу, уделите мне пару минут, я не задержу вас надолго, а потом покажу, где находится гостиная.
– Пожалуйста…
Графиня собралась с духом и объяснила:
– Вы, наверное, не поняли, что я – мать Владимира Чернышева. Мой сын служит под вашим началом. Я приехала в столицу, чтобы помочь ему. Когда произошли эти печальные события, Владимир был в Москве, он не участвовал в восстании. Помогите мне донести эти простые истины до тех, кто занимается делом арестованных, тогда мой сын выйдет на свободу и вернется домой.
Горчаков молчал. По мере того, как говорила Софья Алексеевна, он все сильнее мрачнел, и графине, наконец, показалось, что лицо ее визави превратилось маску скорби. Но его ответ не заставил себя ждать:
– К сожалению, сударыня, я совсем не тот человек, слова которого в данном случае могут оказаться полезными. Вместо помощи я принесу лишь осложнения. Единственное, могу подсказать, что всем в комиссии заправляет ваш дальний родственник Чернышев. По крайней мере, свидание с арестованными нужно просить у него. Надеюсь, что вам он не откажет. Сейчас же позвольте мне откланяться, передайте мои извинения мадам Загряжской, а с Виктором Павловичем я свои дела уже закончил.
Горчаков поклонился остолбеневшей Софье Алексеевне и вышел.
«Вот и началось гонение света на нашу семью, – поняла графиня, – теперь так будут поступать абсолютно все. Никто не станет мне помогать».
Она добрела до гостиной, где в двух словах сообщила тетке и Загряжской, что ничего не получилось, и командир кавалергардов отказался хлопотать за своего подчиненного.
– Надо же, Горчаков производит впечатление приличного человека, хотя сам – обычный трус, – с горечью заметила Румянцева.
– Я не могу осуждать его, тетя, боюсь, что в свете найдется мало желающих помочь бедным офицерам, виновным лишь в том, что были по-юношески наивны.
У Софьи Алексеевны не осталось сил что-либо обсуждать. В гостиную привели Надин, и расстроенные женщины тут же уехали. В молчании добрались они до особняка Румянцевых. Мария Григорьевна не стала настаивать и отпустила племянницу с внучкой домой. Но воспоминания о сегодняшнем разговоре все время мучили ее, почему-то старушке казалось, что князь Платон действует по указке Чернышева. Вроде бы Горчаков выглядел достойно. Чем же зацепил его генерал-лейтенант, если князь Платон забыл о порядочности и чести? Да если рассказать о его поступке в свете, Горчакова перестанут принимать! Или теперь не перестанут? Вдруг сочтут его поведение разумным? Старая графиня огорченно вздохнула, и Бунич, как обычно развлекавший ее за ужином забавными рассказами, замолчал и шутливо поднял вверх обе руки:
– Сдаюсь, драгоценнейшая Мария Григорьевна. Сегодня мое остроумие не находит отклика в вашей душе. Не стану надоедать, ведь я вижу, что вы сильно озабочены. Может, я смогу хоть чем-нибудь помочь?
– А ведь действительно сможешь, дружок! Напомни мне, наша с тобой соседка Катя Обольянинова не за князя ли Горчакова замуж вышла?
– Да, за него. С чего это вы про нее вспомнили?
– Да, похоже, я с сынком ее нынче беседовала, – поморщилась Румянцева, – редкостным поганцем оказался этот князь Платон.
– Ну, а чему вы удивляетесь? Какая семья – таков и сын. Если в этом семействе не было ни чести, ни достоинства, какими могли вырасти дети? Припомните, чем кончилось замужество нашей соседки!
– А ведь действительно, – откликнулась Румянцева, вспомнив уже подзабытую историю, всколыхнувшую когда-то всю столицу. – И как же я об этом запамятовала? Если бы знала, не стала бы вовсе с Горчаковым разговаривать. Спасибо, что раскрыл мне глаза. Надо же, действительно, яблоко от яблони… Впрочем, может я и ошибаюсь. Чужая душа – потемки…
Человек глядел из темноты. Так было даже лучше, ведь девушка двигалась в круге света – как на сцене. Он различал мельчайшие складочки на ее платье, тонкую оборку кружевного воротника, каждую прядку, закрученную в тугие локоны, и, конечно же, он видел ее лицо. Как можно осязать, не прикасаясь? А он мог! Он видел белоснежную, как молоко, кожу, и кончики его пальцев начинали дрожать лишь от предвкушения прикосновения. Он знал, что под пальцами заструится бархатистое тепло, а черные локоны окажутся, наоборот, холодными и шелковистыми. А какой изумительный рот дала ей природа! Нижняя губа – как будто слегка припухшая – очерчена идеальной дугой, а верхняя изогнута четко прорисованным луком. Упоительное наслаждение – «рахат-лукум».
Девушка ходила рядом, она не видела его и не боялась темноты. Похоже, что она вообще ничего еще в жизни не боялась, но это – беспечность молодости. Никто еще не показал ей, что значит власть мужчины, не дал знать, где ее место. Кровь в жилах человека уже кипела и звала сделать шаг из темноты и поразить свою жертву. В этом была великая справедливость, ведь на свете всегда есть лишь двое – охотник и жертва. Если ты не стал охотником, то непременно сделаешься жертвой. Этому его не нужно было учить. Зачем, если он и так родился великим?! Ну, а жертва его должна соответствовать силам охотника. Она такой и оказалась – великолепной.
Человек сделал шаг и ступил за грань темноты. Девушка заметила мелькнувшую тень и кинулась прочь. За ней! Куда она бежит? К дверям? Неужто они не закрыты? Ну ничего, он бегает быстрее. Дверь распахивается, и его жертва вылетает из дома. В два шага добегает он до двери и вновь толкает ее. Зимняя ночь кидает ему в лицо пригоршню снега. Хорошо, что идет снег, беглянка сразу сбавит темп. Но где она? Лакированный бок экипажа закрывает обзор. Сейчас он обогнет карету и увидит свою жертву, но и этого не нужно: экипаж трогается с места и отъезжает. Однако улица пуста, и девушки больше нет! Он кидается вслед экипажу, но серая тройка летит вперед, унося беглянку. Скорее, ее еще можно догнать! Человек несется так, что разрывается сердце, уже нечем дышать. В бессилии падает он в киснущий на мостовой снег … и просыпается.
«Экипаж! Дело в нем», – стучит в его мозгу. С этим нужно что-то делать, и раз так, то он сделает!
Глава 4
С этим нужно что-то делать, иначе он сойдет с ума!.. Князь Горчаков застегнул медвежью полость саней и велел трогать. Он все никак не мог отойти от неприятного разговора. Милая дама – мать его молодого подчиненного Владимира Чернышева не поверила Платону и посчитала его тривиальным трусом, хотя он сказал ей истинную правду. Его заступничество не помогло бы ее сыну, ведь Платон уже обошел всех влиятельных людей столицы, прося за собственного младшего брата, оказавшегося в одной лодке и с сыном этой женщины, и со всеми остальными вольными или невольными участниками декабрьского восстания. Князь уже говорил со Сперанским, с Бенкендорфом и с Чернышевым, за этим же он приезжал и к Кочубею, зная, что новый царь уже предложил Виктору Павловичу вернуться к делам.
Только Кочубей обнадежил сегодня Платона, пообещав сделать все, что в его силах, дабы облегчить участь Бориса Горчакова, все остальные ответили отказом. Самый тягостный разговор получился со Сперанский, тот заглядывал ему в лицо безнадежными слезящимися глазами и тихо объяснял:
– Голубчик, ведь умышление на цареубийство карается по закону четвертованием, а все члены тайного общества по крайней мере обсуждали этот вопрос, они поголовно это подтвердили.
Платон тогда попытался объяснить собеседнику то, что казалось ему самому естественным:
– Михаил Михайлович, но ведь это – только разговоры, мой брат не участвовал в восстании, он находился в своем полку, и виновен лишь в том, что, будучи в столице, обсуждал с приятелями проекты реформ. Если бы это было серьезным, то Борис поделился бы со мной. Все молодые – идеалисты, моему брату всего двадцать три, он еще не видел жизни и свято верит в благородные идеалы. Пять-шесть лет – он остепенится и растеряет иллюзии.
Сперанский, вздохнув, возразил:
– По-человечески – все так, как вы и говорите, а по закону, не менявшемуся двести лет, выходит иначе. Я честно вам скажу, что формально избежать наказания невозможно, я надеюсь лишь на милосердие государя.
Платон не стал с ним спорить, а поспешил откланяться, поняв, что помощи у Сперанского не найдет. Бенкендорф отказал сухо, попросив не обращаться к нему с подобными вопросами. Чернышев же долго и с наслаждением расспрашивал Платона о том, что и когда говорил ему брат о своих взглядах. Потом, поняв, что Горчаков не скажет про арестованных ничего порочащего, генерал-лейтенант высокомерно сообщил, что следствие еще не закончено, и об участи преступников можно будет говорить после того, как будет объективно определена вина каждого. Осталось признать, что ничего-то Платон не добился, и только встреча с Чернышевым дала хоть что-то полезное: тот разрешил свидание с Борисом, и завтра утром Платон надеялся увидеть брата.
Он вновь вспомнил полупрозрачное лицо графини Софи. Ее голубые глаза с дрожащими слезинками смотрели на собеседника с надеждой, а когда он отказал, в глубине этих глаз мелькнуло отчаяние, а потом застыла безнадежность. Платон ясно читал все ее чувства по лицу, и вспоминать об этом было до боли стыдно.
«Нужно уходить в отставку! Какой я командир своим офицерам, если не могу их защитить? Они не простят, что я все свое влияние и связи направил на помощь собственному брату, а не подчиненному», – признал Платон.
Но как же можно выбирать? Борис – единственный родной человек, Малыш, младший из четверых детей когда-то счастливой семьи. Платон всегда обожал брата, а после того как под Бородино сложили головы Сергей и Иван Горчаковы, относился к Борису с отчаянной, почти отцовской нежностью.
«Я не уберег всех троих, вот жизнь и наказала меня за былую категоричность. Если бы мать сейчас спросила, кто же из нас был прав – я не знал бы, что ответить, возможно, под ее опекой с братьями ничего не случилось бы», – честно признался он самому себе.
Умом он понимал, что спасти жизни средних сыновей в беспощадном сражении двенадцатого года мать не смогла бы, но, может, она повлияла бы на их выбор, отговорив поступать в гвардию.
«Мы ведь с братьями, пока они были живы, никогда не говорили о матери, – вдруг отчего-то вспомнил Платон, – а теперь уже ничего нельзя исправить. Может, и Борис ничего не сказал о своем участии в тайном обществе, потому что считал меня жестким и сухим человеком? Но этого не может быть! Я всегда просто душил его заботой, надоедал с нежностями. По крайней мере, в моей любви он не сомневался».
Совесть подсказывала Платону, что, может, брат и не ошибался на его счет. Слишком уж властным и нетерпимым к критике стал командир лучшего гвардейского полка России Платон Горчаков. Никто его не одергивал, а наоборот – все заискивали перед ним. Но неужели это такой непростительный грех – немного упиться своим величием, если полк ты получил за легендарную храбрость и безупречную службу? Должно прощать слабости тех, кого любишь! Так почему же Борис промолчал? Не доверял?
Сани Горчакова остановились у построенного на Невском накануне войны красивого доходного дома. Платон снимал здесь третий этаж. Квартира из восьми комнат была для него одного велика, но он выделил три смежные комнаты для брата, и когда тот приезжал в столицу, в их холостяцкой квартире расцветал дух настоящего семейного дома.
Платон поднялся к себе, скинул шинель на руки ординарца и прошел в кабинет. Тихо гудела изразцовая печка, на столе горела лампа под зеленым абажуром, эту большую, самую любимую им комнату обволакивали тепло и уют, но Платона не оставляла мысль о том, что его младший брат сейчас сидит в холодном, как подземный ледник, полутемном каземате.
«Как он там выживает? – вернулась горькая мысль, и мучительные сомнения, в очередной раз склонили чашу весов в самом важном сейчас вопросе: – Наверное, пора написать матери. Она вправе узнать о том, что случилось с ее младшим сыном».
Платон прижался спиной к теплому боку печи, закрыл глаза и вспомнил последнюю встречу с матерью. Вся в черном, бледная, с полными слез глазами, княгиня Екатерина Сергеевна казалась даже красивее, чем всегда.
Черный шелк ее наряда оттенял белую как молоко кожу и смоляные волосы, а синие глаза матери так же сверкали слезами, как сегодня вечером у графини Чернышевой. Какие разные женщины! Одна – олицетворение любви к своему ребенку и преданности семье, а другая, погубив собственного мужа и осиротив четверых сыновей, устроила свою жизнь вдали от дома, и, по слухам, не бедствовала.
«Зачем мать связалась с этим немцем?» – с привычным раздражением подумал Платон.
Каждый раз воспоминания о событиях семнадцатилетней давности приносили чувство унижения, он – боевой офицер, генерал-майор так и не смог забыть обиду опозоренного и осиротевшего юноши. И время не имело власти над этим чувством! Теперь Платон понимал, что ошибался, считая родителей счастливой парой. Отец – обергофмейстер двора императрицы-матери, благородный и добрый человек – обожал свою молодую красавицу-жену, та же относилась к мужу с уважением и нежностью, а своих четверых сыновей, казалось, искренне любила. Розовые очки юного кавалергарда разбились, когда он получил известие о смерти отца на поединке.
Платон тогда не поверил, что такое возможно. Отец, уже пожилой, глубоко штатский человек не мог участвовать в дуэли – это казалось противоестественным! Платон кинулся в Павловск, где жили родители и младшие братья. Вбежав в распахнутые настежь двери родительского дома, он понял, что все – правда. Сергей Платонович уже лежал в гробу, установленном в зеркальном бальном зале первого этажа, а княгиня пребывала в полной прострации в своих комнатах наверху.
Платон сразу же направился к матери, но лучше бы он этого не делал. Увидев его, мать, рухнула на колени и стала умолять о прощении. Ее душа жаждала покаяния, и княгиня вывалила на сына все свои грешные тайны. Она просила у него прощения за то, что не была верна его отцу, чем сломала тому жизнь, и за то, что ее последний роман переполнил чашу терпения супруга, вызвавшего любовника жены на дуэль. Барон фон Остен, бывший, в отличие от своего противника, военным и отличным стрелком, убил князя Горчакова, а сам в тот же день написал рапорт об отставке и выехал в родную Курляндию.
– Почему вдруг, мама?.. – в ужасе спросил Платон. – Отец так любил вас, мы были счастливы.
– Дело во мне, я – порочная женщина… – рыдала княгиня, ударяя себя кулаками в грудь, – твой отец был святым, я – недостойная грешница, я тяготилась нашей жизнью, она казалась мне пресной и скучной. Я заслужила смерть! Пусть она придет и возьмет меня!
Ненависть, вскипевшая в тот миг в душе Платона, породила жестокость.
– Что это изменит? Это не вернет отца! – отрезал он.
Платон больше не хотел ни видеть мать, ни говорить с ней. С этой минуты он избегал их встреч и разговоров, что, впрочем, было несложно, поскольку княгиня не выходила из своей комнаты.
Отца похоронили торжественно, при большом стечении народа, панихиду почтила своим присутствием сама вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она повела себя подчеркнуто ласково с сыновьями своего погибшего обергофмейстера и не удостоила ни единым взглядом его вдову. На следующий день в дом принесли высочайшее повеление княгине Горчаковой покинуть столицу. Мать тогда впервые после своей ужасной исповеди обратилась к Платону. Виновато опустив глаза, она робко предложила:
– Я могу забрать мальчиков и уехать в Москву, а еще лучше – за границу. У Малыша слабые легкие, мы могли бы поехать в Италию.
Платона это взбесило. Она лишила его отца, покрыла семью позором, а теперь хотела отнять у него последнее – братьев. Собрав всю свою выдержку, чтобы казаться равнодушным, он проронил:
– Я не думаю, что вам стоит распространять вашу опалу на моих братьев. В будущем это может плохо сказаться на их репутации и карьере. Я стану им опекуном, а вы можете уехать.
Глаза матери налились слезами, а лицо ее расплылось в растерянной гримасе. Она изумленно уставилась на окаменевшее лицо своего старшего сына. Платон все понимал, но стоял столбом, не силах совладать с собственной болью. Княгиня повернулась и вышла из комнаты. На заре Екатерина Сергеевна простилась со старшими сыновьями, обняла еще спящего Бориса и уехала в Санкт-Петербург. В тот же день она отплыла в Неаполь. Через год мать прислала из Рима письмо, где сообщала адрес, куда просила посылать ей весточки о жизни и здоровье ее детей. В качестве получателя писем в адресе значилась графиня ди Сан-Романо. Так молодые князья Горчаковы узнали, что их мать не долго оплакивала свое вдовство.
Платон писал матери крайне редко. Письма, написанные им за прошедшие семнадцать лет, можно было пересчитать по пальцам. Екатерина Сергеевна этого как будто не замечала, ее послания приходили регулярно каждые два месяца и были полны нежности. Замолчала она только однажды, но почти на год, после известия о гибели под Бородино средних сыновей. Потом мать вновь стала писать, правда имен погибших детей не упомянула больше ни разу. А теперь в тюрьму попал Малыш!
«Что же делать? – вновь спросил себя Платон, – сообщать или нет? Если написать, мать изведется, а помочь ничем не сможет. Наверное, пока нет ясности, лучше погодить».
Понятно, что это – лишь отговорка, но он не мог преступить через гордыню и признаться матери, что не уберег и младшего. Почему так вышло? Может, все дело в большой разнице лет? Ведь когда Малыш родился, Платону уже исполнилось двенадцать. Неужели это так много, и они принадлежат к разным поколениям? Похоже, что так, ведь Горчаков лучше понимал несчастную мать своего подчиненного, чем собственного младшего брата.
Сегодняшнее унижение стало последней каплей, и, как лавина с горы, на Платона рухнула мучительная и безнадежная тоска. Если бы он смог найти нужные слова, то сейчас так не терзался бы. Душа рвалась все немедленно исправить: объясниться с Чернышевыми, рассказать, как сам обломал зубы и предостеречь от того же Софью Алексеевну. Вот тогда черная тоска отступит, и он вновь сможет смотреть в глаза своим кавалергардам.
Нетерпение гнало его из дома. Платон вспомнил, что мать его подчиненного была у Кочубеев вместе со старой фрейлиной Румянцевой. По крайней мере, та могла сообщить, где в столице остановилась Чернышевы. Приняв решение, Платон послал ординарца в конюшню за лошадями. Через полчаса, выглянув из окна, он увидел у подъезда свои сани, спустился вниз и велел ехать на набережную Мойки к дому старой графини.
До дома Румянцевых Платон добрался уже в сумерках. Выпрыгнув из саней, он предупредил кучера, что быстро вернется, и вошел внутрь. В большом вестибюле, слабо освещенном лишь пламенем свечей одного канделябра, не оказалось никого из слуг, а по широкой, ведущей на верхние этажи лестнице поднимались две дамы. Стройная девушка в темно-синем платье поддерживала под руку тяжело ступавшую старушку. Слуги отсутствовали, дамы уже почти поднялись на площадку меж этажами, и если бы они ушли, Платон попал бы в глупейшее положение – в чужом доме без возможности доложить о своем приезде хозяевам. Оставалось одно – окликнуть женщин, что он и сделал:
– Простите меня, пожалуйста, за поздний визит, но я ищу графиню Чернышеву.
Дамы, как по команде, повернулись, и Платон обомлел. С площадки полутемной лестницы на него смотрела мать, такая же, как в его первых детских воспоминаниях: высокая, с тонким станом, блестящими черными кудрями и очень яркими на белоснежном лице голубыми глазами. Ему вдруг померещилось, что не было ни ужасного разрыва, ни всех этих пустых, мучительных лет, и что он снова – любимый сын самой лучшей на свете матери … Его отрезвил сердитый старческий возглас:
– Зачем вам нужна моя племянница? Вы уже достаточно ее сегодня расстроили.
Чтобы отогнать наваждение и вернуться к действительности Горчакову пришлось даже тряхнуть головой. Он узнал в рассерженной старушке графиню Румянцеву и, собравшись с мыслями, ответил:
– Я хотел объясниться с ней по поводу нашего сегодняшнего разговора.
– Вы что, изменили свое мнение и решили помочь матери вашего подчиненного?
– Я не могу это сделать, но хотел бы пояснить, почему.
– Какая разница моей племяннице, какие у вас причины для отказа, результат будет тот же, – повысила голос старая графиня, и ее неприкрыто презрительные интонации покоробили Платона. – Не нужно нам ваших объяснений, а если вам требуется отпущение грехов – так это не к нам, это вам, сударь, в церковь нужно.
От такого явного оскорбления Платон остолбенел. Он еще даже не сообразил, что ответить, когда старуха распорядилась:
– Велл, проводи его светлость и закрой дверь на засов, мы сегодня больше никого не ждем.
Девушка спустилась по ступеням и с непроницаемым видом миновала Платона. Она потянула на себя массивную ручку входной двери и жестко заявила:
– Прошу вас уйти.
Взгляд красавицы выражал недвусмысленное презрение, и стало понятно, что она, как и старуха, не примет никаких объяснений и оправданий. Платон молча поклонился графине Румянцевой, а проходя мимо ее молодой компаньонки, пробормотал:
– Извините за беспокойство.
Ответа не последовало, Горчаков на мгновение задержался в дверях, вглядываясь в лицо девушки, так похожей на его мать. Та надменно вздернула подбородок, ее пухлый, чуть крупноватый рот сложился в брезгливую гримаску, а взгляд прозрачных глаз стал ледяным. Но чары рассеялись, и Платон понял, что эта высокомерная барышня просто похожа на ту женщину, которую он когда-то обожал. Глаза у его матери были ярко-синими, а у незнакомки они отливали необычным лиловатым блеском, и княгиня Горчакова, как бы она ни ошибалась в жизни, всегда оставалась живой и страстной, а эта безупречная мадемуазель казалась холодной, как ледышка. Не приведи бог оказаться рядом с такой моралисткой!
«Попробовал поступить по-человечески – и получил по морде, – констатировал Платон, усаживаясь в сани. – По крайней мере, я попытался, не хотят – не нужно».
Кучер тронул. Крупные хлопья медленно кружили в свете газовых фонарей, а за гранью световых пятен тьма казалась непроглядной, морозно-опасной, шагни чуть-чуть в сторону от золотистого светового конуса, и поглотит тебя черная мгла, как будто и не жил ты на свете. Именно это Платон теперь и чувствовал: свет в его жизни погас, а морозная чернота беспощадно выжгла душу. Так, может, это и хорошо, что у него нет больше глупых надежд? Зачем вообще было оправдываться? Кому нужны его покаяния и объяснения? Одни иллюзии!.. Да пропади оно пропадом – людское мнение!
Мороз прихватил щеки, Платон их растер, жестко, до боли давя кожу. Похоже, это подействовало: Он вновь почувствовал себя самим собой – офицером, командиром полка, мужчиной, наконец. Посещение обернулось ушатом холодной воды, но, видно, это было именно то, что ему сейчас требовалось: воля проснулась, а слабость исчезла. Он вернулся мыслями к собственным делам и больше не колебался. Горчаков решил, что завтра встретится с братом, а сегодня, не откладывая больше ни на час, напишет матери. Семнадцать лет назад он обещал, что станет опекуном своим младшим братьям, пришло время платить по счетам.
Впрочем, принять решение оказалось легче, чем его выполнить. Почти час просидел Платон над чистым листом, не зная, что и как писать. Это не стало для него новостью. Каждый раз письмо писалось мучительно, и те несколько строк, что в итоге выходили из-под его пера, оказывались язвительно-любезными. Прошло семнадцать лет, а рана по-прежнему болела, и лишь сегодняшняя встреча в доме старой графини что-то сместила в его душе. Эта надменная молодая девица оказалась так похожа на его мать, и в то же время была ее полной противоположностью. Ледяное презрение взгляда и то невозмутимое спокойствие, с каким красотка выпроводила его за дверь, взбесили Платона.
«Она ничего обо мне не знает, а берется судить, – распаляясь гневом, обвинял он незнакомку. – Какая наглость! Как можно выносить приговор лишь на основании суждения других, не дав человеку оправдаться, не выслушав, что он хочет сказать?!»
Ощущения оказались на удивление мерзкими. Сначала его посчитали трусом, потом подлецом, да еще и слабаком, нуждающимся в отпущении грехов. Хотя, если уж быть до конца честным, он действительно хотел, чтобы Софья Алексеевна простила его за то, что он, зная о неизбежности отказа, не захотел второй раз проходить через напрасные унижения.
«Могли бы и выслушать, для них же полезнее, – мысленно упрекал Платон дам Чернышевых. – Теперь их мать впустую пройдет через все круги ада».
Опять вспомнилось лицо надменной брюнетки. Если присмотреться внимательней, чертами она все-таки отличалась от его матери. У княгини Горчаковой нос был чуть вздернутым, а у сегодняшней незнакомки – классически соразмерным и прямым, но дело было не в этом, а в общем выражении лица. У его матери в глазах всегда плясали веселые искорки, а в уголках губ солнечным зайчиком теплилась улыбка, незнакомка же напоминала мраморную статую, и лишь лиловатый блеск прозрачных глаз говорил о том, что девушка живая, из плоти и крови. Такие величественные ходячие идеалы никогда не были во вкусе Платона. Если они и вызывали у него какие-либо чувства, так только безмерное раздражение. Кому интересны манерные ханжи? Уж точно не ему… Почему же тогда нынешняя оскорбительная сцена все никак не шла из памяти?
«Ну, и черт с ними, – злорадно утешил он себя, – им же хуже, пусть теперь это семейство хлебает свои неприятности полной ложкой. По крайней мере, могли бы поступить справедливо и человека, желающего им добра, выслушать».
Платон перевел взгляд с чистого листа бумаги на перо в своей руке и вдруг ужаснулся. А как поступил он? Не дал оправдаться собственной матери, не захотел поговорить с ней, не допуская даже мысли, что она могла полюбить чужого… Неужели все так просто? Ревность! В этом причина многолетних мучительных отношений?.. Так просто и так мелко! Да что он за человек, если даже два креста на кладбище Александро-Невской Лавры не пробудили его совесть?!
Платону показалось, будто у его ног разверзлась земля. Возможно, что он лишил своих братьев материнской любви, потакая собственной детской ревности. А мать – что она пережила вдали от детей?!
– Господи, прости меня, – борясь с отчаянием, пробормотал он. – Почему только сейчас, почему не раньше? Семнадцать лет, две смерти…
Ощущение катастрофы, как огонь, опаляло нутро. Стало больно дышать.
«Что же делать, что можно еще исправить? – заметался он. – Надо ехать в Рим, разыскать мать и привезти ее обратно».
Но остатки здравомыслия напомнили об аресте брата. Платон не имел права от него уехать, но мать могла бы вернуться сама, надо только написать ей правду.
«А если мама не сможет приехать? Ведь она теперь замужем, значит, не свободна в своих поступках, – вдруг вспомнил он. – Граф ди Сан-Романо может и не отпустить свою жену. Я бы на его месте не отпустил».
Платон попытался припомнить отрывочные разговоры возвратившихся из Рима знакомых. Именно оттуда черпал он скудные сведения о жизни своей матери. Семье ди Сан-Романо принадлежал старинный банк, и богатство их рода считалось баснословным. Говорили, что граф боготворит свою русскую жену, во всем ей потакает и даже согласился на то, чтобы в центре католической Италии его супруга осталась православной.
«На самом деле мне о матери ничего толком не известно, я питаюсь слухами, и точно знаю лишь то, что она жива, – с горечью признал Платон и взмолился: – Господи, прости меня за грех гордыни и помоги нам воссоединиться!..»
Он взял перо и впервые за семнадцать лет вывел на листе слово «мама». Как только это случилось, тяжкие цепи треснули. Строки сами ложились на лист, и через несколько минут письмо было готово. Платон перечитал его и запечатал. Он попросил прощения, ведь прошлого уже не вернуть, а мать сполна заплатила за свой грех. А он сам? Сможет ли мать простить его?.. Не запоздало ли это объяснение?
Глава 5
С чего это Горчаков решил с ними объясняться? Зачем он вообще приезжал?.. Расстроенная Вера так и не смогла успокоиться, но зато очень старалась сохранить внешнюю невозмутимость. К счастью, это у нее получилось. По крайней мере, бабушка ничего не заметила.
Вера убедилась, что бабушка удобно устроена в кресле у камина, и заняла свое место рядом. Мария Григорьевна под предлогом своего нездоровья вызвала внучку к себе. Но сейчас, вглядываясь в волевые черты меж кружевных оборок пышного чепца, девушка вовсе не замечала признаков недомогания, по всему выходило, что старая графиня просто хотела поговорить с ней.
«Она давно бы уже перешла к делу, если бы не этот незваный визитер», – поняла Вера.
Воспоминание о сцене в вестибюле вновь раздули уголья ее гнева. Нельзя сказать, что бы она чувствовала ненависть к непорядочному командиру брата, нет, скорее это стало для нее сильнейшим разочарованием. Ведь князь Горчаков не походил на обычных светских бонвиванов, тот казался совсем другим. Высокий, широкоплечий, с шапкой темно-русых кудрей он мог считаться эталоном офицера, а его четкое лицо с упрямым квадратным подбородком было не просто красиво, но и очень притягательно. Однако это олицетворение настоящего мужчины оказалось тривиальным трусом. Он побоялся замараться, помогая «бунтовщику». А то, что этот бедняга служил под его командованием, для героя-кавалергарда ничего не значило.
Вера сердилась на себя за то, что, увидев у подножья лестницы красавца в белом мундире, восхитилась им. Пока бабушка не задала свой вопрос, и Вера не осознала, что перед ней человек, так унизивший ее мать, она даже успела залюбоваться великолепным волевым лицом. Такого с ней еще не бывало! Для нее существовал лишь Джон, а остальных мужчин Вера, в общем-то, особо и не замечала, а тут повела себя не просто глупо, но и даже непорядочно.
«Вот дура, ей-богу, только что рот не открыла, – окончательно расстроилась она, – попасть под чары такого ничтожества – это уж нужно совсем себя не уважать. Никогда больше такого со мной не случится!».
Ее душевное самобичевание прервала графиня, та спросила:
– Ты догадываешься, зачем я тебя позвала?
– По крайней мере, я поняла, что вы не больны, – отшутилась Вера.
– Да, естественно, это был просто предлог. Я хочу обсудить положение семьи. Сонюшку не стоит тревожить, она – мать, ее мысли и сердце с тем ребенком, кому сейчас плохо. Надин – девушка с характером, но она слишком молода, да и темперамент такой, что бьет через край, а нам теперь нужны трезвость и спокойствие. Поэтому я и говорю сейчас с тобой.
– Я слушаю… – отозвалась польщенная Вера.
– Сегодня я окончательно поняла, что никто помогать нам не станет – все боятся за свою шкуру, но так уж устроены люди, ничего не поделаешь. Поэтому нам нужно обсудить, как мы в таких обстоятельствах станем выживать. Ты нашла в записях брата указания на то, кому он отдал деньги?
– Абсолютно ничего: бумаг просто нет.
– Значит, и вашего приданого тоже, – констатировала Мария Григорьевна, – плохо…
– Да уж! Мы смогли бы жить на эти деньги. У нас остался только московский дом, наверное, придется его продавать.
– Надеюсь, что до этого не дойдет, – твердо заявила старушка. – У меня есть два поместья во Владимирской губернии. Они приносят небольшой доход, но позволяют содержать этот дом, а также немного откладывать. Из этих денег я дам по пятнадцати тысяч приданого твоим сестрам. Это – достойная сумма, не слишком значительная, но приличная, а нам с твоей матерью еще останется кое-что на жизнь. Ну, а тебе я хочу отписать мое имение в Полесье.
– Что вы говорите, бабушка! – ахнула Вера. – Я не могу принять такой щедрый подарок, мы не в праве вас обирать из-за собственных невзгод.
Графиня сердито затрясла головой:
– Подожди отказываться. Это ты окажешь мне услугу: в двенадцатом году Наполеон дважды прошел через Солиту, там все сожгли. У меня был очень толковый управляющий Сорин, честный и знающий человек. Я разрешила ему не присылать мне денег, а все, что начнет зарабатывать поместье, вкладывать в восстановление. Прошло уже тринадцать лет, я знаю, что деревни давно отстроены – еще три года назад Сорин писал, будто приступил к восстановлению главного дома. А теперь мой управляющий болен, и за него вынуждена работать дочь.
– Я могу съездить туда и посмотреть, что к чему, – предложила Вера.
– Я и хочу, чтобы ты туда отправилась, но не для меня, а как хозяйка имения, – возразила графиня. – Я хорошо знаю твои таланты, представляю, как ты помогала матери в делах, и даже подозреваю, что большая их часть в последние годы лежала на тебе. Поезжай, Велл, бери имение в свои руки и добывай средства для семьи. До войны Солита приносила очень большой доход, я думаю, что ты сможешь все вернуть.
Вера не знала что и сказать. Разве может она злоупотребить душевным порывом бабушки и присвоить имение? Но ведь с другой стороны – это шанс! Мама, сестры, Боб, наконец… Она бы день и ночь работала для них… Весы в ее душе качнулись, решая, что же важнее порядочность или любовь… Еще мгновение, и Вера сделала выбор. Она поцеловала морщинистую руку бабушки и призналась::
– Наверное, вы правы. Спасибо за подарок, я восхищена вашей щедростью.
– Ты – храбрая девочка, дорогая, только тебе по силам такая ноша. Я рада, что мы с тобой договорились, – признала старая графиня. Она поднялась с кресла и предложила: – Уже поздно, помоги мне дойти до постели, да и сама ложись в голубой комнате, день выдался тяжелым.
Вера проводила старушку до спальни, помогла той лечь, а сама прошла в следующую по коридору комнату, носящую название голубой. Раздевшись, она легла и закрыла глаза, но недавний разговор слишком взволновал ее. Она пыталась представить огромное поместье, лежащее среди болот и лесов Полесья. Восстановлены ли поля, и что на них сажать? Климат там мягкий, должны хорошо расти травы, может, следует держать большое стадо, продавая молоко и мясо? Или лучше поставить на что-то другое? Пшеница хорошо растет южнее, а здесь, наверное, следует сажать рожь и овес.
«Зачем гадать? – мысленно попеняла она себе, – нужно поехать туда и во всем разобраться на месте».
А как же Джон?.. Неужели придется выбирать между ним и семейным долгом? А если и так, если придется принести свою любовь в жертву благополучию семьи?.. Сердце ужалила боль, и лицо Джона всплыло из-под черноты закрытых век. Как щемит сердце… Как же тяжело, когда тебя не любят!
Выбирать было не из чего, оставалось только принять жребий, брошенный судьбой. Вера всплакнула, и, как ни странно, ей стало легче, а потом незаметно пришел сон.
Утром следующего дня, когда старая графиня под руку с Верой только что спустилась к завтраку, в дом на Мойке приехала Софья Алексеевна с младшими дочерьми.
– Доброе утро, мои дорогие, – поздоровалась она, входя в столовую. – Я не дала девочкам позавтракать, слишком спешила, но надеюсь, что вы их покормите, а я поеду к Чернышеву.
Вера вгляделась в лицо матери, и ей показалось, что со вчерашнего дня графиня еще похудела, бледное лицо ее сделалось совсем прозрачным, а потухшие глаза с распухшими веками выдавали снедавшее отчаяние. Но Софья Алексеевна старательно улыбнулась и быстро вышла из комнаты. Ее дочери грустно переглянулись. Мать рвала им сердце, но что они могли сделать? Все были бессильны…
Графиня села в карету и приказала кучеру ехать на Малую Морскую в дом Чернышева. На самом деле она боялась, что дальний родственник откажется ей помогать. Она всю ночь взвешивала то, что узнала от командира кавалергардов, и то, что сказала Загряжская, и постепенно дело с арестом имущества ее семьи стало для Софьи Алексеевны проясняться. За полученным ею предписанием и прошением на имя государя о передаче титула и майората графа Захара стоял один человек – тот, к кому она сейчас направлялась.
«Он уже наложил лапу на наше состояние, потом предложит мне свое опекунство над моими дочерьми, а там захочет большего. Сам примется вершить судьбы девочек, выберет им женихов по своей воле, а к тому времени, когда решится участь моего сына, он свяжет нас по рукам и ногам» – горестно размышляла она.
Графиня почти убедила себя в правильности этих выводов, но все-таки сомнения у нее оставались, и ей очень хотелось обмануться в своих подозрениях. К тому же избежать встречи уже не представлялось возможным – свидание с сыном она могла получить только через Чернышева.
«Пора узнать правду», – решила она.
Пока экипаж катил по заснеженным улицам столицы, Софья Алексеевна почти физически ощущала, как утекает ее мужество, и когда лакей открыл ей дверь нового трехэтажного дома, облицованного гранитом двух оттенков – красноватого и серого, ее обуял ужас.
«Да я мать или нет?! Мой ребенок в тюрьме, а я чего-то боюсь… Стыдно!» – мысленно упрекнула она себя.
Графиня подобрала юбки и вошла в высокий вестибюль украшенный таким же гранитом, что и наружная облицовка: пол был красноватым, а колонны – серыми. Отметив про себя изысканную и явно дорогую отделку нового дома, Софья Алексеевна отдала лакею шубу и, представившись, заявила, что хотела бы видеть Александра Ивановича.
– Сейчас доложу, – пообещал лакей.
Графиня специально приехала так рано, чтобы заведомо застать Чернышева дома, теперь тот не смог бы уехать, не приняв ее или не отказав. Ждать ей пришлось долго, но вот на лестнице раздались шаги, и она увидела Александра Ивановича. Они не встречались лет двадцать, последний раз «кузен» приезжал в московский дом Чернышевых накануне своего отъезда в Париж. Тогда он находился в расцвете своей яркой красоты, а теперь как будто облинял. Хотя его фигура еще сохранила стройность, лицо уже начало оплывать, буйные черные кудри подернула седина, и лишь усы казались по-прежнему щегольскими, да темные глаза смотрели так же остро, как и прежде.
– Рад вас видеть, кузина, – заулыбался Чернышев, – Добро пожаловать. Мой дом так же всегда открыт для вас, как вы и мой незабвенный друг и тезка когда-то открыли свой дом для меня.
Он сжал руку Софьи Алексеевны сильными холеными пальцами и усадил ее на диван, а сам сел в соседнее кресло. Александр Иванович по-прежнему улыбался, но глаза его оставались холодными. Графиня уже не сомневалась, что на самом деле хозяин дома ей не слишком-то рад. Но терять было нечего, и она, кашлянув, чтобы голос звучал потверже, приступила к делу:
– Благодарю вас, Александр Иванович, за добрую память о моем муже, и позвольте мне обратиться к вам с просьбой. Вы знаете, что мой сын Владимир арестован по делу о восстании на Сенатской площади. Я этого не понимаю: он в восстании не участвовал – был со мной в Москве. Тем не менее, когда Боб захотел вернуться в полк и выехал в столицу, сразу по приезде его арестовали. Я ничего не знаю о том, где сейчас находится мой сын. Вы – член комиссии, ведущей расследование по этому делу, пожалуйста, объясните мне, как такое могло случиться.
Сразу же посуровев лицом, Чернышев строго заметил:
– Не все так просто, как кажется на первый взгляд, дорогая кузина. Среди арестованных нет ни одного человека, не принадлежавшего к тайному обществу, а его организовали с целью свержения божьей милостью данной власти. Заговорщики планировали цареубийство, а это – ужасное преступление!
– Мой сын не мог помышлять о таких вещах. Это для него исключено, даю вам слово! – сжав руки так, что побелели костяшки пальцев, поклялась Софья Алексеевна.
– Дорогая моя, вы – мать. Беспокоясь о вас, сын мог и не сообщить о своем вступлении в это преступное сообщество. Его могли втянуть обманом, он мог опасаться за благополучие сестер, поэтому вы ничего и не знали. Как говорят, самые близкие люди все узнают последними.
– Возможно, в том, что касается меня, вы и правы. Но мой Владимир – благородный человек, он – гвардейский офицер, и я уверена, что, разобравшись, комиссия оправдает его. Однако сейчас я прошу только об одном: помогите мне увидеть сына.
Чернышев вновь улыбнулся.
– Я не всесилен, но постараюсь вам помочь. Надеюсь, моего влияния хватит, чтобы выхлопотать для вас свидание. Я напишу, если это станет возможным. Куда мне прислать письмо?
Софье Алексеевне померещилось, что в его темных глазах мелькнула усмешка. «Кузен» показался ей большим жирным котом, играющим с придушенной птичкой, которой была она сама. Похоже, что все ее подозрения оправдались. С деланным равнодушием, чтобы собеседник не смог прочесть ее мысли по лицу, графиня объяснила:
– На имущество моего сына наложен арест, мы с дочерьми переезжаем к моей тетке графине Румянцевой, у нее есть собственный дом на углу набережной Мойки и Зимней канавки.
– Арест имущества? Я не знал!.. Наверное, Собственная канцелярия Его императорского величества подготовила предписания, минуя нашу комиссию, – удивленно покачал головой Чернышев. – Как жаль, кузина. Возможно, у вашей тети вам с дочерьми будет не очень удобно? Вы можете переехать в мой дом. Мы с женой пока одни, а дом большой и удобный. Я думаю, вам с девочками здесь будет хорошо.
– Благодарю за заботу, но мне не хотелось бы стеснять вас, да к тому же у тетушки огромный особняк, где она живет одна. Я – ее единственная наследница, поэтому мы с дочерьми будем у себя дома.
– Ну, не буду неволить, – развел руками Чернышев, – но помните, что вы и ваши девочки мне не чужие, эти двери для вас открыты в любой час дня и ночи, а я целиком нахожусь в вашем распоряжении.
Софья Алексеевна поняла намек и стала попрощаться. В сумраке экипажа она наконец-то вздохнула свободнее и отдалась своим мыслям. Подтвердились ли ее подозрения? Теперь она не могла уже ответить на этот вопрос однозначно. Александр Иванович, приглашая их свой дом, продемонстрировал несвойственное ему радушие. Но если бы она согласилась, он представлялся бы покровителем ее дочерей, а там и до опекунства недалеко. Имущество Чернышевых из-под ареста никуда не убежит, а подготовить мнение света не помешает, и кто это сделает лучше, чем сами барышни, встречающие гостей своего дальнего родственника в гостиной его дома…
«Похоже, все-таки, что именно дорогому «кузену» мы обязаны арестом имущества, – перебрав еще раз свои наблюдения и взвесив их, решила графиня. – Нужно посоветоваться с тетей и Велл. Не наломать бы дров».
Дочери и тетка ждали Софью Алексеевну в гостиной. Эта комната, с блеском обставленная еще во времена царствия молодой императрицы Екатерины, сейчас уже потеряла свое прежнее великолепие и напоминала увядшую красавицу, румянящую щеки поверх глубоких морщин. Парчовые занавески поистрепались, обивка мебели потерлась, а позолота на спинках диванов и кресел во многих местах облезла. Но Мария Григорьевна не замечала или не хотела замечать, что все в доме требует ремонта и обновления, ну, а теперь, при нынешнем положении дел, вряд ли такие траты пришлись бы ей по карману.
Увидев входящую графиню, ее дочери вскочили со стульев, а тетка бросила на нее вопросительный взгляд.
– Ну что, мама? – воскликнула Надин, – он согласен помочь?
– Он пообещал устроить мне свидание с Бобом. Еще он пригласил нас жить в свой дом.
– С какой стати? – удивилась Вера, – мы живем у бабушки. Мы не нуждаемся ни в чьей милостыне.
– Я сказала ему об этом, только не так до грубости прямолинейно, как ты. Сейчас мы не в том положении, чтобы настраивать против себя людей, тем более тех, кто может повлиять на судьбу твоего брата.
Вера заметно смутилась.
– Вы правы, мама, – повинилась она, – нужно выбирать выражения, но я не сдержалась, ведь пока вас не было, мы все обсудили и пришли к выводу, что именно этот замечательный родственник наложил арест на наше состояние, а теперь выжидает момент, когда его можно будет присвоить.
– Я тоже так думаю, но мне интересно, почему вы пришли к этому мнению?
– Я сообщила им то, что вчера услышала в гостиной Мари Кочубей, – вмешалась Надин. – Она рассказала мне и своей дочке, что сопровождала императрицу-мать в Зимний дворец к ее невестке и слышала, как Александра Федоровна плакала, пересказывая свекрови свой разговор с мужем. Молодая императрица попросила у государя милосердия к арестованным, а тот закричал на жену, упрекая, что она, как видно, забыла, чьих детей хотели убить, раз просит за злоумышленников. Император впервые в жизни накричал на жену, а ведь у Александры Федоровны после восстания случился нервный тик. Теперь, когда она волнуется, у нее трясется голова. Графиня Кочубей сама это видела…
– Бедняжка, – посочувствовала Софья Алексеевна и уточнила: – Но я не пойму, причем тут Чернышев.
– Вы не дослушали, мама! Графиня Кочубей сказала, что при дворе все уже сходятся во мнении, будто молодой государь разительно переменился после восстания. Императрица-мать намекнула невестке, что дело вовсе не в пережитом им потрясении. Она считает, что в окружении государя усилились два человека: Чернышев и Бенкендорф, и приписывает жесткое поведение государя именно их влиянию.
– Надин хочет сказать, что только эти двое могли добиться приказа об аресте нашего имущества, – уточнила Вера. – Бенкендорфу нет от этого никакой выгоды, а вот Чернышеву есть. Он же просил у государя титул и майорат графа Захара. То, что он приглашает нас в свой дом, это не просто так. Сначала он будет нашим благодетелем, потом – опекуном, а там и хозяином!..
В разговор вмешалась Мария Григорьевна:
– Девочка необыкновенно умна, я думаю, с такими способностями она поправит наши дела, – простодушно, как о давно решенном деле, заметила она.
– Как поправит? – поразилась Софья Алексеевна. – Тетя, о чем вы?
– Я подарила ей свою Солиту. Пусть Велл съездит туда, посмотрит, как идет восстановление, Бунич на первых порах ей поможет. Солита станет ей приданым, а младшие получат деньги.
Веру такой поворот разговора насторожил: не затем она собиралась ехать в Полесье, чтобы вновь отбиваться от надоедливых кавалеров. Она свой выбор сделала, а значит, пора объясниться с родными. Они должны принять ее решение!.. Была, не была! И Вера ввязалась в бой:
– Мама, я очень благодарна бабушке за подарок, только пусть это будет не приданым, а тем имением, которое станет кормить нашу семью, пока нет доступа к остальному имуществу. Я пока не собираюсь выходить замуж, и хочу работать на благо семьи. Если вы меня отпустите, я смогу уехать сейчас и уже через пару месяцев вернуться к вам с планом действий.
Софья Алексеевна рухнула в кресло. Она так привыкла к поддержке своей старшей дочки, что даже не представляла, как сможет ее отпустить. Но девочка права: если бы имение стало приносить доход – они слезли бы с теткиной шеи, та и так проявила необыкновенную щедрость. И еще – они смогли бы сохранить московский дом, где прошли самые счастливые годы их жизни… Боже, но как же она сама обойдется без дочки?
Осознав вдруг, что все смотрят на нее и ждут решения, графиня еле сдержала слезы. После долгой паузы она все же смогла сказа:
– Спасибо вам, тетя, за великодушие и любовь. Наверное, нам нужно отпустить Велл. Она права – быстро теперь ничего не получится, пока мы станем здесь обивать пороги, она успеет съездить в Солиту и вернуться. Только давайте отложим отъезд до тех пор, пока я не встречусь с Бобом. Чернышев пообещал мне это свидание.
Поняв, что отделалась малой кровью, Вера мгновенно согласилась:
– Конечно, мама, как скажете! Вы все не успеете даже соскучиться, а я уже вернусь. Осмотрю поместье, узнаю, как справляется с делами дочь управляющего, поговорю с соседями – и поеду назад.
– Хорошо, дорогая, ты всегда знала, что и как делать, тебя учить не нужно, – согласилась с ней мать, а потом, вернувшись мыслями к сегодняшнему визиту, призналась: – Относительно Чернышева у нас с вами мнения совпадают, он действительно нацелился на наше состояние. Если Боба объявят государственным преступником, все, чем он владеет, подлежит изъятию в казну. Но брат – ваш опекун и хранил ваши средства, можно было бы предъявить завещание вашего отца и потребовать вашу долю состояния. Это вправе сделать только опекун или муж. Вы все не замужем, поэтому Чернышев и метит в ваши опекуны.
– Значит, нужно срочно выйти замуж! – вмешалась Надин. – Тогда супруг одной из нас станет опекуном других.
Софья Алексеевна с изумлением уставилась на свою среднюю дочь. Глаза у той сверкали, румянец возбуждения окрасил белоснежную кожу, и Надин показалась графине красивой, как никогда.
– Наверное, это стало бы возможным, если бы кто-то из вас вышел замуж за богатого и влиятельного человека. Но мы – в опале, родовитые и влиятельные семьи не захотят такого союза.
– Да и приданое я могу вам дать не слишком большое, – поддержала племянницу Румянцева, – Надин, не строй несбыточных планов. Хуже нет разочарований, чем в сердечных делах.
– С чего вы взяли, что речь идет о сердце? Я говорю о трезвом расчете. Надо выбрать подходящего мужчину и женить его на себе.
– Дорогая, но ведь потом с ним придется жить до самой смерти, – возразила ей мать.
Но упрямого мула по имени Надин было уже не свернуть с дороги.
– Сейчас уже много случаев, когда люди разводятся, – отмахнулась она. – К тому же это – второй вопрос, сначала нужно выйти замуж. Велл начнет пахать и сеять для семьи, а я заполучу мужчину, который сможет отстоять наше приданое, а заодно и состояние. Согласны?
– Ну, если ты сама этого хочешь – я не против, – кивнула графиня, надеясь, что жизнь даст дочке урок, и та поймет все легкомыслие своей затеи, не успев наделать непоправимых ошибок. – Ищи мужа, только потом не жалуйся, что мужчина разбил твое сердце. Я тебя предупредила.
Человеку хотелось выть. Безмерное одиночество изгоя доконало его. Этот город снобов не принимал чужаков. Прекрасная и при этом отвратительно холодная имперская столица уважала лишь успешных, богатых и красивых. Здесь лгало все: колоннады дворцов, шумные проспекты, купола храмов. Считалось, что они построены для всех, ан нет: чужим там места не хватало. Взлети, достигни высот, тогда и приходи, а пока кроме болезненных уколов и широких спин более удачливых конкурентов ничего тебе здесь не положено.
Он должен немедленно найти такое место, где отдохнет его раненое самолюбие.
Он всегда любил природу, она спасет его и сейчас. Летний сад! Хотя какой же он летний, если засыпан снегом? Но все равно, там, среди ледяных аллей, он найдет покой. Вот и кружевное чудо – кованая решетка, а вот и ворота. Они открыты и зовут в заснеженную тишину. Человек ступает на девственно белый снег: ни одна нога еще не топтала этот сияющий зимний пух. Покой приходит в его душу, и он уже готов бесконечно кружить по этим ледяным аллеям.
Вот и развилка. Скульптуры спрятаны до весны в аккуратные ящики, на них тоже лежит снег. Он обходит такой ящик и сворачивает на соседнюю аллею. Тонкая женская фигура в крытой синим бархатом шубке маячит впереди.
«Она!» – кричит его память.
Человек летит вперед, но его топот гулко отдается в тишине аллей. Женщина впереди оглядывается, и восторг охватывает его: черные локоны выпущены из-под собольей шапочки, на высоких скулах раскраснелась от мороза белоснежная кожа. Это она – его жертва, обреченная, но все же ускользающая. Пытаясь спастись, она тоже бежит. Бог послал ему настоящее, горячащее кровь преследование. Ату ее!..
Он бежит все быстрее, расстояние между ними все сокращается, еще немного и он схватит жертву. Человек протягивает руку и хватает соболий воротник, но его пальцы скользят по блестящему меху. Он вновь пытается поймать жертву двумя руками, но не успевает: она пролетает сквозь открытые ворота, и кованные решетчатые створки захлопываются, больно ударяя его по рукам.
Звериный рык вырывается из его груди… и человек просыпается. Этот проклятый город сведет с ума кого угодно. Но он-то знает, что тоже не лыком шит, и обязательно найдет кривую тропинку, ведущую наверх. Не может быть, чтобы он не победил эту ледяную столицу! Он умрет, но станет любимцем этого города!
Глава 6
С глаз долой – из сердца вон! А ведь называли любимцем!.. Приходилось признать, что своего былого кумира столица Российской империи встретила на удивление холодно и равнодушно. Все еще числившийся министром иностранных дел граф Каподистрия был не просто разочарован, сказать по правде, это открытие его откровенно уязвило. Иоанн Антонович вдруг осознал, что здесь он больше никому не нужен. Можно было и не суетиться, не тащиться сюда из Женевы, где он прожил последние три года. Со дня его приезда прошла всего лишь неделя, но он уже засобирался обратно. Как все разительно изменилось после его негласной отставки в двадцать втором году. Не стало Александра I, а вместе с ним ушла и умная, виртуозная политика. Теперь все делалось жестко, примитивно и предсказуемо. Одно радовало – страну покинул Аракчеев.
«Временщик решал судьбы Европы… – с постоянным раздражением вспоминал Иоанн Антонович. – Но ведь теперь-то все кончилось! Господи, ну почему князья Ипсиланти не захотели подождать всего четыре года? Сейчас уже нет Аракчеева, и новый царь не смог бы проигнорировать мнение всей России, сочувствующей борьбе моей Греции против турок».
Это, конечно, были лишь предположения, но долгая жизнь в политике научила Каподистрию терпению и мудрости, что впрочем, на самом деле – одно и то же. Но братья Ипсиланти умели только воевать. Они наивно верили, что если с оружием в руках выступят против турок, то русский царь повернет всю свою огромную армию на помощь маленькой горстке православных храбрецов. Но этого не случилось. Александр I – победитель Наполеона – не мог спуститься со своего Олимпа и унизиться до рядовой войны с турками. Восстание, поднятое его соплеменниками, стоило Каподистрии должности министра: император окончательно к нему охладел, и хотя в отставку официально не отправил, но от дел удалил, предложив отправиться на лечение.
«Остается утешаться тем, что жалованье мне платили исправно, а я все отдавал на помощь нашим героям, – часто думал дипломат, – так что ружья, стреляющие сейчас в турок, закуплены на русские деньги. Жаль только, что в жизни все повторяется с завидным постоянством, и наивные князья Ипсиланти так похожи на русских офицеров, выстроившихся в каре на Сенатской площади. Те так же верили, что страна примет их благородные идеалы, так же надеялись, что власть падет перед ними ниц, и конец у этих героев – один, только русские идеалисты сидят в Петропавловской крепости, а Ипсиланти – в Терезине у австрияков».
Думать о потерях и поражениях не хотелось (какой смысл рвать душу из-за того, что невозможно исправить). Граф Иоанн посмотрел на часы – пора уже начинать приготовления к сегодняшнему ужину. О‑хо‑хо…
Каподистрия позвал своего камердинера-француза и поинтересовался, принесли ли из ресторана заказанные блюда.
– Да, ваше высокопревосходительство, – доложил тот, – прикажете накрывать?
– Пожалуй… Поставьте все бутылки на буфете, а когда гость прибудет, можете идти отдыхать.
Отвыкший от российских морозов Каподистрия пододвинул кресло поближе к камину и протянул руки к огню. Настроения у графа не было, а нынешний ужин представлялся ему пыткой. Сегодня он ждал человека, которого совершенно не желал видеть, однако почитал за честь принять его и, если надо, то и помочь. Неприятный осадок от их последней встречи так и не забылся, и лучше бы им вовсе больше не встречаться, но этого было не избежать, ведь Каподистрия знал, куда исчез граф Иван Печерский десять лет назад.
«Правильно я тогда не поверил, что парень участвовал в преступлениях своей матери. Не мог человек, героически боровшийся за свободу чужого ему народа, подсылать убийц к собственному брату. Так не бывает. Иван Печерский – благородный человек. Я в долгу перед ним за преданность нашей борьбе», – в очередной раз попытался убедить самого себя Иоанн Антонович.
Почему-то эта мысль не принесла ему ни благородного воодушевления, ни теплого чувства благодарности. Воспоминания об Иване Печерском – Вано, как тот называл себя сам, несли лишь горечь глубочайшего разочарования.
«В чем же дело? – в очередной раз попытался разобраться дипломат, – что вызывает такое тяжкое чувство?»
Видимо, дело было в нем самом: уж очень обидно было вспоминать, как он все сердцем потянулся к случайно встреченному на охоте молодому человеку, как попытался научить того жизни, считая себя старшим другом, почти отцом, и каким все это кончилось крахом. Вано оказался заносчивым, категоричным и совершенно необучаемым. Несмотря на все советы и запреты, он спровоцировал отвратительный скандал, распустив язык на приеме в министерстве иностранных дел. Его высказывания оказались высокомерными и глупыми, он умудрился оскорбить всех своих собеседников, и перед Иваном Печерским захлопнулись все двери.
«Так вот в чем дело! – вдруг осенило дипломата. – Я боюсь, что Вано вновь попросит моего покровительства еще для одной попытки войти в столичное общество. Но ведь теперь все предельно просто – я отошел от дел. Какой из меня покровитель для дебюта в свете? Пусть поищет кого-нибудь другого».
Впрочем, можно предложить визитеру денег или попробовать найти для него место. Правда, вариантов для этого просматривалось не много: по статской линии Печерский служить не мог из-за скверного образования, оставались армия или жандармы.
Бронзовые каминные часы с пляшущими нимфами пробили девять, и Каподистрия направился в столовую. Вот-вот должен был появиться его гость, и граф Иоанн хотел сразу же пригласить его за стол, чтобы побыстрее покончить с неприятным визитом.
В дверь неуютной казенной квартиры, все еще закрепленной за Каподистрией, постучали, по коридору процокали каблуки камердинера, Иоанн Антонович услышал невнятный диалог двух голосов, потом приближающиеся шаги, затем дверь распахнулась, и француз провозгласил:
– Ваше высокопревосходительство, прибыл граф Печерский.
Камердинер отошел в сторону, давая дорогу гостю, но тот не торопился, а замер в дверях, рассматривая поднявшегося из-за стола хозяина дома. Этот человек показался Каподистрии незнакомым: высокий, с жирноватой фигурой и тяжелым замкнутым лицом. В нем не осталось и следа от прежнего изящного черноглазого юноши – тот был красивым, а мрачная внешность нынешнего графа Печерского пугала тривиальной грубостью.
«Господи, что же с ним стало? – поразился Каподистрия, – он выглядит как трактирщик».
Привычка дипломата всегда сохранять невозмутимость выручила и на сей раз – грек улыбнулся и, протянув руку, двинулся навстречу гостю.
– Рад вас видеть, Иван Петрович, – гостеприимно провозгласил он, стараясь вести себя как можно дружелюбнее. – Мы не виделись лет десять?
– Почти десять, ваше высокопревосходительство, – подтвердил гость, пожимая его руку, – но вы совсем не изменились.
Каподистрия услышал в его интонациях льстивые нотки и удивился – раньше Вано был чужд подхалимажа, наоборот, он мнил себя пупом земли и не считал нужным заискивать перед сильными мира сего. Да, жизнь, видать, крепко потрепала старого знакомца!
Иоанн Антонович пригласил гостя к столу. Камердинер ловко разложил по тарелкам подогретые ресторанные ростбифы, налил в высокие бокалы шампанское и исчез. Каподистрия поднял свой бокал и предложил:
– Выпьем за нашу встречу, я только через три года после вашего отъезда узнал, что Александр Ипсиланти отправил вас с секретной миссией в Константинополь.
Губы гостя непроизвольно поджались, и Иоанну Антоновичу на мгновение померещилось, что перед ним мелькнул оскал цепной собаки, но Печерский тут же растянул рот в любезной улыбке и заметил:
– Наш общий друг не очень хорошо умел просчитывать свои шаги, поэтому и сидит сейчас в австрийской тюрьме, хотя мог бы уже получить корону Греции.
Опять начинался самый неприятный для Каподистрии разговор, и граф тут же сменил тему:
– Расскажите, как сложилась ваша судьба… Вы были с Ипсиланти в Молдове?
– Да, был. После боя у Драгошан, когда мы все потеряли, а наш вождь с братьями кинулся бежать к австрийской границе, я вернулся обратно. Мне пришлось скрываться. Вы же знаете, как отнеслась православная Россия к нашему общему делу.
Упреки графа раздражали, и Каподистрия перебил гостя:
– Вы хотите остаться в Санкт-Петербурге?
– Хотел бы, да только что я стану здесь делать? Не думаю, что без денег и связей меня примут в обществе, а мое участие в греческом походе вряд ли станет хорошей рекомендацией для принятия на службу.
– Наверное, не стоит афишировать ваше участие в греческой борьбе, – заметил Каподистрия, отметив про себя, что в присутствии гостя не решился назвать борьбу «нашей».
– Да уж, придется помалкивать, – согласился Печерский, – надеюсь, что это нигде не всплывет.
– А что бы вы хотели делать? Служить?
– Я умею лишь воевать, но я не служил в регулярной армии, а корнетом в тридцать лет не пойдешь.
Иоанн Антонович кивнул, соглашаясь:
– Да, это осложняет дело! Если только в жандармский корпус, там корнетов нет.
– Похоже, что мне выбирать не приходится. По статской линии я служить не могу, вы же знаете, как хромает мое образование, – раздраженно отозвался гость.
Каподистрия опустил глаза. В молодости Вано тщательно скрывал свое невежество, а сейчас, казалось, даже бравировал им. И графу захотелось поскорее закончить тяжкий разговор.
– Я попробую поговорить с Бенкендорфом. Ходят слухи, что затевается реформа министерства внутренних дел, похоже, что он в этом деле станет одним из главных действующих лиц. Я попрошу его, – пообещал Каподистрия, решивший, что перед отъездом он хоть что-нибудь сделает для человека, рисковавшего жизнью ради свободы Греции.
Слава Богу, что он нащупал решение! Теперь Иоанну Антоновичу оставалось перетерпеть ужин. Но все на свете, даже неприятные визиты, когда-нибудь заканчивается – пара часов и за гостем наконец-то захлопнулась входная дверь, а хозяин дома вздохнул с облегчением.
Письмо от графа Каподистрии принесли так рано, что Бенкендорф еще не успел уехать на службу. Он вскрыл конверт и прочел краткую просьбу о встрече, изложенную с элегантной почтительностью прежних времен. Александр Христофорович сразу же ответил, что, если гостю будет удобно, он ждет его в три часа пополудни, и отдал записку посыльному.
Бенкендорф еле успел к назначенному сроку: напольные часы – единственное украшение скудной обстановки его кабинета – как раз начали бить три, когда в глубине квартиры звякнул дверной колокольчик. Выйдя навстречу гостю, генерал с легкой завистью отметил, что хитрый грек, по-прежнему прямой и стройный, совсем не постарел.
– Милости прошу, рад снова вас видеть, Иоанн Антонович. Смотрю, вы все так же, молодцом, годы вас не берут, – заулыбался Бенкендорф.
– Спасибо, Александр Христофорович, – поблагодарил Каподистрия, засияв столь же широкой улыбкой, и вернул комплимент: – Вы тоже почти не изменились.
Бенкендорф проводил графа к двум парным креслам у маленького мраморного столика и предложил:
– Не желаете ли выпить? Рекомендую анисовую, моя супруга сама ее готовит. Или вина желаете?
Гость отказался:
– Нет, благодарю, я не хотел бы отнимать у вашего высокопревосходительства много времени. Позвольте мне сразу перейти к делу, из-за которого я вас побеспокоил.
– Слушаю…
– Александр Христофорович, вы знаете, что через пару дней новый государь подпишет мое прошение об отставке. Я уеду в Швейцарию и сюда больше никогда не вернусь, поэтому заканчиваю дела и раздаю долги. Один из них является для меня делом чести. Однажды благородный молодой человек спас меня, когда я, упав с лошади, получил серьезную травму. Я хотел бы помочь ему устроиться в жизни, но теперь уезжаю из России и не смогу больше ничего для него сделать. Я ищу для своего протеже скромное, но достойное место службы. Он не слишком образован, так что по статской линии ему ходу нет, но вот по жандармской стезе он вполне мог бы преуспеть. Я слышал, что вы после коронации получите назначение на это ведомство, и взял на себя смелость заранее попросить за своего друга.
У Бенкендорфа похолодели руки. Стараясь совладать с волнением, он напрягся, но мысли его метались, как ласточки перед грозой. Для него не было секретом, что слух, так однозначно озвученный графом Иоанном, уже циркулирует в столице, но если такой знающий человек, как Каподистрия, говорит назначении как о деле решенном, это что-то да значит. Только бы сохранить невозмутимость – не подтвердить, но и не опровергнуть предположения гостя! Александр Христофорович растянул рот в дежурной улыбке и полюбопытствовал:
– А имя у вашего протеже есть?
– Граф Иван Печерский.
– Это тот молодой человек, что лет десять назад на приеме в министерстве иностранных дел устроил скандал? – тут же вспомнил Бенкендорф. – Вы уж не обессудьте, на такие ситуации у меня память хорошая – служба требует.
Каподистрия невозмутимо подтвердил:
– Да, ваше высокопревосходительство, это именно тот безрассудный молодой человек. Но он вырос и поумнел…
– Возможно и так, – согласился Бенкендорф, – но дело-то не в этом. Я так понимаю, что вы тогда покровительствовали ему, а потом отказались от своих планов. Почему вдруг вы сейчас вновь вспомнили о нем? Что-то изменилось?
Он внимательно вглядывался в лицо Каподистрии, Что могло связывать рафинированного дипломата с примитивным, как куча песка, юнцом, чуть не устроившим драку на глазах всего света? Печерский, несмотря на свой графский титул, явно был всего лишь агрессивным дураком.
«Неужели дело в особых наклонностях?» – засомневался генерал.
Очень может быть, ведь грек так и не женился. Впрочем, по нему ведь не поймешь – спокоен, как гранит.
– Как вы помните, я уже несколько лет живу за границей, вот я и потерял Ивана Печерского из виду, а в этот мой приезд он сам разыскал меня и попросил о помощи, – объяснил граф и с изрядной долей сарказма добавил: – Я ни в коем случае не хотел бы обременять вас неудобной просьбой. Возможно, мой молодой друг найдет себя на военном поприще, я побеспокою господина Чернышева – он после коронации получит военное министерство. Прошу, ваше высокопревосходительство, простить меня за назойливость.
Вот оно! Как любил повторять великий корсиканец, удача следует за героями. Стоило лишь задумать толковую интригу против конкурента, как судьба тут же послала необходимое орудие. Просияв улыбкой, Бенкендорф, любезно заявил:
– О чем вы говорите?! Я рад оказать покровительство графу Печерскому. Пусть он завтра утром, часам к одиннадцати, придет сюда, и мы побеседуем.
– Благодарю, ваше высокопревосходительство, – зеркально отразив его улыбку, поклонился Каподистрия, – буду премного обязан.
Он поднялся и, пожав руку хозяина дома, откланялся, а Александр Христофорович вновь вспомнил о письме сестры. Видела бы его сейчас Долли, сразу бы взяла свои слова обратно! Как он лихо убил двух зайцев: оказал услугу влиятельному греку и, похоже, нашел-таки подходящего человека для собственных дел.
– Как забавно, – оценил он подкинутое жизнью решение и тихо рассмеялся, – грек привел мне «троянского коня». Ну и ну, черт побери!.. Со времен Гомера ничего в этом мире не изменилось.
Глава 7
Ну почему в этом мире ничего не меняется к лучшему? Неужели черная полоса так и не кончится, и жизнь так и останется беспросветной? Иван Печерский ненавидел этот жестокий мир, впрочем, гораздо хуже было то, что мир отвечал ему полной взаимностью. Каждый день Вано просыпался с ощущением, что воздух вокруг него пронизан невидимыми клинками. Не находя выхода, это чувство изводило его, лишало сил. Мерзкий червяк зависти, живший в его душе, пожирал Вано, требуя все новой и новой пищи, и затихал лишь тогда, когда Печерский видел чье-то унижение или горе, а еще лучше смерть. Но ведь подобные радости бывают не каждый день. Вот и получалось, что жил Вано, балансируя, между злобой и бешенством.
Печерский и сам не заметил, как скатился в такое состояние, а ведь десять лет назад он даже не знал, что такое ненависть, самым сильным его чувством было раздражение. Его причиной обычно служила мать, та, как глупая курица, вечно лезла с советами, указаниями и поучениями. Но с ней Вано никогда не переходил тонкой грани, отделяющей раздражение от злобы, пока не узнал о том, что не было секретом ни для кого в доме, кроме него самого. Его мир рухнул в тот миг, когда Вано услышал от душеприказчика графа Печерского, что отец ничего ему не оставил, поскольку точно знал, что младший сын графини Саломеи рожден не от мужа, а от ее любовника.
С тех пор Вано возненавидел собственную мать. Та стала первой в длинной череде ненавистных ему людей, а следующим там оказался ее любовник – абрек Коста. Этот необразованный, спустившийся с гор дикарь оказался настоящим отцом Вано, чем непоправимо замарал его самолюбие.
– Будьте вы оба прокляты, – не ленился повторять Печерский, вспоминая мать и уже покойного Косту.
Его крах, случившийся десять лет назад, целиком лежал на их совести, а вся его дальнейшая неудачная жизнь стала следствием того ужасного скандала. Потом Вано развесил уши и поверил восторженным речам греческих патриотов и попытался стать героем их освободительной борьбы. С тех пор он ненавидел даже название этой страны, и сейчас, когда князья Ипсиланти заживо гнили в австрийской тюрьме, Вано не мог без ярости слышать их имена. Эти аристократы были так горды, что восприняли как должное глупый порыв озлобившегося юнца. Они искренне считали, что служить им и их стране – уже честь для каждого. А те, к кому его послали? В Константинополе любой член тайного общества «Филики этерия» считал главным себя, и приехавший от князей Ипсиланти подозрительный русский нигде не пришелся ко двору. Сколько раз Вано давали понять, что не доверяют ему, сколько раз отказывали в крыше над головой и в деньгах, предлагая выпутываться самому. Совсем отчаявшись, он уже хотел вернуться в Одессу, и только случившийся как раз в это время поход Александра Ипсиланти с отрядом молодых этеристов на Яссы вновь поднял Вано на ступень борца за независимость Греции.
– Ваша светлость, я выполнил ваше поручение и вернулся, – доложил он Ипсиланти, догнав отряд повстанцев. – Я готов жизнь отдать за наше великое дело!
Однорукий князь сразу вспомнил молодого русского, отправленного пять лет назад с секретным поручением в сердце вражеской империи, он принял Вано, как родного брата, и целых четыре месяца граф Печерский проходил в советниках у нового властителя Молдовы. Но Ипсиланти оказались такими наивными и неосторожными, что все потеряли, а вместе с ними рухнуло и будущее Вано. Этого он им так и не простил, и не было за эти годы ни дня, чтобы он не пожелал греческим князьям самой мучительной смерти в тюрьме.
Печерский часто перебирал в памяти имена своих врагов и представлял, как они страдают, корчатся, гниют. Коста свое уже получил – его зарезала графиня Саломея. Мать всегда была отчаянной и отомстила абреку за них обоих, хоть ей и пришлось сбежать после этого убийства в горы Кавказа. Вано даже иногда задумывался о том, что мать можно и простить – она искупила свой грех. Или не нет? Разве можно искупить то, что она с ним сделала? Двадцать лет воспитывала в богатстве, рассказывала Вано, что он – русский граф, а потом выставила на посмешище! Разве он полез бы в столицу и вел бы себя так нагло, если бы знал, кто на самом деле его отец? Нет, мать простить было невозможно!
Мечты о мести стали для Печерского последней отдушиной. Настоящее казалось таким же безрадостным, как свинцовые, слезящиеся мерзкой моросью тучи над Невой. Даже нормальной зимы – с плотным, накатанным, скрипящим снегом – Вано не досталось: морозы ушли сразу после его приезда в столицу. Теперь, угрожая его единственным сапогам, под ногами чавкала грязь, а тонкая шинелишка никак не спасала от колючих порывов ледяного ветра. Столица, как и десять лет назад, не принимала его. Как же ему хотелось вскарабкаться повыше, хоть ногтем зацепиться за прежнюю жизнь, но связей не наросло, деньги растаяли, и даже из Демутова трактира приходилось съезжать. Вано нашел себе скромную квартирку – крохотный мезонин у старушки-вдовы, но ехать туда не хотелось до тошноты: с набережной Мойки – на Охту, уж очень это все напоминало прежний крах.
Печерский собрал вещи, но так не смог заставить себя сразу уехать в свое новое жилище. Чем сидеть там одному, да к тому же впроголодь, лучше уж в последний раз погулять по Невскому. Вано разглядывал витрины модных лавок, и зависть в очередной раз мутила душу. Почему кому-то – все, а ему – ничего?
За золотыми виньетками витринного стекла мелькнули изящные коробочки и искусно сделанные муляжи пирожных, и сразу же напомнил о себе голод. Вано стоял у порога кондитерской. Может, согреться горячим чаем? Да и булка пришлась бы кстати. Печерский толкнул дверь и вошел в маленький зал с длинной витриной и парой столиков. В кондитерской стояли всего три покупательницы, да к тому же они, похоже, пришли все вместе и теперь делали общие покупки.
Дамы не обратили на Вано никакого внимания, зато он их отлично разглядел и сразу понял, что все они совсем молоды, да к тому же – явно сестры, скорее всего погодки. Все три оказались красивыми брюнетками, а их одинаковые, крытые темно-синим бархатом собольи шубки подсказали Печерскому, что барышни – из богатеньких. Приказчик набирал для них конфеты и раскладывал по нарядным бонбоньеркам, не забывая предлагать новые сладости:
– То все дамские были, а не желаете еще и мужских взять? Вот, извольте глянуть, ромовые бутылочки.
– Действительно, Велл, может, и для Виктора Павловича купим? – спросила одна из сестер обращаясь к старшей.
– Нет, его сегодня дома не будет, – прозвучало в ответ. – Наталья Кирилловна говорила, что он должен встречаться с Каподистрией, а потом поедет в клуб. Не будем зря тратить деньги.
Сестры продолжали щебетать у витрины, но Вано их уже не слушал. Прозвучавшая фамилия не оставила его равнодушным. Вот и мелькнул его шанс, теперь уж он точно своего не упустит! Воротившись в трактир, Печерский написал письмо, и, надеясь на удачу, отправил его с посыльным по прежнему адресу. Через час он получил ответ, что его ждут к девяти часам. Десять лет назад граф Каподистрия считался воплощением всех добродетелей, а уж на понятиях о чести был просто помешан. Такие люди не меняются, значит, нужно сыграть на его благородстве. Сказано – сделано! Удача не оставила Вано – все вышло, как по писанному: граф Иоанн совсем размяк и пообещал помочь со службой.
На следующий день Печерский еще даже не соизволил подняться с постели в своем крохотном мезонине, когда принесли письмо. Граф Иоанн кратко сообщал, что переговорил с Бенкендорфом, и тот ждет Вано завтра к одиннадцати часам. Снизу был крупно выведен нужный адрес. Ну и ну! Первая половина дела выгорела на удивление удачно, стоило отпраздновать это событие, а заодно и развеяться. Подходящее для кутежа место Вано себе уже наметил. Вчера он вчера наведался в ближайший бордель, а, войдя, о не поверил своим глазам: – девиц там опекала Аза. Она постарела, оплыла, но не узнать бывшую приживалку своей матери Вано не мог. Ну, надо же! В последний раз он видел Азу десять лет назад в ярославском имении, а потом до него дошел слух, что приживалка сбежала и где-то сгинула. А вот, гляньте-ка, и вовсе она не пропала, а наоборот – живехонька. Вано вчера развернулся и сбежал, пока Аза его не заметила, застеснялся бедного своего вида, сдрейфил, но сейчас, когда все в его жизни переменилось, сам бог велел им повидаться. Кутить, так кутить! И Печерский поспешил в гости к старой знакомой.
Мадам Аза закончила обход своего заведения, она осталась довольна: все здесь было пусть не роскошно, но чистенько и вполне прилично: белье на постелях сменили сегодня утром, умывальники отмыли и в каждый из номеров занесли горячую воду. Хозяйка считала, что нет смысла шить девушкам наряды, раз они все равно постоянно раздеваются, и вышла из положения, обеспечив своих работниц муслиновыми сорочками и стегаными капотами – в сочетании с ярко-розовыми шелковыми чулками и кружевными подвязками это одеяние производило на мужчин самое нужное для дела впечатление.
Аза уселась в своем крохотном кабинете с круглым чердачным окном и только поднесла к губам чашку с чаем, прикидывая, сколько посетителей заглянет к ней сегодня, как ее отвлек стук в дверь.
– Мадам, к вам пришли, – пропищала из-за коридора одна из девушек. Дверь распахнулась, и на пороге кабинета появился мужчина.
Аза узнала его сразу, хотя от прежнего красавчика Вано Печерского не осталось и следа. Перед нею стоял крупный мужчина с жесткими бараньими кудряшками над широким оплывшим лицом, но тот так походил на абрека Косту, что ошибиться было просто невозможно. Вошедший разглядывал Азу, и недобрый блеск его глаз подсказал ей, что не следует обсуждать изменения в его внешности. Навидавшаяся в своей жизни всяких мужчин, Аза давно усвоила, что им можно говорить лишь то, что они хотят услышать, и сейчас она широко улыбнулась и воскликнула:
– Вано, дорогой мой, как я рада тебя видеть! Столько лет прошло – а ты все тот же, годы тебя не берут, не то что меня.
Ожидая ответной любезности, она кокетливо, по-девичьи покрутила головой, но визитер с ней неожиданно согласился:
– Ну, тебе же теперь все равно – ты замуж вышла, да и дети, говорят, есть.
– Двое, – буркнула оскорбленная Аза.
– Мальчики?
– Дочери, – все больше накаляясь от раздражения, ответила женщина, уже зная, какой последует комментарий. Она не ошиблась:
– Что же твой супруг не может тебе нормального ребенка сделать? Ты уже скоро рожать не сможешь, а сына до сих пор нет.
– Я с ним не сплю, он мне не ровня, – отбивалась Аза.
Вано издевательски заржал:
– Бордель содержишь, а все никак не забудешь, что была в родстве с княжеской фамилией? – подколол он и, наслаждаясь ее унижением, добавил: – Раз подлыми делами занимаешься, пора и гордость поумерить. Как там твоего муженька зовут?
– Алан Гедоев.
– Что он, разве не князь? – продолжал издеваться Вано.
– У него своя повозка и лошадь, он ходит с обозами на Кавказ, сейчас отправился в последнюю поездку по зимнику, но через месяц вернется. Могу тебя с ним познакомить.
– Отчего же, познакомь, может он мне на что-нибудь и сгодится, – согласился Вано и тут же хмыкнул: – Так ты без ласки маешься? Может, тебе помочь нужно?
Аза не раздумывая выпалила:
– Помоги, если не шутишь, ты знаешь, как я тебя всегда хотела.
– Хотела, да только спала с Костой, а не со мной!
– Я любила лишь тебя, но боялась твоей матери, потому и молчала. А с Костой я ни-ни! Тебя обманули…
Ожидая его решения, Аза застыла, но гость окинул скептическим взглядом ее лицо, грудь и, скривившись, кивнул на широкие бедра.
– У тебя всегда зад был как у крестьянки, а ноги – как у вола. А теперь ты совсем расползлась, давай мне кого-нибудь помоложе.
Господи, только не это! Неужели она упустит свой шанс? Впрочем, есть за что зацепиться: Вано всегда был брезгливым. Нежно, с интонациями юной шалуньи, Аза залепетала:
– Я – чистая, со мной ты никакой болячки не подцепишь, а девушки все после других мужиков… Зачем тебе рисковать?
Она не ошиблась, стрела попала в цель. Гость снизошел:
– Ну, коли так, раздевайся. Посмотрим, не забыла ли ты старые штучки. Еще помнишь, как Косту ублажала? Можешь врать сколько угодно, он сам мне хвастался, и советовал тебя во все дыры попробовать.
Решив не спорить, Аза принялась медленно раздеваться, стараясь привлечь его внимание к своей по-девичьи острой груди и тонким плечам. Бедра ее после родов и впрямь расползлись, а живот собрался в складки. Аза незаметно придержала на талии рубашку, мешая той соскользнуть, и шагнула к Вано.
– Давай, я тебя раздену, дорогой! – протянула она с привычной интонацией шлюхи.
Печерский молчал, не помогая, но и не мешая ей. Аза быстро стянула с него длинный сюртук и расстегнула рубашку. Она спешила, боясь, что Вано передумает и оттолкнет ее. Наконец его панталоны соскользнули на сапоги. К величайшему разочарованию Азы, ее партнер совсем не возбудился. Испугавшись, что все закончится, так и не начавшись, она опустилась на колени и накинулась вялую плоть. Руки, губы, язык – все пошло в ход, и, к своему облегчению, Аза добилась результата. Тяжело дыша, Вано дернул ее вверх за волосы, она прижалась сосками к его груди и проворковала:
– Пойдем на кушетку, дорогой.
– Нет, давай на стол! – рявкнул Печерский. Он подсадил Азу на столешницу и грубо надавил ей на грудь, распластывая. Она послушно согнула ноги и раскрылась. Вано устроился меж ее бедер и резко вонзился в податливое тело. Несколько движений – и все закончилось. Он вялой тушей свалился на грудь Азы, а та закрыла глаза и принялась низко стонать.
«Вышло у него и нет? – размышляла она, не открывая глаз. – Слабак чертов!..»
Вано слез с нее и стал натягивать спущенные панталоны. Острый запах мужских соков резанул ноздри Азы, и она повеселела – все получилось. Впрочем, одного раза явно мало…
– Ты еще придешь ко мне? – осторожно осведомилась она. – Муж не скоро вернется.
– А надо?..
По его тону Аза поняла, что он не в восторге.
– Пожалуйста, приходи, – испуганно взмолилась она, – я столько лет ждала, и ведь любила тебя с юности.
– Ладно, приду, – буркнул Вано и вышел.
Вдоволь отыгравшись на Азе, он даже развеселился. По дороге домой Печерский вспоминал свои обидные замечания, от которых его старая подружка дергалась, как от ударов. Здорово же он ее подцепил! Ну наконец-то выдался удачный день, теперь главное, чтобы и завтрашний оказался не хуже… И все же Аза – старуха. Вот если бы на ее месте оказалась любая из встреченных в кондитерской барышень, а еще лучше все три сразу. Упс! Вот это было бы дело!
Ровно в одиннадцать утра Вано постучал в дверь просторной квартиры, занимающей весь второй этаж нового дома на Невском. Молчаливый лакей принял у него плащ и проводил до дверей кабинета.
– Ваше высокопревосходительство, к вам граф Печерский, – доложил он и посторонился, пропуская гостя.
Вано вошел в просторную полупустую комнату. У окна распластался большой стол из карельской березы, за ним восседал худощавый генерал с рыжеватыми, уже поредевшими на макушке волосами. Его бритое лицо с крупными прозрачными глазами и упрямым подбородком казалось замкнутым и строгим.
«Для меня старается, изображает, какой он важный, – сообразил Вано, – а то я в своей жизни мало таких индюков навидался».
Стараясь не выдать своих мыслей, он замер в низком поклоне, как будто онемев от трепета перед величием генерала. Похоже, что его холуйский вид хозяину кабинета понравился, тот милостиво кивнул и изрек:
– Садитесь, сударь. Граф Каподистрия просил для вас места. Я рад помочь Иоанну Антоновичу. Только что я могу вам предложить? Что вы сможете делать?
– Я буду со всевозможным усердием выполнять все поручения вашего высокопревосходительства!
– Все? – выразительно выгнув бровь, переспросил Бенкендорф и с чуть заметной иронией оглядел своего собеседника.
– Все! – твердо повторил Вано.
Генерал, не стесняясь, рассматривал его, приходилось все время опускать глаза и изображать дрожь пальцев, вроде как от безмерного волнения. Пока, видать, все получалось как надо, по крайней мере, Бенкендорф продолжил разговор:
– Теперь пришло новое время. Высочайшим повелением указано, чтоб впредь не допустить крамолы нигде, а прежде всего – в войсках. Ставка будет делаться на тайных агентов. Везде теперь появятся эти верные государю люди, чтобы крамолу и злоупотребления выявлять в зародыше. Исключений нет, надзор охватит все персоны, даже высоких званий. Сможете вы стать таким патриотом? Разоблачать влиятельных людей не просто, тут храбрость нужна.
– Я смогу, ваше высокопревосходительство! Извольте послать меня на любое место, я день и ночь стану работать, выполняя ваши указания, – поклялся Вано и прижал дрожащую ладонь к сердцу.
Усмехнувшись каким-то своим мыслям, Бенкендорф согласился:
– Ну-с, можно попробовать. Сейчас и начнем – поедем на допросы в комиссию. Работать станете только со мной. Даю вам неделю, чтобы показать, на что вы годны.
– Я оправдаю доверие, ваше высокопревосходительство! Стану служить верой и правдой, землю есть буду!
– Поживем – увидим, – философски заметил генерал и снова чему улыбнулся.
Легко сказать: «понравиться Бенкендорфу»! А как это сделать? Вано так старался, что уже через три дня после появления в Петропавловской крепости ему стали сниться черные строчки протоколов. Допрос следовал за допросом, и надо признать, что занятие это оказалось упоительным – властвовать над беззащитными, закованными в кандалы людьми. Удовольствия от этого было не меньше, чем от водки или шлюх!
Отработав полученный на день список арестованных, Печерский относил протоколы Бенкендорфу. Вот и сейчас он жался у порога кабинета, привычно изображая ничтожного раба. Генерал через строчку пробежал взглядом принесенные бумаги, пренебрежительно швырнул их на стол и осведомился:
– Какие у вас есть соображения по вашим заключенным? У кого где слабые места? Нашли ниточки, за которые следует дернуть?
Вано с готовностью изложил свои наблюдения.
– Понятно, – генерал кивнул ему и вышел из кабинета.
Печерский двинулся, было за ним, но замер, услышав, что Бенкендорф в коридоре с кем-то заговорил:
– Александр Иванович, позвольте изложить мои соображения по южанам!
С изумлением слушал Печерский, как генерал стал пересказывать невидимому собеседнику то, что минуту назад узнал от него самого, и, что самое интересное, Бенкендорф добавлял обобщения и выводы, которые Вано даже не могли придти в голову. Наконец генерал замолчал, и Печерский уже собрался выйти из кабинета, когда низкий баритон произнес:
– Вы сами допросили сегодня этих людей?
– Нет, но я нашел очень толкового помощника – графа Печерского. Надеюсь, что, работая под моим руководством, он хорошо себя здесь покажет, а там и другая должность для него подоспеет.
Разговор прервался. Решив ковать железо пока горячо, Вано толкнул дверь и вышел в коридор. Рядом с Бенкендорфом у решетчатого окна стоял высокий, все еще красивый генерал с тронутыми сединой черными кудрями.
Приняв уже отрепетированную холуйскую позу (ведь он уже догадался, что видит всемогущего генерал-лейтенанта Чернышева) Вано замер в почтительном поклоне.
– Вот, Александр Иванович, позвольте представить – мой новый помощник Иван Петрович Печерский, – гордо улыбаясь, сообщил собеседнику Бенкендорф.
– Вас Александр Христофорович только что очень хвалил, – милостиво кивнул Чернышев, и, как будто потеряв к Вано интерес, продолжил разговор с Бенкендорфом: – Так, значит, завтра завершаем допрос южан?
– Да, я думаю, что завтра закончим.
Вано остался в дверях, генералы же направились к выходу. Приотстав ради приличия, Печерский последовал за ними. Когда он вышел во двор, экипаж Бенкендорфа уже отъехал, а Чернышев еще стоял у крыльца, проверяя, как затянута подпруга у высокого темно-рыжего английского жеребца. Вано поклонился и бочком прошмыгнул вдоль стены корпуса. Он уже подходил к воротам крепости, когда услышал за спиной стук копыт. Чернышев остановил коня и, глядя на Вано сверху вниз, сообщил:
– Я распорядился оседлать для вас казенную лошадь, идите обратно, сейчас ее приведут. Если она вас устроит, передайте по команде, чтобы ее закрепили за вами.
Начальник кивнул и поскакал дальше, а Вано повернул обратно. Обзавестись лошадью, пусть даже плохонькой, было очень даже кстати. Но черный жеребец оказался выше всех похвал: высокий и сильный, с антрацитовой шкурой, лоснящейся на сытых боках. Печерский сел в седло и поскакал на Охту. На следующее утро он приехал к дому Бенкендорфа уже верхом. Генерал оглядел коня и холодно заметил:
– Чернышев на удивление добр к вам.
С тех пор Бенкендорф как будто отдалился от своего нового помощника, зато Чернышев стал заходить в те камеры, где вел допросы Печерский. На пятый день, встретив Вано его в коридоре, Чернышев попросил кратко рассказать о результатах, а с завтрашнего дня взять еще одного писаря и делать второй экземпляр протокола. Вано сразу же согласился. Сегодня он нес в руках два одинаковые бумаги и гадал, кто из двух начальников встретит его первым.
Он уже свернул в коридор, ведущий к кабинетам, когда увидел у окна монументальную фигуру Чернышева. Тот молча ждал. Печерский подошел и, демонстративно держа второй протокол в руках, с поклоном протянул ему первый.
Генерал кивнул, свернул бумагу в трубку и засунул ее меж пуговиц мундира.
– По военной линии служить не хотите? – осведомился он.
– Я бы рад, ваше высокопревосходительство, да в мои года корнетом идти стыдно.
– Было бы желание, – хмыкнул Чернышев. – Я могу взять вас к себе поручиком.
– Благодарю, ваше высокопревосходительство, – задохнулся от свалившейся на него удачи Вано, но тут же жадно переспросил: – а в какой полк?
– Подберем что-нибудь, но вы все равно останетесь при мне порученцем. Согласны?
– Конечно! Благодарю покорно…
– Завтра в семь утра я приеду в Главный штаб, жду вас там, – заключил Чернышев и направился к выходу.
Это предложение последовало так неожиданно, что Вано не знал, как же сообщить о нем Бенкендорфу.
«Так и надо осторожному немцу – нечего было испытания устраивать и сроки устанавливать, надо было ценить то, что само шло в руки», – ликовал Вано, и приятное ощущение своего превосходства грело ему душу.
Осмелев, он направился к кабинету Бенкендорфа. Тот сидел за столом, листал протоколы допросов.
– А, вот и вы, – равнодушно заметил он, – что у вас сегодня?
Вано шагнул к столу, положил перед начальником протокол и, стараясь не выдать своего торжества, доложил:
– Ваше высокопревосходительство, позвольте сообщить, что генерал-лейтенант Чернышев сделал мне очень заманчивое предложение: стать его порученцем. Благодарю вас за участие в моей судьбе, но теперь вы можете обо мне больше не беспокоиться.
Он пристально всматривался в лицо Бенкендорфа, надеясь увидеть оскорбленное или хотя бы разочарованное выражение, но ничего подобного не наблюдалось. Генерал усмехнулся и сообщил:
– Ну что же, я не возражаю. Только вы ведь не думаете, что я бросаю слова на ветер? Я говорил вам, что теперь все персоны, невзирая на чины и звания, окажутся под надзором. Чернышев не исключение: либо моим оком станете вы, либо им будет кто-нибудь другой. Только боюсь, что этот другой сочтет вас соперником и вытащит наружу грязное белье вашей семьи. Я надеюсь, вы не забыли о прошлом?
Если бы Вано получил пулю в сердце, наверное, это было бы легче, но никто не стрелял – в комнате находились лишь он и безжалостный человек, похоже, разыгравший и его, и Чернышева. Как только эта мысль мелькнула в мозгу, Печерский почему-то сразу в нее поверил. Может быть, чтобы легче перенести унижение?
«Когда делаешь карьеру – все средства хороши, – утешил он себя, – я на его месте еще и не так бы меня пригнул».
Эта мысль совсем успокоила Вано, и он улыбнулся генералу.
– Конечно, ваше высокопревосходительство, я согласен, но вы ведь не хотите сказать, что не будете поощрять мою работу достойной оплатой?
– Естественно, бесплатно никто из вас работать не будет.
– Благодарю покорно! Я должен завтра в семь утра появиться в Главном штабе, а какие будут указания от вас? – с прежней услужливой интонацией осведомился Вано.
Бенкендорф подробно и четко рассказал своему новому агенту о том, чего ждет от него в ближайшие дни. Печерский пообещал все исполнить в точности, раскланялся и вышел в твердой уверенности, что хитрый немец с самого начала хотел подсунуть его Чернышеву. Если бы он обернулся и увидел усмешку Бенкендорфа, то понял бы, насколько прав.
«Скатертью дорога к драгоценному Александру Ивановичу, – мысленно пожелал ему вслед генерал, – надеюсь, что наш престарелый Парис еще долго не разберет, какого «троянского коня» я закатил в его двор».
Самое позднее, в феврале, генерал надеялся на первый улов.
Глава 8
Санкт-Петербург.
Февраль 1826 г.
Дверной молоток в виде головы оскалившегося льва сиял новой бронзой, мрамор колонн явно прибыл сюда из Италии, да и мебель – чудо наполеоновского ампира – прямо кричала о баснословном богатстве хозяев дома. Бенкендорф попал сюда впервые, зато читал о Кочубеях чуть ли не каждый день. Его агент в каждом донесении постоянно подчеркивал, как безмерно недоволен Александр Иванович Чернышев тем, что его беззащитные родственницы нашли покровительство в этой семье. Генерал-лейтенант был так раздражен этим фактом, что не стеснялся перемывать кости и самому графу, и его жене, и его теще Загряжской в присутствии своего нового помощника. Впрочем, это-то как раз все было понятно: Чернышев попал в положение, когда близок локоть, да не укусишь, ведь Кочубей считался человеком сильным и влиятельным, и уже прошел слушок, что новый император обласкал верного соратника своего покойного брата. Так что с хозяином этого дома лучше было не ссориться, поэтому генерал с порога осведомился у открывшего дверь лакея:
– Граф дома?
– Никак нет, ваше высокопревосходительство, – наметанным взглядом оценив шинель с бобровым воротником, доложил лакей, – Вместе с барыней в Москву изволили отбыть.
– Я ищу Софью Алексеевну Чернышеву и ее дочь.
– Так они – у старой хозяйки. Графиня в гостиной сидит, а дочку ее в спальне уложили.
Поистине везение не оставляло нынче Бенкендорфа: старуха Загряжская считалась дамой умной и справедливой, а раз так, то должна была понять выгоды своих подопечных. Велев слуге доложить, что прибыл генерал Бенкендорф и хочет видеть потерпевших, Александр Христофорович остался в вестибюле.
Лакей быстро прибежал обратно и попросил его высокопревосходительство проследовать наверх. В большой гостиной второго этажа Бенкендорфа ожидали три дамы. Прячась за спиной лакея, генерал оценил обстановку. Загряжская – почти невесомая, с тонкими паучьими лапками и узким беличьим личиком – утопала в подушках стоящего у огня кресла. Незнакомая Бенкендорфу миловидная пожилая дама с острым взглядом голубых глаз сидела с ней рядом на крошечном тонконогом диванчике, а заплаканная блондинка средних лет нервно металась по комнате, до синевы сцепив в замок тонкие пальцы. Она первой увидела генерала и бросилась ему навстречу:
– Слава Богу, что вы приехали. Объясните мне, что все это значит?!
Сразу определив, что это и есть пострадавшая графиня-мать, и она полностью выбита из колеи, Бенкендорф обрадовался. Как гончая собака, взял он стойку и открыл рот, чтобы хитро ответить вопросом на вопрос в надежде побольше вытянуть из расстроенной дамы, но от камина послышался скрипучий голос хозяйки дома:
– Милости прошу, Александр Христофорович. Не обессудьте, не до любезного обхождения нам нынче, мы тут все безмерно расстроены случившимся злодейством.
Бенкендорф виновато поглядел на сразу же покрасневшую графиню Чернышеву и, обойдя ее, подошел к креслу Загряжской. Та ловко сунула ему крохотную сухонькую ручку, потом представила гостя своей подруге графине Румянцевой и ее племяннице, сообщила, что Софья Алексеевна при взрыве не пострадала, а вот ее дочь графиня Вера контужена, а потом задала Бенкендорфу главный вопрос:
– Что случилось с каретой?
– Ее взорвали – абсолютно недвусмысленно ответил генерал и обвел взглядом лица женщин. Графиня Чернышева не просто побледнела, а стала откровенно серой, у ее тетки задрожали губы, но вот Загряжская и бровью не повела. Да, ничего не скажешь, старуха – крепкий орешек. Азарт впрыснул в кровь генерала изрядную толику перца, и он пошел в наступление:
– Сударыни, я прибыл сюда из уважения к вам, чтобы не травмировать ни Софью Алексеевну, ни юную графиню Веру вызовом в полицейский участок. Но в расследовании это ничего не меняет. Взрыв экипажа на улице столицы – событие поистине неслыханное. Это можно посчитать за подрыв устоев, вызов существующему порядку.
– И к чему это вы клоните? – встряла Загряжская, и поскольку в ее голосе сразу же прибавилось железного скрипа, генерал понял, что попал в цель: старуха взбесилась, да и обе ее гостьи выглядели оскорбленными.
– Мой долг пресекать любые попытки подрыва государственного строя.
– Так это получается, что моя племянница и внучка покусились монархию? – вмешалась в разговор графиня Румянцева. Сейчас, со сверкающими от злости глазами, она больше не казалась миловидной и добродушной старой дамой, перед Бенкендорфом предстал боец.
– Если они не сами устроили взрыв, им нечего опасаться, – с деланным дружелюбием откликнулся генерал. Он внимательно ловил мгновенную смену выражений на лице графини Чернышевой. Та сначала оскорбилась, а потом явно испугалась. Этого Бенкендорф и добивался, и, увидев, что женщина попалась в ловушку, он вкрадчиво заговорил: – Софья Алексеевна, вы уж не обижайтесь, но и меня поймите. В экипаже кроме вас и графини Веры никого не было, слуг я в расчет не беру – слишком уж они мелкие сошки для такого покушения, ну а раз так, то вы должны мне рассказать, кому мешаете. В чем дело? Это месть? А может, корысть? Вдруг вы чем-нибудь обидели опасных людей или графиня Вера кому дорогу перешла? Или дело куда серьезней и с вашим сыном связано?
На Чернышеву стало жалко смотреть: ее и до этого заплаканное лицо покраснело еще сильнее, из глаз хлынул поток слез, она громко всхлипнула и, рухнув на стул, закрыла лицо руками.
– Полегче, сударь, – злобно крикнула из своего кресла Загряжская, а ее подруга подошла к своей племяннице и заслонила ее собой.
– Не могу ничего поделать, сударыни, служба, знаете ли, – откликнулся Бенкендорф, – разговора этого нам с вами не избежать, ведь нынешнее происшествие неминуемо станет известно государю. Он с меня спросит, да и вы должны быть заинтересованы в аресте злоумышленников.
Наталья Кирилловна тут же разразилась возмущенной тирадой, но Румянцева ее остановила:
– Погоди минуту, Натали, пусть генерал лучше задает нам вопросы, тогда и дело сдвинется и поводов для обид меньше будет. – Она повернулась к Бенкендорфу и предложила: – вы спрашивайте.
– Как угодно, – невозмутимо согласился тот. Пока все шло как по маслу, он вел этих дам в нужном для себя направлении, а они даже не догадывались об этом. – Поясните, пожалуйста, не знаете ли вы кого-нибудь из товарищей вашего сына по преступному обществу, обиженных на него?
Почти овладевшая собой Софья Алексеевна вышла из-за спины тетки и тихо пояснила:
– Друзья моего сына служат с ним одном полку. Все они находятся в столице, а я с дочерьми живу в Москве, я не знаю даже их имен.
– Вы хотите сказать, что никто из них не мог выбрать вас в качестве мишени для своего удара?
– Я с ними не знакома. Откуда я могу знать о мыслях и намерениях этих людей? – уже твердо сказала Чернышева. Она гордо выпрямилась и теперь даже казалась выше.
– Они же все у вас в крепости сидят, – каркнула из своего кресла Загряжская, – вот у них и спросите.
– Спросим, сударыня, обязательно спросим, а пока давайте побеседуем о, так сказать, прозаических предметах. Кто наследует Софье Алексеевне и ее дочери? Вот если случится сейчас кончина обеих, кто станет наследником?
– Это даже смешно, – вмешалась в разговор Румянцева, она ухватила вновь побледневшую племянницу за локоть, прижала ее к себе и, сердито глядя на генерала, заявила: – все имущество семьи принадлежало Владимиру Чернышеву и сейчас арестовано. Ни моей племяннице, ни внучке нечего оставлять, у девочки даже приданого нет, все забрали!
О!.. Как все катилось к нужной точке, вот и пошел разговор на скользкие темы, вот-вот должно было прозвучать ненавистное имя, и Бенкендорф надавил еще немножко:
– Помилуйте сударыня, нет такого закона, чтобы девиц без приданого оставлять, я сам недавно занимался восстановлением прав малолетнего сына князя Волконского. Достояние отца реквизировано, но ребенку по закону выделили его долю. Не может быть, чтобы ваших дочерей обездолили только потому, что их приданое хранил брат-опекун. Нужно подать прошение и вам все вернут.
Взгляд Софьи Алексеевны заметался, и Бенкендорф понял, что попал в точку: она колебалась, стоит ли говорить с тюремщиком своего сына об интересах дочерей. Он постарался подтолкнуть ее:
– Я думаю, что вы поступите по закону, истребовав из казны приданое?
– Мы всегда поступаем по закону, – подсказала ответ Загряжская, и Софья Алексеевна молча кивнула.
– Ну, вот видите, значит, средства у вашей семьи уже есть. Раньше или позже они будут возвращены. Кто тогда наследует вам и графине Вере? Младшие дочери?
– Естественно, – чуть слышно подтвердила Чернышева.
Вот и наступил момент истины. Агент Бенкендорфа подробно пересказывал в своих донесениях все разговоры Александра Ивановича Чернышева с супругой о необходимости поддержать семью кузины. Бенкендорф прекрасно знал о сделанном, но пока отвергнутом предложении юным графиням и их матери перебраться в дом Чернышева. Теперь не хватало одного: чтобы пострадавшая женщина сама обвинила своего дальнего родственника. Бенкендорф подсказал:
– Ваши дочери еще очень молоды. Кто будет опекать их и распоряжаться средствами семьи до их замужества или совершеннолетия?
Не понять, к чему он клонит, было невозможно. Бенкендорф твердо смотрел в глаза откровенно перепуганной женщины. Та практически повисла на тетке. В ее зрачках билось отчаяние, и генерал понимал, что она уже сложила два и два и теперь уверена, что их пытался убить Чернышев. Ожидая заветного имени, он затаил дыхание, но Софья Алексеевна молчала. Пронизанная напряжением пауза стала невыносимой, казалось, что еще чуть-чуть и невидимая нить лопнет, а весь мир вместе с этой комнатой рассыплется на тысячи кусков, но Бенкендорф продолжал молча сверлить женщину взглядом. Ответ прозвучал неожиданно:
– По желанию их матери опекуном юных графинь Чернышевых будет мой зять граф Кочубей. Надеюсь, что вы не подозреваете столь почтенного человека в сегодняшнем злодействе? – язвительно поинтересовалась из своего кресла Загряжская.
«Вот и все, остался я с носом», – понял Бенкендорф и тут же вспомнил, что точно такой же язвительный вопрос сам задал выскочке-жандарму. Ответ на него подразумевался лишь один и, признав свое поражение, генерал иронично повторил фразу бедолаги Иванова:
– Никак нет, сударыня, я, видно, неудачно выразился.
– Да-да, опекуном девочек в случае моей смерти станет Виктор Павлович Кочубей, – подтвердила уже оправившаяся от испуга Софья Алексеевна.
– Ну, тогда и этот мотив отпадает, – сообщил Бенкендорф и с изрядной долей черного юмора послал в цель парфянскую стрелу: – Поскольку графа Кочубея в столице нет, то он не может считаться причастным к сегодняшнему преступлению.
Генерал поклонился онемевшим от такой наглости дамам и вышел. Сбегая вниз по лестнице, он, конечно, жалел, что в самый последний момент рыба сорвалась с крючка, но это, как ни странно, его не очень огорчило. Сегодня, читая по лицам женщин, как по открытой книге, он убедился, что сообщения его агента – истинная правда. А раз так, то соперник обязательно вновь потеряет бдительность, и тогда Бенкендорф захлопнет свою мышеловку – уже навсегда.
Женщины потрясенно молчали. Наконец Наталья Кирилловна обрела дар речи и спросила:
– Объясните мне кто-нибудь, что этот хлыщ сейчас сказал о моем зяте? Что тот собирался взорвать Сонину карету?
– Ну, не так явно… Он ведь хотел, чтобы мы подтвердили правильность его намеков на Чернышева, а когда услышал фамилию Кочубея, просто взбесился, – откликнулась графиня Румянцева и признала: – Но ты, Натали, нас просто спасла. Как же ты нашлась?! И я тоже хороша: прилетела сюда спасать Соню и Верочку, а как пришло время действовать, растерялась, будто институтка.
Загряжская от ее похвалы расцвела, но ответила почти скромно:
– Да чего уж там! Я сразу поняла, к чему он клонит. Соня должна была обвинить Чернышева во всех грехах, а тот в ответ – отыграться на Владимире и объявить войну всему вашему семейству. Вот тогда Бенкендорф и устроил бы все так, как выгодно ему. Вы с Верой в этом деле для него – разменная монета.
Бледная как смерть Софья Алексеевна перебила ее:
– Тетя Натали, вы думаете, что это Чернышев, сегодня?..
– Кто знает, дорогая, может быть и он. Только сдается мне, что нынче вас не убить, а крепко напугать хотели, чтобы вы приняли помощь своего всесильного родственника.
Софья Алексеевна мгновенно возмутилась:
– Ну, уж нет. Я и раньше не собиралась этого делать, а теперь костьми лягу, чтобы этого не случилось. Но в одном вы правы, мне нужно написать завещание и назначить опекуном своих дочерей графа Кочубея. Я надеюсь, что он не откажет мне в этой просьбе?
– С чего бы ему отказывать? – удивилась Загряжская. – Конечно, он согласится.
Софья Алексеевна без сил опустилась на стул, сегодняшний вечер, как кошмар из дурного сна, не отпускал ее. Сначала экипаж взорвали, потом саму ее обвинили в том, что она причастна к взрыву, а напоследок чуть не втравили в беспощадную войну, способную истребить всю ее семью. Сама она прошла по лезвию ножа, но зато ее старшая дочь сейчас лежала контуженная. С этим-то, что делать? За собственную жизнь графиня не боялась, но Вера – совсем другое дело. Софье Алексеевне ясно показали, насколько уязвимы ее дети. Так как же теперь поступить? Не скрывая своих сомнений, она задала этот вопрос старым дамам.
– Переезжайте все сюда, – сразу же потребовала Наталья Кирилловна.
Но Румянцева отвергла ее предложение:
– Нет уж, Натали, хватит с графа Кочубея одной тещи. У меня есть другое соображение: нужно разделить девочек. Если следовать логике нашего бравого генерала, то младшие графини Чернышевы – источник обогащения для человека, ставшего их опекуном, а раз так, то их будут беречь. А вот Верочке, которой до совершеннолетия остался всего год с небольшим, может угрожать опасность. Кто знает, случайно ли карету взорвали именно тогда, когда она находилась рядом с тобой… Давайте-ка спрячем Велл подальше отсюда. Она собралась ехать в Солиту, вот пусть туда и отправляется. В деревне ее никто не найдет, а дальше посмотрим.
– Но ведь она контужена…
– Никто же не говорит про завтра, но и откладывать не стоит.
Софья Алексеевна долго молчала, а потом сдалась:
– Пусть будет так…Похоже, что другого выхода у нас просто нет.
Выхода не было. Невыносимо пахло гарью. Яркий костер, получившийся из нового дорожного экипажем Чернышевых, кидал алые отсветы на брусчатку, на опоры моста, на стены домов. О матери Вера не беспокоилась, ведь она сама закрыла за той надежные двери дома Кочубеев. Она осталась здесь одна.
«Зачем это нужно? – запаниковал внутренний голос. – Иди к маме, пока не стало поздно».
Страх гнал под защиту, но Вера не собиралась сдаваться. Она знала, что только здесь можно узнать правду. Нужно лишь престать бояться и сделать шаг навстречу опасности. Вера никогда в жизни не трусила, и сейчас не собиралась этого делать. Она обошла пылающий экипаж, жар от его огненных боков казался адским, но отойти в сторону было невозможно, ведь за алым световым кругом начиналась тьма – тот мрак, где притаился зверь. Зачем он преследовал Чернышевых? Или он метил именно в нее?
«Ему нужна я, – вдруг поняла Вера, – он охотится за мной».
Тьма вокруг сгущалась, наступая на тающие отблески догорающего экипажа, а вместе с ней двигался ужас. Веру назначили жертвой, а в черной тьме ее поджидал охотник.
– Нет, не бывать этому! – крикнула она в угольную вату мрака, – Я не боюсь тебя! Я знаю, что это ты – слабак, иначе не прятался бы в темноте. Если ты не трус, то покажись!
Вера знала, что услышана, даже чувствовала, откуда придет ответ, ведь она читала мысли своего врага. Тот ненавидел этот город со всеми его дворцами и храмами, ведь северная столица не принимала его, и еще он ненавидел Веру: она ему мешала. Эти чувства сплелась в его душе в отвратительный змеиный клубок и сейчас рвались наружу.
«Одним ударом: мне смерть, а городу пощечина», – осознала она идею своего врага, и засмеялась от восторга.
– Ничего у тебя не вышло, – крикнула она в темноту, – Я жива, а город вообще тебя не заметил. Ты – ничто, пустое место. Ты проиграл, и никогда уже не станешь победителем.
Она знала, что ее стрела попала в цель, ведь ярость ее врага стала почти осязаемой. Чернота сгустилась, став еще плотнее, и соткалась в силуэт рослого человека. Он двигался прямо на Веру, еще мгновение и она узнает правду. Враг ступил на свет, она вперила в него взгляд и охнула: человеческого лица у того не было, вместо него серело смазанное пятно с выкаченными от бешенства безумными глазами. Ошибиться было невозможно, огромные и сизые, как бельма, зрачки уставились на Веру, не видя ее Они не различали вообще ничего. Вера была лишь песчинкой на пути этого сгустка ярости – зверя, летевшего из тьмы. Она поняла, что сейчас погибнет, ужас ударил стилетом в сердце… и она проснулась.
Вокруг царила тьма, лишь где-то вдалеке мерцал огонек одинокой свечи, в его отблесках проступали два силуэта. Ужас вновь кольнул душу, но шепот родных голосов тут же принес успокоение. Она лежала в одной из спален дома Кочубеев, рядом с ее постелью сидели мать и бабушка, а свет потушили по настоянию доктора, объявившего, что Вера контужена.
Родные, похоже, считали, что она спит, раз тихо обсуждали случившееся. Вера не слышала начала их разговора, но то, что сказала бабушка, ее поразило:
– Мы, Сонюшка, может, правды и вовсе и не узнаем. Конечно, все указывает на твоего пресловутого родственника, на это нам недвусмысленно намекал и Бенкендорф. А вдруг мы все ошибаемся и на самом деле имеем дело с мстителем? Мне Загряжская по секрету шепнула то, что рассказал ей зять: арестованные офицеры все друг на друга показывают. Не от подлости, а от благородства своего, честь ронять не хотят – их спросят, так они не лгут, а все как есть и излагают. Может, наш Боб тоже на кого-нибудь показал, а у того друзья или близкие злобу за это затаили. Мало ли безумцев на свете? Сколько я за свою жизнь таких гордецов – вершителей чужих судеб – перевидала, со счету можно сбиться.
Вера уже собралась вмешаться в их разговор, но ее опередила мать:
– Не могу поверить, что по вине моего сына кто-нибудь мог попасть в тюрьму!
– А сам-то Боб как туда попал, если его в столице во время выступления не было? С кого-то допрос сняли, вот он про Боба и рассказал. Да у мальчика просто нет другого выхода – его спрашивают, он отвечать должен. Ты про это Соня не думай, у тебя и так есть о чем голову ломать. Девочек в разных местах спрятать нужно. Вот этим и озаботься.
В комнату вошла присланная Загряжской горничная и сменила дам у постели больной. Вера, так и не открывшая глаз, задумалась над словами бабушки и не смогла не признать, что доля истины в ее словах есть. Родные хотят, чтобы она уехала в деревню. Ее саму здесь держит только Джон, но его-то присутствие или отсутствие Веры совсем не волнует… Щемящая грусть затопила душу. Как же тяжела безнадежность, как пронзительно ужасно слово «никогда».
«Может быть, отъезд это выход? Я смогу наконец-то вылечиться от своей несчастной любви, вновь стать собой, – рассудила Вера и решила: – Поеду в Солиту, стану кормить семью».
И все сразу стало понятным и правильным, и, что тоже немаловажно, очень далеким от всякой мистики вроде кошмарных снов. Хватит разлеживаться в постели и терять время! Дорога и так будет долгой: зима ведь, на дорогах снегу полно.
Глава 9
Снег, снег и еще раз снег…Поставленная на полозья дорожная карета графини Румянцевой мягко катилась по застуженным дорогам России. Вытертые сидения экипажа оказались довольно удобными, но остановок в пути было так мало, что ноги у Веры к вечеру все равно затекали. Вот и сейчас правую закололо, а потом по ней побежали мурашки. Меняя позу, Вера поерзала под теплым покрывалом, а потом подняла ноги, стараясь не задеть горничную Дуняшу, дремавшую напротив.
Мать настояла, чтобы в путешествие вместе с ними отправился и Осип – крепкий дворовый мужик средних лет, тот считался отличным стрелком. В пути он сидел на козлах рядом с кучером, а на постоялых дворах охранял двери хозяйкиной комнаты. Вера, сначала посчитавшая это требование лишней перестраховкой, понаблюдав за проезжающей публикой, согласилась с матерью, и теперь, благодаря мудрости Софьи Алексеевны, путешествие ее дочери подходило к концу вполне благополучно.
«Еще утром миновали поворот на Смоленск, значит, завтра приедем, – прикинула Вера и к ней вернулись прежние сомнения: – Чего ждать от Солиты? Может, за тринадцать лет хозяйство все же восстановили?»
Она уже не раз уговаривала сама себя, но волнение не проходило. Как же справлялась с огромным разоренным имением дочка управляющего? Чем ближе Вера подъезжала к поместью, тем больше тревожилась. Она попробовала отогнать тяжкие мысли и постаралась представить, что сейчас делают мать и сестры. Впрочем, это оказалось ничуть не веселее, ведь в памяти всплыло недавнее прошлое.
Сначала произошел этот загадочный взрыв, после которого она неделю пролежала контуженная, потом пришлось ожидать разрешения на свидание с братом. Получили его лишь за день до Вериного отъезда. Ей вспомнилось бледное лицо матери, замершей с долгожданной бумагой в руках.
– Мама, а это пропуск на всех? – спросила тогда Вера, – вы сможете взять нас с собой?
– Нет, дорогая, здесь написано только мое имя, да и не место молодым девушкам в тюрьме, я бы все равно не взяла вас с собой.
Графиня собрала для сына теплую одежду, взяла кулек с пирожками и отбивными котлетами, а за вырез корсажа спрятала аккуратно завернутые в тонкую бумагу столбики золотых монет. Дочери проводили мать и стали ждать ее возвращения. Вернулась Софья Алексеевна постаревшей на десяток лет, и хотя она старалась убедить дочерей, что с Бобом все хорошо, верилось в это с трудом.
– Мама, пожалуйста, не старайтесь ради нас приукрашивать действительность, – тут же заявила Надин, – у вас же все на лице написано!
Вера укоризненно глянула на сразу же пожалевшую о своей несдержанности сестру и постаралась исправить положение:
– Он хотя бы здоров?
– Да, как будто… Еду и теплую одежду ему тоже разрешили взять с собой.
– Ну, хоть что-то хорошее, остальное тоже постепенно наладится.
– Дай-то бог, – слабо улыбнулась графиня. Она хотела стать для детей сильной и мужественной матерью, а получалось наоборот – дочери поддерживали ее.
– Мама, а что Боб сказал о деньгах? – вновь выскочила вперед нетерпеливая Надин. – Он назвал вам имя процентщика?
– Да, он несколько раз повторил, что того зовут Иосиф Барусь, и живет этот человек на Охте. Наш кучер Савелий возил Боба туда и сможет найти дорогу.
Вера чуть заметно подмигнула сестре, предлагая отвязаться от матери. Бледная как полотно Софья Алексеевна казалась такой измученной, что сейчас ее следовало оставить в покое. Если мать захочет, то потом сама расскажет все, что сочтет нужным. Надин намек поняла, и хотя ноздри ее точеного носика нетерпеливо подрагивали, она мужественно молчала, а простодушная Любочка произнесла как раз то, что нужно:
– Мама, проводить вас в спальню? Вы отдохнете, а я могу посидеть рядом.
– Не нужно, я побуду здесь, а ты спой что-нибудь.
Любочка села за фортепьяно и начала наигрывать новый романс, а потом запела. Вера перевела взгляд на почти прозрачное лицо матери и увидела, что еще чуть-чуть – и слезы сами покатятся из ее глаз. Поймав озабоченный взгляд дочери, Софья Алексеевна, тихо призналась:
– Боб страшно исхудал, а безнадежность в его глазах не исчезает даже тогда, когда он пытается улыбаться. Он сразу сказал, чтобы мы не надеялись на освобождение, предупредил, что их всех признают государственными преступниками.
Вера села рядом с матерью и сжала ее руку. Они молчали. Поглядывая на них, Надин нетерпеливо крутилась в кресле напротив, но не решалась начать разговор. Наконец терпение ее лопнуло и, мятежно поглядывая на сурово сдвинутые брови старшей сестры, она объявила:
– Я думаю, что нам с Велл нужно съездить к этому процентщику. Если мы будем вдвоем, с нами ничего плохого не случится. Возьмем пару конюхов с ружьями, и нам – охрана, и он испугается. Документов ведь у нас нет, только слово брата.
– Да, правильно, вдвоем лучше, – заметив растерянность на лице матери, поддержала сестру Вера. – Мы теперь все должны решать сами, иначе скоро попадем в объятия нашего дорогого родственника, а тот не успокоится, пока не обдерет нас до нитки.
Напоминание о ненавистном Чернышеве сразу же взбодрило графиню: ее глаза высохли, на лице проступила несвойственная жесткость, и она с неожиданной твердостью возразила дочери:
– Нет уж, я поеду сама. Не хватало еще вам к ростовщикам на Охту ездить. Вдруг об этом станет известно – вы испортите репутацию.
Надин скептически и абсолютно непочтительно фыркнула, и Вера с раздражением поняла, что сестру понесло. Когда бешеный темперамент Надин вот так бил фонтаном, лучше было не попадаться ей ни на язык, ни под ноги, но это никогда не касалось их матери, а сегодня сестра перешла все границы:
– Мама, он вас обманет, – заявила Надин, – достаточно посмотреть на ваше лицо, чтобы понять, как вы добры и благородны. Мы с Велл надавим на него, а вы не сможете.
– Да что ты говоришь? – поразилась Софья Алексеевна, впервые услышавшая подобные слова из уст восемнадцатилетней дочери, – откуда такие выражения?
– Жеманство и светские манеры нам не помогут, ростовщики их не оценят, они понимают только силу!
– Надеюсь, что они держат данное слово, ведь репутация в их среде так же важна, как и в свете, – поспешила вмешаться Вера. – Но я тоже считаю, что нам лучше поехать туда вдвоем. Я думаю, что мы договоримся, ну а если это не получится, тогда и будем решать, что делать дальше.
После длительных колебаний графиня отпустила их, и девушки, посадив на запятки двух вооруженных дворовых, отправились на Охту. Экипаж долго петлял по узким улочкам, пока не остановился у аккуратного кирпичного дома, полускрытого высоким забором.
– Здесь, барышни, – доложил Савелий, открывая перед сестрами дверь, – сюда я барина возил.
Вера пару раз дернула за цепочку дверного колокольчика, и им сразу же открыл конопатый парнишка в полотняной рубахе, вышитой красно-черным узором.
– Чего изволите? – подозрительно оглядев барышень и их грозную свиту, осведомился он.
– Мы приехали к господину Барусю, – объяснила Вера.
Конопатый слуга понятливо кивнул и сообщил:
– Пожал-те, барин вас сейчас примет.
Он пропустил девушек в полутемный коридор, закрыл дверной засов и направился вглубь дома. Сестры пошли за ним. Вскоре они оказались перед гладкой дубовой дверью. Их провожатый постучал и, услышав приглашение войти, распахнул ее.
Даже в такой яркий солнечный день, как сегодня, большая комната выглядела полутемной, как видно, из-за слишком низкого потолка и маленьких окошек. Здесь было не протолкнуться из-за разномастной мебели, скученной вдоль стен, и лишь огромный письменный стол, явно прибывший сюда из богатого барского дома, как огромный остров, покоился посреди комнаты. За столом, с любопытством уставившись на прибывших дам, сидел не слишком молодой черноглазый шатен. Мгновение – и он поднялся, а потом поспешил навстречу гостьям.
– Чем могу быть полезен, сударыни?
– Мы приехали забрать наши деньги, – выступив вперед заявила Надин. – Граф Владимир Чернышев, отдал вам в работу наше приданое, теперь мы приехали изъять его.
Непроницаемое выражение легло на лицо ростовщика, и Вере показалось, что тот станет отрицать сам факт получения денег. Но Барусь пригласил их присесть в кресла, стоящие у письменного стола, сам вновь занял свое место напротив них и спросил:
– Ваше сиятельства, вы представляете, какую сумму граф Чернышев вложил в нашу общую коммерцию?
– Брат говорил, что вы в курсе всего и объясните нам, что нужно делать, – выкрутилась Вера.
Но их собеседника такой ответ как будто и не удивил. Он кивнул и сообщил:
– Его сиятельство вложил в дело двести тысяч рублей золотом. Изъять такую сумму из оборота сразу я не могу – деньги розданы на займы, а реализовать залоги я не имею права, их время еще не вышло. Я могу выплатить вам только проценты за последнее полугодие, его сиятельство не успел их получить.
– И сколько это? – осторожно поинтересовалась Вера.
– Доля вашего брата – двадцать пять тысяч, я могу отдать их серебром или ассигнациями.
– Так вы платите своим партнерам двадцать пять процентов в год? – подсчитала Надин, – а сколько берете себе?
– Мой гонорар гораздо скромнее, я работаю из пятнадцати, – приняв вопрос девушки как должное, ответил ростовщик.
– Значит, вы даете деньги в рост под сорок процентов годовых, а что берете в залог? – упорствовала Надин, старательно не замечая сердитый взгляд своей старшей сестры.
– По-разному – землю, имения и крестьян, драгоценностями тоже не брезгую, – сообщил процентщик. – Ваше сиятельство интересуется моей работой?
– Это не важно, – вмешалась Вера, – мы заберем проценты, но нам нужно знать, как скоро вы вернете сам капитал.
Ножка Надин в крепком кожаном ботинке ощутимо придавила пальцы старшей сестры, и удивленная, даже шокированная Вера замолчала. Надин же, как ни в чем ни бывало, лучезарно улыбнулась ростовщику и сообщила:
– Иосиф Игнатьевич, моя сестра в ближайшие дни уедет, но я остаюсь в столице и буду работать с вами вместо брата. Нам приданое пока не понадобится, и наша семья не собирается разрушать так удачно налаженное дело. Вы будете работать со мной на тех же условиях, что и с братом. Такой вариант вас устраивает?
– Конечно, ваше сиятельство, – невозмутимо согласился ростовщик.
– Вот и отлично, значит, договорились. Если вы сейчас отдадите нам проценты, мы сможем уехать.
– Они давно приготовлены. Изволите посчитать? – осведомился Барусь.
– Я думаю, вы не обманываете партнеров?
– Помилуйте, ваше сиятельство, как можно! Тогда никто не будет иметь со мной дела, а в моем ремесле слово – золото, – степенно объяснил ростовщик и, подойдя к одному из шкафов, достал большой кожаный мешок. – Позволите отнести в ваш экипаж?
Девушки вновь вышли в полутемный коридор. Появившийся как из-под земли конопатый лакей взял из рук хозяина мешок и направился впереди всех к входной двери.
– Ваше сиятельство, вы не думайте, что я обману хоть на копейку, – вдруг серьезно сказал Барусь идущей рядом с ним Вере, – и за сестру не беспокойтесь – ни одного волоса с ее головы не упадет.
Они остановились в дверях, ожидая, пока мешок с деньгами уложат в экипаж.
– Спасибо, вам, Иосиф Игнатьевич, – поблагодарила ростовщика Вера.
Блестя глазами и играя ямочками на щеках, в их разговор вклинилась Надин:
– Когда мне теперь приезжать, партнер?
– Если все остается по-прежнему, то в июле получите проценты за первое полугодие, а если что-то экстренное случится – добро пожаловать в любой день, я всегда здесь.
– Договорились!
Надин пожала процентщику руку и вслед за сестрой села в экипаж. Она шаловливо чмокнула Веру в щеку и заявила:
– Вот видишь, мы добыли деньги и не станем больше сидеть на шее у бабушки. Теперь дело за тобой. Хочешь, я тоже поеду в Солиту?
– Нет, дорогая, ты береги маму, да и за нашими деньгами придется следить тебе. Я постараюсь справиться одна.
Вера сказала сестре почти всю правду, но кое о чем она не решалась говорить ни с кем. Тот сон, пришедший к ней в ночь, когда она лежала контуженная в доме Кочубеев, больше не повторялся, но иногда приходили другие. В них всегда было одно и то же: она стояла в круге света, а в темноте таился зверь с безумными сизыми зрачками. Он охотился за ней, жаждал ее смерти. Вера понимала, что эти кошмары – следствие контузии, и боялась лишь одного, что у ее травмы окажутся опасные для здоровья последствия. Вдруг она свалится, что тогда станется с матерью и сестрами? Надо было срочно приниматься за дело.
На следующий день Вера уехала, но недели, проведенные ею в пути, ничего не изменили: ночью ее по-прежнему одолевали кошмары, а днем – не покидали тревожные мысли о будущем. Ведь процентов Баруся явно не хватало для достойной жизни семьи, требовалось, по крайней мере, столько же. Вера поежилась, тонкая дрожь неуверенности зародилась в груди и разбежалась по телу, замерев в предательски дрогнувших кончиках пальцев.
– Все будет хорошо, я смогу, я обязательно справлюсь! – как заклинание повторила она. Вера запрещала себе все сомнения, ведь мать назвала ее своим рубежом обороны, так оно и будет.
Карета резко свернула, и в окне мелькнули освещенные окна постоялого двора. Осип отворил дверцу и сообщил:
– Все, барышня, приехали, на ночлег становимся. Думаю, завра в полдень в Солите будем.
Где же ты, Солита? Подсвечивая червонным золотом макушки елей, солнце уже спускалось к горизонту, а окруженная сплошной стеной леса узкая проселочная все еще никуда не привела. Казалось, она так и будет петлять среди ноздреватых мартовских сугробов. Вера давно не выглядывала в окно, а сидела, забившись в угол кареты. Она не спала, но и мысли о невзгодах семьи впервые за долгое время отступили. Она как будто освободилась от них и вернулась к воспоминаниям о своей безответной любви. Как ни странно, приняв решение уехать в Полесье, теперь она вспоминала о Джоне гораздо реже.
Неужели любовь всегда склоняется под бременем горя и тяжких обстоятельств? А может, дело в том, что ее чувство осталось безответным? Но найти ответ на этот философский вопрос Вера не успела, потому что экипаж резко накренился на повороте, и она съехала в противоположный угол сиденья, а горничная Дуняша свалилась на пол и истошно заверещала.
– Не вопи так, ничего страшного не случилось, наверное, полоз в яму попал, – предположила Вера, помогая горничной подняться.
Карета не двигалась. Снаружи послышалась ругань Осипа, ему раздраженно отвечал ямщик. Из их перепалки Вера поняла, что экипаж угодил в широкую протаявшую до земли колею, и теперь лошадям никак вытащить его без посторонней помощи. Где-то сверху Осип открыл дверцу и крикнул:
– Барышня, мы надолго застряли, а усадьба рядом, за перелеском. Подождите, я за помощью схожу. Я мигом.
– Я с тобой, – решила Вера и протянула к дверце руку.
– Тогда уж обе руки давайте, так я вас не вытащу, – объяснил Осип и почти по пояс перегнулся вглубь кареты. Хозяйка последовала его совету, и слуга, медленно разгибаясь, вытянул ее за собой, а потом осторожно поставил на дорогу.
Одернув юбки и шубу, Вера крикнула продолжавшей причитать горничной:
– Дуняша, мы скоро вернемся, закутайся в одеяло и жди.
Горничная смолкла. С облегчением вздохнув, Вера обошла лошадей и зашагала по дороге.
– Осип, откуда ты знаешь, что до усадьбы уже недалеко? – поинтересовалась она.
– Так я помню – годов двадцать прошло, как мы с барыней сюда приезжали, но не забылось. Сейчас за поворотом должна открыться большая поляна, на ней три дуба растут, под ними летом пастухи всегда от жары прячутся, а там уж и усадьбу видно.
Они миновали короткий участок до поворота, и Вера поняла, что слуга был прав: дорога заметно расширилась, а лес поредел. Они прибавили шагу и вскоре вышли на большую поляну с тремя дубами в центре. Накатанная колея бежала через нее наискосок и рассекала надвое редкий и прозрачный бесснежный перелесок, а за ним действительно просматривалась высокая куполообразная крыша.
– Вот, барышня, большой дом уже виден, только раньше крыша голубая была, а теперь стала зеленая, еще немного пройти – и дома будете.
Они уже выбрались на поляну и направились к перелеску, когда из-за деревьев показались запряженные рослым гнедым конем розвальни. Вера застыла на месте, удержав и слугу. Мало ли кто мог спешить им навстречу! Сани остановились рядом с ними через пару минут. Из розвальней выпрыгнул высокий молодой человек, судя по лицу, почти юноша, одетый в длинный дубленый тулуп и мягкую лисью шапку.
– Добрый день, вы что-то ищете? – полюбопытствовал он, с интересом уставясь на незнакомцев прищуренными голубыми глазами.
– Наша карета завязла недалеко отсюда, за поворотом, – объяснила Вера, – мы шли в усадьбу за помощью.
– Сейчас это сплошь и рядом случается: ночью ледок прихватит, а под ним все уже подтаяло. Нужно слег нарубить и вытащить по ним полозья, – предложил юноша.
Он нагнулся, достал из-под слоя сена топор, а потом глянул на Верины кожаные ботинки и предложил: – Да вы садитесь в сани, чего вам по снегу-то ходить, быстрее доедем.
Вера поблагодарила и устроилась на сене, Осип примостился сзади на краю розвальней, а юноша, упершись для устойчивости ногой в отвод, уселся на передней стойке и щелкнул вожжами. Конь тронул, и через несколько минут сани оказались у цели. Не доезжая до застрявшей кареты, юноша остановил коня и отправился смотреть на провалившийся полоз. Ямщик присоединился к нему. Он принялся что-то втолковывать пареньку, но тот пожал плечами и, помахивая топором, двинулся через сугробы в лес. Пройдя несколько шагов, он облюбовал молодую осину и в несколько ударов срубил ее. Сбивая снег с кустов, дерево рухнуло, а юноша, подойдя к его вершине, принялся обрубать ветви. Не прошло и десяти минут, как под полозья застрявшего экипажа насовали ветвей, а с просевшей стороны еще и разрубленный на три части ствол дерева. Ямщик уселся на козлы, а новый помощник и Осип стали выталкивать карету. Кони тянули вперед, люди раскачивали экипаж сзади, и спустя пару минут карета выкатилась на ровную дорогу. Внутри ойкнула Дуняша, и Вера только тут поняла, что совсем забыла о своей горничной.
– Как ты там? – спросила она, распахивая дверцу.
– Да, слава Богу, обошлось.
К Вере подошел их спаситель и, оттирая испачканные руки снегом, уточнил:
– Вы куда следуете?
– Мы едем в Солиту.
– Да? – удивился паренек, – у вас там дело, или как?
– Я – новая хозяйка усадьбы, Вера Александровна Чернышева. Но я так и не спросила, кто вы?
Юноша растерянно замолчал, а потом его щеки вдруг залились багрянцем. Но он собрался с мужеством и признался:
– Меня зовут Марфа Сорина, я – дочь управляющего Солиты.
Вера остолбенела. Она даже не догадывалась, что перед ней девушка. Молодая графиня сама была высокой, но дочка управляющего казалась выше ее более чем на полголовы. Длинный до пят дубленый тулуп не скрывал ее мужского костюма – темные штаны были заправлены в валенки. Эта Марфа оказалась оригиналкой. Однако дочь управляющего явно не ожидала увидеть здесь новую хозяйку, а ведь ее должен был предупредить давно отбывший домой Бунич.
– Разве Лев Давыдович не передал вам, что я скоро приеду? – встрепенулась Вера.
– Так ведь он как отправился в прошлом году в столицу, так и не возвращался.
Поняв, что расспрашивать девушку-управляющего посреди леса глупо, Вера предложила все обсудить в Солите, заняла свое место в экипаже и наконец-то отправилась в свое новое имение.
«Интересно, а я смогла бы со всем этим справиться? – раздумывала она по дороге, вновь вспомнив, что Марфа отвечала и за сельские работы, и за восстановление барской усадьбы и за благополучие крестьян. – Наверное, научилась бы, хоть и не сразу. Впрочем, скоро узнаем, как это у меня получится».
Мать и бабушка отпустили ее, не настаивая на быстром возвращении, и Вера сразу решила, что она останется до тех пор, пока не закончатся весенние полевые работы, а дальше будет видно. Она так глубоко задумалась, что даже не заметила, как экипаж остановился, и лишь когда Осип распахнул дверцу, Вера опомнилась. Она вышла из кареты и огляделась.
Открывшееся взгляду зрелище оказалось поистине грандиозным. Овальный заснеженный двор замыкался с двух сторон длинными колоннадами. В центре этой огромной подковы высился трехэтажный дом, как короной, увенчанный зеленым куполом. К концам дуг-колоннад примыкали два одинаковых двухэтажных флигеля. У одного из них и стоял сейчас экипаж. К Вере подошла дочь управляющего. Поняв, что новая хозяйка любуется домом, она, с чуть заметной ноткой гордости, объяснила:
– Французы его сожгли. Перекрытий, крыши и оконных рам не было, но кирпичная кладка уцелела. Сначала перекрытия восстановили, крышу покрыли, на следующий год рамы новые вставили, а в этом году все изнутри и снаружи оштукатурили и черные полы настелили.
– Так в доме еще нельзя жить? – уточнила Вера.
– Пока нет, но левый флигель, где господин Бунич с супругой после войны временно жили, отремонтирован и свободен. Там чисто, женщины из деревни уборку делали три дня назад. Я сейчас отправлю кухарку белье застелить, а пока покушать и отдохнуть с дороги можно и у нас. Прошу, ваше сиятельство, проходите.
Вера пошла за ней во флигель управляющего. Весь его первый этаж занимала одна большая комната с пузатым буфетом, парой одинаковых деревянных диванов и широким овальным столом, застеленным пестрой скатертью. Крутая лесенка вела на второй этаж, а прямо под ней убегал вглубь дома узкий коридор. По доносящимся оттуда вкусным запахам Вера поняла, где находится кухня.
– Второй флигель такой же?
– Да, ваше сиятельство, все точно так же.
– А сколько комнат наверху?
– Две спальни: одна большая, а другая маленькая.
– Вот и хорошо, мы с Дуняшей будем спать наверху, а в кухне поселится Осип, – решила Вера.
Марфа заспешила с сервировкой и предложила:
– Я накрою на стол, а обед скоро подадут. Не угодно ли вам шубу снять – здесь тепло.
Печку в бело-синих изразцах натопили от души. Вера сняла шубу и шляпку, отдала их Дуняше, а сама подошла к печи и прижала руки к теплому боку. Марфа тоже скинула тулуп и валенки, и теперь ходила по комнате в темном мужском костюме и коротких мягких сапогах для верховой езды. Длинные и широкие мужские панталоны и черный, в талию сюртук выглядели не слишком изящными, но довольно новыми. Так одевались купцы средней руки или приказчики, и то, что волосы Марфа по-мужски подстригла под скобку, делали ее сходство с купчиком еще сильнее.
«Она так одевается, чтобы впечатлить своей солидностью мужиков, – догадалась Вера, – или дело в ее работе: ведь в юбке и туфлях дерево не срубишь, а она это сделала запросто».
Но сейчас Марфа так же ловко накрывала на стол, исполняя исконно женскую работу. Заметив взгляд своей новой хозяйки, она застенчиво улыбнулась и призналась:
– Как хорошо, что вы наконец-то приехали.
– Я больше вас не брошу, – пообещала Вера. Давая обещание, она уже знала, что – чистая правда, ведь новое дело не отпустит ее… Наверное, уже никогда.
Глава 10
Дело не ждет! Вера поспешно застегнула черный сюртук. Мужская одежда оказалась такой удобной, что ей уже не хотелось надевать платья. Да и куда было их здесь носить, ведь они с Марфой целыми днями ездили по работам. Пусть ее новый наряд выглядел не больно изысканным, но в нем Вера чувствовала себя абсолютно свободной и на строительные лесах, и в поездках.
То, что Солита – большое поместье, она знала с самого начала, но то, что поля его будут необъятны, а крестьян в нем наберется почти тысяча душ, стало для Веры сюрпризом. Почему бабушка промолчала об этом? Скорее всего, та давно смирилась, что имение разорено французами, и пройдут десятилетия, прежде чем оно будет восстановлено. Но все оказалось не так плохо. Сорин был прекрасным управляющим, он успешно воспользовался свободой, предоставленной ему хозяйкой, и все большие и малые деревни, как венком окружавшие центральную усадьбу, давно оправились от последствий войны. Дома, церкви и школу отстроили, да и все крестьяне давно восстановили свои хозяйства. Прошлый год, когда в имении хозяйничала Марфа, оказался на редкость урожайным, и хотя стройка все еще требовала немало средств, в железном ящике, переданном новой хозяйке сразу по приезде, лежало почти двадцать четыре тысячи серебром. Так что Вере теперь было где и с чем развернуться. Два месяца пролетели для нее, как один день. Теперь ее волновал сев, и сегодня они с Марфой задумали поехать на дальние поля.
Вера уже собралась выйти из своего флигеля и, перейдя двор, присоединиться к помощнице за завтраком, когда увидела, что мимо ее окон проскакал Бунич. Она рассмеялась. Ее душка-сосед подгадал правильно – теперь его придется приглашать к столу. Бунич появился в Солите через пару дней после приезда молодой графини. Он так искренне каялся, что, застряв в Смоленске, не выполнил ее поручение, так смешно закатывал глаза и заламывал руки, что Вера растаяла, и пригласила Бунича на кофе. С тех пор сосед ежедневно приезжал в гости. Он развлекал и забавлял ее, и единственным, что осложняло ей жизнь, стали откровенные ухаживания Льва Давыдовича. Делал он это тот так же бурно и забавно, как и все остальное. Он осыпал Веру комплиментами, и удивлялся, когда та начинала сердиться.
– О чем вы? Лесть любят все, – хохотал он.
Но обижаться на этого уездного Казанову у Веры не получалось.
– Посмотрим, что он придумает на сей раз, – хмыкнула она и поспешила во флигель управляющего.
Бунич уже стоял у накрытого стола и любезничал с Марфой. Услышав шум шагов, он обернулся и воскликнул:
– Вера Александровна, вам и мужской костюм к лицу – но в платье и шляпке вы просто неотразимы!
Вера пропустила его тираду мимо ушей и, поздоровавшись, осведомилась:
– Что привело вас так рано?
Это был слабо замаскированный намек на настырность визитера, но тот, не моргнув глазом, сообщил:
– Вы же знаете, что я держу большую солеварню, мне дрова нужны каждый день, а дорога до моего леса совсем раскисла, позвольте привезти пару возов из вашей рощи, на несколько дней мне хватит, а там и грязь подсохнет.
Вера поморщилась, она не хотела без нужды вырубать свои леса, их и так проредили для строительства, поэтому отказала:
– К сожалению, я не смогу выполнить вашу просьбу: и сама больше рубить не стану, и другим не позволю.
– Да? Жаль… – легкомысленно отозвался Бунич, и стало ясно, что сегодняшняя просьба оказалась обычным предлогом, а отказ совершенно его не разочаровал.
Бунич по-прежнему мялся у накрытого стола, и пришлось его приглашать. Гость не отказался ни от блинов, ни от каши, ел за обе щеки и без умолку болтал о баснословных доходах своей солеварни, а напоследок и вовсе сообщил:
– Я сейчас – самый богатый жених в уезде, многие семейства хотели бы отдать за меня своих дочерей.
Ситуация сложилась – смешнее не бывает, и Вера с откровенной иронией поинтересовалась:
– Ваша покойная супруга ведь была троюродной сестрой моей бабушки?
Марфа не удержалась и прыснула в тарелку, а Бунич побагровел, но справился с возмущением и парировал:
– Моя покойная супруга была намного моложе своей кузины Румянцевой. Мне всего лишь пятьдесят.
Грех обижать людей, тем более таких, как Бунич! Вера решила больше не подшучивать над соседом и перевела разговор на тему, которая должна была показаться ему интересной.
– Позвольте полюбопытствовать, как может ваша солеварня быть такой доходной, если вам требуется много дров. Я покупаю соль по сорок копеек за пуд, вы, конечно, отдаете ее перекупщикам дешевле – скорее всего, копеек по тридцать, сколько же в этой цене забирают дрова?
– Я так никогда не считал, – удивился Бунич, – но я продаю соль возами, и знаю, сколько за это платят. Я от соли получаю больше, чем от продажи зерна!
Разговор с соседом явно не клеился и, чтобы больше не сердить его, Вера отложила салфетку, давая сигнал к окончанию застолья, но стук в дверь предупредил о новом визите. В комнате появился незнакомый офицер. Среднего роста, лет за сорок. Он внимательно оглядел присутствующих и, поклонившись Вере, сообщил:
– Сударыня, позвольте представиться: я – исправник этого уезда капитан Щеглов, к сожалению, еще не имел чести познакомиться с вами.
Вошедший говорил уверенно, но без жестких интонаций, свойственных военным. Его приятное лицо казалось живым и подвижным, а карие глаза смотрели дружелюбно. Вере он сразу приглянулся, а чутье подсказало ей, что новый знакомец – человек благородный, и она с искренним дружелюбием отозвалась:
– Очень рада, капитан! Меня зовут Вера Александровна Чернышева, бабушка подарила мне Солиту, так что я останусь здесь жить. Вы присаживайтесь к столу, может быть, хотите позавтракать, выпьете чаю или кофе?
– От кофе не откажусь, – обрадовался исправник, – здесь он – большая редкость, а я его люблю.
Марфа молча поставила перед Щегловым чашку и налила в нее кофе.
– Не холодный, Петр Петрович? – шепнула она, не поднимая глаз.
– В самый раз, спасибо, Марфа Васильевна. Я бы хотел объяснить, что привело меня в Солиту. Хорошо, что и Лев Давыдович здесь, сразу всем хозяевам имений и расскажу о наших загадках. Дело в том, что в овраге, отделяющем ваше имение от Хвастовичей, нашли застреленного человека. Его опознали, это – шорник из уездного городка, пропавший полгода назад. Я веду опросы людей во всех окрестных деревнях, но пока безрезультатно. Вам бы, Вера Александровна, не мешало охрану к дому приставить.
Веру, привыкшую к тому, что в Москве, почти не скрываясь, шалит разбойный люд, его рассказ не впечатлил, и она отказалась:
– Спасибо за заботу, но в моем флигеле уже есть охранник, а для Марфы и ее отца мы что-нибудь придумаем.
– Ну, воля ваша, как хотите, – отозвался Щеглов. Он поблагодарил за кофе и сообщил: – Я отправляюсь в Хвастовичи, хозяин имения пока не приехал, предупрежу управляющего и начну там опрашивать дворовых.
– А что, разве в Хвастовичи приедут хозяева? – вклинился в разговор до сих пор молчавший Бунич. – Там уже больше двадцати лет никого не было.
– Управляющий письмо получил, что хозяин собирается в отставку и приедет сюда на постоянное житье, – пояснил исправник, поднимаясь из-за стола.
Бунич тоже поднялся, он вдруг отчего-то покраснел, но продолжал засыпать исправника вопросами:
– С чего же это Горчаков в отставку выходит? В таких чинах ходил! Может, из-за младшего брата? Тот ведь, как говорят, в восстании участвовал, теперь и старшего заодно из армии погонят. Да и то, правда – как можно кавалергардами командовать, коли ты сам ненадежен.
Услышав название полка, Вера насторожилась – неужели Бунич рассказывал о том командире, что отказался просить за Боба? А причем тут младший брат? Или у того высокомерного красавца, приезжавшего к ним в дом, брат так же арестован, как и у нее самой? Неужто в чем дело?!
Ее размышления прервал исправник:
– Вера Александровна, вы уж об охране не забудьте, – напомнил он и, попрощавшись, вышел. За ним заторопился Бунич, и девушки остались одни.
– Марфа, что это наш Лев Давыдович так заволновался из-за несчастий соседа? Он, конечно, человек добрый и приятный, но для такого смятения чувств должна быть личная причина.
– Не знаю, Вера Александровна. В Хвастовичах на моей памяти никогда хозяева не жили, отец рассказывал, что это имение граф Обольянинов в приданое единственной внучке отдал. Но при чем тут Бунич не скажу…
– Да, бог с ним, – отмахнулась Вера и вернулась в разговоре к собственным делам.
Они с Марфой уже понимали друг друга с полуслова и так же слаженно работали. Этим утром, пронизанным золотистым апрельским туманом, обе рвались на поля. Кони уже ждали их, и через пару минут девушки выехали со двора Солиты.
Глава 11
Оставив позади двор Солиты, Бунич отправился к себе, но потом передумал и решил догнать исправника. Это было вдвойне полезно: он мог узнать что-нибудь новое о тревожном событии, случившемся в округе, да и на Хвастовичи поглядеть хотелось. Лев Давыдович погонял коня, а разворошенная память, как нарочно, подкидывала одно за другим болезненные воспоминания: с Катенькой Обольяниновой они родились в один год, да и росли вместе. Отец чуть ли не каждый день брал Леву с собой в дом старого графа, где с рождения воспитывалась его единственная внучка. Катенька росла сиротой: отец ее погиб в очередной войне то ли с персами, то ли с турками, а мать вновь вышла замуж.
Дети очень дружили. К шестнадцати годам Катенька превратилась в настоящую красавицу: синие глаза, черные как вороново крыло кудри и белоснежная кожа делали ее изысканным экзотическим цветком. Лева любил эту яркую, как крылья бабочки, юную графиню со всей нежностью первой любви, и ему казалось, что и она, когда немного повзрослеет, разделит его чувства. Но этим мечтам не суждено было сбыться: старый граф устроил брак своей наследницы с сыном своего друга. Две знатные семьи объединили свои богатства, и синеглазая Катенька стала княгиней Горчаковой. Но даже не это оказалось самым страшным. Когда, уезжая в столицу, Катенька нежно поцеловала друга детства на прощание, Лева увидел в ее глазах лишь радостное предвкушение. Та сама рвалась замуж, здесь ее ничто не держало. Он все выдумал, она никогда не любила его, и то, что он принимал за намек на возможное чувство, было лишь пустым кокетством: юная женщина оттачивала на нем свое умение очаровывать. Он смотрел вслед отъезжающей карете, а в мозгу стучало:
«Все ложь! Я никогда не был ей нужен».
Это разочарование навсегда излечило Бунича от иллюзий по отношению к противоположному полу. Впрочем, он вполне удачно женился на милой и богатой женщине, но всегда хотел, чтобы Катеньке в столице было плохо, чтобы она наконец-то поняла, как в свое время ошиблась. Какую приятную новость привез сегодня капитан Щеглов! Старшего сыночка Катеньки выкинули из армии, а младшенький уже давно сидит в крепости. Учитывая, что два ее средних сына мертвы, комплект несчастий стал полным.
«Эти сыновья должны были стать моими, а раз их мать предпочла другую судьбу – так пусть они теперь хлебают горе полной ложкой», – злорадствовал Бунич.
Но прошлое – прошлым, а сегодняшние дела взволновали Льва Давыдовича гораздо сильнее. Труп в соседском овраге мог выбить из колеи кого угодно! Бунич хотел выяснить у исправника все подробности и постараться обезопасить свое имение от любой угрозы. Впереди он заметил Щеглова, тот уже повернул на липовую аллею, ведущую к большому светло-желтому барскому дому в Хвастовичах. Это был единственный на всю округу уцелевший во время войны дом. За красоту его выбрал любимец Наполеона – маршал Мюрат. Тот дважды останавливался в этой усадьбе и, уходя, распорядился ничего не жечь. Вслед за исправником Бунич свернул на подсохшую под апрельским солнцем аллею и догнал капитана уже у крыльца.
– Я с вами, Петр Петрович, похожу, послушаю, что люди говорят, а то уж больно странные дела у нас в уезде творятся.
– Вот и отлично, вдруг что-нибудь важное заметите, – обрадовался Щеглов, и они вместе вошли в вестибюль.
Дом поразил Бунича: тот совершенно не изменился и как будто заснул в ожидании своей синеглазой хозяйки. Так же сверкал паркет, темный бархат штор обрамлял проемы высоких окон, и картины висели на прежних местах. Как это было несправедливо – ведь дом Бунича сгорел, не сохранилось ничего, связанного с его юностью, а здесь через распахнутые двери гостиной он видел большой портрет пятнадцатилетней Катеньки в первом «взрослом» платье. Бунич не удержался и подошел поближе. Художник, как видно, и сам пришел в восторг от своей модели, Катенька получилась, как в жизни – яркой, прекрасной и полной огня. И на этом портрете она очень походила на девушку, занимавшую теперь все мысли Льва Давыдовича – на графиню Веру Чернышеву. Наконец-то жизнь сделала круг и вернула Буничу то, что он не смог получить в юности, и он не собирался упускать свой шанс.
По ступеням крыльца легко взбежал управляющий Татаринов – умный и оборотистый мещанский сын из Смоленска. Увидев гостей, он дружелюбно поздоровался и поинтересовался:
– Чем обязан, господа?
Исправник вновь рассказал о найденном теле, потом по очереди опросил всех дворовых, но никто и слыхом не слыхивал о шорнике из уездного городка.
– Да, незадача, никто ничего не видел и не слышал, – подвел капитан неутешительный итог. – Теперь только ваши Дыховичи остались. Поедемте к вам, Лев Давыдович.
Буничу перспектива искать убийц среди своих мужиков показалась забавной, и он расхохотался, но спорить не стал, а лишь предупредил:
– Да ради бога, милости прошу. Только если бы в Дыховичах хоть один человек что-нибудь знал, мне это сразу же доложили бы. Мой Поляков – лучший управляющий во всей губернии: в кулаке всех держит, мужики только подумают – а он уже все знает. Бесполезно это…
Попрощавшись с Татариновым, они отправились в Дыховичи. Бунич, как всегда, оказался прав, толку от этой поездки было столько же, сколько и от предыдущей. Четыре часа спустя, не услышав ничего нового, исправник уехал в уездный город. По дороге он так ничего и не смог придумать ничего путного. Не было ни одной идеи… Что за бестолочь такая? Никто ничего не видел и не слышал…По всему выходило, что убийство бедолаги шорника, так и останется нераскрытым. Настроение у Щеглова сделалось хуже некуда. Можно сказать – просто мрак!
Полный мрак, и лишь в круге света – обольстительная нагая красавица. Вот она вытащила из волос последнюю шпильку, и волна черных как смоль кудрей хлынула ей на плечи. Пряди скользят по белой коже, закрывают упоительно гибкую спину. С этим невозможно смириться! Закрыть такую красоту!
Кокетка прекрасно понимает, какой пытке подвергает человека, жадно взирающего на нее из темноты. Она шаловливо качает головой и грозит ему пальцем.
– Не сразу!
Человек глотает слюну, ведь обольстительница повернулась к нему лицом. Колышется масса черных кудрей, мелькает круглая грудь с острым соском. Сладкая пытка продолжается, он хочет эту дивную женщину, до безумия, до боли, но, замерев в темноте, не делает даже попытки приблизиться к ней.
– Нельзя! – говорит она.
Длинные белые пальцы сжали костяную щетку, и тонкая рука взлетела к макушке. На безымянном пальце этой руки нет кольца – пресловутого знака, что у женщины есть хозяин. Щетка скользит по черному покрывалу волос, а мужчина следит за рукой обольстительницы. Это так интригующе! Белоснежная рука свободна. Кто возьмет ее, кто станет хозяином этой красоты?
Низкий головой смешок возбужденной женщины стал последней каплей, и человек рванулся из тьмы. Он протянул руку, и белые пальцы оказались в его ладони. Вот она награда! Но женщина вырвала руку и теперь с криками бежит прочь:
– Нет, не твое!.. Ты недостоин!
Как это так недостоин?! С чего она решила, что может оскорблять его? Человек несется вслед. Вот уже совсем рядом летящая масса черных волос. Или это колышется множество змей, раскрывших крохотные алые пасти? Но ярость мстителя так сильна, что ему уже не до змей: он должен рассчитаться с обидчицей. Еще мгновение и кулак раскроит ее затылок. Человек размахивается, однако встречный удар сбивает его с ног. Он падает, но не чувствует земли, а летит в черную пропасть! Ужас разрывает ему сердце, человек пытается ухватиться за шершавые каменные стены… и просыпается.
Это был лишь сон! Человек вдруг видит, что его руки мелко дрожат. Он пугается: никогда такого с ним раньше не случалось. Он что болен? Вскочив с постели, он подходит к окну и рывком распахивает его створку. Дерзкая прохлада апрельской ночи врывается в комнату. Человек глубоко дышит и постепенно перестает дрожать, руки его ровно лежат на подоконнике, и ужас отступает. Он подходит к зеркалу и сквозь предрассветный сумрак вглядывается свое лицо. Никаких признаков болезни. Он успокаивается.
– Ну, это мы еще посмотрим, кто чего достоин, – тихо говорит он своему отражению.
Высокий гнедой жеребец Марфы еле плелся по раскисшей тропе, а вороная кобыла Ночка, выбранная Верой для себя, послушно двигалась по его следу. Поездка оказалась напрасной: земля была еще совсем сырой, и с сев пришлось отложить. Выехав на поле, девушки уже не смогли повернуть обратно и медленно перебирались по тропе на другую сторону, надеясь выбраться на дорогу по краю перелеска.
– Все, здесь потверже, – обернувшись, крикнула Марфа.
Действительно, ее конь пошел быстрее, а за ним и Верина кобыла выбралась на плотный участок тропинки. Еще через пару минут они оказались на опушке перелеска, узкой полосой разделявшего два больших поля.
– Куда дальше? – поинтересовалась Вера.
– Поедем налево по краю опушки, потом через второе поле, а там уже и дорога.
– Ну, поезжай, а я за тобой.
Марфа поскакала вперед. На опушке прошлогодняя трава крепко оплела корнями влажную землю, и копыта лошадей здесь не проваливались. Держа дистанцию, Вера прикидывала, что же теперь делать с севом. Она не ожидала, что Марфа так резко остановится, и поняла, что что-то не так, только когда Ночка резко шарахнулась вправо, и замерла сбоку от коня Марфы. Вера увидела то, что послужило причиной заминки: в кустах у тропы, скалил клыки волк. То ли он ослабел от голода, то ли обнаглел, не встречая отпора, но волк никуда бежать не собирался, а наоборот, тихо рычал.
Марфа потянулась за ножом, но тут впавшая в первобытный ужас Ночка, не разбирая дороги, рванулась в лес. Раздавшийся слева треск веток сообщил и о бегстве волка. Это еще сильнее напугало лошадь, и она добавила прыти. Пытаясь остановить ее, Вера изо всех сил натянула поводья, но лошадь стала неуправляемой. Что делать? Всадница закричала:
– Стоять! Стоять!
Бедная Ночка, похоже, вспомнила, что на ее спине сидит человек, она резко остановилась, и Вера, не удержав равновесия, слетела с седла. Наверное, она на несколько мгновений потеряла сознание, поскольку, открыв глаза, очень удивилась. Она лежала на холодной и мокрой земле, а прямо перед ее глазами высилась приплюснутая пирамида из покрытых пожелтевшей травой валунов. Это походило на крохотный языческий курган. Вера встала на четвереньки и потрясла головой. Пирамида не исчезла. Девушка поднялась на ноги и огляделась. Скорее всего, лошадь сбросила ее где-то в середине перелеска. Слева слышался голос Марфы, та звала ее. Вера откликнулась. Ночки видно не было. Оставалось только дождаться помощницу и попробовать выбраться из чащи на ее коне. Вера побрела к пирамиде и, добравшись до нее, присела на прохладные валуны. Все ее тело болело, видать, при падении она сильно ушиблась. Вера бессильно склонила голову и вдруг поняла, что смотрит на доску: потемневшая от времени, та чернела между носками ее заляпанных грязью сапог.
– Что это?
Вера отгребла в сторону рыхлую, влажную землю и поняла, что рядом – тоже дерево. Войдя в азарт, она принялась сбрасывать землю обеими ногами и откопала вторую доску, лежащую параллельно первой. Это уже смахивало на крышку погреба, над которой сложили каменную пирамиду. Но кто и когда это сделал, и что хранилось в этом лесном схроне?
– Слава Богу, вы не пострадали! – услышала она радостный голос Марфы, та протискивалась к Вере сквозь кусты, ведя за собой виновницу происшедшего – Ночку. Увидев странные движения хозяйки, Марфа замерла.
– Я нашла здесь что-то необычное, – крикнула ей Вера, сбрасывая верхние камни пирамиды. – Оставь коней, пожалуйста, и помоги мне.
Заинтригованная Марфа подошла ближе. Вера уже расчистила площадку перед пирамидой, а теперь сбрасывала камни, стараясь кидать их как можно дальше. Марфа стала рядом. В две руки они откидывали камни пока последний валун наконец-то не шлепнулся в кусты. Под камнями земли не оказалось, они скрывали толстые черные доски, сбитые в квадратную то ли дверцу, то ли крышку. С одной стороны к ней были прибиты черные железные петли, а с другой – заржавевшая от времени скоба.
– Что там? – Марфа произнесла вслух то, о чем подумали обе.
– Может, пастухи здесь погреб сделали?
– Так здесь всегда хлеб сеяли, скот никогда не пасли.
– Это при твоем отце, а до него?
– До него – я не знаю, – чистосердечно призналась Марфа и предложила: – Ну что, может, откроем?
– Давай вместе, – согласилась Вера. Они одновременно дернули за скобу. Крышка поднялась, открыв уходящий в темноту глубокий лаз. На локоть ниже поверхности земли маячила первая ступень лестницы. Смотреть в эту черную глубину было страшновато, а уж лезть вниз тем более. Вера почувствовала, как затряслись руки. Проклятая контузия давала себя знать.
– Нужно бы факел сделать, – нерешительно предложила Марфа.
Она достала из кармана клубок пеньковой бечевки, отмотала большой кусок и накрутила бечевку на выломанную из ближайшего орехового куста палку. Ей пришлось повозиться, высекая огонь, но бечевка на самодельном факеле все же занялась.
– Ну, я пошла, а вы уж здесь пока оставайтесь, – попросила Марфа, направляясь к лазу. – В случае чего – за помощью съездите.
– Ну, как же ты одна туда полезешь? А если там ужас какой-нибудь?
– Так все равно кто-то наверху должен остаться, для страховки.
Марфа осторожно поставила ногу на ступень, Дерево оказалось крепким, и она осмелела. Девушка встала на следующую ступеньку, а потом начала спускаться. Вера ждала, затаив дыхание. Наконец Марфа крикнула:
– Все, я стою на дне, только это не погреб, здесь как будто комната и коридоры в разные стороны.
– Я иду к тебе, – решила Вера.
Поняв, что если сейчас не сможет перебороть свой страх, то потом умрет от стыда, она поставила ногу на первую ступень, потом на вторую. Доски под ее ногами оказались крепкими и сухими, и ужас постепенно растаял, как туман под весенним солнцем. Вера одолела спуск и стала на твердый пол рядом с Марфой. Оглядевшись, она поняла, что ее помощница совершенно права: пещера смахивала на вестибюль, откуда расходятся три коридора.
– Марфа, так это же шахта! Я сама их не видела, но знаю, что в них добывают уголь и руду.
– А здесь что?
– Если бы здесь что-то добывали, то твой отец и ты, наверняка, знали бы об этом. Скорее всего, здесь вели добычу раньше. Но чего? Моему прадеду это имение пожаловали из казны за его геройство в войне с турками. Бабушка как-то обмолвилась, что Солита отошла короне после смерти последнего представителя графского рода. Получается, что этой шахтой не пользовались лет пятьдесят или более.
– Не похоже, чтобы эта лестница могла так сохраниться: за пятьдесят лет во влажной земле, она давно должна была сгнить, – не поверила Марфа.
– В любом случае, мы с тобой будем просто гадать, – практично заметила Вера, – давай лучше попробуем пройти по коридору. Можно двинуться направо или налево, выбирай.
– Лучше направо, – решила Марфа, подняла повыше факел и зашагала вперед. Вера двинулась за ней.
Коридор оказался широким и на удивление сухим, и воздух в нем был не затхлый, а легкий, с горьковатым ароматом. Девушки прошли уже шагов сто, а коридор все не кончался. И хотя боковых ответвлений они не видели, Вера предложила:
– Марфа, давай лучше вернемся обратно.
Помощница кивнула ей и повернула назад. Когда они добрались до лестницы, Вера с облегчением вздохнула. Она глянула на такой далекий светло-голубой квадратик неба и повернулась к Марфе, освещавшей факелом одну из стен.
– Ну что там, есть следы?
– Да тут все в следах, это помещение просто вырубили.
– Странно, я думала, что когда прорубают штольни, то их укрепляют бревнами, а здесь ничего нет, и следов того, что породу выбрасывали на поверхность, снаружи не видно. А ведь сколько ее нужно было вытащить, чтобы отрыть такие коридоры!
– Эту породу никто не стал бы выбрасывать, – отозвалась Марфа, рассматривая подобранный на полу маленький камешек.
– Почему?
– Потому что это – соль!
Впервые в своей жизни Вера не знала, что и сказать.
Глава 12
«Что я им скажу?» – мучилась Загряжская.
Она ждала свою самую близкую подругу и ее единственную племянницу, но обрадовать ей их было нечем. Императрица-мать отказалась принять графиню Чернышеву. Как теперь уже поняла Наталья Кирилловна, двор занял жесткую позицию: царская семья отказала родственникам всех заключенных.
Ее гостьи не заставили себя долго ждать, и четверти часа не прошло, как лакей доложил о прибытии графинь Румянцевой и Чернышевой. Наталья Кирилловна вздохнула и приготовилась к тяжелому разговору.
– Ну что, Натали, получилось? – вместо приветствия спросила ее подруга.
– И тебе здравствуй, Маша, и тебе, Сонюшка, – отозвалась старая фрейлина, поднимаясь навстречу гостям.
– Добрый вечер, тетя. Надеюсь, что добрый, – напряженно покашливая, поздоровалась Софья Алексеевна.
– Ну, так что? – повторила свой вопрос Румянцева, хотя и поняла уже, что ничего у ее подруги не получилось.
– Отказала!
– Это была моя последняя надежда, – вырвалось у Софьи Алексеевны.
– Зачем ты так говоришь? – рассердилась ее тетка. – Надежда остается всегда!
– А мне что делать? Я испробовала все, что мы смогли с вами придумать, но меня никто не хочет слушать! Более того, даже вчерашнее свидание с сыном оказалось последним: когда я уходила, надзиратель предупредил меня об этом. С восставшими все уже решено, их жены начали собираться в Сибирь.
– Безумие какое! – охнула Загряжская. – Молодые женщины, выросшие в заботе и богатстве, изнеженные – и вдруг поедут в Сибирь!..
– Ну, а я уже не молодая, в жизни многое повидала, поэтому могу сделать то же самое, никого не удивив.
Наталья Кирилловна испугалась:
– Опомнись, Софи, что ты говоришь! Ты там погибнешь. Разве твоему сыну от этого станет легче?
– И правда, Сонюшка, что ты задумала, а девочки как же?! – вскричала Румянцева.
– Вера уже сейчас может полностью меня заменить, а Надин я оставлю на вас, ее пора вывозить. Любочку заберу в Москву и поручу ее кузине Алине – та одинока и бедна, она будет рада пожить в нашем московском доме. Я оставлю денег, чтобы они спокойно провели год, а там видно будет – или я вернусь, или вы с Верой решите, что делать дальше.
– Так ты уже все продумала! – возмутилась Загряжская. – И когда ты все это решила?
– Как только узнала об этой возможности. Если жены едут за мужьями, то мать за сыном поедет всегда.
– Жену, может, и пустят в Сибирь, а вот мать – нет, – вмешалась Мария Григорьевна. – Опомнись, Соня, ты же не можешь просто поехать туда на прогулку, наверное, нужны какие-то разрешительные бумаги!
– Не забывайте, что у нас есть очень влиятельный родственник – будущий военный министр, – с непередаваемо брезгливой интонацией напомнила Софья Алексеевна. – Он спит и видит получить наше состояние – скорее всего, Александр Иванович с радостью отправит меня в Сибирь.
При упоминании о Чернышеве Загряжская тихо выругалась и заметила:
– Этот не только отправит, но и укатает тебя в этой глухомани, чтобы девочек осиротить. Правильно я ему от дома отказала. У этого человека – ни стыда, ни совести. Мне зять сказал, что этот наглец бедолаге Горчакову условие поставил: князь Платон уходит в отставку, освобождая место командира кавалергардов, а за это Чернышев пообещал его младшего брата спасти от каторги и отправить на Кавказ рядовым.
– О чем это вы? – не поняла Софья Алексеевна.
– О том, что младший брат Горчакова арестован. Князь Платон так же, как и ты, мыкался, ища помощи, а теперь ваш распрекрасный родственник припер его к стенке. Чернышев хочет посадить на место командира кавалергардов своего человека, вот и вынуждает Горчакова подать прошение об отставке. Сразу после коронации у кавалергардов будет новый командир.
– Понятно, что он пытался мне объяснить, когда отказался хлопотать за Боба. Горчаков тогда сказал, что его вмешательство точно не поможет, а даже сможет навредить, – наконец-то догадалась Софья Алексеевна.
– А я его из дома выгнала, – призналась ее тетка.
– Когда?
– Он приехал в тот же вечер – тебя искал, сказал, что хотел бы объясниться. А я велела ему убираться.
Старая графиня окончательно смутилась, и Загряжская пожалела подругу:
– Ну, и нечего переживать, что сделано – то сделано. Надо смотреть вперед. – Она обратилась к Софье Алексеевне. – Я прошу тебя, Соня, пока решения суда нет, ничего не планируй!
С видимой неохотой графиня согласилась:
– Ну, хорошо. Но раз я не могу больше видеться с сыном, и помощи мне больше ждать неоткуда, я хотела бы уехать в Москву. Там и буду ждать решения нашей участи. Если вы возьмете на себя заботу за Надин, я завтра же уеду.
– Моя Мари сама предложила вывозить твою дочку, да мы и подругой еще не померли, поможем, – пообещала Загряжская.
Софья Алексеевна изо всех сил старалась справиться со слезами (те блестели в ее глазах, грозя вот-вот пролиться). Впрочем, она все-таки смогла слабо улыбнуться:
– Спасибо вам, вы сделали для меня возможное и невозможное, но быть рядом с сыном и не иметь возможности увидеть его – просто невыносимо. Я боюсь, что не выдержу.
– Езжай, дорогая, – сдалась, наконец, и ее тетка, – за девочек не беспокойся. Вера уже написала, что остается в Солите самое меньшее до конца июля, а Надин будет под нашим присмотром.
Загряжская поддержала ее…
Еще не даже рассвело, когда графиня в последний раз обняла Надин и тетку, усадила в карету сонную Любочку и покинула дом, где провела самые тяжкие дни своей жизни.
Как же тяжко! Мучаясь от бессонницы, Платон Горчаков еле дождался того предрассветного часа, когда ночная мгла уже отступает, а солнце еще не поднялось над крышами. Он быстро натянул мундир и, растолкав ординарца, предупредил, что уезжает кататься. Выйдя на Невский, он с облегчением вдохнул еще сырой и прохладный воздух. Проспект спал. Платон оказался единственным прохожим, а уж экипажей не было и в помине. Настроение его очень подходило влажной серой мгле мрачного утра. Он уже знал, что брат не пойдет на каторгу в Сибирь, правда за эту уверенность Платон заплатил очень дорого: Чернышев отбирал у него все, что составляло с семнадцати лет смысл его жизни. По большому счету, кроме армейской, другой жизни у князя Горчакова и не было, а теперь его лишали ее, не дав взамен никакой другой.
«Был бы это пехотный полк, Чернышев не проявил бы к нему интереса, – растравляя свои раны, терзался Платон, – и тогда никакой торговли не было бы. Но что стало бы с Малышом?.. Я был обязан это сделать».
Он знал, что поступил правильно, но тяжкая, убийственная тоска не отступала. Чем теперь заменить радость любимого дела? Как можно отказаться от ощущения гордости при взгляде на ряды своих воинов. А как он сможет расстаться с друзьями-кавалергардами, если в его жизни просто не останется других близких людей? Впереди маячила жизнь одинокого неудачника.
«Сам виноват, – подсказал ему внутренний голос, – тридцать пять лет, давно мог бы жениться, сейчас уже имел бы дюжину детишек».
Но что теперь жалеть о прошлом? Его не изменить. Впрочем, Платон все равно не женился бы. Все эти годы ему казалось, что брак неминуемо затянет его на место отца. Воспоминание о гробе в зеркальном зале родительского дома, навсегда закрыло для него двери к счастливой жизни. Тоска обожгла сердце. Если так пойдет, он может и не дождаться отставки: пистолет к виску, вот и все, долгожданное освобождение от всех бед.
«Так нельзя, если я сдамся и выкину такой фокус, что будет с Малышом? Жадная дальняя родня растащит поместья, а что потом? – мучился Платон. Собрав остатки воли, он приказать себе: – Поумирал и хватит! Пора подниматься и жить дальше».
Горчаков добрался до того места, где обычно переходил на другую сторону проспекта, до конюшни осталось – рукой подать. Он ступил на мостовую и сделал первый шаг, когда с набережной Мойки навстречу ему свернула тройка, тянувшая тяжелую карету. Сонное очарование тишины сразу развеялось. Уступая дорогу экипажу, Платон шагнул назад и замер на краю проезжей части. Разворачиваясь, карета, почти задела его, и он увидел в окне бледное лицо матери своего арестованного подчиненного Чернышева. Дама нежно обнимала спящую на ее плече юную девушку. У той были броские черные волосы и изящные черты тонкого лица. Вспомнив свою неудачную попытку объясниться с этим семейством, Платон представил и высокомерную Велл. Девушка в карете походила на нее, но казалась моложе. Графиня сидела, прикрыв глаза, и не заметила Платона, а он мгновенно вспомнил то острое чувство унижения, когда красотка с прозрачными фиалковыми глазами выставила его за дверь.
«Интересно, где она теперь?» – подумал он.
А ведь подумал не впервые… Все четыре месяца, прошедшие с той скандальной встречи, ему хотелось объяснить семье Чернышевых, а если быть совсем честным – то именно надменной Велл, что он не трус и не подлец, а просто такой же попавший в переплет родственник, как и они сами. Поэтому и снились Платону прозрачные глаза под прямыми черными бровями, впрочем, они часто вспоминались и при свете дня. Но что он мог сделать? Его уже один раз выставили из дома. Встретить графиню Чернышеву и ее дочерей в обществе было невозможно – они никуда не ездили. Стать под окнами и кричать: «Вы меня не так поняли!» – но тогда его точно заберут в сумасшедший дом. Нет, вариантов исправить ситуацию не просматривалось, а теперь графиня Чернышева уезжала из столицы.
«Ей дали на подпись такую же бумагу, что и мне, – догадался Платон, – свиданий больше не будет».
Помочь графине не мог никто, кроме всесильного Чернышева. Может, тот тоже выставил ей счет, как и Горчаковым, и женщине пришлось заплатить? Интересно, что этот хитрец потребовал со своей родни? Платон ни на минуту не сомневался, что ставку Чернышев не снизит ни для кого. Скорее всего, тот нацелился на состояние графа Владимира, но тогда его бедной матери и сестрам придется навсегда переселиться к тетке. Александр Иванович Чернышев оказался безжалостным противником.
Платон добрался до конюшни, разбудил дежурного, дождался, пока тот оседлает его любимца – белого, как сметана, Цезаря, и выехал на прогулку. Пролетев Конюшенную, он понесся в сторону Летнего сада. Город просыпался: открылись ставни лавок, у дворянских особняков мели улицу дворовые, посвистывали лошадям извозчики. Платон пришпорил коня и полетел к узорной решетке Летнего сада, надеясь вновь остаться в благословенном одиночестве.
В саду действительно еще никого не было, он один скакал по пустым аллеям. Было в этом что-то фантастическое. Платону даже показалось, что если он крикнет что-нибудь в тишину прекрасного сада, то его слова упадут в реку бытия. И он закричал:
– Господи, дай мне еще один шанс!
Горчаков и сам не понял, чего он просил. Вернуть доверие младшего брата? Или не забирать полк? А может, он просил избавления от одиночества? Однако слова вырвались, и значит, так было нужно. Необъяснимое предчувствие, что его жизнь вот-вот изменится, родилось в душе Платона. Он больше не жалел о том, что отдавал, и теперь смотрел вперед. Как ни смешно, но именно Летний сад и быстроногий Цезарь вернули его к жизни – дальше он собирался идти сам.
К тому времени, когда он добрался до своего дома, улицы уже шумели, прохожие бежали по делам, а по проезжей части спешили экипажи, даже у его собственного крыльца стояла ямская карета. Он поднялся к себе и отворил дверь. Ординарец выбежал ему навстречу, но выглядел тот каким-то потерянным.
– Ваше сиятельство, – пробормотал он, – тут такое дело…
– Что случилось? Известие о Борисе?
– Нет, про Бориса Сергеевича ничего не сообщали.
– Да? Так что же? – уже спокойнее осведомился Платон.
– Там в гостиной две барышни сидят, они сказали, будто вам – сестры.
– Кто?.. – изумился князь.
– Они так сказали, – замялся ординарец и тихо добавил: – дамы ведь, не выгонять же их.
– Я разберусь, – пообещал Платон и направился в гостиную.
На диване, держась за руки, замерли две юные девушки, скорее всего, им было лет по пятнадцати, не более. Сильно схожие в тонких чертах овальных лиц, они разительно различались красками: одна была рыжей, с яркими зелеными глазами, а вот вторая – синеглазой брюнеткой. Сестры? Но в их роду рождались только мальчики, у него не было даже кузин. И вдруг Платон понял, что ординарец сказал правду. Юная брюнетка казалась знакомой – она очень напоминала его мать. В холостяцкой квартире Платона действительно сидели сестры – дочери его матери от второго брака.
При его появлении девушки замерли, у обеих на лицах проступила скованность. Платон отметил, как их пальцы сжались еще сильнее, а спины выпрямились. Гостьи опасались плохого приема и старались держаться независимо. Он подошел к ним и поклонился, пытаясь выглядеть как можно радушнее.
– Меня зовут Платон Горчаков, – представился он. – Вы хотели меня видеть?
Девушки, как по команде, поднялись и, все так же держась за руки, молча стали перед ним. Платон не торопил их, давая возможность справиться с волнением. Наконец рыжеволосая чуть заметно выступила вперед, как будто закрывая собой сестру, и объявила:
– Мы приехали сюда по решению матери. Она велела нам разыскать вас.
– Я очень рад, – мягко подбодрил ее Платон. – Можно мне узнать ваше имя?
– Меня зовут Полина, а мою сестру – Вероника ди Сан-Романо.
Девушка говорила по-русски чисто, и только чуть заметный певучий акцент выдавал в ней иностранку. Ее синеглазая сестра тоже вступила в разговор:
– Нас крестили в православной церкви как Прасковью и Веру, можно называть нас и так.
– Не нужно называть нас так, – возмутилась рыжеволосая, – лучше уж, как мама звала.
Но Платона их перепалка больше не интересовала, он зацепился за сказанное Полиной слово.
– Вы сказали «звала», почему? – тихо спросил он, уже поняв, что все кончено.
– Потому что мама умерла… – со слезами в голосе объяснила Полина, а Вероника всхлипнула вслед за ней. – Теперь, по ее завещанию, вы – наш опекун.
Осознав, что ему нужно немедленно выпить, Платон налил себе полстакана анисовой. Появление в доме сестер перевернуло его жизнь с ног на голову. Щемящая боль, родившаяся в его груди из-за смерти матери, переплеталась с просыпающейся нежностью к юным родным существам. Но и ревность тоже не дремала – ведь именно сестрам, а не им с Борисом, досталась последняя любовь матери. Полина передала брату мягкий сафьяновый портфель с документами. Там лежали метрики и паспорта сестер ди Сан-Романо, завещания их родителей и письмо, адресованное ему. Платон до сих пор так и не решился открыть его. Что написала ему мать? Судя по тому, что рассказали сестры, она получила его письмо с известием о Борисе. Горчаков сделал изрядный глоток анисовой и вспомнил рассказ сестер.
Дочери-двойняшки были единственными детьми графа Теодоро и княгини Горчаковой, ставшей в Италии графиней Катариной. Новая семья матери слыла очень богатой. Банк, принадлежащий Сан-Романо на протяжении уже нескольких веков, процветал. Граф очень любил свою красавицу-жену, а дочек боготворил. Сестры искренне считали, что их маленький рай будет существовать всегда, но во дворец Сан-Романо пришла гостья, открывающая все двери. В Риме началась эпидемия холеры. Граф распорядился срочно паковать вещи, чтобы выехать на виллу в горах, отъезд удалось подготовить за несколько часов, только вот утром половина слуг уже лежала пластом, а к вечеру слег и сам хозяин. Тогда мать посадила двойняшек в экипаж и отправила их вместе с русской няней Марусей на виллу.
До лежащей высоко в горах маленькой деревушки и десятка вилл, разбросанных на склонах вокруг нее, болезнь не добралась, все здесь были здоровы. Девушки успокоились и стали ждать приезда родителей. Тем страшнее оказался полученный удар. В письме, доставленном из дома, мать сообщила, что отец их скончался, а сама она больна. В том случае, если она не выживет, графиня Катарина приказывала дочерям немедленно выехать в Россию к старшему брату. Слуга, привезший письмо, сообщил перепуганным девушкам, что их матушка так и не смогла победить болезнь и скончалась на следующий день после того, как им написала. Он передал юным графиням сундук, куда их мать сложила все драгоценности и деньги, найденные в доме. Там же лежал и портфель с документами.
– Здесь все, ваши сиятельства, – виновато сказал старый слуга, – кругом карантины стоят, не разрешают ничего из Рима вывозить, еле-еле один сундук провез.
Оглушенные горем сестры еще не пришли в себя, когда к ним на виллу прибыл кузен отца епископ Гоцци. Тот сразу заявил сиротам, что видит своей единственной задачей приобщение племянниц к благам католической веры. Пока епископ планировал отправить племянниц в монастырь. За ужином сестры напоили непрошенного опекуна таким количеством прекрасного местного вина, что тот так и не услышала ни шума сборов, ни топота лошадей, уносящих карету по дороге, ведущей в Неаполь. Через три дня сестры и Маруся устроились в маленькой каюте на корабле, отплывающем в Санкт-Петербург, и вот теперь юные графини обживали комнаты в квартире своего сводного старшего брата, а их русская няня готовила на кухне итальянский ужин.
«Интересная вещь – семья, – размышлял Платон. – Я до сегодняшнего дня даже не подозревал о существовании сестер, но готов уже их принять, и даже, наверное, полюбить…»
Его взгляд упал на сафьяновый портфель. Письмо! Дальше оттягивать неизбежное было глупо и стыдно. Он взял конверт, повертел его в руках, но снова отложил. Не так-то это просто – решиться и узнать правду. Платон вновь задумался о том, что же ему теперь делать с сестрами. Он ничего не понимал в том, как воспитывают юных девиц. На этот счет он знал лишь самые общие правила приличия. Одно из этих правил гласило, что в доме старшего брата вместе с его незамужними сестрами должна проживать либо его жена, либо старшая родственница. Жены у Платона не было, да и старшую родственницу ему взять было неоткуда.
«Что же мне теперь – жениться на первой встречной?» – расстроился он.
Но быстро найти приличную партию казалось невозможным, к тому же слух о его отставке уже пошел гулять по столице, теперь он уже не мог считаться таким выгодным женихом, как раньше. Нет, спешить явно не стоило, можно было просто спрятать сестер в имении, подальше от пристального внимания и осуждения света.
«Найму гувернантку и отправлю их в Хвастовичи. Мадам Бунич – почтенная дама, она не откажется присмотреть за ними, пока я не выйду в отставку и не приеду. Вот тогда и начну искать жену», – рассудил Платон.
Оставалось лишь одно – все же прочитать письмо. Он вновь взял со стола белый конверт и наконец-то решился… Мать писала:
«Дорогой мой Платон, болезнь забирает меня, как забрала уже моего мужа. Но я не ропщу, я прожила свою жизнь так, как позволила мне судьба, у меня шестеро прекрасных детей, и мой старший, самый любимый сын простил меня. Спасибо тебе за письмо, оно сняло с моей души тяжкий камень. Прошу тебя, помни, что я любила всех вас каждую минуту моей жизни. Я назначаю тебя опекуном моих дочерей, теперь ты – их единственная опора. Родня моего второго мужа так и не приняла меня. Пока он был жив, это не имело значения, но когда нас обоих не станет, родственники слетятся на наследство Сан-Романо, и девочки станут разменной монетой в интригах из-за банка и денег. Я знаю, что около тебя они будут счастливыми. Прощай, мой дорогой. Благослови тебя Бог. Мама».
Платон закрыл глаза, и слезы побежали из-под его ресниц. Наконец-то он осознал, что матери больше нет, она ушла насовсем. Ее так давно не было рядом, что она перестала быть для него человеком из плоти и крови, а стала образом, существом, живущим где-то вдали, а теперь не стало и этого утешения. Не было больше ни отца, ни братьев, а теперь и матери, он стоял один на краю холодной черной пустыни, откуда не возвращаются. В душе пророс предательский страх смерти – теперь он стал первым, позади него были лишь младшие.
«Господи, боже! – ужаснулся Платон. – Я на войне никогда не боялся, а теперь струсил! Где мой разум? Какой стыд…»
Он допил свой бокал и, быстро написав объявление, что в поместье требуется гувернантка для двух барышень, отправил ординарца в типографию «Сенатских ведомостей».
Гувернантка-англичанка нашлась на удивление быстро. Платону и обеим сестрам она понравилась своим спокойным и доброжелательным обращением, рекомендации у нее оказались прекрасные, и уже через три дня мисс Бекхем, две ее воспитанницы и няня Маруся, отправились в Хвастовичи. Платон им пообещал, что обязательно вырвется в Полесье в конце мая.
Глава 13
Майский день наконец-то согрел Полесье. Весна в этом году не спешила – листва все еще не пробилась, и лишь вербы на краях болот веселили взгляд заячьими хвостиками серебристых почек. Обыватели радовались теплу и тащили на солнце перины и подушки: все стремились поскорее забыть о надоевшей, бесконечной зиме. Теплый ветерок тормошил занавески, уносил из комнат затхлость. У одного из окон, прикрыв глаза, стоял человек. Он тоже радовался весне, но об истинных причинах этой радости никто вокруг даже и не догадывался, в курсе дел был лишь его самый доверенный помощник. Его-то и ждал человек у окна. Уличный шум заглушил шаги вошедшего, и человек не сразу услышал, как его окликнули. Он повернулся на зов и по довольному лицу помощника понял, что поручение выполнено. Не желая слышать ненужных подробностей, человек опередил вошедшего, задав вопрос сам:
– Ну?
– Все исполнено!
Отпуская помощника, человек кивнул, и вновь подставил лицо теплому майскому ветру. Все было вроде бы неплохо, проблема осталась всего одна, и у этой проблему были черные как смоль волосы и голубые глаза. Он уже с месяц думал, как поступить, но жизнь сама толкала его принять окончательное решение, и человек понял, что время пришло.
«Проблема должна исчезнуть, – решил он, – и до конца мая я должен с ней покончить».
Серое облако сумерек мягко баюкало Солиту, обещая теплую, по-настоящему майскую ночь. Сменив свой мужской костюм на светлое бомбазиновое платье, Марфа спешила в хозяйский флигель. Ужин уже почти остыл, а увлеченная своими опытами графиня Вера так и не появилась.
Вот уже почти месяц, как Марфа ездила по полям одна, а ее хозяйка полностью сосредоточилась на восстановлении найденной шахты. Марфа сняла с основных работ два десятка крепких мужиков, и те под руководством Веры проверяли своды штреков и камер, сооружали лестницы и подъемники. А по вечерам молодая графиня на своей кухне пыталась разобраться, как превратить крупные каменные куски в тонкую белую соль с обеденного стола.
«А ведь Бунич мог ей многое объяснить», – вспомнилось Марфе, не одобрявшей поведение соседа. Тот не захотел помогать, не пригласил в свою солеварню и только посмеивался, шутливо намекая, что не женское это дело. Ну, а Вера Александровна, как говорится, «закусила удила». Могла бы и настоять, не секрет ведь, что Бунич ее обхаживает, но та – гордячка, до всего сама дойти хочет.
Молодая графиня выселила из кухни Осипа, а сама заставила плиту сковородками и плошками, где промывала и выпаривала соль. Сейчас из трубы ее флигеля валил густой черный дым. Марфа постучала и толкнула дверь. Ей навстречу вышла горничная Дуняша и, привычно кивнув в сторону кухни, сообщила:
– Я барышне уже напоминала про ужин, а она только отмахивается.
– Ничего, еда еще не совсем остыла, – успокоила ее Марфа и прошла на кухню.
Вера с большой тетрадью и пером в руке склонилась над плитой, рассматривая одну из сковородок. Услышав шаги, она подняла голову и улыбнулась Марфе.
– Лучше всего березовые дрова проложить сухой соломой, – объяснила она, как будто продолжая начатый разговор. – Тогда рассол выпаривается быстро. Но все равно, чтобы получить приличный доход, нужно одновременно использовать не менее десятка печей. Значит, надо строить подходящее помещение. Или сначала сложить печи, а потом вокруг них построить стены? Интересно, а как Бунич сделал? Он, кстати, никогда не говорил, что на его земле есть шахта. Одно имение нашей семьи находилось в районе большой солеварни под Санкт-Петербургом. Мы с братом ездили смотреть, как получают соль, так там растворы черпали из колодцев и водой выгоняли по трубам из земли. Я считала, что и Бунич делает так же. Но если у него тоже шахта, как у нас, то он, наверное, получает соль по-другому.
– Но что нового можно здесь придумать? Как всегда делали, так и он делает. На столе соль белая и мелкая, а в шахте она отламывается от стен каменными глыбами. Все равно ее нужно растворять, промывать и выпаривать.
Вера подняла кусок соляного камня размером с хороший мужской кулак и возразила:
– Не скажи! Вот посмотри, я легко поскребла этот камень ножом. Ты видишь, что он сразу стал белым. А если я его залью водой, он растворится, но серого налета на поверхности рассола не будет. Нашу соль не нужно промывать, она и так чистая. Вот если бы эти крупные куски можно было размалывать на мельнице, чтобы получать мелкую соль – нам не нужны были бы дрова и печи. Ты представляешь, какую бы мы имели прибыль?
– Но жернова не справятся с такими камнями.
– А если камни сначала размельчить, и пропускать на помол не на одной паре жерновов, а на двух или трех?
– Ну, измельчать можно и вручную, – согласилась Марфа, – а про жернова надо подумать, наверное, сделать сначала между ними большой просвет, а на второй паре – обычный, как для муки.
– Вот видишь, ты уже со мной согласна. Надо бы это все попробовать. Завтра нарубим побольше соли и повезем ее на мельницу. Если получится – то у нас будет самая дешевая соль, тогда мы чуть-чуть скинем цену против других и сможем продавать сколько хотим.
– Ну, так это – планы на завтра, – засмеялась Марфа, – а сегодня ужинать давно пора. Как бы подогревать не пришлось.
Вера повинилась:
– Совсем забыла, прости, но я не могу ни о чем больше думать, меня эта идея просто захватила! Тогда все мои испытания с разными дровами станут ненужными. Кстати, помнишь, Бунич просил у меня дрова для своей солеварни? Значит, он до такого не додумался.
– Или у него нет соляной шахты, и он выкачивает рассол из земли, как все, – парировала Марфа. Она взяла хозяйку под руку, и они направились, наконец, ужинать.
Однако у флигеля управляющего их ждал сюрприз: перед крыльцом топтался высокий тучный военный в уланском мундире. Увидев девушек, он устремился им навстречу.
– Ваше сиятельство, – обратился он к Вере, – я послан вашим дядюшкой, чтобы узнать, как обстоят здесь дела. Позвольте представиться – граф Иван Петрович Печерский, личный порученец генерал-лейтенанта Чернышева.
От неожиданности Вера даже растерялась. Кого-кого, а посланца пресловутого родственника она никак не ожидала увидеть.
– Да что вы, сударь? – отозвалась она. – Вот неожиданность, что дядюшка озаботился моей судьбой.
На лице улана проступила растерянность, и Вере стало стыдно: он – подневольная птица – был уж совсем не причем. Она сразу сменила гнев на милость: познакомила гостя с Марфой и пригласила его на ужин.
– Благодарю, почту за честь, – обрадовался тот.
В столовой Марфа поставила третий прибор и пригласила всех к столу, а кухарка быстро принесла уже подогретые блюда. Вера даже не представляла, о чем ей беседовать с посланцем генерала Чернышева, но надеялась, что тот сообщит ей о цели своего визита сам. Так оно и получилось. Печерский разулыбался и доложил:
– Ваш дядюшка очень обеспокоен тем, что вам приходится содержать семью, и вы вынуждены теперь заниматься делами в бабушкином имении. Он поручил мне узнать, как долго вы намерены здесь оставаться, и велел помочь во всем, что только потребуется.
Вере показалось, что этот жирный улан ударил ее под дых. Да как они с Чернышевым смеют лезть в ее дела, а тем более заявлять, что ее семья теперь бедна?! Да что они себе позволяют, черт побери?! Вера выпрямилась и гордо вскинула голову. Холодные лиловатые глаза с почти не скрываемой брезгливостью уставились на гостя.
– Вы неправильно информированы, сударь, – четко выговаривая слова, сообщила она. – Я живу в своем собственном поместье и никуда уезжать не собираюсь. Согласитесь, такое большое хозяйство требует постоянного внимания, но я отлично справляюсь сама, и помощь мне не нужна. Жаль, что генерал Чернышев погнал вас в такую даль, не разобравшись в сути дела.
По лицу Печерского стало ясно, что он шокирован. Пару раз он как будто порывался ответить, но не смог найти подходящих слов, а Вера продолжала смотреть на него с презрительной гримаской. Насладившись унижением противника, она ужалила его в последний раз:
– Впрочем, одна сложность у меня все-таки есть. Дом еще не отстроен, в нем жить нельзя, мне негде вас разместить на ночлег.
– Я понимаю, – пробормотал гость. – Но что мне теперь делать? Уже стемнело, может, я смогу переночевать в деревне? Я видел церковь, наверное, батюшка живет рядом.
– Отец Марк, конечно, пригласит вас, но боюсь, там вам будет неуютно: у него семь или восемь детишек, – посочувствовала ему хозяйка. – Сколько у них детей, Марфа?
– Восемь, – вздохнула та, – и младшим близнецам нет и года. У батюшки тесно, если только на сеновале его сиятельство уложить, ночи уже теплые, одну можно и переночевать.
– Хорошо, я неприхотлив, обойдусь и сеновалом, – покорно согласился Печерский, но Марфа успела поймать недобрый взгляд черных глаз.
Повеселевшая Вера кликнула кухарку, велев той убирать тарелки, а сама принялась разливать чай. Стук в дверь возвестил о появлении очередного незваного гостя, и на сей раз на пороге возник Щеглов.
– Прошу прощения за поздний визит, – пройдя в комнату, повинился он, – только дело не терпит отлагательства.
– Да о чем вы говорите, Петр Петрович? – радушно откликнулась Вера. – Вы знаете, что вам мы всегда рады. Проходите к столу. Знакомьтесь с нашим гостем: Иван Петрович Печерский.
Щеглов мгновенно уловил напряженность между графиней и столичным гостем: улан явно злился, впрочем, он и без этого не производил приятного впечатления. Однако же исправника это не касалось и он, не подав виду, любезно заметил:
– Очень приятно, сударь.
Марфа уже поставила перед Щегловым чашку с чаем и положила на его тарелку пирог с вареньем.
– Спасибо, Марфа Васильевна, – кивнул капитан и тут же перешел к делу: – Опять у нас странные дела творятся. Снова человек в уезде пропал – приказчик из скобяной лавки. С работы ушел, а дома не появился. Вы никого постороннего не видели?
– Не было никого, – отозвалась Марфа.
– Вы оставались моей последней надеждой, всех помещиков сегодня опросил, никто его не видел.
– Так, может, он просто куда-нибудь уехал? – сочувственно предположила Марфа. – У него родные здесь есть?
– В том-то и дело, что у него тут жена и трое маленьких детей, – объяснил Щеглов, – не мог он их бросить.
В разговор вмешался Печерский:
– Это уж вы слишком благородные принципы мещанам приписываете, это от дворянина можно ждать, что он будет о своем долге помнить, а мещане – народ подлый. Устал лямку тянуть, вот и сбежал ваш приказчик.
Да, первое впечатление всегда бывает правильным! Столичный гость оказался на удивление мерзким типом, и Щеглов жестко отрезал:
– Я говорю о том, в что хорошо разбираюсь, иллюзий насчет людей я давно не питаю, но этого приказчика знаю лично. Он никогда бы не покинул семью. Я грешу на наши болота, ведь они настолько опасны, что местные туда даже не суются, а городской мог и не знать этого.
– Ну, вам виднее, – поспешил согласиться Печерский, и счел за благо перевести разговор на другую тему: – Вы не знаете, где можно переночевать? Я приехал с поручением к ее сиятельству, но уже выполнил его и могу отправляться обратно, а здесь мне нет места.
– Я сегодня ночую в Хвастовичах, это – соседнее имение, там дом не пострадал от войны, поедемте со мной, управляющий отведет комнату и вам.
– Благодарю, вы очень меня обяжете.
От исправника не укрылось облегчение, мелькнувшее на лице молодой графини. Она тоже поблагодарила его и призналась:
– Ох, Петр Петрович, вы и меня очень выручите, мне, право, неудобно, что я не могу разместить гостя на ночлег.
Догадка Щеглова оказалась правильной: отношения между хозяйкой и гостем явно не заладились. Исправник поднялся из-за стола и обратился к улану:
– Уже темно, поехали!
– Я готов, – поднялся Печерский.
Девушки проводили гостей до крыльца и, убедившись, что те свернули на подъездную аллею, вернулись в дом.
– Ну, и как тебе понравился этот Печерский? – спросила Вера.
– Совсем не понравился – злой он и, похоже, опасный.
– Вот и мне так показалось. Я даже и не поняла, зачем он приезжал – смешно думать, что генерал Чернышев озаботился моей здешней жизнью.
Марфа постаралась ее успокоить:
– Ну, да и бог с ним, с этим Печерским, забудьте. Надеюсь, мы о нем больше не услышим.
– Ты права, – вздохнула Вера и призналась: – Завтра у нас – решающий день. Если все получится, я одна смогу прокормить всю семью. Давай-ка скрестим пальцы за наш успех! – она подняла вверх обе руки со скрещенными указательным и средним пальцами, а потом распорядилась: – Ну все, а теперь пошли спать…
Черные волосы струятся сквозь зубья щетки, фиалковые глаза кокетливо прикрыты ресницами. Девочка-паинька готовится ко сну. Она идет к постели. Ах, как целомудренна тонкая сорочка с высоким воротом, да только острые соски светятся через тонкий муслин. Так даже лучше: вот она – девственность, зажми ее в кулаке, сомни, размажь, растопчи. Пусть пресмыкается, вымаливая снисхождение. Пусть лижет сапоги хозяина!
Сладостное предвкушение, возбуждая, разлилось по жилам. Человек шагнул из тьмы. Красавица замерла, но она больше не манила, блеск кокетства исчез из ее глаз, а лицо закаменело. Кого она из себя корчит? Императрицу? Бешенство вскипело в его крови, и вожделение стало непереносимым. Он протянулся к горлу непокорной, но рука схватила холодный камень – он душил мраморную статую! Ужас, смешанный с гадливостью, покрыл его спину холодным потом и… человек проснулся. За окном еще переливалась жемчужным блеском полная луна, но в саду уже загомонили птицы – ночь уходила.
«Вот ведь приснится же такое», – с отвращением подумал человек и натянул простыню на глаза, пытаясь вновь заснуть, но ничего не вышло. Поворочавшись с боку на бок еще с час, он поднялся. Пора было собираться в дорогу.
Вера так и не заснула этой ночью. Она очень хотела, чтобы все получилось, и не могла думать ни о чем другом. Снова и снова планировала она, как завтра работники зачистят соляные глыбы, потом разобьют их чугунными кувалдами, а следом они с Марфой запустят соляные кусочки между жерновами. Лежа с закрытыми глазами, Вера все представляла, как из-под огромного гранитного жернова покажется мелкая белая соль. Жернов в ее воображении все крутился, а мелкая, как речной песок, белая соль все бежала. Наконец она поверила, что все получится, и успокоилась. Легкая дрема – преддверие сна – уже окутала ее теплым коконом, и из этого полусна ей навстречу вышел лорд Джон. Он ласково улыбнулся и протянул Вере руку.
– Вы забыли меня, дорогая леди, – пожурил он, с притворной укоризной покачивая головой, но было ясно, что он совсем не сердится, ведь его улыбка осталась такой же нежной.
– Я не забыла, – начала оправдываться Вера, – просто я была очень занята, мне так важно, чтобы задуманное получилось. Я смогу тогда содержать мать и сестер, и мы слезем с бабушкиной шеи.
– Значит, для вас это важнее, чем я. Успех и дело, его приносящее, нужнее вашей душе, чем любовные переживания. Вы так устроены, примите эту правду и живите в мире с самой собой, – посоветовал Джон, махнул ей на прощание рукой и растаял.
Вера села в постели. Сон как рукой сняло, она чувствовала, что озадачена и даже немного уязвлена. Неужели Джон прав? Но это значит, что она – «синий чулок»! Действительно, ей всегда нравилось заниматься делом. Так что же она – ошибка природы? И ведь впрямь, всю последнюю неделю она только и думала, как подобрать дрова и выпарить соль на своей кухне.
«Нет, этого не может быть, – отчаянно уговаривала она сама себя. – Я люблю Джона, просто то, что мы нашли эту соль, дает мне шанс вытащить всю семью из нищеты, а это сейчас важнее всего на свете».
Но сомнения не отступали. Может ли хоть что-то быть важнее любви? Но тот восторг, что приносило ей воплощение планов, – его даже не с чем было сравнивать! Это было ни на что не похоже – какая-то смесь счастья, веселья и ощущения своей силы. Как это можно сравнивать с нежным обожанием, которое она испытывала по отношению к Джону? Эти разные чувства нельзя даже ставить рядом. Красное – и нежно-розовое! Хороши оба…
«Вопрос лишь в том, что мне больше подходит, – стараясь рассуждать здраво, задумалась Вера. – Красное – огонь, вихрь, победа, а розовое – мечты, нежность, тепло… Что же мне ближе? Если положить их на чаши весов, то красное – важнее. Только зачем взвешивать? Я хочу и то, и другое».
Яркое майское утро застало ее врасплох. Вера вскочила с постели и поспешила умыться. Через пару минут в комнате появилась Дуняша. Она помогла хозяйке надеть мужской костюм, и Вера побежала через двор во флигель управляющего.
Марфа уже разложила приборы, а кухарка поставила на стол блинчики и вареные яйца.
– Кофе сразу наливать? – уточнила Марфа, приподнимая крышку кофейника, – еще очень горячий.
– То, что нужно – наливай сразу.
Вера села рядом со своей помощницей и принялась планировать работы:
– Ты мне еще десять человек добавила на сегодня?
– Конечно, они уже там.
– Тогда мы к обеду уже много соли набьем, и я сразу подводу на мельницу отправлю. Успеешь с жерновами?
– А где измельчать будем? – задумалась Марфа, – наверное, нужно рядом с мельницей куски разбивать, иначе в дороге всю соль пылью замараем.
– Мы глыбы зачистим, в мешковину обернем и на подводы погрузим, а на мельничном дворе можно их раздолбить. Я сама с первой подводой приеду, посмотрю за работами, – решила Вера.
– Вот и хорошо, тогда я – сразу на мельницу, а вы – в шахту.
К Вериному приезду работа на шахте уже кипела: воротами доставали из-под земли огромные бадьи с глыбами соли, их высыпали в застеленные мешковиной телеги, а двое подростков с большими ножами зачищали поверхность соляных камней до белого цвета.
– Ну что, Василий, как дела у вас? – окликнула Вера старшего над мужиками.
– Так извольте сами поглядеть: две подводы уже приготовили, скоро и третья полна будет.
– Тогда отправляй их на мельницу, и я тоже туда поеду, – распорядилась Вера.
Она не стала дожидаться, когда подводы тронутся, а поскакала через лес к реке, там в излучине рядом с плотиной высился бревенчатый терем мельницы.
Во дворе она заметила сколоченные из обструганных досок столы. Марфа как раз застилала их чистой мешковиной. Увидев Веру, она радостно сообщила:
– Все готово, уже выставили вторую пару жерновов с большим зазором. Я думаю, что все должно получиться.
– Дай-то бог, – перекрестилась Вера. – Пока ничего не говори – а то потом разочарование сильное будет.
– Да вы, никак, суеверная? – удивилась Марфа, – боитесь, что сглажу? Так у меня глаза голубые, и вообще, я не глазливая.
– Я теперь всего боюсь, только ты не смейся надо мной, слишком уж все это для меня важно. Видимо, я родилась, чтобы деньги зарабатывать, а замуж не выйду.
Марфа расхохоталась:
– Еще как выйдете! С вашей красотой и приданого не нужно, а у вас вон какое поместье, во всей губернии только Хвастовичи такие же большие.
– Ты что считаешь, что я отдам мужу имение? – искренне удивилась Вера. Эта перспектива ее просто ужаснула, но помощница даже не поняла ее вопроса:
– Ну, а как же? Ведь он – муж!
– Вот представь: у тебя ничего не было, а потом ты получила в подарок такое поместье, да еще нашла на своей земле соляную шахту. Ты бы отдала все это кому-нибудь?
– Нет, наверное… – задумчиво протянула Марфа, и уже увереннее добавила: – Нет, я бы лучше замуж не вышла, чтобы все моим осталось.
– Вот и я так думаю, – подтвердила Вера. Все ее ночные сомнения исчезли вместе с отблесками луны. Только предположение, что она может потерять Солиту, испугало ее до холодного пота. Загадок не осталось – она родилась, чтобы жить свободной и владеть лучшим имением в мире. Все, точка!
Скрип колес дал Вере знать, что подводы уже на подходе, и через пару минут работники перекладывали куски соли из телег на застеленные мешковиной столы и разбивали их. Глыбы раскалывались легко, рассыпались на осколки покрупнее и множество кристаллов. Через четверть часа все столы покрыл толстый слой кристаллической соли с небольшой примесью мелких комков.
– Да она уже сейчас хороша, – удивилась Марфа, – зачем ее еще молоть?
– Такая только в деревнях в дело пойдет, а в городе ты ее не продашь, там народ привередливый. Я хочу, чтобы наша соль стала самой лучшей – белой и мелкой, как речной песок: тогда за нее можно взять самую высокую цену. Давай пересыпать то, что получилось, и отправлять в жернова.
Марфа распорядилась, и работники принялись ссыпать соль в объемные бадьи и таскать ее на мельницу.
– Пойдем, посмотрим, как пойдет, – предложила Вера.
Марфа кивнула и прошла вперед, показывая дорогу.
– Я думаю, что нам одних жерновов хватит – тех, что для тонкого помола, – прикинула она, – зря вторые расставляли.
– Ты не спеши их убирать, может, в других местах соль тверже будет.
– Как скажете, можно и подождать.
Они пришли к большим жерновам, там работники уже выставили несколько бадей с солью. Мельник – кряжистый седой старик – ожидал приказа начинать.
– Давай, Никитич, отправим соль прямо в мелкий помол, – распорядилась Марфа.
– Да, я тоже так подумал, – кивнул мельник, – сразу должно получиться.
Соль полетела в отверстие верхнего жернова, тот сдвинулся, а потом, набирая обороты, закрутился. Девушки, затаив дыхание, ждали. Наконец из-под ноздреватого края камня показались тоненькие белые струйки, они разрастались, и вот уже белоснежное кольцо мельчайшей соли окружило жернов.
– Получилось! – обрадовалась Марфа, и тут же удивилась: – Да что с вами? Вы даже не рады!
Она ошибалась, Вера была счастлива, только вслед за острой вспышкой ослепительного восторга сразу пришло странное опустошение, как будто из нее ушли все силы. Хотелось сесть, прислонившись к стене, и закрыть глаза. Она вдруг осознала, что неподъемный камень, так долго лежавший на ее плечах, упал и рассыпался мелкой белоснежной солью вокруг мельничных жерновов. Она сквозь слезы улыбнулась Марфе и объяснила:
– Я рада как никогда в жизни, просто я еще не могу до конца поверить, что чудо все-таки случилось!..
Глава 14
Кто теперь верит в чудеса? Лишь малые дети. И все же…Капитан Щеглов отпустил вожжи, прикрыл глаза и дал лошади волю. В майском прогретом лесу пробивалась молодая трава, деревья выпустили листочки и сейчас стояли как будто подернутые зеленоватой дымкой, а цветущие медуницы застелили поляны розовыми коврами. Птицы заливались в макушках деревьев, сообщая миру, что в их края опять пришел май – вершина весны. В этом волшебном лесу исчезали заботы – прятались стыдливо в дальние уголки памяти. Весна несла надежды и обещание, что все получится, жизнь наладится и все-все будут счастливы, даже замшелый, как старый пень, уездный исправник.
Петр Петрович в свои сорок два года прекрасно знал, что весне верить нельзя – та не сдержит своих обещаний, но ему так хотелось хоть чуть-чуть поддаться на майские посулы.
«Май подарит и мне немного счастья», – как когда-то в юности размечтался он.
Прошло уже десять лет, как Щеглов оплакал жену и сына, и теперь он считал, что раз Бог оставил его здесь – наверное, он не все еще сделал, что был должен. Он сам понимал, что теория его – спорная, ведь если Бог забирает тех, кто уже сделал все, что мог на этом свете, то почему жестокая болезнь унесла его семилетнего сына и двадцатипятилетнюю жену. Мишенька даже не успел вырасти, а нежная и хрупкая жена Щеглова зачахла от горя и ушла вслед за своим единственным ребенком.
Капитан вспомнил старые липы, окружавшие деревянный дом с двумя толстыми белеными колоннами под широким балконом. После смерти жены он не смог больше в нем оставаться и, вызвав из города своего младшего брата, отписал имение ему. Бывший полковой командир Петра Петровича к тому времени возглавил одну из западных губерний, и Щеглов, набравшись храбрости, без предупреждения заявился к нему, прося снова взять на службу. Командир ему обрадовался: губерния оказалась большой и запущенной, еще не все было восстановлено после войны. Щеглов в тот же день получил на руки целый уезд и должность исправника. Служба получилась хлопотной, но это было как раз то, что ему и требовалось, к тому же исправнику полагалась казенная квартира и приличное жалование. Теперь, десять лет спустя, Щеглов знал в своем уезде абсолютно всех, его боялись, но и уважали. Здесь не стало краж, даже пьяные потасовки случались редко, тем более странными и необъяснимыми казались два случая с пропажами людей, да еще и с трупом.
Капитан наконец-то признал, что зря он успокоился, считая, что установил в своем уезде полный порядок. Вот и приходилось теперь мучиться с новой загадкой.
«Разберемся! – пообещал он себе, и тут же вернулся к своей последней версии: – Болота – единственное, что осталось, все остальное проверено и перепроверено».
В его уезде болота занимали, самое малое, треть всех земель. Они начинались с узкой полосы между самыми крупными имениями – Солитой и Хвастовичами – и, постепенно расширяясь, тянулись на многие версты. Болота слыли такими коварными, что местные крестьяне запрещали женщинам и детям заглядывать туда, да и сами мужики, если и решались податься в трясину, то ходили всегда по двое и вглубь не забирались. Зато от болот оказалось много пользы местным помещикам: на осушенных участках выкапывали торф, а у Бунича в его Дыховичах прямо на границе с болотом стояла солеварня.
«Надо бы проверить его солеварню», – вспомнил Щеглов. Он не бывал там с тех пор, как Бунич переехал обратно в свой восстановленный после войны дом.
Когда капитан приезжал в Дыховичи, его всегда поражало, что всеобщий любимец душка Бунич дома ведет себя как капризная девица, а рослый и суровый управляющий Поляков, заискивая, прыгает перед ним, как собачка на задних лапках. Но что поделать, у всех есть свои маленькие слабости, и капризы Бунича казались вполне невинными. Дело было в самом Щеглове: он не любил мужчин с бабьими повадками и визитов в Дыховичи избегал. То ли дело ездить в Хвастовичи или Солиту. Петр Петрович вспомнил свой последний визит к двум милым дамам и улыбнулся. С приездом в дом графини Веры дочка управляющего просто расцвела. Видать, боязнь лишиться места и крыши над головой изводила бедняжку, а когда новая хозяйка по достоинству ее оценила, Марфа успокоилась, стала веселой, открытой и, понятное дело, очень красивой.
«Марфа такая высокая и сильная, наверное, она смогла бы родить с десяток здоровых детей, – задумался Щеглов. – Хотя какое мне до этого дело? Я ей не муж».
Мужа у Марфы не было. За кого в этом уезде могла выйти замуж дочка управляющего Сорина? Помещик не женился бы на ней: хоть и дворянка, да бедна. Купцы в уезде, в основном, принадлежали к старой вере и жен сыновьям выбирали среди своих. Так что не было у Марфы Васильевны Сориной никаких шансов выйти здесь замуж, если только не приедет кто-нибудь из женихов-богатеев в пустующее имение. Может, он и не посмотрит на отсутствие приданого, а обратит внимание на яркие голубые глаза, румянец на круглых щеках и пышные каштановые кудри настоящей русской красавицы.
«Дай ей бог, – пожелал Щеглов, – я порадуюсь за нее. Может, Горчаков захочет взять ее в жены? Он ведь еще не женат. Хотя шансов мало, тот, поди, на графиню Веру смотреть будет».
Подумав о хозяйке Солиты, капитан вспомнил и о ее госте.
Печерский ему сильно не понравился – говорил тот все как будто правильно, вот только выглядел неубедительно: избегал взглядов собеседника, покашливал между фразами и нервно перебирал пальцами темные деревянные четки. Щеглов впервые в жизни видел человека в военной форме, перебирающего четки. Это смотрелось так чудно, не по-русски! Впрочем, граф Печерский и сам напоминал перса или турка, какими капитан их запомнил по кампании девятого года. Пленные турки так же косо поглядывали на русских из-под тяжелых век и так же перебирали четки с кисточками на концах.
– Стоп! Кисточка!.. – поразился капитан, – на православных четках висит крест. Неужели Печерский – мусульманин?..
У приезжего улана были русская фамилия и графский титул, может, его мать – мусульманка? Тогда это объясняет его восточную внешность. Но это казалось странным, обычно ребенка определяют по вере отца. Щеглов знал, что сейчас в северной столице стало модным переходить в католичество, но не в мусульманство же. Пожалуй, ему следовало доехать до Солиты и побеседовать с графиней о ее странном визитере, а потом уже отправляться к Буничу.
– Сначала приятное, а противное – на потом. Верно? – поинтересовался Щеглов, то ли у себя самого, то ли у лошади, тихо бредущей по лесной дороге.
Теперь посещение Дыховичей можно отложить по уважительной причине. Исправник обрадовался, подобрал поводья и свернул на дорогу, ведущую к Солите. Скоро он выехал из леса, теперь дорога вилась вдоль зарослей черемухи и ольхи, за ними прятались мелкие, похожие на большие ямы озерца, а с другой стороны к ней подступали бесконечные поля.
«Да, хороший подарок получила графиня Вера, – оценил Щеглов, – никто от такого не отказался бы. Земли много, ну и дом почти восстановлен».
Он щелкнул вожжами, лошадь побежала быстрее, и вскоре за поворотом показался купол барского дома. Двуколка поднялась на горку, и перед капитаном, как на ладони, открылись сверкающий свежей побелкой главный дом, колоннада и оба флигеля. Во дворе, к его удивлению, сгрудилось больше двух десятков подвод, а у хозяйского крыльца стоял запряженный тройкой экипаж.
– И куда же это они собрались? – пробурчал заинтригованный Щеглов и, погоняя лошадь, поспешил в усадьбу. Скоро он оказался во дворе и с любопытством осмотрел телеги. Все они были доверху нагружены плотными мешками.
«Похоже, что мои барышни излишки муки продают, – прикинул он, – значит, им одна дорога – на ярмарку в Смоленск. И что же это девицы одни поедут? Да как же они покажутся на ярмарке? Это всех шокирует, тогда разговоров не оберешься. Графиня – девушка богатая, а вот Марфе в уезде все кости перемоют.
На крыльце хозяйского флигеля появились наряженные в светлые платья и шелковые шляпки Вера с Марфой, и капитан поспешил к ним.
– Добрый день, сударыни, я смотрю, вы уезжаете? – поинтересовался он.
Вера ответила на его приветствие и объяснила:
– Мы едем в Смоленск, дня на три.
– Вы считаете, что за три дня сможете продать столько муки? Богатые купцы вас сразу к себе не подпустят, будут присматриваться, потом торговаться, а лавочники много не возьмут.
– Мы не муку везем, это – соль!
– Да что вы?! Когда же вы успели солеварню поставить?
– Нам не нужна солеварня, у нас – шахта, – объяснила Вера, – вот вернемся из поездки, приезжайте к нам, мы все вам расскажем. Кстати, если хотите, можете сейчас пообедать и отдохнуть в Солите.
Щеглов отмахнулся:
– Спасибо, я уж лучше с вами отправлюсь. Как можно в такую дальнюю дорогу без сопровождения ехать?! Вот в пути все мне и расскажете.
Вера, прекрасно понимавшая, что их с Марфой поездка на ярмарку станет вызовом общественному мнению, в глубине души обрадовалась, но все-таки сочла своим долгом отказаться:
– Нет, Петр Петрович, я не смею загружать вас своими заботам. У вас в уезде дел полно!
Однако исправник от ее возражений не принял и предложил:
– Вы с обозом все равно поедете медленно, я успею заскочить домой и собраться, а потом буду ждать вас на повороте у старых вязов.
Вера вопросительно посмотрела на свою помощницу, та молча кивнула, дав понять, что знает место, о котором говорит капитан. Забавно, но Марфа в присутствии Щеглова замолкала и предпочитала объясняться жестами.
«Нужно наконец-то разобраться с ней, похоже, что здесь что-то серьезное» – решила Вера.
Она посмотрела вслед отъехавшей двуколке Щеглова и повернулась к своему экипажу. Марфа в задумчивости покусывала кончик синей шелковой ленты из пышного банта под подбородком.
– Смотри, все завязки от шляпки изжуешь, придется новую покупать, – засмеялась Вера.
– Да, действительно, – смутилась ее помощница, – такая красивая шляпка, тем более она одна у Алана была.
Бродячий торговец Алан в запряженной буланой лошаденкой кибитке появился в имении с неделю назад. Товар у него оказался никчемный – вещи скроены грубо и из самых дешевых тканей, но непритязательной Марфе понравилась темно-синяя шелковая шляпка-капор. Сегодня она ее обновила.
Вера начала разговор издалека, собираясь потом повернуть его на интересующую ее тему:
– Что, у Алана всего одна шляпка была?
– Шелковая – одна, и хорошо, что она оказалась синей, – подтвердила Марфа, любовно разглаживая смятую ленту.
– Синий тебе очень к лицу, глаза сразу засияли. – плела сети Вера. – Впрочем, не только я это заметила. По-моему, Щеглов тоже оценил твою шляпку.
– Вы все шутите! Какое ему дело до меня и моей шляпки?
Марфа запылала, как факел, и Вера отвела взгляд, чтобы не смущать ее.
– А тебе до него? – настаивала она.
– Да я что…Кому есть дело до моих чувств?
– Почему ты так думаешь? Чем ты хуже других, если так считаешь?
– Я – бесприданница, очень высокая, хожу в штанах и занимаюсь неженской работой – вот и все причины, чтобы ни один мужчина не посмотрел в мою сторону.
– Мы будем много работать и соберем тебе денег на приданое, – парировала Вера, – а все остальное, по-моему, не имеет значения. Я тоже ношу мужской костюм, ведь это удобно, и вместе с тобой занимаюсь делами. В свете не принято, чтобы женщины работали, а мне это нравится.
– И где же ваш жених? – уточнила Марфа. – Пока вы снова шелковое платье не наденете и в гостиной с пяльцами не сядете, вряд ли кто-нибудь из мужчин решится к вам посвататься.
Ее помощница произнесла вслух то, о чем Вера думала сама, пришлось ей признаваться:
– В этом ты, наверное, права, но я и не собираюсь выходить замуж. Мое сердце занято, а я выйду лишь за того, кого люблю, и других женихов мне не нужно.
– Ну, и мне не нужно, – совсем тихо сказала Марфа.
Вот и прозвучало признание! Вера улыбнулась и потянула за ниточку:
– Значит, я права, ты влюблена в Щеглова? И давно это случилось?
Марфа опустила глаза, сомневаясь, стоит ли откровенничать, но, решившись, объяснила:
– Сразу, как он здесь появился, я еще девочкой была. Только он никогда меня не замечал. Все знают, что он жену и сына похоронил, а теперь на женщин не глядит.
– Совсем? – удивилась Вера, – что, так никого рядом с ним и не видели?
– Никого не было…
– Видишь, какой благородный человек, не зря он сразу мне понравился, – призналась Вера, но, заметив, как вздрогнула Марфа, уточнила: – Я имею в виду, что он – прекрасный человек, я не говорю о Щеглове как о мужчине. Успокойся и не ревнуй, я же сказала, что мое сердце занято.
Дочка управляющего виновато улыбнулась, и Вера поняла, что сказанный ею комплимент насчет шляпки – истинная правда. Марфа стала очень хорошенькой – настоящая русская красавица. Ее большие глаза под синими шелковыми полями мягко сияли, а уже отросшие до середины шеи каштановые кудри выбивались пушистыми завитками на щеках и надо лбом.
– А почему ты не хочешь его завоевать? – осторожно поинтересовалась Вера. – Шляпка и платье у тебя есть, можно и пяльцы раздобыть.
Лицо Марфы стало не просто задумчивым, а даже отрешенным.
«Думай, думай, – мысленно посоветовала своей помощнице Вера, – может, ты и есть та женщина, которая возродит его к жизни».
Вслух она это произносить не стала – побоялась оказаться слишком навязчивой.
Лес остался позади, и экипаж повернул с проселочной дороги на столбовую. Чуть в стороне росли старые вязы, там уже стояла двуколка Щеглова. Сам исправник приветственно помахал им рукой и тронул лошадь. Впереди Веру ждал главный экзамен – ярмарка. Интересно, кто же купит ее соль?
Ярмарка на рыночной площади оказалась на удивление многолюдной. Телеги стояли впритык, и Вере пришлось выставить на продажу лишь один воз, а остальные оставить пока в сараях постоялого двора на окраине. Она возблагодарила Бога, что Щеглов поехал с ними. Исправника здесь знали и уважали так же, как и в уезде, а благодаря ему, и к девушкам отнеслись почтительно. Петр Петрович уже познакомил Веру со всеми богатыми перекупщиками. Бородатые купцы в жестких суконных поддевках низко кланялись графине Чернышевой, но товар ее брать не спешили, ссылаясь на уже существующие большие запасы. Вера подозревала, что хитрецы сговорились за ее спиной. Дело было не в ее соли и даже не в цене, причина оказалась в ней самой – никто из купцов не хотел связываться с барышней-аристократкой. Ее выстраданное дело грозило обернуться полным крахом, и после всех многочисленных переговоров Вера предложила Щеглову:
– Петр Петрович, я чувствую, что мы стучимся в глухую стену. Давайте попробуем сменить тактику. Вы видите, что со мной здесь не хотят иметь дела. Я так понимаю, что все купцы договорились между собой. Только первый не смог скрыть изумления, когда меня увидел, а остальные казались абсолютно невозмутимыми, значит, их предупредили.
– Похоже, что вы правы, – согласился Щеглов. – Я это тоже подметил – все они выглядели слишком спокойными и, не раздумывая, отказывали.
– Неужели в таком большом городе абсолютно все купцы повязаны? Нет ли у этой шайки конкурентов? Нам нужен самый беспощадный враг этих бородачей.
Капитан усмехнулся.
– Есть здесь один откупщик, Горбуновым зовут. Его в городе очень не любят, да у того связи в самой Москве. Он богаче, чем все наши несостоявшиеся покупатели вместе взятые. Только он солью не занимается, его интерес – хлебное вино.
– А вы с ним можете поговорить? Сначала без меня, ведь нужно подготовить почву для нашей встречи. Скажите ему, что я на четыре копейки за пуд цену снижу, если он возьмет все и сделает заказ на следующий обоз. Сейчас цена для меня не так важна, я оборотом возьму.
– Ну, Вера Александровна, никогда такого от дамы не слыхивал, – хмыкнул исправник. – Уж насколько ваша Марфа Васильевна деловая барышня, но ей до вас далеко.
– Деловитость – хорошее качество, особенно если у хозяйки семья большая, – невозмутимо заметила Вера. От ее внимания не укрылась тень, скользнувшая по лицу Щеглова, и чуть заметная пауза перед его ответом.
– Мне трудно судить, – напомнил тот, – у меня нет семьи.
Вера решила не лезть напролом и не заводить разговор о Марфе, пусть та сама решает свою судьбу. Сменив тему, она напомнила собеседнику о своей просьбе:
– Как мы поступим с Горбуновым? Он согласится поговорить с вами?
– Обижаете, Вера Александровна, – фыркнул Щеглов. – Нет в этом городе человека, который откажется поговорить с исправником при исполнении обязанностей.
– Так вы же занимаетесь моим делом. При чем тут ваши обязанности?
– Обязанности ни при чем, да остальные этого не знают, а вот форма всегда при мне, – подмигнул ей Щеглов.
Вера расхохоталась:
– Я об этом не подумала. Не известно еще, кто из нас лучший коммерсант – я или вы.
Впрочем, шутки – шутками, но и дело надо делать. Вера взяла капитана под руку и попросила:
– Проводите меня, пожалуйста, к Марфе, а сами уж поищите этого Горбунова.
– Сделаем по-другому: заберем Марфу Васильевну с ярмарки, и я отведу вас обеих в гостиницу, а сам пойду к откупщику.
– Ну, хорошо, – согласилась Вера, – вам виднее.
Они дошли до рыночной площади и стали пробиваться к тому месту, где у подводы с солью стояла Марфа. Девушку они увидели издалека: яркая синяя шляпка возвышалась над толпой почти в центре площади.
– Замечательный рост у Марфы Васильевны, – почтительно оценил Щеглов, – ее всегда видно.
Наконец они пробрались сквозь толпу. По расстроенному лицу своей помощницы хозяйка поняла, что ничего не продано. Действительно, телега по-прежнему прогибалась под грузом мешков с солью.
– Ничего не берут, – чуть не плача, сообщила Марфа. – Ни одного мешка, как наваждение какое-то!
– Может, наваждение, а может, и сговор, – пытаясь скрыть досаду, заметила Вера. – Пойдем в гостиницу. Осип постоит здесь, а мы немного отдохнем.
– Да уж, Марфа Васильевна, вам пора на покой, вон ведь какая сегодня жара, а вы на самом солнцепеке стояли, – поддержал графиню Щеглов.
Марфа молча кивнула, взяла хозяйку под руку и стала протискиваться сквозь толпу. У нее это получалось даже лучше, чем у их единственного кавалера, и спустя четверть часа вся компания оказалась в гостинице. Исправник проводил девушек до их номеров на втором этаже и поспешил обратно, искать Горбунова. Вера сняла шляпку, потом тальму и подошла к окну. Она распахнула створки, впуская нагретый за день воздух, и опустилась в кресло, подставив лицо теплым лучам.
– Не обгорите? – поинтересовалась Марфа, – солнце в мае коварное, не успеете оглянуться, как кожа потемнеет.
– Да и пусть темнеет, мне на балы не ездить, а в шахте всем безразлично, какого цвета у хозяйки кожа. Это не у меня под носом жених неприкаянный ходит.
– А у кого?
– У тебя, у кого же еще, – не открывая глаз, сообщила Вера. – Он и ростом твоим восхищается, и тем, что ты очень деловая.
– Не может быть! Кому могут нравиться «синие чулки»?
– Не считает он тебя никаким чулком, так что все от тебя самой зависит. Хоть раз в его присутствии открой рот. Я-то знаю, что ты – умная девушка, а он об этом не подозревает, ведь ты все время молчишь как рыба.
– Я не молчу, – слабо оправдывалась Марфа, – я просто не знаю, о чем с ним говорить.
– А ты просто слушай его, и отвечай, – посоветовала Вера и замолчала, решив не нагнетать обстановку. Она поднялась и прикрыла окно – солнце спряталось за тучи, и с улицы сразу же потянуло прохладой. Захотелось согреться, и она предложила: – Давай закажем чай.
– Лучше я сама принесу поднос из чайной, – решила Марфа, – коридорного не докличешься. Вы, как мои шаги услышите, дверь откройте, а то руки у меня будут заняты.
Прикрыв за собой дверь, она вышла. Не было Марфы так долго, что Вера начала беспокоиться. Наконец в коридоре раздались шаги. Вера распахнула дверь, но ее помощницы в коридоре не оказалось, зато, повернувшись к ней спиной, у двери соседнего номера возился с замком высокий мужчина в синем сюртуке. Вера успела заметить темно-русые волосы и обтянутые тонким сукном широкие плечи. Щелкнул ключ, и мужчина толкнул дверь. Прежде чем войти в номер, он обернулся за своим саквояжем, и Вера увидела знакомое лицо с квадратным подбородком. В темном коридоре маленькой провинциальной гостиницы во всем блеске столичного шика стоял князь Платон Горчаков.
Глава 15
Впервые в жизни Платон Горчаков понял, что значит «онеметь». Он смотрел на замершую в дверях соседнего номера девушку – и не знал, что сказать. Самым интересным было то, что во время всего долгого путешествия из столицы он постоянно думал о графине Чернышевой, а когда наконец ее встретил, замер столбом, не находя слов. Он видел, что Вера тоже его узнала – взгляд ее заметался, а щеки вспыхнули. Девушка отступила в глубину комнаты, собираясь захлопнуть дверь, и это привело Платона в чувство. Он шагнул за ней и успел перехватить створку двери прежде, чем та захлопнулась.
– Вера Александровна, погодите минутку, у меня для вас есть письмо от вашей сестры, – выпалил он первое, что пришло в голову.
Это сработало, дверь приоткрылась пошире, и он вновь увидел все еще пылающее лицо. Губы Веры подрагивали, но она мужественно выдержала взгляд Горчакова и, гордо вздернув подбородок, осведомилась:
– Разве вы знакомы с моей сестрой? Кстати, с которой? У меня их две.
– Я имел честь быть представленным графине Надежде Александровне. Перед отъездом из Санкт-Петербурга я посетил Кочубеев, а ваша сестра и бабушка тоже были там. У нас состоялся очень хороший разговор. Кстати, я и не знал, что мы с вами стали соседями. Мария Григорьевна сообщила мне, что Солита теперь принадлежит вам, а когда дамы узнали, что я собираюсь в свое имение, то попросили захватить для вас письмо.
Похоже, он смог убедить красавицу: та полностью открыла дверь, мгновенье помедлила, решая, пригласить ли его войти, но потом сама вышла в коридор.
– Очень любезно с вашей стороны захватить для меня письмо, – заметила она, и Платон услышал заученные интонации светской дамы. Стало жаль – смущенная и растерянная Вера Чернышева была гораздо милее величественной и прекрасной графини из дома на набережной Мойки.
– Конверт лежит в саквояже, разрешите мне его достать, подождите минутку, – попросил он.
– Да, конечно, я побуду здесь.
Платон зашел в свой номер и, не разбирая, вывалил содержимое саквояжа на кровать. Кожаный мешок с документами, где лежало и драгоценное письмо, он положил на самое дно, и сейчас тот выпал последним. Платон развязал шнурки и достал маленький конверт с ярко-алой сургучной печатью. На нем крупным, но изящным почерком четко, без единой помарки были выведены титул и имя Веры. Надин Чернышева оказалась умной и деловой (в чем князь успел убедиться лично), но всеми повадками сильно напоминала боевой таран.
«Ну и сестрицы, – успел подумать Платон, – и как с ними только обращаться? Как бы впросак не попасть».
Он вернулся в полутемный коридор. Вера по-прежнему ждала у своей двери. Она уже взяла себя в руки, лицо ее стало невозмутимо-спокойным, а взгляд фиалковых глаз – холодновато-любезным. Она протянула руку за письмом:
– Нашли? Благодарю вас.
– Да, вот оно, но, пожалуйста, не уходите. Ваша бабушка и сестра обнадежили меня, что я смогу обратиться к вам с просьбой.
Он замолчал, ожидая ответа. Девушка замерла от неожиданности, но потом откликнулась: – Слушаю вас.
– Дело в том, что в Хвастовичах меня ждут сестры. Они должны были приехать туда еще неделю назад. Я отправил их в имение вместе с гувернанткой, надеясь, что мадам Бунич не откажется присмотреть за ними до моего приезда. Но при встрече ваша бабушка сообщила, что наша соседка скончалась, вот мне и пришлось срочно выехать в поместье, чтобы устроить девочек самому. Вы разрешите мне привезти их в Солиту и представить вам?
– Конечно, привозите, – согласилась Вера, – мы пробудем здесь еще пару дней и вернемся в имение. Я буду рада видеть ваших сестер.
«Только сестер, – отметил Платон, – а мне она не будет рада – так, видимо, нужно понимать ее приглашение».
Он постарался не выдать своего разочарования и как можно равнодушнее спросил:
– Вы здесь с родными?
– Я приехала с исправником нашего уезда и своей помощницей. Родных у меня здесь нет.
Подтверждая ее слова, в конце коридора показались высокая девушка с чайным подносом в руках и несущий небольшой медный самовар мужчина в мундире.
– Вот и они, – кивнула на приближающуюся пару молодая графиня. – Приходите к нам на чай, я вас познакомлю.
– Благодарю, – успел сказать Платон до того, как она, кивнув, вернулась в свою комнату.
Пара, несущая чайные принадлежности, с любопытством оглядев князя, прошествовала за Верой, а Горчаков вошел в свой номер.
Подождав для приличия четверть часа, Платон постучал в соседнюю дверь. Ему открыл исправник.
– Проходите, ваша светлость, – пригласил он и улыбнулся, отчего его приятное темноглазое лицо сразу стало моложе. – Я – Петр Петрович Щеглов, капитан, исправник нашего уезда. Ее сиятельство вы знаете, а вторая дама – Марфа Васильевна Сорина.
Высокая девушка с короткими каштановыми волосами поднялась из-за стола, приветствуя гостя, а графиня Вера просто кивнула, указав Платону на свободный стул. Он пожал руку капитану, поклонился Сориной и сел рядом с хозяйкой.
– Вы надолго к себе в имение? – спросила Вера, передавая ему чашку.
– Нет, мне нужно вернуться в столицу, у меня там есть незаконченное дело, – дипломатично ответил Горчаков, надеясь, что она поймет его правильно.
Он не ошибся, молодая графиня чуть запнулась, но не захотела говорить при посторонних об их общей беде и перевела разговор на другую тему:
– Вы сказали, что сейчас в Хвастовичах живут ваши сестры?
– Они – близнецы, или двойняшки, я не знаю, как правильно говорить. Сестры очень похожи друг на друга, только цвет волос и глаз у них разный: Полина – рыжая с зелеными глазами, а Вероника – голубоглазая брюнетка, как вы.
Вера явно смутилась, и Горчаков сообразил, что не следовало так подчеркивать, свое внимание к ее внешности. Он поспешил исправить свой промах и вернулся к разговору о сестрах:
– Их отец был вторым мужем моей матери. Девочки не так давно потеряли сразу обоих родителей, и теперь их опекуном я стал. Я собираюсь скоро выйти в отставку и окончательно перебраться в Хвастовичи.
– Это замечательно! – с энтузиазмом поддержал его Щеглов. – Пока все хозяева имений не вернутся в уезд, довоенного благосостояния здесь все равно не достичь.
– Почему? – удивился Горчаков. – У меня в имении отличный управляющий.
– Да будь ваш управляющей хоть семи пядей во лбу, нашему уезду от этого ни жарко, ни холодно, потому что доход с поместья вы забираете в столицу. А если вы сами станете жить в имении, вы и доход будете вкладывать на месте. Так же будут делать и остальные, к тому же, жизнь в усадьбах оживится, праздники станут устраивать, в гости друг к другу ездить – вот и воспрянет наше общество.
– На это и возразить нечего, – улыбнулся Платон, – вы совершенно правы.
– Петр Петрович за наш уезд всей душой радеет, – опустив глаза, робко откликнулась Сорина.
– Да, это точно подмечено, – поддержала ее молодая графиня, – капитан Щеглов – истинный патриот нашего уезда.
– Ну, вы уж слишком сильно меня хвалите, – отмахнулся исправник.
Платону он очень нравился: Щеглов казался таким основательным, по-настоящему надежным, и при этом соображал молниеносно, вот и сейчас он сразу же нашел предлог, чтобы отвлечь разговор от собственной персоны:
– А когда коронация, ваша светлость, не скажете?
– Теперь этого никто не знает. Когда я по дороге сюда останавливался в Москве, пришло известие, что по пути из Таганрога в столицу скончалась императрица Елизавета Алексеевна. Она умерла в Белеве. Уже объявили траур.
– Да что вы говорите? Как жаль! – расстроился Щеглов. – В армии ее очень уважали, знали, как она вдовам и детям погибших на войне помогает. Чистый ангел!
Осмелев, в разговор вступила Марфа:
– А правду говорят, что государыня была очень красивая? – поинтересовалась она.
Горчаков подтвердил, но Марфа не отставала. Она подробно расспросила гостя и о новой императрице, а потом о ее детях. Выслушав, она мечтательно вздохнула:
– Как хорошо, четверо детей…
Не зная, что можно на это ответить, Платон улыбнулся, но в разговор вмешался Щеглов.
– Ваша светлость, так получается, что ваши сестры сейчас одни в имении? Я так понял, что они еще не взрослые?
– Им по пятнадцати лет. К сожалению, у нас очень маленькая семья, мне некого было с ними отправить. Я рассчитывал на мадам Бунич.
– Ну, что поделать? Хоть ее очень жаль, светлой души была женщина. Но вы не беспокойтесь – пока вас не будет, я стану наведываться в имение, следить за порядком.
– Спасибо! – обрадовался князь. – Вы меня очень обяжете.
– Надеюсь, что мы с дамами уже завтра закончим все дела, и я сразу к вам заеду.
– Вы так уверены? – тихо спросила молодая графиня.
Платон заметил на ее лице тень недовольства. Он не знал, чем оно вызвано, ведь сама Вера участия в разговоре не принимала, а остальные не сказали ничего такого, что хоть как-то касалось ее. Но, похоже, этого никто кроме него не заметил. Исправник поспешил с ответом:
– Я уверен, что Горбунов купит сразу все, да и дальнейшие поставки его очень заинтересуют, – он по-мальчишечьи подмигнул озадаченному Горчакову и разъяснил: – Наши дамы привезли на ярмарку соль, а местные перекупщики им блокаду устроили. Так Вера Александровна придумала договориться с их конкурентом. Я уже с ним повидался, все, как ее сиятельство велела, ему пересказал, и тот клюнул.
– Я восхищен, сударыня! Ваша бабушка говорила мне, что вы восстанавливаете имение, но не рассказывала, что в нем есть и солеварня.
– У нас есть шахта, – выпалила Марфа, – а Вера Александровна придумала, как соль измельчать без выпаривания! Теперь можно хоть каждую неделю обозы в город гонять.
– Можно, конечно, – раздраженно заметила Вера, – только нужно, чтобы товар покупали.
– Так договорились же! Почему вы мне не верите? – обиделся Щеглов.
– Я верю, но дело сладится лишь тогда, когда я отправлю деньги матери, а раньше это – только разговоры.
«Значит, Чернышев не пощадил и своих родственников, – понял Платон, – с меня – полк, а с них – имущество. Да, Александр Иванович – беспощадный противник…»
Исправник засобирался.
– Ну, спасибо хозяйкам за хлеб-соль, – сказал он, поднимаясь. – Дамы, буду ждать вас внизу в восемь. Успеете?
– Успеем, – подтвердила Марфа, а потом вопросительно глянула на Веру.
– Да, конечно, мы будем готовы, – согласилась та.
Платону оставалось лишь попрощаться и отправиться в свой номер. На его кровати валялись вещи. Он, не разбирая, засунул их обратно в саквояж и, сбросив сюртук и сапоги, лег. Эта неожиданная встреча выбила его из колеи. Он так готовился к свиданию с Верой, подбирал слова, собираясь объяснить случившееся между ними недоразумение, а этого даже не потребовалось – девушка держалась с ним ровно, но дружелюбно. Наверное, она уже и сама знала о причинах, по которым он отказался помогать ее матери, и простила его так же, как простили ее бабушка и сестра. Тогда у Кочубеев графиня Румянцева сама подошла к Платону.
– Вы уж простите меня, голубчик, за ту выходку, сами понимаете – горе у нас, – повинилась она. – Все от отчаяния. Теперь-то я знаю, что никому навстречу не идут – таково решение царской семьи, а тогда еще не знала. Вы, наверное, приезжали, чтобы объяснить нам это?
– Да, именно это я и собирался сказать, надеялся уберечь Софью Алексеевну от напрасных унижений, – подтвердил Платон.
– Она все равно через них прошла бы, мать ведь! – вздохнула графиня. – А у вас что, кроме брата никого нет?
Платон рассказал ей о сестрах и о том, как отправил их в то поместье, где они с графиней были соседями. Когда же Румянцева сообщила ему, что Солита теперь принадлежит Вере и сама девушка уже там живет, Платон тут же вызвался передать ей весточку. Предложение приняли с благодарностью. На следующее утро он заехал в дом на набережной Мойки и из рук прекрасной Надин получил письмо для ее сестры. Красавица обворожительно улыбнулась Горчакову, и тут же с четкостью штабного генерала изложила, что он должен не только передать письмо, но и внимательно присмотреться, не терпит ли молодая графиня Чернышева какой-нибудь нужды, а потом, вернувшись в столицу, конфиденциально доложить все Надин, не беспокоя ее бабушку.
Теперь, лежа без сна, Платон гадал, какое же все-таки впечатление он произвел на Веру. Ведь всю дорогу до Смоленска он бесконечно прикидывал, что раз ему нужно жениться, то лучшей невесты, чем связанная с ним общей бедой графиня Чернышева не найти. Подобная перспектива казалась очень заманчивой, но Платон подозревал, что в нем говорит кровь, ведь Вера так походила на его мать. Поверить, что причиной его интереса к молодой графине стало уязвленное самолюбие, он просто отказывался.
«Все нити сходятся к графине Чернышевой, – наконец признал он, – наверное, так угодно судьбе».
Решив больше не навязываться, а встретиться с Верой в имении, он задремал, а на рассвете, пока остальные постояльцы гостиницы еще спали, спустился вниз, чтобы уехать в Хвастовичи.
Вера слышала, как хлопнула соседняя дверь, зазвучали шаги и затихли у лестницы. Горчаков уехал в свое поместье, и ей наконец-то стало спокойнее. Она так и не смогла разобраться в клубке противоречивых чувств, бушевавших в ее душе. Совсем недавно все было так ясно: она любила Джона и, раз тот был для нее недоступен, собиралась посвятить свою жизнь матери и сестрам. Внезапное появление пресловутого кавалергарда спутало все ее мысли. Почему ее так задел вчерашний разговор? Она в нем даже не участвовала. Говорили другие. Почему ей не хотелось, чтобы Щеглов рассказывал князю о ее делах? Вера не только не стыдилась того, что обладает деловой хваткой и работает для своей семьи, наоборот, раньше она этим гордилась. Почему же вчера ей захотелось оторвать капитану его болтливый язык? Да и Марфа отличилась! Зачем было рассказывать первому встречному о шахте?!
«Почему я считала, что Марфа умнее? – недоумевала Вера, вспоминая красивое лицо своей помощницы, с воодушевлением обращенное к Горчакову. – Она ничуть не лучше обычных московских барышень. Те так же делают охотничью стойку, увидев богатого холостяка».
Разочарование оказалось катастрофическим, Вера так и не смогла с ним смириться. Ей показалось, что Марфа заигрывала с новым знакомым, будто и не она совсем недавно умирала по Щеглову.
«Вот и кончилась ее любовь, как только на горизонте появился другой. Правда, он моложе, красивее и богаче, чем исправник, но Марфа могла бы хоть ради приличия не менять так быстро своих пристрастий», – царапнула горькая мысль.
Хотя какое ей до этого дело? Пусть Марфа делает, что хочет. В конце концов, та не связана со Щегловым ни словом, ни обещанием. Может, он никогда и не посмотрит на нее, а так и будет хранить верность покойной жене. Такое поведение Вера понимала и очень ценила, она сама точно так же относилась к лорду Джону.
«Петр Петрович ведет себя мужественно и благородно, – признала она, и тут же сравнила исправника со вчерашним гостем: – а Горчаков, похоже, не пропускает ни одной юбки».
Самым обидным было то, что Вере сначала показалось, будто бы князь обрадовался, встретив ее здесь. Она увидела в его глазах такое сильное чувство, что даже смутилась, не зная, куда спрятаться от неприкрытого восхищения, пылающего в этом взгляде. Но когда Горчаков вернулся из своего номера с письмом, он уже казался невозмутимым. К счастью, Вера тоже взяла себя в руки и выглядела равнодушной и спокойной. Не стоило приглашать князя на чай, нужно было забрать письмо и закрыть дверь. Тогда он не увидел бы Марфу и не узнал бы от исправника так много лишнего.
Продолжая заниматься самобичеванием, Вера вспомнила, какой красивой казалась беседующая с князем Марфа, и лишь врожденная честность заставила ее признать очевидное:
«Марфа – красавица, умная и работящая девушка. Она имеет полное право на счастье, и если она понравилась Горчакову, нужно пожелать им всего самого хорошего».
Это выглядело честным решением, только вот душа к нему совсем не лежала. Почему же так горько сознавать, что князь потянулся к Марфе? Неужели потому, что у дочки управляющего появился шанс стать счастливой женой, а у хозяйки имения его не было? Но ведь Вере не нужен никто, кроме лорда Джона. Тогда почему она не хотела, чтобы Марфа соединилась с Горчаковым? Поджав колени, Вера уселась на кровати, ей хотелось плакать. Было очень больно и бесконечно стыдно. Больно – потому что не хотелось отдавать другой мужчину, а стыдно – за себя. Ведь какие слова ни подбирай, объяснение ее поведению выглядело неприличным: она ревновала и завидовала.
– Докатилась до того, что ревнуешь чужого поклонника и завидуешь бедной девушке, не сделавшей тебе ничего, кроме добра! – прошептала Вера.
Совесть тут же откликнулась мучительной болью под сердцем. Это казалось таким унизительным. Рассердившись, Вера заставила себя думать о том, что действительно важно – о своей семье. Она достала из-под подушки письмо сестры и, накинув шаль, подошла к окну. Заря уже окрасила небо первой ярко-алой полосой, и стало светло. Вера развернула лист и в очередной раз пробежала глазами письмо. Надин писала:
«Дорогая Велл, здесь все неплохо, если, конечно, так можно выразиться о наших делах. Суда над Бобом пока еще не было, и его судьба остается неизвестной. Мама ждет коронации в Москве, надеясь, что в этот торжественный момент царская семья не сможет отказать ей в просьбе – разрешить отправиться вслед за сыном.
Мы с бабушкой по-прежнему живем в столице. Я начала выезжать, обхожусь теми деньгами, что мы с тобой получили, и не позволяю ни бабушке, ни графине Кочубей тратить на меня свои средства. В свете меня принимают без энтузиазма, но вежливо, и этого достаточно, чтобы я смогла претворить свой план в жизнь. Правда, я пока не знаю, кто из холостяков сможет стать для меня достойным мужем, а для нашей семьи – защитой. Надеюсь, что к лету, когда ты вернешься, я уже выберу свою жертву, а может, и начну охоту.
Не только наша семья стала мишенью для любезного генерала Чернышева. Наталья Кирилловна узнала, что с князя Горчакова за легкое наказание для его младшего брата тот вообще потребовал отдать полк. Так что дядюшка действует с размахом, надеюсь, что хотя бы нами он подавится.
Все говорят, что суд над восставшими пройдет до коронации, и князь Горчаков обещал вернуться к этому времени в столицу. Передай с ним письмо о том, как складываются твои дела. Помни, что, в крайнем случае, мы сможем забрать у Баруся все наши деньги. Прошу тебя, не жертвуй своей жизнью, и если тебе там тяжело – возвращайся домой. Я уже по тебе соскучилась. Целую и жду. Твоя Надин».
Вера сложила письмо и улыбнулась. Сестра, как обычно, была абсолютно уверена в своих силах и своей правоте, заражая этой уверенностью всех вокруг.
– Спасибо тебе, умница, – прошептала Вера в распахнутую створку окна. Ей на мгновение показалось, что утренний ветерок отнесет ее слова Надин, – я тоже не буду колебаться, а буду делать то, что должна.
Она вылила воду из кувшина в фаянсовую миску и умылась. Потом взяла со столика щетку и стала расчесывать волосы. В окно ворвался теплый весенний ветер, а вместе с ним в комнату вплыл густой запах черемухи. Вдыхая медовый аромат, Вера подошла к окну. Ее сомнения и тяжкое настроение ушли вместе с чернотой ночи, она улыбнулась встающему солнцу и замерла, следя за краем алого диска, показавшегося из-за туч. Шаль соскользнула с ее плеча, а щетка замерла, запутавшись в тяжелой массе черных волос, но Вера этого не замечала, наблюдая за великолепной картиной, нарисованной природой. Не видела она и замершего у своего экипажа Платона Горчакова. Зато тот не мог оторвать от нее глаз: белая кожа ее груди отливала жемчужным блеском, водопад черных кудрей сбегал по плечам, теряясь за рамой окна, а прозрачные лиловатые глаза широко раскрылись, следя за солнцем. Вера Чернышева оказалась так упоительно хороша, что от нее просто невозможно было отказаться. Оставалось одно – завоевать, и он себе это клятвенно пообещал.
Глава 16
Обещание – дело святое, и Щеглов не собирался опаздывать на встречу с откупщиком, но до этого он хотел разобраться с тем, что же происходит с их товаром на ярмарке. Посему он поднялся почти на два часа раньше, чем обещал своим спутницам, быстро перекусил и вышел на залитую косыми утренними лучами улочку. Судя по времени, все торговцы уже должны были занять свои места в рядах, похоже, что так и было, ведь по улице катила лишь одна единственная крытая парусиной кибитка.
– Опаздываешь, братец, – добродушно заметил Щеглов, обращаясь к невысокому, очень худому вознице то ли кавказкой, то ли азиатской наружности, – небось, все места уже заняты, придется тебе с краю стоять.
– Ничего, барин, я постою, – отозвался тот, и ударил вожжами свою лошаденку. Та рванулась вперед и, быстро обогнав капитана, выскочила на рыночную площадь.
Здесь и впрямь было полно продавцов, да и покупателей уже хватало. На Щеглова сразу обрушился гомон толпы, ругань застрявших в заторах кучеров и крики зазывал. Исправник пробился к тому месту, где вчера оставили Осипа. Тот по-прежнему сидел на краю телеги, заполненной мешками с солью, как и предполагал Щеглов, их нисколько не убавилось.
– Ну что, Осип, не берут? – осведомился он.
– Нет, ваше высокоблагородие. Холера их забери совсем, чего им еще нужно? У нас ведь дешевая, так ни одного мешка не взяли.
– Ничего, возьмут!
От внимательного взгляда Щеглова не укрылось, что несколько праздных молодых людей – все рослые и плечистые в длинных поддевках и скрипучих сапогах – без цели прогуливались вокруг бедняги Осипа, грызли семечки и громко смеялись шуткам друг друга. Получалось, что именно эти подозрительные типы и отпугивали покупателей. Исправник решил пока не разгонять наглецов, а дождаться встречи с Горбуновым. Он достал часы и щелкнул крышкой. Пора было возвращаться к дамам.
– Ты не волнуйся, Осип, смотри за товаром, мы скоро будем, – распорядился он и зашагал в сторону маленькой улочки, ведущей к гостинице.
Давешняя кибитка, как и предсказывал Щеглов, стояла на самом краю рыночной площади. Бродячий купец, как видно, оказался неопытным или просто глупым, раз вместо того, чтобы пробиваться на видное место, загнал свою лавку на колесах к глухой стене дровяного сарая. Покупателей здесь не было вовсе, а плюгавый торговец, как будто и не беспокоясь по этому поводу, не спеша развешивал на выцветшей парусине кибитки свой товар.
– Кто дураком родился, уже не поумнеет, – пробормотал себе под нос капитан, скептически разглядывая результат трудов бестолкового торговца.
Платья висели косо, шали закрывали одна другую, казалось, что все сделано для того, чтобы никто не польстился на выставленные вещи. Щеглов не привык пропускать мимо своего внимания даже малейший беспорядок или нелепицу. Позабыв о времени, он двинулся в сторону кибитки с намерением разъяснить бестолочи, как нужно продавать товар, но его уже кто-то опередил. Плюгавый торговец почтительно слушал высокого плотного человека в длинном сером сюртуке и цилиндре. Мужчина стоял к Щеглову спиной, но что-то странно знакомое почудилось капитану его в полных плечах и грузной фигуре. Щеглов двинулся вперед, но был еще слишком далеко от кибитки, когда мужчина кивнул торговцу и стремительно отошел. Он удалялся, так ни разу и не оглянувшись, но Щеглов уже понял, откуда знает этого господина. Совсем недавно он видел человека, вот так же старательно распрямляющего плечи при ходьбе и размахивающего правой рукой, как будто в его кулаке что-то зажато.
«Так он же уехал в столицу еще неделю назад, – вспомнил Щеглов, – почему же застрял здесь? Надо разобраться…»
Капитан ринулся вперед, стараясь догнать человека в сером, но тот уже свернул на одну из улиц, разбегавшихся от площади. Щеглов понял, что даже если побежит, он все равно не сможет остановить подозрительного типа, а вот на встречу с графиней Верой и Марфой опоздает окончательно. Оставался один единственный вариант – расспросить торговца. Капитан протиснулся мимо двух десятков возов и добрался до парусиновой кибитки.
– Что хотел от вас граф Печерский? – властно спросил он торговца.
Худое горбоносое лицо мужчины побледнело и сделалось землисто-серым. Выкатив черные глаза, он замер и долго молчал, и лишь после нетерпеливого «ну!», выпаленного исправником, заговорил:
– Ваше высокопревосходительство, я не понимаю, о чем вы спрашиваете.
– Я говорю о человеке, только что стоявшем здесь! – уже раздражаясь, пророкотал Щеглов. – Я хорошо его помню и сразу узнал. Чего он хотел от вас?
– А, тот господин! Так он спрашивал, нет ли у меня мужской одежды, а у меня только дамские наряды, вот, извольте поглядеть – платья, шали и украшения, все самое лучшее, из Санкт-Петербурга привезено.
Торговец показал на развешанную одежду и кивнул на большой плоский ящик с множеством отделений, где, свернутые в мотки, лежали ленты и тесьма, и в аккуратные горки были собраны бусы. Поняв, что от щуплого торговца толку больше не будет, Щеглов, уже повернулся, чтобы отправиться в гостиницу, когда краем глаза заметил в одном из отделений ящика черную шелковую кисточку, замыкавшую нитку темных деревянных бус.
– Что это у вас? Четки? – спросил он, вынимая бусы из коробки.
– Кому как нравится, иногда немолодые дамы их на шее носят, а иногда и как четки берут.
Щеглов повертел в руках темные отполированные бусины, точно такие же четки он видел в руке у графа Печерского. Странное получалось совпадение. Какая связь могла завязаться между бедным торговцем с грошовым товаром и офицером, помощником самого генерал-лейтенанта Чернышева? К тому же, этот торговец вообще отрицал, что знает Печерского.
На углу улочки, ведущей к гостинице, появились две дамы. Петр Петрович сразу распознал высокую фигуру в ярко-синей шелковой шляпке. Он помахал рукой и закричал:
– Марфа Васильевна, Вера Александровна, я здесь!
Капитан быстро полез в карман за деньгами и, достав пятачок, протянул его торговцу.
– Я беру четки. Этого хватит? – осведомился он.
Торговец неуверенно покрутил в руках монету, будто не решаясь продать товар, но раздраженный Щеглов так глянул ему в глаза, что тот сразу одумался:
– Благодарю покорно, господин!.. Очень признателен вашему высокопревосходительству!
– Петр Петрович, а мы вас потеряли, – громко сообщила подошедшая Марфа. – Вот и решили прямо на площадь идти. Ну, как? Продал Осип что-нибудь?
– Ничего, – отозвался Щеглов и заторопился: – Пойдемте. Нам нужно перейти через мост, дом Горбунова на другой стороне реки.
Он предложил руку Вере и нерешительно повернулся к Марфе, но та, как оказалось, уже копалась в лентах. Она весело и дружелюбно, как к хорошему знакомому, обратилась к худому торговцу:
– Ну что, Алан, больше синих лент у тебя нет?
– Нет, барышня, только голубые остались, – объяснял тот.
– Голубые не подойдут, – возразила Марфа, – ну да ладно, нам пора. Прощай Алан.
Торговец низко поклонился, забирая у нее ленты, и тут же вместе с ящиком залез внутрь кибитки.
– Вы его знаете, Марфа Васильевна? – удивился исправник. – Что же я его в уезде не видел?
– Он уже с неделю по соседним с нами деревням кочует. В Солиту первую приезжал, – объяснила девушка. – Я у него эту шляпку купила, хотела еще лент в запас взять. А у него нет.
– А по имени вы его зачем зовете?
– А как же мне его звать? – удивилась Марфа. – Фамилии его я не спросила, его все у нас так звали.
– Что-то случилось? Вы чем озабочены? – удивилась графиня Вера.
– Все в порядке, – успокоил ее Щеглов, – пойдемте к Горбунову. Нужно сегодня же наше дело сладить, иначе мы рискуем вообще ничего не продать.
Он повел своих дам через площадь к мосту. Дальнейшее их пребывание в Смоленске уже не представлялось капитану таким безопасным, как прежде, и исправник пожалел, что не попросил вчера князя Горчакова задержаться здесь на денек.
Откупщик Горбунов оказался рослым, с длинным белобрысым лицом, возраст его Вера определила как «где-то под тридцать». Его светло-серые глаза смотрели пристально и цепко, что совсем не вязалось с широкой дежурной улыбкой, но Вера решила, что ей выбирать не приходится, и после церемонии взаимного представления она же сразу перешла к делу:
– Денис Маркелович, вам уже передавали от моего имени предложение о покупке больших партий соли. Я сброшу цену на пять копеек с каждого пуда, если вы возьмете сразу все из того обоза, что мы уже пригнали.
Откупщик развел длинными и широкими, как грабли, ручищами и виновато вздохнул:
– Ваше сиятельство, предложение довольно заманчивое, только я ведь другим товаром торгую, солью никогда не занимался.
– Так займитесь! – поддавила Вера. – Я ищу оптового покупателя, способногобрать крупные партии товара. У вас будет преимущество – я и цену сильно сброшу, и оборот большой дам.
– Интересно, конечно, да только сложно сразу большую сумму из дела вынуть, – с сомнением покачал головой Горбунов.
Мгновенно почуяв, что ее водят за нос, Вера прибегла к проверенному средству – лести:
– Не может быть, сударь, Я же вижу, что вы – опытный коммерсант, а значит, понимаете, что деньги – инструмент у хорошего мастера. Зачем на них сидеть, если они в работе смогут сами вернуться, да еще столько же, если не больше, принести?
В глазах Горбунова мелькнуло удивление, но он тут же опустил тяжелые веки с белесыми ресницами, а когда вновь посмотрел на молодую графиню, выражение его лица изменилось: больше не было простоватой улыбки – перед Верой сидел сильный и даже опасный человек.
– Я польщен, ваше сиятельство, что вы так обо мне думаете, – спокойно, как равный, сказал он. – Деньги я и впрямь могу найти, только не это главное. Слух ползет по городу, что не стоит у вас соль покупать, проку не будет.
– Как это не будет? Как прикажете вас понимать?!
– А так: кумушки по дворам разнесли и своим мужьям передали, что ежели кто купит у вас товар, так тому беда будет. Все, мол, может случиться: дом ли сгорит, или родные сгинут где-нибудь в лесу.
– Это кто же такую наглость имеет ее сиятельству угрожать?! – взревел капитан.
– Этого я и сам пока не знаю, – признался Горбунов. – Но кто-то ведь не поленился самых отпетых городских бездельников подкупить, чтобы к вашим телегам покупателей не пускали.
– Это правда, Петр Петрович? – спросила побледневшая Вера.
– Да, к сожалению, это так. Я хотел сначала с господином Горбуновым встретиться, а потом разобраться с этими негодяями.
– Но кому это нужно? Я никому не мешаю, я просто хочу продать свое! Что в этом плохого? Я вообще, кроме нашей, не видела на ярмарке подвод с солью – Вера старалась сохранить невозмутимую мину, но удар оказался таким неожиданным и сильным, что это плохо получалось, и голос ее дрожал.
– Так бывает, ваше сиятельство, это – коммерция, – философски заметил Горбунов, и Вера вновь услышала в его голосе нотки отчуждения. Только что возникший между ними мостик разрушился, а вместе с ним начали таять и ее надежды на успех дела.
Это была отчаянная минута, и, как всегда в решающие моменты своей жизни, Вера почувствовала, что внутри нее проступает несгибаемый стержень. Она гордо вскинула голову и холодно, с явно слышимыми высокомерными нотами заметила:
– Коммерция – это когда сильные и умные люди могут договориться к обоюдной выгоде, а когда кто-то из партнеров не может увидеть истинный размах дела, тогда это называется иначе – мелкие делишки. Господин Щеглов сообщил мне, что вы один стоите больше, чем все перекупщики этого города, только поэтому я и захотела встретиться с вами лично. Жаль, что чужие разговоры и провинциальные хитрости конкурентов так влияют на ваше мнение. Наверное, мне стоит поискать партнеров в Москве или в столице.
Она поднялась и выразительно посмотрела на исправника. Тот с готовностью выступил вперед и предложил ей руку, а Марфа шагнула к двери, собираясь распахнуть ее.
– Подождите минутку, ваше сиятельство, – попросил Горбунов и заступил гостям дорогу. Он всмотрелся в лица всех троих и, как будто решившись, предложил:
– Я могу покупать у вас всю соль, хоть по тридцать возов в неделю, только вы уж сбросьте восемь копеечек с пуда. Вы ведь сами сказали, что оборотом возьмем, а я за эту вашу любезность сам с местными проходимцами разберусь. Да и не будет ни у кого из наших соперников в них больше нужды – я ведь товар в Москву гонять буду, здесь продавать не стану.
– В Москву? – заинтересовалась Вера. – А вы сами поедете с обозом?
– В первый раз, конечно, сам, а как договорюсь со старыми приятелями о поставках, так смогу и приказчиков посылать.
– Мне нужно передать деньги матери, а она сейчас живет в Москве. Вы не сможете мне помочь в этом деле?
– Да, пожалуйста, давайте адрес, и я отвезу все, что хотите.
Вера быстро прикинула, что если согласиться на условия откупщика, то за эту партию соли она получит чуть больше тысячи рублей. Столько же, сколько и в этот раз, она сможет отправлять новому партнеру каждую неделю. Получалось совсем неплохо. Скрывая радость, она предложила:
– Денис Маркелович, я передам вам товар и через неделю пришлю столько же, а вы, пожалуйста, отвезите эти деньги моей матери, адрес я сейчас напишу.
Она подошла к конторке у окна и написала адрес московского дома графини Чернышевой, протянула записку Горбунову и попросила:
– Возможно, вы даже сможете поверить мне на слово и передать матушке деньги за месячную поставку авансом. Я была бы вам очень благодарна.
– Разумеется, ваше сиятельство, – не моргнув глазом, согласился откупщик. – Я подожду еще неделю и потом поеду с обозом, а деньги передам за четыре партии.
Вера так обрадовалась, что ей захотелось броситься Горбунову на шею, но дело, о котором они только что договорились, требовало солидности и основательности. Она важно кивнула, и хотя улыбку и сияние глаз спрятать так и не смогла, серьезно пожала новому партнеру руку и спросила о том, куда перегонять подводы с солью. Марфа вызвалась поехать на постоялый двор, где возницы ждали их распоряжений, а Щеглов тут же предложил сопровождать ее.
– Давайте я сначала ваше сиятельство в гостиницу отведу, а оттуда уж мы с Марфой Васильевной поедем на постоялый двор, – предложил он.
– Я могу распорядиться насчет экипажей, – вмешался Горбунов, – ее сиятельство в коляске отвезут в гостиницу, а вы можете взять двуколку.
– Пожалуй, так будет быстрее, – согласился капитан. – Тогда мы до вечера сможем управиться и уже завтра отбыть домой.
Вера согласилась, и откупщик отдал распоряжение закладывать экипажи. Первыми уехали Щеглов и Марфа, потом и Вера уселась в новехонькую, крытую вишневым лаком коляску, вполне уместную в богатом столичном доме.
– До встречи, Денис Маркелович, – попрощалась она. – Я рада нашему знакомству. Уверена, что мы оба выиграем от наших нынешних договоренностей.
– Не сомневаюсь, ваше сиятельство, – согласился откупщик. – Насчет матушки не волнуйтесь, все сделаю. Через месяц деньги будут у нее.
Горбунов дал сигнал трогать, и коляска выехала со двора. Глядя вслед молодой графине, откупщик решил, что, передавая деньги в Москву, он ничем не рискует. Эта красавица была гордой и скорее умерла бы, чем нарушила данное слово. Да и прибыль в этом деле Горбунов смог себе выторговать такую, что ради нее можно было пойти на любые уступки этой деловитой барышне.
«В добрый час, ваше сиятельство, – подумал он, – насчет коммерции это вы в точку попали. Размах дела я сразу оценил, а вот какие деньги я на вас заработаю, это уж вам знать необязательно».
В экипаже Веру совсем разморило. Так случалось всегда. Сначала стальной стержень воли помогал Вере выстоять и победить, а потом он бесследно исчезал, и на нее наваливались опустошенность и бесконечная усталость. Вот и сейчас хотелось лишь одного – добраться до своего номера и рухнуть на постель. Она еле-еле поднялась по лестнице и только достала ключ от двери, когда услышала за спиной знакомый голос:
– Добрый день, Вера Александровна!
Она повернулась и увидела Горчакова. Она так изумилась, что, даже не поздоровавшись, выпалила:
– Так вы же уехали…
Как глупо… Вера мгновенно покраснела. С упорством, достойным лучшего применения, она все время старалась выглядеть в глазах Горчакова гордой и невозмутимой, но получалось совсем наоборот: постоянно смущалась. Мелькнула мысль, что князь, наверняка, изрядно развлекается, глядя на ее пылающие щеки, но она ошибалась. Он не развлекался, он был тронут. Эта смущенная девушка оказалась куда милее величественной красавицы с холодноватыми фиалковыми глазами. А потом пришла трепетная, как к ребенку, нежность. Потрясенный, Горчаков так и стоял, глядя в лицо молодой графини. Молчание затягивалось, это уже становилось неприличным, и, опомнившись, он сказал первое, что пришло в голову:
– Мой экипаж сломался, и я был вынужден вернуться. Но теперь все уже починили, и если вы закончили свои дела в Смоленске – я буду счастлив сопровождать вас.
– Да, мы сделали все, что хотели, и собираемся на заре выехать домой. Тогда мы сможем без остановки на ночлег добраться до Солиты.
– Замечательно! Я поеду с вами.
Они стояли в коридоре у полуоткрытых дверей своих номеров. Мимо них пробежал нагруженный чайным подносом половой, и, поймав его любопытный взгляд, Платон понял, что нужно позволить Вере удалиться. Он только собрался попрощаться, как девушка, опередив его, предложила:
– Давайте закажем чай, а вы пока расскажете мне все, что известно о суде над нашими братьями. Я знаю, что у вас тоже арестован брат, даже слышала, как вас вынудили подать из-за него в отставку.
– Откуда вы знаете про полк? – поразился Платон. Он прошел за Верой в ее номер и, опасаясь, что их разговор смогут услышать, закрыл дверь.
– Загряжская сказала, а Наталья Кирилловна знает все. Простите, если я не должна была об этом говорить. Просто вас шантажировал тот же человек, что пытается заполучить и наше состояние.
Горчаков успокоил ее:
– Все в порядке, я сам сказал об этом Кочубею. Наверное, тот счел эту информацию важной и для вашей семьи тоже. Вы правы относительно того, что на меня охотится тот, кто называет себя вашим родственником. Я имею в виду Александра Ивановича Чернышева.
– Он, скорее, однофамилец, чем родственник. Мой отец много сделал для этого человека в начале его карьеры, вот мама и рассчитывала на него, а все вышло наоборот. Почему люди так неблагодарны?
– Сложный вопрос, – мягко заметил Платон, любуясь ее погрустневшим лицом. Опять из-за совершенной маски мраморной статуи выглянула маленькая нежная девочка. – Чтобы быть благодарным, нужно иметь мощь натуры и благородство. Большинство же людей слабы, они охотно принимают помощь и благодеяния, но тяготятся этим. Все хотят считать, что сами добились успеха, вот слабые люди и забывают, кому этим успехом обязаны.
– Хорошо, если просто забывают, гораздо чаще благодетелю делают гадости и радуются, а иногда начинают его травить.
– Это тоже бывает, в этих случаях есть только один рецепт: не иметь с такими людьми дела.
– Вы правы, – кивнула Вера и предложила: – Расскажите мне о своем брате.
Платон не мог ошибиться – фиалковые глаза смотрели с сочувствием, и он рассказал ей все, даже то, как брат не захотел довериться ему и скрыл свое участие в тайном обществе.
– Он хотел оградить вас от опасности, так же поступил и наш Боб, – заметила Вера.
Платону так хотелось поверить ей! Душа его уже не могла удержать излияния. Он посмотрел в прекрасное лицо, ставшее сейчас милым и странно родным, и на одном дыхании рассказал Вере печальную историю своих отношений с матерью и, только замолчав, с ужасом подумал:
«Что я наделал! Теперь она отвернется от меня».
Но Вера протянула руку и погладила его по плечу.
– Все пройдет, – пообещала она. – Вы простили друг друга, и, веря в вас, мама поручила вам самое дорогое – своих дочерей, а вы память о ней, вырастите сестер.
Никогда у Платона не возникало такого душевного единения с женщиной, раньше он даже не представлял, что так бывает, но Вера устало вздохнула, и он тут же вскочил:
– Я расстроил вас своими печальными рассказами, простите меня. Вам нужно отдохнуть. Завтра я буду ждать вас внизу.
Он направился к двери и уже из коридора, в последний раз оглянувшись, увидел, как Вера вяло опустилась на постель. Она больше не бодрилась, и выражение крайней усталости исказило тонкое лицо.
«Я замучил ее, у нее куча собственных невзгод, а я вывалил на нее свои», – огорчился Платон, но нужно признать, что если бы пришлось начинать все сначала, он точно так же открыл душу этой удивительной девушке. Какое же это было наслаждение!..
Злоумышленник наслаждался. Он был хозяином положения, это грело его душу и услаждало самолюбие.
Его жертва не знала, что ловушка уже расставлена, и у нее нет шансов ускользнуть. Он хотел ее в собственность, всю, до потрохов – в рабство. Никого рядом, полное одиночество и единственная, вечная мысль: «я принадлежу хозяину».
Кучера во дворе гостиницы запрягали лошадей, слуги тащили сверху немногочисленные пожитки постояльцев: графиня Чернышева собиралась в Солиту.
Злоумышленник совсем не жалел, что взрыв в Санкт-Петербурге пощадил Веру. Сегодня он уже знал, что все случилось к лучшему: во второй раз он все сделает не спеша, с толком. Не будет недочетов, он сыграет свою игру безукоризненно. Каким наслаждением стало ломать комедию перед доверчивыми простаками. Как ничтожны казались они сейчас злоумышленнику. Они не стоили его мизинца, ногтя были недостойны, ни один из них даже не подозревал, с каким великим человеком свела их судьба!
Зачем убивать Веру? Это даже вредно, ее нужно использовать, Забрать у нее все: девственность, свободу, волю, даже красоту, только делать это медленно-медленно, смакуя каждое мгновение. Растянуть удовольствие. Хотя нет, это слишком слабо сказано, это будет гораздо более сильное чувство. «Восторг» – вот подходящее слово! Он упьется Верой Чернышевой, а когда опустошит ее до дна, тогда и выбросит! Только он один будет решать, когда для нее в этой жизни погаснет солнце.
Глава 17
Солнце – чудовищно жаркое для весны – почти коснулось верхушек деревьев, а маленькая кавалькада все еще не добралась до границ родного уезда. Хотя путешественники собирались ехать без остановок, но на деле это оказалось тяжеловато, и исправник уже дважды выбирал у дороги тенистые места и устраивал маленькие привалы. Чрезвычайно довольная Вера выбиралась на покрытые яркой майской травой полянки и ходила, разминая ноги, а Марфа быстро накрывала импровизированный стол.
Вера уже поняла, что ошиблась насчет чувств своей помощницы: Марфа всю дорогу трещала лишь о Щеглове. Переборов свою робость, она, как в омут с головой, кинулась в другую крайность – говорила без умолку, причем только о своем кумире. В очередной раз выслушав горячую тираду о том, что Щеглов – лучший мужчина на свете, а Марфа – несчастное, недостойное такого человека существо, подуставшая Вера, посоветовала:
– Делай, что должно и наберись терпения, тогда все и получится. Я сама в это верю, в конце концов, мое имя – Вера.
Марфа сначала не поняла игры слов, но, оценив, засмеялась:
– Да, с таким именем не пропадешь. Отчего мне родители такое имя не дали?
– А вот наша мама позаботилась о благополучии семьи – все добродетели живут в нашем доме. Моих сестер зовут Надежда и Любовь.
Двуколка Щеглова свернула с дороги на маленькую полянку меж цветущих кустов черемухи. Исправник выпрыгнул из нее и крикнул:
– Последний привал, дамы! Больше остановок до самой Солиты не будет.
– Скорей бы! Домой хочется, – откликнулась Вера, и с удивлением поняла, что сказала чистую правду – Солита стала ей домом. Это заметила не только она – за ее плечом раздался хрипловатый низкий голос, и самые простые слова прозвучали с недвусмысленно интимной интонацией:
– Вы, оказывается, любите деревню, ведь как иначе можно считать ее своим домом?
– Люблю, – согласилась Вера, оборачиваясь к Горчакову. – Я готова остаться здесь навсегда, к тому же, так я смогу помогать семье.
– А как же ваши родные? Вы не будете скучать по ним?
– Они смогут приезжать ко мне, а я буду навещать их, но моим домом уже стала Солита.
Она увидела, что князь замялся и замолчал, но не поняла почему. Марфа уже хлопотала, расстилая на траве покрывало, а Щеглов доставал из большой плетеной корзины остатки провизии. Вера двинулась к ним, Горчаковым шел рядом. Наверное, это магия цветущего леса сделала свое дело, или причина оказалась в очаровании красивого мужчины, но Верино сердце дрогнуло. Застигнутая врасплох, она молчала. К счастью, ее спутники этого не заметили – все они весело переговаривались. Марфа обратилась к Вере:
– Я рассказала Петру Петровичу о том, как ваша матушка назвала дочерей, он сказал, что его имя тоже наследственное, а вот меня назвали по святцам. Так у вас и сестер день рождения и именины, получается, празднуются в разное время?
– У нас троих и у мамы тоже – именины в сентябре, а дни рождения, конечно, разные. У меня – шестнадцатого мая, у обеих сестер – осенью.
– Позвольте, так ведь сегодня – шестнадцатое число, – поразился Платон, – у вас день рождения, а мы даже не догадались поздравить!
– Да я и сама забыла, – удивилась Вера, и поняла, почему так случилось – она впервые оказалась в этот день вдали от семьи.
Боль одиночества ударила в сердце, и Вере стало так горько, что слезы сами навернулись на глаза. Она отвернулась, стараясь скрыть их, но было поздно: капли предательски бежали по щекам. Вера вскочила и, прошептав извинение, побежала прочь от места пикника. Она не разбирала дороги и почти налетела на толстую березу, косо растущую на краю оврага.
«Для полного счастья мне не хватает лишь сломанных ног, – с горечью признала она, прислонившись к шершавому стволу. – Совсем одна, да еще и калекой стану…»
Слеза капнула на кусочек отставшей от ствола бересты под ее щекой, и на нем стало расползаться пятно. Вера выпрямилась, вытирая глаза, и услышала шелест шагов за спиной: Горчаков спешил ей на помощь, и был уже совсем близко.
– Можно мне побыть с вами? – просто спросил он.
Как хорошо, что он не полез с утешениями, не стал расспрашивать ее о причинах слез, он говорил буднично, не замечая ее смущения, так, как говорят друг с другом близкие люди, и Вера с готовностью кивнула:
– Да…
– Сколько лет вам исполнилось? Девятнадцать?
– Двадцать, – улыбнулась она сквозь слезы, – вы слишком лестного обо мне мнения. Я старше, чем кажусь.
– Отличный возраст, – не согласился Горчаков, – ваша красота будет цвести еще очень долго, а разум уже пришел в эту прелестную головку. Отсюда и успехи в делах.
– Я давно занимаюсь хозяйством. Последние два года я помогала маме, вела дела. Мне это нравится, а ей – помощь. Ну, а теперь выбирать не приходится. Александр Иванович все отнял.
– А вы с сестрами не думали выйти замуж? Это, возможно, облегчило бы положение семьи, – осторожно спросил князь, и Вере показалось, что его голос странно треснул в середине фразы.
– Надин хочет найти жениха, а Любочка слишком маленькая, – дипломатично сообщила Вера, надеясь, что собеседник не переведет разговор на ее персону. Так и получилось. Горчаков помолчал и извинился:
– У вас день рождения, а у меня нет подарка. Может, вы могли бы принять это кольцо, мне было бы очень приятно, – он снял с мизинца перстень с большим изумрудом и протянул Вере. – Оно принадлежало моей матери, я долго не хотел на него даже смотреть и достал из шкатулки совсем недавно. Вы так напоминаете ее внешне…
– Я не могу, простите. Это слишком дорого, тем более, память о матери. Носите его сами.
Горчаков явно расстроился, но признал ее правоту:
– Извините мою бестактность, я не подумал об этом. Но что же тогда вам подарить? У меня остались лишь экипаж и пистолеты. Выбирайте.
– Пистолеты – отличный подарок, мне хватит даже одного, – засмеялась Вера, – но только вам придется научить меня стрелять.
– Можно это сделать прямо сейчас, – предложил Платон.
Он достал из кармана небольшой пистолет с вензелем на рукоятке и протянул ей. – Пожалуйста, берите.
Металл скользнул по ее ладони, и рука качнулась под тяжестью оружия.
– Ого, тяжелый, – признала она и, ухватив пистолет покрепче, вытянула руку.
– Нужно взвезти курок. Давайте я помогу, – предложил Горчаков и, встав за ее спиной, вытянул вперед руки, сомкнув их на кисти Веры.
Когда тело мужчины прижалось к ее спине, а ее плечи оказались в плену сильных рук, она вздрогнула. Какое искушение! Вера замерла, страшась и не желая, чтобы все закончилось. Оба прекрасно понимали, что он уже перешел границу приличий, а она не должна была допускать подобной вольности, но делали вид, что ничего не происходит. Горчаков взвел курок пистолета и, щекоча губами ее ухо, шепнул:
– На конце дула есть маленький выступ, это – мушка, а смотрите вы через прицел. Нужно, чтобы мушка встала ровно посередине прицела, тогда и нажимайте.
Он прижал ее палец к спусковому крючку, Вера пыталась увидеть сквозь прицел мушку, но от волнения не могла понять, где та находится. Теплые губы вновь коснулись ее уха:
– Готовы? Стреляем…
Вера, сама не понимая как, выстрелила. Это вернуло ее с небес на землю, она передернула плечами, и Платон, разомкнув объятия, отступил. Он как-то выжидающе посмотрел на Веру, но потом забрал из ее руки оружие и заметил:
– У вас все отлично получилось. Я заряжу пистолет и верну, ну, а сейчас нам пора. Думаю, что остальные слышали выстрел и станут беспокоиться.
Он оказался прав. Они не успели сделать и пары шагов, как им навстречу выбежали Щеглов и Марфа. Увидев Горчакова с пистолетом в руках, они забросали его вопросами:
– Что случилось? Почему вы стреляли?
– Я подарил Вере Александровне пистолет, и она попробовала выстрелить из него.
– Ничего себе, подарок для дамы, – удивился Щеглов.
– Я сама попросила именно такой, – возразила Вера, – мне давно хотелось иметь пистолеты.
Успокоившись Щеглов, потребовал ее внимания и достал из кармана темные деревянные четки с шелковой кисточкой на конце. Протянув их Вере, он провозгласил:
– Позвольте и мне преподнести вам этот скромный подарок.
– Спасибо, Петр Петрович, – растрогалась Вера – вы очень внимательны.
Она пропустила бусины между пальцами, те оказались приятно гладкими, а черная пушистая кисточка нежно щекотала ладонь.
– Надеюсь, что они вам пригодятся, – отозвался капитан и тут же напомнил: – Пора ехать, скоро уже стемнеет, а нам еще часа три пути.
Он подхватил под локоть Марфу и двинулся вперед, а Вера пошла рядом с Горчаковым, не решаясь взять того под руку. Князь, как видно, почувствовав ее настроение, молча шел рядом. Они вышли на поляну, где оставили лошадей. Все следы от их привала уже исчезли, экипажи стояли на дороге, а кучера сидели на козлах, ожидая хозяев. Горчаков помог Вере подняться в экипаж и пообещал:
– Я заряжу ваш пистолет и отдам его, когда мы приедем.
– Хорошо, – согласилась Вера и впервые с момента выстрела решилась посмотреть в его лицо. Горчаков казался очень серьезным и глядел на нее как-то выжидающе. Поймав ее взгляд, он отвел глаза и, коротко попрощавшись, отправился к своему экипажу. Двуколка Щеглова тронулась, а за ним и остальные экипажи. Вера поудобнее устроилась на подушках сиденья, рядом с ней сразу же прикрыла глаза уставшая Марфа.
«Хватит на сегодня приключений, – решила Вера, – подумаю обо всем дома».
Теперь она уже привычно назвала Солиту домом. Это казалось правильным, может, это было единственным верным решением, принятым ею сегодня. По крайней мере, в нем она не сомневалась, а остальное могло и подождать.
Когда экипажи свернули к Солите, время уже близилось к полуночи, Вере страшно хотелось, чтобы Горчаков проводил их до имения, а потом остался ночевать, ведь не могла же она выгнать его посреди ночи. Она уже размечталась, как поместит князя и Щеглова в своем флигеле, а сама уйдет ночевать к Марфе. Почему-то ей очень хотелось встретиться с Платоном за завтраком, в этом ей виделось что-то интригующе интимное. Но, к сожалению, исправник не догадывался о ее грешных мыслях. На развилке дорог между Солитой и Хвастовичами он остановил свою двуколку и направился к экипажу Горчакова.
– Ваша светлость, вам здесь сворачивать, за оврагом дорога выведет на липовую аллею, а там и дом увидите. А мы через полчаса в Солите будем, – заявил он.
– Спасибо, я понял, – чуть поколебавшись, ответил Платон и вышел из экипажа. Он подошел к коляске и протянул Вере пистолет. – Я зарядил его, а порох и пули в запас привезу завтра, если вы, конечно, позволите мне навестить вас.
– Приезжайте, мы будем рады, – отозвалась Вера, стараясь не выдать своего разочарования.
Горчаков попрощался и вернулся к своему экипажу. Исправник, взобравшись в свою двуколку, поехал вперед. Коляска покатила следом. Вера не хотела оборачиваться, но не смогла справиться с искушением, и посмотрела вслед свернувшему в лес экипажу. Двумя светлячками улетали в ночь огоньки в фонарях кареты, и Вере стало так грустно, как будто закончилось что-то хорошее. Она вздохнула и повернулась к Марфе.
– Как ты думаешь, куда пистолет положить? Не держать же мне его в руках.
– Можно в карман на дверце сунуть, давайте, я уберу.
Вера протянула ей пистолет, и вновь принялась перебирать подаренные Щегловым четки. Полированное дерево согрелось в ее руках, и гладкие шарики приятно проскальзывали в пальцах, успокаивая и навевая дрему. Подумав, что так, сидя, они и уснет, вера прикрыла глаза, но вдруг впереди послышалось ругань капитана, а потом его крик:
– Стойте! Тут дерево рухнуло, не проедем!
Кучер Веры натянул вожжи, и коляска остановилась. Марфа тут же выбралась из экипажа и поспешила на голос своего кумира. Решив, что они разберутся и без нее, Вера осталась в коляске. Полная луна заливала дорогу молочным светом, и Вера хорошо видела двуколку и застывшую рядом с ней высокую фигуру Марфы. Пытаясь разглядеть внезапно возникшее препятствие, Вера поднялась, но грохот выстрелов заставил ее упасть на дно экипажа.
– Боже мой, что это?! – крикнула она, обращаясь к кучеру. – Кто на нас напал?
– Не знаю, барышня, – отозвался тот, спрыгивая с козел, и Вере показалось, что он нырнул под коляску.
Выстрелы стихли, но наступившая тишина казалась еще страшнее, ведь теперь невозможно было понять, где находится враг. Опять это случилось! Зверь из уже подзабытых ночных кошмаров прыгнул из тьмы и нанес удар… Господи, помоги! Только бы не спасовать, только не дать врагу победить!..
Вера услышала, как шевелился под экипажем кучер, по крайней мере, она была не одна. Понять бы еще теперь, что случилось с Марфой и Щегловым! Она вытащила из кармана подаренный Платоном пистолет, взвела как он учил, курок, и, толкнув дверцу коляски, выскользнула на дорогу. Вера четко видела двуколку исправника, седока в ней не было, Марфа тоже исчезла.
«Они, скорее всего, прячутся где-то рядом», – предположила Вера. Ей показалось, что за двуколкой мелькнуло светлое пятно шали, а потом исчезло.
Она поползла вперед на четвереньках. С того места, где прятались Марфа и Щеглов, раздался выстрел, и из леса, справа от дороги, прозвучал крик, а потом мучительный стон. Шум веток с той стороны подтвердил, что к раненому человеку поспешили на подмогу другие нападавшие.
«Сколько же их здесь, может, целая банда? – ужаснулась Вера, и холодный пот побежал по ее на спине. – Господи, помоги нам добраться до дома!»
Теперь Солита казалась ей самым надежным убежищем в мире, но путь туда был перекрыт поваленным деревом – как теперь уже стало ясно, срубленным злоумышленниками. На лошадях – не проехать, но еще оставался путь пешком через лес. В темноте они вполне могли ускользнуть, нужно только собраться всем вместе. Марфа, знавшая в окрестностях Солиты каждое дерево и каждую тропинку, могла провести их домой. Вера обогнула своих лошадей – те стояли на удивление смирно. Предстояло преодолеть освещенный луной участок дороги. Вере казалось, что все засевшие в лесу преступники целятся именно в нее. Ужас сковал члены, она не могла себя заставить выползти на свет, но и около лошадей оставаться было опасно.
«Да разве можно так трусить?» – разозлилась на себя Вера, и, как всегда на краю опасности, несгибаемый стержень воли, проступивший внутри, собрал ее измученный страхом дух и дал силу.
Вера ползла. В одной руке она зажала пистолет, и ей приходилось опираться на локоть, а на запястье другой запутались шелковый ридикюль и подаренные Щегловым четки, они тоже мешали, но сбросить их Вера не сумела. Она продолжала неуклюже ползти, переваливаясь с локтя на руку. Когда до двуколки оставалась всего пара саженей, Вере показалось, что слева от нее мелькнула тень. Похоже, враг добрался до нее! Шорох шагов подтвердил наихудшие подозрения. Вытянув вперед пистолет, Вера повернулась в сторону опасности, но сильный удар по голове оглушил ее. Казалось, что она уже летит в глубокую темную яму, но в последнее мгновение между разумом и забытьем Вера успела выстрелить.
– Вера, Вера! – ее имя доносилось издалека, как будто кто-то заблудился в лесу, а теперь просил ее помощи.
– Я здесь, – откликнулась она, удивляясь тому, как слабо прозвучали ее слова.
– Слава богу! – обрадовался мужской голос, ему вторил встревоженный женский.
«Марфа тут, – поняла Вера, – и Горчаков здесь, но ведь он должен был приехать завтра, наверное, я проспала».
Она открыла глаза и в смутном свете луны увидела силуэт склонившейся над ней Марфы, Горчакова видно не было, но под ее щекой бугрилось твердое плечо, а сильные руки сжимали ее плечи. Она полулежала на коленях у князя Платона, а он бережно поддерживал ее. Вера твердо знала, что должна немедленно подняться, но сил у нее не было, в голове пульсировала резкая боль, а во рту горчило.
– Пошевелите руками и ногами, – попросила Марфа.
Вера послушно выполнила ее просьбу и по голосу услышала, как помощница обрадовалась:
– Господи, спасибо! Мозг не пострадал! Шишка на голове большая, но полежите, и все пройдет.
– Что же случилось? – прошептала Вера, – и где Щеглов?
– Петр Петрович впереди едет, – ответил ей Горчаков. – Я услышал выстрелы и воротился обратно, но к тому времени, бандиты, похоже, разбежались. Щеглов застрелил двоих, да вроде бы и вы одного ранили, если утром не найдем тело в лесу, значит, подельники его унесли.
– Да, точно, вы его ранили, – подтвердила Марфа, – мы со Щегловым видели, как этот негодяй к вам подкрался, но Петр Петрович не успел еще пистолет перезарядить. Бандит вас ударил, а вы, падая, выстрелили в него. Он вскрикнул и бросился в лес, приволакивая ногу.
– Чего они хотели? Убить нас?
– Скорее всего, ограбить, – предположил Платон и объяснил: – тот, кого вы ранили, сорвал у вас с руки сумку. Там много денег было?
– Да нет, рублей десять, я ведь не взяла у Горбунова оплату за соль, он обязался передать ее моей матери в Москве.
– Похоже, что те, кто вас поджидал, не подозревали об этом, зато знали, что вы в Смоленске продали товар.
– Но кто мог это знать?
– Да кто угодно! Несколько сотен человек вас там видели, кто-то из них проследил за вами и дождался ночи, чтобы устроить засаду и завладеть деньгами. Однако не будем говорить о грустном, вам нельзя волноваться. Мы скоро приедем ко мне и сразу же пошлем за врачом.
Вера действительно не могла больше говорить. Голова ее кружилась так, что она уже не понимала, где верх, а где низ. Хватаясь за князя, как за опору, она прижалась щекой к его груди и закрыла глаза. Руки Платона на мгновение разжались, а потом сомкнулись плотнее, устроив ее поудобнее. Вере сразу стало спокойно, теперь, под защитой Горчакова, она уже не боялась, даже боль в голове как будто притупилась. Вера тихонько повела щекой по гладкому сукну сюртука, и… провалилась в забытье.
Когда через четверть часа экипаж остановился перед дверями дома в Хвастовичах, Платон поднял молодую графиню на руки и осторожно отнес в свободную спальню второго этажа. Марфа осталась с хозяйкой, а Горчаков спустился в гостиную, где его уже ждали управляющий и капитан.
– Нужно послать за доктором, – распорядился Платон, обращаясь к Татаринову, но его перебил исправник:
– Сейчас покидать имение никому нельзя. Дождемся зари, тогда и отправим за доктором вооруженную дворню.
– Я сам с ними поеду, но до рассвета еще часа четыре, не было бы поздно, – с сомнением заметил Татаринов.
– Да, графиня хоть и пришла в себя, но мы не знаем, что у нее повреждено, – согласился с ним Платон.
– Все равно ехать опасно, – не сдавался Щеглов. – Давайте сами осмотрим рану, мы с вами люди военные, навидались всякого, сможем понять, где повреждение, а где только ушиб.
– Ох, боязно, одно дело солдаты, а другое – молодая девушка.
В разговор вмешался управляющий:
– Я знаю, кто нам сможет помочь в этом деле, – заявил он. – Когда ваши сестры прибыли, я взял на себя смелость пригласить в дом почтенную даму – вдову нашего батюшки, Анну Ивановну. Она вместе с младшей дочерью два дня назад переехала сюда. Я думаю, что нужно разбудить ее и попросить осмотреть вашу гостью. Анна Ивановна справится – долгие годы всех деревенских лечила и роды принимала.
– Замечательно! – обрадовался Горчаков. – Пожалуйста, разбудите Анну Ивановну и пригласите ее сюда.
Татаринов кивнул и отправился за попадьей. Оставшись одни, Платон и Щеглов переглянулись, и князь осведомился:
– Ну, и что вы обо всем этом думаете?
Капитан не спешил с ответом. Вроде бы все было понятно: грабители предполагали, что графиня везет с ярмарки большие деньги и охотились за ними, но что-то неуловимое беспокоило Щеглова. Как будто бы за плечом мелькнула тень – насторожила, но не дала ответа об истинной причине опасности. Какая-то фальшь проступала в этом происшествии, но что же не так – капитан понять пока не мог, поэтому сказал то, в чем не сомневался:
– Я думаю, что ждали именно нас. Я подозреваю, что целью нападавших было ограбление, ведь бандит ударил графиню по голове рукояткой пистолета, а не застрелил. Ридикюль он отнял, ведь никто не мог предположить, что Вера Александровна не станет забирать вырученные деньги.
– Вы думаете, что бандиты следовали за нами из Смоленска? – уточнил Платон.
– Я пока не знаю. Нас никто не обгонял, значит, злоумышленники ехали впереди, или ждали на месте. В любом случае, они знали, где находится имение графини.
– Вы хотите сказать, что у них имелись сообщники из окружения Веры Александровны?
– Возможно и так, а может, Горбунова или тех перекупщиков, с кем мы пытались договориться, – пожал плечами исправник. – Утром повезу трупы в Смоленск, попытаюсь опознание сделать.
В гостиную вошел Татаринов, а за ним – одетая в скромное черное платье и пышный накрахмаленный чепец худенькая старушка. Князь и Щеглов поднялись ей навстречу. Платон сразу узнал попадью и, улыбнувшись, сказал:
– Здравствуйте, матушка! Вы меня еще помните?
– Да как же не помнить, ваша светлость, хотя, надо признать, вы сильно выросли, – отозвалась старушка.
– Вырос, это вы правильно заметили, – согласился Платон и сразу перешел к делу: – Мы вас разбудили, простите, но дело не терпит отлагательства. На нашу соседку графиню Чернышеву напали грабители, она жива, но пострадала в стычке. Осмотрите ее, пожалуйста, и скажите нам, что у дамы повреждено. За доктором мы пошлем только утром, и пока тот доедет, пройдет много времени.
– Извольте, – согласилась попадья, – куда ее сиятельство положили?
– В угловой спальне. Я провожу, – отозвался Татаринов и направился к двери. Старушка поспешила за ним, и мужчины вновь остались в комнате одни.
– Были до этого в уезде случаи ночного разбоя? – продолжил прерванный разговор Горчаков. Случившееся настолько выбило его из колеи, что он не мог собраться с мыслями. Одно дело – на войне, там все ясно: противник играет в открытую, но сегодня враг скрывал свое лицо, да и цели его оставались тайными. Ограбление казалось наиболее вероятным объяснением случившегося, но вдруг это еще не все?
– Таких случаев на моей памяти не было, хотя я служу здесь более десяти лет, – признал Щеглов. – Было два непонятных происшествия, случившихся с взрослыми мужчинами – они пропали, а труп одного из них нашли спустя полгода после исчезновения в том же овраге, который мы так и не смогли пересечь нынче ночью.
– Что, прямо на том же месте? Если так, то это совпадение или нет?
– Да, ровнехонько там, – подтвердил капитан. – На остальные ваши вопросы у меня пока нет ответа. Нужно разбираться, искать улики.
Стало заметно, что Щеглов раздражен, и Платон повинился:
– Вы правы, простите, что настаивал, – и, вздохнув, добавил: – Я думаю, что хорошо бы нам всем сейчас выпить.
– Не откажусь!
Вернувшийся Татаринов налил всем по стопке водки и поинтересовался, не хотят ли мужчины перекусить.
– Нет, не нужно, – отказался Платон.
После пережитого ужаса, когда он увидел под головой Веры темное пятно уже впитавшейся в пыль крови, князь не представлял, как сможет хоть что-нибудь проглотить. Он поднялся и нетерпеливо подошел к двери, надеясь услышать шаги Анны Ивановны, но та спустилась к ним лишь через полчаса.
– Ну, что с ней? – выпалил Платон.
– Все неплохо. На голове рассечена кожа, но кость не пробита. Удар был сильный, поэтому у графини болит и кружится голова. Я дала ей настойку опия, сейчас она спит. Больше травм нет, если, конечно, не считать ободранной кожи на запястье, как будто с руки что-то сдернули, например, браслет.
– На графине не было браслета, – возразил Щеглов, и Платон кивнул, подтверждая, он помнил, как обнимал руки Веры, стреляя. На девушке не было ни перчаток, ни браслетов.
– Может быть, четки? – предположила старушка, – хотя графиня – юная барышня, а молодежь теперь четок не носит.
– Были четки! – встрепенулся исправник. – Деревянные, с черной шелковой кистью на конце! Их, как видно, сдернули вместе с ридикюлем. Шнурок мог врезаться в руку, четки запутались, а бандит сорвал все вместе.
– Так что искали, деньги или четки? – уточнил Платон.
– Может быть все, что угодно, – отозвался Щеглов. Его раздражение усиливалось на глазах. Он стукнул кулаком по подлокотнику, а потом бросил: – Сейчас я предлагаю пару часов поспать, а с рассветом выехать на место нападения.
– Так и сделаем, – согласился Горчаков.
Управляющий проводил их в приготовленные спальни. Платон, не раздеваясь, упал на кровать. Он знал, что все равно не сможет уснуть, Как можно спать, когда над Верой Чернышевой нависла смертельная опасность?! Вновь вспомнилась кошмарная картина безжизненного тела на ночной дороге, и то чувство абсолютной парализующей беспомощности. Такого с ним не случалось даже на войне, но Платон знал причину случившегося. Он так боялся …потому что любил Веру.
Глава 18
Вера пока так и не проснулась, и Горчаков решил, что сможет оставить ее на Анну Ивановну. Сам он вместе с Щегловым собирался съездить на место преступления. Отправились верхом. Не доезжая до поваленного дерева, они спешились, привязали коней, и капитан распорядился.
– Осторожно, чтобы не затоптать следы на дороге, идем по траве. Становитесь на правую обочину и внимательно смотрите под ноги, ничто не должно пройти мимо вашего внимания. Я не говорю о таких однозначный уликах, как оружие или пули, а уж тем более вещи злоумышленников – с ними и так все ясно. Речь идет о крошках табака, или нитках с одежды, ну и, конечно, о следах.
Они медленно двинулись вперед. Оба внимательно осматривали только что пробившуюся траву и саму дорогу. На взгляд Горчакова, вокруг не было ничего особенного: в пыли отпечатались колеи от двуколки исправника и коляски молодой графини, дважды – туда и обратно – пропетлял след экипажа самого Платона. Других отпечатков не просматривалось.
– Я ничего особенного не вижу, а у вас что? – нетерпеливо крикнул он.
– Пока ничего, бандиты, видать, ехали верхом. Экипажей, кроме наших, не было.
Они приблизились к поваленному дереву. На светлом бархате прибитой пыли четко бурело пятно от запекшейся крови, и Платона вновь ужалил животный ужас, ведь вчера ночью Вера оказалась на волосок от гибели. Мелко задрожали руки, и он вонзил ногти в ладони – вроде помогло. Щеглов крикнул ему с противоположной обочины:
– Вот отсюда графиня ползла, а злоумышленник появился вон из тех кустов.
Широкий полосу, оставленную Верой, князь заметил, но никаких других следов на дороге не было, и он спросил Щеглова:
– Откуда вы знаете про нападавшего?
– Я видел его из своего укрытия, мы с Марфой лежали между колес двуколки. Разбойник крался, легко ступая – был либо совсем без обуви, либо в очень мягких сапогах.
Капитан легко перепрыгнул на правую обочину дороги к Платону. Низко склонившись над землей, он указал на чуть заметный продолговатый отпечаток.
– Вот, гляньте: видите след, а каблука нет – это либо плотные чулки, либо чувяки. Я такой обувки на Кавказе навидался, там ее предостаточно, да и персы тоже ее жалуют. Но те двое, что сейчас лежат в вашем сарае, носили обычные грубые сапоги с каблуками, подбитыми медными гвоздиками. Таких по всем базарам полно.
– Может, бандит разулся? – предположил Горчаков.
– Возможно, хотя зачем? Он догнал ползущую графиню в несколько шагов, мы с Марфой это ясно видели. К чему еще предосторожности?
– Увидел в ее руке пистолет, вот и испугался.
– Ну-у…, – с сомнением протянул исправник и предложил: – пойдемте по его следам и посмотрим.
Они двинулся вдоль вперед, пристально разглядывая траву и придорожные кусты.
– Вот здесь наш злоумышленник протискивался, – Щеглов указал на заросли невысокого, но густого орешника. Полураспустившиеся нежные листочки на краях веток были помяты и тряпочками свисали на черенках, а некоторые и вовсе валялись на земле.
Щеглов прошелся вдоль кустов, осторожно тронул ветви и довольно хмыкнул, а потом подсказал Платону:
– Он прошел здесь дважды, туда и обратно, только второй раз перепутал в темноте место и протискивался сквозь более плотную поросль.
Кусты оказались густющими. Исправник разглядывал ветки, явно надеясь отыскать клочки одежды или просто нитки, однако его постигло разочарование.
– Жаль, – буркнул он себе под нос и попытался продраться сквозь кустарник, повторяя путь ночного злоумышленника.
Платон последовал за ним. Ветки изрядно поцарапали ему лицо и руки, прежде чем он наконец-то выбрался на свободное пространство. Теперь он стоял на крошечной полянке, окруженной со всех сторон густым подлеском. В сторонке, чуть левее, Щеглов внимательно разглядывал примятую траву. Как видно, что-то его заинтересовало. Капитан стал на одно колено, и к удивлению Платона принялся по-собачьи обнюхивать траву.
«Обалдеть можно», – изумился про себя Горчаков, глядя на почти неприличную позу исправника, выпятившего зад в форменных штанах. Но тут Щеглов поднялся и, отряхнув руки и колени, сообщил:
– Вот здесь он нас ждал, причем довольно долго, а потом лежал раненный.
Горчаков подошел ближе и увидел следы лежбища: мягкая трава была сильно примята, а у корней кустов, там, где ветки давали легкую тень, виднелись несколько горок выбитой из трубки золы. Бандит курил, ожидая приближения их экипажей, но никаких признаков того, что он перевязывал раны, не наблюдалось.
– Почему вы решили, что он ранен? Здесь нет крови.
– Вот, подойдите сюда. Видите, деревце сломано? У нашего бандита не оказалось ножа, и он был вынужден выломать себе костыль, а вон туда, под кусты он вылил изрядную порцию водки – трава еще чуть пахнет, а земля влажноватая, похоже, рану обмывал. Но раз он смог идти с костылем, значит, пуля не задела кости.
Исправник прошелся до края полянки и проломился сквозь очередной частокол молодой поросли. Князь последовал за ним.
– Смотрите, Платон Сергеевич, как преступник ногу волочил. Кстати, он не переобувался, так и шел в своих чувяках. Не было у него сапог. Неспроста это!
Горчаков действительно видел чуть заметные продолговатые следы здоровой ноги и широкую борозду от простреленной, отпечатавшиеся на все еще сырой лесной земле. Зато дыры от палки четко, как пунктир, отмечали путь бандита. Следопыты двигались вдоль дороги пока не оказались у одинокого старого дуба, все еще чернеющего голыми ветвями среди нежной зелени остального леса.
– Вот здесь стоял его конь, – в азарте потирая руки, указал на следы капитан, – отсюда преступник и ускакал. Похоже, что с правой стороны дороги наш раненый был один. Никто не оказал ему помощи, он выбирался сам.
– Да, наверное, вы правы. Просто удивляюсь, как вы смогли в темноте подстрелить тех двух! – оценил Горчаков.
– У меня есть очень полезная на войне особенность: я вижу ночью так же, как и днем. Луна, если вы помните, была полной, мне этого оказалось достаточно. А злоумышленники, не скрываясь, передвигались в кустах, считая, что их не видно. Я бы и третьего убил, да пистолет еще не успел перезарядить. Я уже ничего не мог сделать, но Вера Александровна – молодец, сама справилась.
– Да уж… – неуверенно согласился Платон. Отчаянное мужество молодой графини его не столько восхищало, сколько пугало.
Исправник, не подозревавший о душевных терзаниях своего спутника, деловито направился обратно к месту нападения. От поваленного дерева он прошел туда, откуда ночью забрал трупы убитых бандитов, и предложил Платону пройти по их следам. Найти отпечатки подкованных каблуков оказалось несложно, они немного углубились в чащу леса, и на поляне среди зарослей черемухи увидели двух стреноженных лошадей. Те паслись, неспешно пощипывая траву.
– Значит, с этой стороны в нас стреляли двое. Если бы у них были еще сообщники, то они забрали бы лошадей. Раненый с противоположной стороны дороги не мог их взять, поскольку сильно мучился, ему было не до хождений по лесу. Похоже, что наша шайка состояла из трех человек. Двоих мы убили, а одного ранили. Неплохой результат!
– Да уж, вы оказались на высоте! Но кто эти люди? Идея напасть на графиню принадлежала им самим, или их кто-то нанял? Пока мы этого не поймем, ей небезопасно находиться в своем имении.
– Ну, в имении, положим, и безопасно, но вот солью торговать, точно, не следует. А она уже договорилась с откупщиком в Смоленске, что тот передаст ее матери деньги за четыре партии товара. Я думаю, что графиня не остановит работы и на ярмарку ездить не перестанет. Не тот характер!
– Значит, будем ее сопровождать.
– Придется не только сопровождать, но и охранять, – уточнил капитан и предложил: – Здесь мы все осмотрели. Давайте заберем коней и вернемся в Хвастовичи, да поеду я в Смоленск.
Так они и сделали. Отказавшись от завтрака, исправник запряг свою двуколку и, привязав сзади найденных лошадей, двинулись в путь. За ним на крестьянской телеге везли оба тела.
Платон вошел в дом и сразу же понял, что сестры его уже поднялись: из столовой долетали обрывки девичьих разговоров. Стоя в коридоре, он с любопытством обозревал картину семейного завтрака. Посередине длинного обеденного стола двумя парами друг напротив друга сидели его сестры, незнакомая русоволосая девушка лет семнадцати и гувернантка-англичанка, нанятая в столице. Он отметил, что сестры уселись с противоположной от мисс Бекхем стороны стола, как будто бы демонстрируя свою независимость, и посочувствовал англичанке. Он уже осознал, что с его сестрицами не так-то легко поладить.
Если голубоглазая Вероника казалась мягкой и нежной, то это была лишь обманчивая видимость, а насчет рыжей Полины никто и не стал бы питать никаких иллюзий. Ее зеленые глаза полыхали мятежным блеском, а повелительные интонации в голосе юной графини ди Сан-Романо не оставляли сомнений, что самым авторитетным мнением на свете эта красотка считает свое собственное.
Подслушав разговор своих домочадцев, Платон понял, что они уже знают о нападении на графиню Чернышеву и о том, что та лежит в спальне наверху. Незнакомая русоволосая девушка в подробностях рассказывала о том, как она заглянула в спальню графини и что там увидела:
– Матушка меняет ей компрессы, а ее сиятельство то спит, то бодрствует. Лицо у нее ужасно бледное, но очень-очень красивое.
– Дуня, а куда она ранена? Ее красота не пострадает? – полюбопытствовала Полина.
– Да она и не ранена вовсе, ее ударили по голове, когда отбирали сумку с деньгами. Ничего ее красоте не сделается, – объяснила та, кого назвали Дуней.
– Доброе утро, дамы, – войдя в комнату, вмешался в разговор Горчаков.
Девушки вскочили с мест, а Полина кинулась к брату и повисла у него на шее:
– Платон, ты приехал!
Горчаков расцеловал ее в обе щеки и повернулся к Веронике. Более застенчивая, чем сестра, та еще стеснялась его. Она издали улыбнулась, тихо поздоровалась и, осмелев, заговорила тоном светской дамы:
– Познакомься, пожалуйста, с Дуней, она и Анна Ивановна теперь будут жить здесь, с нами.
– Я уже с ней знакомился, правда она тогда еще не умела говорить, – пошутил Горчаков и предложил: – Давайте знакомиться заново, Евдокия Макаровна. Меня зовут Платон Сергеевич.
– Очень приятно, – почти прошептала покрасневшая девушка.
Князь поздоровался с гувернанткой и сел за стол, намереваясь позавтракать. Он взял с блюда кусок пирога и протянул руку к чашке. Но сестры накинулись на него с вопросами:
– Платон, а графиня Чернышева долго у нас пробудет? – поинтересовалась Вероника.
– Мы хотим с ней познакомиться, – добавила Полина.
– Боюсь, что это сейчас не самая хорошая идея: графиня еще очень слаба, возможно, что она долго будет не в состоянии принимать гостей.
Не привыкшая к отказам рыжая красотка потребовала:
– Платон, уговори ее! Дуня говорит, что у графини такое же большое имение, как это, к тому же она – наша ближайшая соседка. Да и управляет имением у нее девушка. Мы с этой Марфой уже познакомилась. Она уехала домой, не дожидаясь твоего возвращения, сказала, что нужно управляться с работами, а о хозяйке позаботятся Анна Ивановна и доктор.
– Наверное, она знает, что делает, – промямлил неприятно пораженный князь: он почему-то считал, что Марфа более предана своей хозяйке.
– Графиня сама ее отправила, – поделилась сплетнями осмелевшая Дуня, – сейчас ведь сев, а еще ее сиятельство велела проследить за солью. Хотя никто раньше не слыхал, чтобы в Солите ею занимались, только у Бунича солеварня есть, а больше ни у кого в округе нету.
Неуемная Полина демонстративно пожала плечами и изрекла:
– Я, конечно, в Россию приехала недавно, только мне кажется, что название «Солита» происходит от слова «соль». Или я плохо знаю русский язык?
– Ты хорошо его знаешь, – примирительно заметил Платон, – не спорьте, пожалуйста, хотя бы теперь, когда в доме лежит больной человек. Я навещу графиню Веру, а потом сообщу, сможет ли она в ближайшее время познакомиться с вами.
Подумав, что его сестры могут свести с ума кого угодно, он пожелал всем хорошего дня и отправился на второй этаж, где в нескольких шагах от его спальни лежала девушка, занимавшая теперь все его мысли. Горчаков тихо стукнул в дверь, ожидая, что ответит Анна Ивановна, но изнутри раздался еще слабый, но уже четкий голос Веры:
– Войдите.
Платон шагнул в темноту. После пронизанного золотистыми лучами пространства гостиной, тьма показалась ему особенно плотной, и он пошел на голос Веры. Сделав несколько шагов, он наконец-то разглядел черные кудри, рассыпанные по подушке, и безупречное мраморное лицо, лишь прозрачные лиловатые глаза на нем казались живыми. В них металась боль, но страха Платон не заметил. Вера Чернышева осталась верна себе: сильная и самоуверенная она не боялась жизни и уж точно не нуждалась ни в какой защите.
«Дурацкие мечты и сплошные иллюзии», – признал Платон, вспомнив о своих планах жениться на молодой графине. Но тут же чувство долга напомнило о себе: Веру вчера пытались убить, и опасность, грозившая девушке, пусть сильной и независимой, казалась почти осязаемо реальной. А раз так, то у Платона просто не осталось выбора… Или он все-таки выбрал сам?
Веру разбудило тепло – щеку грел солнечный луч. Сначала она не поняла, где находится, а потом вспомнила о вчерашнем кошмаре, и на нее сразу же рухнуло чувство отчаянной безысходности. Голова кружилась, резкая боль пульсировала в затылке, но видела она четко, не так, как после взрыва. На сей раз контузии у нее, похоже, не случилось, сознание работало четко. От тяжких мыслей ее отвлекла Марфа. Та осторожно проскользнула в комнату и, увидев, что хозяйка проснулась, перекрестила Веру.
– Ну, бог отвел, вы живы!
– Да, хвала Всевышнему, опять пронесло, – согласилась с ней Вера и призналась: – уже во второй раз. Три месяца назад кто-то взорвал нашу карету, мы с матерью тогда чудом уцелели. Жандармский капитан, так и сказал, чудо, мол. Бомбу на запятки кареты бросили, а она от тряски скатилась и взорвалась уже на земле. Меня тогда сильно контузило, я неделю с постели встать не могла.
– Да что вы! – ахнула Марфа, – Тогда получается, душегубы за вами от самой столицы шли?
– Может и так! Хотя кто знает… Здесь тоже не все гладко – люди пропадают, одного убитым нашли. Щеглов ведь так ничего и не выяснил.
Оскорбленная Марфа кинулась защищать своего кумира:
– Петр Петрович на купцов грешит, говорит, что все из-за денег. Он двоих ведь застрелил, а третий, которого вы ранили, ушел. Так вот, у убитых ридикюля вашего не было, значит, другие злоумышленники увезли вашу сумку.
Вера задумалась. По большому счету, предположение исправника выглядело логичным. Может, пора успокоиться? Алчность и обида местных купцов подвигли их на месть, больше они не рискнут устроить что-нибудь подобное. Тогда она просто попросит капитана и откупщика Горбунова помочь ей с охраной соляных обозов и продолжит начатое. А вдруг все не так? Не докатилось ли сюда эхо столичного взрыва? Но тогда получается, что целью преступников в прошлый раз была она сама, а не мама. От волнения боль в затылке усилилась и так сильно прострелила голову, что Вера сжала виски руками и ахнула. Господи, только бы не вернулись прежние кошмары!
– Болит? – перепугалась Марфа и запричитала: – Да что же это доктора все нет?! Только утром за ним послали, пока привезут…
– Тихо, тихо, не вопи.
Крики отдавалась в ушах бесовским завыванием, и у Веры застучало в висках. Она никак не могла сосредоточиться.
«Соль, – мелькнуло в измученной болью голове, – моя главная надежда. Нельзя останавливать работы. Нужно скорее ехать домой».
Вера попробовала подняться, но огненные круги замелькали в ее глазах, а тошнота мгновенно подступила к горлу. Никуда-то она пока не годилась…Пришлось сдаться.
«День ничего не решает, – успокоила она себя, – Марфа меня заменит, а там уж я и сама встану».
Пытаясь справиться с тошнотой, Вера поглубже вздохнула и, поманив к себе помощницу, прошептала:
– Поезжай домой и присмотри за солью. Главное, чтобы работы не останавливались. Живая или мертвая, но я должна в субботу следующий обоз отправить.
– Да куда же вам обозы-то гонять! – возмутилась Марфа. – Да вам еще неизвестно сколько лежать придется. Здоровье дороже!
– Не пререкайся, а делай то, что я говорю, – тихо, но твердо заявила Вера. Сил на спор у нее не осталось.
Марфа долго отнекивалась, но потом сдалась:
– Да, правда, сеять нужно, соль молоть… Да только как же я вас оставлю тут одну-одинешеньку?
– Не беспокойся, я дождусь доктора и попрошу князя отправить меня домой.
– Ну, коли так, я поехала? Дома вас ждать буду?
– Давай, – устало отозвалась Вера и закрыла глаза.
По крайней мере, дела сдвинутся с места. Если бы еще Щеглов смог разобраться со всем остальным! Она так и сяк перебирала разные предположения. Что это было? Рука окаянного дядюшки или те, кому она перешла дорогу со своей солью, или, еще хуже того, ее преследует мститель? Ответа не было…
В дверь ее спальни постучали, и Вера отозвалась, пригласив войти. В полутьме комнаты она не могла различить вошедшего, но сердце ее задрожало, подсказав имя. Она не ошиблась, в изножье кровати появилась высокая фигура Горчакова.
– Доброе утро, Вера Александровна, как вы себя чувствуете? – поинтересовался он.
Тон его оказался таким обыденным, что Веру ужалило разочарование. А как же объятия? Сейчас в словах Горчакова звучали лишь заученные интонации гостеприимного хозяина. Стараясь скрыть обиду, она ответила:
– Спасибо, похоже, что лучше, только голова пока еще болит.
– Я очень рад, прошу вас, располагайте мной и всем, что я имею, – подтверждая ее худшие опасения, продолжил Горчаков. – Скоро прибудет доктор, и, надеюсь, что все образуется.
– Спасибо, вы очень любезны, – отозвалась Вера, опустив ресницы. Разочарование так давило сердце, что она просто не могла сейчас заглянуть в глаза Горчакова. Сегодняшнее утро все поставило на свои места: они – всего лишь соседи.
Платон рассказал ей про найденных в лесу коней, про следы раненого, напомнил о ридикюле и четках. Все это было интересно, но Вера так и не дождалась ответа на главный вопрос и, в итоге, задала его сама:
– Как вы думаете, кто эти бандиты?
– Мы пока не знаем, Щеглов повез тела на опознание в Смоленск, но нападение было спланированным, ждали именно вас. Дерево свалили уже в темноте, до этого по дороге ходили и ездили мужики, никто ничего подозрительного не заметил. Скорее всего, бандиты рассчитывали захватить выручку от продажи соли.
– Кто же их навел? Где искать предателя? – заволновалась Вера.
Ужас вновь залил ледяным потом ее спину, свел судорогой нутро, но собеседник этого, к счастью, не заметил, по крайней мере, утешать не стал, а пустился в рассуждения:
– Наводчиком мог оказаться любой, видевший ваши подводы, бандитам могли помочь и отказавшие вам купцы. Я подозреваю, что они просто хотели сбить цену, а вы договорились с их конкурентом. Возможно, они пожелали отомстить и поправить дела с упущенной выгодой, отобрав у вас деньги, полученные от Горбунова.
– Либо сам Горбунов захотел получить товар бесплатно, убрав поставщика, – отозвалась Вера, стараясь говорить твердо.
– Такой вариант не исключен, хотя для человека со связями и размахом Горбунова подобное поведение кажется мне слишком нелогичным, ведь он собрался на вас зарабатывать. Сам я могу судить только по словам нашего исправника, но тот ни разу даже не намекнул, что нападение может быть делом рук откупщика.
Отчего-то Вера ему сразу поверила. А почему бы и нет? Если подумать, князь рассуждает логично. К тому же она могла проверить лояльность своего нового партнера.
– Если Горбунов передаст деньги моей матери, значит, он не виноват. – сказала она.
– Вот видите! – обрадовался Горчаков. – Давайте, я заеду к Софье Алексеевне и проверю, как откупщик выполнил свои обязательства.
Вот и нашелся выход из положения, и Вера вздохнула с облегчением. Опять из-за маски светского человека вновь проступил мужчина, защитивший ее ночью. Она хотела его поблагодарить, но не успела – в комнате появилась Анна Ивановна, а за ней – высокий старик с большим потертым саквояжем в руках.
– Ваше сиятельство, доктор Каютов прибыли, Аристарх Герасимович. Вы позволите ему сейчас вас осмотреть? – осведомилась попадья.
Вера согласилась, и Горчаков поспешил покинуть спальню. Врач начал осмотр.
Он долго изучал уже подсохшую рану на голове Веры, потом попросил зажечь свечку и внимательно через лупу вглядывался в ее глаза. Руки и ноги он ощупал быстро и сообщил, что они целы и даже не ушиблены, не счел он серьезной раной и ободранное запястье.
– Совсем неплохо! Я считаю, что вы легко отделались, – заявил он в конце осмотра. – Голова не пробита, а рассеченная кожа уже затягивается, даже волосы обрезать не придется. Симптомы сотрясения мозга, конечно, присутствуют, но здесь одно лекарство – покой. Полежите денек-другой, а потом можете встать. Ездить в экипаже я вам пока не рекомендую – тряска, знаете ли, голове от этого нездорово будет.
Вера забеспокоилась. Ей совсем не хотелось оставаться у того гостеприимного кавалера, каким вдруг обернулся Горчаков, она рвалась домой, туда, где была сама себе хозяйкой.
Вы думаете, что меня нельзя пока перевозить? – уточнила она.
– По меньшей мере, два дня, да и то, если головная боль к тому времени совсем пройдет, – наставительно изрек Каютов.
Он стал засовывать трубку в свой саквояж и вдруг, досадливо крякнув, достал оттуда слегка измятый конверт с темной сургучной печатью. – Простите великодушно, ваше сиятельство, совсем забыл. Господин Бунич встретил меня на повороте дороги и просил передать вам письмо, сказал, что это очень важно, а я, старый дурак, чуть с ним обратно не уехал.
Вера не ждала от Бунича никаких известий, но не взять письмо не могла: она поставила бы доктора в неловкое положение и вызвала бы сомнения у Анны Ивановны. Поблагодарив, она забрала конверт.
Врач простился с ней и в сопровождении попадьи отправился на встречу с хозяином дома, а Вера пододвинула к себе свечу и развернула письмо. Почерк у Бунича оказался красивым и четким. Она начала читать – и не смогла поверить своим глазам. Сосед не только не скрывал более своих чувств, но писал предельно откровенно:
«Дорогая Вера Александровна!
То, что я сегодня узнал, доказало мне, как смешны были те недоразумения, из-за которых я отдалился от Вас. Сегодня ночью я мог потерять Вас, и тогда мне незачем было бы жить. Я больше не могу скрывать свое отношение к Вам. Я люблю Вас с самого первого взгляда, и ничто не сможет изменить моих чувств.
Умоляю, не отвергайте столь искреннюю любовь и станьте моей женой. Я обещаю быть Вам надежной опорой во всех Ваших делах, служить Вам верой и правдой до последнего вздоха. Не спешите с ответом, я готов ждать сколь угодно долго. Преданный Вам Лев Бунич».
Вера сложила письмо. Сосед был таким милым, и его стало до слез жалко. Бедняжка – она разобьет его сердце! Слезы навернулись на глаза. Ну почему все так не справедливо: нас всегда любят не те, к кому лежит сердце? Лорд Джон, князь Платон…
«Нужно убираться отсюда», – подсказал внутренний голос.
Она вытерла слезы и попробовала встать, но не успела. В дверь постучали, и в комнате вновь появился Горчаков. Теперь он выглядел смущенным. Это было так чудно, что Вера даже забыла о собственных невзгодах. Красавец-кавалергард неуклюже мялся, как лопоухий подросток, и голос его завибрировал от волнения, когда он заговорил:
– Вера Александровна, простите, я потревожил вас, ведь доктор настаивает на вашем покое, но мне хотелось бы обсудить очень важный вопрос.
– Я сама хотела побеседовать с вами, – перебила его Вера.
– А что вы хотели мне сказать?
– Я надеялась, что вы поможете мне сегодня же перебраться в Солиту.
Горчаков совсем растерялся.
– Но врач совершенно четко выразился, что вам еще не менее двух дней нужно лежать, вы не перенесете тряски в экипаже…
– Я крепче, чем кажусь. Ничего со мной не случится. Я не могу здесь больше оставаться. У меня есть две незамужние сестры, нельзя допустить ни малейших сомнений в моем поведении, чтобы не навредить их шансам на хорошие партии.
Ее слова, похоже, встряхнули князя, и он заговорил тверже:
– Я понимаю, вы беспокоитесь о приличиях. Я тоже хотел поговорить именно об этом, но здесь есть совсем простое решение: вы можете оказать мне честь и стать моей женой. Я богат и пока еще достаточно влиятелен, чтобы потребовать возврата принадлежащих вам и сестрам средств. Если вы выйдете за меня замуж, Чернышев уже не решится навязывать вашей семье опеку. Я обещаю стать верным и преданным мужем. Я буду опекать ваших сестер, а вы поможете мне вырастить моих. У нас окажется много общих интересов. Я уверен, что мы сможем стать хорошей парой.
«Ну и ну! Второе предложение руки и сердца за полчаса. Блистательный результат…» – мысленно оценила Вера.
Только почему же так противно? Даже Бунич говорил о любви, а у Платона – один расчет. Безупречная логика, не придерешься. Все прикинул, оценил риски и прибыли, а потом сделал предложение. Ждет, что и я поступлю так же. Выгоды налицо. Нужно просто дать согласие. Все честно: общие дела, уважение…
Она поняла, что молчание затягивается, а Горчаков внимательно вглядывается в ее лицо, и сказала первое, что пришло в голову:
– Мне нужно время, чтобы подумать, но я должна сегодня же уехать в Солиту.
Глава 19
Солита! Медом она что ли намазана? По крайней мере, для его сестер – точно. Все уши прожужжали об обещанном визите. И чего им не сидится дома? Бог весь…
Сам Платон уже трижды навещал молодую графиню. Каждый раз с надеждой и тревогой он ожидал, что услышит ответ на сделанное предложение, но Вера молчала, вела себя, как ни в чем не бывало, развлекая его светской беседой, а вчера вдруг объявила, что уже совсем здорова и ждет его сестер к себе на ужин. Полина с Вероникой, успевшие оценить красоту соседки, теперь сами мечтали поразить ее своим итальянским великолепием. Они потратили целый день, но добились желаемого обворожительного облика, и сейчас обе нетерпеливо ерзали на сиденьях коляски.
– Платон, долго еще? – капризно протянула Полина.
– Сейчас будет поворот, и ты увидишь крышу главного дома, – пообещал ей брат, и действительно, через пару минут коляска свернула к выезду из леса, и из-за деревьев показался большой круглый купол.
– Боже, как в Риме! – завопила Полина, схватив за плечо сестру, и та согласно закивала.
– Действительно, а я и не подозревал об этом, – поддакнул Платон, – ты права, очень похоже на итальянские дворцы.
Миновав лес, коляска покатила в долину, и восхищенные гостьи увидели весь ансамбль с распростертой вокруг двора колоннадой. Полина даже вскочила:
– Я же сказала, что как в Риме! Посмотрите, это чем-то похоже на собор Святого Петра.
– Да, – согласилась с ней сестра, – только у нас колоннада круглая, а здесь – подковой, и, конечно, все очень маленькое. Разве можно сравнивать?!
– Ну и пусть, все равно похоже на Рим, – уперлась Полина. – Я уже сейчас люблю графиню Веру за то, что она живет в таком доме.
Под восхищенные возгласы темпераментных итальянок коляска спустилась с косогора и теперь катила по двору, гостьи разглядывали уже восстановленные цветники и начавший пробиваться газон, когда вдруг Полина обратила внимание на появившихся в дверях флигеля людей:
– Вон графиня и Марфа. А кто тот мужчина?
– Ее сосед Бунич, – отозвался Платон, почувствовав, как непоправимо портится его настроение. Сестрицы уже насплетничали ему о письме, переданном Вере через доктора. Бунич оказался его соперником – пусть и не слишком молодым, но благородным и добрым человеком, к тому же преданным Вере. Вот и выходило, что видеть Льва Давыдовича на ужине в доме той, кого он надеялся назвать своей женой, Платону хотелось менее всего на свете.
Коляска остановилась, посыпались приветствия и взаимные комплементы. Вера с безукоризненными интонациями столичной штучки, так бесившими теперь Платона, представила прибывшим своего соседа.
Пришлось Платону подать руку сопернику.
– Очень рад, – произнес он привычную фразу, сознавая, что это – циничная ложь.
Ревнивый глаз князя уже отметил, что Бунич все еще сохранил приятную наружность, а уж обаяния тому было не занимать. Поздоровавшись с Горчаковым, Лев Давыдович тут же обратил свое внимание на дам. Он сыпал тонкими остротами и изящными комплиментами, и ко второй перемене блюд обе сестры Платона и даже чопорная англичанка с восторгом внимали речам Бунича. Только Вера оставалась безукоризненно любезной и ровной, да Марфа, хотя и улыбалась, слушая соседа, но как-то не слишком весело.
– Позвольте мне на правах друга детства вашей матушки сказать, что ее замечательная красота вновь расцвела в дочерях, – став вдруг серьезным, заявил Бунич, – княгиня Екатерина была первой красавицей в нашей губернии.
Глаза его сверкали, но Платон с изумлением заметил, как взгляд соперника скользнул по лицу его сестры Вероники. На мгновение сведенные брови сделали Бунича суровым, однако тот снова заулыбался и принялся вещать о том, как он отделал восстановленный после войны дом. Его россказни отдавали хвастовством, но Платон их уже не слушал, наблюдая, на кого же смотрит весельчак-сосед. Картина получалась довольно странная: обращаясь ко всем дамам, тот глядел лишь на хозяйку дома или на Веронику.
«Боже мой, да это – просто мистика! – поразился Платон, уловив то, что заметил Бунич. – Они же похожи, даже имена у них одинаковые, ведь сестру тоже крестили Верой. Так кто же интересует нашего солевара – моя сестра или…»
Ситуация становилась все жестче, и Платон вдруг осознал, что готов костьми лечь, чтобы Бунич никогда не получил ни ту, ни другую. Он вспомнил брошенные ненароком слова попадьи о юном Леве, влюбленном в его мать, и его передернуло от брезгливости: во всем этом было что-то противоестественное. В душе Горчакова вскипело бешенство. Хватит! Он и так дал этому ловеласу слишком много времени на всякие выкрутасы, пора вмешаться в разговор:
– Как дела в вашей шахте, Вера Александровна? – начал он. – Помощь не требуется? Я с радостью помогу…
Хозяйка предсказуемо отказалась:
– Благодарю, но мы с Марфой пока справляемся. Через пару-тройку дней новый обоз соберем и в Смоленск отправим.
– Пожалуйста, не ездите больше сами, пошлите кого-нибудь, – попросил Платон, не решаясь при сестрах заводить разговор о нападении.
– Мне некого послать. Марфа целыми днями занята на работах, сейчас сев, она не может уехать. Теперь солью занимаюсь я одна, так что и продавать сама поеду.
В их разговор вмешался Бунич:
– Я свою соль повезу на продажу недели через три и с радостью захвачу и ваш товар. Зачем вам самой утруждаться?
– Благодарю, но я уже наладила определенные связи и не хотела бы перепоручать свои дела другим, – отказалась Вера.
Горчаков все гадал действительно ли Бунич в своем письме сделал предложение, или послание касалось каких-нибудь дел. Лев Давыдович глядел на Веру нежно и заискивающе, а она была с ним любезна, но не более того, и это вселяло надежду.
«Может, она уже отказала ему? – предположил Платон. – Скорее всего, пока нет, иначе он не позволял бы себе нежных взглядов, а держался бы скромнее. Неужели она выбирает между ним и мной? Никогда бы не подумал, что буду стоять в очереди, ожидая решения своей судьбы».
В застольных беседах царил Бунич. Платон лишь изредка вставлял фразы в общий разговор и еле досидел до конца ужина. Когда гости вслед за Верой наконец-то поднялись из-за стола, он обрадовался. Этот неудачный визит заканчивался, и он мог увезти сестер домой, но вездесущая Полина смешала все его планы, пристав к хозяйке:
– Вера Александровна, а можно посмотреть ваш дом?
– Конечно, пойдемте, там еще много работы, но главное уже проступило.
Вера накинула на плечи шаль и зашагала к дверям, гостьи поспешили за ней, Платон и Бунич замыкали шествие. В теплом мареве обнявших Солиту весенних сумерек грациозная фигура молодой графини казалась видением из волшебной сказки.
– Что, хороша? – услышал Платон голос соперника. – Я сделал графине предложение, скоро она станет моей невестой.
– Вы уже получили согласие Веры Александровны?
– Это лишь вопрос времени, – отрезал Бунич, но особой уверенности в его голосе не было.
– С дамами не все решается временем! – с облегчением отозвался Горчаков.
Они вошли в широкие двери главного дома. Стоя посреди овального вестибюля с белеными стенами, Вера что-то рассказывала гостьям. Пол здесь уже вымостили плитками из белого и черного мрамора, а от стены широкой спиралью взлетала на три этажа мраморная лестница.
– Здесь все освещается окнами из купола, – объясняла Вера, – а со временем мы восстановим и висевшую здесь люстру. Она упала при пожаре, но все-таки сохранилась. Нужно только найти хороших медников, чтобы выправить покореженные части.
– Что же вы раньше не сказали, Вера Александровна? – удивился Бунич, – я привезу вам мастеров, есть хорошая артель в Смоленске, они там храмы после Наполеона восстанавливали.
Соперник вновь воспользовался моментом: он встал рядом с Верой и, слушая рассказ о планировке дома, с восторгом поддерживал каждое ее слово.
«Пусть петушится… Надеюсь, что Вера не так глупа, чтобы купиться на дешевую лесть», – с надеждой подумал Платон.
Вступать в конкуренцию с Буничем было унизительно, и он еле дождался той минуты, когда смог попрощался и, усадив сестер в коляску, отправиться домой. Старательно избегая любых вопросов, он ехал впереди, а дома собирался сразу же отправиться спать. Однако отдохнуть ему не пришлось: в Хвастовичах его ожидал измотанный и озадаченный исправник.
Какое ужасное разочарование!.. А ведь начиналось все вполне удачно: в Смоленске Щеглов быстро установил личности убитых бандитов – ими оказались два отпетых бездельника, промышлявших на побегушках у местных купцов. За пару монет эти пройдохи запугивали несговорчивых продавцов, а иногда сопровождали обозы с товаром в обе российские столицы. С этими типами все было ясно, да и заказчик просматривался – кто-то из отказавшихся покупать соль купцов или все они вместе взятые. Но как только к исправнику пришло понимание суди дела, так жизнь опять смешала ему карты, перевернув все с ног на голову. Факты недвусмысленно доказывали, что сбежавший с места нападения третий преступник почти неделю жил у Щеглова под самым носом, и самое главное, по всему выходило, что ниточка от этого злоумышленника тянутся в саму столицу.
Положение сложилось – хуже некуда, и исправник, не откладывая в долгий ящик, помчался в Хвастовичи. Ведь из всей местной публики лишь князь Горчаков мог пролить свет на хитросплетения столичной политики, а без этого, похоже, нынешнее дело не имело шансов. Надеясь, что хозяин еще не спит, капитан подъехал к крыльцу уже затемно, но Горчакова пока не было дома, и лакей проводил Щеглова в кабинет. Через полчаса вернулся князь, и, поздоровавшись, поинтересовался:
– Давно ждете, Петр Петрович? Может, выпьете что-нибудь?
– Я здесь с полчаса, ваша светлость, а рюмки не откажусь. Если не возражаете, предпочитаю анисовую.
– Ну, и я с вами за компанию, – решил Горчаков и, налив две стопки водки, поставил между ними маленькую тарелочку с очень черным плотным хлебом. – Закусывайте, этот хлеб мне присылают из монастыря на Бородинском поле. Его жена командира моих братьев Маргарита Тучкова построила на месте гибели мужа. Она там игуменьей стала. Я монастырю деньги жертвую, а она мне в благодарность – хлеб.
– Необыкновенный вкус, никогда подобного не ел, да и под водку очень хорошо. – попробовав, похвалил исправник. – Спасибо за угощение, только я хотел бы о деле поговорить.
– Слушаю… Какие у нас новости?
– Очень странные, и я бы сказал противоречивые, – начал Щеглов. – Сначала все шло довольно предсказуемо. Молодцов наших в Смоленске сразу опознали, как двух прохвостов, промышлявших при ярмарке. Там, в жандармской команде, никого не удивило, что эти бандиты пытались нас ограбить. Все считали, что рано или поздно они чем-то подобным и закончат. Впрочем, может, мы и не первые их жертвы.
– Так в чем же странность? Вы выяснили, кто их нанял? Кто-то из перекупщиков, соперник Горбунова?
– Этого я не выяснил, да и ничего мы теперь не узнаем – покойники не скажут, а заказчики отопрутся. Однако я не все вам рассказал. Я лишь успел добраться до дома, когда на соседней улице стрельба началась. Есть у меня один постоянный дебошир – отставной солдат Силантий. Он двадцать пять лет в армии оттрубил, в военном поселении на жительство остался, да пару лет назад наследство в нашем уезде получил, и не малое. Тетку его богатый купец когда-то из крепостных выкупил, да своей законной женой сделал. Любил ее всю жизнь, только наследников она ему не принесла, так и достался после них моему Силантию двухэтажный дом и мучной лабаз. Вот он теперь все это сдает внаем и деньги пропивает, а как напьется, так во двор вываливается, да палит из ружья почем зря. Соседи пугаются и за мной посылают.
– И как этот Силантий связан с нападением? Это он был третьим? – поразился Горчаков. – Как вы это выяснили?
– Не был он третьим, наоборот, тот бандит у него в доме жил целую неделю, комнату снимал и кибитку свою с товаром в его дворе держал. Он – бродячий торговец и в здешних имениях был. Марфа Васильевна у него шляпку приобрела, а потом я его самолично на ярмарке видел, у него как раз те злосчастные четки, что вместе с сумкой пропали, купил.
Горчаков так и не смог понять его логики и уточнил:
– Как же вы поняли, что это был именно он? Вы увидели его простреленную ногу?
– К сожалению, не ногу, а лишь тот самый простреленный сапог. В спешке покидая наш город, бандит его выбросил, Я подозревал, что он был в чувяках, а на самом деле налетчик ходил в высоких сапогах-ичигах. На Кавказе они в большом ходу, а этот самый Алан рассказывал хозяину дома, будто как раз туда с обозами и ходит. Вчера он уехал. Я сам на ярмарке видел, что его кибитка полна женскими платьями и шалями, значит, путь ему лежит на Кавказ. Только это еще не все. Есть в этом деле одно неприятное совпадение. Незадолго до вашего приезда наведался в Солиту один господин. Представился он графом Иваном Петровичем Печерским, потом объявил, что прислан дядей Веры Александровны. Но графиня приезжего выставила, я сам его увез, мы даже в вашем доме заночевали. Так вот этого молодца я видел в Смоленске, и разговаривал тот как раз с Аланом.
– А что ваш отставной солдат говорит о своем постояльце? – уточнил Платон.
– Он разгуливает по двору в простреленных ичигах, надев поверх них лапти, и палит из ружья. Он ничего не соображает, смог только сказать, что Алан уехал, и клянется, что тот – турок, якобы он турков за версту чует, навидался их на войне предостаточно.
– Откуда в нашем уезде турки? – засомневался Горчаков. – Возможно, торговец с Кавказа… Да и то – зачем его сюда занесло? Ведь наш уезд совсем не по дороге.
Исправник вздохнул и предложил:
– Давайте рассматривать факты. Торговца зовут Алан, я его видел, внешность у него явно южная: маленький, плюгавый, весь черный. Он может оказаться кем угодно: и кавказцем, и татарином, а может, персом или турком. Он приезжал в Солиту, даже продал свой товар Марфе Васильевне. Печерский тоже посетил это имение. Что ему на самом деле было нужно, мы не знаем, но на обратном пути он расспрашивал меня отнюдь не о графине, а о дочери управляющего. И что меня особенно заинтриговало – он крутил в руках точно такие же четки с шелковой черной кисточкой, как те, что я купил в Смоленске у этого Алана, а потом подарил Вере Александровне.
– Так, может, он и продал четки этому Алану или забыл их у него, а торговец решил подзаработать.
– Такой вариант не исключен. Я видел, что они разговаривают, но был слишком далеко, мог и не заметить, как передали четки. Да только не похоже, чтобы аристократ продавал подобную безделушку. Ей цена – полушка, какой с этого доход? Вот если он их забыл или обронил – другое дело. Только как помощник генерал-лейтенанта Чернышева связан с уличным торговцем? И почему они оба приезжали в Солиту незадолго до нападения?..
Горчаков задумался. Дело совсем запуталось. Двух убитых проходимцев могли нанять перекупщики с ярмарки, но как связан с ними плюгавый бродячий торговец? Неужели за всем этим стоит генерал Чернышев?
– Я в столице мельком видел довольно молодого человека – нового помощника Чернышева в комиссии. По-моему, его фамилия, действительно, была такой, как вы назвали, – вспомнил Платон. – Этот Печерский – достаточно высокий, обрюзгший, лицо расплывшееся и мрачноватое, производит неприятное впечатление. Глаза и волосы у него, вроде, черные. Подходит это описание человеку, встреченному вами в Солите?
– В точности подходит, – подтвердил Щеглов, – именно обрюзгший – это вы точно подметили. Значит, мы действительно видели посланника генерала Чернышева. Но что его связывает с бродячим торговцем?
– А вы сами не спросили Алана, что хотел от него этот человек?
– Как же, спросил, да тот ответил, что графа Печерского он не знает, а господин, с ним говоривший, хотел купить мужские вещи, – доложил капитан, а потом, помявшись, задал свой главный вопрос: – Я со слов графини Веры понял, что ее отношение к дяде оставляет желать лучшего – а он-то, что от нее хочет?
Застигнутый врасплох, Горчаков молчал. Скорее всего, Вера никому не говорила ни о судьбе брата, ни о потере состояния. Мог ли он доверить постороннему человеку ее тайну? Конечно, не мог, но на девушку напали, она вполне могла лишиться жизни. Вдруг это связано с желанием ее дальнего родственника наложить лапу на имущество семьи, и за этим покушением стоит Чернышев? Не решаясь ответить исправнику, он колебался, но Щеглов не собирался ждать.
– Платон Сергеевич, я расследую дело о нападении на вашу соседку, в деле уже есть два трупа и один раненый. Вы должны сказать все, что знаете! – заявил он. – Обещаю, что если это не будет связано с критическими для жизни графини Веры обстоятельствами, все останется между нами, в противном случае – обстоятельства и так откроются. Только будет ли жива наша соседка к тому времени?
– Я все понимаю, но это не моя тайна, и нам лучше поехать к самой графине, чтобы обсудить все в ее присутствии.
– Но уже поздно, – засомневался капитан, – а дело не терпит отлагательства.
– Несколько часов уже ничего не изменят, – возразил Платон и предложил: – Вы устали, ложитесь спать, а завтра утром поедем в Солиту.
Щеглов вздохнул.
– Устал! Это вы точно подметили, у меня такое впечатление, что я проехал половину страны, и точно не отказался бы пару часов поспать, – признался он, и тут же со своей обычной настырностью попробовал дожать собеседника: – Скажите мне только одно: Чернышев может хотеть смерти племянницы?
Платон взвесил все «за» и «против» и подтвердил:
– Это возможно.
На этом они расстались и разошлись по спальням. Только коснувшись головой подушки, Щеглов мгновенно провалился в сон, а князь еще долго не мог уснуть. Какой сон, когда все вокруг так на удивление скверно?! Даже в его собственной спальне тишина казалась зловещей.
В Солите царила тишина. Во флигеле управляющего Платон и Щеглов нашли лишь кухарку да горничную, распивавших на кухне чаи.
– Ее сиятельство куда поехала? – строго осведомился Щеглов, прервав их приятное времяпрепровождение. Женщины вскочили и наперебой затараторили:
– Барышня на шахту поехала, а Марфа Васильевна на поля ускакала. Она теперь, как солнце встанет, так сразу и уедет, а барышня совсем недавно еще дома была.
– Понятно, – протянул исправник и распорядился: – быстро найдите мне конюха или еще кого-нибудь, кто проводит нас с князем к шахте.
– Я сейчас приведу Осипа, он сегодня на конюшне остался, – вызвалась горничная и пулей вылетела за дверь.
Мужчины тоже вышли на крыльцо. Капитан оглянулся по сторонам, сразу отметил нововведения и указал на них собеседнику:
– Графиня Вера цветники и газон восстановила. Я думаю, через месяц мы Солиту не узнаем.
– Меня здесь уже не будет, я уеду в Санкт-Петербург, – отозвался Платон.
– А как же ваше желание выйти в отставку и жить здесь?
– Так я и еду полк сдавать, – объяснил князь, промолчав о второй причине для отъезда – предстоящем суде над братом.
К крыльцу верхом подлетел Осип и, обращаясь к Щеглову, отрапортовал:
– Ваше высокоблагородие, я готов. К шахте изволите?
– Нам нужна графиня, а где уж ее искать, тебе виднее.
– Да на шахте она. Барышня нигде больше не бывает – либо на шахте, либо на мельнице.
– Ну, веди на шахту, – распорядился Щеглов, забираясь в седло. Платон последовал его примеру и поскакал вслед за капитаном.
Они долго петляли вдоль необъятных полей Солиты, а потом свернули на явно свежую просеку в неширокой полосе лиственного леса.
– Надо же, сколько раз я здесь проезжал, но даже и не подозревал, что тут есть соляная шахта, – удивился Щеглов.
– Так ее сама барышня и нашла, совсем случайно, – с гордостью объяснил Осип. – Лошадь у нее понесла и, в аккурат, на этом месте и сбросила. Вот ее сиятельство и увидела эту старую шахту.
Всадники выехали на утоптанную площадку. В центре ее истекал смолой свежий сруб, на его крыше крутился большой ворот, а рядом с широкой платформы сбегали вниз несколько желобов. Под одним из них стояла застеленная мешковиной телега, наполовину засыпанная солью. На платформе рядом с мужиками, крутящими ворот, наблюдала за погрузкой хозяйка шахты. На взгляд Платона, в мужском сюртуке и широких панталонах, заправленных в сапоги, она выглядела чудаковато, к тому же на голове у нее красовалась шляпа-цилиндр. Грубовато сшитый сюртук скорее подходил молодому купчику, а шляпа наводила на мысли о столичном франте с Невского проспекта. Сейчас графиня Чернышева смотрелась забавно и очаровательно.
Услышав стук копыт, Вера повернулась и слегка нахмурилась.
«Похоже, что нас здесь не ждали. Почему она так волнуется, даже начала покусывать губу?» – попытался оценить Платон, но молодая графиня не дала ему такой возможности. Через мгновение перед ним уже стояла невозмутимая деловая дама, осталось только признать, что самообладанию прекрасная Вера Александровна может научить кого угодно.
Она спустилась с платформы и теперь стояла рядом с визитерами, внимательно слушая Щеглова. Тот повторял ей то, что уже рассказывал Платону накануне ночью.
– Я просил князя сообщить мне правду о том, может ли ваш дядя быть причастным к этому нападению, но Платон Сергеевич посоветовал мне расспросить вас самому, – завершил свой рассказ исправник.
Вера молчала, и Горчаков проникся к ней сочувствием. Не так-то легко рассказывать посторонним о бедах, свалившихся на твою семью. Наконец она решилась и поведала капитану об аресте брата, о конфискации имущества и даже о том, чего Платон не знал – о взрыве. Закончив, она мягко улыбнулась и предложила:
– Выводы делайте сами.
Щеглов не заставил себя ждать:
– Понятно! Если не купцы, тогда назойливый помощник вашего дядюшки вполне мог приложить руку к преступлению. Вы уж простите, но я склоняюсь к последнему. С чего это графу Печерскому сговариваться с бандитом в Смоленске, если он в это время уже должен был подъезжать к Москве? – подвел итог Щеглов, и, помолчав, добавил. – Но нам с вами этого никогда не доказать.
Вера побледнела. Она понимала его правоту и весь риск того положения, в каком оказалась. Но Щеглов, по крайней мере, заслуживал честного отношения, и Вера сказала то, о чем в последнее время думала постоянно:
– Это я принесла сюда беду. Это на меня охотились в столице, а теперь – здесь. Поехав со мной, вы оба и Марфа оказались заложниками ситуации. Простите!
– Это не серьезный разговор, Вера Александровна! – возмутился Щеглов. Я поставлен государством защищать его граждан от всех посягательств на их жизнь и права, вы – одна из моих подопечных, и я найду тех, кто напал на вас. Однако примите мой совет: хорошо бы вам выйти замуж, найти защиту в лице сильного мужчины, а не дразнить всяких проходимцев, решивших, что вы окажетесь легкой добычей.
И этот дул в ту же дуду – замужество. Вера и так знала, что совет исправника мудр, только ей-то как поступить? Буничу она отказала еще накануне. Вера старалась быть очень мягкой в выражениях и с облегчением поняла, что сосед хоть и разочарован, но не оскорблен. Интересно, поступила бы она так сегодня, если бы знала то, что рассказал ей сейчас Щеглов?
«Если бы Платон хоть намекнул, что сможет потом полюбить меня. Пусть не полюбить, но хоть что-то почувствовать… – с тоской думала она. – Я знаю, мы смогли бы стать друзьями, и у нас было бы много общих дел. Но разве этого достаточно? Правда, я сама люблю Джона, но из всех других мужчин я выбрала бы Горчакова…»
Приняв смущение Веры за капитуляцию, капитан, продолжал настаивать:
– Вы не станете ездить с обозами в Смоленск?
– Я не могу… Вы же знаете, о чем я договорилась с Горбуновым!
– Но я не могу обеспечить вашу безопасность. Вы понимаете, что это невозможно. Надо принимать срочные меры, вы должны перестать быть мишенью!
Он смотрел на Веру с отчаянием и возмущением. Она всей кожей ощущала за своей спиной присутствие Горчакова. Тот не вмешивался в разговор, но этого и не требовалось. Он уже предложил ей защиту. Став его женой, она будет недоступна для происков «дядюшки», а ее сестры получат влиятельного опекуна, и, быть может, она даже спасет их и свою жизни. Вера повернулась к мужчине, предложившему ей так много и так мало. Горчаков смотрел на нее очень серьезно, потом вдруг слабо улыбнулся и чуть слышно шепнул:
– Смелей!..
– Хорошо, – решилась Вера, и уже увереннее закончила: – Я последую вашему совету, Петр Петрович. Вы еще не знаете, что князь Горчаков сделал мне предложение. Я его принимаю. До конца мая мы поженимся.
Глава 20
Майский вечер благоухал сиренью. Вера бродила по тропинкам своего запущенного сада – среди немыслимой красы пышных лиловых гроздей – и пыталась хоть как-то собраться с мыслями. Она дала слово и собиралась выйти замуж, только вот радостных предвкушений у нее не было, зато в избытке имелись грусть, сомнения и даже чувство неудобства за вынужденную сделку. Да и как еще можно было назвать соглашение, на которое пошли они с Горчаковым? Выгода для обеих семей, забота о судьбах сестер, имущественные отношения – все учли, кроме того вопроса, как же станет жить семейная пара, руководствуясь подобным прагматизмом и трезвостью.
Пушистая ветка сирени скользнула по ее лицу, подразнила нежным ароматом, и Вера замерла, разглядывая собранные в массивные грозди мелкие лиловые цветы. Она суеверно искала звездочку с пятью лепестками, но все цветочки оказались симметричными.
«Значит, не судьба мне найти свое счастье, – поняла она. – Все дело во мне: я железная и приземленная, таких нельзя жалеть, а значит, и любить. Мне остается лишь продавать соль, а любить будут моих сестер».
Но это ведь тоже совсем неплохо! Ее сестрички достойны самого преданного обожания, и если кто-то в семье должен пожертвовать собой для счастья других – то пусть это будет она. Надин и Любочка станут счастливыми, а она устранит все препятствия на их пути.
Вера почувствовала почву под ногами, в конце концов, сама она считала ум и практичность двумя своими лучшими качествами. В делах она чувствовала себя как рыба в воде, ее место там, где царствует логика, и, повинуясь привычке, она решила до приезда жениха продумать все условия, которые собиралась выдвинуть.
«Я должна сохранить Солиту, это – обязательно. К тому же моя коммерция с солью должна остаться в неприкосновенности, муж не должен вмешиваться в мои дела. Он обязан помочь с нашим приданым. Вот, наверное, и все», – прикинула Вера и принялась гадать, чего потребуют от нее самой. Забавнее всего, что сама-то она совсем не хотела давать никаких обещаний.
– Похоже, что я – безнадежная эгоистка, – признала Вера, обращаясь ветке сирени, и самокритично добавила: – поэтому и недостойна счастья.
Вознаградив ее за смирение, на кончике грозди шевельнулась крошечная розетка из пяти лепестков. Как видно, не все было так плохо. Вера сорвала лиловую звездочку и положила ее на язык.
– Вот вы и нашли свое счастье, – раздался за ее спиной знакомый голос, – а для меня не найдется немного счастья в вашем саду?
Вера повернулась к жениху и обомлела – он приехал к ней при полном параде: в белом мундире с множеством наград на груди. Сколько же можно отрицать очевидное? Князь Горчаков был мечтой любой девушки, и это материализовавшееся чудо предназначалась ей. Надо благодарить судьбу, а не ставить условия. Но вопреки здравому смыслу и собственной интуиции Вера пожала плечами и фыркнула:
– Попытайтесь найти сами. Человек сам должен искать свое счастье.
– Мысль потрясающей философской глубины, и я полностью с вами согласен, – совершенно серьезно заявил Платон, но веселые чертики, мелькнувшие в его глазах, подсказали, как он забавляется.
Его ирония отрезвила Веру. Жених ее высмеивал! И она ехидно парировала:
– Счастье пока еще не самое срочное в перечне наших дел. Я хотела бы обсудить более подробно условия предстоящего брака. У меня есть некоторые требования к этому союзу, а у вас?
– Я хотел бы сначала выслушать ваши, – отозвался Горчаков, и Веру удивило, что она уловила нотки недоумения в его словах.
– Хорошо, давайте я начну. Мое самое главное условие: я оставляю себе Солиту, сама управляю имением и распоряжаюсь полученными доходами.
– Я не возражаю, при условии, что вы не станете продавать поместье, а оставите его в наследство одному из наших детей.
Вера поперхнулась. Вот и прозвучало самое главное. Князь Горчаков собирался не просто жениться, а рассчитывал иметь в этом браке детей. Никакого двусмысленного толкования его поступков не просматривалось, причем взаимные чувства супругов его не волновали. В памяти мелькнули лица сестер, потом матери и брата, и Вера поняла, что готова заплатить эту цену. Она собралась с духом и подтвердила:
– Я принимаю ваше условие. Имение по моему завещанию получит второй ребенок после наследника.
– Согласен, – улыбнулся Платон, и его взгляд потеплел.
Он поднял было руку, как будто собирался коснуться лица невесты, но передумал и просто молча смотрел на нее. Она попыталась вспомнить то, что придумала совсем недавно, но все вылетело из головы, наконец, мелькнуло слово «приданое», и она заговорила:
– Вы станете опекуном моих сестер и приложите все силы, чтобы вернуть наше приданое.
– Согласен, – короткий ответ жениха теперь прозвучал с такой интимной интонацией, что Вера растерялась, похоже, Горчаков занимался тривиальным обольщением. Она отвернулась к сиреневому кусту и, прячась за цветущими ветками, поинтересовалась:
– Какие условия есть у вас?
– Найдите мне цветок с пятью лепестками.
– Вы шутите? – поразилась Вера.
Поведение ее жениха выглядело по-детски нелогичным. Куда делся здравомыслящий человек, совсем недавно рассуждавший о выгодах их союза? Тот выглядел сильным, серьезным и мудрым, а этот походил на озорного шалопая. И где же искать правду? Даже не пытаясь скрыть свое удивление, она уставилась на Горчакова, но тот молчал. Может, ей следовало оценить шутку и рассмеяться? Но мягкая улыбка Платона никак не подходила остроумцу, решившему поразить собеседника шуткой, он казался человеком, ведущим серьезный разговор с приятным ему собеседником. Но эта просьба! Как ее вообще можно понять?.. Вера сглотнула вставший в горле ком и уточнила:
– Простите, что?
– Найдите и мне цветок с пятью лепестками. Вы же себе нашли.
– Да, конечно, – засуетилась она и кинулась перебирать одну за другой пышные лиловые грозди.
Как назло, все цветочки состояли из четырех лепестков. Вера рассматривала одну гроздь за другой, но заветная звездочка так и не попадалась. Платон стоял рядом, наблюдая, и это ужасно нервировало. Когда Вера уже считала, что ей придется расписаться в своем невезении, среди сотен других вдруг мелькнул крохотный пятилепестковый цветочек.
– Вот, нашла, – обрадовалась она, наклоняя цветочную гроздь в сторону жениха, – берите.
– Я не вижу, где он. Сорвите, пожалуйста, сами.
– Да вот, – засмеялась Вера, аккуратно отделяя звездочку с пятью лепестками от соседей.
Теперь крошечный цветочек лиловел на конике ее указательного пальца. Она протянула руку Платону, он взял ее ладонь в свои и слизнул звездочку счастья. Теплые губы захватили в плен Верин палец, язык гладил его подушечку, а по ее руке расплавленным золотом растекается жар. Все выглядело почти пристойно, но это «почти» оказалось мостиком в темную страну страсти, и ох как захотелось заглянуть в опасный омут. Но Вера поспешила вырвать руку, а ее жених отстранился и совершенно серьезно поблагодарил:
– Спасибо, Вера Александровна, вы подарили мне счастье!
Эта фраза звучала так двусмысленно, что девушка растерялась. Что за игру затеял с ней этот опытный красавец? Как можно толковать его слова? Нельзя же всерьез относиться к тому, что единственным условием вступления в брак для него был съеденный пятилепестковый цветочек сирени. Вера терпеть не могла ситуаций, которых не понимала, и сразу же вскипела:
– Я думаю, что вы сейчас пошутили, – отчеканила она. – Но я собиралась обсудить серьезные вопросы и услышать ваши требования к нашему союзу.
– У меня нет требований, есть только просьбы, – поспешил успокоить ее Платон.
– Ну, хорошо, какие?
– Их немного. Я просил бы вас обвенчаться как можно скорее, чтобы вы переехали в Хвастовичи, так будет безопаснее. И вторая просьба – никуда не выезжать без охраны.
– И это все? Я думала, что мы будем обсуждать наши взаимоотношения после свадьбы.
– Неужто? И о чем вы собирались поговорить? – полюбопытствовал Платон.
Беседа свернула на сомнительную дорожку, но Вера собиралась взять в ней верх, во что бы то ни стало, и мгновенно вывернулась:
– Не знаю, я думала, вы что-нибудь потребуете…
– Я уже все сказал. Может, мы обсудим теперь дату и место свадьбы?
Вот тебе, пожалуйста, и триумф! Вера победила орденоносного генерала-кавалергарда: все ее условия он принял, а у нее просил лишь вполне понятных уступок. Теперь можно и великодушие поиграть!
– Предлагайте вы, – разрешила она.
– В ближайшее воскресенье в домовой церкви Хвастовичей.
Не слишком ли быстро? Но отступить сейчас стало бы проявлением трусости, и Вера с достоинством кивнула:
– Я согласна. В воскресенье в три пополудни. А теперь пойдемте в дом, Марфа, наверное, бегает из флигеля во флигель, пытаясь пригласить меня на ужин.
– Вы уверены, что она не испугается, найдя сразу двоих? – уточнил князь.
– Будет только рада, после нападения она до сих пор сама не своя. Все твердит, что в доме должен быть мужчина.
– Марфа Васильевна мудра не по годам, – констатировал Платон. Он вдруг увидел себя со стороны – идущего при полном параде в теплых благоуханных сумерках под руку со своей судьбой, и почему-то наивно поверил, что обязательно будет счастлив.
Юные графини ди Сан-Романо прибыли в Солиту за два часа до венчания. Расцеловав Веру, они сразу же забросали ее вопросами:
– Какая будет фата? Где платье? А украшения?
Но невесте даже не пришлось отвечать, всем командовала Марфа. Она подвела сестричек к кровати, где на покрывале лежали кружевной шарф и великолепное шелковое платье цвета лаванды. Его засунула на самое дно дорожного сундука сестры своевольная Надин. Поначалу Вера рассердилась на такое самоуправство, но сейчас была ей очень благодарна.
– Ух ты, английское! – восхитилась Полина, – Я знаю такие платья, мама купила себе целых три. Но это еще красивее, оно сплошь вышито гладью!
Однако Марфа не допустила дискуссии, поторопив их:
– Пора уже одеваться, вдруг прическу помнем, нужно иметь запас времени, чтобы ее поправить.
Вера просунула кисти в рукава, двойняшки помогли натянуть лиф и расправить юбку, а Марфа застегнула на спине ряд мелких обтянутых атласом пуговичек. Сегодня Вера причесалась по-московски: локоны до плеч и собранная в пучок коса на затылке. Платье одели так удачно, что прическа совсем не помялась, и довольная Марфа накинула на невесту шарф, оставив локоны открытыми.
– Вот так! Гляньте…
Вера повернулась к зеркалу. Она себе понравилась. Платье сидело великолепно, да к тому же подчеркивало необычный оттенок ее глаз. Тонкий кружевной шарф казался еще белее на фоне черных волос, а непокрытые локоны четко обрамляли ее спокойное лицо. Вера любовалась своим любимым образом – безупречной столичной аристократки. Все получилось вполне достойно.
– Я готова, можно ехать, – сообщила она подругам.
– Как это? – удивилась Полина, – а украшения?
– У меня их нет, только жемчужные сережки, я ехала сюда, собираясь заниматься хозяйством, драгоценности мне были не нужны, я их все оставила в столице.
Вера изрядно кривила душой: причина, по которой она отдала все свои драгоценности матери, была самой банальной – в случае нужды их следовало обратить в деньги, но никому об этом она рассказывать не собиралась. Еще не хватало, чтобы ее начали жалеть! Но положение спасла Марфа, она вручила невесте букетик фиалок и предложила:
– Приколем несколько штук на груди, а остальные в руки возьмете.
Вера отделила несколько цветочков и приложила их к вырезу, не зная, как закрепить, и тут же вмешалась неугомонная Полина:
– Цветы должны лежать на коже, чтобы их запах смешивался с ароматом женщины, – объяснила она и сунула цветочки за вырез корсажа лавандового платья, оставив на оборке только головки.
– Откуда у тебя такие познания? – развеселилась Вера, – по-моему, тебе всего пятнадцать.
– В Италии в пятнадцать лет уже детей нянчат, – парировала рыжая красотка, – если не знать таких простых вещей, то останешься в старых девах! Все наши подруги это знают, да и не только это.
– И что же еще?
– Как накрепко привязать к себе мужчину!
– Как? – в один голос спросили Вера и Марфа.
– Нужно отдаваться ему по нескольку раз на дню, тогда у него не будет ни сил, ни желания смотреть на других.
Марфа и Вера переглянулись и закатились от хохота, контраст между юным личиком Полины и ее циничными словами оказался таким комичным, что они никак не могли остановиться. Полина тут же надулась, и Вера сочла за благо извиниться:
– Пожалуйста, не сердись, мы просто не ожидали от тебя такого заявления, и смеялись от неожиданности.
– Очень жаль, что для вас такие простые вещи являются неожиданными, – огрызнулась Полина, и ехидно добавила: – это наводит на мысли о том, что с мужьями вы не справитесь.
Девушки промолчали, а Вера в душе признала, что ее будущая золовка, наверное, права.
– Спасибо за совет, – примирительно заметила она, – может, я и воспользуюсь им со временем.
– И чего же ты будешь ждать? – уже весело отозвалась Полина. – Когда твой муж постареет и нужда в моем совете пропадет?
Марфа в изумлении всплеснула руками, Вероника расхохоталась, а Вера осадила мятежницу:
– Вообще-то речь идет о твоем брате. Я думаю, что нам всем нужно выбирать выражения.
– Ты права, – опустив глаза, смиренно согласилась рыжая озорница, но невеста успела заметить в них бойцовский огонек.
«Вот это и есть семейная жизнь, – почему-то подумалось Вере, – воевать с родней мужа».
Конец перепалке положила Марфа, напомнив, что пора ехать в церковь. Сестры ди Сан-Романо подхватили сзади импровизированную фату из кружевного шарфа, и Вера, наверное, уже навсегда, покинула флигель, где три месяца назад начала свою новую жизнь.
Лесная дорога так никак и не кончалась, а будто заколдованная все петляла, изнуряла поворотами. Спешащий в Солиту граф Печерский уже смертельно устал. Вся эта навязанная шефом поездка с самого начала казалась ему надуманной и бесперспективной. Вано это понимал, но отказать Чернышеву не мог, и от этого злобился еще сильнее. Что делать, ведь это было его первое задание на службе у будущего военного министра, оно решало все: победишь – карьера взлетит вверх, провалишь – пинком вышибут на улицу. В этом деле у почтеннейшего Александра Ивановича имелся личный интерес, и был тот самым нутряным, а от этого еще более важным. До чего ведь дошло, что надежда престола – генерал-лейтенант Чернышев – до душегубства докатился. Вано, конечно, сглупил: надо было бы записать потихоньку на бумажечку свой памятный разговор с начальником – вдруг когда-нибудь пригодится для шантажа. Его тогда срочно вызвали в столичный дом Чернышева. Вано постучал и вошел в кабинет, но Александр Иванович не спешил замечать своего подчиненного. Наконец он соизволил пригласить:
– Проходите, садитесь.
Поедая шефа преданным взглядом, Печерский устроился на краешке предложенного стула и с благоговением выдохнул:
– Добрый день, ваше высокопревосходительство.
Чернышев молча кивнул, а потом осведомился:
– Надеюсь, вы не женаты?
– Никак нет…
– Ну, что ж, я нашел для вас выгодную партию, и хочу, чтобы этот брак состоялся на определенных условиях. Вас это интересует? – спросил Чернышев.
Как шутит фортуна! Девушки из кондитерской на Невском оказались дальними родственницами его нового начальника. Печерский уже встречал их в музыкальном салоне Елизаветы Николаевны, да и разговоры супругов Чернышевых о судьбе этих девиц подслушивал неоднократно. Для него не было секретом, что «дядюшка» уже протянул жадные руки к имуществу сироток. Вот и дошло, наконец, до дела – шеф решил выдать одну из них замуж. Вано, конечно, предпочел бы старшую: та уже расцвела. Печерского завораживал жемчужный отлив кожи на груди графини Веры, но начальник ждал ответа и никаких встречных условий не принял бы, и Вано угодливо сообщил:
– Я с сыновним почтением приму любое ваше решение и выполню все ваши указания.
Чернышев не спешил с ответом, и Вано, трепеща, замер. Насторожить шефа было для него сейчас смерти подобно, и он поспешил добавить патоки в свой верноподданный облик – расплылся в заискивающей улыбке. Похоже, что прием сработал, поскольку Чернышев заговорил:
– Я поручаю вам важнейшее задание, надеюсь, что вы выполните его успешно, кстати, коли нет, то других шансов вам более не представится. Вы должны жениться на старшей из сестер Чернышевых и стать опекуном остальных девиц. Я помогу вам вызволить из-под ареста их приданое. Из имущества своей жены вернете мне половину, а то, что причитается остальным – отдадите полностью. Согласны?
– Да, ваше высокопревосходительство, – не моргнув глазом, отозвался Печерский, – я все выполню. Только ведь существует вероятность того, что мои подопечные захотят выйти замуж. Как тогда поступить?
– Не допускайте такой возможности, – пожал плечами Чернышев. – Соображайте!..
Печерский мысленно представил себя под руку с невестой на столичных балах, но начальник огорошил его:
– Поезжайте в Полесье, разыщите это чертово имение, подаренное Вере бабкой, войдите к девице в доверие, очаруйте ее, в конце концов.
Но все в корне меняло! Что делать в деревне? В столице ничего не стоит устроить неловкую ситуацию, когда родственники сами будут рады сбыть с рук скомпрометированную барышню. А как действовать в поместье, где девица сидит хозяйкой положения? Там, небось, ни сговорчивых свидетелей не найдешь, ни скандала не устроишь. Внутренний голос твердил Вано, что это – провал, но Чернышев уже надулся, и любые сомнения своего помощника принял бы за капитуляцию. Деваться было некуда, и Вано поинтересовался:
– А что мне сообщить графине, когда я ее увижу?
– Скажите, что дядюшка беспокоится за ее благополучие.
Чернышев заметно нервничал, он и так сказал лишнее, и, похоже, сам этого испугался. Генерал-лейтенант мотнул головой, указывая своему помощнику на дверь, и отчеканил:
– Подорожную выпишите себе сами. Казенные суммы возьмете у Костикова, он предупрежден. Все! Вы свободны!
Чернышев раздраженно уставился в бумаги, и Вано оставалось лишь откланяться, а потом отправиться в Полесье.
Внутренний голос не обманул: с молодой графиней все сразу же не заладилось, а потом она вовсе намекнула Вано, чтобы он убирался. Получалось, что он без толку просидел в этом проклятом болотном краю уже две недели. Возвращаться в столицу смысла не было: Чернышев сразу бы его выгнал. Надеясь потом как-нибудь выкрутиться, Вано решил пересидеть бурю в Смоленске, а пока потчевал своего начальника письмами-отчетами, где, не вдаваясь в подробности, врал о том, как ухаживает за графиней Чернышевой.
К праздной жизни за казенный счет Вано привык быстро и находил в ней немало приятного, и все у него складывалось совсем неплохо, пока хозяин трактира по секрету рассказал ему последнюю новость: два самых крупных имения в округе объединяются, поскольку их хозяева вступают в законный брак. Это оказалось катастрофой. Даже не представляя, что станет делать, Вано кинулся в Солиту, но проделать сразу такой путь верхом не смог и заночевал в уездном городке. Лучше бы он этого не делал: все равно так и проворочался без сна в крохотной комнатенке над трактиром. На кону стояла его карьера, он должен был сорвать эту свадьбу, и теперь все средства стали хороши.
Дорога наконец-то вывела на знакомый косогор – Солита лежала рядом. Вано пришпорил коня и поспешил к флигелю графини. Он спрыгнул с коня и, бросив поводья, взбежал на крыльцо. Дверь оказалась не заперта, но комнаты были пусты. Куда все подевались? Вано вывалился на улицу, но усадьба как будто вымерла. Печерский вскочил на коня и поскакал к выстроенным между барским домом и садом службам. По крайней мере, в конюшне явно теплилась жизнь: дверь ее была распахнута, а изнутри слышались мужские голоса. Вано вбежал туда и увидел трех конюхов в компании с почти пустой четвертью мутного самогона. Мужики попытались подняться, но с перепугу получилось это у них не сразу.
– Где графиня? – гаркнул Вано.
– Так известно где, в церкви, – комкая в кулаке шапку, сообщил самый старший из выпивох.
– Но заутреня давно кончилась, может, она куда поехала? – напирал Печерский.
Мужики расплылись в блаженно-хмельных улыбках и, как глиняные коты, затрясли головами.
Не, не, барин, – заблеяли они, а потом, перебивая друг друга, донесли до Вано ужасную правду: его несостоявшаяся невеста два часа назад обвенчалась с князем Горчаковым.
Удар оказался силен, однако Иван Печерский получал и не такие. Не вышло с первого раза? Получится со второго, просто придется побольше повозиться, ведь мишеней стало на одну больше.
Свадебный обед подходил к концу. Милейшая попадья Анна Ивановна так старалась поразить гостей изобилием вкусных местных деликатесов, что во главе целого взвода дворовых баб простояла у плиты целых два дня. Искушая взор и желудки, перемены блюд следовали одна за другой, однако приглашенные не могли столько съесть. Их оказалось слишком мало – только члены семьи и домочадцы. Из посторонних позвали лишь Бунича и Щеглова. Конечно, исправник изрядно раздражал Льва Давыдовича своим занудством и въедливостью, но куда же от него теперь деваться, коли жених по непонятным причинам прямо-таки прикипел к Щеглову.
«Своего ума не хватает, приходится за чужой цепляться», – раздраженно философствовал Лев Давыдович.
Впрочем, даже неприятное соседство не могло испортить великолепного настроения Бунича. Он с иронией отметил изумление на лице новобрачной, когда та увидела его церкви. Милая Вера искренне считала, что своим отказом разбила ему сердце. Наивная! Слава Богу, что она это сделала – освободила его от опрометчиво сделанного предложения. Вот, что значит, Господь отвел: пожалели на небесах Леву Бунича! И теперь он рассчитывал бросить всю свою ловкость и обаяние на завоевание истинного сокровища, счастья всей своей жизни – Вероники ди Сан-Романо.
Лев Давыдович сам назначил себя распорядителем праздника. Сегодня он был в особом ударе: остроты его сыпались, как из рога изобилия, комплименты выходили один цветистее другого. Но на самом деле он старался лишь для единственного ангела. Судьба вернула ему первую любовь, и его ангел вновь оказалась пятнадцатилетней, как будто и не было всех этих бесконечных лет. Только бы ничего не испортить, не наделать ошибок!
Бунич глянул на Веронику. Запрокинув голову, она звонко смеялась, а он не мог оторвать взгляд от ее белоснежного горла. Сладкой мукой было смотреть на эту чаровницу.
«Потерпи, любовь моя, – мылено попросил он и пообещал: – я зацелую тебя с ног до головы, ни кусочка твоей белоснежной кожи не пропущу».
Чей-то взгляд кольнул Льва Давыдовича: его пристально разглядывала новоиспеченная княгиня Горчакова. Этого ему только не хватало! Бунич расплылся в улыбке и любезно поклонился хозяйке дома, та сразу смутилась и отвела глаза. Вот уж чего ему не нужно, так это преждевременного внимания со стороны родственников Вероники. Все должно остаться тайной, никто ничего не должен знать до той поры, пока он не увезет свою юную избранницу, ну а после венчания Горчаковы уже никуда не денутся.
«О чем только думает новобрачный? – окончательно разозлился Бунич – другой бы еще час назад увел жену в спальню. Что за манеры?!»
Хозяин дома как будто услышал его подсказку: князь наклонился к уху жены, и та заалела, как маков цвет.
«Иди те же, – мысленно поторопил их Лев Давыдович, – сколько можно копаться?»
Но его терпение еще с полчаса подвергалось испытанию: невеста кидала букет. Обычай этот, привезенный из покоренного Парижа, в другой раз позабавил бы его, но сейчас он суеверно замер, надеясь, что букет поймает его суженая. Чуда не произошло: пучок фиалок в кружевной оборке достался коломенской версте – Марфе, и единственным утешением Буничу послужил лишь уход новобрачных. Как только за ними закрылась дверь, Лев Давыдович поспешил к своей синеглазой мечте. Вероника вместе с другими девушками шутливо поздравляла Марфу. Бунич присоединился к этому цветнику, выразил свое восхищение удачей дочки управляющего, а потом провозгласил:
– Мадемуазель Вероника, вы необыкновенно похожи на свою маменьку – одно лицо и, как я вижу, одна душа.
Глаза девушки мгновенно засветились счастьем, и Бунич понял, что его стрела попала в цель. Немного усердия и везения и такая же теплая зведная ночь станет брачной и для него.
Глава 21
Бархат тихой теплой ночи накрыл Полесье. Перламутровый месяц повис над пышными кронами цветущих яблонь. Взявшись за руки, молодожены шли через сад.
– Это здесь, – шепнул жене Платон.
Впереди показался небольшой двухэтажный дом, лунный луч посеребрил его стены, в окошках слабо горел свет – похоже, от одиноких свечей – не домик, а сказочное убежище! Они поднялись на крыльцо, и он предупредил:
– Я перенесу тебя через порог.
Платон толкнул темную дверь и внес свою жену в дом. Вера даже не успела осмотреться, как он взбежал по лесенке на второй этаж и вошел в большую полутемную комнату. Она оказалась спальней. Платон усадил жену на кровать и, сев рядом, потянул с плеч форменный колет. Он остался в белой рубашке, и когда вновь обнял Веру, прохладный шелк его рукава скользнул по ее открытой коже. Она напряженно ждала продолжения, но муж не спешил.
– Я всегда любил бабушкин дом, здесь было мое убежище, – тихо заметил он. – Братья этого не понимали – они предпочитали конюшню и сеновал, а я убегал сюда. Читал на балконе книги, а летними ночами стелил там одеяло и долго лежал, глядя в звездное небо. Мне кажется, что самая большая на свете луна светит именно над этим балконом. Ты будешь смеяться, но в других местах я никогда не видел такого огромного сияющего диска.
Платон поцеловал ниточку пробора в блестящих волосах жены, и спросил: – Хочешь посмотреть на звезды?
– Конечно!
Он перекинул через плечо лежавшее в ногах кровати покрывало, и повел Веру в распахнутые стеклянные двери. Платон кинул покрывало на почерневшие от времени дубовые доски и, потянув ее за собой, лег навзничь. Месяц покачивался над горизонтом, а в темной глубине ясного неба алмазными сколками мерцали звезды. Муж прижал Веру к себе, заботливо прикрыв ее плечи уголком покрывала, и спросил:
– У тебя никогда не было такого чувства, будто лишь то, что связано с детством, кажется эталоном красоты, любви и нежности?
– У меня оно и сейчас есть, – отозвалась Вера и удивилась сама себе: ее душа рвалась поведать Платону о самом сокровенном. Она попыталась остановиться, но не смогла, и, отбросив сомнения, продолжила: – Я знаю, что так оно и есть. Я была полностью, абсолютно счастлива, пока был жив папа. Он до сих пор снится мне, я уже не вижу его лица, но слышу родной голос, он говорит о том, как любит меня и гордится мной, и я просыпаюсь счастливой…
– Я его понимаю, – признался Платон, – ты – красавица и умница, надежда и любовь всей семьи.
– Нет, надежда семьи – моя средняя сестра, – мягко поправила его Вера, – наша мама совершенно уверена, что имена ее дочерей полностью соответствуют тому, что они должны принести семье. Надежда – самая красивая из нас троих. Ее оптимизм и жизненная хватка как раз и дают семье надежду, что она отыщет выход из любого самого немыслимого положения и всегда добьется успеха. Любовь – моя младшая сестренка, на самом деле – сердце всей семьи. Она просто любит нас всей душой, ничего не требуя взамен. Меня же зовут Вера.
– Что же это значит?
– Я – добытчица, верная и преданная. Опора матери и сестер. Рабочая лошадка.
– Ну, только не рабочая, если уж ты так хочешь, то самая породистая и красивая из всех лошадок, но, по-моему, ты – все сразу: и надежда, и любовь, и вера. Ты – совершенство, поэтому не можешь быть чем-то одним.
Как же с ней случилось это чудо? Вера лежала в объятиях мужчины, которому сегодня в храме доверила свою жизнь и судьбу, и смотрела в бесконечное небо. Она слушала полные восхищения слова, и ей чудилось, будто и сердце ее уже тоже отдано Платону, и теперь она принадлежит ему полностью, без остатка. Муж теснее прижал ее к себе и повернулся на бок, теперь их лица оказались рядом, и когда губы Платона накрыли ее губы, она растаяла. В этом поцелуе не было требовательности и напора – только нежность. Вера затерялась во времени. Сколько длился поцелуй? Несколько мгновений или часы?.. Не было ничего до, и ничего после, не было даже мира вокруг, остались лишь теплые губы ее мужа…
Они лежали рядом под россыпью звезд, и месяц серебрил русые волосы Платона, а его глаза стали совсем темными, почти черными. Муж нагнулся к ее лицу, как видно, стараясь понять, что же она чувствует, и тихо спросил:
– Можно мне посмотреть на тебя?
Вера кивнула, сейчас слова казались ей лишними. Все исчезло – страхи, принципы, обязательства, даже ее мучительная любовь к лорду Джону. Больше ничего не осталось, кроме объятий этого мужчины. Платон потянул вышитую гладью оборку платья, и ночной ветерок коснулся ее плеч и груди, а еще через мгновение жаркие губы мужа заскользили по ее телу. Они жгли, как уголья, а от них загоралась жаром ее кожа. Платон целовал ее плечи, надолго припал к ямочке под горлом, поглаживая ее языком, потом соскользнул вниз и по очереди поцеловал соски. Он целовал левый, а правый нежно гладил, а следом – наоборот Вера пылала, такой она себя еще не знала. Кожа ее откликалась на легчайшие прикосновения, сердце стучало, как безумное, а дыхание сбивалось.
Теперь ее горячили поцелуи нетерпеливого любовника, и Вера стала на них отвечать. Не отрываясь от ее губ, Платон потянул вверх подол лавандового платья. Он гладил бедра жены, распаляя в ней в ней томный жар, и когда его ладонь скользнула выше, Вера выгнулась ему навстречу. Теперь за нее решало тело, а оно требовало лишь одного – полного единения.
– Да? – спросил Платон, целуя маленькое розовое ухо.
– Да, – просто ответила его жена.
Рванув на себе рубашку так, что отлетели все пуговицы, и одним движением стянув остальное, он упал на белеющее в свете луны тело Веры. Мучительно медленно прокладывал он цепочку поцелуев по ее животу, а когда прижался губами к лону, жена закричала и забилась. Платон приподнялся и сильным толчком вошел в трепещущую глубину. Жгучие волны экстаза пробегали по телу Веры, удесятеряя его страсть. Их единение оказалось упоительно ярким и мощным, как вспышка молнии.
Вера не открывала глаз, боясь разрушить эту близость. Всей кожей чувствовала она мужа, он грел ее, закрывая собой от ночной прохлады. Ей показалось, что Платон заснул, и она удивилась, услышав его шепот:
– Спасибо, дорогая, за царский подарок. Обещаю, что ты никогда не пожалеешь о своем решении стать моей женой.
– Я и не жалею, – отозвалась она, – я рада всему.
Платон помедлил мгновение, всматриваясь в разрумянившееся от страсти лицо своей жены, а потом поцеловал ее. Это вновь был полный тихой ласки бесконечный поцелуй, он обещал долгие годы нежности и тепла, и Вера отвечала мужу. Она опять потеряла счет времени и удивилась, когда Платон подхватил ее вместе с покрывалом и понес в спальню:
– Ты там простудишься, – заботливо заметил он, укладывая жену в постель. – Ветерок подует на разгоряченную кожу, и можешь заболеть.
– Я никогда не болею, – успела пробормотать Вера и поняла, что уже скользит по краю сна. Самый важный день в ее жизни закончился упоительным наслаждением, забравшим все силы. Она вздохнула, повернулась на бок и мгновенно заснула.
Утро нагрянуло к ним слишком рано. Солнце косыми столбами пробило оконные переплеты, расчертило на старом паркете яркие квадраты, а потом добралось и до брачной постели. Первым коварный луч коснулся лица Веры. Она приоткрыла глаза и тут же зажмурилась, повернулась к солнцу спиной, спасаясь в полутени, и уперлась в твердое плечо Платона.
– Ты проснулась? – прошептал ей муж, не открывая глаз.
– Да, а как ты догадался? – засмеялась Вера, и тут же поняла, что впервые сказала Платону «ты».
Это заметила не только она. Супруг тут же открыл глаза, и по их радостному блеску она поняла, что ее порыв оценен по достоинству.
– Спасибо, – просто сказал он и поцеловал Веру, а потом, смеясь, потянул с кровати: – Поспешим, ведь внизу нас ждет завтрак и твой свадебный подарок. Я думаю, нам лучше поторопиться, если мы, конечно, не хотим, чтобы подарок съел завтрак.
– Как такое может быть? В первый раз слышу такую загадку!
– Хочешь узнать отгадку – собирайся. Твоя амазонка в шкафу, а я помогу тебе одеться.
Вера давно уже не носила амазонку, как, впрочем, и не ездила в дамском седле, но представить себя сегодня в мужском костюме рядом с молодым мужем она не смогла. Хотелось быть очень красивой, поэтому она потянула из шкафа черную суконную юбку и голубой бархатный жакет. Платон помог ей одеться, потом сам расчесал распущенные волосы жены и непочтительно связал их французским шарфом, изображавшим вчера фату. Последними он натянул на ноги жены сапожки для верховой езды, но прежде чем надеть каждый из них – так долго целовал ее пальчики, что Вера уже подумала, что сегодня они кататься, точно не поедут. Но она ошиблась: муж отпустил ее.
Они спустились на первый этаж. Прямо напротив лестницы невидимый волшебник уже накрыл стол на двоих, а около камина, смешно поджав лапы и выставив круглый живот, спал светло-коричневый легавый щенок.
– Вот и ответ на твою загадку, – засмеялся Платон, – твой подарок был так любезен, что все проспал и оставил завтрак нам.
Услышав его голос, щенок проснулся, тут же вскочил на все четыре лапы и громко залаял.
– Совсем невоспитанный, – с притворным сожалением констатировал князь, – придется тебе серьезно им заняться. Такое поведение никуда не годится, опозорит еще нашу семью.
– Он просто совсем маленький, вырастет – и станет очень воспитанной собакой, – пообещала Вера, наклоняясь к щенку и протягивая ему руку. Тот понюхал раскрытую ладонь, мгновенье подумал и лизнул ее шершавым языком.
– Как его зовут? – поинтересовалась Вера, поглаживая бархатистую спинку.
– Придумай сама, ты – хозяйка, тебе и называть.
– Пусть будет Ричи.
– Почему Ричи? – полюбопытствовал ее муж.
– Не знаю, просто захотелось.
Вера наклонилась к щенку и несколько раз позвала его, пробуя новое имя с разными интонациями. Озорник как будто бы понял ее, поскольку с готовностью подбежал к новой хозяйке, понюхал ее амазонку и потянул подол зубами.
– Ричи, нельзя! – прикрикнула Вера и подхватила щенка на руки. – Наверное, его нужно покормить. Только что мы такому маленькому сможем предложить?
– Меня уверили, что он ест мясо, – объяснил Платон и, подойдя к столу, откинул крышки, закрывающие блюда. – Здесь есть оленина, сейчас я ему дам.
Он отрезал большой ломоть от запеченного окорока и начал крошить мясо на кубики. Щенок на руках у Веры повел носом и заскулил.
– Есть хочешь? Ну, иди, – предложила она, опустив малыша на пол, тот тут же подбежал к ногам Платона и стал тыкаться в его сапог лобастой головой.
Князь поставил на пол тарелку с кусочками мяса и предложил:
– Ешь, Ричи!
Щенок набросился на еду, а Платон обнял жену и кивнул на стол:
– А ты что будешь?
– Наверное, все, – решила Вера, вдруг осознавшая, что страшно голодна.
Это был их первый завтрак. Вера не чувствовала, что ела, да и какая теперь разница, если она купалась в разлитой вокруг нежности. Они стали так близки, как будто были половинками одного яблока. Она не хотела разбираться в своих чувствах, просто радовалась. Может, это и называется счастьем? Она оказалась желанной для великолепного мужчины, он научил ее нежности и страсти, а еще он подарил ей щенка и сказал: «наша семья». Вера улыбнулась мужу и спросила:
– Куда мы поедем?
– Давай, поскачем через сад к оврагу, а оттуда можем поехать в Солиту, и ты отдашь распоряжения, что нужно упаковывать для переезда.
– Мне нечего оттуда забирать, все мои платья поместились в один сундук, и он давно прибыл, – отмахнулась Вера, – давай объедем Хвастовичи, я ведь еще не видела этого имения полностью.
– Отличная идея! Посмотришь на свое новое хозяйство, я – человек эгоистичный и хочу, чтобы ты приложила свою практическую хватку и к этому поместью. Работать я тебя не заставляю, но советам был бы рад.
Они спустились с крыльца, в тени деревьев их уже ждали: Платона – высокий английский жеребец, а Веру – Ночка.
Они скакали рядом. Теплый ветерок развевал волосы Веры, и на мгновение ее мужу почудилось, что этот пропитанный запахами трав и цветов ветер уносит из его жизни ошибки, печали и болезненные воспоминания, а впереди его ждет незамутненное счастье.
Они миновали сад и уже неслись по широкой дороге через рощу. Скоро на ней появилась развилка, и Платон свернул налево, к ручью. Он остановился на маленькой полянке, бросил поводья, позволив своему коню свободно гулять, и снял с седла жену.
– Нравится тебе здесь?
– Очень, тут не просто красиво, а даже как-то уютно.
– Потому что это – владения нашей семьи, – отозвался Платон, а потом решился задать вопрос, который уже несколько месяцев мучил его: – Скажи, как, при твоей красоте, ты не вышла замуж еще лет в семнадцать? У тебя же должно было быть множество поклонников!
– Я старалась не доводить отношения до предложения руки и сердца, – чистосердечно призналась Вера, – а так как я не хотела выходить замуж, то у меня имелось в запасе несколько отработанных приемов холодного обращения с кавалерами.
– Неужели ты ждала меня?
Вера на мгновение запнулась, но муж казался таким родным и все понимающим, что она не захотела ничего скрывать, поэтому призналась:
– Я тогда не знала тебя, просто мне казалось, что я люблю одного человека.
Она смутилась и не решилась посмотреть на Платона, поэтому не увидела тени, мелькнувшей на его лице, не услышала она и дребезжащей нотки, проскользнувшей в его голосе, когда тот спросил:
– И кто же это?
– Лорд Джон, маркиз Харкгроу, он пел в оперном театре в Москве и занимался вокалом с моей сестрой Любочкой.
Веселый смех стал ей ответом. Она с удивлением подняла глаза и увидела широкую улыбку мужа. Это казалось таким странным и даже неуважительным по отношению к ее чувствам, что Вера обиделась. Стараясь казаться невозмутимой, чтобы муж не догадался, как оскорбил ее, она спросила:
– Почему ты смеешься?
– Потому что рад – ведь лорд Джон мне не страшен. Он никогда не стал бы моим соперником.
– Почему? – все больше обижаясь, повторила вопрос Вера.
– Дорогая, лорд Джон остался равнодушным к твоим прелестям, потому что предпочитает мужчин.
Солнечный день померк в глазах Веры. Сказка растаяла, как сон, ее принц оказался тривиальным мелким человеком, ничуть не лучше остальных мужчин… Он, даже не заметив этого, извалял в грязи ее многолетнюю любовь. Он мимоходом затаптывал ее чувства, лишь затем, чтобы не беспокоиться о сопернике. Тот, кого она считала благородным рыцарем, лгал ей в лицо, выставляя другого мужчину в постыдном виде. Платон оказался слабым и неразборчивым в средствах. Чуда не получилось. Размечтавшаяся о счастье рабочая лошадка, вновь оказалась у своего тяжелого воза.
«Вот и конец, – с отчаянием признала Вера, – все вернулось на круги своя…»
Она повернулась к мужу и надменно выпалила:
– Я хочу вернуться в Солиту. Не нужно меня провожать. Я думаю, что наш брак оказался ошибкой, и теперь мне надо решить, что делать дальше.
Она подошла к Ночке, щипавшей траву у поваленного дерева, взобралась в седло и, не глядя на мужа, послала лошадь вперед. Топота копыт за ее спиной не было. Вера беспрепятственно доехала до своего поместья, а там отправилась разыскивать Марфу. Свою помощницу она нашла на мельнице.
– Господи, да что случилось? – изумилась та, увидев расстроенную хозяйку.
– Да я и сама толком не пойму, – вздохнув, ответила Вера, – поживу пока дома.
– Ну и ну, – развела руками Марфа, но расспрашивать новоявленную княгиню не решилась.
Они проработали весь день, а потом вернулись домой. В Верином флигеле они нашли сундук с вещами, а на крыльце новую хозяйку ждал Ричи. Не было ни самого Платона, ни даже записки от него. Вера вздохнула, стало понятно, что ее брак окончательно рухнул.
– Не нужно напоминать мне ни о чем, – попросила она Марфу.
Та пообещала и слово свое сдержала.
Жизнь потекла прежним порядком, как будто и не было никакой свадьбы, и Вера по-прежнему остается графиней Чернышевой. Уйдя в дела с головой, она постепенно успокоилась и через неделю после возвращения в Солиту сама поехала с очередным обозом в Смоленск. Встретив на пути исправника, Вера случайно узнала от него то, что Щеглов искренне считал известным княгине Горчаковой: ее муж два дня назад отправился в Москву, а оттуда собирался выехать в столицу.
Глава 22
Дорога до Москвы оказалась для Платона предсказуемо тоскливой. Он так и не нашел правильного решения своей тяжкой семейной проблемы, обида на жену, так незаслуженно оскорбившую его, уже притупилась, он даже попытался понять и оправдать Веру, но у него ничего не вышло. Его разум, а самое главное, сердце отказывались понять, как после их упоительной ночи, когда они стали двумя половинками единого целого, можно было так кидаться словами. И вообще, почему же она вдруг так себя повела?
Платон сказал жене чистую правду. О том, что маркиз Харкгроу предпочитает мужчин, он знал давно, с самого начала их случайного знакомства. Все поведение этого утонченно-красивого блондина намекало на особенности его наклонностей. Платон даже отметил пару восторженных улыбок, посланных маркизом в его сторону, и стал его сторониться. Молодой англичанин мгновенно все понял и тоже стал избегать встреч с ним. Платон и не вспомнил бы о его существовании, если бы не злополучный разговор с женой.
«Ну почему она возомнила себя влюбленной именно в этого красавца-баритона?» – много раз спрашивал себя Платон.
Этот злополучный певец разбил ту полную нежного очарования близость, возникшую между ними после упоительной брачной ночи. Тогда из-за маски безупречной светской дамы показалась настоящая Вера – милая волшебница с сияющими глазами. На злополучной поляне эта чаровница вновь исчезла, и жена Платона превратилась в мраморную статую – холодную красавицу с таким же мраморным сердцем. Почему-то все время вспоминалось то невозмутимо спокойное выражение на лице жены, где чувства выдавал лишь брезгливый взгляд прозрачных лиловатых глаз, и каждый раз ему становилось безумно стыдно, как в вечер их первой встречи, когда Вера выгоняла его из бабушкиного дома на Мойке.
Но винить теперь некого – Горчаков знал, на что шел, и это стало лишь его ошибкой. Жаль, что пример собственных родителей ничему его не научил. Он же понимал, что нельзя жениться на равнодушной к тебе женщине, и что разница в возрасте – целых шестнадцать лет – не слишком способствует семейному взаимопониманию. К тому же Вера была вполне самостоятельной, ей муж, по большому счету, вообще не требовался. Она согласилась выйти за него лишь под влиянием минутной слабости, когда Щеглов запугал ее, а опомнившись, поразмыслила и вышвырнула мужа из своей жизни, как надкусанное кислое яблоко.
«Да пропади ты пропадом, – уже не раз мысленно желал жене Платон, – катись ко всем чертям».
Но к чертям жена катиться не желала, зато постоянно присутствовала в его думах. Всю дорогу до Первопрестольной Горчаков так и не смог отвлечься от воспоминаний, даже когда он засыпал, жена неизменно приходила в его сны, и тогда они вновь любили друг друга под звездами. Это оказалось мучительным и сладким, но расстаться с этими снами не было ни сил, ни желания.
В Москве у Платона нашлось лишь одно-единственное дело: он собирался навестить свою тещу. Заехав в свой дом на Большой Дмитровке, он быстро переоделся в чистый мундир и отправился с визитом к графине Чернышевой. Дом его тещи на Тверской оказался по соседству, и Платон суеверно подумал, что Вера это оценит.
«Ей будет приятно жить недалеко от матери, – уговаривал он сам себя, – очень удачно, что наши дома так близко».
Вера, правда, пока об этом не подозревала, и было непонятно, захочет ли теперь узнать. Коляска Платона остановилась у крыльца очень нарядного большого дома с чередой мраморных колонн. Седовласый лакей в расшитой черным галуном ливрее сообщил, что ее сиятельство дома, и привел визитера на второй этаж. Слуга остановился у белой с тонким золоченым орнаментом двери и осведомился:
– Как прикажете доложить?
– Князь Горчаков, супруг Веры Александровны.
Лицо слуги мгновенно сделалось красным, как свекла, но он побоялся переспросить и нерешительно затоптался у двери.
– В чем дело? – поинтересовался Платон, и дворецкий, судорожно кивнув, проскользнул в комнату.
Через мгновение он вернулся и с поклоном распахнул двери перед гостем. Горчаков вошел в небольшой уютный кабинет, где, откинувшись на спинку кресла, сидела бледная как полотно графиня Чернышева. Увидев гостя, она сделала над собой усилие и поднялась ему навстречу.
– Здравствуйте, князь, проходите, садитесь, – она механическим жестом указала на свободное кресло, а сама рухнула на прежнее место, как будто ноги ее не держали.
Платон поздоровался, но не решился поцеловать теще руку, складывалось такое впечатление, что та смотрит на него, как на привидение.
«Вольно же было так шутить, – пожалел Горчаков, – теперь расхлебывать придется».
Он послушно опустился в предложенное кресло и, видя растерянность хозяйки дома, попытался взять разговор в свои руки:
– Софья Алексеевна, я приехал по поручению Веры – узнать, получили ли вы деньги, переданные от ее имени.
– Да, получила, – графиня как будто пришла в себя и нерешительно спросила: – вы представились ее мужем. Как это понимать?
– Мы с Верой Александровной поженились три недели назад. Она оказала мне честь, приняв мое предложение. Я не оставил бы жену, если бы не необходимость быть в столице во время суда над нашими родными. Вера осталась в Полесье. Наши имения теперь объединены, она продолжает добывать соль и присмотрит за моими пятнадцатилетними сестрами.
В полной растерянности, графиня молчала. Поняв, что теща сейчас спросит о том, где письмо от ее дочери, Платон поспешил изложить свою версию:
– Вера отправила вам письмо вместе с деньгами, а остальное поручила мне рассказать на словах.
Он в подробностях изложил все последние события, начав со встречи в Смоленске и закончив свадьбой, и, желая окончательно успокоить графиню, сообщил:
– Я уважаю стремление Веры быть опорой своим близким и считаю, что ваше семейство вполне может обойтись без удушающей «помощи» Александра Ивановича Чернышева. Я сделаю все, что нужно, чтобы тот никогда не стал опекуном ваших дочерей, и помогу вашей семье вернуть из-под ареста их приданое.
Софья Алексеевна всматривалась в лицо своего новоявленного зятя. Она видела его явное смущение, слышала сбивчивость в как будто отрепетированной речи. Что в действительности связывало ее дочь с этим красивым и сильным мужчиной? Неужели брак-сделка? Неужто Вера пошла на это? Сообразив, что все не так однозначно, как пытается ей внушить свежеиспеченный зять, графиня решила докопаться до правды, и начала допрос:
– Ваши резоны мне понятны, но для моей дочери то, что вы рассказали, – слишком незначительные причины для замужества. Неужели моя Вера не заслужила хотя бы восхищения? В ваших словах – лишь прагматизм и обоюдные выгоды. Мне не нужно этих выгод ценой счастья дочери!..
– Я в восторге от Веры, – удивился Платон, – для меня это абсолютно естественно. Как можно не восхищаться такой красивой и умной девушкой? Любой мужчина не устоит перед ней. Я думал, что вы это понимаете, поэтому и не говорил о том, что для меня – само собой разумеется.
– Возможно, для мужчины это и естественно, но любая мать хочет убедиться, что ее дочь ценят так, как она того заслуживает.
Софья Алексеевна хотела сказать слово «любят», но не решилась. Слишком мало она знала этого красавца-кавалергарда, а самое главное – панически боялась увидеть иронию в его глазах, когда тот услышит слова о любви. Современная молодежь теперь стала странной. В моду вошли иронический пессимизм и скучающее высокомерие, и, ослабив напор, графиня решила перевести разговор в деловое русло.
– Правильно ли я информирована, Платон Сергеевич, что вы сдаете полк по требованию генерал-лейтенанта Чернышева?
– Да, это – его условие.
– Я нахожусь в более сложной ситуации: мне он никаких условий относительно сына не поставил, хотя я сама все отдала бы ему за обещание освободить Боба.
– Он не поставил вам условий потому, что и так надеется все получить.
– Я знаю, – призналась Софья Алексеевна.
Горчаков как будто почувствовал почву под ногами и поспешил предложить:
– Я мог бы стать опекуном двух ваших младших дочерей.
Но теща перебила его:
– Вера говорила вам, что я собираюсь уехать за сыном туда, куда его отправят? – спросила она.
– Да, жена сказала мне о вашем решении, я не знаю, разумно ли это, но вы имеете право поступить так, как считаете нужным. В любом случае, ваши дети останутся под моей защитой.
Софья Алексеевна надолго замолчала, а затем тихо спросила:
– Вы будете любить мою старшую дочь и беречь младших?
– Обещаю, – твердо ответил ей зять, и графиня поверила. Она давно научилась различать фальшь в людских речах, а сейчас ответ показался ей абсолютно искренним.
– Хорошо, – кивнула она и предложила: – Пойдемте обедать, а я пока вызову нотариуса, чтобы он подготовил нужные документы.
За обедом хлебосольное московское сердце Софьи Алексеевны радовалось: зять ел с удовольствием изголодавшегося в дороге человека. Житейский опыт давно подсказал графине, что к мужчине с хорошим аппетитом всегда легче подобрать ключик в семейной жизни, чем к худосочному зануде. Похоже, что ее умнице-дочке повезло: Верин муж оказался богатым и знатным, он не был юнцом, но и до старости ему было очень далеко, он был красив, силен, искренне восхищался женой и сам хотел стать опорой семьи Чернышевых. Этот брак оказался подарком судьбы, и, самое главное, он подоспел в самый нужный момент!
«Спасибо тебе, Господи, – мысленно поблагодарила Софья Алексеевна, – за мою Веру и за других детей тоже».
Вечером, передавая зятю бумаги, графиня подумала, что вручает тому судьбу своей семьи, но уже ни тени сомнения у нее не осталось. Она знала, что это – рука провидения.
Сразу по приезде в столицу, Платон отправил Чернышеву записку, прося о встрече. Он думал, что ответ привезут не скоро, и очень удивился, когда в его квартиру вдруг прибыл порученец от генерал-лейтенанта – до измождения худой лысоватый чиновник в зеленом вицмундире.
– Вы привезли для меня письмо? – спросил его Горчаков.
– Нет, ваша светлость, – виновато отводя глаза, сообщил визитер, – я приехал за документом, который ожидает его высокопревосходительство.
К этому Платон оказался не готов. У него забирали его любимое детище, даже не соизволив сказать пары благодарственных слов. Его жизнь, отданная лучшему в стране гвардейскому полку, почти двадцать лет безупречной службы не за страх, а за совесть, все его боевые награды превратились в ничто. А теперь неизвестный худосочный чиновник приехал требовать от него прошение об отставке. Боясь не справиться с гневом, Чернышев на мгновение прикрыл глаза, но этого оказалось достаточно, чтобы по сердцу резанула тоска. Вспомнилось лицо брата, такое, каким он видел его на последнем свидании в крепости, и Платон осознал, что он должен пройти и через это. Собрав волю в кулак, он с ледяной вежливостью обратился к порученцу:
– Извольте представиться, я должен убедиться, что мой рапорт попадет по назначению.
– Костиков, помощник генерал-лейтенанта Чернышева в адмиралтействе, – с готовность отозвался чиновник и снова, как будто извиняясь, добавил: – вы уж простите, что побеспокоил. Его высокопревосходительство своего личного помощника графа Печерского послал бы, да тот все никак из командировки не вернется, в Полесье застрял. Пришлось мне ехать.
Прозвучавшая фамилия сразу же освежила Платону память, даже мучительный гнев испарился. Так получается, что Печерский до сих пор крутится поблизости от его жены?! Платон быстро вынес прошение об отставке, передал его Костикову. Экипаж с порученцем еще не отъехал от его крыльца, а. князь уже сел за письмо к Щеглову. Он очень надеялся, что исправник не откажется побыть рядом с Верой, пока он сам не вернется домой.
Отправив ординарца на почту, Платон задумался. Вот и наступил час истины, и он остался один на один со своей сломанной жизнью. Старой больше не было, а новую он уже умудрился безнадежно испортить. Зачем он пошел на поводу у собственного упрямства? Почему сразу же не поехал за Верой? Они поссорились из-за какой-то ерунды, теперь это казалось просто недоразумением. Он же мог сразу во всем разобраться, а не загонять их отношения в безнадежный мрачный тупик. Но что же теперь можно сделать? По всему выходило, что уже ничего!..
Пытаясь заглушить тоску, Горчаков с головой ушел в дела своей новой семьи, но они быстро закончились: стряпчие сняли для него копии с тещиных бумаг, они же составили и прошение об истребовании приданого. Душа Платона рвалась в Полесье, но со дня на день ожидалось решение суда и приговор брату. Граф Кочубей обнадежил его, шепнув, что император своим указом смягчит наказание для всех участников восстания. Оставшись с Горчаковым наедине, Виктор Павлович объяснил:
– Император мне сам об этом сказал. Видно, что он испытывает душевные муки. Я пытался поставить себя на его место. Чтобы я чувствовал, когда часть подданных подписала мне и моей семье смертный приговор и рвалась выбить страну из рук самодержца? Ответа у меня нет, одно я знаю точно: за попытку убить мою семью я бы отомстил. Если молодой император окажется милосерднее, честь ему и хвала…
Платон попытался представить свои ощущения, если бы кто-то захотел убить его жену. От одного лишь предположения, что он может потерять Веру, его вновь скрутил животный ужас. Почему-то возникло жуткое видение: убийца держит у горла жены нож, а лица у него нет – лишь размытое пятно с сизыми бельмами вместо глаз. Отгоняя кошмар, Платон затряс головой. Это же надо, такое привиделось! Он вдруг ясно осознал, что еще несколько дней на руинах прежней жизни окончательно доконают его разум. Рука Кочубея легла на его плечо, и Платон понял, что давно молчит.
– Давайте надеяться на лучшее, и вы всегда можете рассчитывать на помощь нашей семьи, – заметил Виктор Павлович. – Как только будут новости, я вам сообщу.
Платон поблагодарил и вернулся к себе. Большая квартира на Невском теперь страшила его своей гулкой пустотой. Он не мог в ней спать и стал даже бояться ночи. Сон не шел к нему, а мучительные часы все тянулись, подсовывая тяжкие воспоминания. К концу недели Платону стало казаться, что еще чуть-чуть – и он сойдет с ума, и лишь память о жене, как якорь, держала его на краю разума. Он должен был защитить Веру, а самое главное, он должен был ее вернуть.
В день, когда он окончательно понял, что больше не в силах оставаться в столице, от Кочубея принесли записочку. Тот, опасаясь чужих глаз, написал лишь:
«Г – К-з, Ч – 3 г.к.».
– Слава тебе, Господи! – воскликнул Платон, – Бориса отправят на Кавказ.
Уже не играло никакой роли, что его младшему брату придется служить рядовым, это был лишь вопрос времени. Платон знал, с каким сочувствием относились в войсках к восставшим. Его брата быстро произведут в офицеры, об этом позаботятся его былые товарищи. Платон вдруг понял, что Кочубей написал и о судьбе его шурина Владимира Чернышева. Того приговорили к трем годам каторги. Он представил горе своей Веры, ее сестер, их матери и бабушки, и признал, что слова утешения, наверное, окажутся бесполезными, но все равно поехал в дом на набережной Мойки. Здесь он застал сборы: Надин и старая графиня отправлялись в Москву.
– Всего три года, – поделилась своими мыслями с зятем все еще заплаканная Надин, – Боб молодой и сильный, он перенесет это, а мама поселится поблизости и станет ему помогать.
Графиня Румянцева пожала плечами, но промолчала, и Платон с готовностью последовал ее примеру, лишь бы не усугублять сомнениями и так тяжелую обстановку. Он помог женщинам со сборами, а потом остался у них ночевать, заняв комнату Веры. Платон лежал в ее постели и, казалось, слышал запах фиалок. Эта мука стала уже непереносимой. Он должен был вернуться к жене. Рядом с ней он вновь соберет свою жизнь из осколков, а может, просто начнет все заново, с чистого листа. Он опять обретет веру в себя, ведь та грустная волшебница однажды сказала: «Меня зовут Вера».
Проводив утром своих новых родственниц в Москву, Платон отправился к Кочубею. Он оставил графу все приготовленные бумаги и попросил написать ему в Хвастовичи, как продвигается дело с истребованием приданого. Виктор Павлович пообещал, что он и его жена сделают все, что нужно, и простился с Платоном.
На сборы у Горчакова ушло не более получаса. Когда ямская тройка остановилась у подъезда его дома на Невском, Платон давно стоял на улице. Он сел в экипаж и измотанный многочисленными бессонными ночами мгновенно заснул. Во сне он видел дорогу, над ней мигала лиловым светом путеводная звезда, а в воздухе пахло фиалками.
Глава 23
Почему здесь пахнет фиалками? Вера замерла на крохотном светлом пятачке среди кромешной тьмы. Она стояла в своей шахте, а в руках держала маленький кованый фонарь в одну свечу. Там в черноте за кругом света таился ее враг. Он больше не вожделел! Нет, он ее люто ненавидел и хотел только одного – ее смерти, но, что ужаснее всего, зверь хотел и смерти ее ребенка. Бежать! Вера схватила фонарь – так свет останется вместе с ней – и ринулась вперед. Она не разбирала дороги, не понимала куда неслась. Она вскинула фонарь над головой, лишь бы остаться в спасительном конусе света, а шаги за ее спиной все приближались, нагоняли, и она уже слышала тяжкое дыхание бегущего. Скорее! Еще чуть-чуть, впереди камера с лестницей! Свеча в ее фонаре мигнула, и Вера с ужасом поняла, что та гаснет. Победный рев за ее спиной возвестил, что зверь тоже увидел это. Кто быстрее? Она влетела в камеру и уже поставила ногу на первую ступеньку лестницы, когда свеча окончательно погасла.
«Он сейчас прыгнет», – пронеслась последняя мысль, и огромная неподъемная туша рухнула ей на плечи.
«Слава богу, это был лишь сон», – наконец-то поняла Вера. Свернувшись клубочком под одеялом, она пыталась унять дрожь, но ничего не получалось – ужас не отступал. В ее жизнь опять вернулись кошмары, а ведь она уже думала, что они ушли вместе с последствиями контузии: в последнее время в ее снах царил лишь Платон. Она сердцем чувствовала его тоску и отчаяние, знала, как он убивается из-за их глупой ссоры, и всей душой радовалась, что муж ее любит.
– Я так люблю тебя, что уже и не знаю, как стану жить, если ты не ответишь мне взаимностью, – говорил ей муж во сне, и Вера просыпалась счастливой. Даже грусть оттого, что наяву Платона рядом с ней не было, не могла испортить ей настроения.
Солнечное утро заглянуло в окно спальни, пробежалось косыми лучами сначала по квадратам паркета, проползло по розам и лавровым гирляндам обюссонского ковра и скользнуло по подушкам, а следом за солнцем на постель забрался Верин лопоухий любимец и потянул зубами одеяло.
– Фу, Ричи, фу! – крикнула она и засмеялась, уж больно комично выглядел щенок.
За прошедшие три месяца он заметно вырос, особенно вытянулись его лапы, теперь они казались непропорционально длинными. Ричи был нескладным, смешным и очень милым, но самое главное – он просто у нее был. Вера с нежностью погладила лобастую голову своего свадебного подарка, а теперь и тонкой ниточки, соединявшей ее с мужем. Они должны быть вместе, ведь Бог уже дал им общее сокровище– их ребенка.
Малыш! Мысли о нем заливали душу Веры теплом. Вот бы он родился мальчиком! Тогда б она назвала его в честь деда, и рос бы с ней рядом маленький Сашенька и любил бы мать так же, как она любит его. Тогда бы княгиня Горчакова работала с удесятеренной силой, ведь кроме матери и сестер, она добывала бы средства для своего сына.
«А может, и не нужно так рваться в работе? – подсказал ей внутренний голос. – Платон, наверное, обрадуется просто жене и матери своего сына».
Но для этого им сначала нужно помириться. Слишком много дров она наломала, но и Платон тоже хорош: не дал ей ни одного знака, что готов простить. Он любил ее только в снах, а наяву не соизволил даже написать… Он переписывался лишь со Щегловым. Капитан не сомневался, что князь пишет и жене, а Вера не могла заставить себя признаться в обратном. Вот и приходилось ей вертеться, как ужу на сковородке, чтобы сохранить перед окружающими видимость семейного благополучия в супружеской жизни князей Горчаковых. Это с каждым днем становилось все сложнее, а после того, как исправник по просьбе хозяина дома окончательно переселился в Хвастовичи, жизнь Веры стала напоминать ей самой настоящий цирк, где она была то канатоходцем, то фокусником.
Она вернулась в Хвастовичи сразу же после отъезда Платона. В конце концов, князь Горчаков доверил ей воспитание своих сестер, и негоже было им сидеть в деревне одним лишь потому, что их опекунша обиделась на своего мужа. С тех пор Вера ни разу не пожалела о своем решении. Золовки встретили ее возвращение в Хвастовичи необычайно деликатно. Так же повел себя и управляющий Татаринов. Он взял за правило встречаться с хозяйкой по утрам и обсуждать с ней планы работ на день. Оценив удобство таких отношений, Вера попросила и Марфу приезжать к завтраку в Хвастовичи. Все у молодой княгини Горчаковой прекрасно получалось, только вот не было самого главного – ее князя.
Вера давно поняла, что муж сказал ей правду. Она должна была поблагодарить Платона, ведь тот объяснил, почему предмет ее девичьих грез не ответил на ее любовь. Да и можно ли было считать это любовью? Скорее – девичье восхищение, преклонение перед талантом, но не более того.
Осознав, что, уйдя в свои мысли, она забыла о времени, Вера заторопилась. Горничная Дуняша заколола ей косу на затылке и помогла натянуть амазонку. Вера позвала собаку и поспешила в столовую. Марфа и Татаринов сидели рядом, обсуждая виды на урожай в каждом из имений. Стоящие перед ними пустые чашки красноречиво намекали, что управляющие ждут уже давно, а теперь теряют драгоценное утреннее время.
– Простите за опоздание, – извинилась Вера и, получив от обоих заверения, что они ничуть не заждались, сразу перешла к делу. – Я понимаю, что началась жатва и что у вас обоих каждый человек на счету, но мы вышли на боковой штрек, где пласты оказались очень рыхлыми. Соль сыплется слоями от самых легких ударов, и добыча выросла практически вдвое. Теперь у меня не хватает людей для подъема и погрузки на шахте и для фасовки соли на мельнице. Помогайте!
Как и ожидалось, выражение лиц у обоих управляющих стало одинаково кислым. Они переглянулись, и Татаринов высказал общее мнение:
– Мы с Марфой Васильевной обсуждали, что вот-вот пойдут дожди. Их уже три недели не было, жара – обязательно грозы будут. Прибьет ниву к земле, половину урожая потеряем. Сейчас, наоборот, нужно полю помогать.
– Да уж, не дай бог дождей, – поддакнула Марфа и потупилась, – сейчас бы мужиков с мельницы и шахты на уборку отправить.
Вера задумалась. Добыча соли шла все лучше, продажи тоже радовали: Горбунов оказался надежным партнером, и Вера уже передала матери больше семнадцати тысяч. Остановка работ грозила только тем, что она не отправит очередной недельный обоз, но если учесть, что в последнем груженых телег оказалось в два раза больше, чем неделей ранее, она могла бы позволить себе небольшую передышку.
– Сколько дней до конца жатвы? – спросила она.
– В Хвастовичах за неделю управимся, – с гордостью доложил Татаринов.
– В Солите с теми силами, что сейчас – дней пятнадцать, – сообщила Марфа, – но если вы мне подмогу дадите, то я раньше справлюсь.
– Если я всех тебе отдам, сколько нужно дней?
– Всех?! – не поверила Марфа и тут же расцвела улыбкой. – Тогда и я за неделю справлюсь, ну, может, еще денек прихвачу.
– Бери, – решила Вера.
– А можно мне зерно на молотилку в Хвастовичи возить? – мгновенно осмелела Марфа.
– Дайте водички попить, а то очень кушать хочется? – лукаво переспросила ее княгиня и обратилась к Татаринову. – Ну, как, Гаврила Миронович, пустите женщин в свое образцовое хозяйство?
По лицу управляющего стало заметно, что делать это ему никак не хочется, но, посмотрев в умоляющее лицо Марфы, он сдался:
– Куда же я денусь, ваша светлость?
Вера засмеялась и поднялась из-за стола. Она прикинула, что если сегодня выбрать как можно больше соли и переправить ее на мельницу, где потом постепенно перемолоть, вполне можно закрыть шахту до окончания жатвы. Она объявила своим управляющим, что ждет их вечером по окончании работ, и отправилась на конюшню за Ночкой. День намечался не из простых.
Платону казалось, что ямская карета просто ползет. Вроде бы и тройка была свежей, а дорога – сухой и твердой, но Хвастовичи почему-то не становились ближе. В ожидании встречи с женой он извелся, а неопределенность в их отношениях подпитывала его хандру.
«Вера должна была понять, что я не хотел оскорбить ее, – вновь и вновь уговаривал он себя, – я, как любой нормальный муж, порадовался тому, что первая любовь моей жены оказалась наивной мечтой, а не серьезным чувством».
Все было так, да только теперь это мало утешало. Платон уже не желал довольствоваться лишь страстью, он хотел от жены того же, что чувствовал сам – он жаждал, чтобы Вера его любила. Просто, не думая и не рассуждая, нежно, преданно и навсегда. Изнывая от неизвестности, он торопил коней, но что ждало его в конце пути? Новая жизнь или очередное разочарование?..
Экипаж резко свернул, и Горчаков выглянул из окна. Это оказался тот самый поворот, где в ночь нападения он простился с Верой. До дома оставалось – рукой подать.
– Вот и приехали, – пробормотал Платон и ощутил предательскую дрожь века. Он волновался, даже боялся, но ни за что на свете не повернул бы обратно. Он был боевым офицером, пусть и отставным, и хотя вместо мундира кавалергарда его плечи теперь облегал сюртук от лучшего французского портного, сердце под серым сукном билось прежнее. Он пойдет – и победит, и это окажется самой главной победой в его жизни!
Кони стали у крыльца главного дома. Тут же подлетел дворовый мальчишка и распахнул для барина дверцу. Платон вышел и сразу спросил:
– Барыня где?
– Она на шахте, еще не возвращалась, а барышни в Солиту поехали, смотреть на новый дом, – обстоятельно объяснил паренек.
– Скажи на конюшне, чтобы мне Гермеса оседлали!
Расплатившись с ямщиком, Платон взбежал по ступеням крыльца и отправился в свою спальню. Толкнув дверь, он сразу понял, что комната изменилась: на туалетном столике лежали гребни и щетки с малахитовыми ручками, а у самого зеркала стояла такая же круглая шкатулка. Затаив дыхание, Платон приподнял украшенную золотой бабочкой крышку, и сразу уловил нежный запах. Внутри лиловым пухом рассыпались засушенные головки фиалок.
– Господи, спасибо! – обрадовался он.
Быстро разыскав в шкафу охотничий сюртук, он натянул высокие сапоги и спустился вниз. Гермес уже горячился у крыльца, считая ниже своего достоинства подчиняться дворовому мальчишке. Увидев хозяина, конь тихо заржал и потянулся к нему.
– Вези меня к своей хозяйке, старина, – попросил Платон и вскочил в седло.
Проскакав по широкой дуге, Гермес, вылетел со двора и свернул на липовую аллею. Миновав овраг, князь взял левее, и, объезжая сжатые поля, направился к темнеющему на горизонте перелеску. Он не погонял коня, но тот, чувствуя нетерпение хозяина, сам летел изо всех сил. Наконец они свернули на просеку и через пару минут остановились у шахты. Здесь оказалось на удивление тихо. У коновязи ожидали седоков три коня, а у платформы, где обычно выгружали соль, беседовали Марфа и Татаринов, больше никого не было. Услышав стук копыт, оба управляющих обернулись. Узнав хозяина, Татаринов приветственно помахал рукой, а Марфа даже сделала что-то вроде легкого реверанса.
– Добрый вечер, – поздоровался Платон, он спрыгнул с коня и подошел к управляющим, – а где княгиня?
– Она за щенком спустилась, ваша светлость, – объяснил Татаринов. – Мальчишка, что за ним смотрит, вновь упустил собаку, вот Ричи и прибежал за хозяйкой. Он ее по запаху всегда находит. Я предлагал поймать щенка, да Вера Александровна говорит, что он мне в руки не дастся.
– Понятно, – кивнул Горчаков и, посмотрев на большое металлическое кольцо с ключами в руках у Марфы, уточнил: – это от здешних дверей?
– Да, но нужно будет только замкнуть спуск в шахту. Все кладовки и сараи уже заперты, завтра здесь никого не будет, все работают в поле.
– Оставьте мне ключи, а сами езжайте отдыхать, – предложил Платон. – Я спущусь за княгиней и помогу ей, а потом мы вместе вернемся в Хвастовичи. Когда своих коней забирать будете, Гермеса привяжите, пожалуйста, рядом с Ночкой.
– Хорошо, – кинув выразительный взгляд на Татаринова, с готовностью согласилась Марфа. Управляющий намек понял: он тут же забрал из рук князя повод и повел Гермеса к коновязи. Платон уточнил у Марфы:
– Фонарь там есть?
– Даже два: большой – на шесть свечей – внизу в первой камере у лестницы стоит, а ручной княгиня с собой взяла.
Платон подошел к зияющему жерлу шахты. Теперь вход в нее был защищен высоким навесом, всю землю вокруг забрали дощатым настилом, а в темную глубину убегала крепкая лестница с перилами из тонкого бруса.
– Умница моя, – пробормотал Платон, восхищаясь деловой хваткой своей жены.
Он спустился вниз. Тяжелый кованый фонарь у основания лестницы освещал большое помещение с сероватыми стенами. Три туннеля зияли чернотой на противоположных стенах. Платон вгляделся во тьму, пытаясь различить огонек фонаря, но ничего не увидел.
– Велл!.. – закричал он. – Ты где?
Из левого туннеля донесся далекий лай собаки, а следом отозвался чуть слышный голос жены:
– Я здесь!..
Вынув из фонаря одну свечу, Платон шагнул к левому туннелю и вдруг почувствовал под ногой что-то мягкое. Он пригляделся и увидел, что у стены лежит кусок жареного цыпленка. Две толстенькие ножки и остаток хребта расплющились под его сапогом, а верхней части у цыпленка не было.
«Ричи откусил, – определил Платон и улыбнулся, но тут же спросил себя: – Интересно знать, кто же это жареными цыплятами в шахте разбрасывается? Явно не мужики!»
Он уже хотел свернуть в туннель, когда над его головой что-то зашипело, а потом затрещало. Платон поднял голову, и ужаснулся: выскочив из туннеля и огибая камеру с двух сторон, вдоль потолка змеились струи огня. Пламя плевалось искрами. Такое Платон видел не раз, да только это всегда было на войне. Так по запалу к пороховым зарядам бежал огонь.
– Кто здесь? – вновь раздался голос жены, теперь она была совсем близко.
– Велл, беги! – закричал Платон и кинулся в туннель.
Свеча в фонаре подсвечивала силуэт идущей ему навстречу женщины. Та вела на поводке голенастую собаку. Платон в два прыжка преодолел разделяющее их расстояние, вырвал поводок из руки жены и, крепко сжав ее ладонь, кинулся бежать.
– Ричи, за мной, – крикнул он на ходу, очень надеясь на сообразительность собаки.
Платон так и не понял, сколько времени они неслись в темноту – может, мгновенье, а может быть, минуту. Одно он знал точно, что никогда еще его сердце не сковывал такой ужас. Когда за их спинами раздался страшный грохот, а с потолка посыпались куски соли, Платон толкнул жену на пол и закрыл ее своим телом. Последним, что он увидел, был выпавший из руки Веры маленький фонарь. Потом что-то ударило его по голове, и наступила безмолвная тьма.
Платону не нравилось это полотенце. Он вытирал лицо, а полотенце оказалось мокрым.
«Что за ерунда»! – рассердился он, пытаясь выбросить мокрую тряпку, но та вновь оказалась на его лбу.
Платон открыл глаза и поразился – кругом была чернота. Он не успел понять, где находится, как мокрая тряпка вновь скользнула по его лицу, но теперь он уловил и частое дыхание. Собака! Ричи! Горчаков мгновенно вспомнил все, что случилось, и ужаснулся. Он лежал на мягком теле жены, и оно было до странности вялым. Платон попытался встать, не потревожив Веру, и когда поднялся, понял, что темнота уже не так непроглядна. Рядом на полу лежал почти засыпанный фонарь, но свеча за его сеткой все еще горела. Платон поднял фонарь и склонился над женой. Вера лежала на боку, неестественно подвернув под себя одну ногу. Неужели перелом? Платон быстро ощупал шею, руки и ноги жены. Все оказалось целым. Он осторожно положил Веру на спину и с надеждой вгляделся в ее лицо.
– Велл, приди в себя, пожалуйста, – взмолился он, – ради бога! Умоляю!
Перемазанный пялью Ричи высунулся из-под его руки и лизнул свою хозяйку в лицо.
– Фу, – прошептала Вера, отворачиваясь от собачьей ласки.
Платон приподнял жену за плечи и попросил:
– Посмотри на меня, прошу.
Вера послушно открыла глаза и прошептала:
– Платон?
– Да, это я. Попробуй подняться, я не могу понять, где у тебя повреждения.
Вера покрутила головой, а потом поднялась в объятиях мужа.
– Кажется, все нормально. А что случилось?
Платон не знал, как отнесется жена к неприглядной правде, но выбора все равно не осталось, и он сказал:
– Кто-то взорвал шахту. Он сначала заманил вниз щенка, подбросив в штольню жареного цыпленка. Когда ты спустилась вниз, преступник поджег запалы.
Вера потрясенно молчала. Муж прижал ее к себе и нежно погладил по голове.
– Ничего, милая, Марфа и Татаринов не успели далеко уехать. Они быстро вернутся и начнут работы по расчистке.
– Ты думаешь, это возможно? – с надеждой спросила Вера.
– Конечно, почему нет? Соль – порода рыхлая, ее выберут, и мы поднимемся на поверхность.
– Когда выберут? – уточнила его жена, и князь услышал в ее голосе отчаяние, – через три дня, через месяц, через год?..
– Будем надеяться на лучшее, пока мы можем только ждать.
– Ты не понимаешь! – в отчаянии выкрикнула Вера. – Я не могу сидеть и ничего не делать! Я должна спасти своего малыша!
– Какого малыша? – не понял Платон. Они находились здесь вдвоем. Нельзя же считать ребенком собаку!
– Я забеременела в нашу брачную ночь, а теперь я должна выносить и родить сына.
Платону показалось, что его ударили под дых. Его жена ждала ребенка, а он бросил ее одну-одинешеньку и теперь пожинал плоды своей глупости. Чья-то злонамеренная воля хотела их уничтожить. Платон притянул Веру к себе и обнял.
– Все будет хорошо, я обещаю, – твердо сказал он. – Ты доносишь и родишь нашего сына, а я буду самым счастливым отцом на свете.
Тихий вздох у его груди стал Платону ответом. Успокаивая Веру, он постоял еще мгновение, а потом предложил:
– Свеча еще горит. Давай попробуем дойти до лестницы и посмотрим, что там творится.
Горчаков поднял фонарь повыше и повел жену обратно. Ричи метался у их ног. Весь пол был усыпан глыбами рухнувшей с потолка и стен соли, но они, хоть и медленно двигались в нужном направлении. Увидев, наконец, арку туннеля, Платон понял, что ему лучше было бы вовсе не приводить сюда жену. Вместо пусть полузасыпанного, но выхода, они увидели сплошную серо-коричневую стену. Камера, выходившая на поверхность, обрушилась полностью.
Услышав за спиной стон, он осознал, что Вера все поняла. Она покачнулась и неосознанным жестом прикрыла живот. Отчаяние опалило Платона: его жена и ребенок были обречены. Их сочтут погибшими, а даже если и станут искать, откопать камеру смогут лишь через пару месяцев. Он не раз смотрел смерти в лицо, но сейчас рядом с ним стояла его беременная жена. Горчакову вдруг показалось, что он вновь попал на войну, и опять решается вопрос жизни и смерти. Он должен найти выход, и он его обязательно найдет!..
Платон вспомнил, как горели запалы. В шахте кто-то заложил порох, а потом его поджег. Мужики не смогли бы это устроить, взрывное дело было тонким, неграмотный крестьянин не мог все сделать так точно, чтобы обрушилась именно та часть шахты, которая понадобилась злоумышленнику. К тому же вниз подкинули жареного цыпленка. В голове Платона мелькнула смутная догадка, и он стал расспрашивать жену:
– Велл, вспомни, кто сегодня спускался в шахту мимо тебя?
– Как обычно, мои работники, – не поняла вопроса Вера.
– Я имею в виду достаточно образованного и небедного человека.
– Не было никого такого. Если только меня можно отнести к такой категории. Татаринов и Марфа приехали, когда уже работы закончились. Да они и не спускались вниз.
– А мимо тебя хоть кто-то мог войти и выйти незамеченным?
– Никто, я все время сновала между погрузочной платформой и лестницей, никуда не отходила. Я хотела сегодня побольше соли запасти, ведь завтра Марфа забирает мужиков на уборку.
– Значит, наш враг пришел и ушел под землей, – определил Платон и, успокаивая, легонько поцеловал жену. – Есть другой путь, о котором кто-то знает, а ты нет. Нам нужно найти выход.
– Как? Вдруг он не в этом туннеле?
– Это возможно, но маловероятно. Враг бросил цыпленка именно здесь, огонь по запалам тоже бежал отсюда. Будем надеяться на лучшее. Пойдем, пока свеча не догорела.
Он подозвал щенка: – Ищи, Ричи! – Вера добавила: – Домой, Ричи, домой!
Щенок наклонил лобастую голову, как бы пытаясь понять, чего от него хотят люди. Платон подхватил болтавшийся на собачьей шее поводок и протянул Вере фонарь.
– Держись за мою руку и подсвечивай нам дорогу.
Ричи потянул хозяина вперед, и, сжав руку жены, Платон пошел за собакой. Щенок что-то чуял, потому что вел их уверенно. Скоро пол в туннеле очистился, и идти стало легче. Платон уже несколько раз менял в фонаре импровизированные фитили, поджигая то куски своего шейного платка, то обрывки нижней юбки жены. По его подсчетам, они шли уже больше часа, а Ричи все так же уверенно вел их в черноту.
– Ты еще можешь идти? – с сомнением спросил Платон, – или остановимся?
– Нет, пойдем, – отказалась Вера, – мне кажется, что воздух стал свежее.
Платон понял, что она права: в воздухе действительно пахло как-то иначе. Он обнял жену за талию, как будто хотел передать ей свою силу, и двинулся дальше, молясь в душе, чтобы Вера оказалась права.
Преграда возникла внезапно. Ричи, скуля, заметался перед ней, Дальше дороги не было. Платон ткнулся плечом в преграду, та чуть дернулась, но дальше не пошла, зато с одной из ее сторон появилась рассеченная на две части тончайшая полоска дневного света.
– Дверь, – тихо сказала Вера, – и закрыта снаружи.
– Значит, нужно ее открыть. У тебя есть шпильки?
– Есть, – удивилась она и вытянула из волос длинную шпильку с маленькой жемчужиной на дужке.
– Сейчас попробуем понять, как тут быть, – пробормотал Платон и просунул концы шпильки в щель. – Может, нам повезет, и это окажется не задвижка, а обычный крюк.
Он повел шпильку вверх, и скоро та уперлась в засов. Платон пару раз ударил по запору, пытаясь раскачать его. Шпилька начала гнуться, тогда он сплющил дужку, соединив оба конца, и возобновил свои попытки. Он уже стал терять надежду, когда вдруг услышал стук железа по дереву, и темная полоска посредине щели исчезла. Платон толкнул дверь плечом, она распахнулась, и закатные лучи солнца хлынули внутрь туннеля. Они увидели тонкие стволы чахлых берез и поросль кустарника.
– Мы на болоте, – определил Платон.
Он протянул Вере руку и помог ей спуститься по земляным ступеням на маленькую полянку, как рвом, окруженную затянутыми в ряску озерцами. Вера оглянулась назад и увидела, что они вышли из невысокого рукотворного кургана, запечатанного деревянной дверью. Похоже, они смогли спасти свои жизни, но сейчас, среди жутких непроходимых болот, которых все местные до ужаса боялись, ей стало еще страшнее, чем в шахте.
– И как мы теперь отсюда выберемся? – вцепившись в локоть мужа, тихо спросила она.
– Везде есть тропинки, видишь, одна как раз начинается прямо у твоих ног, – объяснил Платон и нагнулся, собираясь подхватить поводок щенка.
– Домой, Ричи, – велел он, и собака тут же рванулась вперед. Горчаков не успел зажать кожаный ремешок, и тот проскользнул между его пальцами. Почувствовав свободу, щенок, прибавил скорость и скрылся в кустах.
– Ричи, ко мне! – закричал Платон, но, удаляясь с огромной скоростью, пес даже не повернул головы.
– Бесполезно – он теперь пока не нагуляется, не вернется – объяснила Вера. – Придется нам с тобой одним выбираться. Справимся?
– Не сомневаюсь! – улыбнулся Платон и взял жену за руку. – Пойдем!
Глава 24
Вера думала, что они пойдут к трясине и станут пробираться, нащупывая кочки длинными палками, но к ее удивлению этого не потребовалась. От входа в шахту начиналась тропинка. Пропетляв между ямами с водой, она вывела их на ровный участок с вполне здоровой зеленой травой. Кустарник здесь стал гуще, и березы, хотя и тонкие, уже не казались такими болезненно-кривыми.
– Похоже, что мы идем по моей земле, это – болотистая часть Хвастовичей, хотя здесь я еще не бывал, – заметил Платон. – Но видишь: вон там, вдалеке – макушки сосен, граница бора. Там я уже знаю дорогу.
– Хорошо, – отозвалась Вера и вдруг поняла, как смертельно она устала. – Скорее бы дойти.
– Потерпи немного, родная. А хочешь, посидим и отдохнем?
– Нельзя, тогда уж совсем стемнеет, и придется нам ночевать в лесу, – отказалась Вера и вновь зашагала вперед.
За поворотом тропинки их ждал сюрприз – узкая, но хорошо укатанная дорога убегала вглубь чахлого леса.
– Интересно знать, куда это по трясине ездят на телегах, но выясним мы это с тобой в другой раз. Не будем отклоняться от выбранного пути, – решил Платон.
Они двинулись по дороге по направлению к сосновому бору. Ног Вера уже совсем не чувствовала, но старалась держаться бодро, чтобы муж ничего не заметил. Теперь в утрамбованной глине явно выделялись глубокие колеи. Платон мысленно проклинал себя за то, что не взял из дома оружие, но делать было нечего, и он, ловя малейшие шорохи, вел по дороге уставшую жену. Деревья расступились, и они вышли на большую поляну. На ней, словно длинная серая заплата, распласталось похожее на коровник низкое строение. Его каменные стены поросли мхом, а кое-где и древесной порослью. Маленькие решетчатые окошки под самой крышей были частично открыты, а в других местах забиты потемневшими от времени плотными деревянными щитами.
– Что это? – поразилась Вера.
– Пока не знаю, но ты туда точно не пойдешь. Останешься здесь и спрячешься в кустах, пока я не вернусь.
– Я с тобой! – взмолилась Вера, но по взгляду мужа поняла, что это даже не обсуждается. Она покорно кивнула и села на траву. Ноги ее больше не держали.
– Я скоро вернусь, – пообещал Платон и быстро пересек поляну.
Горчакову пришлось полностью обойти здание, прежде чем он нашел дверь. Двустворчатая и очень широкая, плотно сбитая из потемневших от времени толстых досок, она была закрыта на широкий засов, но замка не было. Платон отодвинул задвижку и толкнул створки. Дверь без скрипа распахнулась, и он увидел длинное пустое помещение, слабо освещенное лучами заходящего солнца. В центре его просматривался заложенный деревянными щитами широкий колодец. На земляном полу явно выделялись следы телег и отпечатки лошадиных копыт. В противоположной от входа стене темнела плотно обитая железными полосами небольшая дверь, где кроме засова имелся и массивный замок. Платон поспешил к ней. Что-то, похожее на стон, донеслось изнутри, а следом невнятно забормотал тихий голос.
– Ей, кто вы? – крикнул Платон. – Я – князь Горчаков, скажите мне, что с вами случилось, и я постараюсь помочь.
Ответом ему оказалась гробовая тишина, но через мгновение зазвучали несколько голосов, все они называли Платону свои имена и умоляли выпустить их, освободить Христа ради. Горчаков огляделся, пытаясь найти хоть что-нибудь, чем можно сбить замок, и вдруг услышал:
– Отойди от двери – или я перережу ей глотку.
Платон обернулся и увидел свою жену. Она стояла, странно запрокинув голову, а рослый мужчина прижимал к ее горлу нож. Солнце светило ему в спину, и Горчаков не видел лица преступника. Это был человек с размытым лицом. Кошмар, померещившийся Платону столице, стал явью, и испытанный им тогда ужас оказался ничем по сравнению с тем, что он чувствовал сейчас.
– Не трогайте ее, я сделаю все, что вы хотите, – крикнул Платон, отходя от двери и поднимая обе руки. – Я очень богат, я выкуплю у вас жизнь моей жены.
Он по-прежнему не мог различить лица преступника, и Вера как будто догадалась об этом. Она уставилась в глаза Платона и выкрикнула:
– Бунич! Я отдам вам полученные за соль деньги. У меня есть двадцать пять тысяч серебром, а еще – очень дорогие фамильные драгоценности!
– Да, наши бриллианты стоят, самое малое, тысяч двести, – поддержал ее Платон. – Я привезу их, вы все возьмете и уедете. Клянусь, что я даже не стану на вас заявлять.
– Смешно слушать, – отозвался преступник, – чтобы я выпустил вас отсюда, а вы тут же вернулись со всеми своими дворовыми и затравили меня, как собаку? Тогда уж легче убить вас обоих, а трупы утопить в болоте, все же будут думать, что вас завалило в шахте. Оба имения унаследует Вероника – а я получу и ее, и соль.
– Соль? Дело в соли?! – догадался Платон.
– А в чем же еще? – огрызнулся Бунич. – Я сорок лет живу тем, что продаю соль, еще мой отец вместе с прежним управляющим Солиты добывал ее, а потом все перешло ко мне.
– Но у вас же у самого большая солеварня, вы же говорили, что она очень доходная, – все еще надеясь на чудо, уговаривала преступника Вера.
– Ну, правду говорят, что бабы – дуры, – закатился смехом Бунич. – Еще думаешь, что умная! Все из себя деловую корчила, а так и не поняла, что на моей солеварне в колодцах – обычная вода, всю соль я всегда брал из шахты, а водой только размачивал, чтобы получить мелкую и чистую, годную к продаже. Все запасы соли лежат на землях Солиты и Хвастовичей, а у меня ничего нет! Если бы Катенька вышла за меня замуж, все решилось бы само собой, а теперь ее сыну и невестке придется умереть, чтобы восторжествовала справедливость. Я много лет строил свое совершенное творение – мою тайную империю. Запомните, что здесь никогда больше не будет ничего подобного! Здесь есть только один соляной король, и это – я!
Поняв вдруг, что князь чуть заметными шагами приближается к нему, Бунич взревел и надавил ножом на шею Веры. Струйка крови потекла по ее коже, и Платон ясно понял, что у него осталось лишь мгновение. Приготовившись к прыжку, он внутренне собрался, но… его опередил звук выстрелов. Бунич вдруг дернулся и стал валиться вперед, подминая под себя Веру. Платон подхватил жену, а в дверях возник Щеглов с двумя дымящимися пистолетами в руках.
– Как вы? – озабоченно бросил он.
– Вроде бы живы, – неуверенно отозвался Платон, ведь жена оседала на его руках.
Щеглов подобрал нож, выпавший из простреленной руки Бунича. Воя от боли, тот извивался на земляном полу. Правая рука его распласталась безжизненной плетью, а из раны на левой ноге фонтаном хлестала кровь. Преступник был жив, но обездвижен. Убедившись, что злоумышленник не сможет встать, исправник обратился к Горчакову.
– Простите, что задержался – от солеварни за этим негодяем гнался, да заплутал.
Платон кивнул, не отвечая, он с ужасом смотрел на жену. Белая, как снег, Вера часто дышала и вдруг, низко застонав, схватилась за живот.
– Ребенок, – прошептала она, не открывая глаз.
– Господи, да скачите же домой, по дороге кого-нибудь за доктором пошлете! – крикнул Щеглов, подхватывая Веру за свободный локоть. – Скорее!
Платон подхватил жену на руки и бросился к выходу. Конь Бунича смирно щипал траву на поляне. Исправник помог поднять Веру в седло. Платон рванулся к дому, моля Бога сохранить его семью. Он несся, по наитию сворачивая в нужном направлении. Наконец одна из троп, ставшая постепенно совсем узкой, привела его в знакомый овраг. Платон решил сократить путь и погнал коня через сад. За деревьями мелькнули стены маленького дома, где они были так счастливы, и Горчаков, не рассуждая, свернул к его крыльцу. Ватага крестьянских ребятишек у самого крыльца делила яблоки. Платон остановил коня рядом с ними и крикнул:
– Один – в деревню за повитухой, второй – за доктором в уезд! Возьмите мою лошадь.
Он спрыгнул на седла и, подхватив жену на руки, взбежал с ней на второй этаж. Уложив Веру на кровать, он стал растирать ей руки.
Бог помиловал Платона: его жена открыла глаза и даже попыталась улыбнуться. Прибежавшая из деревни повитуха раздела хозяйку и, пощупав живот, с облегчением вздохнула:
– Слава Богу, обошлось! Ну, теперь все будет хорошо, только вам долго лежать придется.
– Этого я не боюсь, – утешила мужа Вера, – но только если ты больше не уедешь.
– Никуда! Я без тебя теперь с места не сдвинусь.
Платон прилег на постель рядом с женой и обнял ее. Вера тихо вздохнула и призналась:
– Я ведь видела все это сегодня во сне, а не поверила, полезла в шахту.
– Как это? Расскажи.
– Тогда нужно начинать с первого покушения, кошмары стали приходить после него, а это долгая история.
– Но мы ведь теперь с тобой никуда не спешим, нам же велено лежать. Вот и будем разговаривать.
Вера прижалась к его плечу и начала свой рассказ. Она вспоминала один кошмарный сон за другим, как будто очищая от них свою жизнь. Оставалось рассказать лишь о том, что случилось с ней на поляне:
– Ты уже был внутри, когда я услышала топот копыт, я бросилась за тобой в надежде предупредить, но Бунич оказался проворней. Он скакал прямо на меня, и я видела лишь его безумные, как будто затянутые бельмами, сизые глаза. Я запнулась, и в это мгновенье он прыгнул с седла прямо мне на плечи. Ну а дальше ты все знаешь.
Заметив, что жена опять задрожала, Платон прижал ее к себе и успокоил:
– Все осталось в прошлом. Мы вместе, у нас будет ребенок, и я обещаю, что больше с тобой никогда не случится ничего подобного.
Почему-то Вера ему сразу же поверила.
Прибыл доктор. Осмотрев княгиню, он подтвердил, что угроза выкидыша миновала, но посоветовал полежать в постели не меньше месяца. Повеселевший Платон как раз приглашал доктора переночевать в Хвастовичах, когда колокольчик под окном возвестил о приезде нового посетителя.
– Щеглов прибыл, – выглянув в окно, объяснил Горчаков врачу: – боюсь, что у него на сегодня есть для вас еще один пациент.
– Кто?
– Преступник.
Платон подошел к постели жены. Увидев, что та задремала, он знаком позвал за собой доктора и стал спускаться вниз. На первом этаже их ждал Щеглов.
– Как княгиня? – осведомился он.
– Обошлось, – коротко ответил Платон и спросил сам:
– Что с преступником?
– Не только он, но и вся его банда сейчас сидит под охраной в вашем флигеле. Вы уж простите, что я сам распорядился, но так надежнее будет.
– Поступайте, как считаете нужным, здесь все к вашим услугам.
– Спасибо. Я бы хотел попросить доктора осмотреть Бунича.
– Бунича? – поразился врач.
– К сожалению, – подтвердил капитан. – Я сам до последнего не мог в это поверить. Как притворялся! Дамский любимец, весельчак – а вон что на самом деле! Но вы уж, доктор, поспешите. Моя двуколка у крыльца, в ней городовой ждет, он вас доставит и проведет к арестованному, а я через четверть часа к вам присоединюсь.
– Да, конечно, я поеду, – заторопился врач.
Он вышел, и Платон остался наедине со Щегловым.
– Что вы выяснили, Петр Петрович?
– Лишь одно – что слишком долго был слеп. Столько лет под носом такие дела творились, а я все проморгал!
Щеглов тихо выругался, а потом собрался с мыслями и рассказал Платону о том, чего тот еще не знал.
– После вашего сообщения о Печерском я занялся его розыском, но в ближайшей округе его не оказалось, а выяснилось, что голубчик наш с середины мая так и сидит в Смоленске. Тихо живет в трактире за рыночной площадью, почти не выходит, лишь изредка отправляет письма своему начальнику. Я слежку за ним установил – без толку. Ни с кем не встречается, обедает в своем же трактире, а после в номере запрется и не выходит.
– Так вы ничего не узнали? – нетерпеливо перебил его Платон.
– Отнюдь! Я дождался, когда Печерский на почту выбрался, и проник в его номер, а там уж все загадки разрешились. Запашок в его жилище витал определенный: для наших краев непривычный, а за Тереком он – явление повседневное. Гашишем наш граф балуется, я и трубочку у него нашел и запас зелья.
– Вот это поворот, – изумился Платон, – а ведь и, правда, лицо-то у него землистое, можно было и догадаться.
Щеглов кивнул, соглашаясь, и продолжил:
Я ведь, признаться, тогда не сомневался, что майское нападение – дело рук Печерского, а в столицу тот не возвращается, поскольку чего-то ждет. В налете на нас он сам не участвовал, людишки нанятые были. Что ему мешает еще раз такое проделать? Но куда смотреть? Где искать его приспешников? Тогда я в ваш дом переехал и стал по сторонам поглядывать.
– Я не успел вас поблагодарить, – вмешался Платон, – я так вам обязан.
– Пустое, мне самому так спокойнее было: Вера Александровна все время на виду у меня была, а если приходилось отлучаться, то я оставлял рядом с ней Татаринова. Оставалось только приглядывать за теми, кто появляется в доме, но новых лиц больше не было, а и из старых постоянно ездил лишь Бунич. Но скажу честно, я на него вообще не думал, столько лет его знаю – безупречнейший человек, богатый помещик, любимец общества.
– Я удивился, если бы вы думали иначе, для меня все случившееся сегодня оказалось шоком. Я его не люблю, но и в мыслях не имел, что нападение может быть делом его рук, – признался Горчаков.
Исправник перебил его:
– Бунич впервые насторожил меня лишь пару дней назад. Он все в компанию к девицам нашим набивался: развлекал, байки разные рассказывал. Все к этому привыкли. Как ни глянешь в его сторону, всегда одна и та же картина: улыбка до ушей, глазки масляные, шутки шутит. Вдруг вижу, что наш забавник побледнел как смерть, а потом тут же засобирался и уехал. Тогда я ваших сестриц в оборот взял. Чем, мол, соседа так напугали? Они сначала жались, а после признались, что по секрету сказали ему то, что уже известно всем в доме, – про ожидаемого наследника, а Бунич даже положенного в таких случаях восторга не выказал, пролепетал что-то нечленораздельное и уехал.
– Господи, да кто их за язык-то тянул?!
– Рано или поздно, он все равно пошел бы в наступление, ведь Вера Александровна со своими соляными обозами всю прибыль ему обвалила. Он ведь всегда один был, соли возил немного – цену держал высокую, а теперь его доходы сильно похудели. Вера Александровна могла хоть всех своих мужиков в шахту отправить, а Буничу все в тайне от округи держать приходилось, вот он на ломке соли и использовал людей, похищенных из других мест. Мы из тюрьмы этой болотной шестнадцать человек освободили. Все избитые, голодные. Их всех сюда обманом привезли или по пьяни.
– И кто же похищениями промышлял?
– Правая рука и доверенное лицо нашего любимца общества – управляющий Поляков – а уж тот себе нескольких подручных из дворовых отобрал, чтобы за рабами следить. Он из опаски даже в Смоленске людей не брал, находил их в других местах, что подальше. Лишь два раза они взяли местных, и все потому, что срочно нужно было умерших заменить. Рабы в шахте соль ломали, а потом доверенные люди Полякова вывозили ее через болото в солеварню. Дальше все у них уже выглядело совершенно официально. И что самое печальное, я ведь мог во всем этом раньше разобраться. За десять лет я трижды бывал на солеварне Бунича, но ничто меня тогда насторожило.
По лицу исправника было видно, как он расстроен, и Платон посочувствовал:
– Петр Петрович, когда вы сюда приехали, их предприятие уж тридцать лет, как процветало, все концы давно были спрятаны.
– Все продумал еще папаша Бунича, – подтвердил исправник, – он очень хотел женить своего сына на вашей матушке, но ваш дед решил иначе. Потом в Солите и Хвастовичах хозяева долго не жили, а управляющие были людьми приезжими и ничего о старой шахте не знали. Ну, а чтобы обезопасить себя, преступники почти сорок лет запугивали местный народ болотами. Когда-то нескольких мужиков утопили, а потом уже только слухи поддерживали. Я сам верил в эти россказни, и, признаюсь, обалдел, когда увидел, как смело Бунич скачет прямо на болота.
– Вы следили за ним?
– Накануне я решил еще раз проверить его солеварню, дождался вечера и приехал. Как я и рассчитывал, работники его разошлись по домам. На воротах висел замок, ну да мне не впервой. Я коня бросил, и стал с замком возиться, а тут как будто что-то меня толкнуло, ведь я своего Терека не привязал. Вдруг конь испугается чего, да убежит? Смотрю, мой Терек из корыта возле колодца воду пьет. Меня аж испарина пробила: вода ведь соленая, заморю коня. Кинулся я к нему, хочу оттащить, а он к воде тянется – жарко. Тут я эту воду зачерпнул и попробовал, а она вкусная и совсем не соленая. Самая обычная колодезная вода! Честно сказать, я сразу-то и не сообразил. Стал вспоминать, может быть, у Бунича колодец с рассолом внутри есть. Но, насколько я помнил, там никаких колодцев не было. Кинулся я замок вскрывать. Зашел внутрь, а там все как обычно: печи еще теплые, да готовая соль у стены в сусеки ссыпана.
– Тогда вы и поняли?
Щеглов в раздражении хлопнул себя по колену.
– Не успел! Услышал с болота топот лошадиных копыт, выглянул в окошко – смотрю, Бунич мчится, а у меня дверь открыта, и конь во дворе остался. Вот думаю, сейчас скандал будет, но тот по-другому решил, даже с седла слезать не стал, развернулся и кинулся обратно. Я пока до коня добежал, Бунич уже далеко оторвался. Остальное вы знаете.
Горчаков молчал, в его голове не укладывалось, что Вера почти полгода ежедневно принимала в собственном доме убийцу. Его передернуло от отвращения, но он все же спросил:
– Получается, что мы с женой с самого начала были обречены?
– Бунич еще в столице из первых рук узнал о том, что графиня Румянцева подарила Солиту внучке. Сначала это его не очень волновало, но Вера объявила, что едет сюда заниматься хозяйством, ну а такого он допустить уже не мог. Результат вы знаете – Бунич отдал приказ, и Поляков попытался взорвать экипаж графини.
– Значит, это все-таки были они!..
– Да, но только когда покушение не удалось, Бунич решил сменить план и надумал жениться на Вере Александровне, а для этого ее надо было очень сильно напугать. Вот он и устроил майское нападение, нанял прохвостов в Смоленске. Я, к сожалению, слишком долго за возчика Алана цеплялся, связь его с графом Печерским устанавливал, никто ведь мне даже не заикнулся, что Бунич тоже был в столице во время первого покушения на вашу будущую жену.
Платон задумался, что-то не сходилось в их предположениях, и он поделился своими сомнениями:
– Петр Петрович, но мы с вами вместе установили, что нападавших было трое. Потом вы видели в уезде простреленный сапог, принадлежавший этому Алану!
Капитан кивнул, соглашаясь, он и сам все время думал об этой нестыковке.
– Все так, только, похоже, торговец этот сам с местными налетчиками договорился или следил за ними. Бунич ничего об этом не знает, он лично никого не нанимал, просто попросил своих постоянных покупателей в Смоленске сначала устроить Вере Александровне блокаду, а как она обратно поедет – послать за ней грабителей. Об убийстве речь не шла, а попугать несговорчивых продавцов для этих торгашей – дело обычное. Но Бунич плохо рассчитал, его интрига привела к тому, что вы спасли графиню, а потом быстро на ней женились, вот и пришлось ему избавляться от вас обоих.
– Я еще на свадьбе понял, что он положил глаз на мою сестру Веронику, но я и предположить не мог, что он надеялся получить вместе с ней Хвастовичи, да еще и Солиту, – признался Платон.
– Я думаю, что Бунич уже не остановился бы, и убивал бы, пока не получил любое из двух имений, а может, и оба. Он и сегодняшний взрыв запланировал лишь для княгини Веры, вас он собирался убрать потом и, как всегда, свалить все на болота. Этот прохвост так гордится собой, что сам все выкладывает, как на духу, а преступлениями своими просто хвастается, – подвел итог исправник и поднялся. – Мне все кажется, что будь я повнимательней, мог бы давно заметить в нем червоточину.
Платон напомнил:
– Слишком уж явно все улики на этого Алана указывали, я тоже на него думал.
– Ну, а я этот урок теперь навсегда запомню, никогда такого больше со мной не случится, чтобы я вот так в одну версию уверовал. Ну и слово даю, что я не отступлюсь и рано или поздно докопаюсь, что этого Алана с графом Печерским связывало.
– Можете рассчитывать и на меня, – пообещал Платон. – Да только как мы это сделаем, если торговца и след простыл, а Печерский все равно рано или поздно в столицу вернется?
Щеглов засмущался, но признался:
– Это ведь в нашем уезде – мое последнее дело, в столицу меня переводят.
– Поздравляю! – улыбнулся Горчаков. – Где служить будете?
– Все там же, по министерству внутренних дел, а где конкретно – уже начальство решит.
Исправник уже протянул руку для прощания, но потом, как будто решившись, вдруг сказал:
– Я хочу Марфе Васильевне предложение сделать. Ее светлость разрешит своей помощнице уехать?
– Если вы получите согласие Марфы, я уговорю жену, – пообещал Платон и, простившись с ним, взбежал вверх по лестнице.
Он тихо приоткрыл дверь. Вера по-прежнему спала, ее дыхание было чуть слышным, но ровным. Он вышел на балкон, внизу растворялись во тьме пышные силуэты яблонь. Слава Богу, что этот трагический день благополучно закончился. Вот и Щеглов встретил свою судьбу. Путь удача возьмет его сторону, и пусть Марфа примет предложение этого достойного человека!
Из сада потянул легким ветерком, Платон испугался, что жена замерзнет, и шагнул в комнату, прикрывая створки балконных дверей.
– Не нужно, – услышал он тихий голос.
– Тебе не дует?
– Наоборот, я хочу на воздух, – призналась Вера.
Муж закутал ее в одеяло и вынес на балкон. Он аккуратно опустился на пол и, бережно прижав к себе Веру, прислонился к стене.
– Я никогда больше не отойду от тебя дальше, чем на полшага, – пообещал он, – это я виноват в том, что этот зверь напал на тебя.
– Ни в чем ты не виноват, кто же знал, что Бунич уже сорок лет ворует у нас соль, а теперь мы приехали – и стали ему мешать.
Вера вновь вспомнила сизые от бешенства зрачки своего врага и спросила:
– Как ты думаешь, он безумен? Ты же помнишь, как он кричал о своей тайной империи?
– Нет, не думаю, скорее мы имеем дело с манией величия, развившейся за долгие годы от полной безнаказанности. Он всегда отдавал себе отчет в преступности своих поступков, поэтому и продумывал все до мелочей: рабов на шахту возил издалека, подручных держал железной хваткой, а сам при этом старался выглядеть весельчаком – душой общества. Помнишь, как он что-то там верещал про совершенство?
– Совершенное зло? – вспомнила Вера и презрительно хмыкнула: – Нет, такого не бывает, тем более у Бунича, ведь он не слишком сообразителен, раз за все эти годы так и не догадался, что соль можно размалывать, а я придумала это практически сразу.
Бледной ночной бабочкой мелькнула на ее губах улыбка. Вера казалась такой близкой, до боли родной, и Платон решился:
– Я очень горжусь тобой, – признался он, – и еще я очень люблю тебя, и не знаю, как смогу дальше жить, если ты не ответишь мне взаимностью…
Вот и свершилось это чудо. Маленькая рабочая лошадка – верная опора семьи – стала вдруг прекрасной принцессой из самой счастливой сказки. Ее любили! Нежно и преданно, на всю жизнь! Вере показалось, что ее сердце прикоснулось к сердцу мужа, и она наконец-то отважилась на главные слова своей жизни:
– Я тоже очень тебя люблю…
Платон прижал ее к себе и поцеловал, а Млечный путь над их головами выгнулся звездной дугой, соединив прошлое с будущим мерцающей дорогой счастья.

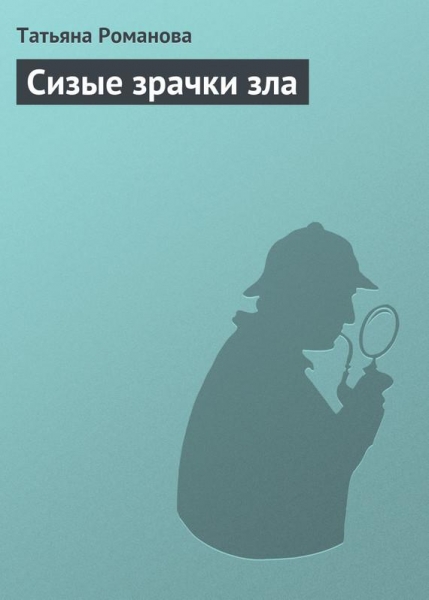

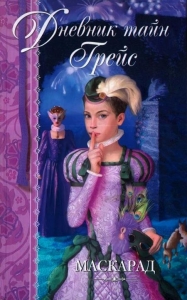



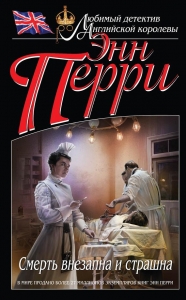
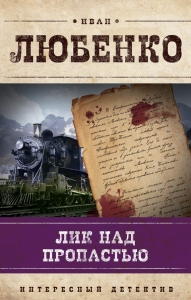
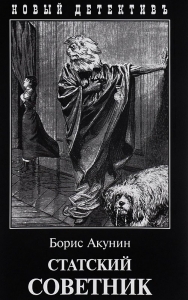
Комментарии к книге «Сизые зрачки зла», Марта Таро
Всего 0 комментариев